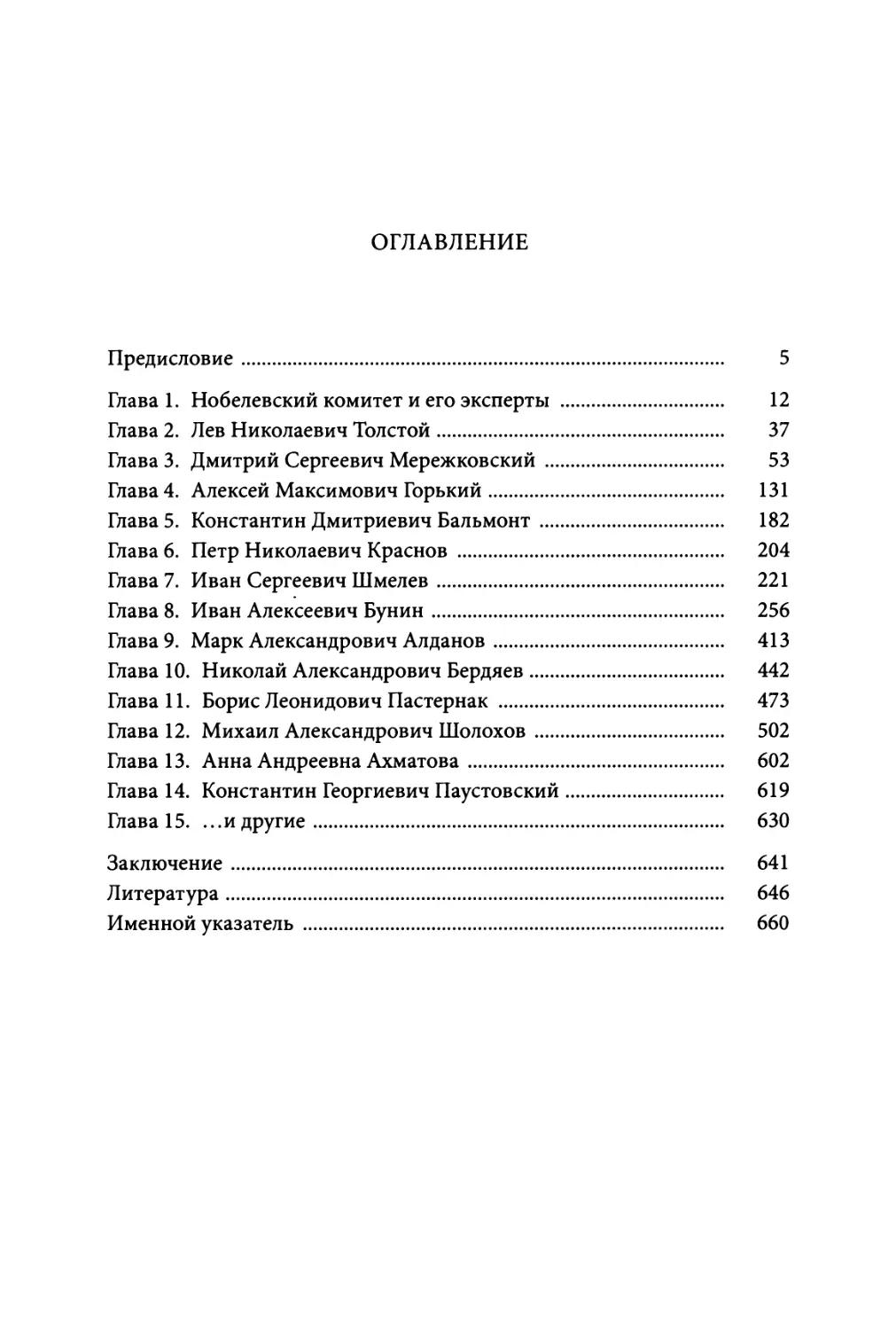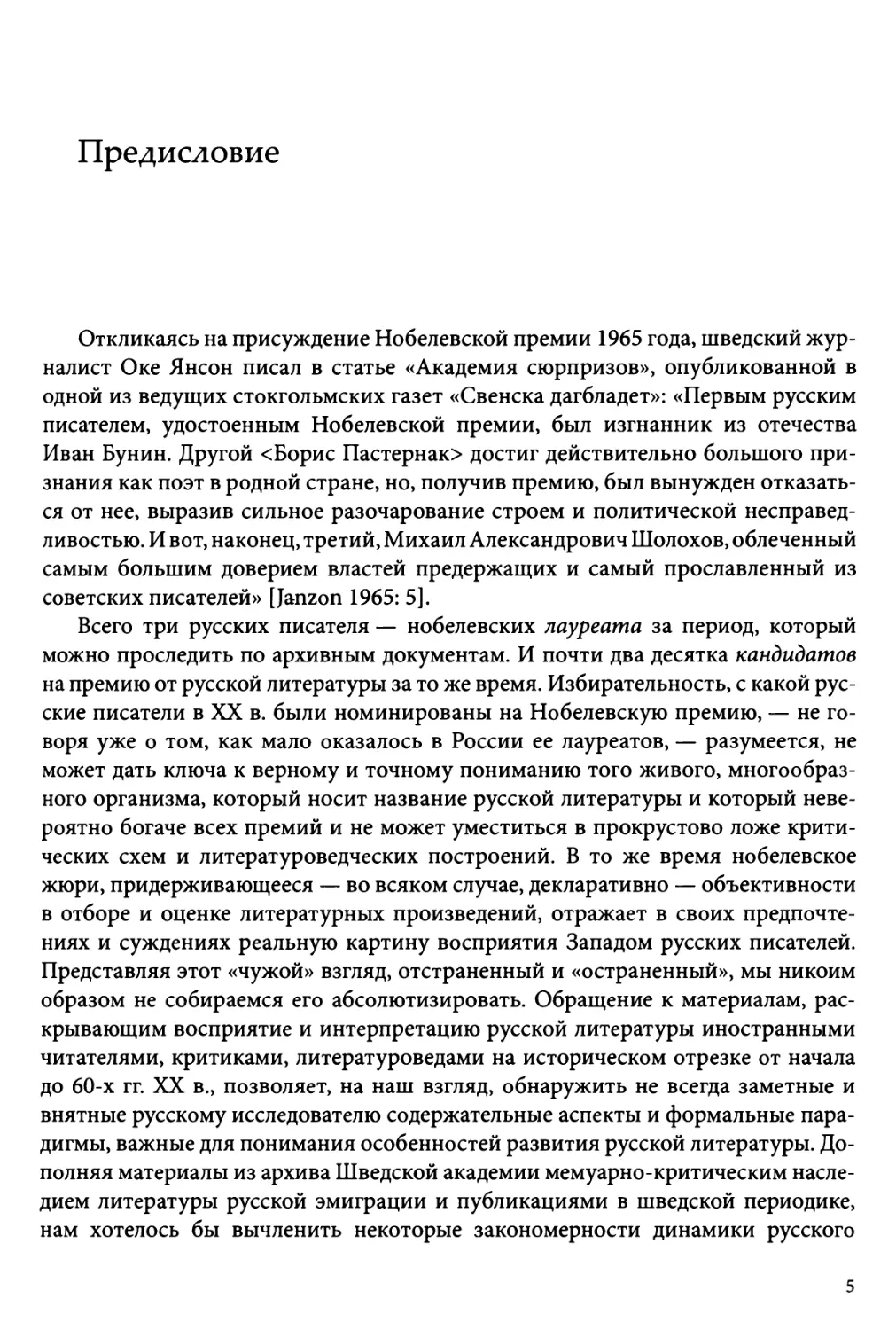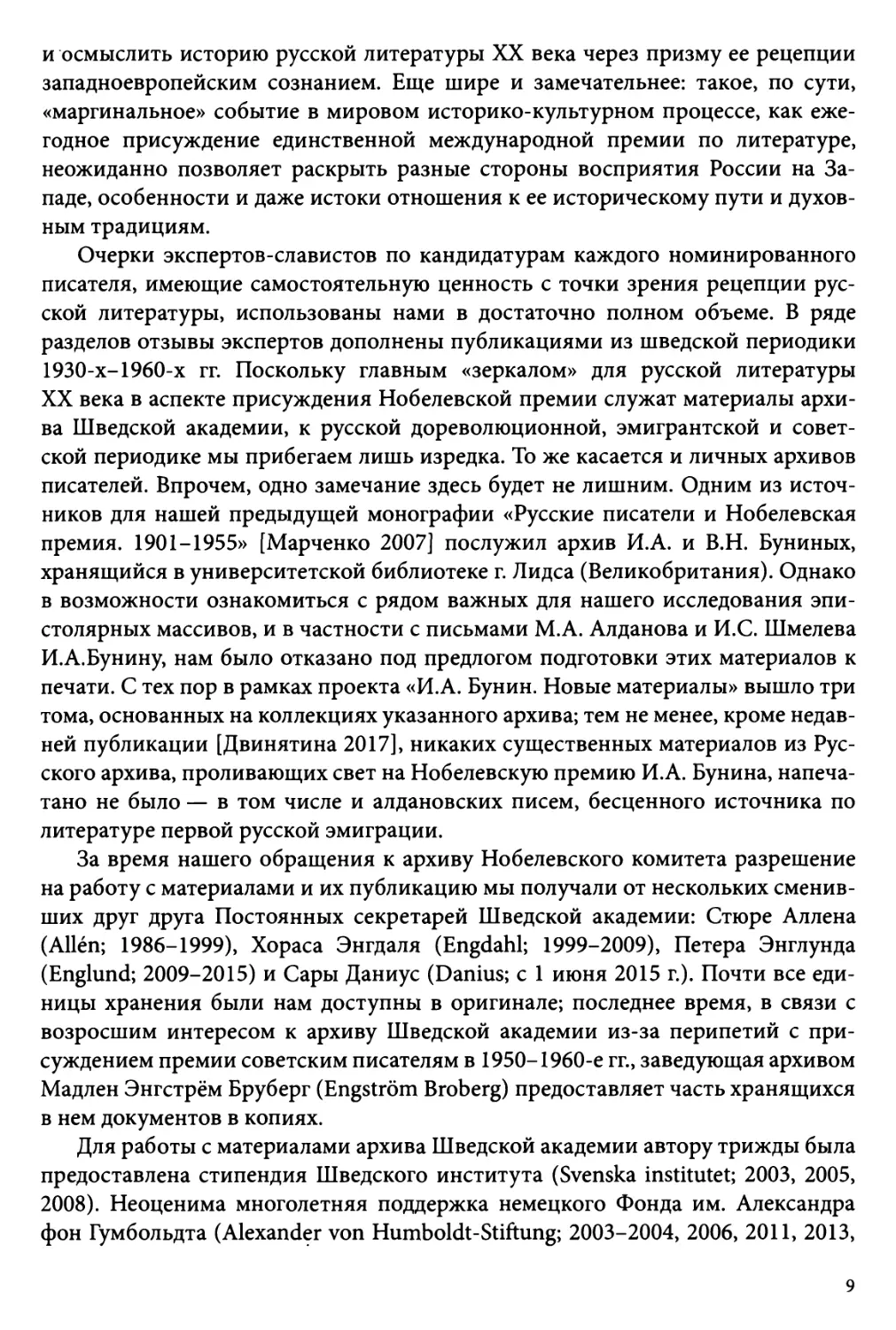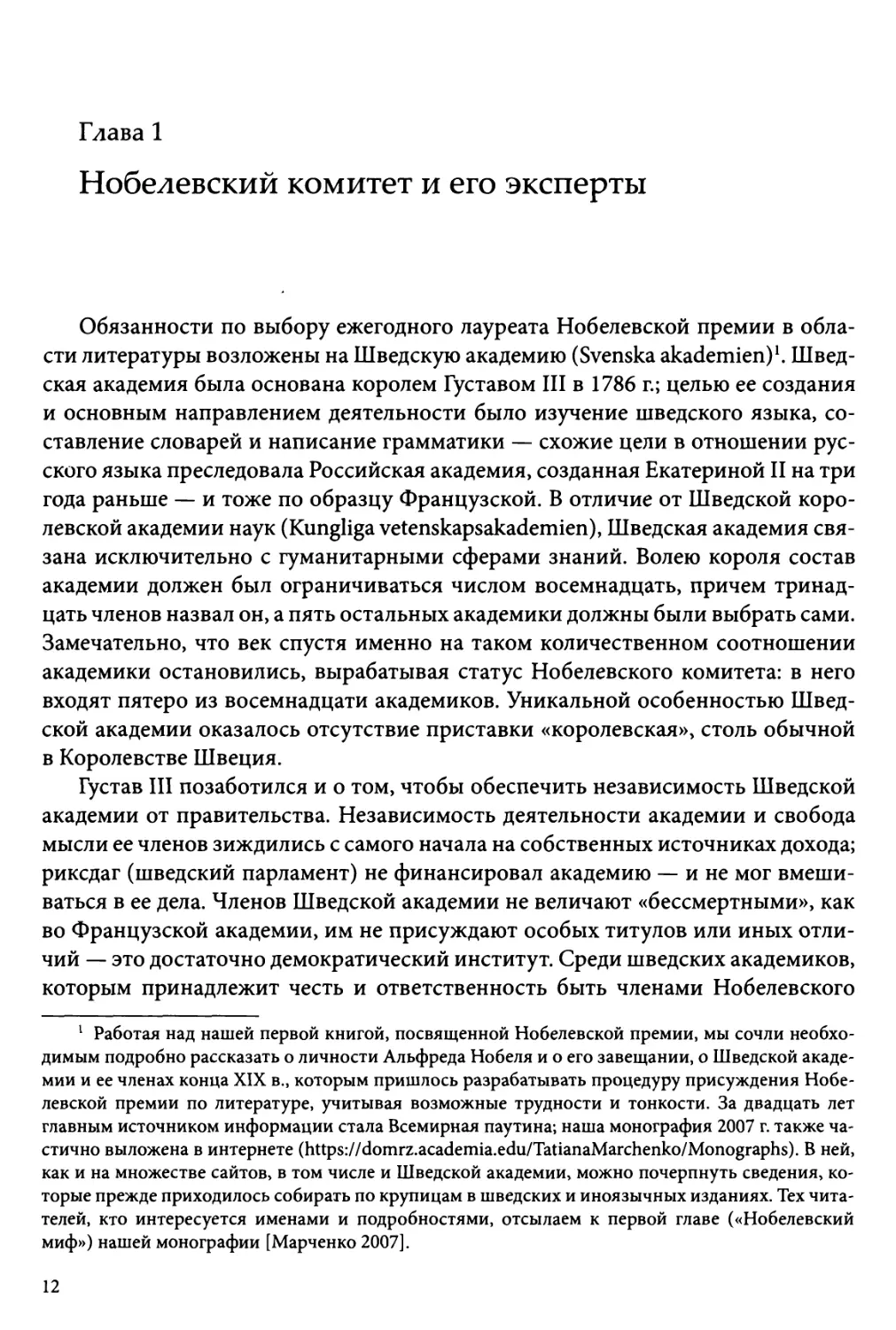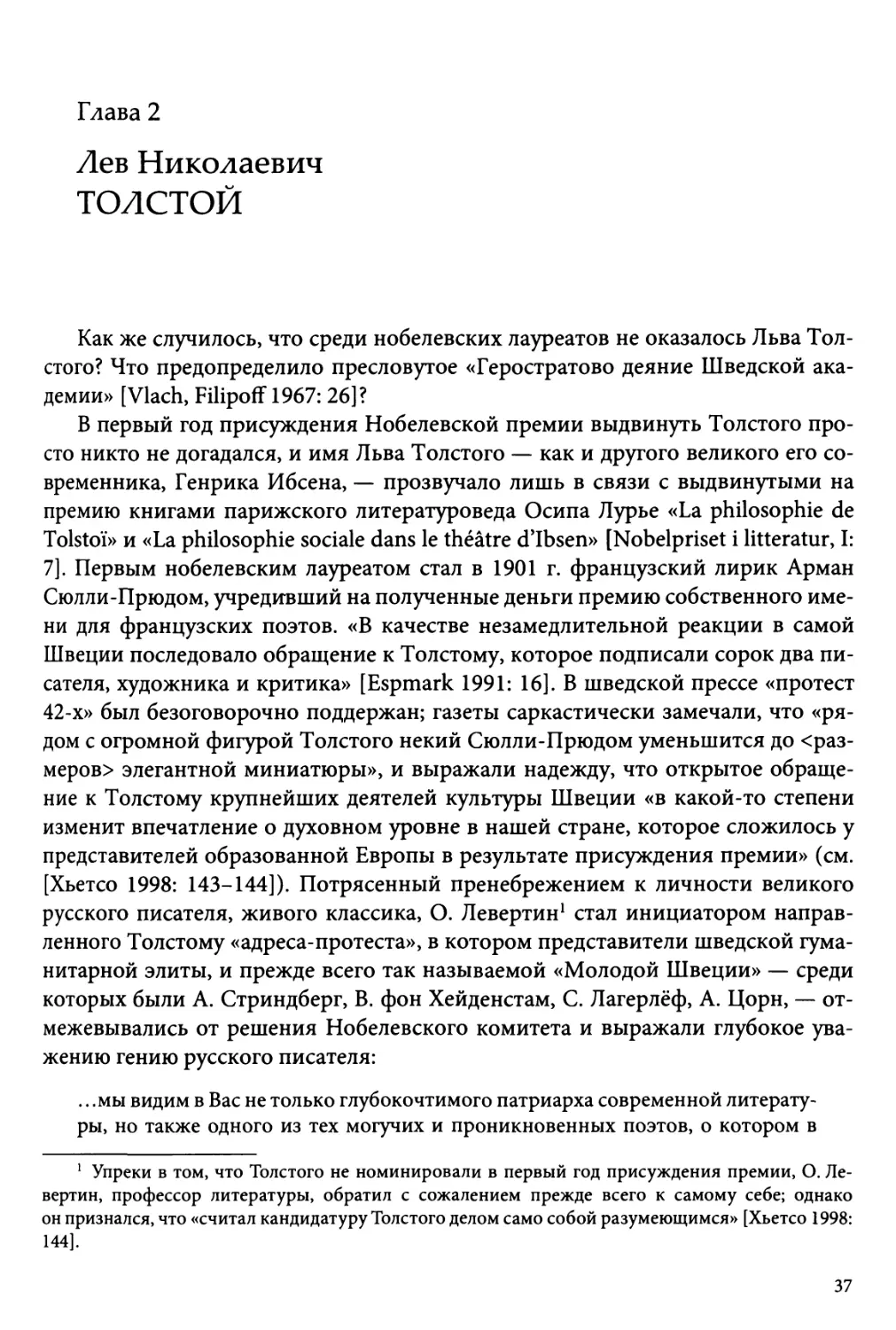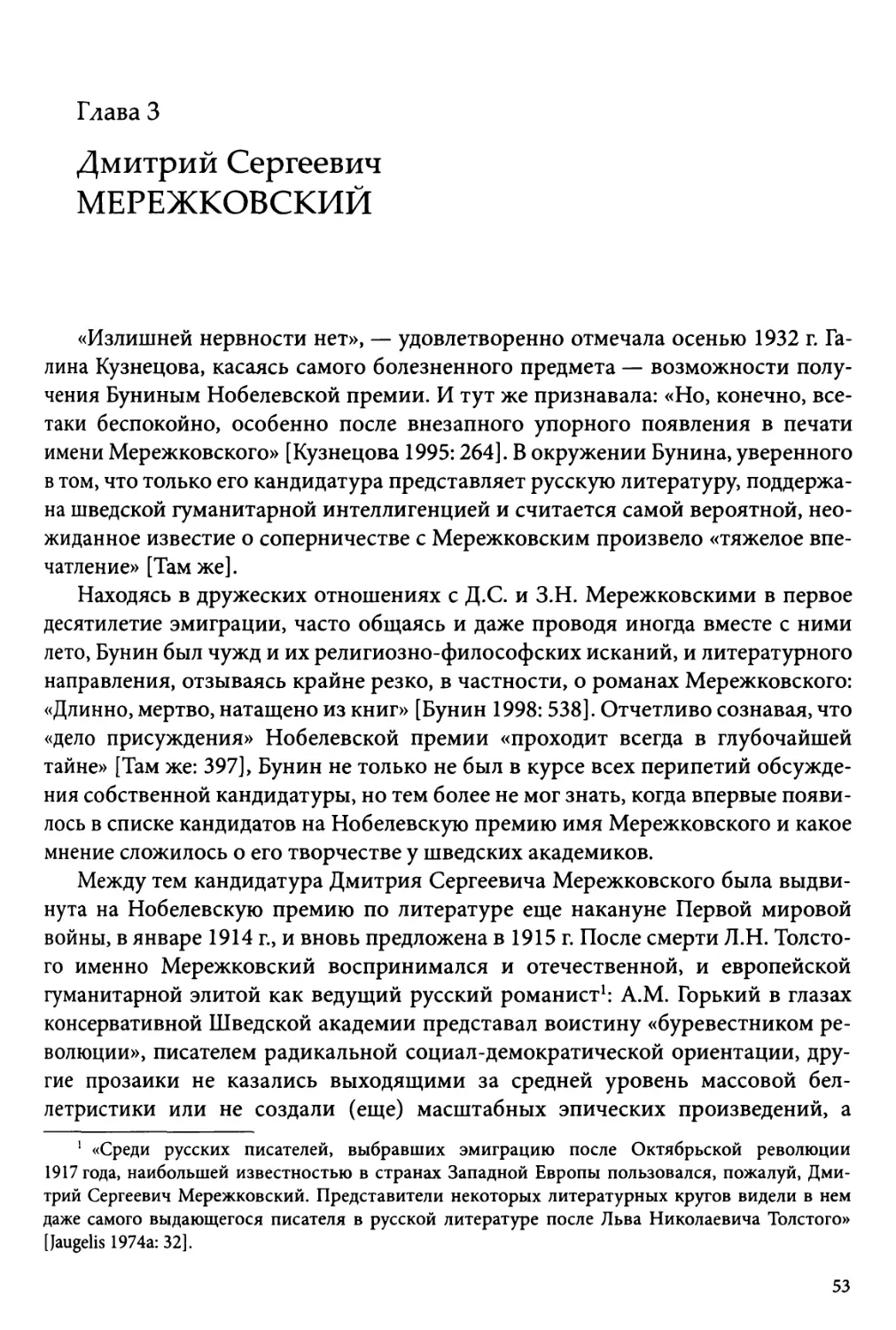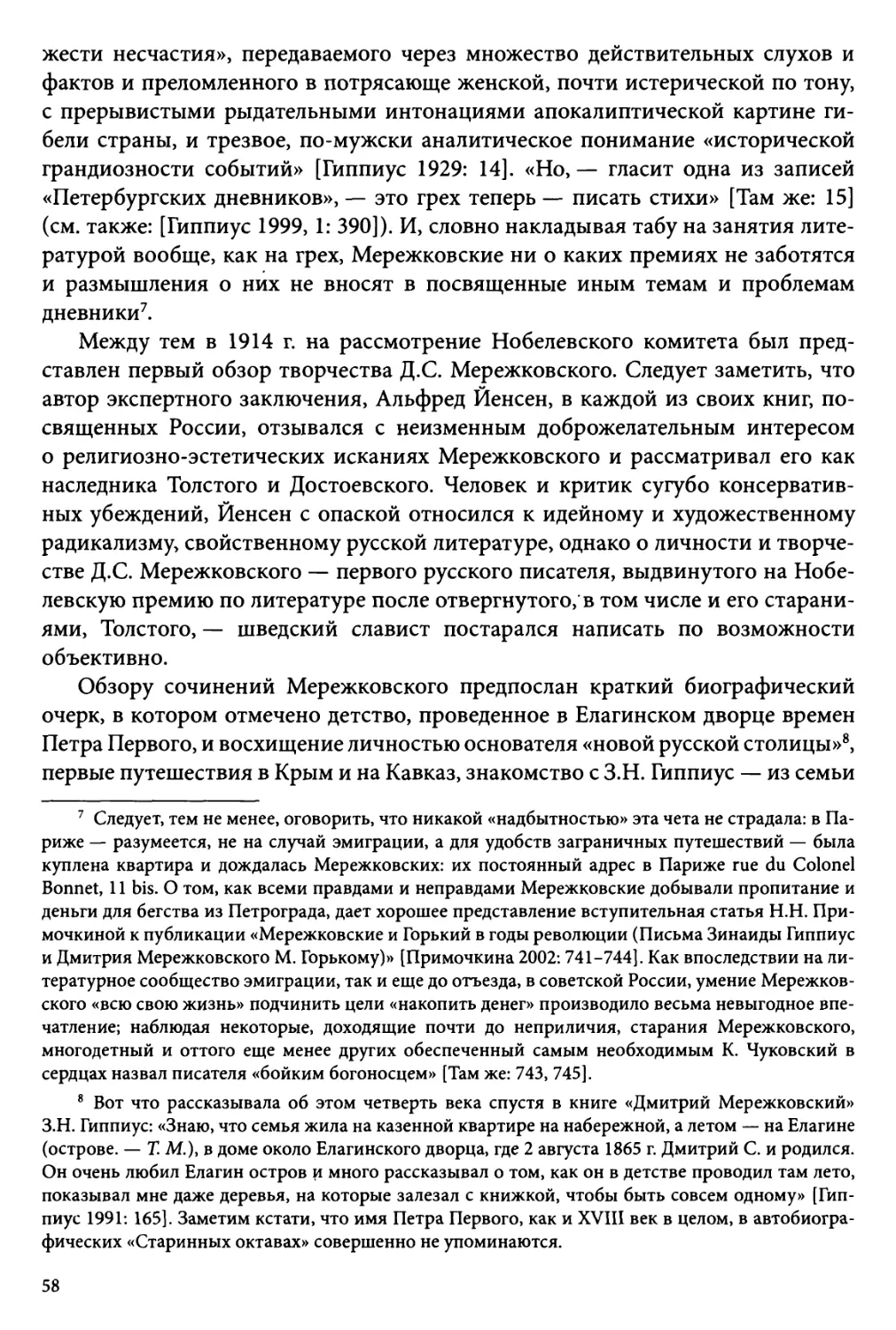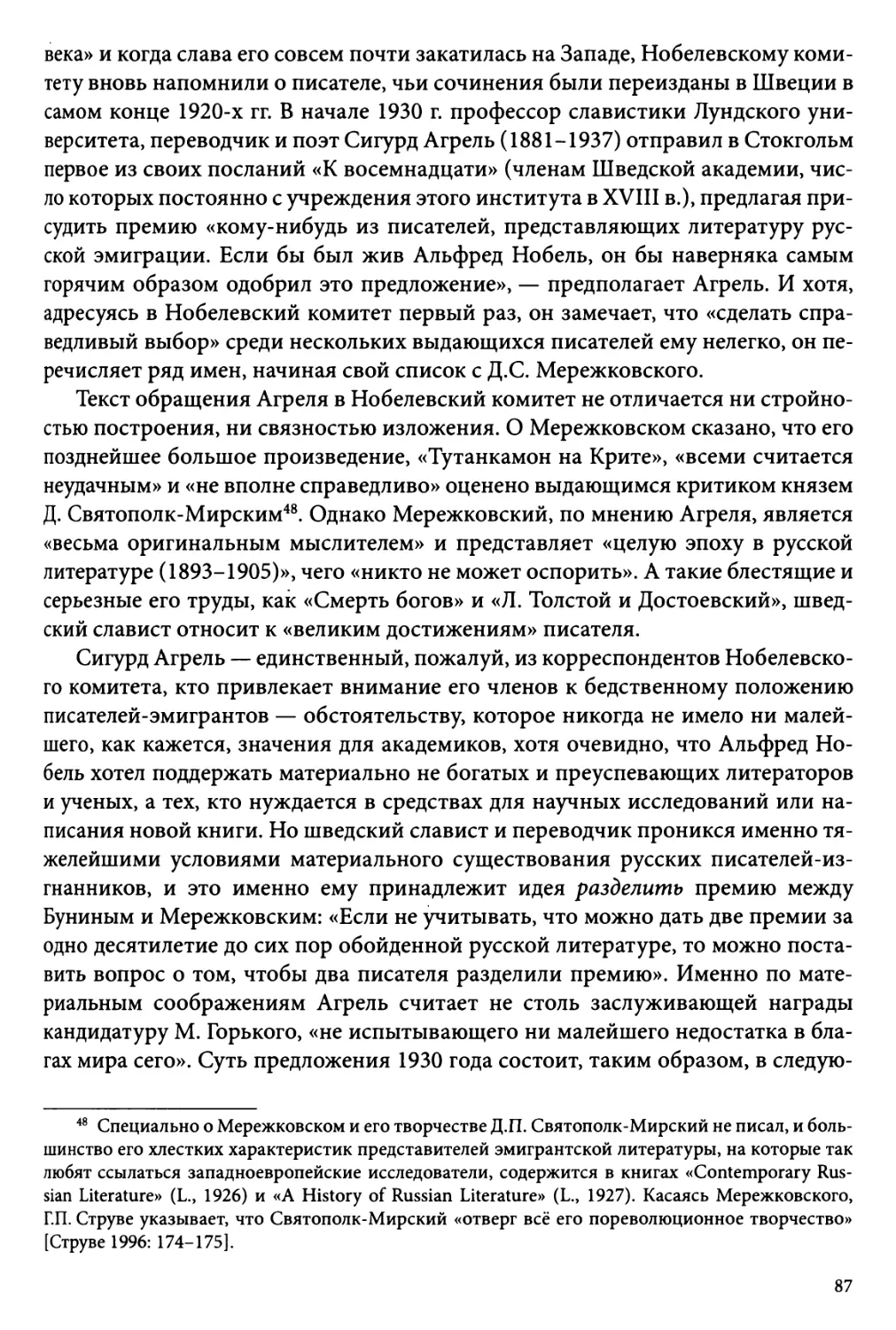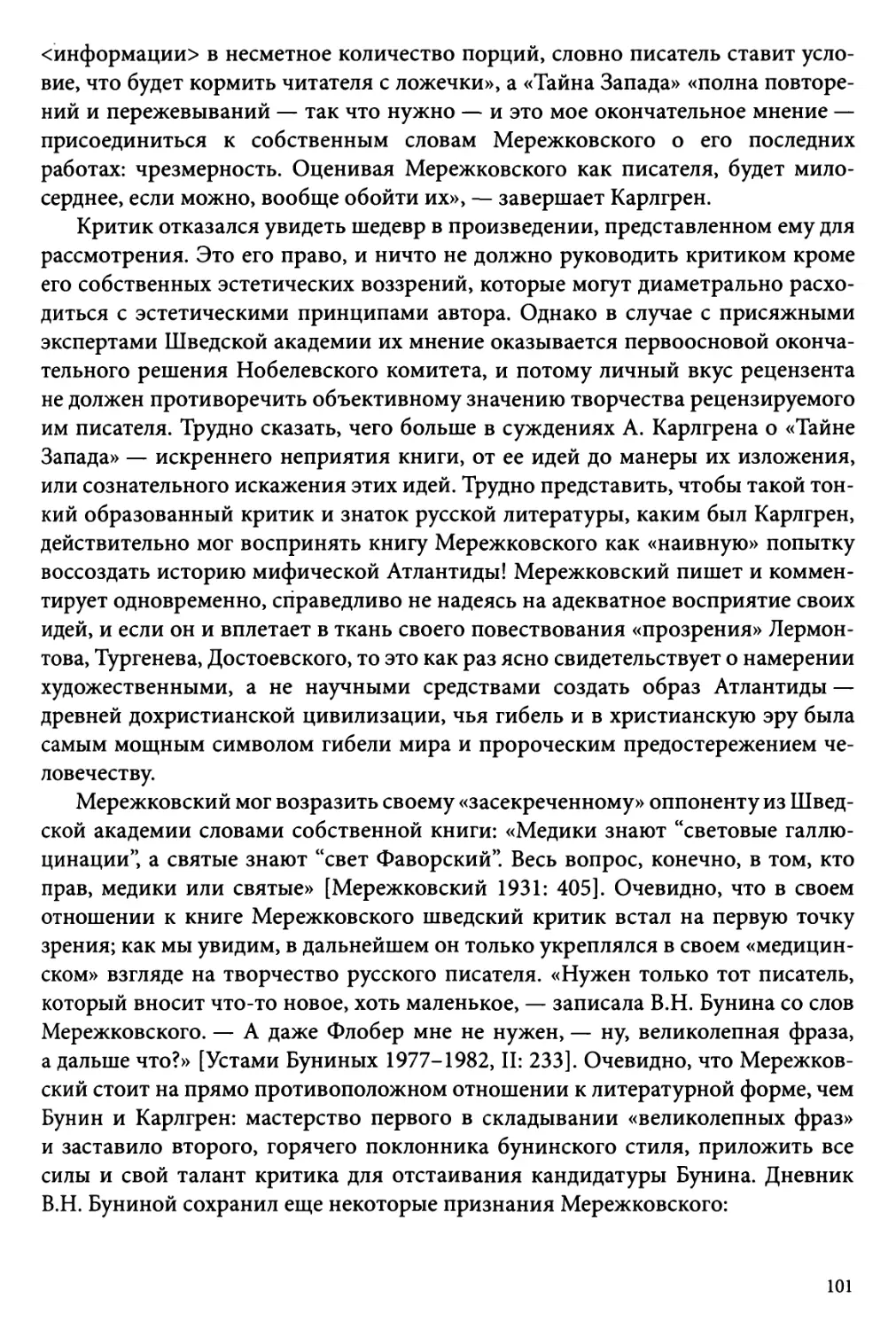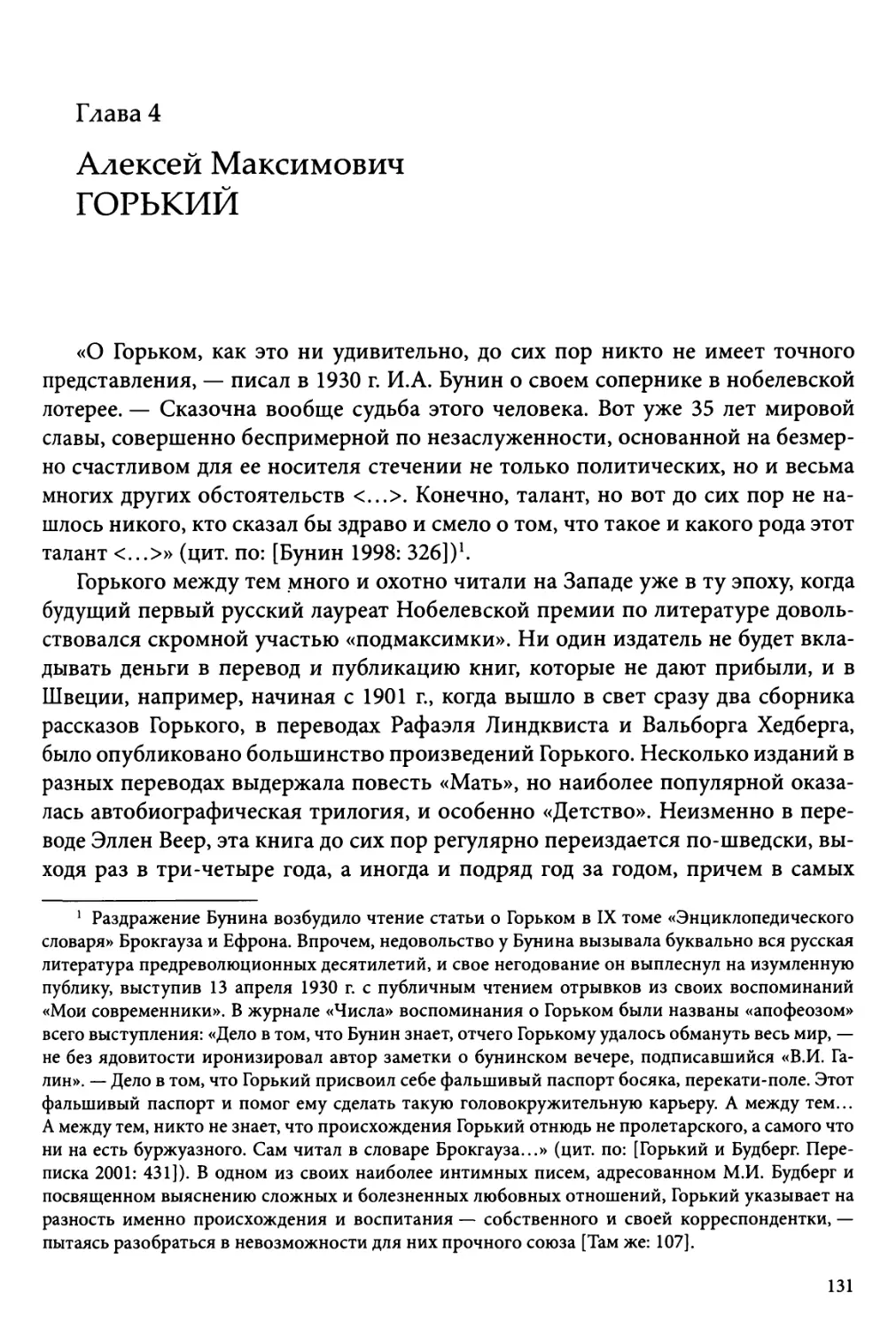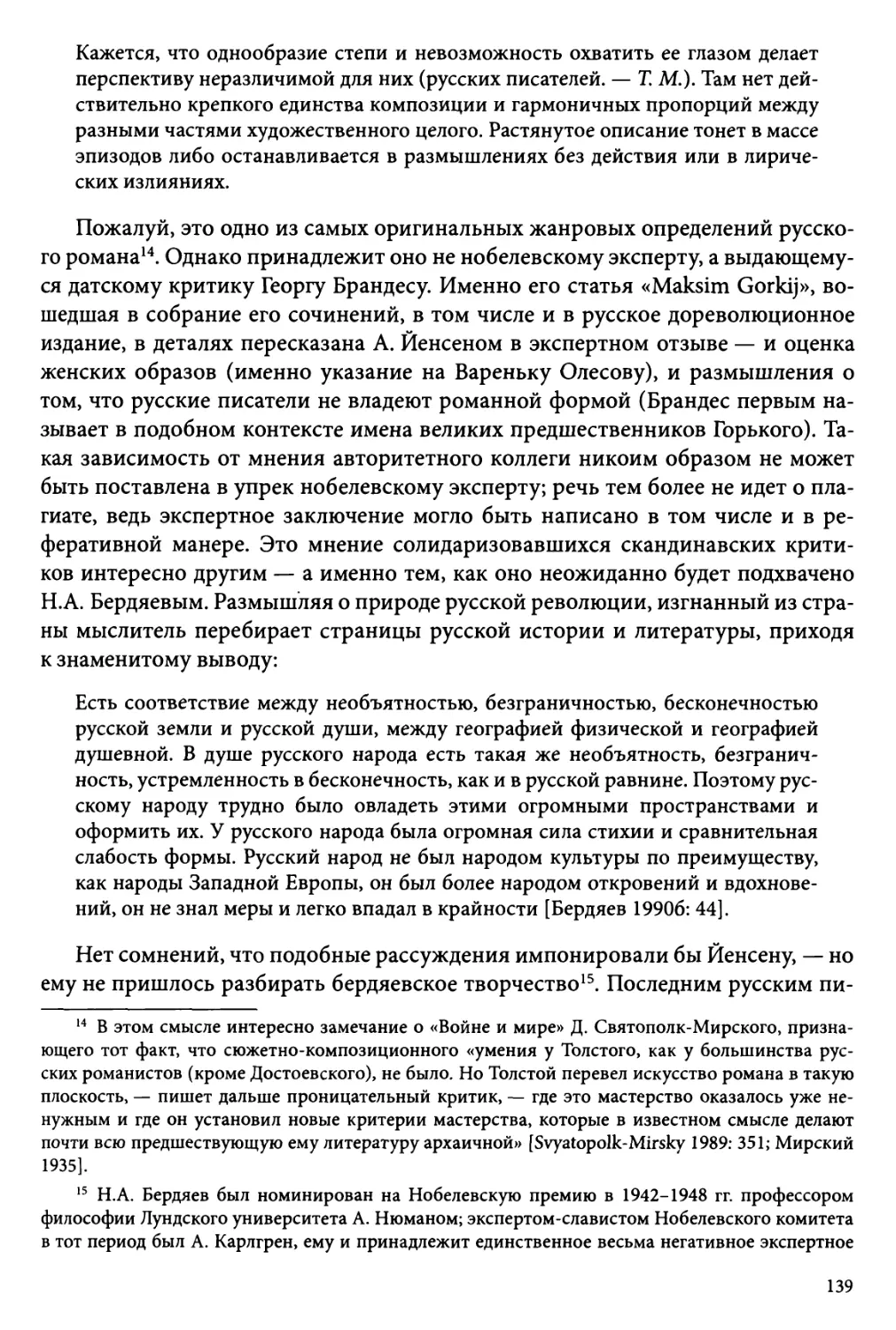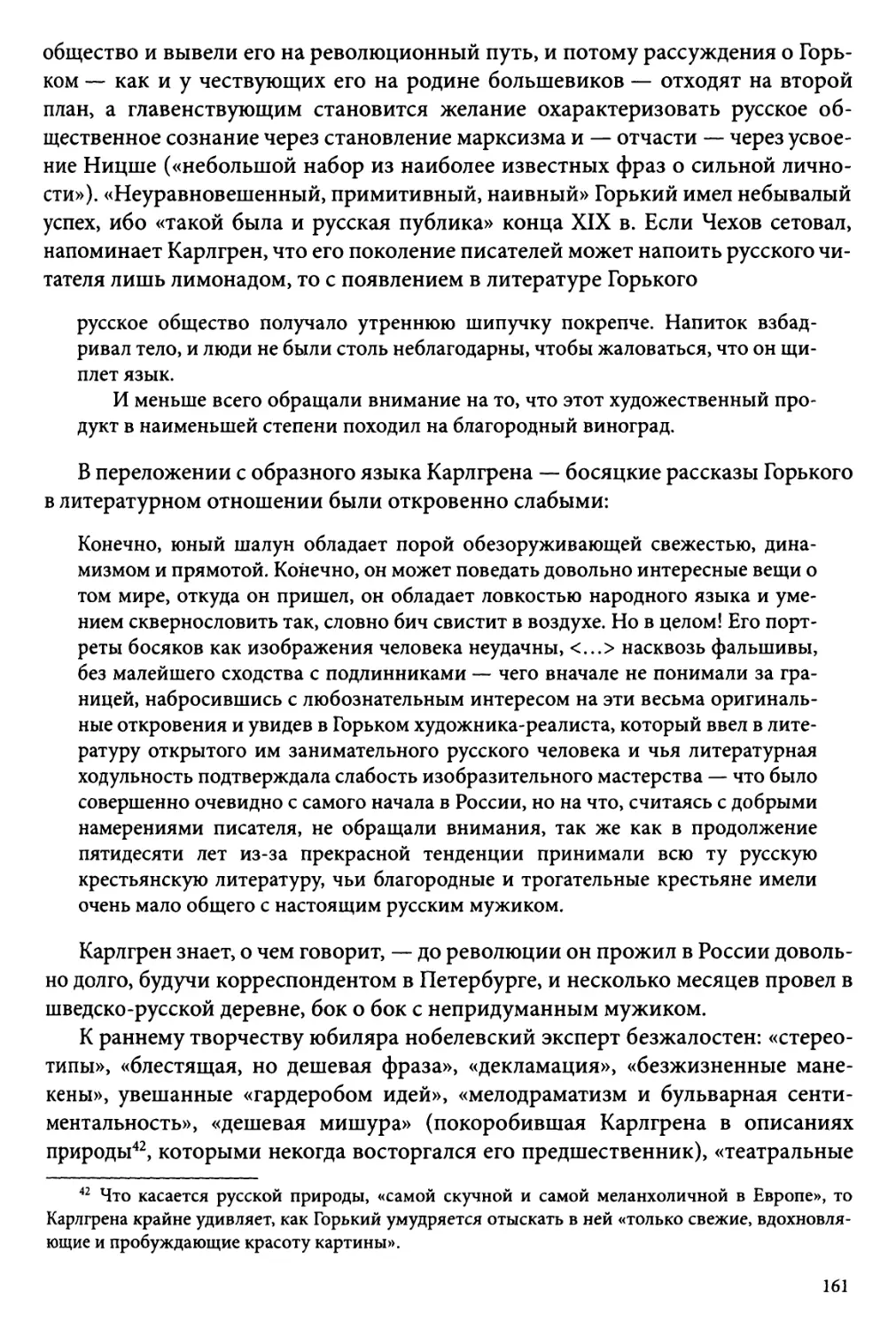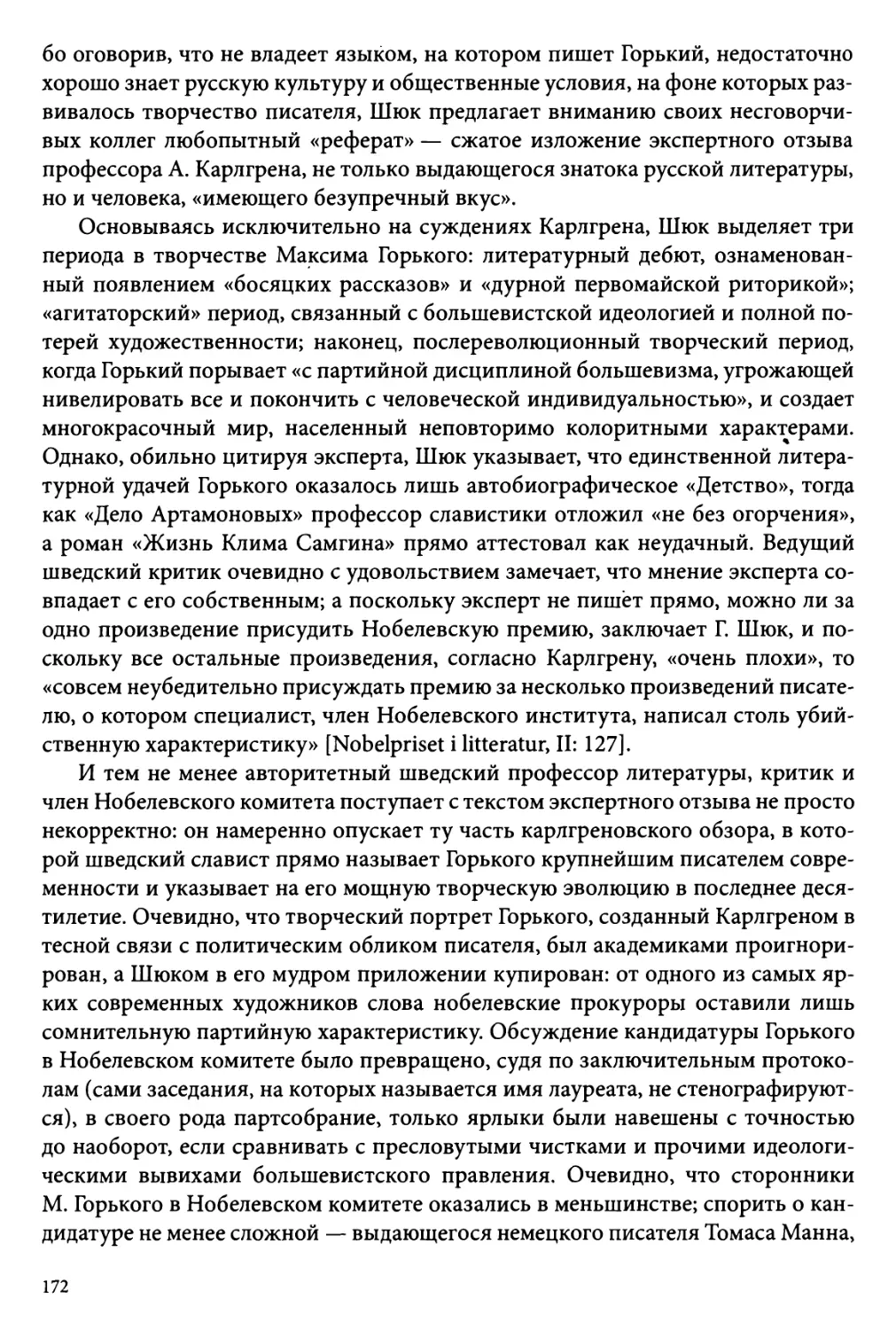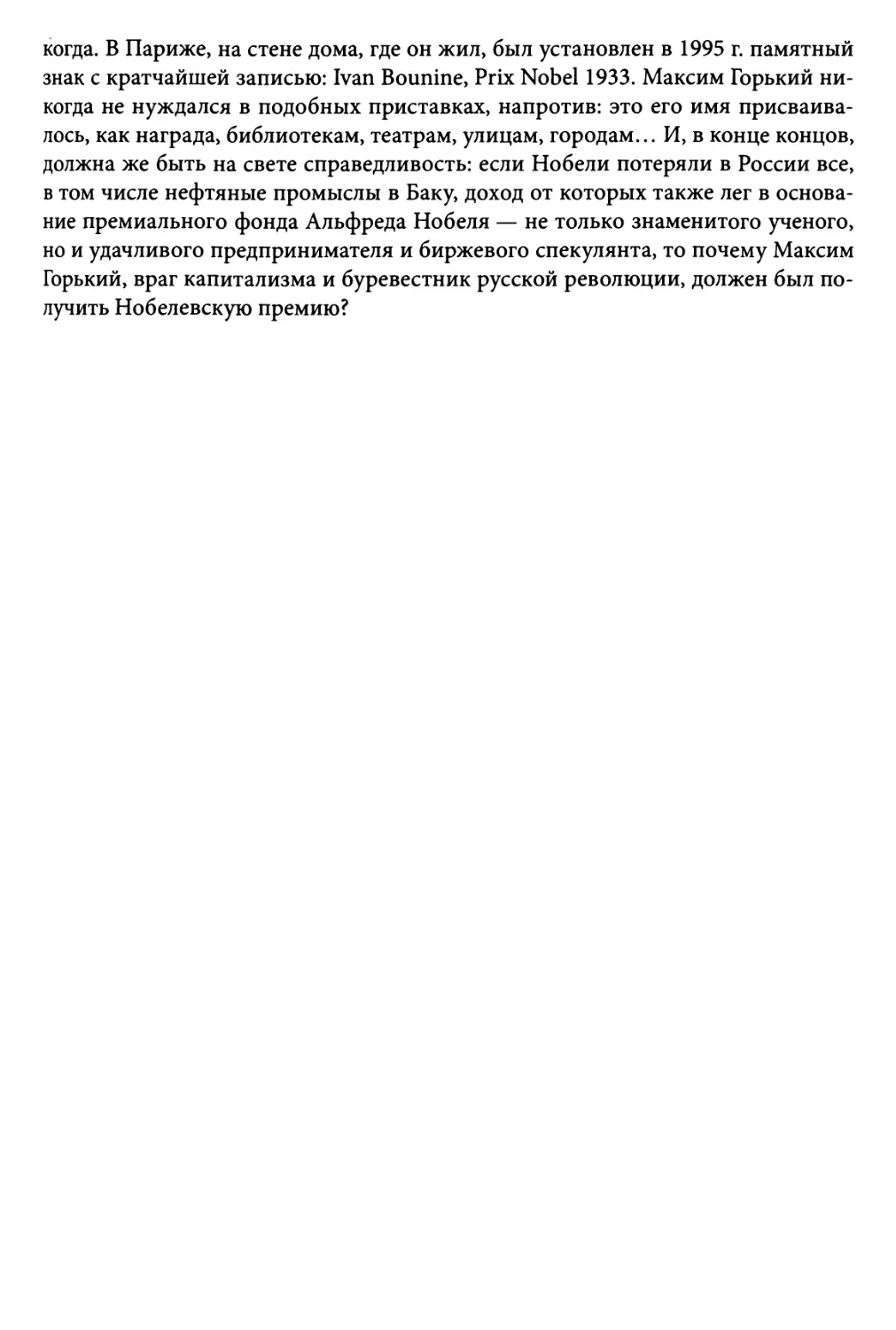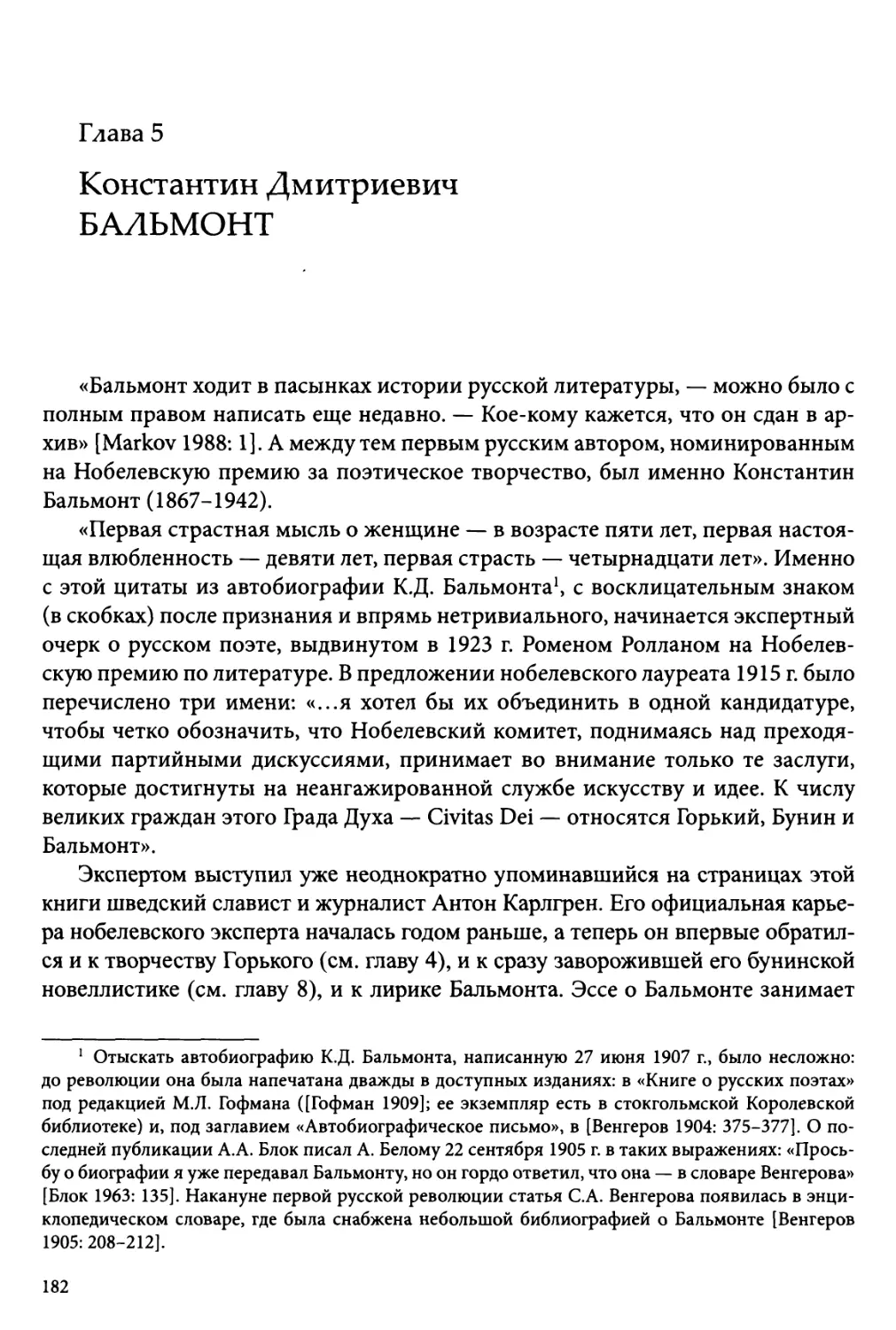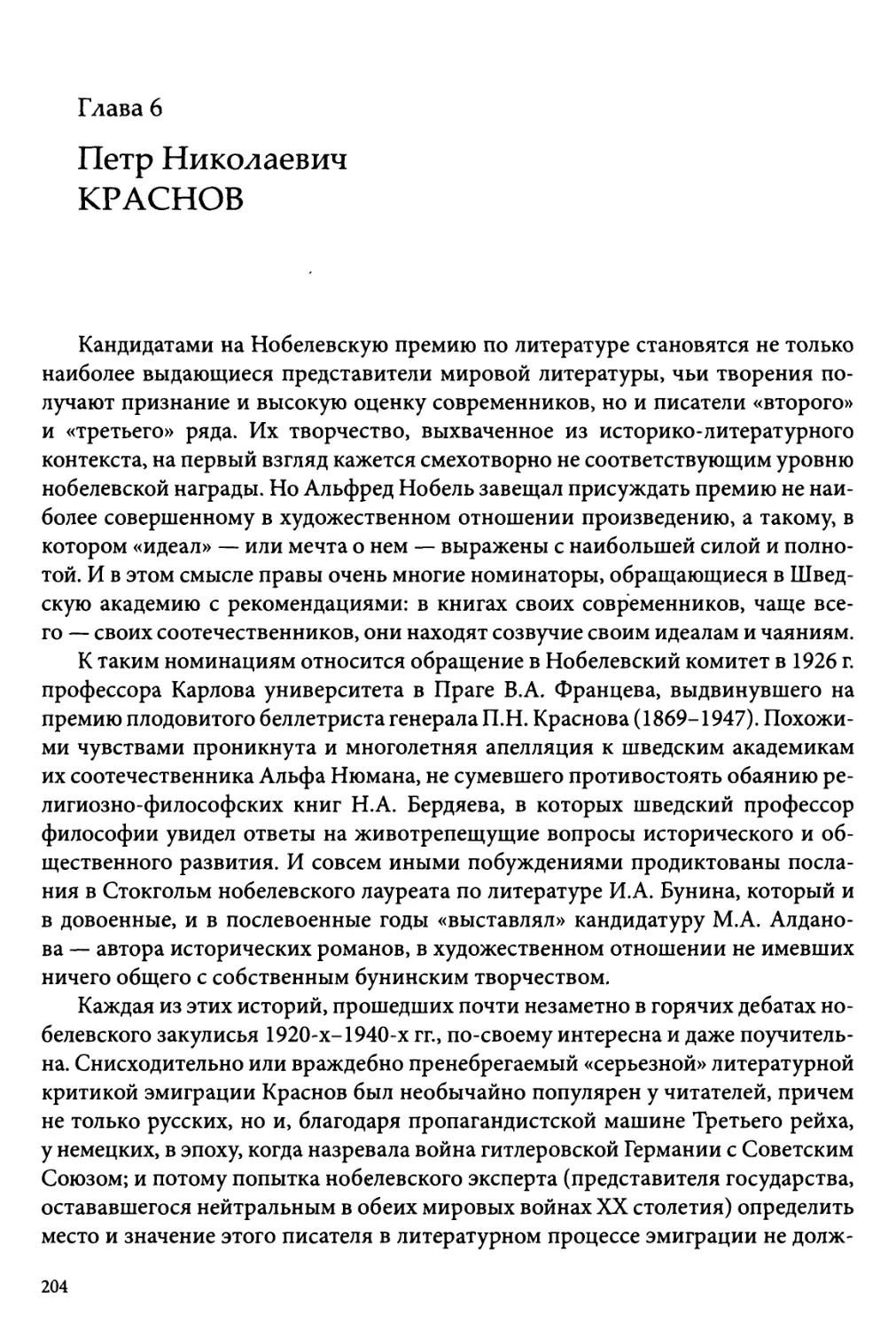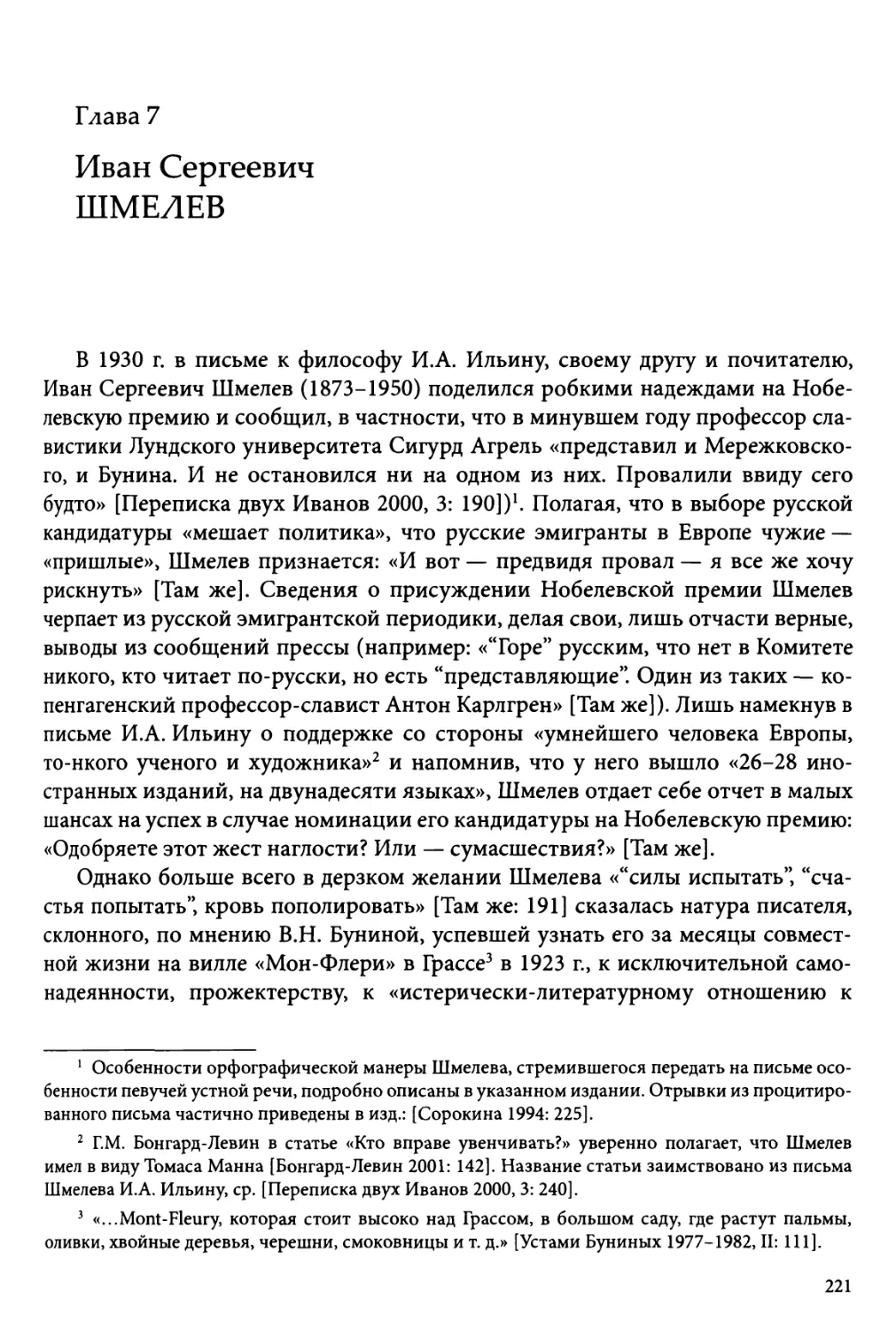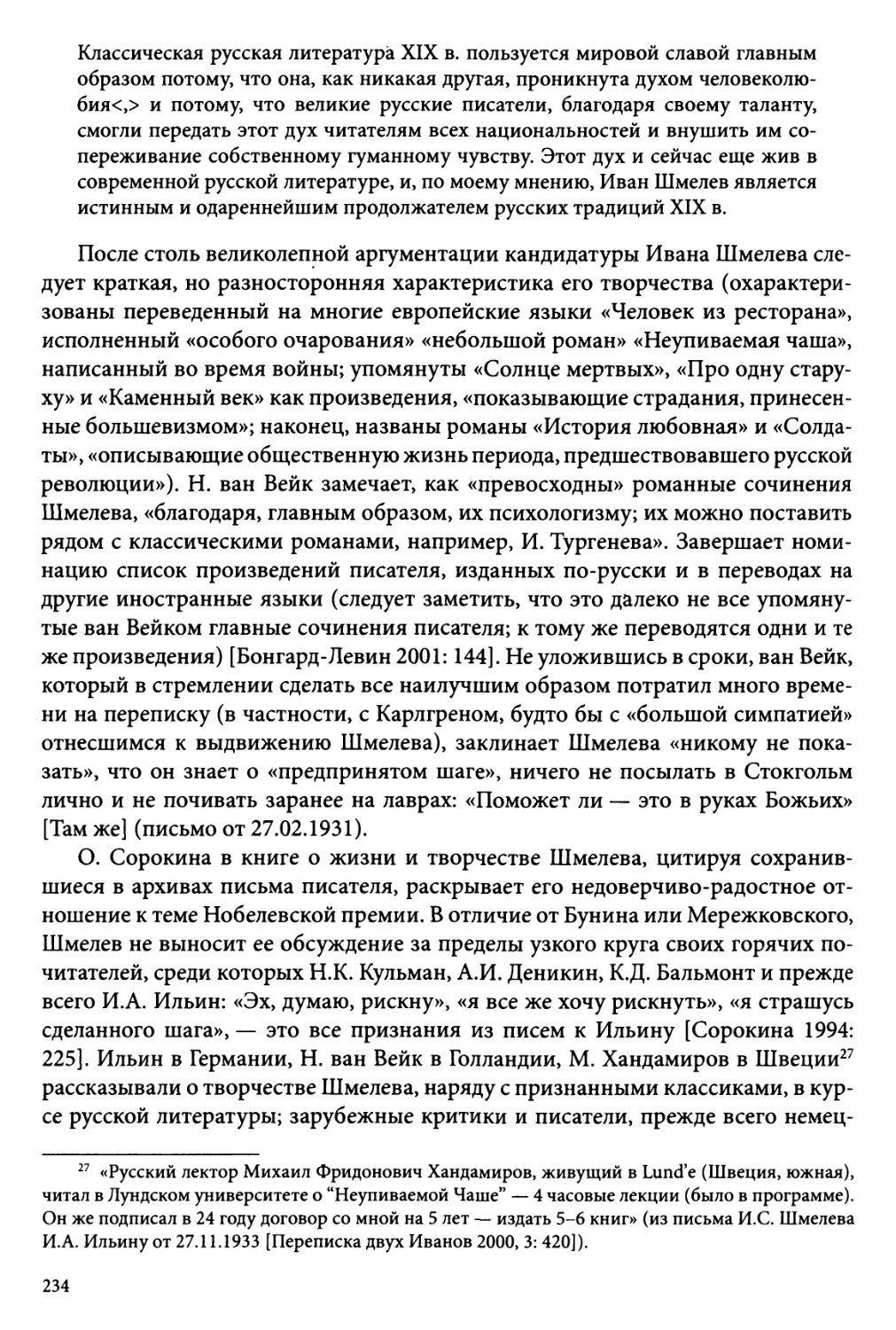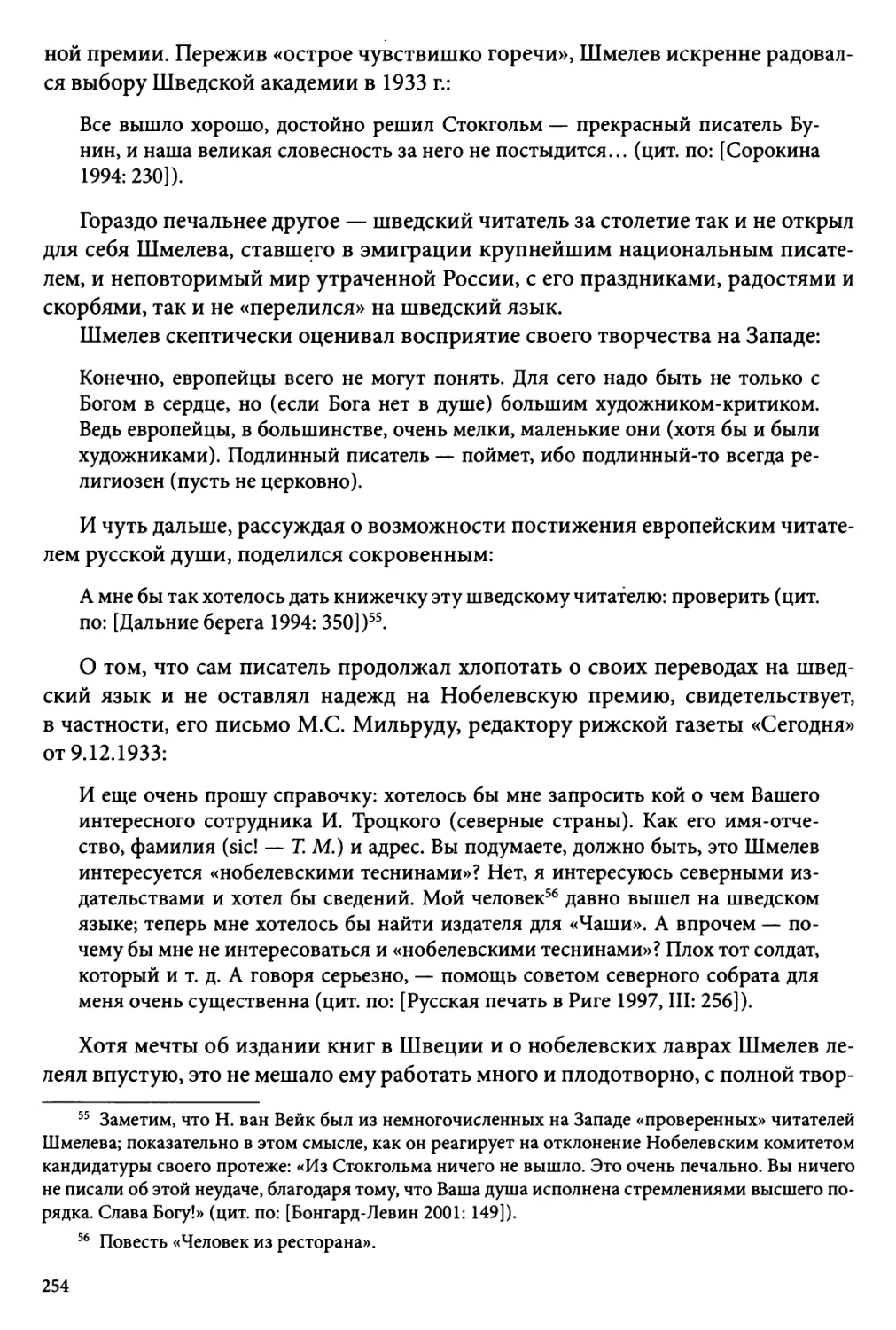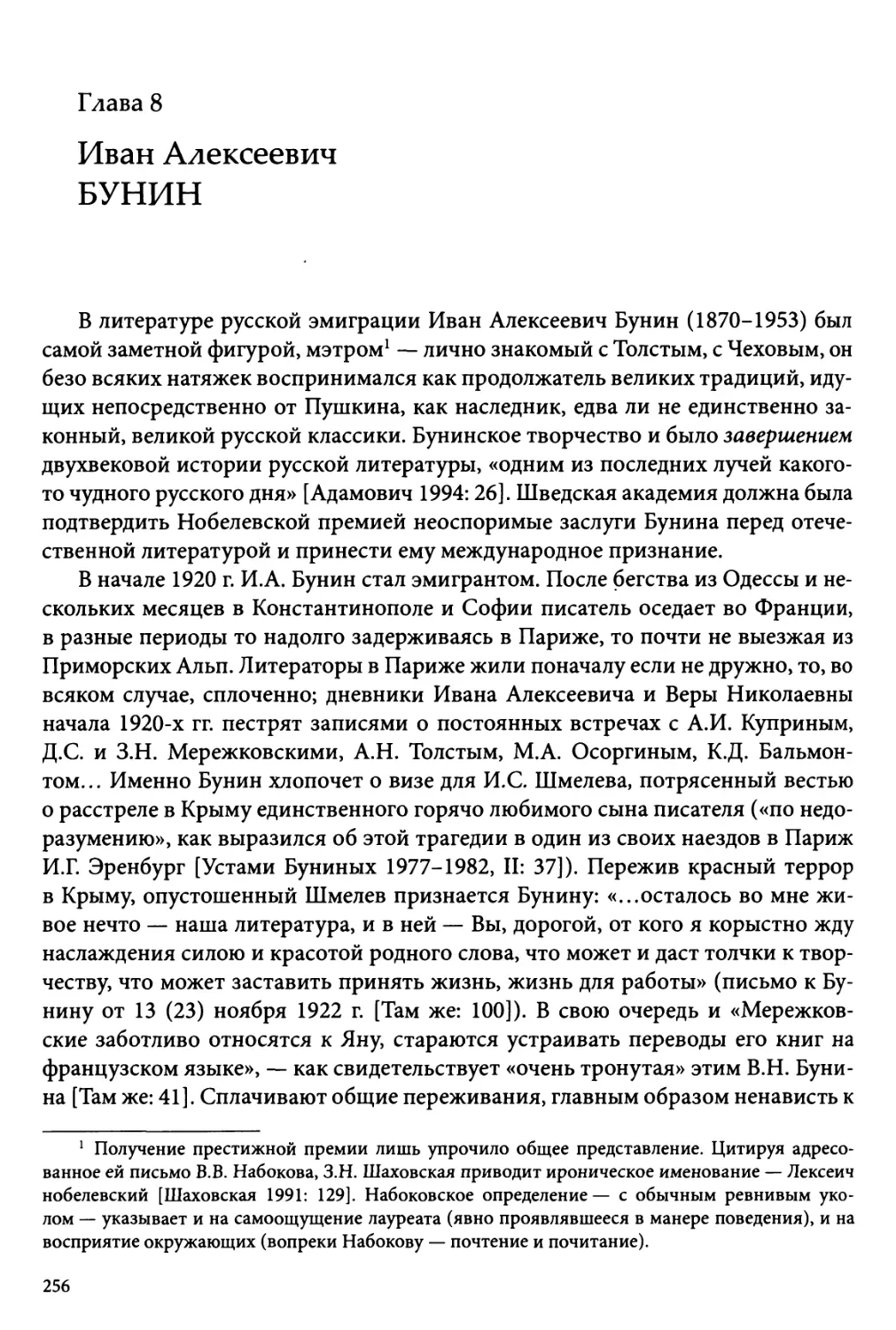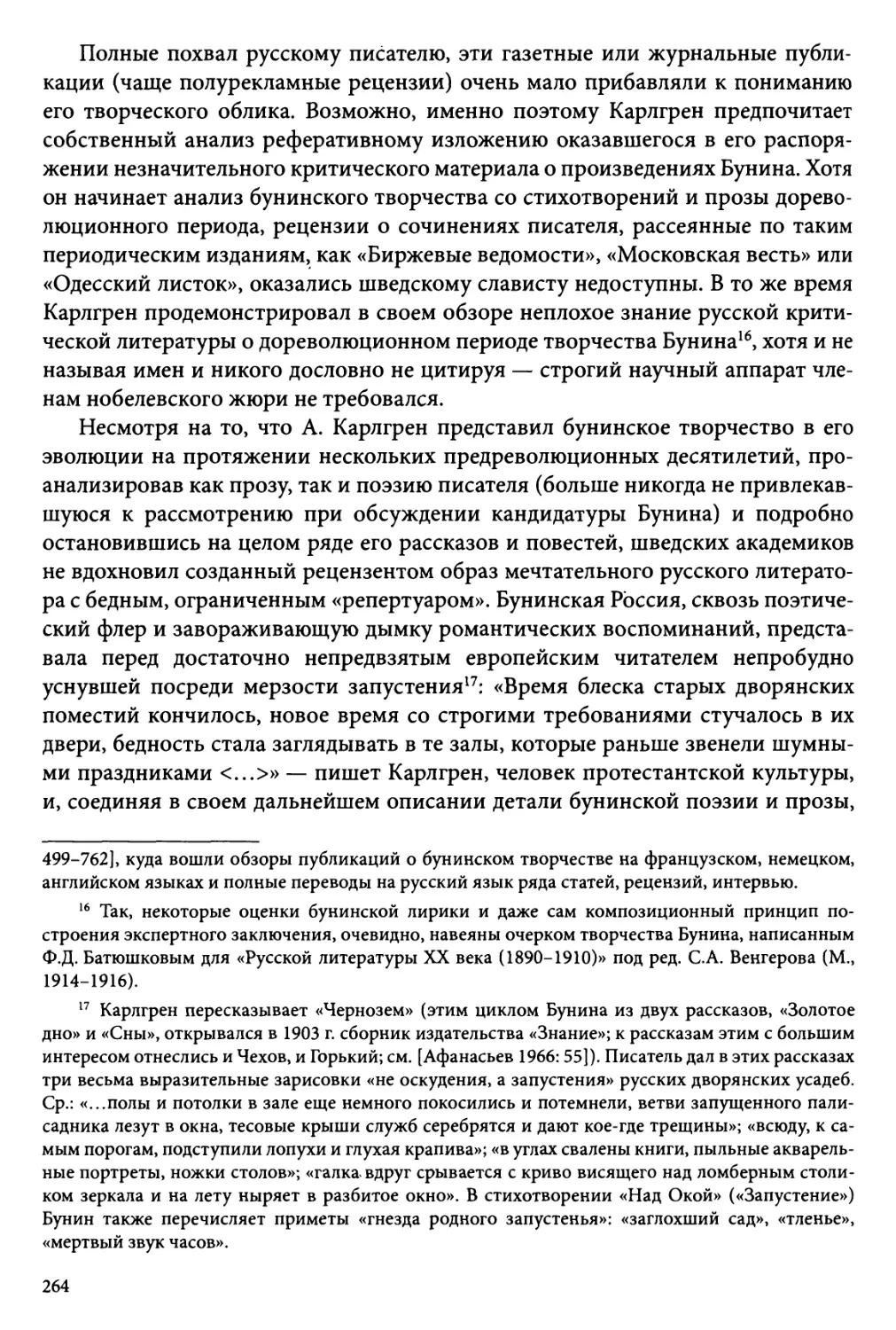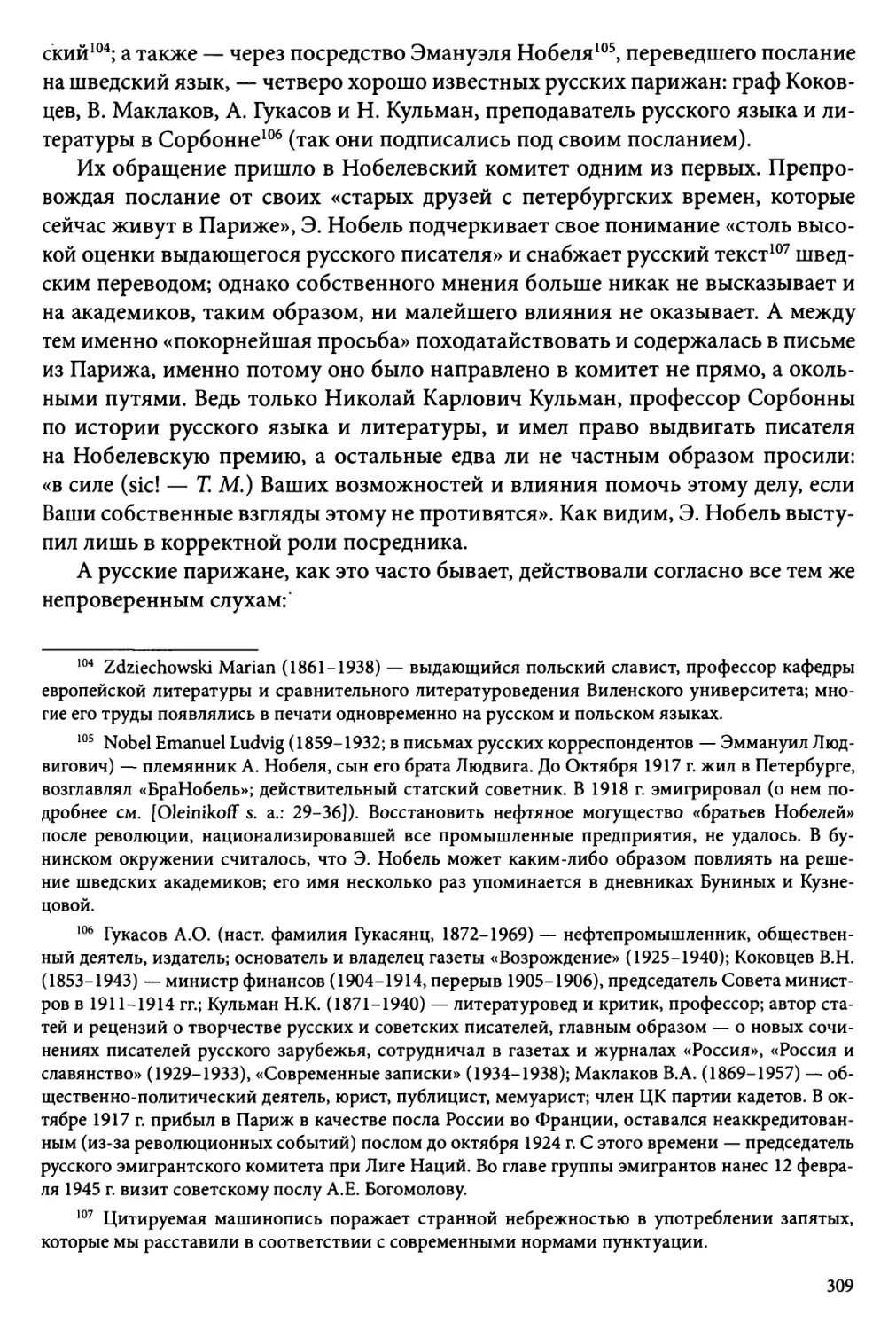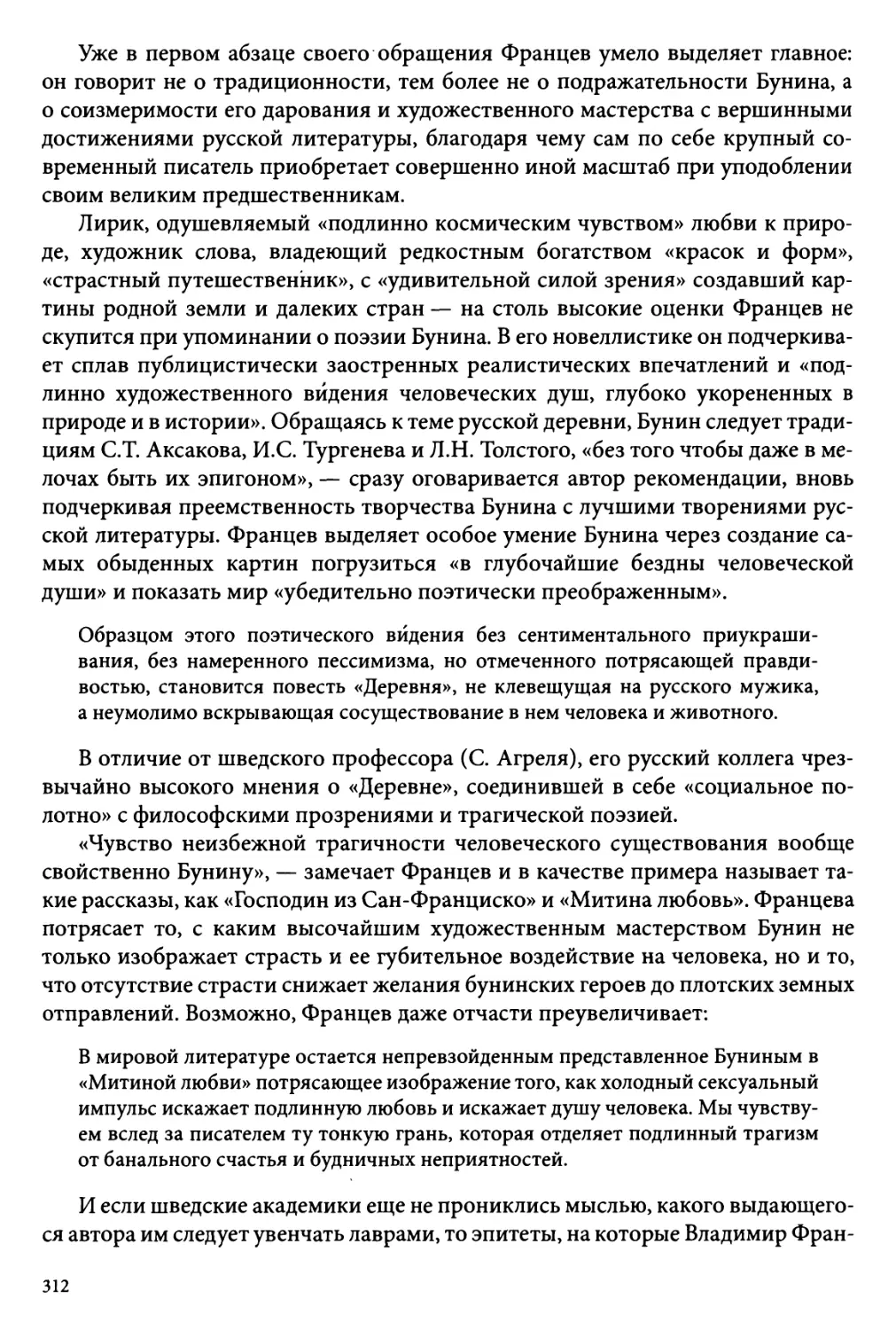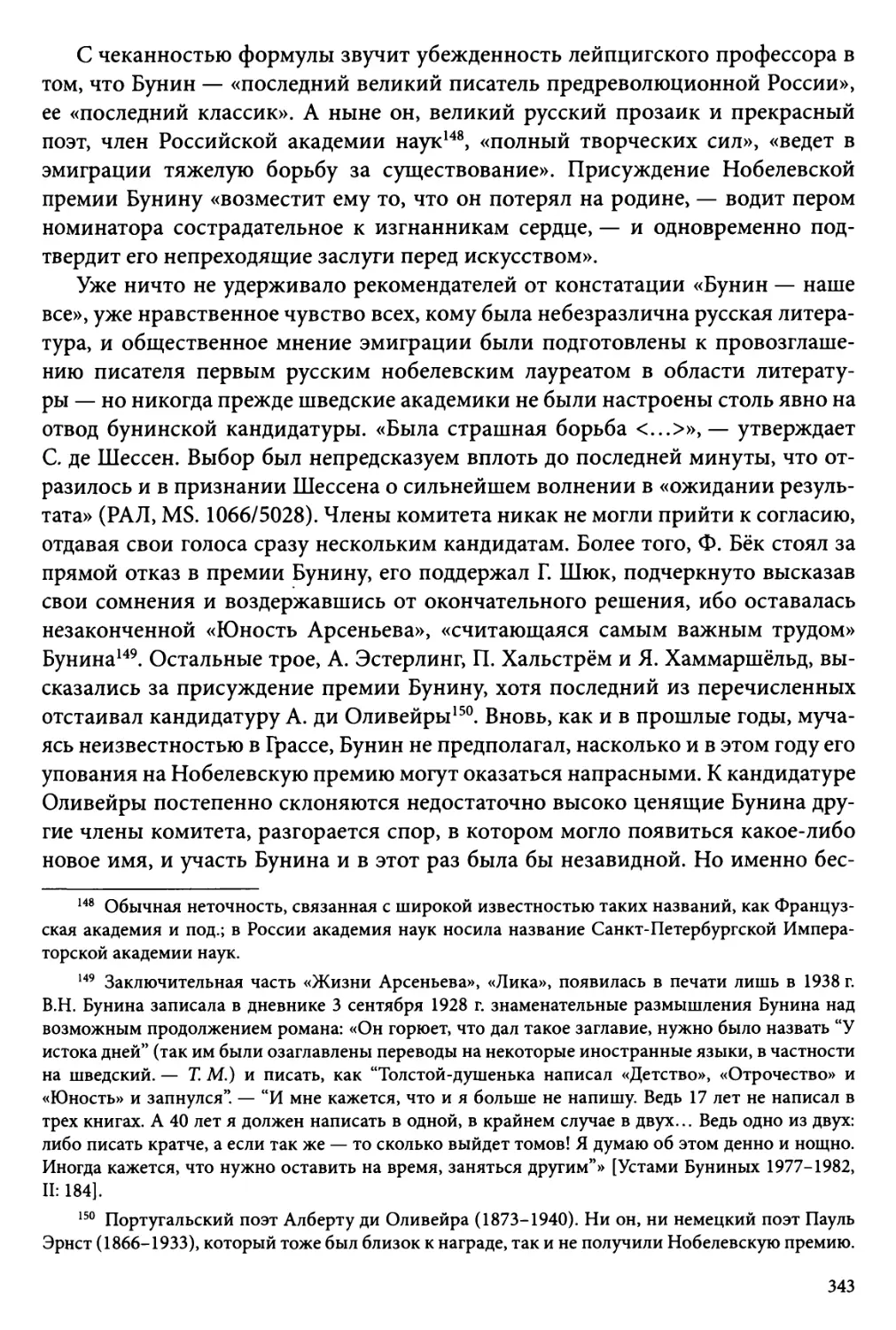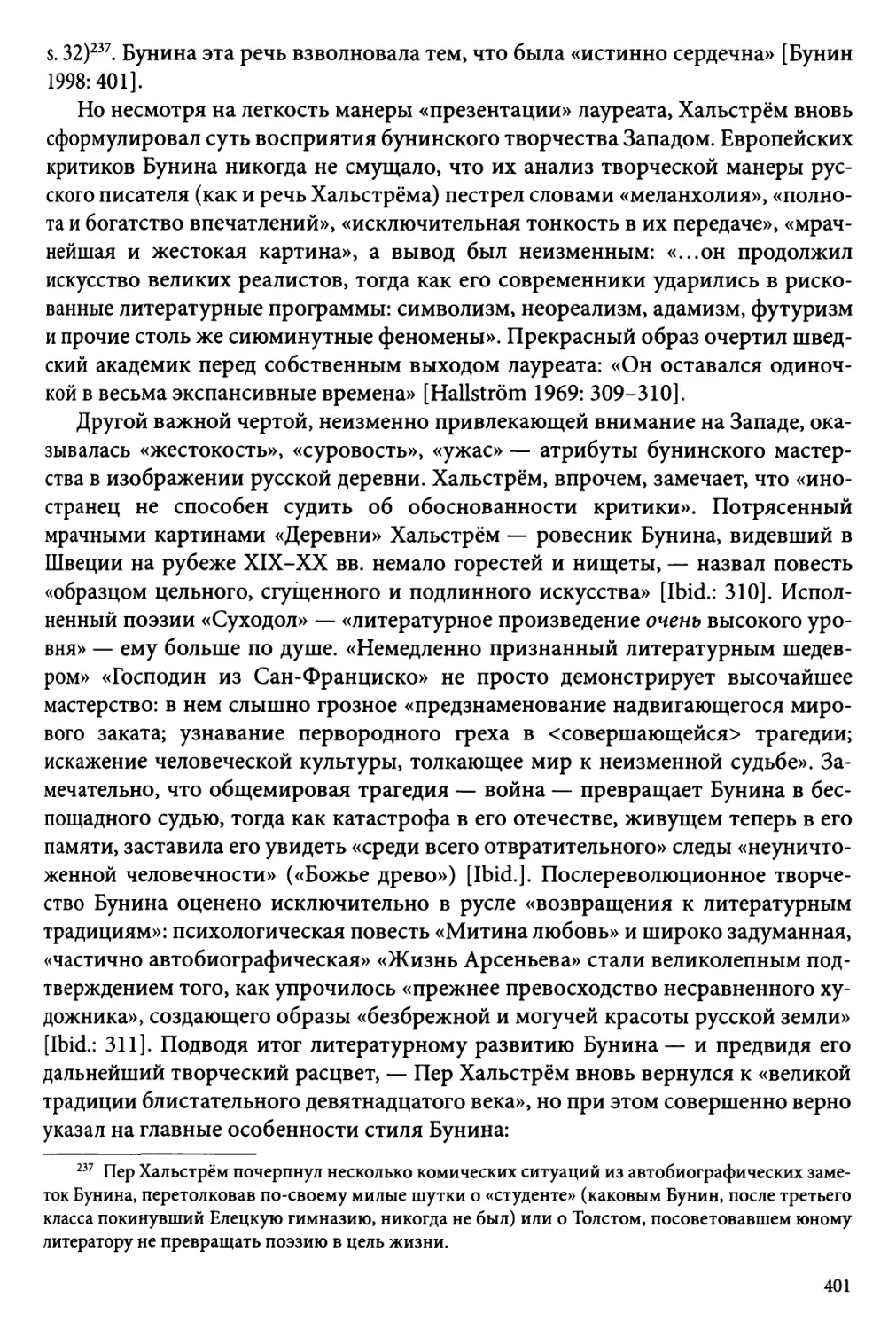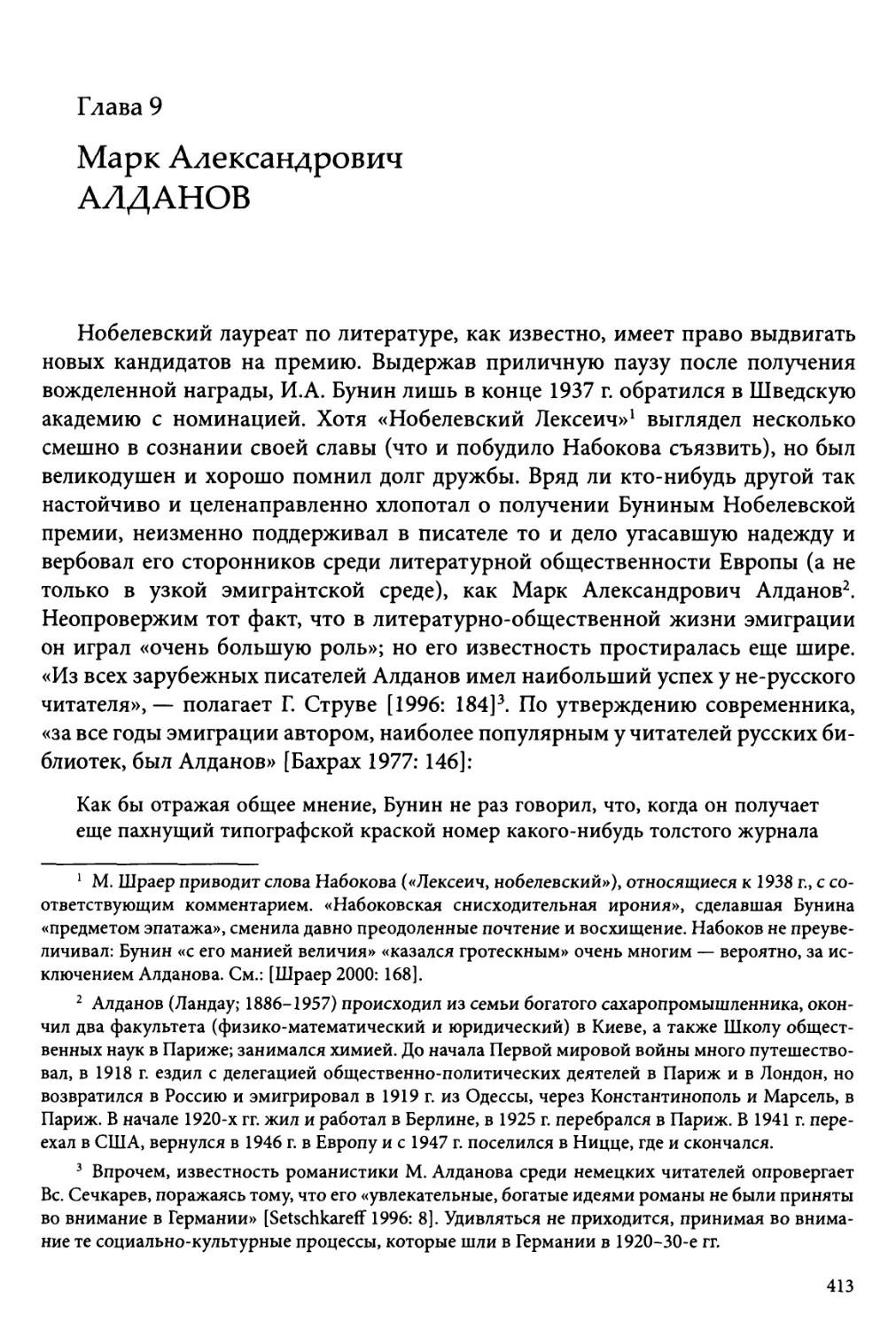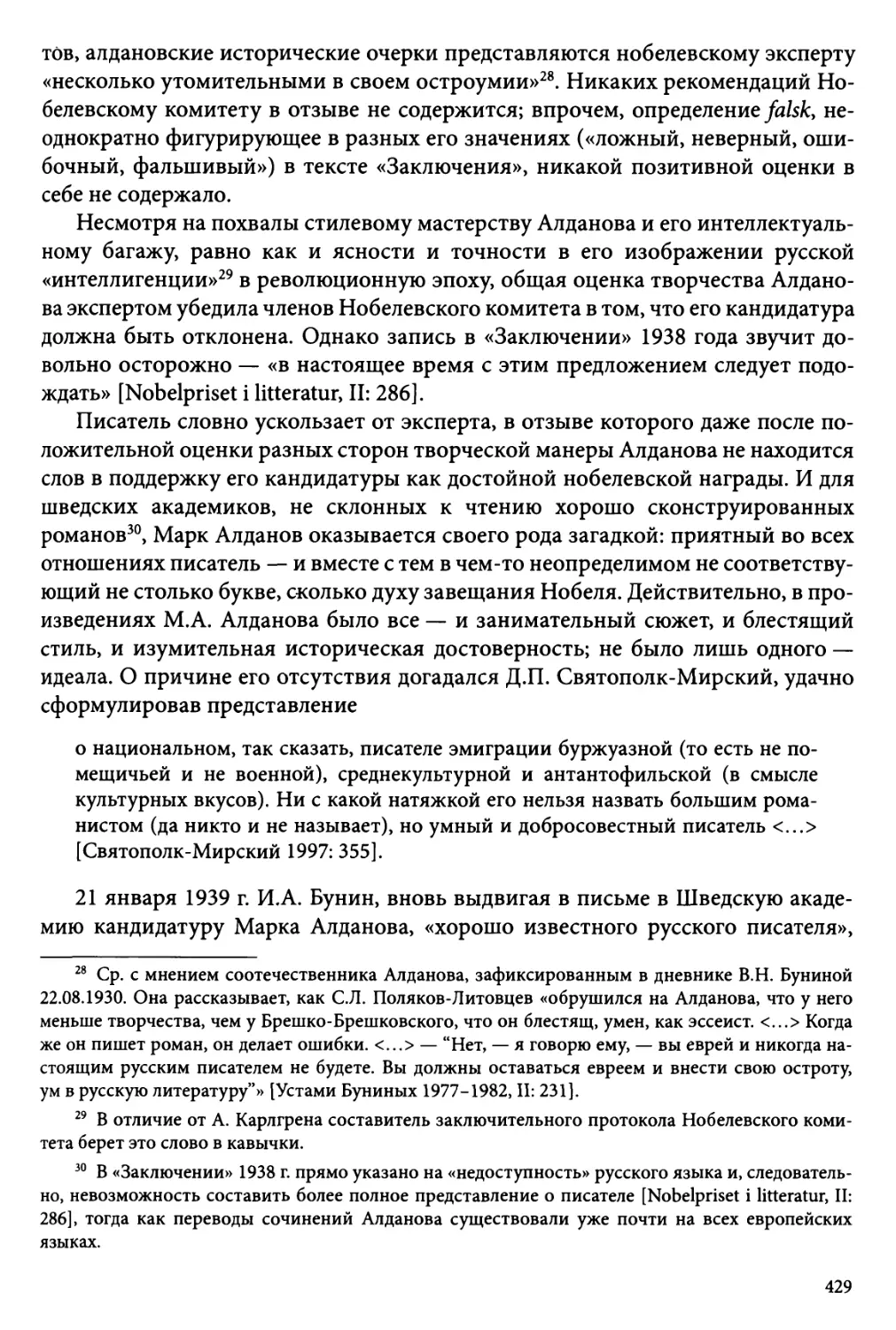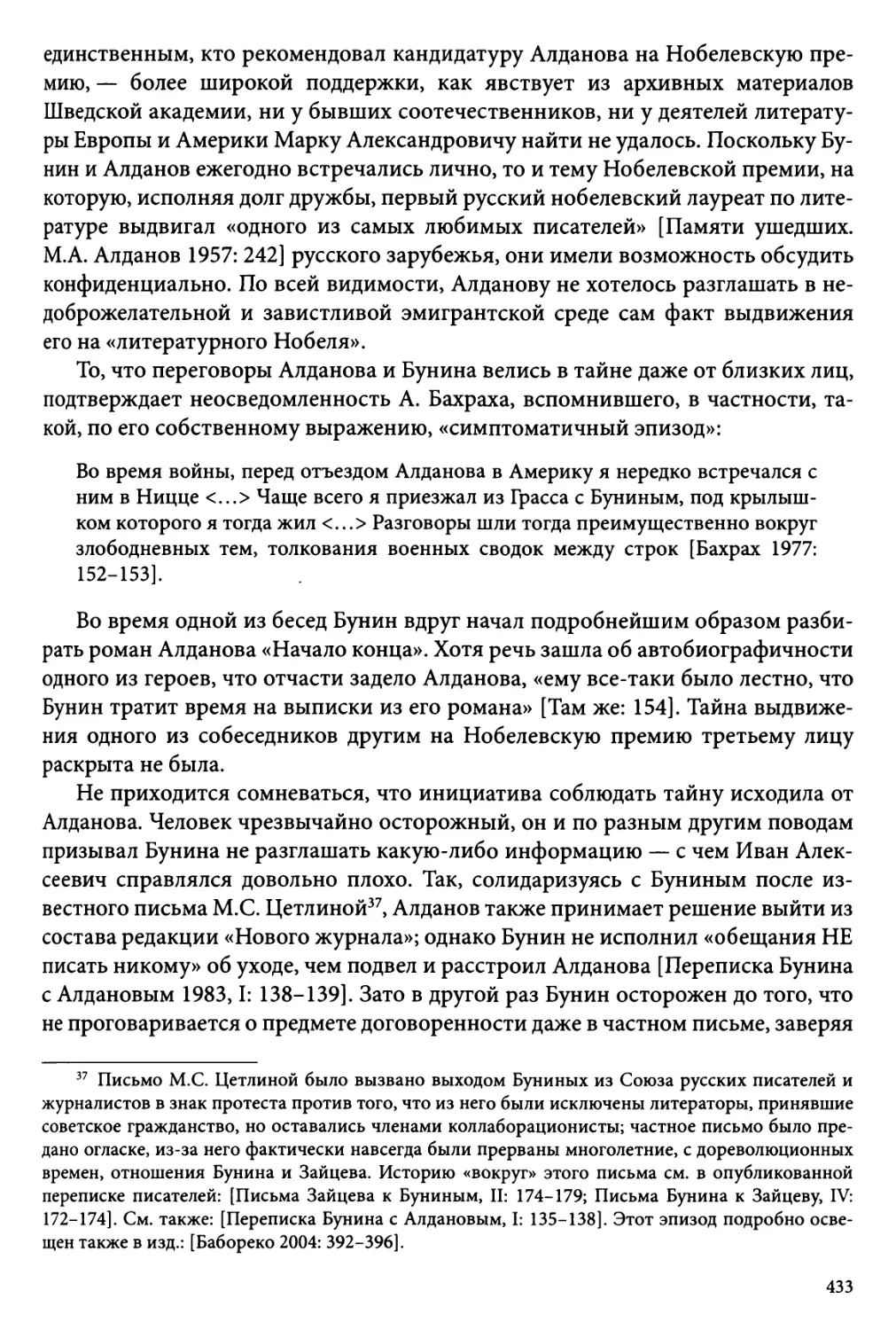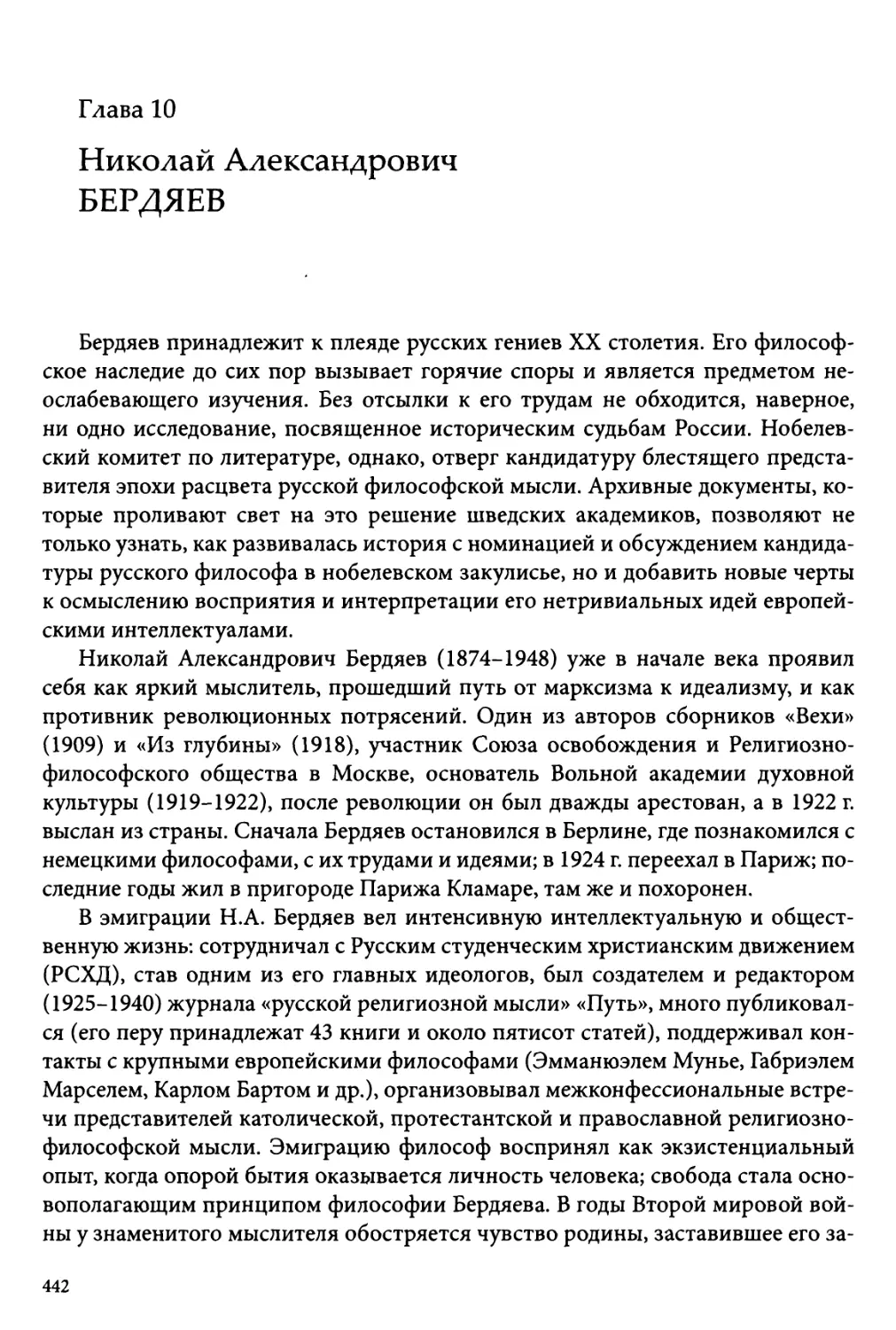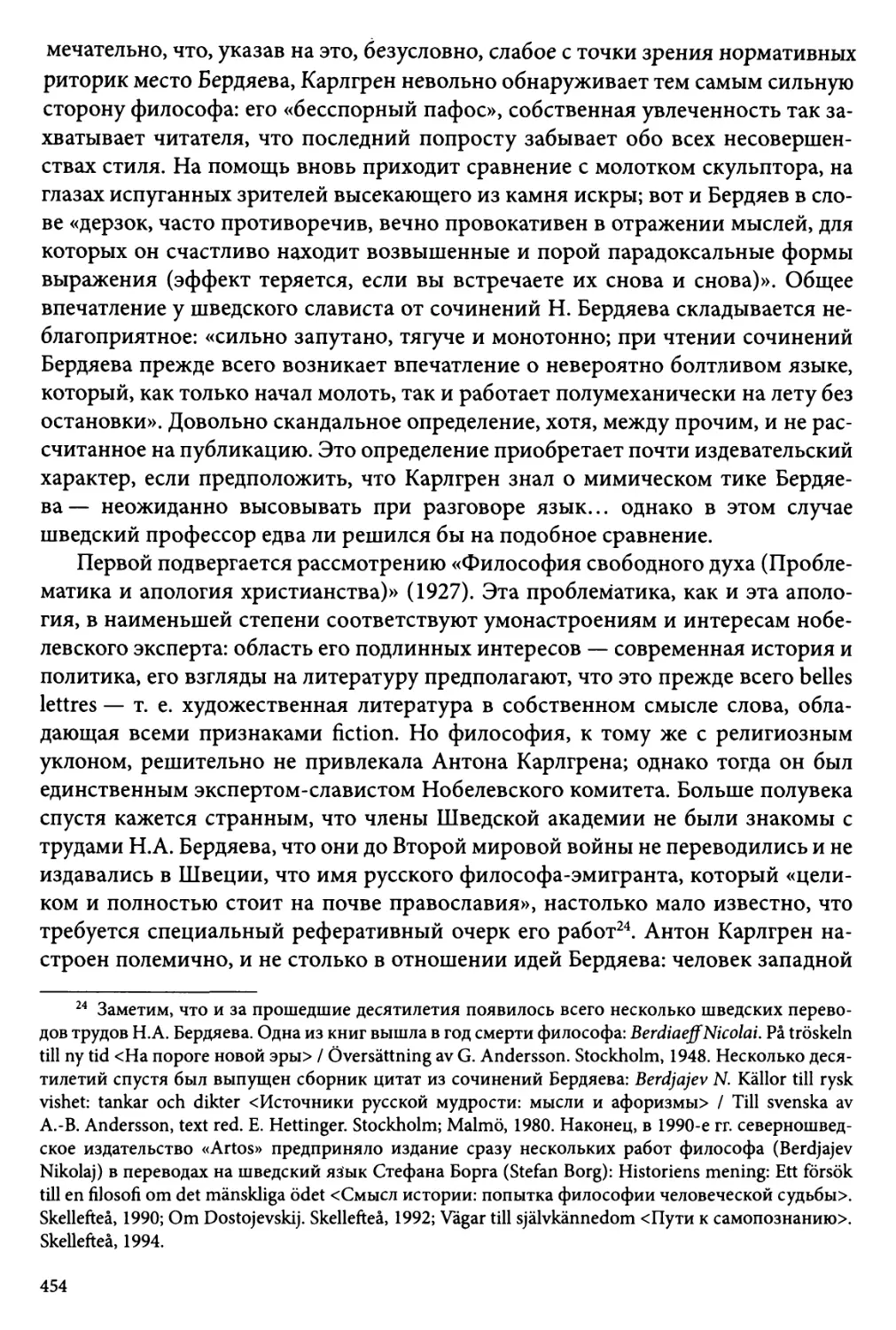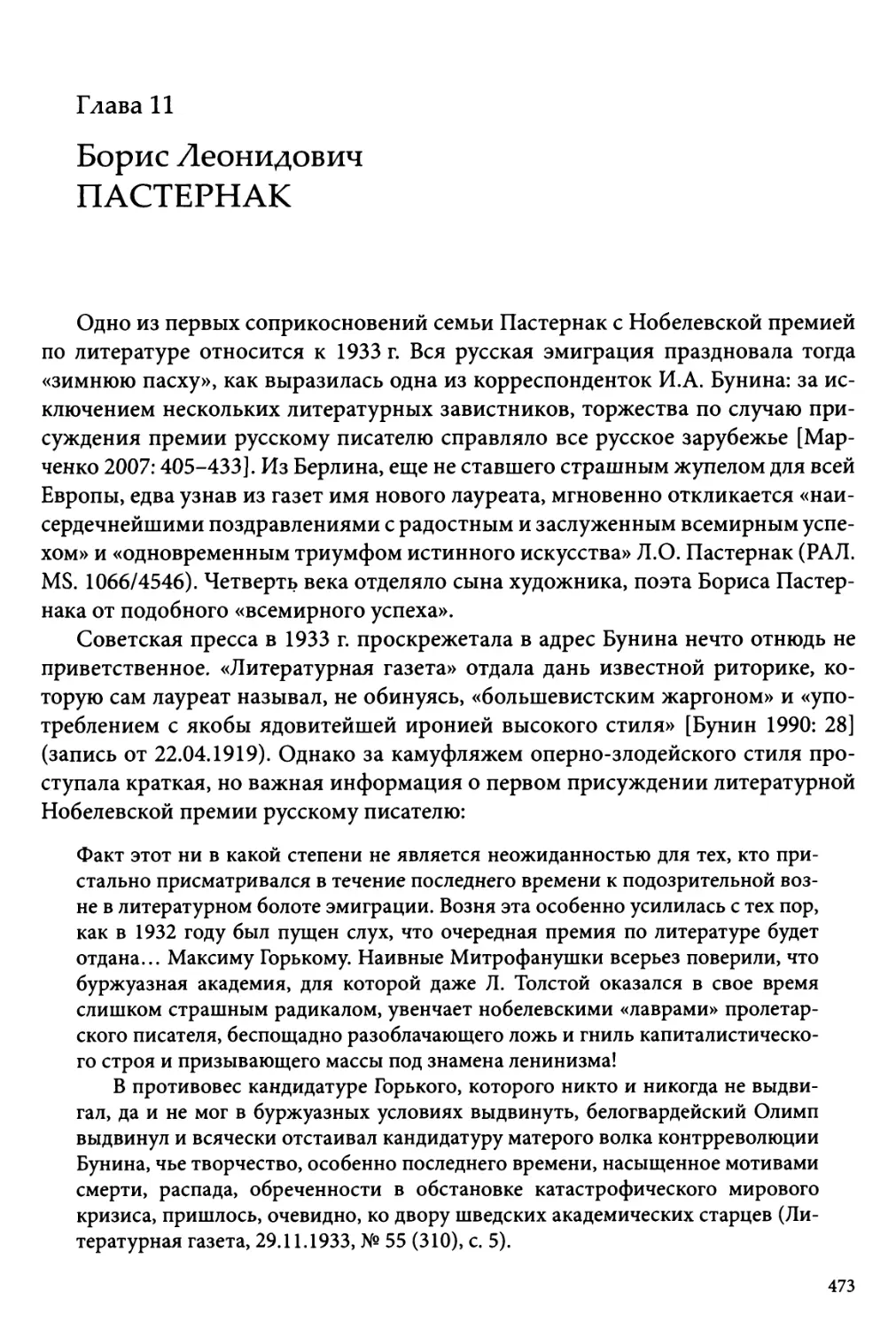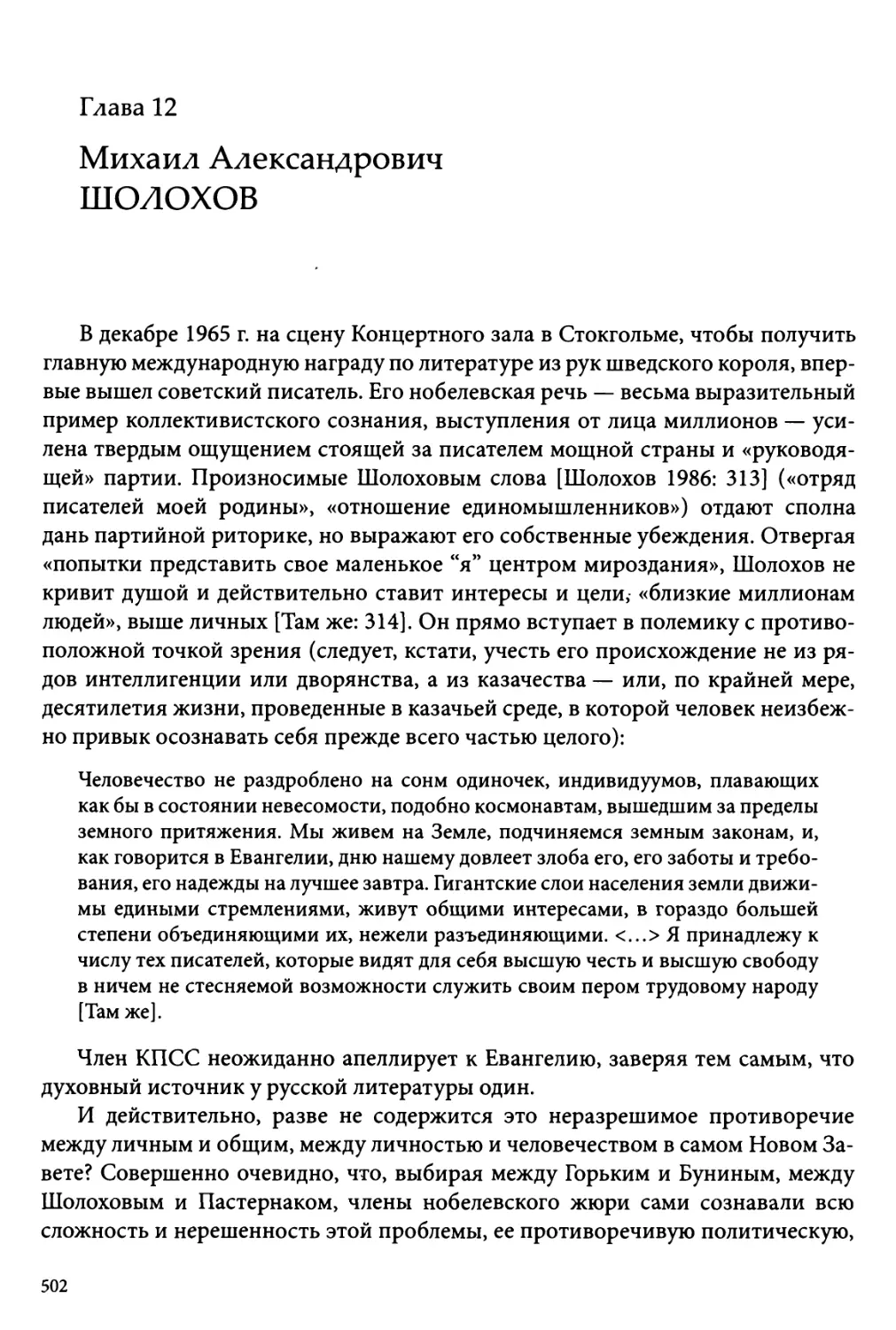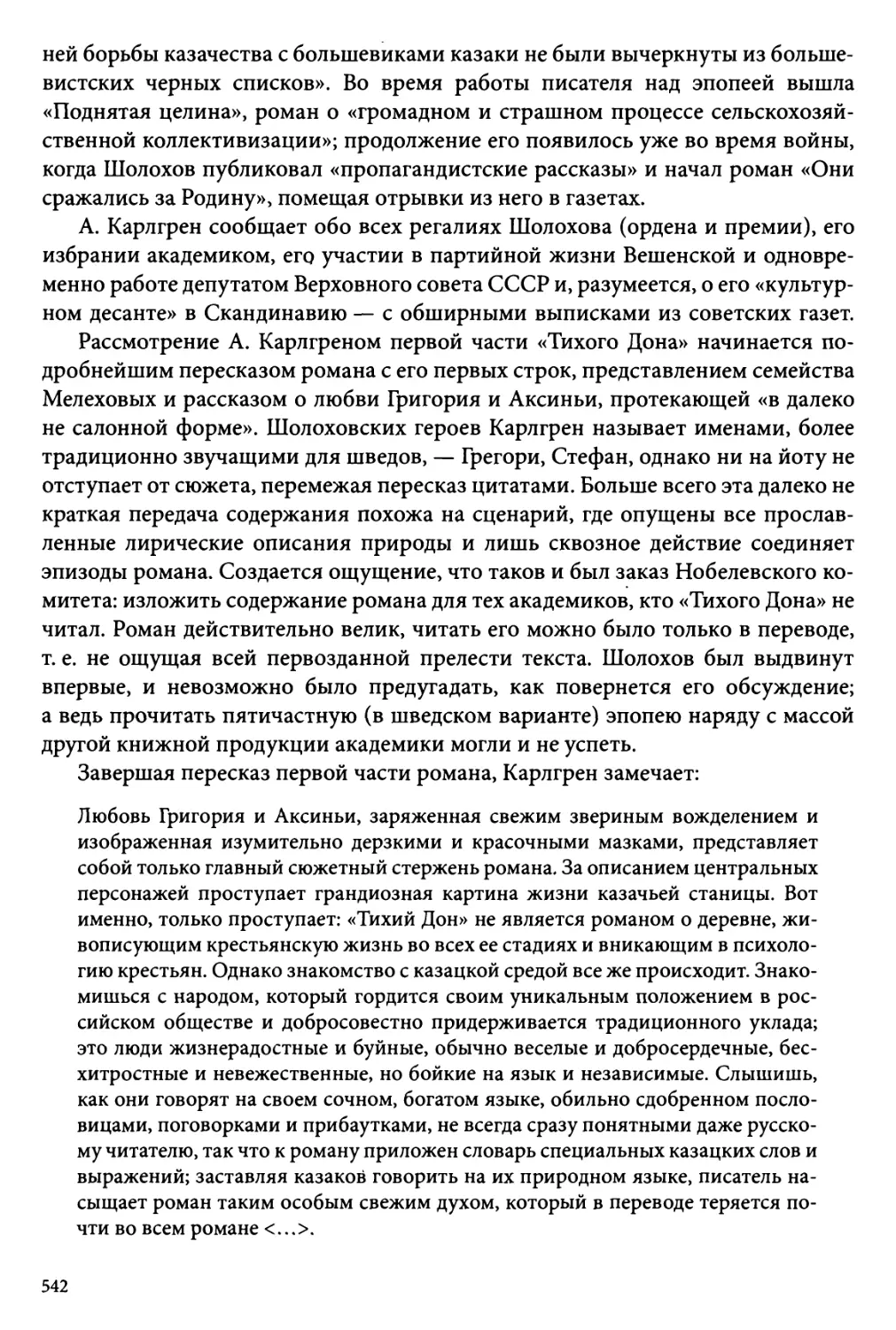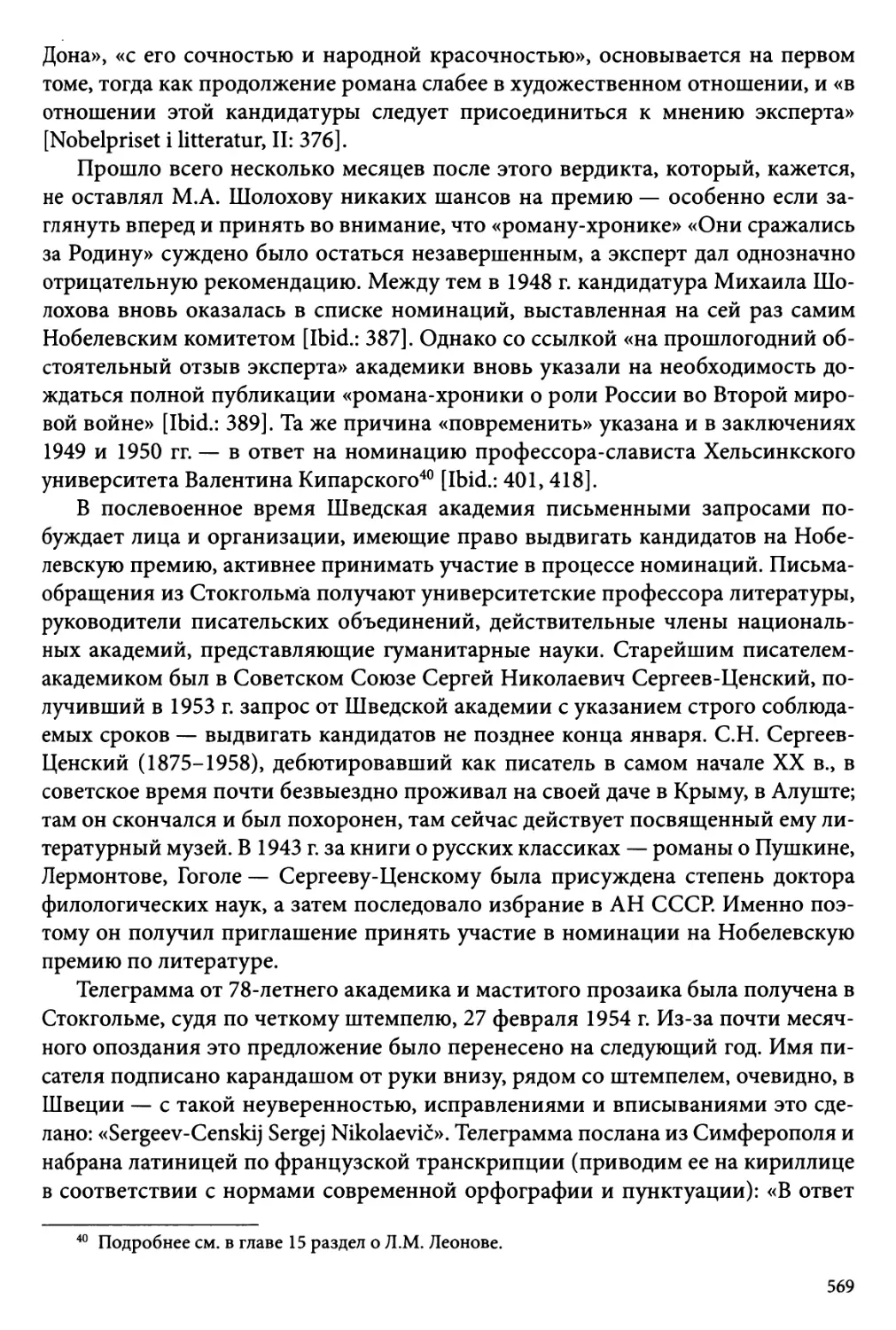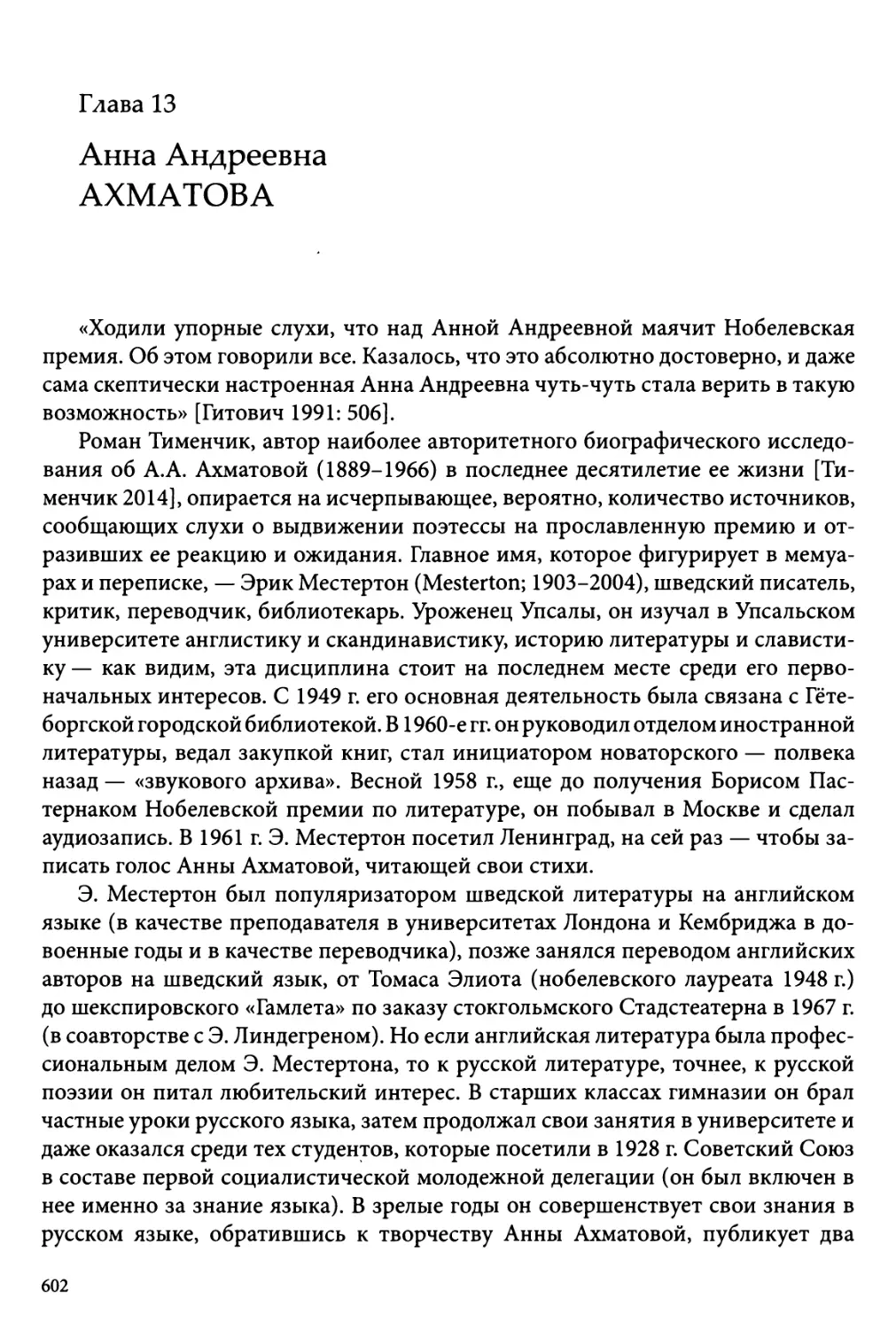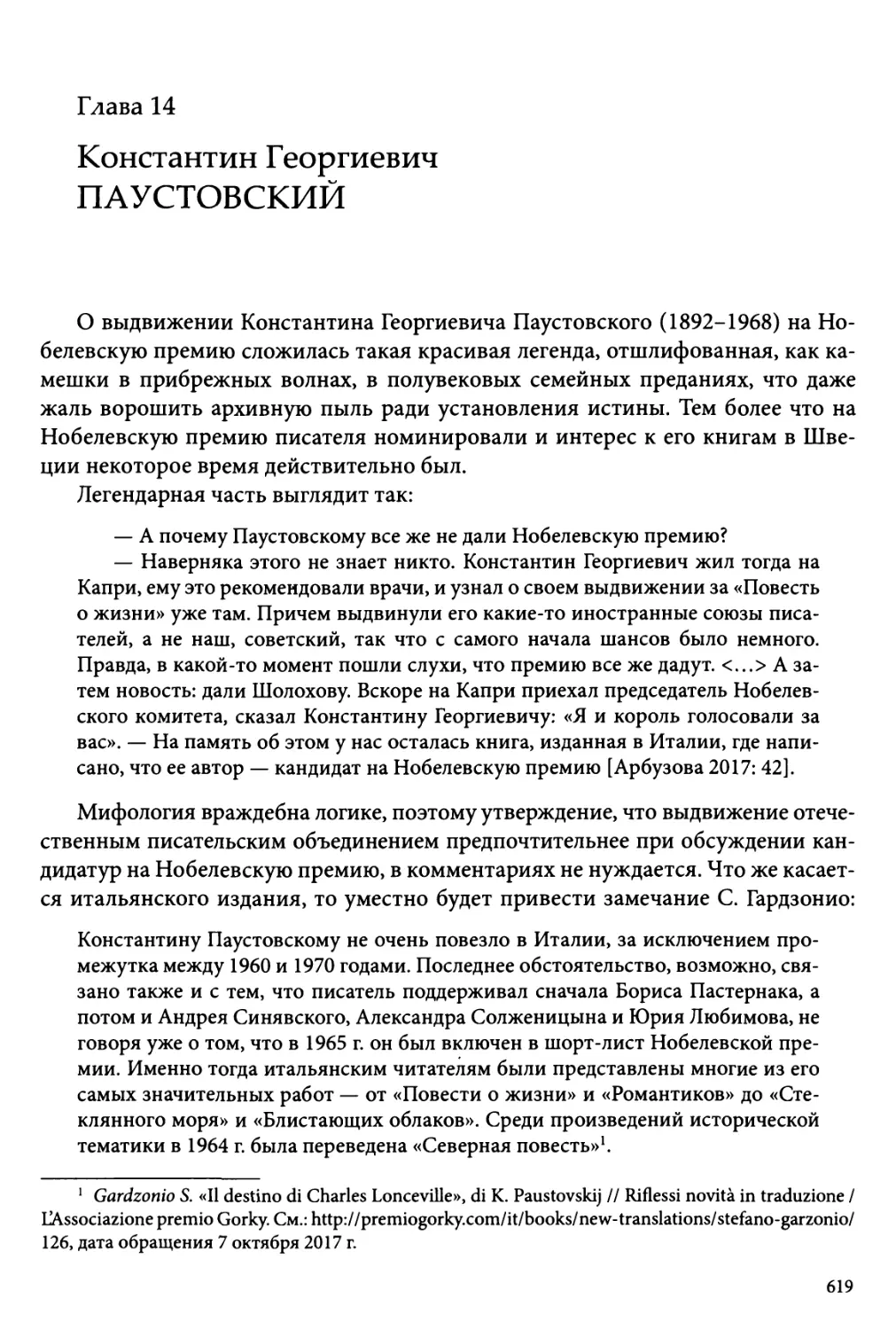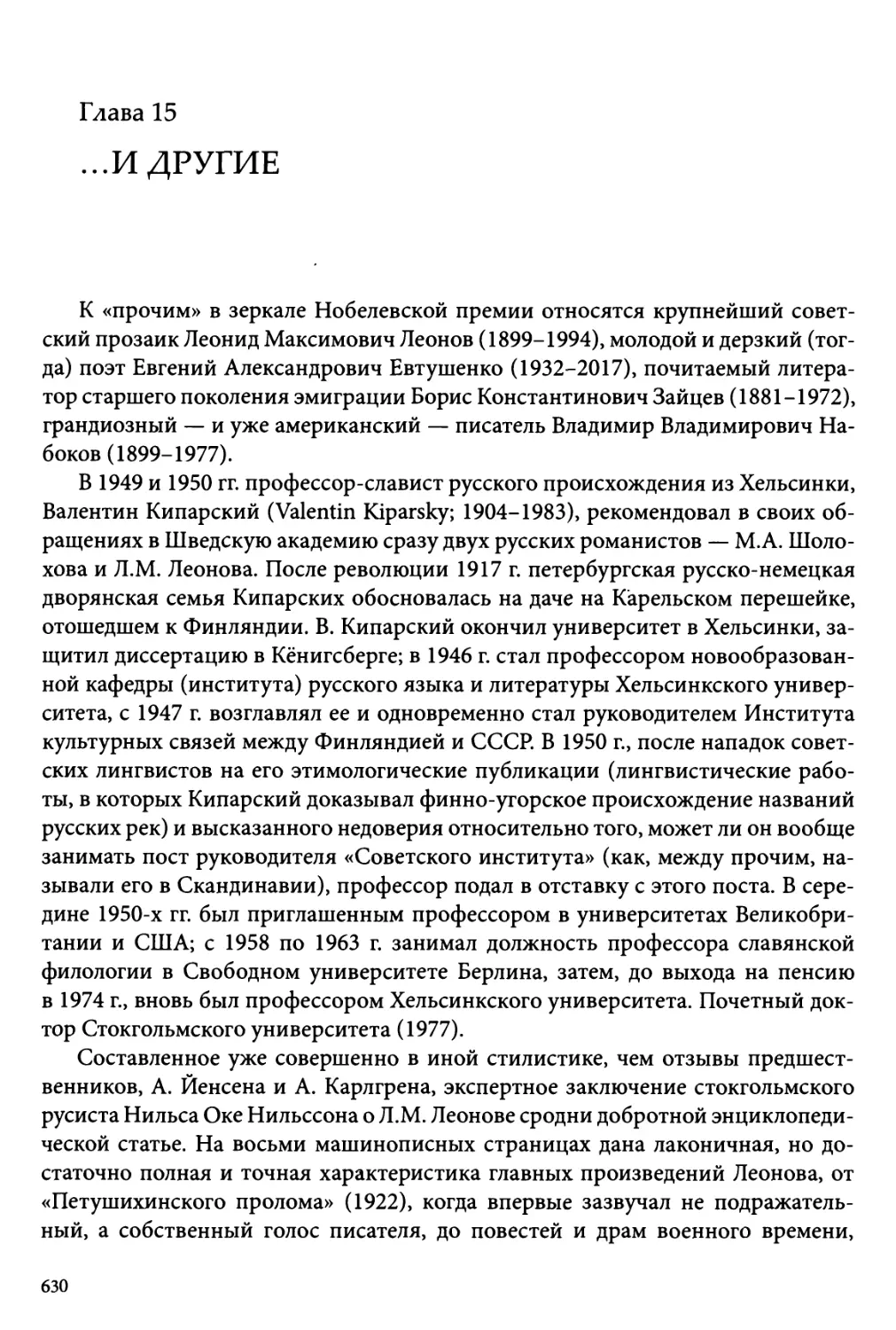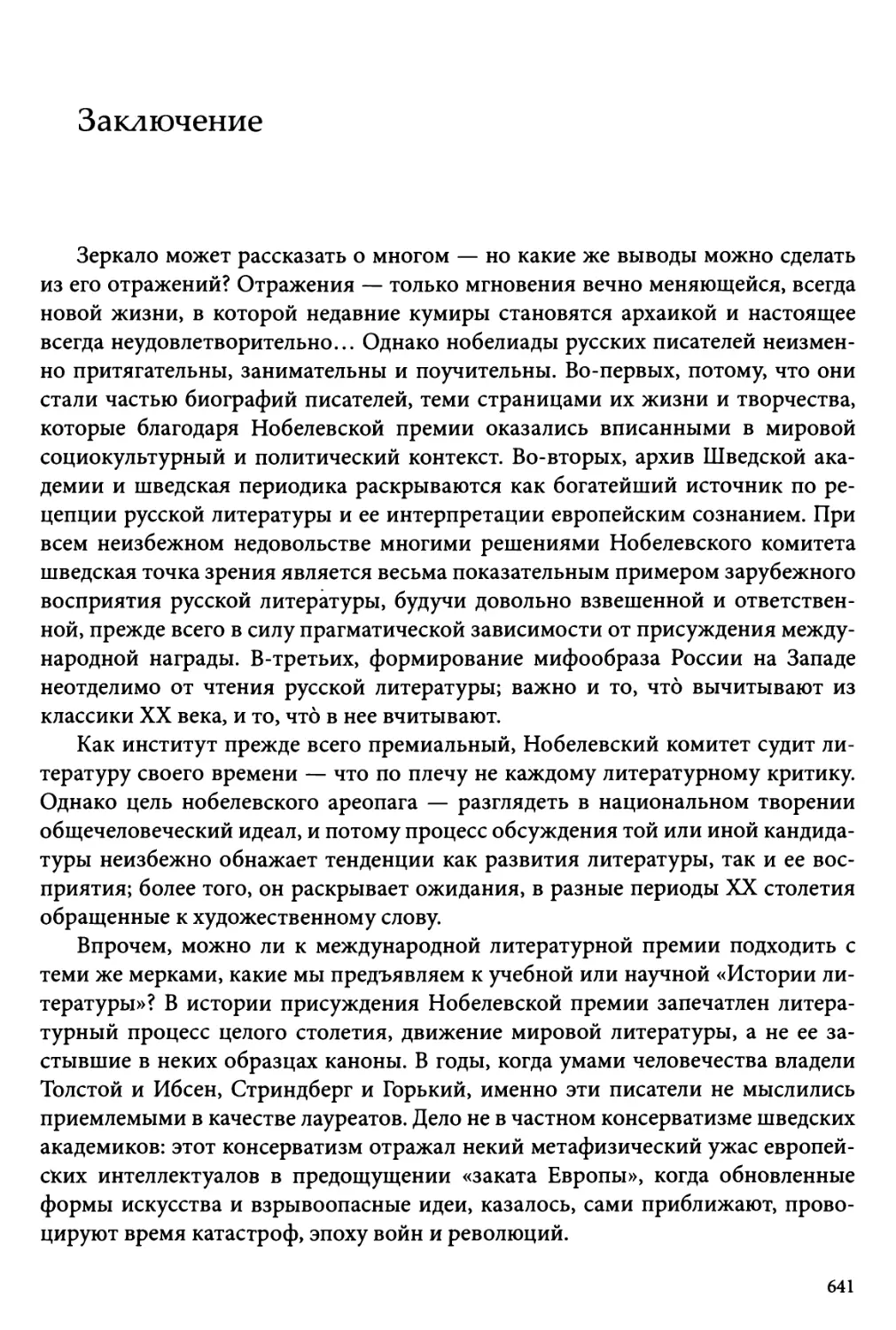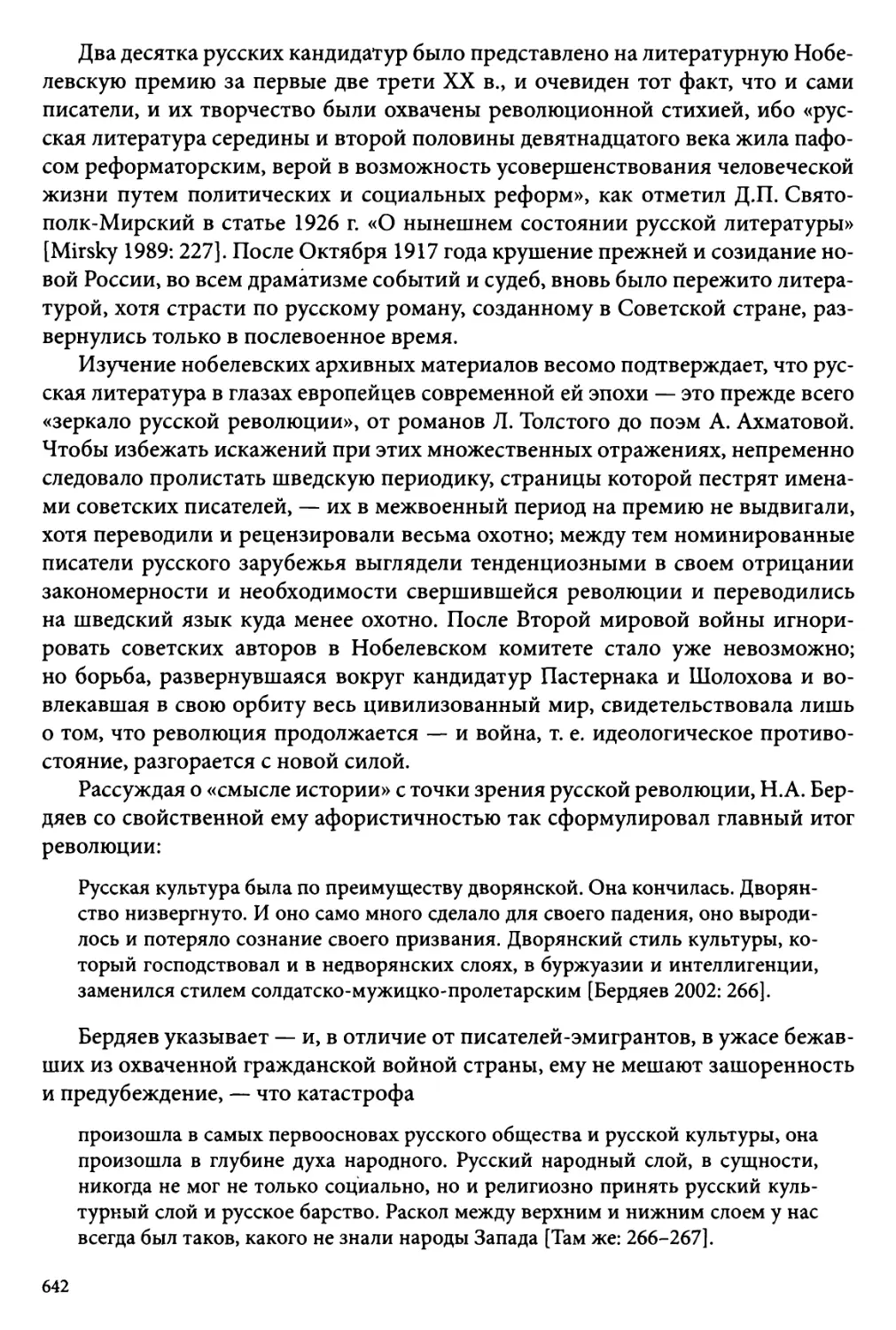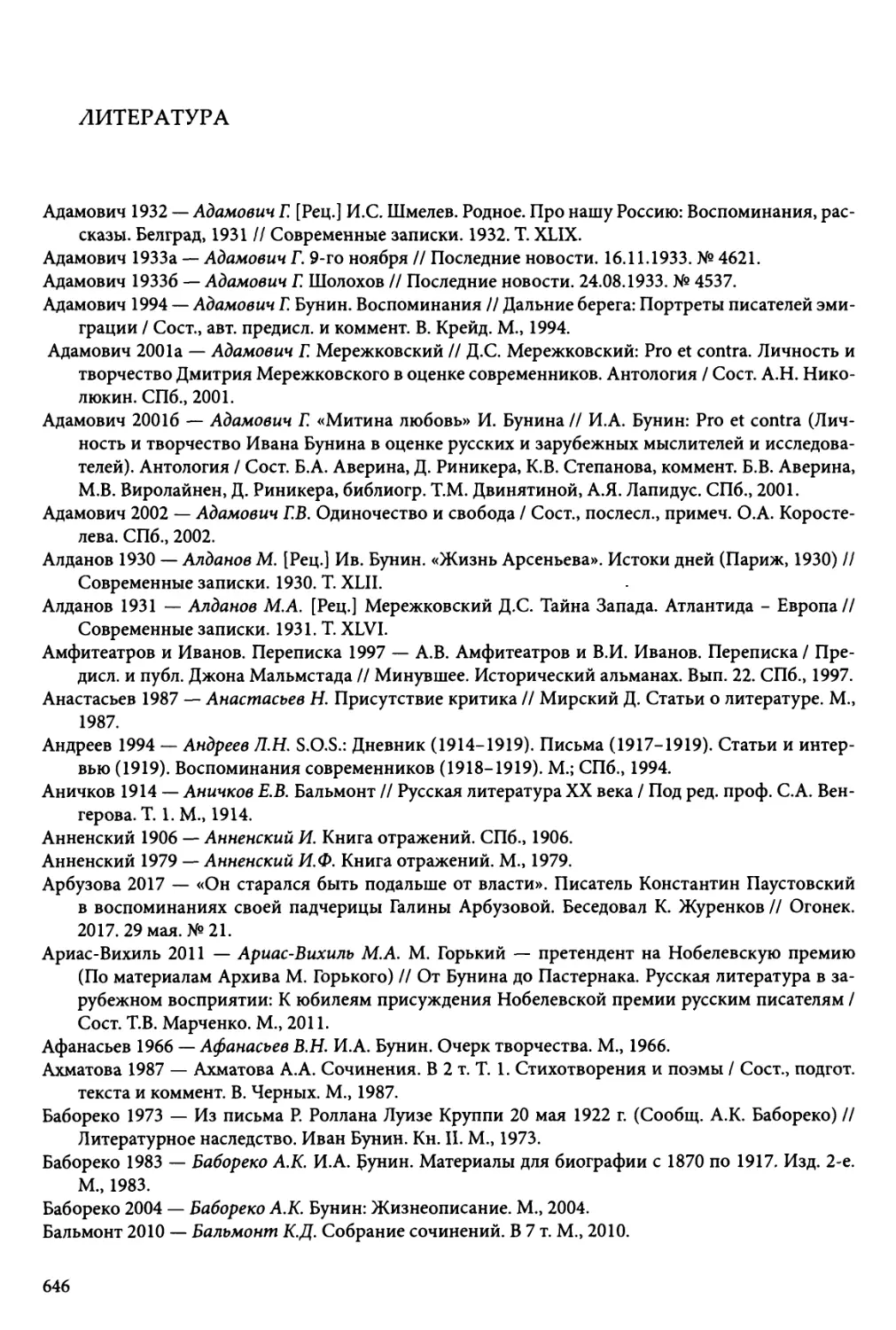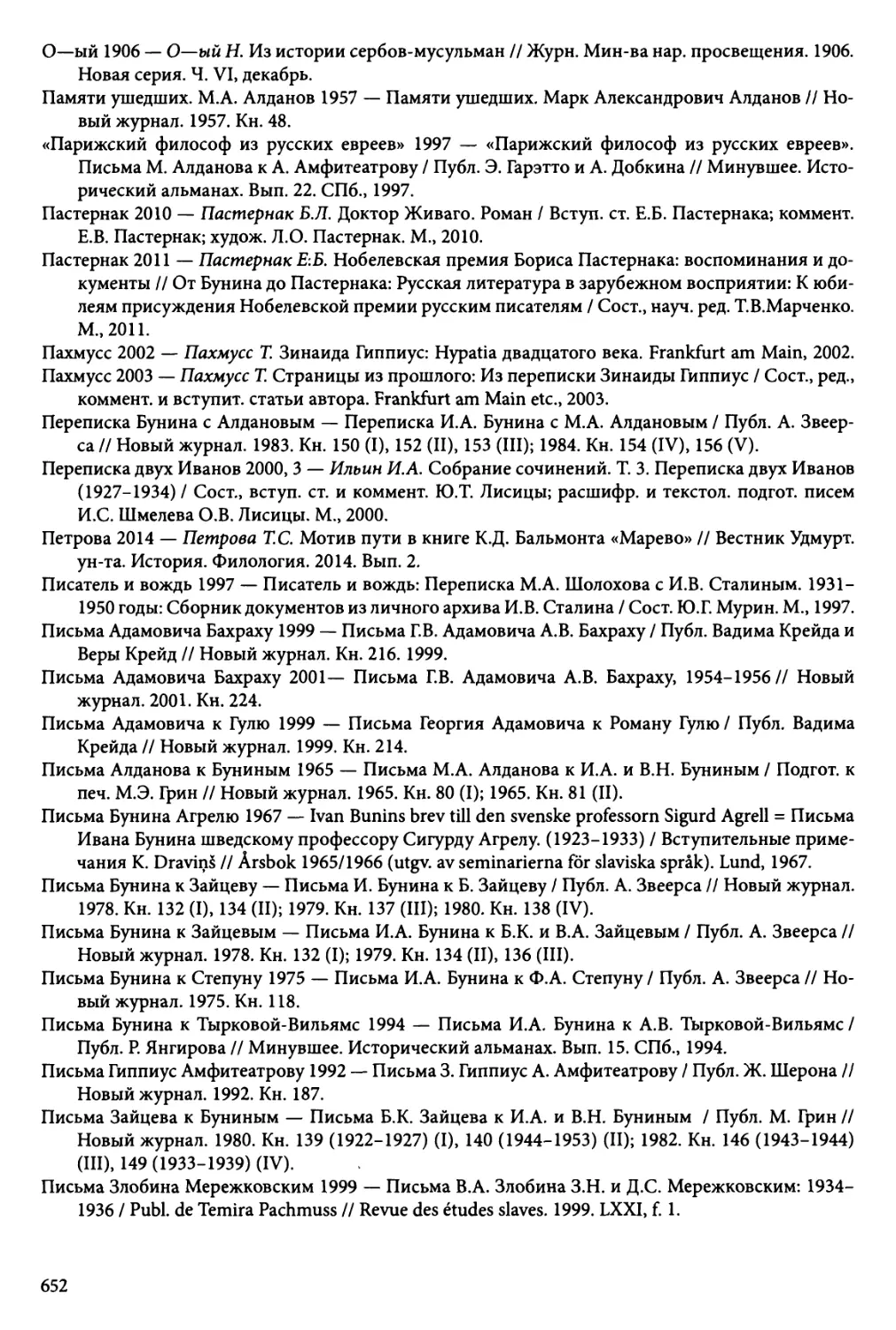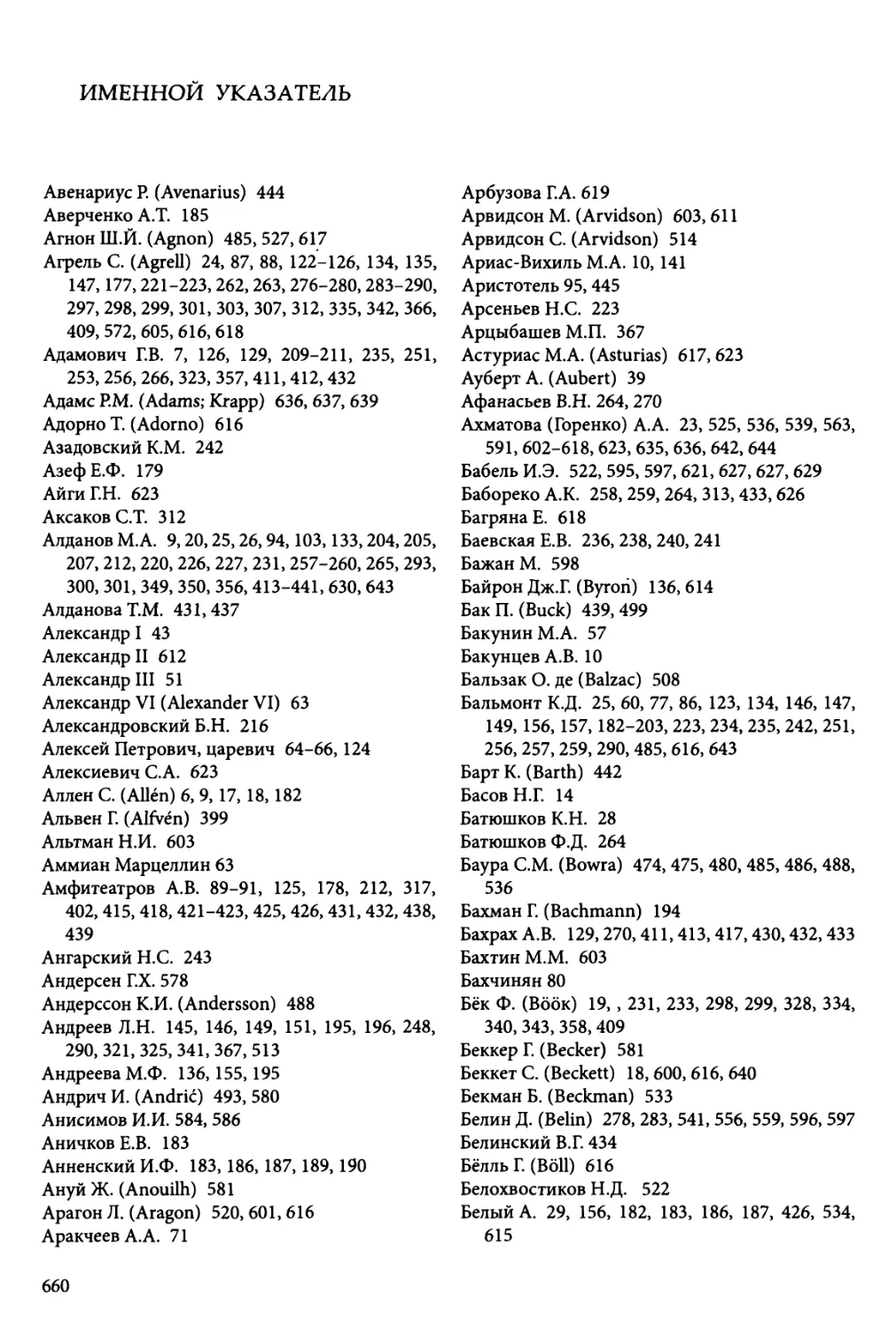Автор: Марченко Т.В.
Теги: русская литература фольклор фольклорист история
ISBN: 978-5-91172-159-6
Год: 2017
Текст
Русская классическая литература
в мировом контексте
Т. В. Марченко
Русская литература
в зеркале Нобелевской премии
Т.В. Марченко
Русская литература
в зеркале Нобелевской премии
Москва
Азбуковник
2017
Т.В. Марченко
Русская литература в зеркале Нобелевской премии. - М.: Издательский центр
«Азбуковник», 2017. - 671 с.
ISBN 978-5-91172-159-6
Начав свою деятельность с отказа увенчать великого Л. Толстого, Шведская академия
отметила престижной наградой лишь нескольких русских писателей. Первым стал И. Бунин,
эмигрант и апатрид; затем разыгралась настоящая драма с трагическими коллизиями,
отразившая столкновение двух систем и противопоставившая Б. Пастернака и М. Шолохова.
Среди отвергнутых — гении и знаменитости (М. Горький, Н. Бердяев, В. Набоков), целая
плеяда писателей русского зарубежья (К. Бальмонт, Д. Мережковский, И. Шмелев, М. Алданов,
Б. Зайцев, П. Краснов) и несколько советских авторов (Л. Леонов, А. Ахматова, К.
Паустовский). Архив Шведской академии (Стокгольм) открывается после пятидесяти лет хранения
документов, среди которых — письма-номинации, экспертные обзоры и финальные
протоколы заседаний Нобелевского комитета. На этих материалах 1901-1966 гг. с привлечением
шведской периодики и основана монография, открывающая некоторые неизвестные
страницы русской литературы и ее рецепции на Западе.
ISBN 978-5-91172-159-6 © Марченко Т.М., 2017
© Издательский центр «Азбуковник», 2017
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 5
Глава 1. Нобелевский комитет и его эксперты 12
Глава 2. Лев Николаевич Толстой 37
Глава 3. Дмитрий Сергеевич Мережковский 53
Глава 4. Алексей Максимович Горький 131
Глава 5. Константин Дмитриевич Бальмонт 182
Глава 6. Петр Николаевич Краснов 204
Глава 7. Иван Сергеевич Шмелев 221
Глава 8. Иван Алексеевич Бунин 256
Глава 9. Марк Александрович Алданов 413
Глава 10. Николай Александрович Бердяев 442
Глава 11. Борис Леонидович Пастернак 473
Глава 12. Михаил Александрович Шолохов 502
Глава 13. Анна Андреевна Ахматова 602
Глава 14. Константин Георгиевич Паустовский 619
Глава 15. ...и другие 630
Заключение 641
Литература 646
Именной указатель 660
Предисловие
Откликаясь на присуждение Нобелевской премии 1965 года, шведский
журналист Оке Янсон писал в статье «Академия сюрпризов», опубликованной в
одной из ведущих стокгольмских газет «Свенска дагбладет»: «Первым русским
писателем, удостоенным Нобелевской премии, был изгнанник из отечества
Иван Бунин. Другой <Борис Пастернак> достиг действительно большого
признания как поэт в родной стране, но, получив премию, был вынужден
отказаться от нее, выразив сильное разочарование строем и политической
несправедливостью. И вот, наконец, третий, Михаил Александрович Шолохов, облеченный
самым большим доверием властей предержащих и самый прославленный из
советских писателей» [Janzon 1965: 5].
Всего три русских писателя — нобелевских лауреата за период, который
можно проследить по архивным документам. И почти два десятка кандидатов
на премию от русской литературы за то же время. Избирательность, с какой
русские писатели в XX в. были номинированы на Нобелевскую премию, — не
говоря уже о том, как мало оказалось в России ее лауреатов, — разумеется, не
может дать ключа к верному и точному пониманию того живого,
многообразного организма, который носит название русской литературы и который
невероятно богаче всех премий и не может уместиться в прокрустово ложе
критических схем и литературоведческих построений. В то же время нобелевское
жюри, придерживающееся — во всяком случае, декларативно — объективности
в отборе и оценке литературных произведений, отражает в своих
предпочтениях и суждениях реальную картину восприятия Западом русских писателей.
Представляя этот «чужой» взгляд, отстраненный и «остраненный», мы никоим
образом не собираемся его абсолютизировать. Обращение к материалам,
раскрывающим восприятие и интерпретацию русской литературы иностранными
читателями, критиками, литературоведами на историческом отрезке от начала
до 60-х гг. XX в., позволяет, на наш взгляд, обнаружить не всегда заметные и
внятные русскому исследователю содержательные аспекты и формальные
парадигмы, важные для понимания особенностей развития русской литературы.
Дополняя материалы из архива Шведской академии мемуарно-критическим
наследием литературы русской эмиграции и публикациями в шведской периодике,
нам хотелось бы вычленить некоторые закономерности динамики русского
5
литературного процесса, указать на особенности прочтения русской
литературы зарубежным читателем и специалистом, попытаться выкристаллизовать
и проанализировать те критерии, которые легли в основу ее рецепции в
Западной Европе.
Феномен премии, если отвлечься от финансовой стороны, состоит в
изначальной установке на поиск произведения, принадлежащего к «мировым
ценностям», — высокая, но несколько наивная для гениального изобретателя и
удачливого биржевого игрока Альфреда Нобеля идея: его премия должна была
«служить во благо человечества»1. Жгучие проблемы «справедливости» или
«несправедливости» присуждения Нобелевской премии по литературе
(формулируемые, например, для первой трети ее векового существования как
«русская литература без Нобелевской премии, Нобелевская премия без Льва
Толстого»2) следует оставить публицистике. Отбор авторов и оценку их
произведений сквозь призму соответствия международной награде шведские академики
(ученые-гуманитарии и писатели) осуществляли на всем поле мировой
словесности XX века, отчего первостепенную важность приобретает вопрос о
характере ее рецепции. Однако русская литература не воспринималась как часть
общеевропейской литературы, а осмыслялась как неотъемлемый составной
элемент фундаментальной и неизменно животрепещущей проблемы «Россия и
Запад». Прочтение русской литературы нобелевским ареопагом и его
экспертами-славистами с точки зрения стереотипного подхода и одновременно его
преодоления отражено в архивных материалах Шведской академии, что
позволяет осуществить «обратное» прочтение и выявить особенности восприятия и
интерпретации комплекса «русский» (человек-народ-общество-менталитет) на
Западе на протяжении почти семи десятилетий XX века.
Помимо этой социокультурной задачи нобелевская тема позволяет
поставить некоторые собственно теоретико- и историко-литературные вопросы,
связанные как с феноменологией (русского) литературного процесса, так и
с проблемами стиля, жанра, образной структуры произведения. Зеркало
Нобелевской премии ни в коей мере нельзя назвать идеально соответствующим
истинной картине развития русской литературы. Однако оно позволяет
установить литературный канон, складывающийся в эстетике словесного
творчества в разные эпохи, определить соотношение идеологического и
мифологического в восприятии художественных текстов, наметить эволюцию
литературно-критической рецепции в исторической перспективе. Обсуждение
и выбор русского лауреата литературного «Нобеля» заставляет вновь
задуматься над вопросом о мировом значении русской литературы и/или ее провинциа-
лизации в XX веке.
1 Полный текст завещания А. Нобеля см. [Sohlman 1950; 1983]; с факсимильным
воспроизведением с необходимыми комментариями к его «литературной» части см. [Allen, Espmark 2001].
2 Формулировка И. Майер [Maier, Martjenko 2002: 173-174].
6
Об этом размышлял во второй половине 1930-х гг. Г.В. Адамович:
В истории русской литературы последних десятилетий есть один вопрос,
горький для нашего национального самолюбия, но настолько существенный, что
от него невозможно отделаться: как случилось, что мы от мировой роли опять
перешли на роль провинциальную? почему русская литература потеряла свое
всемирное значение? Многие, кажется, еще не отдают себе в этом отчета <...>.
Многие по инерции повторяют два волшебных имени: Толстой, Достоевский...
Но Толстой и Достоевский — это прошлое, и жить за их счет нельзя до
бесконечности. Настоящее же не то что бедно или убого, нет, но как-то захолустно,
несмотря на присутствие нескольких замечательных писателей. <...> И не в
том беда, что к русской литературе сейчас мало прислушиваются на Западе, —
это нас нисколько не должно бы смущать, — а в том, что в нашем собственном
ощущении провинциальность несомненна и заставляет даже скорей опасаться
иностранного внимания, чем искать его. <...> Русская литература как бы
потеряла свою гениальность, ей нечего сказать [Адамович 2002: 63-64].
Речь идет о литературе эмигрантской; до конца 1940-х гг. имена советских
писателей не появлялись в списке номинаций на Нобелевскую премию.
Характер ожиданий западного читателя, запечатленный в документах Нобелевского
комитета, и содержание русской литературы первой половины XX в. оказались
в очевидном противоречии, особенно обострившемся после раскола русской
литературы в 1917 году. Попытки осознания шведским премиальным
институтом и его экспертами-славистами феномена русской литературы в связи с
ее общественно-историческим развитием до и после революции дают
поистине бесценный материал по истории русского литературного зарубежья.
Но советская литература отражалась если не в нобелевском зеркале, то в
зеркале шведской периодики; ее переводили, читали, о ней спорили, ее авторам
прочили нобелевские лавры. Стереотипы восприятия собственной
национальной литературы, как правило, неизбежны; тем большую ценность
приобретают выводы и суждения носителей другого языка и культуры,
позволяющие разрушить многие штампы и откорректировать привычную ценностную
шкалу.
Имея в виду научные задачи предпринятого исследования, можно сказать о
заполнении малоизвестных страниц из истории русской литературы
минувшего века, о комментарии к тем мемуарам и письмам, в которых освещена или
лишь упомянута русская нобелевская сага, прежде всего связанная с именами
Бунина и Шолохова; некоторые привычные акценты оказываются расставлены
иначе. Узловые проблемы русской литературы XX века, взаимоотношения
традиции и новаторства получают особое освещение благодаря оригинальному
преломлению в зеркале Нобелевской премии.
Перипетии нобелевской закулисы томили неизвестностью не только
претендентов на знаменитую награду. Так, добрый знакомый Бунина, живший
в эмиграции в Финляндии потомок знаменитого географа В.П. Семенов-Тян-
7
Шанский в поздравительном письме 1933 г. не смог скрыть вполне законного
любопытства: «Очень было бы интересно узнать, как обсуждался вопрос о
присуждении Вам Нобелевской премии»3.
Время для раскрытия уже многих «нобелевских» тайн настало.
В основу настоящего исследования положены прежде всего материалы из
архива Шведской академии (Стокгольм) — института, присуждающего ежегодные
премии по литературе: письма-обращения в Нобелевский комитет академии с
выдвижением писателей на премию; ежегодные списки номинаций и ежегодные
протоколы финальных заседаний Нобелевского комитета с кратким
заключением по представленным кандидатам (иногда к общему протоколу прилагалось
«особое мнение» председателя комитета или кого-либо из его членов). По
крайней мере до конца 1960-х гг. (время, которым невольно ограничено наше
исследование) Нобелевский комитет заказывал «экспертизы» о творчестве
выдвинутых на премию писателей специалистам по национальным литературам.
В заключительных протоколах Нобелевского комитета, то пространных, то
весьма лаконичных, каждая писательская судьба поверяется на весьма
неточных весах неким литературным абсолютом эпохи, представления о котором у
членов Нобелевского комитета порой сильно различались; однако мнение
эксперта обычно имело первостепенное значение. Выносимый академиками
вердикт делает лауреата, безусловно, богатым и знаменитым; но к его подлинному
значению в истории мировой литературы нобелевскому жюри далеко не всегда
удается приблизиться.
Материалы архива Нобелевского комитета открываются каждый год по
истечении полувекового срока их хранения. Наша исследовательская работа с
архивными документами, связанными с историей выдвижения на премию
русских писателей (письма-номинации), их рассмотрением в обзорах
экспертов (sakkunings utlâtande — буквально «заключение знатока») по славянским
литературам и финальными решениями (протоколы заключительных
заседаний Нобелевского комитета), началась ровно два десятилетия назад.
Изначальный интерес вызвало присуждение награды Ивану Бунину (1933), первому
русскому лауреату Нобелевской премии по литературе и первому апатриду
из числа писателей — нобелевских лауреатов. Однако сразу выяснилось, что
богатые материалы архива дают возможность не только перелистать
некоторые страницы борьбы писателей-эмигрантов за престижную награду, но
3 РАЛ, MS. 1066/4975. Далее шифры цитируемых документов из этого архива обозначаются
в соответствии с каталогом: Heywood A.J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina, L.F. Zurov and
Ε Μ. Lopatina Collections. Ed. by R. Davies with the assistance of D. Riniker. Leeds, 2000, — где русская
аббревиатура означает название архива (РАЛ — Русский архив в Лидсе), а латинская с
комбинацией цифр после точки — соответственно коллекции Бунина (I.A. Bunin Collection, MS. 1066)
и Муромцевой-Буниной (V.N. Bunina Collection, MS. 1067); цифры после косой черты означают
номер единицы хранения.
8
и осмыслить историю русской литературы XX века через призму ее рецепции
западноевропейским сознанием. Еще шире и замечательнее: такое, по сути,
«маргинальное» событие в мировом историко-культурном процессе, как
ежегодное присуждение единственной международной премии по литературе,
неожиданно позволяет раскрыть разные стороны восприятия России на
Западе, особенности и даже истоки отношения к ее историческому пути и
духовным традициям.
Очерки экспертов-славистов по кандидатурам каждого номинированного
писателя, имеющие самостоятельную ценность с точки зрения рецепции
русской литературы, использованы нами в достаточно полном объеме. В ряде
разделов отзывы экспертов дополнены публикациями из шведской периодики
1930-х-1960-х гг. Поскольку главным «зеркалом» для русской литературы
XX века в аспекте присуждения Нобелевской премии служат материалы
архива Шведской академии, к русской дореволюционной, эмигрантской и
советской периодике мы прибегаем лишь изредка. То же касается и личных архивов
писателей. Впрочем, одно замечание здесь будет не лишним. Одним из
источников для нашей предыдущей монографии «Русские писатели и Нобелевская
премия. 1901-1955» [Марченко 2007] послужил архив И.А. и В.Н. Буниных,
хранящийся в университетской библиотеке г. Лидса (Великобритания). Однако
в возможности ознакомиться с рядом важных для нашего исследования
эпистолярных массивов, и в частности с письмами М.А. Алданова и И.С. Шмелева
И.А.Бунину, нам было отказано под предлогом подготовки этих материалов к
печати. С тех пор в рамках проекта «И.А. Бунин. Новые материалы» вышло три
тома, основанных на коллекциях указанного архива; тем не менее, кроме
недавней публикации [Двинятина 2017], никаких существенных материалов из
Русского архива, проливающих свет на Нобелевскую премию И.А. Бунина,
напечатано не было — в том числе и алдановских писем, бесценного источника по
литературе первой русской эмиграции.
За время нашего обращения к архиву Нобелевского комитета разрешение
на работу с материалами и их публикацию мы получали от нескольких
сменивших друг друга Постоянных секретарей Шведской академии: Стюре Аллена
(Allen; 1986-1999), Хораса Энгдаля (Engdahl; 1999-2009), Петера Энглунда
(Englund; 2009-2015) и Сары Даниус (Danius; с 1 июня 2015 г.). Почти все
единицы хранения были нам доступны в оригинале; последнее время, в связи с
возросшим интересом к архиву Шведской академии из-за перипетий с
присуждением премии советским писателям в 1950-1960-е гг., заведующая архивом
Мадлен Энгстрём Бруберг (Engström Broberg) предоставляет часть хранящихся
в нем документов в копиях.
Для работы с материалами архива Шведской академии автору трижды была
предоставлена стипендия Шведского института (Svenska institutet; 2003, 2005,
2008). Неоценима многолетняя поддержка немецкого Фонда им. Александра
фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung; 2003-2004, 2006, 2011, 2013,
9
2015); весь текст настоящей монографии набран на компьютерах, а архивные
материалы пересняты фотокамерой, которые были приобретены благодаря
щедрому дару этого фонда (2014). Отдельное спасибо за гостеприимство во
время Гумбольдтовской стипендии — профессору Института славистики Йен-
ского университета Андреа Майер-Фраатц. Наконец, обдумать концепцию
монографии, написать (собрав дополнительный материал из архива и
шведской периодики за три десятка лет) и издать ее позволил грант РГНФ (РФФИ)
№ 15-34-11035а (ц). На заключительном этапе работы автора еще раз
поддержали коллеги-слависты из Упсалы, где двадцать лет назад было написано наше
первое обращение в Шведскую академию с просьбой о доступе к архивным
источникам. 15 мая 2017 г. в Институте современных языков Упсальского
университета состоялась наша лекция о последних архивных разысканиях; за годы
дружеской и коллегиальной поддержки наша признательность профессору
Ингрид Майер бесконечна.
Двадцать лет исследование автора, связанное с выдвижением русских
писателей на Нобелевскую премию, вдохновляет и поддерживает Вадим Крысько,
скрупулезный и строгий редактор каждого выходящего из-под пера автора
текста; да и самой неизменно увлекательной темой автор обязан именно ему.
Его энциклопедические знания в историко-культурной и
литературно-языковой областях позволяли автору легко ориентироваться в именах и временах, его
стимулирующая и энергичная помощь бесценна.
На издание монографии «Русские писатели и Нобелевская премия»
откликнулось несколько зарубежных рецензентов, весьма лестно оценивших наши
разыскания: это К. Штайнке (К. Steinke; Informationsmittel (IFB): Digitales
Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft. 2007. H. 1 <swbplus.bsz-bw.de/bsz
264457390rez.htm>), В. Шлотт (W. Schiott; Die Welt der Slaven. 2008. H. 1. S. 188-
191), K. Kacnep (K.Kasper; Osteuropa. 2008. Jg. 58. Heft3. März. S. 163-165),
M. Дьюхерст (M. Dewherst; Slavonic and East European Review. 2010. Vol. 88. No. 3
(July). P. 542-544), которым мы — unbekannterweise — искренне признательны
за профессиональную поддержку. Автору приятно назвать имена коллег, с
готовностью делившихся своими знаниями в процессе подготовки книги,
и сердечно поблагодарить A.B. Бакунцева, М.В. Ефимова, Н.И. Герасимова,
М.А. Ариас-Вихиль, К. Дженсен.
С глубокой признательностью мы выписываем in memoriam имена тех,
кто помогал и поддерживал наше исследование на разных его стадиях, кто был
неизменно великодушен и благожелателен, но этой книги, увы, уже не увидит.
Это академик Г.М. Бонгард-Левин (1933-2008) и профессор emeritus
Упсальского университета Свен Густавссон (Sven Gustavsson; 1938-2013).
Несколько необходимых пояснений.
Для библиографических отсылок используются квадратные скобки
(полный список литературы приведен в конце монографии), для всех прочих
ю
нужд — угловые скобки: в них помещаются отсутствующие, но требующиеся
по смыслу слова, уточнения от автора, а также пропуски в цитатах,
обозначаемые отточиями.
В архиве Шведской академии нет шифров с указанием фондов и единиц
хранения, поэтому при цитировании нобелевских материалов указывается лишь
источник, откуда почерпнута цитата. Рабочий язык Нобелевского комитета —
шведский (списки номинаций, протоколы, экспертные отзывы), номинации
были написаны на главных иностранных языках — французском, английском,
немецком. Все иноязычные источники цитируются в нашем переводе на
русский язык.
Глава 1
Нобелевский комитет и его эксперты
Обязанности по выбору ежегодного лауреата Нобелевской премии в
области литературы возложены на Шведскую академию (Svenska akademien)1.
Шведская академия была основана королем Густавом III в 1786 г.; целью ее создания
и основным направлением деятельности было изучение шведского языка,
составление словарей и написание грамматики — схожие цели в отношении
русского языка преследовала Российская академия, созданная Екатериной II на три
года раньше — и тоже по образцу Французской. В отличие от Шведской
королевской академии наук (Kungliga vetenskapsakademien), Шведская академия
связана исключительно с гуманитарными сферами знаний. Волею короля состав
академии должен был ограничиваться числом восемнадцать, причем
тринадцать членов назвал он, а пять остальных академики должны были выбрать сами.
Замечательно, что век спустя именно на таком количественном соотношении
академики остановились, вырабатывая статус Нобелевского комитета: в него
входят пятеро из восемнадцати академиков. Уникальной особенностью
Шведской академии оказалось отсутствие приставки «королевская», столь обычной
в Королевстве Швеция.
Густав III позаботился и о том, чтобы обеспечить независимость Шведской
академии от правительства. Независимость деятельности академии и свобода
мысли ее членов зиждились с самого начала на собственных источниках дохода;
риксдаг (шведский парламент) не финансировал академию — и не мог
вмешиваться в ее дела. Членов Шведской академии не величают «бессмертными», как
во Французской академии, им не присуждают особых титулов или иных
отличий — это достаточно демократический институт. Среди шведских академиков,
которым принадлежит честь и ответственность быть членами Нобелевского
1 Работая над нашей первой книгой, посвященной Нобелевской премии, мы сочли
необходимым подробно рассказать о личности Альфреда Нобеля и о его завещании, о Шведской
академии и ее членах конца XIX в., которым пришлось разрабатывать процедуру присуждения
Нобелевской премии по литературе, учитывая возможные трудности и тонкости. За двадцать лет
главным источником информации стала Всемирная паутина; наша монография 2007 г. также
частично выложена в интернете (https://domrz.academia.edu/TatianaMarchenko/Monographs). В ней,
как и на множестве сайтов, в том числе и Шведской академии, можно почерпнуть сведения,
которые прежде приходилось собирать по крупицам в шведских и иноязычных изданиях. Тех
читателей, кто интересуется именами и подробностями, отсылаем к первой главе («Нобелевский
миф») нашей монографии [Марченко 2007].
12
комитета, есть писатели и ученые-гуманитарии, в основном литературоведы,
реже историки, но их известность, как правило, не выходит за пределы
отечества. Выдающийся смысл премии, учрежденной Альфредом Нобелем, состоял
не в том, что в ее основание лег невиданный дотоле капитал. Нобель впервые
предложил оценивать не просто деятельность гражданина на пользу
собственной страны, а творческий труд любого талантливого жителя Земли —
может быть, гения, великим достижениям которого обязано все человечество. Так
Шведская академия, решавшая сугубо национальные задачи, по воле Альфреда
Нобеля внезапно оказалась в центре внимания мировой общественности после
того, как с первого года XX в. ей пришлось взять на себя миссию по
присуждению ежегодной Нобелевской премии по литературе.
Согласно Уставу Нобелевского фонда, номинации должны поступить в
соответствующие Нобелевские комитеты не позднее 1 февраля. К сентябрю
члены Нобелевского комитета готовят заключение по каждой из кандидатур, и в
октябре-ноябре, после голосования, академики называют имя лауреата
Нобелевской премии по литературе. В течение года им вменяется в обязанность
чтение — прежде всего номинированных авторов (которых может быть и более
сотни, а разноплановые в жанровом отношении произведения не ограничены
объемом) и критической литературы о них. Выдвинутых на премию кандидатов
члены Нобелевского комитета постоянно обсуждают между собой, не делая
друг для друга тайны из своих предпочтений — в конце концов, выбор должен
оказаться как можно менее субъективным, — а также обсуждают с другими
академиками по четвергам на заседаниях Шведской академии. Прежде чем
будет сформулировано ее ежегодное решение, примерно до конца лета, члены
Нобелевского комитета должны максимально сузить число фаворитов. От
дискуссии к дискуссии — чаще это письменный обмен мнениями — становится
очевидным, творчество кого из кандидатов на Нобелевскую премию
обсуждалось чаще всего и кто, таким образом, имеет наиболее реальные шансы на ее
получение. Список из многих десятков кандидатур сужается до нескольких
(чаще трех) имен. В голосовании принимают участие все члены академии —
они могут это сделать и письменно, т. е. им необязательно присутствовать
лично, но в выборе лауреата они должны участвовать непременно. Лауреатом
становится писатель, за которого отдано не менее двух третей голосов.
Итак, каждый год в октябре-ноябре газеты всего мира публикуют
сообщение о выборе Шведской академией нобелевского лауреата. На церемонии
вручения Нобелевской премии, неизменно проходящей 10 декабря, в годовщину
смерти ее учредителя, Альфреда Нобеля, один из членов Шведской академии
представляет нового лауреата премии по литературе, который получает из рук
короля золотую медаль, диплом с кратким обоснованием присуждения премии
и денежный чек. Сведения о нобелевских лауреатах и мотивировки их
награждения публикуются в «Календаре Нобелевского фонда», выходящем раз в два
года; а ежегодники «Les prix Nobel» содержат речи нобелевских лауреатов,
13
их биографии и представление их на нобелевской церемонии2. Почти в
каждой стране выходят серии книг, включающие сочинения нобелевских лауреатов
по литературе; с начала 90-х гг. такие серийные издания стали печататься и
в России.
Невозможно проигнорировать тот факт, что за долгие десятилетия своего
существования Шведская академия не сумела наделить Нобелевский комитет
по литературе такими качественными признаками, как безупречный вкус и
верное понимание тенденций развития мировой литературы. Стоит упомянуть
о впечатлении, которое сложилось о Нобелевской премии по литературе у
советских физиков — лауреатов премии, приглашенных в 1975 г. на юбилейные
торжества в Стокгольм. Так, И.М. Франк не мог отделаться от ощущения, что
члены комитетов по естественным наукам относятся «к комитету по
литературе с некоторым юмором» [Блох 2001: 385]. А Н.Г. Басов заметил: «Там над
премиями за литературу язвят, подшучивают» [Там же: 387].
Полвека право номинации принадлежало, согласно выработанным
правилам, членам Шведской академии и сходных с нею по типу и целям Французской
и Испанской академий (т. е. «академикам изящной словесности»), членам
«гуманитарных секций других академий», а также членам таких гуманитарных
институтов и обществ, которые обладают тем же рангом, что и академии
«изящной словесности», и университетским профессорам эстетики, литературы и
истории. Со временем этот круг рекомендателей стал восприниматься как
слишком узкий, и в 1949 г. правительством были одобрены новые правила,
согласно которым выдвигать кандидатуры на Нобелевскую премию могут не
только члены различных академий и обществ, сходных со Шведской академией
по уставу и целям, но и профессора истории литературы и лингвистики
университетов и университетских колледжей, лауреаты Нобелевской премии по
литературе прежних лет и руководители писательских объединений,
представляющие литературу своих стран, а также национальные ΠΕΗ-клубы.
Случается, однако, всякое. Многолетний председатель Нобелевского комитета Андерс
Эстерлинг назвал «трагикомической» коллекцией нобелевского архива
«недействительные номинации», в частности, самовыдвижение на премию или
послания жен [Österling 19726: 89], а издавший нобелевские материалы секретарь
Шведской академии Бу Свенсен (Svensén) привел пример, когда одно лицо,
воспользовавшись реальным именем и псевдонимом, выступило сразу в обеих
ролях — кандидата на премию и выдвигающего на нее [Nobelpriset i litteratur,
I: XIX).
В 1902 г. при Шведской академии был образован Нобелевский институт,
который составили специалисты по национальным литературам, в чьи обязан-
2 В России эти материалы опубликованы в издании: Лекции и речи лауреатов Нобелевских
премий в русских переводах, 1901т-2002. СПб., 2003. Специально созданный издательский центр
«Нобелевские лекции на русском языке» осуществил в 2006 г. одноименный многотомный
проект.
14
ности входил обзор иностранной периодики, касающейся литературных
вопросов, и написание регулярных отчетов о текущем литературном процессе.
Как сказано в параграфе 1 инструкции, на сотрудников Нобелевского
института возложена подготовительная работа, необходимая для выбора нобелевского
лауреата. Для получения более полной и объективной информации о
выдвинутых на премию писателях Нобелевский комитет привлекает
квалифицированных экспертов по национальным литературам. Первую четверть века
экспертом Нобелевского комитета по славянским литературам был Альфред Йенсен,
а в 1923 г. его сменил Антон Карлгрен, занимавший этот пост следующую
четверть века. В 1950-е гг. к экспертизе подключили Нильса Оке Нильссона, а затем
стали приглашать и других шведских славистов.
Однако роль нобелевских экспертов, столь важная и незаменимая в первые
десятилетия присуждения премии, в настоящее время практически сошла на
нет: теперь обязанности по рецензированию творчества выдвинутых на
премию писателей перешли к работникам Нобелевской библиотеки при Шведской
академии, сотрудники которой готовят своего рода досье на номинированных
литераторов, учитывая многообразную и многоязычную критику; впрочем, от
привлечения специалистов по национальным литературам для консультаций
комитет не отказывается. Уже в первые годы XX в. одним шведским
математиком было подсчитано,, «что каждый год Академия может ожидать
поступления 19 тысяч разных книг для рассмотрения, простое хранение которых
потребовало бы 23 складских помещения и 292 работника, которые по три
месяца ежегодно занимались бы по семнадцать часов в день только их
складированием» [Österling 19726: 89]. Хотя это не более чем остроумная
гипербола, библиотека Шведской академии действительно богата своими фондами,
неуклонно пополняющимися.
Одна из главных трудностей, с которыми столкнулись академики, состояла
в необходимости верно истолковать пожелание А. Нобеля — удостаивать
премии автора, «который в течение истекшего года» «создаст в литературе <нечто>
выдающееся в идеальном (idealisk) направлении». Термин «литература» был
уточнен довольно легко: под ним академики согласились понимать не только
художественные произведения, но сочинения, написанные в любом жанре и
форме и имеющие несомненные художественные достоинства. Спорным
показался краткий период, но нарушить требование отмечать «произведение года»3
оказалось много проще, чем правильно истолковать гораздо более туманное
определение «идеальное направление». То, что «идеальный» отнюдь не
равнозначно понятию «идеалистический», великому Августу Стриндбергу было
очевидно уже в 1901 г. [Allen 1993: 20].
3 Эта часть формулировки завещания оказалась более чем актуальной при обсуждении
«Тихого Дона» М.А. Шолохова — через много лет после выхода эпопеи о донском казачестве — и
«Доктора Живаго» Б.Л. Пастернака, готовность увенчать которого была выражена немедленно
после выхода романа; итальянский язык перевода, а не русский оригинала, согласно Уставу,
никакого значения для выбора не имел.
15
Человек практичный и практический, Нобель задумывался о перспективах
развития человечества, трезво понимая, куда оно может зайти, и потому
полагался на тех писателей, которые могли бы указать людям верный путь —
«идеальное направление». «Альфред Нобель хотел хороших людей, академия
хотела хорошей литературы», — остроумно замечает современный шведский
коллега Нобеля, химик и научный директор нобелевской промышленной
корпорации «Ека» Нильс-Йоста Ваннерберг (Vannerberg). Профессор химии
пишет в статье «Нобелевская премия. Завещание короля динамита»:
Наверняка он <А. Нобель> думал не о литературе для воскресных школ. Тот
тип литературы, который он имел в виду, наверное, близок «Хижине дяди
Тома» <...>. Не так уж значительно в литературном отношении, но, вероятно,
именно то, что «в течение истекшего года» оказало бы влияние на человечество
«в идеальном направлении» (Svenska dagbladet, 10.12.1999. s. 2).
Однако задачи по исправлению человечества вовсе не входили в намерение
Нобеля. В чем же состояла его подлинная цель?
В одном из писем сам Нобель шутливо назвал себя «суперидеалистом,
этаким бесталанным Рюдбергом» [Schuck, Sohlman 1929:193]4. «Идеальная
направленность», о которой Нобель написал в своем завещании, долгое время играла
злую шутку с академиками — членами нобелевского жюри первых лет его
существования. Они прекрасно понимали значение мировых знаменитостей,
выдвинутых на премию, — и подчинялись букве завещания. Один из ныне
здравствующих членов Шведской академии Шелль Эспмарк в книге «Премия по
литературе», выпущенной к ее столетнему юбилею, опираясь на архивные
материалы, в том числе на неопубликованную переписку членов Нобелевского
комитета разных лет, пытается проследить феноменологию знаменитой
международной награды, в процессе присуждения которой ему самому приходилось
принимать участие [Espmark 2001]. Ш. Эспмарк подробно описывает «долгий
поиск точного смысла неясной формулировки завещания»: сколько сил было
затрачено на истолкование определения idealiskl
Эстетические воззрения, господствовавшие в начале XX в. среди наиболее
авторитетных шведских академиков, заставили принять версию
«идеалистического направления» в литературе — что, разумеется, к этому времени уже
звучало очевидным анахронизмом. Переформулировать сакраментальное
пожелание попытался А. Эстерлинг, предложивший толковать нобелевское
определение как синоним «позитивной и гуманистической тенденции» в
литературном произведении:
Человеческие ценности могут быть представлены столь разными способами и
в столь различных формах — косвенно или в споре, через иронию или сати-
4 Виктор Рюдберг (Rydberg; 1828-1895) — шведский писатель и историк культуры, поздний
романтик.
16
py, — что простой термин «идеалистический» стал совершенно косным
определением [Österling 1972a: 90].
Позже писатель А. Лундквист, продолжая эту мысль, прямо назвал
«идеальную направленность» гуманизмом, имея в виду, впрочем, не только собственно
литературную продукцию, но личность писателя в целом (Svenska dagbladet,
5.12.1993, s. 20)5. Наконец, Т. Сегерстедт, автор исследования «Шведская
академия и современность» (Т. Segerstedt. Svenska Akademien i sin samtid: En idéhistorisk
Studie. Del III. Stockholm, 1992), предлагает сравнить относящуюся к литературе
формулировку с пожеланиями в области естественных наук и считает, что
Нобель хотел вдохновить писателей на создание «живого и привлекательного»
идеала; тем самым, замечает Стюре Аллен, изобретатель динамита предстает
в образе «радикально-этического идеалиста» (Svenska dagbladet, 5.12.1993, s. 20).
С. Аллен первым обратил внимание на исправления в автографе завещания,
сделанные рукой Нобеля. «Я предпринял некоторые разыскания,
собственными более или менее невооруженными глазами приближаясь к первоначальному
написанию, — признается академик, — но оно расплывалось и вскоре
заставило меня обратиться к криминалистической экспертизе». С помощью некоторых
оптических методов пришедший на помощь академику криминалист сумел
прочесть первоначальное слово: idealirad (или idealerad). Такого слова нет в
шведском языке, что дало С. Аллену право сделать предположение об описке
Нобеля, который хотел написать слово idealiserad (причастие от глагола
idéalisera — «идеализировать») и пропустил слог, но не вставил его, а изменил конец
слова — и, тем самым, «основополагающий критерий» в присуждении
Нобелевской премии по литературе.
Сопоставляя словарные статьи и тексты конца XIX в., С. Аллен приходит к
выводу, что в словоупотреблении Нобеля (как, впрочем, и Стриндберга) idealisk
было относительным прилагательным, означавшим «имеющий отношение к
идеалу». Соединив филологические разыскания с историософскими
размышлениями, исследователь обнаруживает, что значение «имеющий в виду (целью)
идеал» прямо соотносится с главным критерием при присуждении
Нобелевской награды в области естественнонаучных знаний и борьбы за мир —
отмечать премией достижения, служащие на благо всего человечества (Svenska
dagbladet, 5.12.1993. S. 20).
По сложившемуся к концу минувшего века убеждению, «идеальная
направленность» предполагала не что иное, как «стремление к идеалу»6. И совершенно
5 Писателя и (см. ниже) автора исследования о Шведской академии процитировал в
газетной статье (Varför ändrade Nobel till «idealisk»?) С. Аллен. В несколько переработанном виде текст
этой статьи вошел в юбилейное издание, выпущенное двумя членами Шведской академии в год
столетнего юбилея Нобелевской премии [Allen, Espmark 2001: 7-10].
6 Allen S. Topping Shakespeare? Aspects of the Nobel Prize for Literature. Текст статьи размещен
на постоянно действующем интернет-сайте Нобелевской премии https://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/themes/literature/sture/ (дата последнего обращения 3.11.2017).
17
прав Стюре Аллен, утверждая, что представление об идеале у меняющегося
человечества также изменяется, а потому
дело каждого нового поколения судить, насколько современная литература
ему соответствует. Совершенно невозможно, например, чтобы Нобель
воспринимал творчество Беккета так, как мы воспринимаем его сейчас. А с
нашего горизонта, быть может, улетучились бы имена некоторых первых лауреатов
Нобелевской премии (Svenska dagbladet, 5.12.1993, s. 20).
Все эти противоречивые размышления над буквой завещания и следование
регламенту, заложенному в Уставе, необходимо иметь в виду, изучая отражения
русской литературы XX века в нобелевском зеркале.
Закулисная деятельность Нобелевского комитета по литературе, которая
стороннему наблюдателю кажется исполненной жгучих тайн, за минувшее
столетие превратилась в хорошо отлаженный (методом проб и ошибок) рабочий
механизм, со своими секретами, конечно. В книге, посвященной русской
литературе, анализировать все просчеты — или удачные решения — Нобелевского
комитета не представляется уместным; разносторонний экскурс в историю
присуждения Нобелевской премии по литературе мы уже однажды совершили
и потому отсылаем читателя к главе третьей первой части нашей монографии
[Марченко 2007] «В поисках "идеальной литературы": за кулисами Нобелевской
премии».
От глаз стороннего наблюдателя скрыто многое, и прежде всего — тот
совершенно неповторимый отпечаток, который несет на себе каждая новая эпоха
столетней истории Нобелевского комитета по литературе. Возникнув на
рубеже веков, Нобелевская премия в начале своего существования определялась
эстетическими ценностями минувшего XIX столетия, ощутила на себе
жестокие кризисы, связанные с двумя мировыми войнами и с периодом холодной
войны, глобализацию и смену духовных ориентиров человечества в конце XX в.
Увы, как любая история, несправедлива и нобелевская. Кого-то на премию
выдвинуть не успели — Чехова не стало в 1904 г., Марка Твена в 1910, Пруста в
1922. Но внушителен и список тех, кто был выдвинут на Нобелевскую премию,
но не получил ее, будучи отвергнутым сразу или после многолетних
обсуждений (так, напрасно прождал премии Поль Валери, впервые номинированный в
1930 г., а в последний раз — в год своей кончины, в 1945). Все эти упущения —
хотя и запоздало — признаны нынешними академиками: в награждении Т.
Манна за «Будденброков» Ш. Эспмарк видит иронию судьбы, а «игнорирование»
Поля Валери называет «наиболее выразительным примером ограниченности
премиальной политики тех лет» [Espmark 2001: 76, 83]. По мнению Эспмарка,
критика решений Нобелевского комитета страдает, как правило, тем, что
рассматривает присуждение премии как деяние некоего целостного неизменного
18
органа, «не принимая во внимание непрерывного изменения в составе <Швед-
ской> академии и отказ от прежнего миросозерцания и вкусов, что влечет за
собой непрестанное обновление» [Espmark 2001: 8].
Шведская академия запоздало аккумулировала различные, порой
взаимоисключающие тенденции в развитии мировой литературы и пыталась, на
основе некоего общего литературного критерия — «канона», или, иными словами,
хрестоматийного образца — выбрать писателя наиболее значительного и
произведение наиболее показательное. Но как применить единый канон к
романистике Шолохова и Пастернака? Бунина и Солженицына? Это если речь заходит
о писателях, пишущих на одном языке; а если речь идет о многоголосии
мировой литературы? К тому же политическая подоплека литературной премии в
XX веке столь очевидна, что сейчас никто и не пытается указать время, когда
политика оказывала большее или меньшее давление на присуждение премии,
и нельзя не принимать в расчет соображения и страхи, продиктованные
политической конъюнктурой. Кроме того, Нобелевский комитет — это не раз
сменившийся за столетие состав из шведских академиков, известных в стране
гуманитариев, неординарных личностей со сформировавшимся крутом
жизненных и эстетических ценностей. За многими — как спорными, так и
бесспорными — решениями стояла борьба точек зрения разных членов комитета,
каждый из которых обладал влиянием внутри комитета и на академию в целом.
Национализм (шовинизм) 1910-х, гуманизм 1920-х как новое осмысление
«идеальной направленности», ориентация на «среднего читателя» в 1930-е гг. и
отказ от присуждения премии в первой половине 1940-х, во время мировой
бойни... Сменяются эстетические и аксиологические вехи в Нобелевском
комитете, но и сами писатели не сидят сложа руки, ожидая вестей из Стокгольма.
Они энергично организуют кампании в поддержку собственных кандидатур,
вовлекают в процесс номинаций известных людей, академиков, профессоров и
лауреатов, уже увенчанных нобелевскими лаврами. Среди энтузиастов, горячо
пекущихся о награждении представителя их родной словесности, русские
ценители художественного слова отнюдь не являются самыми активными. Так,
одной из наиболее уникальных по размаху кампаний по выдвижению на
Нобелевскую премию можно счесть, вероятно, поступившие в 1932 г. со всего мира
предложения в поддержку кандидатуры американского писателя Элтона
Синклера (который, однако, премии так и не получил): ошеломленные члены
Нобелевского комитета даже не смогли их толком подсчитать и называют
приблизительное число в 800 обращений [Nobelpriset i litteratur, I: XVIII]. Томас Манн, с
завидным упорством номинировавший в 1930-е гг. Германа Гессе, не раз
встречался с отдыхавшим в Альпах членом Нобелевского комитета Фредриком
Беком (Book), склоняя его в пользу выдвинутой им кандидатуры7.
7 В частных посланиях к «имеющему решающее влияние» Ф. Бёку идею выдвижения Гессе на
Нобелевскую премию Т. Манн, по его собственному признанию, «более или менее обстоятельно
19
Оглядка на происходящие в мире события неприкрыто сквозит в
обсуждении самых разных кандидатур: И. Бунина — в условиях растущего советского
влияния, Ф.Э. Силланпя — в момент обострения антишведских настроений в
Финляндии и назревающей советско-финской («зимней») войны, К. Чапека — в
годы захватнической политики гитлеровской Германии в отношении
Чехословакии, Б. Пастернака и М. Шолохова — в период холодной войны. Любопытен
также список писателей, ставших нобелевскими лауреатами в первые
послевоенные годы: чилийка Габриэла Мистраль получила премию осенью 1945 г.,
когда отгремели все победные салюты Второй мировой войны, но шведские
академики не решились сделать выбор в пользу какого-либо европейского или
американского писателя (например, стоявших в списке Поля Валери, Томаса
Элиота или Джона Стейнбека); зато вслед за ней лауреатами стали Герман Гессе
(житель Швейцарии, он покинул Германию еще до прихода к власти нацистов),
Андре Жид (Франция), Т. Элиот (Великобритания) и Уильям Фолкнер (США) —
налицо представители всех стран-победительниц. Разумеется, кроме СССР:
советские писатели впервые были номинированы именно в 1940-е гг. —
Пастернак в 1946 г., Шолохов в 1947 г., Л. Леонов в 1949 г. Выдвинутые на Нобелевскую
премию еще до войны и вновь оказавшиеся в списке кандидатов в
послевоенное время представители эмиграции М. Алданов и Н. Бердяев никаких шансов,
судя по безапелляционному отводу их кандидатур в заключениях Нобелевского
комитета тех лет, не имели.
Несколько послевоенных десятилетий отмечены совершенно новыми
веяниями в присуждении Нобелевской премии по литературе и поисками новых
критериев выбора лауреатов. Один из многолетних членов Нобелевского
комитета Ларе Юлленстен (Gyllensten) остроумно сформулировал мучительную
для академиков альтернативу выбора, неизменно отягощающую их работу:
«.. .кто лучше, Данте или Сервантес?» [Espmark 2001:132]. И как ни изменились
масштабы творческой личности и уровень литературы в целом, вопрос
остается неразрешимым: что лучше — присудить премию «первопроходцам» (как
называли шведские академики писателей-новаторов, подобных У. Фолкнеру) или
отметить наградой «неизвестных писателей», особенно из культурных
провинций (и здесь ряд лауреатов обогащается именами писателей из Африки и
Латинской Америки).
Некогда В.В. Кожинов полемически заострил проблему объективности в
присуждении премии по литературе, иронизируя над «несравненными
талантами и даже гениями», увенчанными нобелевскими лаврами, и уверяя, что
представления о «лишенном тенденциозности признании достижений в
области искусства слова» только умело «внедрены в массовое сознание, они вовсе не
соответствуют реальному положению вещей» [Кожинов 1997: 262].
Безжалостный критик приходит к неутешительному выводу, что невозможно «оправдать
развивал и обосновывал по меньшей мере трижды, нет, даже думаю: четырежды» [Briefwechsel
Hesse-Mann 1999: 115].
20
Нобелевскую премию как таковую», ибо ее получили по большей части не те,
«которых следовало удостоить» [Кожинов 1997: 267]. Для
уничижительного пера В.В. Кожинова члены Нобелевского комитета, да и вся академия в
целом — это всего-навсего «группа граждан», мнение которых никого не могло бы
заинтересовать, если бы не «величина денежного вознаграждения, во много раз
превышающего суммы, которые предоставляются иными — даже самыми
щедрыми — премиями» [Там же: 269].
Этот негативный стереотип, бытующий среди неосведомленных критиков
деятельности Нобелевского комитета, опровергается материалами
опубликованных «Заключений» [Nobelpriset i litteratur, I; II], наглядно демонстрирующих,
что академики в мучительном поиске ежегодного решения обсуждали вовсе
не фигуру, на которую, как выразился шведский критик Оскар Левертин (Le-
vertin; 1862-1906), «прольется золотой дождь» [Österling 1972: 95], а
значительных представителей современной словесной культуры разных стран. Стоит
посмотреть на выбор лауреата под иным углом зрения: что если дело не в
исключительной непригодности шведских академиков к литературному суду,
а в сложности, неоднозначности поставленной задачи, в столкновении мента-
литетов — скандинавского с иными европейскими, европоцентристского — с
азиатским и африканским; в конце концов, шведского и русского?..
Политическая конфронтация в мире и смена эстетических канонов на протяжении
столетия не раз лихорадили деятельность Нобелевского комитета, не последнюю
роль играли личные вкусы и личные привязанности. Не стоит огульно отметать
вклад шведских академиков в историю восприятия и интерпретации русской
литературы в западном сознании XX века.
Дискуссии о премии время от времени вспыхивают в стенах самой
Шведской академии и на страницах шведской печати, отражаются в эпистолярии
членов Нобелевского комитета. Но, ознакомившись с подробным изложением
разных точек зрения на премию и ее лауреатов, обнаруживаешь, что с каждым
десятилетием все более и более утверждается «прагматический принцип». Этот
принцип действует все чаще, когда поднимается вопрос о присуждении
премии малоизвестному и малочитаемому писателю, которого следует наградить
по ряду экстралитературных соображений. Так, в Швеции, где женщина
получает все больше прав только потому, что она — женщина, невозможно обойти
Нобелевской премией литераторов женского пола. Очень удобно прикрыться
«прагматическим принципом» и тогда, когда речь заходит о политических
факторах влияния на ежегодный выбор Шведской академии.
Доказывать, что Нобелевская премия политически не нейтральна, не
берется уже никто, и только в постсоветском массовом сознании сложилось
убеждение, что исключительно в связи с русскими писателями присуждение
премии приобретало скандальный политический оттенок. Впрочем, это и не
могло произойти иначе, ибо было обусловлено самим ходом истории в XX в. и
особенностями хитросплетений мировой политики. Шелль Эспмарк в главе
21
«Политическая честность» своего исследования прямо признает роль «тайной
политической подоплеки» [Espmark 2001: 173]. И такой ли уж тайной?
Описанные им случаи политизации «чисто литературной» премии действительно
чаще всего связаны с именами русских и советских писателей — от Толстого до
Бунина и Горького, от Пастернака и Шолохова до Солженицына. Однако
политика вмешивалась в обсуждение многих других кандидатур, и споры
разгорались не менее острые и до принятия решения, и после его оглашения —
настолько очевидной оказывалась политико-идеологическая составляющая. «Во
время холодной войны подобная точка зрения становится ведущим мотивом
при обсуждении» [Ibid.].
В этот период Нобелевская премия по литературе обретает откровенный
политический оттенок; лучше сказать, она явно, чуть не кричаще окрашена в
политические цвета. Если политику принято называть грязной, то и возню
вокруг премии в послевоенные годы острого противостояния двух социально-
экономических систем не назовешь кристально чистой. Ш. Эспмарк несколько
патетически подходит к постановке этого вопроса, формулируя его как
«политическую честность и свободу визави с политической властью» [Ibid.]. Но
мудрый автор погрешил бы против истины, если бы принялся доказывать
полную независимость Шведской академии от какого-либо политического
давления и оглядки на сильных мира сего. Эспмарк оперирует фактами, а они
свидетельствуют лишь о том, что вольно или невольно все публичные люди
оказываются фигурами в большой политической игре.
То, что в Советском Союзе присуждение Нобелевской премии по
литературе всегда воспринималось исключительно как политическая акция,
провоцировалось столь же идеологизированными выступлениями в противоположном
лагере. Благодаря опубликованным архивным материалам Шведской академии
начинает приоткрываться завеса над выдвижением, обсуждением и, наконец,
увенчанием Нобелевской премией советских писателей — над историей,
ставшей, увы, одним из эпизодов в истории холодной войны. Разумеется, и в книге
Эспмарка не упущен ни один скандал, окружающий выбор Нобелевского
комитета среди русских кандидатов, от нежелания увенчать премией Горького в
1928 г. до присуждения премии американскому гражданину И. Бродскому.
Имена Сталина, Хрущева и Громыко упоминаются на страницах этой главы почти
столь же часто, как и имена шведских академиков. Ш. Эспмарк, в частности,
опровергает заявление Н.С. Хрущева о его возможном влиянии на решение
Нобелевского комитета в пользу Шолохова. Расхожее представление о том, что
только советское правительство считало возможным и необходимым давить на
независимое литературное жюри, оказывается односторонним. Из книги
Ш. Эспмарка, например, читатель узнает, что кандидатура Эзры Паунда,
объявленного в Америке сумасшедшим (тоже отнюдь не оригинальное ноу-хау
советского руководства), обсуждалась Дагом Хаммаршёльдом «с его друзьями
в Государственном департаменте» [Ibid.: 184].
22
Но мир не был биполярным, американо- и советскоцентричным, как
видится чаще всего представителям сверхдержав. Мир разрывается целым
комплексом противоречий и сдерживается такой же огромной массой противовесов,
которые и определяют в конечном итоге политическую картину во всеобщем
масштабе. Впрочем, политические пристрастия каждый раз тонко
нюансированы в глазах шведских академиков: так, в 1971 г., хотя и припомнив Пабло
Неруде его «воспевание» сталинского режима, Нобелевский комитет все же
присудил ему премию за выдающиеся достижения в поэзии. Несколько лет спустя,
в 1979 г., связь с диктаторскими режимами Пиночета и Виделы стала причиной
отказа присудить премию Хорхе Борхесу по «этическим и человеческим»
соображениям [Espmark 2001: 201-202].
Другое дело — способны ли на самом деле сильные мира сего влиять на
выбор Шведской академии. Разумеется, Эспмарк всякий раз находит такой
аргумент, который перевешивает политическую подоплеку присуждения
премии, — «гуманизм Солженицына» или «независимая художественная мощь»
Пастернака и Бродского. Однако в случае с Солженицыным шведские
академики не отрицали того очевидного факта, о котором трубили газеты всего мира:
присуждение Нобелевской премии этому русскому писателю было, безусловно,
политической акцией [Ibid.: 175].
История Нобелевской премии самым тесным образом переплетается с
историей XX века. Нобелевская премия, может быть невольно, становится
откликом политических бурь, шумящих в обществе, в «мировом сообществе»; но
ведь, задумывая ее, Альфред Нобель имел в виду человечество, всегда
неспокойное и вечно неоднородное. В 1949 г. 350 «экспертов по литературе» не
усомнились в справедливости 2/3 присужденных премий [Ibid.: 218]. Раз в
десятилетие, собираясь на Нобелевские симпозиумы, выдающиеся литераторы и
заинтересованные критики подвергали осмыслению «нобелевские успехи и
просчеты» [Ibid.]. В 2001 — в год столетнего юбилея премии — пришла пора
Шведской академии и ее Нобелевскому комитету отчитаться за свои успехи и
просчеты.
Из русских писателей Ш. Эспмарком в ряду упущений упомянуты Осип
Мандельштам, Анна Ахматова, Владимир Набоков, Константин Паустовский.
Что касается первого, то он погиб раньше, чем его успели номинировать; а
«возражения» против Набокова, звучавшие среди членов Нобелевского комитета в
начале 70-х гг., «уже стихли» к 1978 г. [Ibid.: 238]. И не уйди писатель годом
позже из жизни, возможно, чести стать Нобелевским лауреатом он и дождался
бы — как Понтер Грасс, чья кандидатура также обсуждалась десятилетиями. Но
ни Набоков, ни Грэм Грин, ни перечисленные с ними в одном списке неизменно
отклоняемых кандидатур Андре Мальро или Альберто Моравиа так и не
дожили до перемены во мнениях шведских академиков.
Переломной вехой в современной истории Нобелевской премии стал 1967 г.,
когда один из регулярно проводимых Нобелевских симпозиумов был специаль-
23
но посвящен литературной Нобелевской премии и, отразив целый ряд
подлинных провалов и мнимых просчетов, выступил с рядом рекомендаций
Нобелевскому комитету. И прежде всего было выдвинуто требование не считаться
более с устаревшей формулировкой Нобеля об идеализме. На переломе 1980-
1990-х гг. «идеализм» (или «идеальное направление») перестает быть
непременным требованием для присуждения Нобелевской премии, а политика
нобелевского жюри становится более гибкой.
Но человечество все еще не утратило идеалы, а читатель — интереса к
единственной международной награде за литературные достижения.
Не только русскому — любому национальному сознанию, по достоинству
оценивающему родную словесность, невнимание к ее шедеврам в мире часто
представляется несправедливым. Если вспомнить все созданное в России на
рубеже XIX и XX вв. в прозе, поэзии, драматургии, философии, то вряд ли можно
оспорить утверждение, что русская литература имела все основания
рассчитывать на нобелевского лауреата уже в самом начале столетия. Однако впервые
престижная Нобелевская премия была присуждена русскому литератору лишь
после своего третьвекового существования, после неоднократного отказа дать
ее Льву Толстому, которого О. Левертин назвал «последним из пророков» [Хет-
со 1996: 6], — что, безусловно, сделало бы честь Нобелевскому комитету и
подняло бы уровень награды на неизмеримую высоту.
Начиная с 1920-х гг. «обойденность» русской литературы Нобелевской
премией ощущалась совершенно отчетливо. В 1931 г., обращаясь в Шведскую
академию, нобелевский лауреат Томас Манн не без укора писал: «Смею <...>
предположить, что комитету было бы угодно один раз присудить премию также и
русскому писателю» [Марченко 2007: 75]. За год до получения Буниным
высокой награды профессор славистики из Лунда Сигурд Агрель специально
обращал внимание своих соотечественников из Шведской академии на то, что ни
один из представителей русской литературы не был еще удостоен премии,
которая «предназначена для всех народов и установлена человеком, глубоко
благодарным России» [Там же].
Присуждение или неприсуждение Нобелевской премии, разумеется, не
может быть критерием оценки состояния русской литературы в XX веке: «...
поистине смехотворны попытки судить о литературе той или иной страны по
количеству полученных ее писателями премий, причем дело здесь отнюдь не в
русской литературе» [Кожинов 1997: 275]. Действительно, смысл Нобелевской
премии, как показало истекшее столетие, не в том, чтобы служить мерилом
художественных достоинств современной литературы. Нобель поставил своего
рода эксперимент надо всем человечеством, ежегодно привлекая его внимание
к литературным процессам в мире, к идейно-культурным настроениям в
шведской гуманитарной среде и к непрестанно меняющемуся пониманию высокой
24
миссии словесного творчества («идеальное направление»). Столетняя история
Нобелевской премии дает исключительно своеобразное представление о
трансформации литературных вкусов интеллектуальной элиты и о ее способности
оценить литературные шедевры других народов.
Неоспоримо, что присуждение Нобелевской премии представителям
русской словесности всякий раз приобретало политический оттенок. Среди
русских писателей, выдвинутых на Нобелевскую премию в межвоенные годы,
почти все— И.А. Бунин, Д.С. Мережковский, И.С. Шмелев, К.Д. Бальмонт,
П.Н. Краснов, М.А. Алданов, H.A. Бердяев — были эмигрантами, да и М.
Горький демонстративно покинул большевистскую Россию. Бунин стал первым в
истории Нобелевской премии лауреатом-апатридом, изгнанником из
отечества — «белоэмигрантом» в иной терминологии; этот прецедент и дал основания
искать политическую подоплеку в присуждении премии и надолго сделал ее
идеологически подозрительной в восприятии советских ортодоксов. Два
крупных скандала, связанных с награждением писателей из Советского Союза —
Б.Л. Пастернака [Пастернак 2011] и А.И. Солженицына [Солженицын 1975] —
в послесталинскую эпоху, не только усугубили негативное восприятие
Нобелевской премии всесильным агитпропом, но и обусловили отсутствие
необходимой информации о ней и породили разнообразные недостоверные слухи
(главным образом — о превалировании политического аспекта над чисто
литературным, кто бы эту премию в последние десятилетия ни получал).
* *
Нам представляется необходимым и справедливым предварить
документальный экскурс в историю присуждения Нобелевской премии русским
писателям краткой информацией об экспертах по национальным литературам,
выполняющих ответственную работу по рецензированию творчества
кандидатов на заветную премию. За неизвестными шведскими именами стояли
неординарные личности, определявшие интеллектуально-культурную парадигму
в своей стране и оказывавшие существенное влияние на ежегодный выбор
нобелевского лауреата.
Восприятие той или иной национальной литературы и понимание места в
ней разных ее представителей относится к наиболее острым вопросам,
касающимся присуждения Нобелевской премии. «Несмотря на явный запрет Нобеля
принимать в расчет национальные соображения, <...> их не удается избежать.
В особенности в первые годы (существования Нобелевской премии. — Т. М.)
стремились к тому, чтобы присуждение премии не производило впечатление
покровительства какой-либо избранной нации. <...> Комитет старался также
избежать того, чтобы присуждаемая Академией премия возбуждала вражду
между нациями» [Nobelpriset i litteratur, I: XXXV]. Однако избежать таких понятий,
как «провинциальные языки» или, напротив, «культурные языки», при обсу-
25
ждении кандидатур на единственную действительно международную награду
оказалось невозможным8.
Язык — основа литературы, ее материал — превращается в один из камней
преткновения в процессе присуждения международной награды, так как
поднимает вопрос о мировом уровне писателя или его локальном,
«периферийном» значении. Мнение, что национальная принадлежность автора влияет на
решение Нобелевского комитета, не может быть опровергнуто и самими
представителями Шведской академии. Отсутствие адекватных переводов, хотя бы
только на крупнейшие европейские языки, и необходимость полагаться на
мнение экспертов приводило к тому, что Нобелевский комитет десятилетиями
пренебрегал некоторыми национальными литературами. Б. Свенсен называет даже
два региона, разворачивавшие настоящие кампании в поддержку своих
кандидатур, — южные романские и славянские народы — и замечает назидательно,
подспудно оправдывая политику Нобелевского комитета, что «существует
разница в образе мыслей и в темпераменте разных народов» [Nobelpriset i litteratur,
I: XXXVII]. Но забывает упомянуть о вечных ценностях. За что же присуждают
Нобелевскую премию? За успех на мировой литературной бирже или за
неповторимую оригинальность таланта и исключительное словесное мастерство,
что далеко не всегда сопряжено с зашкаливающими тиражами и массовым
успехом?
Отказавшись с самого начала от гласного обсуждения вместе с широкой
общественностью кандидатур, номинированных на Нобелевскую премию по
литературе9, Шведская академия должна оберегать строгую секретность
работы Нобелевского комитета, чтобы избежать какого бы то ни было постороннего
воздействия на ежегодно совершаемый выбор и обвинений в предвзятости и
необъективности. Тем самым вся ответственность за принимаемое решение
падает на Шведскую академию в целом — вердикт, как известно, выносится всеми
восемнадцатью академиками, хотя лишь пятерым из них, членам Нобелевского
комитета, вменено в обязанность знакомиться с произведениями
номинированных авторов.
8 Хорошо понимая, какую роль для номинированного на премию писателя играют
переводы на главные европейские языки, Т. Манн дает Бунину — через Алданова — совет опубликовать
«Жизнь Арсеньева» «поскорее на одном из трех главных языков» и сделать это «не слишком
торгуясь, — по-видимому, это имеет большое значение» (цит. по изд.: [Письма Манна Бунину 2002:
376]). Одному из своих корреспондентов тот же Манн писал уверенно: «Если есть в книге суть
(hat ein Buch Substanz), то многое сохраняется даже в плохом переводе, можете быть спокойны»
(цит. по изд.: [Мотылева 1978: 9]). Однако Т. Манн — мастер повествовательной прозы — не
задумывался над тем, что суть может заключаться в самом выражении, чаще всего непереводимом,
как, например, в поэзии.
9 Подобное предложение исходило, в частности, от О. Левертина, который писал в 1899 г.:
«Каждая ошибка будет возложена <.. .> не только на Академию, но и на всю интеллигенцию
страны, и просто немыслимо, чтобы перед лицом таких перспектив обсуждаемое заведение не
чувствовало себя вдвойне обязанным ввести в свой состав подлинно творческих представителей
литературы своей страны, которые только и смогут позволить ему исполнить возложенные на
него обязанности» (цит. по [Nobel: The Man and his Prizes 1972: 84-85]).
26
Однако не будет большим преувеличением признать, что весьма многое
зависит от экспертов Нобелевского комитета по национальным литературам.
Представляемые ими обзоры о творчестве выдвинутых на премию писателей,
пишущих на языках, знатоками которых являются эксперты, должны
познакомить нобелевское жюри с биографией кандидата, с его местом в литературном
процессе своей страны, со своеобразием его творческой манеры, прежде всего
стиля, чаще всего утрачиваемого при переводе, с мировоззренческими
особенностями и с отражением его творчества в критике. Хотя критерии, по которым
присяжные эксперты по славянским литературам оценивали книги выдвинутых
на Нобелевскую премию писателей, зачастую далеки от объективности, в их
обзорах «отразился век» во всем сложном переплетении его идейных,
эстетических, национально-политических воззрений.
Если Альфред Йенсен, действительно компетентный специалист в области
русской литературы, состоявший в переписке со многими русскими
писателями Серебряного века, оставил по себе геростратову славу, доказывая в своем
отчете для Нобелевского комитета несоответствие творчества Льва Толстого
формулировке нобелевского завещания и, следовательно, невозможность
присудить ему премию, то при Антоне Карлгрене — и во многом благодаря его
стараниям — появился первый русский нобелевский лауреат по литературе, Иван
Бунин; он же написал первые весьма развернутые очерки творчества Б.
Пастернака и М. Шолохова10. К заслугам его преемника, Нильса Оке Нильссона,
относят увенчавшуюся Нобелевской премией поддержку Бориса Пастернака.
Эксперт Нобелевского комитета по славянским литературам с момента
создания Нобелевского института в 1900 г. и до своего ухода из жизни, Альфред
Антон Йенсен (Jensen; 1859-1921) был плодовитым писателем — на его счету
около тридцати книг — и переводчиком с разных славянских языков, в том
числе и с русского. Неутомимый путешественник, даже умерший вдали от Швеции,
в Вене, не доехав до цели своего последнего путешествия — Балкан, Йенсен
много писал в жанре путевых очерков, которые не остались рассеянными по
различным газетам, но издавались и в форме книг; так, его впечатления от
поездок по России и другим славянским странам отразились в книге «Славия.
Картины культурной жизни от Волги до Дуная»11. Эту книгу сам Йенсен считал
своим лучшим произведением; в ее русской части отразилась с «забавными
живописными подробностями» его жизнь в России, на Волге возле Казани, где
работал в пароходстве его дядя-инженер (см. [Frankby 1984: 100]). Последний
сборник путевых очерков «Славяне и мировая война» появился спустя два года
10 Особенности восприятия России (по книгам А. Йенсена, А. Карлгрена и иным шведским
публикациям 1920-1930-х гг.) стали предметом специального рассмотрения в работе: [Gerner
1996: 307-333].
11 Jensen A. Slavia. Kulturbilder frân Volga till Donau. Stockholm, 1897. Отдельные главы
называются, в частности, так: «Скучный Петербург и интересная Москва», «Русские женщины», «Из
русского преступного мира».
27
после рокового выстрела в Сараеве12. Сам Йенсен именовал себя «старым
славянофилом» [Frankby 1984: 99]. Им написаны все статьи о славянских
литературах и писателях славянских стран для второго издания «Скандинавской
энциклопедии» (Nordiskfamiljebok).
Из-под пера А. Йенсена вышло трехтомное исследование «История русской
культуры»13 и целый ряд книг и статей о русской литературе. Йенсен питал
явную слабость к фольклору и религиозным исканиям русских писателей и
мыслителей, особенно выделяя эти аспекты в своих работах; еще одной его
страстью был поиск культурных влияний, прежде всего отражение Швеции в
русской литературе. Так, в книге «Портреты русских писателей»14 творчество
К.Н. Батюшкова рассматривается исключительно с точки зрения
соприкосновения его биографии со Швецией (очень печального, надо напомнить,
соприкосновения: во время войны со Швецией 1809 года поэт был ранен в ногу и
навсегда остался хромым). И все же нельзя не признать продуктивности такого
подхода: скандинавский колорит некоторых стихотворений Батюшкова,
мрачные скалы и холодные воды, отраженные в русской поэзии, безусловно,
кажутся шведам привлекательными благодаря своей узнаваемости.
Необыкновенно разнообразной была переводческая деятельность Йенсена,
знакомившего шведских читателей со стихами и прозой, созданными на разных
славянских языках. С русского языка Йенсен перевел «Евгения Онегина»
(дважды, оба раза в стихах) и «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, «Демона» и
«Мцыри» Лермонтова, несколько повестей Гоголя (он не решился приняться за
«Мертвые души», хотя в книге «Портреты русских писателей» поэме уделена
целая глава и с явным удовольствием пересказаны некоторые сюжетные
перипетии), стихотворения в прозе Тургенева, некоторые очерки Герцена (под
общим названием «Европа и Россия»), «Дневник писателя» Достоевского,
стихотворения А.К. Толстого — и чеховскую «Каштанку». И только Льва Толстого
Йенсен не переводил никогда. «Злые перья хотели бы объяснить это тем, что
это слишком трудно и глубоко для Йенсена», — отмечает автор
биографического очерка о слависте [Frankby 1984: 102].
Согласно инструкции Нобелевского института Альфред Йенсен,
приглашенный Шведской академией как самый видный славист начала XX в., должен
был «рассматривать касающиеся премии вопросы, готовить отчеты о новых
литературных поступлениях из-за рубежа и осуществлять переводы иностранных
произведений» [Nobelpriset i litteratur, I: XXVI]. Кроме того, в ведении Йенсена
было пополнение фондов Нобелевской библиотеки литературой на славянских
языках.
12 Jensen Α. Slaverna och världskriget. Reseminnen och intryck frân Karpaterna tili Balkan. 1915-
1916. Stockholm, 1916.
13 Jensen A. Rysk kulturhistoria. D. 1-3. Stockholm, 1908.
14 Jensen A. Ryska skaldporträtt. Kultur- och litteraturhistoriska bilder frân 1700-talet Ryssland
fram till 1800-talet mitt. Stockholm, 1898.
28
Своей богатой коллекцией slavica и russica библиотека обязана в первую
очередь шведскому слависту Alfred Jensen <...>, который работал специалистом
Нобелевского института по славянским литературам со дня основания
института до своей смерти [Янгфельдт 1994: VIII].
Современный шведский славист весьма осторожно оценивает
многостороннюю деятельность Йенсена как эксперта Нобелевского комитета по
славянским литературам: «Обзоры русской литературы, сделанные Йенсеном,
свидетельствуют о его начитанности. Он обсуждает — часто осуждающе, но с
большой осведомленностью — современные течения в русской литературе»
[Там же: IX]. И далее Б. Янгфельдт замечает: «Несмотря на свое
недоброжелательное отношение к современной русской литературе, Енсен заботился о том,
чтобы Нобелевская библиотека приобретала произведения писателей этого
поколения» [Там же] (орфография оригинала). Ни символисты, ни
натуралисты не удовлетворяли консервативным вкусам шведского слависта, тогда как
«покупка книг, конечно, во многом зависела от вкусов Енсена. Так, например,
в собраниях библиотеки найдется много произведений забытого ныне
Николая Крашенинникова <...>, между тем как самые значительные книги Белого
были приобретены только после смерти Енсена» [Там же]15. Видимо, будь Йен-
сен долгожителем, подобно многим шведским академикам, русская литература
еще долго не была бы отмечена Нобелевской премией...
А между тем специалист со столь своеобразными вкусами должен был
писать подробные отчеты о творчестве представителей славянских литератур,
выдвинутых на Нобелевскую премию. Последних, впрочем, было не столь уж
много, и руководитель Нобелевского института историк Гаральд Йерне (Järne) даже
заметил в 1915 г., что работа доктора Йенсена слишком высоко оплачивается.
Задетый за живое эксперт отправил Г. Шюку (Schuck) послание, в котором
обиженно указал, что не считает годовое жалованье в 5 тысяч крон слишком
щедрой платой за его услуги не только рецензента, пишущего о немногих
номинированных писателях, но и переводчика и обозревателя огромного массива
литературы на многих языках (эпизод нашел отражение в экспертном отчете
А. Йенсена 1915 г. о творчестве Д.С. Мережковского).
Следует заметить, что в Нобелевский институт Йенсен поступил после
бурной журналистской карьеры; хотя он учил славянские языки во время
длительных путешествий в славянские страны и знал их очевидно хорошо, собственно
научной карьеры он не сделал — лишь в 1907 г. ему было присуждено звание
15 Попутно заметим, что подобный субъективизм в оценке русских авторов отличал не
только шведского литературоведа-слависта. Так, разбирая выпущенную в начале 1920-х гг. в
Германии «Историю русской литературы» Артура Лютера, родившегося и получившего образование
в России, Ф.А. Степун [1925: 482] поражается тому сопоставительному ряду, который
выстраивает немецкий историк литературы, а именно: «Бунин, Зайцев и Крашенинников».
Крашенинников H.A. (1878-1941) — прозаик, драматург, очеркист; русской критикой был принят весьма
прохладно, но произведения его были популярны, выдерживали переиздания, пьесы охотно
принимались к постановке.
29
почетного доктора Упсальского университета. Заниматься переводческой и
преподавательской деятельностью его отчасти вынуждала необходимость
изыскивать дополнительные средства к заработку в Нобелевском институте,
но гораздо важнее меркантильных соображений была принципиальная
позиция — стать культурным посредником между народами через перевод
художественной литературы. Выдающийся датский славист Адольф Стендер-Петерсен
не удержался от — увы, справедливой — критики даже в некрологе, указав, что
представления Йенсена, прежде всего о русских и польских авторах, бывали
«субъективными и упрощенными», им недоставало «исторической и
психологической перспективы» и широты, и потому плодовитый переводчик, эксперт-
славист «останавливался в недоумении перед такими сложными натурами, как
Гоголь или Толстой <...> Он не ввел нас в глубины русской психологии» [Frankby
1984: 106]. Однако, будучи едва ли не главным действующим лицом в скандале,
с которого началась история присуждения Нобелевской премии по
литературе, — многолетнем (1902-1906) отказе увенчать Льва Толстого,— А. Йенсен
приоткрыл если не глубины, то, во всяком случае, особенности восприятия
русской литературы европейским сознанием — «через "Домострой",
"обломовщину", Раскольникова» [Чернышева 2004: 237]16. Вместе с тем не стоит забывать,
что представитель одной из славянских литератур стал одним из первых
лауреатов Нобелевской премии: в 1905 г. ее получил поляк Генрик Сенкевич — ив
этом выборе Шведской академии А. Йенсен сыграл не последнюю роль17.
Йенсен неизменно горячо ратовал за польских и чешских писателей и оставил по
себе добрую память в западнославянской филологии18.
Знаменательный факт: смена эксперта-слависта в Нобелевском комитете
Шведской академии почти совпала по времени с Октябрьской революцией, со
сменой в России государственного строя, резким идеологическим
размежеванием среди творческой интеллигенции, массовой эмиграцией из страны,
разделением русской литературы на два потока — советскую литературу и
литературу русского зарубежья. В 1920-1930-е гг. экспертом Нобелевского комитета
по славянским литературам стал славист и публицист Антон Карлгрен (Karlgren;
1882-1973). Он не был профессиональным литературоведом: его диссертация
посвящена лингвистическим проблемам (окончанию -а в родительном падеже
множественного числа существительных в сербскохорватском языке), а
соотечественникам он был гораздо более известен как корреспондент, а затем и
редактор крупной и авторитетной газеты «Дагенс нюхетер» (Dagens nyheter).
16 Замечательно, что исследовательницу не смущает крайне избирательный и
односторонний отбор опорных образов — сам факт знакомства шведского слависта с русской классикой
кажется ей залогом верного понимания России.
17 Его речь на торжественном банкете после вручения наград была издана отдельной
брошюрой в «свободном» переложении на польский язык: Alfred Jensen do Henryka Sienkiewicza.
Poemat. Poznan, 1907.
18 См., например, некролог: Janko J. Alfred Jensen // Slavia. 1922-1923. R. I. S. 189-190.
30
Как журналист Карлгрен выступал по историко-политическим вопросам,
написал книги «Россия под большевиками»19 (сразу последовали переводы на
датский, английский, финский языки) и «Сталин. Путь большевизма от
ленинизма к сталинизму»20; кроме того, он составлял статьи по различным
аспектам истории и культуры России для энциклопедических шведских и датских
изданий.
Карлгрен прошел путь не вполне обычный для скандинавского слависта,
специализировавшегося в области славянских литератур и страноведения, тем
более не традиционный для человека, стремящегося к научной карьере.
Закончив в Упсальском университете курс скандинавской филологии и истории, он
уходит из университета, где уже были известны имена его братьев, синолога и
юриста, чтобы в 1904 г. занять место домашнего учителя в шведско-финской
семье и отправиться в Ростов-на-Дону. Именно в России, в Казанском и
Петербургском университетах Карлгрен учит русский язык, самостоятельно
путешествует по стране, даже проводит целую зиму в русской деревне (о чем написал
книгу очерков21). Колоритные, остроумные репортажи о жизни современной
ему России, которые Карлгрен посылает на родину, пользуются успехом, и с
1907 г. он становится корреспондентом «Дагенс нюхетер». Журналист в нем
боролся с филологом: славистическая карьера требовала систематических
занятий, а Карл грена (женатого, кстати, первым — и достаточно длительным (1909-
1920) — браком на русской) привлекали политические процессы в России —
последствия первой революции, работа Думы, и постепенно журналистская
работа захватывает его целиком. Несколько десятилетий деятельности А. Карл-
грена в «Дагенс нюхетер» и сейчас называют особой главой в истории шведской
прессы. Для своего времени это был человек радикальных воззрений, страстно
желавший демократизировать и модернизировать Швецию (он и сам был
демократичен, например, помогал с набором в типографии); в газете он видел не
орган передачи новостей, но орудие борьбы за идею. От сотрудников, уже став
редактором, Карлгрен требовал трех вещей — качества материала, широты
взглядов и честности.
Сфера интересов Карлгрена-журналиста была связана со славянской
проблематикой во всей ее сложности и многообразии, но прежде всего с Россией.
До революции 1917 года он бывал в России неоднократно, был знаком со
многими известными лицами, с началом Первой мировой войны освещал участие в
19 Karlgren A. Bolsjevikernas Ryssland. Stockholm, 1925.
20 Karlgren A. Stalin. Bolsjevismens väg frân leninism till Stalinism. Stockholm, 1942.
21 Karlgren A. Vinterdagar bland ryska bonder. Stockholm, 1907. Современная российская
исследовательница не без обиды замечает, что шведский славист «описал быт русских крестьян
с некоторой долей иронии, откровенной неприязнью, а иногда и вымыслом» [Чернышева
2004: 137]. Картины, воссозданные Карлгреном, действительно, весьма непривлекательны, но
те же грязь, грубость, жестокость, пьянство, характерные для русской деревни рубежа XIX-
XX вв., безо всякой иронии, но с горькой и мужественной правдой описывали Толстой, Чехов,
Бунин...
31
ней России. Зная страну и ее народ «изнутри» (так, один из его репортажей
назывался «Россия без водки»), Карлгрен умел увидеть и почувствовать чужую
культуру. Он «принял» Февраль, даже успел побывать в России в первые годы
советской власти; однако «под большевиками» Россия лишилась для него
прежнего обаяния, а резко критическое перо, острая ирония закрыли для него
страну навсегда. В 1923 г. Карлгрен получил профессуру в Копенгагенском
университете и, оставаясь при этом шведским журналистом, занимался
грамматическими проблемами разных славянских языков (в русском, в частности, его
интересовала категория глагольного вида). Эта ярко одаренная личность
оставила заметный след в истории шведской культуры, общественной жизни и
образования; все стороны деятельности Карлгрена и сейчас удостаиваются
самых высоких оценок, его стиль почитался образцовым, его книга очерков
«Сталин», посвященная вопросам политической истории Советского Союза,
содержит «золотые копи информации»; а педагогом он был «блестящим» —
его «слушатели сидели как зачарованные» (Карлгрен не был высоколобым
университетским профессором — он много лет ездил читать лекции о славянстве
по шведским провинциям) [Svenskt biografiskt lexikon]. Только переводчиком
он, в отличие от Йенсена, не стал: Карлгрен перевел на шведский язык лишь
повесть Ф.М. Достоевского «Двойник». Согласившись, при своей
исключительной занятости, быть экспертом Нобелевского комитета по славянским
литературам, Антон Карлгрен оказался именно тем экспертом, который может и
должен судить о литературе другой нации, не только умея прочитать в
подлиннике художественные произведения, но и хорошо чувствуя и любя эту
литературу.
В те дни, когда И.А. Бунин находился на пути в Стокгольм, а русские
эмигрантские газеты без устали печатали материалы, посвященные первому
присуждению Нобелевской премии по литературе русскому писателю, парижские
«Последние новости» опубликовали, между прочим, «письмо из Копенгагена»
своего специального корреспондента И.М. Троцкого. Журналист дал самые
лестные оценки «докладчику по славянским литературам при Нобелевском
комитете»:
Швед по национальности и филолог по образованию, Антон Карлгрен долгие
годы занимался публицистической деятельностью и возглавлял в течение
нескольких лет очень влиятельную демократическую газету Стокгольма «Dagens
Nyheter». Его очерки о Советской России, которую он исколесил вдоль и
поперек, закрепили за ним авторитет непревзойденного аналитика советского быта
и его условий и создали ему немало врагов в Кремле.
Русский язык и русскую литературу Антон Карлгрен прекрасно знает и
любит. Русская проза и поэзия им изучены не в переводах, а в подлинниках.
Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Бунин, Мережковский
и другие современные писатели столь же близки и понятны ему, как и всякому
другому <sic!> интеллигентному русскому читателю. И если он годами не уста-
32
вал ратовать за присуждение Нобелевской премии И.А. Бунину, то это только
свидетельствует об изысканности вкуса шведского слависта (Последние
новости, 8.12.1933, № 4643, с. 2).
В сугубо специальном жанре «внутренних рецензий» Карлгрен создал
яркие литературно-критические работы, которые долгие десятилетия
оставались невостребованными и неопубликованными. Подводя итоги столетнего
существования Нобелевской премии, Ш. Эспмарк особо отмечает «авторитетные
экспертные заключения» А. Карлгрена [Espmark 2001: 72], апеллируя к его
оценкам во всех тех случаях, когда дело касалось обсуждения кандидатур
крупнейших славянских писателей — Бунина, Горького, Пастернака, Шолохова, Чапека:
с выводами и рекомендациями Карлгрена члены Нобелевского комитета
безусловно считались [Ibid.: 74, 98, 161, 187, 189].
Жанр, в котором пришлось выступать и Йенсену, и Карлгрену, и позже
Нильссону, является довольно специфическим и, возможно, уникальным.
Развернутые очерки творчества современных писателей предназначаются не
просто для служебного пользования — они адресованы узкому академическому
кругу из пяти лиц — и не только носят ознакомительный характер, но должны
содержать убедительные доказательства того, насколько выдвинутая
кандидатура соответствует или, напротив, не соответствует особым требованиям
Нобелевской премии и званию нобелевского лауреата. Экспертная оценка
предполагает рассмотрение конститутивных черт писателя, обоснование
национальной самобытности и непреходящего общечеловеческого звучания его
произведений, их философской и эстетической значимости.
Особого рода прагматизм создаваемых экспертами критических обзоров
делает их весьма важным источником по восприятию и интерпретации
творчества рецензируемых писателей и их произведений. Принципы их оценки во
многом иные, чем подходы собственно критики и литературоведения, всегда
открытых для полемики. В межвоенный период члены Нобелевского комитета
не получали никакого дайджеста с выдержками из критических выступлений
в национальной печати. Вместо более или менее объективных pro et contra в
основу обсуждения высокого жюри ложилось, хотя и развернутое и
аргументированное, мнение одного специалиста в области той или иной национальной
литературы.
С одной стороны, экспертные обзоры преследовали чисто ознакомительные
цели, особенно когда речь шла о произведениях, еще не переведенных на
шведский или иные доступные иностранные языки: эксперт пересказывает
произведения, часто обильно их цитирует (как правило, в собственном переводе),
откровенно выражает свою оценку. И тогда, с другой стороны, появлялась
возможность манипулировать мнением читателей (т. е. членов Нобелевского
комитета), объективные показатели места и значения писателя в иерархии
национальной литературы могли подменяться субъективными взглядами и вкусами
эксперта или, во всяком случае, сочетаться с ними. Если эксперты и пользуются
33
критической литературой, от энциклопедий до рецензий, то никаких ссылок на
нее нет, она просто учтена — в том случае, когда это касается биографических
данных или совпадает с мнением эксперта, или проигнорирована — если
собственное представление эксперта расходится с откликами в печати. Разумеется,
и сам жанр не предполагал перегруженности отсылками и иностранными
именами, которыми и без того насыщены пересказы произведений авторов разных
национальностей.
«Когда художник творит свое произведение, то он втайне мечтает о
"встрече"» — так начинается одно из самых замечательных произведений в области
«художественной критики», созданная в эмиграции книга И.А. Ильина «О тьме
и просветлении». Мыслитель и критик, он касается одной из важнейших
проблем восприятия литературы, роли читателя в понимании и интерпретации
произведения:
В долгом, трудном и нередко мучительном творческом процессе писатель
выносил, увидел, выбрал, соединил, срастил в единое внешние (чувственные,
живописные) и внутренние (нечувственные, душевные) образы, нашел для них
единственно верные слова, записал их и оторвался от них, отпуская их на
вольный мир в печатном виде. Он развернул помысл своего сердца в целое
образное повествование, уложил эти образы в живые, описывающие и вздыхающие
слова и согласился на то, чтобы эти слова были спрятаны за беззвучными,
мертвыми буквами и чтобы сонмы этих черных молчащих значков,
отпечатанных на бумаге, были художественно доверены читателям. Читатели неизвестны
ему; подавляющего большинства их он никогда в жизни и не увидит. Он дал им
все, что мог: целый мир своих помыслов и образов, зашифрованный в словах и
буквах... Сумеют ли они и как они сумеют художественно расшифровать его?
[Ильин 1991: 3-4].
Это глубоко современное отношение к художественному тексту,
выраженное не в научных понятиях и терминах, а живым образным языком,
предвосхищает многие теоретико-литературные подходы XX века, однако, как явствует
уже из заглавия книги Ильина, имеет в виду лишь вершинные создания
словесного творчества.
То, что философ пишет во «Введении» к своей книге о «чтении и критике»,
замечательно соответствует задачам и цели экспертов Нобелевского комитета
по литературе — «высказать обоснованное суждение о художественном
совершенстве или несовершенстве данного произведения» [Там же: 10]. Однако об
«идеальном» критике в том рутинном процессе, который предполагает
составление обзора творчества писателей разных школ, направлений, эстетических и
религиозных воззрений и несоизмеримого таланта, а в случае с экспертными
заключениями по славянским литературам — разных стран и языков, даже не
приходится мечтать. Хорошо, если специалист по литературам столь большого,
сложного и неоднородного региона действительно способен беспристрастно
разобраться в особенностях творчества номинированного на премию писателя.
34
Осознание почти непосильных задач, поставленных перед институтом
экспертов, в итоге побудило Шведскую академию перейти к иной практике
рассмотрения кандидатур — обзору критики. (Впрочем, и ее объективность не менее
дискуссионна.)
Стоит вспомнить девиз Шведской академии: «Гений и вкус» (Smak och
snille), — чтобы осознать, какой невольной иронией наполняются эти понятия
в отношении Нобелевской премии! Субъективные взгляды на литературу
неизбежно оборачиваются вкусовщиной, когда речь идет о присуждении
единственной международной награды, когда оценивать национальный гений
приходится, не зная языка, полагаясь на переводы, не всегда совершенные, и на
мнение специалистов, от компетентности и добросовестности которых зависит
конечный выбор. Хрестоматийный уже пример — мир не может осознать всю
силу и прелесть пушкинского творчества, неотделимого от русского языка; но
ведь и русский читатель лишен возможности понять красоту и мощь Виктора
Гюго как величайшего французского поэта. Нобелевское жюри больше всего
напоминает суд присяжных — людей, малосведущих в судопроизводстве и
выносящих приговор на основании чужих выводов и мнений и собственных
впечатлений.
Еще раз уточним: в наши задачи не входит критика решений, принятых за
столетие Нобелевским комитетом по литературе. Строгие судьи сами
предстают перед судом истории, на фоне меняющихся эстетических критериев и
политических доктрин. Тонкие ценители литературы, знатоки нетленных
шедевров минувших эпох, шведские академики часто просто теряются перед лицом
новинок литературы. Ежегодный выбор Нобелевского комитета может
обернуться триумфом гения, но часто становится проходным эпизодом в
современном литературном процессе или даже очередным поражением целого
института, от которого ждут безупречного вкуса в увенчании подлинного гения.
Недостаточная компетентность, зависимость от чужих мнений и политической
конъюнктуры, субъективность — эти характеристики нобелевского жюри
могут считаться достаточно корректными. Суть в другом: не только автор, но и
критик, в данном случае член премиального института, является свидетелем и
участником идущей в мире литературной жизни. Тем поучительнее именно
типичность восприятия русской литературы усредненным хорошо
образованным, литературно одаренным европейцем.
Добавим — осторожным европейцем. Ибо следует упомянуть такую
традиционную для Нобелевского комитета практику, как многолетнее
«обкатывание» кандидатуры: почти ни один писатель, за редким исключением, не получал
Нобелевской премии после первой номинации; лишь появление его имени в
длинном списке кандидатов несколько лет подряд — при неизменно
доброжелательных отзывах эксперта— могло склонить академиков в его пользу
(вспомним требование А. Нобеля отмечать свежевышедшую книгу!). При этом
члены Нобелевского комитета в своем заключительном протоколе могли соли-
35
даризироваться с выводами эксперта либо выразить совершенно отличное от
него мнение. За долгие годы выработался жанр и стиль заключений комитета
о творчестве кандидатов на Нобелевскую премию; многостраничные
основательные характеристики первых лауреатов премии постепенно уступают место
лаконичным формулировкам. «Даже терминология довольно однообразна», —
замечает Бу Свенсен и приводит образцы традиционных оценок (самые
популярные глаголы — «отклонить» или «отвергнуть», «рекомендовать» или
«советовать»; самая излюбленная формула — «занять выжидательную позицию»
[Nobelpriset i litteratiir, I: XXXI]).
«А их ждешь...», — с тоской записывал в дневнике Бунин, год за годом
ожидая из Стокгольма утешительного известия [Устами Буниных 1977-1982, II:
292]. Нобелевский архив Шведской академии, открытый на временном отрезке
1901-1966 гг., позволяет многое прояснить в закулисной истории присуждения
Нобелевской премии трем русским писателям — и раскрыть подробности
отклонения многих других кандидатур, представляющих русскую литературу.
Глава 2
Лев Николаевич
ТОЛСТОЙ
Как же случилось, что среди нобелевских лауреатов не оказалось Льва
Толстого? Что предопределило пресловутое «Геростратово деяние Шведской
академии» [Vlach, Filipoff 1967: 26]?
В первый год присуждения Нобелевской премии выдвинуть Толстого
просто никто не догадался, и имя Льва Толстого — как и другого великого его
современника, Генрика Ибсена, — прозвучало лишь в связи с выдвинутыми на
премию книгами парижского литературоведа Осипа Лурье «La philosophie de
Tolstoï» и «La philosophie sociale dans le théâtre d'Ibsen» [Nobelpriset i litteratur, I:
7]. Первым нобелевским лауреатом стал в 1901 г. французский лирик Арман
Сюлли-Прюдом, учредивший на полученные деньги премию собственного
имени для французских поэтов. «В качестве незамедлительной реакции в самой
Швеции последовало обращение к Толстому, которое подписали сорок два
писателя, художника и критика» [Espmark 1991: 16]. В шведской прессе «протест
42-х» был безоговорочно поддержан; газеты саркастически замечали, что
«рядом с огромной фигурой Толстого некий Сюлли-Прюдом уменьшится до <раз-
меров> элегантной миниатюры», и выражали надежду, что открытое
обращение к Толстому крупнейших деятелей культуры Швеции «в какой-то степени
изменит впечатление о духовном уровне в нашей стране, которое сложилось у
представителей образованной Европы в результате присуждения премии» (см.
[Хьетсо 1998: 143-144]). Потрясенный пренебрежением к личности великого
русского писателя, живого классика, О. Левертин1 стал инициатором
направленного Толстому «адреса-протеста», в котором представители шведской
гуманитарной элиты, и прежде всего так называемой «Молодой Швеции» — среди
которых были А. Стриндберг, В. фон Хейденстам, С. Лагерлёф, А. Цорн, —
отмежевывались от решения Нобелевского комитета и выражали глубокое
уважению гению русского писателя:
.. .мы видим в Вас не только глубокочтимого патриарха современной
литературы, но также одного из тех могучих и проникновенных поэтов, о котором в
1 Упреки в том, что Толстого не номинировали в первый год присуждения премии, О.
Левертин, профессор литературы, обратил с сожалением прежде всего к самому себе; однако
он признался, что «считал кандидатуру Толстого делом само собой разумеющимся» [Хьетсо 1998:
144].
37
данном случае следовало бы вспомнить прежде всего, хотя Вы, по своему
личному побуждению, никогда не стремились к такого рода награде (цит. по:
[Толстой 1928-1958, 73: 205]).
В тексте этого послания прозвучал прямой вызов Шведской академии,
объявленной косным и провинциальным культурно-научным учреждением:
Мы тем живее чувствуем потребность обратиться к Вам с этим приветствием,
что, по нашему мнению, учреждение, на которое было возложено присуждение
литературной премии, не представляет в настоящем своем составе ни мнения
писателей-художников, ни общественного мнения. Пусть знают за границей,
что даже в нашей отдаленной стране основным и наиболее сильным
искусством считается то, которое покоится на свободе мысли и творчества [Там же].
В ответ на почтительно-восторженное обращение своих шведских
поклонников из числа гуманитарной интеллигенции о возможности присуждения ему
Нобелевской премии Толстой послал на имя О. Левертина письмо, в котором
отклонил эту честь, столь неразрывно связанную с огромным капиталом и
именно поэтому неприемлемую для него:
Дорогие и уважаемые собратья,
я был очень доволен, что Нобелевская премия не была мне присуждена. Во-
первых, это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими
деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут
приносить только зло; а во-вторых, это мне доставило честь и большое удовольствие
получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых
мне лично, но всё же глубоко мною уважаемых.
Примите, дорогие собратья, выражение моей искренней благодарности и
лучших чувств [Там же: 204-205].
В этом письме Толстой разграничил две стороны Нобелевской премии:
осудив ее финансовую сторону, он поблагодарил своих корреспондентов за
признание его творчества. Однако, исключая для себя возможность распоряжаться
большими деньгами, Толстой тем самым упускает удобный случай обратить
деньги во благо; но мог ли он в открытом письме2 откликнуться иначе, в
частности, посетовать на ускользнувшую награду?
Следует, впрочем, заметить, что позиция Льва Толстого не была
неожиданной: еще 29 августа 1897 г., т. е. около полугода спустя после обнародования
завещания А. Нобеля, Толстой составил текст письма в шведские газеты с
предложением присудить «премию Нобеля» (премию мира) духоборам, так как их
отказ от оружия, по мнению Толстого, прямо содействует установлению мира.
20-21 сентября того же года письмо было переведено на шведский язык
навестившим писателя в Ясной Поляне В. Ланглетом (Langlet), a 22 сентября ото-
2 Посланное в Швецию 22 января (4 февраля) 1902 г., оно было тут же опубликовано в
шведских газетах, а 15 февраля появилось на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» (№ 46).
38
слано в редакцию газеты «Stockholm dagblatt». В октябре письмо было
опубликовано в шведских газетах, два года спустя — в русской «Свободной мысли» по
черновику под названием, данным публикатором: «По поводу завещания
Нобеля» (цит. по: [Толстой 1928-1958, 70: 149]. В предназначенной для шведской
периодики статье Толстой утверждал:
Я полагаю, что условие завещания Нобеля, по отношению лиц, наиболее
послуживших делу мира, весьма трудно исполнимо. Люди, действительно
служащие делу мира, служат ему потому, что служат Богу, и потому не нуждаются в
денежном награждении и не примут его. Но полагаю, что условие завещания
будет совершенно верно выполнено, если деньги эти передадутся
находящимся в нужде семьям лиц, послуживших делу мира [Там же].
В 1902 г. имя Толстого все же появилось в списке номинаций [Nobelpriset i
litteratur, I: 15]3. За него хлопотали несколько французов: профессор
зарубежной литературы в Сорбонне Эрнест Лиштанберже, профессор Коллеж де Франс
языковед Мишель Бреаль и член Французской академии писатель Людовик
Галеви4. В следующем, 1903 г. номинация Толстого была повторена [Ibid.: 39]
Галеви и еще двумя членами Французской академии, Анатолем Франсом и
П.Э.М. Бертло5; в 1904 г. в Стокгольм с предложением кандидатуры Толстого
вместе с Галеви адресовался другой член Французской академии — историк
Альбер Сорель [Ibid.: 60]. В 1905 г. к «бессмертным» присоединился член
Норвежского научного общества А. Ауберт (А. Aubert) и 17 (!) членов Финского
научного общества [Ibid.: 81]. В 1906 г. Толстой был номинирован Галеви
в последний раз (настойчивого французского писателя не стало в 1908 г.) [Ibid.:
118]6.
Но изумительное отсутствие имен членов Санкт-Петербургской
Императорской академии наук в ежегодных безрезультатных номинациях Льва
Толстого вовсе не свидетельствует об игнорировании русскими международной
награды, которую начали присуждать в соседней стране. Свое понимание
смысла Нобелевской премии, равно как и свою причастность к прекрасному
президент российской Академии, великий князь Константин Константинович
(подписывавший свои литературные сочинения инициалами К. Р.; о нем см.
[Соболев 1993]), и несколько ее членов — А. Голенищев-Кутузов, А. Сабуров,
Н. Кондаков, А. Кони, а также член Императорской академии художеств П. Ян-
3 Толстой стал № 1 в списке кандидатур.
4 Сейчас известный благодаря либретто к вошедшим в мировой репертуар опереттам
Ж. Оффенбаха — «Прекрасная Елена», «Перикола», а также к опере Ж. Бизе «Кармен». В августе
1910 г., незадолго до своего ухода и смерти, Толстой читал роман Л. Галеви «La famille Cardinal»
(см. [Гусев 1960: 797]).
5 Кстати, именно этот знаменитый химик и государственный деятель выступил с первой
номинацией на Нобелевскую премию, предложив кандидатуру Э. Золя.
6 В этом году Толстой переместился на предпоследнее место в списке номинаций; впрочем,
на последнем оказался Г. Гауптман, будущий нобелевский лауреат (1912).
39
ковский и русский посол в Риме А. Нелидов продемонстрировали, когда
подписали, наряду с почти полусотней именитых европейских персон, номинацию
на Нобелевскую премию по литературе прусского музыковеда Карла Фридриха
Глазенаппа, автора «Биографии Рихарда Вагнера»7. Впрочем, к области
курьезов следует отнести выдвижение на премию самого А.Ф. Кони, «русского
сенатора», за книгу о докторе Гаазе8.
Развенчивая «нобелевский миф», В.В. Кожинов гневно клеймит «явную и
неоспоримую тенденциозность членов Шведской академии, решавших вопрос
о том, кто будет нобелевским лауреатом», и отметает сомнения в том, что и
кандидатура Достоевского, доживи он «до поры, когда стали присуждаться
Нобелевские премии», также «была бы отвергнута <...>» [Кожинов 1997: 263]. Судя
по обращениям в Шведскую академию, вопрос о том, почему Толстой не стал
лауреатом первой международной премии по литературе, утрачивает мнимую
однозначность. Спустя столетие стало слишком очевидно, что шведские
академики «сами себя высекли» и раз и навсегда сделали уязвимой свою позицию
и свое решение по каждой из номинируемых кандидатур. Однако
Императорская академия наук в лице Отделения русского языка и словесности, академики
и профессора литературы в России и не подумали выступить с призывом
присудить награду русскому гению.
Вопрос, однако, остается: «Как могли отвергнуть основного кандидата?»
[Espmark 1991: 16].
Нельзя сказать, чтобы к рассмотрению кандидатуры Л.Н. Толстого А. Йен-
сен, которому было поручено дать о ней «экспертное заключение», подошел
безответственно. Напротив, представив в Нобелевский комитет 1 апреля 1902 г.
23-страничный подробный указатель литературы о писателе (в каталоге
Нобелевской библиотеки А. Йенсен обнаружил «135 работ о Толстом на 10 языках»,
среди которых 20 написано по-русски), 19 мая Йенсен дополняет эти
библиографические материалы собственным развернутым отзывом на 37 страницах
(впрочем, последние пять страниц заняты библиографическим перечислением
сочинений Толстого по-русски и в переводах на шведский язык), сообщив
сразу, что задача написать о Толстом для него «одновременно легкая и тяжелая».
О Толстом так много уже написано, что проще всего было бы обобщить сказан-
7 В 1903 г. (см. [Nobelpriset i litteratur, I: 41]).
8 Кандидатура Анатолия Федоровича Кони (1844-1927), знаменитого русского юриста и
автора мемуаров, была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе Антоном Вульфертом,
профессором санкт-петербургской Военно-юридической академии, за книгу «Доктор Гааз.
Жизненный путь немецкого филантропа в России» (немецкое издание 1899 г.; книга «Федор
Петрович Гааз» издавалась в России с 1897 по 1914 г. пять раз; за несколько лет до ее выхода, в 1891 г.,
Кони выступил с речью «О докторе Гаазе» и прочитал доклад «О московском филантропе Гаазе»).
В списке предложений 1902 года Кони фигурирует прежде всего как «русский сенатор» [Nobelpriset
i litteratur, I: 15]. В заключении Нобелевского комитета было отмечено, что эта книга, ярко
раскрывающая с позиций гуманизма особенности системы наказаний в царской России, имеет
«сугубо специальный интерес и скорее должна стать темой для обсуждения на пенитенциарном
конгрессе, нежели в Нобелевском комитете» [Ibid.: 23].
40
ное; но Йенсен очевидно пользуется случаем высказать свое мнение о русском
писателе. В этом и заключается для него трудность задачи — как художник,
Толстой не вызывает у шведского слависта больших сомнений, но Толстой —
еще и мыслитель, и именно в «мире его идей» хочет разобраться Йенсен.
Творческая эволюция писателя в представлении Йенсена делится на два
периода: собственно литературный, от «дебютного» автобиографического
повествования «Детство» до романа «Анна Каренина», и философско-моралистиче-
ский, отличающийся «часто некритичными, фанатичными» выступлениями
писателя, отмеченными «религиозно-философской и социально-этической»
тенденцией. Оба эти периода Йенсен освещает во всех подробностях. Сейчас
вызывает недоумение сам факт, что Нобелевский комитет вообще заказал
экспертный отзыв о Толстом, о котором существовал ряд работ по-шведски
(причем крупных специалистов, в ряду которых — член Нобелевского комитета
Гаральд Йерне!), не говоря уже о трудах по-немецки или по-французски,
доступных всем академикам. Однако работа нобелевского эксперта написана
буквально ab ovo, словно он должен дать обзор творчества не писателя, уже
полвека занимающего одно из ведущих мест в мировой литературе, а некоего
среднего представителя «провинциальной» русской литературы. Йенсен
добросовестно перечисляет историко-литературные реалии, сыплет именами русских
писателей и критиков — современников Толстого, упоминает биографические
подробности, но весь этот фактически достоверный материал используется
вовсе не для того, чтобы показать художественные открытия русского писателя.
Напротив, шведский славист стремится продемонстрировать несовершенство
Толстого — человека (не окончил университета, бросил военную карьеру),
интеллектуала (отвергает европейскую культуру — «с всё нарастающим истинным
недоверием московита»), общественно-политического деятеля (программы
которого утопичны), религиозного мыслителя (с «радикальным фанатизмом
раскольника» проповедующего «т. н. прахристианство»).
Очерк Йенсена написан со всей страстностью и даже не переписан —
многое зачеркнуто, многое вписано и вставлено после, что обнаруживает желание
эксперта как можно лучше выразить и донести до академиков свою мысль.
Между тем композиция экспертного заключения не подчинена ни
хронологическому, ни проблемному принципу; можно было бы воспользоваться одним
из обвинений Йенсена русскому писателю и назвать ее «лишенной логики» —
однако своя логика в этом примечательном во многих отношениях сочинении
все-таки есть. Создается впечатление, что, касаясь того или иного произведения
или разработки известных тем в творчестве Толстого, Йенсен задался целью
собрать все недостатки, подлинные и мнимые, в форме и содержании его книг и
доказать их узко-националистический пафос, ложность основных идей и
низкий уровень изобразительного мастерства. И на этом поприще, вдохновленном
чем угодно, только не добрыми чувствами к России, нобелевский эксперт
старается изо всех сил.
41
Йенсен полагает, например, что на фоне всех русских писателей Толстой
выделяется... «скудным воображением», а его прославленное мастерство
психологического анализа должно быть противопоставлено созданным им
многочисленным «лживым» образам, первым и главным из которых следует назвать
«карикатурного» Наполеона. Но прежде всего Йенсен «разоблачает»
толстовские страницы о любви, усматривая зависимость писателя от всех возможных,
но исключительно русских традиций в прозе, от «антибайронизма» 1820-х гг.,
отразившегося в «Казаках», от традиций новеллистики 1840-50-х гг., заметных
в «Семейном счастье», от Тургенева, повлиявшего на Толстого своим
восприятием любви, однако не передавшего ему своего «поэтического мастерства»
(которым, следует признать, Йенсен попрекает Толстого регулярно9). И хотя
шведский славист согласен с тем, что мастерство Толстого-художника достигло
своего наивысшего совершенства в «Анне Карениной», зато в этом романе
и еще более в «Крейцеровой сонате» полностью проваливается попытка
Толстого-моралиста отыскать идеал в семейной жизни. «Крейцеровой сонате»
Йенсен уделяет значительное место в своем анализе, связывая ее со «Смертью
Ивана Ильича» в попытке доказать тот «типичный русско-восточный»
фатализм, который пропитывает тенденциозные сочинения Толстого и о любви, и
о смерти: эти вечные темы в толстовских произведениях «сконструированы
односторонне схематично и тенденциозно», уверен'Йенсен. Лишь в некоторых
толстовских рассказах («Альберт», «Поликушка», «Метель», «Хозяин и
работник») шведский славист готов признать «более счастливое соединение
действительности и искусства». Как художник, Толстой во мнении Йенсена стоит
значительно ниже своих предшественников и современников, от поэтических
«байронистов» (поэтов-романтиков) и Гоголя до «утонченного» Тургенева или
«нервной дрожи» Достоевского; «грубый» толстовский слог не обнаруживает
следов изящной стилистической отделки, хотя он по-своему «пластичен и
своеобразен в своей простой и ясной мощи».
Но, пожалуй, самой интересной следует считать интерпретацию «Люцерна».
Йенсен всерьез предлагает академикам задуматься над вопросом: зачем
Толстому понадобилось так долго путешествовать по Европе, чтобы изобразить одну
из тех сцен, которые, вероятно, можно наблюдать в Петербурге или Москве;
более того — задается вопросом Йенсен, — не забыл ли Толстой, что его герои,
молодые офицеры или юноша «comme il faut», поступали ничуть не лучше
жителей швейцарского отеля? «За человеколюбивым возмущением этих писаний
скрывается презрение восточно-русского славянофильства к европейской ци-
9 Поздний Толстой и о художественном мастерстве русских писателей сумел отозваться с
присущим ему анархизмом: «Про Достоевского Лев Николаевич сказал, что одна его страничка
стоит целой повести Тургенева, хотя язык Тургенева нельзя сравнить с языком Достоевского».
И, продолжая отвергать художественное мастерство в пользу голой идеи, отнес к «самому
лучшему» у Тургенева «Довольно», «Фауста» и «Гамлета Щигровского уезда» и признал «недурным»
«Затишье» [Толстой 1928-1958, 70: 449].
42
вилизации в целом», — «догадывается» Йенсен. Пожалуй, именно в неверном
восприятии замысла этого рассказа проступает то категорическое непонимание
и неприятие Йенсеном Толстого, русской литературы и русского менталитета
в общем и целом, которое и впредь будет сказываться в его хорошо
подготовленных, но в чем-то главном и существенном ошибочных экспертных
заключениях. В том-то и состояло глубокое потрясение Толстого, что в «свободной»
стране, в центре цивилизованной Европы, разыгрываются сцены, ничем не
отличающиеся от мучительных картин, столь обычных в «варварской»
крепостнической России! Йенсен в каждой строке Толстого видит отражение
«восточно-русской психологии» (чего стоит это непременное прикрепление
orientalisk к национальному определению ryskl) и образа мыслей, тогда как
каждая строка Толстого обращена к уму и сердцу прежде всего человека.
Поставленную перед ним задачу А. Йенсен, очевидно, воспринимает
исключительно как необходимость дать ответ на вопрос — соответствует ли
творчество Льва Толстого букве завещания Нобеля. На этот вопрос он отвечает со
всем тщанием ученого, демонстрируя знание литературы о рассматриваемом
предмете: просто признать то значение, которое за полвека со времени своего
выхода в свет приобрела в мире эпопея «Война и мир», и тем самым
подтвердить соответствие Толстого Нобелевской премии Йенсен не хочет или не
может. Однако, ссылаясь на мнения русских научных авторитетов,
критиковавших Толстого за исторический фатализм (профессор Н.П. Кареев10) или
славянофильский, антиисторичный подход к изображаемым событиям, Йенсен
как будто стремится выглядеть объективно и не утаивать от шведских
академиков критики в адрес одного из самых великих романов в истории мировой
литературы. Однако эта объективность мнимая, даже фальшивая: приведя
единственный положительный отзыв о романе (H.H. Страхова), Йенсен
пренебрежительно называет его «панегирическим» и немедленно отсылает своих
читателей к проявлениям негативной реакции на «Войну и мир».
Критические замечания самого Йенсена при всем уважении ко временам
давно минувшим нельзя не признать смехотворными. Так, полагая, что
толстовский «гигантский» роман нельзя рассматривать как верное отражение
России в царствование Александра I (как будто роман написан именно с этой
целью!), шведский славист поучает академиков, что Платон Каратаев совсем не
«обычный крестьянин, а один из идеализированных Толстым раскольников»
(sic!)11. Ознакомившись дальше с йенсеновской трактовкой романа, можно
10 Историк Николай Петрович Кареев (1850-1931) критиковал Толстого с позиций строго
научных, будучи специалистом в области французской истории XIX века, франко-русских
взаимоотношений, а также специально разрабатывая научную философию истории (ср. его труды «О
современном значении философии истории», 1883; «Основные вопросы философии истории»,
1883-1990; т. 3 последнего издания специально посвящен проблематике, столь важной для
Толстого: «Сущность исторического процесса и роль личности в истории»).
11 Приведем шведский текст: «...den enda hufvudfiguren ur denna samhällsklass, Karataev, är
icke en vanlig bonde, utan en af Tolstoj idealiserad sektcrist (raskolnik)».
43
узнать, что на его страницах идеализируется «золотой век» Екатерины и что
сыгравшее действительно выдающуюся роль в развитии русской культуры
масонство XVIII в. гармонировало с «собственными мистическими,
филантропическими и националистическими устремлениями» писателя.
Но все эти «замечания» оказываются малозначительными по сравнению с
неприятно поразившим шведского эксперта «дуализмом», проявившимся в
романе. Весьма проницательно Йенсен сопоставляет философско-этические
рассуждения Толстого со сходной попыткой Гоголя во втором томе «Мертвых
душ», который именно из-за проповеднических устремлений писателя не мог
быть написан в чисто романном жанре. Похожая неудача, по мнению Йенсена,
постигла Толстого в последней части «Войны и мира», в которой писатель
«обнаруживает свою неспособность верно судить об исторических событиях», чем
«сужает исторический горизонт и искажает историческое восприятие».
Единственное, в чем Толстой «прав», — это в желании «приукрасить» изображение
войны России с Наполеоном; но именно в этом Толстому «нет оправдания», так
как он в «пассивном сопротивлении» врагу увидел «привлекательные стороны
славянского национального характера». Но еще более возмущает шведского
слависта — у Толстого на это «не было никакого права!» — изображение врага,
особенно «колоссального Наполеона как презренного комедианта и
дилетанта». Впрочем, справедливо полагая, что толстовские трактовки
«военно-исторических событий» и его «теория о случайности роли великой личности в
политической истории» лежат вне компетенции литературного эксперта, Йенсен
отсылает шведских академиков к трудам генерала М.И. Драгомирова12 и
обращается к области, лежащей, очевидно, в компетенции любого читателя — к
роману «семейному», «Анне Карениной», «другому монументальному шедевру»
Толстого, отличающемуся «глубокой психологией и художественной
проработкой деталей». Однако, вопреки ожиданиям, напомнив членам Нобелевского
комитета сцены романа, которые поистине врезаются в душу (в частности,
встреча Анны с сыном), Йенсен избегает как собственных суждений, так и оценок,
почерпнутых из русской критики, вместо анализа романа и его этической
проблематики выписывая лишь мнение о нем Достоевского (из «Дневника
писателя» за 1877 г.).
Более всего этот весьма обстоятельный «экспертный» очерк о творчестве
Толстого выявляет несовершенство механизма обсуждения кандидатур,
номинированных на Нобелевскую премию, во всяком случае, в первые десятилетия
ее существования. А. Йенсен аккуратно ссылается на критику, русскую и
шведскую, критикует перевод «Власти тьмы», например, Вальдборгом Хедбергом,
12 Военный теоретик и писатель, начальник Академии Генерального штаба генерал М.И. Дра-
гомиров (1830-1905) критиковал отрицание Толстым роли военной науки и военачальника (см.
[Драгомиров 1898]). Хотя полемика генерала с автором «Войны и мира» была заочной, основные
взгляды ее участников были вложены B.C. Соловьевым в уста Генерала и Писателя, персонажей
«Оправдания добра» (1897) и «Трех разговоров» (1900), в которых философ выступил с критикой
нравственно-религиозных воззрений Толстого (но она, видимо, осталась неизвестной Йенсену).
44
не сумевшим передать все оттенки речи персонажей пьесы, важные для
раскрытия их характеров. Казалось бы, при такой вполне научной тщательности и
обоснованности отзыв должен стать образцом объективного взгляда на
писателя. Однако этого не происходит, и работа в целом превращается в своего рода
«осуждение Толстого», раскрывая с неожиданной и обескураживающей
откровенностью неумение и нежелание понять толстовские сочинения,
распространенное, по-видимому, в довольно широких слоях шведской гуманитарной
профессуры. Йенсен не одинок: он ссылается, в частности, на мнение профессора
Отто Гарнака13, который еще строже «судил» Толстого и даже именовал его
«модным писателем»!
Наконец, Йенсен переходит к последнему крупному художественному
произведению Толстого — роману «Воскресение». Нобелевский эксперт
признает, что с момента появления романа в печати ставил его «чрезвычайно
высоко» (усилительное слово даже подчеркнуто), особенно за исключительное
мастерство, с которым обрисована главная героиня, за обнажение тайных
пружин судопроизводства и ту разящую иронию, с которой изображен процесс,
а также за удивительное описание Сибири, где Толстой никогда не был и
которую сумел одной силой воображения воссоздать с необычайной точностью.
«Но с другой стороны, — заявляет эксперт, — "Воскресение" страдает от
некоего существенного просчета, как с эстетико-реалистической, так и с морально-
психологической точки зрения». «Просчет», по мнению шведского слависта,
состоит уже в том, что это не роман, а сплошное морализирование, «причем
наивное и догматичное». Но не менее «наивны» те вопросы, которыми задается
нобелевский эксперт; приведем такой образец:
Что хочет сказать этим Толстой? Не утверждает же он, в самом деле, что
человек ответствен за все те преступления, которые совершила одна из
«совращенных» им женщин, и что совершенно неизбежно для каждой соблазненной
незамужней девушки кончить проституцией?
Доводя до абсурда замысел романа, Йенсен заявляет, что ему не показалось
бы безумием, в свете высказанных в романе идей, если бы и старец Толстой
оставил счастливую семью и письменный стол и отправился в Сибирь, по
следам какой-нибудь горничной или гувернантки его детства (это остроумное
предположение завершается двумя восклицательными знаками).
Впрочем, и все «экспертное заключение» испещрено вопросительными и
восклицательными знаками, чуждыми академической отстраненности от
предмета. Со страстностью, казалось бы, не вполне свойственной шведам, Йенсен
высказывает свой протест против «категорической мономании» Толстого, с
всеотрицающей иронией высказавшегося в романе обо всем, что касается раз-
13 Otto von Harnack (1857-1914) — брат выдающегося богослова Адольфа фон Гарнака,
немецкий литературовед, автор ряда работ о творчестве Гёте и Шиллера; профессор истории
литературы в Высшей технической школе Дармштадта.
45
личных социальных институтов, и даже о церкви. Призывая в союзники
русскую критику, Йенсен уверяет, что ее общим гласом было признание
нехудожественности последнего романа Толстого, и в подтверждение приводит
«издевательское» название статьи Я.Ц. Мирского (Яцимирского А.И.) «Лебединая
песня графа Льва Толстого». Да и сама работа Йенсена постепенно скатывается
все к тому же издевательству над «детскими фантастическими мечтами»14, как
он склонен именовать «религиозно-философские, социально-политические и
антиэстетические (sic! — Г. M.) "трактаты"» русского писателя и мыслителя. К
счастью, А. Йенсен спохватывается, что он не компетентен в области
религиозной философии, и, прилагая обширную библиографию нерусских
источников, сосредоточивается на обзоре работ об этическом учении Толстого «с
полностью компетентной русской стороны»15. Однако и сам он также не
отказывает себе в удовольствии высказаться о «личности» Толстого, поделившись
собственными умозаключениями о писателе — так безмерно не вмещавшемся в
рамки какой бы то ни было премии!
Рассуждения Йенсена о религиозном учении Толстого сейчас могут
интересовать кого-либо разве что как чистый курьез. И тем не менее это «курьезное»
мнение сыграло решающую роль при обсуждении кандидатуры Толстого в
Нобелевском комитете! Заметим также, что «русский» — определение, довольно
часто используемое шведским славистом для указания на своеобразие
мышления Толстого, — почти неизменно употребляется им в негативном смысле, как
синоним узкого догматизма и мистицизма и даже фанатизма. В Йенсене
вызывают протест выступления Толстого почти по всем вопросам: нобелевского
эксперта поражает, что, отвергая науку, Толстой отваживается бросить вызов
и укоренившимся в веках христианско-религиозным воззрениям, и «всей
нашей цивилизации», когда речь заходит о потрясении Толстым «общественных
основ». Невзирая на свое «личное благородство и обходительность», Толстой
в оценке Йенсена — подлинно «реакционный анархист». Поражаясь всему
тому, что Толстой «проповедует от самого сердца» в религиозной и
общественно-политической сфере, Йенсен объявляет все его идеи не новыми в
мировой истории, а в русской прямо связывает со «словом и делом русских крестьян
(раскольников)».
Йенсен договаривается до того, что противопоставляет Толстого тем
русским писателям, которые не хуже его знали нужду и нищету, царившую в рус-
14 Это определение Йенсен почерпнул из «Юности» Толстого: «Да не упрекнут меня в том, —
говорится в главе III, — что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и
отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой
догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать,
как и теперь» [Толстой 2000-, I: 158].
15 Йенсен упоминает, останавливаясь более или менее подробно на их выводах, работы
A.A. Козлова, Н.П. Кареева, Д.Н. Цертелева, Л.Е. Оболенского, Н.К. Михайловского, A.M.
Скабичевского, Д.С. Мережковского (чья книга «От Tolstoj och Dostoevski)», хотя и содержит
«странные ошибки и преувеличения, весьма заслуживает внимания» и переведена на шведский язык).
46
ской деревне, в обществе в целом, — Некрасову, Достоевскому, Глебу
Успенскому, М. Горькому, — но которые тем не менее оставались писателями, а не
занимались социальной деятельностью; в общественной активности Толстого
Йенсен видит лишь позу и насмешливо сравнивает писателя со сказочной
принцессой, которая «предпочла есть черствый хлеб, чем умереть с голоду».
Суммируя четверть века спустя, к 100-летию Толстого, отношение к
«толстовству», к собственно религиозному и этическому учению Толстого, Д.П. Свято-
полк-Мирский как будто именно Йенсена имел в виду, говоря о всех тех, в чьих
глазах «барин чудил» [Svyatopolk-Mirsky 1989: 290]. Рассуждая о «пророческом
вдохновении» Толстого, Святополк-Мирский, в частности, так писал о тех
вопросах, которые завели в тупик нобелевского эксперта:
Мы должны честно и ясно признать, что<,> несмотря на бесконечно большую
значительность религиозного и этического учительства Толстого, учение его
этически и религиозно неприемлемо. <...> Но как бы ни мотивировалась
социальная этика Толстого и к каким бы ложным заповедям она ни приводила,
она несет в себе заряд такой силы, какую могла дать только огромная личность
Толстого. Что содержание этики прежде всего должно быть социально<,>
было известно многим русским интеллигентам и до Толстого. Но оно у них не
сочеталось с силой слова и опиралось на чисто эмоциональный, а не на
религиозный опыт. Толстой заговорил о социальной правде голосом<,> от которого
ни в какой угол нельзя было спрятаться; железной рукой он схватил нас, как
хватают нагадившего щенка, и ткнул мордой в наши социальные непотребства.
Праведность и неизбежность его обличений, несших всю силу и весь заряд его
личности и его опыта, ни в какой мере не уменьшались от сопровождающей их
софистики. Их услышали все.
Святополк-Мирский, так же как и Йенсен в «экспертном заключении»,
перечисляет «заповеди» Толстого и заключает: «...все это остается правдой»
[Ibid.: 291-293].
Именно понимания этой правды и силы этой правды не оказалось ни у
нобелевского эксперта, ни у Нобелевского комитета. Ограниченного социального
и эстетического кругозора академиков хватило лишь на понимание того, что
сочинения Толстого подобны «замаскированной мине взрывного действия»
(Б. Шоу), и на естественный обывательский страх перед ней. «Мы не можем
не ощутить жалящей силы, с которой Толстой бросает нам вызов, вопрошая:
чего вы достигли и до чего дошли, придерживаясь противоположных
принципов?» — утверждал в 1898 г. выдающийся английский драматург16. Вполне
ощущая эту неприятную, будоражащую силу, шведские академики не хотели и не
желали отвечать на подобные вопросы. И потому естественно, что для них
Толстой не стал ни пророком, ни учителем. Святополк-Мирский с
обезоруживающей простотой сформулировал «две непосредственные очевидности»,
заставляющие всех и каждого признавать величие Толстого: «Война и мир» —
16 В статье «What is Art» (цит. по: [Опульская 1998: 280]).
47
«художественное достижение исключительного порядка, в некотором смысле
несоизмеримое даже с величайшими творениями других художников слова», а
сам Толстой — «человек исключительно больших моральных размеров, жизнь
которого имеет сверхиндивидуальное, всечеловеческое значение. Те, очень
немногие, кому эти очевидности недоступны, — заключает критик, — такие же
дефективные субъекты, как не отличающие красного цвета от зеленого» [Svya-
topolk-Mirsky 1989: 288]. Увы, критики Толстого, вменявшие ему в вину
ошибочность его построений, его заблуждения, «дефективными» себя не считали.
И все-таки не случайно так мучительно размышляет шведский славист о
жизненном пути Толстого, о его «трагической судьбе» и о том, что его
художественное мастерство повлияло не только на развитие русской литературы, на
появление толстовской традиции в изображении жизни, но также и «далеко за
пределами России» мир его художественных идей был воспринят с огромным
интересом и энтузиазмом. Образованный и начитанный профессор по
славянским литературам словно бьется над загадкой сфинкса, упорно противясь
могучему духовному воздействию Толстого.
Йенсену приходится вступить также в заочную полемику как с теми, кто
выдвинул кандидатуру Толстого на премию, — с членами Французской академии
(«бессмертными»), так и с Оскаром Левертином, доказывая, что в их призывах
к Шведской академии не содержится достаточной мотивации для
присуждения Толстому премии. Очевидно, что названные рекомендатели Толстого и не
задумывались о необходимости какой бы то ни было мотивации, что прямо и
выразил О. Левертин, вызвав негодование у Йенсена: наградить Толстого, по их
мнению, было высокой честью для недавно созданного премиального
учреждения. Но в каком брюзгливом, совершенно неприличном тоне ведется эта
«полемика» — тем более что «внутренний» отзыв Йенсена сугубо монологичен, он
не предназначен для публикации и, в этом смысле, более откровенен и даже
безответствен. Так, стокгольмский славист недоволен тем, что М. Бреаль
«коротко и ясно» заявляет, будто «вся Европа голосует за Толстого», или что Л. Га-
леви называет Толстого создателем «Войны и мира», «Воскресения» «et cetera»:
«...что за "et cetera"?»— вопрошает в скобках Йенсен, как будто речь идет не о
великом писателе, а о безвестном поэте-песеннике!
В заключение своего «обзора» Йенсен, видимо, в поисках все новых
доводов для отвода кандидатуры Толстого, вновь обращается к его
художественным сочинениям и даже не скупится на похвалы толстовской силе и мастерству.
Но основание отклонить кандидатуру Толстого найдено: его собственно
«беллетристические» сочинения написаны давно, в минувшем столетии, и, значит,
не подходят под определение «современная литература», ибо премия должна
присуждаться за сочинения последнего времени. Другая «загвоздка» —
«идеализм» Толстого, который ему, возможно, и присущ — этого Йенсен не
отрицает, — однако не выражен с таким «задумчиво-лирическим вкусом, как,
например, у его антипода Ницше». Наконец, «толстовство» как учение Толстого
48
предстает в глазах Йенсена сугубо русским явлением; ссылаясь на мнение
немецкого критика М. фон Брандта (Deutsche Rundschau), нобелевский эксперт
соглашается, что оригинальность Толстого-мыслителя преувеличена.
«Толстого можно назвать великой совестью России17, — афористически заключает
Йенсен, — но он не является ни ее великим сердцем, ни — хотелось бы
надеяться—в еще меньшей степени ее будущей мыслью». И, процитировав письмо
Тургенева Толстому (июнь 1883 г.) с обращением «великий писатель земли
русской» и с мольбой «вернуться к литературной деятельности»18, Йенсен
торжественно заканчивает: «Dixi et salvavi animam meam. Stockholm 19 maj 1902»19.
Неизвестно, спас ли шведский славист свою душу, но репутация
Нобелевского комитета пострадала раз и навсегда. На направляющую роль Альфреда
Йенсена в отказе Нобелевского комитета в течение ряда лет присудить премию
Л.Н. Толстому указывает Гейр Хьетсо [Хьетсо 1996:6]. В третьем издании
шведской энциклопедии, появившемся после смерти А. Йенсена, понадобилось
специально дать оценку его работам о Льве Толстом как не ставшим «ни
всесторонним, ни основательным рассмотрением его личности и творчества» [Nordisk
familjebok3, 20: 431]. Забегая вперед, заметим, что и десять, и двадцать лет
спустя, когда Йенсену довелось представлять в Нобелевский комитет также
первые «экспертные заключения» о Мережковском и Горьком, восприятие этим
нобелевским экспертом и русской литературы, и России в целом оставалось
неизменно негативным.
В 1902 г., горячо согласившись с безусловно критическим экспертным
отзывом А. Йенсена, члены Нобелевского комитета раз и навсегда решительно
воспротивились кандидатуре Льва Толстого. Они не отрицали высочайшего
художественного мастерства в «Войне и мире» и в «Анне Карениной», однако
комитет резко осудил исторический фатализм писателя, а в более поздних
произведениях— «мрачные натуралистические картины» («Власть тьмы») и
«негативный аскетизм» («Крейцерова соната») [Nobelpriset i litteratur, I: 31].
В «Заключении», которое можно не метафорически назвать обвинительным,
Толстому вменяется в вину не только «враждебность всякой культуре», но и
отрицание иных основополагающих ценностей:
...он признает негодным государство, само право государства осуществлять
наказание, и проповедует теоретический анархизм; он, в общем-то
совершенно неискушенный в критике Библии, произвольно толкует Евангелие отчасти
17 Это определение почерпнуто у Мережковского (ср. «воплощенное угрызение социальной
совести»). Работая над книгой «Освобождение Толстого», Бунин не соглашался с этой оценкой,
полагая, что всем своим творчеством и деятельностью Толстой выступал не как общественный
деятель, а как «противообщественный деятель» [Бунин 1987-1988, 6: 106-107].
18 «Друг мой, великий писатель земли русской, внемлите моей просьбе! — заклинал
Тургенев, находившийся, «говоря прямо, на смертном одре». — Друг мой, вернитесь к литературной
деятельности! Ведь это дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как бы я был счастлив, если б
мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!» [Тургенев 1968: 180].
19 Я сказал и спас свою душу (лат.).
49
в рационалистическом, отчасти в мистическом духе; он с полной серьезностью
отрицает право как личности, так и нации на самозащиту [Nobelpriset i litteratur,
1:31].
Заметим, что Толстой отрицал и деньги, что и высказал прямо в ответе на
предложение номинировать его на Нобелевскую премию. Писатель был волен
выразить свое отношение к финансовой стороне награды, которую ему еще
не успели присудить. Если бы Толстой стал лауреатом, то с деньгами он мог
поступить по своему усмотрению — отдать духоборам, о переселении которых за
океан он тогда заботился20, или на любое иное полезное дело21. В конце концов,
речь шла о чести для самой Шведской академии.
Публично он вновь осудил власть денег как негативную силу, и за этот
повод немедленно ухватились шведские академики. Заранее отклоняя еще не
оказанную честь, Толстой нанес им ощутимую обиду, подкрепляющую их
боязливо-подозрительное отношение ко многим сочинениям русского писателя, в
которых проявились «пристрастность», «односторонность», «враждебность
культуре»22. «Как и следовало ожидать, это "отречение" Толстого от
Нобелевской премии (причем еще до факта присуждения!) сильно повредило
кампании, проводимой сторонниками его кандидатуры. В Нобелевском комитете,
напротив, облегченно вздохнули <...>. Главное, чтобы Толстой не получил
премии» [Хьетсо 1998: 145].
Хотя Толстой заочно как будто отказывался от возможной чести, члены
Нобелевского комитета не могли скрыть, что они уязвлены ясно высказанными
взглядами самого Толстого на ничтожность, даже «пагубность денег».
«Собственное мнение» Толстого окончательно остановило нобелевский ареопаг
20 Толстой бестрепетно и неустанно рассылал письма, содержавшие просьбу помочь
духоборам, «добрым и богатым русским людям» [Толстой 1928-1958,70:463], подавляющее
большинство которых «чудившему» Толстому, как и духоборам, не сочувствовало; так, П.М. Третьяков в
просьбе отказал.
21 Вопреки расхожим представлениям, финансовые дела самого Толстого обстояли отнюдь
не блестяще. Так, весной 1911 г. П.А. Столыпин направил великому князю Константину
Константиновичу (Толстой был почетным академиком) письмо, где сообщалось о выделении нескольких
сотен тысяч рублей из государственных средств для покупки у наследников яснополянского
имения — «в уважение к печальному материальному положению, в котором осталась вдова и семья
графа» (цит. по: [Соболев 1993:142]). Усадьба была куплена правительством, но музей был
основан в ней лишь в 1921 г.
22 Подобный взгляд на сочинения Толстого был не нов и не оригинален. «Когда появилась
"Власть тьмы" Толстого, в обществе и в печати можно было слышать мнение, что пьеса слишком
черными красками рисует народ, что она, так сказать, "ненародна", — вспоминал современник,
нашедший оригинальное и безусловное опровержение обвинениям писателя в «пристрастности»
и «односторонности». — Пересматривая "Великоруса <в своих песнях, обрядах, обычаях,
верованиях, сказках, легендах и т. п:>", мы встретили записанную в Костромской губернии песню,
разговор между матерью и дочерью, где ярко воспроизведен один из самых жестоких элементов
драмы Толстого» (см. [Грузинский 1900: 68]).
50
на мысли, что не следует навязывать великому писателю награду, при
вручении которой во всяком случае пришлось бы подчеркнуть, что она
присуждается из преклонения перед его чисто художественными сочинениями, между тем
как его религиозные и социально-политические труды рассматриваются как
незрелые и ошибочные [Nobelpriset i litteratur, I: 31].
He стоит, впрочем, абсолютизировать косность только Шведской академии.
Свято веря, что «ошибался» именно Толстой, русская цензура не пропускала в
печать «Крейцерову сонату» и запрещала к постановке «Власть тьмы». Один из
сыновей писателя утверждал в мемуарах, что Александр III очень ценил
Толстого и гордился им «как большим русским писателем, но конечно порицал
его философское учение, считая его разрушительным для государственного
строя и вредным для молодежи, которая<,> ложно понимая его учение<,>
революционизируется» [Толстой 1969: 121]. А эрцгерцог австрийский Франц
Фердинанд (1863-1914) в том же 1902 г., «получив на утверждение, в качестве
председателя пражской академии, список вновь избранных почетных членов,
вычеркнул из него Льва Толстого» [ЭС, 72: 678].
Обратившись к эпизоду с отказом присудить Нобелевскую премию
Толстому — общепризнанной ошибке шведских академиков, K.P. Гиров, их коллега
послевоенного времени, размышлял о творчестве, не нуждающемся в
формальных изысках, потому что оно обращено к «основам бытия» и исполнено
«переживаний за человеческую жизнь и судьбу» [Gierow 1965: 4]. Критик
констатировал, что с этой точки зрения среди многих других один писатель «стоит
выше всех. И зовут его Лев Толстой». Не короновав его, Шведская академия
избрала другой путь, а у Нобелевской премии по литературе получилась иная
история.
Стоит поставить и еще одну точку над «i» и указать на национальный аспект
в восприятии художественного гения. К сожалению, в отношениях между
народами, особенно когда речь идет о соседях с непростой исторической судьбой,
все еще остаются болевые моменты. Нельзя упускать из виду, что, сколь ни
велик был гений Толстого, это был прежде всего русский гений, а
присуждение одной из первых премий именно русскому писателю выглядело бы в глазах
всего шведского общества в целом увенчанием давнего врага. Ни разгром в
Северной войне и позор Полтавы в 1709 г., ни поражение век спустя и потеря
Финляндии в русско-шведской войне 1808-1809 гг. не были забыты: Петр
Великий низвел Швецию на уровень второстепенной державы, переставшей играть
сколько-нибудь заметную роль в европейской политике, и шведы уже три века
живут с незаживающей раной. А в главном романе Толстого речь шла об
очередной победе русского народа и низводился с пьедестала тот, кто решал
некогда судьбы Европы и чей маршал (Бернадот) стал родоначальником и поныне
царствующей в Швеции королевской династии! Даже если шведские академики
не признавались самим себе в своего рода национальном возмездии («мне
отмщение, и аз воздам», в точном соответствии с эпиграфом к «Анне Карени-
51
ной»), от решений Нобелевского комитета долгие десятилетия веяло
враждебным по отношению к России духом.
Но было ли восприятие Толстого и в целом мире столь единодушно
восторженным, чтобы однозначно порицать Шведскую академию за
недальновидность и ограниченность? Так, например, поражаясь личности русского
писателя и мыслителя, каким его представил в «Освобождении Толстого» Бунин,
Андре Жид доверил дневнику свое потрясение: «Какое чудище! Постоянно
бунтующий, восстающий против собственной природы <...> Толстой остается для
меня какой-то невозможностью» (цит. по: [Зарубежные писатели о Бунине
1973: 384]). Стоит задуматься: не являлись ли для западного сознания русский
национальный характер, Россия в целом — особенно в революционном
пожаре — столь же непостижимыми и «невозможными»?
Глава 3
Дмитрий Сергеевич
МЕРЕЖКОВСКИЙ
«Излишней нервности нет», — удовлетворенно отмечала осенью 1932 г.
Галина Кузнецова, касаясь самого болезненного предмета — возможности
получения Буниным Нобелевской премии. И тут же признавала: «Но, конечно, все-
таки беспокойно, особенно после внезапного упорного появления в печати
имени Мережковского» [Кузнецова 1995:264]. В окружении Бунина, уверенного
в том, что только его кандидатура представляет русскую литературу,
поддержана шведской гуманитарной интеллигенцией и считается самой вероятной,
неожиданное известие о соперничестве с Мережковским произвело «тяжелое
впечатление» [Там же].
Находясь в дружеских отношениях с Д.С. и З.Н. Мережковскими в первое
десятилетие эмиграции, часто общаясь и даже проводя иногда вместе с ними
лето, Бунин был чужд и их религиозно-философских исканий, и литературного
направления, отзываясь крайне резко, в частности, о романах Мережковского:
«Длинно, мертво, натащено из книг» [Бунин 1998:538]. Отчетливо сознавая, что
«дело присуждения» Нобелевской премии «проходит всегда в глубочайшей
тайне» [Там же: 397], Бунин не только не был в курсе всех перипетий
обсуждения собственной кандидатуры, но тем более не мог знать, когда впервые
появилось в списке кандидатов на Нобелевскую премию имя Мережковского и какое
мнение сложилось о его творчестве у шведских академиков.
Между тем кандидатура Дмитрия Сергеевича Мережковского была
выдвинута на Нобелевскую премию по литературе еще накануне Первой мировой
войны, в январе 1914 г., и вновь предложена в 1915 г. После смерти Л.Н.
Толстого именно Мережковский воспринимался и отечественной, и европейской
гуманитарной элитой как ведущий русский романист1: A.M. Горький в глазах
консервативной Шведской академии представал воистину «буревестником
революции», писателем радикальной социал-демократической ориентации,
другие прозаики не казались выходящими за средней уровень массовой
беллетристики или не создали (еще) масштабных эпических произведений, а
1 «Среди русских писателей, выбравших эмиграцию после Октябрьской революции
1917 года, наибольшей известностью в странах Западной Европы пользовался, пожалуй,
Дмитрий Сергеевич Мережковский. Представители некоторых литературных кругов видели в нем
даже самого выдающегося писателя в русской литературе после Льва Николаевича Толстого»
[Jaugelis 1974а: 32].
53
русская поэзия в глазах зарубежных ценителей русской словесности была за-
тенена мировым явлением русского романа.
В 1914 г. H.A. Котляревский2, как член Санкт-Петербургской академии наук,
предложил кандидатуру Мережковского на рассмотрение Шведской академии;
год спустя это предложение было поддержано членом Шведской академии,
поэтом Карлом Альфредом Мел ином (1849-1919). К тому времени Мережковский
был автором историософских романов, которые снискали ему славу не только
в России: к началу Первой мировой войны, в частности, трилогия «Христос
и Антихрист» (1895-1905) была переведена на многие иностранные языки3, так
же как и программная работа «Л. Толстой и Достоевский» (1901-1902),
посвященная анализу двух тенденций развития русской литературы и безусловно
заинтересовавшая поклонников этих русских гениев на Западе. По масштабности
представленных эпохальных событий и явлений, по уровню документальной
оснащенности и философских обобщений произведения Мережковского никак
не уступали исторической романистике Генрика Сенкевича, ставшего одним из
первых лауреатов Нобелевской премии по литературе. Однако война (в 1914 г.
Нобелевская премия по литературе не присуждалась вовсе, а лауреатом 1915 г.
стал Ромен Роллан, получивший награду годом позднее, вместе с лауреатом
1916 г., шведским поэтом Вернером фон Хейденстамом), а затем и
революционные события в России надолго прервали обсуждение кандидатуры
Мережковского Нобелевским комитетом, и само это имя не фигурировало среди
номинантов на Нобелевскую премию ровно полтора десятка лет.
Громадная разница в отношении Мережковских к возможности получения
Дмитрием Сергеевичем Нобелевской премии в дореволюционное время и в
годы изгнанничества хотя и поразительна, но вполне объяснима. В 1910-е гг.
они были еще относительно молоды и здоровы, обеспеченны благодаря
собственным литературно-художественным трудам и жили в государстве,
стабильность которого не вызывала у них сомнений. Стихотворение
Мережковского рубежа веков демонстрирует с необыкновенной ясностью, как легко
заигрывали литераторы Серебряного века с далеко не шуточными вещами, как
просто жонглировали словами, сочиняя парадоксальные строчки:
2 Котляревский Нестор Александрович (1863-1925) — русский литературовед, с 1909 г. —
академик, первый директор Пушкинского Дома (1910-1925). Близкий к культурно-исторической
школе русского литературоведения, H.A. Котляревский также активно разрабатывал
психологический подход к явлениям литературы. Некоторые монографии Котляревского посвящены тем
же выдающимся представителям русской литературы, что и книги Мережковского, — «Н.В.
Гоголь (1829-1842). Очерк из истории русской повести и драмы» (1915) и «М.Ю. Лермонтов.
Личность поэта и его произведения» (1915). Как историк литературы Котляревский, помимо
прочего, занимался проблемами русского романа, прежде всего «реального», традиции которого едва
ли прослеживаются в романистике Мережковского.
3 «Вторая часть романа-трилогии "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи" принесла ему
писательскую известность в Западной Европе», — указывает В. Казак, добавляя ниже: «При всей
широте охвата романы М<ережковского> написаны легко, захватывающе и имели успех также в
переводах» [Казак 1988: 493].
54
Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником,
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником,
И не иметь друзей...
Но поэта воистину «далеко заводит речь»; и если в 1940-х гг. З.Н. Гиппиус
с горечью сетовала на обстоятельства, в которых прошло более трети их
жизни, — на эмиграцию и «бедность (да, бедность, это был русский — и, можно
сказать, европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший — в
крайней бедности)» [Гиппиус 1991: 196], — то едва ли вспоминала ту
поэтическую безответственность, с какой выговаривались когда-то почти пророчества
в стихотворении «Изгнанники», речь в котором шла, конечно, не о реальном
беженстве, а о духовном избранничестве.
Впрочем, слова о «радостном изгнанничестве» или презрительные
признания, как, например, в «Старинных октавах» — «Я не из тех, кому приятен дым /
Отечества <...>», — вряд ли были искренними. Необходимая в тех
идейно-эстетических условиях литературная маска скрывала совсем иное — задушевное
отношение к родине и неразрывную связь с ней. «И вот мы снова в России», —
писала в начале века Зинаида Гиппиус об очередном возвращении домой, при
регулярности длительных, иногда затягивавшихся на несколько лет, отлучек за
границу. Но наиболее «тяжелой и мрачной» была поездка весной 1914 г., когда
именно Мережковский настойчиво увлек домой из Парижа своих спутников,
З.Н. Гиппиус и Д.В. Философова: «Д.С. <...> ехал в Россию в таком неприятном
настроении, в такой тоске, что всю дорогу с нами даже не разговаривал. Может
быть, у него было какое-то предчувствие, — вне сознания, как все
предчувствия, — что это его последнее возвращение в Россию... (это было последнее
возвращение Д.Ф., да, без сомнения, и мое; но мы этого не почувствовали, как
Д.С.)»[Тамже:292].
Это пророческое предчувствие расставания с родиной навеки и тоска
настоящего изгнанничества прорвались сквозь декадентские настроения и
метафорические игры:
Глядим, глядим все в ту же сторону,
За мшистый дол, за топкий лес,
Во след прокаркавшему ворону,
На край темнеющих небес.
Давно ли ты, громада косная,
В освобождающей войне,
Как Божья туча громоносная,
Вставала в буре и огне?
О, Русь! И вот опять закована,
И безглагольна, и пуста,
Какой ты чарой зачарована,
Каким проклятьем проклята?
А все ж тоска неодолимая
К тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас, родимая,
Нам больше некуда идти...
Стихотворение с символическим для будущего эмигранта названием
«Возвращение» завершало поэтическую часть XV тома «Полного собрания
сочинений» Мережковского (1912): после искусных по форме, но искусственных по
темам и настроению лирических стихов были помещены откровенные
«Старинные октавы», а за процитированным выше стихотворением, в котором уже
звучит ностальгический мотив поэзии русского зарубежья, следовала
литературно-критическая работа «О причинах упадка и о новых течениях
современной русской литературы» (1893), многие утверждения которой и сейчас жалят
своей непреходящей правдой:
...язык — воплощение народного духа: вот почему падение русского языка и
литературы есть в то же время падение русского духа. Это воистину самое
тяжкое бедствие, какое может поразить великую страну. Я употребляю слово
бедствие вовсе не для метафоры, а вполне искренне и точно. В самом деле, от
первого до последнего, от малого до великого, для всех нас падение русского
сознания, русской литературы, может быть, и менее заметное, но нисколько не
менее действительное и страшное бедствие, чем война, болезни и голод
[Мережковский 1912, XV: 210].
Проанализировав предшествующий период в истории русской литературы
сквозь призму символистской эстетики и собственных
религиозно-мистических воззрений, Мережковский заканчивает свое исследование вновь жгуче
правдивыми словами, предсказанием, в котором напыщенно-ходульная
символика сменяется простым, но бесконечно трагическим образом:
Однажды, во время Севастопольской кампании русские солдаты шли на
приступ. Между нашими и враждебными укреплениями был глубокий ров.
Первые ряды пали и наполнили равелин телами мертвых и раненых.
Следующие ряды прошли по трупам. Такие равелины бывают в истории. Через них
иначе нельзя пройти, как по мертвым телам.
Впрочем, если даже современному поколению суждено пасть, ему дана
радость, едва ли не единственная на земле, ему дано увидеть самый ранний луч,
почувствовать первый трепет новой жизни, первое веяние великого будущего.
Когда Дух Божий проносится над землей, — никто из людей не знает,
откуда Он летит и куда... Но противиться Ему невозможно [Там же: 305].
Д.С. Мережковский думал и писал о литературе в 1892 г., не предполагая ни
ее грядущего нового расцвета, ни будущей судьбы отечества и своей
собственной. Между тем, пока поэты рубежа веков трудились над решением «огромной
задачи сознательного литературного воплощения свободного божественного
идеализма» [Там же], страна неуклонно неслась в пучину войн и революций.
56
В год, когда разразилась Первая мировая война, литературное творчество
Мережковского впервые стало предметом обсуждения Нобелевского комитета.
Обстоятельный экспертный отзыв был уже написан, но события июля-августа
решительно повлияли на выбор Шведской академии, как уже говорилось, не
присуждавшей в тот год премии.
В дневниковых записях З.Н. Гиппиус о событиях тех лет Нобелевская
премия не упоминается. Умы Мережковских заняты общественно-политическими
вопросами, помыслы обращены к свершающейся в России трагедии: «Что
писать? Можно ли? Ничего нет, кроме одного — война\» — признается З.Н.
Гиппиус в день объявления Россией войны в «Синей книге» [Гиппиус 1999, 2: 382].
Но и полгода спустя мрачное и нетворческое настроение все то же: «Не было
сил писать. Да и теперь нет» [Там же: 391]. «Поэзию я слушаю, но не поощряю, —
описывает в другом месте «Синей книги» Гиппиус свое общение с
литераторами, — и навожу их на споры о войне и политике» [Там же: 392]. И в самый
канун революции определяет окончательно свой решительный разворот к
политике: «Только — о данном часе истории и о данном положении России и
хочется говорить» [Там же: 436]4. Среди таких чувств и мыслей, разумеется, не
было места тем переживаниям вокруг премии, которые придут значительно
позже.
З.Н, Гиппиус в рассказе о тех днях поясняла, что «острое ощущение войны-
несчастья» заставляло на все прочее, происходившее в обыденной жизни,
смотреть как на «что-то неважное до призрачности» [Гиппиус 1991: 294]. Как
факты «беспечного» существования упомянуты премьеры пьес — ее
собственной и Мережковского, между прочим «на Александрийской сцене с Савиной и
Мейерхольдом» [Там же]5, — но никакого упоминания о возможном
присуждении Нобелевской премии и о выдвижении на нее. Правда, один раз название
державшей нейтралитет скандинавской страны промелькнет в ее записях, но
все в том же контексте войны — «организованного самоистребления,
человекоубийства»: «Тысячи возвращающихся с курортов через Швецию создали в
газетах особую рубрику: "Германские зверства". Возвращения тяжкие,
непередаваемые <...>» [Гиппиус 1929: 12]6. В дневнике Гиппиус 1914-1919 гг., до
эмиграции 1920 г., совмещаются два плана: содрогания от «непоправимой тя-
4 Показательно, что с 1915 г. и сами записи получают название «Общественный дневник».
5 И другая аналогичная запись, о премьере «Романтиков» Мережковского, которого
«вызывали яро и много»: «Успех определенный. Но как все это суетливо. И опять — "ничтожно"»
[Гиппиус 1999,1: 428]. (Премьера пьесы, посвященной молодому М. Бакунину, состоялась 21 октября
1916 г.)
6 Заметим, что среди тех, кто не мог благополучно вернуться из Европы в Россию, была
лечившаяся в Швейцарии от туберкулеза Милица, дочь Варвары Пащенко-Бибиковой, первой
страстной любви Бунина, прототипа Лики из «Жизни Арсеньева»: «Во время войны из
санатории написали, чтобы родители взяли больную. Отец <А.Н. Бибиков> с большими трудностями
добрался до Швейцарии. Нашел Милку в плохом состоянии, повез домой. Дорогой она
скончалась, кажется, в Стокгольме» [Бунина 1989:145].
57
жести несчастия», передаваемого через множество действительных слухов и
фактов и преломленного в потрясающе женской, почти истерической по тону,
с прерывистыми рыдательными интонациями апокалиптической картине
гибели страны, и трезвое, по-мужски аналитическое понимание «исторической
грандиозности событий» [Гиппиус 1929: 14]. «Но, — гласит одна из записей
«Петербургских дневников», — это грех теперь — писать стихи» [Там же: 15]
(см. также: [Гиппиус 1999, 1: 390]). И, словно накладывая табу на занятия
литературой вообще, как на грех, Мережковские ни о каких премиях не заботятся
и размышления о них не вносят в посвященные иным темам и проблемам
дневники7.
Между тем в 1914 г. на рассмотрение Нобелевского комитета был
представлен первый обзор творчества Д.С. Мережковского. Следует заметить, что
автор экспертного заключения, Альфред Йенсен, в каждой из своих книг,
посвященных России, отзывался с неизменным доброжелательным интересом
о религиозно-эстетических исканиях Мережковского и рассматривал его как
наследника Толстого и Достоевского. Человек и критик сугубо
консервативных убеждений, Йенсен с опаской относился к идейному и художественному
радикализму, свойственному русской литературе, однако о личности и
творчестве Д.С. Мережковского — первого русского писателя, выдвинутого на
Нобелевскую премию по литературе после отвергнутого/в том числе и его
стараниями, Толстого, — шведский славист постарался написать по возможности
объективно.
Обзору сочинений Мережковского предпослан краткий биографический
очерк, в котором отмечено детство, проведенное в Елагинском дворце времен
Петра Первого, и восхищение личностью основателя «новой русской столицы»8,
первые путешествия в Крым и на Кавказ, знакомство с З.Н. Гиппиус — из семьи
7 Следует, тем не менее, оговорить, что никакой «надбытностью» эта чета не страдала: в
Париже — разумеется, не на случай эмиграции, а для удобств заграничных путешествий — была
куплена квартира и дождалась Мережковских: их постоянный адрес в Париже rue du Colonel
Bonnet, 11 bis. О том, как всеми правдами и неправдами Мережковские добывали пропитание и
деньги для бегства из Петрограда, дает хорошее представление вступительная статья H.H. При-
мочкиной к публикации «Мережковские и Горький в годы революции (Письма Зинаиды Гиппиус
и Дмитрия Мережковского М. Горькому)» [Примочкина 2002: 741-744]. Как впоследствии на
литературное сообщество эмиграции, так и еще до отъезда, в советской России, умение
Мережковского «всю свою жизнь» подчинить цели «накопить денег» производило весьма невыгодное
впечатление; наблюдая некоторые, доходящие почти до неприличия, старания Мережковского,
многодетный и оттого еще менее других обеспеченный самым необходимым К. Чуковский в
сердцах назвал писателя «бойким богоносцем» [Там же: 743, 745].
8 Вот что рассказывала об этом четверть века спустя в книге «Дмитрий Мережковский»
З.Н. Гиппиус: «Знаю, что семья жила на казенной квартире на набережной, а летом — на Елагине
(острове. — Т. М.), в доме около Елагинского дворца, где 2 августа 1865 г. Дмитрий С. и родился.
Он очень любил Елагин остров и много рассказывал о том, как он в детстве проводил там лето,
показывал мне даже деревья, на которые залезал с книжкой, чтобы быть совсем одному»
[Гиппиус 1991: 165]. Заметим кстати, что имя Петра Первого, как и XVIII век в целом, в
автобиографических «Старинных октавах» совершенно не упоминаются.
58
шведского происхождения (ср.: [Гиппиус 1991: 165; ЭС, 37: 113; Пахмусс 2002:
21]) — и женитьба на ней.
Обратившись к рассмотрению творчества, в котором отразилась «тонкая
личность» Мережковского, шведский критик придерживается жанрово-хроно-
логического принципа. Прежде всего охарактеризованы стихотворные
сборники. Если первый, по мнению шведского критика, обнаруживает родство
с поэзией Надсона и проникнут до известной степени демократическими
идеями, то во втором, «Символы», проступает влияние Пушкина и античности,
отчасти Э. По и Бодлера9. В своих рассуждениях, например, в изложении
религиозной направленности творческих исканий молодого поэта, Йенсен
опирается на поэтические тексты, правда, не пытаясь привести их в адекватном
переложении на шведский, а только пересказывая их сюжеты (так, именно в
сюжете и образах «петербургской поэмы» «Смерть» обнаруживается ее тесная
связь с пушкинским «Евгением Онегиным»). Одним из лучших произведений
Мережковского конца XIX в. А. Йенсен считает стихотворение «Вера» —
«простую и трогательную историю про влюбленную пару», «поэтическое
отражение» такого типичного для России 1870-80-х гг. явления, как «хождение в
народ»10.
В «Новых стихотворениях» 1896 г. Йенсен улавливает иные черты
поэтического облика Мережковского — «надменное упрямство, языческий культ
красоты и неосознанный пантеизм» — и видит влияние уже другого русского
поэта, Лермонтова, с его «холодным спокойствием и бесстрастием». «Мережковский
уже тогда приступил к созданию "Юлиана Отступника", и такие стихотворения,
как "Леонардо" и "Микеланджело", свидетельствуют, что идея грандиозной
"мировой трилогии" уже тогда родилась у него в голове». Среди стихотворений,
дающих наиболее целостную картину творческой личности Мережковского,
Йенсен называет «Бог», «Голубое небо», «De profundis», «На озере Комо»,
обличающие «упорство и сомнение борющегося духа», «жажду любви и света».
Гораздо меньше впечатляют шведского критика лирико-эпические сочинения
Мережковского, посвященные легендарным личностям («Аввакум», «Фран-
9 Первый сборник стихотворений Мережковского, принесший ему литературную
известность («Стихотворения. 1883-1887»), появился в 1888 г., второй, «Символы (Песни и поэмы)», —
в 1892 г. (оба — Санкт-Петербург).
10 Ср.: «По содержанию своей поэзии, М. в начале всего теснее примыкал к Надсону. Не
будучи "гражданским" поэтом в тесном смысле слова, он, однако, всего охотнее разрабатывал такие
мотивы, как верховное значение любви к ближнему ("Сакья-Муни"), прославлял готовность
страдать за убеждения ("Аввакум") и т. п. На одно из произведений первого периода
деятельности М. — поэму "Вера" — выпал самый крупный литературный успех его. Чрезвычайная
простота сюжета, разработанного без всяких потуг сказать что-нибудь необыкновенное, давала
автору возможность не напускать на себя никаких чрезвычайных чувств, а живые картины
умственной жизни молодежи начала 80-х гг. сообщают поэме значение серьезного воспроизведения
эпохи. Поэма полна юношеской бодрости и заканчивается призывом к работе на благо
общества» [ЭС, 37: 114].
59
циск Ассизский», «Франческа Римини», «Уголино»). Иные стихи11 —
«величавые терцины о Микеланджело» и «прекрасное похвальное слово» Марку
Аврелию — свидетельствуют, по мысли Йенсена, о вызревании замысла
прозаической трилогии в воображении Мережковского-поэта.
Специально для выносящих решение членов Нобелевского комитета Йен-
сен оговаривает:
Предлагать пробы переводов поэтических произведений я считаю лишним,
даже неуместным, потому что, умудренный многолетним опытом в этой сфере,
я склонился к тому мнению, что переводчик в области чистой лирики, сколь бы
прекрасным и добросовестным он ни был, скорее повредит, чем принесет
пользу хорошему поэту.
И потому эксперт по русской литературе кратко резюмирует свое
представление о поэтическом развитии Мережковского, от социальных тенденций
1870-х гг. к «не вполне ясному» символизму и ницшеанству 1890-гг., а затем и
к выражению христианского мировоззрения в стихотворной форме. При этом
Йенсен указывает, что в России никогда не переоценивали творческих
достижений Мережковского и утверждали, что «его поэзия не согревает читателя»12:
она является скорее продуктом культуры и просвещения, чем собственных
переживаний, скорее результатом интеллектуального труда и образования,
чем чувства и вдохновения. Как бы то ни было, лирика Мережковского
занимает важное место в новой русской литературе, и в своем ясном, свободном
стиле он выступает достойным учеником Пушкина, даже если у него нет такого
технического совершенства и мощного пафоса, как у Брюсова или Бальмонта.
Нетрудно заметить, что А. Йенсен опирается на доступные ему русские
источники, первым из которых должен быть назван краткий (две колонки) очерк
из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Но критическая оценка
писателя, даваемая С. В. (С.А. Венгеровым), — известные упреки в
«преобладании головной надуманности над непосредственным чувством», в недостатке
11 В «Полном собрании сочинений» Д.С. Мережковского эти произведения помещены в
разделе «Легенды и поэмы» [Мережковский 1912, XV]. В распоряжении А. Йенсена было несколько
изданий поэтических произведений — «Новые стихотворения» (СПб., 1896) и «Собрание стихов:
1883-1903» (М., 1904), вошедшие в указанный (XV) том «Полного собрания сочинений»; его
предваряло замечание от автора: «В это собрание вошли из прежних стихотворных сборников
Д.С. Мережковского все стихи, которым автор придает значение, и все, напечатанные им за
последние годы».
12 В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза - Ефрона буквально сказано:
«Отличительные черты разнообразной и плодовитой деятельности М. — преобладание головной
надуманности над непосредственным чувством. Обладая обширным литературным образованием и
усердно следя за европейским литературным движением, М. часто вдохновляется настроениями
книжными. Стих его изящен, но образности и одушевления в нем мало и, в общем, его поэзия не
согревает читателя (выделено нами. — Т. М.). Он слишком часто останавливается на темах, не
соответствующих свойствам его суховатого дарования, и потому впадает в ходульность и
напыщенность» [ЭС, 37: 114].
60
«образности и одушевления», в «суховатости дарования», в тенденциозности
его литературно-критических работ — слишком явно смягчается шведским
славистом. Остановившись несколько подробнее, чем автор словарной
справки, на разборе стихотворений Мережковского, Йенсен усваивает лишь
доброжелательные оценки русского источника — «очень крупный размах»,
«глубокое проникновение автора в дух эллинизма», «отсутствие шаблонных
приемов» — или даже почти дословно переводит на шведский язык положительные
суждения (ср. замечание о поэме «Вера»). Однако такие резкие выражения,
как «ложный пафос и мертвая аллегория», «масса предвзятости», «крупнейшие
противоречия» и проч., присутствующие в русском источнике, в рецензии
для Нобелевского комитета не фигурируют. Оценка С.А. Венгерова, не
вполне, правда, уместная для энциклопедии, была продиктована живым участием
в современном литературном процессе и резким неприятием эстетики
символизма:
Мораль нитчевских «сверхчеловеков» поразила воображение
впечатлительного поэта, и он готов отнести стремление к нравственному идеалу к числу
мещанских условностей и шаблонов [ЭС, 37: 114].
Подход А. Йенсена гораздо сложнее: внешняя симпатия к русскому
писателю, отчетливо проступающая в выводах и оценках, совсем не означает
действительно сочувственного отношения рецензента к творчеству анализируемого
автора и его личности. В тот момент, когда писалась рецензия 1914 г.,
Мережковский в качестве нобелевского лауреата по литературе казался эксперту
Шведской академии наиболее приемлемой славянской кандидатурой — как
некогда абсолютно неприемлемой была фигура Льва Толстого. Замечательно, что
те качества сугубо интеллектуального, «холодного» творчества Мережковского,
которые отталкивали от него русских читателей и критиков, на шведский
эстетический вкус представляются как раз позитивными.
Но, как справедливо полагает эксперт, не лирика принесла Мережковскому
заслуженную литературную славу, а «историческая проза, психологическая
критика и — отчасти — религиозно-философские творения». К основным
произведениям Мережковского Йенсен относит его трилогию с «довольно
претенциозным названием» «Христос и Антихрист»13, вдохновленную идеей Ницше о
том, что поворотные эпохи в истории человечества создают сильные
характеры, максимально приближенные к идеалу «сверхчеловека». Выбрав в мировой
истории три периода кардинальных перемен — гибель античного мира («Смерть
богов»), его возрождение во времена итальянского Ренессанса («Воскресшие
боги») и, наконец, «жестокий конфликт между Петром Великим и его несчаст-
13 В книге очерков «Царство на распутье», в главе «Третье царство» — название прямо
отсылает к идеям Мережковского, — А. Йенсен сходным образом высказывается о трилогии
писателя; в обзоре для Нобелевского комитета эксперт повторяет свой прежний отзыв, отчасти
варьируя и излагая более пространно некоторые его положения [Jensen 1905:170-179].
61
ным сыном Алексеем», — Мережковский стремился выявить изменения
человечества и взаимосвязь событий мировой истории, «поэтически показать то,
что он называет борьбой "Голгофы с Олимпом", и осуществить попытку
"художественного примирения западной культуры с русской мистикой"». Критика
этого «смелого» замысла и его воплощения предваряется в экспертном отзыве
А. Йенсена подробным пересказом каждой из частей трилогии — «Юлиан
Отступник», «Леонардо да Винчи» и «Петр и Алексей».
Среди предшественников Мережковского в художественном освоении
образа Юлиана Отступника Йенсен указывает на столь различных и отдаленных
друг от друга во времени и пространстве писателей, как Пруденций, Вольтер,
Клопшток, а также скандинавские драматурги Б.Э. Мальмстрём, Карстен Хаух
и Генрик Ибсен, причем влияние последнего на русского романиста кажется
Йенсену наиболее очевидным. Речь идет о «мировой драме» Ибсена «Кесарь и
Галилеянин». Пьеса Ибсена о Юлиане Апостате, смелая попытка
драматическими средствами представить обобщенную историософскую картину развития
человечества к грядущему соединению духовного и плотского начал, была
опубликована в 1873 г., но в русском переводе А. и П. Ганзен появилась только в
«Полном собрании сочинений» писателя, вышедшем в свет в 1896-1897 гг.
Однако к 1896 г. Мережковский уже завершил своего «Отверженного» (так
первоначально был озаглавлен роман «Смерть богов. Юлиан Отступник»), и
пользоваться он мог не русским, а лишь французским переводом пьесы, действительно
сильно повлиявшей на него своим концептуальным решением. Статья
выдающегося датского критика Георга Брандеса «Мережковский» прямо
начинается с утверждения:
То, что Ибсен в своей драме «Кесарь и Галилеянин» называет «третьим
царством», нашло своего апостола в лице одного из наиболее видных
представителей молодой России, в лице писателя, замечательного как художник и
своеобразного как критик. Этим апостолом является Дмитрий Сергеевич
Мережковский. Как истинный славянин, он соединяет в своем лице
глубокомысленную проницательность с туманною мистичностью. Так же, как Толстой и
Достоевский, он не удовлетворяется искусством для искусства. Он ощущает в
себе религиозного проповедника и не сомневается в том, что именно России
достанется удел подарить человечеству мессию будущего, мессию, который
разрешит все религиозные искания и сольет воедино Элладу с Палестиной,
язычество с христианством, воплотив их в то высшее единство, в котором
найдет удовлетворение и сердце и ум» [Брандес 2001: 313].
Касаясь некоторых образов романа «Юлиан Отступник», Брандес проводит
более конкретные параллели с Ибсеном. Русским современникам
Мережковского его ориентация на уже хорошо знакомые образцы также была очевидна.
Так, разбирая в 1910 г. «ту религиозную политику или политическую религию,
которую возвещает небольшая группа литераторов во главе с Д.С.
Мережковским», С.Л. Франк замечает, что «Мережковский только выразил на свой лад
62
то, что одинаково чувствовали — тоже каждый по-своему — и Ибсен, и Ницше,
и Оскар Уайльд, и некоторые другие: потребность уничтожить старый
религиозный и моральный дуализм и заменить его религиозным освящением жизни
и культуры». И добавляет: «В драме Ибсена "Кесарь и Галилеянин" идея
"третьего царства" как синтеза между язычеством и христианством высказана с
полной отчетливостью» [Франк 2001: 309]. Нобелевским экспертом роман
Мережковского оценивается достаточно высоко, как удачное соединение
«глубокого исследования» и ярких картин отдаленного прошлого (исторический
материал для которых почерпнут писателем, главным образом, из хроник
Аммиана Марцеллина14): «Правдива или ложна, но эта картина наиболее
понятна и приятна для читателя нашего времени», как «стихотворение в прозе о
солнечном закате античного мира» . Рассуждая об образе Юлиана Отступника в
поэзии, эксперт Нобелевского комитета ссылается на работу Р. Фёрстера
[Foerster 1905].
В еще большей степени, чем при оценке созданного Мережковским образа
Юлиана Отступника, в котором есть «несомненно что-то северно-грустное»,
Йенсен опирается на собственные историко-культурные представления и в
оценке центрального персонажа второй части трилогии, Леонардо да Винчи.
Шведский критик не оспаривает трактовок Мережковского, но скорее
предпочитает их анализу собственные попытки постичь личность гения. К наиболее
удачным страницам романа Йенсен относит психологический этюд,
посвященный самой пленительной и загадочной картине Леонардо — портрету Моны
Лизы (Джоконды), с ее таинственной, «то насмешливой, то всеведущей, то
безразличной улыбкой, с которой "мертвые смотрят на живых"».
Не уделяя особого внимания характеристике двух центральных фигур
романа, Леонардо да Винчи и Микеланджело (искусство первого вдохновлено
«горней обителью Бога», а последнего — «бурей»), Йенсен ограничивается
простым перечислением других исторических личностей, выведенных
Мережковским: Макиавелли, может быть, излишне сурово осуждаемый Рафаэль,
строгий Савонарола, папы Александр VI и Лев X, Цезарь Борджа... Однако после
рассмотрения второй части трилогии Йенсен останавливается на «небольшом
итальянском сборнике новелл» «Любовь сильнее смерти» [Мережковский 1902;
1904], цитируя в переводе на шведский размышления Мережковского о
природе творчества из рассказа «Микеланджело», посвященного созданию фресок
Сикстинской капеллы.
Основательность эрудиции писателя и яркая образность его языка
заставляют рецензента признать, что в романе представлена «самая лучшая научная
характеристика Леонардо», хотя и затемненная излюбленными идеями
Мережковского о родственности и взаимоотталкивании культов Диониса и Христа,
и сделана она «русским, так же как и самое основательное художественное ис-
14 Аммиан Марцеллин — древнеримский историк (330-400), автор «Истории римского
государства» (из 31 книги сохранилось 18, охватывающих период конца IV в.).
63
следование о Леонардо выполнено земляком Мережковского, критиком
Волынским (Флексером)»15. «Во всяком случае, — заключает о романе "Воскресшие
боги. Леонардо да Винчи" Йенсен, — это очень интересный труд, плод
огромного прилежания, работы мысли и поэтической проницательности»16.
В третьем романе трилогии «Христос и Антихрист», «Петр и Алексей»,
А. Йенсен справедливо увидел изображение «времени брожения и перелома,
когда конфликт между царем на престоле и царевичем Алексеем одновременно
стал "конфликтом культур между новой Россией и старой Москвой"».
Описание России XVIII века, и прежде всего «мятущихся мистических сект с их
безумными метаниями и разнузданностью», предстает в глазах скандинавского
слависта особенно ярким на фоне обильно представленного «исторического
материала». Уловить довольно нарочитую связь первых частей трилогии с
третьей — «русской» — на композиционно-образном уровне кажется рецензенту
делом несложным: представленный «сверхчеловеком» Петр напоминает «ни с
кем не считающегося» деятельного Леонардо, в то время как слабовольному
царевичу соответствует неуверенный ученик великого маэстро Джиованни Бель-
траффио; в двух последних частях трилогии фигурирует статуя Афродиты —
названная «белой дьяволицей» христианизированными потомками римлян, на
«варварский двор Петра Великого» «петербургская Венера» наводит страх и
ужас своим языческим великолепием; наконец, эпилог последнего романа
перекликается с завершением «Смерти богов» — и хотя лодка плывет не по
Средиземному морю, а по холодной непокорной Неве, но именно в идиллии «мирной
природы кроткий Тихон получает божественное откровение и уверенность в
том, что "Христос победит Антихриста"».
«Мне кажется сомнительным, — осторожно замечает на это рецензент, —
что Мережковскому удалось убедительно осуществить и доказать основную
идею трилогии, потому что он поставил перед собой задачу поистине
неразрешимую. Исторической и логической связи между Античностью и
Возрождением, с одной стороны, и жестокими реформами царя Петра, с другой
стороны, — уверенно сообщает Йенсен, — нет».
15 А.Л. Волынский (Флексер; 1863-1926), «Леонардо да Винчи» (СПб., 1900). О
параллельности создания романа Мережковского и исследования А. Волынского с тем же названием З.Н.
Гиппиус вспоминала довольно ядовито, представляя последнего совершенным профаном [Гиппиус
1991: 202] и даже предположив, что роман Мережковского не был напечатан в «Северном
вестнике» отчасти потому, что его редактор «уже тогда задумал сам написать большую книгу о
Леонардо да Винчи <...>. Он, как известно, выпустил ее в роскошном издании. Судить о ней не могу,
так как мы ее не видели» [Там же: 204]. Чета Мережковских ревниво отнеслась к
искусствоведческому изданию Волынского, выпущенному почти одновременно с беллетристическим
сочинением Мережковского и, как явствует из отзыва нобелевского эксперта, заслужившему самую
высокую оценку также и на Западе.
16 К лучшим современным работам, написанным на шведском языке о трилогии
Мережковского, Йенсен относит исследование Нильса Эрдмана, помещенное в журнале «Ord och Bild»
(«Слово и образ») в 1906 г. (см. [Erdmann 1906: 394-400]).
64
Мережковский хотел, так же как Виктор Рюдберг, указать на тот новый день,
когда «античность и христианство проникнут друг в друга»17; но когда он
переносит это «третье царство» на русскую землю, нам, западным людям, трудно
это принять. В безжалостной борьбе царя Петра с его несчастным сыном на
самом деле не содержится никакой борьбы между «Христом» и
«Антихристом», ибо это символистское представление не согласуется ни с русским
духом того времени, ни с историческим характером главных персонажей. В
Алексее не было ничего от мистического пророка, так же как и царь Петр не был
демоническим «сверхчеловеком», несмотря на то что он, замечательным
образом, соединял в себе типичное для русского умение подражать, дерзкую
любознательность, жажду жизни и безумную энергию. Ненависть Петра к своему
сыну в первую очередь зависела от инстинкта самосохранения и от заботы о
нерушимости нового государственного устройства. Реформы царя не были,
кстати, подготовлены его предшественниками, касались лишь практической
пользы и скользили по поверхности, но, вообще говоря, не внесли никаких
изменений в духовную и религиозную жизнь. По предложенному Мережковским
мистическому пути вряд ли можно прийти к искомому синтезу между
античной наивной любовью к природе и высокими моральными идеалами
христианства. Мы не думаем, что Петербург и Москва, получив наследство после
Афин и Рима, привели к примирению между античным и христианским
мировоззрением. Ключ от сказочного замка, от «третьего царства», которое должно
соединить «истину титана с правдой Галилеянина, Прометея с Христом», ни
Ибсен, ни Мережковский не отыскали.
Этот длинный отрывок из рецензии А. Йенсена, ровно страница
машинописного текста, является прекрасным образцом восприятия романа русского
писателя именно шведами, ибо книга написана на болезненную для них тему
Петра Великого. Вряд ли только мистицизм Мережковского обусловил
негативную оценку идей и ценностей, положенных в основу именно этой части
трилогии, — не символизм русского писателя, а воскрешение им забытой, но
величественной концепции «Москва — Третий Рим» вызывает протест рецензента.
Новая российская столица в шведском сознании — не провозвестник новой
эры в истории России, ее поворота к западной цивилизации, а лишь военная
угроза с востока. У русского человека на слуху пушкинский чеканный стих,
звучащий как констатация исторической справедливости («Отсель грозить мы
будем шведу, / Здесь будет город заложен / Назло надменному соседу»). Точка
зрения «с противоположного берега» была несколько иной:
В те дни пред севером дремотным
Уже возник Петровский град,
Что нынче красоваться <рад>
17 В поэме В. Рюдберга «Прометей и Агасфер» (1877), построенной в форме диалога,
западный пафос свободы противопоставлен восточному самоотречению. К теме столкновения
культур Рюдберг обращался и раньше, в публицистической работе «Последний афинянин» (1859),
очерке о торжестве христианства над античной культурой, об утрате идеала красоты после
жестокой победы монотеистической и авторитарной молодой религии.
65
Чужих венцов числом несчетным.
Как новорожденный дракон,
Лежал в своем заливе он.
В змееныше годами малом
Кто 6 чудища не отгадал.
Уж яд в зубах его вскипал,
Расщепленным шипел он жалом.
Там против мирных свейских вод
Снастили смертоносный флот [Кан 1998: 89]18.
Мережковский невольно смыкается в своей интерпретации образа Петра
Первого не с традицией, идущей в русской литературе от Ломоносова
(«Бессмертия достойный муж, / Блаженства нашего причина») и продолженной
Пушкиным, при всей сложности его исторической концепции, а, в сущности, со
старообрядческим отождествлением царя-реформатора и Антихриста. В
результате же оказывается, что подобная оценка деятельности Петра, исходящая
из консервативных, косных, оппозиционных прогрессу кругов русского
боярства, духовенства, стрелецкого войска, как нельзя более сочувственно
принимается внешними врагами страны. А. Йенсен четко определяет свою
позицию — о жестокостях Петра, о «варварской» России он судит как «западный
человек», — однако он исходит не только из своих общих представлений, но из
текста романа, образ Петра в котором относится к художественным просчетам
Мережковского и сильно приглушает искренний патриотический пафос.
«По поводу этого романа у нас опять явились споры <...>, — вспоминала
З.Н. Гиппиус, иначе, нежели шведский славист, но тоже не удовлетворенная
образом Петра в романе «Христос и Антихрист». — В этом, конечно, страшном,
столкновении отца с сыном Д.С. — мне казалось — все больше и больше берет
сторону Алексея. Замечалось это главным образом, когда он рисовал фигуру
Петра. Да отчасти и Алексея, который мечтал, сделавшись царем, Петербург
покинуть, переселиться в Москву, где и жить потихоньку, по старинке, Богу
молиться (бороду, конечно, отрастить...). Я понимала, что сам-то нежный,
бедный, слабый Алексей может больше привлекать к себе, нежели грубый, даже
для своего времени, неугомонный Петр. Но ведь дело не в симпатии, а в правде.
Я протестовала против неумеренного подчеркивания грубости Петра <...> и
сцены с Петром он переделал» [Гиппиус 1991: 231]. Для «западного» сознания,
впрочем, довольно оказалось и оставшихся на страницах романа проявлений
петровской резкости, жестокости, беспощадности, давших повод заговорить не
о некотором несоответствии исторической правде, а о подлинности именно та-
18 Шведские поэты XIX в. неоднозначно воспринимали Российское государство, лишившее
своего некогда мощного балтийского соседа («шведского льва») былого могущества и влияния:
например, Эрик-Юхан Стагнелиус благожелательно относился к русским, воспринимая их как
победителей Наполеона. Но процитированные строки — в удачном переводе О. Румера —
принадлежат другому крупному поэту, Э. Тегнеру (поэма «Аксель», 1822).
66
кого образа русского царя-реформатора и о невозможности ожидать от
деспотической России осуществления синтеза красоты и правды.
Именно соображения национально-идеологического порядка заставили
Йенсена, воспользовавшись художнической незоркостью Мережковского,
сосредоточиться на финальной книге трилогии, чтобы совершить элегантный
антирусский выпад, — тот факт, что борьба старого с новым всегда
совершалась с большими потерями, в том числе культурными, о чем повествуют два
первых романа писателя, критик предпочитает не замечать. (Истины ради
следует отметить также и попутный укол в адрес Г. Ибсена, которого Нобелевский
комитет уже отверг десятилетием раньше.) Между тем Мережковский,
образованность которого, хорошее знание источников и современной литературы
Запада создали ему на родине репутацию совсем не «национального писателя», в
восприятии европейской критики был именно таковым. Г. Брандес утверждал:
Мережковский является романтиком национализма. Переливающееся через
край национальное чувство умаляет его как критика и делает его суждения
ненадежными. По его мнению, от образа действия русских зависит судьба
Европы. <...> И поэтому главный смысл его произведений сводится к словам: мы
или никто! [Брандес 2001: 317].
Для западноевропейской критики национальный пафос сочинений
Мережковского был не только очевиден, но и неприемлем19.
Что же касается литературных заслуг писателя, то они не вызывают
сомнений у нобелевского эксперта Йенсена. Добросовестно упомянув о недостатках
творческой манеры Мережковского, за которые его упрекала и русская
критика, — нарушении внутренней связи между описываемыми явлениями,
недостаточной выпуклости центральных фигур и перегруженности повествования
деталями, так что «за деревьями не видно леса»20, — и отметив, что многое в
романах просто «перенесено из старых летописей, исторических документов,
мемуаров и т. д.», — критик признает:
Но помимо весьма солидной учености, о которой свидетельствуют эти
исследования, очевидно, конечно, и несомненное искусство в захватывающем и
великолепном умении сотворить из хаоса фактов и цитат, притом изящным
стилем, неповторимую серию исторических полотен. Здесь <представлен>
громадный исторический материал, обработанный художником-психологом; это
блестящая гигантская мировая история, и если Шведская академия — не без
оснований — обратила свои внимательные взоры на историческую трилогию
19 Прославленный датский критик даже заострил проблему, привлекая для рассмотрения
книгу «Л. Толстой и Достоевский»: «Неужели его русские читатели действительно считают
естественным то, что он упорно сопоставляет Пушкина с Рафаэлем, Толстого с Микеланджело и
Достоевского с Леонардо? Надо во всяком случае быть русским, чтобы делать такие сопоставления
и наслаждаться ими» [Брандес 2001: 321].
20 Русская пословица имеет совершенно точный аналог в шведском языке.
67
Сенкевича21, мне кажется, что не меньшее внимание должно быть обращено
на этот монументальный труд за его художественное мастерство
изображения, универсальное содержание и идеалистическое направление (курсив
наш.— Т. М.).
Последнее, столь необходимое для соответствия формулировке Альфреда
Нобеля, условие действительно отличает сочинения Д.С. Мережковского.
Однако на сей почти дифирамбической ноте отзыв Йенсена не
заканчивается, и явная рекомендация завершает собой даже не вторую его часть, о прозе
писателя, а ровно первую половину всей работы. Нобелевский эксперт был
истинным знатоком жанра, ибо обстоятельный литературно-критический очерк
преследовал, безусловно, и чисто психологическую цель воздействия на мнение
академиков. Рекомендация, оказавшаяся на столь безукоризненно точном
месте, деля отзыв четко посередине (дальнейший текст графически отделен двумя
звездочками), уже содержит в себе возможную формулировку, в которой
Нобелевским комитетом обычно кратко поясняется, за что писатель удостоен
награды; это резюме и заимствуется, как правило, из очерка эксперта.
Следующим предметом обстоятельного рассмотрения Йенсена становится
другая трилогия Мережковского, озаглавленная им, «из-за любви к
апокалиптическим выражениям», «Царство Зверя» и включающая в себя драму
«Павел I», роман «Александр Первый» и еще не опубликованный к моменту
написания отзыва для Шведской академии роман «14 декабря». Новое масштабное
сочинение Мережковского не кажется шведскому слависту равным по
монументальности и художественным достоинствам первой трилогии, хотя и
представляет обширный достоверный материал по истории России первой четверти
XIX в. Главное же, что отмечает А. Йенсен, столь откровенно не признающий
толстовского гения, — это выгодное отличие «калейдоскопа» произведений
Мережковского от эпопеи «Война и мир», которая совершенно «лишена
понимания истории». Для проведения подобного противопоставления в пользу
Мережковского у Йенсена есть только один аргумент — абсолютная
документальность повествования, когда чувства и мысли исторических лиц почерпнуты из
их «подлинных писем и дневников». Но это, увы, не является условием
художественного прозрения, и Йенсену приходится признать, что «в большинстве
случаев для знатока литературы не трудно указать на те источники, откуда
начитанный писатель черпал» речи для своих персонажей. Приближаясь к
современности в изображаемом времени, писатель чувствовал себя «еще более ско-
21 Г. Сенкевич был удостоен Нобелевской премии в 1905 г. Г. Брандес прямо выразился о
книге «Юлиан Отступник» (единственной доступной ему в переводе в 1913 г., когда он работал
над очерком о Мережковском), что она «стоит неизмеримо выше исторического романа
Сенкевича "Quo vadis?". Если этот последний роман обязан был своим шумным успехом главным
образом содействию католической церкви, которой распространение его недаром казалось
выгодным, то "Смерть Богов" проложит себе путь к читающей публике силою своей внутренней
ценности» [Брандес 2001: 314].
68
ванным историческим материалом», лишь озвучивая и расцвечивая им свою
прозу, но при этом не создавая ярких характеров и не открывая тайных пружин
жизни общества.
Третий раздел отзыва Йенсена посвящен деятельности Мережковского —
историка литературы. О его дебюте в этом качестве, работе «О причинах упадка
и о новых течениях современной русской литературы», эксперт, процитировав
лишь запоминающиеся заключительные строки, сообщает, что она не
привлекла к себе большого внимания22. Оригинальность мысли писателя, отмечает
рецензент, выразилась в книге «Гоголь и черт»23, вызвавшей большой интерес.
Сжато, в нескольких фразах передает Йенсен концептуальное содержание этой
книги, но в еще более скупой форме он излагает содержание книг
Мережковского о Лермонтове (впрочем, с этим исследованием эксперт, вероятнее всего,
не ознакомился и потому только упоминает его, даже без точного названия),
Горьком и Чехове24. Шведский славист лишь указывает, что у Горького
Мережковский отмечает «лирическое торжество», оттеняющее низкие стороны
жизни, как и введение самой жизни в литературу; впрочем, об этом писателе Йен-
сену еще предстояло через несколько лет составить отдельный отзыв. В Чехове,
по мнению Йенсена, Мережковского восхищает простой и вместе с тем
блестящий стиль, а категорическое неприятие вызывает представление о настоящем
как о начале движения к великой цели будущего, тогда как сам Мережковский
видит в любом, самом уродливом проявлении настоящего осуществление связи
между прошлым и будущим культуры человечества.
Замечательным трудом, проникнутым боевым духом
культурно-политической борьбы, называет А. Йенсен книгу Мережковского «Грядущий Хам» (сам
он переводит название как «Нашествие черни», но в шведском переводе она
была озаглавлена «Мещане и крестьяне»)25. «Среди всего ужасного и грустного,
что пережила Россия в последнее время, — пишет Йенсен, — он <Мережков-
ский> считает, что дикая охота на русскую интеллигенцию — самое страшное».
22 Очевидно, что Йенсен имеет в виду европейскую и прежде всего шведскую аудиторию,
так как в России книга (СПб., 1893), в основу которой легли прочитанные годом раньше в
Русском литературном обществе лекции, была воспринята как манифест нового литературного
движения и имела как раз большой резонанс.
23 Рецензент опирается на книгу именно с этим названием (М., 1906), тогда как журнальный
вариант (1903) и 2-е издание (СПб., 1909) носили иное, более нейтральное название («Судьба
Гоголя») и имели подзаголовок «Творчество, жизнь и религия».
24 В «русском собрании» Нобелевской библиотеки Шведской академии представлены все
дореволюционные издания Д.С. Мережковского, включая собрание сочинений, а также
большинство его эмигрантских сочинений, вышедших в 1920-30-е гг. в разных европейских центрах
русского зарубежья: «Мессия», «Рождение Богов. Тутанкамон на Крите», «Тайна Трех: Египет и
Вавилон», «Тайна Запада: Атлантида - Европа».
25 При первом издании («Полярная звезда», 1905, № 1) работа была озаглавлена «Мещанство
и русская интеллигенция», а свое знаменитое название получила в отдельном издании (СПб.,
1906).
69
В шведском языке нет производного от библейского имени Хам, поэтому
для определения той силы, приход которой в недалеком будущем к власти
провидел Мережковский, в шведском языке находится смягченный эквивалент —
чернь, толпа. Правда, в таком понимании идея русского писателя обедняется:
когда он говорит о «грядущем хаме» и о трех его ипостасях, чернь оказывается
лишь одной из составляющих этой грозной силы (будущее «лицо хамства,
идущего снизу, — хулиганства, босячества, черной сотни — самое страшное из
трех лиц»). Нобелевский эксперт пытается отыскать соответствие каждому
русскому понятию (например, уточняя смысл русского слова «хулиганство»,
Йенсен добавляет к шведским аналогам еще и французскую лексему «апаши»).
Другие русские реалии, литературные — босячество («босяки Горького») и
общественные — черносотенство, «самая страшная сила толпы», — были
понятны благодаря усвоению именно русских определений. Два других «облика»
обрисованного Мережковским зла — это самодержавие, «мертвый позитивизм
государства26 и китайская стена бюрократии», и православие, «духовное
рабство и обывательщина», и три эти чудовища (так деформировалась,
собственно, триада «православие, самодержавие, народность») «борются против страны
и народа, против церкви и против живого духа России».
Шведский славист довольно подробно пересказывает это произведение
рецензируемого автора, потому что в нем затронуты важные вопросы духовного
состояния России, мировоззренческих поисков интеллигенции и революцио-
низации темных народных масс. Однако недавние события в соседней стране
(революция 1905-1907 гг.), осмысление которых и содержалось в разбираемом
труде Мережковского, нисколько не потрясают А. Йенсена. Он лишь составляет
бесстрастное резюме из противоречивых, сложных, проникнутых
характерным для Мережковского религиозно-мистическим настроением положений
книги. Пробивающийся через историософию к задушевной мысли русской
литературы о возрождении страны, пробуждении в ней «духа жива», писатель не
находит отклика своим мыслям в скандинавском специалисте по русской
литературе, который конспектирует для членов Нобелевского комитета лишь
несколько замечаний, касающихся русского народа, более других «апокалиптич-
ного», чей «атеизм, однако, — это поиск Бога, обратная сторона его мистицизма»,
и русской интеллигенции, сила которой находится «не в разуме, но в сердце и
совести, и нужна вера в живого Бога, чтобы побороть мертвый абсолютизм и
освободить русский народ».
Больше привлекает Йенсена посвященная современному состоянию страны
«Больная Россия» (СПб., 1910), ибо в статьях из этого сборника Мережковского
26 Интересно проследить не только принципы оценки русских писателей скандинавскими
специалистами по русской литературе, но одновременно оценить, насколько адекватным бывал
перевод лучших образцов отечественной словесности на иностранные языки и насколько точно
вообще может звучать неповторимое родное слово в переводе. Так, «государство» в цитируемом
примере появляется в шведском тексте вместо оригинального «казенщина»: смысл, кажется, не
искажен, а яркая экспрессивность оценки совершенно исчезла.
70
идет речь также и о глубинной разнице между Россией и Европой. «Очень
интересным» представляется эксперту проведенное Мережковским сравнение
«между жаждой свободы в 1801, в 1824 <sic!> и в 1905 гг. В России вряд ли
можно говорить о глубокой революции, — размышляет невозмутимый швед весной
1914 г. накануне мировой войны, приведшей в России к самой настоящей
революции, — а только о "вечном возмущении вечных рабов" и постоянном
появлении и Аракчеева, и Фотия в русской истории».
Не случайно достаточно краткий анализ публицистических книг Д.С.
Мережковского завершается упоминанием персонажей его трилогии «Царство
Зверя»: «Когда Мережковский оставляет религиозно-философские и
социально-политические противоречивые вопросы и всецело погружается в
исторические и эстетические проблемы, он становится несравненно более
увлекательным, во всяком случае для иностранцев». А. Йенсен принадлежал к
эстетическому направлению шведской литературной критики, видя в любых
«больных вопросах», поднимаемых писателями, разрушение художественности, что
и проявилось в его стараниях не допустить Толстого — не писателя, а
мыслителя—к награждению Нобелевской премией. Но, честно исполняя возложенные
на него обязанности эксперта, он останавливается на всех сочинениях
Мережковского, от лирики до исторической романистики, от публицистики до
литературной критики.
Некоторые эссе Мережковского о классиках русской и зарубежной
литературы, написанные в 1888-1896 гг. и составившие книгу «Вечные спутники»
(исследования по античности — о Марке Аврелии, Дафнисе и Хлое, Плинии
Младшем), Йенсен восторженно характеризует как «маленькие шедевры», не
претендующие на изречение единственной истины, но привлекающие
«остроумием, прекрасной образованностью в сочетании с благородным стилем».
Менее удачными представляются рецензенту статьи о Сервантесе, Монтене и
Флобере.
«Высочайшей вершиной творческой деятельности Мережковского как
литературного критика и психолога» Йенсен называет исследование «Л. Толстой и
Достоевский» (1899-1901). «И нет сомнений в том, — торжественно предрекает
он, — что этот труд, как и трилогия "Христос и Антихрист", сохранит имя
Мережковского для потомков»27. Сам рецензент воспринимает это обширное
сочинение, свидетельствующее о глубоком знании вопроса, как «самый
критический анализ — не только Толстого и Достоевского, но русской духовной жизни
вообще», видя в сопоставлении творчества двух русских гениев, со всеми их
исканиями и противоречиями, возможность разъяснения тайны гармонии,
свойственной в русской литературе только Пушкину, примирения «духа» и
27 Напомним, что сам А. Йенсен воспользовался этим трудом Мережковского, когда
составлял для Нобелевского комитета в 1902 г. «экспертное заключение» о Льве Толстом. В уже
упоминавшейся книге очерков «Царство на распутье» Йенсен замечает, что «оригинальная
книга» Мережковского «преисполнена мелких странностей, но также и гениальных мыслей» [Jensen
1905: 170].
71
«плоти», в котором Мережковский усматривает «окончательный идеал». Это
выдающееся «монументальное» произведение, напоминает Нобелевскому
комитету Йенсен, удостоилось высоких оценок иностранных, в том числе
шведских, литературоведов, в частности О. Левертина28.
Вся завершающая часть рецензии Йенсена, собственно, посвящена
рассмотрению того, как оценивает Мережковский личности двух крупнейших — не
только русских, но мировых — писателей и как их идеи, прежде всего
религиозные, преломились в некоторых его сочинениях. И этот финал
литературно-критического обзора написан не просто с удовольствием — в нем сквозит едва
скрытое торжество триумфатора, не допустившего всего за десять лет до того
провозглашения Льва Толстого нобелевским лауреатом. Примеры и
отточенные, резко критические, порой ядовито иронические формулировки в книге
Мережковского подобрать было несложно. Много позднее З.Н. Гиппиус
признавала:
...конечно, Достоевский должен был быть ближе ему, нежели Толстой.
Поэтому, вероятно, он и перегнул немного в его сторону и сказал кое-что
несправедливо насчет Толстого. Это было давно, и с тех пор, не меняя своего мнения о
«религии» Толстого, Д.С. немножко иначе стал видеть его, как человека с его
трагедией [Гиппиус 1991: 240].
Для Йенсена же книга Мережковского с некоторыми «несправедливыми»
интерпретациями личности Толстого стала новым аргументом в пользу его
старого мнения о «последнем из пророков» и дополнительным доказательством
собственной правоты перед шведскими академиками.
«Мережковский безжалостно разбивает легенду о Толстом, — не без
злорадного ликования сообщает Йенсен, — и сбрасывает идола с пьедестала,
чтобы освободить место во всяком случае необычайному писателю и
титаническому человеку, который, однако, остановился в развитии и погиб,
бессознательно-трагически». Как видим, упреки к великому писателю в том, что он до
чего-то «не дорос» и чего-то «не понял», может обращать не только вульгарно-
социологическая критика, но и эстетическая. «Особенно ярко, — продолжает
Йенсен, — отражен трусливый компромисс Толстого в отношении к семейной
28 Известно, что Томас Манн находился под огромным воздействием этой работы
Мережковского, которая во многом определила его восприятие русской литературы в целом и
романистики Достоевского и Толстого в частности. Подробнее см. [Struc 1988: 17-28] (исследователь
указывает, что Мережковский играл для Т. Манна роль «Вергилия в лабиринте русской
литературы» [Ibid.: 27]). «Никто из русских критиков не был представлен на немецком <книжном> рынке
так, как он», — замечает У. Хефтрих [Henrich 1995: 76]. Мережковский, кстати, отражен в
сохранившейся библиотеке Т. Манна (Архив Томаса Манна, Цюрих) таким количеством немецких
изданий, которое сопоставимо только с книгами Толстого и Чехова (см. [Werke russischer Autoren
1978: 313-316]). Следует, впрочем, заметить, что отсутствие книг Бунина и Шмелева в этой
библиотеке никак не связано с невниманием к ним немецкого писателя: довоенный архив и
библиотека писателя были в связи с рядом обстоятельств (эмиграция из Германии, пожар дома) во
многом утрачены.
72
жизни и собственности ("ложь буржуазного довольства") и духовный конфликт
в его браке. "Нигилизм" Толстого в глазах Мережковского — один из многих
болезненных симптомов, проявившихся во всем христианском мире,
"нетелесного" духовного недута, который, по существу, скрывает внутри себя
материализм, прикрывает бездушную телесность». Ссылаясь на писателя, о котором он
пишет обзор для Нобелевского комитета, шведский славист, в сущности,
развивает свой давний тезис о ложности, даже разрушительности мировоззрения
Толстого, которое лежит в основе и его художественных произведений.
«Толстой не понимал, — назидательно указывает Йенсен, — что любовь к самому
себе и любовь к ближнему равнозначны любви к Богу», — и не замечает при
этом, как узко ригористически звучат его собственные, не выходящие за рамки
затверженного Евангелия упреки великому мыслителю. Историософская
концепция Толстого оценивается Йенсеном как «тотальное непонимание истории»
(особенно ярко проявившееся в «сниженном и искаженном изображении
Наполеона» в «Войне и мире»), непониманием объясняется и отношение Толстого
к такому сложному процессу, как борьба христианства и эллинизма.
Творчество Мережковского незаметно оказывается в тени, а Йенсен,
прекрасный знаток русской литературы, выступает в немного смешной роли
сельского лютеранского проповедника, «повторяя зады» Синода, отлучившего
Толстого от церкви: «Толстой не верил ни в Бога, ни в Христа — искупителя
человечества, ни в Иисуса — самого мудрого и справедливого из людей.
Оторванная от религии, мораль застыла в руке Толстого, так что в конце концов не
осталось никакого христианства. Толстой боялся истории, как будто он
чувствовал свою слабость перед судом истории, его христианство стало бегством
со всех исторических дорог», — пишет шведский критик, продолжая спор с уже
ушедшим из жизни русским классиком. И, для вящей убедительности, щеголяет
почерпнутым у позабытого было Мережковского убийственным образом:
Толстой хотел стоять одиноко, чтобы «между ним и Христом могло поместиться
самое большее несколько английских методистов, американских квакеров или
крестьян-буддистов».
Антиномию творческих и философских исканий двух русских писателей,
выявленную и, не без искажений, проанализированную в книге
Мережковского, Альфред Йенсен реферирует как противопоставление «самоуверенному
довольству Толстого, считавшего, что он обрел единственную истину», «вечных
поисков истины Достоевским и его сомнений и страданий из-за вечного
противоречия между божественной любовью и человеческой свободой». Шведский
критик подчеркивает, что Достоевский никогда не отрицал ни культуры, ни
религии — в отличие от разрушительного критика Толстого — и «видел яснее
многих, что окончательная судьба христианства выше всей истории»29.
29 Единственное исправление, сделанное рукою А. Йенсена в машинописном отзыве,
представленном в Нобелевский комитет, касается именно этой фразы: сначала было написано «всех
историй».
73
Позиция Йенсена в ее двойственности проступает все очевиднее:
настроенный позитивно в отношении Мережковского как писателя, выдвинутого на
Нобелевскую премию и ее, в глазах эксперта, достойного, он, тем не менее, во всем
творчестве рецензируемого писателя ищет критику России и русских,
выявление ее слабых сторон и недостатков. То, что у Мережковского писано если не
болью и кровью — высокий эмоциональный накал никогда не был
отличительным свойством творческой манеры писателя, — но во всяком случае с любовью
и стремлением постичь духовную жизнь отечества и его историческую судьбу,
становится для Йенсена поводом выставить и несимпатичную ему лично
страну, и русского человека в невыгодном свете. Изо всех
литературно-философских построений Мережковского более всего привлекательно для Йенсена
«блестящее расследование Мережковским эволюции типа преступника, о
котором пишет Достоевский, от Раскольникова ("Преступление и наказание") через
Ставрогина и Кириллова ("Бесы") к Ивану и Дмитрию Карамазовым. <...>
В Раскольникове Достоевский видел олицетворение греха русского
либерализма: отрицание, как продолжение религиозного безверия, и вырождение, безо
всякого понятия о Боге».
Указав на «интересное сопоставление» Достоевского с Ницше в вопросе
о богочеловеке30 и закончив свой обзор этого труда Мережковского
пространной цитатой финала, Йенсен переходит к «наиболее трудно разъяснимой
стороне творчества Мережковского, его религиозной философии, которую он
сам, видимо, считает наиважнейшей». Последней из рассмотренных экспертом
книг Мережковского становится «Не мир, но меч. К будущей критике
христианства» (СПб., 1908), и Йенсен указывает на сложность религиозных воззрений
Мережковского — «по крайней мере для меня», честно замечает он31. Когда
литература используется как «средство для выражения идеи», Йенсен
предпочитает заменить собственную критику (ибо недальновидность его оценок
Толстого за десятилетие всем стала слишком очевидной) многостраничным
цитированием, хотя и предваренным попыткой тезисно изложить именно
«идеи». Абстрактные философские представления и чужды, и малоинтересны
рецензенту, и он неизменно обращается к тем разделам книги, в которых речь
идет о художественной словесности, в частности, «о религиозном» в русской
литературе. Вся заключительная часть обзора творчества Мережковского пред-
30 «Поистине, присутствие Ницше в этом тексте (труде «Л. Толстой и Достоевский». — Т.М.)
столь же значительно, как и присутствие двух русских гениев, которых исследователь сравнивал
не только друг с другом, но и с немецким философом», — замечает современный автор [Розен-
тал ь 1999: 124].
31 Определения «трудный», «сложный» были наиболее корректными из тех, которыми
критика выражала свое отношение к сочинениям Мережковского. Неприятие его религиозной
публицистики в России характерно даже для круга некогда близких ему людей; Мережковский —
«мучительная для бывших его друзей загадка», — сформулировал это более или менее общее
отталкивание от религиозно-мистических поисков писателя Вяч.И. Иванов в эссе с
исключительно удачным названием «Мимо жизни» (цит. по изд.: [Мережковский: Pro et contra 2001: 359]).
74
ставляет собой обширные выписки из его религиозно-публицистического
сочинения.
Так как, с одной стороны, руководители Нобелевского института выразили
желание, чтобы представленное к 15 апреля экспертное заключение не было
«слишком длинным», и, с другой стороны, большее и лучшее из написанного
Мережковским существует в хорошем шведском переводе32 <...>, то я считаю
свой реферативный труд завершенным.
В заключение первый эксперт Нобелевского комитета по славянским
литературам счел необходимым привести слова самого Мережковского о его
литературном творчестве (буквально — «труде всей жизни»), помещенные в
предисловии к его собранию сочинений. Этими пространными выписками — на
сей раз без каких-либо комментариев рецензента или высказываемой им
рекомендации — и заканчивается первый обзор творчества русского
писателя-символиста для шведских академиков — членов Нобелевского комитета.
К очерку творчества Д.С. Мережковского была приложена переписанная
каллиграфом библиография его произведений в переводе на иностранные
языки и составленная на основе каталога «Russica» Императорской Публичной
библиотеки в Санкт-Петербурге33. На больших листах бумаги (размером с
газетный лист) перечислено 3.7 переводов сочинений Мережковского, изданных на
немецком, английском, французском, итальянском и польском языках за
первые полтора десятилетия XX в. Шведские академики, владевшие европейскими
языками, могли не только познакомиться с основными произведениями
русского писателя (прежде всего с романами из трилогии «Христос и Антихрист»),
но и получить наглядное представление о его месте в современной европейской
литературе.
В «Заключении» Нобелевского комитета 1914 г. указано, что Дмитрий
Сергеевич Мережковский в последние годы приобрел достаточную известность в
Европе благодаря переводам его наиболее значительных произведений на
европейские языки, в том числе и на шведский, а подготовленный доктором
Альфредом Йенсеном «реферат» наиболее полно освещает ту часть творчества
писателя, которая существует пока только на языке оригинала. В «Заключении»
записано:
Нельзя отрицать, что Мережковский — талантливый писатель с большой
начитанностью и образованием. Его стиль часто увлекателен, особенно в
романах и меньше в трактатах, страдающих растянутостью и многочисленными
повторениями. Его поэтические произведения изящны в формальном отношении,
32 До Первой мировой войны в шведском переводе вышла в стокгольмском издательстве
«Гебер» (Geber) трилогия «Христос и Антихрист», а в издательстве «Боньер» (Bonnier) —
трилогия «Царство Зверя»; романы первой трилогии выдержали несколько изданий. Все переводы
были осуществлены Э.С. Вестер (псевдоним — Е. Weer).
33 Œuvres de Dmitri Merechkowsky. Traduites en langues étrangères. D'après le Catalogue «Russica»
de la Bibliotèque Impériale Publique à St. Pétersbourg.
75
но вряд ли скрывают в себе какие-то искренние чувства или некое глубокое
содержание. В его романах история и поэзия часто странно перемешаны, и
больше всего они страдают от желания конструировать действие и
изображение согласно априорным теориям или, правильнее сказать, фантазиям. Он все
больше и больше создает образы апокалиптического светопреставления,
которые имеют целью превознести спасительную силу России для жизни
человечества и религии, приблизительно в том же духе, что и у славянофилов и
Достоевского. Вообще его оригинальность скорее надуманная, чем действительно
подлинная или обретенная. При всем уважении к его рвению и усердию,
приходится сильно сомневаться, что он заслуживает Нобелевской премии [Nobel-
priset i litteratur, I: 318].
Следует задуматься над этой оценкой творчества Д.С. Мережковского
шведскими академиками, над их в целом верными указаниями и на его
действительные достоинства, и на недостатки; очевидно, что заключение Комитета
резюмировало обстоятельный отзыв Йенсена. Однако в этом вполне объективном
тексте любопытно специальное выделение национального аспекта. Из
пространной рецензии Йенсена «возвеличивание России» над всем человечеством
в сочинениях Мережковского никак не следовало — хотя рецензента, «как
представителя Запада», задела попытка русского писателя сопоставить
переломное время петровских преобразований со столь же кризисными эпохами в
европейской истории. Однако шведские академики сочли необходимым
подчеркнуть именно этот аспект в творчестве писателя, не обнаруживая при этом
понимания различий между славянофильской концепцией и идеями
почвенника Достоевского. Для шведских гуманитариев развитие национальной
идеологии в России и оттенки в мировоззрении и программах ее мыслителей не
представляли никакого интереса; их отпугивал сам образ России и любые
размышления о ее историческом предназначении и развитии. Между тем
«апокалиптические» пророчества Мережковского в канун Первой мировой войны
имели самые веские основания; но и перед следующей мировой войной они
лишь позабавят другого эксперта Шведской академии, жителя спокойной и
уютной страны, чей покой нарушался только экспериментальными взрывами
нобелевского динамита и беспокойным его изобретателем, создавшим столько
проблем с присуждением премий.
В следующем году, когда Мережковский опять оказался среди писателей,
выдвинутых на Нобелевскую премию, Йенсену пришлось добавить всего
несколько страниц к своему предыдущему заключению. «У меня нет причины
полагать, — уверенно пишет Йенсен, которому довелось оценивать творчество
двух славянских писателей — Мережковского и чешского поэта Махара34, —
34 Махар Йосеф Сватоплук (Machar; 1864-1942) — представитель реализма в чешской
поэзии; автор нескольких стихотворных книг, в том числе сборников политической лирики. Махар
обращался к теме античности, противопоставляя ей христианство как символ упадка
человеческой культуры (поэтический цикл «Совесть веков», 1906-1926), выпустил книгу
антиклерикальной публицистики «Античность и христианство» (1919).
76
что славяне в этом году получат награду». Он упоминает лишь два сочинения
русского писателя — «прекрасный разбор Достоевского и Толстого» и
«прекрасную трилогию» «Христос и Антихрист». «Но его заслуги, — безо всякой
комплиментарности продолжает вслед за тем рецензент, — мне
представляются в большей степени заслугами хорошо начитанного, ловкого режиссера,
собирателя деталей, цитат и просто списанных страниц, за которыми теряются
важные черты». Еще меньше «заслуг» Йенсен обнаруживает в «гладенькой»
поэзии Мережковского, на сей раз ставя ему в прямой упрек отсутствие
оригинального, формально совершенного, даже изощренного стиха, примеры
которого он видит в творчестве Бальмонта и Брюсова. И наконец, третий аспект
творческой личности Мережковского, его религиозная философия, вновь
заводит рецензента в тупик: «...я не могу судить», — честно признается он. Но как
читатель и критик, а не как специалист, высказывает свое нелицеприятное
мнение о религиозных идеях писателя, полагая, «что есть нечто суетное в его
попытках увязать культ красоты античного времени, ницшеанство и православную
мистику»35. Гораздо решительнее, чем год назад, рецензент признается:
Я не могу освободиться от впечатления, что он иногда поддается силе фразы и
красного словца и дает им увести себя в сторону, что он играет некими
излюбленными представлениями (например, «богочеловек» и «человекобог»),
которые сам не может разъяснить. Во всяком случае верно то, что как психолог он
значительно мельче Достоевского, как мыслитель не имеет глубины и
оригинальности Вл. Соловьева и что они оба были его учителями.
Удивительны не большая резкость и откровенность в суждениях и оценках,
которые переводят Мережковского из разряда возможных претендентов на
Нобелевскую премию в многолюдную компанию литераторов — явных
«отказников», хотя и это само по себе факт примечательный. Удивительно другое:
перебирая тех славянских писателей, которые были, по его мнению, «достойны»
Нобелевской премии, Йенсен прежде всего называет Льва Толстого —
«великого романиста 1860-1880-х гг., а не жестокого проповедника-моралиста и
надутого сектанта последних двух десятилетий его жизни». Но Толстой,
скончавшийся в 1910 г., «уже вне игры», проговаривается Йенсен, приоткрывая в
характерном словесном образе атмосферу «большой игры», которая окружает
ежегодный выбор Шведской академии и которая в столь невыгодном свете
представляет его самого.
Чешского поэта Йосефа Махара эксперт оценивает как имеющего
несомненное значение для литературы и общественной жизни своей страны, однако
художественное начало в его произведениях часто бывает «нарочито задушено
35 Касаясь религиозно-утопических взглядов Мережковского, в которых оригинальным
образом уживались восхищение язычеством и приверженность православию, возрождение
полузабытых концепций отвоевания Византии и создания Третьего Рима, современный
исследователь замечает: «И сто лет спустя нельзя думать о чем-либо более несбыточном» [Wellek 1991:
269].
77
или упущено в <...> стремлении к простоте и правде»36. Идеалы, которые
отстаивает в своем творчестве чешский поэт (например, женский или церковный
вопросы), Йенсен снисходительно квалифицирует уже не просто как
«западный человек» — Швеция и Чехия лежат приблизительно на одной долготе, — но
считает, что они лишь «для отсталой в известном смысле Австрии могут иметь
актуальное значение, но для остального западного мира должны
восприниматься как устаревшие проблемы беллетристики».
В результате Йенсен приходит к выводу, что «как художник Мережковский
(подчеркнуто рецензентом. — Т. М.) стоит выше, но в литературном
отношении личность Махара следует признать ведущей, что же касается ясности
мысли и оригинальности, то мне кажется, что ни тот, ни другой не соответствуют
строгим требованиям Нобелевской премии». Шведские академики без
колебаний согласились с процитированным нами почти полностью мнением
эксперта-слависта, отметив, что нет никаких оснований для изменения
прошлогоднего решения [Nobelpriset i litteratur, I: 326]. Подписавший заключение
1915 года Гаральд Йерне, председатель Нобелевского комитета, особо
подчеркнул, что, просмотрев еще раз сочинения русского писателя, не усмотрел
достаточных оснований «для их восхваления», которое раньше слышалось в
его адрес и в его стране, и за рубежом, но теперь начинает «постепенно
стихать» [Ibid.]37.
В течение следующих полутора десятилетий никто не предлагал
Мережковского как возможного кандидата на Нобелевскую премию. Но доктор Альфред
Йенсен не был бы самим собой, если бы не менял собственных мнений о
русских писателях от года к году. Стоило перестать выдвигать Льва Толстого на
Нобелевскую премию, стоило гениальному писателю и мыслителю вообще уйти
из жизни, как авторитетный шведский славист признает его единственным до-
36 В этой связи невозможно не вспомнить того же Толстого, утверждавшего: «Нет величия
там, где нет простоты, добра и правды».
37 Объяснение тому, что сильнейшее увлечение Дмитрием Мережковским на рубеже веков,
когда его «религиозно-мистическая концепция русской литературы влияла на представления
европейских интеллектуалов, в том числе писателей», в годы Первой мировой войны совсем спало,
а в послевоенные годы и вовсе обернулось почти полной индифферентностью к новым
сочинениям русского писателя-эмигранта, содержится в вышедшей в 1980-е гг. в ГДР двухтомной
«Истории русской литературы». Ее авторы отмечают, что сложившееся на Западе во многом
благодаря Мережковскому представление о «загадочной русской душе» и «святой русской
литературе» (это определение, вложенное в уста одного из персонажей новеллы Томаса Манна «Тонио
Крёгер», Лизаветы Ивановны, до сих пор является ключевым для исследователей, занимающихся
проблемой восприятия русской литературы в Германии на рубеже XIX-XX вв.) привело в
конечном счете к негативным последствиям: «религиозно-мистические» представления о России и
русской литературе заслоняли ту глубокую социальную критику, которую нес в себе русский
реализм, его великий гуманистический пафос борьбы против всяческого угнетения; в результате
либерально и демократически настроенные интеллектуальные круги на Западе освободились от
влияния интерпретаций Мережковского, подвергли их ревизии, однако «почерпнутые у
Мережковского трактовки» русского менталитета были ловко использованы фашистской пропагандой
[Geschichte der russischen Literatur 1986, 2: 577-578].
78
стойным кандидатом на Нобелевскую премию от славянских литератур. Так
и мнение о Мережковском через несколько лет у Йенсена вновь поменялось.
В 1918 г. ему пришлось давать экспертное заключение о творчестве Максима
Горького (о чем речь пойдет ниже). Завершался этот небольшой, всего двенад-
цатистраничный очерк об одном из самых ярких явлений в русской прозе XX в.
таким неожиданным пассажем:
...я, хотя меня об этом и не просили, не могу не выразить сожаления, что в
список 1918 г. из русских писателей включен Максим Горький, в то время как
имя Д.С. Мережковского не фигурирует.
Видимо, предполагая, что до некоторой степени изумит шведских
академиков очередным поворотом в оценке творчества Мережковского, А. Йенсен
пытается найти аргументы для своей «амбивалентной» позиции:
Я действительно уже, согласно требованиям, рассматривал кандидатуру
Мережковского и, как мог, попытался оценить его творчество. Собственно, я
выражал свои сомнения о его так называемой религиозной философии (которую
я, кстати, плохо понимаю!), не скрывал и слабостей, присущих ему как
всякому оригинальному художнику-творцу. Но — plurima nitent38. Литературный
труд Мережковского как образованного и развивающегося восточного
славянина, как представителя психологической критики и автора основанной на
мировой истории трилогии навсегда сохранит его имя, независимо от
Нобелевской премии.
После столь неожиданного в очерке о Горьком заявления (вновь звучащего,
словно формулировка при присуждении награды) Йенсен добавляет, что
Мережковским за минувшие несколько лет было написано новое произведение,
«Романтики»39, которого рецензенту, «однако, не удалось достать и прочесть».
И, не в силах рассматривать русскую литературу вне общеславянского
контекста, называет имена «двух славянских писателей, которые соответствуют
несколько неопределенному требованию Альфреда Нобеля и которых стоит
обсуждать: русский Мережковский и чех Бржезина»40.
Впрочем, приходится предположить, что в 1918 г. русские писатели меньше
всего думали о получении Нобелевской премии. Над страной разразилась
катастрофа Гражданской войны, закончившейся для многих литераторов
эмиграцией, а советская власть надолго исключила оставшихся на родине писателей
из списка возможных лауреатов Нобелевской премии.
38 Большинство <его произведений> великолепны (лат.).
39 См. сноску 5.
40 Bfezina Otokar (1868-1929) — чешский писатель; представители чешской гуманитарной
интеллигенции безуспешно выдвигали его на Нобелевскую премию с 1916 по 1929 г. Заметим
кстати, что столь же блистательно Нобелевский комитет долгие годы игнорировал имена всех
номинированных чешских писателей — Ярослава Врхлицкого, Алоиса Ирасека, Карела Чапека.
79
В 1923 г. Михаил Фридонович Хандамиров, офицер царской армии,
ставший университетским преподавателем русского языка (см. подробнее: [Бах-
чинян 1998: 6-7] — рубрика «Имя из армянского рассеянья»), пригласил
Мережковского выступить с лекциями на кафедре славистики Лундского
университета. «К приглашению Мережковский отнесся сдержанно и, пользуясь
случаем, поднял вопрос о переводе его произведений на шведский язык»
[Jaugelis 1974a: 32]. Очевидно, что в первые годы эмиграции возможность
прожить собственно литературным трудом, изданием книг в переводе на
иностранные языки казалась писателю вполне реальной, и оттого вежливо, но
твердо и отчасти высокомерно Мережковский отклонил приглашение
провинциального скандинавского университета: «Спасибо большое за приглашение
приехать в Лунд. Однако едва ли я смогу этим приглашением
воспользоваться», — пишет прославленный писатель безвестному преподавателю русского
языка 5 апреля 1923 г.
Я сейчас поглощен совершенно работой над вторым томом своей новой
книги — «Тайная мудрость Востока», — который обещал приготовить к
Рождеству и, следовательно, проработаю над ним все лето и осень. Кроме того<,>
путешествую я с трудом и всегда беру с собой жену и секретаря, что, в данном
случае, увеличит путевые расходы, не говоря уже о том, что путешествие в
Швецию сильно меня утомит.
Мережковский не может предугадать, что путешествовать, не считаясь с по-
сильностью долгих дорог и отсутствием секретаря, им с женой придется под
старость много и часто, всегда преследуя материальные интересы, возможность
обеспечить сносное существование. Он замечает:
Да и читать я смогу только по-французски, ибо ни шведским, ни английским,
ни немецким не владею настолько, чтобы читать лекции (шведским не владею
совершенно), а это, как Вы сами пишете, свело бы круг моих слушателей к
незначительному числу. Поэтому, я думаю, Вы согласитесь, что если бы я даже и
мог приехать, то результат этой трудной поездки был бы мало плодотворен
[Ibid.: 33-34].
Не ездить с лекциями, а писать и издаваться — это резонное для
литератора желание достаточно эксплицитно выражено в процитированном письме:
обосновав свой отказ посетить шведский университет, Мережковский
высказывает «покорнейшую просьбу» — найти шведского издателя для его
упомянутой новой книги, которую он готов представить и по-русски, и во
французском переводе. Но предупреждает, чтобы возможный посредник не
обращался к стокгольмскому издательству Bonnier — «он отказал» [Ibid.: 34].
Издательство, которое трижды переиздавало трилогию Мережковского, всего через
несколько лет после выхода третьего издания двух ее первых томов не за-
80
хотело продлить свое сотрудничество с именитым и хорошо распродаваемым
автором!41
Послания Мережковского к его лундскому корреспонденту42, в чей замысел
и входило широкое ознакомление шведских читателей с русской литературой,
с творчеством современных русских писателей-изгнанников, обнаруживают,
как быстро превратился известный писатель, влиятельная личность в
скромного просителя. Если тон первого письма строг и слегка высокомерен, то два
месяца спустя Мережковский, в ответ на письмо и телеграмму Хандамирова,
высылает ему свои последние произведения, на русском языке и одно — в
переводе на французский («Тайна Трех. Египет и Вавилон»), обстоятельно поясняя,
в каких русских журналах за границей они опубликованы и когда он сможет
переслать еще не напечатанные или не переведенные на французский главы.
«Если же дело не устроится, покорнейше прошу весь этот материал вернуть»
[Jaugelis 1974a: 35].
Даже по этим отрывочным эпистолярным данным можно судить, как
неизбежно и быстро знаменитый писатель, философ, эстет и эрудит превращался в
собственного литературного агента, в своего рода «приказчика» в
литературной «лавке». Известно, что Мережковские умели устраивать свои издательские
дела43. Вот как принимается писатель за дело со шведским посредником:
Что до гонорара, то на 12% я в принципе согласен. Но, очень прошу Вас,
постарайтесь добиться, чтобы гонорар за первое издание я получил вперед,
при подписании договора <...> Я думаю, что если кружок шведских славистов
обратится от своего имени с такой просьбой к издательству, то оно смягчит
свои условия и выдаст, хотя бы в виде исключения, аванс за первое издание
[Ibid: 35].
41 Правда, вновь расположилось к нему в конце 1920-х гг., когда в переводе Э.С. Вестер
издало две новые книги Д.С. Мережковского: «Gudarnas födelse. Tutankamon pâ Kreta» (1928),
«Messias» (1928).
42 Всего сохранилось четыре письма Мережковского: три датированы 1923 г. (от 5 апреля,
1 июня и 10 сентября), последнее, после долгого перерыва, 21 мая 1934 г.
43 Дневники и письма русских писателей-эмигрантов в межвоенное время наполнены
сетованиями на безденежье и отражают попытки устроить публикацию своих произведений.
Интересные подробности о русских изданиях и издательствах в зарубежье содержатся, например,
в переписке И.А. Бунина с Б.К. Зайцевым. Так, в 1925 г. Бунин обсуждает в письме к Зайцеву
проект издания в Сербии русского журнала и учреждения издательства, комментируя это событие
так: «Ну, да Бог с ним совсем, с этим делом! Одно вижу — Мережковские уже внедрились в него
и его, верно, погубят» [Письма Бунина к Зайцевым 1978:175]. В «странном списке»
предполагаемых к выпуску книг Бунин обнаруживает, наряду с рассказами Лескова и «Евгением Онегиным»,
«2 тома Мережковского», да «еще будет книга Зинаиды — это уже она сама мне говорила» [Там
же]. И месяц спустя сообщает тому же корреспонденту, что издательство «уже действует и,
очевидно, недурно: Д.С. говорит, что он получает<,> помимо 20%, еще и полистную плату со своих
книг <...>». Два дня спустя тон Бунина изменяется на яростно-негодующий: «Что же это
выходит? Издательство Мережковских только? Зинаида в пять минут устроила там свой дневник
(который "Возрождение" отказалось издавать без некоторых выпусков, уж очень революционных, и
за который сербы платят даже за нее какую-то неустойку "Возрождению")» [Там же: 176].
81
Деловитость и даже некоторая оборотистость Мережковского, пожалуй, и
изумила бы, если бы не обстоятельства, в которых русскому интеллигенту
приходилось протягивать руку. С той же «сухостью» и «ясностью», которые в
молодом Мережковском были заметны еще С.А. Венгерову, теперь уже
шестидесятилетний писатель, вынужденный бороться за существование, несмотря на свою
широкую известность в Европе, пишет такому же, едва пристроившемуся
преподавателем, беженцу:
Это условие я ставлю всем издателям по той причине, что все мы, русские
писатели, находимся здесь в чрезвычайно тяжелом материальном положении и
не можем ждать, когда издание будет распродано. Я думаю, что европейское
общество даже представить себе не может, в каком мы находимся
катастрофическом состоянии, иначе оно не могло бы пройти равнодушно мимо этого
ужасного факта [Jaugelis 1974a: 35].
Всё это так, но напоминание об «ужасных фактах» звучит не как вопль
измученного человека, а скорее похоже на текст меморандума. Кажется, иначе
Мережковский изъясняться просто не умеет, не может. Но в следующем письме
звучит совсем иная, теплая интонация, и вместо по пунктам пронумерованного
письма-отчета, с казенным изъявлением благодарности и только что не на
казенном бланке, в Швецию отправлено сумбурное и оттрго несколько виноватое
послание, полное искренних слов и чувств. Оно и начинается неожиданно:
«Глубокоуважаемый Михаил — простите, что забыл Ваше отчество!», — и
продолжается выражением «сердечной» благодарности, и многое объясняет в
прежней холодности мэтра: «Горе мое в том, что мой секретарь44 уехал, и я
хорошенько не знаю, где находится французский перевод моей книги. Но тотчас
по возвращении секретаря постараюсь сделать все возможное, чтобы выслать»
обещанное. «В крайнем случае, если текст перевода не найдется сейчас в
рукописи или в ремингтоне, то вышлю его Вам в корректуре, так как книга должна
скоро появиться во Франции» [Ibid.: 35-36]. Пожилой, рассеянный и
растерянный писатель, даже милый такими человеческими слабостями, вдруг
проглядывает в этом куда более дружеском, чем деловом послании.
И даже материальная сторона обсуждается в ином тоне:
Что касается условий, то очень прошу, чтобы Вы были так добры сообщить их
издателю. Я согласен получить 10% за экземпляр с тем, чтобы половина
причитающейся мне суммы выплачена была мне при подписании договора, а
остальная половина не позже, чем через полгода. Кроме того, мне очень важно
было бы знать, сколько именно я получу <...> пока просил бы Вас только вы-
44 В.А. Злобин (1894-1967) — поэт, прозаик, критик, публицист. С Мережковскими
познакомился в 1916 г., в 1919 г. вместе с ними покинул Петроград, жил в Варшаве, переехал в Париж
и поселился вместе с Д.С. и З.Н., став их секретарем (причем секретарские его обязанности
понимались довольно широко, включая помощь по хозяйству), а после их смерти —
душеприказчиком и хранителем архива.
82
яснить с издательством принципиально и в общих чертах гонорарные условия
и мне об этом ответить [Jaugelis 1974a: 36].
Деловитость и рассеянность замечательно уживаются в постскриптуме, где
Мережковский заботится указать, до какого числа пробудет в Грассе и каков его
постоянный парижский адрес, давно известный его корреспонденту. В этом же
письме Мережковский демонстрирует скрупулезность в иного рода
подсчетах — «размер книги около 15-16 печ. листов (в 37. 000 букв)» — и, видимо,
совсем небесполезное плюшкинство: «Во французском издании будет около 350-
400 страниц, но можно сделать и меньше, если шрифт поубористей» [Ibid.]. Но
даже эта трогательная экономия не возымела действия — как уже отмечалось,
произведения Мережковского были изданы в Швеции лишь в самом конце
1920-х годов.
Мережковский навсегда переселился в Европу, когда его звездная слава
миновала: переводили и печатали его скорее по инерции, по уважению к той
жадности, с которой европейские интеллектуалы некогда зачитывались не столько
его романами, сколько литературно-критическими работами, именно из них
черпая представления о русской литературе. О том, как произошло отчуждение
европейцев от духовного мира Мережковского, наглядно свидетельствует, в
частности, «Парижский отчет» Томаса Манна, посетившего французскую
столицу в начале 1926 г. и отразившего в упомянутой публикации свои
впечатления о встречах с русскими эмигрантами45. Одной из них оказалась «первая и
последняя встреча с Дмитрием Мережковским, которым он прежде столь
восхищался и который за эти годы эмиграции превратился в решительного
антибольшевистского публициста» [Коепеп 1998: 370].
«Мережковский оказался, быть может, важнейшим носителем русской
духовности и русской литературы в развитии Томаса Манна», — пишет
современный немецкий исследователь Г. Кёнен.
Решающее воздействие на восприятие Томасом Манном России имело прежде
всего прочитанное им в 1903 г. исследование Мережковского о Толстом и
Достоевском. Если речь о «святой русской литературе» в «Тонио Крёгере» еще
полностью находилась во власти ранних представлений о единстве восточных
искусства и жизни, то под влиянием чтения Мережковского эти идеи
радикально переменились. Святость теперь, напротив, оказалась связанной с
грехом и искушением, с преступлением и одержимостью [Ibid.].
45 Эти встречи запомнились Т. Манну по-разному. Более всего удалось знакомство со Львом
Исааковичем Шестовым, чьи работы вызывали все больший интерес на Западе: «Он
чрезвычайно русский: бородатый и широкий, восторженный, деятельный, добросердечный,
"человечный"», — описывает Манн свое знакомство с Шестовым, несколькими штрихами рисуя
атмосферу, в которой проходила встреча, — переполненные комнаты, общая доброжелательность и
гостеприимство, «не без некоторого буйства, с крепким чаем и папиросами» (цит. по: [Коепеп
19986:366]).
83
Эссе Томаса Манна «Гете и Толстой»46, в котором он противопоставил их
антиподам — Шиллеру и Достоевскому, — тоже было навеяно Мережковским
[Коепеп 19986: 372]. Главное же расхождение Т. Манна с русским писателем —
«гениальным критиком и мировым психологом со времен Ницше!»47 —
состояло в истолковании происшедшего с Россией в 1917 г. и происходящего с ней
после революции: Манн полагал, что «чуждый» ему лично коммунизм имеет,
однако, «глубокие корни в русской человечности» [Ibid.: 375].
Не Томас Манн искал знакомства со своим недавним кумиром —
Мережковский просил его о встрече. В своих записях Манн со стыдом замечает, «что
совсем забыл по легкомыслию», что тот в качестве эмигранта уже давно живет
в Париже. «Что в этом упущении выразилось менее всего легкомыслие, а в
гораздо большей степени усиливающееся внутреннее сомнение, Томас Манн
вуалирует, с торжественным негодованием отвергая законную критику русского
писателя с мировым именем», — замечает Г. Кёнен, показывая, как немецкий
писатель, ни в чем не обвиняя и даже не критикуя русского изгнанника,
отмежевывается и от него, и от антибольшевистски настроенной эмиграции в
целом. «Именно сейчас Советы лишают своего заклятого врага средств к
существованию, и призыв прийти ему на помощь раздается из Франции.
Убежденно и без боязни я подписался под этим», — пишет Томас Манн в
«Парижском отчете» [Ibid.: 371]. А затем очень тонко проводит ту грань, которая
отделяет подобную человечность от солидаризации с «белой» эмиграцией.
Т. Манн ссылается на «немецкую радикальную газету», где Мережковского
назвали «переоцененным мещанином», которого революция-де
«совершенно исполнила» (?). Но современный исследователь замечает, что цитирует Манн
неточно (в оригинале было сказано о том, что Мережковский «совершенно
разоблачил себя как мещанин»); в немецком языке глаголы erfüllen («наполнять»,
«исполнять» и т. д.) и enthüllen («разоблачать») звучат, конечно, похоже, но
означают слишком разные вещи, — очевидно, что ссылка на газету понадобилась
Манну, чтобы уклониться от высказывания собственного мнения о
Мережковском. Словно поражаясь бесстыдству газетчиков, Манн негодует против
ярлыка «мещанин», прикрепленного к Мережковскому только на том основании,
«что его русская религия, его апокалиптический темперамент принуждают его
увидеть в большевизме Антихриста и покинуть свое отечество, душа которого
кажется ему исковерканной и убитой» [Ibid.: 370]. Однако это запоздалое воз-
46 Подготовленное сначала как доклад, прочитанный писателем в разных поездках, эссе
окончательно оформилось и появилось в печати в 1925 г. под названием «Goethe und Tolstoi.
Fragmente zum Problem der Humanität». В этом эссе писатель, в частности, высказывает мысль о
том, что убийством Николая II русский народ расправился с Петром Великим, повернув с
европейского пути на прежний, привычный — в Азию (см. [Манн 1959-1961, 9: 598]).
47 Эту и подобные панегирические оценки Т. Манном дореволюционных сочинений Д.С.
Мережковского приводит современный немецкий исследователь У. Хефтрих (см. [Henrich 1995:
75]).
84
мущение служит Манну лишь для того, чтобы скрыть истинные причины, по
которым он не искал встречи именно с Мережковским.
Г. Кёнен, который тщательно проанализировал, как в «Парижском отчете»
отразилось отношение знаменитого европейского писателя к русской
литературной эмиграции, замечает, что Томас Манн не только слегка дистанцируется
от Мережковского, — от его оценок даже слегка веет «доносительством», тогда
как в его «показном сочувствии» очень мало действительной симпатии. Манн
не оставил записей о содержании своего разговора с Мережковским, но
описал последнего — в противоположность «широким русским натурам» — как
«изящного элегантного господина», от которого он получил в подарок
немецкий перевод «Тайны Востока» («теолого-мистического собрания афоризмов о
Египте и Вавилоне», которое Манн назвал «во всяком случае наиболее
странной, глубокой и прочувствованной из книг, которыми мы обязаны русскому
религиозному гению»). Еще Т. Манн заметил «не без страха», что
Мережковский сообщил ему о своей работе над романом о Тутанхамоне, тогда как сам
Манн в то время обдумывал замысел «Иосифа и его братьев». Манну, весьма
довольному своим общением с французскими собратьями по перу, крайне не
понравились жалобы Мережковского на холодность и отчужденность
французских литературных кругов по отношению к представителям русской
литературной эмиграции; слова Мережковского о национализме французов шли
совершенно вразрез с пережитым во французской столице самим Манном.
Символично звучит описание Манном его прощания с Мережковским:
Когда Мережковский уходил, я проводил его в гардероб и подал ему пальто,
чтобы лично оказаться полезным великому писателю. Оказывать почтение —
это ли не величайшее сердечное удовлетворение [Коепеп 1998: 371].
Мережковский уходил — со всем своим русским мистико-религиозным
багажом — из европейской культуры, из европейского сознания, со смешанным
чувством страха и надежды, ужаса и восхищения вглядывавшегося в
происходящее в новой, уже советской России. Но Мережковского отторгала и
эмиграция: как нельзя лучше об этом свидетельствует частная переписка, в которой, в
отличие от публичных выступлений в критике, собратьям по перу не нужно
было соблюдать известных приличий. Приведем отрывки из писем Бунину лиц,
не входивших в его дружеский круг и стоявших на диаметрально
противоположных общественно-политических позициях. Крайне заостренно негативное
мнение о творчестве Мережковского сформулировал М.А. Осоргин в послании
Бунину, посвященном именно Нобелевской премии, от борьбы за которую
Осоргин с «дружескими дерзостями» отговаривал будущего лауреата. В оценке
Мережковского — творческой и человеческой — Осоргин не стесняется:
Он на всех языках звучит одинаково, на русском хуже всего. Литературе нашей
он не нужен и чужд и не по ее линии ведет свою кропотливую работу. Темный
человек, и писанья его темные, расчетливые, без единого искреннего слова,
85
предназначенные воздействовать на европейского барана, создающего
общественное мнение. И ловкий человек — Вы перед ним простачок. Он всех, кого
надо, обработает, и обладай он Вашим талантом — давно был бы премирован.
Но его немножко побаиваются, так как пахнет от него могилой и черной
мессой, и здоровый инстинкт это чувствует. Однако — может и преуспеет (РАЛ,
MS. 1066/4328, письмо от 20.10.1928 г.).
И.А. Ильин, сообщая Бунину об особенностях предпринятого им курса
лекций о современной русской литературе (раскрыть «индивидуальную силу
данного художника, его власть, его цветение, его апогей» с помощью особых
«духовно-художественных "очков"»), признается:
Ужасно трудно было вчера читать о Мережковском: «очки» у него
неподлинные, двоящиеся, неискренние; все выдумано и почти все сплошь фальшиво;
чего он ни коснется, все вянет, разлагается и<,> главное<,> ком-про-мети-
руется! Вот тебе и находи — «цветение» и «апогей»! (РАЛ, MS. 1066/2986,
письмо от 28.01.1931 г.).
Действительно, нельзя было придумать слово более неподходящее к
творчеству Мережковского в эмиграции, чем «цветение»! «Эпохой конца эпохи»
назвала его Марина Цветаева, имея в виду русский декаданс [Цветаева 1994-1995,
6:407]. Но, пожалуй, самую уничижительную характеристику творческой
манере Мережковского дал И.С. Шмелев, разяще хлесткую, ибо во многом
исключительно точную:
Вот в Мережковском — я — искренно — ничего не слышу. Поддельный
Скрябин какой-то с помесью пифии и зазывателя из паноптикума, которому вдруг
пришло на зад (мысль?) — пужать<,> и вещать, и бредить, а сам все в ящик
с выручкой косится. И хочет порой душевное сказать, но «из книг сличает»,
да переплетенных безграмотным переплетчиком, где и Евангелия листок, и
Крафт-Эбинг, и ассирийская клинопись, и «новый песельник», и «половой
вопрос», и Откровение Иоанна Богослова, и «самоновейшие фокусы», и
Иконография, и... бред из Ломброзо, и черти, и цветы. И все — сдобрено
«заготовкой» на кубиках Магги, — в две минуты чашка питательного^, бульона! И за
это — хорошая выручка. Это величайшее из недоразумений века. Ох,
начитанность порой большой порок! Когда класть некуда и не во что. Вот она, медь
звенящая! Но — в лому, а не в пятаке или, тем более, хотя бы колоколишке
[Переписка двух Иванов 2000, 3: 201-202] (письмо от 6.2.1931).
Наконец, крепко, как брань, и бесповоротно, как приговор, звучит оценка
Бальмонта:
Мережковского я органически не переношу. Мертвые лошадиные челюсти
из конюшни, именуемой схоластика [Бальмонт и Шмелев. Письма 2002: 104]
(письмо от 27.12.1927).
И вот, когда русский читатель на родине накрепко забыл Мережковского,
а в эмиграции — смотрел на его творчество как на «величайшее недоразумение
86
века» и когда слава его совсем почти закатилась на Западе, Нобелевскому
комитету вновь напомнили о писателе, чьи сочинения были переизданы в Швеции в
самом конце 1920-х гг. В начале 1930 г. профессор славистики Лундского
университета, переводчик и поэт Сигурд Агрель (1881-1937) отправил в Стокгольм
первое из своих посланий «К восемнадцати» (членам Шведской академии,
число которых постоянно с учреждения этого института в XVIII в.), предлагая
присудить премию «кому-нибудь из писателей, представляющих литературу
русской эмиграции. Если бы был жив Альфред Нобель, он бы наверняка самым
горячим образом одобрил это предложение», — предполагает Агрель. И хотя,
адресуясь в Нобелевский комитет первый раз, он замечает, что «сделать
справедливый выбор» среди нескольких выдающихся писателей ему нелегко, он
перечисляет ряд имен, начиная свой список с Д.С. Мережковского.
Текст обращения Агреля в Нобелевский комитет не отличается ни
стройностью построения, ни связностью изложения. О Мережковском сказано, что его
позднейшее большое произведение, «Тутанкамон на Крите», «всеми считается
неудачным» и «не вполне справедливо» оценено выдающимся критиком князем
Д. Святополк-Мирским48. Однако Мережковский, по мнению Агреля, является
«весьма оригинальным мыслителем» и представляет «целую эпоху в русской
литературе (1893-1905)», чего «никто не может оспорить». А такие блестящие и
серьезные его труды, как «Смерть богов» и «Л. Толстой и Достоевский»,
шведский славист относит к «великим достижениям» писателя.
Сигурд Агрель — единственный, пожалуй, из корреспондентов
Нобелевского комитета, кто привлекает внимание его членов к бедственному положению
писателей-эмигрантов — обстоятельству, которое никогда не имело ни
малейшего, как кажется, значения для академиков, хотя очевидно, что Альфред
Нобель хотел поддержать материально не богатых и преуспевающих литераторов
и ученых, а тех, кто нуждается в средствах для научных исследований или
написания новой книги. Но шведский славист и переводчик проникся именно
тяжелейшими условиями материального существования русских
писателей-изгнанников, и это именно ему принадлежит идея разделить премию между
Буниным и Мережковским: «Если не учитывать, что можно дать две премии за
одно десятилетие до сих пор обойденной русской литературе, то можно
поставить вопрос о том, чтобы два писателя разделили премию». Именно по
материальным соображениям Агрель считает не столь заслуживающей награды
кандидатуру М. Горького, «не испытывающего ни малейшего недостатка в
благах мира сего». Суть предложения 1930 года состоит, таким образом, в следую-
48 Специально о Мережковском и его творчестве Д.П. Святополк-Мирский не писал, и
большинство его хлестких характеристик представителей эмигрантской литературы, на которые так
любят ссылаться западноевропейские исследователи, содержится в книгах «Contemporary
Russian Literature» (L., 1926) и «A History of Russian Literature» (L., 1927). Касаясь Мережковского,
Г.П. Струве указывает, что Святополк-Мирский «отверг всё его пореволюционное творчество»
[Струве 1996: 174-175].
87
щем: дать премию за этот год одному Д.С. Мережковскому или поделить ее
между ним и И.А. Буниным. Слово в слово эта номинация будет
воспроизведена лундским профессором славистики еще дважды, в 1931 и в 1932 гг. В 1933 г.,
однако, Агрель вернулся к своей первоначальной идее, но сразу в нескольких
вариантах: он предложил присудить премию «в первую очередь» Бунину или
разделить ее либо между Буниным и Мережковским, либо между Буниным и
Максимом Горьким [Nobelpriset i litteratur, II: 191].
Вся эта информация так или иначе стала известна Мережковским. Они
настолько уверовали в сбыточность идеи С. Агреля о разделении премии
между двумя русскими писателями-эмигрантами, что постарались неофициально
поделить с Буниным шкуру неубитого медведя. И пока в Стокгольме шведские
академики взвешивали последние pro и contra, изучая номинации русских
литераторов при выборе лауреата 1931 г., В.Н. Бунина записывала в своем
дневнике: «Мережковский предлагает Бунину написать друг другу письма и их
удостоверить у нотариуса, что в случае, если кто из них получит
Нобелевскую премию, то другому даст 200,000 франков» [Устами Буниных 1977-1982,
I: 252]. Ровно неделю спустя после этой записи, замечательным образом
характеризующей деловую хватку Мережковских, умевших заполучить или
выгодный контракт на издание, или хотя бы орден, даже и из рук Муссолини,
Вера Николаевна отмечает «спокойный» тон И.А. Бунина, пришедшего к ней с
сообщением: «...Нобелевская премия присуждена шведскому писателю» [Там
же: 253].
Обладающая тонким литературным вкусом и проницательностью
истинного ценителя художественного слова В.Н. Бунина видит будущего соперника
для двух немолодых писателей-эмигрантов в начинающем прозаике В.В.
Набокове: «Прочла Сирина. Какая у него легкость и как он современен. Вот, кто
скоро будет кандидатом на Нобелевскую премию» [Там же]. И хотя Набоков так
и не стал лауреатом, важно другое — осознание новизны и яркости его первых
произведений на фоне архаичных, тяжеловесных, безвоздушных и, в
сущности, бездушных творений Мережковского. (Не случайно Р.И. Иванов-Разумник
назвал эссе о писателе «Мертвое мастерство»!) Понятно и недоумение Веры
Николаевны в следующем, 1932 г.: «Мережковского во всех почти газетах
называют единственным кандидатом на Нобелевскую премию. Почему?» [Устами
Буниных 1977-1982, И: 278]. Не потому, разумеется, что это было
подлинным признанием литературных заслуг писателя или отражением нацеленных
на получение заветной премии усилий Мережковских. Слово, неосторожно
слетевшее с уст того или иного члена Нобелевского комитета или эксперта,
причастного к обсуждению выставленных кандидатур, подхватывалось
журналистами и тиражировалось в прессе; возможно, академики — или близкие к
Шведской академии лица — сознательно пускали не в меру любопытных
корреспондентов по ложному следу, тем более когда дебаты становились особенно
острыми.
88
Сообщение под броским заголовком «Д.С. Мережковский — кандидат на
премию Нобеля» поместила в начале ноября 1932 г. газета «Возрождение»,
единственный авторитетный печатный орган зарубежья, поддерживавший
кандидатуру этого писателя. Со ссылками на шведские газеты и французское
телеграфное агентство «Гавас» утверждалось, что «русский писатель Д.С.
Мережковский, живущий в настоящее время в Париже, является самым
серьезным кандидатом на премию Нобеля по литературе, которая будет присуждена
на следующей неделе» (Возрождение, 5.11.1932, с. 1). Впрочем, приводилось и
более осторожное мнение о возможности присуждения Нобелевской премии
«в нынешнем году русскому писателю. Кроме кандидатуры Мережковского, —
указывали другие источники той же газеты, — говорят также о Бунине,
произведения которого переведены недавно на шведский язык» [Там же]. «Когда в
прошлом году прошла весьма определенная молва о премии
Мережковскому, — вспоминал позже A.B. Амфитеатров, доверчиво воспринявший
беспочвенные слухи, — это было, конечно, не худо, — я тогда, из первых, послал ему
поздравление, — но все-таки явилось бы лишь производством престарелого
генерала в фельдмаршалы за выслугою лет» (письмо М.С. Мильруду от
4.12.1933 г., цит. по: [Русская печать в Риге 1997, III: 50-51]. Отозвавшись на это
опрометчивое поздравление, З.Н. Гиппиус подробно написала А.
Амфитеатрову, с трезвым скептицизмом излагая реальное положение вещей. Поздравления
Амфитеатрова названы в этом письме не просто «преждевременными», но
«тщетными». Гиппиус утверждает:
Мы определенно знаем, что никакой премии Дмитрию Сергеевичу дано не
будет. Шведы уже дали понять, что «русскому» и вообще им давать премию,
«пока не придет Россия к нормальному порядку», неудобно, и, с их точки
зрения, это естественно: к большевикам они, скорее, благосклонны и только
побаиваются их «карманно»; премировать «эмигранта», да еще Дм. С-ча, столь
бурного антибольшевика, — это был бы «вызов Советам», как они
выражаются. <...> Весь «бум», который поднялся вокруг кандидатуры Дмитрия
Сергеевича (корреспонденты, французы и американцы, французские газеты и т. д.),
все это имеет недурную сторону в том смысле, что и кандидатура заставит,
быть может, кое-каких издателей, в Америке, например, взять книгу Д. С-ча
[Письма Гиппиус Амфитеатрову 1992: 305-306] (письмо от 8.11.1932).
Днем позже, 9 ноября, З.Н. Гиппиус сообщает о полученном ими из Швеции
письме, «иллюстрирующем выборы и подтверждающем то, что <...> шансы
Дмитрия Сергеевича невелики (между прочим, из-за антибольшевизма), после
газетного "бума" еще уменьшились (эти господа не любят, чтобы им
указывали)» [Там же: 307]. Эти мало обнадеживающие сведения, которые приходили
от шведских корреспондентов Мережковских в Париж, на avenue du Colonel
Bonnet 11 bis, подтверждают их слабую осведомленность в работе Нобелевского
комитета и умение шведских академиков хранить тайну обсуждения будущих
лауреатов.
89
Впрочем, эта история имела и некрасивую теневую сторону. В
опубликованной 24 ноября в рижской газете «Сегодня» заметке «Нужда в русском
литературном Париже» А. Седых (Я.М. Цвибак), передавая в провинцию
курсирующие в «русском Париже» слухи о шансах писателей-эмигрантов на Нобелевскую
премию, походя задел Мережковского. Чересчур большие надежды писателя на
премию привели к тому, что вокруг его имени «была несколько
преждевременно поднята шумиха».
Во французских газетах появились его портреты и интервью; с деланой
скромностью Мережковский выражал надежду, что премия будет присуждена
«кому-нибудь из русских», — может быть, Бунину или Куприну... К сожалению,
надежды его не оправдались [Седых 1932: 2].
Оскорбленная недопустимым тоном по отношению к одному из виднейших
русских писателей зарубежья, З.Н. Гиппиус — которая жалила в своих
критических выступлениях и побольнее! — обратилась с протестующим письмом в
редакцию газеты, о чем редакторы уведомили своего парижского
корреспондента. Поводом уколоть Мережковского для Седых стало, как выяснилось, некое
частное послание Гиппиус, предназначенное не ему лично, но в котором он
усмотрел антисемитские выпады. Седых объяснился с М.С. Мильрудом, одним
из редакторов «Сегодня», утверждая (что, однако, никак не объясняло тона
его публикации), будто в обеих ведущих парижских газетах эмиграции
(«Последние новости» и «Возрождение») «вздохнули с облегчением, когда узнали,
что Мережковский премии не получил» (цит. по: [Русская печать в Риге 1997,
11:437]).
Между тем в процитированном письме Гиппиус Амфитеатрову содержится
еще одно признание. Трудно судить, насколько оно искренне, — писатели не
живут без оглядки на суд потомства; но и в подлинности чувств Гиппиус
отказывать не стоит. Как бы то ни было, в этом насквозь литературном личном
послании З.Н. Гиппиус формулирует весьма важные положения, касающиеся
этической стороны получения Нобелевской премии. Ни в процессе кампании в
поддержку его кандидатуры, ни став лауреатом, Бунин, в самозабвенном
эгоизме, не задумался над моральным аспектом обогащения, когда все прочие
представители эмигрантского литературного цеха останутся прозябать в хорошо
ему знакомой нищете. Гиппиус — конечно, известную долю кокетства
полностью отрицать не приходится — оценивает последствия исключительного
материального благополучия на фоне общеэмигрантского положения:
Скажу вам еще, положа руку на сердце, что я глаз не закрываю на положение,
в котором мы бы в некотором смысле оказались, случись это чудо (ведь и
200 тысяч можно, не имея билета, выиграть, если чудо!). Кругом — нужда
собратий, больших и малых; теперь мы делим ее с ними, да еще как! А тогда? Мы
делим с ними теперь и помощь, которую (нищенскую, положим) оказывают
писателям кое-какие страны <...> Тогда, если бы мы премией разделились, по-
90
мощи этой никогда уж мы не увидим. Бунин знаю, как распорядится: заберет
свою неправильную (и довольно некрасивую) семью49 и отправится
путешествовать — в Индию, вокруг света... Давно уж жалуется, что не имеет «новых
впечатлений», сидя сам-четверт на горке в Грассе. И я его понимаю. Но у нас
положение другое. И, право, по разуму и по чувству мы почтем себя как-то
легче и свободнее, когда все эти миражи кончатся [Письма Гиппиус
Амфитеатрову 1992: 306].
Слухи, домыслы, предположения журналистов — вот что питало
уверенность и «партии» Мережковских, и сторонников Бунина — этой «пары гнедых»
русской литературы, как нарек их Шмелев именно в связи с нобелевской
«гонкой» 1932 года:
Бунин — да, за него я, как русский, не постыдился бы. Но получи
Мережковский... — по-зор! Такой... представитель родной литературы! Нет, пусть
совсем не дают, но не такому выражать, представлять Дух и Плоть русской
литературы. Подлинная, она никогда не была ни «кликушей», ни болтушкой, ни
«мудрилкой», ни «низалкой», ни... подделкой, ни — ремеслом потливым, ни
ерничеством-хитрюгой. И я... доволен, что ни-кому не дали [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 335-336]50.
49 К существованию под одной крышей И.А. и В.Н. Буниных вместе с «приемными детьми»,
молодыми писателями Г.Н. Кузнецовой и Л.Ф. Зуровым, при известной двусмысленности
положения «Гали» и сложностях отношений с «Леней», трудно было отнестись с полным пониманием.
Однако в собственном ménage à trois с Философовым Мережковские некогда «не только
воплощали андрогинную любовь и Святую Троицу: они также продолжали традиции утопического
семейного уклада, провозглашенные революционными демократами» [Матич 1999: 114].
Разумеется, этот «тройственный союз», напоминавший «подпольную революционную ячейку» [Там
же: 116], с негодованием отвергал какой бы то ни было романтический треугольник (из-за чего
распался подобный союз A.B. Карташева и сестер З.Н. Гиппиус, Наталии и Татьяны), однако ведь
и Г. Кузнецова играла при Бунине явную роль музы, так что и у Буниных не все сводилось к
сугубо плотской любви.
50 Письмо от 12.11.1932. На следующий день, вновь адресуясь к Ильину, Шмелев
расписывает в подробностях, с характерной для него даже в письмах «сказовой» интонацией, реакцию
Бунина и Мережковского на присуждение премии «миллионеру Голсуорти»; зависть и неприязнь
к этим двум «первым кандидатам» на Нобелевскую премию от русской литературы побуждают
Шмелева не брезговать никакими сплетнями и самыми злоязыкими пересудами, в которых
Мережковский предстает наглым ноющим «Иудушкой», чуть не побирающимся по чужим домам
(«Сбирали ему по свету, мно-го! С ручкой канючили, уме-ют!»), а Бунин — «остервенившимся» и
«освирепевшим» хамом. «Как зависть, честолюбие распаляет-то! — поражается елейный
Шмелев, не замечая собственного лицемерия. — Поглупеть так, дойти до доносов... — публиковать
почти! И это — прости, Господи! — во-жди литературы. И это... когда безработица, люди
стреляются, тоскуют о родине... — а "великие", обеспеченные и работой, и избалованные вниманием
критиков — Бунин пожаловаться не может, как и Мережковский, в волоса друг другу вцепились!
Тьфу! Я не судья, не "нянька", и не для сплетни пишу, а... — отмеча-ю. Да как же так?! Литература
русская — называли ее совестливой, мировой совестью... — и... — старейшины готовы
выцарапать зеньки! Ну, подерись, ну, в ухо дай — сгоряча будет... а подбираться под душу, рассылать
выдержки из писем, тайно изобличать...! чтобы напакостить, чтобы "еврейчиками" хлестнуть
и— утопить... — это "нарушение правил игры", это хуже всяких баб-судомоек... эта "погоня
за лаврами" с подножками, с доносами, с выжалобливаньем, <...> подайте, милостивцы, на по-
91
Сокрушается соперничеством Мережковского и верный друг Бунина
Н.К. Кульман:
Мережковский, конечно, прет, — сейчас не без умысла печатает в каком-то
немецком издательстве большую книгу, которая должна, будто бы, нашуметь.
Кто его «выставители», не знаю, но уверен, что их не так много (РАЛ, MS.
1066/3434, письмо от 4.04.1931 г.).
Настоящей кампании у не любимых эмиграцией Мережковских,
действительно, не получилось. «Мережковские интриганы и вредные люди,
завистливые и нетерпимые», — предупреждал Бунина тот же Н. Кульман несколькими
годами раньше, полагая, что так оценивают знаменитую писательскую чету
иностранцы и переносят нелестное мнение о ней на всех русских эмигрантов
(РАЛ, MS. 1066/3428, письмо от 11.09.1928 г.). Однако отнюдь не человеческие
качества Д.С. Мережковского или его политическая позиция предопределили
выбор Нобелевского комитета. Материалы, сохраненные в архиве Шведской
академии, свидетельствуют о том, что в 1930-е гг. отвергнуто было его
творчество.
В 1930 г. А. Карл грен напомнил членам комитета, что в архиве Шведской
академии хранится обстоятельный отзыв Альфреда Йенсена, написанный
полтора десятилетия назад, но не потерявший своего значения как подробнейший
обзор творчества Д.С. Мережковского. Карлгрен подчеркивает только
оценочную сторону отзывов своего предшественника, угадывая уже в разборе 1914 г.
то, что со всей определенностью проступило в короткой отписке 1915 г., —
«кислую мину», с которой Йенсен говорит о Мережковском. Более того, новый
эксперт Нобелевского комитета по славянским литературам полагает, что
прежний убедительный анализ творчества Мережковского не устарел за
полтора десятка лет, а «последние годы не смогли и дюйма прибавить этому
растению; претенциозная мантия пророка, в которую он заворачивается в последнее
время, не в состоянии придать ему более величественный вид, — в
свойственном ему метафорическом стиле замечает Карлгрен во вступлении и иронически
прибавляет: — Скорее наоборот». Тон рецензии задан, приговор творчеству
номинированного писателя, собственно, уже вынесен.
Рецензия Карлгрена написана в том вольном эссеистическом стиле, когда
ироническое подтрунивание или даже прямая издевательская насмешка стано-
строение штанов <...>». Но больше достается все-таки Мережковскому: «Что за "розановщина",
мармеладовщина, Иудовщина...! Нет, притворяется подо все, а сам хитрей хитрого! Воображаю,
что было бы — получи он эту при-Нобель (Prix Nobel. — T. M.)! Уж сейчас говорит — или
намекает — у Иудеев — Бог-Отец, у христиан — Бог-Сын.. .у — ? — Мережковского? — Дух Святый!
Куда метит-то!.. — ив волоса вцепился! И — подайте забракованному первому кандидату <...>!»
[Переписка двух Иванов 2000, 3: 348-349]. Хлестко, оскорбительно, но, увы, с большой долей
справедливости. Не отстает также и Ильин: в приписке к письму Шмелеву от 16.01.1933 он
сетует: «К сожалению, не умею вырезать из бумаги профили, а то вырезал бы профиль "знака ма-
сонска, в просторечии кукиш рекомого", и послал бы Димитрию Сергеевичу. Прими, люби и
помни!» [Там же: 353].
92
вятся главными средствами создания представления о творческой личности в
глазах читателей. Для человеческой и творческой сущности Антона Карлгрена
был неприемлем прежде всего «пророческий голос, исходящий из собственных
уст» Мережковского, взятая им на себя «пророческая миссия», и субъективный
вкус рецензента оказался решающим фактором, повлиявшим на его резко
негативный отзыв о кандидатуре русского писателя51.
Начав свое рассмотрение творчества Мережковского последних лет с книг
«Тайны Трех» [Мережковский 1925] и «Тайна Запада» [Мережковский 1931]52,
Каргрен называет труд писателя исполнением «неблагодарного долга». Уже
забота Мережковского изменить название первого из названных трудов в
переводах на европейские языки — с «Тайны Трех» на «Тайну Востока», «чтобы
публика напрасно не надеялась заполучить новый детективный роман», — то ли
раздражает, то ли забавляет Карлгрена. Изменение заглавия книги наталкивает
ироничного рецензента на другой вопрос относительно ее гипотетических
читателей, ибо если бы на их месте оказалась «двухтысячелетней давности
западноевропейская публика, собравшаяся крестить восточные земли, то ему
(автору. — Т. М.) не пришлось бы пойти на риск оказаться непонятым». Карл-
грен замечает:
Изучая этот труд, нельзя не задуматься, что дело не в перемене названия без
многих перемен в содержании, в котором при беглом взгляде нет не только
ничего от современного детектива, но также и от современных здравых
критических представлений.
Оценив «Тайну Запада» как бесконечно архаичную по мысли и выражению
книгу, не способную в ком бы то ни было пробудить интерес, Карлгрен
продолжает в том же ироничном тоне: «Итак, конец света близок, возвещает
Мережковский». Представитель страны, которая не участвовала в Первой мировой
войне (как, впрочем, и во Второй), Карлгрен высмеивает «авторитетное»
мнение русского писателя-изгнанника, полагавшего, что русские эмигранты после
всего пережитого как никто могут судить чреватую войной Европу и оценивать
ее разговоры о мире: «И эта война станет, согласно его мнению, — позволяет
себе усмехнуться гражданин невоевавшей страны, — катастрофой для мира,
51 Хотя резко-насмешливый тон «экспертных заключений» Карлгрена и напоминает отчасти
критический взгляд на творчество Мережковского в ранней советской критике (его имя
довольно быстро, в отличие от Бунина и Шмелева, исчезает из сочинений работавших в советской
России критиков и литературоведов, главным образом из-за его антибольшевистских выступлений
и откровенно религиозно-мистического направления его творчества), однако субъективный
взгляд Карлгрена сформировался независимо от, возможно, доступных ему работ (ср.: [Иванов-
Разумник 1918; 1922; Чулков 1922] (замечательна сама перекличка названия книги Чулкова
«Наши спутники» с названием одной из наиболее популярных книг Мережковского, сборника
литературно-критической эссеистики «Вечные спутники»).
52 «Тайна Трех» публиковалась на страницах «Современных записок» (т. 15-17, 1923) под
названием «Тайная мудрость Востока». А. Карлгрен, очевидно, по аналогии с книгой об
Атлантиде («Тайна Запада») именует обычно дилогию «Тайна Востока».
93
в котором мы живем. Взаимное истребление народов станет самоистреблением
человечества». Поистине, пророчества Кассандры не могут быть услышаны в
благополучных странах. А ведь Карлгрен иронизировал по поводу пророческих
высказываний Мережковского меньше чем за десять лет до Второй мировой
войны... Прав был В. Злобин, долгие годы наблюдавший чету Мережковских
вблизи, когда писал:
Они всячески стараются втолковать европейцам, что большевизм — опасность
мировая. Но их никто не слушает. Европа устала от войны, она отдыхает,
веселится и ни о какой вооруженной интервенции против большевиков и думать
не хочет. Слушает Мережковских одна Германия. Слушает... и готовится к
реваншу [Злобин 1970: 78].
Глухоту европейской аудитории к его предостережениям и пророчествам
сознавал и сам Мережковский. Не случайно исследование русского писателя
открывается «Бесполезным предисловием», где прозорливо и горько
предсказаны те предубеждения и насмешки, которые «Тайна Запада» вызовет у
читателей. Напоминая слова пророка Иезекииля, Мережковский заранее уверен, что
книгу его назовут «забавной»53. Некогда широко известный в Европе писатель
декларирует готовность отказаться от сиюминутной популярности (подобной,
в его глазах, популярности создателя детективов о Шерлоке Холмсе) в надежде
найти понимание «потом». Однако на опрометчивость таких надежд
осторожно, но справедливо указал И.П. Демидов, рецензируя «Тайну Трех»: «...нет
пророка, — заметил он, — нет и горящих ожиданием пророчеств» [Демидов
1926:480].
В этом и состоял просчет Мережковского, когда он взялся пророчествовать,
не будучи ни по дарованию своему, ни по вырабатываемым им идеям
«мессией». Обладающий тонким литературным чутьем и исключительной
трезвостью мировосприятия Карлгрен пророчеств этих не только не оценил, но даже
высмеял их, постепенно, через рассмотрение заветных трудов Мережковского,
доведя до гротеска его прорицания. «Через 20-30-50 лет будет вторая война, —
даже несколько отдаляет угрожающе надвигающиеся сроки писатель, — если не
мы, то наши дети, внуки, правнуки увидят ее: все это знают или предчувствуют.
"Мир, мир", говорят, а звучит: "война, война"». Но — предвидения
Мережковского не новы, замечает нобелевский эксперт, все это истины «того рода, к
которым миру следовало бы прислушаться». В этом писатель не оригинален, его
оригинальность состоит в обнаружении широкой связи событий и явлений,
«в которую он помещает свое видение грядущей катастрофы. Согласно ему, эта
53 Иез. 33: 30-33: «И они приходят к тебе <...> и слушают слова твои, но не исполняют их,
ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот, ты для
них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но
не исполняют их. Но когда сбудется, — вот, уже и сбывается, — тогда узнают, что среди них был
пророк». В отклике М.А. Алданова на книгу, между прочим, «Бесполезное предисловие»
отнесено к «самым замечательным частям книги» [Алданов 1931: 489].
94
катастрофа лишь эпизод в мировой истории, зарисовки которой он
набрасывает с головокружительной отвагой». Эта «головокружительность» касается
прежде всего той временной глубины, на которую осмеливается погрузиться
Мережковский в своих историко-эсхатологических изысканиях.
Карлгрен не испытывает ни малейшего пиетета к познаниям
Мережковского, никакого доверия к изображаемым им эпохам и характерам. Больше всего
смущают рецензента цифры — то немыслимо громадные, многие тысячелетия
до нашей эры, то излишне символические, как, например, число «три», с
помощью которого Мережковский «полагает возможным определять мировые
циклы», и «его работа сводится к доказательству, что это именно так». И,
перечислив их, как сказочные «три царства» («<один> мир, одно человечество
существовало до нас, пораженное Божьей карой и затонувшее; мир номер два,
собственно наш, стоит на пороге катастрофы; третий мир последует затем»),
Карлгрен приступает к рассмотрению столь кратко резюмированной теории на
материале книги Мережковского «Атлантида - Европа».
Сам стиль его очерка исключает какую бы то ни было серьезность и
почтение: «Мир номер один — это Атлантида платоновских диалогов». Последнее
само по себе никак не может быть предметом для шуток54, но нумерация миров,
утрирующая глубокомысленную идею Мережковского, лишает ее подлинной
глубины и самобытности. То, что всегда вызывало уважение у критиков,
включая и А. Йенсена, — образованность, начитанность, громадная эрудиция
писателя — не является самоценным качеством в глазах Карлгрена. Современный и
самоуверенный европеец, агностик и скептик, Карлгрен не понимает, как
можно в XX веке без колебаний доверять рассуждениям Платона об Атлантиде,
клеймить за скептическое отношение к ним Аристотеля и призывать в качестве
основного авторитета «византийского монаха девятого века (в
действительности VI в. — Т. М.) Козьму Индикоплова, который, согласно Мережковскому,
лучше чем кто-либо понимал Платона». Вера современного писателя в
Атлантиду как в «обитель первого человечества» и смелость «выставить ее (веру. —
Г. М.) на всеобщее обозрение» поражают Карлгрена «детской наивностью»,
неудивительной для средневекового монаха, но не извинительной для ученого,
знакомого с последними данными исторической науки.
Материал, из которого он исходит, — это отчасти позднейшая литература об
Атлантиде, более ранних или более поздних времен: географические,
геологические и прочие доказательства, за которые он скорее хватается — без тени
критики или оговорки — как за свидетельство существовавшего некогда
континента между Европой и Америкой. Но главный его источник — иной: он
отыскивает в древних сочинениях и документальные свидетельства, и намеки
54 Между прочим, Олоф Рюдбек, предок А. Нобеля, издал в 1675-1698 гг. в Упсале
трехтомный труд под названием «Atland eller Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum
sedes ac patria etc.», «в котором <...> старался доказать, что Швеция — это Атлантида Платона»
[ЭС,53:210].
95
о затонувшем легендарном мире, он выворачивает на разные лады старые
мифы, дошедшие от разных времен и народов, и делает выводы, не разбирая,
легенда это или не легенда. Он расценивает Библию не больше, чем книгу
апокрифов <...> Он здесь и там, в прежней уверенности, что русское око видит
сквозь завесу, через которую не могут разглядеть глаза других народов,
приводит различные провидческие высказывания русских писателей, Достоевского
и других. И с помощью всего этого аппарата поднимает затонувшую
Атлантиду из волн и предлагает на читательское обозрение, —
так, без энтузиазма относясь к теории Мережковского, без уважения к
проделанной им действительно гигантской работе по изучению и сопоставлению
источников, без интереса к получившейся символико-аллегорической
реконструкции и без малейшего сочувствия к «русскому» подтексту книги, пишет о
ней Карлгрен. Но если, давая обобщенную оценку, он еще кое-как удерживается
в рамках нейтральной стилистики рецензии, то в дальнейшем чувство меры
постепенно изменяет ему, и он не может удержаться от иронии.
Больше всего в исследовании Мережковского эксперта Нобелевского
комитета раздражает неопределенность жанра, когда достижения современной
научной мысли рассматриваются наряду с фантастическими сведениями
древних преданий и мифов. Так, ссылаясь на картины счастливой жизни
«богоподобных» «блаженных жителей рая на земле», любовно нарисованные
Мережковским, в частности, на изображение их материальной культуры и «особого
атлантического» металла, Карлгрен не может удержаться от эмоций,
сопровождая восклицательным знаком в скобках предположение Мережковского, что
красивый и крепкий, сложный древний сплав «исчез от магических заклятий».
Восклицательный знак — не в последний раз — заменяет Карлгрену в его
отзыве вполне определенный жест — развести руками. Не меньшее недоверие
вызывают у шведского слависта домыслы писателя относительно
государственного устройства древней Атлантиды, его гадания, из-за чего произошла
разрушительная война, и особенно различные «вычисления», касающиеся предмета,
о котором нет ни малейших достоверных данных.
Что касается следующих «мировых циклов», то и их изображение в книге
Мережковского не кажется Карлгрену убедительным, а попытки свести к
одному («атлантическому») знаменателю всех известных древних богов, обнаружить
«христианство до Христа» — просто профанацией. Неудача Мережковского
была хорошо понята русским рецензентом другой его книги («Тайна Трех.
Египет и Вавилон»), назвавшей ее «несвоевременной»: «...она или слишком далеко
в прошлом<,> или еще только в будущем, но не в настоящем, а мир-то сейчас —
весь в настоящем!» [Демидов 1926:479]. Вечные попытки Мережковского
«оживить» современность (И. Демидов [Там же: 480]) сходными
культурно-историческими процессами из других эпох не находили отклика у европейских
читателей, оставляли их равнодушными к пафосу книги, что и
продемонстрировал блестящим образом отзыв Карлгрена для Нобелевского комитета. Иро-
96
нйчный эксперт комментирует книгу, схематизируя и упрощая величественные
сопоставления Мережковского, объединяя все его построения банальным и
неоспоримым тезисом «Мир лучше войны» и «пролистывая» целые главы, «от
Вавилона к Ассирии», «от Греции к Риму, от Рима к нам», сводя всю европейскую
историю в представлении Мережковского к скучному однообразию: «Упадок
следует за упадком, мрак за мраком». И, словно не в силах больше читать
мрачные пророчества, предрекающие «новую мировую катастрофу», Карлгрен
заключает:
Предстоит гибель человечества нового времени — это дело ясное. Человек
знает, что он должен умереть, потому что другие люди умирают, — теперь
человек, зная, благодаря Мережковскому, что первое человечество погибло,
может без риска ошибиться ставить и следующему человечеству тот же диагноз.
Но ясно также и другое. Крошечное уцелевшее потомство первого мира
укореняется в другом — так что настанет очередь следующего мира, который даст
начало третьему и последнему человечеству. Мировая жизнь есть
божественная трилогия: Атлантида, История, Апокалипсис, — в которой каждое
следующее человечество, подобно первому, погибает, без того чтобы исполнить
предназначение воздвигнуть царство Божие на земле, и вот снова, как и раньше,
появляется Ноев ковчег, чтобы устремиться к новому миру божественной
истины. Ибо известно, что второе человечество разделит жребий предыдущего,
что христианство, которое пережило крах первого мира, так же переживет и
следующий.
Так легкомысленно, слегка подтрунивая и нарочито огрубляя, излагает
Карлгрен заветные идеи Мережковского.
После серьезного, подробного очерка А. Йенсена, написанного в сухой
реферативной манере, отзыв А. Карлгрена, полный остроумных замечаний,
живой и непосредственный по тону и блестящий в стилевом отношении,
подспудно подталкивает читателей — членов Нобелевского комитета — к мысли о
несерьезности предложенной кандидатуры. И если анализ Йенсена требовал
вдумчивого чтения и апеллировал к знакомству с текстом рассматриваемых
книг, то примитивизирующее, разбавленное юмором изложение Карлгрена
скорее развлекает и избавляет академиков от необходимости читать толстые, но,
по уверению рецензента, малозначительные тома вместо того, чтобы
наслаждаться летним отдыхом.
Даже когда Карлгрен вынужден говорить о достоинствах «Тайны Запада»,
он не может удержаться от иронии:
Можно отдать должное возвышенному пафосу, сообщенному этому
произведению, можно растрогаться от личной трагедии, стоящей за ним,
изображенной человеком, который видел свой собственный мир в руинах, в чьих ушах
все еще раздается грохот его крушения и который принимает эти звуки за
громыхание грозы, что предшествует мировой катастрофе.
97
Ни в публицистической, ни в романной, ни в аллегорической формах Запад
не захотел узнать от Мережковского о российской катастрофе и содрогнуться
от его трагических описаний войны и революции. Как бы наивно их отражение
ни выглядело в рассуждениях писателя о судьбе Атлантиды, но пережитая им
человеческая катастрофа если и не могла вызвать участия в шведском слависте,
то во всяком случае не заслуживала и насмешки. Однако удержаться от нее
Карлгрен не в состоянии, и потому беспристрастным его мнение никак не
назовешь:
Можно также восхищаться полиисторическим знанием, о котором
свидетельствует сей труд, совершенно неправдоподобной начитанностью во
всевозможной, часто специальной литературе, имеющей отношение к делу, —
монографии забивают ковчег и сотнями растворяются в работе55. Можно, вероятно,
иногда поразиться также сообразительности и комбинаторским
способностям, присущим труду писателя, — можно, наконец, оценить также, что
описание часто исполнено с известным возвышенным полетом и приобретает
известный блеск.
Но, во всяком случае, доминирующее впечатление от произведения
Мережковского складывается совсем иное: безграничное изумление. Это
невероятно, но правда: эта попытка воссоздать в новом свете картину развития
мира и историю религиозных представлений, эта теория двух человечеств и
одной, наследуемой от человечества к человечеству религии, — все это не
художественная форма, избранная им для выявления под несколько
аллегорическим покровом замечательных идей, это представления Мережковского, для
выражения полноты которых не хватает слов. Мережковский не желает в этом
произведении во всем оставаться поэтом без критичности ученого, он считает
свою научную аргументацию безупречной, свои научные выводы
неопровержимыми. Так, будучи твердо убежденным в существовании первого
человечества, опустившегося на дно морское в 9550 г. до Р<ождества> Х<ристова>, он
делает вывод, что это является ясным, логическим доказательством,
подтверждающим его теорию второго человечества, которое теперь, в свою очередь,
погибает, поместив человечество номер 3 в ковчег вечной религии, которую
полагается во всеоружии критики вынуть из мифической скорлупы и
проанализировать.
Чем больше погружаешься в это сочинение, тем большее изумление оно
вызывает. Даже если упомянутые частные предположения и догадки
бросаются в глаза, то целое создание тем более бесподобно по своей наивности, —
заключает Каргрен, твердо убежденный в недопустимости смешения жанров и
объявления чистых фантазий исторической или иной наукой, а поэтических
прозрений и личной интуиции — научными доказательствами. Для подкрепле-
55 А. Карлгрен словно полемизирует с И. Демидовым, призывавшим в своей рецензии
оценить прежде всего не само по себе сочинение, а ту титаническую подготовительную работу,
которая стояла за ним: «Религиозным исканиям Д.С. Мережковский отдал почти всю свою
литературную жизнь. Этих исканий можно совершенно не понимать; с ними можно бороться, но
никогда не надо забывать, что за ними — десятилетия думы и труда» [Демидов 1926: 483].
98
ния собственной правоты он разбирает приемы и методы, использованные
Мережковским для построения своей теории и придания ей, хотя и в
художественной форме, вида научного открытия. Аргументы Мережковского «раз за разом
заставляют содрогаться» рецензента от того, например, что ему предлагают
считать «аутентичными историческими документами» диалоги Платона и
апокрифические библейские сказания, сочинения греческих историков и древние
кодексы американских индейцев, «правильно истолкованные и
откомментированные» автором «Тайны Запада»; столь же неубедительна в глазах Карлгрена
ссылка на геологическое изучение океанического дна, покрытого
вулканической лавой, по цвету сходной с цветом камней, из которых были выстроены
дома в столице Атлантиды56. «Не всегда можно так ловко подобрать ключик —
но при небольшой ловкости рук все равно можно действовать», — так
склонный к метафорическим выражением Карлгрен создает образ
писателя-фокусника, иллюзиониста, чьим уловкам совершенно нельзя доверять. Так, приводит
пример рецензент, на основании последних исследований Мережковскому
приходится отказаться от предположения Платона, согласно которому обильные
водоросли Саргассова моря (так!) являют собой остатки растительного мира
Атлантиды, причем сделать это с «осторожностью», которой в произведении в
целом «нет и помину». «Но focus, hocus, filiocus!» — восклицает Карлгрен,
демонстрируя то самое изумление «ловкостью рук» автора, которое не оставляет
его на протяжении чтения «Тайны Трех». Цитируя соответствующее место из
книги, он обнаруживает действительно редкостное умение Мережковского
уверить читателя в противоположном только что прочитанному, обратить
невероятное в очевидное, найти доказательство в опровержении57. В приведенном
56 Процитируем соответствующее место из книги Мережковского: «Камень трех цветов —
белого, черного и красного — шел на постройку домов в столице атлантов, сообщает Платон.
Белый известняк, черную и красную лаву подымают со дна Океана и когти граппин, — как бы
трехцветные камни атлантских домов» [Мережковский 1931: 111-112]. Очевидно, что писатель
ничего не передергивает, ссылаясь на древнегреческого философа и не забывая предварить
собственное заключение сравнительным союзом. Книга пронизана поэтическими сравнениями, ее
слог впитывает в себя древнюю восточную красочность и пышность. Карлгрену не пришлось бы
столь иронически оценивать «Тайну Запада», если бы она была изложена рифмованными
строчками, — настолько поэтическое начало очевидно перевешивает научно-историческое: «Повесть
об Атлантиде записана <...> розовыми ветками кораллов, сизыми — вересков и опаловой
радугой Олеацинид» [Там же: 114].
57 Этот прием Мережковского Б.М. Эйхенбаум определил как «акробатические силлогизмы,
в которых с помощью волшебных тире соединяется несоединимое, отождествляется неотожде-
ствимое»: «Мгновенным силлогизмом, прихотливо соединяющим хитрую рассудочность с будто
бы наивной непосредственностью чувств, Мережковский находит выход из двух возможных
отношений к вещам <...> в несуществующем третьем <...>, всегда придумывая tertium, которое
non datur (третьего не дано. — Т. М.). При помощи этих тире Мережковский показывает
ошеломленным читателям то tertium, которое казалось невозможным, несуществующим. Не
существует — можно выдумать. И Мережковский выдумывает» [Эйхенбаум 2001: 327]. Обратим
внимание, как близок стиль статьи Эйхенбаума 1915 г. разборам Карлгрена, столь же решительно
готового «отвергнуть "до конца"» Мережковского [Там же: 330].
99
примере Мережковский, не смущаясь противоречащим его теории составом
суспензии со дна Саргассова моря, объявляет легендарные указания на
географическое положение Атлантиды именно в том месте сознательным введением
древних читателей в заблуждение. «Какие еще сомнения после таких
доводов?» — поражается Карлгрен умению Мережковского заморочить голову уже
современному читателю58.
В неменьшей степени потрясает его и «мобилизация этимологии» для
«подтверждения теории Мережковского»: «Само слово "Атлас" Мережковский
крутит то так, то этак, и я начинаю мучиться — какие перспективы открываются в
этой связи», — иронизирует Карлгрен и, процитировав некоторые
филологические изыскания «вглядывающегося в слово» писателя59, вздыхает: «И дальше в
том же духе — и конца не видно этим выдумкам».
«Тайнам» Египта и Вавилона Карлгрен уделяет несравненно меньше места в
своем обзоре, безо всякого воодушевления воспринимая явную
публицистическую заостренность философского эссе о Древнем Востоке, вызвавшую как раз
одобрение эмигрантской критики: «Египет и Вавилон переносят в наши дни и
хотят ими "оживить" современность» [Демидов 1926: 480]. Шведский славист
откровенно противится гальванизации истории как средства истолкования
современных событий; но следует подчеркнуть, что свободу его суждений не
сдерживали никакие ограничения, тогда как соображения политкорректности,
литературной репутации и просто личные, человеческие отношения во
многом определяли предельно корректную критику мэтров в периодике русского
зарубежья.
Подробно изложенное и аргументированное внушительной подборкой
цитат, мнение нобелевского эксперта насквозь субъективно. Сугубо
субъективным оказывается и неутешительный финальный приговор трудам
Мережковского, дилогии, по ошибочному представлению Карлгрена, как «в литературном
отношении слабому» произведению. «Тайна Востока», книга «более короткая и
терпимая», кажется ему отталкивающей своей «странной манерой измельчения
58 Заметим, что Мережковский опять-таки очень осторожен: «в подробности, похожей на
действительность», «очень вероятно», что речь идет «о чем-то одном, действительно бывшем»,
«мы не знаем» — все это в пределах одного маленького абзаца XIII подглавки главы 8 «Радуга
потопа», о которой и пишет Карлгрен. Мережковский приводит действительно поразительные
данные геологических исследований, подтверждающие возможное существование материка между
Европой и Америкой, ушедшего под воду в результате землетрясения, и сведения о
доисторических катастрофах, уцелевшие в преданиях разных народов. В некоторых источниках (а в
точности отсылок Мережковского Карлгрен как раз не сомневается) упоминается и густое от
водорослей и ила море, вероятнее всего Саргассово.
59 Вот как, например, пишет Мережковский о созвучии имен Атлант и Тантал: «Это
взаимно-обратное и взаимно-искажающее сочетание звуков, с бездонно-глубоким корнем <...> если
филологически случайно, то, может быть, не случайно "мистерийно-магически", потому что
Тантал есть, в самом деле, "обратный", "превратный", как бы в дьявольском зеркале искаженный и
опрокинутый, Атлас-Атлант». Как видим, Мережковский вновь чрезвычайно осторожен в
сближениях и выводах, он скорее указывает, чем доказывает и убеждает.
100
<информации> в несметное количество порций, словно писатель ставит
условие, что будет кормить читателя с ложечки», а «Тайна Запада» «полна
повторений и пережевываний — так что нужно — и это мое окончательное мнение —
присоединиться к собственным словам Мережковского о его последних
работах: чрезмерность. Оценивая Мережковского как писателя, будет
милосерднее, если можно, вообще обойти их», — завершает Карлгрен.
Критик отказался увидеть шедевр в произведении, представленном ему для
рассмотрения. Это его право, и ничто не должно руководить критиком кроме
его собственных эстетических воззрений, которые могут диаметрально
расходиться с эстетическими принципами автора. Однако в случае с присяжными
экспертами Шведской академии их мнение оказывается первоосновой
окончательного решения Нобелевского комитета, и потому личный вкус рецензента
не должен противоречить объективному значению творчества рецензируемого
им писателя. Трудно сказать, чего больше в суждениях А. Карлгрена о «Тайне
Запада» — искреннего неприятия книги, от ее идей до манеры их изложения,
или сознательного искажения этих идей. Трудно представить, чтобы такой
тонкий образованный критик и знаток русской литературы, каким был Карлгрен,
действительно мог воспринять книгу Мережковского как «наивную» попытку
воссоздать историю мифической Атлантиды! Мережковский пишет и
комментирует одновременно, справедливо не надеясь на адекватное восприятие своих
идей, и если он и вплетает в ткань своего повествования «прозрения»
Лермонтова, Тургенева, Достоевского, то это как раз ясно свидетельствует о намерении
художественными, а не научными средствами создать образ Атлантиды —
древней дохристианской цивилизации, чья гибель и в христианскую эру была
самым мощным символом гибели мира и пророческим предостережением
человечеству.
Мережковский мог возразить своему «засекреченному» оппоненту из
Шведской академии словами собственной книги: «Медики знают "световые
галлюцинации", а святые знают "свет Фаворский". Весь вопрос, конечно, в том, кто
прав, медики или святые» [Мережковский 1931: 405]. Очевидно, что в своем
отношении к книге Мережковского шведский критик встал на первую точку
зрения; как мы увидим, в дальнейшем он только укреплялся в своем
«медицинском» взгляде на творчество русского писателя. «Нужен только тот писатель,
который вносит что-то новое, хоть маленькое, — записала В.Н. Бунина со слов
Мережковского. — А даже Флобер мне не нужен, — ну, великолепная фраза,
а дальше что?» [Устами Буниных 1977-1982, II: 233]. Очевидно, что
Мережковский стоит на прямо противоположном отношении к литературной форме, чем
Бунин и Карлгрен: мастерство первого в складывании «великолепных фраз»
и заставило второго, горячего поклонника бунинского стиля, приложить все
силы и свой талант критика для отстаивания кандидатуры Бунина. Дневник
В.Н. Буниной сохранил еще некоторые признания Мережковского:
101
«Меня занимают только скучные книги, только они и интересны. Вот
"Капитанская дочка", — ее съешь, как конфетку, а Маркса или Канта — их читать все
равно что нож во внутренности вводить и там поворачивать. Но такие-то
книги и нужны, они-то и делают эпохи. Это я так говорю, что моя "Атлантида"
скучна». Он советовал прочесть из нее конец и начало — середина скучна
[Устами Буниных 1977-1982, II: 234]60.
Мережковский бравировал — его стоявшие в оппозиции ко времени
сочинения эмигрантской поры не «сделали эпоху» в литературе. Однако эмиграция
с большим сочувствием отнеслась именно к той стороне произведений
писателя, которая оставляла равнодушным Запад: привлекал его взгляд на прошлое
и настоящее человечества через призму русской национальной трагедии. «Зато
у русского писателя есть опыт революции», — противопоставлял
Мережковского прочим создателям наполеоновских биографий М. Цетлин, — есть
«обостренное русскими событиями восприятие Наполеона» [Цетлин 1929: 539,
542]. В какую бы глубь веков ни погружался Мережковский, в его философско-
художественные исследования неизменно вплетается злободневный элемент.
Так, обратившись к мифу о гибели Атлантиды, он словно соединяет два
жанра — жанр публицистики, высказывания на остро современные,
животрепещущие темы, и жанр, хорошо ему знакомый, — исторических штудий. Если
А. Йенсену показалась натянутой идея сопоставления важнейшего перелома в
русской истории (реформы Петра) со знаменательными кризисными эпохами в
европейской истории, то для А. Карлгрена столь же неприемлемы
представления Мережковского о связи российской катастрофы (революции 1917 года) с
предстоящими катаклизмами европейской истории и столь же чужды
пророчества: «Как же мы не видим, что бич Божий уже занесен над нами», «мы
считаем себя в безумьи мудрыми, в слепоте — зрячими» [Мережковский 1931:156];
«война и разврат делаются небывалыми по качеству, — крайним, кромешным,
уже не человеческим, а сатанинским злом», «Разврат и Война грозят
соединиться, как два конца одной веревки, в мертвую петлю на шее второго человечества,
так же, как первого. Очень плохой для Европы знак, что они уже соединяются,
и знак еще хуже, что этого почти никто не видит» [Там же: 210-211], и т. д. Когда
через несколько лет после написания этих слов Европа погрузилась в тяжкий
ужас войны с фашизмом, Швеции — промышленному поставщику Германии —
удалось отсидеться за шаткой стеной нейтралитета, а сам Мережковский, так
точно предсказав судьбу Европы и надеясь на ее спасение («если бы только
увидеть петлю, можно бы ее развязать» [Там же: 211]), совершил страшную,
непоправимую ошибку — ослепленный ненавистью к большевизму, приветствовал
60 Вера Николаевна начала читать «Атлантиду» и призналась Мережковскому, что книга ей
нравится, что читает она ее «с удовольствием, порой трудно оторваться. Он ответил, что она дает
ключ к пониманию христианства, беспорочного зачатия, догмата Троицы. И стал объяснять, —
записывает В.Н. Бунина дальше, — но я не слышала, т. к. 3<инаида> Н<иколаевна Гиппиуо
начала со мной разговор о нашем завтраке у них» [Устами Буниных 1977-1982, II: 234].
102
гитлеровское нашествие как освободительное для России. Книжные познания,
всегда заменявшие писателю-ученому художественные прозрения, подвели его
в самом конце земного пути.
И зная это, можно полагать, что Карлгрен имел основания резко
критиковать Мережковского. Так вольно и легко охватывающий мысленным взором
древние и новые времена, легендарные и подлинные события, историософские
концепции и литературные образы, щедро сыплющий цитатами, именами,
цифрами и непринужденно рассуждающий о богах разных народов,
Мережковский не знает, в сущности, к чему приложить это богатство. Ибо повторяемая
на разные лады, как заклинание, мысль о конце мира, то есть христианской
цивилизации, о гибели человечества если и не утомляет, как Карлгрена,
однообразием, то и не увлекает — ни простотой мудрости, ни мудрым всеведением.
Интересен прежде всего собранный писателем необозримый материал,
бесконечность ассоциаций, параллелей, сопоставлений, приближающих к
современному читателю и древние миры, и древние мифы. Воспользовавшись словами
самого Мережковского, «Тайну Запада» можно назвать попыткой излечения от
«исторического беспамятства, обморока» [Мережковский 1931: 33]. Но
отсутствие сюжета, не столько в беллетристическом смысле (на уровне рассказов о
Шерлоке Холмсе, столь презираемых Мережковским), сколько в динамике
мысли, построении теории и ее доказательстве, распыляет книгу на бесконечные
фрагменты, связь между которыми ясна, возможно, лишь автору. В этой
рыхлой массе разнообразных сведений иногда мелькают глубокие мысли,
гениальные догадки, изысканные описания; но все это поглощается, подобно
Атлантиде, водами словесного океана, не обретает развития и законченности.
Не приемля эсхатологических предсказаний Мережковского и не находя в
этом жанрово неопределенном сочинении (пожалуй, «Тайну Запада» можно
было бы назвать «книгой пророчеств», но для XX века подобный жанр
выглядит чересчур анахронично61) определенных художественных достоинств,
Карлгрен буквально вычеркивает имя русского писателя из списка возможных
претендентов на Нобелевскую премию, создавая карикатурный образ
литератора-пророка, напоминающего отца Федора из «Двенадцати стульев» и его
грозный призыв к птицам «Покайтесь!». Подобное восприятие сочинений
Мережковского вступает в очевидное противоречие с тем глубоко уважительным
мнением о трудах писателя, которое сложилось в критике русского зарубежья,
в целом полагавшей, что главные достоинства писателя — «его философский
подъем, блеск его тонкой мысли, отточенность его стиля» — относятся к самым
«высоким ценностям русской и европейской литературы» [Алданов 1931: 491].
Отзыв нобелевского эксперта совершенно излечивает от подобных
заблуждений. Рецензия Карлгрена, впрочем, не заканчивалась на «милосердном
призыве» обойти молчанием литературные достижения Мережковского. Последние
61 И о самих «пророчествах» В. Вейдле годы спустя отозвался так: «Странным он был
непроницательным — провидцем. Контуры одни рисовал, только их и понимал» [Вейдле 1993: 315].
103
ее страницы — примерно треть от общего объема — посвящены прочим
произведениям писателя, написанным за десять лет эмиграции.
Прежде всего Карлгрен обращается к рассмотрению романной дилогии о
древних Египте и Крите, появление которой было обусловлено «возможностью
воспользоваться кое-чем из культурно-исторического материала, подаренного
ему изучением Атлантиды», и «претворить его в художественной форме».
Это роман «Рождение богов», как и всегда у Мережковского, с претенциозным
высокопарным названием, которое (опять-таки по совету французских
издателей) снабжено подзаголовком «Тутанкамон на Крите», названием,
вопиющим о сиюминутном интересе, который не удовлетворяется книгой, и роман
«Мессия» — название, которое как раз нуждается в дополнительном
подзаголовке, но не получает его62.
Пересказ «скудного» действия обеих частей дилогии, посвященной
«переломным эпохам, когда наследство Атлантиды продолжает погибать, когда
железный век готов прийти на смену золотому», Карлгрен умещает в пределах
одного абзаца, сосредоточившись на художественной стороне повествования, на
развитии уже высказанных Мережковским теорий в романной форме.
Знакомые по «Тайне Трех» идеи «переплетаются с рядом достаточно эффектных
описаний природы обеих стран (Крита и Египта. — Г. М.), которые по
преимуществу и заполняют романы». Само по себе замечание о романном мастерстве
Мережковского, конечно, уничижительно, но Карлгрен еще и блестящий
стилист, виртуозно владеющий не только всем богатством шведского словаря, но
и семантическими оттенками используемых слов: так, шведский глагол inter-
foliera имеет не только значение «переплетать», но и «прокладывать листы
макулатурой, переплетать с проложенными белыми листами», и этот известный
шведскому читателю двойной смысл слова, введение в сознание читателя
понятия «макулатура» способствует созданию негативного впечатления о
рассматриваемом произведении.
Оба романа не представляют, по мнению Карлгрена, большого интереса, за
исключением некоторых персонажей (впрочем, не названных) и их диалогов;
правда, последние, хотя и облеченные в «искусную форму», представляются
рецензенту отражением собственной религиозной философии автора.
Это никак не отменяет того, что изображения Мережковским критских
культов и египетских религиозных конфликтов довольно захватывающие и
поучительные, — насколько это плод чистой фантазии, другой вопрос; интересны и
красочны также описания критской и египетской жизни того времени, тоже от
начала и до конца, вероятно, результат основательного штудирования
собранного культурно-исторического материала, никоим образом не
приближающего к всестороннему пониманию этой жизни, иногда лишь с совершенно утоми-
62 Романная дилогия «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» (Прага, 1925) и «Мессия»
(Париж, 1928).
104
тельной обстоятельностью разъясняемой в совсем ненужных подробностях на
целых страницах. Иногда писатель бросает все, чтобы прицепиться к какой-
нибудь второстепенной детали, о которой он в своих исследованиях находит
некоторые разъяснения, порой совершенно гротескные.
В качестве примера такой «гротескной» детали Карлгрен указывает на
«обстоятельное описание первоклассного63 современного оборудования» туалета
в «Рождении богов», дающего писателю повод — «художественный прием,
достойный современного пародиста, — заставить Тутанхамона пострадать
желудком!».
Разумеется, дилогия отнюдь не наполнена подобными комическими — с
точки зрения остроумного рецензента — эпизодами; однако на этом ее
рассмотрение и заканчивается.
Во всяком случае: поскольку Мережковский вновь вступает в свои владения,
где он как раз и силен, в область исторической романистики (если можно
назвать оба эти произведения историческими романами, которыми им
позволительно считаться лишь с известными оговорками), то он опять, по крайней
мере отчасти, обретает свое «я»; но уровня своих первых исторических
романов он во всяком случае не достигает.
Таков вердикт эксперта Нобелевского комитета по славистике о сочинениях
Мережковского, посвященных древнейшим временам.
Выдающаяся личность, к которой обращается русский писатель в своей
последней — к моменту написания рецензии — работе, Наполеон, с самого начала
предстает в исследовании Мережковского «князем мира»: «стремление
объединить запад и восток для созидания царства вечного мира» является, согласно
Мережковскому, «побудительной причиной в деятельности Наполеона.
С этой точки зрения Наполеон становится человеком в его духе. Его
восхищение Наполеоном, впрочем, давнего времени: уже в сочинении «Толстой и
Достоевский» он посвящает несколько страниц, исполненных негодования,
критике толстовского восприятия Наполеона, превознося Наполеона до небес64.
Теперь он пишет произведение о Наполеоне, которое по безоговорочному
поклонению герою оставляет далеко позади все дотоле написанное.
63 Утрируя производимое комическое впечатление — чудо сантехники в качестве
связующей нити между описываемой тысячелетней древностью и современностью, Карлгрен вновь
находит точное определение — понятие «первоклассный» в шведском оригинале обозначено
словом tiptop.
64 «Мережковский любит Наполеона не со вчерашнего дня, — свидетельствует критик
русского зарубежья. — Еще в "Толстом и Достоевском" он посвятил патетические и негодующие
страницы опровержению толстовского восприятия Наполеона. Никто не пошел так далеко в
отрицании Наполеона, как русский — Лев Толстой. Но никто, кроме Блуа, не пошел дальше и в
преклонении перед ним, как русский — Мережковский» [Цетлин 1929: 540]. Блуа (Bloy) Леон
Мари (1846-1917) — французский писатель, автор историко-публицистической книги «Душа
Наполеона» (1912).
105
И вновь на первый план в оценке произведения вынесены его недостатки,
с них начинается разбор, они прежде всего оказываются в сфере внимания
рецензента.
Произведение — или, правильнее, два. Его работа о Наполеоне делится на две
части, жизнь Наполеона и Наполеон — человек, две части, которые он,
оказывая сам себе медвежью услугу, объединяет в одно целое.
И вновь, не задумываясь над тем, что побудило писателя расположить
материал, зачастую дублируя его, именно таким образом, какие причины философ-
ско-психологического (а возможно, и меркантильного) характера управляли
им, Карлгрен прежде всего указывает на «ужасный, скверный план» всего
труда, снижающий его значение: «...тот же материал подается дважды, один раз
вставленный в биографию Наполеона, другой раз приведенный в пояснениях
к его личности».
Факты, цитаты, описания и мнения преподнесены, часто теми же словами, в
двух разных частях65, целые страницы во второй части оказываются
практически перепечаткой страниц из первой части. Две части так сложены одна с
другой, что их можно раскладывать по своему усмотрению: русское (вышедшее в
Белграде) издание составлено из характеристики в качестве первой части,
биографии в качестве второй, в немецком издании — наоборот66.
После такого обнадеживающего начала — но, во всяком случае,
написанного без иронических эскапад, — Карлгрен дает оценку книге в целом. Это своего
рода мини-рецензия, блестяще исполненная и достойно завершающая
увлекательный, остроумный, яркий и в общем отрицательный экспертный отзыв.
Без особого доверия к заявлению Мережковского в обширном введении, что
все более чем 40.000 наполеоновских жизнеописаний по сравнению с его
собственным всего лишь халтура (последнее, Леона Блуа, он одобряет <[В1оу
1912]>), нельзя не признать, что первая часть работы, собственно биография,
сделана искусно.
В критическом разборе эксперта наконец начинают звучать нотки
одобрения: даже обширный перечень литературы кажется ему «импонирующим» и не
отягощающим изображение, ибо в этой книге Мережковского «есть движение и
полет, которые временами не дают ему погрязнуть во всей этой учености,
которая в иных случаях наполняет произведения Мережковского».
Это также лучшая среди работ Мережковского мозаика, составленная из
трудно подгоняемого, совсем разнородного сырья, который ему не удается спла-
65 И вновь Карлгрен блестяще справляется с подыскиванием верного слова: шведское reprise
одновременно значит и «повторение», и «часть».
66 Действительно, необычность композиции книги, состоящую в нарушении «традиции
всех биографий, начиная с Плутарха», трудно было не заметить, как и «неизбежных повторений»
[Цетлин 1929: 539].
106
вить воедино, но зато он охотно извлекает кусочки смальты из этого богатого
материала и обрабатывает их. И он получает из ингредиентов, чья
неподатливость давно хорошо известна, произведение необычайно свежее и новое. И к
своему собственному изумлению позволяешь себе увлечься этим
захватывающим романом. В целом пленительный — при всех спорных описаниях,
которыми в наше время уже все пресытились, — он обладает неотразимым
очарованием67.
Редкое дарование критика: Карлгрен умел высказывать не только
негативные суждения, облекая их в образную форму, подкрепленную остроумными
замечаниями и тем более действенную, — он умел быть убедительным и когда
высказывал одобрение и восхищение, не боясь красивых добрых слов,
звучавших в его рецензиях чисто и сильно, но совсем не тривиально. Это касается не
только эпитетов — например, военные страницы книги Мережковского, в
которых писатель достиг «подлинного мастерства», он называет «моментальными
фотографиями с полей сражений», «короткими, но созданными с
электризующим энтузиазмом батальными зарисовками»68. Однако, разбавляя эту
единственную на всю рецензию ложку меда полновесной каплей дегтя, Карлгрен в
скобках замечает, что двойные описания одного сражения, в частности, на Ар-
кольском мосту, — это «немного чересчур» для превосходного произведения.
Портит общее прекрасное впечатление от книги в глазах Карлгрена и
вмешательство мистики в достаточно трезвое описание событий, не слишком
диссонирующее в эпизодах, когда герой остается цел и невредим в пылу боя, но
неприятно поражающее читателя, когда самому ничтожному случаю из жизни
Наполеона писатель придает «немыслимо глубокий аллегорический смысл»
(рецензент ссылается, в частности, на едва подавляемую коронуемым
императором зевоту, в которой Мережковский увидел «вещий дар ясновидения» и
осознание венчания на царство «как жертвы» [Мережковский 1929, II: 117]).
Впечатление от подобных натяжек накапливается, вырастая в глазах
Карлгрена в целый ряд «камней преткновения», заполняющих вторую часть
произведения, «Наполеон — человек», и отвращающих читателя от следования за
авторской мыслью. «"Наполеон — человек", — для Мережковского Наполеон не
человек!» — восклицает Карлгрен, возвращаясь к основному тону своих
суждений о писателе.
67 В отзыве Карлгрена есть явное расхождение с рецензией М.О. Цетлина, относившего
композицию к достоинствам книги; но в целом, в собственно читательской оценке книги, Карлгрен
солидарен с критикой русской эмиграции. Процитированные выше похвалы из экспертного
заключения почти дословно совпадают с определениями русского отклика: «страницы блестящей
и не всегда убедительной диалектики» М. Цетлин назвал «чрезвычайно увлекательным чтением»
[Цетлин 1929: 540, 542]. Но вслед за Цетлиным сравнить книгу Мережковского с Героической
симфонией Бетховена Карлгрен все же не решился.
68 «Сражение — молния, — писал потрясенный именно художественным мастерством
Мережковского в этой книге М. Цетлин. — Как изобразить, остановить молнию?» [Цетлин 1929:
541].
107
Если в первой части Наполеон, в большой мере, представлен как историческая
личность, то теперь образ Наполеона является в галерее мифических образов,
которые Мережковский натолкал в «Тайны» Запада и Востока. Миф о
Наполеоне представлен в надлежащей связи с прочими мифами <...> Чем дальше
продвигается работа, тем больше исторический Наполеон подергивается
мистической дымкой <...>.
Сравнения Наполеона с Дионисом, Прометеем или Гильгамешем кажутся
рецензенту более чем натяжками, а когда Мережковский представляет
победоносную армию Наполеона как пляшущее дионисийское празднество с самим
богом во главе, то Карлгрену приходится заметить, что история сменяется
областью чистого домысла и историческая фигура приобретает «фантастические
контуры». Даже когда образ «земного Наполеона» проглядывает вновь, в таком
«чересчур лестном свете» интересные описания оказываются безнадежно
испорченными. И, в элегантной композиционной концовке, Карлгрен с прежней
насмешливостью замечает:
Из всего этого вытекает, что характеристика Наполеона только в одном
отношении может претендовать на превосходство над прочими 40.000, по поводу
которых он (Мережковский. — Т. М.) иронизировал: она принадлежит к
курьезнейшим среди них.
Так заканчивается критический обзор творчества Мережковского за десять
лет эмиграции, принадлежащий перу эксперта Нобелевского комитета Антона
Карлгрена. Именно это небольшое руководство было роздано пяти
академикам, уезжавшим на летние вакации с набитыми книгами чемоданами. В
довоенные годы в списке номинированных на Нобелевскую премию писателей
оказывалось полтора-два десятка кандидатур, представлявших литературы на
разных европейских языках. В большинстве своем их новые произведения
еще не были переведены на шведский язык, и далеко не все книги можно было
читать в оригинале. Задача специалистов по той или иной национальной
литературе и состояла в том, чтобы дать как можно более полный очерк
творчества писателя, выявив художественную ценность его произведений и
определив его место в национальной и мировой литературе. У академиков были
свои фавориты, и, чтобы привлечь их внимание к какой-либо кандидатуре,
требовались немалые усилия. Чтобы убедить их признать ту или иную номинацию
не заслуживающей серьезного внимания, усилий требовалось значительно
меньше.
Имя Д.С. Мережковского не было совсем чужим для членов Нобелевского
комитета — образованные гуманитарии, они были знакомы с некоторыми
произведениями этого популярного в первые два десятилетия XX в. исторического
романиста и литературного критика. Интерес мог быть возобновлен. Однако
финальные строки рецензии Карлгрена ясно доказывали, что для Нобелевской
премии писатель интереса не представляет:
108
<Если> хочешь судить Мережковского с лучшей его стороны, то придется,
особенно при отсутствии должной закалки, отложить его последние работы
в сторону. Вместо этого должно обратиться к самому началу его
литературной деятельности: ничего, что поднялось бы до вершин первых двух томов его
первой исторической трилогии (и, пожалуй, книги о Толстом и Достоевском),
ему позднее создать уже не удалось. Стали ли эти работы впоследствии
безнадежно переоцениваться, по крайней мере в западных странах (в России
Мережковский никогда, хотя и упрямо создает целые страницы, которые
совершенно однозначно должны апеллировать к русскому вкусу, не получал даже
отчасти столь большого признания), это другой вопрос. На мой взгляд, тут
больше эрудиции, чем искусства, больше исключительно компиляторства,
чем вдохновения, это рядящаяся в высокие слова и сложные термины
претенциозная религиозно-философская глубина, к которой несколько утрачено
уважение, ибо в последних своих работах Мережковский движется к чистой
карикатуре.
Пародия и гротеск, компиляции, фокусничанье и карикатура —
обстоятельные и серьезные, ученые сочинения Мережковского никогда, видимо,
не оценивались столь резко. «Рейтинг» писателя на нобелевской бирже
оказался равным нулю. Пространно процитированный выше очерк Карлгрена еще
раз убеждает в том, какое важное значение в формировании мнения
Нобелевского комитета имеют порой его эксперты. Личный вкус эксперта, чье имя
знакомо, может быть, небольшому кругу специалистов, оказывается в конце
концов решающим. О тех же произведениях Мережковского можно было написать
иначе, расставить по-другому акценты и подчеркнуть достоинства; Карлгрен
же высмеял его с чисто журналистским задором, полагая, что навсегда
закрывает тему обсуждения творчества этого русского писателя в Нобелевском
комитете.
Так и случилось. В заключении Нобелевского комитета 1930 года говорится
не только о том, что «последние пророческие, мистические и исторические
сочинения Мережковского потерпели почти полный провал», но также и о
том, что «те из них, которые были выдвинуты на Нобелевскую премию ранее и
которые представляются безгранично переоцененными в свое время,
являются, в сущности, больше плодами научных трудов, нежели художественного
вдохновения» [Nobelpriset i litteratur, II: 148]. Уже в этом году, под очевидным
влиянием экспертного очерка Антона Карлгрена, Нобелевский комитет
исключает Мережковского из числа возможных лауреатов и отмечает, что не
может быть и речи о возможном разделении премии между ним и Буниным,
оставляя последнего как единственную кандидатуру от русской литературы
[Ibid.: 149].
109
Символично, что тем же знаменательным 1930-м — годом, когда
Мережковские начали жить упованием на премию, — датируется и знакомство этой
сложной литературной четы со шведской художницей Гретой Герель (Gerell; 1898-
1982)69; их личная встреча состоялась годом позже. Герель жила в Стокгольме и,
будучи поклонницей творчества Мережковского, вела среди шведской
интеллигенции, насколько позволял круг ее общения, «агитацию» в пользу
выдвижения Мережковского- на Нобелевскую премию. Хотя писем, адресованных
Герель, сохранилось немного, в них раскрываются упования, отчаяние и новая
«вера в чудо» старого писателя, мечтающего стать нобелевским лауреатом и
уверенного в том, что он достоин этой чести. В архиве (собрании автографов)
Королевской библиотеки в Стокгольме хранится около двадцати (включая три
записки и одну открытку) писем Д.С. Мережковского Грете Герель.
Когда после смерти мужа в 1941 г. З.Н. Гиппиус задумывала мемуарно-био-
графическую книгу, названную в итоге «Дмитрий Мережковский», она отвергла
первоначальное название «Он и мы», отделяющее личность писателя «от
общества и даже от близких и друзей» [Pachmuss 1971: 276]. Некоторые
малоизвестные или до сей поры не опубликованные письма писателя свидетельствуют о
том, что Мережковский отнюдь не был отделен от окружающих непроницаемой
стеной. Переписка последних лет его жизни обнажает живую душу, казалось,
погребенную в толще громоздких религиозно-мистических штудий писателя
в эмигрантские годы; в написанных старческой рукой семидесятилетнего
«Дедушки» (как называла мужа в конце 1930-х гг. З.Н. Гиппиус) частных
посланиях Грете Герель нет и следа холодной надменности, подавляющей учености,
ничего ходульного и выспреннего. Даже характерные черты личности
пожилого «мэтра», проговаривающегося иногда с величаво-наивным эгоцентризмом
(например, при сравнении собственных ощущений при очередном отказе в
присуждении Нобелевской премии со страданиями поруганного Христа),
проступают на страницах этой дружеской переписки с какой-то особенной
трогательностью.
И много лет спустя Грета Герель утверждала, что в ее отношениях с
Мережковскими не было ничего, о чем она «не желала бы рассказать с любовью и
благодарностью» [Ibid.: 404]. Увлеченная религиозно-мистическими
аспектами творчества Мережковского, Грета Герель бесконечно преувеличивала
значение личности и произведений писателя вообще и в шведском сознании в
69 О самой Г. Герель, ее знакомстве и дружбе с Мережковским и Гиппиус подробно писала
Т. Пахмусс (в кн.: «Zinaida Hippius. An Intellectual Profile» [Pachmuss 1971]). Ей принадлежит и
публикация переписки З.Н. Гиппиус с Г. Герель [Pachmuss 1972: 531-639]; см. также:
Воспоминания Греты Герель и письма к ней Зинаиды Гиппиус, 1933-1945 [Пахмусс 2002: 203-220].
Мережковский, писавший в Стокгольм и реже, и гораздо лаконичнее (но это совсем не значит, что
с меньшей теплотой), обращался к «дорогому другу» по-французски. Также о Грете Герель см.
[Ljunggren 1983: 10-12].
ПО
частности. В 1930-е гг. популярный некогда русский исторический романист
был почти совершенно забыт, заслонен новыми именами и литературными
событиями. Однако поклонники выдвигали его на Нобелевскую премию и
пытались повлиять на общественное мнение, склоняя его в пользу Д.С.
Мережковского.
Грета Герель училась живописи в мастерских Стокгольма и Парижа, а в
начале 1930-х гг. углубилась в вопросы религии, сначала увлекшись Гёте и Ницше,
позже попав под влияние антропософии Р. Штайнера. В ее собственных
картинах главное место стали занимать библейские сюжеты, и среди книг, в которых
она искала ответы на волнующие ее вопросы, оказалось несколько сочинений
Д. Мережковского и особенно поразившая Герель «Дорога в Эммаус» в переводе
на французский язык. В 1930 г., готовясь к очередной выставке (в Стокгольме),
она письменно обратилась к Мережковскому за некоторыми разъяснениями,
и он, в свою очередь, пригласил ее в гости (в Париже) для беседы, «во время
которой она обсуждала с ним, среди прочего, Лютера, русскую православную
церковь, русских святых, Карму и Брахму» [Pachmuss 1972: 531].
Грета Герель постепенно стала близким человеком у Мережковских, «кон-
фидантом» Зинаиды Николаевны («Одна только Грета и есть верная» [Ibid.:
258]); да и Дмитрий Сергеевич поверял своей шведской «сестре» самые
затаенные надежды. Почему именно к этой шведской художнице так привязались
Мережковские? Видимо, произошло какое-то редкостное совпадение, сочетание
характеров и темпераментов, возникла душевная близость с женщиной, в
натуре которой В.А. Злобин уловил, казалось бы, взаимоисключающие черты70.
С одной стороны, он поражается ее «бодрости, веселью и остроумию» после
тяжелой опасной болезни: «Такого внутренне здорового человека я редко встре-
70 По воспоминаниям Г. Герель, невозможно было представить, как Мережковские
справились бы с тяготами быта без Злобина, который выполнял самые разнообразные обязанности по
дому: «делал покупки, готовил еду, стирал и гладил. Он работал с неизменным юмором и
приподнятым настроением: он пел, он ворковал, он смеялся» [Pachmuss 1972: 399]. «Бедным Володей»
называет своего бессменного секретаря в дневниковых записях и З.Н. Гиппиус. Однако дневник
Гиппиус 1939 года содержит далеко не идиллические характеристики их взаимоотношений со
Злобиным и его самого: «Как бы научиться воздерживаться с В<олодей>? Но он не перестает
лгать...» [Гиппиус 1999, 2: 400], или: «С Вол<одей> ссорились (невоспитан и двойная жизнь)»
[Там же: 486]. Очень резкая оценка В.А. Злобина и его роли при Мережковских содержится в
известных своей нелицеприятностью мемуарах B.C. Яновского «Поля Елисейские»: «Человек,
вероятно, в большой степени ответственный за все безобразия последнего периода жизни
Мережковских. <...> Мережковские закончили довольно позорно свой идеологический путь. Главным
виновником этого падения старичков надо считать Злобина — злого духа их дома, решавшего
все практические дела и служившего единственной связью с внешним, реальным миром.
Предполагаю, что это он, "завхоз", говорил им: "Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио,
иначе не сведем концы с концами, не выживем". Восьмидесятилетнему Мережковскому, кащею
бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и
славою очень хотелось после стольких лет изгнания. "В чем дело, — уговаривал Злобин. — Вы
ведь утверждали, что Маркс — Антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть — он
антидьявол"» [Яновский 1993: 124-125].
111
чал» [Письма Злобина Мережковским 1999: 151]. С другой, хотя она «очень
мила, полна добродушнейшего юмора, но, в то же время, — замечает прагматик
Злобин, — сидит в ней какая-то "порча", и совершенно неизвестно, на что она
способна» [Там же: 140].
«Квартира Мережковских в Париже на авеню дю Колонель Бонне, 11 бис,
вскоре стала моим вторым домом... домом, по которому я скучала и в который
возвращалась каждый год» [Pachmuss 1971: 392], — вспоминала Г. Герель,
рассказав, как ее визиты к Д.С. Мережковскому и беседы на религиозные темы
вдруг превратились в задушевное общение, после того как З.Н. Гиппиус, не
поколебав своим экстравагантным появлением шведской невозмутимости, вдруг
оттаяла и пригласила гостью мужа бывать ежедневно: «Все мы трое лучезарно
улыбались друг другу» [Ibid.]. В.А. Злобин, познакомившись со шведской
подругой Мережковских во время ее визита в Париж в 1936 г., называет ее «милой
и простой»; «и вообще она очень хороший человек, — решает многолетний
секретарь Мережковских, — и на ее "переселение душ", в которое она так
страстно верит, не следует обращать никакого внимания» [Письма Злобина
Мережковским 1999: 139].
Г. Герель стала приезжать в Париж к Мережковским, обычно дважды в год,
на Рождество и на Пасху. Языком их общения был французский, и ради нее
даже молитвы читались по-французски (а ликер по праздникам ее приучили
пить из одного стакана, потому что «так надо» [Pachmuss 1971: 392]). Иногда
шведская художница выполняла секретарские обязанности, как бы подменяя
В. Злобина при мэтре — Мережковском, «отвечая на письма и устраивая
рандеву с его поклонницами». Замечательно, что театральность, которой хватало в
доме Мережковских, имела совершенно иное воздействие на «Шведку» (как
называл ее в переписке В. Злобин), чем на русских посетителей собраний
«Зеленой лампы» и просто гостей. Религиозная экзальтированность Греты Герель, ее
доверчивый восторг перед розыгрышами и совсем иной, непостижимый
«скандинавский» темперамент сделали шведскую художницу незаменимым
человеком в жизни Мережковских, в их домашнем, интимном кругу.
Ей поверялись воспоминания детства, раскрывались души, не желавшие
раскрываться перед соотечественниками. Мемуаристика русского зарубежья
переполнена рассказами о коварных мини-спектаклях, на которые Гиппиус
была такой мастерицей. А из тех милых домашних сценок, которые сохранила
благодарная и благородная память Герель, складывается образ почти детских
душ, таившихся под маской немного смешного и многих отталкивающего
интеллектуального величия. Так, например, Грета Герель вспоминала, как
привезла однажды на Пасху традиционные в Швеции березовые веточки, украшенные
яркими разноцветными перышками: с их помощью Мережковские устроили
праздник... золотой рыбке по имени Константин, расставив цветные букетики
вокруг аквариума. Но рыбка с именем византийских императоров невозмутимо
плавала в воде, и Мережковский в сердцах назвал Константина «глупым и бес-
112
чувственным», не обнаружив в нем «ни малейшей степени благодарности»
[Pachmuss 1971: 392]71. Идиллия!
Однако рискнем предположить, что познакомиться со шведкой из
Стокгольма Мережковских — возможно, подспудно — побудила столь захватившая
их идея Нобелевской премии: и номинация Мережковского в Шведской
академии, и встреча с Г. Герель относятся к 1930 г. Т. Пахмусс сообщает со слов
шведской художницы некоторые подробности хлопот о Мережковском, которому
прочили Нобелевскую премию по литературе:
Шведские газеты строили предположения, что он был явным кандидатом,
часто печатали его фотографии и биографические данные. Сельма Лагерлёф,
шведский прозаик и нобелевский лауреат, от которой Герель узнавала об
общих настроениях в Швеции, уверяла Мережковских, что это очень возможно,
что Дмитрий Сергеевич получит премию. «Выдвижение Бунина произвело на
нас впечатление разорвавшейся бомбы!» — сообщает Герель. «Можно
представить, как мы были несчастны в тот день, когда услышали об этом (о
присуждении Нобелевской премии Бунину. — Т.М.). Но самым тяжелым ударом было
то, что Бунин, возвратившись в Париж, больше не посещал Мережковских72.
Шведская академия была озабочена политическими взглядами писателя
больше, чем литературными достижениями. Мне было грустнее всех. Я была
разочарована решением Шведской академии, рассматривая все происшедшее как
невнимание со стороны Швеции» [Ibid.: 401].
Были ли у Бунина столь же преданные друзья — шведы?
К хлопотам о Нобелевской премии для Мережковского Грета Герель
подключила своих знакомых. Так, в 1933 г. с письмом в поддержку кандидатуры
Мережковского в Шведскую академию обратился упсальский архиепископ
Эрлинг Эйден (Eiden, 1880-1950)73. Т. Пахмусс в комментариях к избранной
переписке З.Н. Гиппиус высказывает предположение, что архиепископ
«поддерживал превалирующее в Швеции общественное мнение, что Мережковский
должен стать русским лауреатом Нобелевской премии по литературе 1933 года»
[Pachmuss 1972: 540]. Однако подобная точка зрения могла сложиться только
в весьма узком религиозно настроенном кругу, и, скорее всего, сама мысль об-
71 О «золотой рыбке» Мережковских упоминает и В.А. Злобин в переписке с ними: «Рыба
хоть и не пляшет, но жива и здорова. Я за ней ухаживаю, как и за пальмой» [Письма Злобина
Мережковским 1999: 135].
72 «А помните, Иван Алексеевич, ваше посещение Мережковских после возвращения из
Стокгольма?» — этот вопрос задала Бунину другая мемуаристка, Ирина Одоевцева. И с его слов
передала эту сцену так: «О чем это вы? После Стокгольма? Постойте, постойте, — и вдруг,
оживившись: — Не о моем ли последнем визите на рю Колонель Боннэ? Когда Зинаида Николаевна,
как оса, старалась меня побольней и полюбезней ужалить, а художник X. вошел и, не заметив
меня, воздел руки к потолку и гаркнул на всю столовую: "Дожили! Позор! Позор! Нобелевскую
премию Бунину дали!"» [Одоевцева 1989: 280].
73 Поскольку формально он не имел права выдвигать кого-либо на литературную премию,
эта номинация не была учтена.
113
ратиться с письмом в поддержку Мережковского была подсказана
архиепископу кем-либо из близких знакомых Греты Герель, например,
профессором-экономистом Упсальского университета Борисом Тюлландером (Tullander),
поклонником творчества Д.С. Мережковского; рекомендателем мог стать и
Александр Рубец, профессор теологии того же университета. Шведские
корреспонденты Мережковского очевидно не ведали, как резко отрицательно настроены
к писателю члены Нобелевского комитета. Переписка Д.С. Мережковского с
Гретой Герель наглядно показывает, что личная инициатива друзей и
поклонников (весьма немногочисленных) русского писателя в Швеции побуждала его к
активным действиям тогда, когда академики уже вывели его кандидатуру за
рамки серьезного рассмотрения.
Грета Герель, без сомнения, была по-настоящему преданным другом
Мережковских, помогая «им с уплатой за содержание их парижской квартиры и с
выплатой жалованья Катерине, их прислуге» [Письма Злобина Мережковским
1999: 132]74. Но, поддерживая «двух гениев» (как она и Злобин называли между
собой Мережковских) материально, собирая для них деньги по шведским
друзьям, своей искренней преданностью и пониманием она оказывала и духовную
поддержку одиноким стареющим писателям. В самом начале завязавшегося
знакомства, 12 октября 1931 г., Мережковский пишет пока незнакомой ему
лично шведской корреспондентке75:
Благодарю вас от всего сердца за ваши письма, которые заставили меня
почувствовать то, чего мне так не хватает в моем полном одиночестве, —
уверенность быть услышанным одной Живой Душой. Я хорошо знаю — я всегда знал,
что она существует — эта таинственная Психея, но по слабости никогда не
чувствовал, что она на самом деле так близка.
Этой «таинственной Психее», явившейся в образе экзальтированной
шведской художницы, поверялись, впрочем, самые земные тяготы и огорчения,
почти неизменно связанные с отсутствием денег. Вот как, в частности,
вырисовывается из писем Мережковского к Герель его работа над исследованием «Иисус
Неизвестный» (Белград, 1932-1934), которое общепризнанно считается
центральным, итоговым трудом писателя в эмиграции. Работа требовала
внутренней сосредоточенности и душевного спокойствия, а Мережковский горестно
сетует (12.11.1931):
74 В сохранившемся финансовом «отчете» Злобина упоминается о ежемесячно поступавших
от Герель 400 франках на прислугу. Для сравнения — из того же отчета: гонорары Мережковских
составляли (это данные за весну-лето 1936 г.) от 243 франков в «Последних новостях»
(полученных Зинаидой Николаевной) до 467 за публикацию в «Иллюстрированной России и 500 в
Возрождении», — т. е. от Г. Герель каждый месяц приходила сумма, равнозначная гонорару солидной
эмигрантской газеты. Кстати, в «счетах» Злобина почти все цифры двузначные, за исключением
трехзначных сумм за электричество и папиросы и единственной четырехзначной, лаконично
обозначенной «Еда» [Письма Злобина Мережковским 1999: 146].
75 Письма Г. Герель Д.С. и З.Н. Мережковским опубликованы нами в переводе с
французского языка [Марченко 2001].
114
Но, увы! покой — вещь такая далекая и почти фантастическая, и в настоящее
время я провожу дни поистине трагические из-за всеобщего кризиса76.
Издатель моего нового произведения, «Иисуса Неизвестного», самого важного изо
всего мною написанного, отказался выплатить мне 30.000 франков, которые
мне положены по контракту, что меня чудовищно вывело из равновесия.
Почти через год, 25.08.1932, писатель вновь сокрушается: «Мое
материальное положение становится настолько трагичным, что я не уверен, что смогу
завершить наиважнейший II том "Иисуса"». Еще через несколько месяцев,
23.11.1932, тот же неотступный вопрос: «Моя нищета день ото дня становится
трагичнее. Смогу ли я завершить II том "Иисуса"?». Не откликнуться на этот
отчаянный вопль о помощи мог только камень, и вот уже 14.12.1932
Мережковский свойственным ему выспренним слогом рассыпается в благодарностях за
предложенную весьма значительную субсидию:
Дорогая мадемуазель, 5.000 франков, которые вы хотите мне прислать, окажут
мне весьма действенную помощь: они дадут мне возможность спокойно
завершить «Иисуса Неизвестного». Я умоляю вас отправить их мне как можно
скорее.
Деньги немедленно высланы; расчувствовавшийся Мережковский («и нет
слов, как я вам благодарен, вам и моему неизвестному другу»77) торопится
сообщить о получении вышеназванной суммы:
Скажите ему, что благодаря его помощи я получаю 1-2 месяца совершенного
покоя, чтобы завершить или довести почти до завершения «Иисуса
Неизвестного». Я уверен, что смогу внести квартирную плату 15 января, — это главное.
Быть может, это доказательство практичности и эффективности его помощи
доставит ему удовольствие, потому что я хорошо знаю по собственному
бедному опыту, увы! что именно практическое дело души приносит наибольшую
радость для того, кто совершает доброе дело. Но почему же мой друг желает
остаться неизвестным? Я так хотел бы лично поблагодарить его и послать ему
одно из моих сочинений (в шведском переводе) с посвящением.
76 Разразившись во Франции в 1930 г., годом позже, чем в других странах, экономический
кризис затянулся до 1936 г. По объему производства страна была отброшена к уровню XIX в.,
промышленное производство и национальный доход сократились на треть; кризис разорил
десятки тысяч мелких предпринимателей и торговцев, породил массовую безработицу.
Экономические результаты кризиса обострили социальные противоречия внутри страны и сделали
положение иностранцев еще более уязвимым. Правительства сменялись одно за другим, в стране
готовился фашистский переворот. В 1936 г. победу на парламентских выборах одержал
Народный фронт, а кабинет министров возглавил социалист Леон Блюм. Но никаких серьезных
реформ правительству Народного фронта провести не удалось, и после относительной
стабилизации во второй половине 1937 г. Франция вновь вступила в полосу экономического кризиса.
77 Гонорары от изданий колебались в пределах нескольких тысяч, в дневниковых записях
В.Н. Буниной и Г.Н. Кузнецовой есть сообщения о получении Буниным всего 1000-1500 франков
за книгу. А ведь гонорары от изданий и публикаций в периодике были единственным средством
существования для писателей-эмигрантов; так что у Мережковского были все основания горячо
благодарить «безымянного» донатора.
115
Нобелевская тема не сразу возникает в переписке Мережковского со
шведской корреспонденткой, воспринимавшейся писателем как ровня: «Читали
ли вы "Das Geheimnis des Westens (Atlantis - Europa)" 1930... ([Mereschkowskij
1930] — T. M.) Если нет, прочтите. Я очень хотел бы знать ваше мнение об этой
книге», — интересуется он в письме от 12.10.1930 и благодарит своего адресата
за ее послание, «столь полное ума и души». Постепенно переписка приобретала
все более задушевный характер. Даже обычные выражения вежливости, столь
виртуозно разработанные во французском языке, не кажутся формальными —
постепенно подпись «всегда Ваш», «преданный Вам», «сердечно Вам
преданный» заменяется (в конце 1930-х гг.) на нежное и интимное «твой дедушка», как
и само обращение — с «Вы» на «ты».
Письмо от 12.11.1931 является откликом Мережковского на предложение
энергичной шведки, касающееся Нобелевской премии:
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы получить здесь рекомендацию для
Нобелевской премии. Но я прошу вас разъяснить, какой представитель
литературного мира (или многие представители, чтобы иметь выбор) окажется наиболее
подходящим при этой попытке со шведской точки зрения. Я также могу
обратиться к одному из Нобелей7*^ который живет в Париже и с которым мы просто
приятели.
Мережковские слыли, прежде всего у собратьев по перу, ловкими
организаторами. Но это частное письмо никак не свидетельствует об умении устраивать
дела, напротив, скорее, о неумении как следует взяться за них: в личной
переписке о столь важных для писателя хлопотах он вряд ли хотел показаться
непрактичным. Уязвимость Мережковского-человека, Мережковского-писателя
как раз в том, что подлинная личность профессора-интеллектуала, рассеянного
книжного чудака, «дедушки» не проступает в его сочинениях; искренние
душевные движения, столь трогательные в частных письмах, подлинные чувства,
по действительно справедливому замечанию Антона Карлгрена, гибнут под
грузом «учености», лишая писателя отзывчивой читательской аудитории и
оставляя в столь горько им осознаваемом «ледяном одиночестве» (письмо Грете
Герель от 20.04.1931).
«Что касается Нобелевской премии, — докладывает своей шведской
корреспондентке Мережковский 26.01.1932, — у меня слишком мало надежды, но я
буду или, возможно, уже рекомендован Латинской Академией (возглавляемой
78 Имеется в виду Густав (Gustaf Oscar Ludvig; Gösta) Нобель (1886-1955) — племянник
Альфреда Нобеля, сын его брата Людвига, руководитель московского и бакинского филиалов
нефтяной империи братьев Нобель. «Русские Нобели» после революции 1917 года также оказались в
эмиграции и, после неудачных попыток старшего брата Г. Нобеля, Эмануэля, восстановить
капиталы в полном объеме, жили кто в Стокгольме, кто в Париже. Интересно, что Бунин
познакомился с Густавом (Йёстой) Нобелем — парижанином — уже став нобелевским лауреатом, «за
завтраком у Корнилова» (имеется в виду русский ресторан в Париже; цит. по: [Устами Буниных 1977-
1982,11:294]).
116
Жаном Ривеном), имеющей большое международное влияние. Мне также
обещана рекомендация от Югославской Академии (Белград), и я предпринимаю
усилия, чтобы получить рекомендацию от Чехословацкой Академии (Прага),
я состою членом обеих. Достаточно ли этого?». Следов номинаций в Шведскую
академию кандидатуры Мережковского от вышеназванных институтов не
сохранилось, вероятнее всего потому, что рекомендации эти были, увы,
недействительны, так как ни одна из перечисленных Мережковским академий не
обладает правом выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию79.
Но Мережковский не поглощен всецело собственной особой и стремлением
получить премию. Бескорыстное желание Г. Герель помочь писателю,
вызывающему у нее восхищение, «глубоко задушевные слова», которыми полны ее
письма, заставляют Мережковского забыть о своем «ужасном одиночестве» и «не
терять надежды», что предпринятые усилия увенчаются успехом, «несмотря на
все громадные трудности» (26.01.1932). Мережковскому было нелегко
заручиться поддержкой авторитетных лиц, как невозможно было заставить Европу
внимать его пророчествам. Трудности были действительно неодолимыми,
заставляя Мережковского трезво и прозорливо оценивать свои шансы в
Шведской академии: «Что касается Нобелевской премии, — пишет он 25.08.1932, —
у меня нет почти никакой надежды».
Надежда теплилась, однако, подспудно, потому что в послании к Грете
Герель, написанном сразу после присуждения Нобелевской премии за 1932 г.,
Мережковский даже слишком откровенно обнаруживает, как жестоко были
обмануты его ожидания:
Мне плюнули в лицо в тот самый момент, когда я писал об оскорблениях и
плевках, которым подвергалось Святое Лицо Иисуса неизвестного. Я не смею
надеяться, что мое лицо столь близко к Его Лицу, чтобы получать плевки,
предназначенные Ему, но, возможно, все-таки эпизод с Нобелевской премией не
совсем лишен символического смысла.
79 По строго соблюдаемым положениям Нобелевского комитета обращаться с номинацией
на Нобелевскую премию по литературе может далеко не всякий научный или общественный
институт, носящий название академии. Созданная Ришелье Académie Française,
преобразованная впоследствии в Institut de France, стала образцом для создания академий в столицах других
европейских государств, но только некоторые из них обрели характер национальных
гуманитарных центров; к таким академиям общегуманитарного направления относятся академии в
Мадриде, Лиссабоне и Стокгольме, такой была и Академия Российская в Петербурге. В Швеции, как
и во Франции, гуманитарные и естественнонаучные дисциплины находятся под патронажем
разных академий (в Швеции это собственно Шведская академия, на которую и возложена
миссия присуждения литературной Нобелевской премии, и Королевская академия наук — Kungliga
Vetenskapsakademien, разные институты которой присуждают премии по физике и химии).
Французская Латинская академия не входила в число организаций, имеющих право обращаться
с номинациями на Нобелевскую премию. То же относится и к академиям Югославии и
Чехословакии, которые являлись, как и Санкт-Петербургская Императорская академия наук, а затем
АН СССР (ныне РАН), объединениями как гуманитарных, так и естественнонаучных
институтов, то есть отличались по статусу от Шведской академии.
117
Красноречивость подобного сравнения не нуждается в комментариях:
огорчения писателя и представление о постигшем его «крахе» — неприсуждении
заветной международной награды — сопоставляются ни много ни мало — и,
собственно, совершенно кощунственно — с поруганиями, выпавшими на долю
Христа. Однако это сравнение свидетельствует и о тех упованиях, которые
Мережковский возлагал на Нобелевскую премию. В этом письме от 23.11.1932
бросаются в глаза многочисленные помарки, вставки и исправления, что
говорит о возбужденном состоянии, в котором оно было написано.
Если в первых строках Мережковский благодарит свою шведскую
приятельницу за тронувшие его до слез сердечные письма, очевидно, полные утешений в
связи с неприсуждением Нобелевской премии, то, заканчивая свое послание,
он никак не может сдержать раздражения — разумеется, не против
сочувствующей ему корреспондентки, а из-за несбыточной цели, ради достижения
которой предпринимается столько напрасных усилий.
Постарайтесь навести для меня справки: когда последний срок представления
кандидатуры на следующий год? 1 января 1933? Если да, очень боюсь, что у
меня не будет времени это сделать. Впрочем, отвращение почти
непреодолимое удерживает меня от того, чтобы выставлять себя еще раз там, где только
что оскорбили не меня, но все антикоммунистическое движение.
Вывод неожиданный после ознакомления с документами архива Шведской
академии — ни в отзыве эксперта, ни в «Заключении» Нобелевского комитета
о политических убеждениях Мережковского не говорится ни слова.
Подозревать консервативных академиков из Стокгольма в симпатиях к коммунизму
и в «оскорбительной» неприязни к «антикоммунистическому движению» нет
ни малейших оснований: скорее всего, писателя ввели в заблуждение его
шведские корреспонденты; может быть, в какой-то мере — преданная Грета
Герель.
В среде русской эмиграции, во всяком случае в ее более левой, не
монархической части, и фигура, и писания Мережковского вызывают все более резкое
неприятие. В письме, отправленном в редакцию рижской газеты «Сегодня»,
А. Седых, которого никогда не отличали симпатии к Мережковскому и его
религиозным исканиям, так делился своими впечатлениями о банкете по случаю
15-летнего юбилея газеты «Последние новости» (30 ноября 1932 г.): «...это был
ужасающий вечер. Мережковский говорил 45 минут. Когда он кончил, в зале не
нашлось ни одного человека, который понял бы хоть сотую часть наплетенной
им премудрости» (письмо от 8.12.1932, цит. по изд.: [Русская печать в Риге 1997,
II: 437]). Еще две недели спустя, в середине декабря 1932 г., когда Стокгольм
чествовал всех лауреатов, кроме отсутствовавшего по болезни Голсуорси, в
Париже была объявлена лекция Д.С. Мережковского «Что Он говорил? (Царство
Божие)». Краткое содержание предполагаемой лекции было помещено в
«Возрождении» (13.12.1932, № 2751, с. 4):
118
Что такое Царство Божие? Недоразумение между Христом и христианством.
Царство Божие на земле или на небе? Царство и Церковь. Отношение Царства
Божия к концу всемирной истории. Мнимая идея конца и «бесконечный
прогресс». Что значит Иисус — Царь-Христос? Почему то, что Он говорил о конце
мира и Царстве Божием, особенно близко сейчас нам, в Европе и в России? Как
наступит Царство Божие? Близко оно или далеко? Социальная проблема как
проблема Царства Божия80.
В одном из дружеских посланий к И.А. Ильину И.С. Шмелев прошелся по
«романам-исследованиям» Мережковского крайне злой и меткой пародией,
которая откровенно демонстрирует, что для широких кругов эмиграции
Мережковский и его «премудрость» постепенно превратились в диагноз. Шмелев тра-
вестирует «Тайну Трех»:
Падение: Адам, Ева, Змий. Флирт ли Евы? Смысл флирта, с религиозной точки
зрения. Адамова ревность как первое проявление своеволия. Древо —
древний — дух-древо. Тайна Древа познания. Почему змий был стоячий? Где о сем
намеки. Секрет обольщения. Змий — Спермит, термит, гермит, гермафродит.
Не символ ли тайны пола? Грех как проблема (sic! — T. M.) познания.
Атлантида — Рай — Змей. Почему е? Адам и половое самосознание. (И все исходит из
десяти строк Библии) — Плод — плоть — воплощение — вплоть. Два в плоть
едину? Почему — едину? Ад-Лант-Ида, Изида. Медный Змий. Проблема
Адамовой головы и главы Змия [Переписка двух Иванов 2000, 3: 308] (письмо от
15.08.1932).
Несколько точных попаданий в стилистику Мережковского весьма
приближают глумливый пассаж Шмелева к оценкам нобелевского эксперта А. Карлгре-
на. Оба они не владели современным научным дискурсом и не умели
сформулировать свое недовольство поисками Мережковского и его стилистикой, но их
недовольство вызывало то, что сейчас исследователи обозначают как
«полижанровые пласты» или «контрапункт цитат и культурных традиций»
[Полонский 2016: 55].
А через несколько дней после вручения очередной Нобелевской премии в
помещенном на полях письма Г. Герель от 14.12.1932 постскриптуме немного
успокоившийся Мережковский сообщает, что «предпримет усилия (почти безо
всякой надежды), чтобы быть предложенным в качестве кандидата на
Нобелевскую премию в следующем году». Маргинальная приписка о Нобелевской
премии (нечто несущественное, что вспомнилось в последний момент) резко
контрастирует с тоном всего благодарственного письма (из Стокгольма пришел
очередной чек), исполненного восторженно-мистических настроений:
80 Видимо, наборщики несколько отупели при наборе этого текста, ибо слова «Царство
Божие» набирали то со строчной, то с прописной буквы и расставляли запятые как попало; мы
позволили себе соблюсти при цитировании единообразие в передаче вышеуказанного понятия,
а также расставили недостающие запятые и убрали лишние.
119
Я воспринимаю эти деньги <...> как дар от Него, как настоящее нудо\ И я
целую ваши руки, потому что это чудо Он совершает вашими руками.
Поблагодарите от меня во имя нашего Единственного Друга, нашего Брата, моего
неизвестного друга, моего брата в Нем. Благодаря святой милостыни, которую Он
подал мне, я еще раз узнаю божественную милость его Святой Нищеты81.
Слог этого письма не отличается от стилистики поздних произведений
писателя, окутанных почти непроницаемым религиозно-мистическим покровом
и в жанрово-стилевом отношении близких более к раннехристианской
проповеднической литературе, нежели к манере изъясняться в XX столетии. А. Карл-
грен и не подозревал, критикуя произведения Мережковского 1930-х гг., что
написаны они были отчасти благодаря шведским пожертвованиям (Г. Герель не
назвала имени лица, оказавшего денежную помощь).
В феврале 1933 г. Мережковский вновь обращается к обсуждению
возможности получения Нобелевской премии. Обида продолжает быть острой,
«непреодолимое отвращение» не забыто, и очередное послание к Г. Герель
написано в тоне глубокого презрения и к премии, и к ее учредителю, и к шведским
академикам. Он сообщает в письме от 4.02.193382, что посоветовался с
племянником Альфреда Нобеля и своим хорошим знакомым, Густавом Нобелем,
живущим в Париже. От него потрясенный Мережковский узнал, что «главная
причина и, как он это утверждает с полным знанием дела, весьма реальная того, что
моя кандидатура провалилась, — это "недостаток идеализма"».
Наиболее влиятельные члены комитета объяснили ему, что по той же самой
причине были отклонены «кандидатуры Золя и Толстого». Все это показалось
мне настолько фантастическим, что я не поверил своим ушам, но, увы! я
слишком хорошо знаю по громадному опыту, что самые фантастические вещи
оказываются самыми реальными в сфере человеческой глупости. Впрочем, г-н
Густ<ав> Нобель человек весьма почтенный, полностью заслуживающий
доверия и весьма мне симпатизирующий.
И все-таки Мережковский не в состоянии окончательно махнуть рукой на
премию, не получить которую — оскорбление, теперь, по крайней мере,
объяснимое «глупостью». Уверяя свою корреспондентку в том, что «нет никакой
надежды», он всё же оставляет для надежды маленькую лазейку:
Правда, впрочем, что «чудеса» и в самой области человеческой глупости всегда
возможны...
81 «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал
ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8: 8).
82 Судя по исправленной дате, письмо с горестным рассказом об издательских
неприятностях было начато в конце 1932 г., но его написание и отправка затянулись более чем на месяц —
Мережковский ссылается на грипп, которым больны «почти все». Речь шла все о том же «Иисусе
Неизвестном» и трудных переговорах о публикации второго тома в Германии. Впрочем,
Мережковский ждал выхода этого труда из печати сразу в Англии, Америке и Италии.
120
Тема «чуда», возникнув как реакция на солидную материальную помощь в
пору написания труда об Иисусе и, казалось бы, лишь в виде образного
сравнения, снова появляется при обсуждении возможности получения Нобелевской
премии. Трезвым умом ученого Мережковский понимает, что надежды эти
несбыточны; но воображение религиозного писателя настойчиво побуждает его
верить в чудо. Хотя в письме от 14.06.1933 г. он и пытается поначалу без
иллюзий оценить положение вещей, но мечтания возобладали, и вдохновленному
ими Мережковскому уже не терпится узнать, как продвигаются хлопоты о нем:
Тот факт, что мне не дали ее (премию. — Т. М.) в прошлом году, бесконечно
уменьшает возможность и в этом. Но в порядке «чуда» все возможно, и это
было бы для меня настоящим спасением, потому что моя материальная
ситуация ухудшается с каждым днем <...> Если бы не Божья помощь и не такие
друзья, как Вы, возможно, со мной уже давно было бы покончено. Итак, «чудо»
Нобелевской премии также возможно! Если у Вас будет какая-нибудь хорошая
новость, немедленно дайте мне знать.
Но хороших, обнадеживающих известий из Швеции не было. «Mais courage,
courage!» — восклицает писатель в одном из посланий в Стокгольм (от 5.08.1933).
Ни в одном из трех писем, отправленных в Стокгольм осенью 1933 г., нет ни
слова о Нобелевской премии, о которой раньше речь велась постоянно. Какое-
то время в сентябре-октябре этого поворотного в отношениях русской
литературы к Нобелевской премии года Грета Герель провела в Париже — об этом
свидетельствует несколько записок с приглашением на улицу Колонель Бонне;
точнее, в коротких посланиях Мережковский не столько условливается о
встрече, сколько переносит ее, из-за недомоганий З.Н. Гиппиус, — со среды на
четверг, с четверга на пятницу, но неизменным остается час, половина шестого
вечера. «О! — восклицает Мережковский в одной из записок, адресованных
«дорогому другу», — как я рад снова видеть Вас, несмотря на опасение, что мы
не сможем сказать Вам ничего утешительного в той большой суете маленьких
неприятностей, среди которых я совсем погряз».
В октябре Г. Герель уже вернулась в Швецию, а Мережковский собирался с
лекциями в Швейцарию, надеясь тем самым несколько «выпутаться из
затруднений» (письмо от 25.10.1933). Когда в декабре Стокгольм пребывал в упоении
от русского нобелевского лауреата, а сам он не имел буквально свободной
минуты, среди его посетителей не оказалось Греты Герель. Однако она направила
Бунину письменное послание (от 15.12.1933; РАЛ, MS. 1066/2762)83. Ссылаясь на
просьбу И. Фондаминского, настойчиво рекомендовавшего ей в Париже
нанести визит русскому писателю в шведской столице, Герель объясняет, что узнала
из газет, что Бунин «все время очень занят». Очевидно, что шведская
художница колеблется между долгом дружбы и требованиями вежливости; оставаясь
преданным членом «партии Мережковских», она обращается к Бунину с пись-
83 Оригинал по-французски.
121
менным поздравлением. Однако ее «salutations» прямо указывают на то, что она
отлично знала о соперничестве двух русских писателей, желавших получить
Нобелевскую премию: «Хотя я считаю Дмитрия Мережковского одним из
крупнейших ныне живущих писателей и хотя г. Мережковский и г-жа Гиппиус
относятся к моим самым близким друзьям, я хочу выразить Вам мое восхищение
Вашими произведениями, которые я знаю и которые давно люблю, так же как и
мое глубокое удовлетворение от того, что Нобелевская премия была
присуждена русскому писателю».
Между тем после увенчания Бунина надежды Мережковского на
Нобелевскую премию рухнули окончательно. В письмах Мережковского, адресованных
его шведской приятельнице в конце жизненного пути писателя, в 1939-1941 гг.,
обсуждаются совсем иные вопросы; а писем за 1934-1938 гг. в «коллекции
автографов» Королевской библиотеки нет. Заслуживает внимания письмо от
4.09.1933, не касающееся прямо Нобелевской премии, но приближающее к
пониманию душевной жизни и умонастроений писателя тех лет. Отвечая на
затронутую в письме Герель тему, Мережковский пишет:
Дорогой Друг, да, предсказание Достоевского сбылось надо мной: я страдаю84.
Но по словам самого Достоевского: «страдание — единственный источник
познания». Не сказано ли это и обо мне? Но самое большое страдание не личное:
оно за Россию и за Европу, столь ослепленную. Это ослепление доставляет
также страдание и Вам, и именно поэтому Вы так близки мне.
Увы, это страдание за Европу, катящуюся к катастрофе второй ужасной
войны, да и творчество русского писателя-изгнанника в целом оставили
совершенно равнодушным присяжного читателя Мережковского — эксперта
Нобелевского комитета Антона Карлгрена, а вслед за ним и членов Шведской
академии.
Даже после награждения Бунина, когда шансы других русских писателей
получить Нобелевскую премию в ближайшие годы очевидно становились
равными нулю, у Мережковского не хватило духу отвергнуть предложение лундских
славистов продолжать выдвигать его кандидатуру35. С. Агрель продолжал
посылать номинации Мережковского в Шведскую академию вплоть до года своей
84 Напоминание о состоявшейся в 1880 г. встрече с Ф.М. Достоевским, давшим крайне
низкую оценку ранним поэтическим опусам Мережковского и строго напутствовавшим юного
гимназиста: «Чтобы хорошо писать — страдать надо, страдать!» (Автобиографическая заметка
[Мережковский 1914, XXIV: 111]). Замечательно, что самые знаменитые произведения
Мережковского появились задолго до выпавших на долю благополучнейшего некогда литератора подлинных
страданий.
85 Возможно, сыграла роль и неосторожная фраза А. Карлгрена в интервью И. Троцкому.
Отвечая на вопрос корреспондента газеты русской эмиграции о других, помимо Бунина,
претендентах на Нобелевскую премию от русской литературы, эксперт Нобелевского комитета
легкомысленно заявил: «Их имена и вам хорошо известны. Но к чему их называть? Быть может, кто-
нибудь из них еще окажется в рядах носителей венка лауреата. Русская литература столь богата
талантами, что она вправе рассчитывать на эту честь <...>» [Троцкий 1933а: 2].
122
внезапной кончины: жестоко простудившись, он умер зимой 1938 г., не успев
отослать очередное послание. Профессор, поэт и переводчик, Агрель пишет
пространно, на больших листах линованной бумаги, размашистым почерком
покрывая с 1934 по 1937 г. соответственно 21, 26, 24 и 31 крупноформатную
страницу; однако к творческому портрету Мережковского его послания в
Нобелевский комитет существенных черт не прибавляют.
О решении продолжать номинацию Мережковского на Нобелевскую
премию писателю сообщил М.Ф. Хандамиров, восстановив, таким образом, по
«неизвестным причинам» [Jaugelis 1974a: 32] прерванную на одиннадцать лет
переписку. «Для меня было бы большим счастьем и честью, — пишет в ответном
письме от 21 мая 1934 г. Мережковский, — если бы хлопоты Ваши увенчались
успехом, на что у меня, после присуждения премии И.А. Бунину, мало
надежды» [Ibid.: 38]. Кроме того, Хандамиров советовался с Мережковским об идее
издать брошюру о его творчестве по-шведски. Мережковский переадресовал
своего инициативного корреспондента к профессору литературы в Сорбонне
В.Н. Сперанскому86. Публикаторы материалов из архива М.Ф. Хандамирова
ничего не сообщают о наличии писем от Сперанского, так же как и о другом
важном и интересном документе, будто бы приложенном к письму
Мережковского, — «воззвании комитета моих друзей» — как его определил сам писатель — о
«тяжелом материальном положении», в котором он находится. Не без обиды
сетует писатель и на невнимание к нему шведских издателей, выражая надежду,
что после выхода брошюры о нем они «заинтересуются» его «последними
книгами ("Тайна Трех", "Атлантида - Европа", "Наполеон", "Иисус Неизвестный"),
которые переведены на все европейские языки, кроме шведского» [Ibid.: 38].
Несмотря на трижды прозвучавшую в письме благодарность,
Мережковский не питает иллюзий ни относительно возможности получить премию, ни
относительно публикации своих книг в шведском переводе; этот труд,
возможно, и не был по силам шведским переводчикам с русского. Действительно, ни
тем, ни другим планам не суждено было сбыться. Издательства Швеции не
проявили интереса к послереволюционному творчеству русского писателя, а Антон
Карлгрен как эксперт Нобелевского комитета последовательно «отводил» его
кандидатуру в отзывах, становившихся все менее сдержанными.
Но то, что мнение рецензента грешит субъективностью и не может
рассматриваться — хотя и рассматривается! — как единственно верное мнение о
творческой личности номинированного писателя, находит подтверждение в
посланиях в Нобелевский комитет С. Агреля. В 1932 г., предлагая вниманию
академиков список все из тех же трех кандидатур (Бунин, Горький,
Мережковский), он заочно полемизирует с отрицательной оценкой Мережковского
86 Критик, литературовед, участник заседаний «Зеленой лампы» В.Н. Сперанский (1877-
1957) преподавал не в Сорбонне, а в Русском народном университете в Париже, где читали курсы
лекций также Н.К. Кульман, К.Д. Бальмонт, К.В. Мочульский, Л.И. Шестов и другие известные
писатели и ученые русского зарубежья.
123
А. Карлгреном. Лучшее из написанного этим русским писателем, указывает
Агрель,
имеет скорее духовное, чем художественное значение. Из этого следует, что
тот, кто не расположен к интеллектуальному в глубоком смысле слова, должен
чувствовать себя чуждым его творчеству, когда речь идет о его общем обзоре.
В этом я вижу объяснение большинству совершенно отрицательных
критических отзывов об этом очень своеобразном русском писателе.
Агрель не мог знать текста «отрицательного критического отзыва» Антона
Карлгрена как эксперта Нобелевского комитета, однако мнение Агреля
основано вовсе не на интуитивной догадке.
Говоря о недооцененности Мережковского или даже о негативной оценке
его творчества, С. Агрель имеет в виду написанный именно профессором
Карлгреном, которого он считает «во многих отношениях весьма
квалифицированным знатоком России XIX века», краткий очерк, появившийся в 13 томе
энциклопедии «Nordisk familjebok». Цитируя слова А. Карлгрена обо всех разом
героях трилогии Мережковского «Христос и Антихрист» как о «хороших
язычниках», Агрель оспаривает это поверхностное представление, доказывая, что
для тех, кто понимает «основную мысль в творчестве Мережковского, между
тем, ясно, что каждая часть в этой великой трилогии — это противостоящие
друг другу теза и антитеза. Последняя часть называется "Петр и Алексей" — ив
несчастном сыне царя Петра представлены христианские идеи. Точно так же и
в предыдущих частях труда: здесь представлены антагонисты, которые
выступают против главенствующей идеи Юлиана и Леонардо». Убежденность Агреля,
полагающего, что лишь тот, кто «знаком с мировоззренческими проблемами,
имеет право выступать судьей» литературных сочинений Мережковского,
заслуживающих Нобелевской премии, звучит упреком, прямо адресованным
эксперту-слависту Шведской академии.
Однако Агрель выступает в своем послании-номинации как лицо
независимое, а Карлгрен является присяжным экспертом Нобелевского комитета;
поэтому академики полностью полагаются на его мнение, никак не учитывая в
своих заключительных мотивациях мнение его лундского коллеги, такого же
профессора-слависта.
«В комитете и в академии, — сказано в «Заключении» 1933 г., —
выдвижение Мережковского никогда не встречало сочувствия, и комитет и на этот раз
решительно выступает против него» [Nobelpriset i litteratur, II: 194]. «Как и
несколько раз до того, комитет отклоняет предложение, в пользу которого не
вышло ничего нового из сбивчивой умозрительной продукции писателя», —
записано в протоколе за 1934 г. [Ibid.: 213]. В 1935 г. академики ссылаются на
«заключение эксперта», который охарактеризовал «сумрачное» творчество
русского писателя позднейших лет как «наполненное ошибочными мыслями» и в
формальном отношении невысокого «литературного качества», и в результате
комитет «отклоняет предложение, как постоянно делал прежде» [Ibid.: 227-228].
124
Из «Заключения» 1936 г. выясняется, что А. Карлгрен как эксперт упомянул «о
новой большой работе русского мыслителя об Иисусе, но не смог разъяснить,
что стоит за этим темным и причудливым полетом воображения87. Комитет,
который постоянно отклонял предложение, считает необходимым сделать это
также и на сей раз» [Ibid.: 243-244].
Однако в 1937 г. — последний раз, когда Агрель номинировал
Мережковского, — Карлгрену пришлось написать еще несколько слов на эту тему.
Буквально несколько, всего полторы странички, приплетенные к отзыву о двух
других славянских писателях — об Иване Брлич-Мажуранич (еще меньше —
полстранички) и о Кареле Чапеке, которому и посвящен весь отзыв. Причина,
по которой академики вновь обратились к компетентному эксперту, состояла в
издании Мережковским весной указанного года сочинения «Личности святых
от Иисуса до нашего времени». Процитировав слова писателя о том, «как
трудно понять подвиг святых», рецензент заявляет:
Можно решительно сказать, что если понимание святых столь трудно, то
Мережковский во всяком случае не делает его легче. Всякое его новое
произведение, созданное в последнее десятилетие, оказывается причудливее и страннее
предыдущего, и то, о котором сейчас идет речь, является, если употребить его
собственный образ, новым сигнальным огнем на этом необычайном пути, по
которому обыкновенный читатель тщетно пытается следовать за ним.
Возможно, что христианство Мережковского, которое он проповедует с
бесконечным глубокомыслием, с ошеломляющим псевдонаучным аппаратом, в
злобном и надменном полемическом тоне и бурлящем потоке слов, может быть
интересно для богословов88; но всё же следует предположить, что в этом
сочинении оно относится к области психиатрии. По крайней мере, это мнение —
что, пожалуй, небезынтересно — некоторых русских литературоведов в Праге
(куда удалось спастись некоторым виднейшим представителям русского
литературоведения), которых лично меньше всего можно заподозрить в том, что
они желают недооценить русскую эмигрантскую литературу. «Бред
сумасшедшего», — так характеризует один из них, специалист по Достоевскому
профессор Бем, последние работы Мережковского.
87 В.Н. Бунина приводит в дневнике от 6.11.1932 письмо от A.B. Амфитеатрова, содержащее
такое мнение о труде, которому Мережковский отдал столько душевных сил: «"Иисус
Неизвестный" Мережковского, по-моему, неизвестен только самому автору, <я,> по крайней мере, тщетно
искал в нем хотя бы одной новой мысли, а тем более "нового слова". Сплошной монтаж (в
старину плагиатом звали) вперемежку с кимвалом, пусто гремящим. Я очень рад, что мне не пришлось
писать об этой книге в печати» [Устами Буниных 1977-1982, II: 277]. О сочинениях
Мережковского, который «удачно устроился, в соавторстве, так сказать, со Св. Духом — прости мне, Господи!»,
И.С. Шмелев отозвался с привычной резкостью: «Чешет из Писания, шепчет-лепечет,
переписывает, закручивает-гадает, и так, и эдак, ан и превеликия книги получаются. Но Пифия сия, как
жучок книгоед, — сам только питается-развлекается, да книги портит» [Переписка двух Иванов
2000,3:290].
88 Даже и это предположение опровергается, в частности, сугубым невниманием журнала
«Путь», затрагивавшего в своих публикациях именно те вопросы, которые волновали и
Мережковского, к его поздним трудам. Ср. немногочисленные выступления малоизвестных авторов:
[Лот-Бородина 1935; Иванов 1938/1939].
125
Как видим, на сей раз Карлгрен постарался свое сугубо отрицательное, если
не оскорбительное мнение о позднем творчестве Мережковского подкрепить
ссылками на столь же резкие оценки русских литературоведов89; однако он не
уточняет, были ли эти высказывания преданы гласности в печати или
прозвучали в сугубо частном письме. Мнения совпали; во всяком случае, последние
полторы странички с упоминанием имени и трудов Мережковского,
сохранившиеся в архиве Шведской академии, не являются лишь рутинной отпиской:
собственные негативные впечатления шведский славист счел необходимым
сверить с мнением представителей русской эмиграции, специалистов по
русской литературе и культуре. Уход из жизни С. Агреля, единственного «ходатая»
за Мережковского, окончательно снял вопрос о кандидатуре писателя с
повестки дня.
Долгое, более чем двадцатилетнее предстояние Д.С. Мережковского перед
Нобелевским комитетом закончилось горьким и окончательным поражением.
Члены комитета вынесли свое последнее решение в полном согласии с мнением
эксперта и записали, что все последние «запутанные» произведения
Мережковского представляют собой «мистические религиозные спекуляции». «Комитет,
который всегда был холодно настроен к его выдвижению на премию, также и
сейчас занимает позицию отвода» его кандидатуры [Ibid.: 268].
Жить Д.С. Мережковскому оставалось меньше четырех лет, за которые он,
сугубо головной автор «запутанных» теорий, ни разу не поступился своими
последовательно антикоммунистическими убеждениями и даже успел
приветствовать вторжение гитлеровцев в Советский Союз, ожидая от них
освобождения родины от зла большевизма.
Зависимость Мережковского от подсознания, от магии и мифа ясно
показывает его нарастающее отчуждение от окружающего его мира. Относительный
внутренний покой эмигрантских лет был отчасти результатом того, что он
принимал это отчуждение. Подлинный мир был слишком велик для него: его в
общем-то удовлетворило бы существование в мире, населенном им самим,
некоторыми избранными и Богом. Катализ русской эмиграции, оказавшейся
перед выбором между «двумя дьяволами», Гитлером и Сталиным, усугубил его
склонность удалиться от действительности, —
полагает исследователь [Rosenthal 1975: 223]. Отсутствие художественного
чутья и сложно сконструированные, спекулятивные теории в очередной раз
подвели писателя, которого даже такой скептик, как H.H. Берберова, считала мыс-
89 Ср. с рецензиями в наиболее авторитетных литературно-критических изданиях русской
эмиграции: на «Иисуса Неизвестного» — [Терапиано 1933] и [Вышеславцев 1934]), на
«Франциска Ассизского» — [Бицилли 1938], а также на «Лица святых» — [Мандельштам 1937] и
[Терапиано 1935]. Г.В. Адамович вспоминал, как прокомментировал Мережковский «скудость откликов
на последние свои книги» (имея в виду прежде всего «Иисуса Неизвестного»): «Мне обидно не за
себя... мне за Него обидно!» [Адамович 2001а: 395].
126
лителем «с несомненным даром предвидеть исторические события» [Берберова
1996:675].
Итак, цену пророчеств Мережковского, казалось, окончательно определило
его пресловутое выступление по радио, так что имя этого не по-русски
рассудочного писателя оказалось связанным совсем не с тем евангельским героем, о
котором он столь самозабвенно писал и с которым столь самонадеянно себя
сравнивал: какая страшная ирония судьбы! Но живая душа писателя,
заблудившегося в мрачных потемках давно им предсказанной и оправдавшей самые
кошмарные прозрения войны (а ведь в 1939 г. Мережковский не знал о
злодеяниях гитлеровцев ничего из того, что известно нам), стремилась к свету Христа
в этой «черной ночи» и продолжала верить в чудеса. Правда, «чудеса» были
связаны исключительно с личным если не благосостоянием, то относительно
нормальным существованием четы Мережковских. Так, например, через
родственницу Г. Герель, служившую в банке, удалось переправить в Биарриц90
существенную сумму денег. И никакие катаклизмы начавшейся мировой войны
не способны затмить в глазах Мережковского это «чудо маленькой Терезы». В
письме от 30 января 1930 г. он рассуждает:
Как и у всех чудес, у него два лица: глупое и бесовское лицо «случайности» и
лицо божественное и полное мудрости Символа. Не «случайность» ли то, что
твоя сестра служит в Государственном банке в Стокгольме91? Но также не
маленькое ли это «чудо»? Говорю «маленькое» из скромности, потому что все
чудеса — это, собственно, великая бесконечность. Скажи Наде (родственница
Г. Герель. — Т.М.), как я благодарен ей от всего сердца за ее доброту. И горячо
поблагодари от меня также всех остальных моих друзей в Стокгольме и скажи
им, что их доброта для меня — это твердый и надежный щит в этой ужасной
войне слепцов! Ты понимаешь, что я хочу сказать...
Печально, что слепцом оказался и прозорливый Мережковский.
В «довольно глупом и бессвязном», но изумительном по сердечной
доверчивости к незримой собеседнице письме от 19 сентября 1939 г. Мережковский
размышляет и о «пожаре в сумасшедшем доме» (это война), и об «Атлантиде -
Европе»92, и о необходимости подыскивать «новый "кров", возможно, в
Испании», в связи с чем уже послано письмо генералу Франко:
90 Впервые Мережковские покинули столицу вступившей в войну Франции 9 сентября
1939 г., провели три месяца в курортном Биаррице, на Бискайском заливе, 10 декабря вернулись
в Париж, чтобы через полгода, 5 июня, снова отправиться в Биарриц и там узнать об оккупации
Парижа гитлеровцами 20 июня 1940 г.
91 Приписка на полях разъясняет эту кажущуюся сейчас излишне восторженной
констатацию столь обыденного факта. С момента вступления Франции в войну пересылать деньги из
нейтральной Швеции стало делом чрезвычайно затруднительным. Иногда приходилось
прибегать к помощи консульства, иногда выручал случай. Приписка гласит: «Я получил вчера письмо
из Банка Стокгольма с приложением чека».
92 Видимо, образы книги Мережковского неотступно преследовали супругов в дни бегства
из Парижа, ибо в дневниковой записи у З.Н. Гиппиус естественно соскакивает с пера: «Да, что
127
Я предпринял действия, более или менее практические, чтобы все это смогло
сбыться, но я не вполне уверен, что это к чему-то приведет. В конце концов,
будем надеяться...
Но, что бы ни случилось, будем уверены, что твое столь близкое
присутствие, которое я всегда ощущаю, — это свет и тепло нежнейшие и вечные в
«Черной Ночи», «Noche oscura» (Жана де ла Круа), через которую мы все
проходим93.
Но выйти из ада и мрака войны Мережковскому уготовано не было. Он
скончался в декабре 1941 г., в разгар «черной ночи». Его последнее письмо,
адресованное «сестрице» в Стокгольм и подписанное «твой брат», помечено 10
марта 1941 г. «Наше материальное состояние весьма удручающее, — привычно
сообщает Мережковский и привычно просит денег, но какая щемящая
задушевность звучит в послании последнего года его жизни:
Если можешь послать нам 4000 φρ., оставшиеся 1200 крон, это нас спасет. Я
уверен, что ты сделаешь это, если возможно, а если нет, ответь хотя бы одно
слово, потому что мы очень о тебе беспокоимся. Нежно тебя обнимаю, моя
девочка. Да благословит и да хранит тебя Господь! Если бы не бедность, почти
нищета, мы чувствовали бы себя настолько хорошо, насколько возможно при
нынешнем положении вещей, и, во всяком случае, мы не теряем бодрости и
надежды.
В одном из писем 1942 г. Грете Герель оставшаяся в одиночестве З.Н. Гиппиус
признавалась своему «дорогому другу»: «Я тебе писала, как я совсем
одинока, — без Дмитрия и тебя чувствую себя совершенно покинутой в пустыне»
[Гиппиус 1999, 2: 624]. В рукописном отделе Королевской библиотеки в
Стокгольме хранится также расписка Зинаиды Гиппиус (Z.N. Merejkovsky) в том, что
23 июля 1942 г. в шведском консульстве в Париже ею получено 3.333 (сумма
указана и прописью) франка; это треть от десяти тысяч, поступивших в
Министерство иностранных дел Швеции от графини Биргит Фегершёльд (Fägerskjöld),
одной из обеспеченных подруг Герель, много лет оказывавшей по ее просьбе
материальную поддержку русским писателям-эмигрантам.
«Такая пустота, такая скорбь в мире, какой не было от начала мира. Говорю
бедным языком человеческим, но молюсь, а не кощунствую», — писал
Мережковский (цит. по: [Демидов 1926: 483]). Современники всегда хорошо понимали
Атлантида» [Гиппиус 1999, 2: 46].
93 Книга о святом Иоанне Креста (испанский писатель и поэт-мистик XVI в. Хуан де ла Крус)
входила в обширный замысел Мережковского написать исследования о целой плеяде избранных
святых. Иоанн Креста был мрачным, «черным» святым, меланхоличным и угрюмым, как «черная
ночь», в которую был погружен мир после распятия Спасителя. Для Дмитрия Сергеевича, равно
как и для Зинаиды Николаевны, понятие «черной ночи» приобретает особый символический
смысл в годы войны. О «Жане де ла Круа» З.Н. Гиппиус вспоминает в письме Г. Герель из Парижа
от 19.12.1939 г.: «Во всяком случае "черная ночь" Святого Жана де ла Круа господствует в моей
душе подобно парижской ночи, и я говорю тебе об этом только для того, чтобы ничего от тебя не
скрывать» [Pachmuss 1972: 620].
128
это одиночество писателя, хотя и не стремились разделить его. Вспоминая
«чрезмерно одинокого» Мережковского, А. Бахрах утверждал: «Он не
переставал твердить о "безднах", а едва ли многие хотели заметить, что эти бездны
скрыты в нем самом». И обратился далее к памятному эпизоду:
Теперь, на известном расстоянии, когда оба они отошли в лучшие миры, я все
яснее понимаю негодование Бунина, вызванное весьма настойчивыми
предложениями четы Мережковских подписать нотариальное (непременно
нотариальное) соглашение о дележе шкуры неубитого медведя, сиречь о дележе
Нобелевской премии, ежели паче чаяния шведский золотой дождь прольется
на одного из них. Бунин не совсем зря говорил, что от «витания в небесах» до
хождения к нотариусу шаг невелик! А ведь теперь становится все более
очевидным литературный рост Бунина и угасание Мережковского. Даже может
показаться странным, что когда-то их ставили, так сказать, на одну доску и в
литературной «табели о рангах» причисляли к одному разряду [Бахрах 2001:
501-502].
«Мережковский — писатель одинокий, — отмечает Г. Адамович. — Трудно
найти другое слово, которое отчетливее выразило бы существеннейшие его
черты и положение в русской словесности. <...> Да, влияние имел он в начале
века огромное. Роль играл самую видную. Но ни влияние, ни роль не
исключили одиночества» [Адамович 2001а: 392]. Адамович полагал, что Мережковский
творил «вне» жизни (или, изменив предлог, чтобы выразиться точнее, — мимо
жизни). И в самом деле, привлекая для сравнения творчество Бунина, как
Бахрах, или Льва Толстого, как Адамович, нельзя не уловить эту необычную
особенность развития творчества Мережковского по некоей траектории, странно
и резко отклоняющейся от магистральной линии русской литературы, почти
противоречащей ей. Писатель глубоко национальный, он казался одинаково
чужд и русским, и зарубежным читателям; религиозный мыслитель, никого не
смог обратить в свою веру. Современный исследователь констатирует:
«Результатом "символико-модернистских игр" Мережковского стала лишь
подмоченная репутация литератора-эмигранта, чей культурный "идиолект" в Европе
1930-х был уже фатально обречен на герметичную непроницаемость»
[Полонский 2016: 46].
И все-таки роль Мережковского в культурной жизни России Серебряного
века трудно переоценить, хотя, по удачному сравнению, «как падающая звезда,
он ярко осветил русское небо и погас. Погас именно тогда, когда очутился в
"изгнании", не достигнув того (да это было и немыслимо), чтобы быть в
"послании"» [Бахрах 2001: 502]94.
Однако это суждение опрометчиво: так или иначе, послание передано было.
Не приняв позднего творчества Д.С. Мережковского, европейская читательская
аудитория и критика продемонстрировала и характер своих ожиданий от рус-
94 Бахрах обыгрывает слова H.H. Берберовой о миссии русской эмиграции, ставшие
знаменитыми благодаря З.Н. Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании».
129
ской литературы, и свой выбор не в пользу компилятивной историософии на
религиозной подкладке. Не «гордые, самоуверенные мощи» [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 356], если воспользоваться образом Шмелева, претили Европе:
в поисках современного продолжателя традиций Достоевского и Толстого она
упорно отвергала русских писателей XX в., не отвечавших сложившемуся в ее
эстетическом и интеллектуальном восприятии канону русской классики.
Отвергала, обнося в том числе и Нобелевской премией.
Глава 4
Алексей Максимович
ГОРЬКИЙ
«О Горьком, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного
представления, — писал в 1930 г. И.А. Бунин о своем сопернике в нобелевской
лотерее. — Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже 35 лет мировой
славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на
безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма
многих других обстоятельств <...>. Конечно, талант, но вот до сих пор не
нашлось никого, кто сказал бы здраво и смело о том, что такое и какого рода этот
талант <...>» (цит. по: [Бунин 1998: 326])1.
Горького между тем много и охотно читали на Западе уже в ту эпоху, когда
будущий первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе
довольствовался скромной участью «подмаксимки». Ни один издатель не будет
вкладывать деньги в перевод и публикацию книг, которые не дают прибыли, и в
Швеции, например, начиная с 1901 г., когда вышло в свет сразу два сборника
рассказов Горького, в переводах Рафаэля Линдквиста и Вальборга Хедберга,
было опубликовано большинство произведений Горького. Несколько изданий в
разных переводах выдержала повесть «Мать», но наиболее популярной
оказалась автобиографическая трилогия, и особенно «Детство». Неизменно в
переводе Эллен Веер, эта книга до сих пор регулярно переиздается по-шведски,
выходя раз в три-четыре года, а иногда и подряд год за годом, причем в самых
1 Раздражение Бунина возбудило чтение статьи о Горьком в IX томе «Энциклопедического
словаря» Брокгауза и Ефрона. Впрочем, недовольство у Бунина вызывала буквально вся русская
литература предреволюционных десятилетий, и свое негодование он выплеснул на изумленную
публику, выступив 13 апреля 1930 г. с публичным чтением отрывков из своих воспоминаний
«Мои современники». В журнале «Числа» воспоминания о Горьком были названы «апофеозом»
всего выступления: «Дело в том, что Бунин знает, отчего Горькому удалось обмануть весь мир, —
не без ядовитости иронизировал автор заметки о бунинском вечере, подписавшийся «В.И.
Галин». — Дело в том, что Горький присвоил себе фальшивый паспорт босяка, перекати-поле. Этот
фальшивый паспорт и помог ему сделать такую головокружительную карьеру. А между тем...
А между тем, никто не знает, что происхождения Горький отнюдь не пролетарского, а самого что
ни на есть буржуазного. Сам читал в словаре Брокгауза...» (цит. по: [Горький и Будберг.
Переписка 2001: 431]). В одном из своих наиболее интимных писем, адресованном М.И. Будберг и
посвященном выяснению сложных и болезненных любовных отношений, Горький указывает на
разность именно происхождения и воспитания — собственного и своей корреспондентки, —
пытаясь разобраться в невозможности для них прочного союза [Там же: 107].
131
расхожих сериях — «Литература для всех», «Карманный формат» и даже
«Книги с большими буквами», т. е. целенаправленно для детского чтения (см. [Frân
Karamzin till Trifonov 1985: 123]).
Естественно, возникает недоуменный вопрос: как писателя с такой
широкой известностью, знакомого многим шведам не только по имени, мог
проигнорировать Нобелевский комитет, почему второй раз за треть века — после
отвергнутого Льва Толстого — еще один крупный русский писатель не удостоился
прославленной международной награды? Почему первым нобелевским
лауреатом не стал Максим Горький, номинированный наряду с Мережковским и
Буниным и по славе своей значительно превосходивший обоих? Очевидно, ответ
следует искать не в литературных достижениях писателя, а в его репутации
общественного деятеля, тесно связанного с Лениным, большевизмом и
строительством социализма в СССР.
Положение Горького в стране и в литературе в год, когда его кандидатура
впервые рассматривалась Нобелевским комитетом, — первый
послереволюционный год, определяется громадной, почти непомерной общественной
работой, с одной стороны, и острополитической публицистикой — с другой.
Именно в 1918 г. вышли две известные книги резких, полемичных статей: «Революция
и культура. Статьи 1917 г.» и «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и
культуре». В конце 1921 г. Горький уехал, а фактически был выслан за
границу — «сердитый на то, что творилось в России в 1918-1921 годах», «тяжело
разрушенный виденным и пережитым» [Берберова 1996: 226]. «Слышал, что Вы
уезжаете за границу, — писал Горькому 10 августа 1921 г. отчаявшийся В.Г.
Короленко. — Желаю Вам от души успеха. Сделайте предварительно все, что
сможете, для того, чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет. <...> Россия
погибает» (цит. по: [Горький 1998:170]). Горький выехал из Петрограда 16
октября 1921 г. и через две недели прибыл в Берлин. «В Германии, в Чехии, в Италии,
между 1921 и 1925 годом, он не поучал, он писал с максимумом свободы,
равновесия и вдохновения, с минимумом оглядки на то, какую пользу будущему
коммунизму принесут его писания» [Берберова 1996: 226].
Но эмиграция и Горький отталкивались друг от друга, даже «сам факт
отъезда писателя за границу вызвал в европейской и особенно эмигрантской среде
различные домыслы и слухи» [Примочкина 2003: 13]. Горький был неприятно
поражен атмосферой всеобщей ненависти и подозрений, отравлявших и без
того несладкое существование русских изгнанников, и приставать к «белому
стану» не собирался: «Находясь в окружении взаимно и непримиримо
враждующих сил, я должен вести себя подобно гранитной скале в бурю», — мудро
определял он сам свою позицию [Там же]2. Но и эмиграция, чуждая Горькому и
идеологически, и эстетически, прекрасно понимала, что от Горького нет и не
может быть поддержки, и судила его беспощадно. «Нобелевской премии ему не
2 Нетрудно заметить, как, используя знакомый — знаковый — образ «бури», Горький
отождествляет себя отнюдь не с ее активными участниками.
132
дадут <.. .> и он вернется в Россию», — так, бесконечно уменьшая масштаб
личности писателя, объяснил В. Ходасевич совершаемый Горьким выбор между
Западом и Россией [Берберова 1996: 229]. И хотя этот выбор определяла,
разумеется, не Нобелевская премия — всемирная известность и материальная
обеспеченность были у широко издававшегося Горького и без премии, — Ходасевич
оказался хорошим пророком.
Впервые Алексей Максимович Горький (известный на Западе только под
псевдонимом Максим Горький) был выдвинут на Нобелевскую премию по
литературе в год сразу двух русских революций: формально его имя было
включено в список 1918 года, однако в силу существующих правил номинация была
направлена в Стокгольм в «России черный год»3. Но только спустя полтора
десятилетия М.А. Алданов справедливо заметил в письме к Бунину: «Думаю, что
у русских писателей, т. е. у Вас, у Мережковского и — увы — у Горького, есть
очень серьезные шансы получить Нобелевскую премию. С каждым годом
шведам все труднее бойкотировать русскую литературу. Но это все-таки лотерея...»
[Письма Алданова к Буниным 1965, II: 110]. Алданов удачно подобрал
определение для ежегодно совершаемого выбора лауреата — процедуры, растянувшейся
на треть века для русской литературы и на пять лет для М. Горького. Эта
лотерея отличалась твердыми требованиями. Одно из них, формально
заключавшееся в словах завещания А. Нобеля, — «идеальная направленность», —
было обращено шведскими академиками в 1900-х-1920-х гг. против
революционеров в искусстве и, тем более, в общественной жизни.
Идеалист, как и всякий бунтарь, прославленный Максим Горький не
укладывался в прокрустово ложе нобелевских требований. Читаемый — всеми,
поддерживающий — многих4, сам он не имел поддержки — видимо, потому, что
не нуждался в ней. Необъясним тот факт, что никто из соотечественников не
выдвинул писателя на Нобелевскую премию. Гейр Хьетсо утверждает: «Все
настойчивее звучали требования дать Горькому Нобелевскую премию». И сразу
уточняет, что «эти усилия не увенчались успехом» [Хьетсо 1997: 239-240].
Однако о какой «настойчивости» можно говорить, если за десять лет, с 1918
по 1928 г., в Шведскую академию поступило всего три предложения с
номинацией Горького?! Знавшие и ценившие его талант и его просветительскую
миссию европейские нобелевские лауреаты не торопились поддержать его
кандидатуру.
3 Показательно, что в это трагическое для всей Европы время из 16 (всего!)
писем-номинаций, поступивших в Нобелевский комитет, 8 исходило из самой нейтральной Швеции и 2 из
также соблюдавшей нейтралитет Швейцарии. Неудивительно, что даже не воевавшие шведы
согласились не присуждать премии в этот год.
4 Его незашоренным современникам всегда был очевиден высокий гуманизм Горького:
«Никто не вправе забывать того, — писал философ Георгий Федотов, оценивая жизненный и
творческий путь писателя после его кончины, — что сделал в эти годы Горький для России и для
интеллигенции» (цит. по: [Горький 1998: 314]).
133
В 1918 г. шведский профессор Бенгт Хессельман5 предложил разделить
награду между Густавом Френсеном6 и Максимом Горьким. Спустя пять лет
нобелевский лауреат 1915 года Ромен Роллан высказался в поддержку сразу
трех русских писателей — М. Горького, И. Бунина и К. Бальмонта; все трое
находились тогда, в 1923 г., за пределами России. Еще пять лет спустя перед
Нобелевским комитетом ходатайствовали о Горьком — и только о нем одном —
прославленные в Швеции писатели Вернер фон Хейденстам (1859-1940) и
Тур Хедберг (Hedberg; 1862-1931)7. А начиная с 1931 г. в течение нескольких
лет имя Горького попадает в письма-обращения в Нобелевский комитет лунд-
ского профессора славистики С. Агреля, который предлагал академикам на
выбор сразу несколько наградных комбинаций — дать премию Бунину, поделить
между Буниным и Мережковским, наконец — поделить ее между Буниным и
Горьким.
Возможно, последнее предложение было самым увлекательным. На
подмостках Концертного зала в Стокгольме встретились бы, чтобы получить
дипломы из рук короля, двое старинных знакомых, два замечательных русских
писателя — столь несхожие в своем творчестве традиционалист и новатор.
Сошлись бы представители двух русских литератур — эмигрантской и советской,
два лучших представителя дореволюционной русской литературы, два
последних ее классика... «Бунин был в эти годы его раной: он постоянно помнил о том,
что где-то жив Бунин, живет в Париже, ненавидит советскую власть (и Горького
вместе с нею), вероятно — бедствует, но пишет прекрасные книги и тоже
постоянно помнит о его, Горького, существовании, не может о нем не помнить»
[Берберова 1996:218]. Это свидание на нейтральных — во всех смыслах —
стокгольмских подмостках могло многое изменить в литературной судьбе обоих,
и надо было очень хорошо понимать русскую литературу и даже сильно любить
ее, чтобы сделать с чистым сердцем такое провокационное предложение в
Нобелевский комитет. Но шведские академики не откликнулись на предложенную
5 В год обращения в Нобелевский комитет Б. Хессельман (Hesselman; 1875-1952), языковед-
скандинавист, был профессором Гётеборгского университета, в 1919-1940 гг. занимал упсаль-
скую кафедру скандинавистики; член Шведской академии с 1935 г.
6 Френсен (Frenssen) Густав (1863-1945) — второстепенный немецкий беллетрист,
представитель т. н. «тривиальной литературы», чьи произведения отличали слащавость, идеализация
«народной» (провинциальной) жизни, националистический пафос. Френсен и другие
представители «областнической литературы» Германии рубежа XIX-XX вв. (в том числе и наиболее
известный среди них Л. Гангхофер, сатирически упомянутый Я. Гашеком в саге о бравом солдате
Швейке) подвергнуты самой уничтожающей критике Л.З. Копелевым в статье о немецкой литературе
в «Краткой литературной энциклопедии» [КЛЭ, 5: 204].
7 Замечательно, что объединенные глубокой симпатией к творчеству М. Горького Т. Хедберг
и В. фон Хейденстам принадлежали к разным, буквально противостоящим литературным
направлениям: первый был реалистом, но натуралистические тенденции звучали все сильнее в его
романах и драмах, тогда как второй стал вождем поколения неоромантиков, отрицавших «серый
реализм», «реализм башмачников» в пользу яркого вымысла и эстетической утонченности;
правда, шведский неоромантизм был демократически окрашен.
134
им профессором — и известным своей экстравагантностью поэтом — С. Агре-
лем уникальную возможность организовать событие в литературном мире.
В 1918 г. экспертный отзыв о Горьком составил Альфред Йенсен. Г. Хьетсо,
один из ведущих специалистов по русской литературе в современной
западноевропейской славистике, категорически утверждал, что читать «отзывы
консультантов сегодня просто мучительно», а А. Йенсен был попросту
«некомпетентен» [Хьетсо 1997:239], ибо даже не удосужился ознакомиться с «Детством»,
выпущенным за несколько лет до того, как на его долю выпала задача
отрецензировать горьковское творчество. Позволим себе не согласиться с глубоко
компетентным норвежским исследователем. Г. Хьетсо рассматривает документы
Нобелевского архива с исключительно литературоведческой позиции,
действительно обличающей в Йенсене не лучшего знатока Максима Горького. Однако
отзывы нобелевских экспертов не призваны стать авторитетными
научно-критическими исследованиями; при достаточно утилитарном характере этих
далеко не беспристрастных обзоров они тем не менее служат блестящим
индикатором восприятия иноязычной литературы и даже, гораздо шире, менталитета
другого народа через произведения словесного творчества его наиболее
выдающихся представителей. И потому сохраненные в архиве экспертные
заключения вернее всего рассматривать с этой точки зрения, без гнева и пристрастия.
А. Йенсен, едва сообщив некоторые биографические подробности о
происхождении и детстве «всемирно известного» писателя — почерпнутые из
«Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона и так покоробившие однажды
Бунина8, сразу адресует читателей (членов Нобелевского комитета) к
автобиографическому «Детству», появившемуся в шведском переводе в 1915 г. Это
«имеющее высокую ценность историко-культурное самопризнание»
демонстрирует, по убеждению Йенсена, «противоречивость русского характера, с его
метаниями от мистического экстаза и кроткой нежности к дикой жестокости и
отвратительной грязи». Варварство русской жизни, ее слишком рано
испытанная писателем горечь и стали причиной появления прославленного на весь мир
имени: Горький.
Гейр Хьетсо прав — незнание Йенсеном хотя бы первой части
автобиографической трилогии буквально вопиет. Трудно сказать, почему у рецензента не
возникло желания прочитать «Детство»9: возможно, сказывалось сугубо эсте-
8 Автором энциклопедической статьи был С.А. Венгеров. В 1915 г. вышел сборник «Русская
литература XX века», в котором Горькому уделены три статьи (помимо Венгерова статьи о
Горьком написали также В.Л. Львов-Рогачевский и А.Г. Фомин). Но знакомства с этими работами, так
же как и с критическими публикациями о Горьком в русской дореволюционной периодике,
А. Йенсен не обнаруживает. Любопытно, что он не счел нужным даже упомянуть книгу Д.С.
Мережковского «Грядущий Хам. Чехов и Горький», которую разбирал за несколько лет до того в
экспертном очерке о Мережковском!
9 А. Йенсен не признается, разумеется, в том, что не прочитал новое и уже снискавшее
большой успех произведение рецензируемого писателя. Но, ссылаясь на это произведение, эксперт
отделывается лишь общими словами, не разбирает его хоть сколько-нибудь подробно, не упоми-
135
тическое отвращение к дикой русской вольнице. Однако, всего вероятнее,
рецензент полагал, что автобиографическое повествование Горького полностью
соответствует своему традиционному жанру и вряд ли по-новому открывает
Горького-художника. Упомянув «Детство» только на первой странице
рецензии, нобелевский эксперт обращается к знаменитому литературному дебюту
Горького (публикации рассказов «Макар Чудра» и «Челкаш») и замечает: «...с
ним случилось то же, что с Байроном: в одно прекрасное утро он проснулся
знаменитым!».
Первым делом Йенсен считает нужным познакомить членов Нобелевского
комитета не с сочинениями прославленного писателя, а с наиболее
замечательными эпизодами из его биографии. Шведский критик сообщает не только об
известном избрании Горького академиком и признании выборов
недействительными, что послужило причиной выхода из Академии А.П. Чехова и ВТ.
Короленко, не только напоминает о политических акциях Горького, стоивших ему
ареста, а после освобождения обернувшихся триумфальной пропагандистской
поездкой по Европе, но рассказывает даже и о весьма своеобразном приеме,
оказанном писателю в Америке. Йенсен не удерживается от едкой иронии,
рассказывая, как поначалу горячо чествовавшие русского писателя американские
обыватели «с презрением отвернулись от него, узнав, что его спутница не была
его женой»: «Лучшие гостиницы закрыли свои двери перед безнравственным
русским, и униженный Горький должен был возвратиться в Старый Свет. Но
американская нравственность была спасена»10. Десятилетие спустя уже Россия
приняла писателя весьма своеобразно: разделяя «социал-демократические идеи
большевиков», Горький настолько разошелся во взглядах с новыми хозяевами
России, что его газета «Новая жизнь» попала под давление «цензуры не менее
строгой "при абсолютной свободе", чем при царизме».
«Максим Горький при первом своем вступлении в русскую литературу
показался новым явлением, — отмечает Йенсен. — Уже давно наскучили "лишние
люди" Тургенева и Гончарова, надоело толстовское морализаторство и
проповедь "непротивления злу", и сколь ни был талантлив рано умерший Чехов, его
тяжелые, серые образы не могли нарушить сонную тишину, которая в конце
прошлого века простерлась над русской литературой. Ей были нужны воздух
и солнце, радость жизни и смелые поступки. И это пришло с Горьким». Новизна
и оригинальность были обеспечены этому талантливому «самоучке», по мне-
нает ни одной яркой картины, ни одного запомнившегося образа, что явно свидетельствует о
поверхностном знакомстве с текстом.
10 О посещении A.M. Горьким Америки в сопровождении М.Ф. Андреевой и о своеобразном
приеме, который устроили ему на первых порах радушные, но затем в полной мере
продемонстрировавшие исповедуемую ими двойную мораль американцы, существует целая литература,
см., например: [Николюкин 1970: 440г445; Ганелин 1985: 200-222; Хьетсо 1997: 239-240].
Инспирированный интригами американских издателей и российского посольства и раздутый
бульварной прессой скандал с «красным двоеженцем» так неприятно поразил Бернарда Шоу, что он
отменил в следующем году свое турне по Соединенным Штатам.
136
нию Йенсена, благодаря тому, «что он был совершенно чужд всему, что
называется школами и литературными течениями». В реалистическую литературу
шагнул молодой романтик — «потому что Горький в основе своей романтик»,
подчеркивает рецензент, «это основное настроение в его существовании» —
очевидное и в первом рассказе «Макар Чудра», и «в гораздо более слабом
очерке» «Старуха Изергиль».
Для Йенсена горьковский тип «босяка» — фигура насквозь литературная,
восходящая к многочисленным образам романтизма, но воссозданная в иную
эпоху и на ином человеческом материале, с большой долей автобиографизма.
Благородный разбойник, бродячий философ в лохмотьях — сильные
индивидуалисты, презрительно противопоставившие себя мещанской толпе, горьков-
ские босяки даром тратят свою энергию, не имея никаких идеалов и целей —
«и погибают или чахнут от истинно русской тоски, их единственного протеста
против общества и мещанства»11. Эти горьковские фигуры, создания «черного
юмора» («юмора висельника»), останутся в русской литературе наряду с
героями «Мертвых душ» Гоголя, полагает Йенсен, хотя Горький и не открыл в русской
жизни ничего нового. Ибо еще в древнерусской литературе описывались
бродяги, мечущиеся между тюрьмой, кабаком и монастырем, а со времен отмены
крепостного права и появления произведений Г. Успенского изучение народной
жизни и «босяка» как одного из ее представителей «вообще стало литературной
модой». Новаторство Горького состоит в кардинальном изменении взгляда на
босяка — уже не жалостливый писатель сострадал несчастной парии общества,
а общество в целом стало предметом презрения и жалости горьковских
«рыцарей с большой дороги». Герои Горького совсем не похожи на «народные типы» —
это типы исключительные, но Йенсен находит им параллель в шведской
литературе, указывая на «знаменитых» «Чудаков» А. Энгстрёма12. Однако Горький,
в отличие от шведского писателя, пишет не с отстраненным юмором, а, будучи
романтиком и идеалистом, «невольно симпатизирует своим героям в
лохмотьях» и «вкладывает в них собственную душу».
Из созданного Горьким за четверть века нобелевский эксперт выбирает в
качестве лучшего рассказ «Ошибка» и «новеллу о преступнике» «Челкаш». Оба
эти произведения кажутся Йенсену «прямым повтором» ницшеанских идей и
образов в чисто русских обстоятельствах. Ницшеанские мотивы пронизывают
11 Слово «тоска» Йенсен переводит как «слабость и меланхолия», но, явно не
удовлетворившись неточной передачей смысла, приводит в скобках и само русское слово; слово «мещанство»
(«kälkborgerlighet») критику приходится взять в кавычки, подчеркивая исключительно русский
негативный оттенок, который вкладывается в понятие «мелкая городская буржуазия»; наконец,
любопытна передача понятия «босяк»: оно усваивается в его русской форме, в транскрипции без
перевода, как знакомое со времен первых переводов Горького и комментариев к ним, —
замечательно, что к русскому слову прибавляется шведское окончание множественного числа, что
подчеркивает факт освоения его шведским языком («bosiaker»).
12 Engström Albert (1869-1940) — сатирик и бытописатель Смоланда, одной из шведских
провинций.
137
раннее творчество русского писателя: «Изучал ли Горький Ницше?
Естественно, нет», — с надменной безапелляционностью заявляет Йенсен.
Самое большее, он подхватил от него, как и от Шопенгауэра, те или другие
выражения, которые инстинктивно ему понравились. Но ни о каком подлинном
подражании или воздействии не может быть и речи, для этого Горький
слишком первобытный и неученый. Он, грубо выражаясь, полупоэтический,
полузабавный карикатурный Ницше в русской косоворотке, в больших сапогах, со
славянской чувствительной мягкостью, с наивной любознательностью
московского мужика, волжско-булгарской мастеровитой ловкостью и
добродушной практичностью татарина. Скорее можно сказать, что Горький сродни
Лермонтову в его беспощадном непокорстве и поклонении бесстрастной природе
или Раскольникову Достоевского, который был создан, когда имя Ницше еще
было неизвестно в России13.
Под пером нобелевского эксперта Горький превращается в несколько
неожиданного художника: восхищенный тем, как он «легкими ударами кисти
рисует рассвет в степи или закат над морем», Йенсен готов признать мастера
в Горьком-пейзажисте: «Как художник в этих лирических описаниях природы
Горький, на мой взгляд, достигает вершин». К позитивным суждениям
профессора-слависта о писателе относится и наблюдение, согласно которому женские
характеры и в художественном, и в психологическом отношении удаются
Горькому значительно лучше. Это и Таня в «Мещанах», и Мальва — «Гедда Габлер из
русской деревни», и Варенька Олесова, и другие образы, в создании которых
Горький с удивительной тонкостью избегает «сальностей и грубого
натурализма, даже тогда, когда сам материал кажется отвратительным». Однако из
подобных похвал весьма затруднительно сделать вывод о подлинном значении
творчества писателя и его соответствии нобелевской награде.
Впрочем, Йенсен знает, в чем ошибки и беды «большинства лучших русских
писателей», — этих творческих промахов не избежал, по его мнению, и Горький.
Критик убежден, что призвание Горького — жанр миниатюры, «но когда он
хочет взяться за крупное произведение в романной форме, у него не хватает сил».
Горький вступает на ложный путь своих предшественников, уверяет шведский
славист, «Достоевского и в какой-то мере самого Толстого». Жанровую
«несостоятельность» русской литературы проще всего объяснить климатом и
географией:
13 А. Йенсен склонен доверять расхожим представлениям о Горьком — вполне
согласующимся с его собственными оценками — и видеть в нем талантливого, нахватавшегося азов
самоучку. О том, как ошибался Йенсен, пренебрежительно отзывавшийся о возможности
интеллектуального диалога России конца XIX в. с Западом и скорого усвоения русскими интеллектуалами
новейших открытий европейской мысли, свидетельствует письмо Горького, отправленное фрау
Ницше — сестре философа — в ответ на ее приглашение нанести визит: «Не может быть на свете
мыслящего человека, или он не художник, — если он не умеет любить и чтить Вашего брата!» Не
без причины писал и Томас Манн, что Горькому удалось «навести мост между Ницше и
социализмом» (цит. по: [Хьетсо 1997: 109]).
138
Кажется, что однообразие степи и невозможность охватить ее глазом делает
перспективу неразличимой для них (русских писателей. — Т. М.). Там нет
действительно крепкого единства композиции и гармоничных пропорций между
разными частями художественного целого. Растянутое описание тонет в массе
эпизодов либо останавливается в размышлениях без действия или в
лирических излияниях.
Пожалуй, это одно из самых оригинальных жанровых определений
русского романа14. Однако принадлежит оно не нобелевскому эксперту, а
выдающемуся датскому критику Георгу Брандесу. Именно его статья «Maksim Gorkij»,
вошедшая в собрание его сочинений, в том числе и в русское дореволюционное
издание, в деталях пересказана А. Иенсеном в экспертном отзыве — и оценка
женских образов (именно указание на Вареньку Олесову), и размышления о
том, что русские писатели не владеют романной формой (Брандес первым
называет в подобном контексте имена великих предшественников Горького).
Такая зависимость от мнения авторитетного коллеги никоим образом не может
быть поставлена в упрек нобелевскому эксперту; речь тем более не идет о
плагиате, ведь экспертное заключение могло быть написано в том числе и в
реферативной манере. Это мнение солидаризовавшихся скандинавских
критиков интересно другим — а именно тем, как оно неожиданно будет подхвачено
H.A. Бердяевым. Размышляя о природе русской революции, изгнанный из
страны мыслитель перебирает страницы русской истории и литературы, приходя
к знаменитому выводу:
Есть соответствие между необъятностью, безграничностью, бесконечностью
русской земли и русской души, между географией физической и географией
душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность,
безграничность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине. Поэтому
русскому народу трудно было овладеть этими огромными пространствами и
оформить их. У русского народа была огромная сила стихии и сравнительная
слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу,
как народы Западной Европы, он был более народом откровений и
вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности [Бердяев 19906: 44].
Нет сомнений, что подобные рассуждения импонировали бы Йенсену, — но
ему не пришлось разбирать бердяевское творчество15. Последним русским пи-
14 В этом смысле интересно замечание о «Войне и мире» Д. Святополк-Мирского,
признающего тот факт, что сюжетно-композиционного «умения у Толстого, как у большинства
русских романистов (кроме Достоевского), не было. Но Толстой перевел искусство романа в такую
плоскость, — пишет дальше проницательный критик, — где это мастерство оказалось уже
ненужным и где он установил новые критерии мастерства, которые в известном смысле делают
почти всю предшествующую ему литературу архаичной» [Svyatopolk-Mirsky 1989: 351; Мирский
1935].
15 H.A. Бердяев был номинирован на Нобелевскую премию в 1942-1948 гг. профессором
философии Лундского университета А. Нюманом; экспертом-славистом Нобелевского комитета
в тот период был А. Карлгрен, ему и принадлежит единственное весьма негативное экспертное
139
сателем, отзыв о котором А. Йенсен представил в Нобелевский комитет, стал
именно Максим Горький. Ровно машинописной страницы хватает рецензенту,
чтобы уложить в нее незамысловатые пересказы трех дореволюционных
романов писателя — «Фома Гордеев», «Трое» и «Мать». Оцененные экспертом
крайне невысоко (второй еще более «недоброкачественный», чем первый), эти
романы Горького отталкивают его прежде всего своими героями,
«неинтересными и непонятными, не трагичными и несимпатичными». Зато наряду с В.И.
Лениным Альфред Йенсен оказывается ценителем романа «Мать», который
привлек эксперта своей социально-этнографической стороной — описанием
жизни заводских рабочих в период русской революции. «Вообще мне
кажется, — подытоживает Йенсен, — как писатель-романист Горький — неудачное
явление <...>».
Максим Горький — драматург также совершенно не удовлетворяет вкусам
Йенсена. К выдающимся произведениям сценического искусства, по его
мнению, нельзя отнести «Мещан»; «однако написанная в 1901 г. пьеса Горького "На
дне" значительно более несообразна по композиции и представляет собой не
что иное, как соединение диалогизированных сцен из его рассказов, созданных
на том же материале». Изумляющий его успех горьковских пьес в Европе, где
они не сходят со сцены, нобелевский эксперт весьма «убедительно» объясняет
«отличными постановками в театре Станиславского в России». И тут же,
закрывая тему горьковской драматургии, рецензент удовлетворенно
констатирует, что написанные несколько позже «Дачники» и «Дети солнца» «вряд ли имели
литературный успех и сейчас совершенно забыты».
Итак, писатель, который более чем за десять лет триумфально объехал с
лекциями и выступлениями Европу и Америку, где непрестанно переводились,
издавались и переиздавались его книги (американский демарш под предлогом
борьбы «за чистоту отелей» развенчивает американскую мораль, а никак не
писателя Горького, чьи рассказы перед его въездом в США были переизданы
пятнадцать раз!), в глазах эксперта Нобелевского комитета лишь незначительный
литератор, не оправдавший всем четвертьвековым творчеством своего
триумфального дебюта.
Максим Горький — это примитивная сила, которая вспыхнула однажды, но это
сила без ограничений и без художественного развития. Он дал нам несколько
вспышек, которые на мгновение осветили темные глубины русской (народной)
души, — но <это> только вспышки.
Йенсен не отрицает, что в сочинениях Горького пылал огонь протеста, но он
не светил, а обжигал — и сжег прежде всего самого писателя. Самым же
смехотворным оказывается предложенное рецензентом объяснение невероятной
популярности писателя в Европе: искушенного европейского читателя (надо ду-
заключение (1943) о сочинениях выдающегося русского мыслителя, послужившее основанием
для решительного отвода его кандидатуры (подробнее см. главу 10 настоящей монографии).
140
мать— английского, французского, немецкого...) ранние рассказы Горького
привлекли привкусом «приятной новизны». Когда же писатель принялся
учительствовать и морализировать, его талант утратил свою силу. В очерках о
поездке в Европу и Америку Горький, «как и столь многие другие русские
писатели, показал, как мало и плохо настоящий русский понимает еще европейское
образование»!
Одним словом, варвар. «Есть русский трагизм в горьком творчестве
Горького <...>», — каламбурно замечает в заключение Йенсен, раскрывая свое
понимание русской трагедии:
Горький, как немногие в молодой России, пропел песнь свободе на своей
однострунной лире. Но, на свое горе, он узнал, что происходит, когда
прокламируют только свободу (сколько глупостей и преступлений не совершалось только
ради этого светлого имени!).
Две русские революции, уверенно полагает Йенсен, раз и навсегда
продемонстрировали Горькому, «куда заводит большевизм»:
Его песня смолкла, его наивная юношеская вера в жизнь померкла. Теперь
Максим Горький стоит довольно изолированно и в жизни, и в творчестве и
может лишь с грустью оглядываться назад, на радостные скитания своей
юности, так же как раненый сокол в его стихотворении падает на камни, где его
поджидает змея (так! — Т. М.). И подобно раненой птице он утешает себя
песней моря и эхом отзывающихся гор: «Безумству храбрых поем мы песню!..»
Этот крайне необъективный, искажающий творческую личность писателя
отзыв нобелевский эксперт завершает приложением — списком книг М.
Горького в шведских переводах. Оказывается, восемь переводчиков начиная с 1901 г.
познакомили шведских читателей едва ли не со всеми его сочинениями; книги
Горького выходили в Швеции почти каждый год. Единственный длительный
перерыв (с 1909 по 1915 г.) завершился публикацией первой части
автобиографической трилогии писателя — того самого «Детства», не прочитанного как
следует знатоком России и русской литературы А. Йенсеном.
Тем временем «некомпетентность» эксперта покоилась на уже давно
известном литературно-критическом основании: «...в отзыве нобелевского эксперта
отчетливо прозвучали формулировки, принадлежащие первому биографу
Горького и критику на Западе французу Эжену-Мельхиору де Вогюэ» [Ариас-
Вихиль 2011: 63]. В одной из первопроходческих критических работ о молодом
русском писателе [Vogué 1901] Вогюэ осуждает «его пристрастие к мрачным
сторонам жизни и его революционные взгляды», объясняя их «болезнью роста,
характерной для русского народа как молодой нации»: «Россия еще находится в
идеалистической фазе». М.А. Ариас-Вихиль [2011: 65-66] раскрывает те
положения Вогюэ, которые мог взять на вооружение А. Йенсен, оценивая писателя
куда более революционизированного и охваченного «нигилизмом», чем Лев
141
Толстой: «"Буржуа", восхищающиеся творчеством Горького, должны крепко
стоять на ногах: ведь Горький ненавидит их удвоенной ненавистью: как
романтик, подобно Флоберу, и как революционер-социалист».
Общий вердикт Нобелевского комитета был в 1918 г. «лишенным
формальностей», так как «на соискание премии поступило <лишь> 16 предложений»
[Nobelpriset i litteratur, I: 399]. Среди номинированных значились имена А.
Бергсона, К. Гамсуна, У.Б. Йейтса — будущих нобелевских лауреатов. Горькому в
«Заключении», подписанном Гаральдом Йерне, тогдашним председателем
комитета, посвящено буквально три строки, в которых отмечено, что писатель
«прекрасно выглядит как неоспоримый самородок, но его анархическое и
зачастую совершенно грубое творчество никоим образом не вмещается в рамки
Нобелевской премии» [Ibid.: 401]. Впрочем, в 1918-м, в год окончания Первой
мировой войны, премия по литературе не была присуждена никому.
В следующем году, хотя номинация Горького не была никем заново
подтверждена, А. Йенсену пришлось написать несколько дополнительных
страниц о писателе (они приплетены к отзыву о творчестве польского писателя
В. Реймонта). Более того, заслуженный эксперт по славянским литературам
вынужден оправдываться, ибо оказался уличенным в недобросовестности
библиотекарем Шведской академии К. Грёнбладом16. Затронута честь мундира:
«маленькая приписка» к прошлогоднему малопрофёссиональному отзыву
понадобилась эксперту, чтобы «опровергнуть мнение» о «несоответствии»
его деятельности эксперта-слависта «той относительно высокой зарплате»,
которая положена ему за труды. Йенсену приходится признать, что он
действительно проигнорировал новые сочинения Горького, но произошло это из-за
отсутствия связи с революционной Россией. Дотошный библиотекарь
обратил внимание эксперта на издательство Ладыжникова в Берлине, которое за
второе десятилетие века выпустило целый ряд книг Горького17. Видимо,
ознакомившись с этими книгами — ив числе прочих с «Детством» и «В людях», Йен-
сен счел своим долгом написать «постскриптум» о «тщетно выдвигаемом
кандидате».
В глазах нобелевского эксперта «высокой культурной ценностью» не
обладают и новые труды Горького, подтверждающие лишь, что «Алексей
Максимович Пешков (настоящая фамилия Горького) пережил очень большие
трудности». Чаще всего Йенсен прибегает к глаголам «пробовал» и «пытался»,
подчеркивающим несостоятельность творческих усилий Горького в
межреволюционный период. «Городок Окуров» и «Лето» — «скучные» и «однообразные» —
прямо отнесены рецензентом к неудачам писателя, а происшествия, о которых
16 Grönblad Carl (1866-1938) — директор Нобелевской библиотеки при Шведской академии
в 1909-1934 гг.
17 «Издательство И.П. Ладыжникова» существовало в Берлине в 1905-1926 гг., возглавлял
его давший издательскому дому свое имя близкий друг и помощник Горького по издательским
делам.
142
в них идет речь, бессмысленны так же, как «нехудожественно повествование
Максима Горького». Йенсен словно обижен предъявленными ему претензиями
и вместо обстоятельной критики подвергает творчество Горького
всестороннему осуждению: «однообразные герои» говорят на однообразном языке, языке
самого автора, им не хватает «психологической нюансировки и
художественного завершения», и они превращаются в «орудия наивного резонерства
писателя» — «усталого, давно уже выжатого».
Между тем в отнюдь не благожелательно настроенной по отношению к
Горькому эмигрантской среде его творчество оценивалось совершенно иначе.
Так, рецензируя «Мои университеты» (последнюю часть автобиографического
повествования Горького), Ф.А. Степун касается именно тех сторон горьковско-
го творчества, о которых с неизменной оскоминой кисло пишет Йенсен. От
Горького «испытываешь такое впечатление, как будто бы уходишь от искусства
и входишь в самое жизнь», — замечает всего за год перед тем изгнанный на
«корабле философов» русский критик и мыслитель:
В его воспоминаниях как будто нет ни стиля, ни языка, ни фразы, а есть только
образы, и даже не образы, а прямо люди, города, Волга. Ставя перед читателем
этот свой мир, Горький никак не обнаруживает того жеста, которым он это
делает. Потому его мир и не кажется нам искусственно воздвигнутым миром
художника, а извечно стоящим действительным миром, не искусством, но
жизнью. В этом смысле художественное творчество Горького продолжает ту
традицию Толстого, которая в общем оказала очень мало влияния на
современную литературу, отмеченную скорее решительным тяготением к Гоголю и
Достоевскому [Степун 1923: 480].
Впрочем, если Степун прав в определении традиции, то Йенсен остается
верен самому себе: не он ли оказал категорическое противодействие
награждению «анархиста» Льва Толстого?
Единственное, чем можно оправдать шведского слависта, — это крайняя
сложность эпохи, в которую ему пришлось оценивать творчество Горького:
прежние оценки, в том числе сугубо литературоведческие, казались
устаревшими, а новый взгляд на Горького формировался под воздействием единственного
факта — его близости с пришедшей к власти в России партией большевиков.
А. Йенсену поневоле приходится высказаться о политическом кредо Горького
в новых исторических условиях. Упоминая вышедшую по-шведски в 1918 г.
брошюру «Один год революции»18, эксперт «констатирует, даже с
удовольствием», эволюцию взглядов писателя и произнесение им «верных слов» —
упреков, брошенных, в частности, в адрес «продажной русской прессы» и «русской
рабской души» с ее «презрением к человеческому достоинству». «И все же
Горький стоит на службе большевизма», — недоумевает Йенсен, поражаясь, как
писатель, сознающий жестокость, дикость, «примитивное право кулака», при-
Из книги «Революция и культура. Статьи 1917 г.» (Берлин, 1918).
143
сущие большевизму, может идти на службу «обманом узурпированной и
удерживаемой насилием власти»19. «Вряд ли можно серьезно относиться к
Горькому как к общественному мыслителю», — облегченно завершает заслуженный
эксперт свой «постскриптум», видимо, больше всего беспокоясь, как бы
Горький снова не оказался в списке кандидатур на Нобелевскую премию по
литературе.
Напряженную работу Горького после того, как он покинул Россию, трудно
назвать чисто литературной: «Отвечая на многочисленные запросы и просьбы
иностранных газет и журналов» [Примочкина 2003:14]20, Горький начал работу
над циклом статей «О русском крестьянстве» (публиковались с апреля 1922 г. в
иностранной периодике, отдельным изданием на русском языке вышли осенью
того же года в Берлине). Летом 1922 г. была опубликована также статья
«Интеллигенция и революция» (в приложении к английской газете «Манчестер гар-
диан»). В этих публицистических работах писатель высказал
свой взгляд на русскую революцию, свое понимание ее исторической
неизбежности и трагического характера. Его выступления были встречены резкой
критикой как в зарубежье, так и в советской России. Эмиграция обвиняла
Горького в ненависти к русскому крестьянству, в «народозлобии». В России статьи
были признаны политически вредными, направленными, якобы, на то, чтобы
поссорить народ с властью [Там же].
Между тем публицистика становится главенствующим жанром в
пореволюционные годы, ей отдают дань не только в насквозь политизированной
большевистской России — гневом, болью и ненавистью буквально полыхали
страницы бунинских «Окаянных дней»; Гиппиус в публицистическом задоре
переходила все границы, и трудно назвать более резкого и непримиримого,
хотя и не всегда разборчивого в средствах противника Горького. Сыплющая
колкости направо и налево в критике, Гиппиус умела ранить глубоко и остро —
19 А. Йенсен, как это практиковалось в первые десятилетия существования Нобелевского
института экспертов по национальным литературам, не приводит никаких библиографических
данных, ссылок на использованную литературу или на периодику. Для хорошо владевшего
русским языком эксперта не представляло затруднений знакомство с советской и эмигрантской
печатью; книга «Россия во мгле» Г. Уэллса, посетившего Россию осенью 1920 г., к моменту
написания Иенсеном экспертного отзыва еще не вышла — но многие ее положения смыкаются со
взглядами шведского профессора славистики. В.Г. Короленко, например, согласившийся — в
отличие и от эмигрантов и от тогдашних правителей страны — с «верным» пониманием
положения России «этим англичанином», был покороблен и возмущен «презрением к нашему
отечеству», пронизывающим книгу Уэллса (цит. по: [Горький 1998: 165-166]). Именно эти чувства
переполняли и Альфреда Йенсена. Заметим попутно, что ни к одной другой стране — неважно,
игравшей ли главные роли на международной арене или находившейся в тени мировой
политики, — европейские интеллектуалы не позволяли себе выражать столь явное презрение, как
к России.
20 В одном из частных писем Горький жалуется — только по тону шутливо, — что его по
пятам преследуют журналисты, «настойчиво требуют, чтоб я поделился с ними своей
мудростью. А я — не хочу» [Примочкина 2003: 13].
144
чего стоит ее замечание об участии Горького в процессе «изъятия ценностей»,
главной из которых оказался русский народ! [Гиппиус 1924: 136]21.
Но и Горький, стараясь не огрызаться в печати, перестал сдерживаться очень
скоро, и особенно его раздосадовало, буквально разъярило поведение столь им
ценимого в литературном отношении Бунина. Свое раздражение эмиграцией,
и в частности Буниным, Горький изливал в письме к Р. Роллану, как будто не
подозревая, какие ужасы и красного, и белого террора довели
благовоспитанного писателя до состояния визжащего от боли, ярости и ненависти раненого
зверя!
А если б Вы знали, в какой изумительно вульгарной форме ведется полемика с
большевиками! Прекрасный художник Иван Бунин на одном из эмигрантских
диспутов в Париже ругался «матерной» русской руганью, гнуснее которой я
ничего не знаю. Еще недавно Бунин был вполне корректным и
благовоспитанным человеком. Лично меня уже лет двадцать раскрашивают всеми оттенками
грязи, какие только возможны, обвиняли в том, что я «продавал Россию»
евреям, японцам, немцам, наконец, продал ее большевикам; я привык читать
гнусности о себе, они на меня не действуют, никогда не действовали. Но иногда
я ставлю на свое место другого, более слабого и не так притерпевшегося
человека, и с ужасом думаю, что было бы с ним? Озлобление людей тем более
отвратительно, что это не «святой гнев», а нечто гнилое и — это уж хуже всего! —
совершенно бездарное [Горький и Роллан. Переписка 1995: 124].
Кто был прав в этом споре, заведшем интеллигенцию в тупик полного
взаимного непонимания и злобы? Л. Андреев, ушедший из жизни раньше, чем
«классовая борьба» успела сделать непримиримыми врагами недавних друзей,
товарищей, коллег, записал в 1918 г. в дневнике, что как раз печатные
выступления Горького «невыносимы и отвратительны именно тем, что полны
несправедливости, дышат ею, как пьяный спиртом». И пригвоздил Горького с
соратниками к позорному столбу:
Лицемеры, обвиняющие всех в лицемерии, лжецы, обвиняющие во лжи,
убийцы и погубители, всех обвиняющие в том, в чем сами они повинны. Убийцы.
Л. Андреева «мучает» то, что «останутся бездоказательными»
«преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России», — о чем
следует составить «обвинительный акт, убийственный, неопровержимый»:
21 См. также: [Примочкина 2002: 737-763]. «Вы знаете, каково отношение к Горькому среди
честных русских людей, — писал норвежскому профессору славистики Олафу Броку М.И.
Ростовцев. — Не смыть позора славословия Ленина и че-ка запоздалой критикой большевизма из-
за рубежа. От Горького, конечно, ни один настоящий русский писатель не возьмет ни копейки.
<...> Горькому Нобелевская премия не нужна. Он вывез достаточно денег и драгоценностей из
России. К тому же премия Горькому была бы открытым признанием торжества большевизма.
Лучше уж тогда дать премию "мира" — Ленину, казнившему официально 1/2 миллиона лучших
российских людей, чему Горький открыто сочувствовал» (цит. по: [Бонгард-Левин 2002: 199]).
145
А так забывают, не знают, не помнят, пропустили — а там новые времена и
новые песни, когда тут раскапывать старье.
Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным,
неразоблаченным, «уважаемым»? Конечно, я говорю не о физическом возмездии, это
вздор, а просто о том, чтобы действительно уважаемые люди осудили его
сурово и решительно. Если этого не случится (а возможно, что и не случится, и
Горький сух вылезет из воды) — можно будет плюнуть в харю жизни [Андреев
1994: 101-102]22.
В эмиграции жадно подхватывали всякую вполне недостоверную
информацию о Горьком и торопились поделиться ею друг с другом. Одним из наиболее
жестоких обвинений в адрес Горького было приписанное ему участие в
разграблении художественных ценностей России, как из частных коллекций, так и из
музейных. Из первых рук подобную информацию получал и Бунин: так,
журналист A.A. Яблоновский переслал ему в 1922 г. машинописную копию
переданных ему материалов, освещающих «некоторые уголовные подробности»
деятельности Горького в России и за рубежом (РАЛ, MS. 1066/2955). В приложенном
к письму потрясенного Яблоновского (потрясенного еще и вопиющим
контрастом с его собственным положением — «в пяти газетах работаю, а рубашку
купить не на что») документе (РАЛ, MS. 1066/2956) «дело идет о краже из
Эрмитажа» (РАЛ, MS. 1066/2955). Несколько десятилетий спустя Бунин, разбирая
архив, поставил малиновыми чернилами знак NB на конверте с бережно
сохраненными свидетельствами «преступной» деятельности Горького и надписал:
«Золотые божки» (РАЛ, MS. 1066/2957). Речь шла о китайских статуэтках из
золота и нефрита, отделанных драгоценными камнями; но Бунин явно
наслаждался выразительной символикой будто бы пошедших на красивую
«заграничную жизнь» Горького музейных ценностей.
Раскол, который давно назревал в русской литературе и прорывался в
разных формах, наконец стал реальностью; но верный себе — «поддерживать
лучшее», именно Ромен Роллан выдвинул ставших непримиримыми врагами
русских писателей на Нобелевскую премию. Обращение Роллана в
Стокгольм содержало три русских имени — и Горький был назван наряду с К.
Бальмонтом и И. Буниным. Российские публикаторы переписки A.M. Горького с
Р. Ролланом (по-французски она была издана на несколько лет раньше)
отмечают, в сколь малом объеме она еще изучена. Письма 1921-1922 гг. — т. е.
именно того периода, который предшествует номинации Горького на
Нобелевскую премию Ролланом, — сопровождены таким комментарием: «...их
волновали судьбы мира, сотрясаемого войной и революцией, проблемы культуры,
морали, философии и социологии», а после отъезда Горького на Запад —
«проблемы и перспективы русской революции» [Из переписки Горького и Роллана
22 Бунин вполне согласен с мнением Андреева и сочувственно приводит его в
публиковавшихся в газете «Общее дело» в 1921 г. «Записных книжках» (см. [Бунин 1998: ПО]).
146
1994: 70]23. Более того: весной-летом 1923 г. корреспонденция со стороны Ролла-
на прерывается (как выяснилось, письма просто пропали), что «озадачивает»
Горького: «Это молчание наводит меня на мрачные мысли. Мне кажется, что
Ваше дружеское чувство ко мне изменилось. У меня столько врагов, всегда
готовых восстановить против меня друзей, и хотя я глубоко равнодушен к этому,
я все же огорчаюсь, когда дело касается таких людей, как Вы» [Горький и Рол-
лан. Переписка 1995: 60].
Какие цели преследовал автор «Жан-Кристофа» и только начатой
«Очарованной души», когда 3 января 1923 г. адресовался на правах нобелевского
лауреата в Шведскую академию? Он отдавал себе отчет, что выдвинутые им на
Нобелевскую премию русские писатели, «вынужденные эмигрировать из своей
страны», «имеют разные политические убеждения». «Именно поэтому, —
утверждает Р. Роллан, — я хотел бы их объединить в одной кандидатуре, чтобы
четко обозначить, что Нобелевский комитет, поднимаясь над преходящими
партийными дискуссиями, принимает во внимание только те заслуги, которые
достигнуты на неангажированной службе искусству и идее. К числу великих
граждан этого Града Духа — Civitas Dei — относятся Горький, Бунин и
Бальмонт». Апеллируя к Шведской академии, Ромен Роллан в действительности звал
прекрасных русских писателей, гордость нации, вновь объединиться,
«сойтись». Но он подталкивал их не к барьеру: как десятилетие спустя, в номинации
шведского профессора-слависта С. Агреля, так и в этом послании Р. Роллана в
качестве культурного посредника, облеченного миссией награждать высокий
идеализм в искусстве, была выбрана Нобелевская премия.
Он обратился к ответственным за присуждение международной награды
шведским академикам в среду; а накануне, в понедельник, с той же виллы
«Ольга» в швейцарском Вильнёве (кантон Во) он отправил одновременно
проникновенное и деловое письмо Горькому. О Нобелевской премии в этом письме
упоминаний нет — и все-таки его текст раскрывает отчасти побуждения Р. Роллана.
«Дорогой друг, — привычно обращается он, далее взяв сразу особый тон, — мне
нравится писать Вам в первый день года. Братское рукопожатие, которым
обмениваются в одиночку двое мужчин. Значит, они уже не так одиноки!24 И так как
23 В письмах, составляющих эту интереснейшую подборку, Нобелевская премия не
упоминается.
24 Именно этот образ товарищеского рукопожатия двух одиноких, т. е. в данном контексте —
независимых писателей наглядно демонстрирует, насколько мало интимной была эта
«дружеская» переписка: не зная языка друг друга, они неизменно прибегали к посредничеству
переводчиков, точнее, переводчиц из своего ближайшего окружения (см. [Горький и Роллан. Переписка
1995: 10]). Но Жан Перюс, французский публикатор этого эпистолярия, совершенно
справедливо замечает, что отношения Роллана и Горького и не были дружбой — amitié (им довелось
увидеться лишь однажды, в 1935 г., тогда как их эпистолярный контакт начался в 1916 г.), а были
«идеологическим и политическим товариществом» — camaraderie idéologique et politique (см.
[Correspondance Rolland — Gorki 1991: 7]). Ж. Перюс указывает, что оба писателя использовали
переписку скорее как кафедру для выражения своих литературно-эстетических впечатлений и
представлений или как трибуну для высказывания политических идей и мнений [Ibid.: 10-11].
147
каждый из нас является (сознательно или нет) пастырем душ, выходит, что два
маленьких народа, две паствы, пришедшие с Запада и Востока, объединяются
благодаря нам» [Горький и Роллан. Переписка 1995: 48]. А вслед за этой
декларацией Роллан как будто отвечает на предыдущее письмо Горького; в
действительности он оборачивает поставленную Горьким проблему
противоположной стороной — причем в предельном ее заострении. Можно думать, что
ответное письмо Горькому и обращение в Шведскую академию, даты написания
которых разделяет всего один день, были продуманы и составлены в тесной
взаимосвязи.
Горький высказывает мрачное подозрение, что создаваемые им в
настоящий момент произведения, проникнутые «любовью к людям», не найдут
спроса не только в Европе, но и в России, где гуманизм «под сильным сомнением:
Когда желаешь осчастливить сразу все человечество — человек несколько
мешает этой задаче». Но этот горький афоризм неожиданно завершает
пессимистические раздумья оставившего страну писателя и разрешается в еще более
неожиданном панегирике:
А все-таки меня восхищает изумительное напряжение воли вождей русского
коммунизма. За всю свою страшную историю Россия еще не имела таких
волевых людей ни в эпоху Ивана Грозного, ни при Петре Великом. Их —
ничтожная кучка, искренних друзей они имеют сотни, непримиримых врагов —
десятки миллионов русских крестьян, всю европейскую буржуазию, да прибавьте
сюда и социалистов Европы. И все-таки эти Архимеды уверены, что найдут
точку опоры и перевернут весь мир. Право же — хорошие люди! Иногда мне
очень жаль, что я не согласен с ними в деле истребления культурных людей и
никогда не соглашусь на это [Там же: 47-48].
Горький последователен в своем непримиримо враждебном отношении к
русскому крестьянству — но чего стоит эта последовательность в контексте
письма и русской истории в целом! Как «ничтожная кучка» этих «хороших
людей» расправилась с миллионами русских крестьян, известно слишком хорошо
(всего за год до этого послания Роллану В.Г. Короленко в своем последнем
письме Горькому привел несколько случаев, перерастающих в систематическое
истребление наиболее трудоспособного русского крестьянства, соли русской
земли). Но как реагирует Роллан? «Я переживаю вместе с Вами все беды нашего
времени», — пишет французский писатель и словно соглашается со своим
незримым собеседником, но при этом корректирует его высказывания и
буквально оспаривает их:
Вы скажете, пожалуй, что как бы ни был велик этот духовный прогресс, он
достигается ценой слишком больших страданий <...> Вся трагедия мира
заключается в одном страдающем существе — в одном страдающем ребенке.
Помножьте это чувство на 100, на 1000 или на миллионы, все равно останется
одно существо, крик которого повторяется миллионы раз.
148
Оба говорят о миллионах: один как о врагах, другой слышит крик
страдания этих миллионов, хотя бы и кругом неправых перед большевистской
властью. В ответ на замечание Горького о «страшной истории» России Роллан
ссылается на контрфакт из французской истории, связанный с избиением и
изгнанием из страны протестантов (после отмены эдикта о веротерпимости
в 1685 г.; тогда, впрочем, в отличие от Варфоломеевской ночи, обошлось без
массовых кровавых эксцессов). Этот эпизод Роллан приводит не случайно —
ибо, по его мнению, «русская эмиграция революционных лет окажет
непредвиденное влияние на развитие европейского духа вследствие соприкосновения
ее мысли, ее искусства с населением западных стран» [Там же: 48-49]. Это
предсказание не оправдалось, но когда Ромен Роллан писал эти слова, он меньше
всего хотел прослыть пророком — он думал о современности, о расколотом
русском обществе, расколотой русской культуре. Ему самому Нобелевская
премия была присуждена как человеку над схваткой, как писателю, который
сумел в своей подлинной человечности не перейти ни на одну из враждующих
сторон.
И вот теперь нобелевский лауреат 1915 г. выдвигал на премию трех русских
писателей — Максима Горького, Ивана Бунина и Константина Бальмонта, —
подчеркивая, что все три писателя «в полной мере пережили события в
России, что все трое должны были покинуть родину и что Нобелевская премия,
будучи высоким признанием их заслуг, в то же время была бы для них
драгоценной помощью». Полагая, что Максима Горького представлять не надо, ибо
весь мир знаком с его сочинениями и ощутил «патетическую мощь его
сердца, изборожденного рубцами всех человеческих страданий», Роллан позволяет
себе
лишь привлечь внимание к его самым последним произведениям, в которых
его необычайная жизненность проявляется с мастерством, какого он никогда
прежде не достигал, а именно к циклу его «автобиографических повестей» и к
критическим очеркам о Толстом, Чехове, Андрееве, Короленко, которые
относятся к шедеврам литературной критики всех времен25.
Роллан повторяет почти буквально — только усиливая похвалу — свое
мнение, высказанное в письме к самому Горькому от 25.11.1922:
Я восхищен Вашими статьями о Толстом, Чехове, Андрееве, переведенными на
французский язык. Объединены ли они в отдельную книгу? Не хотели бы Вы
составить том из очерков и портретов, прибавив новые статьи к тем трем, с
которыми я познакомился и которые представляются лучшим из всего, когда-
25 Очерки о русских писателях по-французски публиковались в периодике, отдельным
томом вышли в 1923 г. («Souvenirs de ma vie littéraire», Paris). Под «автобиографическими
повестями» Роллан имеет в виду трилогию — «Детство», «В людях», «Мои университеты»; о последней
книге Горький писал Роллану 7.12.1922: «...мною написан третий — последний — том
автобиографических очерков "Мои университеты"» [Горький и Роллан. Переписка 1995: 47].
149
либо написанного Вами. Ваш портрет Толстого сделан особенно талантливо
[Там же: 46]26.
За несколько лет и в далеком от бурь и потрясений большого мира
бюрократическом аппарате Нобелевского комитета произошли «кадровые изменения»:
ушедшего из жизни А. Йенсена, ценившего русскую литературу в целом и
отдельных ее представителей в частности не слишком высоко, сменил Антон
Карлгрен. С его приходом разительно изменился стиль «заключений»
специалиста по славянским литературам: на стол академикам вместо обстоятельных,
но весьма скучных обзоров Йенсена отныне ложились блестящие эссе, полные
иронии, а подчас и сарказма, тонких наблюдений, неожиданных сравнений и
самой живой заинтересованности в предмете. Ни о какой объективности не
могло быть и речи: Карлгрен явно и настойчиво лоббировал бунинскую
кандидатуру, и, чтобы обеспечить победу Бунину, эксперту пришлось решительно
отклонить остальных кандидатов от русской литературы, что он не без
виртуозности — хватка у него была журналистская — и проделал. След А. Карлгрена в
литературной критике, разумеется, не столь ярок, чтобы прибегать в его оценке
к стилистике Ромена Роллана, однако, погребенные в надежном сейфе архива
Шведской академии, его очерки по русской литературе, безусловно, не
заслужили полного забвения.
В 1923 г. отзыв о Горьком новоиспеченный эксперт начинает с выражения
своего согласия с мнением покойного А. Йенсена, полагавшего, что Горькому
нет места в списке достойных кандидатов на Нобелевскую премию по
литературе. Не мудрствуя лукаво, Карлгрен заявляет, что «подробный» отзыв его
предшественника избавляет его самого от необходимости обращаться к
детальному рассмотрению творчества Горького. Впрочем, эксперт ссылается на
рекомендательное письмо Р. Роллана, в котором тот обращает внимание академиков
на автобиографические романы Горького и на его воспоминания о Толстом,
26 Воспоминания о Толстом считал «лучшей книгой» Горького также Томас Манн; более
того, он даже признавался, что «возит ее с собой»! (См. [Wegner 1978: 308]; см. примечания 18 и
19 [Ibid.: 312].) В библиотеке Томаса Манна хранится два издания горьковского очерка в
немецком переводе («Erinnerungen an Tolstoi»), 1920 и 1945 гг., оба с пометами [Ibid.: 314]. Понимание
Толстого Горьким гораздо ближе немецкому писателю в 1920-е гг., чем столь воодушевившая его
на рубеже веков интерпретация Мережковского; работая над очерком «Гете и Толстой»,
занимающим чрезвычайно важное место в его литературно-критическом наследии, Т. Манн опирался в
гораздо большей степени на горьковскую трактовку русского гения [Ibid.: 308-309]. Это
совпадение в идейно-эстетической оценке работы Горького — дополнительный штрих к параллелизму в
восприятии русской литературы двумя крупнейшими романистами XX в., Т. Манном и Р. Ролла-
ном (об этом см., в частности: [Motylowa 1978: 317-332]). Между прочим, к высокой оценке
мемуарного очерка Горького о Толстом присоединялся в те же годы и А.К. Воронский: «В годы
Гражданской войны Горький поделился воспоминаниями о Л.Н. Толстом. Воспоминания прошли
тогда почти незамеченными. Между темэто было лучшее из всего, что имеется в мировой
литературе о Толстом, и наиболее совершенное в творчестве Горького. Так вольно, смело, проникновенно,
честно и своеобразно никто не писал о русском гении. Но особенно любопытно в книжке о
Толстом то, что он оказался у Горького... озорником» [Воронский 1926: 200].
150
Андрееве, Короленко27. Но и тут Карлгрен ищет предлога уклониться от
обстоятельного разбора, замечая, что мемуарно-литературные очерки написаны
Горьким еще до войны, на Капри. Зато «Детство» наконец удостоилось высокой
похвалы нобелевского эксперта — за «свободу, естественность, вдохновение» —
качества, утраченные, на взгляд Карлгрена, в других поздних произведениях
писателя.
Дав крайне загадочное и никак не раскрытое определение творчеству
писателя после 1905 г. — «стерильная пустыня»28, А. Карлгрен касается
чрезвычайно, кажется, лично для него важного предмета — взаимоотношений
литературы и политики. Фигура Горького представляется ему «жалкой», ибо писатель
выступил в роли политика, что категорически неприемлемо для Карлгрена. Эта
оценка не оригинальна: во второй половине 1900-х гг. русская критика,
особенно после публикации романа «Мать», заговорила о «конце Горького». «Какая уж
это литература! — уверяла З.Н. Гиппиус. — Даже не революция, а русская
социал-демократическая партия сжевала Горького без остатка» (Весы, 1907, № 7;
цит. по: [Русские писатели, 1:653]). Так и нобелевский эксперт после революции
1917 года видит только Горького-политика— т.е. публициста, выступающего
сначала на страницах большевистской печати, а затем и заграничной, и эта
горьковская ипостась совершенно затмевает в глазах Карлгрена собственно
литературное творчество писателя.
Очевидно, что Р. Роллан выбрал не самое удачное время для обращения в
Нобелевский комитет с номинацией русских писателей. Все привычные
представления сместились, и политика, остро отточив идеологические стрелы,
породила непримиримых врагов в литературе там, где еще недавно царило чуть не
единодушие, — ведь в свое время Бунин, в тесном общении с Горьким,
дописывал на Капри принесшего ему европейскую известность «Господина из Сан-
Франциско». Теперь с ужасом и проклятиями большевизму бежавший из
России Бунин оказывался последним классиком — не то главным хранителем
традиций великой русской литературы, не то ее живым символом, а Горький,
сначала изо всех сил пытавшийся использовать свое влияние для спасения
27 В письме от 25 ноября 1922 г. Р. Роллан передал Горькому желание французского издателя
напечатать какую-либо книгу русского писателя; в ответном письме от 7 декабря Горький
предложил составить том воспоминаний о Л. Толстом, Чехове, Короленко, Л. Андрееве. В следующем
году книга была издана («Souvenirs de ma vie littéraire»). Не вошедший в этот сборник мемуаров
очерк «Время Короленко» был опубликован в журнале «Les Ecrits nouveaux» (1922,1 Nov.). Таким
образом, Р. Роллан обращал внимание шведских академиков именно на те произведения М.
Горького, на которые, в свою очередь, тот сам обратил внимание французского писателя, сочтя их в
тот момент наиболее достойными для публикации на французском языке.
28 Несмотря на активнейшее участие в революции, непрестанные разъезды, арест,
путешествие в Америку, М. Горький написал и опубликовал после 1905 г.: сатирические памфлеты «Мои
интервью» и очерки «В Америке» (обе книги 1906), пьесы «Враги» (1906), «Последние» (1908),
«Васса Железнова» (1910), роман «Мать» (1907), повести «Жизнь ненужного человека»,
«Исповедь» (обе 1908), «Лето», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина» (все 1910), «Сказки об
Италии» (1910-1913), «Русские сказки» (1917) и цикл рассказов «По Руси» (1923).
151
культуры в одичавшей от революции и войны России, потом напрягавший все
свои возможности для привлечения помощи от АРА и Ф. Нансена ради
спасения голодающих в залитой кровью отчизне, приобрел зловещий облик
отступника от гуманных традиций русской литературы и глашатая большевистского
режима и террора. «Обескрыленный Сокол», — назовет его несколько лет
спустя Е.Д. Кускова29.
Впрочем, в западноевропейском сознании Максим Горький воспринимался
как фигура «ангажированная» уже со времен первой русской революции.
Именно в «ангажированности», т. е. тесной идеологической и политической связи
с партией большевиков, состояло его главное отличие от номинировавшего
его нобелевского лауреата Ромена Роллана. Последний самим своим
обращением в Шведскую академию еще раз продемонстрировал свою политическую
независимость и литературную беспристрастность: каковы бы ни были его
симпатии, Горький и Бунин оставались для него прежде всего выдающимися
художниками, у каждого из которых, выражаясь метафорически, был свой путь
Жан-Кристофа в искусстве.
Пожалуй, в случае именно русской литературы — и начиная уже с
«анархического» творчества Льва Толстого — Шведская академия впервые столкнулась
с искусством, настолько пронизанным революционными идеями, что они
выходили далеко за пределы художественности и вплотную приближали читателя
к острейшим социально-политическим вопросам современности. То, что
Горький Нобелевской премии не получит, было совершенно ясно, так как «это
политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту
Горькому», по справедливому мнению М. Цветаевой и, разумеется, не ее одной
[Цветаева 1994-1995, 6: 407]. Проблема, однако, состояла в другом: поскольку
речь шла о литературной премии, отвергнуть писателя на основе лишь его
партийной принадлежности было невозможно, особенно при его громадной
мировой славе. Нобелевский комитет должен был отклонить кандидатуру писателя
обоснованно и по соображениям чисто художественным: история обсуждения
личности и творчества A.M. Горького в Нобелевском комитете отражала начало
того процесса, который достиг своего пика уже в годы холодной войны, —
процесса формирования двойной системы ценностей, двойного взгляда на вещи,
обусловленного политической окраской оцениваемого явления, события,
личности, произведения. «Нобелевская» история Горького демонстрирует со всей
очевидностью не только существование биполярного мира, т. е.
противостояние двух систем, но и мировоззренческое «двоемирие», причем уже безо всякой
романтической окраски. «Буржуазный» и «антибуржуазный» взгляды на жизнь
29 Статьей именно с таким названием откликнется на юбилей Горького известная
общественная деятельница, некогда бок о бок работавшая с Горьким в Помголе (Комитет помощи
голодающим), арестованная и приговоренная к смертной казни, но освобожденная, наряду с
другими членами комитета, и, как и некоторые из его руководителей, высланная за границу [Кускова
1928:305-345].
152
и искусство непримиримо противостояли друг другу, и надо отдать должное
Горькому, совершившему в тех условиях свой выбор. Останься Горький на
Западе — Нобелевская премия была бы присуждена ему в ситуации тогдашней
политической игры почти наверняка. Но в тот год, когда писатель был
выдвинут на Нобелевскую премию Р. Ролланом, окончательный выбор Запада еще не
был сделан.
Несколько страничек, наспех набросанных А. Карлгреном для
Нобелевского комитета, — новый эксперт-славист был полностью погружен в
исследование поэзии и прозы только одного из трех русских номинантов, Бунина,
написав о нем подробнейший очерк, — касались лишь публицистических
выступлений Горького на страницах печати. Точнее, одной его статьи — «О
русском крестьянстве». «Опыт последних лет, — сообщает Карлгрен, — дал ему
новый взгляд на русский народ, на его развитие и его будущее, и эти новые
воззрения он теперь представляет». Если, сидя «за своим столом на Капри», в
период между двух революций, писатель наводнял русскую литературу
сочинениями о «борцах за свободу», то после октября 1917 года «он бесцеремонно смахнул
со стола все эти творения фантазии». Теперь, по мнению Карлгрена,
«пролетарский писатель» создает «мрачную картину безнадежного загнивания русского
народа, которое обусловлено собственно русским ужасным несовершенством».
Именно в этом, полагает Карлгрен, состоит «новый взгляд Горького»,
заставляющий писателя принять большевизм и увидеть в нем, при всех ужасах
большевистского правления, единственное лекарство для «глубоко больного
народа». С нескрываемым изумлением Карлгрен признает:
Это лошадиная доза: если пациент умрет, то в таком случае он и не
заслуживает ничего лучшего; если небольшая и лучшая часть выстоит — наступит
время, когда появится новая, закаленная в своем эгоизме Россия.
Рецензента поражает, что подобный приговор своему народу писатель
выносит «с самым холодным и невозмутимым спокойствием, бесконечно
безразличным тоном», без малейшего намека на жалость или сострадание. «В голосе
писателя не слышно ни ноты той жгучей любви к родине, которая звучала в
темпераментных порывах молодого Горького», — сокрушается нобелевский
эксперт, заключая образно, что сердце писателя стынет с каждой написанной
им в послереволюционной России строчкой и превращается в лед30. «Так
погибает настоящий Максим Горький», — мрачно констатирует А. Карлгрен, не
подозревая, что несколько лет спустя ему придется забыть о своей аттестации
двух десятилетий творчества писателя как «стерильной пустыни» и предста-
30 Между тем «Несвоевременные мысли» Горького, особенно собранные под одной
обложкой, а не рассеянные в периодике, оставшейся неизвестной шведскому слависту, позволяют
проследить, как от страстных обличений, пылких призывов Горький постепенно переходит — не
к равнодушию, но к тону бесконечно усталого человека, ср.: «Нет у меня сил ни для суда, ни для
защиты этих людей, созданных проклятой нашей историей, на позор нам, на глумление всему
миру» (цит. по: [Бунин, Горький 2004: 296]).
153
вить в Нобелевский комитет новый, обстоятельный обзор литературных
достижений Горького.
В 1923 г.31 шведские академики были вполне удовлетворены появлением в
списке имени Горького, посчитав его «достойным представителем русской
прозы», чьи «описания людских судеб и взгляд на душу человека сильно
захватывают и восхищают также и зарубежных читателей» [Nobelpriset i litteratur, II: 43]
(цитируемый далее текст находится на этой же странице). Хотя его раннее
творчество не поднялось до тех высот, которых достигли его великие
предшественники, в нем все же «открывались новые просторы русского мира, казавшегося
столь истощенным, и это вызвало живой интерес». Богато одаренный писатель
и мыслитель, Горький заставил Европу «затаить дыхание от мощи и будущих
возможностей "черной земли"». Но события последних лет (большевистская
революция) показали, насколько горьковское понимание «народной
психологии оказалось неверным», что тем не менее не умаляет поэтической и свежей
силы, с какой он создавал свои ранние произведения. Приблизительно лет
двадцать назад, раздумчиво записывают в своем «Заключении» члены
Нобелевского комитета, да и то после некоторых сомнений, можно было «серьезно
обсуждать предложение присудить Горькому Нобелевскую премию». Однако с
тех пор — т. е. за целую четверть века! — писателем «не создано никаких
значительных произведений», а ценные в качестве «человеческих документов»
воспоминания о детстве и юности, хотя и увлекают «силой рассказа и
пластичностью образов», тем не менее никак не соответствуют требованиям Нобелевской
премии. Отказываясь присудить премию за 1923 г. этому русскому писателю,
академики очень глухо намекают и на «другие доводы, которые были
выдвинуты против Горького», — т. е., разумеется, сугубо политического свойства.
Однако за несколько лет, проведенных писателем вне России, его позиция
прояснилась настолько отчетливо, что это потребовало и от его друзей, и от его
врагов столь же прямых суждений о нем самом и его творчестве.
В 1926 г. произошло событие, которое можно считать окончательным
размежеванием литературных сил, более того — разделением русской литературы
на советскую и эмигрантскую. Контроверзы вокруг появившегося в советской
печати отклика Горького на смерть Ф.Э. Дзержинского стали «вехой в процессе
разрыва литературной эмиграции с Горьким» [Горький и Осоргин. Переписка
2002: 410]. «Знаменитое письмо» (В.Ф. Ходасевич) было в действительности
частным посланием (Я.С. Ганецкому) и отражало непосредственную реакцию
31 В этом году между членами Нобелевского комитета шла ожесточенная полемика
относительно выбора между ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом (едва не ставшим
лауреатом предыдущего года) и английским писателем Томасом Гарди; четверо из пяти членов
комитета сочли необходимым выразить свое личное мнение по спорным кандидатурам [Nobelpriset i
litteratur, II: 44-45]. Нобелевским лауреатом 1923 г. стал в результате крупнейший лирик XX в.
Йейтс. Гарди, много лет подряд выдвигаемому на Нобелевскую премию, стать ее лауреатом так и
не довелось: после награждения англоязычного автора должно было пройти некоторое время, но
в 1928 г. писателя не стало.
154
Горького на сообщение вечерних газет о смерти главы НКВД; письмо, однако,
было тотчас опубликовано в центральных советских газетах — «Правде» и
«Известиях» — и почти сразу перепечатано в основных эмигрантских — «Руль»,
«Дни» и «Последние новости». В протесте, опубликованном в «Руле» Союзом
русских журналистов и литераторов в Германии, человеческая реакция
Горького на кончину ему лично близко знакомого человека была названа
«панегириком палачу», которым писатель «заранее благословил новые убийства, заранее
дал им свое <...> отпущение» и продемонстрировал, каким «жутким
моральным затмением проникнуто все его душу оскорбляющее послание вообще»
(цит. по: [Горький и Будберг. Переписка 2001: 365]). Горькому эта и подобные
публикации были хорошо известны — собранные им вырезки с пометами
хранятся в Архиве A.M. Горького в Москве; в этой подборке — и анонимные
послания с такими, в частности, признаниями: «Скверно, гадко на душе
становится, когда подумаешь, что принадлежишь к одной с Вами нации» [Там же: 366].
Горький собирался ответить на все «укусы»32 публично, но ответная статья
написана так и не была: Горький оставался верен позиции «гранитной скалы в
бурю». Только в личной переписке, главным образом с близкими ему
женщинами — Е.П. Пешковой, М.Ф. Андреевой, М.И. Будберг, — он позволяет себе
отвести душу, высказаться прямо и резко. Отклик на смерть Дзержинского,
ставший достоянием общественности, оказался своего рода прорывом давно
накопившихся чувств. Горький кипел гневом на эмиграцию уже давно: «Лгут и
сами себе не верят, идиоты, а иностранец читает пакости их — и ухмыляется,
доволен: дикари! Дикари пожирают друг друга» (письмо М.Ф. Андреевой)
[Примочкина 2002: 751].
Надо заметить, что Горький совершенно верно определил отношение
Запада к русской трагедии вообще и к духовной атмосфере эмиграции в
частности. Замечательно, что авторитет Горького на Западе — до его возвращения в
СССР — несомненно, пересиливал общий «глас вопиющего в пустыне», голос
русских беженцев, русских эмигрантов. Может быть, всего лучше
сформулировал этот выбор европейских интеллектуалов Р. Роллан в одном из писем к
М. Горькому:
Я не большевик и никогда им не буду: слишком многое в плане
интеллектуальном разделяет меня с большевиками33. — Но я еще меньше сочувствую
противному лагерю, какое бы название он ни носил. И всякий раз, как вопрос о
Революционной России и о коалиции реакционных сил будет поставлен на
почву реального действия, я приму сторону Революционной России (цит. по:
[Горький и Роллан. Переписка 1995:159]).
32 «На днях в "Днях" Боря Зайцев укусил — ужасно! Однако терплю», — жаловался Горький
Е.П. Пешковой (цит. по: [Горький и Будберг. Переписка 2001: 366]).
33 В публикации французского оригинала письма Р. Роллана говорится также и о моральном
отличии от большевиков: «...trop de choses me séparent deux, intellectuellement et moralement»
[Correspondance Rolland — Gorki 1991: 198].
155
Впрочем, Р. Роллан оговаривается, что мир разделен на партии и, даже
поддерживая «лучшие из них», он не может стать исключительно на партийные
позиции, ибо не готов пожертвовать хоть чем-либо в ущерб главной для него
ценности — «независимому духу» [Горький и Роллан. Переписка 1995: 159]. До
возвращения Горького в СССР многим казалось, что и он олицетворяет именно
этот выбор, выбор в пользу свободы слова и мысли.
Отношение к Горькому в западноевропейском восприятии
послереволюционного времени иллюстрирует такой характерный факт. В 1924 г. к нему
обратились члены редакции словаря «Menschen und Menschenwerke»34, «который
ставил своей целью запечатлеть духовную жизнь современного мира» [При-
мочкина 2003: 60], с просьбой назвать тех представителей современной русской
культуры, о которых стоило бы дать словарные статьи. В горьковском списке
соседствуют имена Бунина35, Мережковского, Гиппиус (кроме того, названы
Куприн, А. Белый, Сологуб), бывших не только эмигрантами, но, по
справедливому замечанию H.H. Примочкиной, «самыми злыми врагами большевизма и
хулителями Горького». В результате в словарь вошло имя одного-единственного
русского литератора: самого Горького. Разительны и иные примеры, хотя
трудно найти среди них более показательный, чем полное игнорирование русской
литературной эмиграции Международным конгрессом писателей в защиту
культуры, состоявшимся в 1935 г. в Париже— «столице» русского зарубежья.
Впрочем, рассмотрение этого знаменательного эпизода во взаимоотношениях
русской и европейской литературной элиты увело бы нас далеко от темы
настоящей работы; отметим лишь, что эмиграция вызывала недоверие в самых
широких кругах европейской интеллигенции, симпатизировавшей Советскому
Союзу.
Когда же в 1927 г. (в десятилетнюю годовщину Октября36) в эмигрантской
прессе было опубликовано воззвание группы писателей из Советской России к
европейской общественности, поддержанное Буниным, Бальмонтом,
Зайцевым, Куприным, Мережковским, Шмелевым, т. е. крупнейшими писателями
зарубежья, о нарастании в стране духовного гнета, подавлении свободы слова и
творчества, физической гибели писателей, то никакого отклика в европейской
среде оно не вызвало («К писателям мира» — «Последние новости»,
«Возрождение», 10.07.1927). Тогда Бунин и Бальмонт обратились со страниц французской
печати к авторитету Р. Роллана, призывая его публично выступить с
осуждением политики советского государства в отношении живущих в России писа-
34 В буквальном переводе с нем. — «Люди и человеческие творения».
35 В Архиве Бунина сохранилось обращение редакции словаря «Menschen und Menschenwerke»
(«Men of To-day and their Works» [РАЛ, MS. 1066/3837]) с просьбой прислать фотографию и
биографические данные; Бунин, скорее всего» ответил, но в результате жесткого отбора,
свойственного подобным изданиям, его имя в окончательный состав персоналий включено не было.
36 Октябрьскую революцию Роллан назвал «величайшей в истории народов», а Бунин
говорил в юбилейный год о «проклятом десятилетии».
156
телей37. Роллан, в свою очередь, обратился за разъяснениями к М. Горькому;
поскольку ответ последнего был также опубликован на страницах французской
прессы, то состоялась своего рода заочная дискуссия — которая слишком
походила на дуэль, как метко указывает H.H. Примочкина. Опровергая
подлинность изложенных в «воззвании» фактов, Горький одновременно писал о
«моральном разложении русской эмиграции», о ее «болезненной, гнилой злобе на
русский народ», о «науськивании ею европейской прессы на Советскую власть,
полемике между собою, скандалах и клевете, лжи на всех, кто иначе верует»
[Примочкина 2003: 62]38. Следующее послание Горького Роллану— ответ на
также опубликованный ответ Бальмонта — показалось французскому
писателю настолько несправедливым и резким («Меня поразили некоторые ваши
слова (или намеки) относительно Бунина. Можно подумать, что Вы возлагаете на
него совершенно особую ответственность за контрреволюцию» [Горький и
Роллан. Переписка 1995: 159]39), что он счел за благо не предавать его огласке.
Этот обмен письмами между Ролланом и Горьким, состоявшийся буквально
в дни подготовки и проведения горьковского юбилея (в переписку вторгаются
поздравительные телеграммы), показал со всей очевидностью, что выбор был
Горьким окончательно совершен, и, к сожалению, ему пришлось поступиться
именно той полнотой личной свободы и личной ответственности, о которых
37 Открытое письмо Бальмонта и присоединившегося к нему Бунина было опубликовано на
страницах «LAvenir» 12.01.1928; ответ Ромена Роллана появился в журнале «Europe», № 2, 1928 г.
(«Ромен Роллан и Советская Россия. Ответ Константину Бальмонту и Ивану Бунину»; по-русски
напечатано в газете «Сегодня», 23.02.1928, № 52, с. 12; в СССР перепечатано в «Вестнике
иностранной литературы», 1928, № 3, с. 133-137). Последняя публикация в этом открытом споре,
в котором не удалось найти общего языка писателям, искренне восхищавшимся
произведениями друг друга, принадлежит К. Бальмонту (Возрождение, 31.03.1928, № 1033). «Неужели он
всерьез полагает, — изумлялся Бунин позиции Р. Роллана, — что мы все, русские
писатели-эмигранты, являемся просто-напросто тупыми реакционерами, и это несмотря на нашу
литературную ценность? Как он заблуждается! Если некоторые из нас ненавидят русскую революцию, —
пишет Бунин далее, — это единственно потому, что она чудовищно оскорбила надежды, которые
мы на нее возлагали; мы ненавидели в ней то, что мы всегда ненавидели и будем ненавидеть и
впредь: тиранию, произвол, насилие, ненависть человека к человеку, одного класса к другому,
низость, бессмысленную жестокость, попрание всех божественных предписаний и всех
благородных человеческих чувств, короче говоря, торжество хамства и злодейства» (цит. по: [Бунин
1998:265]).
38 В цитируемой работе этот эпизод, красноречиво свидетельствующий о реальном
положении русской эмиграции и ее творческих представителей в западноевропейском
интеллектуальном и культурном сознании, разбирается более подробно (с. 61-62).
39 Горький написал буквально следующее (в письме от 22.03.1928): «...Гражданская война,
которую, вместе с другими его друзьями, разжигал и Бунин» [Горький и Роллан. Переписка 1995:
156]. Комментируя цитируемую переписку, ее издатели уточняют, что Горький имел в виду
«Окаянные дни» и другие публицистические выступления Бунина; однако от реакции на
происходящие в стране «эксцессы революции», о которых Горький догадывался еще накануне Октября, до
провозглашения частного лица, писателя-эмигранта инициатором Гражданской войны в России
неизмеримая пропасть. В личном письме Роллану Горький, таким образом, не удержался и
выдвинул против Бунина обвинение столь же тяжкое, как те, которыми осыпали его самого.
157
всегда горячо говорил Роллан40. Публикатор переписки М. Горького с Роменом
Ролланом (на французском языке), Жан Перюс, справедливо пишет о глубокой
разнице в мировоззрении обоих писателей и о еще более глубоком различии их
общественной позиции. «В противоположность Ромену Роллану, Горький был
"ангажирован"», — замечает Ж. Перюс, полагая, что членство в
социал-демократической партии (большевиков) обусловливало не только формирование
политических взглядов Горького, но и его резко негативное отношение к
индивидуализму. В то время как Р. Роллан посвятил себя художественному
постижению «противостояния личности и коллектива, Единицы и Общего, Горький
никогда не стремился познать себя иначе, как распутывая ту сложную сеть
бесконечно различных конкретных связей, которые объединяют каждого со
всеми», и рассуждал и действовал в «интересах культуры интернациональной,
планетарной», противопоставленной «цепям индивидуализма и
национализма» [Correspondance Rolland — Gorki 1991: 13-14].
Подобный мировоззренческий антагонизм обусловил также отталкивание
Горького от русской эмиграции, вплоть до полного разрыва с ней. Необычайное
своеобразие русского литературного опыта в XX в. и состоит в том, что
носители одного национального менталитета и одного языка, наследники общих
культурных традиций и ценностей создавали картину мира на основе «двух
противоположных систем: абсолютного индивидуализма и абсолютного
коллективизма» [Струве 1992: 181]. По вопросу об отношении к личности и
коллективизму обнаружились непреодолимые противоречия Горького даже с той
частью эмигрантов, которая тянулась к нему самому, стремилась к
возвращению в Советский Союз. Показательна в этом смысле переписка Горького
с «большевизаном» М.А. Осоргиным — не ушедшим из страны с «белой»
эмиграцией, а высланным из России на знаменитом «корабле философов» в 1922 г.
Постулаты, содержащиеся в корреспонденции двух писателей, принципиально
важны для понимания проблемы главного раскола внутри русской
литературы — и много шире: внутри русского общества и — как следствие идейной
интерференции — в европейском сознании первой половины XX в. В послании
к Осоргину Горький утверждает:
40 и} что важно, не только говорил, но и действовал: с началом Первой мировой войны
Роллан покинул Францию, поселился в нейтральной Швейцарии и, вызывая на себя огонь
настроенной патриотически и прямо шовинистической прессы, именовавшей его германским агентом,
оставался неуклонным борцом за мир. Поэтому «дуэль» между Горьким и Ролланом,
получившим Нобелевскую премию за «Жан-Кристофа», но в гораздо большей степени, что было всем
очевидно, за свою мужественную позицию бескомпромиссного пацифизма во взбесившейся в
милитаристском угаре Европе, как нельзя лучше демонстрирует трагизм совершаемого
писателем выбора. Эта проблема весьма ошибочно именуется обычно проблемой «писатель и власть»:
Горький делал выбор в пользу страньги ее будущего, народа и его просвещения — и это именно
его идеализм, который так жаждал увидеть в искусстве А. Нобель, был в результате преступно
использован властью, превратившей могучую свободную личность в своего послушного
пособника.
158
У Вас — и людей Вашего типа — очень доминирует личный мотив, а у людей
моего лада отношение к личности сложилось уже иронически, для нас
личность все меньше — величина решающая. Даже в таком примитивно простом
деле, как человекоубийство <...> [Горький и Осоргин. Переписка 2002: 480].
Осоргин не только не уходит от ответа на «принципиальную» часть горь-
ковского письма, но отвечает с чеканностью формулы:
Вы, конечно, правы, говоря, что у людей «моего типа» преобладает личный
мотив; только не личный мотив, а мотив личности, защиты личности против
всякого организованного насилия [Там же: 481].
Абсолютизация личности и противопоставление ей коллективной воли,
коллективного сознания (которое не обязательно соотносимо с приматом
известных идеологем, но имеет в русской духовности глубокие корни, связанные
с понятием соборности) — вот два главных полюса русской литературы XX в.
И в этом смысле нобелевский «суд» — оценка горьковской кандидатуры
экспертом Нобелевского комитета и шведскими академиками — обращается не
столько к личности писателя, сколько к его ипостаси члена определенного
коллектива: партии большевиков, советского общества, вплоть до
отождествления его с карательно-репрессивной машиной (что, заметим попутно, быстро
превратилось в стереотип в западной критике и литературоведении, причем по
отношению ко всем лояльным к советской власти русским писателям).
Критический обзор творчества, который Нобелевский комитет
традиционно запрашивает у специалиста по той или иной национальной литературе,
полон сомнительных экивоков и в юбилейном для Горького 1928 г., хотя на этот
раз эксперт (А. Карлгрен) подошел к делу гораздо более ответственно. «В то
время как имя Максима Горького опять — в который раз? — фигурирует в
списке кандидатов на Нобелевскую премию, в России его чествуют как ни одного
русского писателя до него, и такая поддержка кандидатуры общественным
мнением, я думаю, является уникальным случаем в истории Нобелевской
премии», — так А. Карлгрен начинает обзор творчества писателя. Сетуя на
очередное появление Горького среди номинированных на Нобелевскую премию,
Карлгрен словно намеренно не замечает: шестидесятилетний юбилей A.M. Горького
отмечался действительно широко — и не только в Советском Союзе, но и во
всем мире41, — а на Нобелевскую премию его официально выдвинули всего
лишь в третий раз.
Позиция рецензента, впрочем, быстро проясняется: для него неприемлемо
такое возвеличивание Горького, когда «большевики своими хорошо
дисциплинированными глотками кричат ему, что он не только величайший русский пи-
41 Прославленная в Швеции писательница, нобелевский лауреат Сельма Лагерлёф в
юбилейной поздравительной телеграмме обращается к Горькому как к «певцу человечности и
жизнестойкости», а образ бабушки из «Детства» относит к «чудесным образам женщин в мировой
литературе» (цит. по: [Шатков 1961: 101]).
159
сатель нашего времени, но и самый главный писатель современной мировой
литературы». У Карлгрена сложилось впечатление, что в послереволюционной
России Горького не очень жаловали и только в связи с юбилеем обнаружили,
что при умелом обращении творчество «пролетарского писателя» можно
использовать «в качестве обложки для того роскошного издания, что носит
название "советской культуры"». Советское (или большевистское, в
терминологии шведского критика и журналиста) представление о Горьком для Карлгрена
«несправедливо»; вместе с тем рецензент хорошо понимает, что в творчестве
Горького нельзя произвольно отнять одни черты, чтобы при этом не исказить
другие, — и как литературная, и как политическая фигура Максим Горький
интересен в своей эволюции.
Обращаясь к рассмотрению произведений Горького, нобелевский эксперт
сразу приступает к ревизии и заявляет, что значение раннего Горького
(прославленные «босяцкие рассказы») было отнюдь не литературным, и столь
превозносившая их критика просто действовала в соответствии со «старым
русским принципом, когда произведение оценивается в первую очередь как
документ, полезный или вредный для общества, а во вторую очередь за свою
литературную ценность». «Нет никаких сомнений в том, — убежденно
постулирует Карлгрен, — что социально-политическая тенденция первых горьковских
произведений обусловила их успех». Что же усматривает Карлгрен в
литературном дебюте Горького в год шестидесятилетия прославленного писателя?
«Дурную первомайскую риторику», «примитивные анархические идеалы», образы
индивидуалистов, чья сила протеста против общества состоит в «умении
плюнуть на все». Но столь мало привлекательная ныне проповедь Горького вызвала
бурю восторга «странным» совпадением с тем, что общество, охваченное
предреволюционным брожением и настроениями борьбы, желало услышать.
Публика «была, если можно так выразиться, настроена на марксистские волны»,
и теперь, когда пришедшие к власти марксисты-большевики «восхваляют его,
они в первую очередь восхваляют себя». Замечательно, что в глазах шведского
слависта само по себе поразительное умение Горького дать обществу такую
литературу и таких героев, которых оно жаждало, не заслуживает внимания; но не
тем ли Горький и оказался велик с самых первых своих шагов в русской
литературе, что чутко откликнулся на всеобщую жажду обновления литературы и
осуществил это обновление?
Горький «насильственно захвачен большевиками», полагает Карлгрен,
пытаясь показать, когда Горький действительно «говорит прямо от сердца самого
марксизма» (например, ругая интеллигенцию за обывательскую трусливость
или крестьянство за мелкобуржуазную привязанность к земле), а когда в его
произведениях выражен лишь «примитивный анархизм» и расплывчатая
романтика борьбы. В период работы над очерком о Горьком основным занятием
А. Карлгрена является не профессура, а журналистика. Он доискивается
причин происшедшего с Россией, пытается вскрыть те силы, которые разбудили
160
общество и вывели его на революционный путь, и потому рассуждения о
Горьком — как и у чествующих его на родине большевиков — отходят на второй
план, а главенствующим становится желание охарактеризовать русское
общественное сознание через становление марксизма и — отчасти — через
усвоение Ницше («небольшой набор из наиболее известных фраз о сильной
личности»). «Неуравновешенный, примитивный, наивный» Горький имел небывалый
успех, ибо «такой была и русская публика» конца XIX в. Если Чехов сетовал,
напоминает Карлгрен, что его поколение писателей может напоить русского
читателя лишь лимонадом, то с появлением в литературе Горького
русское общество получало утреннюю шипучку покрепче. Напиток
взбадривал тело, и люди не были столь неблагодарны, чтобы жаловаться, что он
щиплет язык.
И меньше всего обращали внимание на то, что этот художественный
продукт в наименьшей степени походил на благородный виноград.
В переложении с образного языка Карлгрена — босяцкие рассказы Горького
в литературном отношении были откровенно слабыми:
Конечно, юный шалун обладает порой обезоруживающей свежестью,
динамизмом и прямотой. Конечно, он может поведать довольно интересные вещи о
том мире, откуда он пришел, он обладает ловкостью народного языка и
умением сквернословить так, словно бич свистит в воздухе. Но в целом! Его
портреты босяков как изображения человека неудачны, <...> насквозь фальшивы,
без малейшего сходства с подлинниками — чего вначале не понимали за
границей, набросившись с любознательным интересом на эти весьма
оригинальные откровения и увидев в Горьком художника-реалиста, который ввел в
литературу открытого им занимательного русского человека и чья литературная
ходульность подтверждала слабость изобразительного мастерства — что было
совершенно очевидно с самого начала в России, но на что, считаясь с добрыми
намерениями писателя, не обращали внимания, так же как в продолжение
пятидесяти лет из-за прекрасной тенденции принимали всю ту русскую
крестьянскую литературу, чьи благородные и трогательные крестьяне имели
очень мало общего с настоящим русским мужиком.
Карлгрен знает, о чем говорит, — до революции он прожил в России
довольно долго, будучи корреспондентом в Петербурге, и несколько месяцев провел в
шведско-русской деревне, бок о бок с непридуманным мужиком.
К раннему творчеству юбиляра нобелевский эксперт безжалостен:
«стереотипы», «блестящая, но дешевая фраза», «декламация», «безжизненные
манекены», увешанные «гардеробом идей», «мелодраматизм и бульварная
сентиментальность», «дешевая мишура» (покоробившая Карлгрена в описаниях
природы42, которыми некогда восторгался его предшественник), «театральные
42 Что касается русской природы, «самой скучной и самой меланхоличной в Европе», то
Карлгрена крайне удивляет, как Горький умудряется отыскать в ней «только свежие,
вдохновляющие и пробуждающие красоту картины».
161
световые эффекты» — сгущение подобных более чем нелестных оценок в
нескольких строках завершается категорическим выводом: «Банальная или
фальшивая романтика с несколькими реалистическими ингредиентами
сомнительной ценности!» Переходя вслед за этим отзывом о раннем творчестве Горького
к его сочинениям «агитационного периода», А. Карлгрен безо всяких изысков
стиля прямолинейно и беспощадно заявляет, что «они прямо позорны и
дискредитируют писателя, имеющего хоть какие-то художественные амбиции».
«Просто жалкую картину представляет из себя Горький в эти годы», —
резюмирует рецензент, касаясь творчества писателя в межреволюционный
период. Сближение Горького с российской социал-демократией и наложение на
себя «железных дисциплинарных оков» и само по себе претит шведскому
слависту (партийность литературы для него нонсенс!), и к тому же
воспринимается им как вопиющее противоречие с прежней шумной защитой писателем
бескрайней индивидуалистической свободы. Развенчание босяков, экзотической
жизнью и типами которых Горький так долго любовался, кажется Карлгрену
«безжалостным развенчанием самого себя» — ибо новый критический взгляд
писателя на своих излюбленных героев продиктован не его собственным
глубоким духовным и интеллектуальным ростом, а требованиями партийной
дисциплины. Таким образом, миф о Горьком начал складываться задолго до того,
как его творчество подверглось жесточайшей ревизии в России конца XX в.
«Партийная палка-указка» — вот чему подчинил Горький свой литературный
талант; таково твердое убеждение Карлгрена, и он весьма образно набрасывает
зловещий образ «партии-контролера» и Горького — литературного поденщика
на службе у Ленина.
Экспертный отзыв Карлгрена мало-помалу превращается в не очень
сдержанное по тону публицистическое эссе, в котором эскапады по поводу
большевизма занимают куда больше места, чем собственно анализ горьковских
произведений. Правда, в случае с Горьким очевидно, что Карлгрен апеллирует
к читателям (пусть и к неболыноиу кругу шведских академиков), знакомым
с книгами русского писателя не понаслышке, и оттого его рецензия носит
отнюдь не ознакомительный, а явно пропагандистский характер
(«антибольшевистский» и, следовательно, «антигорьковский»). «В его трудах марксизм
победоносно марширует вперед, — постулирует Карлгрен и тут же находит
выразительные примеры для своего утверждения, — даже старые, неграмотные
работницы превращаются в революционных львиц, которые пропагандируют
марксизм как самые великие большевистские агитаторы ("Мать"), даже
сердечно ненавидимые Горьким и недавно осмеянные им крестьяне преображаются в
мыслящих борцов за свободу ("Лето") и т. п.» По сравнению с этими
«фальшивками, поставленными на службу политике партии», босяцкие рассказы
Горького кажутся лишь «невинным маскарадом», — продолжает Карлгрен свое
хлесткое ниспровержение Горького. Скука, рутина и «вымученный революционный
жаргон» — вот главные черты творчества писателя тех лет. И Карлгрен указы-
162
вает причины, столь пагубные для дарования писателя: таких рабочих, которых
он должен изображать в угоду партии, нет в природе, а те, которых он
изображает, исходя из «ленинской программы», не имеют ни одной правдоподобной
черты. Только образ Ниловны эксперт согласен считать, «при всей ее
недостоверности», более живым, полагая, что ее прообразом стала «бабушка Горького,
блестящая фигура из его поздней автобиографии».
Стиль экспертного отзыва А. Карлгрена поистине восхитителен.
Образность оценок, бесконечные гирлянды остроумных и язвительных сравнений,
колкие насмешки вплоть до издевки, точность и одновременно красочность
определений — весь этот блестящий захватывающий каскад критических
интерпретаций, усиленный страстностью тона, безусловно, обладает огромным
словесным обаянием и силой воздействия. В арсенале Карлгрена так много
стилевых приемов, доказывающих правоту его воззрений на рецензируемого
автора, что его мнение становится заразительным при всей вопиющей
субъективности. Поколения советских школьников, которые не узнали подлинного
Горького, измученные пропагандистской, давно отслужившей идеологическую
службу интерпретацией повести «Мать», «на ура» встретили бы сравнение
«этой бессмертной книги» (В.И. Ленин) с «пустой граммофонной трубой», из
которой «вещает собственный голос писателя, декламирующий с еще более
фальшивым пафосом, чем раньше». Но эта изготовленная на заказ
«большевистская кашка», столь разительно отличающаяся от «бродящего молодого
вина» раннего Горького, все равно не удовлетворила взыскательного заказчика.
Карлгрен замечает, что современная большевистская критика ставит Горькому
в вину и недостаточный показ коллективной борьбы масс, и внимание к таким
«второстепенным» предметам, как материнская любовь, заглушающая «гимн
победоносной власти революции», и даже чересчур художественное
воплощение партийной программы (A.B. Луначарский43).
Если та же большевистская критика в лице Луначарского
послереволюционное творчество Горького — прежде всего обращение к теме воспоминаний —
была склонна трактовать как конец его творческой карьеры, то Карлгрен,
напротив, видит в литературной продуктивности писателя в этот период результат
плодотворного, хотя и горького кризиса. И этот результат — в развенчании
прежнего «идола», того ангелоподобного пролетария, которого Горький «на-
43 По практиковавшейся в первые десятилетия века в Нобелевском институте традиции
эксперт не снабжает свой отзыв точными библиографическими отсылками. В 1924 и 1925 гг. в
Ленинграде вышли сборники «Критических этюдов» A.B. Луначарского, которые могли оказаться
доступными А. Карлгрену. Еще вероятнее, что критическая оценка советского наркома культуры
в адрес «пролетарского писателя» могла быть почерпнута Карлгреном из юбилейного (т. е.
посвященного 35-летию творческой деятельности писателя и 60-летию со дня рождения) номера
журнала «Революция и культура» (1928, № 5, статьи В. Фриша, Д. Горбова, И. Беспалова), где на
с. 11-18 было помещено эссе Луначарского «О художественном творчестве и о Горьком», в
котором, в частности, утверждалось, что великие писатели не способны к созданию собственных
партийных программ, а, присоединяясь к какому-либо партийному движению, становятся его
пропагандистами.
163
блюдал в свою подзорную трубу, направленную с Капри на Россию». Жестокий
разрушительный анархизм революционных событий развеял горьковские
иллюзии насчет братской любви, дисциплинированности и жажды культуры
придуманного им рабочего класса. Ссылаясь на Луначарского, Карлгрен
рассказывает о разрыве, который произошел между большевиками и Горьким, когда
последний пытался спасти представителей культуры и саму культуру от
кошмара революции и ее последствий. Но одновременно Карлгрен демонстрирует, как
в небольшой и «несимпатичной» книжице «О русском крестьянстве» (Берлин,
1922) Горький возлагает вину за все эксцессы революционных погромов на
грубую, темную крестьянскую массу, пытаясь при этом «реабилитировать
немногочисленный большевистский авангард». «Если большевизм какое-то
время казался ему революционным безумием, проявлений которого он не отделял
от диких жестоких инстинктов вырвавшихся на свободу крестьянских масс, —
развивает Карлгрен мысль, уже высказанную им в отзыве 1923 г., — то теперь
к нему приходит понимание, что нечто, неприятно поблескивавшее в руках
большевиков, было не беспечно заносимым топором хулигана, но
операционным ножом, в котором нуждалось тело русского общества».
Тот факт, что писатель «худо-бедно» способен «принять то насилие над
людьми, когда их ставят к стенке и стреляют им в лоб», никак не может
примирить Карлгрена с Максимом Горьким, с его позицией по отношению к
революции. Но для Горького — некогда самозабвенного певца индивидуализма — есть
в большевистской программе абсолютно неприемлемые идеи, они-то и вселяют
в писателя «все больший ужас»: превращение «мыслящих и чувствующих
людей в партийные автоматы», нивелировка личностей в серой массе коллектива.
«И в противостоянии всему этому» Горький предупреждал о возможной
трагической перспективе большевизма и взывал «во всю силу своих легких», и
только разуверившись в прямых призывах, он обратился к собственно
литературным доводам.
Теперь для Горького настала пора создавать не ходульные образы — все
равно, босяков или пролетариев, — а изобразить человека, русского человека во
всем богатстве и великолепии его талантов и возможностей. Карлгрен замечает:
Он все еще тенденциозный писатель, но та тенденция, которая теперь
руководит его пером, в отличие от прежних, художественно плодотворна. Теперь это
не поставленные на пьедестал, как это уже было однажды, люди и не те,
которых нет в реальной жизни, — это просто человек, и такой, какой есть, этот
человек в своем неизменном виде пробуждает его восхищение, и, демонстрируя
человека во всем его богатстве, безо всякого грима и драпировки, он <Горь-
кий> хочет, чтобы им восхищались и другие.
«Время фальшивых театральных эффектов кончилось», — провозглашает
Карлгрен, увидев в автобиографической трилогии отражение «подлинной
России». В самом стиле рецензии на смену остроумным колкостям приходят самые
164
высокие оценки. Особенно превозносится созданная Горьким галерея
человеческих типов,
столь богатая, столь изменчивая, столь своеобразная, что немногие писатели
могут сравниться с ним в создании подобных людей из плоти и крови, с
исключительными характерами, изображенных с выдающимся искусством; к
каждому из них писатель приближается, исполненный любви, рассматривает
каждого как единственный в своем роде неисчерпаемый феномен, о каждом
рассказывает отдельно и каждого показывает и воскрешает (силой своей
памяти и художественного мастерства. — Т. М.) обособленно, так что каждый из
них сверкает в памяти читателя.
Некоторое «искажение» действительности, впрочем, можно усмотреть и в
творчестве Горького нового периода: он старается не показывать «серого,
бездарного обывателя», прячущего свою индивидуальность «дома, у печки»,
отдавая полное предпочтение тем личностям, энергия из которых «бьет ключом».
Преступные, развратные, дикие люди — но Горький в любом случае
восхищается ими: какая сила в их инстинктах, какой восторг в их примитивном
преклонении перед красотой, какие — несмотря ни на что — великолепные люди!
Эти «былинные» типы, нарисованные Горьким с небывалой экспрессией и
подлинным мастерством, заставляют, однако, представителя соседнего с
Россией государства слегка содрогнуться от их варварского размаха и для
самоуспокоения заподозрить горьковские изображения русских людей в известном
неправдоподобии. Слишком исключительные личности привлекают писателя,
вечные скандалисты даже при небывалой талантливости (таков, замечает Карл-
грен, в интерпретации Горького даже Лев Толстой), — и рецензент полагает, что
сверхзадача писателя состоит в том, чтобы доказать: большевикам никогда не
превратить таких людей в «скучные машины» (правда, Карлгрена новые
произведения Горького смущают «вариацией на тему явного славянофильства»).
Карлгрен размышляет, какие чувства охватывают читателя, которого
писатель — «великий человек, уже принадлежащий истории», — берет за руку и
проводит дорогами своей жизни, от богатого впечатлениями детства до
общения с великими современниками; и эта апелляция к чувствам читателя не
случайна: хотя эксперт и замечает, что не все позднейшие работы Горького
переведены на европейские языки, но большая часть из них должна в ближайшие
месяцы появиться на шведском языке. Если «Детство» и «В людях» привлекают
своей художественной силой, то «Мои университеты», считает Карлгрен,
интересны как панорама русского общества конца XIX в., и это уже не только
«литературный шедевр, но и бесценный документ интереснейшего периода русского
общественного развития».
Сходным образом трактовал послереволюционные образы России,
созданные Горьким, и Ф. Степун. «Глубоко загадочные сами по себе» герои Горького
165
поражают Степуна, который так же, как и шведский критик, не в состоянии
понять, в чем состоит тайна русского народа, эта пресловутая загадка русской
души. Удивительно же и для представителя русского зарубежья, и для
шведского слависта то, что благодаря Горькому «все вместе» созданные им характеры
каким-то таинственным образом разгадывают загадку России и приближают к
нам то, что в ней сейчас происходит. И вот, как это ни странно, читая жуткие
воспоминания Горького, невольно успокаиваешься за Россию. Почему? —
Думается, потому, что своими глазами видишь, до чего все то, что сейчас в ней
свершается, глубоко связано с ее народной душой, до чего органически
изживает она свои страшные судьбы [Степун 1923: 482].
Знаменательно, что оба критика Горького с «других берегов» не кривят
душой, признавая высокую художественную ценность и реалистическую правду
его автобиографической эпопеи.
Романное творчество Горького, напротив, не удостаивается столь высоких
оценок нобелевского эксперта. Он признает, например, «свои достоинства» у
«Дела Артамоновых»44, но не готов согласиться, что грандиозный замысел
показать судьбу нескольких поколений промышленников с успехом доведен до
конца: Карлгрен разочарован отсутствием ярких портретов представителей
рабочего движения, вступающих в схватку с капитализмом, отсутствием
атмосферы, насыщенной грядущей революционной катастрофой. Сама же история
вырождения семьи предпринимателей — «русского среднего класса» — не
способна «взять за душу», и лишь образ Петра Артамонова, одно из самых удачных
горьковских созданий, «мощный русский человек, нарисованный сочными
красками», примиряет с романом, общее впечатление от которого —
разочарование. В скобках же Карлгрен замечает, что о реакции большевистской критики
на роман, который лишь внешне соответствует идее «вырождения
капитализма», но никак не демонстрирует отвращения писателя к представителям класса
русских промышленников, шведским академикам «не имеет смысла
рассказывать».
«Другой роман, "Жизнь Клима Самгина", — прямая неудача», — пишет
Карлгрен далее. Сам замысел эпопеи о судьбе интеллигенции на протяжении
почти полувека и попытка ее беспристрастного анализа представляются
рецензенту весьма благородными, но «его исполнение терпит фиаско».
«Скучнейшие» «бледные тени», которые тонут «в бесконечных потоках слов» —
«убийственны», а роман в целом вместо реабилитации интеллигенции оборачивается
«ужасным пасквилем на нее». Словами о «провале» последнего литературного
44 Сам Горький придавал этому произведению большое значение, был им доволен и с
разговора о нем начал письмо Р. Роллану от 17.05.1925: «Мой дорогой друг, я написал большую
повесть, — человек, мнению которого я очень доверяю, находит, что она удалась. Мне и самому
кажется, что она удалась мне больше, чем все попытки, предпринятые до сей поры, научиться
писать. Разрешите посвятить эту повесть Вам, — человеку, которого я люблю и уважаю»
[Горький и Роллан. Переписка 1995: 125].
166
труда писателя рецензент эффектно завершает «свой подробный очерк
позднего творчества Горького» (хотя и признается, что некоторых его сочинений он
не сумел достать). И ставит финальную точку:
Я полагаю, однако, что из того, что было в нашем распоряжении (все это
имеется в переводах на западноевропейские языки), можно извлечь верную картину
его необычайного возрождения — такого возрождения, которое за несколько
лет обеспечило ему первостепенное место в русской литературе.
В 1928 г. членам Нобелевского комитета пришлось нелегко: 36 писателей
было выдвинуто на премию, и о многих из них в «Заключении» написано
довольно обстоятельно. Рассмотрению творчества Максима Горького уделено
целых три страницы, а не один-два абзаца, как прежде. Почему же на сей раз
Горький удостаивается столь пространного обсуждения? Потому что в 1928 г. он как
никогда близок к получению премии, и потребовалось серьезное и развернутое
обоснование «решительного отвода» его кандидатуры — кандидатуры
писателя, в котором не ослепленные ненавистью соотечественники за рубежом
видели наиболее достойного представителя от русской литературы. Так, именно в
дни бурных дебатов в Шведской академии М.А. Осоргин уверял Бунина в
письме от 20 октября 1928 г., что премию получит Горький:
...с ним в европейской известности ни Вам, ни Мережковскому не тягаться.
Я буду такому признанию аплодировать, потому что оно естественно и
законно (РАЛ, MS. 1066/4328).
Осоргин не учел лишь не относящегося к области чистой литературы
фактора, в конце концов и обусловившего выбор Шведской академии. Нетрудно
предположить, какие причины были найдены для признания кандидатуры
Горького неподходящей. И эти причины действительно сразу, со ссылками на
обзоры экспертов раскрываются, ибо какое бы «уважение и сочувствие» ни
вызывали старые и новые произведения писателя, в первую очередь «Детство»,
«он представляет собой неизменно мрачную политическую фигуру», и,
следовательно, его произведения находятся «за пределами обычной сферы
Нобелевской премии» [Nobelpriset i litteratur, II: 119].
Когда речь заходит о русской литературе, Нобелевская премия почему-то
всегда принимает скандальный идеологический оттенок; ни один автор из
России не получил литературного «Нобеля» без учета его политических амбиций и
пристрастий45. Правда, решение пяти членов Нобелевского комитета далеко не
45 Напомним: И.А. Бунин стал первым русским нобелевским лауреатом по литературе,
будучи эмигрантом и ярым врагом «Совдепии»; Б.Л. Пастернак нелегально передал для издания за
рубежом свой роман, после чего воспринимался как внутренний эмигрант; М.А. Шолохов,
напротив, как и Горький, вызывал озлобление своей принадлежностью к правящей
коммунистической партии; А.И. Солженицын к моменту получения премии превратился в непримиримого
борца с советским строем; И.А. Бродский, эмигрант из СССР, получил премию как гражданин
США.
167
всегда бывает единогласным; так, даже в победном для Бунина 1933 г. «голоса
членов комитета разделились» [Nobelpriset i litteratur, II: 198]. Не было единства
и в их мнениях о творчестве Горького в 1928 г. Единодушно было выражено
только отношение к автобиографической книге «Детство», которая в
«Заключении» Нобелевского комитета упорно именуется «мемуарами» или
«воспоминаниями», к книге, захватывающей не «фотографическими» подробностями,
а глубоко поэтическим повествованием, не описанием русской жизни
определенного периода, а «разрезом души России» [Ibid.: 119]46. «Горький был и
остается поэтом», — признают шведские академики, недоверчиво относясь к этому
«необычайно захватывающему» произведению и выражая сомнение в том, что
«русская действительность была столь исключительно интересна и
своеобразна, столь богата самородными мыслителями, и искателями правды, и живыми
душами, как изображает Горький» [Ibid.]. Но достоинства произведения
объективно отражены в «Заключении»:
Описания зачастую мастерские, целые эпизоды и вся многочисленная
портретная галерея выступает живо и ясно; но достойнее всех похвал тон
рассказчика. Совершенно объективный и непосредственный, он человечен, и это не
может не трогать.
По мнению нобелевского жюри, страницы автобиографической трилогии,
написанные Горьким после революции, «как бы ни относиться к его <пози-
ции>», продиктованы небывалыми переживаниями, в которых «вызревает
могучая и оригинальная личность» писателя [Ibid.].
«На основании этой высокой оценки двое членов комитета, господа Карл-
фельдт и Эстерлинг, настоятельно предлагают присудить Нобелевскую премию
этого года Горькому за воспоминания» [Ibid.]. Но последующая запись
обличает, какую панику вызвало это предложение в шведской академической среде,
и прежде всего у Пера Хальстрёма, подписавшего рассматриваемое
«Заключение». Совершенно резонное пожелание двух членов комитета было немедленно
поставлено под сомнение, и им буквально предписывалось прислушаться к
иному мнению,
согласно которому настоящая премия, вопреки всем мерам
предосторожности, сразу будет истолкована во всем мире как относящаяся ко всему
творчеству Горького в целом и станет ему воистину опасной рекламой, опасной еще и
для сохранения высокой литературной репутации той корпорации, которая
присуждает премию. Мемуарные сочинения не могут быть в полной мере
оценены широкой публикой. Слава писателя распространится на его более
популярные сочинения, которые того совсем не стоят [Ibid.: 119-120].
46 В 1916 г., т. е. до революции, разделившей русских писателей на два непримиримо
враждебных лагеря, З.Н. Гиппиус в одной из статей назвала «Детство» «самой удивительной книгой»
из прочитанных ею за последнее время, а ее автора охарактеризовала как «большого писателя и
большого человека» (Крайний А. Предмет десятой необходимости // Утро России. 1916. 17 сент.;
цит. по: [Примочкина 2003: 30]).
168
Далее оценка кандидатуры Горького приобретает оттенок нескрываемой
недоброжелательности, несправедливой и жестокой:
Бурный восторг, которым приветствовали рассказы совсем молодого Горького,
теперь уже трудно объясним. Среди них есть два маленьких шедевра, оба
основаны на <реальных> событиях, один о девушке и пекарях <«Двадцать шесть
и одна»>, другой о грузинском князе-бродяге <Шакро Птадзе; «Мой спутник»>,
и кроме того один или два <рассказа>, замечательных по художественной
смелости. Но остальные — это крайне незрелая, высокопарная, ложная
романтика, которая, вероятно, лишь благодаря новым примесям, грубости и нищете,
смогла пленить и соблазнить читающую публику, утомленную подлинным
изображением действительности. Последовавшие вслед за тем романы не
обладали ничем другим, кроме грубости и жестокости; их новизна состояла
прежде всего в широком и утомительном описании тех жизненных обстоятельств,
до изображения которых в подробностях не опускались великие
предшественники <Горького>. Некоторые попытки создания новых характеров и типов
встречаются и там, однако в самом замысле они успешно сползают от
романтического преувеличения к натуралистической бестрепетности и потому не
приближаются к той правдивости и силе, которой была столь сильна русская
романистика [Nobelpriset i litteratur, II: 120] (цитируемый далее текст
расположен на той же странице).
Вслед за экспертом, но гораздо более прямо и однозначно в «Заключении»
Нобелевского комитета, не только подписанном, но и, очевидно, написанном
П. Хальстрёмом, решительно стоявшим за отвод кандидатуры Горького,
оцениваются драматические сочинения писателя и его романистика. Упомянуты
лишь два произведения — пьеса «На дне», которая «под названием "Ночлежка"
прославилась в свое время во всем мире», и переведенный на немецкий язык
роман «Дело Артамоновых». Впрочем, вслед за признанием, что «На дне»
трогает «живописностью нищеты» и «некоей поэтичностью», овевающей
«прекрасную человечность пропащей жизни», и свидетельствует о «самобытном
художественном даровании» Горького, отмечено отсутствие сценического действия
в «этих созданных фантазией набросках», статичность образов. «Дело
Артамоновых» было признано образцом «ужасающего безвкусия и неуклюжести
воображения», отличающих и «худшие из старых», дореволюционных романов
писателя. Единственная похвала — «живому» образу старика Артамонова —
становится предлогом оценить повествование романа в целом как «мешанину»,
состоящую «в основном из грязных подробностей, а в остальном сухую и
скучную». В довершение запротоколированного мнения со ссылкой на эксперта
подчеркивается, что, «несмотря на значение мемуаров, время оказалось
неблагосклонным к той славе, которую Горький возбуждал в мире».
Нельзя не признать, что довод для отвода неудобной кандидатуры был
найден весьма шаткий — неспособность массового читателя по достоинству
оценить мемуары. Очевидно, респектабельные академики (столь чувствительные к
«грубости» и «жестокости» жизни, изображенной Горьким не только с натура-
169
листической достоверностью, но и со светлым романтическим порывом к
идеалу), доказывая своим коллегам Эрику Акселю Карлфельдту и Андерсу Эстер-
лингу, чем чревато их предложение, заботились только о сохранении
собственного реноме. Главный упор был сделан на том, что, за исключением мемуарно
окрашенных произведений, творчество Горького лишено высокой
художественной ценности и не заслуживает присуждения премии47. Возможно, это
умозаключение и верно для жанра воспоминаний в строгом смысле слова. Но
горьковское «Детство», как и вся автобиографическая трилогия, никогда не
относилось к собственно мемуарному жанру48. Умение жонглировать
терминами и понятиями обличает в членах Нобелевского комитета подлинных
профессионалов, которые всего пять лет спустя присудят премию другому русскому
писателю, особо оговорив, какими выдающимися художественными
достоинствами обладает «Жизнь Арсеньева» — что ни говори, произведение, в
неменьшей степени наделенное чертами автобиографического и мемуарного
повествования, чем рассматриваемые горьковские сочинения.
Наделив блистательный шедевр писателя узким и, по сути, неверным
жанровым определением, академики без труда «отделываются» от других его
произведений, и «старых» (дореволюционных), и «новых», созданных за
послереволюционное десятилетие. Негативные определения из рецензий и А. Йенсена,
и А. Карлгрена идут в ход как нельзя кстати — «ложный романтизм»,
«грубость», «натуралистическая дерзость» и иные качества романистики
невысокого пошиба, которая не поднимается до уровня знаменитых русских романов
прошлого. Итак, драматургия Горького не драматична, романы — в общем и
целом «неудачные и низкопробные» [Nobelpriset i litteratur, II: 120]. Оппоненты
Карлфельдта и Эстерлинга приходят к выводу, что, за исключением
высокохудожественного мемуарного «Детства», время не пощадило творчества Горького
и «откорректировало всеобщее поклонение» ему. Пер Хальстрём считает
необходимым сослаться на «неудачное время» для того, «чтобы обратить к Горькому
(советскому писателю. — Г. М.) восхищенные взоры всего мира» [Ibid.: 119].
Сторонники A.M. Горького в Нобелевском комитете, А. Эстерлинг и
Э.А. Карлфельдт, не были убеждены ни малодоброжелательными отзывами
экспертов, ни заклинаниями дипломатичного Хальстрёма, подведшего итог
бурной дискуссии 27 сентября 1928 г.:
Разделившиеся голоса членов комитета в спорах о премии, таким образом,
распределяются так, что три голоса подано в поддержку Сигрид Унсет и два в
поддержку Максима Горького, а затем одним голосом из этих двух было
отказано в поддержке обоим, а другой был подан за Томаса Манна вместо Горького.
47 Подобные соображения отнюдь не помешали присудить премию Р. Роллану за «Жан-
Кристофа», а Т. Манну за «Будденброков».
48 Даже авторское определение жанра не может играть первостепенной роли (так, Горький
назвал в письме к Р. Роллану, в частности, «Мои университеты» «автобиографическими
очерками» [Correspondance Rolland — Gorki 1991: 80]).
170
Если и после голосования в Академии (т.е. после присоединения к дебатам
пяти членов Нобелевского комитета остальных тринадцати академиков. —
Т. М.) произойдет разделение голосов между двумя претендентами на премию,
то, разумеется, ее распределение произойдет путем жребия [Nobelpriset i lit-
teratur, II: 123].
Страсти накалились, что и побудило Генрика Шюка изложить собственное
суждение о писателе и его творчестве в отдельном документе. И хотя этот
документ формально был финансовым отчетом, в нем, однако, обосновывался
отвод кандидатуры Горького именно по политическим соображениям.
Выдающийся критик и историк литературы, Г. Шюк, безусловно, понимал всю слабость
аргументов противников Горького в комитете и попытался придать им
большую солидность и доказательность, взвешенно оценив художественную
значимость обеих кандидатур — Горького и Унсет. При всех достоинствах
норвежской романистки, возродившей в XX в. дух скандинавского Средневековья,
Г. Шюк отдает предпочтение русскому писателю: «К кандидатуре Горького я
отношусь положительно, — заявляет он, — ибо в нем я нахожу то, чего нет у Си-
грид Унсет, — настоящего поэта» [Ibid.: 125]. Более того, выясняется, что
именно Шюк и был инициатором обсуждения кандидатуры Горького как наиболее
реального претендента 1928 г.! Шюк видит в Горьком не просто большого
писателя — он подчеркивает мощный идеализм, «который требуется от лауреата
Нобелевской премии» [Ibid.: 126].
Генрик Шюк недаром считался крупнейшим литературным авторитетом в
Швеции: он понимает все сомнения П. Хальстрёма, но понимает также и то, что
они выражены чересчур сбивчиво и неубедительно и что их следует солидно,
«академически» аргументировать. «Я <...> не обращаю внимания на то, что
Горький был или даже остается большевиком, ибо Академия должна иметь
достаточно сил, чтобы противостоять национальному нажиму со стороны
великих держав Европы, она также должна иметь силы противостоять
политическим мнениям. Но я обращаю внимание на все творчество Горького в
целом», — продолжает Шюк, отдав дань свободолюбивой риторике:
Даже если Академия самым тщательным образом подчеркнет, что премия
присуждена за определенное произведение, общественность всегда будет считать,
что премия присуждена самому автору — и, следовательно, всем его трудам.
А поскольку большинство произведений Горького, так же как и его последние
сочинения, таковы, что достоинство Академии, естественно, пострадает от
анонсов издателей, где автор сочинений будет назван лауреатом Нобелевской
премии, присужденной Шведской академией, я считаю, что Академия должна
задуматься по крайней мере дважды, прежде чем подвергнуть себя и
Нобелевский фонд этому громадному риску [Ibid.].
Поскольку первое «обдумывание» кандидатуры Горького закончилось
острой дискуссией, Г. Шюк предпринимает своеобразный тактический ход, чтобы
заставить академиков «подумать» еще раз и сделать надлежащие выводы. Осо-
171
бо оговорив, что не владеет языком, на котором пишет Горький, недостаточно
хорошо знает русскую культуру и общественные условия, на фоне которых
развивалось творчество писателя, Шюк предлагает вниманию своих
несговорчивых коллег любопытный «реферат» — сжатое изложение экспертного отзыва
профессора А. Карлгрена, не только выдающегося знатока русской литературы,
но и человека, «имеющего безупречный вкус».
Основываясь исключительно на суждениях Карлгрена, Шюк выделяет три
периода в творчестве Максима Горького: литературный дебют,
ознаменованный появлением «босяцких рассказов» и «дурной первомайской риторикой»;
«агитаторский» период, связанный с большевистской идеологией и полной
потерей художественности; наконец, послереволюционный творческий период,
когда Горький порывает «с партийной дисциплиной большевизма, угрожающей
нивелировать все и покончить с человеческой индивидуальностью», и создает
многокрасочный мир, населенный неповторимо колоритными характерами.
Однако, обильно цитируя эксперта, Шюк указывает, что единственной
литературной удачей Горького оказалось лишь автобиографическое «Детство», тогда
как «Дело Артамоновых» профессор славистики отложил «не без огорчения»,
а роман «Жизнь Клима Самгина» прямо аттестовал как неудачный. Ведущий
шведский критик очевидно с удовольствием замечает, что мнение эксперта
совпадает с его собственным; а поскольку эксперт не пишет прямо, можно ли за
одно произведение присудить Нобелевскую премию, заключает Г. Шюк, и
поскольку все остальные произведения, согласно Карлгрену, «очень плохи», то
«совсем неубедительно присуждать премию за несколько произведений
писателю, о котором специалист, член Нобелевского института, написал столь
убийственную характеристику» [Nobelpriset i litteratur, II: 127].
И тем не менее авторитетный шведский профессор литературы, критик и
член Нобелевского комитета поступает с текстом экспертного отзыва не просто
некорректно: он намеренно опускает ту часть карлгреновского обзора, в
которой шведский славист прямо называет Горького крупнейшим писателем
современности и указывает на его мощную творческую эволюцию в последнее
десятилетие. Очевидно, что творческий портрет Горького, созданный Карлгреном в
тесной связи с политическим обликом писателя, был академиками
проигнорирован, а Шюком в его мудром приложении купирован: от одного из самых
ярких современных художников слова нобелевские прокуроры оставили лишь
сомнительную партийную характеристику. Обсуждение кандидатуры Горького
в Нобелевском комитете было превращено, судя по заключительным
протоколам (сами заседания, на которых называется имя лауреата, не
стенографируются), в своего рода партсобрание, только ярлыки были навешены с точностью
до наоборот, если сравнивать с пресловутыми чистками и прочими
идеологическими вывихами большевистского правления. Очевидно, что сторонники
М. Горького в Нобелевском комитете оказались в меньшинстве; спорить о
кандидатуре не менее сложной — выдающегося немецкого писателя Томаса Манна,
172
чье творчество тоже было не всем членам комитета по вкусу, — не было уже ни
времени, ни сил, и лауреатом 1928 г. стала С. Унсет — благо ее исторические
романы шведские академики могли прочесть в подлиннике49.
Между тем в шведском обществе интерес к личности и творчеству Горького
остается устойчивым, что подтверждают пространные публикации, время от
времени появляющиеся в печати. Так, 29.09.1930 в газете «Стокхольмс тиднин-
ген» была опубликована большая корреспонденция из Италии под
интригующим названием «Максим Горький вблизи: в гостях у беглеца в Сорренто» (Vico
Varo. Maxim Gorki intime: Ett besök i flyktingens Sorrentohem, s. 8). Интервью
предварено необычайно подробным описанием любимого русским писателем
городка под Неаполем со всеми традиционными красочными подробностями
итальянских нравов, зарисовкой виллы Горького (украшенной «живописным
барочным орнаментом») и эскизным, но еще более колоритным наброском
внешности самого Горького, в одних желтых шелковых шортах беседующего с
некоей юной дамой среди кустов цветущих алых роз50. Эта праздничная
картинка предупреждает серьезный разговор, ведь черно-белые фотографии вида
на Сорренто из окна виллы Горького и его самого за рабочим столом — между
прочим, с автографом писателя — не могут надлежащим образом
проиллюстрировать материал. Детально, как в старинных романах, шведский
журналист описывает внутреннее убранство дома, особенности внешности писателя
(«Его лицо очень бледно. Однако его серые, глубоко посаженные глаза во
всяком случае излучают жизненную силу и энергию»), и каждый штрих этих
описаний свидетельствует не просто о доброжелательном, но о весьма
почтительном отношении к знаменитому русскому писателю. Интервью долго не
начиналось и по другой причине: швед не знал, на каком языке задавать вопросы,
ибо Горький говорит только по-русски, хотя и понимает, отмечает
корреспондент «Стокхольмс тиднинген», если говорить медленно и отчетливо,
итальянский, немецкий и французский; в результате переводчиком выступил сын
писателя, Максим Пешков.
Прежде всего Горький заводит разговор об основанной им «газете для
молодых писателей» и о необходимости образовательной подготовки для советских
литераторов, чьи произведения отличаются «оригинальностью и свежестью»,
но не всегда высоким мастерством. Горький уверен, что молодежи нужно как
можно больше читать, и излагает своему шведскому гостю проект массовых не-
49 Точнее, решением от 13 ноября 1928 г. Шведская академия присудила Нобелевскую
премию 1927 года (зарезервированную из-за отсутствия единодушия по обсуждаемым
кандидатурам в предыдущем году) французскому философу Анри Бергсону (1859-1941) «как признание
его плодотворных идей и за блистательное искусство их воплощения», а лауреатом 1928 г. стала
Сигрид Унсет (1882-1949) «прежде всего за мощь в описании жизни скандинавского
Средневековья» [Nobelpriset i litteratur, II: 130]. Трудно было найти более умиротворяющее решение — так
далека была жизнь европейского севера в седой древности, с подлинным мастерством
воссозданная писательницей, от острейших идейно-политических проблем современности.
50 Встреча с Горьким состоялась в конце сентября.
173
дорогих изданий всего лучшего, что есть в литературе других стран. Не забыты
и скандинавские литературы: Горький называет имена знаменитых шведских и
норвежских писателей — Стриндберг, Лагерлёф, Хейденстам, Фрёдинг, Ибсен,
Гамсун. Упомянув последнего, Горький обводит рукой одну из книжных полок
позади письменного стола, на которой размещаются сочинения норвежского
прозаика в переводах на русский язык: «Гамсун — величайший писатель из тех,
кого я когда-либо читал, — продолжает он. — Вот человечище! Я не могу вам
сказать, как сильно я восхищаюсь его книгами». Продемонстрировав
журналисту московское издание «Пана» в «черно-зеленой обложке», Горький извлекает
еще один томик — первую часть романа Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавран-
са», также изданную в серии «Всемирной литературы»:
Это превосходная книга. Невозможно поверить, что она написана женщиной.
Она вся пронизана мужским умом. Но правда ли, — тут он горячо хватает
меня за руки и вновь опускает в кресло, — правда ли, что она католичка? Что
она обратилась?? — Да, это так. — Странно, очень странно. Женщина с ее
дарованием! Как она могла? Религия — это то, от чего мы отказываемся. Невероятно.
Так, сам того не ведая, Горький высказался о своей счастливой сопернице в
нобелевской лотерее. Рискнем предположить, что если бы Горький знал, что за
два года перед тем шведским академикам пришлось делать выбор между ним и
автором столь высоко ценимой им книги, его мнение ни на йоту не изменилось
бы. Замечательны в целом рассуждения русского писателя о мировой
литературе как о принадлежащем ему богатстве, которое он щедрым жестом
великодушного дарителя хочет раздать своему народу (шведский журналист описывает, с
какой любовью Горький демонстрирует ему подарочное издание «Тысячи и
одной ночи», гордясь и переводом непосредственно с арабского, и великолепной
бумагой, превосходным качеством печати, прекрасными иллюстрациями), и об
издательском деле в советской России как о важной части собственной жизни.
Но шведа не увлекает эта горячая пропаганда нынешних успехов и будущих
свершений советской власти. Пока Горький «оживленно жестикулирует»,
посетитель внимательно оглядывает его обитель. Полки с книгами, на фоне
которых Горький позирует для шведской газеты в задумчивой позе, не отвлекают
внимания посетителя: он отмечает и ковер восточной работы на полу, и
«позолоченные стулья в стиле позднего барокко», и стеклянный шкаф-витрину возле
дверей, набитый ценными безделушками — фигурками из золота, серебра и
слоновой кости, хрустальными вазами, друзами благородных камней,
поделками из коралла, камеями... Конечно, все это относится к «внутреннему
убранству нанимаемого им дома», но журналисту важно отметить этот контраст
между почти избыточной красотой, даже роскошью, окружающей Горького
снаружи и внутри его соррентинского убежища (ведь он беглец — «flykting»),
и его идеалами из сферы чистого духа, которые он пылко проповедует, сверкая
глазами и жестикулируя «невероятно большими мускулистыми руками». Чем
вдохновеннее ведет свою партию Горький («Он все еще толкует о книгах. Легко
174
заметить, что это его излюбленная тема»), тем более иронично склонен
оценивать его монолог шведский интервьюер («Однако он говорит, как школьный
учитель, о необходимости учиться новому, об обаянии чтения, о наслаждении
размышления51. — Но нужно читать, читать. Постоянно что-то новое,
постоянно отыскивать что-то новое по сравнению с уже известным»). Но если в роли
учителя Горький несколько скучноват, зато как ученик не может не поражать
собственным беспримерным по объему и охвату мировой литературы чтением:
журналист изумлен, что в потоке современной литературы Горький выискивает
все новые имена и со знанием дела говорит и о южноамериканских писателях,
и о норвежских, и о новогреческой поэзии, и о современных течениях в
румынской литературе... «Я должен быть в курсе, — будто оправдываясь, отвечает на
комплимент Горький. — Я хочу, чтобы мой народ был в курсе всего и никогда
ни от чего не ограждал себя, и я хочу стать для него литературным вождем. —
Чем-то вроде высшего министра духовности? — Он хохочет и пожимает
плечами, но ясно, что он доволен и польщен».
Воспользовавшись тем, что Горький пришел в умиротворенное состояние,
шведский журналист заводит с ним разговор о политике — чтобы немедленно
убедиться, что Горький «как политик совершенно безграмотен и сам хорошо
это чувствует». Действительно, он только твердит о том, что в России предстоит
много работы, и «поразительно, что он никогда не говорит "советский" или
"большевики", а также никогда не произносит слов "старое время" или
"нынешний режим"». «Весной я поеду в Россию, — добавляет он столь поспешно,
словно желает скорее завершить разговор о политике. — В мае, если смогу». И это
последнее признание Горького шведский корреспондент трактует двояко: с
одной стороны, болезненный вид слишком бледного в жаркой Италии Горького
не оставляет сомнения в том, какие физические муки он вынужден скрывать;
с другой стороны, иностранный журналист замечает, что в Италии писателя
удерживает не только климат. Вот Горький начинает показывать ему палехские
коробочки, заставляя любоваться глубоким золотым фоном, яркими красками
и перламутром картинок, взволнованно восклицая: «Это русское, настоящее
русское!». И журналист комментирует:
Россия, Россия — это слово не сходит у него с языка все время нашей долгой
беседы. В изгнании Горький очевидно страдает от тоски по родине. Это
слышно по звуку его голоса, по тому пылу, с которым он повествует о том, как
жаждет отправиться развивать свой народ.
За обедом, на огромной террасе с видом на оливковую рощу и залитый
солнцем залив, шведский журналист услышал и передал те искренние слова,
которые Горький произнес незадолго до возвращения в Советский Союз:
51 В шведском оригинале рифма подчеркивает монотонность, даже избитость школьных
«прописей», излагаемых Горьким, ср.: «...han talar от studiers nytta, от böckers tjusningy от medi-
tationens njutning» (курсив наш. — T. M.).
175
Вы должны увидеть Россию! Наши бескрайние равнины! Волгу в зимнем
тумане! Москву! Хотя, — добавляет он, — Сорренто и хорошо, ибо здесь я могу
работать. В России мне не будет покоя. Поэтому туда я смогу поехать только
ненадолго52. Слишком многим я там нужен53. Тут я могу быть спокоен. Никому
нет до меня дела. Говорят, сюда прислали четырех карабинеров, чтобы
сторожить меня. Я никогда их не видел. Никто меня никогда не тревожил. Все с нами
приветливы. Мне хорошо тут работается. Но я думаю о России.
С «изысканной кружевной салфеткой» в руках, освещенного, как
юпитерами, полуденным средиземноморским солнцем, шведский журналист
оставляет русского писателя накануне его, без преувеличения, судьбоносного
выбора. Всего через несколько лет Бунин будет давать бесконечные интервью под
тем же ослепительным средиземноморским солнцем: в Россию он не вернется
никогда. Это был страшный, трагический выбор, и каждый должен был
решиться сделать последний шаг, навсегда отрезая себя — один от родины, другой
от свободы.
Вернувшись в Советский Союз (окончательно — в 1933 г.) и попытавшись
активно включиться в литературную жизнь и культурное строительство.
Горький только номинально остается «главой» русской, вернее, уже советской
литературы. H.H. Примочкина в книге «Писатель и власть» убедительно показала на
основе документальных источников, что даже такую мощную, независимую
личность постепенно сумели превратить в «колесико и винтик одного-единого
партийного механизма» (Ленин), так что и сам он успел разочароваться «в тех
реальных результатах, к которым привела его деятельность» [Примочкина 1998:
144]. В том, что произошло и с литературой, и со страной, — не вина одной-
единственной личности, A.M. Горького; но и его отрицание ценности личности
сыграло свою роль в утверждении той системы, в которой «чудовищному
политическому и идеологическому давлению подвергались писатели самых
разных направлений и ориентации», «сильно деформировалась сама литература»,
были физически уничтожены многие деятели литературы, а другие погибали
52 В 1928 г. Горький приезжал в Москву с «визитом наблюдателя», летом 1929, 1931 и 1932 гг.
он деятельно участвовал в организации целого ряда культурных проектов (среди которых —
журнал «Литературная учеба», о котором, скорее всего, и шла речь в беседе с корреспондентом
«Стокхольмс тиднинген»). «Все эти годы он возвращался на зиму в Сорренто, чтобы работать
над эпопеей "Жизнь Клима Самгина", которую считал главным делом жизни» [Спиридонова
2004:119].
53 Буквально: «Слишком многие разыскивают меня там» («Det är sa mânga som söka upp
mig»). «Можно сказать, что на родине Горький сразу же оказался в центре большой политической
игры, — утверждает Л.А. Спиридонова. — Борьба за него велась всеми дозволенными и
недозволенными средствами» [Спиридонова 2004: 123]. Исследовательница убедительно доказывает
с помощью как недавно опубликованных, так и впервые вводимых ею в научный оборот
документов, что «истинная роль Горького в истории страны» — это была «незримая, но весьма
действенная роль буфера между официальной властью и интеллигенцией, а отчасти — народом»
[Там же: 127].
176
морально, «принося свой дар в жертву коммунистической идеологии» [При-
мочкина 1998: 268].
Тем временем имя Горького вновь появляется в заключительных отчетах
Нобелевского комитета, хотя за новыми отзывами к эксперту академики не
считают нужным обращаться. С 1930 г. в Шведскую академию начинают
поступать письма-номинации, которые в течение нескольких лет предлагают на
рассмотрение нобелевскому жюри два русских имени: Бунина и Мережковского.
В 1931 и в 1933 гг. к этому списку было присоединено и имя Горького.
Инициатором выдвижения именно этих кандидатур был лундский профессор
славистики Сигурд Агрель. Но, называя имя Горького рядом с именами двух писателей-
эмигрантов, Агрель оговаривает, что с точки зрения места Горького в русской
литературе он был бы достойнейшим лауреатом Нобелевской премии; однако,
принимая в расчет материальную сторону и то, что изгнанникам из России
буквально не на что жить, было бы справедливо поделить премию между Буниным
и Горьким или отдать ее терпящим острую нужду Бунину и Мережковскому.
Нобелевский комитет, во всем диапазоне отношений его членов к горьков-
ской кандидатуре, от безусловного признания до откровенного испуга,
проявил, казалось бы, мудрую осторожность, не желая осенять прославленной
наградой советский строй как таковой. К сожалению, подобная «мудрость» не
была конститутивно присущим Нобелевскому комитету качеством: ее порой
недоставало в оценке откровенной серости и, что гораздо хуже, в заигрываниях
с сильными мира сего (чего стоит присуждение награды У Черчиллю — именно
за мемуары!). Шведскую академию нельзя прославить как институт
политически неангажированный, независимый и бесстрашный перед лицом истории.
Никто в мире, кроме специалистов по Средним векам, не может внятно
объяснить, в чем состояло долгое и изнурительное противостояние гвельфов и
гибеллинов — но имя Данте известно любому54. То же относится и к именам
Толстого или Горького, «обойденных» Нобелевской премией. Боязливая оглядка
на господствующее общественное мнение, далеко не всегда верное,
противоположно задаче Шведской академии — безупречным выбором сочинения, в
котором человечеству открывался бы идеал, создавать и культивировать вкусы
публики, — и, к сожалению, ограничивает высокий смысл Нобелевской
премии, который был заложен в нее основателем.
Разумеется, у Горького хватало и противников, и защитников; чтобы не
быть голословными, приведем два полярно противоположных мнения о
писателе. Одно содержится в письме, адресованном Горькому критиком Д.П. Свято-
полк-Мирским, человеком тонким и образованным, ставшим в эмиграции
убежденным коммунистом:
54 Заметим, что сравнение русского культурного и интеллектуального раскола после
Октября с «Флоренцией времен Данте», разделенной на два непримиримых лагеря, уже в 1922 г.
пришло на ум Д.П. Святополк-Мирскому, что подтверждает закономерность этой параллели [Svyato-
polk-Mirskyl989:81].
177
И нет, наверное, другого такого человека, который бы так носил в себе Россию,
как Вы, и не только Россию, но и то, без чего России быть не может, —
человечество (цит. по: [Анастасьев 1987: 7]).
Другое высказал узкому кругу ожесточившихся эмигрантов богослов
A.B. Карташев, утверждавший, что Горький «не насытился еще», жаждет
еще аплодисментов от метисов, негров. Если бы даже большевиков прогнали
из Европы, они отправятся далее, и он с ними в Южную Америку, в Африку,
в Австралию, и Горький там еще будет наслаждаться55.
Трудно не заметить, что речь в обоих случаях идет об одном и том же, но не
только образ Горького предстает амбивалентным: даже человечество, кажется,
подразумевается не одно и то же. Нобелевский комитет стал на одну из
воюющих сторон, принимая решение не присуждать писателю международной
награды.
В эмиграции злоба против Горького накалилась до предела — Бунин,
Мережковские, Шмелев не могут упоминать его имени без брани. При этом все
они, тайно и явно мечтая о Нобелевской премии, прекрасно осознают, что, если
бы не политические соображения, Горький был бы главной, безальтернативной,
т. е. единственной кандидатурой от русской литературы. Даже из Стокгольма
приходят вести, «подтверждающие то, что <...> партия Горького очень сильна
среди 18 человек нобелевцев»56, — делится переживаниями З.Н. Гиппиус с
A.B. Амфитеатровым в письме от 9.11.1932. Хотя слухи исходят, скорее всего,
из резко антисоветски настроенных кругов, где полагают, что «у Бунина есть
серьезные агенты из числа не большевицких, а большевизанствующих евреев»,
Гиппиус не слухи анализирует, а выплескивает свою искреннюю ненависть
к «пролетарскому писателю»:
Ну, Бунину дай Бог, а вот если Горькому... Это, Вы правы, такая пощечина
России и всем нам, что стоила бы хорошего плевка ему в лицо! И не ему одному...
[Письма Гиппиус Амфитеатрову 1992: 307].
Отвечая на вопрос, которым задавались во всем мире, когда стало
известно имя первого русского нобелевского лауреата по литературе: «Почему не
Горькому?» (см., например: [Казнина 1997: 383]), — можно привести суждение
В.Л. Бурцева57, сформулированное накануне Октября. «Не защищайте
Горького!» — с русской бурной стремительностью, прямо противоположной шведской
55 Этот спор о Горьком приводит в своих воспоминаниях В.Н. Бунина (РАЛ, MS. 1067/467).
56 В оригинале «80» — очевидная описка или невольная ошибка, основанная на созвучии
(в шведском, как и в русском — но не во французском) слов «18» и «80»; речь идет о 18 членах
Шведской академии.
57 В.Л. Бурцев (1862-1942) — общественный деятель, историк, публицист; с 1906 г.
специализировался на разоблачении провокаторов, внедренных охранкой в революционные партии,
прежде всего в партию эсеров.
178
осторожности, заострял полемичность фигуры Горького этот «Шерлок Холмс
русской революции»58.
Во-первых, не защищайте Горького потому, что он, как большой художник
и как литератор, являющийся гордостью русской литературы, не нуждается ни
в чьей защите. Среди нас нет никого, кто бы не сохранил в своей памяти самых
теплых воспоминаний из самой жизни, которые он пережил при чтении
сочинений Горького. Эти воспоминания никогда не покинут никого из нас в нашей
жизни. Как художник, Горький — одна из лучших страниц русской
общественной жизни и литературы.
Во-вторых, — не защищайте Горького как политического деятеля,
особенно как человека, ответственного за такой политический орган, как «Новая
Жизнь», потому что его в этом отношении ни защищать, ни защитить нельзя.
Как редактор «Новой Жизни», как политический деятель, пригревший
около себя сотрудников этой газеты, М. Горький — незащищен. Изданием этой
газеты он принес много непоправимого зла нашей родине в самый тяжелый
момент ее истории — и во время войны, и во время ее великой революции.
Пусть же он несет на себе ответственность за все это зло, — и мы считаем
своим долгом громко сказать обо всем этом, чтобы наш протест против
Горького был услышан всеми и прежде всего им самим».
А дальше Бурцев высказал принципиально важную мысль:
...мы упомянули о М. Горьком именно потому, что он — М. Горький, а не
какой-нибудь X. Как художник, М. Горький — для всех нас — наша любовь, наша
гордость, наша надежда [Флейшман 1992: 55-56].
Мало кто сумел так же четко отделить великого художника от
политического деятеля, с его великими заблуждениями и великими ошибками, главная из
которых — «не заметить» великие преступления59.
Перед членами Нобелевского комитета вопрос не стоял так остро, как перед
соотечественниками писателя, но они дали свой ответ на него раз и навсегда.
58 Статья Бурцева в «Русской воле» (9.07.1917) стала разъяснением «одного шумного и
характерного для того времени недоразумения»: обещая сразу после Февраля, благодаря
открывшемуся доступу к материалам охранки, назвать имена провокаторов, узнав которые «весь мир
содрогнется от ужаса», Бурцев 7 июля в той же газете писал об особенностях политической
борьбы в условиях войны и разбранил большевиков «хуже Азефов», ибо их работа, по его мнению,
подрывала российскую государственность, т. е. тем самым служила врагам отечества. Среди тех,
кто особенно успешно способствовал «разложению России», было названо и имя Горького.
Бульварная газета «Живое слово» немедленно перетолковала публикацию Бурцева как
обнародование обещанного списка провокаторов, что было воспринято во всей демократической прессе как
прямое обвинение писателя в предательстве и партии, и России; Горький вынужден был через
печать потребовать опровержения. Ответ Бурцева мы и приводим почти целиком; заметим
лишь, что десять лет спустя он утверждал, что свою полемику с ним на страницах печати Горький
вел «в духе и тоне Челкаша» (цит. по: [Флейшман 1992: 54-60]).
59 Впрочем, Л.А. Спиридонова на богатом документальном материале прослеживает
трагедию писателя в советской России, где он довольно быстро стал «пленником» и утратил даже
видимость свободы (см. [Спиридонова 2004:106-178]).
179
В 1931 г. шведские академики не сочли нужным обсуждать кандидатуру
Горького, столь «решительно» отклоненную за несколько лет перед тем. В 1933 г.
Мережковский и Горький рассматривались «в паре». В противоположность
Мережковскому, к кандидатуре которого «комитет и академия никогда не
относились с сочувствием», о Горьком сказано, что «у него не было недостатка в
сторонниках». Но, подчеркивалось в «Заключении», поскольку еще в 1928 г.
после «основательной дискуссии» академики «значительным большинством»
отклонили кандидатуру Горького, то они не имеют оснований для пересмотра
своего решения, тем более что новых произведений писателя не появилось
[Nobelpriset i litteratur, II: 194]. Зато на родине, о чем потрясенно поведали своим
читателям «Последние новости» (со ссылкой на газету «Правда» от 25 декабря
1933 г.), тиражи произведений Горького били все мыслимые рекорды.
«Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) за последнее время
выпускает на рынок в значительном числе новые издания классиков. Пушкин,
Гоголь, Чехов, Тургенев, Островский, Лермонтов, Грибоедов, Чернышевский
изданы в количестве 15-16 миллионов листов оттисков в год. Тираж каждого
выпуска 50-75 тысяч экземпляров, — информирует ведущий орган эмигрантской
печати, демонстративно не комментируя подобный читательский бум в
недавно еще поголовно неграмотной стране. — <...> Но больше всего бумаги
предоставлено было Горькому. В 1933 году из 102 миллионов листов-оттисков на
публикацию произведений Горького пришлось 32 миллиона листов-оттисков»
(Последние новости, 29.12.1933, № 4664, с. 2). В русском зарубежье о таких
тиражах не мог мечтать даже лауреат Нобелевской премии.
Рассмотрению кандидатуры Бунина в тот год было отведено особое место,
ибо решался вопрос о присуждении ему премии, и решился счастливо: некогда
друг Горького, а в эмиграции — его непримиримый идеологический противник,
И.А. Бунин стал первым русским нобелевским лауреатом по литературе. Его
имя не сходило со страниц эмигрантской прессы; поэт-юморист В. Горянский
в приветственном «Легкомысленном поздравлении» лишь первые два
четверостишия посвятил лауреату; в двух следующих он не поленился пнуть Горького:
И я покончил бы за сим,
Минуты лишней не помешкав.
Но кто-то рифму ждет «Максим»
И ждет другую рифму — «Пешков».
Извольте, обе рифмы есть.
Так пожелаем ненароком,
Чтоб наша слава, наша честь
Ему, Максиму, вышла боком
(Возрождение, 11.11.1933, № 3084, с. 4)
Горький к этому времени вернулся в Советский Союз, и чем обернулось для
него это возвращение, хорошо известно. Бунин Россию не увидел больше ни-
180
когда. В Париже, на стене дома, где он жил, был установлен в 1995 г. памятный
знак с кратчайшей записью: Ivan Bounine, Prix Nobel 1933. Максим Горький
никогда не нуждался в подобных приставках, напротив: это его имя
присваивалось, как награда, библиотекам, театрам, улицам, городам... И, в конце концов,
должна же быть на свете справедливость: если Нобели потеряли в России все,
в том числе нефтяные промыслы в Баку, доход от которых также лег в
основание премиального фонда Альфреда Нобеля — не только знаменитого ученого,
но и удачливого предпринимателя и биржевого спекулянта, то почему Максим
Горький, враг капитализма и буревестник русской революции, должен был
получить Нобелевскую премию?
Глава 5
Константин Дмитриевич
БАЛЬМОНТ
«Бальмонт ходит в пасынках истории русской литературы, — можно было с
полным правом написать еще недавно. — Кое-кому кажется, что он сдан в
архив» [Markov 1988:1]. А между тем первым русским автором, номинированным
на Нобелевскую премию за поэтическое творчество, был именно Константин
Бальмонт (1867-1942).
«Первая страстная мысль о женщине — в возрасте пяти лет, первая
настоящая влюбленность — девяти лет, первая страсть — четырнадцати лет». Именно
с этой цитаты из автобиографии К.Д. Бальмонта1, с восклицательным знаком
(в скобках) после признания и впрямь нетривиального, начинается экспертный
очерк о русском поэте, выдвинутом в 1923 г. Роменом Ролланом на
Нобелевскую премию по литературе. В предложении нобелевского лауреата 1915 г. было
перечислено три имени: «...я хотел бы их объединить в одной кандидатуре,
чтобы четко обозначить, что Нобелевский комитет, поднимаясь над
преходящими партийными дискуссиями, принимает во внимание только те заслуги,
которые достигнуты на неангажированной службе искусству и идее. К числу
великих граждан этого Града Духа — Civitas Dei — относятся Горький, Бунин и
Бальмонт».
Экспертом выступил уже неоднократно упоминавшийся на страницах этой
книги шведский славист и журналист Антон Карлгрен. Его официальная
карьера нобелевского эксперта началась годом раньше, а теперь он впервые
обратился и к творчеству Горького (см. главу 4), и к сразу заворожившей его бунинской
новеллистике (см. главу 8), и к лирике Бальмонта. Эссе о Бальмонте занимает
1 Отыскать автобиографию К.Д. Бальмонта, написанную 27 июня 1907 г., было несложно:
до революции она была напечатана дважды в доступных изданиях: в «Книге о русских поэтах»
под редакцией М.Л. Гофмана ([Гофман 1909]; ее экземпляр есть в стокгольмской Королевской
библиотеке) и, под заглавием «Автобиографическое письмо», в [Венгеров 1904: 375-377]. О
последней публикации A.A. Блок писал А. Белому 22 сентября 1905 г. в таких выражениях:
«Просьбу о биографии я уже передавал Бальмонту, но он гордо ответил, что она — в словаре Венгерова»
[Блок 1963: 135]. Накануне первой русской революции статья С.А. Венгерова появилась в
энциклопедическом словаре, где была снабжена небольшой библиографией о Бальмонте [Венгеров
1905:208-212].
182
примерно две — две с половиной газетные полосы2 (! — поставим и мы в свою
очередь восклицательный знак). Оно включает в себя историко-культурный и
историко-литературный экскурсы, но охватывает далеко не все творчество
рецензируемого автора, а лишь некоторые книги его стихов от дебюта до начала
1910-х гг. и первый эмигрантский сборник. Композиционно эссе разделено на
семь частей.
Экспертный очерк — это не научная работа, предназначенная для
публикации, поэтому библиография не является ее обязательной частью3. А. Карлгрен
не упоминает ни одного русского критика и ни одной статьи, которыми он мог
воспользоваться при составлении своего обзора о Бальмонте. В распоряжении
шведского слависта могли оказаться статья о Бальмонте С.А. Венгерова [1904],
автобиография поэта [Венгеров 1905], статья Е.В. Аничкова [1914], а также
статьи А. Белого «Бальмонт» (первая часть; вторая была опубликована в газете
«Час» от 21 ноября 1907 г. и вряд ли была доступна в Скандинавии) [Белый 1904:
9-12], И.Ф. Анненского «Бальмонт-лирик» [Анненский 1906:171-213], A.A.
Блока [1909] и четыре статьи В.Я. Брюсова, доступные, очевидно, по книге [Брюсов
1912]. В нашу задачу не входит сопоставление очерка шведского слависта с
текстами русских критиков-символистов, кроме тех случаев, где апелляция к их
суждениям и постулатам кажется несомненной.
Антон Карлгрен начинает свой обзор с биографии Бальмонта, основываясь
главным образом на его автобиографии; некоторые знаменитые заявления и
рассказы из нее с удовольствием процитированы — в частности о чтении
стихов Л. Толстому (великий старец «сделал вид, что стихи ему не понравились»,
и назвал «аромат солнца» «вздором»). Впрочем, все основные вехи
дореволюционной биографии Бальмонта прослежены кратко, но верно, а утверждение,
что он является «главой русской декадентской поэзии», для убедительности
повторено дважды. «Литературный багаж» Бальмонта назван «исключительно
всеобъемлющим», причем упомянуты не только стихотворные сборники («по
нескольку сотен страниц»), проза, литературно-художественная критика,
путевые записки, но и «огромное количество переводов, как в стихах, так и в прозе».
При этом отмечено, что «на западноевропейские языки из Бальмонта
переведено очень мало». Эксперт Нобелевского комитета упоминает французское
издание книги путешествий «Солнечные видения»4 и французский же сборник из
2 А. Карлгрен представил очерк в виде газетных гранок, которые ему, судя по всему, набрали
в «Дагенс нюхетер».
3 Как уже отмечалось выше, в последние годы, когда номинаций на Нобелевскую премию
поступают сотни, практика рассмотрения кандидатур изменилась, об их творчестве
составляются дайджесты из критических откликов в периодике и иных публикаций.
4 Balmont Constantin. Visions solaires: Mexique, Egypte, Inde, Japon, Océanie / trad, du russe avec
une préface par Ludmila Savitzky. P., 1923. 338 p. Отметим, что Карлгрен отсылает к изданию,
которое относится к серии книг русских эмигрантов, затеянной издательским домом «Боссар» в
1921 г., — т. е. до революции у «главы русской декадентской поэзии» имени в Европе практически
не было. Книга «Visions solaires» вышла по-французски несколькими тиражами.
183
«некоторых стихотворений»5. При этом поэтические переводы приводят Карл-
грена в недоумение, даже огорчение, поскольку дают лишь «слабое
представление об авторе»: «поэт, наиболее сильной стороной которого является
виртуозное владение ритмом и рифмой, переведен свободным безрифменным стихом!»
Впрочем, «некоторые стихи переведены на другие языки, среди прочих на
немецкий, — добавляет эксперт. — На самом деле Бальмонт непереводим». Из
этого следует неутешительный вывод, что европейской литературы о
творчестве Константина Бальмонта не существует, за исключением некоторых статей
в немецком журнале «Литературное эхо» (Das literarische Echo)6. Таким
образом, А. Карлгрен чувствует себя абсолютным первопроходцем в шведском (по
его мнению, и западноевропейском в целом) бальмонтоведении7.
Очерку о творчестве Бальмонта предшествуют «несколько слов» — по
объему равноценных примерно газетному «подвалу» — «о том течении, которое
он представляет», т. е. о русском декадентстве. Описание умонастроений в
России во времена Победоносцева и Надсона, культа «чистой поэзии» с ее
«полутонами и полуоттенками» сейчас можно опустить, как и экскурс в историю
русского декадентства: за последние десятилетия исследовательская литература о
периоде 1880-1910-х гг. неизменно растет; появились фундаментальные труды
о русском символизме и в западноевропейской славистике (см., например:
[Hansen-Löve 1989-2014]). Впрочем, и спустя почти сто лет читать
размышления малоизвестного шведского профессора и крупного журналиста о
перевороте в русской поэзии, совершенном декадентами, поучительно. Во-первых,
потому, что это образец европейской рецепции русского литературного
процесса — хотя и несколько отстающий во времени; во-вторых, потому, что он не
претендует на академизм и иронически трактует, в частности, «эгоистическую
самоуглубленность декадентов как безответственную, почти преступную» на
5 Balmont Constantin. Quelques poèmes / trad, du russe par A. de Holstein et René Ghil. P., 1916.
165 p.
6 «Das literarische Echo» — немецкий литературный журнал, выходивший два раза в месяц
с 1898 по 1923 г.; затем его название было изменено на «Литература» (Die Literatur), а в период
с 1942 по 1944 г. он выходил как «Европейская литература» (Europäische Literatur).
7 Обобщающей работы о творчестве Бальмонта (если не считать словарно-энциклопедиче-
ских публикаций и, помимо вышеназванных, книги Эллиса [1910]) за четверть века так и не
появилось, главные статьи были написаны в 1900-е гг. В 1908 г. В.Я. Брюсов сетовал в письме
М.О. Гершензону, что эта необходимая «работа оказывается очень трудной, так как должно дать
впервые оценку очень большого (может быть, "великого") писателя. У нас еще ничего не сделано
для оценки Бальмонта, все, написанное о нем, надо просто отвергнуть, приходится все начинать
сначала, до всего додумываться самому. А так как мне не хотелось бы дать характеристику
банальную: "поэт мгновенностей", "мастер напевностей", "душа стихийная", и т. д., и т. д., — то я
<...> довольствуюсь тем, что перечитываю книги Бальмонта и раздумываю над ними, и, кстати
сказать, нахожу в них очень много для себя нового» (цит по: [Богомолов 2004: 54]; курсив
цитируемого издания). Этот критический пробел в полтора десятка лет сказался и на экспертном
очерке: вначале опиравшийся на публикации русских символистов и на издания Венгерова,
А. Карлгрен затем оказался наедине с текстами русского поэта и фактически оборвал свой очерк
началом 1910-х гг.
184
фоне сложившегося в России почтительного отношения к отражающей жизнь
литературе8.
Но главное для А. Карлгрена в этой новой странице русской поэзии —
«смелое, хотя порой декларативное утверждение свободы», поскольку на рубеже
1880-1890-х гг. «русское общество <.. .> в конце концов начало пробуждаться от
летаргии». Как ни соблазнительно привести сжатую обрисовку Карлгреном
социально-экономических и идейно-политических тенденций в историческом
развитии России, этот экскурс вряд ли уместен на страницах, посвященных
творчеству Бальмонта. Резюме: «До того как Горький с его босяками,
живописные лохмотья которых маскировали вульгарное ницшеанство, овладел
современными умами, декаденты воспевали в своей поэзии гордого, бросающего
вызов толпе сверхчеловека, скинувшего все стеснявшие его личность оковы и
путы. Со временем декадентская поэзия, где беспримерный титанизм
проявляется в неустанных исступленных оргиях, становится модной поэзией: в ней
обществу заново открылось отметающее все сомнения задорное молодечество,
характерное для его собственных настроений перед революцией 1905 года».
Год, названный экспертом «ужасным» и для Горького, и для Бальмонта.
Напомним: Карлгрену пришлось в 1923 г. оценивать сразу трех русских писателей-
современников — Бунина, Горького и Бальмонта, и двух последних он
неизменно сравнивает и противопоставляет в цитируемом экспертном обзоре9.
«Печаль, тоска, сумерки — такова атмосфера первых поэтических
сборников Бальмонта <...»>, — в соответствии с хронологией обращается Карлгрен к
творчеству поэта. Речь идет о дебютном «Сборнике стихотворений»
(Ярославль, 1890), «полностью проигнорированном критикой и публикой», и книге
«Под северным небом: элегии, стансы, сонеты» (СПб., 1894), автор которых еще
«целиком и полностью» укоренен в «старой школе» и очевидно идет «по
стопам» Надсона. Карлгрен суммирует главные мотивы ранних стихов Бальмонта:
«Жизнь для него серый, безутешный зимний день, плотно сгущаются сумерки,
сжимая душу бесконечной печалью. Он устал от жизни, смерть является ему
в самом начале жизни, он призывает ее: смерть, приди и накрой меня! Его
8 Иногда эта ирония обнаруживает, как представитель университетской науки, шведской
гуманитарной элиты неожиданно сближается с доморощенно русским обывательским
представлением о декадансе, блистательно проиллюстрированным в рассказе А.Т. Аверченко «Аполлон».
9 И делает это небезосновательно: «Горький и Бальмонт вошли в литературу почти
одновременно, в начале 1890-х годов. Ранний Горький, нащупывая методом проб и ошибок новые пути в
искусстве, с интересом, хотя порой и весьма критически посматривал на самое "модное"
литературное течение того времени — символизм, на его наиболее талантливых представителей» [При-
мочкина 2007:3]. Жизненные пути обоих писателей пересеклись в 1901 г. В январе 1905 г. Горький
в группе рабочих идет к Зимнему дворцу и становится свидетелем Кровавого воскресенья,
Бальмонт в это время путешествует по Мексике. Но уже осенью «оба писателя приезжают в Москву
и в дни всеобщей политической стачки оказываются в самой гуще революционных событий»
[Там же: 6], причем «Бальмонт находился под сильным влиянием мощной личности Горького»
[Там же: 7], а с 1906 г. оба писателя «оказались за границей на положении политических
эмигрантов» [Там же: 9].
185
собственные чувства находят отклик в природе, в пасмурном северном небе,
в печальных, плачущих облаках, в грустных криках серых чаек, в ночной песне
соловья, столь схожей с рыданием». Впрочем, эти отчаянные юношеские стихи
продиктованы глубокой скорбью о собственной стране, вот только от
«благородного декадентского безразличия к окружающей действительности в них нет
и следа». Хотя задача эксперта очевидна — выделить лучшие из сочинений
выдвинутого на Нобелевскую премию поэта и обосновать их соответствие
международной литературной награде (или, напротив, доказать несоответствие), —
Карлгрен увлеченно берется представить творчество Бальмонта ab ovo.
«Поэт знает свое место в национальной трагедии», — иронизирует
Карлгрен над виршами юного Бальмонта, которому даже любовь к женщине
представляется омраченной страданиями его «братьев — людей». Но эта «хорошо
известная старая поэзия» все-таки отмечена новизной — «богатым
музыкальным звучанием стиха», хотя порой эти новации довольно «забавны», например,
когда «поэт заставляет все слова в каждой строке аллитерировать» (ср.: [Венге-
ров 1905: 210]). Вскоре, впрочем, «настрой поэта меняется», и в его следующих
стихотворных сборниках («В безбрежности мрака». М., 1896; «Тишина.
Лирические поэмы». СПб., 1898) «декадентские тенденции прорываются повсюду».
Хотя пессимизм поэта достигает уже «совершенно безнадежной ноты», но
«страдание его больше не пугает, и он понимает теперь, как ускользнуть от
подавляющего пессимизма»: «проспать всю жизнь и видеть сладостные сны».
Для иллюстрации изменившихся настроений поэта, обратившегося к
«прекрасному миру неизвестной красоты», Карлгрен выбирает из поэтических
образов тех лет излюбленную Бальмонтом водную лилию (кувшинку).
Разрывая связь с подлинной, реальной жизнью, поэт уходит в себя и «из
альтруиста становится эгоистом»: «Он больше не желает быть в своей поэзии
эхом жизни только людей, но эхом космической жизни, вселенским эхом.
Окружающая действительность, люди из плоти и крови отдаляются от него, ему
кажется, как он объясняет, странным видеть человеческие лица. Он больше брат
не людям, а бурям, ветрам и холодным морским равнинам. Яркое небо беседует
с ним, звезды, подмигивая, шлют ему братский привет. У него нет иных друзей,
кроме стихий <...>, обычные источники вдохновения земных поэтов
оставляют его равнодушным; он воспевает хаос, сферы, вечность, безбрежность,
возвышенность, звучность, неуязвимость — эти абстрактные понятия он пишет
с заглавной буквы и обращается с ними, как с живыми реальностями»10. Таким
10 Последнее утверждение, вплоть до всего ряда персонифицированных «отвлеченных
понятий», почерпнуто в [Венгеров 1905: 209]. Трезвый, критический подход С.А. Венгерова
импонировал копенгагенскому профессору. Знакомый, как мы увидим дальше, с символистской
критикой о Бальмонте, А. Карлгрен далек от стилистики И.Ф. Анненского, В.Я. Брюсова или А.
Белого: в отличие от безудержной символистской образности в публикациях русских авторов,
Карлгрен в целом остается в рамках собственно критического дискурса. Ср., например,
суждения А. Белого о тех же первых книгах Бальмонта: «...мистицизм туманов, камышей и затонов,
затерянных в необъятности северных равнин, как угрюмый кошмар, пронизывают мировые
186
образом и его собственное «я» вырастает до «величия невообразимых
размеров»11, и «декадентский культ собственного эго» у Бальмонта «не знает удержу»12:
кульминацией развития поэта в этом направлении становятся три сборника
стихотворений: «Горящие здания. Лирика современной души» (М., 1900),
«Будем как солнце. Книга символов» (М., 1903) и «Только любовь. Семицветник»
(М., 1903).
Карлгрен прослеживает это развитие: экскурс в безрадостную российскую
действительность той эпохи, к которой относится вступление Бальмонта в
русскую поэзию и утверждение в ней, архаичность общественно ориентированных
произведений не могут не показаться естественным фоном для появления и
пышного расцвета подобной эгоцентричной лирики: «Я — всё, я — бог, нет
иной реальности кроме моего собственного я, моих мыслей, чувств и
призывов — на все лады неустанно заклинает поэт». Это движение внутри
собственной душевной жизни, полагает шведский славист, когда неважно ни то, что
было, ни то неизвестное, что придет ему на смену, а единственной реальностью
оказывается «мое сейчас». Неудивительно, что каждую секунду поэт «сгорает»
в стремлении уловить мгновение в его полноте и насыщенности, неважно, что
заставляет «трепетать» его душу — «удовольствие или боль, красота или
уродство, — главное, чтобы все это обладало должной степенью интенсивности»13.
Мешая пересказ стихов с цитированием автобиографии Бальмонта, Карлгрен
поражается новой трактовке любви с «тигровыми страстями», которую
Бальмонт проповедует «не одной женщине, а тысячам» и которую предлагает
«попробовать во всех формах, даже самых экстраординарных». Однако в
подлинность этих «тигровых страстей»14 и «пугающих» любовных объяснений, в
«смакование всех, даже экзотических форм любви» шведский славист не скло-
пространства эти равнины, собирая туманы. Это взывания Вечности к усмиренным, это —
воздушно-золотая дымка над пропастью или сладкоонемелые цветы, гаснущие в сумраке вечеров.
Это — золотая звезда, это — серая чайка. Это — песня северных лебедей. Мутные волны хаоса,
отливающие красным заревом, исступленные крики замерзающих в холоде безбрежности <...>»
и т. д. [Белый 1994:402].
11 Или, как это будет названо в позднейших европейских работах о поэте, «the proud concept
of superman» [Pyman 1994: 63].
12 Ср. у CA. Венгерова: «В сфере обуревающих его "тигровых страстей*' поэт не только
стихийно не знает удержу, но и сознательно знать не хочет: "хочу быть дерзким, хочу быть смелым".
Он имеет право быть дерзким, потому что в значительной степени воплотил в себе идеал
"сверхчеловека" или, вернее, "сверхпоэта"» [Венгеров 1905: 211].
13 Или, как сформулировал это И. Анненский, «уродство создает красоту» [Анненский 1979:
114]. В интерпретации лирического ego Бальмонта шведский славист пересекается с суждениями
Анненского и пользуется его примерами и идеями, однако, в отличие от русского символиста,
к гипертрофированному поэтическому «я» Бальмонта Карлгрен относится безо всякой
восторженности.
14 Стихотворение «В душах есть всё» (из книги «Горящие здания»), ср.: «Кто демон низостей
моих / И моего огня? / От этих тигровых страстей, / Змеиных чувств и дум, — / Как стук
кладбищенских костей / В душе зловещий шум».
187
нен верить, полагая, что поэт «ищет сильных ощущений» в тематическом плане:
«он веселится чуме и проказе, воспевает Содом и Гоморру, его радует убийство,
он любит красный цвет за то, что это цвет крови, и гордится тем, что один из его
предков был "честным палачом", да и сам не прочь поразмышлять о той же
профессии <...»>15.
Следует отметить, что весь пассаж о «Горящих зданиях» — свободное
переложение на шведский язык статьи С.А. Венгерова [1905: 311]. В обзоре
перечислены некоторые мотивы и образы Бальмонта, также почерпнутые у
Венгерова, — альбатрос с «разбойными инстинктами», поджегший Рим Нерон,
которого поэт называет своим «братом»16... и Наполеон. Последний, впрочем,
добавлен шведским славистом от себя. А. Карлгрен указывает, что Бальмонт
«слагает гимн Наполеону», и даже приводит закавыченную цитату, хотя и не
совсем точную: «ты сокрушал одним словом, уничтожал одним жестом, в
неистовых разрушениях опустошал мир...». Как будто по стилистике
действительно близко образности «Горящих городов»; однако поэтического посвящения
французскому императору у Бальмонта нет. Вероятно, понадеявшись на свою
память, Карлгрен приписывает Бальмонту стихотворение В.Я. Брюсова
«Наполеон» (1901), узнаваемое даже в упрощенном шведском пересказе: «Ты
сокрушал случайным словом, / Движеньем повергал во прах. <...> Пьянея славой
неизменной, / Ты шел сквозь мир, круша, дробя...» [Брюсов 1975:161]. Это самый
досадный промах Карлгрена. Но в экспертном обзоре появляются и иные
неточности. Например, настораживает заявление, что именно в предисловии к
«Горящим городам» Бальмонт похваляется своим непревзойденным
стихотворным мастерством; между тем в нескольких «предисловиях» к сборнику — двух
отрывках «Из записной книжки» и стихотворении «Мои враги» — поэт
размышляет только о содержательной стороне своей лирики, о развитии и смене ее
мотивов и образов. О своих достижениях в области версификации поэт пишет
в автобиографии17.
И все-таки из обзорного реферата с вкраплением (не всегда точных) цитат
первоначально возникает впечатление, что никакой тенденциозности в обзоре
Карлгрена нет: писал поэт сначала реалистически об обездоленных, потом им-
15 Ср. стихотворение «Красный цвет» из сборника «Горящие здания» («Быть может, предок
мой был честным палачом»).
16 «О мой брат! Поэт и царь — сжегший Рим! / Мы сжигаем, как и ты, — и горим!» («Я люблю
далекий след от весла...»). Пересказывая эти строки, Карлгрен восстанавливает опущенное в
стихотворении имя «поэта и царя».
17 Заметим, что эта автобиография задолго до шведского слависта смутила А. Блока
«манерностью и жеманством». «Имею спокойную убежденность, что до меня, в целом, не умели писать
в России звучных стихов», — сообщает Бальмонт. Блок словно пожимает плечами: «Всем хорошо
известно, что до Бальмонта стихи писал, например, Пушкин» [Блок 1962: 372]. И не случайно
выпускает определение «звучные», которое многое меняет, тем более что «звучность»,
«музыкальность», ритмическая эвфония постепенно вытесняет все прочее (т. е. содержание) из стихов
Бальмонта.
188
прессионистически о белых лилиях, затем его лирика стала экспрессионистич-
ной и обрела кровожадные черты. Между тем эксперт Нобелевского комитета
прекрасно владеет жанром, и если ему понадобилось подробно остановиться
именно на этих стихах К. Бальмонта, то в финале его обзора, где должна
содержаться рекомендация или отвод кандидатуры номинированного писателя, эта
«кровавая образность» непременно выстрелит. Однако, продолжая и далее
читать по-русски и пересказывать (прозой) по-шведски «Горящие здания», Антон
Карлгрен замечает: «Представив эту книгу на суд Академии, Бальмонт
обезопасил себя в особом посвящении от подозрений, что им до сих пор владеет
склонность к поджогам и убийствам, пояснив, что время заставило его полюбить
мирный созидательный труд»18. Карлгрена поражает, как четверть века назад
русский поэт позволил себе полное освобождение от каких бы то ни было
нравственных уз, провозгласил себя гением и утвердил собственную волю — «я
хочу» — как единственный закон. Хотя ни одного истинно критического слова
Карлгреном не сказано, однако отбор тем и образов из поэзии Бальмонта
рубежа веков исключительно красноречив. Разумеется, отдельного порицания
заслуживает отказ от христианской морали, насмешка над святыми («Я ненавижу
всех святых», цитирует протестант Карлгрен «Голос дьявола»)19, декларация
18 В действительности в небольшом вступлении «Из записной книжки» Бальмонт пишет
следующее: «У каждой души есть множество ликов, в каждом человеке скрыто множество людей,
и многие из этих людей, образующих одного человека, должны быть безжалостно ввергнуты в
огонь. Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь чего-нибудь. Что до меня,
я сделал это в предлагаемой книге, и, быть может, тем, кто чувствует созвучно со мной, она
поможет прийти к тому внутреннему освобождению, которого я достиг для себя». И ниже: «Пусть
же возникнет новое. В воздухе есть скрытые течения, которые пересоздают душу. Если мои
друзья утомились смотреть на белые облака, бегущие в голубых пространствах, если мои враги
устали слушать звуки струнных инструментов, пусть и те и другие увидят теперь, умею ли я ковать
железо и закаливать сталь» [Бальмонт 2010,4: 203-204].
19 В этом критическом суждении А. Карлгрен сближается с послереволюционным мнением
о Бальмонте В.Я. Брюсова, высказанным в статье 1921 г. «Что же такое Бальмонт?». Но эта статья
осталась неопубликованной и была напечатана лишь через несколько десятилетий после смерти
Брюсова. Ср. с рассуждениями Брюсова о моральных аспектах мировосприятия Бальмонта:
«Бальмонту хотелось быть оригинальным <...>. Это значило, что он, следуя принципу
символической школы <...>, должен был заговорить "наоборот", т. е. признать "добром" то, что считалось
обычно "злом", и "злом" — "добро". В краткой формуле: прославить дьявола и проклинать Бога.
Все это и стал делать Бальмонт (впрочем, "проклинать Бога" отваживался он все-таки лишь
изредка), чтобы оправдать им себе предначертанную эволюцию. Но вот в чем дело: чтобы
"дерзновенно" отрицать общепринятое "добро", надо его признавать; чтобы прославлять дьявола, надо
веровать в Господа, — иначе нет смысла в самом прославлении! "Сатанизм" возможен только
у верующего (пусть бессознательно) христианина. Какой смысл в сатанизме для атеиста?»
[Брюсов 1975:487-488]. Гораздо ранее, в докладе, прозвучавшем на заседании университетского
«Неофилологического общества» 15 ноября 1904 г. и опубликованном в «Книге отражений», И.Ф. Ан-
ненский так возражал блюстителям поэтической нравственности: «Но еще хуже обстоят дела
поэзии, если стихотворение покажется читателю неморальным, точно мораль то же, что
добродетели и точно блюдение оной на словах, хотя бы в самых героических размерах, имеет что-
нибудь общее с подвигом и даже доброй улыбкой. Поэтическое искусство, как и все другие,
определяется прежде всего тем, что одаренный человек стремится испытать редкое и высокое на-
189
«любви к своим порокам» и особо теплое отношение к дьяволу и к «бесам всех
мастей, вампирам, привидениям, ведьмам, всё его добрым друзьям и
знакомцам»20.
Интерпретация поэзии Бальмонта шведским славистом, равно далеким от
народников или, скажем, марксистов, замечательна непрощением русскому
символисту — хочется взять в кавычки эти претензии — «отрыва от
действительности», от «чаяний народа»21. Подражания Ш. Бодлеру или А. Рембо словно
исключены — русский писатель просто обязан «лиру посвятить народу
своему», это как будто предписанная ему сверхзадача творчества, и, прекрасно
понимая, какими социальными и духовными обстоятельствами была вызвана
сугубо литературная поза Бальмонта на рубеже XIX-XX вв., шведский славист
продолжает (уже зная о драматической судьбе Бальмонта-эмигранта): «С той
высокой точки, на которую он поднялся, поэт смотрит с презрением,
доходящим до ненависти, на копошащееся внизу человечество». И уделяет целый
абзац пересказу стихотворения, посвященного М. Горькому: из нескольких
бальмонтовских посвящений ему выбрано стихотворение «В домах» («В
мучительно-тесных громадах домов / Живут некрасивые бледные люди <...> Я
проклял вас, люди. Живите впотьмах...»). Стихотворение это написано на вечно
животрепещущую тему предпочтения «миллионами» людей («Мы люди, не
звери», «лепечут» они у Бальмонта) серой, пустой, ничем духовно не заполненной
жизни, и смысл инвектив поэта — причем не грозных, а, скорее, безнадежно-
печальных — не в проклятии человечества, а в боли за него, за его неумение
жить полной, прекрасной, счастливой жизнью. Но Карлгрен нарочито сдвигает
смыслы в трактовке стихотворения, пользуясь прежде всего тем, что это
прозаический пересказ, а не собственно поэтическое переложение, где образ
является в единстве звуков, ритмов, ассоциаций. Из стихотворения «Человечки»
(без указания, что цитируется уже другое произведение) взята финальная
строка, венчающая весь обличительный абзац: «О, когда б ты, миллионный, вдруг
исчезнуть мог!». И это стихотворение звучит остро современно: «Человечек
слаждение творчеством. Само по себе творчество — аморально, и наслаждаться им ли или чем
другим отнюдь не значит жертвовать и ограничивать самого себя ради ближних, сколько бы
блага потом они ни вынесли из нашего наслаждения» [Анненский 1979: 97]. (Курсив цитируемых
изданий.)
20 Ср. в статье «Бальмонт» С.А. Венгерова: «Перед ошарашенным читателем дефилирует
целая коллекция ведьм, дьяволов-инкубов и дьяволов-суккубов, вампиров, вылезших из гробов
мертвецов, чудовищных жаб, химер и т. д. Со всей этой почтенной компанией поэт находится в
самом тесном общении; поверить ему, так он сам — настоящее чудовище. Он не только "полюбил
свое беспутство", он не только весь состоит из "тигровых страстей", "змеиных чувств и дум" —
он прямой поклонник дьявола <...>» [Венгеров 1905: 212]. Однако Карлгрен благоразумно
опускает французскую оценку всей этой поэтической нечисти из статьи Венгерова: «pour épater
le bourgeois».
21 Эти претензии предъявляла нарождающемуся символизму народническая критика, см.
[Львов-Рогачевский 1910: 3, 8, 19].
190
современный, низкорослый, слабосильный, / Мелкий собственник, законник,
лицемерный семьянин, / Весь трусливый, весь двуличный, косодушный,
щепетильный, / Вся душа его, душонка — точно из морщин». Непредвзятый
читатель не может заподозрить Бальмонта по этим строкам в презрении к
человечеству, в ненависти к нему. Поэта возмущает не дюжинный человек сам по себе
(и не миллионы жителей Земли, разумеется), а то, как он распоряжается своей
единственной жизнью в огромном и прекрасном мире, отрицая и губя в себе
лучшие свойства и порывы и погрязая в мелочности, серости, ничтожности. Но
против этого оскотинивания души, опошления жизни и восставала вся русская
литература, законным наследником которой выступает символист Константин
Бальмонт.
Между тем эксперт Нобелевского комитета, через тщательный подбор
цитат и образов, целенаправленно добивается однозначного представления о
русском поэте-символисте как о самонадеянном до смешного, решительно
оторванном от жизни и ее животрепещущих вопросов хвастуне. Еще одним
беспощадным «развенчанием» его поэтического «я», «обретающего поистине
титанические формы по сравнению с человеком-насекомым», становится
любовная лирика. «Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде», откровенно
иронизируя, цитирует Карлгрен стихотворение «Как испанец». Это желание
быть «во всем великим», в том числе в любви (а набрать из лирики Бальмонта
«роковых», «обжигающих» поцелуев, «сладостного блаженства» и под. труда не
представляет), приводит русского поэта к самообожествлению: «Я жизнь, я
солнце, красота <...> Я весь — весна, когда пою, /Я — светлый бог, когда
целую!» («Весь — весна»). И дальше — по Венгерову: «"Кто равен мне в моей
певучей силе?" <—> задается он вопросом и тотчас же отвечает: "никто, никто"»
[Венгеров 1905: 211].
«Велик он и как поэт», — продолжает шведский славист там, где Венгеров
заявляет о «mania grandiosa» Бальмонта. Однако вместо раскрытия этого тезиса
путем анализа поэтических открытий Бальмонта Карлгрен поступает так же,
как реферируемый им русский литературовед, т. е. приводит довольно
пространную цитату из предисловия к «Горящим городам», в котором Бальмонт,
в сущности, совершенно справедливо судит о своем вкладе в развитие техники
русского стиха22. «В одном стихотворении за другим он нахваливает самого
себя как поэта — и ложная скромность не удерживает его от провозглашения
себя лучшим в мире», — уже вовсе не скрывая насмешки, заключает шведский
славист. Впрочем, справедливости ради и ради знакомства с «песнопевческой
индивидуальностью» поэта Карлгрен приводит полностью в немецком пере-
22 «Книга Бальмонта "Горящие города" вышла в 1900 г. Начиная со 2-го издания в качестве
предисловия помещены: 1) "Из записной книжки" (3.IX 1899); 2) Стихотворение "Мои враги"
(датировано 14.VIII 1903); 3) "Из записной книжки" (3.1 1904)», — сообщает комментарий в
[Бальмонт 2010, 4: 394]. Процитировано первое предисловие: «...я показал, что может сделать с
русским стихом поэт, любящий музыку <...»> [Там же: 204].
191
воде стихотворение К.Д. Бальмонта «Мое песнопенье»23, присоединив к нему
через звездочку другое прославленное стихотворение, «Я — изысканность
русской медлительной речи». Оба эти стихотворения в переводе Александра
Элиасберга почерпнуты из выпущенной им в 1907 г. антологии русской поэзии
«Современная русская лирика»24. Переводы следует признать очень хорошими,
сохраняющими ритмику, особенности рифмовки и строфику, по-своему
неплохо передающими образность, однако все-таки далекими от тонкой
инструментовки оригинала, неожиданных, волнующих тропов. Вот как, в частности,
завершается второе стихотворение («Вечно юный, как сон, / Сильный тем, что
влюблен /Ив себя, и в других, /Я — изысканный стих»):
Ich bin stark, bin ein Held, Я силен, я герой,
Liebe mich und die Welt, Люблю себя и мир,
Bin ein sprossender Keim, Я прорастающий росток,
Bin ein klingender Reim! Я звучащая рифма!
Немецкий перевод гораздо ближе, как видим, критическому восприятию
лирики Бальмонта шведским славистом. Например, «любить себя и мир» — это
не то же самое, что любить «себя и других», где нет противопоставления
человечеству, отделения себя от него, тем более презрения и ненависти. А полное
изменение смысла первой строки — «сильный герой» вместо «вечно юного
сна» — звучит очевидным подтверждением язвительно-ироничного мнения
А. Карлгрена о стихах К.Д. Бальмонта, опубликованных около 1900 г.
Рассмотрение «доминирующих мотивов» в стихотворениях Бальмонта из
его «сильнейших поэтических сборников» создает у шведского слависта
«впечатление, что поэт — лишь несамостоятельный подражатель французской
декадентской поэзии и одновременно громогласный вития, великий только в
искусстве выставлять себя на посмешище». Карлгрен добавляет, что подобное
мнение озвучивали и «влиятельные голоса русской литературной критики»;
впрочем, имен он не называет и библиографических отсылок не дает25. И
неожиданно заявляет, что Бальмонта нельзя судить по общей привычной мерке.
23 Цитатой из этого стихотворения завершает, по сути, свой обзор С.А. Венгеров. Однако те
высокие оценки, которые русский литературовед в финале своей энциклопедической статьи
расточает Бальмонту, Карлгрен оставляет без внимания.
24 Russische Lyrik der Gegenwart / Deutsch von Alexander Eliasberg. Mit einer Einleitung und vier
Bildnissen. München; Leipzig, 1907.
25 Самой жесткой была критика в статье A.A. Блока: после 1905 г. все стихотворные
сборники Бальмонта — «это почти исключительно нелепый вздор, просто — галиматья <...>. В лучшем
случае это похоже на какой-то бред, в котором, при большом усилии, можно уловить (или
придумать) зыбкий, лирический смысл; но в большинстве случаев — это нагромождение слов, то
уродливое, то смехотворное. <...> И так не страницами, а печатными листами <...> просто
это — словесный разврат, и ничего больше; какое-то отвратительное бесстыдство. И писал это не
Бальмонт, а какой-то нахальный декадентский писарь» [Блок 1962: 374] (курсив цитируемого
издания).
192
Эффектный пуант в экспертном заключении для Нобелевского комитета!
Большая часть очерка была пронизана насмешкой над русским поэтом, так что,
может статься, не все шведские академики захотели дальше читать об этом
несерьезном кандидате. Возможно, конечно, что в процессе написания этого
грешащего односторонностью отзыва Антон Карлгрен поменял свое отношение к
стихам Бальмонта. Вероятно и другое: отзыв заведомо был задуман как
отрицательный — каковым, безусловно, первая его половина и является. Какой бы
ни стала вторая половина очерка, те, кому он был предназначен, — члены
Нобелевского комитета, которым предстояло прочесть за полгода огромное
количество произведений разных писателей, не говоря уже об экспертных
заключениях, — после знакомства с двумя немецкими переложениями русских
оригиналов могли со спокойной совестью завершить чтение, сделав
неутешительный для Бальмонта вывод. Более дотошным предстояло узнать следующее.
Вопреки явному западному влиянию поэзия Бальмонта — «подлинно
русское явление»: «Сверхчеловек, который выступает в его поэзии, несмотря на
сходство в жестах и костюмах, не заимствован у заграничных моделей. Это
<...> исконно русское явление, дитя того времени, которое предшествовало
первой русской революции. Это родной брат-близнец босяков Горького: с
Горьким Бальмонт делит заслугу раньше прочих русских писателей схватить и
выразить те русские настроения, которые нарастали год за годом и в конечном
счете овладели всеми русскими умами, эластичность26, жизнеспособность,
независимость, которые нашли выход в 1905 г. в наивном, но впечатляющем бунте
против правящих сил старой России». И дальше Карлгрен дает подлинную
оценку именно тем стихам Бальмонта, которые страницей ранее высмеивал за
хвастливый и наивный эгоцентризм. Теперь это точный и трезвый социально-
политический анализ символистской поэзии:
Бальмонт предостерегает против мелких и серых обывателей с их узкими
идеями и сморщенными душами, он слагает гимн вольному, освобожденному от
всех оков человеку, который берет от жизни все и объявляет войну всем
обветшавшим идеям и принципам, и воплям поэта о разрушениях и горящих
зданиях вполне соответствуют, высказанные порой в тех же словах, тирады горьков-
ских босяков, ставшие прелюдией к звукам колокола, который несколько лет
спустя возвестил о грянувшей буре первой русской революции. И если
рассматривать поэзию Бальмонта с этой точки зрения, ее эксцессы утрачивают
большую часть своей нелепости. В качестве исторического документа,
иллюстрирующего русскую психологию в критический момент в истории
российской интеллигенции, эта поразительная по силе поэзия заслуживает
серьезного внимания.
И далее, как будто пересматривая все — тогда зачем? — сказанное в первой
части своего очерка, А. Карлгрен дает новую оценку поэзии Бальмонта. Как
В оригинале — elasticitet (эластичность, упругость).
193
версификатора он называет его «первопроходцем» и уверяет, что сверхвысокая
самооценка поэта отнюдь не является завышенной, поскольку его «формальное
мастерство непревзойденно» в русском стихотворстве, и отрицать этого не
смеют даже его «заклятые враги», а критика признает, что Бальмонт совершил
в русском стихе переворот столь же «эпохальный», как и Пушкин за сто лет
до него.
Среди достижений Бальмонта-поэта названы замечательное владение
стихом, «нигилистическое презрение ко всем его старым красотам», овладение
новыми, уже не заемными «экстраординарными и эксцентричными формами»,
«реформирование русского поэтического стиля». При этом Бальмонт избегает
«порчи старых поэтических форм», он действует «тактично и деликатно» и
«наполняет их новой красотой». Оставив «эксперименты со свободным стихом по
заграничному образцу», Бальмонт
строго и благочестиво до святости соблюдает правила классического русского
стихосложения и, выступая новатором, созидает только по уже существующим
принципам.
В каждом стихотворении он скрупулезно следует избранной поэтической
мере, так что даже самый придирчивый педант укажет на едва ли один случай
небрежности в размере или своевольной рифмы. И, несмотря на этот
консерватизм, он далеко опережает даже величайших стихотворцев среди своих
предшественников. Нет других поэтов до него, кому бы так подвластен был русский
язык: у Бальмонта он проявляется столь богатым и утонченным, как ни у кого
другого, и при этом прекрасно себя чувствует при любом ритме и размере;
он <язык> никогда не подвергается ни малейшему насилию, даже когда его
втискивают в труднейшую и изощреннейшую из метрических схем. И никто
до него не писал таких звучных стихов. Его стихи — музыка, чья тональность
меняется в зависимости от настроений, которые владеют поэтом. Некоторые
из его стихотворений — это чистая живопись звуком, и один русско-немецкий
критик27 утверждает, что иностранец, который не понимает ни слова по-
русски, в любом случае сможет наслаждаться этими стихами и безо всякого
толкования понять, где поэт рисует шелест воды, потрескивание костра, рев
бури. Это исключительное формальное мастерство, несомненно, всегда
перевесит все его слабые и смешные стороны; удивительно, что, читая стихи Баль-
27 Речь, скорее всего, идет об Артуре Лютере (Luther; 1876-1955): «В 1899 году начинается его
постоянное сотрудничество с новым журналом "Das literarische Echo" ("Литературное эхо"),
которому Лютер сохранял верность вплоть до его закрытия в 1942 году (журнал к тому времени
назывался "Die Literatur"), — сообщает Клаус Харер. — Со страниц "Литературного эха" Лютер
информировал немецких читателей о новых течениях в русской литературе, о молодых авторах,
в том числе — символистского лагеря. Лютер был первым (точнее, одним из первых), кто обратил
внимание немцев на таких русских поэтов, как Брюсов, Бальмонт и Блок» [Харер 2004: 163].
Немецкий исследователь указывает и на первую публикацию Лютера о Бальмонте на немецком
языке — в литературном приложений «Montagsblatt» к «St. Petersburger Zeitung» 25 декабря 1906 г. /
7 января 1907 г. (№ 162, S. 197-198). У А. Лютера и К. Бальмонта был и общий друг, Георг Бахман.
8 начале своего экспертного обзора А. Карлгрен отсылает к немецкому «Литературному эху».
194
монта, часто забываешь, безо всякого ущерба для общего впечатления, их
смысл, и вместо этого наслаждаешься языком, благозвучием тонов и ритмов.
На этом, собственно, краткая позитивная часть очерка и завершается.
Благозвучность поэтической речи, отмечает далее Карлгрен, станет единственным
«опорным элементом» поэзии Бальмонта, вдохновение его иссякнет и как с
поэтом с ним будет «практически покончено». Теперь он сосредоточится на
«выдувании мыльных пузырей», овладев мастерством делать их
«радужно-прекрасными». Карлгрен не упускает возможности одновременно задеть Горького,
проводя параллель между двумя — казалось бы — столь несхожими русскими
литераторами рубежа XIX-XX вв.: захотев стать «певцом революции»,
Бальмонт теряет свое художественное мастерство, подобно тому как Горький,
позабыв о своих босяках, начинает писать «длинные романы, правоверно
пропагандирующие партийную программу».
Заметим, что Горький совсем не чувствовал в это время близости с
Бальмонтом, напротив, был недоволен его эвфонической виртуозностью,
заслоняющей в стихах злобу дня, и все ожидал, когда поэт оставит «маленькие колокола»
и зазвонит «в большие» [Примочкина 2007: 11]. Современные исследователи
не готовы видеть пропасть между двумя названными русскими писателями,
утверждая: «Горький высоко ценил революционные стихи Бальмонта. В статье
"По поводу" (Новая жизнь. 1905. 16 ноября28), отмечая "чистый восторг поэта",
искреннее увлечение революцией, он защищал его от "мещан", которые "не
способны понять поэта"29. По инициативе Горького 12 стихотворений Бальмонта
были собраны в отдельную книжку "Стихотворения" и в начале 1906 года
изданы в "Дешевой библиотеке" издательства "Знание" огромным по тому
времени тиражом — 21 тысяча экземпляров. Сборник был тут же конфискован за
революционное содержание. Однако революционность Бальмонта на самом
деле решительно отличалась от горьковской, была родственна его природной
стихийности. В отличие от Горького Бальмонт не был человеком партии,
выступал как "революционер духа", свободный писатель» [Куприяновский,
Молчанова 2014: 147].
О сборнике «Литургия красоты. Стихийные гимны» (М.: Гриф, 1905)
Карлгрен заявляет, что он «переполнен сильными словами — столь сильными, что
поэту на долгие годы была закрыта возможность возвращения в Россию» (речь
28 Номинальным издателем этой пробольшевистской газеты значилась М.Ф. Андреева,
редактором сначала выступил поэт-символист Н.М. Минский, а с 10 ноября и до дня закрытия
газеты, 3 декабря 1905 г., ее редактором был В.И. Ленин; среди участников были объявлены —
помимо М. Горького, разумеется, — Л. Андреев, К. Бальмонт, И. Бунин, Е. Чириков, Н. Тэффи.
Бальмонт напечатал там стихотворения «Русскому рабочему», «Поэт — рабочему» («Я поэт и был
поэт...»), «Начистоту» и «Мещане». Замечательно пророчество Бальмонта в одном из
стихотворений: «Вас сметут!».
29 Напомним, что в 1928 г. Бальмонт назвал свою юбилейную статью «Мещанин Пешков. По
псевдониму Горький» (Сегодня. 23 марта 1928 г.).
195
идет о семилетней первой эмиграции К.Д. Бальмонта30). Но во всем прочем это
«крайне слабые» вирши, являющиеся не чем иным, как «наибанальнейшими
революционными лозунгами и агитками». Правда и то, что выступление
Бальмонта в роли революционного поэта вовсе не соответствовало логике его
творческого развития. Субъективизм ранней лирики Бальмонта, безусловно,
отражал психологию интеллигенции накануне первой русской революции, но
чистым популизмом кажутся гимны первых ее месяцев, когда поэт «вместо
голубых миров воспевает красный стяг». Не нужно быть стиховедом и знатоком
русского языка, чтобы заметить, как откровенно плохи стихи Бальмонта,
написанные о рабочих и обращенные к рабочим. А. Карлгрен дает этому резкому
снижению качества поэзии свое объяснение: «Это слишком низкий регистр для
его голоса. Его сфера — мир субъективных переживаний, и когда он вместо
этого решил говорить от имени народных масс и стать выразителем их конкретных
политических и социальных требований, он не мог не потерпеть фиаско».
«Ложный пафос», которым наполнены «пролетарские» стихи Бальмонта,
поэт пытается скрыть, «возвышая голос до настоящего рева, и те эксцессы,
которые всегда были характерны для его стихов, теперь делают их просто
смешными». Однако выход Бальмонта на «политическую арену» оказался весьма
недолгим, и в прочих своих стихах он остается по-прежнему «эгоцентрическим
лириком». Но никакой художественной эволюции не произошло, а
«сервированные» вновь, «те же темы, те же приемы, те же мысли» утратили прежнюю
свежесть:
В сотый и тысячный раз он заклинает, что он свободен и смел, велик и силен,
что для него нет различий между правым и неправым, между белым и черным
и что он всем своим существом провозглашает наслаждение жизнью во всей ее
полноте и т. д., и т. д., — с неутомимой радостной энергией музицирующего он
без конца твердит свои старые мелодии, пока читатель наконец не
догадывается, что в музыке этой так же мало вдохновения, как в почтенных гаммах и
арпеджио. Иногда он как будто подозревает, что его трудно принять всерьез,
и тогда он крепче натягивает струны и бряцает по ним с удвоенной силой,
и чем пронзительнее становятся звуки, тем более механической и
безжизненной кажется музыка.
Между тем Бальмонт продолжает неукротимо писать и печататься, и его
очередную поэтическую книгу шведский славист оценивает как «лишенную и
луча солнца, и отзвука прежних песен», хотя она состоит из стихотворений,
30 «В ночь с 31 декабря 1905 года на 1 января 1906 года Бальмонт с семьей выехал во
Францию. Выехал спешно, так как над ним нависла реальная угроза ареста: после подавления
Декабрьского вооруженного восстания на московских улицах были развешаны портреты
подстрекателей к бунту, среди них портреты Горького, Андреева, Чирикова, других писателей, в том
числе Бальмонта» [Куприяновский, Молчанова 2014: 152]. Обосновавшись сначала в Бельгии, позже
во Франции, Бальмонт посвятил эти годы вне России путешествиям, переводам, общению с
европейскими литераторами, однако нового поэтического взлета не случилось.
196
«нарезанных прямо из сборника "Будем как солнце"»31. Однако это «Собрание
стихов» в его втором издании (М., 1908) только упомянуто. Следующий раздел
своего обзорного очерка Антон Карлгрен посвящает поэтическим
произведениям Бальмонта, вдохновленным фольклором разных стран. Как и Бальмонт,
шведский славист начинает с былин из сборника «Жар-птица» («Жар-птица.
Свирель славянина». М.: Скорпион, 1907), где они переработаны «на
современный лад». Напомним, что это была эпоха, когда фольклор только начали
«собирать», и, очевидно, знакомый с какими-то записями русских былин шведский
славист отмечает, что эти эпические песни в их традиционной форме кажутся
«в высшей степени полезными и занимательными». Их стиль он оценивает
чрезвычайно высоко, хотя все отмеченные черты, от языковой архаики и
отсутствия рифм до замедленной монотонности повествования,
обусловливающей его торжественность и величие, присущи всякому народному эпосу.
Бальмонт, по мнению Карлгрена, берется модернизировать совершенно не
подходящий его дарованию жанр и, отказываясь от величественной простоты и
чистоты древнего эпоса, «обшивает его всяческими кружавчиками:
сверхсовременно звучащие слова из словаря поэта, множество вопиюще не
соответствующих былинному стилю отвлеченных понятий собственного производства и,
в качестве завершающей приправы, набор из ненужных комментариев и
заемных философских умствований». Русская критика в лице В.Я. Брюсова тот же
счет «былинам» Бальмонта предъявила за полтора десятилетия до очерка
Карлгрена. Всегда самостоятельный в суждениях, Карлгрен волен опираться на
любые литературно-критические отзывы о писателях, «экспертом» творчества
которых он выступает. И все же невозможно отказаться от выписки из рецензии
Брюсова: «Наконец, надо сказать, что Бальмонт не сделал и меньшего из того,
что должен был сделать: не сумел перенять миросозерцания старой, былинной
Руси. Искажая стих былин, искажая их фабулы, поэт все-таки мог быть
верным духу народной поэзии... Но Бальмонт постоянно нарушает его разными
неуместными выходками, характерными α6aльмoнτизмaми,,. Вся "Жар-птица"
представляет собою какую-то чересполосицу, где стихи, перенятые из старины,
мучительно, дисгармонически чередуются со стихами ультрамодернистически-
ми» [Брюсов 1975: 273]. В приведенной выше цитате из отзыва А. Карлгрена
характеристика поэтического языка Бальмонта при его обращении к былинам
кажется также почерпнутой у Брюсова при полной с ним солидарности:
Бальмонту удалось сделать все, подытоживает эксперт, чтобы «испортить простое
и глубоко содержательное творение народной поэзии», и все потуги русского
поэта модернизировать былинный жанр больше всего напоминают глупую
шутку «перевести "Илиаду" александрийским стихом и заставить ее героев
выражаться языком французских салонов».
31 Автор комментариев к стихотворениям Бальмонта, В.Ф. Марков, опровергает расхожее
мнение: «Любимое утверждение критиков, что Бальмонт повторяется, — легенда для маленьких
детей» [Markov 1992: VII].
197
От былин — к «хлыстам», к хлыстовским «странным радениям и духовным
распевам» из сборника «Зеленый вертоград (Слова поцелуйные)» (СПб., 1909),
переложенным «современным рифмованным стихом». Объяснив вкратце
шведским академикам, что такое хлыстовство, и не забыв упомянуть Распутина,
в молодости входившего в эту секту, Карлгрен замечает, что «экстатическая
поэзия» хлыстов и до Бальмонта привлекала внимание русских писателей,
особенно «склонных к постижению душевного мистицизма». Но, как и в случае
с былинами, шведского слависта смущает насилие Бальмонта над
оригинальным стихом «распевов», словно «единственная задача поэта — придать ему
благозвучности, снабдить регулярным размером и точной рифмой». Не
соглашаясь с «русскими знатоками», полагающими, что Бальмонт удачно справился
с переложением хлыстовских стихов (и это вновь, разумеется, В. Брюсов)32,
Карлгрен видит в «переделке примитивной поэзии» лишь ее несомненную
«порчу». С Брюсовым вполне Карлгрен соглашается только в том, что «в книге
есть немало неудачных стихов, строф и целых стихотворений», но из
приведенных русским критиком «выражений <...> слишком изыскан<ных> для
народной поэзии» («вне сцеплений слова», «опрокинутость зеркал», «шепоты
столетий»), приводит только одно — настолько это «истинный Бальмонт»:
«жемчужности зари». И категорически вопреки доброжелательному
заключению Брюсова Карлгрен заявляет, что книга из 200 стихотворений,
расположенных на 250 страницах, годится лишь для мусорной корзины: «Если кому хочется
изучать распевы хлыстов, пусть обращается к оригиналам, а для обычного
читателя эта чудовищная поэзия отвратительна даже на фоне обычного бальмон-
товского стихоплетства»33.
«Но Бальмонт продолжает». Увы — продолжает безжалостно разбивать в
пух и прах его стихотворные опыты и Карлгрен, теряя в наших глазах свое
реноме подлинного знатока и ценителя русской литературы и наглядно рас-
32 А. Карлгрен продолжает опираться на критические разборы поэзии Бальмонта Брюсовым
(«Статья четвертая. Зеленый вертоград и Хоровод времен»), теперь уже полемически, ср.: «И, на
сей раз, Бальмонту более или менее удается его замысел: чужое творчество повторяется,
отражается в его поэзии, как "небо в реке убегающей" <...>. В "Зеленом вертограде" Бальмонт
хотел воссоздать песни наших раскольников, именно "распевцы" так называемых "хлыстов" или
"людей божьих". <...> Стихи "Зеленого вертограда" довольно тесно связаны с текстом
отдельных "распевцев", порой повторяя целые выражения из них. Но, разумеется, Бальмонт внес в эту
поэзию не мало своего индивидуального. Он не был только пересказчиком чужих стихов, но
творил заново, по существующим образцам, как творили и слагатели подлинных "распевцев".
Особенно ясно сказалось это в форме стихотворений. Бальмонт не сохранил стиха
раскольничьих песен, далеко не всегда рифмованного, вовсе не строго размерного, основанного более
на равновесии образов (как и стих наших народных песен), чем на счете ударений. Но, замыкая
те же темы в правильно ритмические строки, Бальмонт сумел сохранить характерные движения
стиха "распевцев", и это открыло ему целый ряд совершенно новых, впервые звучащих по-русски
размеров. Вообще, с точки зрения техники, "Вертоград" дает едва ли не больше, чем другие книги
Бальмонта, который часто, даже в лучших своих созданиях, довольствовался, так сказать,
готовой, много раз испытанной формой» [Брюсов 1975: 277-278].
33 См. также: [Молчанова 2006].
198
крывая, как сложно оценить именно поэзию на чужом языке. Следуя
изложенным выше советам шведского эксперта, и «Подражание Корану»
Пушкина — порча священной книги мусульман, интересующимся следует читать
первоисточник, а живой отклик поэзии на его мотивы и образы — «пустая
затея»? Не удивительно, что после первого нобелевского лауреата по
литературе — А. Сюлли-Прюдома, которого европейские интеллектуалы легко читали
в оригинале, — поэты так долго оставались обойденными вниманием
нобелевского жюри. Замечательно и желание эксперта-слависта высказать именно
собственную оценку, а не перевести, скажем, те же отзывы Брюсова —
критические разборы при верном осознании глубинных процессов в движении
родной поэзии и понимании ее подлинных достижений и падений. А. Карлгрен
перестает сдерживаться, и завершение его экспертного очерка не лишено
шутовства. На этот раз объектом насмешек становится сборник «Зовы
древности. Гимны, песни и замыслы древних» (СПб., 1908; Берлин, 1923). Эксперт
ерничает: «Приходит черед народной поэзии других стран. Он собирает гимны,
оды, баллады и афоризмы из младенчества всех мыслимых народов, древних
богов из Египта, Ассирии, Китая, Перу, Мексики, Бретани и т. д., и т. п., и из
всего лепит он по одному образцу модернистские бальмонтовские стихи
(угроза сходной процедуры для скандинавской Эдды еще не настала)». Особенно
«убийственным» Карлгрен считает использование Бальмонтом экзотичнейших
имен, среди которых преобладают имена американских индейцев, и
подыскивание к ним русских рифм. Никаким сверхъестественным испытаниям Бальмонт
русский язык при этом не подвергает, а рифмы находит простейшие,
действительно соответствующие наивному мировосприятию «на заре человечества»,
ср.: Кветцалъ — даль, Тлаксотлан —ран или, например, начало стихотворения
«Песнь бога цветов» из раздела «Мексика»: «Где пляшут, танцуют, поет там
Кветцалькокскокстли. / Расцветная птица ликует, лучи снизошли».
Но эти примеры подобрали мы сами, Карлгрен же словно решил
уничтожить Бальмонта-поэта и потому допускает откровенные передержки и даже
прямой подлог. Так, нобелевский эксперт утверждает: «Иногда, впрочем, он так
заворожен сей экзотической красотой, что не находит в русском языке
возможностей передать ее и начинает изъясняться с помощью языкового
звукоподражания. Он пишет: "Йянтата, айяо, айяве, // Оайяве, айяв, тилили", после чего
идет несколько строф по-русски, а стихотворение завершается так: "Йянтата,
айяо, айяве, // Оайяве, айяв, тилили". Здесь стремление к благозвучности стиха
и презрение к здравому смыслу доведены до крайней точки». Стоило бы,
прежде чем ошарашивать подобными выдержками читателей (членов
Нобелевского комитета), привести эти «несколько» — на самом деле их 11 — строф из
стихотворения «Песнь бога обновленных полей» (также из «мексиканского»
раздела сборника). Стремление к благозвучию свойственно этому гимну весне
и возрождению в целом, и только процитированный выше припев после
некоторых строф (кстати, отнюдь не финальный) является эвфоническим экспери-
199
ментом. Сами же стихи и благозвучны, и благоуханны, и свежи, как древний
мир на экзотическом континенте, который поэтическими средствами
пытается возродить русский поэт: «Цветок, мое сердце, раскрылся...» [Бальмонт 2010,
1: 167-169]. Карлгрен предпочел проигнорировать и важное предисловие
Бальмонта к этому сборнику: «Мы, Русские поэты текущих дней, — а только
в России существует сейчас кипенье настоящего творчества, — создадим
великую звездность в области Русского Поэтического Слова, и наши творчески-
литературные переживания будут страницами в книге, чье имя —
художественность мысли, чьи имена — искание жемчуга, возженье светильников, вое-
созданье забытого, исторганье из темных глубин, скрытых в них, тайных
кладов. <...> Я, говорящий, сроднился издавна с замыслами древних
Космогонии <...>» [Там же: 143].
«Золотые перья» и «алые туманы» древних космогонии оказались неверным
путем к Нобелевской премии. Последний, седьмой раздел экспертного отзыва
составляют всего полсотни строк узкого газетного столбца, куда укладывается
творчество русского поэта за полтора десятилетия, отклик на его стихи
послереволюционных и эмигрантских лет. От «заигранных старых мотивов»
Бальмонт еще раз обращается к российской действительности, и Карлгрен вновь не
удерживается от язвительной насмешки, замечая, что, как и революция 1905 г.,
революция 1917 г. «слишком мала для его боевых песен». Впрочем, «на сей раз
они не революционные, а антиреволюционные». И вновь, как некогда, поэту
приходится публиковать свои стихи за границей, вновь его позиция по
отношению к революции предопределяет его изгнание. Последний сборник стихов,
рассмотренный в экспертном очерке, — «Марево» (Париж, 1922), тогда как
другие поэтические книги 1920-х гг., появившиеся в Москве, Берлине и даже
Стокгольме («Гамаюн» вышел в 1921 г. в издательстве «Северные огни»), эксперт
проигнорировал. Русская революция, замечает шведский славист, исторгает у
Бальмонта «взрыв дикого исступления». Однако если в 1917 г. излишний пафос
вызывал известное недоверие к искренности поэта, то «теперь нет сомнений,
что его чувства по-настоящему искренни и глубоки». Стихи, между тем, по
мнению Карлгрена, — такого же уровня, как в «Песнях мстителя» (1907), «если не
ниже»34. Это «то же поверхностное и избитое представление о вещах, которые
его окружают, или, точнее, которые он видит теперь на расстоянии».
Фрагментарные цитаты, которые приводит Карлгрен, настораживают — ни
о засевших в Кремле гнусных большевиках, ни об «убийстве убийц» в «Мареве»,
откровенно проникнутом библейской образностью, нет ни слова. Что цитирует
эксперт? Но он уверяет, что это типичный «жаргон русской эмиграции,
переложенный наивным прозаическим стихом»: «Да и его изысканный язык
опустился и одичал, он разит противника всеми мыслимыми ругательствами и
34 О первом поэтическом сборнике К.Д. Бальмонта, выпущенном в эмиграции, современные
исследователи склонны судить гораздо более взвешенно; см., например, анализ стихотворения
«Марево» в [Молчанова 1999; 2002; Петрова 2014].
200
макает перо прямо в уличную грязь». Оспорить невозможно — написано почти
сто лет назад. Эмигранты сразу поняли — Европа их не слышит, не слушает,
и «первая эмигрантская книга К.Д. Бальмонта не содержит в себе
оптимистического заряда» [Молчанова 1999: 86]: «Красное зарево зыбится там, / Белое
зарево тут <...>/ У меня в моих протянутых руках / Лишь крутящийся дорожный
прах» (стихотворение «Сон»). В любом случае в планы Нобелевского комитета
не входит осмысление русской трагедии, даже через ее поэтическое
преломление у поэта со столь неоднозначной творческой судьбой. В заключительном
пассаже своего экспертного очерка А. Карлгрен выступает уже не в роли
университетского профессора, а как безжалостный газетный публицист. Не стоит,
впрочем, думать, будто он настроен пробольшевистски, — Горький, о трудах и
днях которого он пишет параллельный отзыв, для него столь же неприемлем
своей активной пробольшевистской позицией. Кстати, о параллелизме путей
двух писателей А. Карлгрен к финалу своего «бальмонтоведческого» труда
(звучащего скорее contra, нежели pro) забывает. Ромену Роллану не удалось
примирить непримиримых представителей расколовшегося русского мира на
нобелевских подмостках, а всего через пять лет все четверо — французский
нобелевский лауреат 1915 г. Роллан, эмигранты Бунин и Бальмонт и
переживавший временное расхождение с большевиками каприйский затворник
Горький — оказались участниками жесткой — очной и заочной (эпистолярной) —
полемики (см., например, [Куприяновский 1998]).
По законам кольцевой композиции экспертный очерк А. Карлгрена
завершается отсылкой к самопризнанию поэта: «Бальмонт пишет свои стихи, как он
сам говорит, исковерканной рукой35. Красноречивый образ, характеризующий
современную лирику поэта. От излучающей мощь фигуры, двадцать лет назад
дебютировавшей на русском Парнасе, не осталось ничего, кроме
расслабленного инвалида». Тяжелый приговор, но вынесенный задолго до шведского
слависта, кажется, и всеми недавними соратниками по Парнасу; как сформулировал
это A.A. Блок — «есть замечательный русский поэт Бальмонт, а нового поэта
Бальмонта больше нет» [Блок 1962: 375]. После революции символистам на
многое пришлось смотреть другими глазами, в том числе на собственные
поэтические свершения. В новой России и за ее пределами изменилась русская
литература — и радикально модифицировалась ее рецепция в мире, неизменно
обусловленная политическими соображениями. «Один. Один. В бесчасьи. На
черте», — сокрушается Бальмонт в революционном «мареве». — «С кем мне
говорить?» Незамеченным остается в скомканном, каком-то обкорнанном к
концу обзоре Карлгрена излюбленный бальмонтовский мотив: «Красное зарево
зыбится там, / Белое марево тут. / Как же найти мне дорогу к цветам?»
35 После неудачной попытки самоубийства в 1890 г. поэт оказался сильно изувечен, навсегда
остался хромым, у него плохо действовала правая рука, в которой от напряжения воспалялся
нерв, так что приходилось порой писать левой, здоровой рукой.
201
В финальном протоколе Нобелевского комитета за 1923 г. записи о трех
русских писателях следуют одна за другой, кандидатуру Бальмонта обсуждают
между дискуссиями о творчестве Бунина и Горького. «Константин Бальмонт
предстает — или был в дореволюционном мире — контрастом к Бунину. В
поэтическом восторженном экстазе, безграничный и всеохватный, он опьянен до
пресыщения всем, что он может найти и воплотить, он слагает звучные,
горящие36 стихи, тогда как первый, из уныния и мизантропии, создает сухую прозу
в серых тонах. В формальном отношении это весьма причудливые стихи
(французские переводы, как обычно, не дают представления об оригинале); но их
содержание вряд ли может оказаться приятным для людей, которые не
принимают Бальмонта с его натурой саламандры, как, в частности,
нижеподписавшиеся <члены Нобелевского комитета>, с брезгливостью относящиеся к
кровавым привычкам» [Nobelpriset i litteratur, II: 42]. Вне всяких сомнений, умелый
подбор вырванных из контекста стихотворных цитат в обзоре Карлгрена, от
«тигровых страстей» и желания быть «палачом» до нескольких едва ли не
выдуманных «антибольшевистских ругательств» из первого сборника периода
эмиграции, должным образом впечатлил шведских академиков. И они
подтверждают: «Кроме того, можно сослаться на весьма обстоятельный
экспертный обзор». Однако в протоколе отразилось и личное знакомство членов
Нобелевского комитета с сочинениями русского поэта: «Путевые очерки <Баль-
монта>, доступные во французском переводе, дают представление о его
значительном даре в создании красочных описаний и передаче более понятных
чувств, чем те, которыми отличаются его стихи, но человечески
привлекательными никакие из его произведений не являются» [Ibid.: 43].
Не стоит упрекать в схематизме это финальное заключение. Нобелевский
комитет — национальная институция, и, значит, проблема восприятия
литературы, созданной на языках мира, остается неизменной. Экспертные обзоры, как
красноречиво свидетельствует очерк А. Карлгрена о Бальмонте, несут на себе
слишком очевидную печать субъективной интерпретации. И кстати, суждение
академиков о Бальмонте, хотя слегка и окрашено ироничностью по отношению
к его поэтической «кровожадности», гораздо сочувственнее, чем слова о
противопоставленном ему Бунине. Проза Бунина показалась просто серой и
скучной — а ведь всего через десять лет шведские академики назовут его
нобелевским лауреатом. Судьба К.Д. Бальмонта в эмиграции была трудной,
завершившейся долгой душевной болезнью, затяжная борьба писателей русского
зарубежья за Нобелевскую премию стала бы ему не по силам. Между тем
в 1920-1930-е гг. в европейских журналах («Poetry», «Europe», «Slavonic Review»,
«Revue des études slaves», «Slavonic and East European Review») появляются
публикации о поэте, переводы его стихов. М.О. Цетлин верно оценил наследие
Бальмонта, полагая, что сделанного им хватило бы на целую литературу не-
36 Определение brennande использовано с прямой отсылкой к названию сборника Бальмонта
«Горящие здания» по-шведски.
202
большого народа. Однако и в большой русской литературе Бальмонту
принадлежит весьма почетное место.
Поэтическая формула «Будем как Солнце» ошеломляет и поныне. Но что
это значит? Так гореть? Так светить? Так сжигать себя и возрождаться, сгорая?
Нобелевский комитет нашел для поэтической личности Бальмонта свое
определение — стихийный дух огня, «саламандра по натуре».
Ни одной книги Бальмонта в переводе на шведский язык до сих пор не
появилось37.
37 Исключение составляют несколько стихотворений в сборниках [Hemmer 1922; Rysk poesi
1972]. Из русских поэтов, помимо К. Бальмонта, Ярл Хеммер включил в свой сборник стихи
Лермонтова, Фета, Надсона, Брюсова и Северянина.
Глава 6
Петр Николаевич
КРАСНОВ
Кандидатами на Нобелевскую премию по литературе становятся не только
наиболее выдающиеся представители мировой литературы, чьи творения
получают признание и высокую оценку современников, но и писатели «второго»
и «третьего» ряда. Их творчество, выхваченное из историко-литературного
контекста, на первый взгляд кажется смехотворно не соответствующим уровню
нобелевской награды. Но Альфред Нобель завещал присуждать премию не
наиболее совершенному в художественном отношении произведению, а такому, в
котором «идеал» — или мечта о нем — выражены с наибольшей силой и
полнотой. И в этом смысле правы очень многие номинаторы, обращающиеся в
Шведскую академию с рекомендациями: в книгах своих современников, чаще
всего — своих соотечественников, они находят созвучие своим идеалам и чаяниям.
К таким номинациям относится обращение в Нобелевский комитет в 1926 г.
профессора Карлова университета в Праге В.А. Францева, выдвинувшего на
премию плодовитого беллетриста генерала П.Н. Краснова (1869-1947).
Похожими чувствами проникнута и многолетняя апелляция к шведским академикам
их соотечественника Альфа Нюмана, не сумевшего противостоять обаянию
религиозно-философских книг H.A. Бердяева, в которых шведский профессор
философии увидел ответы на животрепещущие вопросы исторического и
общественного развития. И совсем иными побуждениями продиктованы
послания в Стокгольм нобелевского лауреата по литературе И.А. Бунина, который и
в довоенные, и в послевоенные годы «выставлял» кандидатуру М.А. Алдано-
ва — автора исторических романов, в художественном отношении не имевших
ничего общего с собственным бунинским творчеством.
Каждая из этих историй, прошедших почти незаметно в горячих дебатах
нобелевского закулисья 1920-х-1940-х гг., по-своему интересна и даже
поучительна. Снисходительно или враждебно пренебрегаемый «серьезной» литературной
критикой эмиграции Краснов был необычайно популярен у читателей, причем
не только русских, но и, благодаря пропагандистской машине Третьего рейха,
у немецких, в эпоху, когда назревала война гитлеровской Германии с Советским
Союзом; и потому попытка нобелевского эксперта (представителя государства,
остававшегося нейтральным в обеих мировых войнах XX столетия) определить
место и значение этого писателя в литературном процессе эмиграции не долж-
204
на быть проигнорирована. При чтении архивных материалов выявляется
совсем иная ситуация с восприятием Бердяева1: весьма позитивная и резко
негативная оценки его философских сочинений принадлежат двум шведским
гуманитариям, обнаруживая и неоднозначность бердяевских историософских
построений, и отсутствие единства во взглядах в той среде, которая со стороны
воспринимается гомогенной (некая обобщенная величина «шведские
академики», «шведские профессора»). Наконец, исключительно интересной страницей
в биографии Бунина, исполняющего долг дружбы, является использованное им
право нобелевского лауреата выдвигать кандидатуры на премию.
Крупнейший русский мыслитель XX столетия; генерал от кавалерии,
ставший историческим романистом; исторический романист, забросивший карьеру
химика, — все они с неизменной решительностью были Нобелевским
комитетом «отклонены». Может показаться, что это единственное случайное
соприкосновение их творческих биографий, ни в чем другом не
пересекавшихся2. Впрочем, экспертные отзывы об их произведениях написаны одним
лицом — профессором славистики Антоном Карлгреном. Но есть и более
глубокое единство между православно ориентированным философом, монархически
настроенным белым генералом и убежденным либералом. В их творчестве,
созданном в эмиграции, отразилось расколотое русское сознание, попытки в
изгнании, в отрыве от родины осознать, в чем причины случившейся катастрофы,
ее истоки и последствия. Карлгрен все время улавливает некую ущербность,
неполноту создаваемой картины и справедливо объясняет ее воздействием
общеэмигрантских настроений. Вместо объективности он находит разъедающую
живую ткань произведений тенденциозность; вместо поиска
закономерностей — занимается отыскиванием хотя и ярких, но случайных черт.
Обнаженный нерв эмигрантской прозы не только не отвечает его твердым априорным
представлениям об эпическом спокойствии и лирической созерцательности
русской повествовательной литературы. Редкий и тонкий ценитель
художественного слова, необычайно остроумный и хлесткий критик, Карлгрен смотрит
на литературу русского зарубежья глазами стороннего наблюдателя. И в этом
редком ракурсе его рецепция иногда поражает исключительно верным
пониманием особенностей творческого почерка рассматриваемого писателя, и столь
же поразительна порой его собственная зашоренность.
1 Хотя творческое наследие H.A. Бердяева нельзя отнести к художественной литературе в
строгом смысле, связанный с его именем эпизод из истории обсуждения кандидатур русских
авторов Нобелевским комитетом замечательно оттеняет европейские умонастроения
описываемой эпохи, и прежде всего — восприятие русской революции.
2 Однако таких пересечений больше, чем представляется a priori: так, И.А. Ильин сообщает
И.А. Бунину, что читает «целый курс», «quantum satis достаточное количеством русскую
литературу. Начал с ушедших за рубеж современников: Шмелев, Ремизов, Бунин, Мережковский,
Краснов, Алданов» (РАЛ, MS. 1066/2986 — письмо от 28.01.1931). За исключением Ремизова, этот
перечень идеально совпадает со списком прозаиков русского зарубежья, номинированных на
Нобелевскую премию.
205
Эмоционально творчество писателей-изгнанников было неизбежно овеяно
тоской ностальгических переживаний, пронизано безнадежной Экклезиасто-
вой мудростью. Пылкий обличительный пафос русской литературы двух
предшествующих столетий (карикатурно сохраненный в схоластической доктрине
социалистического реализма), ее разящая сатира показались бы крайне
неуместными в творчестве беженцев, и от этих традиционных качеств
приходилось отказываться, теряя самые сущностные завоевания русской литературы —
литературы, прежде и вопреки всему, критического реализма. В эмиграции
переосмысляются прежние идеи и ценности, прежние общие заблуждения и
иллюзии3. Однако прозрение наступает не просто в узком
социально-политическом плане: само отношение к России дореволюционной интеллигенции
(привычка ругать «гнусную расейскую действительность») вспоминается как
кощунственно-разрушительное: «Что может быть лучше России, господа?
Сейчас — Рождество... Вся она, как белой скатертью, покрыта снегом <...> —
"Покрыта"... Прежде хуже России ничего на земле не было» [Сургучев 1927: 184].
Отравленное национальное сознание получило весьма жестокую
возможность исцелиться:
Только теперь, сев на пищу святого Антуана, подлечившись на эмигрантском
режиме, освободив печень от мясных и алкогольных ядов, мы понемножку
протерли глаза и стали отдавать себе отчет: «Черт возьми! Да почему мы,
собственно, были недовольны Россией? Что, собственно, в ней, по сравнению с
Европой, было плохого?». Если даже согласиться с митрофанами, что свободы
было мало, то уж, черт возьми, независимости-то у нас было много.
Правительство ошибалось? Ошибалось. Бывали бездарные министры? Бывали. Но,
брат мой, страдающий брат, выдь на Волгу и укажи мне такую обитель, где
правительства не ошибаются и где все министры — с гением на челе? Полиция
била в участках? А укажи мне такие великие демократии, где полиция по
головке гладит мордомочителей? <...> Жизнь была дешева, просторна, работай,
кто хочет, русский ты или иностранец — не спрашивали. А железные дороги?
А волжские пароходы? А университеты? А наука? А печать? <...> А деньги?
А мой батюшка рубль? [Сургучев 1952: 48].
Процитированный отрывок принадлежит И.Д. Сургучеву — писателю
почвеннической ориентации, который, как и Бунин, Зайцев, Шмелев, был близок в
дореволюционные годы к М. Горькому и разделял его демократические взгляды.
3 В этом смысле показательны реплики персонажей пьесы Ильи Сургучева «Реки
Вавилонские», бывших помещика, губернатора, камер-юнкера (по ходу действия освобождающихся от
рудиментарной «социальной типичности» в своих суждениях): «Я, видите ли, либерал, у меня,
видите ли, просвещенный образ мыслей был! Портрет Герцена на стене! В книжном шкафу "Что
делать?" в бархатном переплете! <...> — Ну и что же, крайний левый синьор? Долиберальнича-
лись? Портретик Герцена с собой в чемоданчик захватили? <...> — Царь — нехорош! Царь —
враг народу! Царь — пьет кровь народную! Господи! Как же такого осла на земле держали? —
Прежде, во времена Михайловского, были кающиеся дворяне, а теперь — кающиеся ослы»
[Сургучев 1927: 148].
206
В условиях эмиграции формировался новый взгляд на оставленную Россию —
через освобождение от зашоренности, от предвзятых представлений, от
психологии «хмурых людей», которые наконец «протерли глаза» и «стали отдавать
себе отчет» в том, что было безвозвратно утрачено. Только в ситуации
массового «исхода» впервые в истории национальной культуры появилась
возможность осознать действенность идейной направленности двухвекового
литературно-художественного развития, обратного воздействия слова нереальность.
И если один из главных русских вопросов — «Кто виноват?» — в литературе
сохраняется (хотя приобретает новые, злободневные грани), то призывное
«Что делать?» (ибо ответа на глумливое «Ке фер»4 быть, разумеется, не могло)
заменяется горестно-недоуменным «Как сделалось?». Ответ на этот вопрос
составляет «нерв романа, его духовный центр», пишет о красновских
«Цареубийцах» — ключевом произведении не только в творчестве генерала, но в какой-то
мере во всей романистике русского зарубежья — О.Н. Михайлов [1995: 381].
П.Н. Краснов и М.А. Алданов обратились к жанру исторического романа
именно с целью найти в отдаленном прошлом ответы на самый злободневный
вопрос — о причинах и движущих силах русской революции. Не случайно
мысль о сопоставительном анализе творчества обоих писателей зародилась у
И.А. Ильина при обдумывании плана лекций о русской литературе. С
предварительным списком он познакомил И.С. Шмелева, отозвавшегося по
обыкновению страстно, целым залпом афоризмов, хлестких и во многом верных.
«Параллель» Алданов - Краснов вызвала у него большие сомнения, ибо
может быть обидна для обоих. Краснов — серо-даровит, мало я его знаю,
впрочем, Алданов — культурно-умел, без «зерна», без любви и страсти —
бесплоден. Но — хорошей выучки. Если бы их обоих смешать... взболтать, — вышло
бы нечто. Алданов — для историко-времяпрепровождения культурных
обывателей, Краснов — для импульсивной и не слишком требовательной массы:
Вербицкая в мундире, со знаменем и вестовым трубачом; с дарованием
безусловным, но... от гвардейской все-таки казармы и офицерского собрания.
Алданов — умный ученик из приготовительной школы Льва Толстого, с
репетитором — Анат<олем> Франсом, без гроша за душой, и умно выбивающий
карьеру. Это — мефистофельчик-литератор. Ох, между нами — а то отзывы
писателей случайно просачиваются и портят воздух уже достаточно
насыщенным угаром. Ну, стоит ли — параллели? Уж лучше две лекции: Алданов, потом
Краснов [Переписка двух Иванов 2000, 3: 203].
Нобелевскому комитету предстояло оценить этих двух представителей
русской эмигрантской литературы, неизменно сопоставляемых антиподов, в
обратном порядке.
Задаваясь вопросом, кто совершил русскую революцию, которая не могла
быть ни буржуазной, поскольку сам класс буржуазии в стране, где только за
4 Сформулированное в одноименном рассказе H.A. Тэффи (1920): «А вот... ке фер? Фер-то
ке?» (франц. «que faire?»).
207
полвека до «великих потрясений» была отменена крепостная зависимость,
находился еще в стадии формирования, ни пролетарской, ибо и класса
профессиональных и способных к организации рабочих в России тоже не
существовало, Федор Степун приходит к выводу: «Правилен только один ответ:
революционная интеллигенция, рожденная духом петровских
преобразований» [Степун 1992: 269]5. Философ и культуролог, Степун дает и свое
толкование специфически русского понятия «интеллигенция»: «...интеллигентом
является <...> каждый, кто жертвенно борется за превращение монархии в
правовое государство, независимо от степени своего образования» [Там же:
270]. Согласно этому определению П. Краснов не только ничего общего не имел
с интеллигенцией, но был ей глубоко чужд: еще и этим, а не только
действительными и мнимыми недостатками его прозы, объясняется
пренебрежительное отношение критики зарубежья к его широко читаемым романам.
В 1926 г., т. е. за несколько лет до того как принять активное участие в
кампании в поддержку бунинской кандидатуры, пражский профессор Владимир
Андреевич Францев по собственной инициативе обратился в Нобелевский
комитет, называя имя другого — «значительного» — писателя, а именно Петра
Николаевича Краснова. Генерал от кавалерии, последовательный враг
большевизма, Краснов не оставлял политической деятельности и в эмиграции. Но
неожиданно ярко в изгнании раскрылся его литературный талант. Творческая
плодотворность Краснова поражает: с 1921 по 1944 г. он опубликовал более 40
книг6. Многие из них пользовались огромной популярностью, начиная с «самой
ходкой книги на зарубежном рынке» [Струве 1996: 93] — четырехтомного
повествования о событиях пред- и пореволюционных лет «От Двухглавого Орла к
красному знамени» (Берлин, 1921-1922). Отмечая «тематическое и жанровое
многообразие» прозы П. Краснова (эпопеи о современной жизни,
приключенческие романы, антиутопия, исторические романы), О.Н. Михайлов называет
подлинной героиней романистики Краснова Россию [Михайлов 1994: 37].
Патриотические чувства, двигавшие элегантным пером
профессора-эмигранта в его обращении в «досточтимый» Нобелевский комитет, были особенно
обострены. Францеву довелось жить и работать в славянской стране и с
горечью наблюдать нарастающие антирусские настроения, сменившие «старый
великий дух, высокие идеалы, безупречную, чистую, умиляющую душу службу
народу и Славянству» (цит. по: [Öurisin 1964: 441]). Эти высокие идеалы,
созвучные многим изверившимся изгнанникам, он нашел в романистике генерала
П.Н. Краснова. Замечательно, что профессор-славист рекомендует генерала не
только как «выдающегося художника», но прежде всего как писателя, который
5 Свою концепцию роли интеллигенции в революционном преобразовании страны, две
трети которой составляло крестьянство, Ф.А. Степун излагает в книге «Лик России и лицо
революции» [Stepun 1934].
6 Библиографию сочинений П.Н. Краснова см., например, в [Ивлев 2000]. В. Казак приводит
цифру 41 [Kasack 1992: 593].
208
прямо посвятил свое творчество «делу мира и мысль о мире все более и более
распространял и укреплял своими мастерскими произведениями».
«Это единственная, уникальная во всей русской литературе фигура, —
справедливо полагает современный исследователь, — в которой крупный
военачальник, решавший в годы смуты и Гражданской войны судьбу России,
соединился с видным писателем» [Михайлов 1995: 381]. Соединился для того, чтобы
невозможное в условиях эмиграции активное служение России осуществить на
страницах своих исключительно искренних и страстных книг. «Краснов никого
не предавал», — замечает О.Н. Михайлов в очерке о жизненном пути «атамана»
[Там же: 372]. До смертного часа он оставался горячим патриотом: «Что бы ни
случилось — не смей возненавидеть России, — наказывал он внучатому
племяннику в Лефортовской тюрьме перед казнью. — Не она, не русский народ
виновники всеобщих страданий <...> Недостаточно любили свою родину те,
кто первыми должны были ее любить и защищать» [Краснов 1957: 83].
Патриотический пафос и привлекал прежде всего сердца читателей этого «дурного
писателя» [Адамович 19336: 3].
Оказавшись в эмиграции7, П.Н. Краснов действует по-военному четко и
организованно. Во-первых, спешит изложить и опубликовать свежие
воспоминания о недавнем прошлом — документально строго дать свой отчет о тех
событиях Гражданской войны, участником которых он был; его записки, наряду
с мемуарами других крупнейших военачальников, возглавлявших белое
движение или участвовавших в нем, обладают непреходящей ценностью
подлинного свидетельства [Краснов 1922, I: 97-190; V: 190-321]. Во-вторых, генерал
включился в антибольшевистское, антисоветское движение, развернувшееся
в эмиграции, являлся членом Верховного монархического совета. В 1921 г. он
вместе с герцогом Г.Н. Лейхтенбергским и публицистом С.А. Соколовым-Кре-
четовым создает тайное «Братство Русской Правды» и становится активным
сотрудником издававшегося в Берлине (1922-1933) журнала «Русская Правда»,
а также возглавляет Союз русских патриотов. Поскольку деятельность
конспиративной организации не только не приносила плодов, но была по большей
части иллюзорной, свои упования и чаяния Краснов перенес в художественную
прозу.
Четкость (почти уставная, по присяге) нравственных ориентиров,
отсутствие какой бы то ни было рефлексии в авторской позиции, «боевой дух»,
определяющий тональность повествования, позволяют Краснову противостоять
общеэмигрантским настроениям тоски и безысходности. Сильные стороны
Краснова — исторического романиста (широта познаний, легкость и
стремительность повествовательной манеры, занимательность фабулы) были
очевидны критикам и писателям эмиграции: «так много знает и так занятен», заметил
7 После поражения на Дону (в мае 1918 г. Краснов был избран атаманом Войска Донского) и
неудачного наступления Северо-Западной армии H.H. Юденича на Петроград (1919), в котором
Краснов участвовал как доброволец, он выезжает в Германию.
209
(правда, весьма прохладно) Иван Бунин [Устами Буниных 1977-1982, III: 55].
Склонность к авантюрным поворотам сюжета (Краснов был автором
нескольких приключенческих повестей для юношества) и любовным коллизиям (в
основу романа «Цесаревна» ложится история взаимоотношений Елизаветы
Петровны с Разумовским) способствует динамизму оживших картин
исторического прошлого, а порой — такой эпической мощи и широте, что
скептический Адамович удивлялся: «Будто и в самом деле "Война и мир"» [Адамович
19336:54].
Примеры стремления к идеалу в художественной прозе русского зарубежья
чрезвычайно редки и связаны прежде всего с четкими и ясными
императивами раз и навсегда обретенной высшей духовной ценности — православия.
Наиболее убедительно в этом плане, разумеется, творчество И.С. Шмелева. Но
П.Н. Краснов не погружается в мир русского православия, от бытовой до
духовной его ипостаси. Философия его, лишенная сомнений и вполне
удовлетворенная тем, «что дает ему православная церковь», так же «проста», как и его
вера; эта «полезная» философия, по словам К. Попова, восторженного
поклонника генерала-романиста, цементирует «моральные устои национального
организма государства» [Попов 1934: 77]s. Называя творческий метод писателя
«соцреализмом наоборот» (О. Михайлов), не стоит подчеркивать этой оценкой
только недостатки: тенденциозность прозы Краснова («бесовское начало»
советской власти) и ее пафос («жажда борьбы» с нею, см. [Юдин 1995: 50]) не
только отличают его творчество от идейно дезориентированной романистики
русского зарубежья в целом, но демонстрируют — достаточно неожиданно —
сходство параллельно и независимо идущих в эмиграции и в советской России
литературных процессов.
Та историческая проза, которую создавал в эмиграции генерал Краснов,
сочетает в себе романтизацию героических страниц прошлого государства
Российского и особый горький привкус своеобразного «конца истории».
Интересно и другое: самозабвенная любовь к родине, «к родному пепелищу» и
«отеческим гробам» поворачивает Краснова лицом к народу как творцу
истории9, что нисколько не уменьшает роли подлинных исторических деятелей и
8 «Он простак, этот Попов, георгиевец», «боевой капитан об одной руке», автор книг
«Воспоминания кавказского гренадера» и «Господа офицеры», — такую аттестацию дал поклоннику
Краснова в письме к И.А. Ильину И.С. Шмелев [Переписка двух Иванов 2000, 3: 398].
9 Весьма характерны воспоминания племянника П.Н. Краснова, H.H. Краснова, также
офицера, вместе с дядей воевавшего на стороне вермахта и выданного англичанами по Ялтинскому
соглашению советской стороне. Для бывших белых офицеров, непримиримых врагов советской
власти, выступивших против своей страны с оружием в руках на стороне гитлеровской
Германии, — Краснова, Шкуро — огромным потрясением стало общение с «красноармейцами»,
русскими солдатами, вновь дошедшими до Европы. Потрясением было, после десятилетий глухой
ненависти, обнаружить, что русский человек, русский народ не погиб, а продолжает
существовать и одерживать победы. Этих советских солдат («хорошие ребята») вспомнил П.Н. Краснов в
Лефортовской тюрьме при последнем свидании с племянником — одному вскоре предстояла
210
вымышленных лиц — его основных романных персонажей. Упоение героикой
давних лет, боевым духом русского народа в былые эпохи роднит творчество
Краснова с тональностью «Тараса Бульбы»; жизнеутверждающий пафос
становления и укрепления российского государства, овевающий красновские
сочинения, делает их уникальным явлением в литературе эмиграции.
Пессимистичность заголовка романа «Все проходит» оправдана только невозможностью
преодолеть горечь эмигрантского восприятия последнего поворота российской
истории: покоряющие величием исторические события, подлинный героизм,
сила личностей и мощный волевой импульс мужественных завоевателей новых
земель и строителей государства, ради процветания которого отдано столько
жизней, талантов, веры, — все это было в одночасье разрушено10.
Тем более важные задачи решает в своей исторической романистике Петр
Краснов — самый (если не единственный) «идейный» писатель эмиграции,
акцентируя внимание читателя на национальной героике, вдохновляя его
победами, почерпнутыми из «славного прошлого». В авантюрно-приключенческом
повествовании о взятии Азова — а именно этим событиям посвящен роман
с заимствованным из Экклезиаста названием («Все проходит», 6. м., 1923) —
документальные сведения увлекательно переплетаются с любовной мелодрамой,
а героям уготованы поистине волшебные превращения. Еще не сложившаяся
география русского царства XVII века, представленная в романе в свежем,
первозданном мире завоевываемых и осваиваемых неведомых земель, обличает
в писателе бывалого путешественника и военачальника, привыкшего к чтению
карт и движению по самым прихотливым маршрутам (с исследовательскими
экспедициями Краснов побывал в Сибири, Маньчжурии, Китае, Японии,
Индии, Абиссинии): Р. Гуль отмечал, что «прекрасно писать» П. Краснов мог
«только о том, что он знал» [Гуль 1984,1:131]. Замечательно, что в творческом
почерке генерала, которого элитарная литературная критика не решалась отнести
к профессиональным писателям, проявляются глубинные традиции русского
художественного слова. Это без труда подметил Г. Адамович, изумляясь
«широте и непринужденности» первого тома тетралогии и тому, что «характер и дух
его писаний прямо шолоховский» [Адамович 19336: 54]п.
казнь, другому годы сталинских лагерей: «Ни в чем я их винить не могу, а они-то и есть —
Россия!» (см. (Краснов 1957: 83]).
10 Трагическая судьба самого П.Н. Краснова и оказалась обусловленной нежеланием
мириться с революционным преобразованием исторической России — государства с тысячелетней
историей, неотделимой от православия и самодержавия, — в новое, идеологически чуждое
государство.
11 Памятуя о главной теме настоящей книги, обратим внимание на год размышлений
ведущего критика эмиграции о «Тихом Доне» — именно в 1933 г. Бунин стал первым русским
нобелевским лауреатом по литературе. Однако в свете некоторых шолоховедческих (впрочем, скорее
«антишолоховских») изысканий последнего времени параллели между художественной манерой
Шолохова и Краснова не выглядят так однозначно; см., например, [Макаров, Макарова 1993]. Как
доказывают, между прочим, авторы указанной статьи, Шолохов опирался на текст воспомина-
211
Один из старейших писателей эмиграции, A.B. Амфитеатров, сам много и
охотно обращавшийся к жанру исторической романистики, размышляя о ее
своеобразии в эмиграции, высказывался довольно нелицеприятно о «русских
Вальтер-Скоттах» и обвинял их в малограмотности (И. Лукаша) или
анахронизмах (Краснова). В письме к Вяч. Иванову Амфитеатров негодует:
У П.Н. Краснова в романе «С нами Бог» москвичи преважно рассуждают в
1811 году о превосходстве русской истории Карамзина над русской историей
Полевого за семь лет до выхода первой и лет за двадцать до второй
[Амфитеатров и Иванов. Переписка 1997: 514].
Приговор Амфитеатрова исторической романистике русского зарубежья,
вынесенный в частном письме через несколько лет после номинации генерала
Краснова на Нобелевскую премию, звучит весьма неутешительно:
Боже, какая труха! Не удивительно, что Алданов имеет такой большой успех:
помимо таланта, ума и образования, работает на почти девственной почве
[Там же].
Не будет натяжкой признать, что первым критиком, подробно и
непредвзято рассмотревшим литературную продукцию П.Н. Краснова, появившуюся к
1926 г., стал эксперт Нобелевского комитета Антон Карлгрен. Свой
многостраничный отзыв о Краснове12 он предваряет следующим пассажем:
Этот интересный герой смутного русского времени определенно заслуживает
изучения — изучения, которому, и это можно сказать с самого начала, не место
в отчете для Нобелевского комитета Шведской академии.
Эксперт не сомневается в том, что Петр Краснов — «единственное в своем
роде явление в русской литературе» — интересен прежде всего своей
биографией. Однако в отзыве он поневоле должен придерживаться анализа
творчества, а не разворачивать перед академиками тот «настоящий
приключенческий роман», каким была жизнь казачьего генерала и плодовитого прозаика.
Пересказывать эксперту пришлось несколько романов, подробнее всего «От
Двуглавого Орла к красному знамени», а также «Опавшие листья» (1923),
«Понять— простить» (1924), «Единая-неделимая» (1925) и «За чертополохом»
ний П.Н. Краснова «На внутреннем фронте», причем все «заимствования» «сделаны только по
тем текстам, которые были опубликованы в двух томах "Архива русской революции" <...>
(Берлин, 1921-1922; М., 1991)» [Макаров, Макарова 1993: 191]. Но замечательнее всего следующее
наблюдение исследователей: красновские мемуары о Гражданской войне, полагают они,
написаны «кратко, живо, интересно, наконец, хорошим литературным языком. Включение отрывков
из них в текст "Тихого Дона" не бросается сразу в глаза. Поэтому долгое время эти отрывки
воспринимались как органическая часть текста "Тихого Дона". В частности, И.Н. Медведева-Тома-
шевская, автор "Стремени <Тихого Дона>", отнесла многие отрывки из книги П.Н. Краснова к
авторскому — по ее терминологии — тексту» [Там же: 193] (курсив цит. авторов).
12 28 машинописных страниц имеют не стандартный размер, а содержат 35 строк, т. е. общий
объем экспертного заключения составляет почти полтора стандартных печатных листа.
212
(Ï926)13. Между прочим, шведская пресса следила за творчеством «романиста,
казачьего генерала» и в марте 1924 г., когда его тетралогия начала выходить в
шведском переводе («Frân dubbelörnen tili röda fanan»), газеты сообщали о
публикации в Германии нового произведения П.Н. Краснова (Svenska dagbladet,
23.03.1924, s. 4)14.
По поводу тетралогии, особенно ее первой части, эксперт замечает, что
«если автору и уготовано место в истории русской литературы, то именно
благодаря этому труду»15. Антон Карлгрен добросовестно излагает сюжет эпопеи,
отмечая его повороты лишь некоторыми недоуменными ремарками; так, его
удивляет, что писатель, взявшийся за изображение сложного времени
революционного брожения в России, «не делает никаких различий между
революционерами» и не рассматривает их многочисленных программ,
ограничиваясь весьма общими определениями «партия» или «красный», полагая, что
его читателям этого вполне достаточно. Останавливаясь на ключевых эпизодах
романа, Карлгрен умело подбирает цитаты, достигая сразу нескольких целей:
он знакомит шведских академиков с содержанием, дает представление о
литературном мастерстве разбираемого писателя и анализирует те идеи, на
которых зиждется четырехтомное творение о русской судьбе. Нобелевскому
эксперту без труда удается заметить, как «в высочайшей степени субъективны
глаза» писателя-генерала. Это касается не столько его изобразительной
манеры (в частности, Карлгрен приводит яркий пример — красновский образ царя
как высшего существа в ореоле славы и величия), сколько прямолинейной
трактовки исторических событий. Военная выправка определила
литературный почерк Краснова, верившего, по свидетельству мемуариста, в
«разрешение всех вопросов» «безапелляционно, по-офицерски, абсолютно» [Краснов
1957:23].
13 Некоторые из этих книг были отрецензированы в выходивших в Берлине газетах: Када-
шев В. [Рец.] П.Н. Краснов. За чертополохом // Руль. 14.05.1921; Слоним М. [Рец.] Краснов П.Н.
Опавшие листья // Дни. 27.05.1923.
14 Сообщение о книжной новинке для владеющих немецким языком читателей (речь шла о
романе «Понять— простить» (Verstehen heisst vergeben. Jena, 1923-1924) вряд ли случайно
помещено рядом с переводом стихотворения Гельдерлина «Песнь немца».
15 На долю этой эпопеи «выпал поистине громадный успех», — отметил в 1922 г. Д. Свято-
полк-Мирский, кратко обрисовывая состояние прозы русской эмиграции: «Генерал Краснов дал
доказательства неоспоримой государственной деятельности и исключительного
организационного дара. Но человек деятельный — не всегда человек литературный. Роман генерала Краснова
ниже всяких приемлемых стандартов литературного произведения. Невероятно претенциозный
замысел реконструировать ход событий, который превратил Россию царскую в Россию
ленинскую, выполнен в грубой и бульварной манере, — любовная линия ничем не лучше
соответствующих эпизодов у Вербицкой или любого другого "бульварного" писателя, и в погоне за
сенсацией автор не останавливается ни перед скандально-клеветническим изображением замученной
великой княжны Татьяны, ни перед смехотворным представлением "Протоколов сионских
мудрецов", будто бы дававших инструкции Ленину!» [Svyatopolk-Mirsky 1989: 83-84].
213
Карлгрен готов признать:
Описания офицерского сословия, жизни офицеров и их психологии весьма
хороши в сравнении со многими лучшими картинами этой среды в русской
литературе.
Эта оценка так или иначе звучала и в эмигрантской критике, повторяется
она и в наши дни. Нобелевскому эксперту мог быть известен отклик на крас-
новскую тетралогию А.И. Куприна, увидевшего в ней «много прямой и жесткой
правды» [Васильев 2002а: 286]16. Окончивший Александровское училище, сам
офицер и автор многих известнейших произведений об армии и офицерстве
(«Кадеты», «Юнкера», «Поединок», «Штабс-капитан Рыбников» и др.), Куприн
может рассматриваться в этом случае как авторитетный критик. Он полагал,
что в описании военных эпизодов и офицерства Краснов «проявил себя
настоящим художником, находя подобающие краски, обнаруживая и правдивость, и
силу, и выразительность языка» [Там же]. Карлгрен солидаризуется с
Куприным, давая, впрочем, гораздо более развернутую характеристику лучшим
страницам романа:
...жизнь и настроения на фронте, внешние причины поражения,
противоречия психологии перед поражением, во время боя и на больничной койке — все
это представлено во всей полноте и наглядности, все это захватывающе,
стремительно и красочно в описаниях.
Заключительный залп иронии шведский славист дает лишь по последним
страницам романа, «излишне грешащим розовым цветом». «Мрачные
краски, — пишет эксперт далее, — Краснов приберегает для иных картин —
начавшегося разложения в самой армии и в тылу». Как только генерал становится
тенденциозен, даже воодушевляемый самыми идеальными помыслами, он
«демонстрирует невероятную политическую наивность», считает Карлгрен.
Изъятые из общего «захватывающего» сюжета образы и высказывания писателя,
например, о заранее спланированной большевиками гражданской войне,
действительно, не блещут политической зрелостью. Образ Ленина выходит у него
столь «тусклым», что Краснов «вряд ли когда-нибудь видел и слышал его», не
без оснований полагает Карлгрен; но едва писатель переходит от фантазий
(чего стоит подробно пересказанная Карлгреном история происхождения
«вождя мирового пролетариата»!) к известным ему событиям и фактам,
состоянию армии, как к нему вновь возвращается сила «беспощадного и
убедительного реализма».
В сочинениях Краснова, однако, писатель и политик (идеолог) неотделимы
друг от друга, а потому критику приходится от позитивных суждений вновь
переходить к негативным оценкам, и в этой манере проставления плюсов и ми-
16 Как уже отмечалось, в своих экспертных заключениях для Нобелевского комитета
А. Карлгрен никогда не ссылался на критическую литературу, даже если упоминал об
использованных источниках.
214
нусов романистике Краснова написан, в сущности, весь экспертный отзыв. Так,
похвалив зрелый реализм писателя, Карлгрен в процессе чтения обнаруживает
сначала однобокое (естественно, идеализированное) изображение царской
семьи и царизма в целом, затем ожесточенное и исторически несправедливое
восприятие Февральской революции и, наконец, ставящее его просто в тупик
описание происходящей в России катастрофы как происков «международного
еврейского правительства». Эти «будоражащие теории» предстают в романе
«От Двуглавого Орла к красному знамени» как плод «дикой горячечной
фантазии» и «как ничто другое иллюстрируют ту степень безответственности,
которая отличает политические взгляды писателя».
Нобелевский эксперт оценивает последний том тетралогии как «страшную
главу о страшнейшей в мировой истории гражданской войне, главу, которая
своими сильными красками убеждает в своей безусловной правде». Однако
двухполюсная художественная манера Краснова заставляет шведского критика
осторожно отнестись к эпопее в целом, и созданному «эмигрантской
фантазией» и концентрированно воплощенному в романе чудовищному
представлению о «большевистских кровожадности, жестокости и сатанизме» Карлгрен
доверять не склонен. Если идеологическая подкладка тетралогии заставляет его
содрогнуться, то «чрезмерно гротескное, карикатурное» изображение
большевистского правления в последних частях книги (из приведенных Карлгреном
примеров один особенно восхитителен своей средневековой доходчивостью —
рога, зримо вырастающие под шевелюрой Троцкого17) эксперт вообще отказы-
17 Кстати, само смущение шведского слависта при чтении подобных пассажей
свидетельствует не только о его здравом рационализме, но и о довольно смутном представлении
относительно тех умонастроений, которые будоражили сознание русских людей, независимо от сословной
принадлежности и образования. Ср.: «Вся русская земля: тысячи солдат, перебывавших на всех
фронтах и много уразумевших, вся встревоженная молодежь <...>, горластая деревенская
чайная, визгливые бабьи сходки, темные теплушки — эти подвижные академии общественного
мнения, перестукивания интеллигенции через стены советских учреждений, тюрьмы и церковь
<...>», — так много позднее довольно удачно характеризовал Федор Степун духовное и
интеллектуальное брожение в умах народа и интеллигенции в послереволюционную эпоху [Степун
1992: 221]. Мережковские совершенно всерьез рассуждали о пришествии «Царства Зверя» и об
Антихристе; образ последнего являлся не только в умозрительных построениях русских
мыслителей или в хлесткой публицистике, но принимал иногда даже комическое обличие. Так, еще до
высылки из советской России группы философов многие из них собирались на заседания
Вольной академии духовной культуры, в том числе и на квартире Бердяева; разумеется,
просачивались на такие собрания и осведомители властей. Услышанное ими попадало иногда и на
страницы советских газет; в одной из заметок сообщалось, в частности, что «на очередном собрании
обсуждался вопрос: является ли Ленин антихристом? — и якобы было решено, что он не
антихрист, но лишь его предшественник» (см. [Вадимов 1993:187]). Однако этот «образ» был введен в
русскую литературу задолго до революционной эпохи: Антихриста видели в Петре I, в Наполеоне
(отголоски чего явственны в «Мертвых душах» Гоголя). Ср. также начало «Войны и мира»: «Нет,
я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе
защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что это Антихрист), — я вас
больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите» [Толстой 1928-1958,9:
3]. Замечательно, что при работе над текстом романа Толстой «снял» упоминание о человеческой
215
вается признавать литературой, считая его «чистой агитацией, неуклюжей,
неудачной агитацией, которая достигает эффекта, прямо противоположного
желаемому», — безвкусные и фальшивые сочинения способны лишь отвратить
европейское общественное мнение.
На эпопею Краснова и в эмигрантской печати появлялись не только
хвалебные отзывы: «этот огромный труд всего только зауряден» (И. Василевский-
Не-Буква), «халтурные романы» «бульварного писаки» (Б. Александровский)
(цит. по: [Васильев 2002а: 284-285]). Нобелевский эксперт словно пытается
совместить в своем анализе альтернативные подходы к эпопее. Отношение к
роману как к «русскому революционному эпосу» и его сравнение с великой
книгой Толстого эксперт предпочитает передоверить неопределенно-личным
конструкциям — такой славой, по словам Карлгрена, роман пользуется
«особенно в Германии». Не отрицая исторической достоверности и увлекательности
повествования, Карлгрен справедливо указывает на главное и
катастрофическое упущение писателя — его упорное нежелание «сделать хотя бы попытку
изучить противостоящее движение», которое увлекло за собой «девять десятых
русского народа». Исследователь наших дней справедливо корректирует
близорукость современников (включая и нобелевского эксперта) в анализе
тетралогии:
Большое историческое полотно, произведение, создававшееся едва ли не
синхронно с описанными в нем событиями, трагические последствия которых все
еще составляли главное содержание душевной жизни их активных свидетелей
и участников, оказавшихся за рубежом, роман проникнут духом борьбы с
противником — большевиками и советской властью. Этим обстоятельством во
многом объясняются как его художественные достоинства, так и просчеты
[Там же: 286].
Теми же настроениями непримиренности, отчаяния и озлобленности
пронизаны и самые яркие произведения писателей-эмигрантов о революции и
Гражданской войне — «Окаянные дни» Бунина и «Солнце мертвых» Шмелева,
только, в отличие от Краснова, они облекают свои непосредственные
впечатления и переживания не в романную форму, а в публицистическую. Попытка
совместить беллетристику и сиюминутность деформировала роман Краснова,
а законное требование критика — нобелевского эксперта — стать на позицию
объективности, изучить18 мнение противника и, возможно, признать его
историческую правоту — было просто неосуществимо для крупного военачальника
в обстановке Гражданской войны, когда шла работа над заключительным
томом. Разумеется, поступи Краснов именно так, ценность — и идейная, и
художественная — его произведения стала бы неизмеримо выше. Впрочем, Пушкин
уже попытался это проделать применительно к сходной исторической ситуа-
сущности «узурпатора»; ср. в черновой редакции: «...все гнусности, совершаемые этим
человеком, да это не человек, прости меня, господи!» [Там же, 13:198].
18 Карлгрен употребляет именно глагол studera — изучать.
216
ции гражданского противостояния; «...однако "примирительные" настроения
и призывы взглянуть на историю "взглядом Шекспира" встречали в
собственном сознании Пушкина противодействие», — замечает Ю.М. Лотман, поясняя:
В истории Пушкин открывал для себя кровавые и непримиримые
противоречия, трагизм которых заключался в том, что каждая из враждующих сторон
обладает своей непререкаемой правдой, исключающей примирение и
компромисс [Лотман 2000: 403-404]19.
Разница состоит лишь в том, что Пушкин — Поэт, сумевший понять обе
правды и возвыситься над ними, а Краснов, свидетель и участник событий,
оставался всегда лишь пишущим генералом.
Перелистывая одну за другой книги Краснова, изданные к середине
1920-х гг., нобелевский эксперт уделяет им больше или меньше внимания и не
ставит ни одну выше другой, откровенно изумляясь лишь некоторым
художественным находкам. Особенно же потрясает копенгагенского профессора
идеализирующая царскую Россию утопия «За чертополохом», которую Карлгрен
обильно цитирует и с сожалением вынужден прерваться из-за невозможности
перевести для шведских академиков весь текст — творение «чисто русской
монархической психологии»20. Общий вывод для эксперта не представляет труда:
С чисто литературной точки зрения — несмотря на отдельные достоинства —
слабо; ценность (творчества Краснова. — Т.М.) чисто историческая.
Однако, по мнению шведского критика, эту историческую ценность
представляет собой сама личность генерала-литератора, обломка старой
монархической России, чья «автобиография последних лет представлена в его
творчестве с редкостной полнотой и откровенностью». Неизвестно, узнал ли
А. Карлгрен продолжение и финал воистину неординарной судьбы генерала21.
Развлеченные пространным отзывом, члены Нобелевского комитета сочли
необходимым «для общего блага, без долгих обсуждений, решительно откло-
19 Об этой невозможности примирения свидетельствует и заметка с характерным
названием, появившаяся в одной из крупных российских газет в ответ на издание двухтомника
произведений Краснова, расцененное как «зловещий симптом» (Гримберг Ф. Пламенный русский
привет // Независимая газета. 31.08.2000).
20 Рецензент не может удержаться от ряда шутливых замечаний в скобках: например,
упоминая возглавляющего утопическую Россию царя, «настоящего Романова», Карлгрен замечает, что
претендентам теперь «не на что надеяться»; отмечая ту важную роль, которую играет в
повествовании автомобиль, эксперт доволен — «для старого кавалериста особенно отрадный факт» и т. д.
21 По условиям Ялтинского соглашения воевавшие на стороне гитлеровской Германии
казаки были выданы англичанами союзнику, Советскому Союзу. П.Н. Краснов разделил судьбу
многотысячной армии пленных, был арестован, депортирован в СССР и в 1947 г. казнен по
приговору военного трибунала в московской Лефортовской тюрьме. К сожалению, в некоторых
публикациях все еще бытует мифологическая информация, усвоенная русской эмиграцией в
послевоенное время, ср. в недавнем издании: «Повешен большевиками на Красной площади в Москве
в 1945 г.» [Пахмусс 2003: 194].
217
нить» кандидатуру П.А. Краснова — «русского писателя, генерала». В
«Заключении» 1926 г. сказано:
Произведения этого писателя признаны экспертом неудовлетворительными
в литературном отношении, достаточно прочесть одно из них, первое и без
сомнения лучшее, чтобы без малейшего сомнения решительно их отвергнуть
[Nobelpriset i litteratur, II: 81].
Вероятно, в этом случае шведские академики не ошибались: серьезного
следа в русской литературе творчество казачьего генерала не оставило. Те же
сочинения, которые оказались за рамками экспертного рассмотрения А. Карлгре-
на, — собственно историческая беллетристика, не затронутая злобой или,
скорее, ненавистью дня, — остаются прекрасным приключенческим чтением,
хотя и не достигающим уровня и славы Вальтера Скотта или Майн Рида, но
ничем не хуже романов А. Ладинского или В. Яна.
Сам Краснов никогда не заблуждался насчет своего места в русской
литературе, видя подлинного художника в Иване Бунине. Осмелившись обратиться
к ведущему писателю русской эмиграции с просьбой от своего немецкого
переводчика барона фон Кампенгаузена22 — узнать условия перевода и публикации
«небольших вещей» Бунина, прежде всего вызывающего всеобщий восторг
«Солнечного удара», Краснов пишет:
Пользуюсь случаем высказать Вам мое постоянное восхищение всеми Вашими
вещами. Я их не только читаю, но изучаю, чтобы постичь бесконечную
прелесть и очарование Вашим творчеством <sic!> и поучиться у Вас.
Мне было бесконечно тяжело, что моя постоянная болезнь (ноги)
помешала мне в позапрошлом году воспользоваться Вашим приглашением и побывать
у Вас. А живя в деревне и нигде не бывая, я не имел случая встретиться с Вами,
кроме как на этом сумбурном Зарубежном Съезде, где я не мог протолкаться к
Вам (РАЛ, MS. 1066/3362, письмо от 24.09.1926)23.
Своими впечатлениями о творчестве Бунина (раскрывая собственные
склонности и увлечения) Краснов поделился и в поздравительном послании
1933 года. Поздравления становятся своеобразной рамкой, в которую генерал-
романист неожиданно вставляет очень лично окрашенный пассаж:
Давно, давно читал я Вас и все напечатанное и написанное Вами прочел.
И всем восхищался. Но знаете ли, что часто читаю вслух, когда меня попросят
(о! в очень маленьких интимных кружках), — и всегда дрожит мое сердце от
умиления и голос прерывается?
Никогда не угадаете...
«Сны Чанга»!..
22 Чье владение русским языком не было удивительным: Краснов сообщает адрес «своего
немецкого переводчика» — Латвия, Рига, Межапарк (район частных вилл).
23 Русский зарубежный съезд состоялся в апреле 1926 г. в Париже.
218
Может быть потому, что служба сроднила меня и кровью спаяла с
Дальним Востоком и Китаем, что я очень люблю животных — лошадей и собак, —
но не устаю наслаждаться глубинами этой маленькой и такой прелестной
вещи, где вижу так много знакомых картин (РАЛ, MS. 1066/3363, письмо от
10.11.1933).
Собственное творчество Краснова, никоим образом не поднимающееся
до высот подлинной литературы и справедливо не отмеченное Нобелевской
премией, своих, весьма влиятельных ценителей в предвоенное время нашло.
В 1930-е гг. ряд книг Краснова, созвучных гитлеровской трактовке «иудо-
большевизма», был переведен на немецкий язык24 и сыграл известную роль в
процессе формирования образа врага — СССР — перед Второй мировой
войной. Однако это будущее «созвучие» уловил уже А. Карлгрен — только в 1926 г.
он и представить себе не мог, куда заведут Краснова и особенно правителей
приютившей его Германии некоторые теории, ростки которых неприятно
поразили шведского слависта уже в тетралогии «От Двуглавого Орла к красному
знамени». Изумляясь исключительной зашоренности генерала, нобелевский
эксперт замечает, что те люди, которые находятся «за пределами того, что в
старые времена называли "истинно русский человек", — это для него грязные и
подлые предатели», а герой — alter ego автора делит все человечество по
признаку физической красоты и здоровья («свои», единомышленники) и уродства
и безобразия (противник): «...прежде всего это относится к большевикам,
в описание которых он не вносит и доли здравого смысла, выходит из себя и
компрометирует не большевиков, а себя самого». Именно этот заряд
антибольшевистской ненависти, неприемлемый для Нобелевского комитета, неизменно
декларирующего свою политическую нейтральность, оказался
востребованным национал-социалистской пропагандистской машиной Германии, где
Краснов нашел убежище в первые годы эмиграции и где он, по словам майора
барона Р. фон Кампенгаузена, сражался «духовным оружием за восстановление
своего Отечества» [Krasnow 1925: 4].
24 Krasnov Р. Vom Zarenadler zur roten Fahne: Historischer Roman. Berlin, 1925, 1935 (völlig
neubearb., aus Russ. von Freiherr R. von Campenhausen u. a.), 1940; Leipzig, o. J.; Fallende Blätter. Jena,
1924 (aus Russ. von Freiherr R. von Campenhausen); Das Reich in Fesseln: Roman. Leipzig, 1935 (aus
Russ. von Freiherr R. von Campenhausen); Der endlose Hass: Roman. Berlin, 1938 (aus Russ. von Dr.
Bernhard Schulze); Die Zarenmörder: Roman. Berlin, 1939 (aus Russ. von Dr. Bernhard Schulze);
Russischer Soldatengeist, hrsg. mit Genehmigung und nach Prüfung durch die Deutsche Gesellschaft
für Wehrpolitik und Wehr Wissenschaften. Berlin, 1939. «Истолкование борьбы "красных" и "белых"
как столкновения между христианской Россией и иудео-болыневизмом нашло отражение и в
эмигрантской литературе, прежде всего в первом издании романа, получившего позже широкую
популярность в Германии: "От Двуглавого Орла к красному знамени" казачьего генерала Петра
Краснова», — отмечает современный немецкий исследователь [Baur 1998: 183]. Другой немецкий
автор называет «бестселлеры» Краснова «популярным изложением русского революционного
опыта» («populäre Adaptionen russischer Revolutionserlebnisse») и упоминает их рядом с книгой
Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», воздерживаясь, впрочем, от каких бы то ни
было сравнений [Коепеп 1998: 75].
219
Белая армия, «красная банда» и непроглядно-черная ночь над Россией —
в таких безапелляционно простых, не терпящих нюансировок красках
написаны почти все произведения П.Н. Краснова. Белый стяг, красный флаг, черный
цвет монархического знамени...
Хотя в «серьезных» литературных кругах русского зарубежья П.Н. Краснова
не жаловали ни за беллетристические сочинения, ни за идеологические
перехлесты, однако его нельзя назвать маргинальным писателем. В любопытном
контексте упоминается имя и сочинения Краснова в послевоенном
эпистолярном диалоге Бунина и Алданова. В письме от 20.08.1947 Бунин пишет:
А за Вами есть грешки: нашел «Русский инвалид» от 22 мая 1929 г. — там
генерал Краснов и прочие вроде него — и Вы <...> [Переписка Бунина с Алдано-
вым 1983, Π: 178]25.
Алданов отзывается так в письме от 22.08.1947:
Едва ли не самая лестная рецензия обо мне на русском языке за всю мою жизнь
была написана именно несчастным генералом Красновым. Он писал о моих
романах и политики совершенно не касался. Не упомянул даже о моем
неарийском происхождении. Впрочем, это было до прихода Гитлера к власти
[Там же].
В ответном (23.08.1947) послании, закрывая тему, Бунин восклицает:
Ежели бы я знал, что Краснов так хорошо рецензировал Ваши романы, я бы ни
за что не предал его! [Там же: 180].
Альфред Нобель завещал присуждать премию литературным
произведениям «идеальной направленности». Ему ли было не знать, что в обществе, где
за мир ведут борьбу и устраивают кровопролитные сражения, понятие идеала
тоже приобретает амбивалентные черты — особенно если за перо берется
боевой генерал. Однако Краснов — это яркое, хотя и крайне неоднозначное
явление русской культуры XX века, «реальная фигура нашей истории. Важная
фигура. Его взгляды, его книги — тоже факт истории. И их надо читать, это
литература <...>» [Лесин 2002: 7]. «Герой времени», П.Н. Краснов уникален
лишь экстремальностью основных черт своей биографии. Его благородные
патриотические надежды на возрождение России, сведенные к тупому злобному
антибольшевизму, обернулись в итоге предательством родины, а идеалам,
отраженным в книгах генерала, приговор вынесла сама история, отделив
заблуждения и ошибки от преступления. Его книги издают и читают в современной
России.
25 Своему корреспонденту Бунин дает лестный отзыв о его рассказе «В дороге» — «Как
отлично написано!»; о своем впечатлении от публикации Краснова «Маленькая дача Шуаны»
Бунин не сообщает.
Глава 7
Иван Сергеевич
ШМЕЛЕВ
В 1930 г. в письме к философу И.А. Ильину, своему другу и почитателю,
Иван Сергеевич Шмелев (1873-1950) поделился робкими надеждами на
Нобелевскую премию и сообщил, в частности, что в минувшем году профессор
славистики Лундского университета Сигурд Агрель «представил и
Мережковского, и Бунина. И не остановился ни на одном из них. Провалили ввиду сего
будто» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 190])1. Полагая, что в выборе русской
кандидатуры «мешает политика», что русские эмигранты в Европе чужие —
«пришлые», Шмелев признается: «И вот — предвидя провал — я все же хочу
рискнуть» [Там же]. Сведения о присуждении Нобелевской премии Шмелев
черпает из русской эмигрантской периодики, делая свои, лишь отчасти верные,
выводы из сообщений прессы (например: «"Горе" русским, что нет в Комитете
никого, кто читает по-русски, но есть "представляющие". Один из таких —
копенгагенский профессор-славист Антон Карлгрен» [Там же]). Лишь намекнув в
письме И.А. Ильину о поддержке со стороны «умнейшего человека Европы,
то-нкого ученого и художника»2 и напомнив, что у него вышло «26-28
иностранных изданий, на двунадесяти языках», Шмелев отдает себе отчет в малых
шансах на успех в случае номинации его кандидатуры на Нобелевскую премию:
«Одобряете этот жест наглости? Или — сумасшествия?» [Там же].
Однако больше всего в дерзком желании Шмелева «"силы испытать",
"счастья попытать", кровь пополировать» [Там же: 191] сказалась натура писателя,
склонного, по мнению В.Н. Буниной, успевшей узнать его за месяцы
совместной жизни на вилле «Мон-Флери» в Грассе3 в 1923 г., к исключительной
самонадеянности, прожектерству, к «истерически-литературному отношению к
1 Особенности орфографической манеры Шмелева, стремившегося передать на письме
особенности певучей устной речи, подробно описаны в указанном издании. Отрывки из
процитированного письма частично приведены в изд.: [Сорокина 1994: 225].
2 Г.М. Бонгард-Левин в статье «Кто вправе увенчивать?» уверенно полагает, что Шмелев
имел в виду Томаса Манна [Бонгард-Левин 2001: 142]. Название статьи заимствовано из письма
Шмелева И.А. Ильину, ср. [Переписка двух Иванов 2000, 3: 240].
3 «...Mont-Fleury, которая стоит высоко над Грассом, в большом саду, где растут пальмы,
оливки, хвойные деревья, черешни, смоковницы и т. д.» [Устами Буниных 1977-1982, II: 111].
221
жизни»4. Наблюдательная мемуаристка угадывает и искреннее
самообольщение, и наивную напыщенность, и отсутствие подлинной культуры во многих
поступках и действиях Шмелева. Когда она приводит одну из его излюбленных
фраз, то прямо называет мотив, побудивший Шмелева загореться мечтой о
Нобелевской премии: «Я русский писатель» звучало в устах Шмелева «всегда очень
значительно». Именно осознание собственной высокой миссии и направляет
мысли Шмелева: «Нобель оставил капитал для поощрения писателей,
творчество которых проникнуто человеческим идеалом. Я, думаю, что-то
человеческое приношу к читателям, иначе бы не мог, по совести, называть, считать
себя русским писателем: слишком нас обязывает наша высокая литература. Что
же, могу я соревноваться? Вот и решил» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 191].
Оказавшись в эмиграции, Шмелев «искренне удивлен был, что многие в
Париже не знали о нем даже по фамилии. Удивлен и уязвлен, что Мережковский
не читает его. Он не думает, что происходит это потому, что Дм<итрий>
С<ергеевич> живет в ином мире, что он избалован настоящей мировой
литературой и что Шмелев просто не нравится ему и только, нет, ему кажется, что
Дм<итрий> С<ергеевич> оскорбить его хочет, — записывает свои впечатления
В.Н. Бунина. — <.. .> И мне кажется, ему и в голову не приходит, что критику он
искренне может не нравиться и что сердиться за это на него нельзя». Ощущая
за собой всероссийскую славу, Шмелев ехал в Европу — несмотря на весь ужас
и горе, сопровождавшие его «въезд в Париж», — за славой мировой. «Деньги
нужны, слава?» — восклицает Шмелев в дружеском послании И.А. Ильину,
«другу и учителю», и обрывает свои самонадеянные мечтания:
И уже нет для нас жизни... — а эти «пробы», «посылы книг», «премии», —
оттяжка, забытье, отвлечение, самообман, чтобы «этапики» себе ставить и ждать
сроков, и не замечать дней... [Переписка двух Иванов 2000, 3:191].
Однако та же В.Н. Бунина ставит под сомнение искренность подобных
деклараций житейской отрешенности. Она свидетельствует: «Вообще неправда,
что ему ничего не нужно, как он непрестанно заявляет. Ему все нужно, и
внимание людей, и слава, и автомобиль, и весь комфорт, как он его понимает».
Некоторая наивность, доверчивость к точному соблюдению правил игры
при отважной самонадеянности кажется почти трогательной: «Нет главного, —
сокрушается Шмелев: — представлятеля (sic! — Т. М.). Э, — думаю, рыскну,
зная, что на 99 — провал. По-слал Агрелю 4 книжки немецкие и — письмо.
Скромное. Конкурс — предстаю на суд» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 190].
Однако сам трезво предполагает, что посланные ему книги Агрель в «99
случаях» поставит «на полочку, к миллиону прочих». «Если Агрель, паче чаяния,
представит (на Нобелевскую премию. — Г. М.), — размышляет Иван Сергее-
4 В.Н. Бунина оставила довольно подробные, однако оставшиеся необработанными дневни-
ково-мемуарные записи об И.С. Шмелеве. Тетрадь, озаглавленная «И.С. Шмелев», хранится в
РАЛ ( MS. 1067/467); дальнейшие цитаты со ссылкой на Бунину приводятся по этой рукописи.
222
вйч, — но, думаю, опять или Бунина или Мережковского представит — тогда я
все же хоть пройдусь тенью по комитету и — освоюсь» [Переписка двух Иванов
2000, 3: 191]. Горделивое сознание, что его читают на «двух континентах»,
зиждется на нескольких переводах «Человека из ресторана», «Солнца мертвых» и
«старенькой "Лиебе ин дер Крим"»; впрочем, это не лишает Шмелева трезвого
понимания своих возможностей: «А по правде сказать — я страшусь
сделанного шага. Я все еще чувствую себя — с Замоскворечья. А тут — мир...» [Там же].
Корреспондент Шмелева подходит к делу безо всякого лиризма,
обнаруживая редкую для философа деловую хватку. «Срок до 31 января в Нобелиде —
что можно успеть сделать до этого времени? — размышляет И.А. Ильин. — Как
же мне быть?» Не зная, разумеется, деталей выдвижения кандидатур других
русских писателей, мнений и действий шведских славистов, причастных так
или иначе Нобелевской премии, Ильин твердо убежден, «что Агрель и Карлгрен
уже остановили свой выбор на тех, кого им подсудобили5. А что подсудоблива-
ли— я знаю» [Там же: 196-197]. Вместе с тем предложенный им план «про-
Шмелевской кампании на 1932 год. С подготовкою, с отовсюдной
мобилизацией», возможно, и мог бы оказаться действенным, если бы был приведен в
исполнение. Однако без маниловщины ни один русский проект не обходится.
Так, заявляя с энтузиазмом: «Переберем славистов, подготовим дело и
двинем», — Ильин предполагает также перевести посвященную Шмелеву «статью
Бальмонта "Горячее сердце" из "Сегодня"»6, «добыть отзыв» Н.С. Арсеньева,
высоко оценившего творчество писателя в изданной по-немецки книге о
современной русской литературе7, и завершает перечень намеченных им мер
упованием на авось: «За это время напечатается где-нибудь мой этюд о Шмелеве»
[Там же: 197].
Однако в переписке 1931 г. нобелевская тема почти не упоминается вплоть
до октября, когда стал известен очередной выбор Шведской академии;
окрыленный неудачей Бунина и Мережковского, каждого из которых «семь городов
представляли» [Там же: 230], Шмелев напоминает Ильину о «слове весеннем»,
о плане развернуть кампанию в пользу его кандидатуры. Подсчитывая все свои
издания на иностранных языках, в том числе только предполагаемые, Шмелев
называет цифру 38 и ликует: «Багаж есть. Могу шведам представиться с... по-
5 Подсудобить — «подсунуть некстати, невовремя чем подслужиться, удружить» [Даль 1956,
3:207].
6 По всей видимости, Ильин имеет в виду публикацию: Бальмонт К. Шмелев, какого никто
не знает: (К 35-летию литературной деятельности Ивана Сергеевича Шмелева) // Сегодня.
14.12.1930. № 345. С. 5. Назвав Шмелева «самым Русским из современных Русских писателей»,
Бальмонт восторженно писал о «Неупиваемой чаше», видя в ней символ творчества писателя в
целом: «Этот огонь не погасишь никакой преградой. Этот свет прорывается неудержимо. Эту
лампаду видишь издалека — и сквозь заметь, нижнюю метель, и сквозь вьюгу, виялицу, буран,
закрывающий на время и звезды».
7 Арсеньев Николай Сергеевич (1888-1977) — философ, богослов, культуролог,
литературовед; речь идет об издании: Die russische Literatur der Neuzeit und Gegenwart. Mainz, 1929.
223
личным. Кажется, побит рекорд. Но кто же меня предложит, — тут же
сокрушается он, — ибо не только семи городов не имею и не знаю, но и трех
деревушек не разумею» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 230]. В письме Ильину от
21.10.1931 самым устойчивым, многократно обыгранным — также в стихах —
образом становится пушкинская золотая рыбка, да «старуха», посылающая
писателя «в гордыне» писать письма. Шмелев не удерживается от соблазна
поюродствовать, хотя ему
стыдно в убогий ряд становиться и канючить: подайте, инославные, на
погорелое место! Ибо кто я есмь? Похож на старого, слабого старичка, у Троицы,
перед святыми вратами. Сидит в сторонке от «убогого ряда», где толстошеи на
утюгах шлепают, с красными мордами. И орут: «сорок годов без ног, третий
день маковой росинки не было!» А от него, как от кабака. А старик сидит
в сторонке: выпихнули его из убогого ряда сильные, богатые... [Там же: 231].
Изобразительная сила Шмелева столь велика, что не сразу проходит
наваждение от нарисованного им образа: так мало напоминают эти наглые
просители, почти вымогатели кандидатов на Нобелевскую премию, выдающихся
представителей мировой литературы.
И вместе с тем шмелевские признания в письме другу и почитателю так
простодушны, что вновь вспоминается оценка В.Н. Буниной: «В Иване Сергеевиче
есть и детская искренность, очень подкупающая». Невозможно представить
ни Бунина, ни Горького или тем более Мережковского, мечтающих — и
откровенно признающихся в своих мечтах! — о Нобелевской премии в таких
выражениях: «Конечно, хочется... <...> Лестно, конечно. <...> Хвастовства далек.
Но иногда приснится». И при всей трезвой оценке особенностей своего
творчества, сосредоточенного на национальном русском характере, национальном
жизненном укладе, подлинного понимания почти полной безнадежности
участия в нобелевской лотерее Шмелеву недостает:
Объективно рассуждая, вижу: багаж имею, иностранцы все же знают,
читают... правда, не всего знают. Мое, родное во мне, им неведомо, конечно.
Но, кажется, условиям дара соответствую. Если можете посодействовать,
помогите или дайте совет. У конкурентов богатые возможности, связи. А я не был
предусмотрителен <... > Я даже не озаботился приберечь отзывы иностр<анной>
печати. Беспечность, да [Переписка двух Иванов 2000, 3: 231].
И если первое признание Ильину о надеждах на Нобелевскую премию
Шмелев в посылаемых вдогонку письмах склонен объяснять высокой температурой
при простуде, «жаром» (письмо от 5/18.01.1931 [Там же: 198]; письмо от 6.02.
1931 [Там же: 204]), то лихорадочный импульсивный стиль нескольких писем
конца 1931 г., редкая даже для Шмелева нервная взвинченность, постоянное
возвращение к теме премии, больше всего напоминающее разбереживание
ноющей раны, обнажает ту подлинную душевную лихорадку, которая охватила
писателя.
224
Навязчивая идея Нобелевской премии пунктиром пронизывает несколько
писем Шмелева, готового унижаться даже перед другом:
М. б., дорогой Иван Александрович, что-нибудь надумаете, скажете кому?
Я помню Ваше обещание, которое меня взволновало. М. б. и я смог бы явиться
с правами на соревнование? <...> Я не знаю, как надо. И понимаю, что мне
не легко будет состязаться с силами связей Мережковского и Бунина. Но —
Господь может все. Меня, знаю, читают на многих языках. <...> Жить
становится трудно. Болею. Ольга Александровна (жена. — Т. М.) — всегда скромная
и рассудительная, на сей раз меня заставляет действовать. Но как — я не знаю.
А у Н.К. Кульмана просить совета (а он очень добр ко мне и любит мое) не могу,
ибо он давно уже ведет кампанию за Бунина. Абонирован, так сказать<,> по
старым связям. А я — новичок. Притом — Бунин — академик. Правда,
Академии нет 14 л<ет>. М. б. и я был бы академиком. <...> Что сможете сделать, что
не обременит Вас — помогите. Честь — да, высокая. Но в нашем положении
теперь — получить премию — обеспечить себя для большей литературной
работы. Это — соблазн. М. б. надо книги послать кому? Я ничего не знаю. Никого
из членов жюри в Швеции. <...> На 75 % — погоня за синей птицей. <...> Да
что говорить... [Переписка двух Иванов 2000, 3: 234-235]8.
Ильин отозвался на сей раз весьма холодно — и о премии вообще
(которую присуждают «шелудивые болтуны и раздаватели венков, не лавровых, а
ллл-о-пуховых»), и о возможности собственных хлопот о кандидатуре
Шмелева: «К моему величайшему сожалению я могу сделать лишь очень немного — за
отсутствием связей с этими кругами и за невозможностью клянченьем
унижать Россию, Вас и себя» (письмо от 20.11.1931 [Там же: 236]). Письмо это
подействовало на Шмелева отрезвляюще, он гораздо спокойнее судит о
Нобелевской премии и даже раскаивается со стыдом в предпринятых шагах.
Ускользающий образ золотой рыбки — символ материального благополучия —
сменяется образами, связанными с несбыточными заоблачными мечтаниями:
синяя птица, «метеор». Последнее выражение Шмелев подхватывает у лауреата
1929 г. Томаса Манна:
Когда получишь — всегда «приходит, как метеор». Это — звучит!
Американцы — так те комитеты составляют для «проводки» и фонды кладут на смазку
(не жюри: то не смажешь, хоть и густо сало американское!). «Забу-удь
мечтанья-a!..» Да и глупо. Понятно — безбедное (и очень даже!)
существование... а «венок лавровый»... Недостоин сего, знаю. Для сего надо — мировое
создать. Где оно?.. И кто вправе увенчивать? <.. .> И — finita la commedia!
(письмо от 27.11.1931 [Там же: 239-240]).
История на этом не закончилась, но возможности собственного
выдвижения на Нобелевскую премию сконфуженный Шмелев больше с Ильиным не об-
8 Сам Шмелев осознавал несоответствие своего «потока сознания» канонам жанра
дружеской переписки и подчеркивал, что посылает всю «лабораторию» [Переписка двух Иванов
2000, 3: 236].
225
суждает; только ее присуждение Бунину в 1933 г. вызовет у «двух Иванов»
обмен язвительными письмами о свежеиспеченном лауреате, да еще осенью
1932 г., заметив горько, что «нобелевское улыбнулось русским» [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 337], Шмелев злорадно сообщит своему
корреспонденту-единомышленнику сплетни о вновь обойденных Бунине и Мережковском (письмо от
21.11.1932 [Там же: 347-348]). В полной драматических перипетий борьбе за
престижнейшую международную награду кандидатура И.С. Шмелева
действительно никогда не относилась к числу фаворитов — напротив, воспринималась
в эмигрантских кругах как сомнительная, несерьезная. Так, в посвященном
проблеме выдвижения на Нобелевскую премию письме к М.И. Ростовцеву от
21 марта 1931 г. Бунин замечает: «Думаю, что члены Нобелевского комитета и
теперь в некотором смущении: все-таки полного представления о современной
русской литературе они не имеют, рангов наших точно не знают, читают нас
мало <...>, пресерьезно думают, что даже, например, Шмелев замечательный
писатель» (цит. по: [Бонгард-Левин 1997: 300]). В «Грасском дневнике» Галины
Кузнецовой содержится упоминание о письме из Стокгольма, в котором
«между прочим» сообщалось, «что Шмелева тоже выставили. И.А. это почти
оскорбило, — свидетельствует Кузнецова. — "Кем? Да ведь это смехотворно!"»
[Кузнецова 1995: 210] (запись от 17.03.1931)9.
Однако о Шмелеве ходатайствовали не безвестные поклонники, а мировые
знаменитости — нобелевский лауреат Томас Манн и выдающийся голландский
славяновед-лингвист Николаас ван Вейк (van Wijk, 1880-1941)10.
На Томаса Манна, впрочем, возлагал надежды и сам Бунин, который на
европейское Рождество 1930 г. получил от немецкого писателя в подарок книгу
(«Смерть в Венеции») «с очень любезной надписью» [Кузнецова 1995: 192] — с
выражением «сердечного восхищения» («herzlicher Bewunderung» [Устами
Буниных 1977-1982, Π: 235]11)· А спустя несколько месяцев М.А. Алданов, один из
9 Подобную реакцию Бунина предвидел и сам Шмелев: «И смешно мне, Бунин, пожалуй,
горделиво скажет: куда конь с копытом... (туда и рак с клешней. — Г. М.) — "на скачках"!»
[Переписка двух Иванов 2000, 3: 191].
10 Эта единственная номинация, исходившая от западноевропейского слависта, очевидно
льстила Шмелеву — он сообщал о ней Ильину не раз. Так, 21.10.1931 он пишет: «Я знаюУ — скажу
Вам по секрету, — что меня на 31 год представил проф. Н. ван Вик, из Лейдена. Он читал обо мне
не раз (лекции. — Г. Ai.) и прислал мне в начале марта извещение, прося держать в себе»
[Переписка двух Иванов 2000, 3: 231-232]. Буквально то же сказано в другом письме с той же датой
[Там же: 235].
11 Это письмо Т. Манна — в ответ на бунинское поздравление с присуждением Нобелевской
премии и посылку сборника рассказов «La nuit» (1929, в переводе Б.Ф. Шлецера) —
опубликовано в [Письма Манна Бунину 2002: 381-382]. Публикатор, Р. Кийс, дает такой перевод любезного
послания Манна Бунину: «...хочу хоть в нескольких словах засвидетельствовать Вам свой
восторг, вызванный прекрасными рассказами, которые Вы мне прислали, и заверить Вас, что чтение
их только усилило и углубило мое преклонение перед Вашим искусством» [Там же: 382].
Особенно выделил Т. Манн «Петлистые уши» («Un crime» во французском переводе — «Преступление»),
полагая, что оригинальность рассказа проистекает из сугубо русского духа и содержания в со-
226
самых энергичных сторонников присуждения премии Бунину — и также
большой поклонник рассказа «Петлистые уши», обедал с Томасом Манном и повел с
ним разговор о своем протеже. «Манн подал в Нобелевский комитет за
немца», — удалось разузнать Алданову [Устами Буниных 1977-1982, II: 246].
Видимо, деликатный Т. Манн не захотел неумышленно ссорить и без того
безрадостно живущих русских писателей-эмигрантов. Но, атакованный письмами
Алданова, усиленно хлопотавшего за Бунина и видевшего в Шмелеве «одну из
важных загвоздок», Т. Манн вынужден был признать, как трудно ему выбрать
среди нескольких русских писателей, но что он «от всего сердца желал бы
премии <.. .> Шмелеву» [Письма Алданова Буниным 1965, II: 111]. В своем
обращении в Нобелевский комитет от 23 января 1931 г. Томас Манн назвал имена двух
писателей, «в высшей степени заслуживающих премии», «одного немца и
одного русского»; присуждение премии «одному из них было бы, несомненно,
понято в мире и полностью соответствовало бы смыслу Нобелевской премии»12.
Имя немецкого писателя, номинированного Манном, — Герман Гессе13. Имя
русского — Иван Сергеевич Шмелев.
Имена и Шмелева, и Бунина впервые были упомянуты Т. Манном в
положительном контексте в газетном обзоре книжных новинок — произведений
зарубежных писателей в переводе на немецкий язык — в 1925 г. (выдержки
приведены в [Письма Манна Бунину 2002: 370]). Особо было отмечено мастерство
переводчицы — Кэте Розенберг, между прочим, кузины его жены, Кати Манн14.
четании с «чуждой» ему «французской формой» новеллистического повествования. Письмо
Томаса Манна весьма учтиво, хотя он и ссылается на ряд «неотложных дел», которые не позволяют
ему более полно выразить свои впечатления от рассказов Бунина; разумеется, этот лестный
отзыв должен был подать Бунину надежду на возможное обращение Т. Манна в Шведскую
академию с номинацией его кандидатуры.
12 Это письмо знаменитого немецкого писателя в Нобелевский комитет за последние годы
издавалось в переводе на русский язык неоднократно различными публикаторами; поскольку
публикации готовились одновременно, в переводах, выполненных исследователями, есть
известные расхождения, касающиеся главным образом стиля, а не смысла (ср. [Письма Манна Бунину
2002: 384-385; Бонгард-Левин 2001: 148]). Перевод Р. Кийса вполне удовлетворителен, но мы все
же сочли возможным предложить свой перевод письма Т. Манна. Архив И.С. Шмелева (Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына, ф. 41) сохранил собранные писателем вырезки из
периодики, свидетельствующие о восприятии его книг на Западе (о чем и идет речь в номинации
Т. Манна).
13 Любопытно заметить, как подвело в этом случае М.А. Алданова его тонкое чутье и
расчетливость: еще в декабре 1930 г. он колебался, стоит ли обращаться за рекомендацией к Томасу
Манну, мотивируя свои сомнения тем, что родной брат немецкого писателя и также знаменитый
литератор Генрих Манн выдвинут на Нобелевскую премию, а значит, «у Т. Манна есть свой
близкий кандидат» [Письма Алданова Буниным 1965, II: 111]. Однако автор «Будденброков» и
«Волшебной горы» вовсе не имел в виду «порадеть родному человечку».
14 В письме И.С. Шмелева И.А. Ильину от 27.10.1932 содержатся любопытные упоминания
самой переводчицы и надежд (совсем не беспочвенных, если учесть вышеприведенный отзыв
Т. Манна о ее переводах), возлагаемых писателем на ее родственные связи: «На случай, сообщаю
адрес Кэточки Розенберг — ее двоюродная сестра — жена Томаса Манна. Если бы ее перевод по-
227
Личное же знакомство Т. Манна с рядом писателей русской эмиграции — в том
числе с «мастером "Господина из Сан-Франциско"» и с «русским писателем и
страстотерпцем, написавшим "Солнце мертвых", этот страшный и все же
художественно блестящий документ времени, когда красные носители счастья
мели Крым "железной метлой"» (Mann Т. Pariser Rechenschaft. Цит. по: [Коепеп
1998: 368])15, — состоялось в январе 1926 г., во время визита в Париж по
приглашению творческой интеллигенции Франции. Хотя писатель ехал в страну
«заклятого врага» с некоей «духовно-политической миссией», гораздо больше
он был взволнован предстоящими встречами с «русскими мэтрами» [Ibid.: 365-
366]. Во французской столице Манна ожидали сплошь неожиданности, ибо
встречи и с французскими, и с русскими литераторами заставили немецкого
писателя пересмотреть многие представления и разрушили многие его
предубеждения.
К духовному прощанию с наследственным врагом по ту сторону Рейна
присоединилось прощание с также осужденной на гибель буржуазной культурой
эмиграции, «русского зарубежья». В столкновении со Шмелевым Томас Манн
сформулировал этот разрыв милосердно, но отчетливо [Ibid.: 372].
В «дышащее убожеством» жилище Ивана Шмелева Т. Манн буквально
«ворвался» и запечатлел эту встречу в заранее предвкушаемой стилистике «Бедных
людей», насладившись поэтикой «углов», из которых выглядывали измученные
племянница писателя и «бледный мальчуган», который «страдает от
последствий пережитого на великой, любимой и страшной родине» [Ibid.: 368]16.
«Потрясение», «стыд» — эти чувства охватывают преуспевающего европейского
писателя при виде нищеты русского эмигранта, за импровизированным на
письменном столе угощением, при вглядывании в обрамленное белой бородой
«морщинистое и изможденное» лицо, «на котором каждое <виденное>
злодейство оставило след». Однако он пришел вовсе не затем, чтобы выразить
сострадание, несмотря на личную симпатию к перенесенному «бедным Иваном
явился, можно, думаю, надеяться, что — а м. 6. и нет! — Томас Манн написал бы сам о книжке.
Он писал о "Кельнере" ("Человеке из ресторана" в немецком переводе. — Г. М.), ее перевод. Но
вот, послал я в прошлом году ему "Форфрюлинг" ("Vorfrühling"; название "Истории любовной"
в немецком переводе. — Т. М.), он мне даже и не ответил, а всегда очень был дружественно
расположен ко мне, и об "Любви в Крыму" прислал восторженное письмо. Возможно, был завален
работой, — писала мне Кэточка, — готовил что-то к "памяти Гётэ". Да и затормозилось. И теперь
послал ему книжечку. <.. .> А вот, на случай, адр. Freulein K[ä]the Rosenberg (Екатерина
Германовна, но лучше по-немецки) <...>. У ней рукопись "Это было". Она — славная переводчица. <...>
Озаглавила она "Es war". Кажется, надо бы иначе? Это было» [Переписка двух Иванов 2000, 3:
329-330].
15 Как видим, и в «Парижском отчете», предназначенном прежде всего той же немецкой
читательской аудитории, Т. Манн упоминает уже привлекшие его внимание произведения и
Бунина, и Шмелева.
16 Имеются в виду племянница писателя, Ю. Кутырина, и ее сын Ив Жантийом, родившийся,
правда, уже во Франции.
228
Шмелевым» лично и сильнейшее впечатление от «Солнца мертвых», жуткие
страницы которого не идут у Манна из памяти. Его «Парижский отчет»
содержит полемику с русским писателем, «встречный счет», который он предъявляет
одному из самых страстных обвинителей большевиков в бесчеловечности и
кровавых преступлениях.
Не зная, скорее всего, особенностей творческой эволюции Шмелева,
немецкий писатель вряд ли подозревал, как близко он подходит к истине, когда пишет
о переполненности русской интеллигенции революционными идеями накануне
Октября, — стоит вспомнить поездку восторженно-демократического
Шмелева в Сибирь для встречи политкаторжан в марте 1917 г.! Манн не бросает
упреков — он пытается понять: чего же хочет Шмелев, чего хотят русские
эмигранты и что пытаются доказать Западу? Что русская революция захлебнулась в
крови, затмив самые мрачные предсказания Достоевского? Оппонируя
Шмелеву, Манн освобождается из-под сильнейшего воздействия «Солнца мертвых»
и находит такие аргументы, которые если не оправдывают большевиков, то, во
всяком случае, позволяют гораздо объективнее взглянуть на исторические
катаклизмы в Европе и России. «Кровавому счету», который предъявляет Шмелев
«революционному пролетариату», Томас Манн противопоставляет «статистику
войны», развязанной «мировой буржуазией»; последнее понятие в контексте
заочной полемики с антибольшевистски настроенным русским
писателем-эмигрантом звучит особенно остро (еще лучше в оригинале, «Bourgeoisie» вместо
«Bürgertum»), даже лексически объединяя Манна с ненавистными эмигрантам
большевиками. С одной стороны, тот факт, что революционные «идеи»
оплачены кровью народа, как раз и не может заставить Манна примириться с
советским правительством; но, с другой стороны, он — «сам "буржуй"»,
представитель переживающего «закат» буржуазного Запада, к которому апеллирует
Шмелев, и потому идеи общественного переустройства изжившего себя
«буржуазного строя» не вызывают у него отторжения.
Гораздо трезвее и глубже, чем ослепленные болью и гневом эмигранты,
автор «Будденброков» понимает одряхление капиталистической системы, ее
неспособность оплатить собственные страшные счета и необходимость поисков
новых дорог для человечества. В горестном облике русского
писателя-изгнанника, в его изборожденном горем лице Томас Манн видит отпечаток
«бесчеловечности», ознаменовавшей революционные перемены; но стоит ли из-за этого
«кидаться в другую крайность, а именно в буржуазность, в реакционность?» —
вопрошает будущий нобелевский лауреат. Т. Манн получит премию в 1929 г., и
в «Заключении» Нобелевского комитета даже не будет упомянута «Волшебная
гора»; вновь носители буржуазного духа и защитники буржуазии напомнят
писателю, в каком мире он живет: «Но само знание, что означает сегодня
буржуазность, уже означает выход из этой жизненной формы» [Коепеп 1998: 369-370]17.
17 Заметим, впрочем, что когда в Германии к власти пришел Гитлер, о происходящем в
собственной стране — а преследование евреев затронуло всю его семью — Т. Манн уже не судит с
229
С этой личной встречи и заочного спора началось то расхождение двух
писателей, которое закончилось для одного — постепенно принятым как идеология
антифашизмом и эмиграцией, для другого — коллаборационизмом с
гитлеровским режимом18. Сочувствуя горькой судьбе изгнанников из отечества, Т. Манн
вступал в конфронтацию с «обреченной на гибель буржуазной культурой
эмигрантов» [Коепеп 1998: 372]19.
Восстанавливая в своей публикации тот абзац из «Парижского отчета»,
который «был опущен» в «бунинском томе» «Литературного наследства», т. е.
впечатления Т. Манна о Бунине, Р. Кийс попутно излишне схематизирует и
уплощает тот комплекс переживаний и мыслей, который связан у Манна с
посещением Шмелева. Несмотря на неважное знание Шмелевым иностранных
языков, полагает Р. Кийс, «очевидно, что он произвел благоприятное
впечатление на Манна благодаря определенным человеческим качествам <...>» [Письма
Манна Бунину 2002: 374]. Неясно, почему исследователю понадобилось такое
избирательное отношение к тексту Манна; анализ Г. Кёненом «Парижского
отчета» свидетельствует как раз об обратном — именно судьба Бунина заставляет
Т. Манна ощутить «сочувствие, солидарность — своего рода возможное
товарищество» и выразить уверенность в том, что и его самого «при сходных
обстоятельствах ждала бы та же участь» [Коепеп 1998: 367]20; напротив, в Шмелеве он
увидел не только «страдальца», но и политического оппонента.
беспристрастностью историка. Это превращение объективного стороннего наблюдателя в
возмущенную бесчинствами жертву Шмелев отметил в письме к Ильину, вскрыв известный хаме-
леонизм «демократических взглядов» «прогрессивной общественности». Обращаясь к другу
13.03.1933, пока еще в полном неведении о происходящем в Германии, Шмелев восклицает:
«"Демократия" вопит и скрежещет, "лиги прав мирового гражданина" кипят шправедливым
негодованием, требуют "открытия границ" и прибежища, <...> одним словом, — "закаркали вороны
к непогоде, дождь будет". Мы присутствуем при истинном "пире богов" — мир стремится найти
себя... И ни один "демократ" не скажет, разведя руками, как все они говорят о нашем, — "ну,
и цто вы хотите... производится грррандиозный эксперимент, и тррудно, и тгудно быть
судьей..." — как недавно писал мне г. Томас Манн. Теперь гг. демократам вовсе не тгудно быть
судьей, ибо производится не "опыт", а — погхом, — так они все вопят. <.. .> А я, грешный...
Представляется мне, что гладкости не будет, что много — много будет "экстра-вагантностей", и
многие еще удивят мир "злодейством"» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 367].
18 В годы Второй мировой войны И.С. Шмелев сотрудничал в газетах «Новое слово»
(Берлин) и «Парижский вестник» (издавался в оккупированной французской столице),
присутствовал на молебне по случаю занятия гитлеровской армией Крыма.
19 Сходное восприятие «унесенной» в эмиграцию России, во всем многообразном, сложном
и не всегда художественно ценном комплексе созданной в зарубежье культуры, привело одного
из самых блестящих русских критиков и литературоведов Д. Святополк-Мирского к
постепенному разрыву с эмиграцией и возвращению на родину (где его ждала трагическая судьба); именно
об упадочничестве буржуазной культуры, снижении ее уровня в эмиграции он говорит, в
частности, в одной из своих центральных работ — «Contemporary Russian Literature, 1881-1925»,
увидевшей свет в один год с «Парижским отчетом» Т. Манна.
20 Современный немецкий исследователь, комментируя эти размышления Манна, называет
их, впрочем, «мелодраматическими» [Коепеп 1998: 366].
230
Однако во время визита Томаса Манна в Париж и он, и писатели русского
зарубежья (в отличие от немецкого коллеги, пока весьма спорадически) были
лишь кандидатами на Нобелевскую премию. Став ее лауреатом в 1929 г., Манн
был буквально атакован русскими эмигрантами, вызвавшими у него столь
неоднозначные чувства, с просьбами похлопотать за Бунина. Судя по письмам
Марка Алданова, бывшего исключительно настойчивым лоббистом бунинской
кандидатуры, не только он сам, но и Лев Шестов, которого Манн чрезвычайно
ценил, также обращался к свежеиспеченному лауреату с ходатайством
выставить кандидатуру Бунина. У Алданова, умевшего нащупывать тайные пружины
не только в историческом прошлом, сложилось впечатление, что «от немцев
зависит очень многое: Швеция в культурном отношении всецело подчинена
Германии» [Письма Алданова к Буниным 1965,1: 267]. Зная высокое мнение Манна
о Бунине, Алданов пользовался случаем обсудить с именитым немецким
писателем возможность номинации на премию автора «Митиной любви». Хотя
Т. Манн вел с Алдановым разговор о Бунине «уклончиво», но пообещал
уточнить в Стокгольме, действительно ли он обладает правом выставлять
кандидатуры на премию и не ограничено ли это право представителями лишь его
родной литературы.
Для этого Т. Манн написал Фредрику Бёку, с которым не только состоял в
переписке, но даже иногда встречался.
В своем письме Манн пытается выяснить у Бёка, действительно ли он имеет
право выдвигать кандидатов и, если имеет, должен ли он придерживаться
здесь интернациональной линии или ограничиться областью своего
собственного языка. До нас не дошли ответные письма Бёка, но дальнейшие письма
Манна убеждают в том, что Манн в действительности был теперь уверен в
своем праве пользоваться своим интернациональным мандатом [Письма
Манна Бунину 2002: 370]21.
Получив достоверную информацию из первых рук, Манн впервые направил
номинацию в Шведскую академию в 1931 г. Рекомендация русского писателя
составлена очень умно и корректно:
Тот политический факт, что он <Шмелев> как решительный антибольшевик
принадлежит к эмигрантам, живущим в Париже, можно проигнорировать или,
в крайнем случае, упомянуть в том смысле, что он живет во французской
столице в большой нужде. Его литературные заслуги, по моему убеждению, столь
значительны, что он выступает достойным кандидатом на премию. Из его
произведений, которые на меня, и смею думать, на мировую общественность
21 Отношениям Т. Манна и Ф. Бёка посвящена специальная статья [Schoolfield 1972]. Имя
Фредрика Бёка возникает также на страницах переписки Томаса Манна с Германом Гессе: много
лет поддерживая кандидатуру последнего в Нобелевском комитете регулярными номинациями,
Т. Манн адресовался письменно и устно — встречаясь на отдыхе — к Ф. Бёку, пытаясь выяснить,
насколько благоприятна ситуация в комитете для Гессе и близок ли он к заветным лаврам. См.:
[Briefwechsel Hesse — Mann 1999, 3: 31, 115,118, 169-170,211, 221-222].
231
произвели сильнейшее впечатление, назову повесть «Человек из ресторана» и
потрясающую эпическую поэму «Солнце мертвых»22, в которой отразился
ужасающий революционный опыт Шмелева. Однако и его более ранние,
возникшие до катастрофы повести, например, «Неупиваемая чаша» и «Любовь в
Крыму»23, произведения, достойные пера разве что Тургенева, яснейшим
образом свидетельствуют в его пользу.
Оба названных кандидата — Гессе и Шмелев — кажутся Томасу Манну
равно заслуживающими Нобелевской премии, но с чисто немецким
педантизмом он желает быть предельно точным в своем предложении. Его волнует, не
окажется ли номинация сразу двух кандидатур «против правил»; к тому же он
справедливо сомневается, возможно ли вновь присудить премию немцу всего
лишь через год после того, как он сам стал лауреатом. Манн не знает всех
бюрократических тонкостей выдвижения на премию, но предвидит их и на всякий
случай жертвует одним из кандидатов в пользу другого, исходя из
приверженности родной словесности (а также личной дружбе) и предлагая считать
«приоритетной» кандидатуру Гессе.
Н. ван Вейк отослал в Нобелевский комитет письмо-номинацию Ивана
Шмелева также в 1931 г., но в феврале, поэтому ее рассмотрение было
перенесено на следующий год. Некоторые подробности истории выдвижения шме-
левской кандидатуры выдающимся голландским славистом восстановил, на
основе сохранившейся переписки, Г.М. Бонгард-Левин [2001: 143]. Поскольку
переписка сохранилась не в полном объеме, трудно утверждать наверняка, кто
был инициатором ходатайства перед Шведской академией; но, вероятнее всего,
обратиться к голландскому ученому И.С. Шмелев решился сам: «Написал еще
другу, — он меня любит, как писателя, и был у меня года три <тому назад>, —
проф. и ректору Лейденского университета Н. ван Вейку» [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 190]. Последний «только изредка», по собственному признанию,
читал курс русской литературы, в котором рассматривал творчество Шмелева,
«достойного представителя священных традиций русской классики» [Бонгард-
Левин 2001: 143] (письмо ван Вейка Шмелеву от 3.01.1931). В письме ван Вейк
признается: «Что никакой русский никогда не получал Нобелевской премии,
это огорчает не только Вас и меня, но многих любителей русской литературы,
ученых и дилетантов. Если буду в состоянии что-нибудь <оделать, тогда это
будет сделано» [Там же].
22 Т. Манн следует авторскому определению жанра «Солнца мертвых»: «.. .это не мемуары, а
поэма-эпопея», — писал, например, Шмелев своему русскому корреспонденту в Швеции [Jaugelis
19746:41].
23 Так — «Liebe in der Krim» — называлась в немецком переводе, выполненном Р. Кандрейей
(Leipzig, 1930), небольшая повесть И.С. Шмелева «Под горами». Об отклике на нее немецкого
писателя Шмелев сообщал, в частности, в письме к И.А. Ильину: «Получил восторженное
письмо от Thomasa Manna! Так пришлась ему по душе моя книжечка "Liebe..."» [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 199] (письмо от 18.01.1931).
232
Страстно загоревшийся идеей получить Нобелевскую премию Шмелев
видел в профессоре славистики настоящего «предстателя за литературу русскую
перед Европой» [Бонгард-Левин 2001: 143]24. Шмелев предпринимает
совершенно правильные шаги; он сумел собрать некоторые сведения о правилах
выдвижения на премию и о шведских академиках — во всяком случае, русский
писатель-эмигрант, меньше десяти лет прозябающий в Европе, информирован
гораздо лучше голландского профессора. «Долгое время я не знал, что о
Нобелевских премиях можно хлопотать», — удивленно сообщает ван Вейк Шмелеву
12.01.1931 [Там же]. В отличие от благоразумного Т. Манна, непосредственно
обратившегося к одному из членов Шведской академии, ван Вейк черпает
сведения о порядке выдвижения на Нобелевскую премию из газет и, сознавая
полную свою неосведомленность, готов обратиться к одному из шведских коллег-
славистов: «Кто такой Беек, не знаю25; зато знаю, что славянские языки
преподает в Копенгагене один швед, профессор Karlgren. Лично его не знаю, знаю
только его брата <...>»26. В том же письме, предостерегая Шмелева от каких-
либо личных обращений в Нобелевский комитет («это скорее повредит, чем
поможет»), ван Вейк высказывает весьма благосклонное отношение к самой идее
выставить кандидатуру писателя на Нобелевскую премию: «Я уже давно
огорчен, что русские писатели никогда Нобелевских премий не получают, и никому
не дал бы ее более охотно, чем вам. Итак, мне совсем хорошо выступить по
своей инициативе. <...> Разумеется, что я никакого успеха обещать не могу,
если я сам буду писать туда» [Бонгард-Левин 2001: 143] (письмо от 12.01.1931).
Н. ван Вейк выполнил обещание и адресовался в Нобелевский комитет;
правда, каким-то образом введенный в заблуждение и полагая, что номинации
принимают до 1 марта, он опоздал со своим письмом, и ему пришлось
продублировать ходатайство о кандидатуре Шмелева годом позже, но в точно
указанный срок. В формальном отношении номинация составлена Н. ван Вейком
безупречно. Прежде всего он дает высочайшую оценку русской литературе,
пронизанной глубоким гуманизмом:
24 Цитируется дарственная надпись Шмелева ван Вейку на книге «Въезд в Париж» (Белград,
1929).
25 Еще в 1929 г. Шмелев наводил справки о Ф. Бёке у М.Ф. Хандамирова, стремясь получить
«справочку-адрес и точное наименование известного шведского историка литературы
профессора Фредерика Беека (как по-иностранному пишется?)» [Jaugelis 19746: 92].
26 Так, окольными путями — через профессора-синолога Гетеборгского университета
Б. Карлгрена — Н. ван Вейк «выходит» на едва ли не ключевую фигуру в продвижении русских
писателей-эмигрантов к заветной награде; однако ему неизвестно, что А. Карлгрен — эксперт
Нобелевского комитета по славянским литературам; голландский славист лишь полагает, что
тому, как шведу, должны быть лучше известны правила, связанные с выдвижением на премию.
Шмелеву он пишет (12.01.1931), что мог бы обратиться в Шведскую академию, «заранее
спросивши (у профессора Карлгрена), как это нужно делать» [Бонгард-Левин 2001: 143]. Поскольку
инициал отсутствует, то нельзя быть абсолютно уверенным, кого из профессоров — братьев Карл-
гренов — имеет в виду ван Вейк.
233
Классическая русская литература XIX в. пользуется мировой славой главным
образом потому, что она, как никакая другая, проникнута духом человеколю-
6ия<,> и потому, что великие русские писатели, благодаря своему таланту,
смогли передать этот дух читателям всех национальностей и внушить им
сопереживание собственному гуманному чувству. Этот дух и сейчас еще жив в
современной русской литературе, и, по моему мнению, Иван Шмелев является
истинным и одареннейшим продолжателем русских традиций XIX в.
После столь великолепной аргументации кандидатуры Ивана Шмелева
следует краткая, но разносторонняя характеристика его творчества
(охарактеризованы переведенный на многие европейские языки «Человек из ресторана»,
исполненный «особого очарования» «небольшой роман» «Неупиваемая чаша»,
написанный во время войны; упомянуты «Солнце мертвых», «Про одну
старуху» и «Каменный век» как произведения, «показывающие страдания,
принесенные большевизмом»; наконец, названы романы «История любовная» и
«Солдаты», «описывающие общественную жизнь периода, предшествовавшего русской
революции»). Н. ван Вейк замечает, как «превосходны» романные сочинения
Шмелева, «благодаря, главным образом, их психологизму; их можно поставить
рядом с классическими романами, например, И. Тургенева». Завершает
номинацию список произведений писателя, изданных по-русски и в переводах на
другие иностранные языки (следует заметить, что это далеко не все
упомянутые ван Вейком главные сочинения писателя; к тому же переводятся одни и те
же произведения) [Бонгард-Левин 2001:144]. Не уложившись в сроки, ван Вейк,
который в стремлении сделать все наилучшим образом потратил много
времени на переписку (в частности, с Карлгреном, будто бы с «большой симпатией»
отнесшимся к выдвижению Шмелева), заклинает Шмелева «никому не
показать», что он знает о «предпринятом шаге», ничего не посылать в Стокгольм
лично и не почивать заранее на лаврах: «Поможет ли — это в руках Божьих»
[Там же] (письмо от 27.02.1931).
О. Сорокина в книге о жизни и творчестве Шмелева, цитируя
сохранившиеся в архивах письма писателя, раскрывает его недоверчиво-радостное
отношение к теме Нобелевской премии. В отличие от Бунина или Мережковского,
Шмелев не выносит ее обсуждение за пределы узкого круга своих горячих
почитателей, среди которых Н.К. Кульман, А.И. Деникин, К.Д. Бальмонт и прежде
всего И.А. Ильин: «Эх, думаю, рискну», «я все же хочу рискнуть», «я страшусь
сделанного шага», — это все признания из писем к Ильину [Сорокина 1994:
225]. Ильин в Германии, Н. ван Вейк в Голландии, М. Хандамиров в Швеции27
рассказывали о творчестве Шмелева, наряду с признанными классиками, в
курсе русской литературы; зарубежные критики и писатели, прежде всего немец-
27 «Русский лектор Михаил Фридонович Хандамиров, живущий в LuncTe (Швеция, южная),
читал в Лундском университете о "Неупиваемой Чаше" — 4 часовые лекции (было в программе).
Он же подписал в 24 году договор со мной на 5 лет — издать 5-6 книг» (из письма И.С. Шмелева
И.А. Ильину от 27.11.1933 [Переписка двух Иванов 2000, 3: 420]).
234
кие (и в их числе Г. Гессе28), высоко оценивали произведения Шмелева; и только
в среде бывших соотечественников, в зараженной партийными склоками и
вкусовщиной эмигрантской печати (не только в левой, в «Последних новостях»,
литературного мэтра которых Шмелев ядовито именовал «Адамович-содомо-
вич»29, но и в правой, в «Возрождении», после размолвки с определявшим
литературное кредо газеты В. Ходасевичем-«Худосеичем»30) произведения писателя
не вызывали восторгов.
Замалчивание своих произведений или отклики на них, то вялые, то
злобные, Шмелев воспринимал болезненно-остро: «Я знаю: против меня ведется
скрытый поход», — заявляет он в одном из писем, подозревая участников этого
похода и в «Мережках» (Д.С. и З.Н. Мережковских), и в «умном Бунине»,
умеющем метко и вскользь задеть собрата по перу, «а присные мотают на ус и
разделываются со Шмелевым» [Переписка двух Иванов 2000,3: 278-279]. В возгласах
разобиженного писателя: «Чего они на меня? Или уничтожить хотят?» —
слышится ужас гонимого Поприщина, однако в отличие от безумного гоголевского
героя Шмелев, увы, весьма точно передает далекую от идиллии атмосферу эми-
28 Швейцарская переводчица Шмелева на немецкий язык Р. Кандрейя пересылала ему
рецензии Г. Гессе; см., например, выдержку из одной из них в [Переписка двух Иванов 2000, 3: 278].
29 Ср.: «А в 49 кн. ("Современных записок". — Т. М.) Г. Адамович-содомович про "Родное"
так написал, так непозволительно-глумливо, что я послал редакции веское письмо, спокойное,
но веское. <...> О "Росстанях"... — история о "благополучии разбогатевших банщиков"...! Ах,
идиот или... шулер» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 279]. Как и Зинаиду Гиппиус и Бунина,
Адамовича отталкивало сужение художественного идеала, его «омертвление» в формальной
«оболочке прошлого». О «Росстанях» (1914) Георгий Адамович, в частности, писал: «Но меню в
трактире Тестова с "потненькими графинчиками водки" и "селяночкой на сковородке", или бла-
гополучъе разбогатевших банщиков Лаврухиных и устоявшийся быт, который хорош только
спокойствием, все это лиризма едва ли заслуживает. Воспевание и прославление этого отдает
мертвечиной, и вовсе не потому даже, что это — прошлое, а потому, что такое прошлое никогда
настоящей жизнью не было» [Адамович 2002: 70]. Мережковские, с которыми Шмелевы в
сложном — из-за огромной разности воспитания и образования — общении прожили лето 1923 г. у
Буниных в Грассе, не стали и не могли стать друзьями писателя, ориентированного совершенно
иначе во всех смыслах — культурном, интеллектуальном, житейском. Однако видеть в чуждом
по духу писателе непосредственного врага — это было органически присущее Шмелеву
заблуждение (о чем подробно пишет, делясь собственным опытом, В.Н. Бунина в записях о Шмелеве).
З.Н. Гиппиус, например, назвала «Богомолье» «истинным сокровищем», драгоценным
«истинным ликом России», полагая, что это «не только "литература", а больше», и отозвалась о нем в
письме к Шмелеву от 29.03.1935 весьма прочувствованно: «Непередаваемым благоуханием
России исполнена эта книга. Её могла создать только такая душа, как ваша, такая глубокая и
проникновенная Любовь, как ваша. Мало знать, помнить, понимать, со всем этим надо еще любить».
А далее Гиппиус признается, какое впечатление произвела на нее книга: «Не могу вам рассказать,
какие живые чувства пробудила она в сердце, да не только в моем!..» (цит. по: [Иван Шмелев:
отражения в зеркале писем 2001: 127]). И это пишет та самая Гиппиус, в адрес которой буквально
шипел в письме к Шмелеву Бальмонт, заявляя, что «не выносит Зинку Мазаную»: «Вся из злобы,
подковырки, мыслительного кумовства, местничества, нечисть дьявольская, дрянь бесполая»
[Бальмонт и Шмелев. Письма 2002: 104].
30 Или, еще злее, в письме к В.Ф. Зеелеру — «"пахучим" злописцем» «Гадосеичем» (цит. по:
[Терехина 2001: 258]).
235
грантского литературного сообщества. А ведь Шмелев приехал из советской
России по визе, которую выхлопотал ему Бунин, и поначалу отношения
складывались самые дружеские — впрочем, это касается и отношений Бунина с
Мережковскими в 1920-е гг. К началу 1930-х гг. дружеское общение разладилось,
сочувственное отношение к творчеству друг друга сменилось резкими, порой
уничтожающими оценками. Приходится признать: чем реальнее становилось
получение премии одним из русских писателей-эмигрантов, тем
ожесточеннее развивались закулисные интриги в поддержку одного из кандидатов, тем
обособленнее эти кандидаты замыкались в своем мирке. Догадавшись о
причинах бунинского охлаждения, Шмелев горько и, увы, справедливо посетовал:
«...страшатся, что я вырву у них кусок — премию» [Переписка двух Иванов
2000,3:279].
Затрагивая в ряде работ тему Нобелевской премии, Магнус Юнггрен (Ljung-
gren) так описывает те шаги, которые предпринял Шмелев, пытаясь
приблизиться к заветной награде: «В 1924 году Шмелев начал рассылать переводы
своих сочинений нобелевским лауреатам прошлых лет, прекрасно сознавая, что
они обладают исключительным правом номинировать кандидатов. Свои книги
он отправил Редьярду Киплингу, Герхарту Гауптману и Ромену Роллану»
[Юнггрен 2002: 13]. По мысли шведского слависта, русский писатель-эмигрант, едва
оказавшись за рубежом, сразу пустился в погоню за престижной
международной наградой31. Между тем в таком истолковании неважно владеющий
иностранными языками Шмелев32 оказывается гораздо более осведомленным, чем
нобелевский лауреат Томас Манн: прежде чем обратиться в Шведскую
академию, тот воспользовался неофициальными каналами, чтобы выяснить все
необходимые детали в процессе номинирования. То, что искушенному Т. Манну
казалось делом ответственным и требующим серьезной подготовки, даже
«зондирования почвы», для Шмелева, по мнению современного шведского
специалиста по русской литературе, было простым осуществлением спонтанно
пришедшей в голову авантюры. Во всяком случае, действия Шмелева им описаны в
таких выражениях33: «воспользовавшись своими лундскими связями, Шмелев
впервые опубликовал свою повесть на шведском языке», «для осуществления
задуманного особый интерес представляла Сельма Лагерлёф», «Шмелев решил
31 Шмелев выбрал известных ему писателей с мировым именем; удивительно ли, что они уже
были увенчаны Нобелевской премией! К тому же нобелевские лауреаты, как известно, обладают
не «исключительным» правом выставлять кандидатуры, а могут им воспользоваться наряду с
другими лицами и институтами, облеченными этим правом.
32 «Столько хотелось бы Вам сказать, — обращается Шмелев к "дорогой писательнице"
Сельме Лагерлёф 18.02.1926 при посылке "Die Sonne der Toten", — но во французском и немецком
я совершенно немощен, а по-шведски не знаю ни слова» (цит. по: [Юнггрен 2002: 15]; пер.
с франц. Е. Баевской).
33 Перевод со шведского Е. Рябининой. Возможно, многочисленные стилистические огрехи
и оплошности, неверное или некорректное словоупотребление, жаргонизмы и т. д. лежат на
совести переводчицы.
236
проторить себе дорожку», «он вообразил, что <...> она, нобелевский лауреат,
напишет предисловие», «у Шмелева же родился новый план», «он рассчитывал
и на своего друга Николауса ван Вэйка (sic! — Г. М.), голландского профессора
славистики, на которого он имел влияние», «наконец лоббирование Шмелева
дало результат» и т. д. [Юнггрен 2002: 13-14]34. Впрочем, по М. Юнггрену,
Шмелеву было с кого брать пример: «.. .сам Бунин подключил нескольких
профессоров разных стран, чтобы они номинировали его <...»> [Там же: 14]. К
сожалению, выбранный шведским ученым или привнесенный его переводчиками
газетно-публицистический стиль чересчур схематизирует плоскими
трактовками, подобными приведенным выше, реальную картину нобелевской «закули-
сы» в ее русском варианте. Умаляя личности писателей (так, мучительная обида
Шмелева на Бунина, который «действовал умно», интерпретируется как
«безнадежная борьба со своим Doppelgänger'oM <двойником>» [Там же: 15]) и
игнорируя особенности их эмигрантского существования, М. Юнггрен примитивизи-
рует и историю появления первого нобелевского лауреата по литературе, и
историю самой этой литературы в XX столетии, во всем непростом
многообразии ее творческих исканий и личных взаимоотношений. Между тем
неудавшаяся попытка Шмелева завоевать шведского читателя, выйти на шведский
книжный рынок — не говоря уже об утопичности проекта получить
Нобелевскую премию — требует особенно тщательного рассмотрения.
Ибо Швеция не узнала Шмелева не только как нобелевского лауреата:
писатель остался совершенно неизвестным шведскому читателю. У Шмелева в
Швеции не было не только славы, ореол которой непременно должен
окружать писателя, претендующего на Нобелевскую премию, — не было даже
намека на известность, не было никакого резонанса в критике и никакого
желания переводить новые произведения писателя, написанные в эмиграции и
свидетельствовавшие о его творческой зрелости и яркой оригинальности.
История переводов его сочинений на шведский язык складывалась
непостижимо драматичным образом, что с особой очевидностью явствует из
переписки с преподавателем русского языка в Лундском университете М.Ф. Ханда-
мировым, превратившейся из сугубо делового обмена информацией в долгие,
хотя и не всегда безоблачные дружеские отношения. Письма И.С. Шмелева
Хандамирову— трагический документ [Jaugelis 19746: 40-102]. За несколько
лет, с 1924 по 1930 г., их содержание практически не изменяется: они
переполнены выдержками из хвалебных отзывов европейских критиков и
литераторов о книгах Шмелева и предложениями писателя о переводе на шведский язык
этих произведений, уже встреченных восторженно во многих западных
странах. Однако одним-единственным произведением Шмелева, переведенным на
шведский ученицей Хандамирова Рут Ведин Ротштейн, стала повесть «Чело-
34 Под «лоббированием Шмелева» М. Юнггрен понимает вполне понятные попытки
писателя-эмигранта, существующего лишь на гонорары от изданий, добиться перевода хотя бы
нескольких своих произведений на шведский язык.
237
век из ресторана», опубликованная под названием «Кураге!» («Официант!») в
1926 г.
«Я живу головой, заработками и грошами. Теперь только Европа начинает
интересоваться мной...» — пишет в 1925 г. Шмелев своему корреспонденту в
Швеции [Jaugelis 19746: 61]. Переписка с преподавателем-энтузиастом из Лунда
длится уже год, но ни одного произведения Шмелева на шведский язык не
переведено и не издано. Между тем еще в начале 1924 г. писатель с готовностью
выслал целый ряд своих работ в Швецию, заранее радуясь, что «Неупиваемая
чаша» «переливается уже в пятый язык»:
Дай Бог, чтобы она пришлась по душе северному народу... Северные
народы имеют чуткую интеллигенцию, и вопросы жизни для них не пустяк,
запросы духа томят и бунтуют «недра» человека. Много родственного с нашей
былой — и лучшей — интеллигенцией. Так представляется мне, — чуткие...
[Ibid.: 51].
Шмелева не мог не порадовать отклик С. Лагерлёф на посланную ей книгу
«Солнце мертвых» в немецком переводе, которую та «прочла с живейшим
интересом и глубочайшим сочувствием»: «Из событий этих ужасных дней, —
утверждала писательница, — Вы создали великий шедевр». И далее Лагерлёф
добавляет то, чего так ждал — но в гораздо более интенсивном и действенном
проявлении — Шмелев, — слова сочувствия и возмущения: «Поздравляю
писателя, но, восхищаясь силой Вашего искусства изображения, одновременно
удручена тем, что в нашей Европе и в нашем времени все это могло проходить»
(цит. по: [Юнггрен 2002: 15]; пер. с франц. Е. Баевской).
Несомненно, что этот «отзыв сильнейшим образом укрепил надежды
Шмелева» [Там же: 13]. Однако для уже переведенной Рут Ведин Ротштейн на
шведский язык «Неупиваемой чаши»35 издателя не находилось — как не находилось
его, напомним, и для новых сочинений Мережковского; да и сочинения Бунина
просачивались в Швецию тоненькой струйкой. После долгого и бесплодного
ожидания восторженности поубавилось, но надежда еще теплилась: «Знаю, что
Швеция меня примет; надеюсь» [Jaugelis 19746: 58]. К осени 1926 г. пыл
Шмелева, которого «удручает» неудача с изданием его книг в переводе на шведский,
совсем угасает. Ему «немножко горько» еще и от того, что на его письма, полные
самой трогательной, хотя отчасти неумеренной, признательности, шведские
адресаты не отвечают, тогда как архив его пополняется восторженными
откликами Герхарта Гауптмана, Томаса Манна, Редьярда Киплинга, Ромена Роллана,
Кнута Гамсуна — все сплошь нобелевских лауреатов: «Или — в Швеции иная
вежливость?» [Ibid.: 86-67].
35 Эта повесть Шмелева, между тем, была замечена и отмечена русскими критиками, причем
если в эмигрантской печати на нее откликнулся М.Л. Слоним (Воля России, 1924, № 18/19), то в
советской России появилось сразу несколько рецензий: в журналах «Красная новь» (1922, № 5, с.
286, подписано инициалами А. А.) и «Сегодня» (1922, № 1, с. 4, автор В.Е. Чешихин-Ветринский),
а также рецензия Ю. Соболева в издании «Печать и революция» (1923, кн. 1, с. 224-225).
238
В 1929 г., когда в Нобелевский комитет уже не один год поступали письма-
номинации Горького, Бунина, Мережковского, у Шмелева вырывается
горестный вздох: «Какая тугая страна!». В горестных словах из письма Хандамирову
много правды: «Туга Швеция для русской литературы. Не любят шведы
русское! Отрыжка далекого прошлого» [Jaugelis 19746: 92-93]. Остается одна
надежда — содействие Сельмы Лагерлёф, живого классика шведской литературы,
нобелевского лауреата: «Одно ее слово — и книга была бы издана! А!? Или
неудобно?» [Ibid.: 88]. Речь идет о желанном для Шмелева переводе эпопеи
«Солнце мертвых», которую он мечтал донести до читающих на разных европейских
языках: «...ведь книга стоит того, чтобы и шведы ее прочли!». Но не только
достоинства книги подвигли Шмелева на обращение к Лагерлёф — получив
ее «прочувствованное», «восторженное письмо», он еще в 1926 г. предвкушал:
«Представьте, если бы Сельма Лагерлёф согласилась бы дать предисловие к
"Солнцу Мертвых"!». А в 1929 г. он уговаривает Хандамирова прямо обратиться
к прославленной писательнице и просить ее «посодействовать, в интересах
человечности».
М.Ф. Хандамиров для начала осмелился побеспокоить С. Лагерлёф
просьбой прочесть шведский перевод «Неупиваемой чаши» и «написать о книге 2-3
страницы, что принесло бы рассказу (sic! — T. M.) неоценимую поддержку и
послужило бы его предисловием». Надо отдать должное лундскому
преподавателю русского языка — письмо его продумано в мельчайших деталях: в нем он
апеллирует и к писательнице, проводя параллели между произведением
«популярного русского писателя» и ее собственными произведениями, и к члену
Шведской академии, ответственному за принятие окончательного ежегодного
решения при выборе нобелевского лауреата. «Исконная и искренняя
религиозность героя» шмелевской новеллы, его «гармоничная личность и радостный
оптимизм» и особенно верность «своим моральным принципам и благородный
идеализм» (последнее замечание как раз и обнаруживает тщательность
аргументации Хандамирова) названы родственными идеям творчества Лагерлёф.
Ее ответ, однако, развеял все иллюзии Шмелева относительно «вежливости» и
«человечности». Это письмо настолько поражает неженским лаконизмом и
арктической холодностью, что его стоит процитировать целиком:
Господин Михаил Хандамиров, за весь этот год (письмо датировано 7
февраля! — T. M.) y меня не найдется времени, чтобы прочитать рассказ Шмелева,
тем более — написать о нем. Поэтому я немедленно отсылаю его обратно. У
меня так много обязательств, которые лежат и ждут, что я не могу умножать их
число [Ibid.: 100-102]36.
36 Мы сочли возможным слегка подкорректировать стиль переводов писем М.Ф.
Хандамирова и Сельмы Лагерлёф, выполненных публикатором, Георгом Яугелисом. У прославленной
писательницы, впрочем, сложилось довольно твердое представление о русском народе после
посещения России в 1912 г. по приглашению Эм. Нобеля. Замечательно, что именно русское
искусство сыграло главную роль в общем «гнетущем» впечатлении С. Лагерлёф: это звучит почти
239
«Вот уж никак не ожидал от С. Лагерлёф такого "оборота"», — сокрушается
потрясенный Шмелев в ответ на «мытарственное» письмецо Хандамирова, не
преминув в то же время похвалиться свежевышедшими «блестящими»
изданиями «Неупиваемой чаши» по-французски и по-испански. — Пошли же ей,
Господи, достаточно времени! Стыдно такой писательнице так относиться к
творчеству автора — европейского и — даже больше известного! Тем более, что
она так мило мне писала... Но... время сегодняшнее — без стыда!» [Jaugelis
19746: 103]. Известно, чтр Лагерлёф благосклонно относилась к выдвижению
Бунина на Нобелевскую премию и поздравляла его после присуждения
награды; писательница была членом Шведской академии, и ее категорическое
нежелание «посодействовать» изданиям Шмелева по-шведски отчасти
предопределило восприятие кандидатуры писателя шведскими академиками, которым,
кроме «Человека из ресторана», просто нечего было прочесть на своем родном
языке!37
Пережив — хотя и опосредованно, через пересказ в смягчающем удар
письме Хандамирова — резкий отказ С. Лагерлёф содействовать изданию его
сочинений в Швеции, Шмелев решается — на этот раз лично — вновь побеспокоить
первую женщину-лауреата в истории литературного «Нобеля». Почти за месяц
до обращения Томаса Манна в Стокгольм с номинацией его кандидатуры,
25.12.1930, Шмелев вновь посылает Лагерлёф свои книги и сопровождает их
довольно пространным письмом, претендующим на установление литературного
диалога:
Беру на себя смелость представить на Ваш проницательный суд маленькую
свою книжку — «Liebe in der Krim». Соблаговолите принять ее как выражение
моего преклонения перед Вами — блестящим представителем художественной
литературы Севера, по идеям своим столь родственной классической русской
литературе.
Шмелев напоминает и о том, что несколько лет назад уже «имел честь и
удовольствие удостоиться» «великодушного одобрения» шведской писательницы
при посылке ей нескольких книг в переводе на разные европейские языки (цит.
по: [Юнггрен 2002: 16]; пер. с франц. Е. Баевской). Вряд ли стоит упрекать
И.С. Шмелева за излишнюю комплиментарность этого послания: того требовал
невероятно, но посещение Третьяковской галереи, где среди сотен картин выставлены «Утро
стрелецкой казни» В. Сурикова и «Иван Грозный и сын его Иван» И. Репина, навсегда определило
мнение Лагерлёф об изобретательно жестоком, кровожадном соседе (см. [Чернышева 2004: 153-
154]). Всё, что так или иначе противоречило этому мнению, писательницей просто отвергалось.
37 Однако на других европейских языках, которыми прекрасно владели шведские
академики, сочинения Шмелева действительно выходили практически каждый год, а наиболее
замечательные были переведены во всех крупных странах. Так, «Неупиваемая чаша» уже в 1922 г. вышла
в Белграде, а в 1924 г. в Праге, затем последовали французское издание (1925), немецкое (1926),
голландское и испанское (оба 1927), американское (1928), итальянское (1932). См.: [Schakhovskoy
1980].
240
не только жанр, но и язык — французский, со всеми его веками
разработанными и доведенными до виртуозности стилями письменной речи, в том числе
эпистолярной. Названная «Любовью в Крыму» маленькая повесть «Под
горами», написанная до революции и пленившая и немецких издателей, и
немецких читателей, не является главной целью посылки (хотя «увы! оставшийся в
прошлом!» «восхитительный и экзотический» Крым и может «пробудить
интерес», но важнее послесловие к повести переводчицы Р. Кандрейи, которое
может представить «более осязаемо» самого писателя). Гораздо больше Шмелева
интересует «авторитетное и особое» мнение С. Лагерлёф о его «поэме-сказке»
«Неупиваемая чаша», способное пролить свет на упорное нежелание шведских
издателей печатать ее.
Но прежде чем выразить свое недоумение и обиду на пренебрежение
именно этим произведением, Шмелев старается донести до своей адресатки
основную мысль книги, ее пафос, У автора это получается гораздо лучше, чем за
несколько лет до этого удалось его ходатаю М. Хандамирову.
Эта поэма много значит для меня, для моей души. Я написал ее в 1918 году, в
Крыму, в большой тоске, в лишениях, во время нашей кровавой революции. У
меня не было ни единой книги. Было только Евангелие. В моей хижине не было
даже самой маленькой лампы, только совсем слабенький огонек, как мышиный
глазик38, и там было холодно, в этой моей хижине, + 6-7. Лишь много лет
спустя я понял, что такое эта моя сказка. Мне кажется, уж простите мне мою
смелость, что это поэма ужаса, тревоги, безмятежной радости от искусства, —
поэма о священной любви, о Священной Красоте и о жертве — во имя искусства,
во имя чистоты душевной. Я посвятил ее молодежи — всем чистым душой.
И, взяв наконец эту последнюю высокую ноту, Шмелев с кроткой
учтивостью осмеливается поинтересоваться: почему, на взгляд шведской
писательницы, живого классика своей литературы, книга эта — о чистых душой и для
чистых душой написанная! — не может пробиться к шведскому читателю?
«Может быть, — почти обвиняя «Север Европы», вопрошает Шмелев невинно, но
не без внутреннего коварства, надеясь на прямое объяснение, — эта моя поэма
чужда шведскому духу?» (цит. по: [Юнггрен 2002: 16]).
Сельма Лагерлёф отвечает 1 февраля 1931 г. Меньше месяца понадобилось
на сей раз Лагерлёф, чтобы одолеть изданные в немецком переводе книги
Шмелева. Она и отвечает ему по-немецки; язык ли тому виной или «нордический»
характер великой писательницы, но она, едва намекнув, что от нее не
ускользнули все художественные уловки ее корреспондента, отвечает четко и ясно, без
лишней комплиментарности. Лагерлёф пишет сухо, не вступая в полемику:
Если я правильно поняла Ваше письмо, Вы желаете знать, какая из этих книг
более всего годится для перевода на шведский. Мне особенно понравилась
38 Пер. с франц. Е. Баевской. Позволим себе предположить, исходя из стилистики Ивана
Шмелева, что скорее стоило бы перевести «мышиный глазок».
241
«Любовь в Крыму» своим юношеским лиризмом и великолепным
изображением природы, и, значит, можно предположить, что шведы предпочли бы
именно эту повесть. Для Вашей «поэмы» «La Coupe inépuisable» будет, я
полагаю, труднее найти понимание в нашей стране. Терпеливая покорность героя
нам слишком чужда [Юнггрен 2002: 16] (пер. с нем. К. Азадовского)39.
Письмо заканчивается уверением в совершенном почтении. Кончается на
этом и переписка: С. Лагерлёф прекрасно поняла все уколы Шмелева. Отвечать
на них не стала — лишь косвенно указала на разницу в понимании юношеской
«душевной чистоты» у двух соседних народов; последняя фраза, возможно,
излишне резкая и прямолинейная, должна была быть столь же прямо и
истолкована40.
Накануне отправки этой решительной отповеди истек срок выдвижения
кандидатур на Нобелевскую премию наступившего 1931 года. Иван Шмелев,
благодаря письму Т. Манна, впервые оказался в списке номинированных
авторов. Свой отзыв о писателе эксперт Нобелевского комитета Антон Карлгрен не
случайно начал в 1931 г. с очень показательной фразы: «Иван Шмелев — весьма
трагическое явление в современной русской литературе». Рецензент сетует, что
в начале 1930-х гг. он с трудом обнаружил основные сочинения Шмелева
дореволюционных лет:
Даже если они в России привлекли широкое внимание и высоко оценивались,
то вряд ли они вышли за пределы его родной страны; во всяком случае, его
труды не дошли до зарубежных библиотек прежде, чем закрылась граница. Их
39 При переводе название повести Шмелева «Любовь в Крыму» («Под горами») осталось не-
переведенным. Исправляем эту погрешность. Что касается «Неупиваемой чаши», то и сам автор,
и его горячие поклонники пребывали в полном убеждении о ее высокой и непреходящей
ценности. Так, буквально оскорбившись совершенно нейтральной, едва окрашенной субъективным
восприятием рецензией Г. Иванова в «Последних новостях», не разделявшего восторгов шмелев-
ского круга, К.Д. Бальмонт обратился с открытым письмом (!) в редакцию газеты, заявив, что
если рецензент не прочел повести, то он невежда, а если «он читал ее и не понял, — быть
может, врачи посоветуют ему сделать трепанацию черепа» (цит. по: [Бальмонт и Шмелев. Письма
2002:106]).
40 Шмелева эта корреспонденция с С. Лагерлёф по поводу «Неупиваемой чаши» задела как
никакая другая неудача; болезненные переживания писателя по этому поводу еще долго
отзывались в его дружеской переписке с И.А. Ильиным. Ср., например: «В "Чаше" я все сказал о сути
Творчества. Ведь мой Илья вовсе не раб, не покорный, а... так надо. Его ведет творческий
инстинкт. Чтобы дать великое, надо выстрадать, сломать и сжечь, перебороть вещноеу плоть, даже
красоту плоти. Он ее переборол — переломил "плотскую любовь", ночами ломал ее и творил "лик
нездешний". <.. .> Вот произведение искусства — для всего народа — образ, надземное, всех
притягивающее: от вещного мира пошел Илья, и через вещное проник в надвещное. <...> И как же
С. Лагерлёф могла писать мне, что "нашему народу будет совершенно непонятна эта рабская
покорность Ильи"... Какая маленькая душа! Впрочем, все еще мы (я, я) предполагаем в европейцах
каких-то "старших братьев", а они — многие-многие — ив сравнение не годятся даже с рядовым
русским народным человеком. Слишком они вещевики, ползунки. Если бы когда-нибудь удалось
мне устроить "Чашу" для северных стран (буду хлопотать), надо бы дать предисловие,
разъяснить вещникам <...>» (письмо от 17.12.1933 [Переписка двух Иванов 2000, 3: 429-430]).
242
нет в Нобелевской библиотеке, и мои поиски при посещении Берлина и Праги
также остались безуспешными — неизвестно, можно пи отыскать их в самой
России, и во всяком случае это была бы очень долгая история.
Не имея в своем распоряжении большинства текстов самого Шмелева и ни
единой критической работы о нем, Карлгрен очень мало доверяет и такому
«темному и подозрительному источнику», как «большевистское
литературоведение»41.
Возможно, что во время визитов в центры русской эмиграции Карлгрен
посещал не только библиотеки и архивы — он находился в дружеских
отношениях с А. Бемом, профессором русской литературы Карлова университета42,
и личные контакты с представителями литературно-филологических кругов
41 Вероятнее всего, речь идет о книге В. Львова-Рогачевского «Новейшая русская
литература» (М., 1922; в последующие годы неоднократно переиздавалась). Обосновав во введении
новый, «марксистский метод изучения литературы», Львов-Рогачевский по-разному
классифицирует русских писателей, оказавшихся в эмиграции: так, Бунин и Зайцев попадают (наряду со
Львом Толстым и A.A. Фетом) в раздел «Последние могикане дворянского периода», тогда как
Шмелев оказался в разделе «Под знаком пролетариата», вместе с Куприным и
«буревестником» — М. Горьким. Менее вероятно, что Карлгрену были доступны такие источники, как,
например, заметка «Иван Сергеевич Шмелев» Н. Ангарского (Творчество, 1920, № 2-4, с. 39-40),
статья А. Воронского «Вне жизни и вне времени: Русская зарубежная художественная
литература» (Прожектор, 1925, № 13, с. 18-22), статья Д. Горбова «Десять лет литературы за рубежом»,
вошедшая в его сборник «У нас и за рубежом» (М„ 1928). Заметим, что А. Карлгрен — касается ли
он биографии писателя или рассматривает его произведения — ссылается на некий источник,
называемый им «bolsjevikiska litteraturhistorien» — «большевистская история литературы», или
«литературоведение». Между тем «Литературная энциклопедия» к тому времени еще не вышла
(она издавалась в 1931-1939 гг.), первое издание «Большой советской энциклопедии»,
осуществляемое с 1926 г., выходило 22 года и не предполагало помещения имени Шмелева в один из
первых томов; первая многотомная «История русской литературы» стала издаваться с 1941 г.
Поскольку никаких определенных указаний у А. Карлгрена на источник информации об Иване
Шмелеве и его творчестве нет, резонно предположить, что целый ряд доступных ему работ
из вышедших в советской России он и называет обобщенно «большевистской историей
литературы». К сожалению, к началу 1930-х гг., когда Шмелева два года подряд выдвигали на
Нобелевскую премию, в эмигрантской печати вышло лишь несколько рецензий; однако Н.К. Кульман,
выступивший одним из рекомендателей на Нобелевскую премию И.А. Бунина, регулярно
помещал материалы о Шмелеве в газете «Россия и славянство»: «Иван Шмелев. К 35-летию
литературной деятельности» (1930, № 99), «И.С. Шмелев в переводах на иностранные языки» (1931, № 119).
В издании «Le Monde Slave» Кульман опубликовал работу «Ivan Chméliov» (1935, t. III, p. 75-89),
но она уже не пригодилась эксперту Нобелевского комитета.
42 Альфред Людвигович Бем (1886-1945?) — литературный критик, литературовед,
руководитель пражского кружка «Скит поэтов»; в марте-октябре 1931 г. входил в редколлегию
берлинской газеты «Руль». Преподавал в Карловом университете с 1922 по 1939 г., когда чешские
университеты были закрыты немецкими оккупационными властями; был арестован советскими
войсками, обстоятельства смерти неизвестны. Об Иване Шмелеве Бем, насколько нам известно,
специально не писал, но считал его одним из виднейших представителей прозы русского
зарубежья и высоко отзывался о его творчестве. Так, относя повести Е.И. Замятина начала 1920-х гг.
к «памятникам художественной литературы эпохи революции», Бем пишет: «По силе
художественной изобразительности я мог бы сравнить эти повести только с "Солнцем мертвых" И.
Шмелева» [Бем 1996:293].
243
«русской Праги» не могли не повлиять на его отношение к творчеству
рецензируемых писателей. Так, именно через консультации с русскими коллегами
он укрепился в своем иронично-отрицательном мнении о Мережковском; но те
же коллеги, видимо, повлияли на его доброжелательное отношение к
Шмелеву — в то время автору нашумевшего (хотя и слишком уже давно) «Человека из
ресторана» и подлинно трагичной документальной эпопеи «Солнце мертвых».
Очерк эксперта Шведской академии традиционно содержит
биографические данные о писателе; однако Карлгрен всё время комментирует почерпнутые
из «большевистского» источника факты (в частности, о происхождении
Шмелева, который, по справедливому указанию рецензента, происходил не из
крестьян, а из зажиточных кругов городской буржуазии). В основе очерка Карл-
грена лежит убеждение, что свой, «несомненно, огромный художественный
талант» Шмелев «бедственным образом поставил на службу политики»,
подготовив революцию своими трудами и став одной из ее трагических жертв.
Именно этим творчество Шмелева интересно шведскому слависту — как
происходят кардинальные изменения в творческой судьбе одного из
представителей русской литературы, «которая столь тесно была связана с
освободительным движением». По его мнению, писатель явно демократической
ориентации, далекий и от авангардных течений («чистого искусства модернизма и
довольно нечистого искусства бульварной литературы»), и от «пустой
революционной пропаганды», наполнявшей «вопиюще фальшивые тенденциозные
романы Горького», Шмелев встал во главе вновь воспрянувшего реалистического
направления, или неореализма. Сообщая о том горячем отклике, который
вызвали произведения Шмелева у русского читателя и критики, Карлгрен
подчеркивает, что писатель не только резко осуждал «прогнившее и растленное
русское общество», но и изображал новые свежие силы (рассказ «Иван Кузьмич»).
Карлгрен сжато излагает некоторые наиболее интересные с этой точки зрения
рассказы Шмелева («Гражданин Уклейкин», «Распад»); однако это не
собственные резюме автора, а прокомментированные со свойственной ему яркой
экспрессивностью стиля переводы из неназванного советского (или русского)
источника — сами рассказы оказались ему категорически недоступны.
Рецензента, впрочем, больше всего беспокоит мысль о соотношении
«пропаганды» и подлинной художественности, о том, где проходит граница «между
делом агитатора и делом художника-реалиста». Но только одно произведение
было в распоряжении Карлгрена, чтобы попытаться решить эту проблему:
«Человек из ресторана». Эта повесть была переиздана в Париже, появилась в
переводе на разные языки, в том числе на шведский. И все же, несмотря на такую
популярность произведения и возможность для шведских академиков
ознакомиться с ним на родном языке, Карлгрену приходится оговаривать даже
перевод названия. Русское заглавие критик считает «непереводимым», но
шведское — «Официант!» — кажется ему совершенно неприемлемым, полностью
лишенным указания на то, что единственным настоящим человеком в шмелев-
244
ском повествовании окажется «человек», т. е., собственно, официант. Карлгрен,
впрочем, считает, что переводчику следовало идти до конца и выбрать более
подходящее в контексте повести слово «лакей» или остановиться на более
нейтральном из нескольких шведских синонимов (servitören — «официант»,
«подавальщик»), которым называет повесть он сам, и отказаться от интонации
подзывающего окрика.
В «Человеке из ресторана» Карлгрен прежде всего отмечает
необыкновенное мастерство сказового повествования, настолько мистифицирующее
читателя, что у того создается полная иллюзия подлинности «доверительного»
рассказа от первого лица. Ни секунды не сомневаясь в том, что повесть Шмелева
сугубо реалистична, что жизнь и психология русского человека в самом начале
века, увиденные «из-за кулис роскошного ресторана», изображены с
абсолютной достоверностью, что «так или почти так было в описанных учреждениях»43,
где в «оригинальных формах» проявляла себя «широкая русская натура»,
Карлгрен видит в повести не просто «очень острую критику общества», но «чисто
агитационно представленную картину темных сторон дореволюционной
России». Все описания, во всей их жизненной полноте и многообразии, кажутся
Карлгрену проникнутыми одной тенденцией — изобразить разложение
русского общества снизу доверху, представить, «как буржуа ведут себя словно
презренные подонки». Рецензент перечисляет сцены, одна поразительнее
другой — подлый разврат, цинизм, свинство не только купцов и буржуа, но даже
образованных представителей интеллигенции, за столами, уставленными
дорогим вином (25 рублей бутылка, уточняет Карлгрен) и дорогой едой (бутерброды
по 6 рублей за штуку, груши по 5 рублей за штуку, килограммы икры и «море
деликатесов самого изысканного свойства»): «Пожалуйста, полюбуйтесь, так
жили капиталисты и высшие классы в дореволюционной России!». Но в этом
«опозоривании» «одной категории высших классов за другой» Карлгрен видит
не реалистическую правду срывания всех и всяческих масок, а злонамеренное,
«безответственное и безнравственное» искажение, то, «чему революционные
элементы в России аплодируют до сегодняшнего дня»44. Для него нет сомнения
в том, что несколько столичных «шикарных ресторанов» не отражают всей
правды о России тех лет и что по ним нельзя судить о состоянии правящих
43 В.Н. Бунина вспоминала, впрочем, такой разговор с И.С. Шмелевым о замысле и истории
создания повести: «В 1905 г. встречает Ив<ан> С<ергеевич> на Каменном мосту человека,
который просит милостыню: "бывшему официанту". — Вот и зародилась у меня мысль написать —
о "человеке из ресторана". — А в ресторане Вы часто бывали? — спросила я. — Да раз пять, шесть
в жизни...».
44 Та же мемуаристка записала собственное впечатление от повести, при чтении которой она
«еще больше удивилась» (чем разговору с автором), например, полному незнанию затронутой им
революционной среды. «Удивилась я и вкусам публики, — продолжает В.Н. Бунина. — Какая
интеллигентская слепота... Раз против буржуев, против правительства — вот тебе и лавровый
венок. Да и язык какой-то выдуманный, хотя и <до конца выдержанный>» (слова в угловых
скобках в рукописи вычеркнуты, но ничем не заменены, фраза недописана; пунктуация исправлена
нами).
245
классов в целом, как по отдельным «шведским спекулянтам военных лет»45
нельзя составить мнение о шведской элите.
Но не только русская буржуазия кажется Карлгрену тенденциозно
представленной в шмелевской повести. Гораздо большее негодование вызывает в
нем опорочивание «русской школы и педагогов», нескрываемая ненависть в
изображении русской интеллигенции. Сама вселявшая ужас полиция кажется
шведскому критику описанной излишне тенденциозно, даже «если правда, что
старая русская полицейская власть грубо держала граждан за шиворот». Не
просто «сильным преувеличением», но «полной ерундой» выглядит в глазах
Карлгрена изображение русского общества, дрожащего в страхе от
полицейского надзора и произвола, тогда как в годы первой революции «вся Россия
гудела одной общей критикой старой русской системы, громкими голосами
раздававшейся только что не с крыш», а царскому самодержавию «нужно было
спасать собственное существование». Карлгрен убежден, что объективность
шмелевских описаний, при всей их достоверности, мнимая, а весь рассказ о
переживаниях маленького человека оборачивается «обвинительным актом
против существующего порядка — хотя и хорошо замаскированной, но тем не
менее ясной и целенаправленной революционной пропагандой».
И все же повесть не является революционной агиткой в полной мере, чем
выгодно отличается от произведений Горького того же периода. В повести
«Человек из ресторана», при всей ее критической направленности, нет
изображения «новой России», революционных сил, «сознательных носителей идей
свободы», которые призваны изменить старый мир к лучшему. Шмелев не
показывает сознательный пролетариат — он показывает обывателя, прежде всего
в образе главного героя, в рассказе которого пушечная стрельба на улицах в дни
московского восстания звучит не громче, чем хлопнувшая пробка от
шампанского. Вот это изображение обывательского безразличия Карлгрен ставит в
главную заслугу писателю, расценивает как подлинно реалистическое
достижение — потому что оно подтверждает собственное представление шведского
слависта о русской психологии. Это весьма расхожее представление позволяет
легко и просто объяснить происшедшие в России революционные катаклизмы,
45 В «Несвоевременных мыслях» М. Горького упоминаются некоторые любопытные факты,
относящиеся уже к послереволюционному времени: «Человек, недавно приехавший из-за
границы, рассказывает: "В Стокгольме открыто до шестидесяти антикварных магазинов, торгующих
картинами, фарфором, бронзой, серебром, коврами и вообще предметами искусств,
вывезенными из России <...> таких магазинов <...> очень много в Гетеборге и других городах Швеции,
Норвегии, Дании. На некоторых магазинах надписи: "Антикварные и художественные вещи
из России", "Русские древности". В газетах часто встречаются объявления: "Предлагают ковры
и другие вещи из русских императорских дворцов"» (цит. по: [Бунин, Горький 2004: 348-349]).
Однако известная разница между отношением к труду и ценностям народов двух соседних стран
от Горького также не ускользает; описывая, например, разгром винных погребов в Петрограде и
истребление вина на несколько десятков миллионов рублей, он замечает: «Если 6 этот ценный
товар продать в Швецию — мы могли бы получить за него золотом или товарами, необходимыми
стране, — мануфактурой, лекарствами, машинами» [Там же: 266].
246
подверстать сложные исторические процессы к популярной на Западе идее,
будто
вообще в России имеешь дело с людьми, которые, как шмелевский официант,
этот слегка модернизированный крепостной, имеют чересчур сильные рабские
инстинкты в крови, чтобы уметь совершать нечто иное, нежели редкие и
беспорядочные восстания рабов, — после чего они находят естественным опять
заползти под ярмо.
Задачей Карлгрена было дать литературно-критический очерк творчества
писателя; но в рутинной рецензии для Нобелевского комитета по литературе
эксперт проявляет гораздо больше тенденциозности, чем разбираемый
писатель, и заявляет, что когда русские «получат больше свободы, братское царство
любви не наступит, а будет война всех против всех». И коль скоро речь заходит
о негативных сторонах русского народа, Карлгрен меняет и свое мнение о
Шмелеве на полярное, полагая, что негативные стороны он как раз «совершенно
правильно описывает» — в отличие, например, от честности официанта,
которая в русском, ничтоже сумняшеся заявляет рецензент, «совершенно
сенсационное и невероятное явление».
От подробнейшего анализа — не столько литературного, сколько
социокультурного — безрадостной картины деградации всех слоев русского
общества, представленной в «Человеке из ресторана», Карлгрен обращается к
краткому рассмотрению «крымского» рассказа Шмелева того же довоенного
времени, «Под горами»46. Насыщенный массой почти совсем неизвестных
русской литературе подробностей жизни крымских татар, «захватывающими
описаниями солнечной природы», выразительными портретными
характеристиками, элементами татарской народной поэзии и Корана, этот рассказ —
«маленький любовный роман» — выбран Карлгреном, видимо, из-за
тенденциозности все того же толка: мир примитивных людей, крымских татар, живущих
поэтической жизнью в поэтических местах, контрастирует с пошлой
цивилизованностью, занесенной в черноморские края русскими курортниками.
Интерпретация этой лирической повести нобелевским рецензентом
удивляет слишком очевидным передергиванием. Эпизод кратковременного
увлечения героя рассказа «рафинированной дамой из высшего света»,
искательницей приключений в «черноморском курортном уголке» — не более чем
необходимое звено в построении характеристики образа, психологический
этюд о пробуждении в поэтически влюбленном юноше зрелой мужской
чувственности. Карлгрен же, в угоду своей концепции творческой личности
Шмелева, и в этом рассказе усматривает «удар в сторону испорченного высшего об-
46 Об этой повести, которую и Шмелев стал по немецкому изданию называть «Любовь в
Крыму», сам автор не был столь высокого мнения: «Ох, для меня теперь в этой повести
ранней — ма-ло красоты, это — сантиментал с розовой водишкой» [Переписка двух Иванов 2000, 3:
334] (письмо от 12.11.1932).
247
щества», разумеется, русского. Однако в своем лирическом шедевре Шмелев
устами одного из персонажей прямо заявляет, что нет другой разницы между
татарами, греками, русскими, кроме имущественной, и маленькая Нургет
покинута совсем не ради развращенной городской барыни47, а ради дочки
богатого муллы.
Тенденциозность рецензента простирается до того, что он объявляет
Шмелева «одним из самых главных герольдов революционного движения», и
только произведения военного периода несколько примиряют Карлгрена с
русским автором. То, что Шмелев не был захвачен патриотическими
настроениями, подобно Л. Андрееву, и, с другой стороны, не хранил безнадежного
молчания, а писал о войне как о бессмысленной бойне и кровавом ужасе, кажется
шведскому критику важным шагом в преодолении революционных
«заблуждений». Единственный шмелевский рассказ того времени, оказавшийся в
распоряжении рецензента, — «Это было» — заставляет его самого задуматься над
привычной метафорой войны как безумия; впервые он прикасается к особой
теме, особой образности Шмелева, пишущего о спасительном «небесном
свете». Правда, критик лишь ставит вопросы, но не отвечает на них, не
обнаруживая глубинных течений в прозе русского писателя, не видя его подлинной
эволюции.
Поэтому превращение Шмелева из сторонника революции в «самого
заклятого антибольшевика белоэмигрантской русской литературы» представляется
эксперту Нобелевского комитета крайне неожиданным: не располагая
никакими справочно-биографическими материалами об И.С. Шмелеве48, рецензент
Нобелевского комитета не знал, что эмиграция писателя была вызвана личной
трагедией — в 1920 г. большевиками в Крыму был расстрелян его
единственный сын, Сергей. Острый перелом в послереволюционных взглядах писателя
Карлгрен усматривает в повести «Неупиваемая чаша», а страдания ее главного
героя — молодого крепостного художника — связывает с трагическим
ощущением «собственной ненужности, которое писатель испытывает в
изменившейся России, той России, которую он собирается покинуть, — пока еще "неупива-
емой чаше" самого писателя». Насколько в произведениях писателя 1900-х гг.
рецензент неизменно усматривал революционные агитки, настолько
пленительным и увлекательным кажется ему повествование в «Неупиваемой чаше»
(которую, стоит напомнить, С. Лагерлёф сочла заведомо чуждой шведскому
читателю). Даже изображение жизни русского поместья середины XIX столетия —
тема достаточно избитая в русской литературе — волнующе свежо и интересно;
47 Эпизод с отдыхающей в Крыму курортницей и ее поездкой в горы с молодым татарином-
проводником, возможно, был введен Шмелевым намеренно, как зеркальное отражение рассказа
А.П. Чехова «Длинный язык» (1886),— реалии курортной жизни, представленные Чеховым в
иронически-юмористическом ключе, получают новое освещение у Шмелева, вводящего читателя
в психологию и бытовой уклад крымско-татарского аула.
48 Во всяком случае, знакомства с ними рецензент не обнаруживает.
248
но шведского слависта захватывает, в частности, описание такой оригинальной
сферы, как «техника и психология древнерусской иконописи».
Словно предчувствуя путь, по которому пойдет творчество Шмелева,
Карлгрен выражает сожаление, охватывающее при чтении не отмеченных
политикой сочинений писателя, сетует на то, что
человек со столь бесспорным художественным талантом, столь острой
наблюдательностью и блестящим изобразительным даром так односторонне
интересуется одной сферой, политикой, в вопросах которой он, по-видимому, весьма
слабо разбирается и в которой он выступает довольно жалкой фигурой.
Качества, названные в первом ряду, со всей силой обнаружат себя лишь
немного позднее — всего несколько лет спустя, в 1933 г. выйдет отдельное
издание «Лета Господня», а в 1935 г. — «Богомолье». Однако именно после
появления главных книг Шмелева его кандидатура исчезнет из списков писателей,
выдвинутых на Нобелевскую премию. А как мечтал Шмелев о переводе «Лета
Господня» на иностранные языки, осознавая всю сложность подобного
предприятия!
Там каждое слово — из души <...> да — издателя не найдется <...>. Но для
познания — нашего, для европейцев — замазанного кровью-грязью-зверствами,
кнутьями, жандармами, каторгой, виселицами, всем гнусным сгущеньем зла и
ненависти — ох, не мешало бы европейцам показать — вдунуть в них —
благостное дыхание того «сердечка», без которого не было бы великого народа.
Эту Россию — мало кто ведает. Россию — грубую, да, простецкую, да, наивную,
да, прожорливую — да, пышную — да, благую — да, тянущуюся, слепо часто,
к Свету Христову, взыскующую Света... мало кто ведает [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 361] (письмо от 12.02.1933).
В этом писатель не ошибался; он обманывался в другом — просветленная,
духовная, идеальная Россия Европу не интересовала.
И к трагедии ее Европа оставалась, в сущности, тоже равнодушна. В
произведениях, созданных Шмелевым в эмиграции, Карлгрен усматривает лишь
политическую ангажированность, словно писатель «поставил целью своей жизни
до мельчайших подробностей осветить ужасы» большевистского правления
Россией, превратившего ее в ад. Прежде всего этой цели служит эпопея
«Солнце мертвых», и побудившая, собственно, Томаса Манна обратить внимание
Нобелевского комитета на личность Шмелева.
Большая мозаика наблюдений, бесед и размышлений, панорама человеческих
типов и человеческих судеб — все это вместе должно представить общую
картину того, какой была жизнь сразу после окончательного захвата власти
красными, —
так определяет этот «своего рода дневник» А. Карлгрен. Он признает, что в
огромном ряду произведений, из которых Европа узнала о черных годах Рос-
249
сии, книга Шмелева выделяется своей страшной правдой, пронзительностью
«тысячи конкретных деталей»49.
Некоторые из этих «деталей» — отдельных сюжетов эпопеи — Карлгрен
пытается пересказать шведским академикам, ужасаясь неисчерпаемости тематики
«голода и смерти, смерти и голода, когда все — люди, звери, птицы — голодают
и умирают»:
чувствуешь себя захваченным и потрясенным все новыми гранями
человеческого страдания, показанными с безжалостным натурализмом, —
показанными также, что еще более увеличивает эффект, на фоне все время
улыбающейся природы одного из красивейших уголков Европы: день за днем,
равнодушно освещает совершающуюся трагедию прекрасное южное солнце,
«солнце мертвых».
Но и в этой «сильной книге»50 рецензент усматривает тенденциозность, на
сей раз — в жгучей ненависти к злодеям-большевикам, на которых одних
писатель возлагает вину за происшедшую катастрофу. Большевиками движет
единственный инстинкт — страсть к уничтожению: таково, по мнению Карлгрена,
твердое убеждение Шмелева — «одностороннее и ограниченное». Рецензент
высказывает точку зрения либеральной европейской интеллигенции:
Голод был следствием отчасти войны, отчасти природной катастрофы, которая
сказалась в нескольких годах неурожая; возможно, что другой режим мог
смягчить последствия беды и что большевистское правление, напротив, только
усилило их, но то, что Шмелев превращает описания нужды в обвинительный
акт против большевиков, демонстрирует некритичность самого
компрометирующего свойства. <...> Думать, что европейское вмешательство могло бы
принести какое-нибудь спасение от большевиков, это беспредельная
наивность; те попытки, которые действительно делались в этом направлении,
только все ухудшили.
Ухудшилось и собственное творчество Шмелева, замечает рецензент, ибо
когда он писал «под непосредственным влиянием русской трагедии, то
позволил большевизму и своей ненависти лишить его разума»; но утраченное равно-
49 Само название эпопеи вошло в широкое употребление в 1920-е гг. как в эмиграции, так и
в советской России, что свидетельствует о сильном впечатлении от книги. Ср. заголовок
критического обзора, помещенного за подписью Н. Смирнов в журнале «Красная новь» (1924, № 3,
с. 250-267), — «Солнце мертвых: Заметки об эмигрантской литературе». Из критической
литературы об эпопее А. Карлгрену могла быть доступна рецензия В.М. Зензинова в «Современных
записках» (1927, т. XXX).
50 «Когда я писал свою эпопею, я не былУ я же был потусторонний, я был вне, я... в кошмаре
писал? Это же не человеческий труд, мой-то, но я ведь был уже не здешний. <...> Пела — пела
боль, писал дух за меня. И это меня надорвало. Впрочем, я был уже Лазарь, вновь, нехотя
живущий, вызванный! Гряди — и вой! Я — выл. Боль во мне выла, а меня уже не было» [Переписка
двух Иванов 2000, 3: 195] (письмо И.А. Ильину от 5.01.1931). В.Н. Бунина, вспоминая рассказы
Шмелева о пережитом в «красном» Крыму, засвидетельствовала: «...впечатление было до жути
сильное».
250
весие так и не было восстановлено, и все последующие произведения Шмелева
создаются «по тому же рецепту», тогда как собственные переживания их уже не
подпитывают. Последним сочинением Шмелева, к рассмотрению которого
обращается Карлгрен, считая его плодом писательской фантазии, становится
рассказ «Про одну старуху». И само берущее за душу повествование о «хождениях»
тысяч русских в голодные годы за хлебом, и пронзительная финальная сцена,
когда мать проклинает своего сына-комиссара, а тот, «с довольно редкой у
большевиков чувствительностью совести, кончает самоубийством»,
представляются гражданину нейтральной страны звучащими «совершенно неправдоподобно
и фальшиво».
Нет сомнения, как было несколько раз указано выше, что в Шмелеве есть
задатки действительно большого писателя. Но нет ни малейшего сомнения
также и в том, что он, при той односторонней направленности, которую он с
самого начала дал своему литературному творчеству, все же не стал таковым.
Так закончил в мае 1931 г. в цветущей Праге свой отзыв об Иване Шмелеве
эксперт Нобелевского комитета. Нам трудно сейчас предполагать возможную
эволюцию взглядов шведского слависта на творчество писателя после
прочтения «Лета Господня», «Богомолья», «Путей небесных», которые увидели свет
годы спустя после процитированного выше отзыва. Может быть, вся сила и
блеск художественного таланта Шмелева, проявившиеся в этих книгах, отмели
бы сомнения Карлгрена в тенденциозности русского прозаика и позволили бы
считать его подлинно великим писателем. А может быть, поздние книги
Шмелева, наоборот, только упрочили бы скандинавского критика в его мнении об
односторонней направленности творчества писателя, заставили бы и в них
видеть лишь проявление очередной ложной тенденции — на сей раз не
политической, а религиозной.
Впрочем, это лишь домыслы. Тонкий ценитель русского слова, Антон
Карлгрен все время обнаруживал в мастерски исполненных картинах страстного
реалиста, в описаниях зоркого наблюдателя, в человеческом многоголосии
блестящего рассказчика ложную тенденцию, компрометирующую в глазах
рецензента выдающиеся по формальному мастерству произведения русского
писателя. Обобщения Шмелева кажутся ему натянутыми, главные идеи —
фальшивыми. Это мнение можно не только оспорить, от него можно
отмахнуться как от утилитарного заказного материала, повлиявшего лишь на
решение Шведской академии при выборе русского нобелевского лауреата. Тем
не менее над ним стоит задуматься: ведь не случайно критика эмиграции
столь резко разделилась в восприятии поздних шмелевских творений — для
одних это своего рода евангелие в изголовье кровати (К. Бальмонт), для
других — «соляночка на сковороде» (Г. Адамович), нечто «захолустное, елейное,
о крестных ходах и севрюжине» (Н. Берберова). Для одних — полное любви
и восхищения воспевание родной страны, явленное в тысячах самых ярких
251
реалистических деталей; для других — миф, причем звучащий весьма
фальшиво.
Нельзя проигнорировать и еще один настораживающий факт. Рецензент
признается, что работал над своим отзывом в центрах русского зарубежья;
трудно предположить, что ему остались недоступными и даже неизвестными
книги писателя, выходившие в 1920-е гг. именно в эмигрантских русских
издательствах: «Степное чудо. Сказки» (1927), «Свет разума. Новые рассказы о
России» (1928), «Въезд в Париж» и «История любовная» (обе 1929— последняя,
кстати, при всех ее беллетристических недостатках даже отдаленно не
соприкасается с политикой). Но такие шедевры Шмелева, как «Росстани»
дореволюционного периода или увидевшие свет уже в эмиграции рассказ «На пеньках»
и сказка «Инородное тело», рецензентом Нобелевского комитета даже не
упоминаются — вероятно, потому, что не вписываются в его жесткую концепцию
талантливого литератора, загубленного «тенденцией». И оттого обзор
творчества Шмелева для Нобелевского комитета, с вопиющими лакунами в списке
рассматриваемых произведений и заведомыми натяжками в их интерпретации,
оказался лишь тенью творчества писателя — словно по его собственному
грустному предсказанию.
В 1931 г. члены Нобелевского комитета, «не испытывая сомнений»,
согласились со своим экспертом. Признавая, что изданная в шведском переводе
повесть «Человек из ресторана» «прекрасна» и что «в Шмелеве есть задатки
действительно великого писателя», академики отметили, что «он не стал
таковым» и что его творчество не соответствует высоким требованиям
Нобелевской премии. В прозе Шмелева, доступ к которой оказался столь
ограниченным, они почувствовали «захватывающее движение жизни», хотя и отметили
сюжетно-психологическое сходство в «Это было»51 с рассказами Гаршина и
Чехова. Однако, полагают члены комитета, «патетическое безумие вокруг идеи
мирового спасения», «нагнетание страданий и хаоса» на фоне философских
прозрений не усиливают трагизм изображения мировой войны, а лишь
разрушают правдоподобие и производят впечатление «притянутого за уши» [Nobel-
priset i litteratur, II: 168-169]52.
51 Название дано по-шведски («Det som var»), однако повесть не была переведена на
шведский и не разбиралась в экспертном заключении Карлгрена.
52 Другая кандидатура, предложенная Т. Манном, — кандидатура Германа Гессе —
«замечательного писателя», как сказано в «Заключении» Нобелевского комитета, — была отклонена
несмотря на его «высочайшие литературные достижения», в том числе и редкостное языковое
своеобразие. Академиков, восхищенных «оригинальным художественным мастерством» писателя,
смутили прежде всего его идеи, которые «необыкновенно ясно и сильно переходят в полную
этическую анархию, а ее трудно согласовать с желанием основателя премии» [Nobelpriset i
litteratur, И: 168]. Отказавшись рекомендовать Гессе на Нобелевскую премию (выдающийся
романист получит ее лишь в 1949 г.), члены нобелевского жюри в очередной раз продемонстрировали
боязливый консерватизм, проявившийся и в 1928 г. в отклонении кандидатуры М. Горького, в
пользу которого высказывались многие академики, и в 1929 г., когда Томасу Манну, уже прослав-
252
В 1932 г. «уклончивое отношение» к кандидатуре Шмелева, выдвинутой
Н. ван Вейком53, было подтверждено Нобелевским комитетом только на том
основании, что «не появилось ничего нового в переводах на доступные языки»
[Nobelpriset i litteratur, И: 177]54. Разумеется, по разрозненным произведениям,
созданным за несколько десятилетий до выдвижения на премию, академики
не могли судить об оригинальном, глубоко национальном русском писателе
XX века. «Талант этот несомненный, редкий — о нем не может быть двух
мнений» [Адамович 1932: 454-455], — это высказанное Г.В. Адамовичем суждение
было совершенно созвучно и с восприятием творческой личности Шмелева
строгими нобелевскими судьями. Но оценить то, для чего критик
использовал гоголевское определение — «духовное сияние слова», — они, не
читавшие сочинений писателя за предшествовавшие его номинации полтора
десятилетия, не могли. Им оказались недоступны книги, так и не дождавшиеся
перевода на шведский язык, а значит, остались недоступными «национальная
трактовка национального», «русскость русского народа» [Ильин 1959: 136] и
весь неповторимый путь «от страдания к очищению, просветлению и радости»,
воплощенный в «незабываемых образах» и «трепетно-поющих словах» [Там
же: 190].
Когда русское зарубежье испытало в 1932 г. очередную, уже очень
явственную и горькую обиду от того, что нобелевскими лаврами вновь обошли русских
писателей, Шмелев признавался:
И я... — доволен, что ни-кому не дали. Я бы не отказался, правда, но, по
совести, но, правду сказать, не в «форме» на такую скачку. Да таким, как я, никогда
не дадут: таких, обычно, не признают «в европейской орбите», — не утешители
это, а «теребители», что ли. За это по головке не гладят, шершавых. И все же...
порой — хоть бы полегче пожить, напоследок нужды не терпеть. А мож<ет>
быть и — изгадился бы, будь обеспечен! <.. .> Хотя... шведы — трезвый народ,
вряд ли их тро-нет что! (письмо И.А. Ильину от 12.11.1932 [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 338]).
Печально не то, что, мелькнув «тенью» в «наградных» списках Нобелевского
комитета, Иван Сергеевич Шмелев не стал лауреатом знаменитой литератур-
ленному своим последним романом «Волшебная гора» (1924), премия была присуждена строго за
роман «Будденброки» 1901 г.
53 Пообещав Шмелеву в новогоднем поздравлении (от 26.12.1931) «стараться, как в прошлом
году, по Вашему делу. Авось будет в успех!», — Н. ван Вейк напоминает Шведской академии, что
его прошлогоднее письмо-номинация Шмелева было отправлено с опозданием, и просит
рассматривать его «в качестве рекомендации для присуждения Нобелевской премии» (цит. по: [Бон-
гард-Левин 2001: 147-148]).
54 К «доступным» языкам относился, безусловно, немецкий. Между тем на рубеже 1920-
30-х гг. вышло несколько произведений Шмелева по-немецки, отмеченных в немецкой
периодике (в том числе Г. Гессе, откликнувшимся в журнале «Bücherwurm» на «Vorfrühling»). Подробнее
о переводах произведений Шмелева на немецкий язык и их критической интерпретации в
довоенное время см. [Aschenbrenner 1937].
253
ной премии. Пережив «острое чувствишко горечи», Шмелев искренне
радовался выбору Шведской академии в 1933 г.:
Все вышло хорошо, достойно решил Стокгольм — прекрасный писатель
Бунин, и наша великая словесность за него не постыдится... (цит. по: [Сорокина
1994: 230]).
Гораздо печальнее другое — шведский читатель за столетие так и не открыл
для себя Шмелева, ставшего в эмиграции крупнейшим национальным
писателем, и неповторимый мир утраченной России, с его праздниками, радостями и
скорбями, так и не «перелился» на шведский язык.
Шмелев скептически оценивал восприятие своего творчества на Западе:
Конечно, европейцы всего не могут понять. Для сего надо быть не только с
Богом в сердце, но (если Бога нет в душе) большим художником-критиком.
Ведь европейцы, в большинстве, очень мелки, маленькие они (хотя бы и были
художниками). Подлинный писатель — поймет, ибо подлинный-то всегда
религиозен (пусть не церковно).
И чуть дальше, рассуждая о возможности постижения европейским
читателем русской души, поделился сокровенным:
А мне бы так хотелось дать книжечку эту шведскому читателю: проверить (цит.
по: [Дальние берега 1994: 350] )55.
О том, что сам писатель продолжал хлопотать о своих переводах на
шведский язык и не оставлял надежд на Нобелевскую премию, свидетельствует,
в частности, его письмо М.С. Мильруду, редактору рижской газеты «Сегодня»
от 9.12.1933:
И еще очень прошу справочку: хотелось бы мне запросить кой о чем Вашего
интересного сотрудника И. Троцкого (северные страны). Как его
имя-отчество, фамилия (sic! — Г. M.) и адрес. Вы подумаете, должно быть, это Шмелев
интересуется «нобелевскими теснинами»? Нет, я интересуюсь северными
издательствами и хотел бы сведений. Мой человек56 давно вышел на шведском
языке; теперь мне хотелось бы найти издателя для «Чаши». А впрочем —
почему бы мне не интересоваться и «нобелевскими теснинами»? Плох тот солдат,
который и т. д. А говоря серьезно, — помощь советом северного собрата для
меня очень существенна (цит. по: [Русская печать в Риге 1997, III: 256]).
Хотя мечты об издании книг в Швеции и о нобелевских лаврах Шмелев
лелеял впустую, это не мешало ему работать много и плодотворно, с полной твор-
55 Заметим, что Н. ван Вейк был из немногочисленных на Западе «проверенных» читателей
Шмелева; показательно в этом смысле, как он реагирует на отклонение Нобелевским комитетом
кандидатуры своего протеже: «Из Стокгольма ничего не вышло. Это очень печально. Вы ничего
не писали об этой неудаче, благодаря тому, что Ваша душа исполнена стремлениями высшего
порядка. Слава Богу!» (цит. по: [Бонгард-Левин 2001: 149]).
56 Повесть «Человек из ресторана».
254
ческой отдачей. Получив уже в военные годы открытку от Шмелева, В.Н.
Бунина не без восхищения записала: «Какая сильная в нем пружина. Сильный заряд
электрической энергии. В холоде, голоде, а работать будет. Ни при каких
условиях не растеряется» (8 октября 1941 г.). Это суждение приобретает особый
смысл, если вспомнить определенные вехи жизненного пути Шмелева, от
юношеского увлечения демократическими идеями до надежд на освобождение
России от большевиков гитлеровской армией. Однако не был ли путь увлечения
идеями — часто ложными — общим путем русских писателей, вступивших в
литературу на рубеже XIX-XX столетий, сложным и трагическим для столь
разных творческих личностей, как, например, Горький и Мережковский?
Загорался идеями и с присущей ему страстностью заставлял служить им свое
творчество и Иван Сергеевич Шмелев. Но справедливо судит Д.М. Шаховской:
Революция и эмиграция открыли перед писателем новое поприще и дали
России нового Шмелева. <...> Ясно, что раскрытие шмелевского духовного пути
сегодня должно учитывать, без идеализации, сложный путь писателя,
выстрадавшего свое творчество [Шаховской 2001: 106].
Ценность этого творчества не только в том, что оно открыло зарубежному
читателю «сердечко» русского народа, но прежде всего в том, что оно
возвращает русского человека к его истокам.
Глава 8
Иван Алексеевич
БУНИН
В литературе русской эмиграции Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) был
самой заметной фигурой, мэтром1 — лично знакомый с Толстым, с Чеховым, он
безо всяких натяжек воспринимался как продолжатель великих традиций,
идущих непосредственно от Пушкина, как наследник, едва ли не единственно
законный, великой русской классики. Бунинское творчество и было завершением
двухвековой истории русской литературы, «одним из последних лучей какого-
то чудного русского дня» [Адамович 1994:26]. Шведская академия должна была
подтвердить Нобелевской премией неоспоримые заслуги Бунина перед
отечественной литературой и принести ему международное признание.
В начале 1920 г. И.А. Бунин стал эмигрантом. После бегства из Одессы и
нескольких месяцев в Константинополе и Софии писатель оседает во Франции,
в разные периоды то надолго задерживаясь в Париже, то почти не выезжая из
Приморских Альп. Литераторы в Париже жили поначалу если не дружно, то, во
всяком случае, сплоченно; дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны
начала 1920-х гг. пестрят записями о постоянных встречах с А.И. Куприным,
Д.С. и З.Н. Мережковскими, А.Н. Толстым, М.А. Осоргиным, К.Д.
Бальмонтом... Именно Бунин хлопочет о визе для И.С. Шмелева, потрясенный вестью
о расстреле в Крыму единственного горячо любимого сына писателя («по
недоразумению», как выразился об этой трагедии в один из своих наездов в Париж
И.Г. Эренбург [Устами Буниных 1977-1982, II: 37]). Пережив красный террор
в Крыму, опустошенный Шмелев признается Бунину: «...осталось во мне
живое нечто — наша литература, и в ней — Вы, дорогой, от кого я корыстно жду
наслаждения силою и красотой родного слова, что может и даст толчки к
творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы» (письмо к
Бунину от 13 (23) ноября 1922 г. [Там же: 100]). В свою очередь и
«Мережковские заботливо относятся к Яну, стараются устраивать переводы его книг на
французском языке», — как свидетельствует «очень тронутая» этим В.Н.
Бунина [Там же: 41]. Сплачивают общие переживания, главным образом ненависть к
1 Получение престижной премии лишь упрочило общее представление. Цитируя
адресованное ей письмо В.В. Набокова, З.Н. Шаховская приводит ироническое именование — Лексеич
нобелевский [Шаховская 1991: 129]. Набоковское определение— с обычным ревнивым
уколом — указывает и на самоощущение лауреата (явно проявлявшееся в манере поведения), и на
восприятие окружающих (вопреки Набокову — почтение и почитание).
256
большевикам: «Контрреволюция приобрела еще одного сторонника», —
записывает Бунина после вечера Бальмонта [Там же: 35]. Сплачивает общая для всех
неустроенность, безденежье, горькая неопределенность эмиграции. «Все во
фраках, только мы нет», — констатирует унизительность положения русского
писателя во французской литературной среде Бунин после «мольеровского
банкета» в январе 1922 г., на котором втуне пропала блестящая речь
Мережковского: «...что мы им, несчастные русские!» [Там же: 74]. Надеть фрак Бунину
доведется очень нескоро, в день вручения ему Нобелевской премии, — и войти
таким образом в «мировую литературу во фраке» [Koppen 1991: 199].
Уже через год после раздосадовавшего его банкета русский изгнанник был
впервые выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. Судя по
публикациям летом 1922 г. в газете «Слово»2, удачная идея выдвинуть русских
писателей-эмигрантов на Нобелевскую премию первым осенила М.А. Алданова,
рассматривавшего ее «как знак уважения Европы к изгнанной русской литературе»
(Слово, 17.06.1922, № 4, с. 2). Газета просуществовала всего полгода, так что
дискуссии о перспективах литературы в эмиграции на ее страницах развернуть
не удалось; однако именно алдановский ответ на вопрос опубликованной в
первом номере «Слова» анкеты (о наиболее крупном русском писателе в русском
зарубежье) положил начало более чем десятилетней борьбе русских писателей-
эмигрантов за Нобелевскую премию. Алданов предложил «совместную
кандидатуру» «знаменитейших <...> бесспорно» русских прозаиков: Бунина,
Мережковского и Куприна. Поскольку еще одним пунктом не осуществленного
газетой проекта предполагалось укрепление русско-французских литературных
связей, то в № 5 были опубликованы письма Ромена Роллана и литературного
критика Клода Фаррера Бунину. Хотя и отобранные самим русским писателем
из личного архива, эти письма отражают очевидный факт — вполне
сложившееся и весьма высокое мнение у западных писателей к началу 1920-х гг. было
именно о Бунине. Но наиболее отчетливо мысль о необходимости присуждения
Нобелевской премии прозвучала в статье Андре Лиштанберже «Современные
русские писатели. Мнение французского литератора». Высказываясь от лица
французской интеллигенции, А. Лиштанберже указывал, что нобелевские
лавры стали бы данью простой справедливости
русским писателям, которые в момент, когда политическая и социальная буря
так жестоко потрясает их страну, столь блестяще свидетельствуют о
бессмертии русского гения. Трудно найти иную форму следования благородной цели
создателя премии Нобеля, как это присуждение ее русским писателям. Это
воздаяние по заслугам людям, поддерживающим на подобающем месте свою
национальную культуру в момент, когда их родина изнемогает от разлива
варварства, — в то же время послужило бы к чести Шведской академии (Слово,
21.08.1922, №9, с. 2).
2 Выходившей в Париже в издательстве «Франко-русская печать» с 26.06.1922 по 19.02.1923 г.
(№№ 1-35).
257
Возможно, перечисление тех же имен, что и в публикации Алданова (Бунин,
Мережковский, Куприн), указывает косвенно на действенные шаги, им
предпринятые.
Г.М. Бонгард-Левин не вполне прав, полагая, «что Мережковский хотел
получить премию один и не желал делить ее с Буниным, отношения с которым
были более чем прохладными» [Бонгард-Левин 2001: 141]. Лето 1922 г.
Мережковские и Бунины провели вместе в замке Нуаре, в городке Амбуаз на Луаре.
Общие завтраки и обеды, прогулки, беседы не были свидетельством особой
дружеской привязанности столь разительно несхожих людей, но естественно
возникавшие споры о литературе и ревнивое отношение к успехам друг друга
не препятствовали созданию «приятной» атмосферы в небольшой творческой
колонии. Далекая еще Нобелевская премия пока не стала яблоком раздора
между Буниными и Мережковскими, и завистливые колкие замечания о
последних в дневниках Веры Николаевны и Ивана Алексеевича появляются
спорадически среди доброжелательных сочувственных записей. На то, что разговоры о
премии между обитателями Нуаре велись, косвенно указывает дневниковая
запись Веры Николаевны от 6 декабря о разговоре с И.И. Манухиным, чья жена,
Татьяна Ивановна, была приятельницей З.Н. Гиппиус3. Выясняется, что летом,
вероятно, гостя в Амбуазе, доктор Манухин «уговаривал» Веру Николаевну — и
вряд ли по собственной инициативе, без согласования с Дмитрием Сергеевичем
и Зинаидой Николаевной, — склонить мужа «отказаться от премии в пользу
Мережковского. А когда Мережковский получит — он поделится. И был очень
недоволен, — замечает Вера Николаевна, — когда я возражала, что кроме денег
есть кое-что другое, что заставляет желать получить премию». Именно тогда
Бунин признался, что Ромен Роллан «выставил его кандидатуру в Стокгольме»
[Устами Буниных 1977-1982, II: 101].
В одном из частных писем Р. Роллан так сформулировал свое восприятие
творческой личности Бунина:
Конечно, он отнюдь не наш, он неистово, желчно антиреволюционен,
антидемократичен, антинароден, почти антигуманен, пессимист до мозга костей. Но
какой гениальный художник! И, несмотря ни на что, о каком новом
возрождении русской литературы он свидетельствует! Какие новые богатства красок,
всех ощущений! [Бабореко 1973: 375] .
Обращение нобелевского лауреата 1915 г. Ромена Роллана в Шведскую
академию было написано на вилле «Ольга» в Швейцарии 3 января 1923 г.4
Адресуясь к председателю Нобелевского комитета, Роллан выдвинул на рассмотре-
3 Манухин И.И. (1882-1958) — известный врач-терапевт, иммунолог и радиобиолог; его
жена Манухина Т.И. (1886-1962) занималась литературным трудом (проза, переводы, мемуары).
В эмиграции с 1921 г.
4 В этом году, кстати, в денежном отношении размер премии оказался минимальным за все
время ее существования.
258
ние его членов кандидатуры трех русских писателей в такой последовательности:
Максим Горький, Иван Бунин и Константин Бальмонт, — однако предложил
объединить эти имена «в одной кандидатуре, чтобы четко обозначить, что
Нобелевский комитет, поднимаясь над преходящими партийными дискуссиями,
принимает во внимание только те заслуги, которые достигнуты на неангажиро-
ванной службе искусству и идее». Но текст номинации говорит сам за себя —
выше всех в ней оценен Бунин,
один из наиболее совершенных художников в русской словесности, мастер
новеллы, равный первым мастерам этого жанра на Западе. Он открывает перед
русской литературой новые горизонты. Он более не ограничивается анализом
души русского народа, которую он, впрочем, описывает с редкой
объективностью, без каких-либо иллюзий предшествующего поколения. Дыхание всей
Земли входит с ним в русский роман и его оживляет. Азия, в особенности
Индия, ее прелесть и ее таинственный ужас инспирировали несколько его
незабываемых новелл. Его искусство <...> отличается чистой красотой формы.
Осведомленнейший Марк Алданов первым сообщил Бунину о номинации
Роллана: «Ваша кандидатура заявлена, и заявлена человеком, чрезвычайно
уважаемым во всем мире» [Письма Алданова к Буниным 1965, I: 271]. В письме
к Алданову5 сам Р. Роллан так определяет свою позицию:
Конечно, я восхищаюсь Иваном Буниным. С моей точки зрения, это один из
крупнейших художников нашего времени. Я готов поддержать кандидатуру
г. Бунина на Нобелевскую премию, но не совместную кандидатуру Бунина и
Мережковского. К этому я должен прибавить, что я выступлю за г. Бунина,
только если у меня будет уверенность, что Горький не хочет, чтобы была
выдвинута его кандидатура. Если был бы выдвинут Горький, то я прежде всего
голосовал бы за него. Я был бы чрезвычайно рад, если бы были выдвинуты
кандидатуры Бунина и Горького одновременно: это явилось бы непреложным
доказательством того, что в данном случае политика не играла никакой роли —
но это вовсе не повод, позвольте мне это сказать, для такой троицы: Бунин,
Куприн, Мережковский. Я знаю, впрочем, с каким уважением относится
Горький к Бунину; недавно он мне об этом писал: он считает его самым
талантливым из всех современных русских писателей.
Это письмо М.А. Алданов переслал Бунину для ознакомления [Там же: 272].
Хлопоты Алданова, которого, судя даже по небольшому массиву
опубликованной переписки6, следует считать одним из главных инициаторов
выдвижения Бунина на Нобелевскую премию, были примерно так же успешны, как по-
5 Так атрибутировал это послание А.К. Бабореко, публикуя его в «Вопросах литературы»
(1965, № 6, с. 255) и относительно подробно разбирая в обоих изданиях «Материалов к
биографии Бунина», а также в изданной уже после смерти ученого биографии первого русского
нобелевского лауреата (см. [Бабореко 2004: 392-396]).
6 Письма Алданова к Бунину, хранящиеся в Бунинском архиве в Лидсе, недоступны для
исследователей в связи с многолетней подготовкой к публикации.
259
мощь в лотерейной игре (именно так сам Алданов неоднократно именовал
Нобелевскую премию [Письма Алданова к Буниным 1965,1:272; II: 110]). Чтобы
разобраться в ситуации, сложившейся вокруг премии в литературных кругах
русского зарубежья, и выяснить степень информированности участников
русской «нобелиады», стоит привести выдержку из еще одного письма Алданова
Бунину (от 10.04.1923):
По поводу Нобелевской премии. Я узнал от людей, видящих Горького, что он
выставил свою кандидатуру на премию Нобеля. Об этом уже давно говорят —
и не скрою от вас, и немцы и русские, с которыми мне приходилось
разговаривать7, считают его кандидатуру чрезвычайно серьезной. Многие не
сомневаются в том, что премию получит именно он. Я не так в этом уверен, далеко не так,
и думаю вообще, что премия эта совершенная лотерея... но все-таки
бесспорно шансы Горького очень велики. Поэтому еще раз ото всей души советую вам,
Мережковскому и Куприну объединить кандидатуры, — дабы ваша общая
(тройная, а не «коллективная») кандидатура была рассматриваема как русская
национальная кандидатура (я навел справку, случаи разделения Нобелевской
премии между 2 и 3 лицами уже были)8. При этом условии я уверен, все
русские эмигрантские течения и газеты <...> и большая часть иностранной
прессы будут вас поддерживать... И каждому из вас в случае успеха придется до 200
тысяч франков, — то есть материальная независимость [Там же, I: 272].
Последнее обстоятельство для неустроенных, живших неверными и весьма
незначительными гонорарами русских писателей-эмигрантов быстро
приобрело первостепенное значение. Об этом можно судить хотя бы по «несколько
нескромному письму» Бунина A.B. Тырковой-Вильямс. Ссылаясь на то, что
«Romain Rolland — известный романист» — номинировал его на Нобелевскую
премию, Бунин справедливо замечает, что
нужна помощь всему этому делу и со стороны европейской прессы, ибо
международной толпе я еще не известен — главное, не известно, какого именно
веса числюсь я в России. Дорогая, не поможете ли мне статейкой обо мне в
«Тайме», хотя бы самой маленькой? Предлог — то, что меня, дай Бог не
сглазить, стали много переводить: в Америке скоро выйдет два моих тома, идут
разговоры с Японией; первый том моих сочинений по-немецки (издательство
Фишера) разошелся в три недели; о французах Вы знаете; шведы тоже перево-
7 В это время М.А. Алданов, редактировавший литературный отдел газеты «Дни», еще не
перебрался из Берлина в Париж; Горький тогда также находился в Германии.
8 В 1904 г. Нобелевскую премию присудили двум писателям — провансальскому лирику
Фредерику Мистралю и испанскому драматургу Хосе Эчегараю; в 1917 г. премия была разделена
между двумя датскими писателями, Карлом Гьеллерупом и Генриком Понтоппиданом. Однако в
столетней истории Нобелевской премии прецедента разделения ее между тремя литераторами не
было. Впрочем, шведские академики весьма гибко относились к возможности разделения
Нобелевской премии (стоит напомнить, в частности, нежелание разделить премию между двумя
крупнейшими драматургами Норвегии — Бьёрнсоном и Ибсеном; лишь первый из них стал в 1903 г.
лауреатом; см. [Nobelpriset i litteratur, I: 53-57]).
260
дят... Простите и поймите меня: не в славе дело, а в голоде. Премия была бы
спасением. За переводы получаю все же гроши9.
Подобные письма Бунин посылал и другим своим добрым знакомым,
нашедшим пристанище в Европе или Америке и способным — собственным
положением или связями — поддержать его кандидатуру перед Нобелевским
комитетом. Некоторые следы этой деятельности сохранились в письмах
М.И. Ростовцева норвежскому профессору славистики Олафу Броку. Судя по
содержанию посланий (в одном из них речь идет о «тройственной»
кандидатуре на премию Бунина, Мережковского и Куприна и об обсуждении этой идеи
«французскими литераторами», что очевидно навеяно публикацией в газете
«Слово»), они были написаны летом-осенью 1922 г.10 В первом письме,
помимо резких нападок на Горького, содержится мысль о справедливости и
целесообразности увенчать премией трех вышеназванных русских
писателей-эмигрантов «за их литературные достижения, насквозь пропитанные идеей мира»
[Бонгард-Левин 2002:200]. Последняя формулировка указывает на явное
неразличение Ростовцевым Нобелевских премий за научные и литературные заслуги
(которые присуждают в Стокгольме) и премии мира (лауреата которой
называют в Осло). Историк Античности (в тот момент — профессор Висконсин-
ского университета), Ростовцев не был уверен в том, что имеет полномочия
выставлять кандидатуру писателя, и обратился за поддержкой к О. Броку
(избранному в 1916 г. иностранным членом Санкт-Петербургской академии наук):
Опять получил письмо от Бунина, где он пишет о своих шансах получить
Нобелевскую премию. Он пишет, что хочет попытать счастья. Но нужно, чтобы
кто-нибудь его предложил. Я готов это сделать, но лучше, чтобы это сделал не
я один. Говорят, что все профессора литературы и истории имеют на это право.
Не предложите ли Вы его? Это было бы очень хорошо и могло бы иметь
значение [Там же].
Сам М.И. Ростовцев письмо-номинацию в Нобелевский комитет направил,
судя по разысканиям Г.М. Бонгард-Левина; однако в издании «Nobelpriset i lit-
teratur», весьма тщательно подготовленном сотрудником Шведской академии
Бу Свенсеном, такое письмо под 1923 г. не значится. Впрочем, оно не много
прибавляло к номинации Р. Роллана, ибо рекомендовало Бунина лишь как «одного
из наиболее известных русских новеллистов и поэтов, члена Российской
академии» [Там же].
Между тем в Швеции в 1910-20-е гг. имя и произведения Бунина оставались
неизвестными. Правда, в авторитетной шведской энциклопедии «Nordisk fa-
miljebok» можно найти упоминание об этом русском писателе (и академике по
разряду изящной словесности). Но ни во втором ее издании, ни в третьем эти
9 Письмо датировано публикаторами до 20.02.1923 [Письма Бунина к Тырковой-Вильямс
1994: 182-183].
10 Автор публикации сообщает, что письма не датированы. См.: [Бонгард-Левин 2002: 198].
261
сведения нельзя назвать исчерпывающими: они уместились в несколько строк
узкого столбца11. Статьи обо всех русских писателях во втором издании
энциклопедии написаны Альфредом Йенсеном, в том числе и шесть строк о Бунине:
Бунин, Иван Алексеевич, русский поэт, р<одился> 23 окт<ября> 1870 года в
Воронеже. Его сочинения, которые после 1887 года появляются в разных
изданиях, обращены к различным состояниям природы, и его этюды содержат,
главным образом, простые мотивы тоски по родине, разлуки с отчим домом и
тому подобные элегико-идиллические темы [Nordisk familjebok2, 4: 590].
Информация в новом (третьем) издании шведской энциклопедии не стала
более подробной. «Бунин Иван Алексеевич, — составляет справку другой
скандинавский славист — едва приступивший к своим обязанностям нобелевского
эксперта А. Карлгрен, — русский поэт (р.<одился> 1870). Пишет чудесные
стихи о природе и безыскусные рассказы из окружающей его жизни. Его «Деревня»
вышла в шв<едском> пер<еводе> <в> 1924» [Nordisk familjebok3,3:247].
Словарная статья стала вдвое короче (три строки вместо шести), зато в ней появилась
доброжелательная оценочность — например, в отличие от А. Йенсена,
воспользовавшегося нейтрально-интернациональным словом «поэт» (poet),
употреблено собственно скандинавское понятие skaldy связанное с народно-поэтической
традицией; лирика русского писателя определена как «чудесная» (в буквальном
переводе — «полная привлекательности»). Все тот же сугубый лаконизм
проистекает отнюдь не из плохого знания творчества Бунина автором
процитированной энциклопедической заметки: кроме перевода «Деревни» на шведском языке
к этому моменту не было опубликовано ни одной бунинской строчки, что и
учитывалось при подготовке справки. Очевидно, однако, что выдвигать на
Нобелевскую премию литератора, почти совсем неизвестного в Швеции, было по
меньшей мере наивно в те времена, когда даже писателям с поистине мировой
славой и безусловным авторитетом отказывали в престижной награде.
Между тем в поисках преемника ушедшему из жизни А. Йенсену Шведская
академия должна была обратиться к одному из профессоров-славистов или,
возможно, привлечь к сотрудничеству в Нобелевском институте сразу
нескольких из них, например, лундского профессора С. Агреля и А. Карлгрена,
получившего кафедру в Копенгагене12. По всей вероятности, так и было сделано, о
чем косвенно свидетельствует удивительное по содержанию послание Бунину
11 Отметим для сравнения, что другой русский претендент на Нобелевскую премию по
литературе, Д.С. Мережковский, уже в 1905 г. представлен довольно подробной справкой размером в
полтора столбца, снабженной даже небольшой библиографией его изданий и работ о нем на
шведском языке; почти столько же места отведено, из русских классиков, Н.В. Гоголю, а из
будущих нобелевских лауреатов — Томасу Манну.
12 Заметим сразу, что, давая согласие стать присяжным экспертом Нобелевского комитета,
А. Карлгрен исключался из списка тех лиц, которые обладают правом номинировать писателей
на Нобелевскую премию. Г.М. Бонгард-Левин утверждает, что в 1930 г. на Нобелевскую премию
«шведским славистом, профессором славянской литературы в Копенгагене А. Карлгреном была
262
преподавателя русского языка в Лундском университете М.Ф. Хандамирова от
11 января 1923 г.:
Сегодня профессор славянских языков в Лундском университете Сигурд
Васильевич Агрель сообщил мне следующее:
Шведская академия поручила ему, как слависту (и кажется, еще 1-2
лицам), представить в академию свой подробный отзыв о выдающихся
славянских писателях для рассмотрения этих отзывов Шведской академией и
присуждения ею (одному из писателей) «Нобелевской премии литературы» в 1923
или 1924 году (РАЛ, MS. 1066/3228)13.
После этой очевидно неверно понятой, переданной или истолкованной
информации следует просьба к Бунину переслать С. Агрелю «все печатные
произведения» и «все критические отзывы и рецензии» о них. Далее Хандамиров
продолжает:
Здесь в Лунде наиболее ярким<,> могучим<,> гениальным славянским
писателем считают Вас, глубокоуважаемый Иван Алексеевич, но исход присуждения
премии Шведской академией заранее, конечно, предсказать нельзя (Там же).
Это последнее замечание оказалось единственно верным в послании со
столь фантастическим содержанием. Экспертного заключения о кандидатуре
Бунина или кого-либо другого из русских писателей, принадлежащего перу
Агреля, в архиве Шведской академии нет. Однако «подробный отзыв»
специалиста о творчестве Бунина академики в 1923 г. получили.
Автором первого обстоятельного критического очерка (полтора авторских
листа14) о творческом пути никому в Швеции не известного писателя стал
А. Карлгрен. Очертив во вступлении биографию Бунина вплоть до эмиграции и
указав на французский перевод «Деревни», находящийся в Нобелевской
библиотеке, рецензент отметил:
Никакой существенной литературы о Бунине на иностранных языках я не
обнаружил — несколько рецензий во французских журналах на его
произведения в переводах на французский язык единственное, что легко доступно15.
выдвинута кандидатура Бунина» [Бонгард-Левин 2001: 142]. Однако подобный поступок был
этически невозможен; очевидно, исследователь смешивает эксперта с номинаторами.
13 Поскольку орфография всех оригиналов, цитируемых в настоящем издании,
унифицирована в соответствии с современными правилами, то и прописные буквы в названиях языков,
учреждений и под., которыми М.Ф. Хандамиров очевидно злоупотребляет, переведены в строчные.
14 Все последующие экспертные отзывы А. Карлгрена — о Бунине и других русских
писателях — напечатаны на машинке, и только первая рецензия выполнена типографским способом и
выглядит как газетные гранки. Видимо, редактору «Dagens nyheter» набрали этот материал в
типографии газеты.
15 Вырезки из европейской периодики с откликами на произведения Бунина, изданные в
переводе на иностранные языки, с бунинскими пометами или переводами, частично
опубликованы в [Бабореко 1983: 274-276], а также в изданиях [Марченко 2011а; Классик без ретуши 2010:
263
Полные похвал русскому писателю, эти газетные или журнальные
публикации (чаще полурекламные рецензии) очень мало прибавляли к пониманию
его творческого облика. Возможно, именно поэтому Карлгрен предпочитает
собственный анализ реферативному изложению оказавшегося в его
распоряжении незначительного критического материала о произведениях Бунина. Хотя
он начинает анализ бунинского творчества со стихотворений и прозы
дореволюционного периода, рецензии о сочинениях писателя, рассеянные по таким
периодическим изданиям, как «Биржевые ведомости», «Московская весть» или
«Одесский листок», оказались шведскому слависту недоступны. В то же время
Карлгрен продемонстрировал в своем обзоре неплохое знание русской
критической литературы о дореволюционном периоде творчества Бунина16, хотя и не
называя имен и никого дословно не цитируя — строгий научный аппарат
членам нобелевского жюри не требовался.
Несмотря на то, что А. Карлгрен представил бунинское творчество в его
эволюции на протяжении нескольких предреволюционных десятилетий,
проанализировав как прозу, так и поэзию писателя (больше никогда не
привлекавшуюся к рассмотрению при обсуждении кандидатуры Бунина) и подробно
остановившись на целом ряде его рассказов и повестей, шведских академиков
не вдохновил созданный рецензентом образ мечтательного русского
литератора с бедным, ограниченным «репертуаром». Бунинская Россия, сквозь
поэтический флер и завораживающую дымку романтических воспоминаний,
представала перед достаточно непредвзятым европейским читателем непробудно
уснувшей посреди мерзости запустения17: «Время блеска старых дворянских
поместий кончилось, новое время со строгими требованиями стучалось в их
двери, бедность стала заглядывать в те залы, которые раньше звенели
шумными праздниками <...»> — пишет Карлгрен, человек протестантской культуры,
и, соединяя в своем дальнейшем описании детали бунинской поэзии и прозы,
499-762], куда вошли обзоры публикаций о бунинском творчестве на французском, немецком,
английском языках и полные переводы на русский язык ряда статей, рецензий, интервью.
16 Так, некоторые оценки бунинской лирики и даже сам композиционный принцип
построения экспертного заключения, очевидно, навеяны очерком творчества Бунина, написанным
Ф.Д. Батюшковым для «Русской литературы XX века (1890-1910)» под ред. С.А. Венгерова (М.,
1914-1916).
17 Карлгрен пересказывает «Чернозем» (этим циклом Бунина из двух рассказов, «Золотое
дно» и «Сны», открывался в 1903 г. сборник издательства «Знание»; к рассказам этим с большим
интересом отнеслись и Чехов, и Горький; см. [Афанасьев 1966: 55]). Писатель дал в этих рассказах
три весьма выразительные зарисовки «не оскудения, а запустения» русских дворянских усадеб.
Ср.: «...полы и потолки в зале еще немного покосились и потемнели, ветви запущенного
палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают кое-где трещины»; «всюду, к
самым порогам, подступили лопухи и глухая крапива»; «в углах свалены книги, пыльные
акварельные портреты, ножки столов»; «галка« вдруг срывается с криво висящего над ломберным
столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно». В стихотворении «Над Окой» («Запустение»)
Бунин также перечисляет приметы «гнезда родного запустенья»: «заглохший сад», «тленье»,
«мертвый звук часов».
264
создает обобщенный интерьер дома, столь обаятельного для Бунина и столь
отталкивающего для всех, кто не связан с ним кровными узами:
пустыми стоят покои, потолки прогнулись и стены покосились, пыль лежит
толстым слоем на стертом паркете и сломанной мебели, на потемневших
дагерротипах18 и пожелтевших клавишах старого рояля. Сырость и плесень
нарисовали фантастические узоры на обоях, ветер врывается в разбитые стекла. Это
замок Спящей красавицы, которая никогда больше не проснется.
Никто из обитателей бунинской России, ни дворянин, ни мужик, не хочет
поднять бессильно опущенных рук, все точно парализованы.
«Как поэт старых дворянских усадеб, Бунин — последний представитель
великого поколения русских писателей, которые вслед за Тургеневым
вдохновлялись необычайной поэзией прежних "дворянских гнезд"», — пишет Карлгрен,
указывая, что Бунин вступил в литературу, когда «топор был уже занесен над
корнями чеховских вишневых садов». В момент написания первого заключения
о его творчестве для Нобелевского комитета эмигрант Бунин только
обустраивался во Франции и замысел автобиографической «Жизни Арсеньева» едва
намечался, но Карлгрену удается необыкновенно точно уловить главную тему
бунинского творчества, настолько точно, что и его последующее развитие
замечательно соотносится с основными положениями отзыва нобелевского
эксперта. Казалось бы, рецензент повторяет известные истины о судьбе русского
поместного дворянства после отмены крепостного права, однако он
подчеркивает не социально-экономические проблемы нового времени, а поэтическое
наследие старой дворянской, прежде всего усадебной, культуры. Эта «колдовская
сила» прошлого властвовала над умами тех, для кого оно жило в
воспоминаниях детства, в семейных традициях и в романтических преданиях «старины
глубокой». «Бунин принадлежал к тем, кто попал во власть этого колдовства»:
И для него старая усадьба, с ее уютной беззаботной жизнью, интимным
настроением, сердечным тоном общения, с ее традициями, унаследованными
через поколения, ее старинной культурой кажется священным местом; и для него
жизнь потеряла что-то лучшее после того, как мерзость запустения прошлась
по нему.
Вместо анализа бунинской лирики Карлгрен предлагает
импрессионистический портрет его лирического героя, силой воображения возвращающегося в
мир старой поместной России. Пленительный несмотря на тлен и распад, этот
ушедший в небытие мир вызывает сильную пьянящую грусть в Бунине-лирике,
оцененном нобелевским экспертом так высоко, как весьма редко ценили его
стихотворения соотечественники.
18 Несколько десятилетий спустя бунинские символы запустения припомнил и М. А. Алданов,
взяв эпиграфом к одной из глав своей «Повести о смерти» (1953) стихотворные строки 1916 г.
«Синие обои полиняли, / Образа, дагерротипы сняли...».
265
Еще один источник вдохновения для меланхолической музы Бунина —
природа, и вновь природа того ограниченного уголка русской земли, где он вырос и
куда все время мысленно возвращается — и от ненавистной жизни города, и от
притягательных, но чужих далеких стран. В лирике природы, утверждает Карл-
грен, в русской поэзии ему нет равных.
«Листопад», осень, так называется самое значительное собрание
стихотворений Бунина, которое некогда, в 1903 г., принесло ему Пушкинскую премию —
самую главную литературную награду в России19.
«Настроение осени пронизывает всю его поэзию», — утверждает Карлгрен
доминанту бунинского творчества. Отсутствие ярких образов, вычурных
эпитетов или метафор кажется Карлгрену воплощением этой «осеннести»,
переходной грустной поры между отцветшим, отгоревшим летом и близящейся
мертвящей зимой, и даже особенности поэтического языка Бунина — «языка
прозы» — в глазах Карлгрена не недостаток, а достоинство. Отказ от
технических поисков современного Бунину русского стиха и ориентация на
классические, уже старомодные образцы составляет неповторимое своеобразие
созданных им картин природы: отсутствие мелодичности, суховатая точность
слов обнажает первостепенность не формы, а содержания. Карлгрен
подчеркивает бунинский традиционализм, даже противопоставляет творчество
писателя модернистским исканиям рубежа веков20. Стихотворения Бунина он
сравнивает с
осенними цветами, бледными, со слабым ароматом, совершенно несхожими с
поэтической флорой модернизма того времени, с наркотически пахнущими и
ярко расцвеченными орхидеями. Есть что-то от чистого прозрачного воздуха
короткого осеннего дня в его поэтическом стиле. Стройный, ясный, точный,
иногда даже банальный в своей простоте, непосредственный, но
композиционно крепкий и выверенный в каждой детали.
Раз найденная лирическая тональность и стихотворные приемы остаются
неизменными в поэзии Бунина на протяжении десятилетий; в то же время «как
прозаик он быстро развивался».
19 Как представляется, этой премии придается, особенно в связи с троекратным
награждением ею Бунина, слишком важное значение. Для сравнения: в 1903 г., когда Бунин стал лауреатом
Пушкинской премии за стихотворный сборник «Листопад» (1901) и за перевод «Песни о Гайава-
те» (1903), эту же премию получили наряду с ним поэтессы Мирра Лохвицкая и Т.Л. Щепкина-
Куперник (последняя за сборники с весьма характерными названиями «Мои стихи» и «Из
женских писем»). Этой премии регулярно, буквально из года в год, удостаивалась и О.Н. Чюмина-
Михайлова, как за оригинальные стихотворения, так и за переводы Данте, Мильтона, Теннисона.
20 В критике русского зарубежья противопоставление лирики Бунина поэтическим
исканиям символистов и, шире, «декадентов» Серебряного века быстро стало общим местом, которому
отдали дань такие разные критики, как Г.В. Адамович, Β.Φ. Ходасевич, В.В. Набоков, М.О. Цет-
лин; это особенно разительно при чтении подборки рецензий на вышедшие в эмиграции
сборники стихотворений Бунина, см. [Бунин: Pro et contra 2001: 353-403].
266
Обратившись к бунинской прозе, Карлгрен показывает, как из задумчивого
мечтателя, слоняющегося по запущенным комнатам ветхого дома и
погруженного в воспоминания о золотом веке усадебного быта, создающего новеллы,
похожие на странички из лирического дневника и поражающие зоркостью слуха
и зрения, постепенно складывается писатель с критическим взглядом на
окружающий его мир, бьющийся над вопросом: почему же старая Россия погибла?
«Поэтические мелочи» в прозе, «эскизы», «миниатюры» привлекают
внимание эксперта мощным лирическим чувством, которое сдерживалось в поэзии и
прорвалось лишь в эпическом повествовании. Несколько страничек, в которых
«нет ни одного нового слова», поражают красотой, изяществом и особенным
настроением. Ранняя проза Бунина насквозь лирична, замечает Карлгрен, его
собственная личность превалирует в его новеллах, рассказ ведется от первого
лица, напоминая лирический дневник писателя, «бедного переживаниями, но
вместе с тем богатого редкой наблюдательностью», вниманием к мелочам,
«ускользающим от менее внимательного глаза». Постепенно, однако, эти
«дневниковые записи» меняются, и из вдохновенного мечтателя, ловящего разные
впечатления от «жизни вообще», писатель становится «все более вдумчивым и
критическим исследователем окружающего его общества».
Конкретная русская действительность буквально навязывается ему, и он
целенаправленно стремится анализировать ее и отыскать свое место в том
времени, в котором ему довелось жить. Однако проблемы, с которыми он
сталкивается, еще неясны ему, и он осматривается неуверенно и наощупь,
раздираемый борющимися в нем чувствами.
Нобелевский эксперт пытается уловить основные мотивы бунинской
новеллистики начала века: искания молодого дворянина (потомка знаменитых
«лишних людей» русской литературы), но не столько интеллектуально-духовные,
сколько поиск реального «места» в мире, просто поиск заработка; разнообразие
русского мира, типов в русском народе; ощущение бездомности, оторванности
от корней и неизбежность возвращения к истокам. Герой бунинских новелл, за
которым угадывается автор, не чувствует себя участником обновления страны,
он «последыш» обреченного на гибель класса: позади него развалины,
впереди — неизвестность новой демократической России, «крепостные его деда
необозримыми толпами наступают, чтобы овладеть наследством». «Что движет
этими массами, что от них можно ожидать?» — так формулирует
невысказанные вопросы бунинской прозы начала века А. Карлгрен.
Социальный анализ деревни, класса крестьян и класса помещиков,
выдвигается на первый план в бунинском творчестве этого периода, и главным
образом в повестях «Деревня» и «Суходол», которые рецензент пересказывает и
разбирает особенно подробно. Молитвенное настроение, охватывающее Бунина
при первом взгляде на русскую природу и помещичье-деревенский старинный
уклад, постепенно сменяется безжалостной критикой острого и тонкого наблю-
267
дателя. «Еще как в прежние времена заканчивает он рассказ "Антоновские
яблоки", в котором только запах самого знаменитого яблочного сорта старинных
помещичьих садов вдохновляет его на целый ряд описаний старой усадебной
жизни», — рассуждает Карлгрен, перечисляя приметы этой жизни, вслед за
«растроганным и восхищенным» Буниным прислушиваясь к звукам гитары и
словам полузабытой песни в финале рассказа. Вместе с Буниным, с его героем
Баскаковым («В поле»21) шведский критик слушает завывания бури за окнами
разоренного дома, шум самовара и байки давно минувшей Крымской
кампании. И вновь и вновь задается вопросом: «Почему же погибла старая Россия?».
Ответ на этот вопрос известен Бунину, замечает Карлгрен, но он слишком
любит уходящую, ушедшую навсегда Россию, чтобы сразу сказать правду.
Прежде чем «надавить пальцем» на болевые точки, Бунин
идеализирует русскую старину, окружает поэтическим блеском последние
ее остатки, желая сохранить иллюзию того, что было, потому что его
красота была слишком слабой, слишком нежной, чтобы выдержать тяжелое
дыхание нового времени, слишком исполненной поэзии, чтобы подойти для новой
прозы.
Писателю совершенно очевидно, что его предки, сколь бы прекрасны они ни
были, не в силах «бороться за существование»; но, как человек сугубо
деревенской складки, Бунин ищет ростки новой России все в той же деревне, не
обращая ни малейшего внимания на городской пролетариат.
Для него русский народ — это прежде всего и только русский мужик, и он
бесконечно вопрошает «этого нового сфинкса, чтобы выманить у него ответ на
его же загадку». Карлгрен прослеживает путь Бунина к разрешению загадки
русского крестьянина, в котором вначале писатель робко, преодолевая
«сословную неприязнь», старается разглядеть лишь хорошие свойства, и желая верить
в его кротость, неиспорченную благочестивую душу, в чистоту его души и
помыслов. «Но чем более Бунин исследует крестьянина, чем серьезнее пытается
понять его психологию, тем более чуждой и непонятной она ему кажется», —
констатирует критик и восклицает:
Русская интеллигенция и русское крестьянство! Разве не на разных планетах
живут они без возможности понять друг друга?
Пролистывая бунинские новеллы — «Беден бес» («Птицы небесные»), «Сто
восемь» (впоследствии переработанную под названием «Древний человек»22), —
Карлгрен демонстрирует не столько бунинское бессилие перед непостижимой
философией и поведением «дикарей», сколько бессилие цивилизации перед
патриархальным миром другой культуры. И потому Бунин накануне первой рус-
21 Первоначально «Байбаки» с подзаголовком «Из жизни мелкопоместных».
22 Сельский учитель после разговора с крестьянином-долгожителем Таганком недоумевает:
«...порою теряешься: человек ли перед тобою? <...> Но — человек ли он?».
268
ской революции не только ощущает свою чуждость народу, живущему с ним
бок о бок, но и свою враждебность ему23.
Революция, во времена которой Бунин «молчал», во многом переменила его
позицию: из объективного наблюдателя он превратился в одностороннего
критика, и теперь он
говорит правду о русском крестьянстве и о русской деревне, ту <правду>,
какой он ее себе представляет, и у него нет сомнений в том, что его мнение
единственно верное, и он твердо убежден, что в своем погружении достиг дна
крестьянской психологии.
И шведский критик подчеркивает, что внешнее спокойствие тона не должно
вводить в обман, потому что послереволюционные произведения Бунина о
русской деревне воспринимались как остро дискуссионные социальные
выступления. Субъективный тон, все время нарушающий нарочито спокойное течение
повествования, страстность авторской позиции и горячая убежденность в
своей правоте, по уверению Карлгрена, никоим образом не умаляют объективной
исторической ценности бунинских описаний. Если в свое время русская
критика, замечает нобелевский эксперт, и обвиняла писателя в тенденциозности, во
враждебной отечеству и унизительной для народа направленности его
произведений, то, указывает он далее, катастрофа 1917 года показала правоту Бунина.
Сочувственно цитируя писателя, Карлгрен подчеркивает, что теперь Бунину не
нужно оправдываться, революция расставила все на свои места.
Шведский критик понимает, что революция не отменила субъективности
бунинского взгляда на собственный народ, не прибавила ему понимания, а
только оттолкнула своими действительно жестокими и кровавыми
проявлениями. Но если русский писатель не оправдывает русского человека, то почему
это должен делать европейский профессор? И Карлгрен лишь раскрывает новое
бунинское видение русской деревни и ее обитателей, не пытаясь подтвердить
или опровергнуть верность высказанных писателем мыслей и соответствие
выведенных им образов исторической истине. Он просто пересказывает,
например, рассказ «Ночной разговор», герой которого, юноша-гимназист, ненароком
слышит беседы мужиков, с которыми он провел на деревенских работах все
лето и думал, что «до глубины души знает и понимает их». Но вот он слушает
отвратительные рассказы об убийствах и мучительствах, слышит жуткие
подробности кровавых и жестоких расправ и содрогается от той «бездны тьмы
23 Автор одной из первых серьезных и во многом до сих пор не устаревших работ о бунин-
ском творчестве К. Зайцев, разобрав «страшный» рассказ «Последний день» (обедневший
помещик Воейков, продав фамильную усадьбу мещанину Ростовцеву и разорив в доме и округе все,
носившее отпечаток вековой жизни его рода, приказал напоследок повесить борзых собак),
замечает: «Что может быть страшнее и отвратительнее этой казни и надо ли после этого зрелища ее
много тратить слов на то, чтобы объяснять, каковы были психологические предпосылки
большевизма, в самых мерзких его проявлениях?» [Зайцев 1934: 128]. Это исследование появилось,
впрочем, сразу после присуждения писателю Нобелевской премии.
269
и злобы, которая, согласно Бунину, таится в русской душе»24. Словно обретя
истинную разгадку мужицкой души, писатель возвращается к этой теме в
рассказе за рассказом, чтобы вопросить наконец устами одного из персонажей
«Деревни», Тихона Квасова: «Есть ли кто лютее нашего народа?».
Бунин в одном из самых своих знаменитых произведений
дореволюционного периода излечивается от «мании идеализировать крестьянина, которая
десятки лет господствовала в русской литературе», и даже деревенский мир
Чехова, попытавшегося разорвать этот порочный круг в «Мужиках», «кажется
маленьким идеальным обществом» по сравнению с описаниями Бунина,
замечает шведский критик:
Русская деревня Бунина — это компост из грязи, лохмотьев, лени, невежества,
водки, сифилиса, преступлений и мерзостей, варварства и инстинктов диких
зверей.
Не довольствуясь этим убийственным концентратом, Карлгрен подробно
разбирает картины физической и нравственной нечистоты, на которые не
поскупился русский писатель25. Чтобы избежать еще больших упреков в
необъективности, Бунин группирует сюжет вокруг двух братьев, разбогатевшего
кулака Тихона и доморощенного философа Кузьмы, также выходцев из
мужицкого сословия, пытающихся осесть в деревне и кончающих самым мрачным
пессимистическим взглядом на крестьян соседней Дурновки и на русский
народ в целом. Ни понять крестьян, ни найти в них хоть искру добра и чистоты не
удается:
Неразвитость и тупость, грязь и нищета, варварство и жестокость,
безнадежная дегенерация, место, где живут троглодиты и гориллы, — таково мнение
братьев о русской деревне.
Для Карлгрена из бунинского повествования явствует, что оно несравненно
ближе к истине, «чем идеализированные картинки предшествующих
десятилетий»26. Впрочем, Карлгрен готов признать, что темные краски излишне сгу-
24 Этот рассказ вызвал при своем появлении целую бурю негодования в русской критике,
обвинявшей писателя в «неправдоподобии и надуманности», «неестественности отдельных
фактов» (подробнее см. [Афанасьев 1966: 131-133]).
25 Александр Каун, профессор русской литературы Калифорнийского университета
(Беркли), несколько лет спустя выдвигавший Бунина на Нобелевскую премию, также отмечал
сгущение мрачных красок в повести «Деревня», видя в ней прежде всего «общественное явление», а не
собственно художественное произведение. Он писал Бунину 14.08.1926 о повести: «...знойного
лета, золотых полей там нет. Вы не захотели нарушить тона своей общей картины. Мне иногда
кажется, что от контраста впечатление получилось бы сильнее» (РАЛ, MS. 1066/3193).
26 Ср. мнение самого Бунина о народнической прозе, в частности о романах Златовратского:
«Он сочинял пухлые, многостраничные романы из жизни мужиков. Это тогда было необычайно
и смело! <...> Я пробовал пересмотреть кое-какие его вещи... не мог, нет сил — все плоско,
лубочно, фальшиво. <...> А при этом Златовратский деревенской жизни вовсе не знал, всегда жил
в городе» (см. [Бахрах 1978,1: 172]).
270
щены, даже в картинах, нарисованных с натуры. Однако повесть «Деревня»
имеет непреходящую ценность как документ времени, являясь «честной и
наиболее выразительной исповедью русского интеллигента» незадолго до Октября
1917 г. Страстный голос автора, все время пульсирующий в повествовании
«Деревни», напоминает шведскому критику голос другого русского интеллигента,
«западника» Чаадаева, «в безжалостном анализе и в безжалостной критике
которого чувствовалось сердце, дрожавшее от беспокойства за будущее родины»27.
К повести «Деревня» — при всей художественной убедительности весьма
«хаотичной» в композиционном отношении («столь же хаотичной, как та
жизнь, которую она описывает»), продолжающей ряд сцен и разговоров от
произвольно выбранного начала до конца, который ничего не завершает, —
примыкает целый ряд тематически близких новелл. Карлгрен выбирает для анализа
всего один рассказ, но зато наиболее характерный и убедительный для его
концепции, — «Я все молчу», показывающий новую грань в характере русского
мужика, совершенно извращенное понятие жертвенности, явленное в облике
юродивого Шаши. Если в своих ранних произведениях о деревне Бунин писал,
что работа для мужика священна, то теперь он клеймит в мужике «ненависть к
труду», прямое следствие которой — преступность или нищета. Карлгрен
завершает свое рассмотрение прозы Бунина о русской деревне пространными
выдержками из вышеназванного рассказа, одного из самых пронзительных и
невыносимо надрывных даже среди бунинских новелл.
Потрясения первой русской революции изменили не только отношение
писателя к деревне; уже и взгляд на родное поместье не доставляет ему прежней
радости, а вызывает в душе те же досаду и горечь, что и при взгляде на мужика.
Теперь, когда изучение сельской жизни заострило критичность его взгляда, он
и в русской дворянской усадьбе «открывает то, что раньше не мог или не хотел
видеть», т. е. общность процессов разложения, захвативших и мужика, и
барина, ту же «гниль» и «ту же бациллу, которая заразила всю русскую жизнь». И это
новое представление о русском дворянстве наиболее полно отразилось в
повести «Суходол». На ней нобелевский эксперт не останавливается столь подроб-
27 Ср. с суждениями H.A. Бердяева, о творчестве которого нобелевскому эксперту пришлось
писать два десятилетия спустя: «Чаадаев выступил решительным западником, и западничество
его было криком патриотической боли. <...> Культурно рафинированный Чаадаев не мог
примириться с тем, что он обречен жить в некультурном обществе, в деспотическом государстве,
которое держит в тисках темный народ, не просвещая его. Чаадаев высказал мысль, которую
нужно считать основной для русского самосознания, он говорит о потенциальности,
непроявленности русского народа. Эта мысль могла казаться осуждением русского народа, поскольку она
обращена к прошлому, — русский народ ничего великого в истории не сотворил, не выполнил
никакой высокой миссии. Но она же может превратиться в великую надежду, в веру в будущее
русского народа, когда она обращена к будущему, — русский народ призван осуществить
великую миссию. Именно на этой потенциальности и отсталости русского народа весь XIX век будет
основывать надежду на то, что русский народ призван разрешить вопросы, которые трудно
разрешить Западу, вследствие его отягченности прошлым, — например, вопрос социальный»
[Бердяев 1990а: 22-23].
271
но, как на анализе «Деревни», указывая лишь, что все прежние черты,
свойственные поместному дворянству в бунинском изображении, и в
особенности — чувство родовой связи друг с другом и с усадьбой, по-прежнему
представлены в повести, только гипнотическая сила, привязывающая героев к
прошлому, становится и той единственной силой, которая удерживает их в жизни.
Суходол, затерянное среди степей и лесов имение, вырастает под пером Бунина
«в символ всей русской — если не общеславянской — никчемности, жизненной
несостоятельности». Но обобщения Бунина еще глобальнее и ужаснее, ибо по
праву писателя, равно критикующего все сословия, он отваживается вынести
приговор и мужику, и дворянину:
...ненависть к труду и неумение трудиться, неспособность к организованному
общежитию, инстинкт самоуничтожения, страх жизни — эти страшные черты
объединяют обитателей Суходола и тех жутких нищих, которые выставляют
на всеобщее обозрение свои отвратительные язвы.
Эта затягивающая в чудовищную пустоту разрушения бездеятельность
заставляет писателя искать других тем и образов, других красок и запахов; Россия
переломного времени дала расцвет его творчеству, но он высказался о ней со
всей возможной определенностью.
А. Карлгрену, европейцу с достаточно радикальными взглядами, оценки
Бунина кажутся необъективными, односторонними, а творчество писателя —
слишком закрепленным за старой, уходящей Россией, с давно сошедшим с
исторической сцены дворянством и темной, страшной в своей
нецивилизованности и вместе с тем детском (или зверином) простодушии массой
крестьянства. В предреволюционной России — что отчасти разочаровывает и
одновременно настораживает нобелевского эксперта — Бунин не видит
никакой свежей, персонифицированной силы, способной обновить страну: этот
взгляд, устремленный только в прошлое и не различающий света в будущем,
воспринимается шведским критиком в 1923 г. как серьезное упущение Бунина-
художника.
Но было бы неверным считать, что упреки Карлгрена имеют что-либо
общее с критикой «с классовых позиций». Неплохо знавший Россию рецензент
прекрасно понимал, что в этой стране, где литература всегда была
общественной трибуной,
мало считались с писателем, который не отдал свое перо на службу
политическому и социальному движению. Его поздние описания крестьян, правда,
вызвали небольшую сенсацию, но тотчас же были заклеймены общественным
мнением как слишком тенденциозные, как отдельные факты, не
соответствующие действительности.
На самом деле, подчеркивает Карлгрен, соглашаясь с мнением самого
Бунина, последний был «единственным из русских писателей, который сказал прав-
272
ду о своем народе». Односторонность, отмеченная Карлгреном, — это упрек в
неумении Бунина заглянуть в будущее, увидеть и запечатлеть конкретные
живые типажи тех, кто берется строить новую Россию — ту Россию, которая, к
ужасу эмигрантов, все-таки существует. Постепенно критик сам осознает
несостоятельность своих упреков и снимет их в своих последующих рецензиях. Но,
подводя итоги уже первого своего обзора, он укажет, в чем состоит
«непреходящая ценность» творений Бунина — «честного и серьезного художника»,
«безбоязненно говорящего правду»:
мимо тех картин дореволюционной русской жизни, которые он создал, и
возможности взглянуть изнутри на психологию русской интеллигенции, которая
раскрывается в его новеллах, не может пройти тот, кто хочет понять Россию
нынешнего переломного времени.
Может быть, ощущение вечного тлена и безволия заставляют Бунина
отправиться в долгие странствия, которые нобелевский эксперт склонен считать
бегством из России, первой эмиграцией писателя. «На мгновение он опять может
дышать после удушливой атмосферы России», «наслаждаясь свежим воздухом
Запада и наркотическими парами Востока». Поначалу Бунин даже не скрывает
восхищения, и Карлгрен не без иронии замечает, с каким сочувствием писатель
наблюдает молитву мусульман в Турции и их похвальный обычай взимать
деньги за вход в мечеть, тогда как еще недавно он бранил всех без разбору
богомольных русских крестьян.
Но чужая жизнь захватывает писателя лишь на мгновение, и из дальних
странствий он возвращается без чувства потери; пленившие его поначалу
новизной и экзотикой обычаи чужих стран постепенно начинают видеться в
истинном свете. С ним случилось то же самое, что произошло некогда при смене
взгляда на русскую жизнь: пока писатель любовался ею со стороны, он слагал ей
гимны, но как только он вгляделся в нее пристальнее, он ужаснулся и
отшатнулся. Вот и «современная цивилизация при близком знакомстве отпугнула его так
же, как русское варварство, современный культурный человек так же, как
русский мужик». А. Карл грена не удивляют новые мотивы в творчестве Бунина, и
он отмечает, что в рассказе «Братья» представители разных цивилизаций
похожи в своих страданиях и уравнены в смерти, а через весь рассказ «Господин
из Сан-Франциско»,
виртуозный по форме, стройный и завершенный, как сонет, исполненный
гипнотически воздействующего на читателя настроения Судного дня, в
кажущемся холодным и безразличным тоне писателя звучит предупреждающий окрик
современной культуре, символизированной в личности героя28.
28 В этой оценке Карлгрен был не одинок: так, Т. Манн считал, что «Господин из
Сан-Франциско» «по нравственной силе и экономной пластичности» сопоставим с лучшими вещами
Толстого (цит. по: [Коепеп 1998: 366]).
273
Заметим, что Карлгрен впервые пишет хотя и обзорную, но большую и
серьезную работу о Бунине, он сам еще только открывает для себя эту
изысканную русскую прозу и поэтому не в состоянии пока расставить верные акценты
в своих тонких и глубоких в целом суждениях. Ведь писатель «еще несколько
лет назад был неизвестен вне России», справедливо указывает эксперт,
добавляя, что, даже будучи академиком, он не был «причислен к великим именам».
Карлгрен связывает это несколько теневое положение писателя в родной
словесности как с характерным для него жанром «миниатюр», тогда как русская
литература знаменита «крупными полотнами», так и с тем, что в России
литература всегда была «ancilla politicae»29 и потому русские «мало считались с
писателем, который не подчинил свое перо политическому и социальному служению».
Даже идущие вразрез с общественными представлениями произведения
Бунина о русском крестьянстве не имели большого резонанса, так как критика
поторопилась отнести их к выступлениям одиночки, не отражающим общего
мнения.
Только в эмиграции его имя приобрело известность: ведь это он, как теперь
принято говорить и как он сам не устает подчеркивать, был единственным
русским писателем, сказавшим своему народу правду30.
Однако ни замалчивание имени Бунина, ни шумиху вокруг него в последнее
время Карлгрен не склонен рассматривать как подлинное свидетельство
значимости его творчества, полагая, что Бунин
одинаково мало заслужил и то, и другое. Он не великий писатель, его
репертуар мал и однообразен, его интересы узко ограничены, его творчество
односторонне. Но он честный и серьезный художник и в своей особой области очень
зоркий наблюдатель и бесстрашный выразитель правды.
В «Заключении» Нобелевского комитета за 1923 г. академики специально
указали на обстоятельность и полноту литературоведческой «экспертизы»,
подробно анализирующей лирику и новеллистику Бунина. Но впервые
появившееся в списке номинантов имя неизвестного русского автора, хотя и
благосклонно отмеченного шведскими академиками благодаря сочувственному
отзыву, и отсутствие в его творчестве крупных произведений вывели бунинскую
кандидатуру за рамки серьезного обсуждения.
Нобелевский комитет так выразил в резолюции 1923 г. свое мнение о
кандидатуре русского писателя:
29 Служанка политики (лат.).
30 Хотя это замечание указывает на очевидное знакомство Карлгрена с публицистическими
выступлениями Бунина в печати, однако никаких конкретных ссылок в экспертном заключении
нет, и поэтому любые предположения о том, какие именно тексты имеются в виду, носили бы
гадательный характер.
274
Литературные сочинения Ивана Бунина довольно ограниченны и
количественно, и по своей философской глубине. Он складывался как новеллист
французской школы, за отточенным и сухим стилем которого читатель может
представить истекающее кровью сердце страдающего за человечество писателя,
но, с другой стороны, может истолковывать подобную литературу как
выражение определенного рода эстетического фанатизма, который на алтарь
Святого искусства жертвует что угодно, Исаака или овна, — с одинаково холодной
радостью и риторической корректностью и жестокостью. Нелегко решить,
какой взгляд правилен, ибо рассказы Бунина, несмотря на их несомненное
художественное совершенство, вызывают в человеке холод и сердечную скуку,
но заглушают всякие чувства, так что, высоко оценив литературное
мастерство рассказчика, охотнее всего забываешь все, что читал [Nobelpriset i litteratur,
11:42].
Такая оценка, скорее всего, поразит русского читателя. Не забудем, однако,
что шведские академики читали Бунина исключительно в переводах (на
французский язык), в которых отточенность стиля воспринималась лишь как
виртуозная игра ледяного рассудка.
Тем не менее пафос бунинского творчества не совсем ускользнул от
искушенных академиков. «Мировая история, однако, — признавали бесстрастные
шведы, — подтвердила многие прозрения Бунина, в частности, его желчное
отношение к русскому крестьянину получило пророческую ценность». Но
дореволюционные произведения Бунина не представляются членам Нобелевского
комитета достаточным основанием для присуждения ему премии; круг
читателей и почитателей писателя, «к сожалению, не создавшего больших
художественных ценностей и не ставшего великим человеком и мыслителем»,
оценивается ими как весьма узкий, ограниченный «несчастными и озлобленными
русскими эмигрантами»:
Великим писателем он, однако, не может считаться и среди них. Для этого он
слишком беден фантазией и силой художественного выражения [Ibid.].
Эти заключительные слова резолюции 1923 г. хорошо отражают несколько
надменное отношение европейской интеллигенции к беженцам и изгнанникам
из России, и в частности — к литературе русского зарубежья. Отражают они, в
сущности, и вполне конкретный факт: нобелевское жюри смотрело на русскую
литературу в лице ее современных представителей, номинированных на
Нобелевскую премию, почти исключительно глазами своих экспертов. Оценить
обаяние бунинской прозы у шведских академиков в начале 1920-х гг. просто не
было возможности, так как на их родной язык Бунин переведен еще не был.
Особенности стиля Бунина — «мастера Божьей милостью» — заставили
М.А. Осоргина предостеречь писателя от намерения выставить свою
кандидатуру на Нобелевскую премию: «Если же перевести Вас, то исчезнет лучшее и
ценнейшее. И потому никогда не оценят Вас по заслугам иностранцы, как не
275
могут они оценить Пушкина. И Нобелевской премии Вы не получите»31. Между
тем через десять лет, когда Бунину была присуждена Нобелевская премия, «этот
русский писатель не был чужим не только шведским специалистам по
литературоведению, но и более широким слоям жителей Швеции: целый ряд его
трудов был уже издан в шведском переводе» [Письма Бунина Агрелю 1967: 3].
Разумеется, перевод и издание книги еще не означают ее успеха у массового или,
напротив, элитарного читателя, однако без появления на шведском языке хотя
бы небольшого числа произведений писателя серьезное рассмотрение его
кандидатуры Нобелевским комитетом вряд ли могло бы состояться.
Заинтересованного внимания в шведской филологической среде творчество Бунина и
сейчас не вызывает, его книги не переводятся и не переиздаются; тем более
интересно обратиться к истокам прочтения шведами бунинской прозы почти
сто лет назад (бунинская поэзия даже не упоминалась в переговорах о переводе
его сочинений), выяснить, как Бунин попал в сферу внимания шведских
переводчиков и что думала о его творчестве шведская критика32.
Инициатива связаться с жившим во Франции писателем возникла у
славистов Лундского университета, где тогда возглавлял кафедру профессор Сигурд
Агрель, личность примечательная во многих отношениях и больше всего
привлекательная своей горячей и бескорыстной преданностью русской литературе.
Кроме него активное участие в пропагандировании русской литературы в
Швеции играл лектор русского языка Лундского университета М.Ф. Хандамиров, в
прошлом офицер царской армии, как и многие тысячи русских беженцев
осевший в Европе. К тому времени, когда устанавливаются первые эпистолярные
контакты Бунина с лундцами, — декабрь 1922 - январь 1923 г. — сочинения
писателя уже выходили в немецком, английском, французском переводах, но сам
он признавался, что «в Европе и вообще за границей» он еще «почти совсем
31 Письмо от 20.10.1928 с авторским определением «в назидание потомству» продолжается
так: «Не получите вы ее, и скорбите о том напрасно». Много позже, в последние годы жизни,
приводя в порядок архив и делая на многих адресованных ему письмах пометы или замечания
малиновыми чернилами, Бунин сердито приписал на полях: «Откуда это узнал?» — и добавил: «сам,
сукин сын, надеялся получить — вот и пошел на "дружеские дерзости"» (РАЛ, MS. 1066/4328).
32 Хотя подобные попытки уже предпринимались в буниноведении, однако к серьезным
исследованиям их отнести нельзя. Так, И.А. Костомарова в работе «К истории присуждения
И.А. Бунину Нобелевской премии» [Костомарова 2003: 110-115] весьма лаконично реферирует
несколько материалов, публиковавшихся за рубежом и оказавшихся в фондах Орловского
литературного музея. Названная публикация подготовлена до крайности небрежно; неточно или
ошибочно переданы не только иностранные реалии (так, Бунин присутствовал в Стокгольме
13 декабря 1933 г. не на празднике «св. Цицелии» (sic!), a на традиционном «дне Люсии»), но и
русские (Российская Императорская Академия наук...); недостоверно оформлены
библиографические отсылки (ср. описание публикации Г.П. Струве). Являющаяся жанрово и содержательно
тематической разработкой экскурсии в местном музее, работа была включена в научный
сборник явно по недосмотру его составителей.
276
новый писатель» [Письма Бунина Агрелю 1967: 16]. Тем более неожиданным
оказалось предложение из Скандинавии, заставшее писателя врасплох.
Публикатор материалов из лундского архива Георг Яугелис утверждает, что
«ознакомление шведского общества с творчеством Ивана Бунина было
конкретным результатом деятельности кружка, созданного в сфере славистов
Лундского университета осенью 1922 г.» [Jaugelis 1973: 115]. Еще в черновике
своего первого послания Бунину М.Ф. Хандамиров колебался в выборе личного
местоимения — от себя или от группы славистов («я/мы позволяем себе
просить Вас» [Ibid.: 116]33) обратиться к Бунину с предложением о переводе его
произведений на шведский язык. «Инициаторы», от лица которых Хандамиров
пишет «выдающемуся художнику русского слова», преследуют цель, по его
признанию, «обеспечить на некоторое время существование нескольких молодых
ученых-славистов» и, «вместе с тем, одушевлены желанием познакомить
шведскую интеллигенцию с произведениями русского творчества переживаемой
эпохи и таким образом содействовать по мере возможности сближению двух
стародавних соседей» [Ibid.].
Какими бы благородными и искренними ни были помыслы скромного
университетского преподавателя, его объединяет с «выдающимся русским
писателем» не только общая беда изгнанничества, но и отсутствие средств к
существованию на чужбине. И потому вторая часть очень почтительного и немного
робкого по тону письма оказывается сугубо деловой: речь идет о гонораре за
издание книг (РАЛ, MS. 1066/ 3226)34. Сердечно откликнувшийся на
предложение лундских славистов Бунин35 в своем ответе с той же необходимой
деловитостью переходит от неформально теплых слов признательности к обсуждению
конкретных сумм, причитающихся ему за предполагаемое издание. В своем
письме Хандамиров сообщил Бунину об условиях Вячеслава Иванова — шесть
процентов от продажной цены книги; Бунин ссылается на обычную практику
выплаты гонораров, получаемых им от других европейских издателей, которые
платят ему вдвое дороже, «12-10 (sic! — T. M.) процентов с продажной цены
книги, т. е. если, скажем, книга стоит рубль, то я получаю с каждого экземпляра
33 В первом письме М.Ф. Хандамирова Бунину от 3 декабря 1922 г. (РАЛ, MS. 1066/3226)
названы имена тех, кто составляет «сердце» шведской славистики: «профессор Агрель в Лунде,
профессор Экблюм в Упсале, приват-доцент Шёльд в Лунде».
34 Заметим сразу, что условия контракта шведскими издателями соблюдались
неукоснительно, в отличие, например, от сложной ситуации с переводами и изданиями на английском языке,
с трудностями в получении гонораров (ср., например: [Казнина 1997: 365-374]). В письме от 3
января 1923 г. (РАЛ, MS. 1066/3227) Хандамиров назвал Бунину следующие цифры: 8 % авторских
от продажи первой тысячи экземпляров (предполагалось, что первый тираж и будет 1000
экземпляров), 12 % от последующих (возможных) допечаток.
35 «Чрезвычайно благодарю Вас и прошу передать мою благодарность всем тем, от лица
которых Вы написали мне Ваше доброе и лестное письмо. Очень счастлив Вашим вниманием
к русской литературе и рад предоставить Вам мои писания для перевода» (цит. по: [Jaugelis 1973:
119]).
277
гривенник, двенадцать копеек» [Jaugelis 1973: 119] (замечательно, что писатель
продолжает считать не в иностранной валюте, а в рублях). Так, с копеечных
расчетов — буквально на гривенники — начинаются отношения Бунина со
Швецией, спустя десять лет — и гораздо менее, чем на десять лет! — сделавшей его
богачом.
Поначалу Бунин путался в малопонятных ему шведских адресах, благодаря
чему теперь возможно восстановить некоторые подробности деловых
взаимоотношений писателя с его почитателями в Швеции. «Глубокоуважаемый Си-
гурд Васильевич <...> В письме своем ко мне М.Ф. Хандамиров дал мне Ваш
адрес, но, сбитый с толку словом Gyllenkroksgattan36, одинаковым для его и для
Вашего адреса, я принял Ваш адрес за его — и отправил пять заказных пакетов
на его имя, но по Вашему адресу. Надеюсь, что Ваша почта как-нибудь исправит
это», — сокрушается Бунин в письме к Агрелю от 15 января 1923 г. [Письма
Бунина Агрелю 1967: 14]. В тот же день отправлено и покаянное письмо Ханда-
мирову:
Многоуважаемый Михаил Фридонович! Сегодня я отправил Вам 2 заказных
письма (одно в желтом совсем большом конверте — несколько критических
статей обо мне) и 3 пакета с моими книгами, но наделал чепухи: адрес Агреля,
написанный Вами в конце Вашего письма, я принял за более подробный Ваш
адрес — и все отправил именно по этому адресу, т. е. по адресу Агреля, но на
Ваше имя. Не будете ли добры предупредить Лундскую почту об этом? Боюсь,
что всех этих пакетов, столь важных для меня, не получите ни Вы, ни г. Агрель
[Jaugelis 1973: 125].
Посылки, однако, к большому облегчению сторон, благополучно добрались
до адресатов. Судя по изданным по-шведски книгам Бунина, переводчиков
оказалось всего трое — Рут Ведин Ротштейн и Давид Белин37, а также сам Сигурд
Агрель. Последнего Хандамиров, как уже говорилось, рекомендовал Бунину не
только как переводчика — будучи профессором славистики, Агрель имел право
выдвигать литераторов на Нобелевскую премию. «Глубоко тронутый
вниманием <Шведской> Академии к русской литературе» [Письма Бунина Агрелю 1967:
14]38, Бунин не сразу воспринимает Нобелевскую премию как достижимую пре-
36 Даже переписывая с конверта, Бунин допускает ошибку в написании шведского слова
gatan (улица), входящего в состав названия, добавляя лишнюю букву t. Однако адрес С. Агреля,
указанный Хандамировым, действительно совпадает с его собственным (РАЛ, MS. 1066/3228);
скорее всего, это был почтовый адрес Института славистики Лундского университета.
37 От общения Бунина с двумя последними в его архиве уцелела лишь визитная карточка
Д. Белина (РАЛ, MS. 1066/1826), уже в качестве корреспондента одной из шведских газет
бравшего интервью у свежеиспеченного лауреата в 1933 г., и, неизвестно как вообще сохранившийся,
клочок, оторванный от листа с письмом Р. Ведин Ротштейн: <«...> я охотно <...> Ваши вопросы.
С уважением к Вам Ruth Wedin Rqthstein <...> мое имя-отчество Рут Ивановна» (РАЛ, MS.
1066/4845).
38 Очевидно, Бунин слишком торопил события: от констатации самого факта возможности
номинировать русского писателя-эмигранта на Нобелевскую премию до первых реальных ша-
278
стижную награду, к тому же весьма выгодную в финансовом отношении. Он
благодарит Сигурда Васильевича «за его согласие обратить на нас свое
внимание и заняться нами» [Письма Бунина Агрелю 1967: 14], не отделяя себя как
возможного лауреата от своих товарищей, русских писателей эмиграции. Те же
представления отражены и в письме к другому шведскому корреспонденту,
славшему в Париж «добрые и заботливые» письма [Jaugelis 1973: 123]: «Очень
рад, что Шведск<ая> академия вспомнила литературу, столь славную, нашей
ныне трижды несчастной родины, всем культурным миром забытой» [Ibid.].
И вместе с тем надежда на премию уже зарождается — и потому, что Бунин
честолюбив и не забывает своего звания члена Российской академии, чувствует
себя, лично знакомого со Львом Толстым и дружившего с Чеховым, мэтром
русской литературы, и потому, наконец, что замучен вечным отсутствием денег,
нищенским положением литератора-эмигранта.
Едва начав обсуждать в переписке с Хандамировым состав своих сборников
на шведском языке, Бунин не забывает тотчас указать на успех своих книг
повсюду, ссылается на «оч<ень> многочисл<енные> и оч<ень> хвалебные
отзывы» европейской печати — он цитирует их без малейшего смущения («новая
планета на литературном небе!»; «Бунин сразу завоевал себе место во
всемирной литературе» [Ibid.: 122]). Не имея литературного агента, всякий раз,
вступив в переговоры с издателями и переводчиками, ведя изнурительную
переписку о составе своих будущих сборников, о предполагаемом гонораре, Бунин
был буквально вынужден заниматься саморекламой, извиняясь перед своим
корреспондентом и несомненным поклонником — Хандамировым — за
«нескромные строки», приводимые «в силу <...> коммерческих соображений
шведского издателя» [Ibid.]:
Восторженно писали мне лично и многие критики и писатели: Р. Роллан
(«Гениальная красота Ваших рассказов...»), Г. Брандес («примите мое
восхищение — две тетивы на Вашем луке — жизнь русская и жизнь мировая»), Томас
Манн («Только с Л. Толстым можно это сравнить...»39), А. Жид, К. Форрер
(вместо Фаррер. — T. M.), A. de (sic! — Г. Λί.) Ренье и т. д. [Ibid.].
гов, включая перевод и издание его книг по-шведски и уже вслед за тем — обращение в
Шведскую академию, прошло еще несколько лет. Судя по ответным письмам Бунина (см. цитируемые
далее в тексте), он уже в начале 1920-х гг. полагал, что Шведская академия готова присудить
награду русскому писателю. В сущности, так оно и было, хотя соблюдение всех формальностей
потребовало целого десятилетия.
39 Т. Манн, высоко оценив некоторые произведения Бунина — «Господина из
Сан-Франциско» и «Митину любовь» в первую очередь, — измерил их художественную ценность высшим для
себя мерилом, гением Толстого, и неоднократно впоследствии повторял свое мнение о
сопоставимости бунинских сочинений с некоторыми толстовскими. Так, «превосходного» «Господина из
Сан-Франциско» Манн ставил в один ряд с «Поликушкой» и, хотя и путался в его названии
(окрестив, например, «Господином из Чикаго»), считал неотъемлемой частью европейской
литературы начала XX в. [Interviews mit Thomas Mann 1983: 691, 226].
279
Получив известие о выдвижении на Нобелевскую премию, Бунин
признается в том, что критических статей о собственных сочинениях у него нет —
иностранных он «не собирал систематически» (хотя приведенные выше
высказывания европейских знаменитостей о своем творчестве находил по крайней
мере лестными), а русских набрался за четверть века «целый сундук, да и
сундук-то этот находится в России» [Jaugelis 1973:123]. Так и послал Бунин С. Агре-
лю, своему будущему переводчику и рекомендателю в Шведской академии,
«немногое и случайное», прибавив, что о многом для себя «лестном и интересном
порою только слышал» [Письма Бунина Агрелю 1967:16]. (Прижизненную
критику о писателе см. в [Классик без ретуши 2010].)
Замечательно, что, посетовав в письмах к обоим своим лундским
корреспондентам на пропавший сундук с архивом, Бунин рассказывает русскому
адресату, с которым он почему-то гораздо откровеннее, о том, о чем по каким-
то соображениям не решился сообщить Сигурду Васильевичу (первая фраза
подчеркнута, видимо, ввиду ее важности):
Известно ли г. Агрелю, что в декабре прошлого, т. е. 1922 г., Ромэн Роллан (из-
вестн<ый> романист, уже лауреат Шведск<ой> академии по Нобелевск<ой>
премии) обратился в Шведскую академию, выставив меня кандидатом на эту
премию? Я с R. RollancToM не знаком, но он прочитал мои книги на франц<уз-
ском> и немецк<ом> языках и написал мне по поводу них несколько оч<ень>
лестных писем, а вот теперь я узнал и о его обращении насчет меня в Швед-
ск<ую> академию [Jaugelis 1973: 124] (орфография издания).
Бунин явно взволнован этой вдруг открывшейся волшебной возможностью,
уже включился, быть может, самому себе не отдавая еще в полной мере отчета,
в эту горячечную погоню за премией, которая отравила сразу нескольким
писателям русского зарубежья и без того горькое существование в изгнании.
Но кампании по выдвижению Бунина на звание нобелевского лауреата
предшествовало почти целое десятилетие, когда Бунина переводили и издавали
в Швеции — хотя и скупо, но зато открывая ему доступ к скандинавскому
читателю, когда не только слависты, но и более широкая читательская аудитория
могла составить собственное мнение о его творчестве. И самим писателем
овладевают тревоги иного рода, далекие от мыслей о премии. В письме к Хандами-
рову он делится сомнениями о возможном шведском издании своих рассказов:
Если наше с Вами дело состоится, Вы, может быть, будете добры посоветовать
мне при подборе рассказов для Вашего издания (если этот подбор Вам будет
угодно всецело предоставить мне), что наиболее интересно для шведской
публики — я не имею о ней представления [Ibid.: 120] (письмо от 8.12.1922).
И спустя девять лет, когда уже появились первые сборники рассказов
Бунина по-шведски, то же самое сетование повторяется при подготовке следующего
издания: «...я себе не судья, я плохо знаю вкусы шведской публики» [Письма
Бунина Агрелю 1967: 18].
280
Шведские слависты, справедливо сомневаясь, что «первоначально будет
издано более чем два тома» переводов бунинской прозы, предполагали включить
в состав первого тома «Деревню» и «Суходол», а в состав второго — «Господина
из Сан-Франциско» и другие рассказы, отобранные самим Буниным (РАЛ, MS.
1066/3227). Однако Хандамиров сразу попросил писателя дать шведским
переводчикам и редакторам разрешение «высказать свое мнение, если оно
разойдется» с бунинским, впрочем, «доминирующим» (Там же). «Конец этого
письма», о чем свидетельствует собственная поздняя приписка Бунина, «не
сохранился» (Там же); но именно на последней странице Хандамиров и отвечал
на бунинский вопрос о шведском читателе!
Впрочем, сам Бунин не считает, что он чем-то отличается от французского,
английского или немецкого, уже познакомившихся с некоторыми сочинениями
русского писателя-эмигранта (о рецепции Бунина критикой на перечисленных
языках см. [Классик без ретуши 2010]). Ему кажется, что первой его книгой на
новом для него языке должен стать сборник рассказов, «где будут и
"общечеловеческие", так сказать, рассказы — и чисто русские?» [Jaugelis 1973:122] (письмо
от 8.01.1923). Бунин подчеркивает, что он «не спорит, а только спрашивает», «а
не будет ли это в ущерб впечатлению — наличность в одной книге двух
романов», следует ли помещать «Деревню» и «Суходол» под одной обложкой [Ibid.:
121-122] (письмо от 8.01.1923). В этих тревожных вопросах интересно,
конечно, прежде всего жанровое определение Буниным двух дореволюционных
сочинений: ведь он пишет русскому преподавателю и смело мог бы употребить
определение «повесть» или, быть может, «поэма», однако предпочитает отнести
свои произведения к иной жанровой традиции. Другой важный момент —
осознание самим Буниным их пессимистической тональности: его второе
возражение против объединения в одном томе «Деревни» и «Суходола» — «не
слишком ли это мрачно и не слишком ли экзотично (непонятно, чуждо для
шведа?)» [Ibid.: 122].
Забегая вперед, отметим, что, когда перевод двух этих «романов» вышел в
свет, известный шведский критик того времени, состоявший в переписке с
Буниным — «одним из самых превосходных певцов родины», Фредрик Веттер-
лунд отозвался о них в небольшом эссе [Vetterlund 1934: 235]. Опасения Бунина
оказались не напрасными: в «Деревне» шведский критик увидел «безнадежную
картину» «тупости и жестокости, которые, кажется, погружают жизнь в грязь и
тину», превращают ее в «бесконечный омерзительный кошмар» [Ibid.: 233].
Четверть века спустя после появления «Деревни» (1910) Веттерлунд радуется
как развенчанию веры русской литературы в «мужика, чье кроткое евангелие
(sic! — Т. М.) спасет не только Россию-мать, но и развращенный Запад» [Ibid.],
так и полному краху иллюзий относительно мессианства России, ввергнутой
теперь в катастрофу революции. Задолго до большевистской революции Бунин
почувствовал грядущую гибель помещичье-крестьянского мира, на котором
стояла Россия. В «Суходоле», как полагает Ф. Веттерлунд, Бунин и показывает
281
саму Россию, «небывалые пространства вне истории», безграничное «желтое
море зреющих хлебов, обильного гниения, одуряющего жасминового аромата
и разложения», и, как описанные Буниным летние дни, этот символический
русский «невыносимо душный, сизый день разразится мощной грозой
всемирно-исторического масштаба» [Vetterlund 1934: 234]40. Веттерлунд замечает
и другое: у Бунина невозможно искать ответов на вопросы, что, как и почему
произошло, ибо ответ в его произведениях, посвященных упоению красотой
невозвратного прошлого, всегда «подлинно русский: Бог знает» [Ibid.: 236].
Однако свое «беглое» (по собственному признанию) обращение к некоторым
произведениям Бунина Веттерлунд завершает детальным разбором бунинско-
го шедевра, «Солнечного удара», «чистейшего образца бунинской лирической
прозы» [Ibid.: 238]. Заканчивая ее рассмотрением анализ «романтического
XIX века», Веттерлунд полагает, что Бунин несет особую традицию в мировой
литературе — традицию «сердечности и утонченной душевности» [Ibid.: 239].
Следует признать, что поклонниками Бунина в Швеции было сделано
немало, чтобы читатель и критик открыл для себя его творчество как страницу
именно мировой литературы. Первой книгой Бунина на шведском языке стала
«Деревня: Поэма в прозе», изданная в переводе Рут Ведин Ротштейн Шведским
кооперативным издательством в 1924 г.41; в 1933 г. «Деревня» была переиздана
под одной обложкой с «Суходолом» (в том же переводе) в "издательстве «Гебер»42.
В 1925 г. по-шведски вышел сборник бунинских новелл; перевод был
осуществлен также Р. Ротштейн, и помимо заглавного рассказа «Господин из Сан-
Франциско» в него были включены «Казимир Станиславович», «Аглая», «Песня
о гоце»43, «Грамматика любви», «Клаша» и «Легкое дыхание»44. Бунинский
роман «Жизнь Арсеньева» был также переведен Рут Ведин Ротштейн и выпущен
40 Замечательно, что, отказывая (известный стереотип) России в историческом бытии,
критик волей-неволей признает в ней вершительницу мировых судеб. Кстати, о том, что бунинская
Россия «переполнена предчувствием грозы», писал и другой крупный шведский критик, А. Эстер-
линг (см. [Österling 1961: 148]).
41 Byn. En prosadikt. Overs, frân ryska av Ruth Wedin Rothstein. Stockholm, 1924.
42 Byn. Suchodol. Bemynd. overs, frân ryska av Ruth Wedin Rothstein. Stockholm, 1933.
43 Собственное мнение И.А. Бунина о двух последних рассказах сохранил «Грасский
дневник» Г. Кузнецовой. 21 января 1931 г. она описала чтение Буниным вслух «Косцов», «Аглаи»
и «Песни о гоце». «Как прекрасно написана эта вещь», — восторгается Кузнецова рассказом
«Аглая», приводя дальше собственные пояснения Бунина: «Вот, видят во мне того, кто написал
"Деревню"! — говорил, жалуясь, он. — А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский, и во
мне есть и то и это! А как это написано! <...> И никто этого не понял! Оттого, что "Деревня" —
роман, все завопили! А в "Аглае" прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда все, что
душа несла, выполняла, — никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут
разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас
дух страны, народа — почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и "Песня о гоце" Вот и там все
правильно, и слова, и тон, и лад» [Кузнецова 1995: 205-206].
44 Herrn frân San Francisco. Overs, av Ruth Wedin Rothstein. Stockholm, 1925. Благодаря
полученной автором Нобелевской премии этот сборник выдержал еще два издания, в 1933 и 1934 гг.
282
в свет издательством «Гебер»: сначала вышла «Юность Арсеньева» (в 1931 г.,
переиздана в 1933 г.)45, а в нобелевский год появились «Странствия Арсеньева»46.
То же издательство опубликовало бунинские сочинения и в переводах Сигурда
Агреля: два сборника рассказов — «Чашу жизни» (включившую в свой состав
также «Сны Чанга», «Дело корнета Елагина», «При дороге», «Лапти»,
«Соотечественник», «Крик», «Ночь»)47 и «"Митину любовь" и другие новеллы» («В
ночном море», «Безумный художник», «Солнечный удар», «Ида», «Ермил»,
«Братья»)48. Впоследствии обе книги были объединены в одну и — сохранив
оба названия — выдержали три издания, в 1950 г., в 1959 г. в серии «Русская
классика» и в 1966 г. в серии «Современная классика»49. И не удивительно; уже
в отклике на первое появление «Митиной любви» рецензент подчеркивал:
«Шведский перевод осуществлен Сигурдом Агрелем, и его имя само по себе уже
означает высочайший стандарт» (Dagens nyheter, 20.12.1931, s. 20). Наконец, еще
восемь рассказов были переведены Давидом Белином и вышли в свет в 1933 г. в
издательстве «Саксон и Линдстрём» под названием «Зеркало»50 (в состав этого
сборника вошли рассказы «У истока дней», «Учитель», «Осенью», «Туман»,
«Новый год», «В августе», «Сверчок», «Тишина»)51.
После получения писателем Нобелевской премии в Швеции увидели свет и
некоторые его стихи («Рассвет», «Мил мне жемчуг нежный...», «Ночь», «В
степи», «Эпитафия»), отобранные и переведенные для многотомника «Из русских
песен»52. Отдельными томами (за исключением переиздания в 1950-е гг.
переводов С. Агреля) сочинения Бунина в Швеции с этого времени не выходили;
только некоторые его рассказы — заново переведенные «Казимир Станиславо-
45 Arsenjevs ungdom. Bemynd. overs, frân ryska av Ruth Wedin Rothstein. Stockholm: Geber, 1931.
2.uppl. 1931. 3.-5. uppl. 1933.
46 Arsenjevs irrfärder. Uppbrottet <Отъезд>. Bemynd. Overs, frân ryska av Ruth Wedin Rothstein.
Stockholm, 1933.
47 Livets bägare och andra noveller. Bemynd. overs, utförd i samred med förf. <перевод выполнен
по согласованию с автором> av Sigurd Agrell. Stockholm, 1932.
48 Mitjas kärlek och andra noveller. Bemynd. övers. frân ryska orig. av Sigurd Agrell. Stockholm,
1931.
49 Mitjas kärlek. Livets bägare. Övers. av Sigurd Agrell. Stockholm, 1950. (Ryska klassiker). 2 uppl.
1959. (Ryska klassiker. V. 23). Ny uttg. 1966. (Tidens klassiker).
50 Русское название «У истока дней».
51 Spegeln och andra noveller. Övers. frân ryska av David Belin. Stockholm, 1933. Давид Белин
осуществлял переводы и других русских писателей; в 1930 г. в издательстве «Тиденс» в его
переводе вышел «Тихий Дон» М.А. Шолохова, на который в шведской прессе сразу появились весьма
положительные отклики. Что касается переводческого мастерства Д. Белина, то оно было
признано высочайшим (Svenska dagbladet, 16.11.1930, s. 8). В упрек русскому писателю критик «Свен-
ска дагбладет» поставил только «неорганичность» революционно-пропагандистских эпизодов,
а шведского переводчика упрекнул в «беспомощной» передаче описаний военных сражений
(ibid.).
52 Ur Rysslands sang. II. T. 3. Dikter övers. frân originalsprâket av Rafael Lindqvist. 1934.
283
вич»53, «Дело корнета Елагина»54, «Солнечный удар»55, «Сны Чанга»56 и
добавившиеся к ним «В лесу»57, «Последнее свидание»58, «Маленький роман»59,
«Чистый понедельник»60 — вошли в различные антологии, например, «24
нобелевских лауреата от Бьёрнстьерне Бьёрнсона до Бориса Пастернака» (1960) или
«24 великих русских писателя от Чехова до Пастернака» (1961). Забегая вперед,
заметим, что художественную ценность и значение бунинского творчества в
шведской славистике и в шведском читательском восприятии заслонили два
других нобелевских лауреата, Пастернак и Бродский.
Как видим, выбор из сочинений Бунина, посланных им в Лунд, сделан был
достаточно репрезентативно — были переведены «Деревня» и «Суходол», до
этого остававшиеся шведской публике неизвестными, 31 новелла и
появившиеся к началу 1930-х гг. по-русски первые части «Жизни Арсеньева».
Несмотря на посланные стихи, которыми Бунин так дорожил61, переводилась только
проза писателя; публицистика не упоминалась вовсе — «Окаянные дни» не
переведены на шведский язык до сих пор62. Давая своим корреспондентам carte
blanche в выборе произведений для перевода, Бунин все-таки направляет их
53 Kasimir Stanislavovitj // Berömda berättare om världsstäder. I urval av Erwin Leiser. Stockholm,
1956. (overs. Asta Wickman).
54 Malet mot kornett Jelagin // Sanningen och andra noveller: Nobelpristagare fràn Kipling tili
Singer skriver от brott. En antologi av Merten Edlund. Högänäs Bokförlag. 1979. (Overs. Helga Back-
hoff-Malmquist).
55 Solsting // Ryska noveller. I urval och overs, av Hans Björkegren och Victor Böhm. Stockholm,
1960.
56 Tjangas drömmar // 24 stora ryska berättare frân Tjechov tili Pasternak / Red. Nils Ake Nilsson.
Stockholm, 1961 (Övers. Lennart Carlsson). С Нильсом Оке Нильссоном, известным шведским
славистом и, в послевоенное время, экспертом Нобелевского комитета, Бунин в последнее лето
своей жизни вел переписку относительно предполагаемого включения нескольких рассказов
в антологию русской новеллистики (РАЛ, MS. 1066/4037-4039).
57 I skogen // SSSR. Sovjetunionen och dess människor / overs, och red. Sven Vallmark. Örebro,
1971.
58 Det sista mötet // Modern rysk berättarkonst. I urval av Nils Àke Nilsson. Stockholm, 1965.
(Overs. Jan Lövgren).
59 Samma gamla visa <Всё та же песня> // Rysska berättare. I urval av Johannes Edfelt. Stockholm,
1949. (Övers. Ruth Wedin Rothstein).
60 Den vita mândagen // 24 nobelpristagare frân Björnstjerne Björnson tili Boris Pasternak / Red.
Merten Edlund. Stockholm, 1960 (Övers. Serge de Cyon).
61 Агрель и сам писал стихи, см., например: [Agrell 1931]. В сборник вошло, между прочим,
несколько сонетов, посвященных русским городам (1906), например Москве (с изумительно
небанальным сравнением переливающегося яркими красками на полуденном солнце храма
Василия Блаженного с ядовитым драконом, извергающим мрак и ужас [Ibid.: 56]) или Нижнему
Новгороду (где «поцелуем скрепляются сделки» между «смуглыми армянами и золотоволосыми
датчанами»: «Здесь в объятия Волги впадает Ока, / Здесь Пекин и Нью-Йорк повстречала Москва»
[Ibid.: 58]).
62 Впервые «Окаянные дни» («дневник писателя, содержащий отдельные наблюдения,
разговоры и эпизоды» революционного времени, «изображение поразительно откровенно и пропита-
284
выбор, не желая, главным образом, предстать в анахроничном — в
собственном восприятии — облике «певца дворянских усадеб, певца идиллий» [Письма
Бунина Агрелю 1967:15]. В Швецию Бунин отсылал, «кажется, почти все
изданное» им «за последние годы на русском языке» [Там же], однако прямых
пожеланий, что именно он хотел бы увидеть по-шведски, не высказывал,
демонстрируя в письмах к С. Агрелю скорее вежливое любопытство, чем живую
заинтересованность: «Буду очень признателен, если Вы, после того как сделаете
выбор для сборника, сообщите мне, что именно Вы выбрали» [Там же: 18].
Характерен своего рода жест Бунина, с которым он реагирует на настойчивые
вопросы шведских корреспондентов: переводите «все, что угодно», публикуйте
«все, что угодно», — пожимает он плечами, и только настойчивость
переводчиков заставляет его дать кое-какие указания.
С. Агрель, не удовлетворившись полным доверием Бунина, побудил Ханда-
мирова письменно обсудить с автором список рассказов, отобранных для
перевода. Нельзя не поразиться, с каким верным чутьем Агрель предпочел почти
исключительно лучшие бунинские вещи, к тому же представляющие писателя с
разных сторон. Возможно, он и ждал не критики, а похвалы, но Бунин
отозвался прохладно, почти равнодушно: «Замечу только, что, по-моему, лучше было
бы выключить из Вашего списка рассказ "В саду", как вещь, трудно
поддающуюся переводу на всякий иностранный язык, затем "Ночной разговор", — эту
вещь мне особенно не хотелось бы видеть в моем новом шведском сборнике, —
и, наконец, воспоминания о Толстом, как произведение не чисто
беллетристическое: я знаю, что эти воспоминания довольно живо и оригинально рисуют
облик Толстого, но полагаю, что они все-таки будут нарушать общий тон книги.
Сомневаюсь также, следует ли переводить "Лапти", "Старуху" и "Благосклонное
участие"» [Там же: 18-19]. Гораздо больше писателя волновало, дошел ли до
переводчика окончательный текст предназначенных для издания в Швеции
произведений, в частности, сборник избранных рассказов «Грамматика
любви», вышедший в 1929 г. в Белграде. Именно в этом издании был напечатан
рассказ «При дороге» в исправленном виде. Даже те издания, которые Бунин
отсылал в издательство «Гебер», были «окончательно просмотрены и исправлены»
автором [Там же: 19, 17]. Обращал Бунин внимание и на другую тонкость — на
название своих книг в иностранных переводах, полагая, что можно сохранить
«выисканное» автором удачное заглавие. Так, рассказ «Чаша жизни» он просит
Агреля поставить в начале книги, чтобы и вся книга называлась «Чаша жизни»:
«Думаю, — советуется он с переводчиком, — что и в шведском языке есть
слово, подобное русскому: "чаша", "сосуд", или французскому: le calice,
передающее понятие "чаши" не в обычном, не в будничном смысле, а в несколько
более возвышенном» [Там же: 20]. Слово такое в шведском языке нашлось,
однако возникает вопрос о смысле его употребления Буниным и том смысле,
но горькой иронией и скепсисом») отмечены лишь в издании «Шведской энциклопедии» 1947 г.,
где дана достаточно подробная справка о русском писателе [Svensk uppslagsbok2, 2: 343].
285
который вложил в него шведский переводчик. Если речь идет только о
«возвышенном» звучании, о синонимичности с сосудом63, о евангельской «горькой
чаше», то шведское bägarey означающее «чаша, кубок, бокал», которое и
использовал Агрель, кажется вполне подходящим64.
Содержание переводимого сборника показалось Бунину спорным65.
Писатель несколько раз по требованию С. Агреля составляет список своих
рассказов, предлагая, в частности, вниманию переводчика рассказы «Петлистые уши»,
«Метеор», «Звезда любви», «Неизвестный друг», «Последнее свидание», «Иоанн
Рыдалец», «Пингвины», «Убийство», «Ущелье», «Первая любовь», «Журавли»,
«Бернар». Как видим, вкусы автора и переводчика не совпали — Агрель не учел
практически ни одного из предложений Бунина и не согласился с сомнением
автора, стоит ли переводить «Лапти»66. Кроме того, под влиянием настойчивого
переводчика Бунин составил довольно большой перечень из своих рассказов,
которые, «по его мнению», стоило бы перевести. Речь даже не идет о
конкретном шведском переводе — этот бунинский список отражает авторское
восприятие собственных текстов, их художественного мастерства, значимости в
его творчестве и, возможно, известной занимательности для читателя (если
иметь в виду шведский менталитет, породивший такое неординарное явление,
как экспрессивное, трагически окрашенное творчество А. Стриндберга, то,
скажем, «Петлистые уши» или «Дело корнета Елагина» для шведов не прозвучали
бы откровением). По собственному признанию Бунина, он просмотрел семь
63 Эта синонимия возникает у Бунина не случайно, ср. его известные строки: «И тихо, как
вода в сосуде, / Стояла жизнь ее во сне» («Я к ней вошел в полночный час...», 1898).
64 Как и в русском, в шведском языке существует несколько синонимов: skâl — «чаша, бокал;
тост»; bägare— «бокал, кубок, чаша»; kalk— «чаша» (со словарной пометой церк.). Последнее
слово использовалось при переводе Евангелия на шведский язык («Min Fader, от det är möjligt, sa
gânge denna kalk ifrân mig...»). В недавно осуществленном переводе на современный шведский
использовано слово из обыденной жизни, без ритуальной, но и без застольной окраски («Fader,
lât denna bägare gâ förbi mig, om det är möjligt»). Именно этим словом воспользовался и Агрель; по
этому выразительному примеру можно судить о его весьма высокой квалификации переводчика.
65 В письме от 24.04.1932 М.Ф. Хандамиров, в частности, сообщает, какие рассказы отобрал
для предполагаемого сборника сам С. Агрель. Одни названия («Сны Чанга», «Дело корнета
Елагина», «Чаша жизни», «Игнат», «Крик», «Ночной разговор», «При дороге», «Старуха»,
«Соотечественник», «Благосклонное участие», «Далекое») Бунин оставляет без помет, возле других
ставит плюс («Странствия», «Хороших кровей», «Оброк»), а некоторые сопровождает минусом
(«Смерть», «Огнь пожирающий», «Темир-Аксак-Хан»). «Желательность» поместить в сборник
«Лапти» и «Далекое» Хандамиров оговаривает особо, а также задает вопрос об очерке «Толстой»
(«Вами не включено») (РАЛ, MS. 1066/3229).
66 В одном из ноябрьских номеров 1933 г. (для знакомства широкого круга читателей с
новым нобелевским лауреатом) одна из центральных шведских газет, столичная «Стокхольмс тид-
нинген» (Stockholms tidningen) поместила именно рассказ «Лапти». Представляется, что Бунин
весьма не случайно многократно говорит о своем незнании шведской публики, тогда как
Хандамиров в письме от 24.04.1932, обговаривая с Буниным список отобранных для перевода
рассказов, замечает о «Лаптях»: «Вы не включили этого рассказа, это — хорошая вещь» (РАЛ, MS.
1066/3229).
286
своих новеллистических сборников; в итоге им был предложен такой «набор»:
из книги «Чаша жизни» (1921) — заглавная новелла и «Святые» (под вопросом);
из «Грамматики любви» — «Игнат», «При дороге», «Метеор», «Неизвестный
друг»; из «Розы Иерихона» (1924) — «Сны Чанга», «Петлистые уши»,
«Соотечественник», «Темир-Аксак-Хан», «Звезда любви» и «Огнь пожирающий»;
из «Последнего свидания» (1927) — титульная новелла, «Иоанн Рыдалец»,
«Оброк», «Хороших кровей»; из «Крика» (1921) — титульная новелла и «Смерть»;
из «Солнечного удара» (1927) — «Дело корнета Елагина», «Воды многие» и
«Цикады» (две последние новеллы, впрочем, стоят у Бунина под вопросом, а
титульный рассказ, «Солнечный удар», даже не упомянут); из «Божьего древа»
(1931) — «Пингвины», «К роду отцов своих», «Убийство», «Ущелье», «Первая
любовь», «Журавли», «Странствия», «Бернар» и (под вопросом) «Толстой».
Сравнивая этот список с содержанием двух изданных в переводах Агреля
шведских сборников бунинской прозы, обнаруживаем, что, несмотря на
настойчивое обращение за советом к автору, Агрель в большинстве случаев полагался на
собственный вкус — оставив, в частности, не рекомендованные Буниным
«Лапти» и включив не упомянутые автором «Солнечный удар» и «Иду» (безусловно,
лучшие рассказы Бунина о любви до написания им книги «Темные аллеи»).
Тщательный отбор трех десятков рассказов Бунина оказался в итоге
решающим для восприятия бунинской прозы в Швеции. Несомненной в данном
случае представляется правота переводчика, при всем уважении к мнению автора
сознательно пренебрегшего его рекомендациями и выбравшего наиболее, по
его мнению, репрезентативные сочинения русского писателя. Буквально в те
же годы Агрелем составлена статья «Бунин» в первом издании «Шведской
энциклопедии» [Svensk uppslagsbok1, 2: 349]. Однако профессор славистики, поэт
и переводчик Сигурд Агрель не только познакомил своих соотечественников
с прозой одного из выдающихся русских писателей своего времени и, в
лаконичной форме массового справочного издания, с его местом в русской
литературе. Именно с обращения Агреля «К восемнадцати» начинается следующий
этап в борьбе за Нобелевскую премию для русского писателя. При всем
уважении и благодарности ко всем представителям европейской науки и культуры,
которые поддержали кандидатуру Бунина, следует признать, что С. Агрель
сыграл в появлении первого русского нобелевского лауреата по литературе
выдающуюся роль.
Впервые адресуясь к академикам 30 января (буквально в последний момент,
когда принимаются номинации!) 1930 г., профессор С. Агрель стремится
обратить их внимание на представителей литературы русской эмиграции. «Если бы
был жив Альфред Нобель, — уверяет лундский профессор, — он бы самым
горячим образом одобрил это предложение». Состоявший в переписке с
писателями русского зарубежья, Агрель был осведомлен не только об их творческих
287
планах и свершениях, но и о той вопиющей бедности, в которой они прозябали.
«Тяжелые условия, в которых эти по большей части поистине выдающиеся
писатели живут, я хочу особенно подчеркнуть, — пишет Агрель. — Однако
сделать справедливый выбор среди группы этих русских писателей нелегко, и вот
почему я до сих пор воздерживался от внесения предложения». Уповая,
впрочем, на «большую решительность» академиков, которым, собственно, и
предстоит дать оценку книгам номинируемых авторов, Агрель называет первым
имя Мережковского.
Но он уже и сам понимает, что время громкой славы этого писателя прошло
и его никак нельзя назвать единственно выдающимся представителем русской
литературы. Рядом с ним звучат и другие имена, признает шведский профессор,
хотя в «литературной фаланге» современных русских писателей, изгнанных из
отечества, первым именем «считается Иван Алексеевич Бунин». Из
нижеследующих пояснений становится ясно, что удерживало Агреля от обращения в
Нобелевский комитет раньше. Сигурд Агрель не просто профессор
славистики — он поэт и переводчик, и ценитель слова, в данном случае русского слова,
живет в нем прежде всего. Он предупреждает членов Нобелевского комитета,
что, хотя произведения Бунина и переведены на шведский язык, большая часть
из них «не принадлежит к шедеврам» писателя. Так, Агрель крайне невысокого
мнения о повести «Деревня», к тому же написанной задолго до революции и
посвященной «изображению некоторых сторон жизни русского крестьянства»;
пользовавшаяся большой популярностью и вызвавшая резкую критику
повесть в глазах шведского профессора «не является сколько-нибудь
значительным произведением искусства». После столь оригинального вступления при
выдвижении бунинской кандидатуры Агрель обращает внимание академиков
на книги, вышедшие из-под пера писателя уже в эмиграции, но не
переведенные пока не только на шведский, но даже и на французский язык, — «Митину
любовь» 1925 г. и первую часть автобиографического повествования «Жизнь
Арсеньева», публиковавшуюся с 1928 г.; как и многие критики и поклонники
творчества Бунина, Агрель тщетно ждал завершения. Кроме того, рекоменда-
тель ссылается на свою статью «Бунин» в издании «Шведской энциклопедии»,
которое должно было вскоре выйти из печати (и действительно появилось к
моменту обсуждения кандидатуры писателя).
Текст статьи «Бунин» в энциклопедии [Svensk uppslagsbok1, 2: 349]67 во
многом совпадает с аргументацией С. Агреля при его обращении в Шведскую
академию. В энциклопедическом издании, однако, не дается негативных оценок
повести «Деревня», хотя отмечено, что в этом, наиболее известном
произведении, описывается «невежественная грубость и разложение» русского
крестьянства, насчет которого Бунин не питал иллюзий и при царизме, а после
революции «бросает мрачный взгляд» на оставленный им «кошмар». Творчество
писателя определяется в основном через упоминание его великих предшествен-
67 Во втором издании (Bd 5, Malmö; Lund, 1949) статья о Бунине написана М.Ф. Хандамировым.
288
ников в русской литературе. Это ознакомление шведской публики с
современным русским писателем через известные ей имена русской классики даст себя
знать несколько лет спустя, когда шведские газеты, стремясь представить своим
читателям нового нобелевского лауреата, воспользуются именно приемом
Агреля; скорее всего, сведения подавляющего большинства корреспондентов
шведских газет о Бунине окажутся почерпнутыми именно из этого
энциклопедического издания, из статьи С. Агреля, и мгновенно превратятся в штампы.
Агрель называет Бунина писателем, занявшим в современной русской прозе
место Чехова, «повествовательную технику которого он развивает по-своему»;
«своим происхождением он напоминает Тургенева, подобно которому он
принадлежит к старому дворянству»; наконец, в своей «старомодной лирике,
вдохновленный Пушкиным и Лермонтовым, он создает образцовые безыскусные
стихотворения». Ряд бунинских рассказов о «трагической борьбе за жизнь в
западном мире», прежде всего «Господин из Сан-Франциско», кажется Агрелю
«гораздо более привлекательным», чем его «ужасные описания крестьянской
жизни». Агрель упоминает также, что Бунин приступил к созданию большого
романа на автобиографическом материале, «Жизнь Арсеньева», и отмечает его
вклад в переводы англоязычной поэзии на русский язык.
Первое обращение Агреля в Нобелевский комитет, отличающееся
сумбурностью и оригинальной манерой номинации писателя — отрицать
художественную ценность его произведений, доступных для чтения на иностранных
языках, и настаивать на достоинствах книг, которые никто из академиков не
может пока прочесть, — завершается столь же неожиданно: предложением
разделить премию между Мережковским и Буниным. «Если не брать во
внимание, — резонно замечает Агрель, — что можно присудить премию дважды за
одно десятилетие до сих пор пропущенной русской литературе, то можно
поставить вопрос о возможности разделения премии между двумя писателями.
Без сомнения, — продолжает Агрель, — оба писателя в высшей степени
нуждаются в материальной поддержке». Замечательно, что большинство из тех, кто
адресовался в Шведскую академию с номинацией той или иной писательской
кандидатуры, настаивали на «идеалистической направленности» творчества
выдвигаемого автора, т. е. на качестве, специально оговоренном в завещании
Нобеля. Лундский профессор подчеркивает другую сторону — необходимость
оказать материальную поддержку бедствующим русским литераторам наряду
с признанием их художественных заслуг. Но разве не во имя создания
полноценных условий для жизни и творчества ученых и писателей задумывал свою
премию Альфред Нобель? По мнению Агреля, премия Нобеля является не
только признанием заслуг и свидетельством славы, но прежде всего возможностью
для нормального существования подлинных художников. Не случайно в самом
конце своего обращения 1930 года Агрель вдруг вспоминает о Максиме
Горьком: кажется, нелогично и неоправданно вдруг напоминать о ценности
сочинений писателя, который не фигурирует в качестве кандидата на Нобелевскую
289
премию в данном послании. Но логика в другом: Горький, по значимости своего
творчества, мало сказать не уступал, но во многом превосходил выдвинутых на
премию писателей, однако он был обласкан «вниманием власть имущих в
России и не имеет недостатка в благах мира сего». Вот почему Агрель завершает
предложением присудить премию Мережковскому или разделить ее между ним
и Буниным. Ему было нелегко сделать выбор между названными литераторами,
горячим поклонником творчества которых он был, так же как вовсе не увидеть
награжденными «несчастных русских писателей-эмигрантов», что могло их
обидеть «и дать повод для многих горьких слов».
Благодаря этому обращению С. Агреля в Шведскую академию имя Бунина
вновь появилось в списке кандидатов на Нобелевскую премию. Экспертный
отзыв опять был поручен А. Карлгрену. По признанию самого рецензента, после
«тщательного рассмотрения» творчества русского писателя несколькими
годами раньше, т. е. в 1923 г., он не счел нужным вносить какие-либо
существенные дополнения в отзыв 1930 года. Отметив, что Бунин не только широко
читаем в эмиграции, но пользуется уважением как писатель и в большевистской
России68, указав на издание некоторых новых переводов произведений
писателя на западноевропейские языки, рецензент подчеркнул, что даже появление
новых «захватывающих и высокохудожественных произведений» (речь идет о
первых главах «Жизни Арсеньева») «не прибавляет новых черт к его
физиономии писателя». Знаменательно, что в творческом портрете Бунина рецензент
опускает некоторые весьма существенные черты — о жгучей публицистике
писателя, о его «Окаянных днях» он предпочитает полностью умолчать.
Очевидно, что резкие высказывания Бунина, его филиппики в адрес новой власти,
созданные им душераздирающие картины разора и разбоя в революционной
России не только не выявляли, но даже опровергали «идеалистическую
направленность» его творчества.
Профессору славистики Копенгагенского университета А. Карлгрену
довелось выступить в весьма специфическом жанре литературной критики.
Экспертная оценка предполагала вычленение конститутивных черт творчества
писателя, обоснование не просто его своеобразия, но национальной самобытности
и непреходящего общечеловеческого звучания его произведений,
философского и эстетического. Необходимо было обнаружить доминанту бунинского
творчества, а не просто указать на превалирующие мотивы и образы, снабдив
рассуждения и более или менее добротные пересказы эмоционально-оценочными
68 В 1926 г. в Ленинграде издали «Митину любовь», однако в целом советская критика по
отношению к писателям-эмигрантам в оценках не стеснялась. Выпущенная в 1920 г. в Казани книга
Герасима Чудакова (А.И. Тинякова) «Пролетарская революция и буржуазная культура. Статьи
1918-1919» наглядно продемонстрировала, как революция «открыла шлюзы» площадной
публицистике самого дурного толка под видом литературной критики. В этой «книжке в красной
обложке» (см. отповедь А. Евгеньева (А.Е. Кауфмана) в «Вестнике литературы», 1920, № 6) названия
эссе о писателях кажутся хлесткими пощечинами: «Во власти классового бешенства» (Бальмонт,
Гиппиус), «Лакей в истерике» (Л. Андреев), «Дворянское сердечко» (Бунин).
290
характеристиками («захватывающие трагедии», «блестящий анализ истории
души»). Необходимо было русскими глазами и русской душой вчитаться в бу-
нинские строки, чтобы понять, почему он так ценим отечественным читателем,
и оставаться при этом европейцем и скандинавом, с доброжелательной
пристальностью постороннего вглядывающимся в русские судьбы. Неизбежная
отстраненность в литературно-критическом подходе иностранца порой
наталкивает рецензента на некоторые проницательные оценки — как относительно
литературных произведений, так и исторической судьбы России в целом.
Обратившись к анализу рассказов Бунина из появившихся в 1920-е гг.
сборников «Митина любовь» и «Солнечный удар», А. Карлгрен обнаруживает
неизменность мотивов бунинской новеллистики. «Это Россия, — выделяет главную
тему писателя Карлгрен, — та, которую он, представитель уже осужденного на
смерть класса помещиков, знал <...> Новой России Бунин не знает и не хочет
знать». Карлгрен замечает, что изображение крестьянства начинает
вытесняться из творчества писателя в эмиграции, хотя, «как и раньше, он приходит в ужас
перед этой бездной лени, мрака, жестокости и цинизма». Но, ужасаясь, Бунин
не ненавидит, а размышляет о крестьянстве с «бесконечным сожалением» и не
выносит окончательного приговора, а создает картины, исполненные
«страшного реализма». Загадочность души русского мужика для писателя столь же
вечна, замечает рецензент по поводу рассказа «Мухи»69, сколь и непостижима:
Мудрость ли это или идиотизм, блаженство ли нищих духом или безразличие
отчаяния?
Но внимание Бунина постепенно сосредоточивается на иных образах и
темах. А. Карлгрен справедливо полагает, что писатель не просто «дает ряд
чудесных картин из старой русской помещичьей жизни» или «поэтически рисует
целый ряд изумительных типов из этого окружения», одновременно с улыбкой
и сквозь слезы. «Нет никаких сомнений в том, что творчество Бунина будет
одним из главных источников будущих знаний об этом классе, — уверенно
замечает рецензент о «дворянско-помещичьей» теме в творчестве Бунина. —
Никто более правдоподобно, чем он, не описывает последнюю фазу их жизни, не
погружается глубже в их психологию». Это исчезнувшее русское дворянство
было тем «родом», к которому восходят исторические судьбы России и ее
культура. С особой чуткостью удалось рецензенту не только почувствовать
сокровенный нерв бунинской новеллистики 1920-х гг., но и придать своим
трактовкам четкость формул, обозначить — разумеется, в собственном
понимании — ведущую сквозную тему писателя: «Род, обреченный погибели».
69 Обезножевший крестьянин, герой рассказа, обречен на безвылазное сидение в избе,
кишащей полчищами мух. Карлгрена потрясает, как среди окружающего убожества и вопиющей
нечистоты, способной убить здорового человека, безногий калека находит смысл жизни, без
устали уничтожая насекомых: «Странная работа и странные мысли. Давить, превращая в
мушиную кашу, это скопище мух, и со спокойной таинственностью творить в глубине своего существа
ужасную и радостную мудрость».
291
Бунин чувствует нерасторжимую связь с этим погибшим классом «каждой
каплей своей души», однако он трезво понимает, что дворянство,
изображенное им с таким бесконечным сочувствием, «не было жизнеспособным и должно
было исчезнуть». Для современного жестокого мира в голубой дворянской
крови было «слишком мало красных кровяных шариков». Поэтому гибнет Митя,
потомок дворянского рода, «сжатый комок нервов», кончая самоубийством
свои любовные терзания. Корнет Елагин, «неуравновешенный неврастеник»,
также не в силах вынести любовных мук и становится убийцей. «Две
захватывающие трагедии эпохи упадка русского высшего класса, два блестящих
анализа истории души», — восхищенно резюмирует Карлгрен70.
То горькое сожаление, с которым Бунин наблюдает крушение
собственного класса, уже не отпускает его, когда он обращается к изображению других
сторон жизни, столь же чувствительно, как и его герои, реагируя на ее
жестокость и беспощадность. Рассказ за рассказом пронизывает боль от того, что
все гибнет, и сознание того, что счастье недостижимо. И в очень немногих
рассказах любовь становится источником счастья: не любовь, а страсть, как
«солнечный удар», опьяняет и оставляет мучительную боль после того, как
любовный наркоз пройдет. Карлгрена не смущают «несколько однообразные
мотивы» и некоторая монотонность повествования Бунина, в окутанном
«непроницаемой, неисчерпаемой грустью» творчестве которого нобелевский
эксперт хочет разглядеть все тот же «бледнокровный» аристократизм. Но,
подчеркивает Карлгрен, и темы, и образы, и «кристально ясный стиль», и
выразительная точность деталей — все то, что и составляет особенность бунинской
новеллистики, вызывает бесконечное сочувствие читателя и невольно
захватывает его.
«Жизни Арсеньева», «автобиографической» книге, посвященной столь
любимой автором поместно-усадебной среде конца XIX в., в отзыве 1930 года
уделено не более одной страницы. Карлгрен довольствуется экспрессивной
лексикой в оценке нового сочинения писателя: «изумительное мастерство»,
«неподражаемо великолепные картины», относящиеся к «самому лучшему, что
может предъявить русская литература». Почти в унисон со шведским
славистом звучит личное послание Бунину американского профессора А. Кауна, при-
70 В оценке первого крупного произведения, созданного Буниным в эмиграции, — «Мити-
ной любви» — Карлгрен оказался прозорливее многих русских читателей и почитателей
писателя. Эта повесть, потрясшая Т. Манна (он неоднократно ее перечитывал, см., например: [Mann
1977: 439, 691]) и P.M. Рильке (его письмо с разбором повести было опубликовано в № 1 журнала
«Русская мысль» за 1927 г.), крайне разочаровала таких разных русских писателей, как М.
Горький и Б. Пастернак (подробнее см. [Примочкина 2003: 66-67]). То, что к бунинской прозе была
глуха Цветаева («Рильке — о Бунине — чувствуете все великодушие Рильке? Перед Рильке —
Бунин (особенно последний) анекдотист, рассказчик, газетчик» [Цветаева 1994-1995, 6: 353]), не
вызывает удивления; но политическая сиюминутность, уродливо деформировавшая
требования, предъявляемые к литературе столь несходными и столь тонкими творческими
индивидуальностями, как Пастернак и Горький, лишила их того художественного чутья, которое сумел
проявить и выразить в экспертном очерке для Нобелевского комитета А. Карлгрен.
292
знавшегося, что во все время чтения бунинского романа он «испытывал какую-
то религиозную дрожь»: «Поздравляю Вас, русскую и всемирную литературу
с этим новым вкладом Вашим в сокровищницу слова», — писал Каун (РАЛ, MS.
1066/3197)71. Однако, хотя автобиографическое повествование Бунина
снискало похвалы в русской эмигрантской критике (М. Алданов назвал роман «одной
из самых светлых книг русской литературы» [Алданов 1930: 523]), они были
отнюдь не всеобщими. Так, Д. Святополк-Мирский довольно резко замечал
сразу после публикации первых частей «Жизни Арсеньева», что в ней нет и
следа достоинств знаменитого «Суходола»: «...между бунинским расцветом и его
сегодняшним днем расстояние слишком уж велико, — утверждает
безжалостный критик. — Вместо мощного "симфонизма" той повести здесь царит рыхлая
бесформенность, усугубленная к тому же обильными метафизическими
размышлениями. И все же этот роман, благодаря своей правдивости и
подлинности, а также отказу от злосчастного романтического сюжета ("Митина
любовь"), является его (Бунина. — Г. М.) <...> значительнейшим произведением
послереволюционного времени» [Svatopolk Mirskij 1929: 291]. Справедливые
упреки Святополк-Мирского, отметившего композиционную рыхлость и
несколько избыточное философствование первых частей «Жизни Арсеньева»,
явно контрастируют с восторженным отношением к роману Карлгрена.
Кажется вероятным, что своей высокой оценки бунинского романа —
точнее, его первых появившихся в «Современных записках» частей — редактор
«Дагенс нюхетер» не скрывал от коллег-журналистов. Главные «информаторы»
Бунина в Стокгольме — именно журналисты, печатавшиеся в русской (И.
Троцкий) и французской (С. де Шессен) прессе. Ничем иным невозможно объяснить
те сведения, которыми снабжают Бунина его поверенные в Швеции, о том, что
«шансы» его на премию «велики», что «искали и не могли найти» «Жизнь
Арсеньева» в переводах на основные европейские языки [Кузнецова 1995: 231]. Но
именно в это время у Гебера готовится публикация «Юности Арсеньева» по-
шведски; издателя, рассчитывающего исключительно на прибыль, трудно
заподозрить в альтруизме72. Это означает, что утечка информации из Шведской
академии все же была — и отчасти гарантировала определенный коммерческий
71 «Хотя я неверующий, — размышляет А. Каун в этом письме, — но тем не менее я во все
время чтения переживал именно религиозное чувство. Разум мне говорит, что это от чисто
эстетического восприятия красоты вашего произведения. Не знаю» (РАЛ, MS. 1066/3197).
72 Впрочем, обсуждая с Буниным выход «Жизни Арсеньева» отдельным изданием по-русски,
И.И. Фондаминский делает ряд симптоматичных замечаний. «Теперь все зависит от того, как
книга пойдет, — пишет он Бунину 18.01.1930, констатируя, что алдановский «Ключ» «уже
разошелся в 1000 экз<емпляров>!», и поучая: — "Сивцев Вражек" (роман М.А. Осоргина. — Т. М.)
Закс продал 1200 экз<емпляров>. Пишите полегче и позанятнее — тогда разбогатеете. <...> Если
Ваша книга не пойдет, пеняйте не на Закса, а на свой аристократизм. "Арсеньев" — книга для
немногих» (РАЛ, MS. 1066/2510). При таком коммерческом «успехе» книг в среде многомиллионной
русской эмиграции лишь полное отсутствие практичности могло заставить надеяться на
высокие тиражи и гонорары в Швеции!
293
успех73. Замечательно изложение приходящих из Стокгольма через вторые, а то
и третьи руки вестей в бунинском кругу; так, Кузнецова пишет: «Геберс <sic!>
давал читать "Жизнь Арсеньева" в корректуре "кое-кому", и все нашли, что это
шедевр» [Кузнецова 1995: 222]. Лучше всего, конечно, в этой фразе не отголоски
происходящих в Швеции событий, а смена местоимения, которая превращает
упоминание неназванных, но явно немногих (хотя и избранных, согласно
семантической наполненности неопределенного местоимения «кое-кто») лиц в
универсально-всеобщее мнение74.
Интересна и приведенная оценка: «шедевр». В развернутом виде именно это
мнение и высказано Карлгреном в отзыве 1930 года. Увидев в Бунине летописца
последнего периода в истории погибшего рода — русского дворянства,
нобелевский эксперт называет творчество писателя завершающим звеном
прославленной русской литературы предшествовавшего столетия. «Вышедший,
скорее всего, из школы Тургенева», Бунин, по мысли Карлгрена, «поднимается
на уровень, недостижимый ни для кого из русских писателей». И несмотря на
то, что первые главы «Жизни Арсеньева», появившиеся в печати как раз к
началу 1930-х гг., написаны на том же материале, что и самые ранние рассказы
писателя, некоторые образы этого «великолепного» автобиографического
повествования принадлежат к «лучшим страницам русской литературы», а
красочные зарисовки поместной жизни «отодвигают в тень все другие русские
описания поместий».
При такой высочайшей оценке рецензент отмечает лишь одну слабую
сторону бунинского творчества — отсутствие в нем разнообразия: мотивы его
повторяются («Боль от того, что все гибнет, сознание того, что счастье
недосягаемо»), и повествование несколько монотонно. Но отсутствие экспрессии и
печальное настроение не отталкивают читателя, а, напротив, вызывают
сочувствие и живой отклик, полагает эксперт. «Жизнь Арсеньева», где Бунин
выходит за пределы «дворянского гнезда» и изображает самые различные стороны
жизни дореволюционной России, дает Карлгрену основание надеяться, что с
завершением этого первого крупного произведения Бунина можно будет смело
говорить о нем как о великом писателе и более точно указать его место — одно
73 «Что книги Бунина на иностранных языках продавались плохо — это участь многих
лауреатов. Сама тематика Бунина, его художественная, но не соответственная новым веяниям проза
в чужом мире оказались не прибыльными. Издатели же — не филантропы, они поддерживают
книги и писателя только тогда, когда с самого начала видят, что те могут стать бестселлерами», —
писала много позже З.Н. Шаховская, давая оценку послевоенному положению Бунина (см.
[Шаховская 1991: 212]). Однако ее слова справедливы и для той эпохи, когда писателя только
выдвигали на Нобелевскую премию и шведский издатель предполагал воспользоваться теми выгодами,
какие сулит звание лауреата: безвестный русский эмигрант и нобелевский лауреат для
коммерческого успеха предпринятого издания совершенно разные величины. Энергичные действия
издателя, между тем, характеризуют обстановку, уже в те далекие годы сложившуюся вокруг
престижной награды, быстро превращавшейся в надежную рекламу.
74 Это, кстати, обычная речевая практика в передаче слухов и попытке придать им характер
достоверности, ср. в грибоедовском «Горе от ума»: «Не я один — все так же осуждают».
294
из первых — в русской литературе. Это представление уже сложилось в
эмигрантской критике:
Бунин первый современный русский писатель, он — продолжатель
классической традиции в русской литературе. Эти формулы медленно входят в
сознание читателей, долго вслед за критиками считавших Бунина не то
пейзажистом, не то бытовиком из «Знанья» [Цетлин 1924: 449] .
И эта формула, которой суждено стать одним из постоянных, даже
клишированных определений творчества Бунина, словно подхватывается
нобелевским экспертом, придающим узкопровинциальному мнению гораздо более
широкое, европейское звучание.
Нобелевский комитет в 1930 г. — что вполне естественно в свете очерка
Карлгрена — отнесся к кандидатуре Бунина весьма благосклонно. Прежде
всего, академики твердо сошлись во мнении, что никакой альтернативы ему среди
русских писателей (имеется в виду Мережковский) быть не может [Nobelpriset i
litteratur, II: 148-149]. Бунин уже не был новичком в нобелевском «шорт-листе»,
и главное, на что указывают академики, — это «высокая оценка», данная
творчеству писателя в экспертном заключении. Хотя логично было бы
предположить, что «кое-кто», получивший возможность ознакомиться с набиравшейся в
издательстве Гебера рукописью «Жизни Арсеньева» в шведском переводе,
входил в число если не пяти, то по крайней мере восемнадцати шведских
академиков, но ссылка в нобелевском протоколе на эксперта свидетельствует, скорее
всего, о том, что само авторитетное жюри с сочинениями Бунина вряд ли было
хорошо знакомо. Решающее слово было произнесено Карлгреном, а академики
лишь послушно зафиксировали, что недавно вышедшие первые части
«автобиографии» писателя «Жизнь Арсеньева»75, «чрезвычайно значительного
произведения, обещают со временем занять место среди шедевров русской
литературы» [Ibid.: 149]. Вот где прозвучало слово «шедевр»; архивные, теперь уже
опубликованные материалы если и не обличают прямо факт утечки
информации из Нобелевского комитета, буквальную цитацию его протокола
непосвященными лицами, то, во всяком случае, указывают на умело созданное
паблисити («у всех на устах» [Устами Буниных 1977-1982, II: 278] — это ведь не
свидетельство знакомства с сочинениями писателя, это результат деятельности
масс-медиа, в те времена исключительно газетчиков). Шведские академики,
впрочем, закончили свое заключение о Бунине чрезвычайно осторожно,
уклончиво, ничем не давая понять, что это бесспорная кандидатура на Нобелевскую
премию: «Если это произойдет (т. е. роман будет завершен и подтвердятся пока
преждевременные восторженные отзывы о нем. — Т. М.)у то Академия будет
готова на свой страх и риск, если это понадобится, возобновить предложение
75 Любопытно, что название бунинского повествования, сразу указывающее на наличие
вымышленного героя, никогда не останавливало исследователей и критиков, называвших его
«автобиографией».
295
бунинской кандидатуры. Вероятно, что эта книга вскоре появится в переводах
на обычные языки» [Nobelpriset i litteratur, II: 149]76. Обнадеживающим в этом
резюме было только одно: в случае создания русским писателем-эмигрантом
подлинного шедевра шведские академики выражали готовность вновь увидеть
в нем потенциального лауреата Нобелевской премии.
Вести из Стокгольма нарушили мирное течение в грасской обители Бунина
в декабре 1930 г. Именно тогда «вдруг» забеспокоилась русская диаспора,
завязалась активная переписка, почувствовал близкое сияние нобелевской славы
сам писатель. 20 декабря 1930 г. Галина Кузнецова записала в дневнике об
«оглушившем» их известии: по просьбе П.Н. Милюкова секретарь редакции
«Последних новостей» И.П. Демидов77 переслал Бунину статью о нобелевских
лауреатах, в которой писатель объявлялся «самым вероятным кандидатом на
будущий год» [Кузнецова 1995: 190]. В публикации И. Троцкого под заголовком
«Среди нобелевских лауреатов (письмо из Стокгольма)» (Последние новости,
21.12.1930, № 3560, с. 2)78 довольно подробно описывалась церемония вручения
Нобелевской премии 1930 г., носившая «характер ярко выраженного
благородства в сочетании с изысканной простотою», излагались забавные подробности
о речах Э.А. Карлфельдта и С. Льюиса, лауреата премии по литературе, и только
затем шло сообщение о том главном, ради чего ведущая газета русского
зарубежья, прежде не демонстрировавшая интереса к знаменитой шведской премии,
поместила материал своего стокгольмского корреспондента. Предприимчивый
журналист сообщает:
Оказавшись случайным гостем на нобелевских торжествах79, я не преминул
воспользоваться личными знакомствами, чтобы прозондировать почву
относительно планов на получение премии представителем русской литературы.
К сожалению, я не вправе назвать имен моих информаторов. Могу лишь
засвидетельствовать, что мнение этих лиц является решающим в нобелевском
ареопаге.
76 Нельзя не отметить рутинной дискриминации языков при обсуждении представителей
разных национальных литератур: «обычный, обыкновенный» в данном случае означает
«общеупотребительный»; до Второй мировой войны в Швеции таковыми были французский и
немецкий, все большую роль начинал играть английский. Никто не требует от шведских академиков
становиться полиглотами; однако в разряд «необычных» языков попадают, например, и
итальянский, и испанский, не говоря уже о славянских языках.
77 Демидов Игорь Платонович (1873-1946) — общественно-политический деятель,
журналист, в 1920-30-е гг. — заместитель П.Н. Милюкова, главного редактора газеты «Последние
новости». Буниным особенно импонировало, что он внук В.И. Даля.
78 Материал, появившийся неделю спустя в рижской газете «Сегодня» (Троцкий И. Получат
ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию? (Письмо из Стокгольма; 30.12.1930, № 360,
с. 2), никаких существенных деталей к статье в «Последних новостях» не прибавлял.
79 И.М. Троцкому «удалось присутствовать на этом празднике международной культуры»
благодаря «любезности президента стокгольмского союза иностранной печати, Сержа де Шессе-
на» (Последние новости, 21.12.1930, с. 2).
296
«Синклер Льюис, — рассказывал мне один из членов Нобелевского
комитета, — вероятно, изумится, узнав, что самыми серьезными его конкурентами
в этом году были Бунин и Мережковский. Если русская литература до сих пор
еще не удостоена премии, то в этом меньше всего повинны ее творцы.
Нобелевский комитет и Шведская академия давно оценили величие русской
литературы. Кто у нас не знает и не любит русскую литературу? Нобелевский
комитет — институт глубоко аполитичный, но он работает и живет не в
безвоздушном пространстве. Трагедия России не может не отразиться и на
представителях ее литературы. В присуждении премии мы стараемся сохранить
максимальную объективность, руководясь единственным стимулом, чтобы
произведения того или другого писателя соответствовали воле завещателя.
Другими словами, чтобы в произведении доминировал идеалистический
элемент. Таким образом, в оценке русской литературы произведения советских
писателей a priori исключаются, ибо там, где "социальный заказ" доминирует
над общечеловеческими идеями и идеализмом, не может быть и речи о
выполнении воли завещателя». И разъяснил: «...Наше несчастье в том, что ни один
из активных членов комитета не владеет русским языком. Мы принуждены
судить о русской литературе по переводам, и мне не нужно подчеркивать, что
даже самый идеальный перевод далек от подлинника. Пусть вас не изумит,
если я скажу, что среди членов комитета большинство за присуждение премии
русской литературе».
Интервью с членом Нобелевского комитета полностью включено в
корреспонденцию «Последних новостей», видимо, чтобы не упустить никаких
подробностей о сути «долгих прений и обсуждений» кандидатур русских
писателей. А подробности представляли безусловный интерес:
Наш референт по русской литературе, профессор-славист Копенгагенского
университета Антон Карлгрен обратил внимание Нобелевского комитета на
последний роман Ивана Бунина, охарактеризовав его как крупнейшее
художественное произведение последних лет. Мы бросились было искать этот
роман в немецком или французском переводе, но, увы, не нашли. Профессор
Лундского университета Зигурд Агрель официально предложил Комитету
Бунина и Мережковского в качестве кандидатов, не решаясь, однако, дать
предпочтение одному перед другим. Комитет оказался в тяжелом положении. Что
делать?
Вопрос этот в момент беседы с корреспондентом русской газеты уже не
стоял перед комитетом, присудившим премию американскому писателю. Но со
страниц «Последних новостей» он был словно обращен к самому Бунину, его
друзьям и почитателям.
Неудивительно, что прочитанная за завтраком статья буквально потрясла
странное бунинское семейство (которое, кроме самого писателя, составляли
его жена Вера Николаевна и два молодых литератора, Галина Кузнецова и
Леонид Зуров), до этого ни о чем подобном серьезно не задумывавшееся. Со
смешанным чувством радости и страха домашние приступили к совещанию:
297
Конечно, явилась мысль о необходимости нажать некоторые кнопки <...>
Написать кое-каким знакомым, а главное, позаботиться о переводе. После
завтрака И.А. сел писать письма. Теперь ему предстоят волнения, заботы, и может
быть напрасные, т. к. вряд ли дадут премию русскому. И в результате будет
большое разочарование, большая горечь [Кузнецова 1995: 190-191].
Непереносимым казалось пережить пустые надежды на широкое признание
и общественный интерес, а затем — навеки кануть в эмигрантской
безвестности. Ничего не зная о процедуре присуждения премии, Бунин болезненно
переживал осенние дни 1931 и 1932 гг., не принесшие ему звания нобелевского
лауреата80. И в октябре 1933 г. он, томясь предчувствиями, записал в дневнике:
Вчера и нынче невольное думанье и стремленье не думать. Все-таки ожидание,
иногда чувство несмелой надежды — и тотчас удивление: нет, этого не м<ожет>
6<ыть>! Главное — предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю
жизнь ни одного события, успеха (а сколько у других, у какого-нибудь
Шаляпина, напр<имер>!). Только один раз — Академия. И как неожиданно! А их
ждешь... [Устами Буниных 1977-1982, II: 292].
Словно для того, чтобы пробудить в потенциальном лауреате энтузиазм,
через несколько дней «пришло еще одно довольно убедительное подтверждение
самого Троцкого о возможной кандидатуре И.А. на Нобелевскую премию и с
ним письмо Полякова-Литовцева81, в котором тот указывает кое-какие пути и
предлагает свои услуги» [Кузнецова 1995: 192]82. В частном письме ему И.
Троцкий подтверждает и конкретизирует переданные в печать сведения:
Все сообщенное мною относительно Бунина и Мережковского — абсолютная
истина. Информацию я получил от шведского историка литературы и критика,
члена нобелевского комитета, профессора Фридрика Беека. Не назвал его
имени в корреспонденции, ибо он меня об этом просил, и я лояльно его просьбу
выполнил. Больше того! Фридрих Беек дал мне свою карточку к профессору
Лундского университета, Зигурду Аграллю, дабы я с ним познакомился и
побудил снова выставить кандидатуру И.А. Бунина. Конечно, я это сделаю.
Сознательно написал корреспонденцию для «Последних новостей», понимая
огромность ее значения (РАЛ, MS. 1066/5595)83.
80 Лауреат 1931 г., Э. Карлфельдт, многолетний секретарь Шведской академии и знаменитый
в Швеции поэт, получил премию посмертно. Лауреат 1932 г., английский романист Дж. Голсуор-
си, скончался в следующем, столь счастливом для Бунина году.
81 Поляков-Литовцев С.Л. (1875-1945) в 1920-е гг. был секретарем Союза русских писателей
и журналистов в Париже.
82 Под призывом «Друзья Бунина должны взяться за дело!» это письмо цитирует в своем
дневнике В.Н. Бунина (см. [Устами Буниных 1977-1982, II: 235]). Машинописный эксцерпт
переписан В.Н. Буниной точно, с соблюдением всех особенностей написания имен собственных;
однако в опубликованных дневниках дан М.Э. Грин в извлечениях и снабжен «догадкой» в
примечаниях: «Предполагаю, что это Поляков-Литовцев» [Там же: 306].
83 Особенности передачи имен собственных в оригинале сохранены.
298
Далее Троцкий уточняет, что приблизительно 10 января намерен
отправиться в Лунд с визитом к Агрелю (намеченная им дата на три недели
предваряет deadline для номинаций в Нобелевский комитет), и заканчивает настоящим
призывом:
Посещу также Копенгагенского проф. Антона Карлгрена, с которым намерен
побеседовать относительно кандидатуры Бунина и Мережковского. Все это,
как видишь, дорогой мой, чрезвычайно серьезно. Друзья Бунина должны
взяться за дело! (РАЛ, MS. 1066/5595).
Названные в письме имена шведских профессоров, неверно
транскрибированные и совсем ничего не говорящие обитателям виллы «Бельведер»84,
воистину свидетельствуют о «чрезвычайно серьезном» отношении к кандидатуре
Бунина в Стокгольме. Фредрик Бёк, маститый академик, крупнейший историк
литературы и литературный критик, побуждает русского журналиста в
Швеции обратиться к профессору славистики Лундского университета,
переводчику Бунина — и зачем? Чтобы тот в свою очередь адресовался в Нобелевский
комитет с номинацией Бунина. Незадолго перед тем — в 1928 г. — был в
ожесточенных спорах отвергнут Горький85, и теперь уже тридцатилетнее
игнорирование русской литературы Нобелевским комитетом стало слишком очевидно
самим его членам. Не менее интересен и другой факт — желание журналиста
«побеседовать относительно кандидатуры Бунина и Мережковского» с
профессором А. Карлгреном86, что в свете деятельности последнего как эксперта
Нобелевского комитета по славянским литературам, в том числе и по русской,
является очевидным стремлением прощупать отношение шведов к кандидатурам
русских писателей-эмигрантов.
Сам Иван Алексеевич приступил «к делу» не без энтузиазма: «Отправили на
45 фр<анков> писем, — отмечает в дневнике 22 декабря Г. Кузнецова. — Заботы
по поводу премии». И тут же добавляет: «И.А. эти письма сразу изнурили. "Нет,
я на это не гожусь!" — говорил он» [Кузнецова 1995: 191]. Однако возбудившие
Бунина предновогодние послания говорят о многом — и, во всяком случае, о
начинающейся в среде русской эмиграции поддержке именно его кандидатуры
на Нобелевскую премию. «Говорили об этом, гуляя с И.А. после завтрака по
саду Монфлери, — записывает Кузнецова и вновь указывает на странную
грусть, вызываемую у Бунина разговорами о премии: — Он как-то печален,
хотя и делает то, что надо: пишет письма, посылает книги» [Там же: 192].
Печален Бунин потому, что слава и деньги не приходят как подарок, как исполнение
рождественских пожеланий, как признание заслуг — кем-то и где-то, без ведо-
84 Виллу Bellvédère Бунины снимали с весны 1925 г.
85 См. главу 4.
86 В это время А. Карлгрен гораздо больше времени, чем профессуре в Копенгагене, уделяет
редактированию одной из двух крупнейших шведских газет, «Дагенс нюхетер», так что по
характеру своей профессии русский журналист мог быть лично знаком с Карлгреном.
299
ма будущего виновника торжества. Премию нужно «организовывать» —
«нажимать на кнопки», искать обходные пути, прибегать к услугам, скорее всего,
малознакомых людей и все время ощущать себя просителем чуть не с черного
хода. Настоящей наградой было бы развернуть газету и — колоколом! —
громадные буквы чаемого и все же неожиданного сообщения: «Нобелевским
лауреатом в области литературы объявлен выдающийся русский поэт и писатель
Jean Bounine...» — над собственным лицом в половину первой полосы.
Вместо этого получено «письмо от Алданова, сплошь деловое,
спрашивающее, чего хочет И.А., на кого надо влиять, к кому обращаться. И знаменательная
фраза о том, что единственная его серьезная просьба при всем этом — чтобы
вся вилла "Бельведер" дала слово сохранить в тайне его участие в этом деле,
ибо и так, мол, вражды не оберешься...» [Кузнецова 1995: 192]. Словом,
обычная канитель, приправленная сложными внутриэмигрантскими отношениями.
Вражда собратьев по перу — и прежде всего некогда столь дружественных
Мережковских — вплотную подступила к утопающему в цветочных плантациях
над Лазурным Берегом Грассу87. Нелегко было уговорить и мировых
знаменитостей обратиться в Шведскую академию с номинацией Бунина: забегая вперед,
заметим, что ни один крупный европейский писатель его в 1930-е гг. на премию
не выдвигал88. М.А. Алданов, предпринимавший весьма серьезные попытки
склонить Томаса Манна к обращению в Стокгольм, информировал Бунина о
безрезультатности своих хлопот. Судя по алдановским письмам, он сам был
несколько обескуражен «любезной уклончивостью» автора «Будденброков»:
«Должен с сожалением Вам сообщить, — пишет Алданов В.Н. Буниной, — что
он мне сказал следующее: ему с разных сторон писали русские писатели89,
просили его выставить Ивана Алексеевича в качестве кандидата на Нобелевскую
премию, и он считает необходимым прямо ответить, что он этого сделать не
может: есть серьезная немецкая кандидатура, и он, немец, считает себя
обязанным подать голос за немца» [Письма Алданова к Буниным 1965, II: 112] (письмо
от 16.05.1931). Алданов рассказывает о своем «обеде в Пен Клубе» с Т. Манном).
87 Вера Николаевна, впрочем, давно тревожилась по поводу переменчивости настроений
З.Н. Гиппиус. В дневнике Буниной от 9.02.1925 содержатся итоги некоторых ее «долгих»
раздумий об отношениях с непростой четой Мережковских, о том, что Гиппиус «не простит» Бунину
«его успехов»: «Ведь с Яном как было? Приручала. Написала хвалебную рецензию. Хотела его
приобщить к ним. <...> Когда ничего из этого не удалось, а значение Яна все растет, она
решила — пора начать его бранить, а то, неровен час, еще ему и премию присудят» [Устами Буниных
1977-1982,11:135].
88 Ромен Роллан после 1923 г. в Нобелевский комитет с номинациями русских писателей
не обращался.
89 Как известно, наиболее крупные писатели русского зарубежья сами претендовали на
нобелевскую награду (Мережковский, Шмелев). К сожалению, довоенный архив Т. Манна погиб во
время Второй мировой войны, так что узнать имена его русских корреспондентов и содержание
их писем не представляется возможным. Алданов, впрочем, называет со слов самого Манна одно
из имен: это философ Л. Шестов, которого Т. Манн исключительно высоко ставил, — как и с
Буниным, он познакомился с Шестовым в Париже в 1926 г.
300
Догадывается проницательный Алданов и о намерении Т. Манна выставить
кандидатуру другого русского писателя — Ивана Шмелева90.
Сообщение о прямом отказе Томаса Манна выставить кандидатуру Бунина
содержится и в письме Л.И. Шестова: «...может быть, просто, свои ему ближе,
чем чужие» (РАЛ, MS. 1066/5038, письмо от 5.02.1931). Хотя философ честно
признал, что от письма Манна поклонники Бунина «приуныли» и «потеряли
всякую надежду на успех», однако его послание исполнено утешений и
заверений в благоприятном исходе предпринятых усилий:
Ибо, раз представлены, то, если не теперь, то через год, вернее всего, Вы все-
таки премию получите. Очень рады мы за Вас и от всей души желаем,
чтобы уже в этом году Вам досталась премия и чтобы Вы освободились от тяжких
забот, которые так отравляли и отравляют Вашу жизнь в последние годы
(Там же).
Обнадежил Бунина и И.И. Фондаминский91, приехавший 4 января 1931 г. с
новогодним визитом: «Прежде всего сказал, что шансы Бунина в Швеции очень
велики и что в Париже к нему взрыв симпатии по этому поводу» [Кузнецова
1995:193]. «Бельведер» постепенно залихорадило, и 15 января нобелевская тема
вновь возникает в «Грасском дневнике»:
Радостные известия из Швеции. Будто бы проф<ессор> Агрель твердо сказал,
что все сделает, чтобы премию дали Бунину.
И.А. сказал мне об этом в большом волнении, после того как прочел в
кабинете свое письмо Полякову-Литовцеву, приславшему ему письмо из
Швеции. «Уж не знаю... боюсь сказать... ну, да не могу скрыть...».
Он поглощен этим, лицо у него взволнованное, он сидит без пиджака в
одной белой с помочами фуфайке и, не глядя, стряхивая пепел с папиросы,
пишет одно письмо за другим [Там же: 195]92.
Какая перспектива для писателя-изгнанника, читаемого горсткой
эмигрантов, едва сводящего концы с концами во французской глуши — в каком-то
смысле не лучшей, чем Воронеж или Елец: «тот же Суходол», как сам Бунин
назвал когда-то виллу в Грассе! Упоительная и жуткая перспектива, внятная и
писателю, и его сплошь литературному семейному кругу:
Вот жизнь на пороге поворота. Все может вывернуть и понести куда-то. И как
ни странно и ни тяжко иногда бывает — будет ли лучше? И как И.А. ни тяжела
90 См. главу 7.
91 Фондаминский (Бунаков) И.И. (1881-1942) — политический деятель (один из
руководителей партии эсеров), депутат Первого всероссийского съезда Советов, в эмиграции с 1919 г.; один
из основателей и редакторов журнала «Современные записки».
92 Еще в 1928 г. М.А. Осоргин, недальновидно называя в письме к Бунину надежду на
Нобелевскую премию «пустяковым призраком», между прочим, позволил себе высказать догадку:
«...поди и письма разным людям пишете, а письма попадут в архивы, и будут люди смеяться»
(20.10.1928, РАЛ, MS. 1066/4328).
301
нужда, лишения — будет ли лучше тогда? Ведь сумма эта вовсе не сказочная, а
на нее станет рассчитывать чуть ли не половина эмиграции. А дома? А В<ера>
Н<иколаевна>? А все мы, неуравновешенные, нервные? Он сейчас так рассеян,
так отвлечен. А что будет с его здоровьем при неизбежных излишествах?
[Кузнецова 1995: 196].
Впрочем, до роскоши и изобилия еще было очень далеко, и вечная
домашняя страдалица Вера Николаевна ведет гораздо более прозаические записи о
замучившей беспросветной нищете, усугубляющейся с годами. Разумно
распорядиться капиталом с Нобелевской премии у Бунина, кажется, даже и шанса не
было: тот стиль жизни — вечный Суходол, который был привычен Бунину с
детства, с ранней молодости, т. е. неумение и нежелание вести рачительное
хозяйство, экономить средства, чтобы не впасть в нужду, а лишь безалаберная
дворянская способность «промотать», — делал любую сумму недостаточной93.
В доме жили писатели (Бунин и переехавший к ним в 1929 г. Леонид Зу-
ров) — и писательницы: и Вера Николаевна, и Галина Кузнецова сами
занимались литературным трудом, именно его считая своим настоящим призванием.
Сетуя на нужду, на отсутствие заработка, на крошечные и неверные гонорары,
тридцатилетняя Г.Н. Кузнецова, тонкий лирик в изображении природы
Прованса и Лазурного Берега, бестрепетно описывает ужас всего «семейства» при
93 Между тем жалобам русских писателей-эмигрантов на стесненные материальные
обстоятельства, на сложность прожить только литературным трудом вторят французские писатели.
Так, например, Роже Мартен дю Гар, ведущий в 1930-е гг. переговоры с советским журналом
«Интернациональная литература» о гонорарах за публикацию своих произведений, в частности,
пишет в редакцию: «Жизнь во Франции с каждым днем становится все дороже и труднее. Я живу
только за счет моей работы. Незаинтересованность, которую можно было проявлять раньше,
ныне невозможна. Любой труд должен быть оплачен. Что сказали бы Вы о заводе, если бы он не
выдавал заработную плату своим рабочим, чтобы они на нее жили <...»> (цит. по: [Диалог
писателей 2002: 305]). Другой французский писатель и журналист — коммунист и антифашист
А. Вюрмсер писал в те же годы своему московскому корреспонденту: «Вы спрашиваете, над чем
я работаю. Так вот, мой дорогой друг, я работаю прежде всего, чтобы заработать на жизнь себе и
моей семье, т. к. глупо требовать от нашего мира, чтобы он дал возможность честно жить на
честный литературный труд» [Там же: 328]. Из Советского Союза приходят
высокомерно-назидательные ответы от литературно-издательских чиновников: «...советские писатели поставлены
у нас в такие условия, что государство покрывает все их потребности <...»> [Там же: 306]; «Вы
пишете, что помимо текущей творческой работы Вы принуждены часть своего времени отдавать
литературному труду для заработка. Это вполне естественно в капиталистических странах,
которые, конечно, не могут обеспечить своих писателей так, как наша социалистическая» [Там же:
329]. Русские писатели-эмигранты, жившие во Франции, были поставлены в гораздо худшие
условия, чем их французские коллеги, ибо зависели от ограниченного круга издательств и
периодических изданий, выпускавших современных русских писателей на языке оригинала или в
переводе, к тому же известная часть гонорара приходилась переводчикам. Ср. дневниковую
запись Г. Кузнецовой: «Думала о нашем положении писателей-эмигрантов. Вот еще один не
выдержал — недавно покончил с собой Болдырев. С год назад умер от нужды Борис Буткевич. Все
талантливые, упорные. Но обстоятельства оказались сильнее. Все одинокие, без быта, без семьи,
издерганные событиями в критическое время молодости, все, лишенные самого необходимого и
без надежды на будущее... Следующим будет уже легче, они корнями в здешнем, а мы — ни то ни
се — на рубеже» [Кузнецова 1995: 276-277].
302
известии о болезни кухарки; только выздоровление последней восстанавливает
относительный уют: «Дома в первый раз вздохнула с облегчением: все чисто,
тепло, стол накрыт — Камий <Камилла> вернулась...» [Кузнецова 1995: 205].
Но... счастье так возможно, так близко! Вслед за своим мэтром ликует в
начале 1931 г. Галина Кузнецова:
Очень хорошие вести из Стокгольма. Выставлена кандидатура И.А. Кроме
того, переслано письмо Эм. Нобеля, где он пишет, что он за Бунина: прочел
пять-шесть его книг и в восторге от них.
Ходили с И.А. в город. Говорили о том, как было бы хорошо ехать через год
в Швецию. Но он и говорить об этом из суеверия боится [Там же: 201].
Счастьем были сами надежды, само остро переживаемое ожидание94. И
так — неделя за неделей: «И.А. все режет рецензии, посылает книги,
письма...» — свидетельствует запись Кузнецовой от 2 февраля 1931 г. [Там же]. Одно
из них сохранилось в архиве М.И. Ростовцева95. «Дорогие друзья, — по всей
видимости, трафаретно начинается это послание. — Прибегаю к Вам за помощью.
Нобелевский комитет наконец серьезно подумал о русской литературе».
Дальше следует изложение фактов, дошедших из Стокгольма от И. Троцкого (даже
то, что номинацию Агреля «очень поддерживает копенгагенский профессор
Антон Карлгрен»), вплоть до ревнивой гиперболы:
Русские писатели <...> чуть не все кинулись выставлять свои кандидатуры и
при посредничестве своих почитателей выставили их.
Бунин резонно полагает:
...члены Нобелевского комитета <...> все-таки полного представления о
современной русской литературе <... > не имеют, рангов точно не знают, читали
нас мало <...>. Словом, надо, чтобы некоторые знатные русские и
иностранные люди написали (совершенно честно и так, чтобы это не имело ни чуточки
антисоветской демонстрации) свои соображения, мнения.
И далее Бунин приводит, не без некоторого сказового травестирования,
вызванного смущением от неприкрытой саморекламы, образчик текста
обращения от лица «знатного человека» в Нобелевский комитет:
Мол, есть слухи, что речь идет о русской литературе, на премию 1931 г. Так
позвольте сказать, что русским людям это очень приятно и что если бы
Нобелевский комитет остановился на каком-то русском писателе, то это было бы
весьма справедливо.
94 Среди кандидатов того же года — один будущий лауреат, Ф. Силланпя; были имена
прославленные — Л. Фейхтвангер, П. Валери, Т. Драйзер, были весьма известные и почитаемые на
родине — К. Паламас и А. Ирасек; большинство из почти трех десятков кандидатур остались
малоизвестными (см. [Nobelpriset i litteratur, II: 157-160]).
95 Письмо от 21.03.1931 опубликовано в [Бонгард-Левин 2002: 201-202]; цитируется далее по
этой публикации.
303
Все это неприлично, совестно, Бунина и самого коробит от необходимости
унижаться перед старым другом и, как подачку, клянчить подобного рода
письмо в Шведскую академию, но ему уже не до самоиронии:
Дорогой Михаил Иванович, если можете, если считаете меня наиболее
достойным, помогите, пожалуйста! Все это мне, конечно, очень тяжело, неловко
говорить, да что ж делать? Устал я от нужды, от вечной муки душевной за
завтрашний день и от всяких лишений, связанных с нищетой, до последней степени,
а работаю, и до сих пор, не покладая рук, и еще бы поработал, будь спокойствие
телесное и душевное...
Мемуарные источники дают живейшее представление о том, как Бунин и
его близкие буквально жили надеждой на премию и какие упования на нее
возлагали96. Тема Нобелевской премии настолько пронизывала мысли Буниных
подспудно, что это сказывалось даже на их литературных впечатлениях, в
частности Веры Николаевны. В этом отношении интересны ее ноябрьские
дневниковые записи 1930 г., выражающие (и, заметим в скобках, совершенно
по-женски выражающие) мнение о прочитанных книгах: «Читала "Экклезиаст". Что за
прелесть!». Или: «Начала читать "Бесы". Первая глава удивительно хороша».
И наряду с этим менторское замечание о романе С. Унсет, для которой «все же
Нобелевская премия слишком большая награда» [Устами Буниных 1977-1982,
И: 233]. А в ожидании вестей из Стокгольма осенью того же года Вера
Николаевна читает Сирина и записывает: «Какая у него легкость и как он современен
<...> Вот кто скоро будет кандидатом на Нобелевскую премию» [Там же: 253].
Пока же, начиная с 1930 г., в списке кандидатов на Нобелевскую премию
регулярно появляется сам Бунин. Уповая на премию, Бунин не тешил себя
пустой маниловщиной: ему было хорошо известно о поддержке его кандидатуры
и в Швеции, и за ее пределами, иначе он не стал бы полагаться на случай и на
свою мировую славу, которой, увы, все не было, и год за годом надеяться.
Однако сопоставление дневниковых записей членов бунинского семейства,
корреспонденции писателя и материалов архива Шведской академии наглядно
свидетельствует о том, что представления номинированного писателя и близкого ему
круга людей весьма мало соответствовали тому, как в действительности
складывалась история его номинации и ход обсуждения его кандидатуры в
Нобелевском комитете.
В пользу Бунина действовали не просто поклонники его творчества, но
слависты, отчаянно боровшиеся за Нобелевскую премию именно для русского пи-
96 В декабре 1931 г. B.H. Бунина довольно спокойно записывает после получения
ободряющего письма из Стокгольма: «Ян чуточку повеселел, хотя веры <...> и у нас очень поубавилось»
[Устами Буниных 1977-1982, II: 254]. Через год, в ноябре 1932 г., тон уже совершенно иной:
«Нужно сознаться, что я не дождусь, когда, наконец, разрешится на этот год вопрос о Нобелевской
премии — устала ждать. <...> Ян спасается писанием — второй том "Жизни Арсеньева"
понемногу развивается. Отвлекает его от всяких мыслей» [Там же: 276]; «И почему такая тревога?»
[Там же: 277].
304
сателя, за то, чтобы русская литература была непременно отмечена — и
обязательно в лице продолжателя ее великих традиций. Кампания, развернувшаяся в
поддержку Бунина, демонстрирует и сам единый выбор интеллигенции
русского зарубежья и ряда западноевропейских славистов, и редкую согласованность
и организованность их действий. Сами по себе «связи» и письма не помогли бы
Бунину стать нобелевским лауреатом, если бы в его поддержку не раздалось
столь мощного и дружного хора голосов. Некоторые рекомендательные письма
были пространны, с подробными пояснениями, почему именно этот русский
писатель заслуживает награды; другие номинации были предельно краткими,
как, например, регулярные обращения в Нобелевский комитет известного
норвежского слависта Олафа Брока. Но все вместе эти рукописные послания на
разных языках от представителей русской культуры, ее исследователей и
ценителей складывались в весьма убедительную картину; во всяком случае, никому
другому из русских претендентов того времени — Горькому, Мережковскому,
Шмелеву — столь масштабная и убедительная в глазах шведских академиков
поддержка оказана не была.
Одним из тех, кто стоял у истоков развернувшейся кампании, был П.Б.
Струве. Знакомство с известными формальностями выдвижения на Нобелевскую
премию (это право принадлежит членам национальных академий наук)
подтолкнуло к простому и верному решению: «Ожидать того, что кандидатура
русского зарубежного писателя будет выставлена советской Академией наук, конечно,
нельзя было. Но оказавшиеся в изгнании действительные члены
дореволюционной Российской академии наук (Санкт-Петербургской Императорской
академии наук. — Г. М.), продолжавшие считать себя академиками, не могли
не воспользоваться в той или иной форме этим правом, — пишет Г.П. Струве,
публикуя материалы из эпистолярного наследия отца. — Таких
дореволюционных академиков за рубежом было, если не ошибаюсь, пятеро: П.Г. Виноградов,
Н.П. Кондаков, М.И. Ростовцев, П.Б. Струве и В.А. Францев» [Струве 1967:141].
Переписка двух последних в январе 1931 г. обнаруживает ход уже запущенного
механизма: от Струве (из Парижа и Белграда) к Францеву в Прагу летят
«экспрессы», подтверждается выполнение того, что «было уговорено», выражается
благодарность за «горячее участие в деле», упоминаются третьи лица — так,
«литературный портрет» Бунина был послан норвежскому профессору О. Бро-
ку, который ответил выдвижением бунинской кандидатуры [Там же: 142]. В
последний день номинаций на текущий год, 31 января 1931 г., П.Б. Струве
передает в своем послании В.А. Францеву текст письма, будто бы полученного
Буниным из Стокгольма:
Пожалуйста, ничего не делайте так, чтобы стало известно большой публике,
что работают эмигранты. Пусть работают иностранцы, только в самой строгой
тайне руководимые русскими. И в русских газетах — ни единого слова больше
об этом деле!
305
Струве, ссылаясь на свой «40-летний опыт журналиста и публициста»,
предостерегает Францева и, очевидно, других своих корреспондентов от
«излишней гласности» [Струве 1967: 143]. Весной того же года сам В.А. Францев
благодарит «Ивана Александровича» (sic!) за «милый и драгоценный пасхальный
подарок» — видимо, присланные книги, необходимые для составления
ходатайства в Стокгольм (РАЛ, MS. 1066/2545, письмо от 11.04.1931).
О том, что и Бунин вел столь же интенсивную переписку, связанную с
хлопотами о выдвижении на Нобелевскую премию, свидетельствует архив
писателя. Некоторые письма тех лихорадочных лет позволяют судить не только
о том, как разворачивалась кампания в поддержку кандидатуры писателя,
но и — гораздо шире — о внутренних взаимоотношениях и трениях в
различных сферах русского зарубежья. Так, например, философ Лев Шестов
отклоняет просьбу Бунина стать его номинатором под несколько неожиданным
предлогом:
Три дня все обдумываю Ваше письмо и, сколько ни думаю, — все прихожу к
одному: никак нельзя мне обратиться к членам Нобелевского комитета. Вы
пишете, чтобы я обратился в качестве «представителя русской литературы». Но
разве я вправе себя называть представит<елем> русск<ой> лит<ературы>?
(РАЛ, MS. 1066/5039).
И далее Шестов изливает на Бунина свои обиды, нанесенные ему в
эмиграции, хотя и признает: «...скучно все это рассказывать и неинтересно».
Выясняется, что один из крупнейших русских философов не был приглашен
почетным членом ни в одно ученое или литературное общество, хотя французы
охотно избирают его в соответствующие общества; его не приглашали
выступить ни на одном из вечеров, посвященных памяти русских
писателей-классиков, а на его лекции ходят исключительно иностранцы — так, в Берлине на его
публичном чтении «не было ни одного русского писателя или ученого». Бунин
просит похлопотать за него перед Шведской академией, а Шестов напоминает,
что пять лет назад, в год его 60-летнего юбилея, редакция «Современных
записок» не могла «найти писателя, к<ото>рый бы согласился написать» о нем
«несколько слов». С горечью обрисовав свое положение изгоя в духовной культуре
русского зарубежья, философ замечает, что «выйдет вред», если в Стокгольме
захотят справиться, что за «представитель» представляет русскую литературу:
«И я не был бы удивлен, — довершает рассказ о своем мнимом «самозванниче-
стве» Шестов, — если бы Нобелевский комитет просто вернул бы мне письмо
мое с подписью "не подлежит рассмотрению"» (Там же). Л. Шестову остается
лишь дать совет, кто мог бы написать в Стокгольм: это крупнейшие
французские слависты того времени — Андре Мазон и Эмиль Оман (Haumant), а также
Н.К. Кульман, профессор русской литературы в Сорбонне.
Последний подключается к делу горячо, радея об успехе Бунина, как о своем
собственном. Это — верный и надежный соратник в длящейся несколько лет
306
нобелевской эпопее Бунина, он строит догадки, переживает и мечтает в унисон
с писателем:
Не совсем представляю, кто из эмигрантских писателей может быть
кандидатом на премию, кроме Вас и Мережковского. Правда, ходят слухи, что кто-то
будто бы выставил Осоргина, кто-то Куприна. Но, вероятно, это вздор. <...>
Как хорошо было бы, если бы Вам удалось от всех этих докук жизни
избавиться и Вы спокойно могли бы работать себе и нам на славу (РАЛ, MS. 1066/3434,
письмо от 4.04.1931).
Как свидетельствует это личное послание, дело начинало принимать
серьезный оборот.
Кампания в поддержку бунинской кандидатуры получает наибольший
размах в начале 1931 г., когда премия казалась особенно реальной.
Рекомендательное письмо С. Агреля (1930 г.) сыграло роль реактива, и в следующем году в
Шведскую академию поступило такое количество номинаций Бунина, которое
превратило его из почти случайного кандидата в единственного фаворита
среди выдвинутых на Нобелевскую премию русских писателей. Обращения в
Нобелевский комитет направили: Владимир Андреевич Францев, профессор
славянских литератур в Пражском университете97; Михаил Иванович Ростовцев,
профессор истории античности Висконсинского университета98; Александр
Самуилович Каун, профессор славянских литератур в университете Беркли
(Калифорния)99; Бернард Пэре, профессор русского языка Лондонского универ-
97 Францев В.А. (1867-1942) — филолог-славист, академик, до революции был
преподавателем Варшавского университета, с 1917 г. — Донского университета (Ростов-на-Дону), а с 1922
занимал профессорскую кафедру в Карловом университете (Прага).
98 Ростовцев М.И. (1870-1952) — профессор античной истории Санкт-Петербургского
университета и, как и Бунин, почетный член Императорской академии наук, почти сразу после
бегства из большевистской России перебрался из Старого Света в Новый; крупнейший
американский археолог и филолог-классик.
99 Kaun Alexander (Каун A.C.; 1889-1944) — состоял в переписке с Буниным с 1922 г.,
пересылал ему пожертвования (обычно в размере около ста долларов) от американских поклонников
(РАЛ, MS. 1066/3187, 3188); последнее письмо от А. Кауна в бунинском архиве в Лидсе помечено
31.03.1933, но в немногих сохранившихся письмах (всего 14) нобелевская тема не поднимается.
Однако это именно его, скорее всего, имеет в виду A.A. Койранский (литератор, театральный
деятель, в эмиграции с 1919 г., в Америке — с 1922 г.), упоминая некоего «американского
поклонника», который «помогал» Бунину с Нобелевской премией (РАЛ, MS. 1066/3327). Летом 1925 г.
Каун жил в Сорренто у Горького, интервьюируя писателя для своей монографии о нем (это
нашло отражение и в письмах к Бунину: РАЛ, MS. 1066/3190, 3191); его жена, скульптор, работала
тем временем над бюстом Горького. Измучившее Горького общение (см. подробнее в изд.:
[Горький и Будберг. Переписка 2001: ПО, 325]) дало материал для двух книг и ряда статей о писателе.
Этот факт — работа над монографией о Горьком и обращение в Нобелевский комитет с
номинацией Бунина — не уникален: так, Этторе Ло Гатто выпустил в начале 20-х гг. популярную
брошюру именно о творчестве Горького («Massimo Gorkij», Roma, 1924) и никогда не писал специально
о творчестве Бунина. Кампания в поддержку бунинской кандидатуры разворачивалась, таким
образом, невзирая на личные отношения и научные занятия; «нажав на некоторые кнопки»,
Бунин и сам хорошо не представлял себе размаха, который приняло выдвижение его кандидатуры.
307
ситета100; Этторе Ло Гатто, профессор славистики Падуанского университета101;
Олаф Брок, профессор славистики университета в Осло102; профессор
восточноевропейской истории Лейпцигского университета Фридрих Браун103;
профессор сравнительного литературоведения университета в Вильно М. Здзехов-
100 Pares Bernard (1867-1949) — английский русист, создатель Liverpool School of Russian
Studies (1907), School of Slavonic and East European Studies (1919). «Почтенным коварным
профессором литературы» назвал его один из русских мемуаристов, Вс.Н. Иванов, узнав о
разведывательной (шпионской) деятельности «сего чистого академиста» в России в эпоху Первой мировой
и Гражданской войны (см. [Казнина 1997: 103]). Это мнение не устарело и позже: «В 1930-х годах
Б. Пэре резко изменил свою позицию по отношению к Советской России, так как ему
необходимо было так или иначе продолжать свою деятельность. Он не без труда установил
официальные контакты с представителями советских университетских кругов и добился разрешения на
возобновление своих поездок в Россию» [Там же: 104]. Поездку в Советский Союз Пэре
осуществил в 1936 г., какое-то время ему понадобилось для установления контактов и ряда
формальностей. Принимая участие в выдвижении на Нобелевскую премию Бунина, Пэре все еще
оставался близок эмигрантским кругам. Имя Б. Пэрса несколько раз упоминается в переписке
Бунина с П. Муратовым, знавшим английский язык и потому часто выступавшим с лекциями в
университетах Великобритании. Так, в письме от 19.11.1931 Муратов советует Бунину
«обратиться в поисках хорошего английского переводчика к тому же милейшему сэру Бернарду Пэр-
су» (РАЛ, MS. 1066/3922). Очевидно, что к посредничеству Пэрса уже прибегали; из
поздравительного письма Муратова от 10.11.1933 явствует, что этому способствовал сам Муратов:
«Горжусь также, что на какой-то первоначальной стадии я тоже что-то сделал полезное» (РАЛ, MS.
1066/3923). Впрочем, малиновыми чернилами, которыми Бунин в начале 1950-х гг. делал пометы
на страницах разбираемого архива, на первом из процитированных писем выведено: «Пэре тоже
пахнет немного большевизмом».
101 Lo Gatto Ettore (1890-1983) — итальянский славист, автор многочисленных работ о
русской литературе и культуре, фундаментальной «Истории русской литературы» («Storia délia lette-
ratura russa», Roma, 1929), неоднократно переиздававшейся в Италии и выходившей в переводе
на другие европейские языки «Истории современной русской литературы» («Storia della letteratura
russa contemporanea» / «Storia della letteratura russa moderna»).
102 Broch Olaf (1867-1961) — норвежский языковед-славист, иностранный член
Санкт-Петербургской академии наук.
103 Braun Friedrich (Федор Александрович; 1862-1942) «нашел свой путь к русской истории
через германистику и сравнительное языкознание» [Camphausen 1990: 152]. Родился и закончил
университет в Петербурге, где и преподавал до эмиграции в 1920 г. С 1922 г. был профессором
германистики и одновременно преподавателем русского языка и литературы в Лейпцигском
университете. С момента образования Восточноевропейского отделения при Институте истории
культуры и всеобщей истории Философского факультета Лейпцигского университета —
профессор русской истории. «Своим успехом создание Восточноевропейского отделения при
Лейпцигском университете, имевшем репутацию откровенно либерального, было обязано главным
образом деятельности профессора Брауна» [Ibid.: 153]. Заметим, что до эмиграции Браун работал
в руководимой Горьким «Всемирной литературе», заведуя отделом немецкой литературы; живя
уже в Германии, возглавил в созданном Горьким журнале «Беседа» отдел науки, являясь, казалось
бы, человеком из горьковского окружения; однако ни это, ни «прекрасные контакты с научными
учреждениями Советского Союза» [Ibid.], ни переписка с A.M. Горьким не помешали Ф. Брауну
участвовать в выдвижении на Нобелевскую премию представителя враждебной большевизму
русской эмиграции. Кстати, Горький писал Брауну (2.03.1924), составив по просьбе последнего
проспект издания русских книг для одного из немецких издательств: «Надобно хорошо
представить И.А. Бунина, как крупнейшего художника нашего <...> его рассказы 907-13 года — эпоха
высшего подъема его творчества» (цит. по: [Примочкина 2003: 63]).
308
ский104; а также — через посредство Эмануэля Нобеля105, переведшего послание
на шведский язык, — четверо хорошо известных русских парижан: граф Коков-
цев, В. Маклаков, А. Гукасов и Н. Кульман, преподаватель русского языка и
литературы в Сорбонне106 (так они подписались под своим посланием).
Их обращение пришло в Нобелевский комитет одним из первых.
Препровождая послание от своих «старых друзей с петербургских времен, которые
сейчас живут в Париже», Э. Нобель подчеркивает свое понимание «столь
высокой оценки выдающегося русского писателя» и снабжает русский текст107
шведским переводом; однако собственного мнения больше никак не высказывает и
на академиков, таким образом, ни малейшего влияния не оказывает. А между
тем именно «покорнейшая просьба» походатайствовать и содержалась в письме
из Парижа, именно потому оно было направлено в комитет не прямо, а
окольными путями. Ведь только Николай Карлович Кульман, профессор Сорбонны
по истории русского языка и литературы, и имел право выдвигать писателя
на Нобелевскую премию, а остальные едва ли не частным образом просили:
«в силе (sic! — Г. M.) Ваших возможностей и влияния помочь этому делу, если
Ваши собственные взгляды этому не противятся». Как видим, Э. Нобель
выступил лишь в корректной роли посредника.
А русские парижане, как это часто бывает, действовали согласно все тем же
непроверенным слухам:
104 Zdziechowski Marian (1861-1938) — выдающийся польский славист, профессор кафедры
европейской литературы и сравнительного литературоведения Виленского университета;
многие его труды появлялись в печати одновременно на русском и польском языках.
105 Nobel Emanuel Ludvig (1859-1932; в письмах русских корреспондентов — Эммануил
Людвигович) — племянник А. Нобеля, сын его брата Людвига. До Октября 1917 г. жил в Петербурге,
возглавлял «БраНобель»; действительный статский советник. В 1918 г. эмигрировал (о нем
подробнее см. [Oleinikoff s. a.: 29-36]). Восстановить нефтяное могущество «братьев Нобелей»
после революции, национализировавшей все промышленные предприятия, не удалось. В бу-
нинском окружении считалось, что Э. Нобель может каким-либо образом повлиять на
решение шведских академиков; его имя несколько раз упоминается в дневниках Буниных и
Кузнецовой.
106 Гукасов А.О. (наст, фамилия Гукасянц, 1872-1969) — нефтепромышленник,
общественный деятель, издатель; основатель и владелец газеты «Возрождение» (1925-1940); Коковцев В.Н.
(1853-1943) — министр финансов (1904-1914, перерыв 1905-1906), председатель Совета
министров в 1911-1914 гг.; Кульман Н.К. (1871-1940) — литературовед и критик, профессор; автор
статей и рецензий о творчестве русских и советских писателей, главным образом — о новых
сочинениях писателей русского зарубежья, сотрудничал в газетах и журналах «Россия», «Россия и
славянство» (1929-1933), «Современные записки» (1934-1938); Маклаков В.А. (1869-1957) —
общественно-политический деятель, юрист, публицист, мемуарист; член ЦК партии кадетов. В
октябре 1917 г. прибыл в Париж в качестве посла России во Франции, оставался
неаккредитованным (из-за революционных событий) послом до октября 1924 г. С этого времени — председатель
русского эмигрантского комитета при Лиге Наций. Во главе группы эмигрантов нанес 12
февраля 1945 г. визит советскому послу А.Е. Богомолову.
107 Цитируемая машинопись поражает странной небрежностью в употреблении запятых,
которые мы расставили в соответствии с современными нормами пунктуации.
309
Из достоверных источников известно, а может быть, Вы это знаете и сами, что
в прошлом году чуть не получил Нобелевской премии русский писатель
И.А. Бунин; если мы не ошибаемся, у него не хватало только одного голоса. Все
это было даже предметом сообщения печати108.
Влекомые самыми благородными побуждениями, осведомленные
представители русского Парижа заявляют:
Более того, нам известно, что если бы кандидатура Бунина была поставлена
вновь, то есть все шансы, что премию он получил бы. Это отличие не только
было бы очень радостно и полезно ему в беженском положении, но оно было
бы очень почетно и лестно вообще для русской эмиграции.
Сознавая, что «литературная оценка писателя, конечно, очень
субъективна», представители эмигрантского истеблишмента приводят факты признания
литературных заслуг Бунина до революции и прежде всего избрание его
академиком109. Рекомендатели подчеркивают, что номинировать Бунина их
побуждает не только «высота его литературного дарования», но «то место, которое
он в современной русской литературе занимает». Мнение видных русских
эмигрантов о месте Бунина в русской литературе интересно даже не столько своим
возможным влиянием на позицию шведских академиков, сколько взглядом на
писателя, характерным для нелитературной интеллигенции зарубежья,
неизлечимо зараженной партийными интересами.
Во-первых, он является бесспорным представителем носителей (sic! — T. M.)
тех художественных традиций русской литературы, которые не жертвовали
искусством для тенденции и свое художественное служение не подчиняли
преходящим настроениям политической обстановки. Бунин и сейчас, в
эмиграции, в момент обострения политической и партийной озлобленности остался
художником. Как всякий художник, он не чужд известных политических
симпатий и потому не может вполне отвернуться от политических тем; в этом он
только идет по стопам корифеев нашей литературы, но его искусство есть все-
таки искусство и при этом художественное. Этому он остался верен несмотря
на все соблазны настоящего момента, и этого мы не можем в нем не ценить.
В этих словах так и пульсирует напряженная внутренняя жизнь эмиграции,
раздираемой партийными противоречиями и непримиримостью оказавшихся
рядом в изгнании представителей политических воззрений. Поклонники бу-
нинского творчества в обращении в Шведскую академию озабочены прежде
всего общественными вопросами, а вовсе не эстетикой словесного творчества:
los Упоминаний имени Бунина в связи с Нобелевской премией в шведской прессе 1930-
1932 гг. обнаружить не удалось. Несколько лет спустя, когда Бунин стал лауреатом Нобелевской
премии, все газеты хором назвали этот выбор Шведской академии сенсационным, так как
награжден был абсолютно неизвестный писатель.
109 В 1909 г. На сей счет И.С. Шмелев заметил однажды не без желчи, что «Академии уже
14 лет не существует» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 235].
310
Но это не все, по своему направлению Бунин, в силу своего прошлого и личных
симпатий, является более всего правдивым и любящим бытописателем старой
России. В свое время, как и сейчас, он не боялся правды и не скрывал ее темных
сторон (речь явно идет о повести «Деревня» и ее оценке в дореволюционной
критике. — Т. М.), но зато он старательно напоминает нам о том, что наша
эпоха слишком склонна забыть; о том, что в то время было хорошего,
трогательного, ценного и что не только погибает, но часто оплевывается нашими
современниками. Эту сторону бунинского творчества мы тоже не можем ему не
поставить в заслугу.
Апеллируя к «сочувствию» Э. Нобеля и прося его о «содействии»,
поклонники Бунина — крупнейшие фигуры русского зарубежья — резюмируют те
главные качества Бунина, признанием которых и было бы «отличие» его
Нобелевской премией: «художественность в искусстве» и «справедливое и
благородное отношение к нашему прошлому».
Письмо-номинация, в котором патриотических чувств было высказано
больше, чем упомянуто реальных литературных заслуг выдвинутого на премию
писателя, было 21 января (на перевод понадобилась целая неделя!) переслано
Э. Нобелем на собственном фирменном бланке вместе с переводом из
Нобелевского фонда на Стюрегатан, 14 по адресу Шведской академии на Шэлларгренд, 1.
На этот адрес в поддержку Бунина весь январь приходили послания от
профессоров славистики из разных университетов Европы и даже Америки;
разумеется, между ними были русские эмигранты, сумевшие получить ставки и даже
кафедры в европейских университетских центрах.
С подробным обоснованием кандидатуры И.А. Бунина выступил
ординарный профессор славистики Карлова университета в Праге, ординарный член
Чехословацкой академии наук Владимир Андреевич Францев. По-немецки
церемонно адресовавшись в «высокочтимый» Нобелевский комитет, он
подчеркивает, что для него «соответствие И.А. Бунина Нобелевской премии
несомненно». И приступает к раскрытию своего мнения:
В современной русской литературе немало значительных писателей, но только
один может быть назван подлинно великим. Мы подразумеваем Ивана
Бунина. Он стоит совершенно особняком. Он не принадлежит ни к какой
литературной школе или направлению (партии) и, превосходя всех, пользуется
влиянием и вниманием в так называемой «эмиграции», а также — в сущности — в
советской России. Если за рубежом до сих пор чаще упоминают и больше
читают других русских писателей, то это положение объясняется, очевидно, тем,
что, во-первых, лучшие произведения Бунина относятся к самому последнему
времени и, во-вторых, особенности языка и стиля в высшей степени
затрудняют их верную передачу. При этом Бунин менее всего экзотичен. Он не
гонится за эффектами. Напротив, чувство меры и формы настолько характерно
для Бунина, что его в этом отношении уместнее было бы рассматривать наряду
с величайшими мастерами формы в русской литературе, Пушкиным и
Тургеневым.
311
Уже в первом абзаце своего обращения Францев умело выделяет главное:
он говорит не о традиционности, тем более не о подражательности Бунина, а
о соизмеримости его дарования и художественного мастерства с вершинными
достижениями русской литературы, благодаря чему сам по себе крупный
современный писатель приобретает совершенно иной масштаб при уподоблении
своим великим предшественникам.
Лирик, одушевляемый «подлинно космическим чувством» любви к
природе, художник слова, владеющий редкостным богатством «красок и форм»,
«страстный путешественник», с «удивительной силой зрения» создавший
картины родной земли и далеких стран — на столь высокие оценки Францев не
скупится при упоминании о поэзии Бунина. В его новеллистике он
подчеркивает сплав публицистически заостренных реалистических впечатлений и
«подлинно художественного видения человеческих душ, глубоко укорененных в
природе и в истории». Обращаясь к теме русской деревни, Бунин следует
традициям СТ. Аксакова, И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого, «без того чтобы даже в
мелочах быть их эпигоном», — сразу оговаривается автор рекомендации, вновь
подчеркивая преемственность творчества Бунина с лучшими творениями
русской литературы. Францев выделяет особое умение Бунина через создание
самых обыденных картин погрузиться «в глубочайшие бездны человеческой
души» и показать мир «убедительно поэтически преображенным».
Образцом этого поэтического видения без сентиментального
приукрашивания, без намеренного пессимизма, но отмеченного потрясающей
правдивостью, становится повесть «Деревня», не клевещущая на русского мужика,
а неумолимо вскрывающая сосуществование в нем человека и животного.
В отличие от шведского профессора (С. Агреля), его русский коллега
чрезвычайно высокого мнения о «Деревне», соединившей в себе «социальное
полотно» с философскими прозрениями и трагической поэзией.
«Чувство неизбежной трагичности человеческого существования вообще
свойственно Бунину», — замечает Францев и в качестве примера называет
такие рассказы, как «Господин из Сан-Франциско» и «Митина любовь». Францева
потрясает то, с каким высочайшим художественным мастерством Бунин не
только изображает страсть и ее губительное воздействие на человека, но и то,
что отсутствие страсти снижает желания бунинских героев до плотских земных
отправлений. Возможно, Францев даже отчасти преувеличивает:
В мировой литературе остается непревзойденным представленное Буниным в
«Митиной любви» потрясающее изображение того, как холодный сексуальный
импульс искажает подлинную любовь и искажает душу человека. Мы
чувствуем вслед за писателем ту тонкую грань, которая отделяет подлинный трагизм
от банального счастья и будничных неприятностей.
И если шведские академики еще не прониклись мыслью, какого
выдающегося автора им следует увенчать лаврами, то эпитеты, на которые Владимир Фран-
312
цев особенно щедр в представлении последнего по времени творения Бунина,
«Жизни Арсеньева», призваны стать окончательным и бесповоротным
доводом в пользу русского писателя.
Автобиографический роман назван «вершиной литературного творчества»
Бунина. «Острая наблюдательность и пластичность в описании родины»,
отличающие это сочинение, напоминают о Гоголе и Тургеневе, и не случайно «даже
Максим Горький» назвал Бунина «крупнейшим русским писателем
современности»110. И то, что «Жизнь Арсеньева» дышит «такой жгучей и страстной
любовью к отчизне», не удивляет Францева, высказывающего крамольную мысль,
что именно эмигрантский статус писателя, его насильственный отрыв от
родины «подвиг его на подлинное художественное свершение». Именно в этом
последнем по времени сочинении зрелого писателя ему удается от «прежнего
душевного беспокойства, метафизического волнения» подняться до полной и
спокойной «душевной уравновешенности поэта, восходящего к мудрости. А
вместе с тем, — заключает Францев свое в высшей степени комплиментарное и
едва ли не убедительное обращение в Нобелевский комитет, — художественное
произведение перерастает в подлинную и возвышенную, но не притворную и
не надуманную жизненную философию».
Заметим сразу, что ничего подобного больше никто в Нобелевский комитет
не направлял. Поэма в жанре номинации, созданная В. Францевым, оказалась
уникальным в своем роде документом среди более или менее однотипных
обращений к шведским академикам.
Тогда же, в январе 1931 г., в Нобелевский комитет поступило чрезвычайно
любопытное послание от выдающегося норвежского слависта, профессора
Олафа Брока.
Несколько лет мне хотелось выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе
русского Ивана Бунина111. Поскольку, однако, я не литературовед и не считаю
110 Судя по переписке Горького и воспоминаниям современников, это высокое мнение о бу-
нинском творчестве было характерно для писателя в начале 1910-х гг. «Выньте Бунина из русской
литературы, и она потускнеет, лишится живого радужного блеска и звездного сияния его
одинокой страннической души» (цит. по: [Бабореко 1983: 181]). Или: «А лучший современный
писатель — Иван Бунин, скоро это станет ясно для всех, кто искренно любит литературу и русский
язык!» [Там же]. М. Горький так много раз повторял свою хвалебную оценку бунинского
творчества, что она воспринималась уже не без доли иронии. Так, П.А. Нилус в письме от 24.03.1915
(в откровенном дружеском послании насмешка вполне очевидна) называет Бунина «первым
писателем» и уточняет: «...по Горькому, ты первый, второй Вольный и третий, кажется, Сургучев —
так передавал Юшкевич <...»> [Там же: 230]. Сообщали Бунину высокое мнение о нем Горького
и другие его корреспонденты, ср. в письме М.А. Осоргина: «Я недавно читал, как говорит о Вас
Максим Горький перед советской аудиторией, как он, без обиняков, называет классиками (из
позднейших писателей) только Чехова и Вас. Это справедливо <...>» (РАЛ, MS. 1066/4328).
Приведем также чрезвычайно значимый вывод исследователя, полагающего, что «в
историко-литературной концепции Горького Бунин неизменно выступает как художник, завершивший своим
творчеством эпоху критического реализма в русской литературе» [Нинов 1973: 563].
111 В бунинском архиве в Лидсе хранится всего два письма от «Олафа Ивановича» Брока;
одно из них представляет несомненный интерес, хотя в нем речь не идет непосредственно о
313
себя специалистом в этой области, мне трудно дать мотивацию, которая
удовлетворила бы меня самого.
Столь строго относящийся к собственным познаниям и мнениям ученый
обычно советуется в случае сомнений с коллегой; а случай, конечно,
особенный — высоко оценивавший творчество Бунина норвежский фонетист не
мог быть уверенным, не обманывает ли его читательское чутье,
действительно ли это столь прекрасный писатель или, возможно, его подводит чтение
на языке, который он прекрасно знает, но все-таки иностранном.
Замечательно, к кому из коллег-литературоведов решил обратиться О. Брок: в своем
новогоднем послании к... копенгагенскому слависту Антону Карл грену он
высказал свое мнение, попросил совета и даже приложил «касающиеся
этого материалы». Однако вплоть до 20 января норвежский профессор
пребывал в крайнем недоумении, ибо коллега из Копенгагена, «по неизвестным
причинам», никак не отозвался на обращение Брока, и тот, волнуясь, что не
успеет со своей номинацией до 1 февраля (хотя раньше выжидал
несколько лет), просит дать ему ответ, выдвинута ли кандидатура Бунина на
Нобелевскую премию? На письме содержится успокоительная карандашная
помета, что встревоженному профессору по поручению Пера Хальстрёма,
Постоянного секретаря Шведской академии, послан ответ: «Бунин сейчас
предложен».
Олафу Броку требовалось подтверждение того высокого мнения, которое
сложилось у него о Бунине; но он оказал кандидатуре Бунина не меньшую
поддержку своим обращением к копенгагенскому коллеге, знания и вкус которого,
видимо, высоко ценил, — не подозревая о том, что именно Антон Карлгрен уже
привлечен к рассмотрению творчества Бунина самим Нобелевским комитетом
в качестве эксперта. Именно поэтому Карлгрен не получил вовремя посланного
ему на копенгагенский адрес письма: он находился в Стокгольме, и 26 января
довольный Брок благодарит библиотекаря Карла Грёнблада за столь быстрый
ответ от имени Хальстрёма и сообщает, что обнадеживающее в отношении
кандидатуры Бунина письмо от Карлгрена все-таки пришло. Однако полного
спокойствия нет, и Брок просит сообщить ему, не будет ли нарушением правил
прислать «материалы — библиографию произведений Бунина на европейских
Нобелевской премии. 12.03.1924 О. Брок отвечает на просьбу Бунина похлопотать об издании его
книг в Норвегии, сообщая, что никто не хочет рисковать и «в конце концов не вышло ничего».
Речь идет о попытке пристроить «Деревню» — «труд, который, по-моему, принадлежит
к жемчужинам литературы и освещает жизнь России как очень немногие», пишет Брок.
«Каждый год повторяю надежду, — пишет он далее, — не даст ли он просвету моим прекрасным
русским друзьям, потерявшим свою родину, свое все; до сих пор каждый год дал в этом отношении
лишь разочарование. Однако, несмотря на все дурные вести из России, не будем терять надежды
на лучшее будущее, на конец того сумасбродства, той <нрзб.> злобы, которая все еще царит
там, — на возможность возвращения к мирной, плодотворной, совместной работе всех хороших
детей родины» (РАЛ, MS. 1066/1992).
314
языках»112 — не к крайнему сроку, 1 февраля, а позже? Очевидно, ответ вновь
был положительный, потому что список переводов сочинений русского
писателя заархивирован наряду с рекомендательным письмом.
Не все рекомендатели вели столь оживленную переписку с Нобелевским
комитетом, но в каждом послании отражается личность его автора, так или иначе
стремившегося донести до шведских академиков значение бунинского
творчества, его соответствие формулировке завещания Нобеля, а значит, и
Нобелевской премии. Так, Александр Каун составляет свое обращение «Президенту
Нобелевского комитета» чрезвычайно церемонно и акцентирует внимание
адресата на том, что творчество Бунина «вдохновлено возвышенным
идеализмом и глубокой религиозностью и устремлено к более полному пониманию
жизни и человека». А. Каун, как видно, большой ценитель этикета, и потому для
него Бунин — это прежде всего член Императорской академии наук и уже
потом — «ведущий современный русский прозаик», из сочинений которого
названы только два, «Деревня» и «Жизнь Арсеньева» — «превосходнейший
образец современной автобиографической прозы».
Гораздо проще составлено обращение в Нобелевский комитет славистов
Лондонского университета:
Мы полагаем в нашем.институте, что Бунин — единственный русский
писатель, помимо Горького, кого можно считать имеющим неоспоримое
превосходство перед другими ныне здравствующими писателями старшего
поколения. Поэтому мы думаем, что он был бы весьма приемлемым кандидатом на
Нобелевскую премию по литературе.
Письмо датировано 21 января, а в самом конце месяца, 30 января, вдогонку
ему послано еще одно, подписанное уже лично Бернардом Пэрсом и пришедшее
в Стокгольм с небольшим опозданием, лишь 2 февраля. Директор Института
славянских и восточноевропейских исследований спохватился, что обращение
в Нобелевский комитет оказалось написанным в самых неопределенных тонах,
как благое пожелание, и что он «забыл высказать мнение <сотрудников>
Института, что Бунин является достойным кандидатом на Нобелевскую премию
по литературе». Мнение о Бунине своих коллег по институту Б. Пэре считает
«более или менее всеобщим, несмотря на острые расхождения среди русских в
настоящее время по политическим вопросам и пристрастиям». Лондонский
профессор подчеркивает, что уверенность его и коллег в высокой оценке
Бунина соотечественниками зиждется на точных данных, которых он, впрочем, не
приводит, как не прилагает и каких-либо критических работ о писателе. В
качестве приложения выступает автобиографическая заметка самого Бунина и
список его основных произведений — на русском языке и в переводах: «Из-за
112 По сохранившемуся в бунинском архиве в Лидсе письму от В.А. Францева можно судить,
что Бунин рассылал свои книги, библиографию их переводов и вырезки (или машинописные
копии) газетных рецензий своим потенциальным номинаторам (РАЛ, MS. 1066/5247).
315
отсутствия времени, — винится рассеянный профессор, — я вынужден
просить прощения за неаккуратность списка книг на русском языке». Видимо,
спешка было действительно чрезвычайная, ибо накропанные мелким
неразборчивым почерком Б. Пэрса странички выглядят несколько доморощенно и
создают не вполне величественное впечатление о самом выдающемся русском
писателе. Зато дело было сделано — и на стол «восемнадцати» легла очередная
номинация И.А. Бунина.
Поскольку кампания в поддержку Бунина требовала известной
организации и координации действий, а многое делалось буквально наощупь, то
некоторые казусы были неизбежны. Так, в конце января в Шведскую академию
поступило письмо от профессора Ф. Булля113 из Осло, который не без удивления
сообщил, что к нему, через посредство дочери Бьёрнстьерне Бьёрнсона,
обратились с просьбой номинировать Ивана Бунина на Нобелевскую премию по
литературе. Полученные им «по недоразумению» «бумаги» напрасно
побеспокоенный скандинавист препроводил в Нобелевский комитет и заодно испросил
разрешения переслать также неведомо зачем оказавшиеся у него шесть книг
русского автора в переводах на европейские языки. Но подобное
недоразумение осталось единичным, а кампания в поддержку бунинской кандидатуры
продолжалась в течение всего 1931 г., с новой силой вспыхнув в декабре и
продолжаясь в январе, с целью побудить Нобелевский комитет и в наступившем
1932 г. рассмотреть кандидатуру И.А. Бунина.
В марте 1931 г., с большим опозданием выдвигая кандидатуру Бунина на
текущий год, в Нобелевский комитет обратился известный знаток русской
литературы Этторе Ло Гатто. Трудно сказать, кто именно из русских литераторов-
эмигрантов подвиг ведущего итальянского литературоведа-слависта на это
выступление: страстный и искренний поклонник русской словесности, он был
дружен со многими русскими писателями, совершенно разных политических
взглядов и эстетической ориентации. Автор монументальной «Истории
русской литературы» остановил свой выбор — или поддержал выбор большинства
своих друзей и коллег — на Бунине, «исключительном художнике». Ло Гатто
особенно подчеркивает в своем коротком послании тот факт, что, «по
единодушному признанию», Бунин единственный наиболее последовательный
представитель великой русской литературы и продолжатель ее классических
традиций. Ло Гатто даже отчасти предугадывает формулировку Нобелевского
комитета при присуждении Бунину премии два года спустя, и, хотя он пишет
по-английски, это не мешает ему выразить свою мысль ясно и четко:
«Присуждение Нобелевской премии, увенчивая творческое величие, уверенно
созидающее даже в ужасающих условиях эмиграции, могло бы стать признанием
ш Bull Francis (1887-1974) — норвежский литературовед, критик, историк скандинавской
литературы; исследователь творчества Б. Бьёрнсона. Как член Норвежской академии наук и
Норвежской академии языка и литературы имел право — согласно уставу Нобелевского комитета по
литературе — выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию.
316
непрерывности духовного процесса, заслужившего одобрение всего мира,
знакомого с творчеством выдающегося писателя».
Любопытный комментарий к этой номинации крупного итальянского
слависта содержится в письме жившего в Италии A.B. Амфитеатрова К.И. Зайцеву.
Поистине агентурная сеть в поддержку бунинской кандидатуры была
раскинута по всей Европе! Мало было побудить профессоров-славистов выдвинуть
писателя на Нобелевскую премию, их действия буквально контролировались
русскими эмигрантами, осевшими в той или иной стране. «В Padova навел справки
по делу И.А. Бунина, — сообщает Амфитеатров. — Этторе Ло Гатто
действительно представил в ректорат его кандидатуру, и она пошла уже в Швецию, куда
надлежит. Опоздание в сроке подачи, говорят, ничего не значит. А Ло Гатто
пишет мне, что выставляется (по слухам) также кандидатура М. Горького, и
прибавляет: "Вот был бы чудовищный скандал!" Вот уж воистину, tempora mutan-
tur, — и как быстро. Тоже невозвращенец в своем роде» (цит. по: [Русская печать
в Риге 1997, III: 69])114.
Вслед за сильно запоздавшей, но весьма авторитетной номинацией Ло Гатто
в Шведскую академию поступает еще одно письмо из Италии, из Палермо.
Однако написано оно (также по-английски) профессором античной истории и
археологии Йельского университета и «членом нескольких академий»
(признание не лишнее, ибо подтверждает право номинировать) М.И. Ростовцевым,
выдвинувшим на Нобелевскую премию «самого выдающегося из ныне
здравствующих прозаиков и поэтов Ивана Алексеевича Бунина». Подчеркивая (также и
буквально, в тексте), что Бунин — «самый выдающийся современный русский
прозаик», причем «как в самой России, так и за ее пределами», М. Ростовцев
предупреждает дошедшее до него по слухам совершенно неопределенное
желание Нобелевского комитета отметить премией кого-либо из «русских
литераторов вообще». Пространный дифирамб Бунину призван доказать неоспоримое
право именно этого русского писателя на знаменитую международную премию.
В своем творчестве он сочетает все черты, которые делают прекрасного
писателя великим: замечательный стиль — музыкальный, насыщенный,
одновременно пышный и суховатый (я не преувеличиваю, говоря, что Бунин
единственный достойный преемник величайших мастеров русского стиля, ближайшие
предшественники которого Тургенев и Чехов), стиль, стоящий совершенно
особняком, если сравнить его со стилем всех его современников; мастерство
представления, отбора и формы материала; глубокий психологический анализ;
точные жизненные наблюдения, острый взгляд, который никогда не пропустит
114 Э. Ло Гатто, лично знакомый с Горьким, побывал в СССР в 1929 и 1931 гг. Забегая вперед,
процитируем письмо Амфитеатрова тому же корреспонденту два года спустя. Радуясь
получению Буниным Нобелевской премии, писатель замечает, что «ведь это Этторе Ло Гатто уже три
года пропагандировал это присуждение через Падую, Неаполь и Римский институт, в котором
он занимает кафедру славянских литератур, — это я знаю давно и хорошо» [Русская печать в
Риге 1997, III: 47].
317
ни детали и расположит их таким образом, чтобы все вместе они сложились в
картину, которую никто читавший Бунина не забудет.
Ростовцев не считает себя компетентным специалистом в области
художественной литературы нового времени, однако не без основания замечает,
что его «занятия классической греческой и латинской литературой» дают ему
«известное право» судить современных авторов.
Я не литературный критик, я просто люблю литературу, и, как человек по
рождению и воспитанию русский, чьим языком был и остается русский, —
особенно русскую литературу. И потому я должен признаться, что никто из
современных русских писателей ни своими прежними произведениями, ни последними
сочинениями не производил на меня такого глубокого впечатления, как Бунин.
Замечательно, что Ростовцев, подчеркивая независимость своей позиции и
суждений, прекрасно осведомлен, кто из русских писателей выдвинут на
Нобелевскую премию, и, прикрываясь образом «любителя» и «горячего
поклонника» русской литературы, не только действует в поддержку Бунина, но и отводит
кандидатуры его соперников:
Я восхищаюсь некоторыми произведениями Мережковского, теоретически я
готов оценить ранние произведения Горького. Но должен признаться, что
никто из них двоих — не говоря уже о других современных русских писателях —
не совмещает в себе столько талантов, как Бунин. То есть ни у кого нет такого
блестящего стиля, как у Бунина, этого мастера русского языка, которого и
может оценить только русский.
Указав, таким образом, на невозможность для шведских академиков в
полной мере насладиться красотами бунинского стиля, а значит, и оценить его в
должной мере, рекомендатель формулирует главную цель своего к ним
обращения — «донести до комитета по Нобелевским премиям115 впечатления»
независимого русского читателя, поклонника отечественной словесности.
Ростовцев, в 1925 г. получивший ставку профессора в Йельском
университете, дважды упомянут в дневниках Буниных116 — один раз в связи с его сооб-
115 Подобная неточность представлений о том, какие институты располагают правом
присуждать Нобелевские премии, отличает многие обращения в Шведскую академию, она
характерна даже для дипломатических сотрудников, ср. донесения A.M. Коллонтай в МИД (ниже в
настоящей главе). М.И. Ростовцев, действительно признанный специалист-классик, в английском
языке допускает порой забавные описки; так, например, всего одна неверно поставленная буква
превращает «комитет по Нобелевским премиям (prizes)» в некий «комитет по ценам» — prices. В
самом тексте послания эта любопытная опечатка исправлена от руки, а обращение так и осталось
единственным в своем роде: Nobel Price Committee. Описка в какой-то мере символическая —
академики ведь и в самом деле некоторым образом «дают цену» писателю, подкрепляемую
изрядным материальным эквивалентом, да и размещается Шведская академия в бывшем здании
биржи.
116 Следует оговорить, что под «дневниками» мы понимаем не весь массив записей четы
Буниных, а лишь опубликованное М. Грин в трехтомном издании «Устами Буниных». В настоящий
318
щением о переезде из Висконсина («будет читать лекции недалеко от Нью-
Йорка» [Устами Буниных 1977-1982, II: 130]), а второй — по поводу его
знаменательных слов историка-классика о современных событиях, невольным
участником которых он стал.
«И я вспомнила в сотый раз Ростовцева, — пишет Вера Николаевна, — как
он в первый год эмиграции говорил:
В Россию? Никогда не попадем. Здесь умрем. Это всегда так кажется людям,
плохо помнящим историю. А ведь как часто приходилось читать, например:
«не прошло и 25 лет, как то-то или тот-то изменились»? Вот и у нас будет так
же. Не пройдет и 25 лет, как падут большевики, а может быть, и 50 — но для нас
с вами, Иван Алексеевич, это вечность» [Там же: 263-264]117.
Торопясь действовать в современной жизни, М.И. Ростовцев,
находившийся с научными целями в Италии, отправил свою номинацию «одного из
наиболее выдающихся русских прозаиков и поэтов, члена Российской академии» без
оглядки на хорошо известный deadline, поэтому его предложение кандидатуры
Бунина рассматривалось с номинациями на следующий, 1932 г.
Размышляя над перспективами Бунина получить Нобелевскую премию по
литературе, Н. Кульман делится с писателем информацией и своими
соображениями о кандидатурах других представителей литературы русского зарубежья.
Хотя французская поговорка и гласит, что chaque trouve toujours un autre qui
l'admire118, но кто же серьезно может говорить об Осоргине. Он и умен, и
талантлив, и боек, и дерзок, однако какой же он писатель. А кто мог представить
Куприна? Он, конечно, не чета Осоргину, но все-таки, кто его мог представить?
Впрочем, обилие русских кандидатов для нашего дела было бы, пожалуй, и не
вредно. Ведь Вас одного выставляют с разных концов Европы, и люди все
авторитетные, так что остальные кандидатуры покажутся худосочными (РАЛ, MS.
1066/3434).
Отчасти организованная, отчасти возникшая по совершенно искренним
побуждениям, поддержка кандидатуры Бунина университетскими
профессорами — знатоками русского языка и литературы — была продемонстрирована и
продолжена и в следующем году.
момент дневниковые записи ИА. Бунина, хранящиеся в Русском архиве библиотеки Лидсского
университета, находятся в процессе подготовки к новому изданию и недоступны для
исследователей.
117 Эта привычка историков мерить эпохи «мелкими» отрезками, кратными четверти века,
укоренилась уже в дореволюционной традиции, ср.: «А затем не прошло и 75 лет (после битвы на
Косовом поле в 1389 г. — Т. М), как Босния обратилась в турецкую провинцию» [О—ый 1906:
408], ср. также [Иванов-Разумник 1951: 12].
118 Всяк найдет того, кто бы им восхищался (франц.). Искаженные слова Буало: «Un sot
trouve toujours un plus sot qui l'admire» (На каждого дурака всегда найдется еще больший, чтобы
им восхищаться).
319
*
* *
Давая в 1931 г. третье и последнее заключение (актуальное для
Нобелевского комитета и в 1932, и в 1933 гг.), А. Карлгрен добавляет к своим предыдущим
разборам еще один сборник рассказов писателя, «Божье древо». Как и год
назад, «Жизнь Арсеньева» кажется рецензенту началом большого
лиро-эпического повествования о «развитии современного русского человека», оказавшегося
на историческом перекрестке, и о его судьбе: «Жить так, как жили его предки из
поколения в поколение, больше невозможно. Куда теперь ведет эта дорога?
Погибнет ли он тоже <...>?». Но, чуткий читатель и критик, Карлгрен
предсказывает, что автобиографическое повествование Бунина останется
незавершенным, что писатель не стремится развернуть масштабное историческое полотно.
И потому рецензия 1931 г. почти целиком посвящена анализу малой прозы
Бунина, анализу, основные положения и оценки которого звучат столь
убедительным доводом в пользу присуждения писателю Нобелевской премии, что не
прислушаться к ним было невозможно.
«Эскизы», «миниатюры», «блестящие стихотворения в прозе», наполненные
всевозможными запахами и звуками, оказываются в восприятии шведского
слависта мимолетными зарисовками русского типа, пейзажа, жанровой сценки,
«столь ярко освещенными, что они долгое время стоят у вас перед глазами».
Последние слова выделены нами не случайно: этот оборот представляется нам
апелляцией, возможно, подсознательной, к членам Нобелевского комитета,
черпающим сведения о творчестве русского писателя главным образом из этого
развернутого обзора с длинными цитатами (в переводе самого рецензента) и
элементами пересказа, иногда подробного. Карлгрен неизменно указывал в
своих отзывах, что Бунин художник изысканный, что его ценят избранные; в круг
таких избранников рецензент и вводит шведских академиков: он погружается в
поэтический мир бунинской новеллистики сам и увлекает за собой других.
Редкостная жизненность и свежесть бунинских рассказов кажется ему
поразительной, магия повествования, концентрирующего в себе «сгустки
дореволюционной России», завораживает: «Почти забываешь, что все это отголоски мира,
который до неузнаваемости изменился, кажется, что находишься внутри него».
Этот мир показан Буниным во всех его контрастах, смешении света и тьмы, и,
может быть, именно поэтому шведский эксперт отдает ему предпочтение и
перед Горьким, и перед Мережковским, и перед Шмелевым — перед всеми
выдвинутыми в те годы на соискание Нобелевской премии русскими писателями,
судить о творчестве которых также было доверено ему одному.
В рецензии на сборник «Божье древо» Ф. Степун писал:
Много коротких рассказов посвящено, конечно, России. Некоторые из них —
моментальные снимки с натуры, но всегда только с натуры, типически
отображающие сущность России: ее многосложный лик, ее жестокий исторический
путь. Некоторые — только легкие словесные оправы какого-нибудь острого
народного словца [Степун 1931: 488].
320
Словно отталкиваясь от оценки Степуна, Карлгрен подчеркивает, что Бунин
не создает апофеоза дореволюционной России, он пишет миниатюрные, в
полстранички «романы», рисуя Россию своей молодости — страну, к которой он
навсегда привязан и духом которой он пропитан насквозь, и поэтому он видит,
как неумолимо она неслась к катастрофе. В критическом анализе А. Карлгрена
Бунин представлен не камерным художником-лириком, а трагическим
писателем, увидевшим судьбу отечества в дальней исторической перспективе и
обладающим столь мощной силой внушения, что рецензент так подводит итог
своему разбору: «Я едва ли знаю в русской литературе что-либо более потрясающее».
Знакомый с творчеством русских гигантов, Толстого и Достоевского, и с
«новой» русской прозой, например Л. Андреевым, скандинавский профессор
славистики отдает предпочтение Бунину в утонченности и беспощадности, с
какими «он ставит своего читателя перед ужасом смерти и уничтожения»: одна из
самых главных, самых сокровенных тем Бунина не ускользнула от
проницательного взгляда рецензента («сведущего», как звучит в буквальном переводе со
шведского его официальный статус sakkunnig в отчетах Нобелевского
комитета). В «Божьем древе» Бунин поднимается на недостижимую им прежде высоту
и доводит «свое мастерство до еще большего совершенства», а дерзновенные
бунинские образы («Телячья головка», «К роду своих предков», «Божье древо»)
преображены «чистой силой волшебства».
Как часто, пересказав или даже целиком переложив на шведский язык
«блестящие маленькие стихотворения в прозе»119 Бунина, эксперт потрясенно
замечает: «Это всё». Задумываясь над природой новеллистики русского писателя,
Карлгрен полагает, что «это просто перевод в прозу» лирических картин, с
«блестяще нюансированным подбором слов и отчетливым ритмом»:
Писатель на секунду показывает русский тип, русскую ситуацию, русский
ландшафт столь ярко освещенными, что они еще долго остаются перед
глазами. Он дает читателю вдохнуть глоток русского воздуха, наполненного
разными ароматами, благоуханиями степи в весеннее утро, запахом зреющих полей,
смешанных с горьким запахом от старого тарантаса во дворе летним вечером
<...> Его поля пахнут, замечает один из современных русских писателей,
действительно русской рожью, а не эмигрантской тоской по ней. Он дает на
мгновение услышать русские звуки, словно сидишь в старой дворянской гостиной
и кто-то внезапно распахивает окно. Слышишь все то множество звуков,
которые наполняют воздух, от отголоска работы на дворе и в сараях до отголосков
119 Заметим, что в этом жанровом определении А. Карлгрен опережает многих
исследователей творчества И,А. Бунина; в уже упомянутой книге Кирилла Зайцева о писателе, в которой
много места отведено сопоставлению бунинской поэзии и прозы и проанализировано
проникновение жанрово-стилистических элементов поэзии в новеллистику, даже о «Жизни Арсеньева»
есть такое рассуждение: «Как назвать это произведение? Как определить жанр этого первого
большого бунинского творения, отвечающего по своему формальному строению заданию
романа? Может, это покажется удивительным читателю, но единственный ответ такой: перед нами
стихотворение в прозе» [Зайцев 1934: 224].
321
речи мужика, когда он с шапкой в руках заковыристо и невнятно бубнит, что
ему нужно, слышишь сам тон его голоса и с улыбкой улавливаешь в его речи
диалектные черты. Все это на редкость живо и свежо, это малые, но сильно
концентрированные дозы старой России, мощно ударяющие по всем чувствам
читателя. Почти забываешь, что все это отголоски мира, который до
неузнаваемости изменился, кажется, что стоишь посреди него120.
Однако, приподнимая тот «железный занавес», который «неумолимо
опустился теперь», и «поворачивая сцену вспять», Бунин никоим образом не
создает апофеоза ушедшей России, слишком ясно осознавая все ее темные стороны.
Объем бунинских новелл остается прежним, но это уже не лирические
миниатюры, а настоящие «романы в 10-15 строк» из жизни униженных и
оскорбленных, как, например, рассказы «Людоедка» или «Первый класс»121, о социальных
и нравственных конфликтах повседневной жизни. Но какой бы ни была Россия
бунинской молодости, он навсегда привязан к ней и стремится снова и снова
оживить ее. Даже понимая, как неумолимо двигалась страна к разразившейся
катастрофе, Бунин остается любящим сыном — видит наготу отца и стыдится
ее, но не перестает от этого меньше любить. Создавая портрет той России,
которую он знал и любил, писатель стремился к точности во всех малейших
деталях; это та единственная картина, над которой писатель, собственно, и работал
всю жизнь.
И в своей последней книге («Жизни Арсеньева». — Г. М.) он все еще сидит
перед ней с кистью в руках, чтобы отретушировать каждую мелочь, чтобы
там — добавить краску, там — наложить тень и тонкими штрихами дополнить
ту картину дореволюционной России, которую он написал раньше, уже и
раньше одну из лучших, правдивейших и наиболее художественных из тех, что есть
в русской литературе.
Для Карлгрена важно и то, как Бунин — дворянин по крови и по
воспитанию — создает облик русского мужика, насколько сильно он ретуширует
«физиономию» этой «доминирующей фигуры» крестьянской России. Эксперт
прекрасно знаком с тем «портретом крестьянина», который долгие годы
создавался в русской литературе, воспитывавшей своего читателя на
представлении, что русский мужик едва ли не «единственный настоящий человек в
Европе». Однако русская революция до основания разрушила не только старую
Россию, но потрясла и Европу, и оттого эксперт удовлетворен образом,
созданным Буниным и представляющим «вместо народа-богоносца скорее —
носителя самого сатаны, народ страшный и пугающий в своей активной
120 «Дар такого обмана, — заметил Степун, — есть высочайшая правда творчества: печать
совершенства» [Степун 1931:488].
121 Запись Бунина на полях рукописи рассказа «Солнечный удар» — «ничего лишнего» —
может восприниматься как лаконичное эстетическое кредо, воплотившееся в серии кратких
рассказов (буквально полстраницы — несколько строк), созданных в 1927-1930 гг.; оба упомянутых
А. Карлгреном относятся к 1930 г.
322
злобе»122. Правда, черной без малейших светлых оттенков краской Бунин-
художник оперировал в своих ранних рассказах, постепенно разглядывая
просветы в этом беспробудном мраке, и в его более поздних сочинениях в потоках
грязи вдруг мелькало пятнышко ослепительной чистоты, в сплошной
жестокости проступали черты мягкости, а в море глубокого цинизма не растворялись
прозрачные детские слезы.
«Иногда кажется, — замечает Карлгрен, — что ему хочется бросить кисть и
оставить попытки разгадать душу русского крестьянина». Нобелевский эксперт
видит в кажущемся «неумении» Бунина понять мужика сословную
трагическую невозможность диалога. Но как только речь заходит о художественном
мастерстве писателя, эксперт рассыпается в восторженных похвалах, пытаясь
передать своим читателям — членам Нобелевского комитета — испытываемое
им самим впечатление от бунинских образов, точнее всего передаваемое
выражением «как живой». Цитаты из «Божьего древа» и его комментированный
пересказ призваны раскрыть не только приемы и средства создания образа
русского мужика (речевая характеристика которого, полная рифмованных
замысловатых прибауток и поговорок, «совершенно непереводима»), но и саму
его натуру, сотканную из непримиримых противоречий123. Таким —
толстокожим, грубым, бесчувственным к отвратительным и жестоким сторонам жизни,
122 Между тем в критике русской эмиграции эта страстная односторонность Бунина,
особенно проявившаяся в его эмигрантском творчестве, была и подмечена, и истолкована несколько в
ином ключе, чем в очерке Карлгрена. Так, Γ.Β. Адамович, хорошо уловив природу этого «на
редкость пристрастного художника», замечал: «Мир делится для него надвое, и только одну
половину мира он признает и любит. <...> Мир разделен на светлое, простое, доброе, здоровое, бодрое,
громкое, с одной стороны, и темное, молчаливое, сложное, лживое, с другой. <...> Он любит
только Божию <...> часть мира, и среди людей — только Божиих, а не дьяволовых подданных»
[Адамович 20016: 362]. Но не одной метафизической природой художественного
миросозерцания писателя объяснялись особенности его послереволюционной прозы, как верно заметил
Ф.А. Степун: «Большевистская революция — сплошное и огульное отрицание бунинской России.
Отсюда психологически понятно, что задача изображения современности должна быть для
Бунина весьма чревата соблазнами отрицания за ней всякого смысла, а тем самым — и опасностью
художественного срыва в ее изображении» [Степун 2001: 384].
123 «Главный герой этого очерка, — пишет о «Божьем древе» С. Крыжицкий, — русский
язык, а вернее "старинный, косолапый, крупный" говор Якова Демидовича, говор бунинских
мест. "Божье древо" с точки зрения стиля единственное явление в русской литературе со времен
Гоголя и Лескова. Отношение Бунина к русскому крестьянину здесь гораздо более
благожелательное, чем оно было в пору его "Деревни"» [Крыжицкий 1972:115]. Сам Бунин, разбирая за год
до смерти архив, нашел в нем письмо от И.И. Фондаминского, переславшего ему выписку из
частного письма Ф. Степуна с мнением о «Божьем древе», которое Бунин теперь уже сам
переписывает и посылает Степуну: «"Божье древо" Бунина один из самых пленительных и самых
глубоких его рассказов. Яков Демидыч написан им совершенно изумительно. Если написать
философский комментарий ко всем его разбросанным по рассказу словам и изречениям, то выйдет
большой философский труд» [Письма Бунина к Степуну 1975:127-129]. Восприятие
нобелевского эксперта, как видим, порой весьма точно совпадает с замечаниями русских критиков и
литературоведов. К. Розенберг сразу отказалась от мысли о переводе «Божьего древа» на немецкий
язык, признаваясь в письме Бунину от 25.04.1931: «...мне бесконечно жаль, что это
действительно вещь непереводимая, эту речь передать по-немецки я не берусь» (РАЛ, MS. 1066/4786).
323
«жующим животным», и одновременно — нежным, готовым расплакаться при
виде придорожного цветка и поющим самому себе народные песни,
«исполненные самой чистой и изысканной поэзии», — представляется «русский мужик»
не только одному скандинавскому слависту, но, вероятно, всей многообразной
западноевропейской читательской аудитории Бунина. Кто этот изображенный
Буниным русский мужик — циник, похабник с лирической душой, так до конца
не ясной ни писателю, ни тонкому шведскому ценителю его прозы? «Божье
древо» несет в себе символическое истолкование русского крестьянина:
Не самый красивый экземпляр в саду у Господа Бога — живущий без ухода
дичок, согнутый ветрами и побитый бурями столетий, сжавшийся от
недостатка солнца и воздуха, но это все-таки творение Божие, которое, быть может,
создавалось с особой любовью из материала, благородство которого видно
даже в самом глубоком унижении и которого не может испортить даже
выступившая на поверхность гниль. Несмотря ни на что, на этом дереве глаз
писателя покоится с растроганным восхищением, и каким бы оно ни было, оно
составляет для него часть того странного рая, который называется Россией.
Эволюция темы русского мужика в бунинском творчестве видится
Карлгрену как отказ от истолкования народа в качестве силы враждебной не только
классу дворянства, но и разрушительной для России в целом. Если раньше
Бунину казалось, что именно мужик уничтожит столь им любимую Россию,
полагает Карлгрен, то, пройдя долгий искус крестьянской темой, когда образ
мужика и притягивал, и отталкивал его, писатель «наконец принимает его в свои
объятия», уверившись в «неотразимой красоте русской души». Шведский
славист, впрочем, относится к последнему признанию Бунина с заведомым
скепсисом, замечая, что красоту своей души русский мужик доселе очень удачно
прятал, и, видимо, «истины ради» Бунин выявляет эту красоту очень небольшими
порциями, так что она показывается «маленькими лучиками света на фоне
всеобщего пугающего мрака». Конечно, замечает Карлгрен, не разделяя бунинско-
го энтузиазма по отношению к соотечественникам, ничто человеческое им не
чуждо, однако русский человек и в самой человечности своей так ужасен, что
«большинство (европейцев. — Т. М.) радо было бы иметь его на довольно
большом расстоянии». «Крестьянин в добре и зле — немного добра и очень много
зла, — вот что получается у Бунина», — констатирует нобелевский эксперт.
И эти образы (хотя мужик в бунинском изображении и стал лучше и добрее,
нежели в прежних, главным образом дореволюционных произведениях
писателя) кажутся Карлгрену последним словом правды о русском национальном
характере, настолько живыми и правдивыми, что рядом с ними бледнеют и
превращаются в шаблоны прочие крестьянские образы русской литературы.
Укажем, далее, на такой интереснейший аспект отзыва 1931 г., как глубокое
понимание рецензентом соотношения тем любви и смерти в бунинских
произведениях. При этом Карлгрен делает совершенно верное наблюдение,
показывая, что обусловило появление новой бунинской поэтики. Исчезла не просто
324
столь любимая писателем страна, со всем ее смешением света и тьмы, — исчез
целый мир, священный для писателя, и впечатления постепенного разрушения,
а затем и катастрофической гибели всего того, что он так любил и почитал,
навсегда окрасили его жизнь и взгляды, и «погребальные колокола звучат в его
ушах, куда бы он ни шел»:
Смерть приближается! Быть может, отчасти ощущение, что Россия, которую
он так любил, была осуждена на гибель, придавало ей своеобразное обаяние.
Но так же и близость смерти придает особый, необыкновенно яркий блеск
человеческой жизни вообще. Бунин любит жизнь такой, какова она есть, в ее
богатстве добра и зла, всеми своими чувствами — глазами, ушами и полной
грудью он наслаждается радостями жизни124.
Литературно-критической проницательности А. Карлгрена и изысканности
его метафорического стиля трудно не поражаться:
Есть страницы у Бунина, исполненные чисто звериного наслаждения жизнью.
Он изображает обновление жизни весной с опьяняющим экстазом, он с
захватывающей силой описывает то, что в жизни близко весне, — молодость,
зарождающуюся любовь. Как неотразимо привлекательны, среди других, его
образы совсем юных женщин, правда, не таких одухотворенно поэтических, как
тургеневские героини* без тонкой красоты чеховских женских фигур, но
вместо этого напоенные свежим физическим очарованием набухающих весенних
почек. Однако человеческая жизнь покрыта тенью смерти и тлена. Кажется,
что сознание близости смерти усиливает чувство писателя к красоте жизни, и
его сильный жизненный инстинкт делает мысль о смерти столь ужасной.
Именно ужас смерти — тем более жуткий, что он охватывает человека перед
лицом полнокровной сияющей жизни, — вызывает в творчестве Бунина
трагические гротески, дерзкие, почти до крайности доведенные образы (как,
например, в рассказе «Телячья головка»). Карлгрен и сам мастер смелых метафор:
Говорят, что портрет Бунина напоминает Ивана Грозного, и в этом что-то есть:
глаза, исполненные ужаса, чем-то напоминают бунинские. Во всяком случае,
ужас ни на секунду не покидает его глаз, когда он в литературном творчестве
смотрит на окружающий его мир. И часто с безжалостностью Ивана Грозного
он ставит читателя перед ужасом смерти и уничтожения.
Этим неожиданным сравнением Карлгрен подчеркивает не литературный
характер модной темы смерти в творчестве Бунина, как, например, у Л.
Андреева, со справедливой ремаркой Толстого («Он пугает, а мне не страшно»). У
Бунина эта тема выстрадана, и он развивает ее так спокойно и сдержанно, что
слова его прохватывают леденящим холодом. И в сборнике «Божье древо»
Бунин возвышается до недоступных ему прежде высот, «пригвождая палицей
124 Ср. в интерпретации Ф.А. Степуна [1929: 528]: «В основе бунинского мироощущения не
лежит, а неустанно вращается некий трагический крут; предельно напряженное чувство жизни
<...>; жажда жизни и счастья, неутолимость этой жажды <...> — затем срыв, скорбь, смерть».
325
Грозного свои жертвы», целые страницы превращаются в пытку для
читателя — «столь утонченную, столь тонкими средствами, что она становится
нестерпимой, но, загипнотизированный его магической силой, не можешь
оторваться от пыточной скамьи». «К роду отцов своих», поражается Карлгрен, — это
рассказ всего в несколько страниц, которые, несмотря на внешне холодный
спокойный тон рассказчика, переполнены таким концентрированным чувством
ужаса, что у читателя захватывает дух. «Я вряд ли знаю что-либо более сильное
и потрясающее в русской литературе», — признается шведский специалист по
славянским литературам.
После такого напряженного чтения и не менее напряженного изложения
мыслей и впечатлений о прочитанном — а о силе полученного впечатления
можно догадаться по густой метафоричности экспертного очерка, невероятно
эмоционального, — страничка о «Жизни Арсеньева», буквально под занавес,
кажется написанной более равнодушно и незаинтересованно. Бунин не
оправдал надежд эксперта, высказанных годом раньше, и описание «старой
крестьянской России» представляется Карлгрену не более чем самоповторением, хотя
эксперт и признает, что на хорошо известном материале «Бунин довел свое
мастерство до еще большего совершенства», отшлифовал до еще большего
блеска свой «изысканно рафинированный стиль», до «полной виртуозности»
довел «простоту Толстого».
Обращает на себя внимание стиль самих очерков А. Карлгрена, далеких
от сухого изложения, расцвеченных пересказом избранных произведений, —
очерков эмоциональных, образных, увлекательных, щедрых на похвалы,
призванных донести до соотечественников обаяние изысканной русской прозы.
Немногие произведения Бунина разбираются рецензентом подробно: в отзыве
1923 г. — «Суходол», «Деревня», «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско» и несколько небольших новелл, в том числе «Перевал», «Ночной
разговор», «Осенью», «Я все молчу», «Братья»; в отзыве 1930 г. — «Митина
любовь», «Дело корнета Елагина», «Солнечный удар», в общих чертах — «Жизнь
Арсеньева»; и в последнем отзыве — ряд миниатюр из сборника «Божье древо».
Но созданный Карлгреном литературно-критический портрет
писателя-лирика, писателя-философа утверждает высочайший ранг Бунина как художника
слова.
Справедливости ради рецензент указывает на «несомненную
ограниченность» тем и сюжетов бунинской прозы, хотя подробно эту мысль не развивает.
Карлгрен констатирует:
Он, конечно, не гигант, в сравнении с великими русскими романистами, с их
широким охватом общечеловеческих проблем. Но он все же законный
наследник русской классики, который в своей области обогатил ее сокровищницу
новыми, не сверкающими роскошью драгоценностями, но изумительно
чистыми самородками. В творчестве Бунина полнозвучная симфония великого
русского классического оркестра звенит завершающим, быть может, чуть при-
326
глушенным, но кристально чистым, чарующим, глубоко трогающим
аккордом125.
Разумеется, Антон Карлгрен судил о зрелом уже художнике, безусловно
заслужившем мировое признание. Но суждения его относятся к тому времени,
когда еще не были созданы поздние новеллы Бунина 1930-40-х гг., многие
воспоминания, «Освобождение Толстого», книга о Чехове, вышедшая посмертно.
Тем важнее и значительнее размышления иностранного критика, своим
отзывом во многом предопределившего решение Нобелевского комитета в пользу
Бунина. При этом Карлгрен прекрасно отдавал себе отчет, что
для широкого европейского читателя творчество Бунина навсегда останется
закрытой книгой. <...> его искусство слишком утонченное, слишком
артистически рафинированное, его тона и краски слишком мягкие, чтобы привлечь к
себе внимание на мировой выставке в конкуренции с более грубыми и
сильными голосами и более яркими красками. Возможно также, что его произведения
слишком малы, чтобы не быть заставленными большими полотнами126.
Самому же Карлгрену удалось разглядеть немногие избранные миниатюры
Бунина на этой литературной «выставке» и ярко высветить при том мощном
свете, который они сами излучают, так что его утилитарные в строгом смысле
рецензии, предназначенные для нескольких академиков — филологов и
литераторов — и на долгие полвека погребенные в архивном хранении, должны, без
сомнения, учитываться в современном буниноведении как ценные эссе о
творчестве писателя.
Отзывы А. Карлгрена, написанные образным, насыщенным метафорами
языком, в который органично вплетены цитаты из «узорчатой» бунинской
прозы (Набоков), в конечном счете предопределили решение шведских
академиков. Нам кажется небесполезным перечислить тех, кто принимал решение в
годы, предшествовавшие избранию Ивана Бунина, и в результате все же
присудил ему премию.
Это старейшина тогдашнего состава Шведской академии Генрик Шюк
(Schuck; 1855-1947) — историк культуры, литературовед, занимавший
профессорские кафедры в университетах Лунда и Упсалы, академик с 1913 г.; ему
удалось переломить господствовавший эстетический подход к исследуемому
материалу в пользу конкретно-исторического анализа. Созданное им в 1880 г. в
Упсале шведское литературное общество стало, благодаря журналу «Samlaren»
(«Коллекционер»), центром изучения шведской литературы; в соавторстве с
Карлом Варбургом (Warburg) Г. Шюк написал и первую обширную
«Иллюстрированную историю шведской литературы», выдержавшую ряд переизданий.
125 За этой блестящей концовкой рецензии следует постскриптум: «О Мережковском,
который с прошлого года ничего, как мне известно, не опубликовал, мне нечего добавить».
126 Это предсказание Карлгрена буквально сбылось в 1932 г., когда Нобелевской премии был
удостоен Голсуорси, создатель многотомной «Саги о Форсайтах».
327
Фредрик Бёк (Book; 1883-1961) — шведский литературный критик и
историк литературы, один из самых влиятельных академиков. Ярый противник
А. Стриндберга и «натурализма», Бёк возглавлял литературно-критический
отдел «Свенска дагбладет» («Svenska Dagbladet») и активно влиял на
общественное мнение, его литературно-психологические этюды поражали новаторством
подхода и блестящим изложением. Его литературные интересы постепенно
уступали место все большей склонности к социально-экономическим и
политическим проблемам, а консервативные взгляды эволюционировали в сторону
пронацистских симпатий (хотя политику фашизма в отношении евреев он все-
таки осуждал). В послевоенных воспоминаниях Фредрику Бёку пришлось
оправдываться и объясняться с читателем, уважение которого ему удалось
вернуть благодаря превосходным литературным биографиям выдающихся
шведских писателей XIX — начала XX столетия — Тегнера, Хейденстама, Левертина.
Так, дебютировав в критике с утверждением литературных ценностей
прошедшего века, Бёк закончил свою литературную карьеру возвращением к столь
близкой ему эстетике давно минувшей эпохи.
ПерХальстрём (Haiström; 1866-1960) — поэт, эссеист и Андерс Эстерлинг
(Österling; 1884-1981) — поэт, переводчик, литературный критик (больше
полвека писавший для «Стокхольмс тиднинген») — были избраны академиками за
достижения в лирической поэзии в 1909 и в 1919 г. соответственно; занимали
пост Постоянного секретаря Шведской академии: Хальстрём в 1932-1940 гг.,
Эстерлинг в 1941-1964 гг. Хальстрём и Эстерлинг оказались долгожителями
Нобелевского комитета: первый заседал в нем 33 года, выступая к тому же в
роли эксперта по скандинавской, немецкой и английской литературе (из
примерно 800 экспертных заключений первой половины XX в. огромное
количество подписано Хальстрёмом [Nobelpriset i litteratur, I: XVI]; второй был членом
комитета 60 лет (1921-1981), так что история мировой литературы минувшего
столетия разворачивалась у него на глазах. Гибкость, восприимчивость к
веяниям времени Эстерлинга уравновешивала осторожный консерватизм Халь-
стрёма.
Наконец, Яльмар Хаммаршёльд (Hammarskjöld; 1862-1953) — шведский
государственный деятель, политик, профессор политики и права, член Шведской
академии с 1918 г.; отец будущего Генерального секретаря ООН и лауреата
Нобелевской премии мира 1961 г.
В 1931 г. члены Нобелевского комитета признали, что представленный
Карлгреном анализ творчества Бунина, в котором подчеркивается значение
писателя «как последнего мастера русской прозы, выражающего великую
традицию», «не оставляет никаких сомнений» в том, что предложенная кандидатура
должна стать предметом очень серьезных размышлений [Nobelpriset i litteratur,
II: 166]. «Не знающий языка оригинала читатель, — соглашаются с
неоспоримостью доводов рецензента академики, — дает убедить себя» в том, что переводы
слабо отражают подлинное мастерство писателя и что это особенно верно для
328
«столь блестящего и оригинального стилиста, как Бунин» [Nobelpriset i litteratur,
II: 166]127. Языковая преграда «не должна считаться непреодолимой» (Карлгрен
предупреждал, что переводы Бунина на французский язык дают о его
творчестве слишком слабое представление, и не питал иллюзий насчет переводов
Бунина на другие европейские языки, в том числе и на шведский), а при
присуждении премии прежде всего учитывается то, как произведения воспринимаются
в оригинале, справедливо отмечают члены Нобелевского комитета. Между тем
русское сознание — как в эмиграции, так и в современной России —
«объединено в восхищении художественным мастерством Бунина» [Ibid.].
Члены Нобелевского комитета, рассматривающие десятки кандидатур,
должны оставаться беспристрастными и объективными, и даже если в
рецензиях специалистов звучат панегирические нотки, то в заключении академиков
должны быть учтены не только положительные оценки, но и негативные
суждения. В бунинском творчестве взыскательный взгляд шведских гуманитариев не
находит «самого высшего выражения русской литературной традиции» —
аналитической глубины и всечеловеческой масштабности, присущей русской
романистике XIX в.
Даже когда в «Жизни Арсеньева» писатель раскрывает свои собственные
переживания, во всем чувствуется известная неопределенность и отсутствие ярких
фигур персонажей, значительных сюжетов и содержательных судеб. Бунин —
лирик и мыслитель, ему нелегко разрушить некоторую самоизоляцию [Ibid.:
166-167].
Таким образом, верность традициям, на которую так настойчиво указывал
Карлгрен, не кажется проницательным членам Нобелевского комитета прямым
продолжением повествовательных традиций русского реализма! Но зато они с
изумительной верностью уловили преданность русской литературной
традиции в самом пафосе творчества Бунина — в его гуманистической
направленности, в страстной проповеди любви к человеку и народу перед лицом хаоса
разрушения и смерти. Лиризм произведений Бунина «проистекает из неиссякаемой
любви к русской земле, и его глубокая мысль все время возвращается к
русскому народу, к мужику128. Он словно ищет заговорных слов, чтобы с помощью их
магии выявить его сущность» [Ibid.: 167]. Вместе с тем именно обращение к
исследованию характера русского мужика, русского человека с наибольшей
очевидностью выявило сильные стороны дарования Бунина, а неумение создавать
выпуклые фигуры на просторах романного повествования оказалось
преодоленным в богатой яркими жизненными типами камерной новеллистике писате-
127 О бунинском стилевом мастерстве Карлгрен отозвался — помимо процитированных
выше оценок — как о «виртуозном», «кристально прозрачном», поражающем точным подбором
деталей и «аристократически утонченном».
128 Это русское слово не переводится на шведский, а используется в транскрипции, как всем
понятная реалия русского жизненного и социального уклада: muzjik.
329
ля. «Комитет с живейшей заинтересованностью склоняется к присуждению
премии» Бунину, отмечалось в заключении 1931 г., и члены Академии признали
«принципиальную обоснованность» [Nobelpriset i litteratur, II: 167]
предложения о награждении этого русского писателя.
Корреспонденция самого писателя тем временем ширилась, донося
отголоски той поддержки, которую начинали оказывать Бунину его хотя бы мало-
мальски влиятельные поклонники. События начала 1930-х гг. зафиксированы в
«Грасском дневнике» Галины Кузнецовой не просто фактографически точно, но
и с удачной передачей той нервной атмосферы вечного ожидания, которая
царила на вилле «Бельведер» в преднобелевскую пору.
Письмо от некоего Олейникова129, женатого на сестре Нобеля, с
знаменательной фразой о том, что он надеется на «русский обед» в будущем декабре, на
котором сможет увидеть Ив. Бунина — нобелевского лауреата.
И.А. несколько взволновался. Он, как и все мы, не позволяет себе
зарываться в мечты, которые могут не оправдаться. Но все же... [Кузнецова 1995:
206].
А Нобелевская премия легко и просто в руки Бунина не дается. И меньше
месяца спустя, в середине марта, тот же Олейников сообщает печальное
известие:
У Эм. Нобеля кровоизлияние в мозг, упал в ванной. Пока жив, но в
«течение 10-14 дней должно выясниться, сколько ему осталось доживать».
И.А. читал письмо за завтраком. С первых же строк весь покраснел и
ударил кулаком по столу:
— Нет! Вот моя жизнь! Всегда так!
И действительно, он не раз говорил, что за этот год что-нибудь непременно
должно случиться, что помешает получению премии, — или война, или еще
какое-нибудь событие. Возможная смерть Нобеля, конечно, большой удар.
Олейников очень утешает, пишет, что шансы на успех те же, но все-таки,
конечно, это уже не то [Там же: 210]130.
Однако 1931 г. стал последним не только в жизни Эмануэля (Эммануила
Людвиговича) Нобеля. Шведская академия лишилась своего «Одиннадцатого»
129 Георгий (Georg) Павлович Олейников (1864-1937) был женат на племяннице А. Нобеля,
дочери Людвига Нобеля — Марте (Martha Helena; 1881-1973), профессоре медицины,
возглавлявшей в 1915-1918 гг. военный лазарет компании «БраНобель». В бунинском архиве в Лидсе
этого письма нет; первое из сохранившихся писем Г.П. Олейникова датировано уже 1933 г.
130 То, что на родственников Нобеля возлагались какие-то особые надежды в хлопотах о
Нобелевской премии, косвенно подтверждает и письмо И.С. Шмелева И.А. Ильину от 21.10.1931:
«Когда узналось, что премию получил поэт шведский, покойный ныне, Кульман мне сообщил,
что это страшный удар для Бунина, так как Иван Алексеевич был вполне уверен в удаче: по
хлопотам массы лиц — и проф. Кульмана, — Бунин был представлен ныне, на сей год очень сильно.
Чуть ли не "семь городов" и т. д. вплоть до хлопот потомка дарителя премии, который —
потомок — поражен ударом недавно, а должен был ехать в Стокгольм и влиять...» [Переписка двух
Иванов 2000, 3:229].
330
(Elva), no номеру стула, закрепленному в зале для заседаний за каждым ее
членом. 9 октября
И.А. сам принес и прочел нам найденную им во французской газете заметку о
том, что Нобелевская премия в этом году назначается секретарю шведской
Академии, поэту, умершему в апреле этого года131. Расстройство его — для него
это удар, т. к. он больше всех надеялся на премию, — выразилось только в том,
что он пошел в город за газетами и немного возбужденнее обычного говорил:
«Ведь тут дело даже не в деньгах, — говорил он, — а в том, что пропало дело
всей моей жизни. Премия могла бы заставить мир оборотиться ко мне лицом,
читать, перевести на все языки. Если же в этом году, когда за меня было 7
профессоров с разных концов мира, и сам Массарик, глава одного правительства,
вмешался в это — не дали премии — дело кончено!» [Кузнецова 1995: 221]132.
Так заканчивался этот полный небывалого воодушевления год.
Настроение грустное. И.А. расстроен. Премию шведу дали как-то чересчур
поспешно, все газеты дивятся и не одобряют. Сегодня было письмо из
Стокгольма от Олейникова, еще ничего не подозревающего. Видно, это сделано под
шумок от Нобеля133. «Видно, надо смириться, — говорит И.А., — остаться тут на
всю зиму, работать, писать. Вот и денег совсем нет. Что же делать!».
Но именно этим последним соображением и руководствовались в тот год
шведские академики: раньше обычного срока вынесли вердикт, присуждающий
не славу, а всего лишь деньги вдове и многочисленным сиротам скромного
шведского лирика, столько лет исполнявшего должность Постоянного
секретаря академии.
131 Сообщение «Литературная премия Нобеля» было напечатано и в эмигрантской газете:
«Стокгольм, 8 октября. Шведская академия присудила литературную премию Нобеля на 1931 год
шведскому поэту Эрику Акселю Карлфельдту, умершему 8 апреля нынешнего года и
занимавшему пост постоянного секретаря Академии. Статут премии позволяет присуждать ее умершим
при условии, если присуждение премии было предложено данному лицу до его смерти. Как
известно, Академия еще в 1918 году предложила Карлфельдту литературную премию, но он по
величайшей своей скромности отказался тогда от нее. Присуждение литературной премии в
нынешнем году состоялось на месяц раньше обычного срока» (Возрождение, 9.10.1931, № 2320, с. 1).
Это шло «вразрез с традицией Академии» [Nobelpriset i litteratur, II: 170], однако § 4 Основных
положений Нобелевского комитета по литературе не противоречил присуждению премии
писателю, обоснованно выдвинутому на премию до его ухода из жизни. Хотя члены Академии
постарались огласить правила, которыми они руководствовались (и которые, с незначительной
неточностью — Карлфельдт был впервые номинирован в 1919 г., — цитирует русская пресса), это
решение вызвало столь бурное обсуждение, что прецедент так и остался единственным.
132 Все хранящиеся в Шведской академии номинации Бунина за 1931 г. упомянуты нами
выше; хлопоты президента Чехословакии Т. Масарика никак не отражены в архиве. Именно в
1930-е гг. чешская интеллигенция — писатели, филологи, политические деятели страны —
объединилась в желании добиться Нобелевской премии по литературе для своего выдающегося
соотечественника Карела Чапека (см. [Блюмлова, Блюмл 1999: 112-119; Марченко 2002: 209-221].
133 Эта запись, кстати, иллюстрирует тот факт, что семья Нобелей на присуждение премий
не могла оказывать влияния.
331
Однако эмиграция уже несколько лет жила общим ожиданием, и очередное
невнимание к представителям русской литературы показалось на сей раз почти
оскорбительным. Общий глас озвучил В. Ходасевич в «Возрождении»:
Будем откровенны, — каждую осень, когда присуждается литературная
премия Нобеля, мы, русские, испытываем чувство обиды, которое не
увеличивается с каждым разом только потому, что ему, в сущности, уже некуда
увеличиваться. Слишком наболев, оно давно уже притупилось и постепенно
переходит в чувство привычного, но глубокого недоумения [Ходасевич 1931: 1].
Материалу одного из ведущих критиков эмиграции не случайно было
отведено место на первой странице; его статья заменяет колонку редактора,
печатается вместо анализа текущих событий и политических новостей и звучит
ламентацией от лица всего зарубежья: Нобелевская премия не была присуждена
русскому писателю «никогда, ни разу!»
В этом году наше горестное недоумение несколько тягостней, чем обычно, ибо
к нему примешано чувство разочарования. Ни от кого не тайна, что уже
несколько месяцев ходили довольно упорные слухи о предстоящем присуждении
премии одному из русских писателей-эмигрантов. Не беремся сказать в
точности, откуда пошли эти слухи и насколько они были по существу
основательны; в них, однако же, верили очень многие, что вполне понятно: хотелось
верить, что несправедливость будет, наконец, хоть отчасти исправлена.
Ходасевич не просто констатирует сложившуюся ситуацию: он анализирует
причины, которые препятствуют русским писателям получить заветную
награду. Однако прежде критик чрезвычайно корректно формулирует «чисто
литературный вопрос о том, кому именно из предполагавшихся кандидатов будет
присуждена премия», предлагая считать его второстепенным: «На кого бы
выбор ни пал, наше национальное чувство было бы удовлетворено одинаково»
[Там же].
Это мудрое заявление, прозвучавшее со страниц одной из главных газет
эмиграции, заставляет более осторожно судить о сложном и противоречивом
литературном процессе в русском зарубежье, чем это делают некоторые
современные исследователи. Несмотря на известную партийность эмигрантской
печати и на приверженность разных партий своим фаворитам, вряд ли стоит
судить о кампании в поддержку кандидата на Нобелевскую премию от русской
литературы столь однозначно и прямолинейно:
Борьба вокруг Нобелевской премии в связи со слухами о выросших шансах
русских писателей-эмигрантов выражалась в перегруппировке и поляризации
политических связей (в то время как Бунин все сильнее сближался с лагерем
«Последних новостей», Мережковский воспринимался как официальный
фаворит кругов, поддерживавших «Возрождение»), в закулисных интригах,
в которые были вовлечены представители западноевропейской
общественности и прессы, и во все более громогласных претензиях по поводу игнори-
332
рования русской культуры Нобелевским комитетом [Русская печать в Риге
1997,11:441].
Статья Владислава Ходасевича — одна из очень немногочисленных
публикаций, посвященных теме присуждения Нобелевской премии по литературе, —
вряд ли может быть истолкована как «громогласная претензия», если таковые
вообще раздавались со страниц эмигрантской печати.
Изумившись вместе со всем миром «вручению денежной премии
мертвецу», Ходасевич предлагает избавиться от «важнейших иллюзий» (которые
неотделимы от размышлений о невнимании Стокгольма к русской литературе) и
сделать очевидный вывод: «...присуждению Нобелевской премии русским
писателям мешают причины, лежащие вне вопроса об известности и о языке»
[Ходасевич 1931:1]. Указав на ставшее трюизмом представление, что русских
писателей знают только по переводам, а в переводах они «утрачивают слишком
большую часть своего обаяния и значения», Ходасевич справедливо обращает
внимание на тот факт, что Нобелевская премия присуждена в 1931 г. автору,
«язык которого столь же мало распространен, как русский, да к тому же еще и
поэту, то есть писателю в значительной степени непереводимому»; более того —
«и вовсе до сей поры не переведенному и вряд ли кому-либо известному за
пределами его родины»134. В. чем, однако, состоят те фатальные причины, по
которым обойденной премией остается именно Россия, Ходасевич не раскрывает,
лишь глухо намекая на них по принципу sapienti sat.
В отношении к премии критик был, безусловно, прав: она «не есть ни орден,
ни чин, ни звание, а просто известная денежная сумма, которая живому
писателю дает возможность плодотворно и независимо работать в будущем».
«Потерей премии» расстроены были многие эмигранты, воспринимая ее как «общее
несчастье», так что и тон получаемых Буниным писем — «нежных», «горячих»,
по определениям знакомой с ними Кузнецовой, — был сочувственный
[Кузнецова 1995: 223]. Однако ничего фатального в литературном семействе Буниных
не случилось, и даже наоборот, неудача подстегнула его главу к творчеству:
И.А. со времени получения известия о премии обложился своими «молодыми»
сочинениями и сел за работу. Вычеркивает, исправляет, надписывает. Неудачи
заставляют его крепче собираться. Это замечательная в нем черта, молодая
[Там же].
А Вера Николаевна даже и не скрывает известного удовлетворения, словно
премия — слава и богатство — должны у нее отнять ее «Яна», который,
пережив неудачу, «в хорошем настроении, уже работает. В доме приятная тишина.
Может быть, хорошо, что премия "мяукнула" — все сосредоточатся и станут
серьезно работать без всяких надежд» [Устами Буниных 1977-1982, II: 253].
134 Между тем смерть Э.А. Карлфельдта была подлинно национальной утратой: «Вся
Швеция оплакивает поэта» (Heia Sverige sörjer skalden), — утверждалось в материалах «Свенска даг-
бладет» (Svenska dagbladet, 9.4.1931, s. 1, 8-9).
333
«Все» — это не столько сам Бунин, сколько подопечные молодые писатели,
особенно, конечно, Г. Кузнецова, с которой обсуждались феерические
возможности, открываемые премией; с женой, напротив, после не оправдавшихся
чаяний, подсчитываются «доходы, расходы» и грустно констатируется, что «если
быть очень аккуратными, никуда не ездить, то можно кое-как жить,
сократившись на еде» [Устами Буниных 1977-1982, И: 252]. Вера Николаевна радуется не
только тому, что не пришлось долго мучиться ожиданием, — вести из Швеции
пришли раньше обычного срока, — но даже привычной бедности вместо
вероятных грандиозных перемен в жизни их странной семьи.
А вести из Швеции оставались «хорошими» — так, уверенность в
непременном награждении Бунина в следующем году выражал его шведский издатель
Гебер135. «Если бы не К<арлфельдт>, все шансы были бы на вашей стороне», —
заверял Бунина в своем послании французский корреспондент в Стокгольме
Серж де Шессен, делившийся с писателем слухами, ходящими в шведской
столице [Там же: 276]136. Хотя веры у Буниных «очень поубавилось» [Там же: 254],
сообщения о выходе в шведской прессе интервью, «очень умного», Шессена с
Буниным, и о публикации рецензии на «Жизнь Арсеньева», «очень
благоприятной», не могло не вселять надежд «насчет будущего года»137. Впрочем, за десять
дней до объявления Нобелевским комитетом решения 1931 г. именно
приехавший в Канны Шессен предупреждал Буниных, что о премии «ничего
окончательно не известно и до последней минуты не будет известно» [Там же: 251].
Действительно, все от них зависящее поклонники и почитатели Бунина
снова аккуратно исполнили. Вновь слова в поддержку Бунина произнесли
скандинавские слависты. Краток и непреклонен Олаф Брок: «Поскольку известно, что
в прошлом году я рекомендовал Ивана Бунина, то прошу считать меня
предлагающим кандидатуру того же писателя на Нобелевскую премию за 1932 г.», —
135 Именины И.А. Бунина 12/25 октября 1932 г. были неожиданно пышно отпразднованы
фазаном: «Сегодня получен чек от Гербера (sic! — Г. M.) в 3000 фр. за "«Чашу жизни» и другие
рассказы" на шведском языке», — записывает довольная Вера Николаевна [Устами Буниных
1977-1982,11:276].
136 Chessin, Serge de (Шершевский СБ.) — французский журналист русского
происхождения, атташе французского посольства в Швеции, стокгольмский корреспондент французского
агентства печати «Гавас». Автор нескольких книг о русском коммунизме, о Швеции, в том числе
романа «Svea» (P., 1931). В дневниковых записях Буниных его французский псевдоним пишется
либо «Шассен», либо «Шассэн».
137 Рецензия К. Бьёркмана (С. Björkman) на «роман "Юность Ивана Бунина"» (ибо «Жизнь
Арсеньева» воспринималась как автобиография писателя) и интервью с С. де Шессеном, в
котором тот эскизно набросал человеческий и творческий облик Бунина, начав с рассказа о личном
знакомстве на Капри и ошибочно назвав под конец книгу «Чаша жизни» в шведском переводе
«Хлебом жизни» (Livets bröd), были опубликованы в «Nya dagligt allehanda» десять дней спустя
после брюзгливой статьи Ходасевича (21.10.1931, s. 5). Чуть позже вышел очень тонкий разбор
«Юности Арсеньева», принадлежащий блестящему перу Ф. Бёка (Svenska dagbladet, 26.10.1931,
s. 9-10), и еще через несколько дней — восторженный отклик И. Харри под названием
«Прошедшее» на русскую «заколдованную историю» (Harrte Ivar. Det förgangna // Göteborgs handeis- och
sjöfartstidning. 30.10.1931. S. 3).
334
пишет он 30 января, по обычаю, едва укладываясь в сроки. Многоречив и
непоследователен, т. е. также верен себе, Сигурд Агрель. Однако, вновь настоятельно
предлагая присудить Нобелевскую премию «представителю русской
литературы, которую до сих пор всякий раз обходили вниманием», Агрель отстаивает
«человеческую точку зрения»: лауреатом должен стать один из русских
писателей-эмигрантов — или они, Мережковский и Бунин, должны разделить
премию. Главной заботой Агреля является творчество Мережковского, уже долгие
годы не переводившегося на шведский язык и основательно подзабытого.
В сравнении со сложной, противоречивой историософией Мережковского и
его поздними сочинениями, ценными, по мнению лундского профессора, с
чисто интеллектуальной точки зрения, произведения Бунина, которые «также
зиждятся на крепком интеллектуальном основании», «без труда могут
рассматриваться и с чисто литературной точки зрения». Как на немаловажное
обстоятельство С. Агрель указывает на то, что Бунина широко издают и читают
во враждебном эмиграции СССР. Но этот русский писатель оказался доступен
и шведской публике благодаря «многочисленным переводам». Переводчик
пересиливает в нем официального номинатора, и Агрель жалуется шведским
академикам на диктат книготорговли, которая вынудила сократить объем бу-
нинского сборника, из-за чего «несколько прекрасных новелл оказались непе-
реведенными».
«Все, написанное до сих пор Буниным, — а он также и выдающийся поэт —
очевидно ставит его имя среди европейских писателей первого ряда, —
заключает Агрель и неожиданно возвращается к своему первоначальному
предложению: — Он вполне достоин разделить премию с немного более старшим и, к
сожалению, немного более неровным Мережковским». Рассматривая на разные
лады свое предложение, Агрель оставляет, в конце концов, решение за
Нобелевским комитетом, подчеркивая, что «каждый из них по-своему очень
заслуженный писатель». Искренний и деятельный почитатель русской литературы,
горячо сочувствующий тяжелым жизненным обстоятельствам писателей-
изгнанников, высказывает справедливую мысль:
Согласно моему мнению и мнению многих других, русская литература имеет
право наконец обратить на себя внимание при присуждении премии, которая
предназначена для всех народов и основана человеком, который был очень
благодарен России.
Впрочем, Агрель предлагает еще одну «комбинацию»: подумать о
кандидатуре Горького. И вновь проявляет себя необыкновенно благородным и
бескорыстным человеком: не желая замалчивать величия творчества Горького,
Агрель поясняет, что его единоличное награждение «слишком обидело бы
русских писателей-эмигрантов и вызвало бы множество нареканий».
Кажется, в обращении Сигурда Агреля в Нобелевский комитет прозвучал
недоуменный голос всех поклонников русской литературы. Но этот голос не
335
был услышан и в 1932 г., и нетерпение — известное свойство русского
характера — уже вскипает недовольством от неторопливости шведских академиков,
возмущением, что русской литературой вновь пренебрегли. Это чувство
негодования излилось откровеннее всего в обращении в комитет йельского
профессора М. Ростовцева — члена-корреспондента Шведской академии.
Я вновь вынужден подчеркнуть, как больно для каждого русского человека то,
что русская литература никогда не была отмечена комитетом, в отличие от
литератур других народов, что является вопиющей несправедливостью в
отношении как прошлого, так и настоящего, —
не скрывает досады специалист-классик, обвиняя академиков чуть ли не в
сознательном пренебрежении русской литературой. Что касается кандидатуры
Бунина, то на сей раз Ростовцев не ограничивается превосходными оценками,
а, по-прежнему не скрывая уязвленности, заявляет, что как писатель он ни в чем
не уступает тем, кто уже стал лауреатом Нобелевской премии за минувшее
время. Но и мотивация выдвижения Бунина звучит в послании Ростовцева как
обвинение Нобелевскому комитету, обходящему наградой писателя, который
«сохраняет прославленные традиции и красоту русского литературного языка,
созданного Пушкиным, Тургеневым, Чеховым».
Это — область литературы; а в жизни между тем наступает бедность, так
драматично описанная в дневнике В.Н. Буниной, умудренной и кроткой: «При
бедности самое тяжелое— праздники» [Устами Буниных 1977-1982, II: 259].
Даже от встречи нового, 1932 года на «Бельведере» отказались, и все по тем же
финансовым соображениям: «Много стало хуже в денежном отношении, хотя,
вероятно, в будущем будет еще хуже» [Там же: 258]. Впрочем, в этих сетованиях
слышится нечто до боли знакомое — неистребимо суходольское, барское: при
содержании парижской квартиры трудно было доставать денег еще и на виллу
в Средиземноморских Альпах, на аренду время от времени жилья у самого
моря, например, в Жуан-ле-Пен; упования на премию вновь оказались
напрасными, а в ноябре выяснилось, что «за дачу 4000 фр. в декабре платить нечем»
[Там же: 255]. Приведенная цифра соответствовала примерно гонорару за
издание книги Бунина каким-либо из европейских издательств, но это издание
еще нужно было устроить...
Были и подлинные проблемы: в 1932 г. и у Веры Николаевны, и у Ивана
Алексеевича резко ухудшается здоровье, и жалобы на плохое самочувствие,
описание симптомов заболеваний в дневнике Веры Николаевны звучат
особенно удручающе, ибо касаются не только четы Буниных. Описание внешнего —
порой «страшного» — вида и хвороб их друзей-писателей, Б.К. Зайцева («вид
ужасный», «провалены щеки с румянцем») и Д.С. Мережковского («худ и
испуган», «панический вид») [Там же: 268], кажется проявлением одного общего
заболевания, единого диагноза: эмиграция. Все страдают, дела у всех плохи, все
уже очень и очень немолоды. На Нобелевскую премию, как на последнюю кар-
336
ту, поставлена, кажется, и жизнь Мережковских. В рассказе В.Н. Буниной о
поездке в Париж весной 1932 г. содержится несколько испуганная запись о
посещении дома на улице du Colonnel Bonnet, обошедшемся не без чертовщинки:
Комната З.Н. Она мила. Говорили о постороннем. Затем вошел Мережковский.
Вид его страшен. Глаза сверкают черным огнем. Сев на постель, он с места в
карьер стал снова говорить о том, чтобы «застраховаться» на случай
получения Нобелевской премии. Я сказала, что Ян едва ли согласится, что он
суеверен, да и едва ли дадут русским. Он остался недоволен. В это время влетел
черный кот, я вскочила и заспешила уйти. Все заахали, закричали [Устами Буниных
1977-1982,11:269].
Мистика, страхи, суеверие — кажется, вот-вот раздастся неумолимый голос
судьбы: «Ваша карта бита»... И черная кошка действительно вскоре пробежит
между Буниным и Мережковскими.
В начале ноября 1932 г. в газете «Возрождение», со ссылкой на французское
телеграфное агентство, сообщалось о том, что именно Мережковский
«является самым серьезным кандидатом на премию Нобеля по литературе, которая
будет присуждена на следующей неделе». Впрочем, дальше уточнялось:
«Некоторые газеты сообщают, что премия Нобеля по литературе может быть
присуждена в нынешнем году русскому писателю. Кроме кандидатуры
Мережковского, говорят также о Бунине, произведения которого переведены недавно на
шведский язык» (Возрождение, 5.11.1932, с. 1). Нетрудно представить, какие
муки ожидания испытывали оба писателя: без преувеличения, весь русский
Париж изнемогал от этой неизвестности. Кажется, общее настроение
прорывается в дневнике Веры Николаевны Буниной: «Нужно сознаться, что я не дождусь,
когда, наконец, разрешится на этот год вопрос о Нобелевской премии, — устала
ждать» [Устами Буниных 1977-1982, II: 276].
С изумительной чуткостью З.Н. Гиппиус пишет в Грасс 9 ноября 1932 г.:
Дорогая Вера Николаевна, я думаю, Иван Алексеевич очень волнуется эти дни
приставаньем всяких корреспондентов, телефонов и т. д. и вообще ожиданьем
шведских результатов, тем более, что вы сидите на горке и не все вероятности
и невероятности знаете. Мы сегодня получили из Швеции, от одного
осведомленного человека письмо, — спешу вам сказать, что шансы Ивана Алексеевича
очень велики. Из 80 (обычная путаница — на самом деле 18. — IM.) человек
жюри многие стоят за Горького, но Ивана Алексеевича выдвигает очень
влиятельная группа евреев, по словам корреспондента — большевизанствующих,
т. к. против кандидатуры Д<митрия> С<ергееви>ча они выдвигают слишком
громкий его антисоветизм.
<...> Если же, как это вероятно, получит Ив.Ал., мы испытаем138
громадную за него и за вас радость, и даже без примеси чисто человеческой зависти,
которую так легко, особенно теперь, люди друг в друге поддерживают. Но
пусть Ив.Ал. в со-радости нашей не сомневается, уж помимо всего прочего —
138 В оригинале «испытывает» — очевидная описка.
337
даже по разуму: собственно надежд Д.С. все равно не имел, а какому русскому
не радостно и не гордо, что его соотечественник оценен по достоинству? Что
же касается чувств, то верьте не верьте, а мы знаем же, что от нужды терпели
вы раньше нас, и так давно, что справедливо будете отдыхать наконец (цит. по:
[Пахмусс 2003:178-179])139.
На следующий день после отправки этого письма, в тайный коварный
умысел которого все же трудно поверить, ожидание разрешается — и вновь
приносит горечь и разочарование: «Четыре дня прошло со дня присуждения
Нобелевской премии. От Шассена письмо, в котором он выразил возмущение
академиками и стыд за них. Значит, шансы Яна были велики и только не
посмели». А за этим странным осуждением шведских академиков, решительно
ничего Бунину не обещавших и ни в чем перед ним не повинных, за констатацией
«сдержанной» реакции на огорчительное известие и даже признанием
достойного выбора («хорошо, что премия дана настоящему писателю, а не
неизвестному», «только он богат и, кажется, денег себе не возьмет» [Устами Буниных 1977-
1982, II: 277]) следует очередное сетование на отсутствие денег у них самих,
завершающееся самым, пожалуй, щемящим признанием о приметах этой
вечной бедности:
Сердцем я не очень огорчена, ибо деньги меня пугали. Да и есть у меня, может
быть, глупое чувство, что за все приходится расплачиваться. Но все же, мы так
бедны, как, я думаю, очень мало кто из наших знакомых. У меня всего 2
рубашки, наволочки все штопаны, простынь всего 8, а крепких только 2,
остальные — в заплатах. Ян не может купить себе теплого белья. Я большей частью
хожу в Галиных вещах [Там же: 277-278].
У Галины Кузнецовой записи о Нобелевской премии 1932 г. начинаются
несколькими днями раньше, и в них с еще большей силой проступает атмосфера
всеобщей взвинченности на «Бельведере», обитатели которого с невероятным
напряжением, с упованием и тоской ожидают вестей из Стокгольма. Вот Бунин
заводит разговор о Нобелевской премии, ему естественнее, да и интереснее
обсудить ее литературный аспект, но скучная проза с чинеными-перечинеными
простынями вторгается и в его монолог:
Нет, именно оттого, что мы так бедны и что эти деньги нас спасли бы, этого не
может быть. Так не бывает. Валери <Полю> будет совершенно естественно
получить ее140. Это ничего особенно не изменит в его жизни. У него и сейчас есть
отличная дешевая, довоенная квартира, шкапы из золотистого полированного
дерева, в которых множество превосходного белья... И вообще — с ним это
139 Год спустя подобным посланием Мережковские Бунина не порадуют, однако их
отношение к возможному увенчанию Бунина было в 1932 г. сформулировано и продемонстрировано.
140 Поль Валери (1871-1945) был впервые выдвинут на Нобелевскую премию в 1930 г., а в
последний раз — в год своей кончины, в 1945 г. Это был именно тот долгий период в
деятельности Нобелевского комитета, когда поэты-лирики почти не имели шансов получить награду.
338
сопрягается (писал какую-то рассудочную высокопарную ерунду), а с
Мориаком, например, не сопрягается... Ну кому придет в голову дать премию
Мориаку? [Кузнецова 1995: 262]141.
Через несколько дней, 6 ноября, даже бытовая мелочь — получение
утренних газет — способна истерзать весь дом:
Дело к назначению премии приближается. Газеты по утрам начинают
становиться жуткими. Французской утренней газеты ждем теперь с трепетом,
развертывает ее первый И.А. Воображаю себе его волнение. Уж скорей бы упал
этот удар! [Там же: 264].
Еще через два дня «ожидание известия о премии стало болезненным».
Нервы у всех натянуты как струна, мечта о Нобелевской премии превращается в
какое-то моральное самоистязание и приносит уже чуть ли не физическую
боль, которая прекращается едва ли не ко всеобщей радости:
Премию получил англичанин — Голсуорси. Я испытала настоящее облегчение,
узнав, что тайная пытка ожиданием, которой был подвергнут в течение
последней недели весь дом, кончилась. Теперь можно заняться обычными
делами, перестать тревожиться, ждать чего-то, чего все равно не дождаться нам,
русским. Да, все это вообще от лукавого, эта тревога с премией, длящаяся уже
2 года. Доказательство, что это так, то, что буквально весь дом и И.А., кажется,
больше всех почувствовали облегчение при получении известия о назначении
премии. И.А. с каким-то добрым облегченным лицом поругал шведов, мы
поговорили пять минут в столовой, и затем он пошел в свой кабинет писать
[Там же].
«Ян спасается писанием», — вторит Г. Кузнецовой В.Н. Бунина [Устами
Буниных 1977-1982, II: 278].
Словно подытоживая неутешительные результаты очередного года борьбы
за Нобелевскую премию, А. Седых публикует в рижской газете «Сегодня»
материал с безысходным названием «Нужда в русском литературном Париже». Эта
корреспонденция интересна прежде всего отражением тех слухов и разговоров,
которые ходили по «литературному Парижу», и расхожим объяснением
причин, по которым и на этот раз русского писателя обошли знаменитой наградой.
Иван Алексеевич Бунин, большую часть года живущий в Грассе, возлагал на
премию большие надежды. Еще большие надежды возлагал на нее
Мережковский, вокруг имени которого была несколько преждевременно поднята
шумиха. Во французских газетах появились его портреты и интервью; с деланой
скромностью Мережковский выражал надежду, что премия будет присуждена
«кому-нибудь из русских», — может быть, Бунину или Куприну... К сожале-
141 Франсуа Мориак (1885-1970), лауреат Нобелевской премии 1952 года, впервые был
номинирован в 1946 г. шведскими профессорами литературы. Это дважды неверное предсказание
Бунина показывает, как редко совпадают с личными расчетами, вкусами и представлениями
писателей и читателей ежегодные решения Нобелевского комитета.
339
нию, надежды его не оправдались... По сведениям, полученным теперь в
Париже, серьезные шансы из русских имел только Горький. Но он слишком уж себя
скомпрометировал эти последние годы этим своим подхалимством ко всему
советскому. Эмигрантам же премии не дали, потому что не хотелось ссориться
с большевиками. В литературных кругах русского Парижа поэтому склонны
даже заметить, что все, в общем, вышло к лучшему. Обидно, конечно, что
русская литература до сих пор не удостоилась Нобелевской премии. Но не было
основания дать ее Мережковскому, а не Бунину, и хорошо еще, что премия
досталась Голсуорси, а не Максиму Горькому, и без того уже
облагодетельствованному от большевистских щедрот [Седых 1932: 2].
Между тем единственной русской кандидатурой оставался Бунин, хотя
заключение Нобелевского комитета 1932 г. о его кандидатуре было более чем
сдержанным. В распоряжении академиков находились все те же отзывы А. Карл-
грена, уже не так сильно их воодушевлявшие; из новых произведений Бунина
им довелось ознакомиться с появившимися в шведском переводе рассказами
из сборника «Митина любовь» и вторым томом «Юности Арсеньева»142.
Переводы по-прежнему плохо убеждали строгих судей143: они без сочувствия
отмечали «тяжеловесное построение периодов» и «излишнюю словесную
расточительность» как слабые особенности расхваленного бунинского стиля,
указывали на его «литературность», порицали «разжиженность» чересчур
лирической прозы Бунина, не следующего канонам эпической повествовательной
традиции, и в итоге заявили, что большинство членов комитета «все еще не готово
поставить эту кандидатуру на первое место, впереди всех в списке этого года».
Но два члена комитета — А. Эстерлинг и Я. Хаммаршёльд — все же отдавали
предпочтение Бунину перед Дж. Голсуорси, который в результате получил
Нобелевскую премию 1932 г. Я. Хаммаршёльд выразил свое мнение в отдельном
письменном заявлении, указав, что прежде Голсуорси должны рассматриваться
кандидатуры Бунина и немецкого поэта П. Эрнста (этого кандидата горячо
отстаивал и Ф. Бёк) и что он сам видит будущего лауреата в последнем. А.
Эстерлинг «решительно ставил» имя Бунина «на первое место» [Nobelpriset i litteratur,
Π: 190].
С. де Шессен (Шершевский), возглавлявший ассоциацию иностранных
журналистов в Стокгольме, писал Бунину в декабре 1932 г.:
Могу Вам с полной уверенностью сказать, что было только два кандидата, Вы и
Galsworthy. Только никому не говорите. Из двух лучших источников могу Вам
142 «Mitjas karlek» och andra noveller. Bemynd. övers. frân ryska orig. av Sigurd Agrell. Stockholm:
Geber, 1931; Arsenjevs ungdom. Bemynd. övers. frân ryska orig. av Ruth Wedin Rothstein. Stockholm:
Geber, 1931.
143 Впрочем, и качество переводов не всегда было высоким: так, А. Каун в письме Бунину от
12.01.1927 негодовал на американское, издание «Митиной любви», полагая, что «английский
перевод исковеркал стиль оригинала, не говоря уже о многих ошибках и оплошностях», ибо сделан
был перевод «семьей "Boyd"», «русского языка совсем не знающими. Они пользовались
французским переводом» (РАЛ, MS. 1066/3194).
340
поведать, что у вас все шансы на будущее. Я в этом совершенно уверен (РАЛ,
MS. 1066/5035)144.
Новогоднее поздравление Е. Кусковой (Прокопович), далекой от
нобелевской закулисы, отражает все ту же общую надежду, общее разочарование и
новые упования: «Если б умела так писать, пожалуй, была бы счастлива
независимо от всего этого, окружающего. <...> Авось 1933-й будет к нам милостивее
(письмо от 29.12.1932, РАЛ, MS. 1066/3464).
«Безденежье. Однообразие. Неврастения» [Устами Буниных 1977-1982, II:
286] (запись Веры Николаевны), — так пришел и тянулся 1933 г. «Кризис
полный, даже нет чернил — буквально на донышке...» [Там же: 285]145. При таком
положении вещей Бунин не может не испытывать время от времени
творческого кризиса (он «в ужасе от своего писания», «в каком-то припадке тихого
отчаяния», фиксирует иногда жена писателя [Там же: 286]). Но жизнь — прекрасна,
и этот эпитет — «прекрасный» — часто появляется в осенних записях писателя,
радостно признающегося: «.. .как хорошо так жить — живу с природой, с
петухами, с чистым воздухом горным <...>» [Там же: 291]. На смену мучительным
переживаниям, отравлявшим осенние дни предыдущих лет, приходит
ощущение покоя — с которым, видимо, наконец соединилась воля и дала всю полноту
счастья, проистекавшего от того немалого — южная Франция, горы и море,
семья, любовь, творчество, — что окружало писателя с конца 1920-х гг.
Твердокаменных шведских академиков, какими они представляются
настроившимся на победу своего ставленника русским гуманитариям и
зарубежным русистам, убедить вновь не удалось, и Бунин затворился в башне из
слоновой кости146. Он больше не проситель: его рекомендатели сами дают новый залп
по штаб-квартире упрямых членов Нобелевского комитета, и незадолго до
вручения премии 1932 г., вновь ускользнувшей от русского автора, в Шведскую
академию приходит новое послание от А. Кауна, уже не столь церемонное, зато
с великолепно продуманной мотивацией выдвижения Бунина на премию и
перечислением собственных книг147, подчеркивающих его право на объективное
144 В собрании Бунинского фонда в библиотеке Лидсского университета это письмо
ошибочно датировано 21 декабря 1933 г., однако по содержанию совершенно очевидно, что оно
составлено и отослано годом раньше.
145 Одно из первых посленовогодних посланий пришло 23.01.1933 от И.П. Демидова,
сообщавшего всем обитателям «Бельведера» о сокращении в наступившем году гонораров «ввиду
общего кризиса и ввиду упадка как тиража, так, главным образом, и поступающих объявлений»
(РАЛ, MS. 1066/2190). Бедность Буниных не была ни для кого секретом: «Знаю, что Вам сейчас
очень худо живется, и чувствую, что помощи ждать неоткуда. Бессильная преданность моя и
других еще больше подчеркивает тяжесть положения и угнетенность», — писал, например,
Бунину 19.03.1933 Дон-Аминадо (А.П. Шполянский) (РАЛ, MS. 1066/2285).
146 «Бунина мне очень жаль, — делится с одним из своих корреспондентов Набоков в письме
от 23.08.1933. — Пора бы ему получить премию. Я не очень верю, что это случится, а жаль»
[Письма Набокова к Струве 2004: 154].
147 Александр Каун ограничивается тремя названиями: «Леонид Андреев: критическое
исследование»; «Максим Горький и его Россия»; «Россия при Николае II».
341
суждение о современной русской литературе. «Среди ныне живых писателей, —
уверенно постулирует Каун, — едва ли кто-нибудь превосходит Бунина как
стилиста, и в поэзии, и в прозе». Повесть «Деревня» рекомендатель считает
«наиболее горестным анализом русского крестьянства», рассказы — и прежде
всего «Господина из Сан-Франциско» — относит к «мировой классике
благодаря формальному совершенству и содержательной значимости», а в поэзии
Бунин, по мнению американского литературоведа, «приблизился к
величайшему русскому поэту, Александру Пушкину». И наконец, замечает
осведомленный Каун, «помимо литературного совершенства, произведения Бунина
преисполнены возвышенного идеализма, глубокой религиозности и всепонимания».
Что это, как не образцовая номинация на Нобелевскую премию,
дипломатически составленная с учетом известной формулировки из завещания самого
Нобеля?
И в преддверии, и с началом нового 1933 г. писем в поддержку Бунина не
становится меньше; их авторы словно заботятся, чтобы академики не забыли о
прошлогоднем постыдном промахе в отношении русского писателя. Вновь
напоминает о своем предложении терпеливый профессор из Осло Олаф Брок,
вновь спокойно, словно готовый к ведению долгой осады, пишет из Праги
корректный Владимир Францев, вновь адресуется «к восемнадцати» пылкий лунд-
ский профессор Сигурд Агрель, как и прежде, мучительно размышляющий над
идеей сделать лауреатами как можно больше русских писателей, не только
признав их заслуги, но и предоставив эмигрантам «поддержку, которая так нужна
для продолжения их литературного роста». Пропустив год, обращается в
Нобелевский комитет с номинацией Бунина лейпцигский профессор Фридрих
Браун, составлявший свое обращение 9 января 1933 г. — за три недели до прихода
к власти в Германии Гитлера и в весьма осторожных формулировках:
Если отрицательная позиция, которую Нобелевский фонд до сих пор занимал
по отношению к русской литературе, не основывается на принципиальных
соображениях, обсуждать которые я не имею права, то я позволяю себе
вернуться к моему предложению и еще раз выдвинуть кандидатуру Ивана Бунина на
Нобелевскую премию нынешнего года.
Для Ф. Брауна — ко всему прочему еще и члена-корреспондента
Королевской академии древностей (Стокгольм) — Бунин не просто «самый
значительный» из современных русских писателей, и оригинальность его состоит не
только в своеобразии, даже уникальности его литературных поисков, далеких
от сиюминутных политических дрязг и идущих в области «вечных,
вневременных вопросов». Он еще и «самый русский из всех живущих русских писателей»:
Никто лучше его не понял сущность и характер народа и не изобразил столь
беспощадно и с таким затаенным чувством его безотрадную нищету и распад;
как никому, ему удалось художественно передать глубокую печаль, которой
окутана русская жизнь.
342
С чеканностью формулы звучит убежденность лейпцигского профессора в
том, что Бунин — «последний великий писатель предреволюционной России»,
ее «последний классик». А ныне он, великий русский прозаик и прекрасный
поэт, член Российской академии наук148, «полный творческих сил», «ведет в
эмиграции тяжелую борьбу за существование». Присуждение Нобелевской
премии Бунину «возместит ему то, что он потерял на родине, — водит пером
номинатора сострадательное к изгнанникам сердце, — и одновременно
подтвердит его непреходящие заслуги перед искусством».
Уже ничто не удерживало рекомендателей от констатации «Бунин — наше
все», уже нравственное чувство всех, кому была небезразлична русская
литература, и общественное мнение эмиграции были подготовлены к
провозглашению писателя первым русским нобелевским лауреатом в области
литературы — но никогда прежде шведские академики не были настроены столь явно на
отвод бунинской кандидатуры. «Была страшная борьба <...>»,— утверждает
С. де Шессен. Выбор был непредсказуем вплоть до последней минуты, что
отразилось и в признании Шессена о сильнейшем волнении в «ожидании
результата» (РАЛ, MS. 1066/5028). Члены комитета никак не могли прийти к согласию,
отдавая свои голоса сразу нескольким кандидатам. Более того, Ф. Бёк стоял за
прямой отказ в премии Бунину, его поддержал Г. Шюк, подчеркнуто высказав
свои сомнения и воздержавшись от окончательного решения, ибо оставалась
незаконченной «Юность Арсеньева», «считающаяся самым важным трудом»
Бунина149. Остальные трое, А. Эстерлинг, П. Хальстрём и Я. Хаммаршёльд,
высказались за присуждение премии Бунину, хотя последний из перечисленных
отстаивал кандидатуру А. ди Оливейры150. Вновь, как и в прошлые годы,
мучаясь неизвестностью в Грассе, Бунин не предполагал, насколько и в этом году его
упования на Нобелевскую премию могут оказаться напрасными. К кандидатуре
Оливейры постепенно склоняются недостаточно высоко ценящие Бунина
другие члены комитета, разгорается спор, в котором могло появиться какое-либо
новое имя, и участь Бунина и в этот раз была бы незавидной. Но именно бес-
148 Обычная неточность, связанная с широкой известностью таких названий, как
Французская академия и под.; в России академия наук носила название Санкт-Петербургской
Императорской академии наук.
149 Заключительная часть «Жизни Арсеньева», «Лика», появилась в печати лишь в 1938 г.
В.Н. Бунина записала в дневнике 3 сентября 1928 г. знаменательные размышления Бунина над
возможным продолжением романа: «Он горюет, что дал такое заглавие, нужно было назвать "У
истока дней" (так им были озаглавлены переводы на некоторые иностранные языки, в частности
на шведский. — Т. М.) и писать, как "Толстой-душенька написал «Детство», «Отрочество» и
«Юность» и запнулся". — "И мне кажется, что и я больше не напишу. Ведь 17 лет не написал в
трех книгах. А 40 лет я должен написать в одной, в крайнем случае в двух... Ведь одно из двух:
либо писать кратче, а если так же — то сколько выйдет томов! Я думаю об этом денно и нощно.
Иногда кажется, что нужно оставить на время, заняться другим"» [Устами Буниных 1977-1982,
II: 184].
150 Португальский поэт Алберту ди Оливейра (1873-1940). Ни он, ни немецкий поэт Пауль
Эрнст (1866-1933), который тоже был близок к награде, так и не получили Нобелевскую премию.
343
плодная полемика заставила вспомнить о том, что Бунин уже несколько лет
подряд был на волосок от премии и большинство академиков все же
склонялось в его пользу.
Таким образом, Бунин не был назван единственным возможным и
несомненным кандидатом в заключительном отчете Нобелевского комитета за
1933 год. Но помимо пятерых его членов оставалось еще тринадцать членов
Шведской академии, от голосов которых и зависел окончательный выбор151.
Андерс Эстерлинг, непосредственный участник нобелевских диспутов тех лет,
засвидетельствовал, что «достаточное большинство» голосов было все же
собрано за Бунина в результате отсутствия более или менее единодушного
мнения по кому-либо из предложенных кандидатов:
Творчество Бунина отнюдь не многотомно, но оно содержит ряд редких по
качеству рассказов, которые достигают высочайшего уровня его
предшественников, Толстого, Чехова, Тургенева и Гончарова. Против Бунина — при всех
художественных достоинствах его стиля — могло бы возникнуть то возражение,
что его творения не отличаются ни богатством, ни мощью, а просто следуют, в
отчасти разбавленном виде, великим традициям русской повествовательной
прозы [Nobel: The Man and His Prizes 1972: 113]152.
Удивительно, что академиков вообще удалось убедить, — ведь
проницательный А. Карлгрен, находившийся под живейшим обаянием бунинской
прозы и сделавший все зависящее от него как от рецензента, предупреждал: «Для
широкого европейского читателя творчество Бунина навсегда останется
закрытой книгой». Имя Бунина широкому шведскому, да и европейскому читателю
оставалось по-прежнему неизвестным, однако решение Нобелевского
комитета, согласно А. Эстерлингу, было встречено очень сочувственно [Ibid.].
А. Эстерлинг, начинавший свой творческий путь с лирической поэзии,
всегда поддерживал кандидатуру Бунина и выступал с положительными
рецензиями на его книги в шведском переводе. Небольшое эссе «Иван Бунин»,
касающееся только тех немногих текстов писателя, которые подробно рассматриваются
и в экспертном заключении А. Карлгрена, вышло из-под пера Эстерлинга
именно в 1933 г.153
В этом этюде напрасно было бы искать каких-либо откровений о бунинском
творчестве; интересно другое — то, каким видится художественный мир прозы
русского писателя, эмигранта, писателю шведскому, его современнику, и в ка-
151 Свои фавориты были, естественно, и у них. Тот же С. де Шессен получил информацию,
что Вернер фон Хейденстам (шведский поэт, академик, нобелевский лауреат 1916 года) «страшно
хлопотал в пользу грека» (РАЛ, MS. 1066/5028); имеется в виду греческий писатель Костис Пала-
мас (1859-1943).
152 Заметим, что А. Эстерлинг пересказывает содержание заключения Нобелевского
комитета, касающееся творчества И.А. Бунина.
153 Это эссе включено в наиболее полное собрание литературно-критических выступлений
Эстерлинга, см. [Österling 1961: 147-153].
344
ком общелитературном европейском контексте. Эстерлинг сумел нащупать
сокровенный нерв творчества писателя, ранние произведения которого на Западе
традиционно связывали с тургеневскими «дворянскими гнездами» и их
запоздалой идеализацией. Это — ностальгия по минувшему и поиски утраченной
России, начинавшиеся задолго до русских революций, еще в конце XIX
столетия. Если признать верной метафорическую формулу шведского писателя о бу-
нинской новеллистике рубежа веков — «отблеск заката в мертвых окнах», то
послеоктябрьская судьба Бунина кажется совершенно логичным завершением
его четвертьвекового восприятия России, в которой дворянство перестало
играть ведущую роль и постепенно сошло с государственной сцены. Эстерлинг
воспринимает творчество Бунина более контрастно, чем оно было на самом
деле, видя в нем исключительно обиженного революцией представителя
дворянского класса и полагая, что уже события 1905 г. лишили Бунина последних
иллюзий. «Отныне диагноз Бунина ясен», — не сомневается Эстерлинг,
подозревая, что под «явной маской сострадательного и объективного наблюдателя»
скрывается «сильнейшее отвращение». Несмотря на отсутствие какого-либо
сочувствия к мужику, на сгущение самых мрачных картин в «Деревне»,
Эстерлинг склонен считать Бунина «последним писателем, который осмелился
сказать правду о мужике» [Österling 1961: 148].
Шведского критика даже потрясает, каких только грехов не ставит Бунин в
вину русскому крестьянству, обленившемуся и развратившемуся за тысячу лет
настолько, что никого нет хуже него на свете, так что даже герои романа Э. Золя
«Земля» кажутся «совершенно терпимыми по сравнению с бунинскими».
Однако страшна взаимная вина, но далеко не так остро звучат инвективы Бунина
дворянству, в том числе и в «Суходоле», — дворянству, «тысячу лет»154
унижавшему и притеснявшему того самого мужика, на которого Бунину не жалко
самой черной краски, так что поначалу потрясенный, в частности, «неумением
русских баб испечь хороший хлеб» шведский писатель в конце концов
содрогается от нарисованных Буниным кошмаров этой «степной геенны». Ставшая
достоянием европейского читателя в переводах на разные языки, в том числе и
на шведский, «Деревня» оказалась одним из классических произведений,
раскрывающих «подлинную» сущность русского мужика, а после революции — и
русского человека в целом. Когда в расистской теории Третьего рейха
постулировались идеи о неполноценности славянства, то не шла ли при этом речь о тех
же чертах народа, которые отталкивали Бунина? Их перечислил и Эстерлинг —
«грязь и нечистоплотность, водка и сифилис, тупость и апатия, преступность и
безделье»: подобный образ русского человека, да еще нарисованный «без
малейшего сострадания» [Ibid.], во многом соотносился с давней неприязнью
Европы к своему восточному соседу — носителю сплошных пороков.
154 Эта «тысяча лет», придающая особую силу критическим построениям Эстерлинга,
является скорее символом, чем точным историческим представлением: крепостное право,
поставившее крестьян в личную зависимость от помещиков, было законодательно введено на рубеже
XVI-XVII вв., а отменено в 1861 г., просуществовав менее трехсот лет.
345
Из всех русских кандидатов на Нобелевскую премию по литературе только
творчество Бунина льстило неприязненным, извечно боязливо-враждебным
взглядам шведов на Россию: ни историософия Мережковского, отводившего
России важнейшее место в общеевропейском историко-культурном процессе и
верившего в ее пророческую миссию, ни мифотворчество Шмелева,
создававшего одухотворенный мир православной России, ни революционность
Горького, горячо верящего в преображение страны, в непочатые громадные силы
русского человека, — все эти образы России, сильной и прекрасной, не
удовлетворяли готовым представлениям о ней. Именно Бунин, художник
исключительного мастерства, с его экстатической «любовью-ненавистью» к родине,
высказывал самые неутешительные слова о ней и делал самые мрачные прогнозы.
Даже его редкое в русском писателе дарование стилиста интерпретировалось с
нужной позиции, даже особенности архитектоники его произведений —
например, «Деревни» — подтверждали главную идею:
Возможно, «слабая» композиция — всего лишь художественное средство,
которое позволяет создать ощущение безнадежности и во всяком случае
усиливает жуткое воздействие общей картины, когда несчастье то ли закончилось,
то ли только начинается [Österling 1961: 149].
«Мастерство Бунина в мрачных тонах», однако, не так отталкивающе
страшно в «Суходоле», повествование которого шведский критик сравнивает с
«аккордом на протяжно, усиленно вибрирующих струнах» [Ibid.: 151]. А более
поздние произведения писателя привлекают европейца почти исключительно с
формальной стороны: Эстерлинг потрясен, как короткая новелла, с ее
неизбежным требованием «известной точности и нюансировки», позволяет Бунину
достичь «ощущения масштабности, которым он временами наполняет столь
малый размер» [Ibid.]. Однако тематика бунинских рассказов не кажется
образованному шведу столь же оригинальной и новаторской: «Нужно просто
вспомнить, не встречались ли некоторые из новелл из "Митиной любви" в
современной литературе. Достаточно просто сравнить с превосходным произведением
Томаса Манна того же размера; неврастеник Митя, который не может вынести
краха любовных иллюзий и отвергает суррогат, может, между прочим, во
многом рассматриваться как несчастный славянский кузен Тонио Крёгера» [Ibid.:
152]155. Суждение не вовсе лишенное справедливости — Бунин не был
создателем типов: его искусство, причудливо соединившее в себе реалистические
тенденции с модернистскими, скорее разрушало целостные типы русской
литературы предшествовавшего столетия, а большинство рассказов зрелого Бунина
одушевлены индивидуальным, пронзительно лирическим переживанием, а
никак не единой картиной мира.
155 Сам Т. Манн расценивал «Митину любовь» как «прекрасный юношеский роман» («den
schönen Jugend-Roman») и, перечитывая его в апреле 1934 г., вновь восхищался «исполненным
поэзии здоровьем и классической русскостью» полюбившейся ему повести (цит. по: [Mann 1977:
439]).
346
Именно о подобной эволюции творчества Бунина в послереволюционную
пору и рассуждает Эстерлинг. «Его горький и агонизирующий реализм не
сдается окончательно; он прошел через очистительный фильтр смирения»
[Österling 1961: 152]. Речь идет о смягчившемся, гораздо менее одностороннем
взгляде на русского мужика, о повествовательной тональности
автобиографической «Жизни Арсеньева», «самого значительного» сочинения писателя.
Знакомые по ранним книгам мотивы и образы России преображаются в
«магическом растворе боли и нежности», и критик замечает, с каким совершенством и,
пожалуй, исчерпанностью Бунин воспроизводит свои давние подлинные
впечатления и переживания, «и в этой области он непревзойденный поэт в прозе
(prosapoet)». «Есть что-то декадентское в его ощущении жизни», — полагает
Эстерлинг, объясняя это врожденной «дворянской слабостью», своего рода
«расовым признаком», и вспоминает в этой связи стихотворные строчки Г. Гессе о
«больном художнике» [Ibid.: 153]. Бунин не создал никаких крупных
общечеловеческих образов, подобно великим русским писателям,
но какой современный писатель выстоит с поднятой головой рядом с ними,
как он со всей своей ограниченностью; он обладает высочайшим талантом,
если угодно — он гениальный специалист. Вся завершившаяся традиция
отозвалась в его творчестве, кратко, но отчетливо и задушевно [Ibid.].
Не этими ли словами были убеждены шведские академики, не эта ли идея о
завершении классической русской традиции в творчестве Бунина легла в
основу финальной формулировки заключения Нобелевского комитета 1933 г.? И
несмотря на это в высшей степени высокое мнение о творчестве Бунина, не
отравлено ли оно предрассудками по отношению к восточному соседу, порой
могущественному, порой лежащему в развалинах, но неизменно путающему и
отталкивающему громадой территории, чуждостью религиозных воззрений и
никогда не ведомыми устремлениями варварского народа, полного творческих
сил и взрывной энергии? Премия, которую в конце концов получил Бунин, не
была ли ему дана прежде всего за резко критическое изображение страны,
которую он так любил? Забегая вперед, приведем одно проницательное замечание
И.С. Шмелева: принимая награду и светски любезно благодаря за нее Швецию
и — за приют в изгнанничестве — Францию, Бунин не упомянул о России —
«Матерю-то и забыл» (цит. по: [«Парижский философ из русских евреев» 1997:
575]). Но прав тот же Шмелев, так оценив значение этой Нобелевской премии и
для русского зарубежья, и в отношении к русской литературе в целом:
Правда, наша «русская тройка Словесности» давно облетела мир (мыслящий),
с победной гремью колокольцев и бубенцов, с ямщиком — чудом Пушкиным,
с крепкими седоками — Гоголем, Толстым, Достоевским, с поддужными
Тургеневым, Лесковым, Чеховым, Гончаровым... Но не было удостоверено сие
протоколом для мировой улицы. Ныне, в черном обмирании русском, вдруг
на всю улицу зазвенело — вот она, русская словесность, победная! Конечно,
347
в оброшенности-то нашей даже этот Стокгольмский (случайный, конечно, ибо
динамитный!) протокол — явление знаменательное. Вскочил Бунин на
тройку, — в бешеном ее беге, крепко вцепился и разбудил-растревожил
колокольца, многим неслышные. И протокол составлен.
И не завистью, а проницательностью Шмелева продиктовано понимание
того, что чисто творческих заслуг для подобного «признания улицы» мало:
...для продолбления льда стокгольмского, — нам искони враждебного! —
требовалось многое-многое, помимо литературной значительности (всегда,
конечно, для тех или иных, спорной): толчков, зацепок, настойчивости,
терпения, удачи, приятности личной, всего другого. И это не упрек, не минус, — это
необходимость для писателя всякой другой страны, а для нас, нищих,
полузакопанных, нужно — счастье Поликратово и сила Тезеева [Переписка двух
Иванов 2000, 3: 413-414].
Первое присуждение Нобелевской премии по литературе русскому
писателю стало, в силу ряда причин, в том числе экстралитературных, историко-
политических, не просто выходом русской литературы за границы своего
национального мира — ведь Толстого и Достоевского, разумеется, и прежде
широко читали за пределами России. Критическое обсуждение русских
кандидатур в Шведской академии, а затем публичные дискуссии на страницах
европейских газет о личности первого русского лауреата и об особенностях его
творчества отразили характер восприятия русской литературы в зарубежном
мире, восприятие русского менталитета и — в большой степени — страны в
целом, во всем комплексе ее исторического своеобразия и
послереволюционного развития.
Некоторые современники Бунина задумывались о метафизическом смысле
международной награды, о том «общественном и нравственном значении»,
которое несло в себе присуждение первой Нобелевской премии по литературе
русскому писателю-изгнаннику [Ходасевич 1933а: 3]. 9 ноября В. Ходасевич, не
подозревая, что выбор Шведской академии уже сделан в пользу столь высоко
ценимого им писателя, посвятил свою еженедельную рубрику «Книги и люди в
Возрождении» бунинской «Жизни Арсеньева»:
Сейчас, когда в Стокгольме решается вопрос о присуждении Нобелевской
премии нынешнего года, и мне горько не только от того вообще, что до сих пор эта
премия не дана русскому, но еще и от того, что так трудно было бы объяснить
европейскому литературному миру, почему именно Бунин достоин этой
премии более, чем кто-либо другой [Ходасевич 19336: 3].
По мнению критика, главным достоинством Бунина, которое становится
неизбежным камнем преткновения в попытке познакомить с его творчеством
нерусского читателя, является язык, и потому «в полной мере оценить Бунина
можно только путем глубокого проникновения в его словесное мастерство».
348
Тут мы подходим к явлению, по существу, радостному: к непереводимости
Бунина, к той присущей ему слитности смысла и языка, которая характерна для
истинно замечательных произведений искусства вообще. Тут же, однако,
кроется и причина некоторой досады нашей: чем дороже нам Бунин, тем труднее
для нас изъяснить иностранцу, в чем заключается его значение и его сила
[Ходасевич 19336: 3].
Волнения на бунинской вилле в Грассе опять начались задолго до
судьбоносной даты, когда пришло известие из Стокгольма о присуждении
Нобелевской премии Ивану Бунину, русскому эмигранту. «Неприятный день, —
записала в дневнике В.Н. Бунина 19 октября, обнаруживая задолго начавшиеся в тот
год на «Бельведере» волнения. — Завтра присуждается премия Нобеля.
Хорошо, что в этом году мы за неделю узнали об этом, и только сегодня об ней
думали и говорили» [Устами Буниных 1977-1982, II: 292]. Бунины торопили
события, но к ноябрю активность начали проявлять и друзья, и пресса156. 4 ноября
было получено письмо из Парижа от потрясенного Б. Зайцева. Призывая
Бунина соблюдать спокойствие («Господь Тебя храни. Сдерживайся и старайся не
очень волноваться <...>»), сам Зайцев и неровным стилем, и прямым
признанием выдает собственное состояние, когда сообщает:
Дорогой друг, только что получено очень важное известие насчет тебя и
Нобелевской премии — телеграмма из Копенгагена в «Последние новости»: запрос
о твоем адресе и подданстве (насколько я понял — от Кальгрена? — во всяком
случае идет от Ноб<елевского> комитета) [Письма Зайцева к Буниным 1982,
III: 131].
Как позже выяснилось, запрос исходил действительно от Шведской
академии через посредство Антона Карлгрена, профессора славистики из
Копенгагена: «Мне пришлось тогда же телеграфно запросить редакцию "Последних
новостей" о местожительстве Бунина», — вспоминал он спустя время в интервью
корреспонденту этой газеты [Троцкий 1933а: 2]. От Копенгагена до Парижа
всех сторонников Бунина охватывает предчувствие близкого триумфа:
«Взволновались мы очень, — признается Зайцев, — ну, нечего говорить, сам
понимаешь... Просто сдерживаться приходится». Но как следовать собственному
мудрому совету, если «более чем вероятно», что Бунин вот-вот получит
«оттуда телеграмму»! Зайцев умоляет «не полениться» и тотчас сообщить ему
важную новость:
И вообще я хочу как можно раньше знать! Тут говорят все о 9-м числе. Но
после запроса впечатление такое, что все уже решено, и м. б. ты получишь весть
еще ранее, чем дойдет до тебя это письмо. Не могу писать больше ни о чем —
156 «Вчера <7 ноя6ря> нас взволновали письма: от Могилевского <В.А., сотрудника
«Последних новостей»>, Алданова, Бориса <3айцева>. В субботу пришла от Кальгрена телеграмма в
"Посл<едние> Нов<ости>", в которой он просит сообщить адрес Яна почтовый и телеграфный и
какое его подданство» [Устами Буниных 1977-1982, II: 293].
349
и только, еще раз, всем сердцем с тобой, как в тот вечер, помнишь, в «Праге»,
когда из телефонной будки звонил я в «Русское слово» о тебе — тогда была
Академия, ну, а теперь уже всесветная штука157.
Это была еще не сама весть — только предвестие. Но Зайцев торопит
события, чтобы поскорее
дать статью в «Возрождение» — т. е. написать ее, и она появится одновременно
с опубликованием в газетах (но, разумеется, никак не раньше, это уж ты
можешь быть покоен!) [Письма Зайцева к Буниным 1982, III: 131].
Однако все эти неопределенные новости только усугубили бунинские
треволнения, о чем свидетельствуют его послания М.А. Алданову (также
сообщившему о телеграмме «Кальгрена») от 6 и 7 ноября 1933 г. (опубликовано O.A. Ко-
ро<сте>левым в «Независимой газете», 9.11.1993, с. 7). В отличие от своих
парижских друзей Бунин склонен трактовать запрос о гражданстве как отказ
в присуждении премии: «Что до дела, то было оно, по-моему, очень серьезно.
Но вот оказалось, что я "réfugié"... не то что Мережковский, который, я думаю,
давно французский подданный». Бунин «взволнован», «поражен», но,
неотступно и в полном неведении — «я ведь ровно никаких известий не имел (и не
имею) насчет премии» — думая об одном и том же, проникается чувством
горячей дружеской благодарности:
.. .захотелось поскорее сказать вам обоим, как вы оба меня тронули своим
участием ко мне, но написал обоим очень невразумительно, не мог выразить той
простой мысли, что, верно, дело провалится, когда обнаружится полностью,
что я эмигрант, — хотя что было бы, если бы я был французский подданный? —
положение Нобелевского комитета, м<ожет> б<ыть>, было бы еще нелепее!
[Там же] (письмо от 7.11.1933; в публикации ошибочно напечатано «7.IX»).
А «Последние новости», с неопределенной ссылкой «по словам газет»,
сообщают 9 ноября о нескольких наиболее вероятных кандидатах на премию:
кроме Бунина, это «греческий поэт Паламас, португальский писатель Оливфе-
ра, финляндский — Саланпа и датский — Иоганнес Иенсен» (Последние
новости, 9.11.1933, № 4614, с. I)158. И — словно в насмешку — следующая
захватывающая новость: «Со вчерашнего дня во Франции стало на 16 миллионеров
больше. <.. .> Известно только, что 5 млн франков выиграл скромный
парикмахер из Тараскона» (Там же). Лотерея. Розыгрыш. Последние часы ожидания.
Да будет воля Божия — вот что надо твердить. И, подтянувшись, жить,
работать, смириться мужественно [Устами Буниных 1977-1982, II: 292].
157 Б.К. Зайцев напоминает об избрании Бунина академиком в 1909 г. и банкете в известном
московском ресторане.
158 Орфография оригинала; имеются в виду К. Паламас, А. ди Оливейра, Ф.Э. Силланпя,
Й. Йенсен.
350
То, чего так долго не хватало Бунину, — отрешенное мужество в отношении
к премии (стоит задуматься над завистью к знаменитому русскому басу!),
оказалось вдруг простым и единственно правильным. Нравственно Бунин
закалился в напрасных осенних терзаниях предыдущих лет, и потому так
удивительно достойно, с таким аристократическим благородством, без суетливости
бедняка и эмигранта, так величаво просто, почти сухо, не давая и капли
волнения выплеснуться на потребу журналистской стае, первый русский
нобелевский лауреат по литературе принял известие о присуждении ему премии.
Однако первым о решении Нобелевского комитета узнал тот, кто всей силой
своего литературно-критического таланта и журналистского
профессионализма поддерживал кандидатуру Бунина и о чьей роли в присуждении премии
в бунинском кругу почти не догадывались, — Антон Карлгрен. Свою версию
событий он поведал журналисту «Последних новостей», вездесущему И.
Троцкому:
Любопытная деталь. Шведская академия держит до последнего момента в
строжайшем секрете имя своего избранника даже от ближайших сотрудников.
Я узнал о награждении И.А. Бунина званием лауреата лишь после того, как
Академия по телефону у меня осведомилась об адресе Ивана Алексеевича. Мне
пришлось тогда же телеграфно запросить редакцию «Последних новостей»
о местожительстве Бунина. Отсюда вам станет ясным, с какой
добросовестностью и осторожностью Академия подходит к избранию лауреата
[Троцкий 1933а: 2] (далее цитируется текст с этой же страницы без специальных
отсылок).
Профессорские обязанности требовали присутствия Карлгрена в
Копенгагене: этим объясняется и обеспокоивший сотрудников «Последних новостей»
запрос не из шведской, а из датской столицы, и неучастие нобелевского
эксперта в торжествах того, за кого он «годами не уставал ратовать». Словно стремясь
наконец вывести из тени ключевую фигуру в истории присуждения Бунину
«литературного Нобеля», И. Троцкий вновь несколько раз повторит мысль о
роли Карлгрена, в том числе процитирует его личное признание: «А ведь я
боролся за Бунина несколько лет». Кстати, пользуясь возможностью, Карлгрен
не только передал свои поздравления лауреату, но и прямо подчеркнул, что
его собственный выбор, ставший выбором всей Академии, был чисто
литературным:
Лично я с Буниным не знаком, к своему огорчению, не смогу присутствовать на
его празднике. Но мне хочется, чрез посредство русской печати, передать ему
мои искренние поздравления и приветствия и сказать ему, что я продолжаю
оставаться поклонником его могучего таланта.
Однако Карлгрен продолжал оставаться прежде всего экспертом
Нобелевского комитета, и потому, вероятно, его яркий литературно-критический этюд
о Бунине так и не был напечатан, как и прочие отзывы о славянских писателях.
351
Лично я об И.А. Бунине ничего не написал, хотя ко мне со многих сторон с
этим обращались. Традиция Нобелевского комитета воспрещает докладчикам
выступать в печати со статьями о лауреатах, которых они сами выдвигали
(sic! — Т. М.). <...> Я готовлю большую работу о творчестве лауреата, но
опубликую ее лишь после того, когда стихнут торжества.
Это обещание Карлгрен не выполнил, возможно, соблюдая этические
нормы, выдвигаемые сотрудничеством с Нобелевским комитетом. На русском
языке мнение эксперта о творчестве Бунина долгие годы было известно лишь по
интервью И. Троцкого:
Вы себе не представляете, сказал мне профессор Карлгрен,— как я радуюсь
присуждению премии И.А. Бунину. Наконец-то Шведская академия
искупила грех перед русскою литературою. <...> Жаль, конечно, что у нас
творчество нового лауреата знают лишь по переводам. Я знаком со шведскими
переводами. Они очень хороши, но, понятно, далеки от оригинала. Ведь прелесть
бунинского творчества в его мастерском стиле. Нужно быть не только
литературно чутким переводчиком, но еще и художником слова, чтобы уметь
воспроизвести на чужом языке убедительную силу бунинского стиля.
«Как же сформулировала Шведская академия свое решение: за что именно
присуждена И.А. Бунину премия?» — справедливо ставит вопрос современный
исследователь [Пречисский 2003: 116]. Справедливо, ибо «в отечественных
изданиях много лет кочуют довольно нелепые переводы так называемой
"формулы присуждения", к которой Шведская академия относится с высокой
ответственностью. Не будем приводить полностью эти ошибочные переводы <...>»
[Там же]159. В.А. Пречисский прав и в другом: перевод обычно осуществлялся с
французского или английского языков, а «серьезные искажения практически
неизбежны при двойном переводе». Осуществленный вышеназванным
исследователем (совместно с В.Б. Максимовым) перевод решения Шведской
академии действительно представляется весьма удачным и должен быть, по нашему
мнению, непременно учтен в буниноведении. Нобелевская премия по
литературе была присуждена Бунину «за художественное мастерство, благодаря
которому он продолжил традиции русской классики в лирической прозе» [Там
159 Назвать разбираемую формулировку Шведской академии простой для перевода нельзя
(либо искажается «буква», либо теряется смысл), но стоит ли, подобно В.А. Пречисскому,
говорить о «недобросовестности, неграмотности переводчиков» [Пречисский 2003: 116]? В его
собственную работу вкралась досадная неточность: автор полагает, что «оригинал
нобелевского диплома Бунина» (т.е., разумеется, сам диплом!) хранится «в специально построенном
здании Русского архива Университета г. Лидса (Великобритания)» [Там же: 116]. Как ни велико
почтение исследователя к первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе, все же
следует заметить, что Русский архив является лишь частью Отдела особых коллекций (Special
Collections) библиотеки Лидсского университета (Brotherton Library), действительно
расположенной в сравнительно новом и очень удобном здании. Нобелевские диплом и медаль
Бунина выставлены в витрине при входе в библиотеку среди других особо ценных и интересных
раритетов.
352
же]160. Однако, если вдуматься, терминологически этот перевод отнюдь не
безупречен. Так, слово linje переводится не в одном из своих прямых
значений («направление», «линия»), а в гораздо более многозначном — «традиция»
(для которого в шведском языке есть точное соответствие); слово diktning
(ср. нем. Dichtung) имеет два основных значения — «поэтическое творчество,
поэзия» и «вымысел, выдумка», образование сложного слова — prosadiktning —
понадобилось для подчеркивания того, что наградой отмечена не поэзия
Бунина, а его прозаические сочинения (среди них — «Господин из Сан-Франциско»,
«Деревня», «Суходол», которые трудно отнести к собственно лирической
прозе; заметим к тому же, что не высочайшие образцы русской лирической прозы,
тем более ее традиции, стремилась увенчать Шведская академия); наконец, в
этом «наиболее близком к букве и смыслу» [Там же] переводе исчезло
определение для «художественного мастерства» Бунина: sträng означает «строгий,
суровый». Так что в буквальном переводе, хотя и требующем, естественно,
известной стилистической корректировки, окончательная формулировка из решения
Шведской академии 1933 г. гласит, что Нобелевская премия присуждается
Ивану Бунину
за строгое художественное мастерство, с которым он продолжил русскую
классическую линию в прозе.
И если эта формулировка представляется не вполне точной или удачной,
редактировать ее мы неправомочны.
9 ноября 1933 г. долгожданное известие было получено. Как это
произошло — описал и сам Бунин, и близкие ему люди; особенно выразительной
оказалась деталь, украсившая и первые газетные корреспонденции, и позднейшие
мемуары: луч ручного фонарика, ищущий во тьме кинозала и наконец
нацеливающийся на нобелевского лауреата — известие пришло всего какие-нибудь
полчаса назад161.
Был пасмурный дождливый день, не очень хороший для работы, и я
отправился в кино поблизости, в Грассе. И в самый захватывающий момент прямо на
меня упал луч карманного фонарика. Мой приемный сын Зуров, который
живет с нами, сказал, что был телефон из Стокгольма, но что моя жена не смогла
160 Ср. оригинал: «för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt den klassiskt ryska linjen i
prosadiktning» [Nobelpriset i litteratur, II: 206]. Konstnärskap лучше всего было бы перевести как
«художество», если бы это слово не было столь сниженным в русском языке.
161 «В четверг 9-го был тяжелый день: ожидание, — свидетельствует неделю спустя Г.
Кузнецова. — Все были с утра подавлены, втайне нервны и тем более старались заняться каждый своим
делом» [Кузнецова 1995:280]. Бунин, по наблюдениям мемуаристки, «как будто даже пристально
писал», признавшись накануне, «что под влиянием происходящего с какой-то "дерзостью
отчаяния" стал писать дальше» [Там же]. И только Л. Зуров, кажется, не сомневался в том, что «придет
телеграмма из Стокгольма» [Там же: 281]. Записи Г.Н. Кузнецовой [Там же: 280-294] более
подробны, чем опубликованные М. Грин выдержки из дневников В.Н. Буниной [Устами Буниных
1977-1982, II: 293-298]. См. также: [Седых 1995: 191-202].
353
хорошо разобрать и очень расстроена. Когда я добрался до дома, явился
почтальон с пятью телеграммами, и так как наша вилла лежит в стороне от Грас-
са, мне пришлось уплатить по пять франков за телеграмму. Потом принесли
еще десять. У меня было всего сто франков, а к вечеру пришло триста
телеграмм... Так началось это удовольствие (Dagens nyheter, 26.11.1933, s. 28).
Это была версия для иностранных корреспондентов. Спустя несколько
лет в заметках о Нобелевской премии Бунин виртуозно обработал вполне
заурядные события того дня, описав и пасмурное утро, и охватившие его при
спуске с горы мысли («Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю
Европы, решается и моя судьба...»), и то, как в темноте кинозала кто-то тронул
его за плечо: «Телефон из Стокгольма...». Этот «кто-то» — живущий бок о бок
Л.Ф. Зуров — не назван: может быть, то была сама судьба? Ведь «прежняя
жизнь» сразу оборвалась, и вскоре нобелевский лауреат назовет среди чувств,
пережитых им в те счастливые минуты жизни, «сожаление, что не удалось
досмотреть» фильм, «безразличное недоверие» к полученному известию и «какую-
то грусть», от которой сжимается сердце... [Бунин 1998: 396] (впервые «Записи»
лауреата о Нобелевской премии напечатаны в «Иллюстрированной России»,
7.3.1936, с. 2-3).
Однако, справедливо полагал Анатоль Франс, «одни и те же события
производят на нас разное впечатление в зависимости от того, давно они произошли
или недавно» [Франс 1959, 6: 331]. Уже «промотав» премию, лауреат смотрел на
недавнюю историю анахронично; чтобы не впасть в подобный анахронизм,
восстановим факты в хронологической последовательности. Бунин не
досмотрел картину «Бэби Сузи», о чем весьма живо поведал через несколько дней в
одном из интервью:
И вдруг вижу — Киса Куприна! И какая хорошенькая! Вот, думаю, как Киса
выросла: давно ли приехала в Париж совсем маленькой девочкой!.. И очень
заинтересовался фильмом: там кулисы мюзик-холла, все приготовляются к
выходу, сейчас откроется сцена...
В эту самую секунду, — я даже испугался, — прямо на меня фонарик
билетерши. Пришли из дому сообщить, что из Стокгольма вызывают [Городецкая
1933: 1].
«В четверть пятого 9 ноября по телефону из Стокгольма» Вера Николаевна,
остававшаяся на вилле, пока Бунин и Г. Кузнецова отправились в синема на
фильм с участием К.А. Куприной162, услышала первые звуки победных
фанфар163. «Когда новый лауреат вернулся домой, его уже ждали официальное теле-
162 За две недели до этого исторического похода в кино в газете «Возрождение» от 20 октября
на полосе «Новости кино» была опубликована большая, в полный рост фотография «русской
киноактрисы Киссы Куприной» — неожиданной вестницы бунинской победы.
163 Время сделать запись в дневнике появилось у нее лишь через несколько дней, 13 ноября
[Устами Буниных 1977-1982, II: 292].
354
графное сообщение о премии164 и телеграфная просьба об интервью, исходящая
от шведских газет» (Последние новости, 10.11.1933, № 4615, с. 1). А в общении с
русскими корреспондентами Бунин надежно защищен юмором: «Я человек не
честолюбивый, но очень самолюбивый. Не люблю срамиться, — веселился
нобелевский лауреат, рассказывая, как допытывался у ошеломленной Веры
Николаевны о звонке из Стокгольма. — Верно, еще какое-нибудь слово было.
Например: не вышло, сожалеем, дескать...» [Седых 1933а: 4]. Среди своих Бунина
буквально несло: «Обуял меня страх: нет денег», — изображал этот
великолепный актер свое положение в знаменательный вечер, когда за каждую
принесенную на грасскую гору телеграмму почтальон требовал пять франков.
Я уж думал: не уйти ли мне, как Толстому, из дому. Да вот — жена останется.
Жаль. А тут — премия на голову свалилась... Дальше подробностей никаких
не помню [Там же].
В прессе новость появилась днем позже, 10 ноября. Эмигрантские газеты
тотчас с гордостью и с оправданным перехлестом констатируют:
Теперь всероссийская известность Бунина превратилась в мировую славу. Это
большая моральная победа и русской литературы, и русской эмиграции
(Последние новости, 10.11.1933, №4615, с. 1).
Но — это не единственная сторона награды: «Лауреату вручается золотая
медаль и чек в традиционном портфеле из синей кожи». Точная сумма бунин-
ской премии — 170.331 шведская крона, или, «по курсу, несколько
колеблющемуся в последние дни», — около 715.000 французских франков (Последние
новости, 11.11.1933, № 4616, с. 1). В Париже «ощущение славы явственнее».
Поселившись в роскошном отеле «Мажестик» в районе Елисейских полей и
площади Звезды, нобелевский лауреат, именуемый прислугой «Бринобель» [Седых
19336: 2]165,
покорно следует за ливрейным лакеем и на ходу бормочет: — Боже, защити
меня от зависти, от недоброжелателей, от фотографов и журналистов.
Телефонный звонок прерывает его тихую молитву. Управляющий отелем сообщает:
— Мсье Бунина спрашивают внизу журналисты [Седых 1933а: 4].
Почти на два месяца вихрь этой славы — настоящей, долгожданной —
подхватывает Буниных и носит их по Европе, чтобы, вернувшись в теплый Грасс из
164 Текст телеграммы из Стокгольма гласил: «Шведская академия присудила Вам
литературную премию за текущий год. Благоволите сообщить, согласны ли Вы ее принять. Подробное
сообщение будет Вам прислано в ближайшие дни» (цит. по: Бунин — нобелевский лауреат.
Премия по литературе присуждена автору «Жизни Арсеньева» // Последние новости. 10.11.1933.
№4615. С. 1).
165 Слыша «Prix Nobel», французская прислуга восприняла это как титул, называя своего
ставшего знаменитым жильца из № 260 мсье Принобель (или Бринобель, что совсем смешно для
французского уха, ибо звучит как название сорта сыра).
355
заснеженной Швеции и рождественской Германии с горящими в огнях елками
и не успев еще ничего осмыслить, жена первого русского нобелевского лауреата
по литературе искренне записала в последний день уходящего, столь великого
для Бунина года: «Не знаю, как отнестись к Нобелевской премии...» [Устами
Буниных 1977-1982, II: 299].
В лице Бунина увенчивали русскую литературу — не эмигрантскую, как
казалось в то время самому писателю и как было им подчеркнуто в речи при
получении премии (см. ниже), а литературу Тургенева, Толстого, Чехова, читаемых
и ценимых на Западе, литературу Жуковского и Пушкина — писателей,
живущих более в национальном сознании, к которым духовно, художественно и
даже генетически возводил себя Бунин, литературу, многие замечательные
представители которой оставались совсем неизвестными шведским
академикам, хотя в величии ее они не сомневались. Все русские прозаики
дореволюционного поколения, имена которых были названы в качестве возможных
кандидатов на Нобелевскую премию в 1920-30-е годы, — Горький, Мережковский,
Шмелев, Бунин — не порывали связь с традициями русской повествовательной
прозы, и самый широкий спектр их преломления мы находим в произведениях
каждого из этих авторов. Творчество первого русского писателя — лауреата
Нобелевской премии стало последним этапом в поступательном движении
русской литературы на протяжении двух веков ее становления и расцвета166. И как
бы драматично ни складывался путь Бунина к международному признанию,
формально выражавшемуся для него в Нобелевской премии, какое бы место ни
отводили этому писателю в мировой «табели о рангах» и как бы ни оценивали
решение, принятое шведскими академиками в 1933 г., выбор И.А. Бунина как
первого русского лауреата престижнейшей в мире литературной премии не
может не восприниматься как проявление безупречного вкуса.
М.А. Алданов, тщательно просмотревший центральные московские
издания, удовлетворенно констатировал, что советская печать «ни одной строчкой
не отозвалась на присуждение И.А. Бунину Нобелевской премии!»
(Чествование И.А. Бунина // Последние новости. 24.11.1933. № 4629. С. 2)167.
Игнорирование столь важного для отечественной литературы события демонстрирует, как
далеко зашел конфликт «двух России», как непримиримо враждебны были в
1930-е гг. представители расколотой русской культуры. Алданов замечает:
Мы догадывались, что выбор Шведской академии не доставит большевикам
удовольствия. Но оказалось, что это для них истинное горе, неприятность на-
166 Буквально тогда же американский славист А. Пэрри отнес Бунина к «ископаемым»
литературы эмиграции, которые «слишком погрязли в русских традициях и прошлом» (см. [Шраер
2000: 130-131]).
167 Однако «Литературная газета» отдала дань и лауреату, и духу времени, прибегнув к самой
отборной стилистике: «Белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру
матерого волка контрреволюции Бунина, чье творчество, особенно последнего времени,
насыщенное мотивами смерти, распада, обреченности в обстановке катастрофического мирового кризиса,
пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев» (цит. по: [Илюкович 1992: 74]).
356
столько серьезная, что ее нужно возможно тщательнее скрыть от населения
России. Чествовать знаменитого русского писателя будет только русская
эмиграция. Это дело для нее и большая радость, и настоящий долг: долг
культурный и даже долг политический (цит. по: [Илюкович 1992: 74]).
Международное признание одного из ее представителей вызвало в русской
эмиграции чувство национальной гордости; понимая это, 3. Гиппиус назвала
Бунина «олицетворением той последней, ценнейшей части России, которую
отнять у нас уже нельзя» [Гиппиус 1933: 3].
Подчеркивая прежде всего «чрезвычайно важный» смысл стокгольмского
решения, Г. Адамович выразил надежду, что Бунин непременно будет оценен
«во всей своей мощи и прелести» [Адамович 1933а: 3]. Пожалуй, значение бу-
нинского творчества в русском историко-культурном контексте чутко осознал
малоизвестный литератор зарубежья, H.A. Цуриков (писавший под
псевдонимом Иван Беленихин) [Из воспоминаний Цурикова 2003: 162]168. То, что было
самоочевидно русскому сознанию в зарубежье, очень просто и четко
формулирует один из его представителей: «Бунин был, вероятно, последним певцом
<...> целой эпохи в жизни России». Мысль о Бунине как о «литературном
завершителе» эпохи, разумеется, не нова, но Цуриков замечательно безыскусно и
простосердечно высказался о русской литературной традиции, завершаемой
Буниным:
И я не представляю себе, что можно после него и так, как он, написать? Эта
эпоха всего в 150 лет. Ее начало описано в «Семейной хронике» и в «Детстве
Багрова-внука», середина в «Войне и мире» и «Анне Карениной», а конец — в
«Жизни Арсеньева». <...> Эта эпоха <...>, как мать-кормилица, и дала России,
а через нее всему миру целый ряд русских писателей, «ходивших по земле».
Она их создала, она их воспитала всей своей несказанной и единственной
прелестью. А они не только ее изобразили, описали, но, как люди и творцы, что
важнее, отразили в себе, воплотили ее в себе.
У Бунина смерть этой эпохи, быта, в каждой строке [Там же: 164-165].
Становится ясным, что в эпоху новую — послереволюционного беженства и
эмиграции для одной части русского народа и социалистического
строительства на родине для другой — предпочтение этого русского писателя всем его
соотечественникам было прозорливым шагом: он был единственным автором,
замыкающим «классический» XIX в., и вместе с тем свободным новатором XX в.
в области художественной прозы, впитавшим живые соки традиции и
противостоящим ее затвердевшим формам. В век, потрясающий катастрофами не
одну Россию, камерный, казалось бы, новеллист не только воплотил
трагичность современной ему эпохи и мироощущения, но и сохранил редкостную
верность вечным идеалам красоты и добра, воплощенную в ясном, строгом и
простом русском слове.
168 Некоторые досадные опечатки издания и пунктуационно-орфографическая
небрежность исправлены нами.
357
Швеция своим чередом готовилась к традиционным декабрьским
торжествам. «Шведская академия на своем заседании в четверг, 9 ноября приняла
решение присудить премию по литературе русскому писателю Ивану Бунину». На
следующий день, 10 ноября 1933 г., телеграфные агентства разнесли эту фразу
по всему миру, а все шведские газеты вынесли ее в заголовки на первых
страницах. В те же дни были названы имена лауреатов в области физики — и на фоне
незапоминающихся лиц талантливых ученых лик Бунина, надменно
устремлявшего взгляд с газетных страниц, сразу приковывал к себе внимание.
Лик — но не имя. Каждая шведская газета должна была объяснять своим
читателям, кто такой «русский писатель Бунин». Во все предыдущие годы,
сообщая о награждении Томаса Манна, Синклера Льюиса или Джона Голсуорси,
шведские журналисты писали о весьма известных в Скандинавии
литературных величинах. Сенсационность выбора Шведской академии 1933 г. состояла в
полной неизвестности Бунина в Швеции; несколько его книг, вышедших в
переводе на шведский язык, — их реклама сразу же появилась в шведских газетах
поздней осенью 1933 г. — ничего не меняли в сознании даже образованных
шведов, хорошо знакомых с произведениями Толстого, Чехова, Горького.
Дружным хором удивляясь непредсказуемому выбору Шведской академии,
приветствуя его или, реже, воспринимая в штыки, газеты с большей или
меньшей степенью приязни подхватывали весть о награждении Нобелевской
премией первого русского писателя. Сведения о нем были настолько скудны, что не
все газеты успевали даже сообщить о его эмигрантском статусе; однако почти
все, имеющие собственных корреспондентов во Франции, поспешили
отправить репортеров из Ниццы в «столицу парфюмерии» Грасс. Первые сведения о
Бунине, появившиеся на страницах шведских газет утром 10 ноября, вместе с
сообщением о сенсационном решении Нобелевского комитета, принятым
накануне, сами могли бы стать сенсацией в бунинской семье и даже во всем
русском «Городке», «Парижске», если бы там читали шведские газеты169.
169 Просмотренные нами шведские газеты довольно разнообразны по политической
ориентации; их краткая аттестация представляется нам небесполезной. «Svenska dagbladet» («Свенска
дагбладет», «Шведская дневная газета») — наиболее респектабельная буржуазная газета;
ведущий критик — профессор Ф. Бёк, чьи литературные приговоры обычно определяли дальнейшую
судьбу книги, ее успех или неуспех, и чье отношение к социализму и фашизму считалось
безупречно верным. Сходную роль играли Й. Ландквист (Landkvist) в «Aftonbladet» («Афтонбладет»,
«Вечерний листок») и С. Селандер (Seiander) в «Дагенс нюхетер» («Dagens nyheter»).
Литературные вкусы, которые отражали ведущие критики «Афтонбладет» и «Свенска дагбладет», были
сформированы реализмом предшествующего столетия, любые модернистские веяния на
страницах этих газет решительно отвергались. Более современная художественная мысль,
снисходительно и даже сочувственно относившаяся к эстетическим исканиям и веяниям эпохи,
отражалась на страницах либеральных газет, прежде всего «Дагенс нюхетер» (это ее редактором долгое
время был Антон Карлгрен) и «Göteborgs handeis- och sjöfartstidning» («Гётеборгс хандельс- ок
шёфартстиднинг»); главным редактором последней был с 1917 г. Т. Сегерстедт (Segerstedt; 1876-
1945), стоявший во главе интеллектуального сопротивления фашизму в Швеции с момента при-
358
В.Н. Бунина, обычно не отличавшаяся особо юмористическим взглядом на
вещи, описала не без гротеска одного из первых шведских репортеров —
интервьюер представился «профессором гимнастики» (в самом деле, чем еще
заниматься шведу на Лазурном Берегу?):
Он подробно расспрашивал о Яне, о его жизни с детства. Я вкратце
рассказывала. И когда дошла до его жизни в Полтаве, он оживился. Стал
расспрашивать, но в этот момент вернулся Ян из своей одинокой прогулки. И когда
услышал слово Полтава, заспешил, сказав, что был там проездом. Тут я вспомнила
о Полтавском бое... и тоже постаралась перевести разговор. Но он сказал, что
очень интересуется этим местом... Сидел долго [Бунина-Муромцева 1994: 33].
Это были первые часы счастливых переживаний, когда на душе у писателя
было, «как он сам говорил, светло и радостно» [Кузнецова 1995: 298]. А
холодным, хотя и аккредитованным на французской Ривьере шведам нелегко было
разобраться в сложных русских именах и в еще более сложных, запутанных
отношениях на бунинской вилле. Корреспондент столичной «Стокгольмской
газеты» дал настолько игривый материал, что только его смущенное признание
об удивительной склонности Бунина к юмору позволяет догадываться о том, в
каком состоянии он застал лауреата и его домашних и чего он наслушался и
насмотрелся на их вилле.
В его корреспонденции под традиционной шапкой с главной новостью дня:
«Премия по литературе — русскому Ивану Бунину» — помещен весьма
симптоматичный подзаголовок: «Бунин смеется, приедет сюда и получит премию»
(Stockholms tidningen, 10.11.1933, s. 1). То, что лауреат лично явится в
Стокгольм, было, безусловно, очень важным сообщением, потому что два года
подряд — в 1931, когда вместо речи награжденного писателя собравшиеся на
церемонии услышали речь в память о нем, и в 1932, когда не сдержал своего обещания
прибыть из Англии престарелый Джон Голсуорси, — шведы были лишены
полноценного праздника и расцвеченного подробностями газетного отчета о нем.
На сей раз праздник обещал состояться.
хода нацистов к власти в Германии. Левыми газетами были профсоюзная «Arbetaren» («Арбета-
рен») и социал-демократическая «Afton-Tidningen» («Афтон-тиднинген»). Вот какую
характеристику дает некоторым шведским газетам в донесении в Наркомат иностранных дел
A.M. Коллонтай: «Свенска Дагеблад» — наиболее крупная и влиятельная консервативная газета,
отношение к СССР корректно-враждебное; «Афтонбладет» — крайне правая газета, занимает
резко враждебную позицию против СССР; «Стокгольме Дагеблад» — умеренно-консервативная
газета, политической роли не играет; «Стокгольме Тиднинген» — недавно куплена концерном-
владельцем «Стокгольме Дагеблад», выходя самостоятельно, отличалась правыми настроениями
и враждебностью к СССР; «Дагенс Нюхетер» — леволиберальная газета, самая распространенная
в Швеции, рассчитана на интеллигенцию, имеет широкую сеть иностранных корреспондентов, к
СССР относится «прилично»; «Свенска Моргенбладет» — придерживается пацифистских и
религиозных взглядов; «Гётеборг хандельс ок шёфартс тиднинг» — наиболее хорошо поставленная
газета в провинции, либерального направления (материалы из Архива внешней политики РФ
рассекречены по запросу Дм. Черниговского, который любезно предоставил их копии автору
настоящего исследования).
359
Но что же так развеселило русского писателя?
Он принял громадную награду с воодушевлением, но спокойно. Хотя по
французскому курсу он получит приблизительно 700000 франков, он улыбается и
напоминает, что один парикмахер из Тараскона выиграл во французскую
национальную лотерею пять миллионов франков. «По сравнению с
цирюльником я получу не так уж много», — лукаво подмигивает он.
На вопрос о том, какую из своих книг он считает лучшей, он сказал, что
пока это «Господин из Сан-Франциско». Его следующая книга будет
продолжением «Юности Арсеньева» и станет его лучшим произведением. Он сам сказал,
что на премию его выдвинули «его американские друзья».
То ли Бунин действительно находился в чересчур игривом настроении, то
ли оставлял желать лучшего французский язык интервьюера и лауреата — во
всяком случае, неточные и случайные факты этого репортажа неожиданно ярко
раскрывают атмосферу праздничного переполоха, царившего на «Бельведере»,
ту пьянящую атмосферу восторга и славы, которую невозможно восстановить
во всех подробностях по дневниковым записям виновника торжества и его
близких.
Несмотря на то, что в газетах появились портреты нового лауреата по
литературе (востребованы оказались «все снимки, включая крохотный для
паспорта» [Кузнецова 1995: 283]), почти все репортеры, встречавшиеся с писателем
лично, дали сходное описание его внешности: «У Бунина яркая наружность.
Это высокий, худой и седовласый старый русский аристократ, часто немного
ироничный, но весьма учтивый» (Stockholms tidningen, 10.11.1933, s. 1).
Внешность была броская, что и говорить, благородные черты, барские манеры — и
под обаяние русского «аристократа» попадало большинство журналистов. Но
сложнее всего оказалось описать частную жизнь «Алексеевича Бунина», как
рекомендовала русского писателя одна из газет (Dagens nyheter, 26.11.1933, s. I)170.
«Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин живет в Бельведере с приемной
дочерью, молодой белокурой немкой по имени Коснесова» (Stockholms tidningen,
10.11.1933, s. I)171. Конечно, переврать начальную букву в национальности
«приемной дочери» Бунина было чрезвычайно легко: по-шведски «немка» и
«русская» звучат очень похоже — tyska и ryska. Но и все остальные подробности,
включая имя героини многолетнего бунинского романа, выглядят на страницах
шведской прессы тех лет совершенно анекдотически.
170 Материал, озаглавленный «Бунин в триумфе», сопровожден несколькими фотографиями
(«ривьерской» виллы «Бельведер», В.Н. и И.А. Буниных), под одной из которых и появилась
забавная подпись.
171 Воспринятая на слух фамилия Галины Николаевны написана даже причудливее, «Kozne-
zova», что, впрочем, лишь отражает особенности шведской фонетики. Г. Олейников,
навещавший Буниных на «Бельведере» и знакомый со всеми обитателями виллы, в поздравительном
письме шлет привет бунинским «деточкам» («Крепко обнимаю Вас, Веру Николаевну и Ваших
деточек» (РАЛ, MS. 1066/4292, письмо от 12.11.1933).
360
Первые репортажи из Ниццы стоили один другого. Так, корреспондент
солидных «Дневных новостей», в которых будет помещен две недели спустя
подробный репортаж о ликовании русской эмигрантской колонии в Париже,
прислал из Ниццы материал о посещении виллы писателя в Грассе с броским
подзаголовком: «Вся семья пишет» (Dagens nyheter, 10.11.1933, s. 1). Семья
писателей — необыкновенно привлекательно; но из кого же состояло семейство
Буниных, по мнению шведского корреспондента? «В 1920 году они бежали из
России с двумя усыновленными детьми, сейчас это юноша и девушка, и оба они
посвятили себя литературе». Но что мог понять шведский репортер в этом
странном русском доме, полном талантов, нервов и нищеты, если вся
трагическая русская история укладывается им в наикратчайшую биографическую
скороговорку:
Бежали из Одессы в Стамбул с армией Деникина, а затем в Париж. С тех пор
они нашли убежище во Франции, без регулярного дохода, и живут в скромном
уединении, довольствуясь переводами и другими временными литературными
заработками (Ibid.).
Конечно, «читатели газет — глотатели пустот»; в конце концов, какое было
дело шведам, да и всему миру, до драм бунинского «датского королевства»! Но
Бунин стал лауреатом престижной премии, которой шведы за три десятка лет
ее существования научились гордиться. Им было интересно и важно узнать,
почему именно на русском изгнаннике остановился выбор Нобелевского
комитета по литературе. В Швеции были знакомы с русской литературой, точнее, с
книгами немногих ее представителей. Но именно через имена русских
классиков оказалось лучше и проще всего определить литературную величину и
значительность Бунина. «Присудив Нобелевскую премию Бунину, впервые
отметили почетной наградой русского писателя», — писала «Свенска моргонбладет»,
предваряя краткий очерк его творчества (Svenska morgonbladet, 10.11.1933, s. 4).
Рекламируя его книги, издательство «по праву» называет Бунина «русским
классиком», считает газета, потому что он «продолжает классическую линию в
русской литературе, идущую от Тургенева. Великая отзывчивость, глубокий
психологизм в сочетании с насыщенным лиризмом, отточенным стилем — его
величайшие достижения».
«Иван Бунин прочно укоренен в традиции, — прежде всего информирует
своих читателей «Лундс дагблад», причем традиция усматривается уже в самом
происхождении писателя из старого дворянского рода, в близости
принадлежащей его предкам усадьбы к поместьям Тургенева и Толстого. — Вся могучая
русская литература близка ему. У всех великих мастеров он обретает духовную
пищу и мало-помалу развивается в совершенно самостоятельного и
самобытного поэта» (Lunds dagblad, 10.11.1933, s. I)172.
172 Обстоятельная статья подписана инициалами M.F.; с большой долей уверенности следует
предположить, что она принадлежала перу преподавателя Лундского университета Михаила
361
Видя в Бунине прежде всего представителя великой литературы, «Дагенс
нюхетер» оказалась ближе всего к пониманию значения выбора Шведской
академии.
Богатая традиция русской прозы, которая, конечно, заслуживала премии на
более раннем этапе, когда еще живой Лев Толстой был исключен из списков
Нобелевского института, благодаря присуждению Нобелевской премии за
этот год была, хотя и поздно, но вознаграждена. Иван Бунин — последняя
ветвь этой традиции, и именно он стал первым русским писателем,
получившим премию (Dagens nyheter, 10.11.1933, s. 1).
Солидные газеты постарались дать развернутые и отнюдь не сенсационные
материалы о новом лауреате по литературе — о его творчестве и о нем самом.
Так, параллельно с необыкновенно живым телефонным разговором с
застигнутым врасплох лауреатом «Свенска дагбладет» помещает эссе А. Эстер-
линга, и присудившего, собственно, со своими коллегами Нобелевскую премию
Бунину. Как член Шведской академии, Эстерлинг поясняет читателям, что во
впервые отмеченной русской литературе Бунин занимает ведущее место после
ухода из жизни таких безусловных корифеев, как Толстой и Чехов;
прославленные в начале века сочинения Горького, замечает попутно шведский критик, «не
выдержали испытания временем» (Svenska dagbladet, 10.11.1933, s. 1). Из
краткого обзора нескольких произведений Бунина — «Суходол», «Митина любовь»
и «Жизнь Арсеньева» (тому, что в соседней колонке названо репортером со
слов лауреата un grand roman, уделено чуть более одного абзаца) — однако, не
явствует, чем же так современно и в то же время вечно содержание бунинской
прозы. Зато ясно сказано, почему именно на этого писателя пал выбор
Шведской академии:
Фигурой сколь-нибудь громадной, по сравнению с великими,
принадлежащими всему человечеству русскими писателями, Иван Бунин, разумеется, не
является, — но кого вообще из современных писателей можно сопоставить
с ними? Целая завершившаяся традиция звучит в его творчестве, хрупкая,
но все еще трогательная и трогающая. Нобелевская премия этого года стала
данью русской классике, столь живой у своего не недостойного наследника
(Ibid., s. 8).
Газета «Стокхольмс тиднинген — Стокхольмс дагблад»), помимо небольшой
порции сведений, почерпнутых у свежеиспеченного лауреата собственным
корреспондентом во Франции, напечатала обстоятельную статью обозревателя
по культуре Шелля Стрёмберга173, приложив к ней — что догадалось сделать
Фридоновича Хандамирова. Именно хорошее знакомство с русской литературой позволяет
автору легко прибегать к широким обобщениям.
173 Strömberg Kjell (1893-1975) — писатель, журналист, корреспондент ряда шведских газет
в Париже (1926-1927, 1931-1939), пресс-атташе шведского посольства в Париже (1939-1942,
1945-1960), автор книг о Париже, Франции, французской и шведской литературе, в том числе
362
всего несколько периодических шведских изданий — перевод небольшого
рассказа Бунина, «Красные лапти» — «из последних произведений писателя»174.
Хотя и Ш. Стрёмберг не избегает в своем очерке замечания, мгновенно
превращенного газетами от 10 ноября 1933 г. в штамп, о происхождении дворянина
Бунина «из тех же мест России, что и его наставники Толстой и Тургенев»175, эта
публикация замечательна среди бунинских материалов в шведских газетах тех
дней попыткой не только разглядеть в русском писателе сугубо национальные
черты, но и посмотреть на его творчество в широком контексте современной
европейской литературы. «Как Горький является достойным наследником
Достоевского, так Бунин — Тургенева и Толстого», — пишет Стрёмберг.
Как ни странно это может показаться, но имя Бунина приобрело мировую
известность, а сам он вошел в международное литературное сообщество
благодаря Д.Г. Лоуренсу, английскому Стриндбергу, и его другу, критику Миддлтону
Марри176. Именно они первые поместили Бунина на его законное место, рядом
с Чеховым и Горьким. Это было в начале 1920-х годов.
Так Бунин увиден не только в русском контексте, но и как один из
представителей европейской литературы, прежде всего — как «блестящий стилист,
которому не нужно преклоняться перед Томасом Манном или Яльмаром
Бергманом»177, с которыми он также сходен в постановке проблем и выборе тем.
Арсеньевский цикл — это in memoriam старого доброго поместного
дворянства Толстого и еще раньше Тургенева, подобно тому как «Будденброки» —
книги «Шведы во Франции» (Svenskar i Frankrike), 1953. Им написаны также предисловия к
томам Бунина и Пастернака для серийного издания книг нобелевских лауреатов по литературе на
немецком языке («Nobelpreis für Literatur», Zürich: № 33, «Dunkle Alleen», 1970; № 53, «Doktor
Schiwago», 1971).
174 Речь идет о рассказе «Лапти».
175 Возможно, шведам, привыкшим ценить свою «провинциальную» литературу, это
постоянное напоминание казалось вполне лестным.
176 Лоуренс Д.Г. (Lawrence David Herbert; 1885-1930)— английский писатель— прозаик,
поэт, критик, эссеист, автор романов «Сыновья и любовники», «Любовник леди Чаттерлей» и др.
Марри Джон Миддлтон (Murry John Middleton; 1889-1957) — английский критик, редактор
(совместно с Д.Г. Лоуренсом и К. Мэнсфилд) основанного им журнала «Adelphi» (1923-1948).
Некоторые подробности перевода Лоуренсом рассказа «Господин из Сан-Франциско», а также
рецензий Марри на издания сборников бунинской прозы на французском и английском языках
раскрывает О. Казнина [1997: 365-371]. «Бунин был польщен английскими рецензиями», —
замечает О. Казнина, приводя сделанные Буниным выписки из английских газет. Сведенные
воедино характеристики действительно впечатляют [Там же: 370]; однако показательно, что прием
вписывания Бунина в известный контекст русской литературы, его сравнение с великими
русскими писателями, знакомыми западному читателю, современному русскому исследователю
справедливо представляется «банальным» [Там же: 369].
177 Bergman Hjalmar (1883-1931)— шведский прозаик и драматург, чьи персонажи стали
классическими. Темы его произведений, начиная уже с первого романа «Завещание его милости»
(1910), почти всегда восходят к Бергслагену (богатый рудами шахтерский район в средней
Швеции) времен его детства.
363
квинтэссенция старой доброй бюргерской Германии. Лучший роман Бунина
(оставшийся единственным и, как принято считать, незаконченным) — это
опись усадебного имущества, но это поэтическая опись. Для него дворянская
и крестьянская культура черноземного юга России стала тем же, чем для Яль-
мара Бергмана шведский Бергслаген или для Сельмы Лагерлёф всадники на
вермландской охоте178, — памятью о чем-то давно прошедшем, о печальной
«охоте давно прошедшего времени», что составляет для него главный
источник вдохновения. Мы, шведы, снова ощущаем это прошедшее. Это такое же,
как для нас погружение в Швецию Фрёдинга179 и Карлфельдта, погружение в
Россию, еще до революции. Время — это муравей, а не сверчок180. А бунинская
Нобелевская премия — лавровый венок, возложенный муравьем на могилу
сверчка. Но эти лавры венчают живого поэта, который еще не сказал своего
последнего слова, который в своем творчестве будет стоять среди первых
(Stockholms tidningen — Stockholms dagblad, 10.11.1933, s. 4).
«Дагенс нюхетер» отвела Бунину в номере от 10 ноября 1933 г. целую
полосу181, не ограничиваясь биографической справкой о писателе, а стараясь
познакомить читателей с его творчеством. Хотя в корреспонденции упомянуто
всего несколько произведений Бунина, прежде всего вышедшие в шведском
переводе «Деревня» и «Суходол», тем не менее это одна из немногих газет,
сотрудники которой успели отыскать в архивах рецензии критиков на издания
русского писателя по-шведски и смогли представить нобелевского лауреата по
литературе не только как русского аристократа с благородными манерами.
Принципы изображения Буниным русского мужика, указывает автор «Дагенс
нюхетер» со ссылками на критика Ханнеса Шельда (Hannes Sköld)182, обусловле-
178 Вермланд — область в западной Швеции. В «Саге о Йёсте Берлинге» (1891) С. Лагерлёф
создала своеобразный мир неоромантизма, в котором изображение повседневной жизни
помещиков и крестьян переплетается с мифологическими сюжетами и народными легендами, так что
всадник в осеннем лесу мог одновременно оказаться и обычным человеком, охотником, и
призраком, сказочным персонажем.
179 Fröding Gustaf (1860-1911) — шведский поэт.
180 Стрёмберг отсылает к восходящей к Эзопу басне Лафонтена «Сверчок и муравей»
(«Кузнечик и муравей»), известной русскому читателю по знаменитой версии И.А. Крылова
«Стрекоза и Муравей». Русский баснописец не только заменил одного из героев, но и изменил
акценты, привнес больше морализма — лафонтеновский Сверчок герой гораздо более
симпатичный, это образ артистической беззаботности (от оригинала в русской басне уцелело не вполне
свойственное стрекозе занятие — «Ты все пела...»).
181 «Revolten utplundrade lantjunkaren pâ allt utom författarän» <Революция лишила помещика
всего, кроме творчества> (Dagens Nyheter, 10.11.1933, s. 1, 30).
182 Получив от стокгольмского Шведского кооперативного издательства (Svenska andels-
förlaget) контракт, Бунин был смущен замечанием в сопроводительном письме: «Посылаем вам
контракт на основании переговоров Ваших с приват-доцентом Hannes Skjöld <...>»: «О Hannes
Skjöld слышу впервые» [Jaugelis 1973: 126]. Лундский лингвист Ханнес Шёльд (Skjöld) — автор
предисловия к первому изданию «Деревни» на шведском языке (Byn. En prosadikt. Overs, frân
ryska av Ruth Wedin Rothstein. Stockholm: Svenska andelsförlaget, 1924). Заканчивая свое
вступительное слово, X. Шёльд выражает благодарность издательству за то, что оно «взяло на себя рис-
364
ны спором нобелевского лауреата со взглядами на крестьянство Толстого и
Достоевского, а цинизм и пессимизм «Деревни» являются следствием
разоблачения взгляда на мужика как богоносца, на его идеализацию в предшествовавшей
Бунину литературной традиции. Показывая эволюцию образа мужика,
крестьянства в русской литературе, шведский критик подчеркивает, что в
литературном поколении Бунина на его безусловную правоту указывали столь разные
писатели, как «Горький и жена Мережковского» (!)183.
Автор «Дагенс нюхетер» пишет прежде всего о традиции и ее преломлении
в творчестве Бунина. Обращение Бунина к жизни помещиков в «Суходоле» —
для шведского критика уже само по себе обращение к традиции Толстого и
Тургенева, но литературные преломления в бунинском творчестве увидены
чрезвычайно широко: психологические характеристики возведены к Достоевскому,
а «в ограниченных рамках рассказа Бунин разворачивает, подобно Чехову, хотя
и с большим поэтическим напряжением и меньшей силой реализма, широкое
жизненное полотно». Не вполне представляя себе реальное положение вещей,
корреспондент «Дагенс нюхетер» невольно укрупняет и упрощает образ
первого русского нобелевского лауреата по литературе:
Беженство и эмиграция лишили его поместий, но не смогли поколебать его
законного места в родной литературе. Он все еще считается в литературном
сознании России одним из главных представителей старшего поколения
современной русской литературы и наследником созданного Гоголем, Гончаровым,
Толстым, Тургеневым и Чеховым. Двое последних, главным образом,
проложили пути для бунинского поколения русских писателей.
Еще одним общим местом — помимо аристократизма Бунина, его
социального положения некоего крупного землевладельца — оказывается
убежденность в известной непереводимости его блестящей прозы, которая на
иностранных языках сильно проигрывает, мало соответствуя оригиналу. Из тех
изданий, которые появились на шведском языке, журналист причисляет к
накованную задачу представить столь исключительного писателя шведской публике» [Skjöld
1924: 13]. В 2007 г. по этому изданию была осуществлена аудиозапись.
183 В упомянутом выше предисловии к «Деревне» X. Шёльд пишет: «Интересно отметить, как
единодушны сейчас во взглядах на правоту Бунина русские знаменитости. Когда Горький писал
статьи о терроре в России, вызвавшие столь большую сенсацию, то он ссылался на Бунина, в
качестве доказательства жестокости русских крестьян. И Зинаида Гиппиус, супруга писателя
Мережковского, одна из тех, кто до революции не соглашался с бунинским описанием деревни,
уверяла несколько лет спустя в одной из эмигрантских газет, что невозможно объяснить
революцию, если не попытаться понять душу <psyke> русского крестьянства, так, как изобразил ее
Бунин» [Skjöld 1924: 11]. Ссылка на З.Н. Гиппиус через супруга, хотя и выглядит странной для
русского читателя, совсем не случайна. В одном из эссе о современной русской литературе для
английских читателей Д. Святополк-Мирский даже специально оговаривает: «Zinaida Hippius
(Mrs. Merezhkovsky, wife of the well-known writer)» (см. [Svyatopolk-Mirsky 1989: 45-46]). Все это
лишний раз подчеркивает известность Мережковского на Западе и спустя 15 лет после
революции.
365
стоящим удачам только переводы Сигурда Агреля, считая их аутентичными
русскому источнику184. После рассмотрения «Митиной любви» автор статьи в
«Дагенс нюхетер» замечает:
Можно считать творчество Бунина декадентским на пути к разложению и
пессимизму. Но ничто не может быть более неверным. В его лучших проявлениях
это гимн красоте природы, пронизанный пониманием трагичности жизни, но
исполненный ее величия. И уверенность художника, и понимание красоты,
соединенное с иронией, напоминающей Томаса Манна, привносит в его
творчество подъем, который безусловно подтверждает его право на Нобелевскую
премию (Dagens Nyheter, 10.11.1933, s. 6).
Как мы увидим ниже, газетные публикации не сливались в единодушный
хор похвал, некоторые периодические издания отреагировали на выбор
Шведской академии сухо. Главный орган шведских коммунистов, совсем
малотиражная газета «Ню даг» («Ny dag»)185, и вовсе никак не откликнулась на
Нобелевские торжества, не заинтересовавшись ни присуждением премии
«белоэмигранту» Бунину, ни другими ее лауреатами. Страницы газеты за ноябрь-
декабрь 1933 г. ничем не напоминают других шведских газет этого периода,
украшенных счастливыми лицами лауреатов Нобелевской премии; материалы
«Ню даг» гораздо больше похожи на советскую прессу той эпохи, и буквально
накануне решения Шведской академии в газете был помещен фотографический
отчет о праздновании 16-й годовщины Великой Октябрьской революции...
Столь же блистательно традиционная для шведской прессы конца года
нобелевская тематика была проигнорирована газетой шведских нацистов «Ден свен-
ска нашонал-сосиалистен»(«Оеп svenska national-socialisten»), озабоченных, как
и их немецкие единомышленники, совсем иными проблемами.
Конечно, это были маргинальные органы печати; однако и некоторые
серьезные издания, прежде всего социал-демократической ориентации, без
энтузиазма встретили известие о присуждении премии Бунину. «Нобелевская
премия по литературе за этот год присуждена. Она досталась относительно
неизвестному русскому писателю», — сообщает новость дня «Арбетарбладет», не
пожелав ознакомить своих читателей с творчеством лауреата и дав о нем самую
сухую литературно-биографическую справку (Arbetarbladet, 10.11.1933, s. 1).
Весьма резко отозвалась о присуждении премии Бунину «Гётеборгс хан-
дельс- ок шёфартстиднинг», авторитетная газета промышленно-портового юга
Швеции (Göteborgs handeis- och sjöfartstidning, 10.11.1933, s. 11)186.
184 В меру нашего знания шведского языка эту оценку нельзя не признать справедливой.
185 Между тем С. де Шессен, который был информирован отнюдь не только по газетным
источникам, утверждал, описывая настроения в Стокгольме: «Только идиоты коммунисты
злятся...» (РАЛ, MS. 1066/5028).
186 Впрочем, на с. 6 того же газетного номера была опубликована реклама книг Бунина
издательства «Гебер».
366
Может быть, не стоит утверждать, что он не заслуживает премии в чисто
литературном отношении, ибо он написал выдающиеся произведения, —
готова согласиться газета социал-демократической ориентации, но тут же не
без сарказма замечает, что Бунин
во всяком случае не единственный из ныне живущих писателей,
продолжающих писать, и он не обладает оригинальностью, лидерством или новаторскими
достижениями, благодаря которым его творчество можно было бы признать
первостепенным.
Для автора едкой статьи о Бунине объяснение присуждения ему премии
лежит на поверхности: принужденные отметить наградой русского писателя,
академики искали альтернативную кандидатуру, «потому что единственным, кто
ее заслуживал, был Максим Горький».
Какой бы колеблющейся и странной ни была его позиция после революции, он
еще задолго до нее внес в литературу такой вклад, которого столь недостает
именно в отношении новаторства Бунину (ibid.).
И сама справка о жизни и творчестве Бунина, подготовленная столь
неблагожелательно настроенным к нему обозревателем газеты, содержит реальные,
но подобранные с известным умыслом факты. Подчеркнув, что Бунин как
писатель начинал «в группе реалистов, которые получили эпитет "морталисты"»187,
обозреватель замечает, что он возвышался среди мрачных пессимистов вроде
Арцыбашева или Л. Андреева благодаря «лирической жилке, которая
придавала изображению провинциальной русской жизни во всей ее полноте
прекрасную трогательную оправу, и если своим горьким пессимизмом он близок
Чехову, то своими лирическими пейзажами он напоминает Тургенева». Казалось бы,
набившая оскомину дань обрамлению творчества Бунина классической
традицией отдана. Но автор гётеборгской газеты не спешит влиться в общий
хвалебный хор шведской периодики и ссылается на мнение русской критики:
На какое место ставят Бунина в истории русской литературы, трудно судить со
стороны. Но можно в этом случае процитировать авторитетное суждение
русского литературоведа, князя Д.С. Мирского, который после революции
работает в Англии.
А это суждение явно идет вразрез с общим мнением о соответствии
русского писателя престижной международной награде, ибо, ссылается на Д.П.
Мирского шведский журналист, было бы
гротескным преувеличением считать Бунина одним из первых русских
писателей; сейчас его имя имеет политическое значение в эмиграции, что парадок-
187 Ср., например, специально посвященную излюбленной теме русского модернизма статью
Д. Святополк-Мирского «Веяние смерти в предреволюционной литературе» [Svyatopolk-Mirsky
1989:230-236].
367
сально, ведь он описал в черных красках ту Россию, которую революция
уничтожила. Даже если это суждение о Бунине не вполне справедливо, все же ясно,
что новый лауреат Нобелевской премии не принадлежит к новаторам в
русской литературе (Göteborgs handeis- och sjöfartstidning, 10.11.1933, s. 11)188.
Сами простые житейские подробности переданы безо всякой симпатии к
седовласому мэтру. «Иван Бунин живет в Грассе, на французской Ривьере, и он
заявил, что восхищается шведской литературой и шведским искусством», —
скороговоркой заканчивает автор гётеборгской газеты (Göteborgs handeis- och
sjöfartstidning, 10.11.1933, s. 11). Образ обаятельного ироничного аристократа,
созданный дружными усилиями журналистов из респектабельных
буржуазных изданий, сменяется образом традиционалиста в явно невысоком смысле
этого слова, заурядного литератора, которому к тому же приписывается не
кажущееся искренним восхищение не только шведской литературой (имена
А. Стриндберга и С. Лагерлёф пользовались широчайшей известностью), но
и искусством, с которым Бунин очевидно не мог быть знаком (известность
К. Ларссона, А. Цорна, принца Евгения никогда не достигала уровня славы
норвежца Э. Мунка, финна А. Галлен-Каллелы или русских художников XIX -
начала XX в.)189.
188 хотя дгт. Святополк-Мирский «успевал писать невероятное количество статей и
рецензий для английской, французской и русской зарубежной печати» [Казнина 1997: 121], очевиднее
всего, что шведский журналист при подготовке материала о Бунине обратился к одному из двух
почти одновременно вышедших из печати трудов русского литературоведа на английском языке:
«Modern Russian Literature» (L., 1925) или «Contemporary Russian Literature: 1881-1925» (L., 1927;
в русском переводе названия обеих книг звучат одинаково — «Современная русская
литература»). О Бунине Д. Святополк-Мирский, в частности, более чем нелестно отозвался в обзорной
статье о литературной продукции «Современных записок» и «Воли России» за 1920-1925 гг.
(Версты, 1926, № 1, с. 209); среди оценок — «ненависть ко всему новому», «принципиальная и
(природная) уездность», «чистая традиция "Сна Обломова"», вплоть до хлесткого афоризма:
«Бунин редкое явление большого дара, не связанного с большой личностью». Неудивительно, что в
дневниковых записях В.Н. Буниной Д. Мирский упомянут однажды под весьма красноречивым
прозванием — Святополк Окаянный [Устами Буниных 1977-1982, II: 255].
189 Еще не раз, уже на шведской земле, Бунину придется отвечать на вопросы о знакомстве
со шведской культурой. У него было по крайней мере два источника при подготовке к поездке:
во-первых, во время визита на виллу «Бельведер» С. де Шессен презентовал писателю свою книгу
о Швеции и напомнил о ней в одном из декабрьских посланий: «У вас имеется моя "Svea": там все
это описано!» (РАЛ, MS. 1066/5029, письмо от 11.11.1933 г.); Svea (rike) — старинное название
Швеции (ср. соврем. Sverige) от названия одного из основных племен древней Швеции. Книга
вышла в Париже в 1931 г. Во-вторых, еще в Париже кому-то из окружения Бунина пришла в
голову разумная мысль хотя бы бегло познакомить лауреата со страной, в которую ему предстоит
ехать за наградой. О том, как готовилась для Бунина справка, сохранилось свидетельство
В.В. Вейдле, который по просьбе Я.М. Цвибака «составил список главнейших шведских
писателей того времени и перечень наиболее известных их произведений на случай, если бы в
Стокгольме зашла речь или сами они явились поздравить Ивана Алексеевича. По части
скандинавских литератур, — признается в позднейших воспоминаниях известный критик, которому тогда
было без малого сорок лет, — осведомлен я был плохо. Записочку, врученную лауреату, составил
по справочникам, наскоро. Не знаю, пригодилась ли она ему» [Вейдле 1993: 320].
368
В какой-то мере тон газетам левой ориентации задавала A.M. Коллонтай,
посол Советского Союза в Швеции190, для которой присуждение премии
«белоэмигранту» грянуло как гром среди ясного неба. Деятельность A.M. Коллонтай
сейчас предстает в диаметрально противоположном виде для представителей
разных политических лагерей. Ее игнорирование нобелевской церемонии
1933 года понятно и простительно: хотя упорно именуемый в Советском Союзе
«контрреволюционером» эмигрант Бунин, ставший первым русским лауреатом
Нобелевской премии по литературе, принес славу отечественной культуре,
лаврами увенчали эмиграцию — а не Советский Союз, так что Коллонтай
справедливо расценила акцию Шведской академии 1933 года как пощечину. Она не
могла — даже если бы страстно желала — приветствовать в Стокгольме Бунина и
не поплатиться за это карьерой, возможно, свободой, а быть может, и жизнью.
Ее донесения в наркомат иностранных дел (НКИД) не столько обличают ее
личные «обскурантные» коммунистические взгляды, сколько призваны оправдать
ее «попустительство», когда стал возможен всемирный триумф белой
эмиграции. Как свидетельствуют опубликованные архивные документы, A.M.
Коллонтай ежегодно, по должности, присутствовала «на раздаче премий Нобеля»
[Блох 2001: 86]; в 1931 и 1932 г. в личном дневнике и служебных донесениях она
замечала, что «по мировой славе Горький является первым кандидатом на
премию по художественной литературе» [Там же], что «премия более заслужена
Горьким»191; при этом она ссылается на беседы с членами иностранных
представительств и со шведской научно-творческой интеллигенцией.
Но письмо в НКИД от 16 ноября 1933 г. содержало особую информацию —
о присуждении премии «белому эмигранту Бунину» — и составлено было
необыкновенно тонко и умно. Начинается оно с обсуждения «неправильных
сведений о чумных заболеваниях в азиатской части Союза» и о сделанных
советским послом внушениях шведским министрам, что следует пользоваться
единственным, официальным источником информации. Дальше излагается
беседа с министром иностранных дел Швеции Р. Сандлером192 о советской
внешней политике; речь шла об успехах М.М. Литвинова на переговорах в Вашинг-
190 Коллонтай Александра Михайловна (1871-1952) — первая в мире женщина-посол: с
1923 г. советский полномочный и торговый представитель в Норвегии, в 1926 г. в Мексике, в
1927-1930 гг. полпред в Норвегии, в 1930-1945 гг. — посланник, затем посол в Швеции; с 1945 г. —
советник МИД СССР.
191 Из письма посланника СССР в Швеции A.M. Коллонтай члену коллегии НКИД СССР
Б.С. Стомонякову от 15.11.1932, № 133с; впервые опубликовано: [Черниговский 2000: 296]; в
выдержках опубликовано также в [Блох 2001: 86-87]. Полные копии получены Д.Е. Черниговским
из Архива внешней политики РФ и любезно предоставлены нам для работы над книгой
[Марченко 2007]; в тех случаях, когда материалы опубликованы не полностью, мы ссылаемся на текст
этих копий.
192 Sandler Rikard (1884-1964) — социал-демократ, член шведского правительства: в начале
1920-х гг. министр торговли, в 1925-1926 г. — премьер-министр, в 1930-е гг. министр
иностранных дел. В 1939 г., считая, что Швеция оказывает недостаточную поддержку Финляндии в
советско-финской войне, в знак протеста вышел из состава правительства.
369
тоне, о выступлении В.М. Молотова по вопросу отражения возможной агрессии
и готовности страны отстоять свои границы, о неизменности принципов
советской мирной политики. Затем Коллонтай переходит к
торгово-экономическим связям СССР со Швецией, к настроениям в шведском обществе в
отношении Советского Союза, уверяет, что в посольстве отмечают «несомненный
интерес печати почти ко всему, что относится к Союзу», что советские «успехи
на международной арене несомненно импонируют». Затем обсуждается
несколько конкретных эпизодов во взаимоотношениях двух соседних стран (в
том числе и неизменно болезненный финский вопрос). Наконец, разоблачив
все «инсинуации», Коллонтай радостно рапортует об «оживленном,
многолюдном приеме» в посольстве 7 ноября по случаю очередной годовщины
Октября. Вся важная информация исчерпана, и в самом конце четвертой страницы,
на последних, напечатанных в нижнем поле и наползающих друг на друга
строчках Коллонтай приступает к отчету о самом неприятном событии
последней недели (со времени присуждения премии и прошла ровно неделя), искусно
лавируя и выискивая всевозможные объяснения столь неожиданному и
тяжелому удару.
Присуждение премии Нобеля по литературе белому эмигранту Бунину <...>
носило весьма случайный и внезапный характер. Во всяком случае, шведпра
(шведское правительство. — Т. М.) было бессильно предотвратить этот шаг
международного (sic! — T. M.) комитета. «Старики» (в комитет со шведской
стороны (sic! — T. M.) входят профессора и академики, которым по меньшей
мере 80 лет, есть только один «юноша» среди них, ему — «всего 65 лет»)
сошлись на финском писателе Силлампяя193. Однако как раз за несколько дней до
голосования отношения профессор<ско>-ученых кругов обострились с
финнами из-за преследования шведского языка в университетах194. Выдвинули
какого-то допотопного грека-лирика. На нем члены комитета не могли собрать
193 Силланпя Франц Эмиль (1888-1964) — финский поэт; на Нобелевскую премию по
литературе выдвигался с 1930 г., причем в 1933 г. предлагалось разделить премию между ним и
другим финским писателем, Б. Грипенбергом; в 1934 г. В. фон Хейденстам добавил к ним еще одного
финского писателя, Я. Хеммера, — таким образом, предложение сразу нескольких кандидатов от
той или иной национальной литературы не было необычным, впрочем, так же как и
окончательный выбор лишь одного из них. В заключении Нобелевского комитета 1933 г. отмечен
«возросший интерес к последним книгам писателя», но было решено «повременить» с присуждением
премии (в частности, несмотря на «художественное мастерство», было подчеркнуто, что его
лирика имеет значение лишь «для его страны и его народа» [Nobelpriset i litteratur, II: 196]).
Силланпя стал нобелевским лауреатом в 1939 г.
194 Финляндия сохраняла статус полуколонии Швеции до вхождения в состав Российской
империи в результате русско-шведской войны 1808-1809 гг.; но и автономная, ас 1918 г. и
независимая Финляндия имеет два государственных языка — финский и шведский (в стране
проживает около 10 % шведов). В г. Турку существует Шведский университет, где преподавание
ведется по-шведски. Ш. Эспмарк указывает на явный политический подтекст присуждения
Нобелевской премии финскому писателю именно в 1939 г., в год советско-финской войны, когда
Швеция решительно стала на сторону Финляндии (см. [Espmark 2001: 178-181]).
370
большинства. Тогда за два дня до голосования кто-то выдвинул Бунина. На нем
остановились, так как против него никто «ничего не имел»195.
Ничего не имеет против писателя Бунина и сама Коллонтай, старающаяся
лишь подчеркнуть случайность выбора, незначительность его художественных
достижений196. Сам Бунин, впрочем, некогда написал о Коллонтай несколько
убийственных строк — в «Окаянных днях», которых никто в Швеции, за
отсутствием перевода, не читал197. Предпринятые советским послом шаги,
отраженные в ее донесении, весьма характерны и свидетельствуют, между прочим, не
только о «попытках дипломатического давления», но и, через ответную реакцию
шведских правительственных чиновников, о действительно возросшем
авторитете Советского государства, о его ощутимой силе. A.M. Коллонтай сообщает:
Я имела частную беседу с минпросвещения на этот счет, но он, будучи сам
изумлен таким поворотом дела, объяснил мне, что комитет не поддается
никогда воздействию, что «старики» строго оберегают свою независимость от
влияний на них со стороны правительства, как бы неуместен и
нецелесообразен не (sic! — T. M.) был их выбор. Я проверила, что в самом деле бывали
случаи, когда премию присуждали вопреки явному неодобрению шведпра. Из
бесед с верхами социал-демократической партии на эту тему, причем я им
высказывала свое мнение о нетактичности присуждения премии белому
эмигранту, я поняла, что этот акт старых академиков не встречает никакого
сочувствия и является лишь выражением тупости и недружелюбия к нам со
стороны ограниченного круга старой закостенело-консервативной профессуры.
Газеты <...> отнеслись критически к выбору комитета и ставили вопрос:
почему не Горький? [Блох 2001: 88]198.
195 Греческого писателя — лирика, прозаика, драматурга, критика, оказавшего сильнейшее
влияние на развитие современной греческой литературы, — К. Паламаса номинировали на
премию с 1926 г., но он так и не был ее удостоен. Скорее всего, Коллонтай контаминировала его с
португальским поэтом А. ди Оливейрой, весьма близким в 1933 г. к званию лауреата [Nobelpriset
i litteratur, II: 200-201]. Что же касается Бунина, то советский посол весьма точно описала
ситуацию, сложившуюся в Шведской академии к моменту голосования.
196 Казавшаяся советскому послу наиболее дружественной «Новая ежедневная всеобщая
газета» (Nya dagligt allehanda) назвала присуждение Бунину премии «спорным решением» и,
высказав ряд претензий к Шведской академии, выразила сомнения в репрезентативности писателя
для русской литературы последних десятилетий. «Он играет не на органе, но на виолончели» —
отмечает обозреватель (С. В-п, К. Бьёркман), признавая наряду с ограниченностью
художественного мира Бунина его благородство и утонченность (10.11.1933, s. 1, 7).
197 «Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым.
Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного
количества так называемых "прирожденных преступников" — бледные лица, большие скулы,
грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи
прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и
особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, "ангельское" лицо, вроде того, что
было, например, когда-то у Коллонтай)» [Бунин 1991: 195-196].
198 Заметим кстати симптоматичное совпадение недоумения некоторых шведских газет и
первой реакции на присуждение премии Бунину в английской прессе (помимо прочего, это со-
371
Перед приездом Бунина в Стокгольм на нобелевские торжества Коллонтай
докладывает в Москву, что «тот шум, какой белые в Париже подняли вокруг
Бунина, не мог не найти отражения и в Швеции», в связи с чем послу пришлось
вновь прибегнуть к дипломатическому давлению, «чтобы приезд Бунина не
принял бы под воздействием враждебных к нам элементов белой эмиграции
характер политической кампании против Союза, выставления Бунина
"жертвой" и т. п.». Коллонтай просила прежде всего воздействовать на прессу, а также
дать «"частным образом" справки о церемониале». Через несколько дней
советского посла вызвали в МИД и сообщили, что «вопреки обычаю, во время
нобелевских торжеств не будут вывешены флаги тех стран, чьи граждане получают
премию», и что «"Бунин — человек больной", может быть, он не сможет
присутствовать на торжествах, и премия, в таком случае, будет ему послана в отель»
(цит. по: [Блох 2001: 89-90])199.
Газеты между тем были «полны Буниным» (Последние новости, 17.12.1933,
№ 4652, с. 2). Историческое решение состоялось — как бы теперь ни
комментировала присуждение литературной премии Бунину пресса разных стран и
политических направлений. Бунин стал лауреатом, и фанфары радостно
позванивали в парижских ресторанах и в уже морозном шведском воздухе, а от
непривычных имен и названий на читателей шведских газет веяло торжеством.
«По традиции, фокус интереса сосредоточен на личности носителя
литературной премии» [Троцкий 19336: 2]; читателям, в подавляющем большинстве
незнакомым с бунинским творчеством, новый лауреат по литературе очень
понравился по газетным публикациям. Шведская публика еще хорошо помнила
газетные снимки недавних лет: слегка колючий и вместе с тем отстраненно-
интеллектуальный взгляд Томаса Манна, раскованные позы одутловатого
Синклера Льюиса, породистое, уже нездешнее лицо Джона Голсуорси...
Красивые черты надменного русского аристократа не только без родовых поместий,
но и без самой родины, одновременно барственность и скромность,
подтянутость и небрежность, а главное, чего не передавали фотографии, но что
сквозило во всех интервью Бунина, — нескрываемое, искреннее счастье, почти дет-
впадение свидетельствует о достоверности информации Коллонтай, хотя и не всегда
объективной). O.A. Казнина приводит выдержку из рецензии Г. Струве на английские издания Бунина:
«Когда в прошлом ноябре Нобелевская премия была присуждена Ивану Бунину, смутное
подспудное удивление и неудовлетворенность ощущались в английской прессе и в общественном
мнении. "Бунин? А он того стоит?" Складывалось впечатление, что кандидатура Горького
заслужила бы в Англии большего одобрения» [Казнина 1997: 383].
199 Бунин пребывал в твердой уверенности, что национальные флаги не вывешивают из-за
него — эмигранта, человека без гражданства; однако год присуждения Бунину Нобелевской
премии был годом прихода к власти в Германии Гитлера. Нобелевским лауреатом 1933 г. по физике
стал Э. Шрёдингер, профессор Берлинского университета, вынужденно переехавший в Англию
(ему предложили кафедру в Оксфорде) «из-за недавних событий в Германии»: он «не-ариец»,
сообщала своим читателям газета «Последние новости» (12.11.1933, № 4617, с. 2). Это и послужило
главным поводом отказаться на ежегодных торжествах от всех национальных флагов, кроме
шведского.
372
ский восторг, — все это крайне импонировало шведам. «Сегодня вечером здесь
царит веселье, — сказал Бунин одному из шведских корреспондентов,
позвонивших ему по телефону немедленно после получения сообщения из
Стокгольма. — Неожиданно счастливое известие» (Svenska morgonbladet, 10.11.1933, s. 1).
Простим первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе
небольшое кокетство — этого известия мучительно ожидали на Бельведере уже
три года. Но за эту первую реакцию на него как на счастье, подарок судьбы
шведская публика отблагодарила русского писателя теплым приемом, признав
в нем, как в андерсеновской сказке признали настоящую принцессу в
продрогшей замарашке, Настоящего Нобелевского Лауреата.
Но если шведская публика хотела познакомиться с ним поближе,
дореволюционной Россией и классическими традициями было не отговориться. В
настоящем Бунин был эмигрантом, и этот его статус изгнанника-апатрида наложил
отпечаток на всю нобелевскую церемонию того года, во многих деталях
изменил ее продуманный распорядок и сложившиеся обычаи. «Революция лишила
помещика всего, кроме творчества», — с таким подзаголовком было
напечатано известие о присуждении Бунину Нобелевской премии в «Дагенс нюхетер»
(Dagens nyheter, 10.11.1933, s. 1), и, при всей его крайности, это обобщение стало
лейтмотивом в публикациях о Бунине, от пересказа драматических перипетий
бегства писателя из большевистской России до описания ликований в русском
Париже, от сообщений о горячей встрече писателя русской колонией в Швеции
до умолчания враждебного игнорирования его советским послом, от вопросов
о его восприятии шведской еды до публикации произнесенной им речи.
Одни газеты торопились поведать своим читателям что-нибудь
исключительное о необычном лауреате по литературе (никто не слыхал и не читал, а кто
читал по-шведски, оценить не смог, но зато выразительной внешностью и
необычной биографией пленились все). Живущий в Швеции русский литератор
Даниэль Долгов, тоже эмигрант, как и нобелевский лауреат 1933 г., немедленно
передал для «Дагенс нюхетер» свои заметки о встрече с Буниным в Париже
около года назад200:
В маленьком доме в Пасси, где жил тогда Иван Бунин, меня встретил не он сам,
а красивая, молодая, светловолосая женщина — его жена201.
— Иван Алексеевич сейчас придет, — сказала она. — Мы приехали только
пару дней назад и еще ничего не успели привести в порядок.
Для встречи со мной Бунин недавно приехал в Париж со
средиземноморского побережья, где он нашел прибежище у своего друга Бунаковского
200 «Sockerbonde är farlig idol, säger Bunin» («Сахарный мужик — опасный кумир, говорит
Бунин»; Dagens nyheter, 12.11.1933, s. 3).
201 20 декабря 1932 г. Вера Николаевна записала в дневник, что И.А. Бунин и Г.Н. Кузнецова
уехали в Париж, где и оставались целый месяц, вернувшись лишь 24 января [Устами Буниных
1977-1982, II: 278]. Имеется в виду, разумеется, небольшая по всем меркам квартира писателя на
улице Оффенбах, 1.
373
<sic!>202, на чьей вилле он живет несколько лет и где написаны в уединении
многие его произведения.
И вот сам Иван Бунин входит в комнату.
Я слышал, что завтра вы уезжаете в Швецию, говорит он, и вы хотели бы,
чтобы я рассказал что-нибудь интересное для шведской публики. Но я совсем
не знаю, что именно. Да и известно ли вообще мое имя в скандинавских
странах? — слегка улыбается он.
Я рассказываю ему, что среди прочих произведений его «Деревня» вышла
в шведском переводе и было очень интересно читать о ней в шведской критике,
которая охарактеризовала его изображение русской деревенской жизни как
весьма безжалостное и жестокое.
— Вот как, — говорит Иван Бунин, — шведские критики заметили, что я
освободил русских крестьян от ореола жертвенности, которым они осенены у
Тургенева и Толстого. Может быть. Я не могу прославлять духовную нищету,
грязь, невежество и суеверие. Ничего хорошего я в этом не вижу, и питать
прославление всего этого я нахожу столь же дурным, как и поливать сорняки или
кормить кузнечиков.
Да, — продолжает Бунин иронически, — за прославление русского
крестьянства мы дорого заплатили. Оно себя показало во время революции. Тогда
оно показало свое подлинное лицо. Кстати о крестьянине — читали ли вы
рассказ Ивана Шмелева «Сахарный мужик»203?
Прервем газетную публикацию, чтобы подчеркнуть два важных момента.
Во-первых, суть интервью сводится к обвинительным речам Бунина в адрес
русского крестьянства; тема возникает не случайно — речь зашла о повести
«Деревня», — однако именно обличение русского варварства как нельзя лучше
льстит шведскому читателю. Интервью не было напечатано вовремя, лежало
в редакционном портфеле около года, чтобы в торжественные для русской
литературы дни напомнить о наиболее темных, разрушительных сторонах
русского национального характера.
Во-вторых, отсылка Бунина к поразившей его «сказке» Шмелева
(«прекрасная вещица») позволяет лишний раз заметить, что личные отношения и
пристрастия отнюдь не всегда определяли бунинские литературно-критические
взгляды. Человеческое общение между этими «двумя Иванами» уже
безнадежно зашло в тупик, соперничество в нобелевской лотерее приносило только но-
202 Контаминация фамилии и псевдонима, еще с эсеровских времен, И.И. Бунакова-Фон-
даминского, одного из редакторов «Современных записок», тесно общавшегося с Буниными во
время приездов на французскую Ривьеру; однако жилье в столь полюбившемся ему Грассе
Бунин оплачивал сам. Приводим эту корреспонденцию так подробно не просто ради ее известной
курьезности, но и как наглядный пример «точности» попадающих в печать, а затем в
справочники сведений об именитых иностранцах, некий усредненный образец того, как
воспринимаются представители культуры других народов и интерпретируются особенности чужого
менталитета и образа жизни (хотя автор материала — носитель русского языка, но живущий вдали от
культурных центров эмиграции).
203 Сказка И.С. Шмелева «Сладкий мужик» была впервые опубликована в 1914 г., за
границей вышла несколько раз (Шмелев И. Сладкий мужик. Степное чудо. Берлин, 1921; Париж, 1927).
374
вые обиды, но это не помешало Бунину оценить выразительный образ,
созданный Шмелевым, и подтвердить его символическую глубину и значение перед
иностранным корреспондентом. Довольно подробно Бунин пересказывает
сюжет шмелевской сказки о «некоем добросердечном русском интеллигенте»,
который так превозносил мужика, что стал поклоняться громадной статуе своего
кумира, изготовленной из сахара:
Этого сахарного божка он поместил на пьедестале возле своего письменного
стола, за которым он и прославлял своего героя. Когда вдохновение кончалось,
он обычно немножко лизал ноги сахарного мужика, и это давало ему новые
силы. Наконец со временем ноги совсем истончились от этого постоянного
облизывания, так что в один прекрасный день сахарный мужик свалился с
пьедестала и проломил интеллигенту голову. Вот вам история и ее мораль.
Неожиданно Бунин становится серьезным.
— Эта трагедия, которую большинство из нас пережило, к сожалению,
никак не отразилась здесь, — сказал он. — Здесь, в Западной Европе, есть много
выдающихся людей — например, мой друг Ромен Роллан, — которые
продолжают преклоняться перед этим русским варварством. Читали, что Роллан
написал после своей последней поездки в Советский Союз? Он превозносит там
азиатских божков до небес204. Но настанет день, когда все подобные сахарные
мужики низвергнутся с высот и стукнут по голове всех этих слагателей
панегириков. Может быть, этот день не так и далек...
Бунин жмет мне на прощание руку.
204 Трудно предположить, какого рода недоразумение вкралось в эту часть интервью: Р.
Роллан побывал в Советском Союзе впервые в 1935 г. по приглашению М. Горького. Вероятно, Бунин
перечислил несколько имен французских писателей (к началу 1930-х гг. СССР посетили уже
многие представители французской литературы), а память или журналистский блокнот
корреспондента шведской газеты сохранили лишь имя Роллана. «Роллан, действительно, ни разу в печати
не выразил тревоги по поводу того, что происходит в Советском Союзе, но его переписка с рядом
зарубежных корреспондентов, ставшая доступна сравнительно недавно, его "Московский
дневник" <...>, беседа со Сталиным и письма к нему — приоткрывают постоянную тревогу, которая
не покидала французского писателя все эти годы», — пишут публикаторы переписки Роллана с
советскими корреспондентами и приводят выразительную цитату из письма 1938 г. одному из
его европейских адресатов: «Это режим абсолютно неконтролируемого произвола, без
малейшего намека на гарантии элементарных свобод, священного права на правосудие и гуманность»
[Диалог писателей 2002: 254-255]. «Свои наблюдения, — пишут авторы другого издания из
обширного эпистолярия Р. Роллана о его поездке в Москву, — Роллан счел необходимым сделать
достоянием общественности только спустя 50 лет, оговорив это как обязательное условие для
опубликования своего "Московского дневника", что свидетельствовало о последовательности
занимаемой им позиции» [Горький и Роллан. Переписка 1995: 7]. Авторы издания «Диалог
писателей» приводят внушительный список французских литераторов, посещавших в межвоенные
годы СССР, и комментируют некоторые из их публикаций с впечатлениями об увиденном
[Диалог писателей 2002: 11-13]. Андре Жид, который долгие годы поддерживал дружеские
отношения с Буниным, именно в 1932 г. испытал перелом в настроениях, удививший многих
представителей как французской, так и русско-эмигрантской интеллигенции, заявив, что собирается
посетить СССР, с которым связывает самые светлые надежды. Однако он побывал в Советском
Союзе лишь в 1936, в том же году вышла его книга «Возвращение из СССР», встреченная в
эмигрантской среде, напротив, с воодушевлением благодаря содержавшейся в ней острой критике.
375
— Вот и все, что я могу сегодня сказать, — заключает он (Dagens nyheter,
12.11.1933, s. 3).
Так неожиданно мелькает в одной из шведских газет имя Ивана Шмелева,
par hazard возникшее в одном из бунинских интервью задолго до получения
премии. Более никаких упоминаний о литературе русской эмиграции, никаких
имен и книг в шведской прессе за более чем месяц чествований в ней Бунина
нет. Русская классическая литература замкнулась на давно усвоенных именах
Толстого и Достоевского, и Бунин в Швеции был назван наследником и
последним представителем традиций XIX века; современная русская литература все
прочнее связывалась в культурном сознании Европы с именами советских
писателей. Если шведские журналисты писали об эмиграции, то чаще всего это
было отражение весьма туманных представлений, которые — выдавая за
перевод наводнивших шведские газеты корреспонденции, — в весьма гротескной
форме обыграл в одном из писем Бунину Г. Олейников. Ссылаясь на солидную
«Свенска дагбладет», представитель нобелевской семьи сообщает, как шведские
журналисты описывали «неописуемые радость и восторг членов русской
колонии во Франции»:
Они расположились лагерем у своего соотечественника со своими самоварами
и пирогами и пели под балалайку старорусские песни дни и ночи напролет
(РАЛ, MS. 1066/4294; письмо от 15.11.1933)205.
Так невыдуманный национальный праздник русской эмиграции
показался сдержанным и сытым шведам своего рода варварским «гулянием на
масленице». Впрочем, несколько содержательных материалов о Бунине, в том
числе в контексте торжества русской эмиграции, в шведской прессе все же
появилось.
Вряд ли случайно один из самых информативных репортажей из Франции,
озаглавленный «Нобелевская премия настигла в кино. Ликование русского
Парижа», был опубликован в «Дагенс нюхетер» (Dagens nyheter, 26.11.1933, s. 1,28),
газете, где долгие годы работал эксперт Нобелевского комитета по славянским
литературам А. Карлгрен. Эту высоко профессиональную публикацию
заинтересованной и доброжелательной журналистки, специального корреспондента
газеты Эллен Руделиус стоит привести почти целиком: в дневниках и
воспоминаниях виновника тех событий и его близких, слишком увлеченных сборами,
захваченных суматохой всеобщего ликования, усугубленного местом
действия — вечно праздничным Парижем, — подробности затерялись, просто
позабылись, мелькнув, как разноцветный туман, горсть маскарадного конфетти.
В обстоятельной статье добросовестной шведки мелочи тех счастливых для
Бунина дней как раз и приобретают особую ценность.
205 В архиве Бунина сохранилось весьма любезное письмо от корреспондента «Свенска
дагбладет» (E.V. Rusen) с просьбой об интервью (РАЛ, MS. 1066/4873; письмо от 19.11.1933).
376
Дни наполнены звоном и ликованием в русском Париже, этом городе в городе,
который насчитывает 75.000 душ и имеет свои собственные церкви,
библиотеки, газеты, театры, рестораны, больницы и врачей. Для всех этих людей,
которые прошли через тысячи испытаний и лишений, которые потеряли свою
родину, 9 ноября, когда Бунин был назван лауреатом Нобелевской премии, стал
выдающимся днем. Это стало подтверждением того, что свое последнее
сокровище — русский язык — они все же не потеряли. Когда русский в первый раз
удостоился столь высокой чести206, то знаменательная телеграмма была
получена в России вне России. Эта Нобелевская премия стала не просто
заслуженной наградой большому мастеру слова, но оказалась поддержкой, вниманием к
целому народу в рассеянии.
А сам герой дня? Он живет в «Мажестике», великолепном отеле рядом с
Триумфальной аркой, и сейчас переживает свежеиспеченную мировую славу,
более или менее приятную сенсацию: беспрестанные телефонные звонки,
наплыв журналистов, литераторов, желающих переводить его произведения,
издателей с новыми предложениями, приглашения на чествования в русские
клубы, газеты и т. д. Когда Бунин в сопровождении друзей, встречавших его на
Лионском вокзале, явился в отель, он скромно попросил комнату во
внутреннем дворе. Директор отеля возразил, что готов предоставить нобелевскому
лауреату роскошные апартаменты по цене комнаты во внутреннем дворике. То
же самое и в русском ресторане <Корнилова> вечером: простой ужин, который
заказал Бунину старый друг, вылился в настоящий банкет.
Когда я вошла в маленький салон нобелевского лауреата, там сидел его
друг, журналист и писатель Яков Цвибак, ставший в эти суматошные дни его
секретарем. И вот быстрыми шагами вошел Иван Алексеевич. Высокий,
сухощавый, гладко выбритый, с серебристой сединой над бледным, с резкими
чертами лицом и с красивым, звучным голосом, он является ярко выраженным
представителем старой аристократической и образованной России (Dagens
Nyheter, 26.11.1933, s. 28).
Если вспомнить те стиль и тон, в которых всеобщий праздник (или, по
Кузнецовой, кавардак) изображал, не жалея красок, тот же А. Седых, то контраст
между Буниным, принадлежащим плотью и духом русской эмиграции, и
нобелевским лауреатом, представшим перед серьезными очами шведских
журналистов, разителен. «Многоликий» Бунин явился в дни своих нобелевских
торжеств в образе «римлянина-патриция» (Возрождение, 14.11.1933, № 3087, с. 4).
В.М. Зёрнов чутко определил позже роль общественного внимания в этой
«патрицианской» позе писателя, пленившей и шведов:
Помню его, элегантного, в новом фраке, с белым цветком в петлице, помню его
бледное, суховатое и торжественно-сдержанное лицо. Мы, все
присутствующие, гордимся Буниным, и, вероятно, поэтому он кажется нам еще интереснее,
еще замечательнее. Речи, приветствия, цветы и аплодисменты <...> и кажется
мне, что Бунину это нужно, нужен и древний род, и торжество его признания,
206 Имеется в виду первый лауреат Нобелевской премии по литературе: Нобелевская премия
по физиологии и медицине русским уже присуждалась: в 1904 г. И.П. Павлову, в 1908 г. И.И.
Мечникову.
377
и слава, и хочется, чтобы эта слава была мировой, всемирной, с лаврами,
цветами и рукоплесканиями [Зёрнов 1973: 358].
Упоминание об аристократической внешности Бунина не штамп — таким
писатель явился в самые счастливые для него дни эмигрантской жизни
шведским журналистам, шведской публике в целом207. Стоит отметить, что Э. Руде-
лиус относится без предубеждения к тому, что видит и слышит во время визита
к нобелевскому лауреату; она не пытается провоцировать его политическими
вопросами, внимательна к его рассказам о литературном труде, аккуратно
записывает ответы писателя и на обычные вопросы интервью, главный из
которых уже получил название в шведской прессе: сенсация в кино.
Я счастлив и признателен вашей стране, которая присудила мне эту почетную
награду, — говорит Бунин и рассказывает — в который уже раз? — как он
получил известие о ней. — Был пасмурный дождливый день, не очень хороший
для работы, и я отправился в кино поблизости, в Грассе. И в самый
захватывающий момент прямо на меня упал луч карманного фонарика. Мой
приемный сын Зуров, который живет с нами, сказал, что был телефон из Стокгольма,
но что моя жена не смогла хорошо разобрать и очень расстроена.
Э. Руделиус подробно расспросила Бунина о его происхождении, о детских
и юношеских годах, о странствиях и о годах службы — но поскольку в статье
она старается привести монолог писателя от первого лица, то его
автобиография становится мало отличимой от ряда эпизодов «Жизни Арсеньева». На
муссировавшийся шведской периодикой вопрос о традиции — неизменно
преследовавший Бунина, ибо это было ключевым словом формулировки
Нобелевского комитета, — писатель ответил так:
Некоторые критики сравнивают меня с Тургеневым, но мне это кажется
неверным. Тургенев был нежным мечтателем. Я думаю, не будет слишком
самонадеянным сказать, что я — это Я САМ в своих стихах. Если с кем у меня и есть
сходство из русских, так это с Толстым, хотя я пишу более импрессионистично.
Мое мнение о Достоевском? Великий человек, но лично я восхищаюсь
Толстым. Я бы еще хотел сказать о моих рассказах, что это не просто описания, но
в сущности <au fond> это стихотворения. Собственно, я никогда не писал
между поэзией и прозой, в <моих> стихах не больше ритма, чем в прозе, это
поэтические формы, вытекающие из одного источника.
О поэзии Бунина ничего не говорится в «Заключении» Шведской
академии — эксперт Нобелевского комитета писал о ней всего единожды, в своем
первом экспертном отзыве 1923 года. Однако шведская журналистка не только
дала Бунину возможность высказаться, но и сохранила полностью это призна-
207 Хотя без штампов невозможно обойтись: годом раньше газеты хором твердили об
«истинно английском джентльмене» — лауреате 1932 г. Дж. Голсуорси (ср. заголовок, предваряющий
высказывания о писателе ведущих литераторов и филологов Швеции: «En äkta engelsk
gentleman» — Svenska dagbladet, 11.11.1932, s. 13).
378
ние, столь важное для понимания поэтики Бунина: во всяком случае, бережно
относясь к собственным признаниям нобелевского лауреата208, Э. Руделиус
представляет его своему читателю гораздо более многоплановым и
оригинальным писателем, чем большинство других шведских корреспондентов.
В интервью столь внимательно слушавшей мэтра шведской журналистке
Бунин мог бы, наверное, изложить весь свой путь в литературе год за годом. Он
сам расставляет акценты — например, сетует, что критика упрекала его за
слишком тесную связь «с землей». На это писатель «ответил словами Корана —
только то дерево пышно зеленеет и уходит кроной высоко в небеса, которое
глубоко укоренено в земле». Но теперь Бунин обитает на другой земле,
а дерево его творчества продолжает цвести пышно и прекрасно, и это повод
для журналистки — обойдя молчанием перипетии беженства и муки
изгнанничества — рассказать о сегодняшнем дне нобелевского лауреата, о его
склонности к «хорошей, богатой жизни» «среди пиний и пальм». Имя Галины
Кузнецовой в этой публикации не фигурирует, а чета Буниных приобретает несколько
буколические черты:
На белой вилле на Ривьере он живет вместе с женой, Верой Буниной, дочерью
председателя Думы Муромцева209. Двадцати шести лет Вера Бунина стала
верной подругой своего мужа и героически переносит все экономические
трудности, в изгнании оставаясь женой художника. Литературно одаренная, она
сама довольствуется тем, что пишет дневник, публикуя некоторые страницы
из него в русских газетах.
Торопливо увлекаемый Я. Цвибаком на очередное чествование, Бунин
вежливо заключает:
— Я рад, что увижу вашу страну <...>. Мне хорошо во Франции, но у нас,
русских, и у вас, шведов, больше общего — тот же климат, те же склонности.
Когда я увидел в рекламном проспекте вышивку на народных костюмах, мне
это напомнило Россию.
— А потом, после поездки в Стокгольм, что будет тогда?
— Я не знаю. Сначала вернусь в Грасс, чтобы закончить новую работу.
В моей собственной жизни еще одна глава, напряженный год, завершилась.
208 Одно из них — «рассказ о первой поездке в город» — оказался импровизацией на тему
первой книги «Жизни Арсеньева» (глава III). Но корреспондентка об этом не знала, ибо
получила изданную по-шведски книгу с дарственной надписью только во время этого посещения
писателя. «Вот, думают, что история Арсеньева — это моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не
могу я правды писать. Выдумал я...» — уверял Бунин читателей и критиков с момента
публикации автобиографического романа, повторил это в русской прессе и в нобелевские дни
(Последние новости, 16.11.1933, № 4621, с. 4). Но если можно спорить об автобиографичности героев или
сюжетных перипетий, то многие жизненные впечатления и воспоминания писателя вошли в
роман, как показывает и цитируемое интервью шведской газете, без изменений.
209 Неточность: В.Н. Муромцева-Бунина была племянницей С.А. Муромцева (1850-1910) —
профессора римского права Московского университета, одного из лидеров кадетской партии,
председателя первой Государственной думы.
379
Я счастливый человек, в радость которого подмешивается капля грусти. Что
еще может предложить жизнь?.. (Dagens nyheter, 26.11.1933, s. 28).
Жизнь подготовила, однако, еще один отрадный сюрприз: торжества в
Стокгольме. Появление нобелевского лауреата по литературе в Швеции
русские газеты сразу преподнесли как триумф, сообщая, что накануне прибытия
Бунина в Мальме съехались специальные корреспонденты, наперебой бравшие
интервью и славшие телеграфные отчеты в скандинавские газеты. Впрочем,
ничего нового и сенсационйого о русском писателе шведам узнать не удалось:
«Шведские журналисты наводнили вагон еще с вечера, — свидетельствовал
«представляющийся журналистом» А. Седых (Göteborgs handeis- och sjöfarts-
tidning, 6.12.1933, s. 14), — они выехали навстречу, в Мальме. В сотый раз Иван
Алексеевич рассказал, как он узнал о присуждении ему премии Нобеля, как
любит северную природу, как ценит шведскую литературу...» [Седых 19336: 2].
Действительно, интервью не блещут разнообразием, но в этом сказывается
и личный аспект: Бунину нелегко сыпать на чужом языке афоризмами и
парадоксами, развлекать шведскую публику блистательными монологами. Бунин
играет роль великолепно, однако это почти немая роль — шведы увидели
нобелевского лауреата и почти не услышали его.
Напряжение непрерывных праздников дало себя знать уже при отъезде из
Парижа, и 6 декабря Бунин ступил в Треллеборге на шведскую землю
измученным:
Это был очень усталый нобелевский лауреат, особенно измотанный
путешествием, неожиданно оказавшимся приглашением к приключению. Поскольку
ему и его спутникам не удалось найти подходящего поезда в Гамбурге, то из-за
этого им пришлось отложить прибытие на день (Göteborgs handeis- och sjöfarts-
tidning, 6.12.1933, s. 14).
Парижский поезд опоздал210, экспресс в Стокгольм уже ушел, и Бунин с
дамами и секретарем был вынужден задержаться в Германии. Поначалу
«неприятный сюрприз» даже воодушевил нобелевского лауреата: «И отлично! —
воскликнул он, по свидетельству А. Седых. — Будем есть сосиски и пить пиво...»
[Седых 19336: 2]. Традиционное немецкое меню оказалось «отличным»,
зоологический сад произвел в декабрьских сумерках на русских эмигрантов
невеселое впечатление, а полное отсутствие интереса к проезжему нобелевскому
лауреату заставило компанию бесцельно скитаться по «скучным гамбургским
улицам». Германия предстала в своем новом облике: коричневый цвет
униформы, вскинутые в приветствии «Heil Hitler» руки детей и свастика повсюду
удручали; для А. Седых специальный интерес представляло еврейское население,
210 Любопытно, что, рассказывая о незапланированно проведенных Буниным «лишних»
сутках в Гамбурге из-за опоздания парижского поезда, газета «Возрождение» печатает рядом
резко критический материал «Ухудшение на железных дорогах» — разумеется, советских (7.12.1933,
№3110, с. 2).
380
чья судьба, открывшаяся корреспонденту русской эмигрантской прессы в
образе выкинутого на скучные улицы Гамбурга теряющего облик приличности
буржуа, была уже предрешена в Третьем рейхе [Седых 19336: 2].
Наконец Бунин оказался в Заснице, на пароме «Густав V»211. Тотчас к
нобелевскому лауреату подсел шведский журналист и немедленно стал
рекомендовать шведские закуски: «Когда подали счет, Бунин только вздохнул и сказал:
— Жизнь хороша, но очень дорога!» [Там же]. Впрочем, Бунина ждали, по
уверениям И. Троцкого, полторы недели «тяжких испытаний». Аккредитованный
в Швеции журналист предостерегал:
Шведское гостеприимство перещеголяло даже прославленное старое русское
хлебосольство. Нужно иметь железный желудок, чтобы одолеть обилие яств,
приуготовляемое премированным гостям [Троцкий 19336: 2].
Но и плотная вкусная еда, и сходная природа не казались особо
привлекательными. За полтора десятилетия, проведенных Буниным вне России, хотя и в
скитаниях, но по теплым морям, на вилле в средиземноморских Альпах,
северная Германия и южная Швеция, которые должны были вызвать своим
предновогодним пейзажем ностальгические чувства, показались чужими: «За окнами
зима. Еловые леса в снегу. Белая земля. <...>. Холодно» (Бунин в дороге //
Возрождение. 7.12.1933. № 3110. С. 2).
Несмотря на соседство России и Швеции, русские писатели были
нечастыми гостями на противоположном берегу Балтики, а с визитом по столь
торжественному поводу русский писатель приехал и вовсе впервые; неудивителен
огромный интерес к нему газетчиков. Был в приехавшей из Парижа русской
компании и определенный налет экзотики, притягательный для журналистов,
многое не могло не казаться «в диковинку». Более или менее точно газеты
перечисляли сопровождающих русского писателя лиц; возможно, с их стороны
последовали определенные уточнения, поскольку Галина Кузнецова превратилась
из «приемной дочери» Бунина в «подругу» его жены, «пишущей мемуары,
которые публикуются в газетах, но еще не вышли в виде книги» (Göteborgs handels-
och sjöfartstidning, 6.12.1933, s. 14)212. Временный секретарь Бунина, Яков Цви-
бак, «представившийся журналистом», поразил воображение флегматичных
шведов своей «оживленностью» (там же)213. Корреспондент гётеборгской
газеты с заметным интересом останавливается на внешности нобелевского лауреа-
211 Г. Олейников настойчиво рекомендовал нобелевскому лауреату заказать паром шведской
компании, пообещал встречать уже в Заснице, на немецком берегу (письмо от 12.11.1933; РАЛ,
MS. 1066/4292), однако обещания не исполнил.
212 Эти два биографических акцента — хорошее происхождение и наличие собственного
занятия у супруги лауреата — еще более усиливают симпатию к Вере Николаевне, столь пленившей
шведов.
213 Собственно, в газете он назван «мсье Жак», совершенно как один из булгаковских
персонажей: «en Paris-ryss M. Jacques, Zwilak (sic! — T. M)».
381
та: юг Швеции, который Бунину предстояло пересечь, отличали
профашистские настроения; осенью-зимой 1933 г. шведские газеты публиковали материалы
о расходившихся шведских нацистах именно из района портово-промышлен-
ного Гётеборга.
Можно поспорить, насколько верны прежние утверждения прессы, что у
Бунина типично русская наружность. Можно сказать коротко, что он не
принадлежит к определенному расовому типу. У него хорошо очерченное
продолговатое лицо, смеющийся рот, живые и иногда мечтательные глаза. Лицо очень
выразительно благодаря глубоким морщинам, которые, говорят, свойственны
много думающим людям. Коротко стриженные седые волосы выглядят по-
спартански, так же как и черное пальто.
Плотно окольцованный встречающими газетчиками, он разместился в
углу купе на пути из Треллеборга в Мальме. Он так устал, как уже было
сказано, что говорил почти только по-русски, и поэтому немного удалось узнать
из собственных уст нобелевского лауреата. Часто он произносил: «Вот он все
знает», — и указывал затем на своего секретаря.
То, что рассказывал секретарь, читатели газеты знают от своего
собственного корреспондента. Новой была только история с паспортом. До сих пор у
Бунина не было никакого паспорта. Когда он сидел вечером в кино, раздался
телефонный звонок из Стокгольма о присуждении ему Нобелевской премии,
известной во всем мире, и тем самым он был вознесен надо всеми мелочными
препятствиями в преодолении границ. В 24 часа он получил паспорт
эмигранта, за 20 минут он был завизирован шведским представителем в Париже, и все
было улажено. Теперь у него есть паспорт.
С озабоченностью в голосе Бунин поинтересовался, много ли снегу в
Стокгольме и как много будет официальных приемов и обедов. Знающие люди
объяснили ему. Он, очевидно, обдумывал, как ему вести себя, если он встретит
мадам Коллонтай, советского посла в Стокгольме. И как пройдет встреча с
королем. Последняя встреча, надо думать, потребует меньших размышлений,
нежели первая, у этого простого, скромного человека, которого Шведская
академия вдруг поместила в эпицентр литературы.
Бунин хорошо знаком со шведской литературой (упомянул Стриндберга и
Лагерлёф). На более конкретные вопросы он отвечал вежливым мягким
жестом, который можно было понимать как угодно.
Довольно типично менялись вчера вечером его реплики интервьюерам в
ответ на национальный шведский вопрос, а именно о шнапсе. Бунин произнес
удивительно правильно шведское слово «водка», узнав, что нужно ставить
ударение на обоих слогах214. Его спрашивали о его намерениях в холодной
заснеженной стране Нобелевской премии. О том, что собирается делать Бунин, знал
его секретарь. Он останется на неделю или две, чтобы оглядеться. Есть
программа шведского путешествия, а после ее выполнения они вернутся в теплый
французский Грасс.
214 Brännvin («брэнвин») — буквально «огненное вино»; этот пассаж отражает особенности
шведской фонетики — наличие т. н. музыкального ударения, состоящего не только в силе, как в
русском языке, которому свойственно динамическое ударение, но и в тоне.
382
В Мальме обнаружилось, что нет спальных мест для мадам Буниной и
Кузнецовой, но, как и в случае с паспортом, он вновь почувствовал выгоду быть
знаменитым. Двое мужчин в соседнем купе по-рыцарски уступили свои места,
и поезд тронулся на север, увозя дружески кивающих и улыбающихся
спутников, которые уехали в северную столицу, чтобы получить премию,
попробовать шнапс и встретиться с королем.
Не удается выудить новых подробностей о путешествии уже несколько
измученного русского лауреата и о нем самом и корреспондентке «Лундской
дневной газеты» (Lunds dagbladet, 6.12.1933, s. I)215, ей приходится довольствоваться
рассказом фрекен Галины Кузнецовой, «молодой ученицы Бунина и
писательницы», «которая вместе с Буниным была на знаменитом киносеансе в Грассе».
Сам простуженный Бунин пытается острить:
Не пугает ли меня шведский холод? Но, мадемуазель, я, как и вы, северный
житель — эти ели и снег так напомнили мне дороги, на которых я жил и
которые так любил, — Москва, Петербург... Но, разумеется, потом я долго жил в
южной Франции и привык к солнцу и теплу и пальмам, так что, конечно,
немного испортился. И вот вы видите результат.
На вопрос о своем знакомстве со Швецией Бунин «важно» выговаривает
названия шведских городов, которые они миновали; своего расторопного
«фактотума» Цвибака переспрашивает, «как называется шведский шнапс», и блещет
литературными познаниями:
Я глубоко восхищен Сельмой Лагерлёф, мы много читали ее еще в России. И
Стриндберга, это мощная личность, жестокая и грубая, но это великий
человек. Да, он, разумеется, сильно повлиял на меня в молодости.
Сколько я собираюсь пробыть в Швеции? Но я еще не успел
запланировать; последние три недели я был закружен празднествами, и чествованиями,
и магазинами, и, простите, журналистами и так далее, так что я и подумать ни
о чем не успел. Знаете, уже прежде, чем я получил какую-то известность
благодаря Нобелевской премии, меня, конечно, читали и переводили во многих
странах. Но после — я получил не меньше 200 предложений от издательств и
переводчиков216. Да, я достаточно трудолюбив — но есть пределы и для
профессионального писателя.
215 Материал подписан инициалами Е.В. и отражает женский взгляд на нобелевского
лауреата: «Бунин устал, но — усталый и простуженный — он тем не менее держался передо мной
с истинно французской, или по крайней мере нездешней, учтивостью», — сразу сообщает
корреспондентка.
216 В чем состояло qui pro quo в этом случае, трудно теперь объяснить; быть может, виновата
путаница во французских числительных, или вдруг дала себя знать подмеченная еще Гоголем
особенность русского человека на порядок набавить числительное. Между тем в одной из газет
эти неосторожные слова вынесли в «кричащий заголовок»: «Бунину предложено написать 200
новых книг» (Svenska dagbladet, 6.12.1933, s. 3), — справедливо усмотрев в этом сенсацию. Когда
Г.П. Олейников перевел это неосторожное обещание, «Бунин хватается за голову. — Милый, кто
же им сказал это?» [Седых 1933в: 2]. Однако корреспонденты услышали это в Мальме от самого
383
Поддерживаю ли я отношения с другими русскими
писателями-эмигрантами? Ну, конечно, я знаю почти всех, и очень часто кто-нибудь из них
приезжает ко мне в Грасс и останавливается на пару недель или месяцев, а то и на
год. Да, я прижился во Франции и живу в ладу с французами. Но мы живем в
основном в собственном кругу и в кругу наших русских друзей. Грасс — это
идиллия, там нет никаких железных дорог. Возле дома у нас есть огород и
цветник, мы выращиваем помидоры217. И еще мы работаем. Моя жена пишет
собственные мемуары, которые иногда публикуются в русских газетах во
Франции. Мадемуазель Кузнецова — многообещающий романист, и с нами живет
еще один молодой русский писатель. Да и сам я пишу. И еще мы ездим иногда
в Париж оглядеться. Раньше я много путешествовал, почти всю жизнь провел
в путешествиях. Несколько зим я провел в Италии, на Капри, написал там две
книги. Мой паспорт? Да, теперь у меня есть нансеновский паспорт. Обычно
нам, русским эмигрантам, очень сложно получить такой паспорт — как
правило, нужно ждать 4-5 месяцев, — но благодаря известным обстоятельствам
мне посчастливилось получить его в 24 часа. Свою шведскую визу я получил за
24 минуты, шведы были очень любезны. Скажите, мадемуазель, очень ли будет
торжественно в Стокгольме?
Я, к сожалению, не смогла успокоить усталого нобелевского лауреата.
Правда, я не сказала ему, что представители русской церкви собираются
встречать господина Бунина с иконой, с хлебом-солью и с русским полотенцем —
как раньше приветствовали царей и других высоких персон. Но
существование Шведской академии я не смогла отрицать.
— Да, наконец-то господин Бунин почувствует себя дома, — замечает
господин Цвибак, — в старой России Бунин и сам был академиком.
— Старая Россия. Надеется ли Бунин когда-нибудь вернуться туда?
— Надеюсь, да, que voulez-vous, должен же человек ради чего-то жить, —
говорит Бунин с немного печальной улыбкой.
И вот я проводила Бунина к стокгольмскому поезду, в ночь. И Бунин не мог
сказать ни о своей речи в Шведской академии, ни о своем посещении русско-
шведского общества в Лунде. Господин Бунин просто очень устал усталостью
путешественника после многих лишений.
Все корреспонденции поражают отсутствием литературного элемента,
ощущения незаурядной творческой личности. Повторяются не только
однотипные вопросы — ничего существенного не может сказать и сам лауреат:
кажется, нервное состояние его таково, что в любой момент может последовать
лауреата: «В качестве курьеза должен упомянуть, что за последние три недели мне заказали не
меньше 200 книг, и нужно ведь подумать, что мне 63 года. Среди тех стран, которые пожелали
перевести мои сочинения на свои языки, бесконечно много таких, о которых я в жизни не
слыхивал <...»> (Svenska dagbladet, 6.12.1933, s. 16).
217 Один из выразительных примеров отношения Бунина к выращиванию плодов приводит
Г. Кузнецова [1995: 104-105]: «Днем пололи с Илюшей (И.И. Фондаминским. — Т.М.) дорожки в
саду, обрезали засохшие прошлогодние цветы. И.А., гулявший среди всего зеленого великолепия
первого почти летнего дня в своей новой красной пижаме, останавливался, смотрел на нас и
говорил: — Все это ни к чему. Трава растет, где ей Бог повелел... Его деревенская натура не терпит
никаких ухищрений над природой».
384
срыв, подобный знаменитой фразе разогнавшей женихов Агафьи Тихоновны.
Однако шведские журналисты совершенно не поторопились воспользоваться
услугами Я. Цвибака, который «знает все», — только сам нобелевский лауреат
находился в центре их профессионального интереса и человеческого
любопытства.
«Бунин здесь», — радостно возвестила «Стокхольмс тиднинген» (Stockholms
tidningen, 6.12.1933, s. 1), также начав с изложения подробностей поездки уже
усталого, измученного дорогой Бунина по Швеции: в переполненном ночном
поезде из Мальме в Стокгольм Бунину не удалось получить для своих спутниц
спальные места, и только уважение к нобелевскому лауреату со стороны
шведов, уступивших русским дамам свои места, позволили лауреату «не
бодрствовать первую ночь в Швеции». Корреспондент с удовольствием отмечает «это
маленькое приятное доказательство шведского гостеприимства» и тут же
задает «неизбежный вопрос» о северной зиме:
Бунин сам ответил на своем ломаном французском:
— Знаете, это как возвращение домой. Когда я проезжал по северной
Германии и увидел снег и ели, ощущение было совершенно удивительное. Я уже
пятнадцать лет не был дома. Мне нравится юг — там солнечно и тепло, — но
русская зима — это в любом случае что-то другое — то, о чем тоскуешь.
Корреспондент столичной газеты кратко, но весьма выразительно описал
«свиту» русского нобелевского лауреата: сам седовласый мэтр, «с совершенно
вненациональной наружностью» — «возможно, русские черты изгладились от
долгого изгнанничества»; его «обаятельная жена, с красивыми глубокими
глазами и умным ртом», «с букетом хризантем, которые ей вручил русский
преподаватель из Лунда — единственный, кто встречал, без прессы, нобелевского
лауреата в Треллеборге» (ibid., s. 17)218. Оказалось, что свежеиспеченный
лауреат «не владеет в совершенстве ни одним языком, кроме русского, и говорит на
весьма ломаном французском». Впрочем, заметив, что благодаря полученным
от 200 издателей и переводчиков предложениям он «начал постигать, что земля
большая и на ней обитает много, много разных языков», Бунин честно
признался, что сам «говорит только по-русски — французский он пытался изучать
самостоятельно, что не вполне получилось».
Лауреат гордо сообщил журналистам, что он сам — член Императорской
Российской академии и поэтому ему придется встречаться с коллегами;
впрочем, он назвал имена двух шведских академиков, с которыми ему хотелось бы
встретиться в первую очередь: Сельма Лагерлёф и Пер Хальстрём. От
«прославленной и любезной» шведской писательницы Бунин получил поздравительную
телеграмму, а секретарь Шведской академии, как лицо официальное, сообщил
218 м.Ф. Хандамиров, встретивший паром в Треллеборге, сопровождал Бунина дальше — в
Лунд и затем в шведскую столицу, однако держался в тени, не попав ни в отчеты шведских газет,
ни в корреспонденции А. Седых.
385
писателю разные важные церемониальные подробности, в том числе и о приеме
у короля, который очень волновал Бунина. «Обычно представление делает
посол страны, но у меня нет никаких особенно дружеских отношений с мадам
Коллонтай»,— не отказал себе в иронии Бунин (Svenska dagbladet, 6.12.1933,
s. 16) и на последовавший крайне осторожный вопрос, о чем он собирается
говорить на Нобелевской церемонии, ответил, что никаких программных
литературных заявлений он делать не будет, но, «конечно, маленькую речь
произнесет». Острых политических вопросов — приезд первого русского нобелевского
лауреата по литературе в страну, где покинутую им, изгнанником, Россию
представляла первая в мире женщина-посол, — журналист предпочел не касаться.
«Свенска моргонбладет» оказалась едва ли не единственной газетой,
вопросы которой простуженному, обмотанному теплым шарфом и довольному
оказываемым приемом Бунину касались России и эмиграции (Svenska morgon-
bladet, 6.12.1933, s. 1,8). На вопрос о возвращении в Россию Бунин только рукой
махнул:
Разумеется, я люблю родину и скучаю о ней, но не думаю, чтобы я смог снова
увидеть ее, пока там правит нынешний режим, но, может быть, настанет
долгожданный день, все повернется вспять и двери родной земли отворятся. Нельзя
думать, что в России всегда будет так, как сейчас. Народ должен наконец
вернуться к прежнему.
— Чем объясняется энергичное противостояние большевиков
христианству?
— Поскольку все они марксисты, то согласно странной логике этой
системы нельзя быть терпимым к христианству. <...>
— Как живется вам и вашим соотечественникам в изгнании?
— Да ничего. Мы устраиваемся, как только можем. В основном это
интеллигенция, и многие стали рабочими, официантами и так далее. Мы держимся
вместе и стараемся помогать друг другу.
— Наш дом открыт для молодых нуждающихся писателей и
художников, — добавляет госпожа Бунина, которая говорит по-французски лучше, чем
ее муж, и которая очевидно рада поговорить на эту тему. Она явно собиралась
рассказать, сколько у них перебывало соотечественников.
Большим удивлением для них было не увидеть снега, которого они ждали.
— Как долго вы пробудете?
— Посмотрим. Профессор Хандамиров собирается сопровождать нас в
поезде из Стокгольма в Лунд, к себе в гости, наверное, это будет замечательно.
Наше время ограничено. Назад мы отправимся через Дрезден и Лейпциг (Ibid.,
s. 8).
Кому-то из журналистов удается лично взять интервью, кто-то
довольствуется ответами на заданные другими вопросы. И писателю, и журналистам
приходится говорить на чужом языке; как бы последние ни упрекали русского
лауреата в плохом знании языков, но им самим тоже приходилось напрягаться
и что-то поневоле упрощать. Из газеты в газету кочует рассказ о простуде,
386
о снеге и елях, о приеме у короля (которому в июне исполнилось 75 лет) и о
знакомстве с несколькими шведскими литературными именами — с которыми,
впрочем, был в те годы знаком любой образованный человек в Европе.
Кажется, газетные репортажи мало что прибавляют к человеческому и тем более
творческому облику Бунина, лишь позволяют более или менее точно отхроно-
метрировать его пребывание в Швеции.
Однако незамысловатые публикации в местной шведской прессе некоторое
значение для истории литературы все же имеют. Во-первых, шведам пришлось
впервые принимать на столь высоком уровне русского писателя, волей-неволей
демонстрируя собственное восприятие соседней страны — исконного врага
(недаром один из первых интервьюеров Бунина заволновался, услышав
название Полтава), еще более тревожного и непостижимого после победы
революции и установления нового строя. Хотя вопросы Бунину задаются осторожные,
определенные оценки проскальзывают и с той, и с другой стороны; например,
Бунина спрашивают об атеизме последователей марксизма — разрушение
христианских ценностей, отказ от тысячелетнего духовного опыта христианства
воспринимается как одна из самых неприемлемых сторон коммунистического
режима. Во-вторых, общение русского нобелевского лауреата по литературе со
шведскими журналистами показательно также уровнем и характером
представлений двух соседних народов о культуре друг друга: как Бунин отбивается
лишь именами Лагерлёф и Стриндберга от однотипных вопросов, так и шведы,
как один, не оригинальны и кроме имен Тургенева, Толстого и Чехова тоже не
могут похвастаться глубокими познаниями в русской литературе. У Бунина не
было времени вздохнуть, когда пришла радостная весть из Стокгольма; но,
долгими годами ожидая этого известия, он мог, казалось бы, познакомиться с
культурной, литературной жизнью северо-западного соседа России, вовсе не для
того, чтобы блеснуть при случае в светской беседе с королем, а для того, чтобы
составить собственное понимание о Шведской академии, присуждаемой ею
премии и отношении к литературному творчеству там, где тоже зимой
выпадает снег и укутывает сосны и ели, совсем как в утраченной России. Кроме
взрыва негодования в 1931 г., когда премия вновь досталась не ему, а
наследникам покойного Э.А. Карлфельдта, никаких иных чувств он не испытал, а
личность и творчество «последнего национального поэта» Швеции [Den Svenska
litteraturen 1997: 23] никакого интереса у него не вызвали. Встреча Бунина в
Мальме и Лунде, затем в Стокгольме больше всего напоминала сцены из
фантастических романов, неких «марсианских хроник», когда контакт
устанавливают доброжелательные представители не разных стран — а разных
цивилизаций, разных миров, не имеющих друг о друге ни малейшего представления.
А ведь речь шла о жителях двух соседних стран (в данном случае эмиграция
Бунина не является решающей).
Наконец, спонтанная реакция малоосведомленных журналистов на
присуждение премии неизвестному в Швеции, да и в Европе русскому писателю-
387
эмигранту, поверхностные беседы и зарисовки облика и манер стареющего, но
привлекательного мэтра, его окружения — все это позволяет увидеть и оценить
жизнь русского эмигранта сторонними глазами, абстрагировавшись от того
автопортретирования, которым эмиграция вынужденно занималась около двух
десятилетий своей почти изолированной жизни в Западной Европе. Только
такое выдающееся событие, как Нобелевская премия, могло возбудить некоторый
интерес к русскому зарубежью, к его живущей в отрыве от родины и вне ее
современности творческой интеллигенции. Шведские газеты, наполненные
обычными предрождественскими материалами, от важных политических и
государственных дел или публикаций к столетию со дня рождения Альфреда Нобеля
до приглашений на распродажи и репортажей из курортной Ниццы,
демонстрируют со всем драматизмом реального положения вещей, что историей и
культурой России в стране интересовались очень мало — во всяком случае,
несоизмеримо меньше, чем политическими и торговыми отношениями с
гигантским соседом на востоке; что в культурном отношении сама Швеция оставалась
страной весьма провинциальной; что сложная послевоенная обстановка даже
в нейтральной Швеции упрочила позиции социалистов. Если шведам были
незнакомы до рубежа 1920-х-1930-х гг. такие произведения Бунина, как
«Деревня», «Суходол», «Господин из Сан-Франциско» с его мощным критическим
зарядом, то в начале 1930-х гг. не вызывал симпатии русский писатель, покинувший
социалистическое отечество и обосновавшийся на французской Ривьере, т. е.
по обывательским меркам писатель подчеркнуто буржуазный. Только
происхождение «выручало» Бунина, ибо лишь насильственное изгнание из
революционной России дворянства могло оправдать в восприятии шведов, глубоких
патриотов, притом на глазах социализировавшихся, эмиграцию писателя.
Кроме того, положение в искусстве в самой Швеции кардинальным образом
отличалось от настоящего взрыва во всех его сферах в России: Швеция не
пережила культурного ренессанса ни на рубеже столетий, ни после Первой мировой
войны — когда подъем интеллектуально-эстетической жизни в
послереволюционной России продолжался в новых формах, а в Европе наступил расцвет
модернизма, новаций во всех сферах искусства, в том числе в литературе (и
русские эмигранты внезапно оказались в эпицентре нового европейского
культурного взрыва, в Париже), — в шведской культурной жизни не было заметно
никакого обновления, в ней продолжали господствовать эстетические воззрения
минувшего столетия. Лишь в 1940-е гг. модернисты «становятся оракулами в
интеллектуальной среде» [Den Svenska litteraturen 1997: 13], и поэтому понятно,
что шведские академики предпочли выделить и в творчестве Бунина
традиционалистские черты, связать его со всем предшествующим развитием русской
литературы, вместо того чтобы разбираться в сложном переплетении в его
творческом методе реалистических и модернистских черт.
Таким образом, о восприятии творчества Бунина в момент его нобелевского
визита в Швецию можно сказать, к сожалению, только одно — ни о каком под-
388
линном понимании и истолковании произведений писателя не было и речи, он
оставался случайной и маргинальной фигурой в культурной жизни Швеции и
ее литературно-художественной истории.
Скорый ночной поезд, в спальном вагоне которого все-таки оказался
нобелевский лауреат со свитой — пришлось несколько раз ходить по составу за
забытыми вещами, в том числе за тапочками Веры Николаевны, — доставил
Бунина в шведскую столицу утром 6 декабря, в среду. Многие из встречавших
говорили по-русски, так что перед ними Бунин мог явиться во всем блеске, не
прячась за своего бойкого секретаря. После утомительного путешествия —
новая волна энтузиазма: «Дебаркадер залит огнями "юпитеров"; трещат
кинематографические камеры, щелкают затворы фотографических аппаратов», —
усугубляя шумиху, сообщали собкоры русских газет («Иван Бунин в Швеции»;
Возрождение, 7.12.1933, № 4642, с. 1). На вокзале в Стокгольме его ожидали —
действительно, с хлебом-солью на вышитом полотенце — представитель
Нобелевского фонда, коммерции советник Рагнар Сульман, последний царский
генеральный консул Ф.Л. Броссет (Brosset), Серж де Шессен и шведский издатель
Бунина, Нильс Гебер, а также члены русской колонии во главе с Г.П.
Олейниковым219.
Все, начиная с «оригинальных подарков», — все газеты обошли снимки
Бунина с караваем хлеба на вышитом полотенце с кружевным подзором, —
удивляло шведских репортеров в лауреате литературного «Нобеля» 1933 года. Худое,
по-южному загорелое лицо Бунина странно контрастировало с отражающей
вспышки фотокамер блестящей корочкой черного хлеба, незнакомого не
только французам, но и шведам, слишком русского и, конечно, выглядевшего
немного бутафорски на перроне Центрального вокзала в Стокгольме в темноте
промозглого декабрьского утра. Газеты почтительно сообщали о
необходимости отдыха для нобелевского лауреата после «напряженного путешествия» —
как будто речь шла не о нескольких днях относительно комфортабельной
поездки по Европе, а обо всем долгом скитальческом пути русского писателя.
«Иван Бунин в Стокгольме», — радостно оповестили газеты о приезде
русского писателя, которого «приветствовали горячо, как каждого нобелевского
лауреата, но, как каждого лауреата литературной премии, еще более горячо»
(Stockholms tidningen, 7.12.1933, s. 1). Один из репортеров, информируя о
насыщенности начавшегося бунинского визита в шведскую столицу, грозящего
стать еще горячее встречи, цитирует слова лауреата 1930 г. Синклера Льюиса:
«Получивший Нобелевскую премию уже наполовину узнает, что такое
чистилище» (ibid., s. 17)220. Однако русский писатель, пройдя через ад ожидания пре-
219 Русская колония была относительно немногочисленной — всего в начале 1920-х гг. в
Швеции и Норвегии оказалось около полутора тысяч русских беженцев, к середине 1930-х гг. их
численность была примерно две с половиной тысячи человек (см. [Чернышева 2004: 123]).
220 И. Троцкий прямо напомнил, что нобелевских торжеств американский писатель «не
выдержал, заболел» (Последние новости, 26.11.1933, № 4631, с. 2).
389
мии, очевидно, находился в раю блаженства. Может быть, именно этим
объяснялось то, что он мало говорил вившимся вокруг него журналистам,
отделываясь «улыбками и покорным выражением лица, уже привыкшего к
подобной мимике на бесконечных обедах, пресс-конференциях и турне»
(Stockholms tidningen, 7.12.1933, s. 17). Или, скорее, не говорил ничего нового по
сравнению с тем, о чем говорил уже в «своих книгах и интервью» (ibid.). Зато
радушная, обставленная в старых русских традициях встреча на перроне,
дружеские объятия и звуки родной речи создали у Буниных иллюзию возвращения
домой. Впервые за долгие годы присуждения Нобелевской премии в
стокгольмском «Гранд-отеле» не были зарезервированы апартаменты класса люкс для
лауреата по литературе: вместе со своими близкими он должен был
остановиться в доме Нобелей, в гостях у Г. Олейникова.
«Свенска дагбладет» подробнейшим образом описала «сердечную встречу»
хлебом-солью на Центральном вокзале, взахлеб поражаясь и «переполненному
согласными» языку собравшейся русской компании, и серебряному подносу,
покрытому белым полотенцем с красной вышивкой по краям и с караваем
черного хлеба таких громадных размеров, «какого в обычных булочных не найти»:
так, серебряная солонка показалась дотошному репортеру похожей на
сахарницы, «которые дамы носят с собой, отправляясь в гости на кофе в трудные
времена» (Svenska dagbladet, 7.12.1933, s. 9). Это неожиданное сравнение не только
оживляет реалию той давней эпохи, но и отчетливо демонстрирует разницу
менталитетов. Если старинный русский обычай гостеприимства кажется
немножко смешным и очень странным шведу, который более логичным считает
брать с собой в гости свой сахар, то для русского человека куда показательнее
другое: в тяжелые времена затяжных экономических кризисов, столь хорошо
знакомых прибывшей в Стокгольм компании эмигрантов, русские тоже могут
отправиться в гости с раздобытой бог весть где и как горсткой сахара221; но
только он будет предназначен для всех гостей, а не для сугубо личного
употребления.
Но, не ограничиваясь этим описанием каравая, не рассмотреть который
было невозможно во время долгого ожидания запоздавшего поезда,
корреспондент «Свенска дагбладет» успевает настигнуть поглощенную толпой
встречающих «мадам Веру» и взять у нее интервью, которое будет напечатано под
броским заголовком: «Все пишут в великой тени Ивана: мадам Бунина
рассказывает о домашней жизни на "Бельведере"». Эта «красивая, интересная дама»
показалась репортеру настолько под стать своему мужу, что он не преминул
отметить верность банального суждения об идеально подходящих друг другу
супругах:
Такой же тонко изогнутый римский нос, такие же холодные умные глаза. Она
похожа на своего мужа и в другом отношении: доброжелательность в общении
221 что с поэтической откровенностью описано Маяковским: «Не домой, не на суп, а к
любимой в гости / Две морковинки несу за зеленый хвостик».
390
и необычайная простота поведения. Скромность ее простирается до того, что
приходится расспрашивать ее подругу и компаньонку в путешествии,
писательницу Галину Кузнецофф, чтобы разузнать хоть что-то о ней самой (Svenska
dagbladet, 7.12.1933, s. 9).
Так и на фотографии кроткая Вера Николаевна, пленившая простотой и
изяществом многих журналистов, помещена вместе с «подругой» — видимо,
жена Бунина не могла не пожалеть остававшуюся в очевидной тени молодую
соперницу — то ли дочь, то ли компаньонку в глазах не очень
интересовавшихся ею и ее тяжеловатой южнорусской красотой шведов. Никаких сенсаций и
откровений — в шведских газетах «домашняя жизнь» Бунина была
представлена в нужном ракурсе патриархальной, но творческой идиллии.
Бунин был весь поглощен собой, рядом крутился энергичный секретарь
(правда, чуть было не потерявший несколько дней спустя нобелевскую медаль),
а две дамы мучились, раздавая интервью. Журналисты поясняли читателям,
что «фрекен» Галина Кузнецова — приемная дочь Буниных, не имеющих
собственных детей; другой молодой русский писатель, Леонид Зуров, не смог
сопровождать их в путешествии, хотя также постоянно живет на их вилле в Грас-
се. Точно так же журналисты сообщали со слов матери Пола Дирака — «милой
старушки», с которой «Вера и Галя» сидели рядом на церемонии вручения
премии и с которой Бунин сам потом оказался в одной машине по дороге на
банкет, — о том, что у ее 31-летнего сына, нобелевского лауреата в области физики,
еще «нет девушки»... (Stockholms tidningen, 10.12.1933, s. 1). И «мадам Вера»
покорно рассказывала про свои мемуары о детстве и юности, которые она
публикует в русской эмигрантской прессе, о том, как она жила когда-то в Москве,
изучала химию «на особых женских курсах» (это экзотика для Европы, где
женщины уже в XIX в. были допущены в университеты, и именно из-за отсутствия
эмансипации в образовании Россия потеряла знаменитого математика Софью
Ковалевскую в пользу Швеции) и познакомилась со своим будущим мужем...
«И вот состоялась помолвка, химия была заброшена, и началось свадебное
путешествие по всему миру. Мадам расцветает от этих воспоминаний. С тех пор
она всегда сопровождает его в поездках», — идиллически продолжает
корреспондент (ibid.). А что должна была поведать ему бедная Вера Николаевна? Что
только за границей, в Париже, они наконец смогли расписаться в мэрии и
обвенчаться, потому что Бунин формально не был разведен? Что невдолге после
этого в их жизни появилась «компаньонка», отравившая существование Веры
Николаевны и сам праздник получения Буниным Нобелевской премии?
Зато услышав вопрос о творчестве своего мужа, Вера Николаевна
«неожиданно становится разговорчивой» и буквально до мелочей восстанавливает
особенности работы Бунина.
Он пишет довольно подолгу. Работает день за днем, спокойно, уверенно и
целенаправленно, с раннего утра весь день, до обеда часов в семь. Наконец насту-
391
пает конец, и мы должны побуждать его приняться за что-то новое. Но
знаменательно, что во время усиленной работы он не обращает внимания на то, что
он ест, и не интересуется тем, что делается вокруг. Подобные периоды
напряженной и регулярной творческой работы длятся две-три недели, но потом
наступает расслабление, долгие прогулки, общение с семьей и с сокровищами
библиотеки (Stockholms tidningen, 10.12.1933, s. 1).
Все эти подробности, тщательно записанные шведским журналистом, вряд
ли были особенно интересны читателям его газеты — скорее всего, так никогда
и не взявшим томик с сочинениями Бунина в руки. Но трепетное преклонение
перед творческим гением «Яна», его художественным даром, какое слышится в
точном суховатом отчете Веры Николаевны, неподвластно времени, делая
такой понятной и простой неразрывность этой «идеальной» пары на протяжении
почти полувека.
Жена нобелевского лауреата успевает рассказать, словно забыв все дурные
черты бунинского характера, его ужасные капризы и умение истерзать весь дом
по пустякам, каким «рубахой-парнем» может быть ее знаменитый муж, какой
он невероятный актер и как «с помощью одной только мимики» может
«затмить прославленных артистов»:
У него потрясающий дар подражать людям, — говорит мадам. — И когда по
вечерам нельзя выйти, потому что ветер свищет в ветвях пальмовых рощ, льет
дождь и стучит град, он устраивает нам маленькие домашние представления.
Он может перевоплотиться в образ цитируемого писателя с помощью одного
жеста, движения брови, просто самим тоном. Как ни странно, он не любит
театр, так, чтобы переложить для него свои произведения, и никогда не писал
драматических сочинений. Но он любит наблюдать, как танцует молодежь, и
слушать ритм музыки (ibid.).
Весьма вероятно, что последнее добавление сделано Г. Кузнецовой,
записавшей однажды в дневнике:
Глядя на пляшущую под трехцветным флагом толпу, он взял меня рукою за
плечи и сказал взволнованно: «Как бы я хотел быть сейчас французом,
молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту...
Ах, как хорошо!..» — и пояснил: «Я ведь все-таки, по совести, не могу написать
о таком Жозефе или Жанне потому, что не знаю их души. А я ужасно хочу
написать о них— ведь Франция для нас теперь вторая родина...» [Кузнецова
1995: 35].
Не случайно после реплики о молодежи — которую любит нобелевский
лауреат, — разговор тотчас переходит на виллу «Бельведер» и окружающий ее
сад, «просто место для прогулки», без «махания граблями и лопатой». Не без
удовольствия сообщает корреспондент «Svenska dagbladet», что именно из этого
садика побежала госпожа Бунина к телефону и кто-то — «скорее всего, из
"Свенска дагбладет", любезно добавляет она», — стал говорить что-то о Нобе-
392
левской премии... «В любом случае жизнь на природе лучше всего, заключают
обе дамы», — и это поистине неожиданное завершение интервью
свидетельствует о том, что все разговоры о возвращении почти в русский климат, к
русскому снегу и морозу для обитателей Средиземноморья были лишь данью
ностальгической грусти: они совсем замерзли и потому заговорили о Грассе.
Напоследок корреспондент дал, наконец, слово и поэтической Галине
Кузнецовой, представив ее как приемную дочь Бунина, потерявшую собственного отца
во время мировой войны.
На земле Прованса она начала писать, сначала это был сборник рассказов на
военном материале, поэзия в стихах и прозе для газет и журналов, а сейчас
другая книга под названием «Пролог». Это очень важно, что мне выпало стать
писателем на «Бельведере»,
— поведала шведскому корреспонденту Г. Кузнецова и, видимо, была столь
убедительна в романтизации этого русского литературного уголка южной
Франции, что и все интервью кончается ее лирическим излиянием:
С виллы, за плантациями инжира и мандаринов, видно море, а ветви весь год
гнутся под тяжестью невероятно душистых плодов. И силы удваиваются...
(Svenska dagbladet, 7.12.1933, s. 9).
И вновь «забытые газеты» позволяют прояснить несколько существенных
обстоятельств в жизни и творчестве Бунина. Разумеется, картина его домашней
жизни не может быть точно и подробно восстановлена по отрывочным
записям иноязычных репортеров. Следует заметить, однако, что то впечатление,
которое шведские газетчики получили от общения с семейством Бунина и
которое отразилось в их отчетах, достаточно однозначно комментирует семейно-
любовную драму Бунина: Вера Николаевна не играет роль жены классика, она
органично предстает в своем естественном обличий — его верной спутницы.
Цельность и преданность ее натуры прекрасно уловили чуткие к фальши
журналисты; то невольное уважение, даже восхищение, которое она внушала, было
прежде всего связано с ее обликом, с манерами (даже французский язык
супруги лауреата удостоился похвалы), и, вероятно, никогда В.Н. Бунина не получала
столько публичных комплиментов своей красоте222. Шведские публикации тех
нескольких праздничных дней создают необыкновенно привлекательный образ
жены нобелевского лауреата, словно возвращая ей по праву принадлежащее
место, отчетливо давая понять и окружению писателя, и читающей публике,
кто должен разделить с лауреатом награду. Напротив, Галина Кузнецова все
время — в том числе и на фотографиях — оказывается в тени четы Буниных,
222 Отметим, впрочем, что в посвященном Бунину в связи с присуждением ему Нобелевской
премии № 4621 «Последних новостей» среди нескольких фотографий, иллюстрирующих
материал, был помещен и великолепный фотографический портрет юной Веры Николаевны,
украсивший страницы праздничного выпуска.
393
и даже постоянно повторяемое, вполне нейтральное в контексте определение
«приемная дочь» создает впечатление ее приблудности, ненужности,
присутствие Кузнецовой словно все время маргинализируется. Разумеется, не
осведомленные в личных отношениях Бунина и сопровождавших его дам шведские
репортеры не преследовали никакой специальной цели; они лишь фиксировали
то, что бросалось в глаза, казалось очевидным или было артикулировано самим
виновником торжества и его спутницами. Это означает только одно: в
нобелевские стокгольмские дни, с одной стороны, из-за публичности всего
мероприятия, с другой — от необходимой постоянной поддержки, которую неизменно и
действительно годами обеспечивала Вера Николаевна, Бунин — может быть,
неосознанно — сближается с женою и отдаляется от Г.Н. Кузнецовой, в
которой привык видеть скорее музу, чем помощницу в серьезных жизненных
обстоятельствах. С большой долей вероятности можно предположить,
основываясь именно на газетных репортажах шведских репортеров, следовавших за
русским лауреатом и его свитой буквально по пятам, что разрыв Бунина и
Кузнецовой, происшедший уже в следующем году, был предопределен в эти
несколько декабрьских дней в Швеции. Само новое чувство Г. Кузнецовой (к
М.А. Степун), зародившееся сразу после нобелевских торжеств, на обратном
пути Буниных через Германию в Париж, было в какой-то мере обусловлено
переживаниями нобелевских дней. Отведенная ей роль «приемной дочери»,
«компаньонки» — вместо привычного уже амплуа возлюбленной и музы — должна
была подействовать отрезвляюще, если не оскорбительно на Г.Н. Кузнецову, и
без того униженную положением приживалки в доме Буниных и участницы
ménage à trois. Таким образом, рутинные отчеты шведских газет о пребывании
очередного нобелевского лауреата в Стокгольме позволяют глубже проникнуть
в суть бунинской любовной драмы 1934 г., определившей жизнь его последних
десятилетий более властно, чем Нобелевская премия. Впрочем, как оказалось,
источником драмы стала именно премия, вернее, связанные с нею торжества.
Лишь день приезда Бунин мог «использовать для себя самого, в чем он так
нуждается после напряженного путешествия» (Dagens nyheter, 7.12.1933, s. 9).
Но уже в этот день, среду 6 декабря, Бунина можно было увидеть на улицах
Стокгольма: сразу после обеда он вместе с женой отправился «в турецкое
отделение Стюребада» — одного из самых фешенебельных заведений шведской
столицы, которое посещают представители высшего света и дипломатического
корпуса223. «Турецкая или, можно сказать, русская баня была, разумеется, в
первой половине дня специально убрана и закрыта для прочих визитеров»
(Stockholms tidningen, 7.12.1933, s. 17). А. Седых нашел весьма остроумное
определение для популярности Бунина, фотографиями которого были украшены
витрины столичных магазинов: «Совершенный успех тенора» [Седых 1933в: 2].
223 Sturebad — комплекс из нескольких бань и бассейна в центре Стокгольма, сочетающий,
как принято в Швеции, «сухую» баню (сауну), баню с горячим паром (хамам) и бассейн (в Стю-
ребаде он выполнен в мавританском стиле).
394
Наконец стала известна программа всех дней визита, «ни на шаг не
отступающая от церемониала» [Седых 1933в: 2]. Дотошные газетчики, по пятам
ходившие за лауреатом чуть не в парилку, разузнали о намеченных
мероприятиях: 9 декабря — прием, устраиваемый русскими эмигрантами, 10 — вручение
премии, 12 декабря предрождественский прием в ассоциации зарубежных
журналистов, 13 — небольшой отдых, столь необходимый для нобелевского
лауреата и — совершенно, по мнению репортера, непредставимый; затем —
дружеские обеды у д-ра де Шессена (14) и д-ра Гебера (15), 16 декабря — «свободный
день». «Остается только надеяться, — ссылается на шутку Бунина репортер, —
что он в своих мрачных предчувствиях не окажется пророком: каждому
ожидающему поклоннику нобелевский лауреат раздает себя по частицам, чтобы
зарядить их надолго своей энергией» (Stockholms tidningen, 7.12.1933, s. 17).
Строго соблюдая последовательность «банкетов, ужинов и раутов», русских
читателей уведомлял об их череде А. Седых:
Серия официальных приемов открылась торжественным обедом в доме
Г.П. Олейникова, женатого на М.Л. Нобель. Половина приглашенных носила
фамилию Нобель, — члены этой большой русско-шведской семьи съехались
чуть не со всех концов Европы — из Парижа, Лондона, Гельсингфорса. <...>.
Во время этого обеда И.А. Бунин познакомился с двумя академиками,
особенно отстаивавшими его кандидатуру. Один из них — 79-летний патриарх
Шведской академии проф. Шюк, автор многотомных трудов по истории
искусства и литературы. Второй академик — поэт и литературный критик Эстер-
линг, посвятивший Бунину в «Свенска Дагеблат» большую, прекрасно
написанную статью224. За несколько часов до этого обеда к И.А. приехал с визитом
непременный секретарь академии, проф. Пер Гальстрем, который также был
большим сторонником русского кандидата [Седых 1933в: 2].
Хотя Седых называет этот прием официальным, скорее его можно было бы
отнести к неформальному знакомству Бунина с кланом Нобелей, гостем
которых он был (Г.Л. Нобель сказал о «радости, которую испытала вся его семья в
день присуждения премии русскому писателю» [Там же]); визит
представителей Шведской академии также был частным. В шведских газетах никаких
репортажей с семейного обеда Нобеля помещено не было.
Накануне вручения Нобелевской премии лауреата по литературе
чествовали в Скансене225 представители русской колонии: «Около 200 эмигрантов и
обрусевших шведов собрались на чашку чая в загородном ресторане. Появление
224 Так передает название газеты автор цитируемой статьи (далее везде орфография перво-
публикации); что до содержания статьи на шведском языке, то все касающиеся лауреата газетные
публикации для своих гостей любезно переводил «по утрам» Г.П. Олейников [Седых 1933в: 2].
225 Скансен, размещенный на Юргордене, одном из островов шведской столицы, — любимое
место отдыха ее жителей, большой ухоженный лесопарк. Чествование Бунина проходило в
ресторане «Nyloftet» (как его именует «Stockholms tidningen») или «Högloftet» (так он назван в «Svenska
dagbladet»; буквальный перевод, впрочем, указывает местоположение заведения — «на чердаке»,
в мансарде, только в одном случае она «новая», в другом — «высокая»).
395
Бунина встречено было продолжительной овацией» [Седых 1933в: 2]. Это были
не только и даже не столько эмигранты послереволюционного периода, а
потомки русских, переселившихся в Швецию еще в царское время. Зал ресторана,
где собрались едва ли не все русские Стокгольма, в половине пятого был
переполнен:
Люди стояли группами и разговаривали... Внезапно в зал вступает худощавый
седовласый господин в черном костюме...226
Бунин!.. Аплодисменты, целую минуту и больше!
Он проходит к почетному месту, и вскоре после этого появляются его жена
и приемная дочь, также приветствуемые аплодисментами. И вот начинается
беседа по-русски, с выражением собравшимися признательности за честь,
оказанную писателем. Он сам выразил благодарность в короткой речи, после чего
пили чай, пели по-шведски «Многая лета»227 <...> потом пели русские песни,
слушали музыку228. Около шести Бунин поднялся и покинул «мансарду»,
пожимая руки многочисленным друзьям и поклонникам [Там же].
(Бунину предстояло еще посетить спектакль в Оскарстеатре — Stockholms tid-
ningen — Stockholms dagblad, 10.12.1933, s. 14.)
Впрочем, корреспондентам осталось неизвестным, удалось ли Буниным
плотно подкрепиться на этом «совершенно русском чае», «веселом и
приятном чествовании», в котором приняла участие почти вся русская колония
шведской столицы под председательством генерального консула царской России
Ф.Л. Броссета229; упсальский профессор теологии, настоятель «местного
прихода» Александр Рубец в своей приветственной речи говорил о литературном
значении Бунина (Dagens nyheter, 10.12.1933, s. 32)230. Организатор чествования
CA. Цион231 «объявил, что в Стокгольме создается русское литературное
общество им. И.А. Бунина» [Седых 1933в: 2]. На следующий день в воскресном
приложении к «Нюа даглит аллеханда» целая полоса была отдана под статью
С. де Шессена «Поэт Божьей милостью, наследник Пушкина: господин из Бель-
226 В «Svenska dagbladet» (10.12.1933, s. 1) явление русского писателя было описано так:
«Пунктуально, как его величество, вошел Бунин <...»>.
227 Традиционное шведское застольное пение обязательно включает эту здравицу — «Ja me
han leva» («Да здравствует»).
228 В концертном отделении не обошлось без курьеза: была объявлена «римская песнь Ин-
дийского-Корсакова» [Седых 1933в: 2].
229 Его жена была, кстати, одной из первых, кто дозвонился на виллу «Бельведер» 9 ноября:
«И опять из Стокгольма, — вспоминала свое невольное дежурство у телефона в тот день В.Н.
Бунина, — русский женский голос, как потом оказалось, M-me Brosset, жена нашего быв. консула в
Стокгольме. Слышно было хорошо, и я ей ответила почти на все ее вопросы» (цит. по: [Дальние
берега 1994: 33]). Нетрудно заметить громадную разницу в численности эмигрантов, осевших
в Париже, с количеством русских, проживавших в Стокгольме.
230 Саму речь, произнесенную по-русски, газета не сочла необходимым пересказать.
231 Цион Сергей Анатольевич (1874-1947) — политический деятель, журналист, переводчик;
секретарь шведского Общества друзей русской культуры имени Бунина.
396
ведера — певец отчего края» [Chessin 1933: 1-2]. Личные воспоминания,
фотографии и заметки о бунинских произведениях ближе знакомили шведов с
прибывшим лауреатом — первым представителем «наконец признанной русской
литературы», «самым полномочным <den mest plenipotentiaire> из послов».
«Все готово для Нобелевского праздника» — под такой шапкой вышла «Да-
генс нюхетер» 10 декабря 1933 г. Столетний юбилей Альфреда Нобеля словно
подгадал выпасть на воскресенье; и хотя в программе не было существенных
отступлений от «привычного ритуала», именно церемония 1933 г. показалась
самим шведам отмеченной «берущей за душу теплотой», словно блистающие
лучи пролились «из шведского окна во весь культурный мир» (Nya dagligt
allehanda, 11.12.1933, s. 1). В пять часов вечера в Концертном зале (Kulturhuset)
«в торжественной обстановке» должны были быть вручены награды
лауреатам, после чего в Королевском «Гранд-отеле» предполагался банкет в их честь.
На следующий день, в девять вечера, ужин для лауреатов устраивал король.
Среди участников этих высокоторжественных мероприятий были
многочисленные члены королевской семьи, кронпринц и кронпринцесса, просто
принцы и принцессы, среди которых выделялась красотой 25-летняя принцесса
Сибилла. Впрочем, единственным замечательным членом королевской фамилии
был в то время принц Евгений (1865-1947) — один из крупнейших шведских
художников232.
Бунин, который вместе с прочими лауреатами прибыл в особом кортеже
через «отдельный вход», записал позже то, что уцелело в памяти:
В зале фанфары — входит король с семьей и придворные. Выходим на
эстраду — король стоит, весь зал стоит.
Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высокими спинками. Эстрада
огромная, украшена мелкими бегониями, шведскими флагами (только шведскими,
благодаря мне) и в глубине и по сторонам. Сели. Первые два ряда золоченые
вышитые кресла и стулья— король в центре. Двор и родные короля. <...>
Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам — король не любит черного цвета,
при дворе не носят темного. За королем и Двором, которые в первом ряду, во
втором дипломаты. В следующем семья Нобель, Олейниковы. В четвертом
ряду Вера, Галя, старушка-мать физика-лауреата [Устами Буниных 1977-1982,
11:297].
Репортеры шведских газет, напротив, не столь скупы на подробности
церемонии, украшением которой стало получение «с придворным поклоном»
премии Буниным.
Для представителей королевской семьи традиционно предназначались
места в первом ряду партера большого концертного зала, в следующих рядах раз-
232 Бунин не забыл упомянуть о нем в «Записях» о нобелевских днях: на банкете русскому
лауреату выпало сидеть «рядом с принцессой Ингрид, напротив брата короля, принца Евгения
(кстати сказать, известного шведского художника)» (цит. по: [Бунин 1998: 402]; заметим, что в
«Именной указатель» к этому изданию имя Евгения не внесено).
397
мещались представители дипломатического корпуса и прочая «элегантная
публика» во фраках и сверкающих туалетах. Ровно в пять часов фанфары оркестра
военных моряков возвестили о прибытии короля и десяти членов королевской
семьи в сопровождении председателя Нобелевского фонда Рагнара Сульмана.
Затем снова прогремели фанфары, и на сцену взошли нобелевские лауреаты
1933 года в сопровождении шведских нобелевских лауреатов разных лет и
почетных гостей юбилейного торжества — выдающихся шведских писателей,
прозаика Сельмы Лагерлёф и поэта Вернера фон Хейденстама. Вместе с ними на
сцене рассаживались члены Шведской Королевской академии наук, Шведской
академии, нобелевских институтов. Нобелевских лауреатов было всего
четверо: «седовласый прославленный Бунин, долговязый счастливый англичанин
Дирак, два немца-блондина Гейзенберг и Шрёдингер. Премия по химии за этот
год не присуждалась; за лауреата премии по медицине Моргана, который не
смог присутствовать, премию должен был получить американский посол»
(Svenska morgonbladet, 11.12.1933, s. 1, 10). Среди представителей
дипломатического корпуса в зале находились также послы Германии, Великобритании,
Австрии; A.M. Коллонтай на торжество, разумеется, не явилась.
Убранство Концертного зала отличалось от традиционного: только
шведские флаги украшали его фасад и интерьер. Русский писатель полагал, что
флаги государств, чьи граждане были удостоены престижной награды,
отсутствовали из-за него, изгнанника Бунина, первого нобелевского лауреата «без
отечества», апатрида. Об этом писала и демократически настроенная пресса,
например, «Гётеборгс хандельс- ок шёфартс тиднинг»:
Поскольку нобелевский лауреат по литературе Бунин целиком причисляет
себя к старой России, то нет никаких флагов, символизирующих его
отечество. Старый бело-сине-красный выглядел бы некорректной демонстрацией
по отношению к современному положению вещей. Были только
желто-голубые флаги, а чувствительные умы и чувствительные нервы были избавлены
также от шока лицезреть свастику (Göteborgs handeis- och sjöfartstidning,
11.12.1933, s. 8).
Этот символ был бы неуместен из-за Шрёдингера, вынужденного
покинуть Германию после прихода к власти Гитлера; однако последнее
соображение ни на секунду не пришло в голову занятому только собой Бунину. Однако
репортеры более умеренных газет объясняли необычное убранство
юбилейным характером торжеств и связывали национальные флаги Швеции на фасаде
Концертного зала с именем Альфреда Нобеля, ибо вручение наград совпало
с его столетним юбилеем. Зоркий взгляд репортера, из года в год освещавшего
в печати нобелевские торжества, видел изменения и в аранжировке цветов
на сцене:
...множество срезанных бегоний, огромные хризантемы, папоротники и
нежные зеленые лианы, но никаких лавров и гирлянд. Высоко на подиуме под ро-
398
зеткой из шведских флагов помещен бюст Нобеля233, украшенный по бокам
двумя золотыми кашпо с бегониями. С двух сторон его обрамляют высокие
колонны, увенчанные урнами с белыми и розовыми хризантемами. Перед
бюстом цветочное убранство особенно пышно. Стены вокруг сцены полностью
задрапированы в коричневый бархат, а сверху декорированы бегониями,
папоротниками и нежно-зелеными вьющимися лианами, и по бокам от сцены, во
всю длину зала все обрамлено зелеными лианами и бегониями234.
И сама церемония началась чуть иначе, чем обычно: со словом памяти
Альфреда Нобеля выступил Рагнар Сульман, работавший когда-то в лаборатории у
Нобеля в Сан-Ремо, его душеприказчик. Корреспондент «Свенска моргонбла-
дет» уверял читателей, что дух Альфреда Нобеля вообще присутствовал и в
Концертном зале во время награждения, и позже, на торжественном банкете
[Седых 1933г: 2]. Р. Сульман сам был прежде всего инженером, а потому,
заметив, что столетие Нобеля придает особый оттенок торжествам, напомнил и о
другом нобелевском юбилее — первого патента великого химика, патента на
нитроглицерин, с которого началась новая эра в военно-промышленном
развитии человечества. Люди не могут не думать о террористических взрывах и
бомбах, уносящих многие жизни, признал Сульман, но человечество живет в
эру динамита, который пришел ему на помощь во многих отраслях —
дорожном строительстве, земляных работах, прокладке кабелей, без которых
невозможна современная связь235. По сложившейся традиции речи перемежаются
музыкальными номерами, придавая официальной церемонии праздничное
концертное звучание, и в память выдающегося изобретателя прозвучала
музыка шведского композитора Гуго Альвена — «словно свежий ветер промчался по
залу» (Svenska morgonbladet, 11.12.1933, s. 10).
Конечно, можно согласиться с корреспондентом «Стокхольмс тиднинген» в
том, что «нобелевская церемония — это не что иное, как самая, за исключением,
может быть, открытия риксдага, тягостная ритуальная шведская помпа», и все
же каждый год она «дарит необычайно нарядной публике нечто новое и доселе
невиданное. В этом смысле она обладает тем же исключительным очарованием,
что и цирк» (Stockholms tidningen, 11.12.1933, s. 9). Отчет о церемонии 1933 года
журналиста М. Бемана насмешлив — вплоть до иронически цитируемых
штампов подобных «ритуальных отчетов» — именно потому, что для шведов, тем
более для репортеров центральных газет, за треть века ежегодное вручение
233 «Эстрада залита мягким белым светом; вся она убрана зеленью и корзинами розовых
бегоний; в глубине, на фоне шведских национальных флагов, — бронзовый бюст короля», —
несколько безответственно (что мешало спросить?) сообщал А. Седых [1933г: 2].
234 Цветы для нобелевской церемонии награждения лауреатов традиционно поставляют из
Сан-Ремо, где на своей вилле скончался Альфред Нобель, а зал и сцену украшают специально
приглашенные итальянские флористы.
235 Т. е. в какой-то мере благодаря пионерской деятельности Нобеля Бунин не только
получил награду, но и узнал о ней по телефону.
399
Нобелевской премии успело превратиться в скучнейшую традицию, вроде
открытия парламентской сессии. Туалеты дам неизменно блистательны, дип-
корпус придает необходимый лоск, ученые, чиновники и члены королевской
фамилии занимают свои привычные места, и только номера музыкального
дивертисмента обновляются, хотя и необъяснимо: почему, скажем, перед
вручением наград физикам прозвучала бетховенская увертюра к «Эгмонту», а
первого русского лауреата по литературе приветствовали Григом — остается делом
личного выбора музыкального руководителя церемонии. Но сами лауреаты
появляются на разубранной цветами сцене первый и, как правило, единственный
раз в жизни, и для них каждое мгновение исполнено торжественной важности,
и не менее экстатически настроены члены их семей, взирающие на своих
победителей из зала.
Бунин точно описал последовательность церемонии награждения:
Открывает торжество председатель Нобелевского фонда. Он приветствует
короля и лауреатов и предоставляет слово докладчикам. <...> Затем идут
доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого
доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из
рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой
медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с
другой имя лауреата [Бунин 1998: 401]236.
Речи следовали одна за одной: нобелевские лауреаты по физике, химии или
медицине чаще всего оказываются не кабинетными сухарями, а живыми
людьми, остроумными и непосредственными. Трем физикам — лауреатам 1933 г. —
публика аплодировала искренне и горячо, даже если и не совсем разобралась в
сложностях их атомных исследований. В интерлюдиях звучала музыка. Если
верить Бунину, то Эдвард Григ — один из его «наиболее любимых
композиторов», и оттого взволнованный лауреат «с особым наслаждением услыхал его
звуки перед докладом» Пера Хальстрёма, Постоянного секретаря Шведской
академии [Там же].
Надо заметить, что подобные речи — с эстрады, в присутствии
нарядной публики, смутно представляющей и тонкости научных открытий, и
картину мировой литературы, — лишены академической серьезности.
Председатель Нобелевского комитета по литературе в своей краткой
вступительной речи «красноречиво и чрезвычайно высоко» оценил лауреата по
литературе, но некоторые из его остроумных замечаний оставили не столь отменно
тонких журналистов в недоумении. И только корреспондент «Дагенс нюхе-
тер» счел рассказ Хальстрёма о поездке юного Бунина к Толстому самым
любопытным для читателя сюжетом его речи (Dagens nyheter, 11.12.1933,
236 Как уже упоминалось, в настоящее время нобелевские реликвии Бунина — описанная
выше медаль и диплом — хранятся в Бунинской коллекции Русского архива библиотеки Лидс-
ского университета (Великобритания).
400
s. 32)237. Бунина эта речь взволновала тем, что была «истинно сердечна» [Бунин
1998:401].
Но несмотря на легкость манеры «презентации» лауреата, Хальстрём вновь
сформулировал суть восприятия бунинского творчества Западом. Европейских
критиков Бунина никогда не смущало, что их анализ творческой манеры
русского писателя (как и речь Хальстрёма) пестрел словами «меланхолия»,
«полнота и богатство впечатлений», «исключительная тонкость в их передаче»,
«мрачнейшая и жестокая картина», а вывод был неизменным: «...он продолжил
искусство великих реалистов, тогда как его современники ударились в
рискованные литературные программы: символизм, неореализм, адамизм, футуризм
и прочие столь же сиюминутные феномены». Прекрасный образ очертил
шведский академик перед собственным выходом лауреата: «Он оставался
одиночкой в весьма экспансивные времена» [Hallström 1969: 309-310].
Другой важной чертой, неизменно привлекающей внимание на Западе,
оказывалась «жестокость», «суровость», «ужас» — атрибуты бунинского
мастерства в изображении русской деревни. Хальстрём, впрочем, замечает, что
«иностранец не способен судить об обоснованности критики». Потрясенный
мрачными картинами «Деревни» Хальстрём — ровесник Бунина, видевший в
Швеции на рубеже XIX-XX вв. немало горестей и нищеты, — назвал повесть
«образцом цельного, сгущенного и подлинного искусства» [Ibid.: 310].
Исполненный поэзии «Суходол» — «литературное произведение очень высокого
уровня» — ему больше по душе. «Немедленно признанный литературным
шедевром» «Господин из Сан-Франциско» не просто демонстрирует высочайшее
мастерство: в нем слышно грозное «предзнаменование надвигающегося
мирового заката; узнавание первородного греха в <совершающейся> трагедии;
искажение человеческой культуры, толкающее мир к неизменной судьбе».
Замечательно, что общемировая трагедия — война — превращает Бунина в
беспощадного судью, тогда как катастрофа в его отечестве, живущем теперь в его
памяти, заставила его увидеть «среди всего отвратительного» следы «неуничто-
женной человечности» («Божье древо») [Ibid.]. Послереволюционное
творчество Бунина оценено исключительно в русле «возвращения к литературным
традициям»: психологическая повесть «Митина любовь» и широко задуманная,
«частично автобиографическая» «Жизнь Арсеньева» стали великолепным
подтверждением того, как упрочилось «прежнее превосходство несравненного
художника», создающего образы «безбрежной и могучей красоты русской земли»
[Ibid.: 311]. Подводя итог литературному развитию Бунина — и предвидя его
дальнейший творческий расцвет, — Пер Хальстрём вновь вернулся к «великой
традиции блистательного девятнадцатого века», но при этом совершенно верно
указал на главные особенности стиля Бунина:
237 Пер Хальстрём почерпнул несколько комических ситуаций из автобиографических
заметок Бунина, перетолковав по-своему милые шутки о «студенте» (каковым Бунин, после третьего
класса покинувший Елецкую гимназию, никогда не был) или о Толстом, посоветовавшем юному
литератору не превращать поэзию в цель жизни.
401
Он совершенствует сгущенность и богатство выражения — в описании
подлинной жизни, основанном на почти исключительной зоркости наблюдения.
<...> Эта способность, придающая отпечаток шедевра его сочинениям, — его
выдающийся дар и тайна [Ibid.], —
доступные, не может не подчеркнуть академик, лишь его компатриотам и
исчезающие при переводе на иностранные языки.
Речь, начавшаяся с почти юмористических зарисовок — весьма, кстати,
символических (Бунин перенимает у Толстого эстафету русской литературы), —
закончилась апофеозом бунинского творчества. Заметим, что Хальстрём
совершенно независим от экспертного заключения и опирается в своих суждениях
на доступные ему переводы. Когда же сам Иван Алексеевич вышел получать
диплом из рук короля, его появление обернулось «маленькой сенсацией — и
прекрасно составленной лекцией» (Svenska morgonbladet, 11.12.1933, s. 10).
Русский лауреат осознавал всю значительность момента, приковывая к себе
внимание публики гораздо больше, чем Густав V, которому, наверное, давно
наскучила рутинная ежегодная церемония: с 1907 г., когда он наследовал престол,
и по 1950 г. ему приходилось вручать награды и пожимать руки десяткам
лауреатов. Для Бунина это была великая и счастливая минута полного торжества,
настолько все в жизни, хотя и ненадолго, затмившая, что от нее почти ничего не
уцелело в памяти:
Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю238. Шел я медленно.
Спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот
момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль,
затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магния, нас
снимают. Я отвечаю ему.
Аплодисменты прерывают наш разговор. Я делаю поклон и поднимаюсь
снова на эстраду, где все продолжают стоять. Бросаются в глаза огромные
вазы, высоко стоящие с огромными букетами белых цветов где-то очень
высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке
уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые,
журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках [Устами Буниных
1977-1982,11:298].
Таковы собственные впечатления Бунина о торжественной церемонии
вручения Нобелевской премии, несколькими штрихами воссоздавшего атмосферу
исключительной торжественности, приобщения к чему-то значительному,
ослепительному, «высокому и огромному».
Этого необычайного катартического подъема, испытанного Буниным в те
заветные мгновения, не смог простить собрату по перу Иван Шмелев, с
пристрастием разбирая по косточкам «бунинские торжества» в письме к A.B.
Амфитеатрову: «Он ше-ствует, а мы — че-ствуем» (цит. по: [«Парижский философ
238 Одна из шведских газет озаглавила отчет о вручении Нобелевской премии «Король и
Бунин» («Kungen och Bunin»; Göteborgs handeis- och sjöfartstidning, 11.12.1933, s. 10).
402
из русских евреев» 1997: 575]). Шмелев раздосадован неверным поведением,
неправильным тоном, взятым, по его мнению, Буниным, который не
превратил сцену Концертного зала, всю в водопаде белых бегоний, в политическую
трибуну, не произнес горячей речи о родине: «И для России, и для бытия ее —
и гроша не нажито» [Там же]. Уверяя, что ему «грустно» (за Россию), Шмелев
не мог простить Бунину эгоистической сладости славы, пережитой лауреатом
в Стокгольме:
А он взял да и взял фрачок европейца куцый! И теперь вот все пирует <...>
И полслова <...>, ожидавшегося— наивными головотяпами— не сказано.
А шарк ножкой <...> А — Лев — шаркнул бы? А... Пушкин... — сошел бы
достойнейшим манером с эстрады и хорошо... и все? И стал бы ждать, чтобы
Густав там Ваза или Горшок — ему напомнил: ду-рак, радуйся и за русскую
литературу, как я, Ушат 8-й, радуюсь! А? [Там же]239.
Как вел бы себя на стокгольмской эстраде сам Шмелев, неизвестно; о
явлении Мережковского он строил такие предположения: в качестве возможного
лауреата тот бы «если не мантию пророка, то хоть хламиду какую напялил на
себя с Аменхотепа, что ли, и изрек бы хоть... про Антихриста» [Там же]240.
Между тем Бунин, судя по отчетам шведских газет, интуитивно выбрал тактику
поведения, не просто встретившую горячее сочувствие зала; его «шествование»
воплотило некое обобщенно-идеальное представление о русском аристократе,
о России золотого века.
Именно «шествование» Бунина, его явление публике потрясло и
покорило зал:
239 Замечательно, что Шмелев, как это часто бывало ему свойственно, под напором эмоций
забывает и то, как и при каких обстоятельствах приходилось вести себя Пушкину, забывает —
монархист! — и малейшее уважение к главе королевского дома Швеции Густаву V (вся игра
словами — перечисление предметов утвари, связанных с нечистотами, — проистекает от
фамильного имени первого короля Швеции, носившего имя Густав (1496-1560), — освободителя от
датского владычества (1523) Густава I Вазы), хотя несколькими строками раньше приветствовал его за
выражение «радости за русскую литературу» [Переписка двух Иванов 2000, 3: 574]. В одном
Шмелев прав — во избежание подобных скандальных обсуждений лауреата Толстой a priori
отказался от чести быть удостоенным Нобелевской премии.
240 Отношения Бунина и Шмелева начали портиться давно, едва ли не с первых лет в
эмиграции — уже в 1923 г. называет Шмелева «трудным человеком» В.Н. Бунина [Устами Буниных 1977-
1982, II: 114], «тяжелым во всех смыслах» — сам Бунин [Письма Бунина к Тырковой-Вильяме
1994: 187]. Но потребовались еще десятилетия постоянно пересекавшегося существования,
взаимных обид и огорчений, чтобы Бунин выговорился со всей грубой откровенностью, присущей
ему в последние годы: «Насчет Шмулевича (Шмелева. — Т. М.) скажу тоже кратко, — пишет
нобелевский лауреат Б.К. Зайцеву 21.01.1945, — я эту наглую замоскворецкую стерву просто
терпеть не могу за его поломанную морду прежде всего, за хамскую спесь, за самомнение, за то, что
он оказался совершенным скотом, за все, что я для него сделал, вытащив из Берлина, приютив на
Villa Montfleuri, где он однажды орал на меня, будто я "подложил ему свинью" в Академии»
[Письма Бунина к Зайцеву, IV: 164]. Речь идет, разумеется, не о Шведской академии, а о
страстном, но не воплотившемся желании Шмелева быть избранным, подобно Бунину, почетным
членом Санкт-Петербургской Императорской академии наук.
403
Движения, с каким русский изгнанник отвесил поклон его величеству, никогда
прежде не видели стены Концертного зала, во всяком случае, не на
нобелевской церемонии. Громовые аплодисменты приветствовали величественного
русского, когда он с дипломом в руках шел к своему месту (Svenska morgonbladet,
11.12.1933, s. 11).
Впрочем, те из присутствовавших, кто просматривал газеты и умел
сопоставлять факты, должны были бы вспомнить рассказ Веры Николаевны
Буниной о блестящем актерском даровании ее знаменитого мужа. К тому же роль,
в которой он выступил в Концертном зале 10 декабря 1933 г., была его звездным
часом.
Бунин дал видение лучшего в старой России, он являл достоинство всем своим
подтянутым видом. Он встал, как князь, он ступал по сцене, как всемирно
прославленный тенор. Соответственно он и был вознагражден сердечной овацией
собравшихся (Stockholms tidningen — Stockholms dagblad, 11.12.1933, s. 11).
Это был звездный миг славы для того, кто так долго и страстно жаждал ее.
Именно это единственное мгновение и стало «триумфом Бунина». Мнение
восхищенных шведов подтверждал А. Седых:
С абсолютной беспристрастностью должен сказать, что И.А. Бунин был
великолепен. Недаром на следующий день самая большая стокгольмская газета
вышла с заголовком: «Бунин кланяется и вызывает овации», — поклон русского
писателя поразил шведов своим достоинством, медлительной
торжественностью, необыкновенным спокойствием и благородством <...> Еще издали
король с улыбкой протянул ему руку. И.А. на мгновение замер и склонился в
почтительном поклоне.
— От всей души поздравляю вас и радуюсь вместе с вами за русскую
литературу, — сказал король.
— Я прошу ваше величество, — ответил лауреат, — соблаговолить
принять изъявление моей глубочайшей и почтительной благодарности [Седых
1933г: 2]241.
Громовые аплодисменты, «оказавшиеся на этот раз столь бурными»,
заставили догадливого корреспондента гётеборгской газеты заметить, сколь
«предусмотрительно было со стороны мадам Коллонтай не явиться» (Göteborgs
handeis- och sjöfartstidning, 11.12.1933, s. 9). А ироничный репортер столичной
газеты мешает серьезное и забавное в своем отчете, цитируя выдержки из речей
представлявших лауреатов профессоров и тут же рассказывая, как,
«споткнувшись о свою собственную ногу», едва не растянулся «молодой Дирак»,
застенчивый 31-летний ученый — уже с мировой славой. А в партере, «готовая бежать
241 Уже в поезде на обратном пути из Стокгольма Бунин, переводя дух после исполненных
высокого пафоса дней, рассказывал: «Был у меня во дворце один страшный момент.
Разговариваю с королем и все думаю: как бы не ошибиться! А вдруг — вместо votre Majesté я скажу votre
Majestic!.. К счастью, прошло благополучно. Не ошибся. Но вот что значит прожить месяц в "Ма-
жестике"» [Седых 1933д: 3].
404
на помощь», сидела, стиснув лорнет, его испереживавшаяся от счастья и
волнений мать, и другие родственники лауреатов — «очаровательная фру Шрёдин-
гер, милейшая мать Гейзенберга и красавица фру Бунина». Звездным часом
оказалось вручение премии и для Веры Николаевны; оно стало фатальным для
любовного и творческого союза Кузнецовой с Буниным242.
Банкет, состоявшийся после церемонии, был также весьма многолюдным —
300 гостей вместо обычных 200, «словно весь официальный и академический
Стокгольм» хлынул на это празднество, на котором «не хватало только короля»,
сославшегося на нездоровье. Впервые пришлось устраивать нобелевский
банкет не в Зеркальном зале ресторана «Гранд-отеля», не вместившем всех
приглашенных, а в Королевском зимнем саду, причем столы расставили в самой
огромной оранжерее: за окном мрачно темнела шведская зима, блестела вода в канале,
на противоположном берегу которого распростерлась широкая громада
дворца, у входа в самый дорогой отель горели приветственные факелы, а внутри
полыхали люстры, сверкали бриллианты, мерцали свечи — и щебетали
канарейки, и шелестел целый лес пальм, напоминавших Прованс. На банкете
присутствовали «мсье и мадам Троцкие. Но это не тот Троцкий, урожденный
Бронштейн, который живет в эмиграции где-то в Турции, а другой русский эмигрант,
хороший знакомый лауреата Бунина», докладывала одна из газет (Stockholms
tidningen — Stockholms dagblad, 11.12.1933, s. 9)243. Шведы не знали, что именно
с письма этого живущего в Стокгольме журналиста и началась кампания бу-
нинской борьбы за Нобелевскую премию.
Председательствовал на банкете губернатор Упландии Яльмар Хаммар-
шёльд, гости были рассажены так, что лауреаты и члены их семей оказывались
рядом с членами королевской фамилии или представителями государственного
аппарата. Так, Веру Николаевну усадили с кронпринцем Густавом Адольфом,
Иван Алексеевич соседствовал с супругой губернатора, матерью известного
в будущем политика Дага Хаммаршёльда. Первой среди здравиц и
благодарственных спичей прозвучала юбилейная речь кронпринца об Альфреде Нобеле,
и его память почтили минутой молчания. Торжественно и несколько дольше,
чем принято по этикету, говорил по-французски Иван Алексеевич Бунин,
который «тщательно подготовил выступление» [Седых 1933г: 2].
Бунин говорил о радости и скорби, о личном успехе и о вечных ценностях.
Прекрасно отдавая себе отчет в том, где ему приходится выступать и кто его
окружает («вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений,
всяческих философских и религиозных верований» [Бунин 1965-1967, 9: 331]),
он не испортил праздника политическими декларациями, а небольшой свой
спич закончил даже слегка преувеличенными славословиями шведскому коро-
242 В шведской прессе ее постепенно стали называть просто «дочерью» и, что логично,
«фрекен Бунина» (Dagens nyheter, 10.12.1933, s. 1; Stockholms tidningen, 10.12.1933, s. 1).
243 Это был, по-видимому, чрезвычайно энергичный господин, «весьма популярный в
Стокгольме» и именуемый там не иначе как «господин редактор» [Седых 1933е: 2].
405
левскому дому244. Но главное Бунину удалось выразить точно и прямо.
«Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом
Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда!» — воскликнул он
благодарно, разъяснив далее особое значение этой первой литературной
Нобелевской премии, полученной русским писателем:
Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в
тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской
академии245. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии по литературе
вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся
гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню
признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня
лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе.
В мире должны существовать области полнейшей независимости <...>. Но
есть нечто незыблемое, нас всех объединяющее: свобода мысли и совести, то,
чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима
особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии,
еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ
Швеции [Бунин 1965-1967, 9: 331].
Блестящий стилист, Бунин произнес образцовую речь: рассыпаясь в
благодарностях, даже не отказывая себе в лести, уверяя, что думать лишь о себе
самом «слишком эгоистично», и непрестанно твердя «я», нобелевский лауреат
сказал главное о значении Нобелевской премии по литературе и о ее высоком
назначении. Произнесенные Буниным слова о свободе творчества прозвучали
мудро, просто и твердо.
Не случайно речь русского эмигранта, принимающего международную
награду, вызвала немедленную реакцию. Профессор Вильгельм Норденсон
(Nordenson), представляющий Каролинский институт (научный клинический
центр, присуждающий Нобелевские премии по физиологии и медицине),
выступил с коротким ответным словом:
244 «Я не с сегодняшнего дня высоко ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш народ,
вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского
королевского дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным
воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире», — уверял Бунин [Бунин 1965-1967,
9: 331]. Один из шведских королей, Густав III, писал музыку, был создателем национальной
шведской оперы, а современник Бунина, принц Евгений — выдающийся художник. Только два эти
представителя «шведского королевского дома» принадлежат к разным фамилиям: первый —
потомок Густава Вазы, второй — Ж.-Б. Бернадота, наполеоновского маршала, затем короля Швеции
(Карл XIV Юхан). Поэтому окончание речи Бунина на банкете — своего рода тост за шведскую
королевскую семью и за «короля-рыцаря» — выдает весьма приблизительное знакомство
лауреата со шведской историей.
245 В воспоминаниях Веры Николаевны, написанных в Грассе «после того как отшумели
нобелевские дни», эта ночь упоминается явно под влиянием текста бунинской речи: «К
одиннадцати часам все кончилось. Легли спать. Но едва ли вилла "Бельведер" хорошо спала в эту ночь.
Всякий думал свои думы» [Бунина-Муромцева 1994: 448, 33].
406
Сегодня получают награду не только достижения в изучении тонкостей атомов
и хромосом; блестящие достижения в описании тонкостей человеческой души
также увенчиваются сегодня золотыми лаврами Нобелевской премии. Вы,
господин Бунин, в совершенстве изучили душу исчезнувшей России, продолжая
при этом прославленные традиции великой русской литературы. Вы
представили бесценную картину русского общества, каким оно когда-то было, и мы
очень хорошо понимаем те чувства, с которыми вы должны наблюдать
разрушение общества, с которым вы были так тесно связаны. Пусть наше сочувствие
поддерживает вас в печали изгнания [Nobel Lectures 1969: 315].
У Бунина была подлинно русская душа — невзирая на скорби и печали,
о которых вспоминали в этот торжественный день в связи с Россией, он всем
сердцем предался радостному празднику, виновником которого был он сам.
Банкет и последовавший затем раут затянулись до поздней ночи. А в 9 час<ов>
утра И.А. Бунину пришлось встать и ехать в Нобелевский комитет. Здесь его
ждал чек на 170.331 шведскую крону— самый крупный литературный
гонорар, который когда-либо получал русский писатель [Седых 1933г: 2].
Поскольку нобелевские торжества происходят незадолго до Рождества,
которое отмечается в Швеции весь декабрь месяц, «канун» за «кануном», с
четвертого предрождественского воскресенья, то Бунин был приглашен на один из
наиболее популярных и традиционных новогодних праздников — день Люсии.
Это не просто поминание некоей безвестной в протестантской стране святой,
а своего рода фестиваль света в самые мрачные, темные дни, когда солнце, если
и «проглянет поневоле» из беспросветной зимней мглы, угасает уже часа в два.
Шведские дома традиционно украшены свечами, а 13 декабря везде, где только
можно, ходят процессии, возглавляемые девушкой с распущенными льняными
волосами и с короной из горящих свечей на голове; участники процессии
распевают рождественские песенки — так им хочется поскорее дождаться дня
зимнего солнцестояния. Ивана Алексеевича Бунина на подобное торжество
пригласили представители зарубежной прессы, постаравшись «настоящий
шведский рождественский стол с рождественским поросенком» превратить в
«исключительное» празднество. «Все газеты мира с миллионными тиражами
были представлены своими корреспондентами в Стокгольме» (Svenska dagbladet,
13.10.1933, s. 6)246; и едва ли не все они в один голос заявили на вечере, согласно
А. Седых, «что ни один нобелевский лауреат не был так популярен и не
пользовался в Стокгольме таким успехом, как Бунин» [Седых 1933ж: 2]. Были
среди гостей и хорошо уже знакомые чете Буниных лица — директор
Нобелевского фонда Рагнар Сульман, академик Андерс Эстерлинг и издатель Нильс Ге-
бер, представители нобелевского семейства — Йёста Нобель и Г. Олейников —
246 Мероприятие было исключительно многолюдным даже на фоне других нобелевских
раутов: в нем приняло участие несколько тысяч человек. В шведской печати было отмечено, что это
единственный прием, на котором Бунин смог познакомиться с настоящей шведской кухней и
узнать шведские традиции.
407
и, конечно, давний поклонник писателя Серж де Шессен247. Все газеты отметили
сказанную им по-французски и по-русски речь, однако процитировал ее только
А. Седых:
Долго ждала русская литература высокой награды. И чем дольше она
оставалась обездоленной, тем труднее казалось исправить совершенную
несправедливость. На долю Шведской академии выпала тяжелая, ответственная задача: в
лице одного писателя озарить лучом сияния литературу целой страны.
Необходимо было найти художника, тесно связанного с русским народом, с русской
землею, с самыми глубокими истоками жизни <...> Шведская академия может
гордиться безупречной правильностью своего решения [Седых 1933ж: 2].
Неудивительно, что эти слова имели у присутствующих «громадный успех»;
однако корреспондент русской газеты считает необходимым заметить, что «в
течение многих лет, преодолевая немалые трудности, Серж де Шессен
пропагандировал Бунина в шведских литературных кругах. И присуждение И.А. было
немалым его личным и заслуженным торжеством» [Там же].
Традиционным горячим глёггом (глинтвейном) и рождественским
поросенком потчевала Бунина мисс Швеции 1932 г., избранная Люсией фрекен
Юнассон. Предусмотрительно захваченные Гебером книги Бунина были
пущены с аукциона: «Сотенные купюры, которые дождем сыпались под ударами
молотка, говорят сами за себя...». Репортер «Дагенс нюхетер», впрочем, подсчитал
выручку — за десять книг, собственноручно надписанных автором, удалось
получить 500 крон (Dagens nyheter, 13.12.1933, s. 30). Сумма немалая по довоенным
временам, когда в сообщениях о рождественских распродажах в тех же газетах,
которые информировали о нобелевских торжествах, рекламировался мужской
костюм за 105 крон. Точная цена за книги Бунина, выпущенные издательством
Гебера, указана в газетных рекламах: «Деревня. Суходол» — 5.75, «Господин из
Сан-Франциско» — 3.75, «Митина любовь» — 4.75, «Юность Арсеньева» — 5.75,
«Странствия Арсеньева» — 3.75, наконец, «Чаша жизни» — пять крон ровно. За
книги было переплачено в десять раз, что явно говорит о повышенно
праздничной атмосфере на рождественской вечеринке, где и хороводы вокруг сияющей
огнями елочки тоже водили. Это сытное веселье после грасского голодного
затворничества среди пальм и мандаринов Вера Николаевна потом с нежностью
вспоминала, уже грустная на встрече Нового года в Берлине: «Но все же это не
Стокгольм. Там был энтузиазм...» [Устами Буниных 1977-1982, II: 299].
Его отражают и корреспонденции А. Седых, проникавшего благодаря
своему положению бунинского секретаря на самые изысканные приемы. «Всю
программу просто страшно перечислить», — сокрушается он, но добросовестно и
ярко рассказывает и о приеме Бунина во дворце (освещенном и шведскими
газетами: «— Вы много работали? — спросил король. — Это единственное, что
247 После отгремевших торжеств выпустивший по-шведски брошюру о первом русском
нобелевском лауреате по литературе, см. [Chessin 1934].
408
мне оставалось делать, ваше величество!..» — Dagens nyheter, 11.12.1933, s. 1),
и о рауте в Национальном музее, все залы которого были заставлены столами
с обильными великолепными закусками («Рембрандты с удивлением смотрели
со стен на шведов...» [Седых 1933е: 2]). Где бы она ни являлась, непременно
«обращает на себя внимание чета Буниных: Вера Николаевна, необычайно
красивая в своем "дворцовом" черном платье со шлейфом, и торжественный,
великолепно-медлительный Бунин» [Там же].
17 декабря, в день отъезда писателя из Стокгольма, «Свенска дагбладет»
поместила рекламу его книг, изданных Нильсом Гебером в шведских переводах:
«Иван Бунин, — сообщает газета, — снискал на шведской земле такую
популярность, которая кажется исключительной даже для нобелевского лауреата»
(Svenska dagbladet, 17.12.1933, s. 22). Книги перечислены в порядке убывания
количества экземпляров («Byn. Suchodol» — 7 тысяч экземпляров, «Arsenjevs
ungdom» — 6, «Arsenjevs irrfarder» <странствия> и «Herrn frân San Fransisco» —
no 5, «Mitjas kärlek и Livets bägare» <Чаша жизни> — 4 и 3 тысячи
соответственно). Как это принято, помимо цены в мягком и твердом переплете каждая
книга (за исключением «Юности Арсеньева») снабжена кратким резюме из
отклика в печати, среди имен рецензентов — С. Агрель, Ф. Бёк, А. Эстерлинг.
Можно было приобрести и всю серию сразу; поскольку оставалась всего неделя
до Рождества, всем «интересующимся литературой» покупателям были
обещаны подарки.
И вот последний репортаж «Дагенс нюхетер» о пребывании Бунина в
Швеции: «Шармёр говорит "au revoir"» (Dagens nyheter, 14.12.1933, s. 1, 8). Вместе с
секретарем и «прекрасными дамами» русский нобелевский лауреат от
скандинавского холода и снега, от «мрака за разрисованными морозом окнами» и
неожиданно горячего приема торопился домой — на Ривьеру. Перед
журналистом одной из главных газет Бунин предстал тем блестящим актером, о
котором в интервью по приезде говорила его супруга: он рисовался, принимая позы
то поэтической задумчивости, при долгом взгляде на залив, то глубочайшей
благодарности шведам за сердечный, сочувственный прием, прикладывая руку
к сердцу; он чувствовал себя мировой знаменитостью, рассуждая о
современной французской литературе — упомянув лишь имя Мориака и сославшись на
занятость собственным поденным литературным трудом, отдав предпочтение
новелле перед «романами-кирпичами»248 — или о мало привлекательном для
него театре, снисходительно рассказав о своих давних впечатлениях об игре
Станиславского.. .249 С гораздо большим воодушевлением, чем о состоянии рус-
248 Заголовок в газете состоял, собственно, из трех фраз: «Роман-кирпич не увлекает Бунина.
Шармёр говорит "au revoir". Шведская еда почти русская» (Dagens nyheter, 14.12.1933, s. 1).
249 Между тем о шведской литературе лауреату и сопровождающим его лицам кое-что
удалось узнать. Так, А. Седых, рассказывая о последнем дне Бунина в Стокгольме (17 декабря),
упомянул посещение погребка «Золотой мир» (сейчас собственность Шведской академии), «где
когда-то распевал свои баллады шведский национальный поэт Бельман» [Седых 1933д: 3]. Речь
409
ской литературы в эмиграции и на родине — где нет главного, свободы, —
Бунин вспоминает, чем его угощали накануне за рождественским столом, так
похожим на прежний, «дома, в России». И вот этот «поистине чаровник»
возвращается домой во Францию, так «сильно соскучившись по солнцу» в
Стокгольме, где все имеет такой знакомый и такой забытый на ослепительном юге
«серый оттенок». Распахнув, прощаясь, двери, Бунин застывает в них «столь
неподражаемо, как умеет лишь он один: Au revoir, monsieur!
Прощай, Швеция! Колеса спального вагона в последний раз прогремят в
такт отгремевшим фанфарам: "Тарра-та-та..."» (Dagens nyheter, 14.12.1933, s. 8).
Впереди было двадцать лет жизни... Нобелевским лауреатом.
«Живут они в Грассе (Côte d'Azur), цветочном центре (фабрика духов), в
вилле "Belvédère", на высочайшей скале, — не без зависти писала Цветаева и
саркастически предполагала: — Теперь, наверное, взберутся еще на
высочайшую» [Цветаева 1994-1995, 6: 407] 25°.
Если вспомнить утверждение Ф. Степуна о том, что Россия была страной по
преимуществу крестьянской, то есть населенной людьми, «воспитанными
церковью, древними обычаями и постоянным хозяйственным общением с
природой и животными» [Степун 1992: 263], то Бунин должен восприниматься не
только и не столько как «певец уходящей России», но как писатель, по
мировосприятию близкий сразу двум, некогда враждебным, но жившим в
неразрывном ежедневном существовании сословиям — «разоряющемуся дворянству и
экономически неустроенному мужику». Бунин художественно запечатлел
гибель целой формации — русского феодального, помещичье-крепостного
хозяйства. Утонченная, музыкальная проза Бунина близка и внятна не только «детям
и внукам разоренных крестьянской реформой дворян», но и «потомкам
бывших крепостных» [Степун 1992: 266], именно потому, что Бунин пишет прежде
всего «о погоде» — о русской земле.
Более того, Бунин видит не только гибель и разорение русской деревни — та
катастрофа, которую принято называть век спустя экологической, тоже
приоткрылась Бунину, и потому поэтический мир его природы сумел тронуть
шведского слависта. Ощущение жителя «остывающей планеты», отраженное в
произведениях Бунина, его прощание с уходящей жизнью, лишенное
пленительности для массового читателя, оказалось, в конце концов, решающим для
идет об авторе застольных «вакхических» песен и сатир K.M. Бельмане (Bellman, 1740-1795),
получившем в 1791 г. премию Шведской академии.
250 Если под пером Цветаевой Мережковский превратился в уродливого лесного гнома
(Würzelmännchen по-немецки «человечек-корешок», «сучок»), то Бунин обретает черты эльфа,
живущего где-то в поднебесье (но при этом весьма недоброго). Вспоминаются, однако, также
строки Саши Черного: «Жить на вершине голой, / Писать простые сонеты, / Брать у людей из
дола / Хлеб, вино и котлеты...».
410
завоевания Нобелевской премии. Замкнутое, кастовое сознание, склонность к
профетизму интеллектуала Мережковского, ограниченное узким кругом ме-
щанско-купеческой среды мировидение Шмелева, «анархистско-индивидуали-
стическое» сознание молодого Горького и его пропитанность
коммунистическими идеалами в зрелые годы — все это было неизбежной преградой к верному,
глубокому и полному восприятию этих авторов в той среде гуманитарной
западной интеллигенции, к которой принадлежали и шведские академики.
Разные до противоположности в русском понимании, эти три писателя
отталкивали буржуазного интеллектуала или деятеля культуры глубоко русским духом
своих сочинений. Неприятие русского менталитета в столь его непохожих
нравственно-философских и художественных проявлениях отразилось в
суждениях нобелевских экспертов и судий самым откровенным образом.
Существенно и другое. Главные русские претенденты на Нобелевскую
премию по литературе в первой трети XX в. были крупнейшими прозаиками. То
отношение к русской прозе, которое продемонстрировала в 1920-30-е гг.
Шведская академия, было присуще и русским критикам. «Славянофильское» и
«западническое» направления в русской мысли не исчезли как пережиток
породившей само понятие эпохи: под разными названиями два главных направления
в осознании русскими самих себя и своего места в мировом историческом и
культурном развитии существовали по крайней мере с петровских времен.
Ведущий критик русского зарубежья Георгий Адамович, уже в 50-е годы оценивая
литературный процесс в межвоенный период, продемонстрировал, в
частности, что творчество Бунина ему так же глубоко чуждо, как и шмелевское «Лето
Господне». В одном из писем к Р. Гулю, а не в публичном выступлении в печати,
Адамович так размышляет о двух «китах» прозы русской эмиграции:
Насчет Мережковского. <...> Давно ли Вы его перечитывали? Его общей
одаренности я ведь не отрицаю, но писатель слабый. (А вот о «Жизни Арсеньева»
согласен «на все сто»: очень скучно! Но это между нами, и все-таки это хоть и
скучная, но хорошая книга. Он не мог написать романа, но отдельные
страницы — удивительные) [Письма Адамовича Гулю 1999: 216].
О том же пишет Адамович и А. Бахраху, намекая на пустоту содержания у
Бунина («Хорошо, и хочется поставить на полку, il ny a rien que traîne après»
[Письма Адамовича Бахраху 1999: 64]) и предупреждая — трудно сказать,
насколько искренне, если это мнение тиражируется в письмах к разным
корреспондентам:
Но это — строжайше между нами даже для друзей и знакомых, которые таких
еретических суждений знать не должны. Впрочем, все знают это и сами, но я
всегда громогласно упорствую, что И<ван> А<лексеевич> — последний
великий писатель [Там же].
411
Так «упорство» ли это эмигрантской русской критики, создававшей свой
литературный миф, или выбор Нобелевского комитета, что случается далеко не
всегда, оказался в данном случае безукоризненным, даже, если воспользоваться
определением Степуна, провиденциалистским? «Допустим, что Нобелевская
премия присуждена была Бунину самой историей, и, допустив это, спросим
себя: чем оправдан выбор Бунина, что хотела история сказать нам этим
решением» [Степун 1992:152], — так Ф. А. Степун начал свое эссе о творчестве
писателя, улавливая некий, может быть, не сразу внятный, но «симптоматически-
существенный» [Там же: 153] смысл выбора Шведской академии. Даже горячим
поклонникам и ценителям Бунина слишком ясно, что он не принадлежит к
властителям дум, подобно Толстому и Достоевскому, да и вообще — и эту тайну
уже не стоит скрывать, подобно Адамовичу, — не является писателем великим,
писателем «мировой величины».
В современной, в особенности в современной европейской культуре, всего
много: мыслей, теорий, чувств, страстей, опыта, планов, знаний, умений и т. д.,
и т. д. Но всем этим своим непомерным богатством современный человек в
современной культуре все же неустроен. Скорее наоборот — всем этим он
расстроен, замучен, сбит с толку и подведен к пропасти. Исход из лжи и муки
этого разлагающего жизнь богатства, в котором мысль неотличима от
выдумок, воля от желаний, искусство от развлечений, рок от случайностей и
нужное от ненужностей, возможен только в обретении дара различения духов, т. е.
в возврате к той подлинности и к той первичности мыслей и чувств, которыми
держится и которым служит искусство Бунина [Там же].
И Ф.А. Степун называет те качества, которые по его мнению составляют
уникальную особенность бунинского таланта, — его «внутреннюю
подлинность» и «первозданность» [Там же]. В прямом смысле Бунин был абсолютно
честным художником, чуждым социального заказа во всех его проявлениях.
Его подлинность была обусловлена его «призванностью» — во всей
евангельской чистоте этого слова: словно исчезающий, совсем исчезнувший после
революции класс русского дворянства породил его, призвал и сделал своим голосом,
своей прощальной лебединой песнью.
Глава 9
Марк Александрович
АЛДАНОВ
Нобелевский лауреат по литературе, как известно, имеет право выдвигать
новых кандидатов на премию. Выдержав приличную паузу после получения
вожделенной награды, И.А. Бунин лишь в конце 1937 г. обратился в Шведскую
академию с номинацией. Хотя «Нобелевский Лексеич»1 выглядел несколько
смешно в сознании своей славы (что и побудило Набокова съязвить), но был
великодушен и хорошо помнил долг дружбы. Вряд ли кто-нибудь другой так
настойчиво и целенаправленно хлопотал о получении Буниным Нобелевской
премии, неизменно поддерживал в писателе то и дело угасавшую надежду и
вербовал его сторонников среди литературной общественности Европы (а не
только в узкой эмигрантской среде), как Марк Александрович Алданов2.
Неопровержим тот факт, что в литературно-общественной жизни эмиграции
он играл «очень большую роль»; но его известность простиралась еще шире.
«Из всех зарубежных писателей Алданов имел наибольший успех у не-русского
читателя»,— полагает Г. Струве [1996: 184]3. По утверждению современника,
«за все годы эмиграции автором, наиболее популярным у читателей русских
библиотек, был Алданов» [Бахрах 1977: 146]:
Как бы отражая общее мнение, Бунин не раз говорил, что, когда он получает
еще пахнущий типографской краской номер какого-нибудь толстого журнала
1 М. Шраер приводит слова Набокова («Лексеич, нобелевский»), относящиеся к 1938 г., с
соответствующим комментарием. «Набоковская снисходительная ирония», сделавшая Бунина
«предметом эпатажа», сменила давно преодоленные почтение и восхищение. Набоков не
преувеличивал: Бунин «с его манией величия» «казался гротескным» очень многим — вероятно, за
исключением Алданова. См.: [Шраер 2000: 168].
2 Алданов (Ландау; 1886-1957) происходил из семьи богатого сахаропромышленника,
окончил два факультета (физико-математический и юридический) в Киеве, а также Школу
общественных наук в Париже; занимался химией. До начала Первой мировой войны много
путешествовал, в 1918 г. ездил с делегацией общественно-политических деятелей в Париж и в Лондон, но
возвратился в Россию и эмигрировал в 1919 г. из Одессы, через Константинополь и Марсель, в
Париж. В начале 1920-х гг. жил и работал в Берлине, в 1925 г. перебрался в Париж. В 1941 г.
переехал в США, вернулся в 1946 г. в Европу и с 1947 г. поселился в Ницце, где и скончался.
3 Впрочем, известность романистики М. Алданова среди немецких читателей опровергает
Вс. Сечкарев, поражаясь тому, что его «увлекательные, богатые идеями романы не были приняты
во внимание в Германии» [Setschkareff 1996: 8]. Удивляться не приходится, принимая во
внимание те социально-культурные процессы, которые шли в Германии в 1920-30-е гг.
413
или альманаха, он первым делом смотрит по оглавлению, значится ли в нем
имя Алданова <...> и тогда тут же разрезает страницы, заранее возбудившие
его любопытство, и, откладывая все дела, принимается за их чтение [Там же].
Насколько Бунин бывал искренним в подобных признаниях, судить трудно:
его художественный талант, питаемый интуицией и воображением и не
нуждающийся в скрупулезном просеивании мириад сведений и фактов, был
настолько иного рода, что алдановская эрудиция4 действительно могла его
подкупать и даже приводить в подлинное восхищение («поражаюсь Вашими
дарами» [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1: 160]).
Жадно читаемый эмигрантской публикой и переводимый на многие
иностранные языки, Алданов производит странное впечатление жалобами на свои
занятия литературой в переписке с Буниным 1920-1930-х гг. Публикатор
деликатно называет главную тему, обсуждаемую Марком Александровичем
разносторонне и со вкусом, «финансовыми вопросами» [Письма Алданова к
Буниным 1965, II: 258-287]: создается впечатление, что ремесло писателя
рассматривается в тот момент Алдановым исключительно как средство добывания
денег. «Берлином я недоволен во всех отношениях, кроме валютного»;
«Толстой (А. Н. — Г. М.), по здешним понятиям, "купается в золоте". Один Грже-
бин отвалил ему миллион марок (за 10 томов) и "Госиздат" тоже что-то очень
много марок (за издание в России)»; «Знаю, что вас большевики озолотили
бы»; «Переводы на "высоковалютные языки' для нас спасение <...> обещали
навести справки о том, как устраиваются скандинавские и голландские
переводы»; «А то еще можно поехать в Прагу, но получать стипендию я не
согласен <...»>; «Настроение мое изменит или могила, или свобода (т. е. в
настоящей обстановке миллион франков состояния)»; «Толстой будто бы загребает
деньги»; «богачом едва ли стану. Даром только потерял в прошлом году три
месяца»; «У Вас хоть надежда на Ноб<елевскую> премию. А мне собственно
и надеяться не на что <...»> [Там же: 263, 264, 265, 266, 275, 284] (выделено
нами. — Г. М.).
Между тем материальное положение Алданова было далеко не так
беспросветно, о чем красноречиво свидетельствуют сетования — на что,
собственно, не хватает денег популярному историческому романисту. В частности, это
путешествия, предпринимаемые, впрочем, с чисто исследовательскими
целями. Так, например, в августе 1925 г. Алданов ездил в Швейцарию, чтобы
восстановить в памяти Чертов мост, «которого не видел 20 лет» [Там же: 274];
несколько лет спустя он делится с Буниным замыслом серии очерков, в том
числе о Гёте: «Но для этого надо поехать в Веймар... все жду денег...!» [Там же:
4 «Многое достигается незаметной для читателя египетской работой в библиотеках», —
пишет, например, Н. Ульянов и далее замечает: «Труд писателя похож в таких случаях на добычу
золота. Надо промыть тонны песка <...>». Труд строителя пирамид, старателя, работа поистине
адская — и не веселая: «...не один час просижен над сгущением и конденсацией извлеченного
материала» [Ульянов 1960: 113-114].
414
276]5. He только романы, но и письма Алданов составлял с чрезвычайным
искусством, умея похвастаться так, чтобы не вызвать при этом обиды и зависти у
своего корреспондента и даже сам факт получения весьма немалых гонораров
представить как страшное материальное бедствие. «Я был в Англии: имел
несчастье»,— сообщает он, например, в письме от 10.11.1931 к очень
бедствовавшему A.B. Амфитеатрову, прибегая к такой синтаксической конструкции в
начале предложения, что у читателя сердце сжимается от одного предчувствия
случившегося «несчастья»; фраза, однако, имеет совсем иное продолжение:
имел несчастье в свое время взять большой (по нашим маленьким масштабам)
аванс у «Последних Новостей» для совершения поездки по Европе, побывал в
Голландии и Испании, и эти две поездки, включая и расходы моей жены,
несмотря на вынужденную «скромность» в трате денег, аванс съели целиком;
между тем мои статьи покрыли только две трети его. Таким образом,
вынужден был третью поездку — в Англию — совершить уже в чистый убыток; а дела
и вообще, к несчастью, очень ухудшились: банкротство книжной фирмы Зак-
са, продававшего мои книги, весьма меня подвело, да и другие издатели
(иностранные) не платят, ссылаясь на кризис, — и т. д. [«Парижский философ из
русских евреев» 1997: 562].
Из всего этого отчета о жизни вполне обеспеченной, насыщенной
интересными поездками вместе с женой по Европе, интенсивными публикациями в
периодике и выходом книг, должно сложиться общее впечатление об
обстоятельствах крайне стесненных, тяжелых, беспросветных. «Мы писатели страны с
населением в миллион человек и самой бедной из всех стран мира, — утверждал
Алданов в том же письме Амфитеатрову, — говорю, конечно, о русской
эмиграции. Люди теперь носков не покупают — зачем же им покупать книги?» [Там же].
Но доход, и довольно стабильный, литература все-таки приносила,
приковывая к себе ставшего скоро маститым историческим романистом Алданова,
как галера каторжника6. «Не могу Вам сказать, как мне надоело писать кни-
5 Вот еще сообщение того же рода: Б.К. Зайцев «собирается в Италию, да, кажется, денег не
хватает» [Письма Алданова к Буниным 1965, II: 264]. Замечательно, что в своей знаменитой
речи на открытии памятника Пушкину в 1881 г. Достоевский сформулировал главное качество
творчества великого русского поэта и русской литературы вообще: ее протеизм, «всемирную
отзывчивость». Для того чтобы написать о Севилье и вложить в уста испанки слова «...ночь
лимоном / И лавром пахнет <...>/ А далеко, на севере — в Париже — / Быть может, небо тучами
покрыто, / Холодный дождь идет <...>», Пушкину достаточно было застрять из-за холеры в
нижегородском именьице. Признания Алданова свидетельствуют о том, что подобная интуитивная
«всемирная отзывчивость» была ему полностью чужда.
6 Алданов был, видимо, не одинок в своих жалобах, ибо Дон-Аминадо (А.П. Шполянский) в
одном из юмористических рассказов остроумно обыграл эти вечные пени
писателей-поденщиков, рассказав о них от лица «денационализированного» мальчика: «Потому что с большинством
детей бывает так, что в детстве они сочинители, а под старость каторжники. Но бывает и так
<...>, что то, и другое вместе. То есть, по убеждениям они каторжники, а по ремеслу сочинители.
<...> Но попробовать, конечно, нужно, авось, из меня выйдет настоящий классик в переплете с
золотым обрезом» [Дон-Аминадо 2004: 104].
415
ги», — жалуется он Бунину в 1928 г. и почти дословно досадует три года спустя:
«Но если бы Вы знали, как литература мне надоела и как тяготит меня то, что
надо писать, писать». «Не знаю, буду ли вообще писать роман, но если нужда
заставит <...> то буду», — с откровенной прямотой сообщает Алданов о своих
творческих планах. О работе над пьесой (театр — «грубый жанр») честно
замечает: «...пишу все время с чувством мучительной неловкости». И совсем
беспросветно звучит признание 1936 г.: «Я считаю так: обо мне, например (кроме
моих химических трудов), все забудут через три недели после моих похорон»
[Письма Алданова к Буниным 1965,1: 275, 276, 283]. Кстати, столь неотступно
преследовавший Алданова в жизни финансовый вопрос — при относительном
благополучии — захватывал постепенно и его беллетристические сочинения.
По собственному рассказу писателя, Н. Берберова упрекнула его как-то, что в
его «романах деньги занимают слишком много места. Я только развел
руками», — изумляется заканчивающий к тому времени «Пещеру» (последний
роман из трилогии о русской революции) Алданов, случайно показывая, что за
«философский камень» он стремится обрести:
Жизнь сложна, не в деньгах счастье, все это мы знаем, — но удивительно, как
без денег все становится труднее даже в таких областях жизни, которые,
казалось бы, ничего с деньгами общего не имеют [«Парижский философ из русских
евреев» 1997:582].
Между тем первый русский нобелевский лауреат по литературе,
именовавший Алданова «Марко Богатый» (ср.: [Письма Бунина к Зайцевым, III: 128]),
задавался столь тягостным для Алданова вопросом творчества совсем по-
иному, например, в те же годы в «Жизни Арсеньева»:
А что такое писать? Это непрестанно и наиболее напряженно узнать (sic! —
Г. M.) и чувствовать жизнь, ища в ней радующего, то есть дающего любовь...
страдать всем, что мешает любви, оскорбляет ее <...> (Современные записки,
1933,т.Ы1,с. 52).
Но тут меня охватывало возмущение: да почему я обязан что-то и кого-то
знать с точнейшей и совершенной полностью, а не писать так, как знаю и как
чувствую! (Там же, с. 55).
Кажется, именно о паре Бунин - Алданов писал в очерке «Природа
актерской души» Ф.А. Степун, противопоставляя создателей «подлинной духовной
культуры» и ремесленников от искусства:
Не творцы — они только ловкие дельцы, умелые деятели, полезные ученые,
иногда даже солидные художники. Всюду и везде они люди количества, но
не качества; труда, но не творчества; цивилизации, но не культуры [Степун
1992:43].
О творчестве Бунина М.А. Алданов высказывался неизменно в
превосходных тонах, утверждая, что это «самый большой наш писатель», «наш первый
416
писатель и, конечно, у нас такого писателя <...> не было со времен кончины
Толстого» [Письма Алданова к Буниным 1965, I: 280]. Бунину он всегда готов
был покровительствовать в делах перевода и издания произведений. Еще в
1927 г., будучи редактором литературного отдела «Дней», он привлекал Бунина
к сотрудничеству, выказывая готовность выступить в роли «маклера» [Там же:
279]7. Перебравшись на второй год войны в Америку, Алданов неизменно
хлопочет о Бунине, то добывая для него разовые вспомоществования от
благополучных бывших соотечественников, то устраивая ему небольшие, но
регулярные выплаты все от тех же «достаточных» лиц, то, наконец, улаживая
непростые отношения между по-старчески капризничающим Буниным (не
желавшим, в частности, поступаться дореволюционной орфографией) и
Издательством им. Чехова, в котором бунинские книги стали первой литературной
продукцией. Алданов оставался преданным другом8, не изменившим, в отличие
от многих, например, Б.К. Зайцева или М.С Цетлиной, своего доброго
отношения к Бунину после общения патриарха русской литературы «в изгнании»
с представителями советского посольства.
Считая себя прямым наследником русской литературной традиции9 и
никоим образом не причисляя к ней Алданова, Бунин тем не менее неизменно
расхваливал его сочинения и раздавал им самые высокие оценки. Так, сообщая
Алданову о своем восхищении его новым романом, «Истоки», Бунин пишет, в
частности: «...читал <...> и всплескивал руками: ей-Богу, это все сделало бы
честь Толстому!» [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1:160]. Впрочем, иногда
Бунин уточняет, что ему понравилось особенно, например, «до чего хороши
исторические вставки» в «Пещере» [Там же: 165]. Во всяком случае, Бунин
Алданова читал и видимо ценил. А. Бахрах, которого во время войны приютили у
себя в Грассе Бунины, вспоминает такой любопытный случай:
Однажды он (Бунин. — Т. М.) пришел, с иронией на меня посмотрел и сказал:
«А вы, небось, бы не дали Нобелевской премии Алданову! А я бы непременно
дал <...>» [Бахрах 1978: 170].
7 Ежедневная газета «Дни» выходила с 1922 по 1925 г. в Берлине (в этот период Алданов
редактировал воскресное литературное приложение), а с 1925 по 1928 г. в Париже (к Алданову
перешло редактирование отдела прозы «Литературной недели»).
8 Однако еще 30 января 1937 г. В.Н. Бунина оставила такую запись в дневнике: «На Монпар-
насе говорят: Алданов раньше был при Бунине, теперь при Сирине». И ревниво добавляет: «Да,
напрасно М<арк> А<лександрович> в таком восторге» (РАЛ, MS. 1067/412).
9 Буквально — и не забывая об этом никогда. Весьма характерно в этом смысле восклицание
из позднего письма М.А. Алданову 1950 г.: «Жуковский (— Бунин!! —) еще до Пушкина дал
новый литературный язык» [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1: 161]. Максим Шраер
ссылается на подобное заявление из другого письма И.А. Бунина, Роману Гулю: первый русский лауреат
литературного «Нобеля» считал себя «последним представителем русской литературы,
начавшейся с "Жуковского и Карамзина", которая включает Толстого и Тургенева и "заканчивается
Иваном Буниным"» [Шраер 2000:164].
417
Из частной переписки явствует, что инициатива выдвижения Алданова
исходила от самого Бунина: «Я никогда не просил бы, — признается Алданов, —
если 6 вы сами этого первый не сделали» [Письма Алданова к Буниным 1965,
II: 117]. Однако ревниво оглядываться на русских писателей — возможных
соперников в Нобелевской лотерее Алданов начал уже вскоре после увенчания
вожделенными лаврами Бунина, ставшего «обеспеченным, хоть скромно,
человеком»: «Алешка Толстой имеет в СССР миллионный доход и, как говорят,
считается "фаворитом" на Нобелевской премии (sic! — Г. M.) этого года», —
делится Алданов в мае 1937 г. с Амфитеатровым [«Парижский философ из русских
евреев» 1997: 608]10.
В своем первом обращении в Шведскую академию Бунин был сух и
предельно лаконичен.
Господа академики. Имею честь предложить вам кандидатуру господина
Марка Алданова (Ландау) на Нобелевскую премию 1938 г. Примите уверения в
моем совершеннейшем к вам почтении11.
Отправленное из Парижа письмо датировано 3 декабря 1937 г. и подписано:
Ivan Bounine, Prix Nobel 1933. В ореоле нобелевского лауреата Бунин мгновенно
забывает о том, какие усилия предпринимал он сам, рассылая повсюду вырезки
со статьями о своей личности и творчестве, и отделывается буквально одной-
единственной фразой.
Через короткое время (следовало успеть до конца января 1938 г.) он
повторяет свое предложение — но его второе послание, где Алданов назван
«знаменитым русским писателем» (célèbre écrivain russe), не датировано. Письмо,
посланное вдогонку, выглядело бы более чем странно, если бы не было снабжено
16-страничным приложением, в котором очевидно угадывается
организаторская хватка самого Марка Александровича. Приложения, напечатанные в трех
экземплярах, подготовлены, вне всякого сомнения, самим номинантом, хотя
Бунин их столь же несомненно просматривал: так, в перечне переводов
сочинений М.А. Алданова на иностранные языки названия его книг, изданных
по-шведски, жирно подчеркнуты теми же чернилами и с тем же нажимом пера,
что и в собственном бунинском послании.
Приложения отличают тщательность и продуманность, составляющие
главную особенность алдановского творчества. Если бы все претенденты на
Нобелевскую премию подходили к делу столь же основательно, институт экспертов
10 Судя по опубликованным в издании «Nobelpriset i litteratur» материалам, А.Н. Толстой на
Нобелевскую премию никогда не выдвигался.
11 Следует с сожалением заметить, что французским языком Бунин владел далеко не
безупречно, грешил частыми ошибками в орфографии и особенно в акцентуации. В данном
случае, допустив довольно обычную для привыкшего к кириллице русского человека путаницу «и»
и «у», Бунин заканчивает письмо не «выражением чувства самого преданного (dévoué)
почтения», а некими «сбитыми с пути, развращенными» (dévoyés) чувствами (что, принимая во
внимание сумятицу его личной жизни тех лет, кажется почти символической опиской).
418
по национальным литературам при Шведской академии можно было бы
упразднить. Вниманию членов Нобелевского комитета была предложена, прежде
всего, краткая биография М. Алданова, «либеральные взгляды которого не
позволили ему остаться в России» при большевиках, и список его трудов, переведенных
«на два десятка иностранных языков». Среди главных произведений писателя,
снискавших ему «подлинный успех», названы романы, «которые составляют
два больших цикла», «историческая тетралогия»12 и «современная трилогия»13.
В качестве своеобразного резюме к биографическому очерку на французском
языке прилагается англоязычная справка из «Британской энциклопедии».
В статье «Aldanov» писатель назван последователем Толстого и Достоевского,
хотя и «не имеющим великого эпического воображения» первого и «широкого
сочувствия» (wyde — sic! — sympathy) второго. «Ему есть что сказать, —
замечает автор энциклопедической заметки, — и он говорит это хорошо»
[Encyclopaedia Britannica 1926: 92]14.
Политические взгляды номинируемого писателя — «всегда весьма
либеральные, демократические и передовые» (!) — названы также «равно
враждебными большевизму и фашизму». Но всего замечательнее сообщение о
публикациях Алданова в русской эмигрантской печати. Сам по себе факт, что его статьи
регулярно печатаются в газете «Последние новости» П.Н. Милюкова и в
еженедельнике «Новая Россия» А.Ф. Керенского, «последнего главы русского
Временного правительства», кажется недостаточным, чтобы подчеркнуть широкий
либерализм воззрений писателя: не забыто и то обстоятельство, что
вышеназванные политические деятели в прошлом и редакторы в настоящем «оба
являются его (Алданова. — Т. М.) друзьями».
Кроме того, к письму Бунина приложены проспекты двух издательств,
русского и французского, с перечнем книг Алданова и выдержками из критических
откликов на них. В рекламном буклете романа «Девятое термидора» во
французском переводе (перевод J.-H. Aimont; издательство «Éditions Victor Attinger»)
традиционное краткое содержание книги сопровождается «extraits de presse» —
разумеется, из французской: выдержки из рецензий призваны подчеркнуть,
12 «Мыслитель: Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький
остров» (отдельными изданиями вышли соответственно в 1923, 1925, 1927 и 1923 гг.;
опубликованная первой — в переводе на французский язык в 1921 г. — «Святая Елена» в результате стала
завершающей частью цикла).
13 «Ключ» (1930), «Бегство» (1932), «Пещера» (1934-1936).
14 Однако к этому времени уже вышло в свет следующее издание «Британской
энциклопедии», в которую статья об Алданове вошла в сильно сокращенном виде [Encyclopaedia Britannica
1929: 547]. В ней сказано, что «русский писатель и публицист родился в Киеве» и в тетралогии
«Мыслитель» изобразил Великую французскую революцию «со знанием, пониманием и
философски» («with learning, understanding and philosophy»). Загадочным образом из всего творчества
Марка Александровича упомянут «"Армагеддон" (1915), в котором идет речь о Первой мировой
войне». Это последнее указание расходится с данными, приведенными в: Bibliographie des œuvres
de Marc Aldanov, établie par D. et H. Cristesco, Paris, 1976, p. XI, p. 3; на различных страницах
указаны два разных года издания этого «конфискованного властями» труда — 1917и 1918.
419
что творчество М.А. Алданова представляет не узкий интерес для замкнутого
общества русской эмиграции, а своей «эпохальностью», строгим документализ-
мом и приверженностью традициям Толстого и Стендаля (!) вносит
существенный вклад в европейскую литературную традицию.
Насколько этот вклад соответствует строгим требованиям Нобелевской
премии, предстояло определить Антону Карлгрену, чей обзор литературной
продукции М.А. Алданова был переплетен в 1938 г. с его же экспертным
заключением о творчестве К. Чапека и И. Брлич-Мажуранич15. Для рецензента Алда-
нов — прежде всего представитель литературы послереволюционной русской
эмиграции, начиная с книги о В.И. Ленине 1921 г., «наичистейшей
антибольшевистской пропаганды», пользующейся спросом именно в среде беженцев из
России16. «Колоссальную» известность именно в «среде русской эмиграции»,
которую писателю принесла уже тетралогия о французской революции, А. Карл-
грен специально подчеркивает на протяжении всего своего отзыва,
демонстрируя тем самым, хотя и исподволь, ограниченное, периферийное значение
творчества писателя. Современные исследователи, обращаясь к личности и
сочинениям Алданова, словно подтверждают эту ограниченность его
литературной славы и значения; так, публикаторы эпистолярного наследия писателя
называют его «признанным мастером эмигрантской литературы» [«Парижский
философ из русских евреев» 1997: 539].
А. Карлгрен всегда был безжалостным литературным судьей и в
обстоятельном рассмотрении уже первой алдановской трилогии подчеркивает ее
недостатки: слишком рыхлую композицию, отчего части трилогии представляют
собой не «целостный исторический роман в привычном смысле», а «ряд
отдельных исторических картин», увязать которые между собой призван «летучий
репортер» и «совершенно неинтересная личность» Штааль — что, однако, «мало
помогает». Собственно, именно на этот сквозной персонаж обрушивается —
впрочем, не сокрушительная — критика Карлгрена: эту «совершенно
бесцветную и почти лишенную индивидуальности», абсолютно «необязательную
фигуру» (ибо все «сцены и персонажи нарисованы так, словно писатель сам
наблюдает их сквозь весьма искусно отшлифованные стекла мудреных очков»)
рецензент оценивает как «чистого статиста в изменчивой драме, чье
обязательное присутствие в эпизодах наконец до смерти надоедает читателю».
Юлию Штаалю приходится «увязывать» действительно ключевые события
русской и европейской истории, от якобинского террора до падения
Робеспьера, от воцарения Павла I до его убийства, не говоря уже о дипломатической
кухне в Англии или участии в переходе Суворова через Альпы. «Для меня всего
важнее в романе Штааль — милый молодой человек средних достоинств, —
15 Ивана Брлич-Мажуранич (1874-1938) — хорватская писательница, автор детских книг и
книг сказок, созданных на основе фольклорной традиции.
16 А. Карлгрен имеет в виду английский перевод (L., 1921) брошюры «Lénine»,
опубликованной первоначально на французском языке (Р., 1919).
420
признавался сам автор тетралогии. — Удалось ли его сделать живым? — в этом
главное» [«Парижский философ из русских евреев» 1997: 550]. Современные
Алданову эмигрантские критики разошлись не столько в оценке самого
персонажа, сколько во взглядах на его роль в трилогии Алданова: «Штааль вышел
совсем восковым, — писал, например, М. Слоним в «Воле России». — Алданов
не дал внутренней жизни своего героя. <...> Штааль — прием, а не человек».
Это мнение оспаривал М. Осоргин, одобряя «провизорски точный» выбор
главного героя и так поясняя свою мысль:
Штааль, олицетворение среднего, мизерного, мелкий бес повседневности,
оказался именно тем фактором, который превращает пышную историю в суету
сует. Штааль — кривое зеркало героического (цит. по: [Чернышев 1991: 541]).
Как видим, нобелевскому эксперту не было важно учесть разные точки
зрения на разбираемые им сочинения и попытаться выразить некое обобщенное
объективное представление о них. Его собственное читательское восприятие,
непосредственные эмоции — вот на чем прежде всего покоится его экспертный
отчет, и в выражении этих эмоций он себя мало стесняет.
Так, замечает Карлгрен, в своем «пессимистическом и злобно-скептическом
понимании истории» писатель, который выбрал в герои столь незначительное
существо (чьи любовные похождения и то «как нельзя более банальны»),
питает «столь же мало почтения» и к великим представителям Европы. Ключевые
лица европейской истории разных стран и эпох предстают как decrepiti17:
«хиреющий на Св. Елене Наполеон, стареющая карга Екатерина, ясно и очевидно
утративший рассудок Кант etc.». «Тщательно отобранные забавные причуды и
уморительные стороны великих людей» писатель использует не только для
низведения большинства исторических личностей до заурядного уровня18 (не
превосходящего уровня Штааля), но и для объяснения их поступков заурядными,
нарочито ничтожными причинами, так что повлиявшие на ход исторических
событий действия оказываются в изображении Алданова «в лучшем случае
результатом случайных импульсов или влияний»19. Этот прием А. Карлгрен скло-
17 Одряхлевшие (лат.).
18 Интересно, что A.B. Амфитеатров — сам исторический романист, откликнувшийся пятью
статьями уже на первые выступления Алданова в том же качестве, — совсем иначе отнесся к
алдановским портретам великих людей и особенно оценил выгодно отличающее Алданова от
Толстого «доброжелательство к "большому человеку", как таковому, независимо от пятен на его
моральной репутации», «умение уважать демоническую мощь "гения" — хотя бы и под густым
слоем житейской и политической грязи» [«Парижский философ из русских евреев» 1997: 544].
19 Ср. мнение автора первой монографии об Алданове [Lee 1969] Чарльза Николаса Ли: «Для
публицистических этюдов Алданов подбирает людей, ставших выдающимися по какой-то
случайной внешней причине, чтобы исключением парадоксально доказать то или иное правило.
Известность этих людей гарантирует им неприкосновенность: разоблачая их слабости, автор
только приближает их к среднему читателю. То же отрицание героизма переносится и на
изображение вымышленных персонажей, несколько обесцвечивая их» [Ли 1972: 102].
421
нен рассматривать как намерение романиста изобличить «фальшивый блеск»
овеянных славой эпох и развенчать неизменно разыгрывающийся на
исторических подмостках все тот же «иррациональный и бессмысленный спектакль».
На эту же особенность алдановского творчества указал, рецензируя
«Чертов мост», A.A. Кизеветтер. По его мнению, Алданов изображает ту «основную
стихию человеческого существования», которая может быть названа «иронией
судьбы»:
Алданов на пространстве каждого своего романа несколько раз переходит от
ничтожных происшествий к громким историческим событиям и обратно. Все
эти переходы, при самом ярком различии жизненных красок, бьют все в одну
точку: и маленькие люди, участвующие в ничтожных происшествиях, и
носители крупных исторических имен, разыгрывающие торжественные акты
мировой истории, — оказываются на поверку в одинаковой мере жертвами этой
самой иронии судьбы, которая одних людей заставляет копошиться в
безвестности в невидных закоулках жизни, других возносит на высоты славы —
зачем? Только затем, чтобы и тех, и других привести в конце концов к одному
знаменателю, — на положение беспомощных осенних листьев, которые
крутятся, сталкиваются и исчезают, подхватываемые жизненным вихрем. «Суета
сует», — вот лейтмотив всей истории человечества. Такова центральная тема
всех исторических повествований Алданова [Кизеветтер.1926: 478].
Но рецензент делает далее попытку объяснить сверхзадачу подобного
подхода к изображению истории:
И если читатель, погружаясь в написанные Алдановым исторические картины,
испытывает такое чувство, как будто речь идет о его времени и о нем самом, то
это свидетельствует лишь о том, что автору как нельзя лучше удается
историческим методом подвести читателя к некоторым неизменным и вековечным
элементам общечеловеческой судьбы [Там же: 479].
А. Карлгрен безоговорочно отвергает подобную интерпретацию творчества
Алданова, очевидно придерживаясь мнения, что различные исторические
эпохи если и интересны некоторой общностью, то гораздо больше интересны
различием и неповторимостью. Для нобелевского эксперта бесспорным является
факт, что Алданов «пишет об обстоятельствах и людях французской
революции, думая о русской революции» и лишь в слегка замаскированном виде
изображая «вчерашнюю русскую драму»:
Среди русских эмигрантов эта идентификация персонажей тетралогии с
основными русскими фигурами последнего времени заходит так далеко, что
Алданов начал протестовать20.
20 К сожалению, никаких конкретных ссылок на эмигрантскую периодику или иные
выступления писателя в печати в экспертном заключении не содержится. Однако по некоторым
использованным Карлгреном деталям можно предположить, что он опирался на цикл статей
A.B. Амфитеатрова «О русском историческом романе», печатавшийся в 1925 г. в газете «За Сво-
422
Также не кажется Карлгрену убедительным художественное воплощение
революционеров, разрушителей культуры, «выпускающих на волю темные
страсти, которые лежат и дремлют в них самих: зависть, жестокость, тщеславие,
стремление к разрушению, одним словом, наслаждение злом». Ничего нового в
представлении Алданова о революции как о всеобщем безумии, слепоте и
беспощадном терроре рецензент не усматривает, замечая иронически, что «с
помощью французской революции писатель составляет также гороскоп
дальнейшего русского развития». И развернутые им перспективы именно таковы,
констатирует Карлгрен, каких и ожидает публика, для которой он пишет.
Та «контрреволюционная тенденция», которая пронизывает алдановскую
тетралогию, заключает эксперт, «разносится эхом по всему миру русской
эмиграции — и нет никакого сомнения в том, что здесь кроется отчасти
объяснение той громадной славы первостепенного писателя, которой пользуется Алда-
нов и чему его выдвижение на Нобелевскую премию является гротескным
доказательством» (выделено нами. — Г. М.). Нет также никакого сомнения в
том, что эксперт Шведской академии по славянским литературам ни в коей
мере не склонен считать Алданова крупным представителем русской
словесности и рекомендовать его комитету как достойного кандидата на премию.
Разумеется, эксперт не обходит стороной положительные качества прозы
Алданова, указывая, например, что его «описания исторических происшествий
и лиц в высочайшей степени достоверны». То, что это писатель «явно и
очевидно тенденциозный», никоим образом не означает, что он «позволяет себе
тенденциозную фальсификацию истории», напротив, все, что касается
исторических фактов в алдановском творчестве, определяется «высочайшим уровнем
исторической точности»21. Но для А. Карлгрена кропотливейшая архивная
работа сама по себе еще не становится условием создания литературного шедевра.
Рецензент довольно холодно замечает, что «собственное, разумеется,
внушающее почтение историческое образование Алданова» откровенно мешает созда-
боду!» (вырезки с этой подборкой Карлгрен мог получить от кого-либо из своих
корреспондентов). Публикаторы переписки Амфитеатрова и Алданова, Э. Гаретто и А. Добкин, указывают, что
Алданов «формулирует свое кредо как исторического романиста: писать о прошлых эпохах
необходимо для более точного понимания сегодняшней политической ситуации». Амфитеатров
использовал в своих критических построениях эпистолярные признания Алданова и, как
полагают исследователи, «понял его, быть может, слишком буквально, вычитав из алдановского
творчества то, чего там, пожалуй, и не было», тогда как параллели «с сегодняшним днем были
необходимы Алданову для лучшего понимания настоящего, а отнюдь не для публицистического
внесения в него готовых схем, почерпнутых в прошлом» [«Парижский философ из русских евреев»
1997: 540]. Если читатель-соотечественник открывает в описываемых Алдановым событиях и
фигурах далекого прошлого злободневное содержание, то нобелевский эксперт еще более
«выпрямляет» это понимание алдановской «скрытой» публицистики, проводя более зримые и
грубые параллели.
21 На «полное и щепетильнейшее соответствие с исторической достоверностью»
произведений писателя авторитетно указывал историк A.A. Кизеветтер [1926: 477]. Возможно, эту
рецензию и имел в виду Карлгрен.
423
нию полноценного художественного произведения, а беллетристическая канва,
в свою очередь, препятствует восприятию трудов писателя как подлинно
исторических.
Среди соотечественников Алданова равнодушным к его неизменно
внушавшей глубочайшее почтение образованности и начитанности в специальной
исторической литературе остался, пожалуй, лишь Горький — ушедший из
жизни за год до первого обращения Бунина в Стокгольм. В очередной раз
демонстрируя безошибочное чутье, Горький писал в 1927 г. одному из своих
корреспондентов:
Здесь, среди эмигрантов, в славе Алданов-Ландау, автор тоже исторических
романов, человек весьма «начитанный» <...> Писатель мудрый, но сухой, как
евангельская смоковница [Горький 1949-1955, 30: 24] (Письмо А.П. Чапыгину
от 20.05.1927).
И.А. Бочарова полагает, что несогласие с мнением Горького нашло
отражение в рецензии М. Осоргина на «Заговор» Алданова [Горький и Осоргин.
Переписка 2002: 516]. Соглашаясь с тем, что «отличная эрудиция» — не самое
главное достоинство для романиста, Осоргин возражает неким неназываемым
оппонентам:
Неосновательно также ставить писателю упрек в его европеизации <...> Ни
исповеди, ни проповеди он, повествователь, себе не позволяет, — как часто
делают русские писатели, и в этом ярко сказывается его европеизм [Там же].
Однако эксперт Нобелевского комитета, профессор славистики А. Карлгрен
совершенно непреложно убежден как раз в обратном: в том, что исторические
романы Алданова рассчитаны исключительно на русскую аудиторию и
остаются — особенно «Заговор», «впрочем, лучшая» часть тетралогии, — «поистине
неудобоваримыми для западноевропейского читателя». В то время как
произведения Алданова переводились на множество иностранных языков, Карлгрен
писал:
...я подозреваю, что из большинства тех, для кого все интригующие русские
государственные деятели остаются очевидно безвестными даже по имени,
весьма немногие станут следовать за, вне всякого сомнения, надежнейшим ал-
дановским описанием того, кто из них и какую роль играл в убийстве бедного
Павла.
После этого утверждения, казалось бы, полностью дезавуирующего
притязания Алданова — исторического романиста, Карлгрен неожиданно
принимается горячо нахваливать высочайшее «мастерство изображения» «изумительно
живой жизни», которое проявляется в ряде «совершенно великолепных» сцен
(в частности, в описании смерти Екатерины Великой — «кульминационном
пункте» романа «Заговор») и во «всегда исполненных жизни портретах».
Образы знаменитых людей, с которыми Алданов позволяет читателю «свести
424
более близкое знакомство», производят двойственное впечатление на
нобелевского эксперта. С одной стороны, его восхищает, как Алданов умеет собрать и
соединить множество «часто несколько шокирующих мелких черточек»,
«легкой рукой» набрасывая тот или иной характер; с другой стороны, желание Ал-
данова изображать великих людей через их «странности и чудачества» умаляет
масштаб их личностей, что не вполне согласуется со стремлением писателя к
абсолютной исторической правдивости.
Об алдановском «образцовом стиле» — «совершенном по форме,
изящнейшем, сверхутонченном» — рецензент Нобелевского комитета пишет со
смешанным чувством восхищения и недоумения, которое всегда присутствовало в
отзывах о произведениях Марка Алданова в эмигрантской критике22. Особенно
это касается «некоторой забавной игры с формой» (в «Девятом термидора»
описание погребения Робеспьера, состоящее из «13 фраз равной длины, по
7 слов в каждой», или кавалерийского патруля в «Чертовом мосте», когда
каждое из 11 предложений оказывается на одно слово короче, чем предыдущее).
Однако, ссылается рецензент на самопризнание писателя, эти маленькие
ухищрения «никто не замечает». На этот столь дорогой самому Алданову
«стилистический "фокус"» было указано Амфитеатровым в одной из статей об
исторической романистике Алданова, к писательской гордости последнего. Вот что
пишет сам Алданов:
Вы<,> верно<,> заметили (в печати этого никем не было замечено), что в
«9 термидора» похороны Робеспьера <...> написаны фразами из 7 слов,
кончающимися словами с ударением на предпоследнем слоге. Сходные
стилистические приемы есть и в «Чертовом мосте» (напр<имер>, в сцене на миланской
дороге — приближение конного отряда Бонапарта — каждая фраза на 1 слово
длиннее предыдущей23). Но я теперь сомневаюсь в целесообразности этого
приема, который прежде очень меня занимал: едва ли чисто звуковым, почти
незаметным методом можно в прозе передать погребальный тон шествия, на-
22 Ср., например, мнимо-восхищенные, завуалированно-иронические замечания Набокова:
«Интересно и поучительно наблюдать приемы алдановского творчества» — «строгую
однообразность подступов», «одинаковость вступлений» к главам, «начинающихся с утверждения»;
некоторые суждения рецензента звучат прямо издевательски (нельзя упускать из виду, что это был за
рецензент!): «сокровища наблюдательности», «образцы вдохновенной мысли» [Сирин 1936:470-
472]. Или в сравнительно поздней статье Н. Ульянова: «Язык Алданова замечательный <...> Ни
переворотов в синтаксисе, ни открытий в лексическом составе, ни революции, ни реформы у
него нет. Он исходит из старого доброго хозяйства русского литературного языка, в котором так
много еще прекрасных запасов, неразработанного сырья, что нет надобности в словесном конк-
вистадорстве. Он стремится к тому, чтобы язык его не замечался при чтении». И далее критик
выражается еще определеннее, назвав язык алдановского повествования «разговорным языком
салонов» [Ульянов 1960: 112].
23 Эти подсчеты «с точностью до наоборот» (последний — собственно авторский, первый
почерпнут шведским славистом у русского критика, отсюда путаница) с невольной иронией
демонстрируют, насколько искусственно составлял фразы Алданов, как бездушно-механически
занимался он отделкой стиля.
425
растание движения отряда и т. д. [«Парижский философ из русских евреев»
1997: 550]24.
Э. Гаретто и А. Добкин так комментируют этот действительно
замечательный казус:
Амфитеатров в рецензии добросовестно процитировал весь упомянутый
эпизод, подробно объяснил «кухню» алдановского приема и с назидательной
иронией заметил: «Хорошо, что Бонапарт проскакал быстро, не то <...> Бог знает,
до каких цифр выросли <бы> живописующие его фразы» [Там же: 551-552].
Амфитеатров исключительно точно назвал попытки Алданова стать
стилистом, подчинить непокорный язык эластичному замыслу — «бесплодные
усилия любви» [Там же: 552]. Антон Карлгрен был очевидно знаком с циклом
статей Амфитеатрова — подлинного ценителя алдановского творчества; но даже
он, критик хлесткий, склонный к перегибам в оценках вплоть до окарикатури-
вания, этих слов приводить в своем отзыве не стал.
Обратившись к рассмотрению трилогии Алданова о русской революции
(«Ключ» - «Бегство» - «Пещера»), А. Карлгрен замечает, что ее части нельзя
отнести к собственно «революционному роману», потому что писатель не
изображает революционных масс или восставшего пролетариата и даже почти не
касается революционеров, в том числе большевиков, а обращается к жизни
хорошо ему известных «высших слоев общества» — бюрократии и
интеллигенции; любопытно, что из выведенной Алдановым портретной галереи
исторических лиц лишь одно упомянуто экспертом по имени — Шаляпин. Но всего
замечательнее то, что в «типических характерах» персонажей романа, при всей
его «антисоветской» направленности, Карлгрен увидел несомненное сходство
с «провозглашенным в советской стране т. н. социалистическим реализмом».
24 Замечательнее всего даже не сами совершенно механические фонетико-синтаксические
опыты, а заключительное размышление писателя о возможностях аллитерации и прочих
средствах художественной изобразительности и выразительности, действенность которых русские
писатели доказывали, пожалуй, со времен первых поэтических переводов Жуковского (в
частности, «Лесной царь» как раз дает убедительный ответ на вопросы Алданова, ибо в нем средствами
стиха изображена скачка и погоня; но и прозаические искания — Гоголь, Вельтман, А. Белый — в
этом направления исключительно богаты). Признания Алданова свидетельствуют, увы, только
об одном: об отсутствии чувства слова, верной интонации — что, конечно, не главное условие
для создания массовой беллетристики. Кстати, публикаторы не выделяют запятыми «верно» в
обращении к Амфитеатрову («Вы верно заметили», а не «Вы, верно, заметили»), так что создается
впечатление, будто это именно Амфитеатров оказался столь наблюдательным и способным к
арифметике критиком. Из контекста публикации и хронологии появления алдановского письма
и амфитеатровской статьи явствует, однако, что «верно» является в данном случае все-таки
вводным словом, выражением надежды на чуткость хотя бы кого-то из критиков-читателей, для
которых не нужно будет растолковывать сложные стилистические игры post factum. Впрочем, о
неизменном щепетильнейшем внимании Алданова к правильности языка свидетельствует его
письмо Амфитеатрову от 6 декабря 1927 г., в котором он разбирает частный случай глагольного
управления, очень волнуясь, что мог допустить погрешность против норм русской речи
[«Парижский философ из русских евреев» 1997: 550].
426
В толковании нобелевского эксперта этот метод предполагает наделение
литературных героев «сходными, общими и существенными чертами, присущими
определенным социальным категориям и группам».
Содержание трилогии Карлгрен передает в самых общих чертах, в
частности подчеркивает «завораживающее впечатление от нездоровой атмосферы,
лихорадочности, нервозности, когда все ожидали, но никто не смог
предотвратить» надвигающуюся катастрофу, и менее всех — «либеральные политики, с
их неимоверным фразерством и жалкой беспомощностью», обрисованные Ал-
дановым «особенно убийственно». Изображение «кризиса в среде русской
интеллигенции», охваченной самыми разными настроениями, не увлекает
рецензента, тогда как страницы, посвященные послереволюционным событиям на
Украине, кажутся ему «наиболее занимательными». Рассказ о
националистическом движении и немецкой оккупации опытный журналист Карлгрен
удовлетворенно называет «хорошим политическим репортажем»; некоторые факты он
не может не упомянуть в своей рецензии. Так, он обращает особое внимание на
необходимость для беженцев из центральной России говорить по-украински —
на языке, над которым всякий образованный русский человек «неизменно
потешался, считая его невероятно смешным и деревенским». Эксперт прочел
роман как произведение, воссоздающее недавнее прошлое по непосредственным
впечатлениям автора, а не по источникам и документам. Именно так воспринял
роман и его русский рецензент, отметивший такую точность и правдивость в
изображении людей и событий, «что Алданову пришлось защищаться от
нелепого обвинения в портретности» [Цетлин 1930: 525]25. Не зная никаких
подробностей, в отличие от русских эмигрантов, переживших то же, что и Алданов,
нобелевский эксперт, тем не менее, безоговорочно доверяет писателю.
«Бегство» и «Пещеру» Карлгрен аттестует весьма кратко, находя
повествование в первом «воистину очень увлекательным», а в отношении второго
романа подчеркивая «истинно большой интерес», с каким читатель прослеживает
судьбы «старых знакомых». При «свободном владении формой» Алданов, по
мнению рецензента, порой «совершенно напрасно блещет своими
познаниями», так что читатель захлебывается «массой исторических намеков и
сравнений», с помощью которых автор стремится связать различные эпохи,
перегружая текст излишними подробностями.
Несомненно, что популярность в среде эмиграции, как было сказано выше,
держится отчасти на ее, так сказать, самоузнавании в алдановских
произведениях: это фактически часть старой России <...>, реконструированная
отчетливо и живо.
Замечательны мысли шведского слависта по поводу изображения Алда-
новым русской интеллигенции в революционную эпоху. Зоркость писателя и
25 Рецензент замечает, впрочем, что Алданов показал «не всю правду (это невозможно), а ту
правду, которую он увидел в людях и в жизни» [Цетлин 1930: 526].
427
корректность его характеристик не мешают Карлгрену прийти к выводу, что
«целостная картина оказывается крайне пристрастной и односторонней».
Эксперта не удовлетворяет — как и в иных случаях при оценке книг, созданных
русскими писателями-эмигрантами26, — изображение «только темных сторон»
российской действительности.
Русская интеллигенция предстает в его романе как подлинная человеческая
сволочь в собственном смысле слова (genuin mänisklig lump), состоящая из
чисто уголовных типов,-стопроцентных мошенников и бессовестных
честолюбцев, как крапчато-красное общество бесхарактерных скотов, вздорных
болтунов, неуравновешенных неврастеников, благонамеренных глупцов,
легкомысленных марионеток и т. д. — во всей галерее образов едва ли найдется
один или два, которые могут вызвать хоть какое-нибудь уважение или
сочувствие. И если алдановское изображение верно, то революция стала поистине
благим делом, раз она повымела прочь всех этих господ. Естественно, это не
так, естественно, предреволюционная русская интеллигенция, подобно
любому другому сословию, была смесью хорошего и дурного; просто выпаривать27
<только дурное> позже — значит совершать чудовищную несправедливость.
Сам Алданов признавался:
Это мое любимое детище (т. е. серия «Ключ»). Книга по сюжету и тону мрачная
(даже в том, что во всем романе нет ни одной сцены, происходящей при
солнечном свете, — все ночью, вечером или в темные дни, при электричестве) —
что ж, нам всем невесело, и жизнерадостности взяться неоткуда. Мрачно
живем, мрачно и пишем [«Парижский философ из русских евреев» 1997: 556].
Известное пристрастие писателя к болезненным, мрачным сторонам
действительности А. Карлгрен называет «образцом типично русского
самобичевания». В его восприятии изображение Алдановым революционной эпохи в
России выглядит как обвинительный процесс против интеллигенции, к которой он
сам принадлежит, он буквально «ставит свой класс к позорному столбу и
подставляет его под удары бича». Приговор нобелевского эксперта не менее суров:
Уродливые искажения русской психологии произведения Алданова объясняют
как нельзя более точно; как литературный документ из эпохи русской
революции они, если взять в целом, в своей односторонности лживы и неверны.
Помимо отзыва о романном творчестве писателя, Карлгрен прибавляет еще
несколько слов о малой исторической прозе Алданова, об эссе, написанных в
жанре «иллюстрации» или — о деятелях современности — в жанре
политического репортажа («отчасти уже устаревшего», замечает рецензент мимоходом).
Искусные в формальном отношении и безупречные по точности передачи фак-
26 См. главы о Мережковском и Шмелеве в настоящем издании.
27 Возможно, словесная образность Карлгрена является в данном случае своего рода
намеком на первую профессию Алданова — химию; тем самым шведский славист словно
подчеркивает известную лабораторность литературных опытов популярного исторического романиста.
428
tôb, алдановские исторические очерки представляются нобелевскому эксперту
«несколько утомительными в своем остроумии»28. Никаких рекомендаций
Нобелевскому комитету в отзыве не содержится; впрочем, определение falsk>
неоднократно фигурирующее в разных его значениях («ложный, неверный,
ошибочный, фальшивый») в тексте «Заключения», никакой позитивной оценки в
себе не содержало.
Несмотря на похвалы стилевому мастерству Алданова и его
интеллектуальному багажу, равно как и ясности и точности в его изображении русской
«интеллигенции»29 в революционную эпоху, общая оценка творчества
Алданова экспертом убедила членов Нобелевского комитета в том, что его кандидатура
должна быть отклонена. Однако запись в «Заключении» 1938 года звучит
довольно осторожно — «в настоящее время с этим предложением следует
подождать» [Nobelpriset i litteratur, II: 286].
Писатель словно ускользает от эксперта, в отзыве которого даже после
положительной оценки разных сторон творческой манеры Алданова не находится
слов в поддержку его кандидатуры как достойной нобелевской награды. И для
шведских академиков, не склонных к чтению хорошо сконструированных
романов30, Марк Алданов оказывается своего рода загадкой: приятный во всех
отношениях писатель — и вместе с тем в чем-то неопределимом не
соответствующий не столько букве, сколько духу завещания Нобеля. Действительно, в
произведениях М.А. Алданова было все — и занимательный сюжет, и блестящий
стиль, и изумительная историческая достоверность; не было лишь одного —
идеала. О причине его отсутствия догадался Д.П. Святополк-Мирский, удачно
сформулировав представление
о национальном, так сказать, писателе эмиграции буржуазной (то есть не
помещичьей и не военной), среднекультурной и антантофильской (в смысле
культурных вкусов). Ни с какой натяжкой его нельзя назвать большим
романистом (да никто и не называет), но умный и добросовестный писатель <...>
[Святополк-Мирский 1997: 355].
21 января 1939 г. И.А. Бунин, вновь выдвигая в письме в Шведскую
академию кандидатуру Марка Алданова, «хорошо известного русского писателя»,
28 Ср. с мнением соотечественника Алданова, зафиксированным в дневнике B.H. Буниной
22.08.1930. Она рассказывает, как С.Л. Поляков-Литовцев «обрушился на Алданова, что у него
меньше творчества, чем у Брешко-Брешковского, что он блестящ, умен, как эссеист. <...> Когда
же он пишет роман, он делает ошибки. <...> — "Нет, — я говорю ему, — вы еврей и никогда
настоящим русским писателем не будете. Вы должны оставаться евреем и внести свою остроту,
ум в русскую литературу"» [Устами Буниных 1977-1982, II: 231].
29 В отличие от А. Карлгрена составитель заключительного протокола Нобелевского
комитета берет это слово в кавычки.
30 В «Заключении» 1938 г. прямо указано на «недоступность» русского языка и,
следовательно, невозможность составить более полное представление о писателе [Nobelpriset i litteratur, II:
286], тогда как переводы сочинений Алданова существовали уже почти на всех европейских
языках.
429
«автора многих романов, переведенных на большое количество иностранных
языков, равно как и исторических очерков», счел необходимым дать
развернутую характеристику его творчеству. То, что Бунин предполагал написать
пространный текст, явствует из самого вида выбранной им бумаги, кстати,
высококачественной. Между тем лишь одна сторона огромного листа оказалась
заполненной, да и то наполовину, хотя Бунин и старался писать размашисто и
крупно. Сложенный вчетверо плотный лист с трудом помещался в конверте,
однако номинация была аргументирована всего одним абзацем:
Художественные дарования писателя, человечность его взглядов, глубина его
историзма, живая атмосфера эпохи, воплощенной им, возводят его в ряд
выдающихся писателей нашего времени31.
То, что текст бунинских посланий в Шведскую академию согласовывался с
номинируемым, косвенно подтверждает фраза из письма Алданова Бунину
1940 г., где он напоминает, прося возобновить его выдвижение: «Редакцию Вы
знаете: переведен на 23 языка, есть статья в "Британской ожциклопедии"»
[Письма Алданова к Буниным 1965, II: 117]. Затеяв выдвижение Алданова и
встав перед необходимостью писать формальное обращение, Бунин очевидно
испытывает отвращение к этому жанру. К тому же при огромном и истинном
уважении к эрудиции Алданова и, возможно, в еще большей степени — к
энтузиазму и тщанию, с какими он пополнял свой прославленный багаж знаний,
Бунин не видел в гладкописи самого читаемого писателя зарубежья того, за что
он мог бы зацепиться в своем послании в Стокгольм. Однако в бесспорности
своего кандидата он не сомневался — не случайно у него однажды вырвалось в
адрес Алданова:
...да и вы, родись вы французом, давно расхаживали бы в зеленом
академическом фраке и были бы «бессмертным» [Бахрах 1977: 153].
Поскольку Алданов приступил к работе над новым циклом романов («к
чему он имеет склонность», замечает нобелевский эксперт), в 1939 г. А. Карл-
грену пришлось дописать еще пару дополнительных страниц к отзыву
предыдущего года. Первый том анализируемого им цикла «Начало конца»32 лишь
упрочивает рецензента в ранее высказанном мнении:
31 Следует заметить, что во всей этой французской фразе Бунин допускает предельное
количество ошибок, начиная с диакритик (accents), расставленных почти повсеместно
неправильно, продолжая описками (évogueé вместо évoquée) и орфографическими ошибками (étandue
вместо étendue) и заканчивая бессмысленным синтаксическим построением (Fétandue de sa
historiques, de créer), делающим часть предложения непереводимой — о ее смысле можно только
догадываться.
32 Начало конца. Ч. I. Париж, 1939. Ч. II публиковалась фрагментарно в «Современных
записках», «Новом журнале» и некоторых других периодических изданиях русского зарубежья.
Первая полная публикация романа была осуществлена на английском языке под иным
заглавием: М. Aldanov. The Fifth Seal. Transi, by N. Wreden. L., 1946.
430
Книга, которая, подобно предыдущим работам Алданова, состоит из
разрозненных эпизодов, насквозь пронизанных одной голой тенденцией — за
которой видна холодная, беспощадная насмешка автора над ничтожеством
эпохи, — весьма неровна.
К ее немногим «блестящим страницам» Карлгрен относит «в своем роде
великолепный» коллективный портрет большевиков, изображенных с
«изысканной язвительностью», однако «антибольшевистская психология» писателя
препятствует ему создать что-либо иное кроме «злобной карикатуры». И далее
нобелевский эксперт заключает:
В целом можно сказать, что то, как писатель трактует эту крайне серьезную
тему, не вызывает ни малейшего сочувствия; оценивая работу с литературной
точки зрения, следует пожелать, чтобы «Начало конца» стало к концу лучше,
чем было в начале33.
Роман, посвященный «симптомам зловещей болезни, поразившей
современное общество», еще не был переведен на иностранные языки, и потому
шведские академики должны были полагаться только на мнение своего
эксперта. Члены Нобелевского комитета, справедливо рассудив, что не стоит
преждевременно судить незаконченное произведение, отметили тем не менее, что
оно не содержит «обещания какого-либо грандиозного раскрытия темы». Вслед
за экспертом Нобелевский комитет отклонил кандидатуру Алданова и на этот
раз [Nobelpriset i litteratur, II: 297].
Война надолго прервала бунинские обращения в Стокгольм. Алданов
получил американскую визу и прочно обосновался за океаном (см., например:
[Письма Алданова к Буниным, И: 117-119]. В декабре 1940 г. «уже из Лиссабона,
где он ожидал парохода в Нью-Йорк»34, Марк Александрович ухитряется
напомнить другу, так и не решившемуся покинуть Европу, о Нобелевской премии.
Кстати, уж будьте милы: в этом году тоже напишите заказное письмо в
Стокгольм: никаких надежд не имею, но ведь покупал же я билеты в Национальную
лотерею... [Письма Алданова к Буниным 1965, II: 117], —
пишет предприимчивый романист в голодный и холодный Грасс. Некогда
А. Амфитеатров, довольно трезво оценивая шансы русских писателей в Нобе-
33 Заметим, что вторая часть романа так и не появилась в печати.
34 М.А. и Т.М. Алдановы прибыли в США в январе 1941 г., покинув Париж в сентябре,
Францию в декабре 1940 г. и отплыв из Лиссабона 28 декабря 1940 г. Из-за того, что путешествие
Алданова из Старого Света в Новый пришлось на рубеж двух годов, дата его эмиграции в Америку
определяется исследователями по-разному. В авторитетном труде «The Novels of Mark Aleksan-
drovic Aldanov» американского профессора Ч.Н. Ли [Lee 1969: 18-19] сказано, что писатель до
1941 г. жил в Париже, и это буквально воспроизведено в: [Русские писатели 20 века 2000: 17].
Автор другого серьезного исследования об Алданове называет 1940-й годом эмиграции писателя
[Tassis 1995: 3]. Наиболее растяжимы формулировки «выехал в начале Второй мировой войны»
[Литературная энциклопедия русского зарубежья 1997: 20] или «покинул Францию <...> в годы
фашистского нашествия» [Русские писатели XX в. 1998: 36].
431
левском комитете, полагал, что после награждения Бунина там вспомнят о
русской литературе «лет через десять, не раньше»:
Я пророчу Алданову, что теперь надо ему вырастать и стареть на следующую
кандидатуру 1943-1945 гг. Старшие к тому времени повымрут, а ровесников и
младших что-то не очень видно [Русская печать в Риге 1997, III: 51] (из письма
Амфитеатрова М.С. Мильруду от 4.12.1933).
Вероятно, лидер исторической романистики зарубежья только укреплялся с
годами в этой мысли, ибо уже осенью 1945 г. в переписке переживших войну
русских писателей-эмигрантов вновь заходит речь о Нобелевской премии и
вновь, судя по ответной реакции Бунина, инициативу проявил Алданов.
Поначалу Бунин неохотно берется за поручение друга: «О Вас я в нынешнем году не
писал — раньше не было почтового сообщения, теперь есть, да уже поздно», —
отговаривается он в письме от 4.9.1945 [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1:
180]. М.А. Алданов отлично знает, что время еще есть, и проявляет
настойчивость; 11.10.1945 Бунин откликается согласием выполнить просьбу, но
всячески дает понять другу, насколько подобное ходатайство несвоевременно:
Письмо в Стокгольм пишу, но надежды у меня почти никакой нет. Вообразите
себе: на днях получил письмо оттуда (от Сиопа, ведающего там моими
литературными делишками): все мои книги по-шведски разошлись, но наследник
моего издателя (Gebers'a) Кюнцель заявил Сиопу, что сейчас переиздавать
«эмигранта» «не психологично»! [Там же: 182]35.
И только в 1947 г. Бунин возобновляет полноценные номинации Алданова.
Именно в этом году Марк Александрович вновь приехал во Францию и потом
каждый год подолгу жил в Ницце. Алданов неизменно продолжал помогать
Бунину, прежде всего в устройстве его американских изданий (см., например:
[Письма Алданова к Буниным 1965, II: 117-119]).
И в Европе, и в Америке М.А. Алданов «принимал большое и живое участие
в культурно-общественной жизни эмиграции. Но делал он это по-своему —
путем личных отношений. Известно, какой огромный круг знакомств и связей
был у него в самых разнообразных кругах эмиграции, сколько времени он
отдавал личным встречам и еще больше — переписке» [Памяти ушедших.
М.А. Алданов 1957:242]. Человек «редкий по доброжелательной услужливости»
и «джентльменству», он снискал в эмигрантской среде безусловное уважение
и был особенно ценим за то, что «всегда может оказаться полезен» [Письма
Адамовича Бахраху 2001: 78-80]. Но любви к нему не питали36. Бунин был
35 Написание имен собственных, со смешением кириллицы и латиницы, специально в
публикации не оговорено.
36 Ср. у того же автора: «Я его всегда ото всех защищаю и удивляюсь, сколько о нем
злословят. Даже литературно <...»> [Письма Адамовича Бахраху 2001: 80]. М.И. Цветаева, впрочем,
горько сетуя на недоброжелательных редакторов, замечала, что на них «все жалуются», кроме
Алданова, которого «все жалуют» [Цветаева 1994-1995, 7: 282].
432
единственным, кто рекомендовал кандидатуру Алданова на Нобелевскую
премию, — более широкой поддержки, как явствует из архивных материалов
Шведской академии, ни у бывших соотечественников, ни у деятелей
литературы Европы и Америки Марку Александровичу найти не удалось. Поскольку
Бунин и Алданов ежегодно встречались лично, то и тему Нобелевской премии, на
которую, исполняя долг дружбы, первый русский нобелевский лауреат по
литературе выдвигал «одного из самых любимых писателей» [Памяти ушедших.
М.А. Алданов 1957: 242] русского зарубежья, они имели возможность обсудить
конфиденциально. По всей видимости, Алданову не хотелось разглашать в
недоброжелательной и завистливой эмигрантской среде сам факт выдвижения
его на «литературного Нобеля».
То, что переговоры Алданова и Бунина велись в тайне даже от близких лиц,
подтверждает неосведомленность А. Бахраха, вспомнившего, в частности,
такой, по его собственному выражению, «симптоматичный эпизод»:
Во время войны, перед отъездом Алданова в Америку я нередко встречался с
ним в Ницце <...> Чаще всего я приезжал из Грасса с Буниным, под
крылышком которого я тогда жил <...> Разговоры шли тогда преимущественно вокруг
злободневных тем, толкования военных сводок между строк [Бахрах 1977:
152-153].
Во время одной из бесед Бунин вдруг начал подробнейшим образом
разбирать роман Алданова «Начало конца». Хотя речь зашла об автобиографичности
одного из героев, что отчасти задело Алданова, «ему все-таки было лестно, что
Бунин тратит время на выписки из его романа» [Там же: 154]. Тайна
выдвижения одного из собеседников другим на Нобелевскую премию третьему лицу
раскрыта не была.
Не приходится сомневаться, что инициатива соблюдать тайну исходила от
Алданова. Человек чрезвычайно осторожный, он и по разным другим поводам
призывал Бунина не разглашать какую-либо информацию — с чем Иван
Алексеевич справлялся довольно плохо. Так, солидаризуясь с Буниным после
известного письма М.С. Цетлиной37, Алданов также принимает решение выйти из
состава редакции «Нового журнала»; однако Бунин не исполнил «обещания НЕ
писать никому» об уходе, чем подвел и расстроил Алданова [Переписка Бунина
с Алдановым 1983,1: 138-139]. Зато в другой раз Бунин осторожен до того, что
не проговаривается о предмете договоренности даже в частном письме, заверяя
37 Письмо М.С. Цетлиной было вызвано выходом Буниных из Союза русских писателей и
журналистов в знак протеста против того, что из него были исключены литераторы, принявшие
советское гражданство, но оставались членами коллаборационисты; частное письмо было
предано огласке, из-за него фактически навсегда были прерваны многолетние, с дореволюционных
времен, отношения Бунина и Зайцева. Историю «вокруг» этого письма см. в опубликованной
переписке писателей: [Письма Зайцева к Буниным, II: 174-179; Письма Бунина к Зайцеву, IV:
172-174]. См. также: [Переписка Бунина с Алдановым, I: 135-138]. Этот эпизод подробно
освещен также в изд.: [Бабореко 2004: 392-396].
433
Алданова: «Все, все храним в величайшем секрете» [Переписка Бунина с Алда-
новым 1983, II: 107]38.
«В величайшем секрете» велись и разговоры о Нобелевской премии. А в
письмах — в опубликованной их части39 — о ней упоминается глухо, стороной.
Так, жестоко разобиженный на Б.К. Зайцева, Бунин ревниво следит за тем, не
предпринимаются ли какие-нибудь шаги в пользу бывшего друга. В 1948 г. он
спешит сообщить Алданову: «Берберова опять уехала в Швецию — говорят,
решила добиться для Зайцева премии Нобеля! И не думаю, что это шутки» [Там
же, I: 149]. Положительная оценка произведений Зайцева в критике вызывает
у желчного Бунина взрыв негодования; принимая как должное подлинные
славословия в свой адрес, он полагает, что о Зайцеве написано «такое, что
никто не писал подобного о Шекспире, о Гёте, только о Сталине так пишут» [Там
же, III: 147]40. В ответном письме Алданов высказывает горестную догадку:
Не сомневаюсь, что эта часть статьи уже отправлена — не Борисом
Константиновичем, а Зеелером и Паскалем — в Стокгольм. Я думаю, что у Зайцева много
шансов на Нобелевскую премию [Там же: 149]41.
Пережив страшные военные годы на юге Франции и давно забыв о
материальном благополучии, которое принесла ему так ненадолго Нобелевская
премия, почти уже восьмидесятилетний писатель прибегает к своему праву
лауреата без всякого воодушевления42. «Я уже писал вам по поводу его и его
книг, — устало указывает Бунин в 1947 г., не считая необходимым спустя почти
38 «И в жизни, и в творчестве Алданов руководствовался правилом Декарта: "Bene vixit bene
qui latuit" ("Хорошо жил тот, кто хорошо скрывал")» [Lee 1969: 95].
39 Выпуская первый сборник архивных материалов из бунинской коллекции Лидсского
университета (RAL), публикаторы сообщают о предполагаемом издании отдельным томом всего
массива сохранившейся переписки Бунина и Алданова [Бунин: Новые материалы 2004: 5].
Поскольку этот сборник «планируется как непериодическое издание» [Там же], а архивные
материалы доступны только избранным публикаторам, то прочим исследователям приходится
дожидаться их выхода ad calendas graecas.
40 В комментарии к письму приводятся выдержки из этой невинной, в сущности,
критической заметки.
41 Между тем у Бунина хранилось письмо Зайцева от 17.11.1943 — отклик на бунинскую
благодарность за поведение друга в нобелевские дни: «Время твоей Нобелевской премии всегда
вспоминаю с большим удовольствием — как праздник, — писал между прочим Зайцев. — Сам я
никогда на нее не рассчитывал, соперничества с тобой никогда у меня не было, потому и отравы
никакой я в сердце не носил» [Письма Зайцева к Буниным 1982,1: 121]. В отличие от Бунина, на
которого лесть всегда действовала благотворно и который сам, в иных случаях, не чурался ее
расточать, Б. Зайцев к славословиям «Марко Богатого» всегда относился юмористически, ср.: «И
пусть Марко говорит свои любезные вещи под коньячок ("Иван Алексеевич, ваше гениальное
произведение'', "Борис Константинович, в Америке очень интересуются вашим «Глебом»...")»
[Там же: 140]. Заметим, что вплоть до 1961 г. следов номинации Б.К. Зайцева на премию в архиве
Шведской академии нет (см. гл. 15).
42 По-французски это напоминание о своем нобелевском звании звучит не без горькой
иронии: «En ma qualité d'ancien lauréat» — «В качестве бывшего лауреата».
434
десять лет дать более развернутую оценку алдановского творчества. — Его
последний роман, опубликованный в Нью-Йорке под заглавием «The Fifth
Seal», был выбран Книгой месяца43 и имел большой успех». И немедленно
завершает: «Примите, господин Секретарь44, выражения моего самого глубокого
уважения».
Письмо от 8 января 1948 г. адресовано Буниным почему-то «Главному
секретарю Шведской академии»45. И вновь первый русский лауреат по литературе
ограничивается сухим указанием: «Я вам уже высказывал свое мнение о его
сочинениях». Однако М.А. Алданов и не надеялся на красноречие своего
знаменитого друга. Переписка обоих писателей указывает на то, что послания в
Стокгольм готовились ими совместно. Подготовив бумаги к отправке, Бунин
считает необходимым сообщить об этом Алданову:
Дорогой, милый Марк Александрович, с большой радостью исполняю то, что
нужно, — par avion recom<mandé>46. Всю статью хорошо разобрали вместе с
В.Н. (Верой Николаевной Буниной. — Т.М.). Она сейчас идет в Antibes и там
зайдет на почту [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1: 134]47.
Речь идет о рецензии на один из последних романов Алданова,
опубликованной в американском журнале — разумеется, по-английски, почему и
потребовалась помощь В.Н. Буниной для ее прочтения48.
Его три последних романа снискали большой успех и появились <в переводах>
на многие языки. Позволю себе присоединить к этому письму одну из
многочисленнейших статей, которые были в последнее время опубликованы о нем в
Соединенных Штатах. Вы увидите, что эта статья появилась на первой
странице главной газеты Нью-Йорка <sur la première page du premier journal de New-
Yorkx
43 Подобный выбор (американских критиков и читателей) является свидетельством не
столько выдающихся достоинств отмеченного произведения, сколько его популярности у
среднего читателя. Так, в 1928 г. «книгой месяца» стал роман «Сивцев Вражек» М.А. Осоргина,
никогда, кстати, не посягавшего на Нобелевскую премию. Подробнее об этом алдановском, по его
самопризнанию, «успехе» см. [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1:139], а также [Струве 1996:
184].
44 Это письмо Бунина, обращенное непосредственно к «Секретарю Шведской академии»,
начинается несколько неожиданно: «Господину. Господин Секретарь шведской академии. Господин
Секретарь <...»> («A Monsieur. Monsieur le Secrétaire de l'Académie Suédoise. Monsieur le
Secrétaire <...>»; орфография оригинала). Однако переписывать явно испорченное послание Бунин не
стал и отослал именно этот, получерновой вариант.
45 Один из 18 членов Шведской академии, избираемый ее временным главой, именуется
Постоянным секретарем. Неясно, почему вдруг Бунину вздумалось именовать его более пышно, но
и в следующем году он обращается «à Monsieur le Secrétaire général».
46 Заказным письмом, авиапочтой {франц.).
47 Письмо датировано тем же днем, что и обращение в Шведскую академию.
48 О своем изучении английского языка и степени владения им Бунин пишет М.А. Алданову
особо, см. [Переписка Бунина с Алдановым 1983, II: 99].
435
После этого, впрочем, невинного хвастовства49 Бунин резонно счел свою
миссию исполненной — и даже не стал переписывать рекомендацию, почти
неразличимую из-за блеклых, совсем серых чернил на зеленовато-голубом листе
бумаги. Рецензия Чарльза Ли на «захватывающий новый роман» М. Алданова
«Истоки» из «The New York Times Book Review» была помещена на первой
странице издания действительно не случайно: отзыв о книге русского писателя-
эмигранта появился в номере от 5 октября 1947 г. и был своеобразным
откликом на известную годовщину. «Поднимающий завесу над революцией», —
называлась рецензия, а подзаголовок гласил: «Раскрывая сердце царской
России и глубокую движущую силу истории»50.
Рецензия написана в превосходных тонах — и, конечно, звучит гораздо
более убедительно в качестве рекомендации, чем сухая отписка самого Бунина.
«Калейдоскопическое исследование Европы», изображение российской
действительности в момент «переломного события» — цареубийства —
«предоставляют Алданову полный размах для его превосходного дарования». К числу
несомненных достоинств писателя принадлежат, по мнению критика, «тонкий
юмор» и «подобное толстовскому исследование человеческой природы».
Однако — не ставя это в упрек автору — рецензент замечает,.что в романе
представлена «полнокровная картина жизни России на самых различных уровнях (за
исключением крестьянства)». Как нарушал в этом Алданов традицию русской
литературы — и как далек его интеллектуализм от произведений Толстого и
Бунина, немыслимых без русского мужика, его противоречивой натуры, в
которой был укоренен весь русский мир!
В Стокгольме оставались одинаково безучастны и к восхвалениям, и к
критике. То, что казалось важным самому Алданову (и что принято подчеркивать
в алдановедении), — перевод книг на два десятка языков, «очерки о нем
находятся в пособиях по литературе на английском, французском, немецком и
русском языках», публикации в крупных американских журналах [Lee 1969:
96] — никоим образом не свидетельствовало о непреходящей
художественной ценности его сочинений. Хотя «благодаря злободневности его тем и
близости его произведений к западноевропейским литературным традициям он
пользовался широкой популярностью и среди нерусских читателей» [Ibid.],
Нобелевский комитет отклонил предложение в 1948 г. с той же мотивировкой,
что и в предыдущем, записав в заключительном протоколе, что Алданов не
обладает квалификацией, которая требуется для присуждения премии русскому
писателю-эмигранту такого же уровня, как Иван Бунин [Nobelpriset i litteratur,
11:388].
49 Преувеличение состояло в том, что рецензия появилась не в самой «Нью-Йорк тайме», а в
приложении (книжном обозрении) к ней.
50 Charles Lee. Curtain-Raiser for Revolution: Dissecting the Heart of Czarist Russia and the Deep,
Driving Force of History. [Rec] Before the Deluge <Истоки>. By M. Aldanov. Transi, from Russian by
Catherine Routsky. 561 pp. New York: Charles Scribners Sons.
436
А Бунин между тем продолжает обращения в Шведскую академию с
предложением кандидатуры Алданова. В письме от 6 января 1949 г., написанном
в «Русском доме», даже заботливо указан адрес Алданова в Ницце, что
могло быть продиктовано только одним соображением: сообщить, где следует
разыскивать писателя в случае присуждения ему Нобелевской премии51. Это
послание практически не отличается от предыдущих, за исключением
уточнения, что «книги романиста появились на 24 языках» и что на романе «Перед
потопом» «был в 1948 г. остановлен выбор Book Society в Англии»; тот факт, что
«Начало конца» («Пятая печать» в издании по-английски — «The Fifth Seal»)
было названо в Америке в 1943 г. «книгой месяца», подчеркнут вновь. Ни
единого слова от себя лично, ни единой собственной положительной оценки
произведений Алданова в этом, как и в предыдущих обращениях Бунина в
Нобелевский комитет Шведской академии, нет.
Зато некоторые факты о популярности Алданова-романиста Бунин
почерпнул непосредственно из писем друга. 9 марта 1948 г. Алданов не без приятного
изумления сообщает, что его американские издатели «получили из Калькутты
предложение издать "Истоки" на бенгальском языке!.. Это мой двадцать
четвертый язык. Когда будет двадцать пятый, угощу вас шампанским. Вы, верно, за 25
перевалили?». Бунин с весьма кислым оживлением реагирует на это отчасти
экзотическое предложение: «Уже и Калькутта? Ура!». 2 апреля Алданов делится
с Иваном Алексеевичем новой радостью:
У меня успех в Англии: «Истоки» взяты Бук Сосайети, но масштабы в Англии
неизмеримо меньше, чем в американском Бук оф зи Монс, да и денег оттуда,
боюсь, не выцарапаешь [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1: 138-139].
Весьма предусмотрительно письма с такими ценными сведениями были
Буниным отложены — и пригодились при очередном его обращении в
Нобелевский комитет.
«Это предложение, — записано в «Заключении» Нобелевского комитета
1949 года о Марке Алданове, — уже было решительно отклонено в два
предыдущих года и не дает нового повода к изменению положения вещей» [Nobelpriset i
litteratur, H: 400]. Столь же исчерпанной тема казалась и год спустя:
«Предложение было отклонено прежде и не дает нового повода к изменению положения
вещей» [Ibid.: 416].
51 Из Америки М.А. и Т.М. Алдановы вернулись во Францию в 1947 г., на Лазурный Берег.
После войны И.А. и В.Н. Бунины обосновались в Париже, выехать на море могли позволить себе
только в «Русский дом» («Maison Russe», дом отдыха в Жуан-ле-Пен, департамент Приморские
Альпы). В ноябре-декабре 1948 г. Бунин и Алданов обмениваются письмами, договариваясь о
встрече; 16.11.1948 Бунин уверяет: «...не думаю, что мы разъедемся с Вами, — раньше конца
декабря вряд ли выедем» [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1: 151]; еще одно письмо
отправлено 20.12.1948, 31 декабря датировано ответное письмо Алданова, затем переписка пресекается до
апреля следующего, 1949, года. Неудивительно, что в письмах не отражена нобелевская тема —
писатели имели возможность обсудить ее при личной встрече.
437
Положение вещей изменилось в целом послевоенном мире — и не в пользу
эмигрантской русской литературы, интерес к которой и так никогда не был
особенно велик. В СССР, стране-победительнице, еще не успели определить
отношение к Нобелевской премии после ее скандального присуждения писателю-
эмигранту, а в Шведскую академию уже стали поступать письма с
предложениями кандидатур Л.М. Леонова, М.А. Шолохова, Б.Л. Пастернака — причем
исключительно от зарубежных ценителей их творчества. Творчество М.А. Ал-
данова было мало востребовано на всех 25 языках; только с «возвращением»
культурного наследия русской эмиграции на родину его произведения были
переизданы на языке оригинала.
В статье к восьмидесятилетнему юбилею И.А. Бунина Алданов не преминул
затронуть тему престижной международной награды, так и оставшейся для
него мечтой, напомнив американским читателям, что старейший писатель
эмиграции — «единственный русский писатель, когда-либо получивший
Нобелевскую премию» [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1: 171]52. В письмах
единственного лауреата временами проскальзывали чрезвычайно лестные отзывы
об алдановской литературной продукции, например, в письме от 15.04.1950
такое:
...до чего хороши исторические вставки (в «Пещере». — J. М.)\ Как написаны!
«Гусли»! Точность, чистота, острота, краткость, меткость — что ни фраза, то
золото! [Там же: 165]53.
Номинация Алданова на премию 1950 года в Нобелевский комитет уже
отослана; спустя положенное время, 10 января 1951 г., Бунин вновь отправил
рекомендательное письмо с известным текстом по известному адресу, добавив лишь
информацию о вышедшем в 1950 г. в Нью-Йорке на английском языке романе
«Побег» («The Escape») и заключив: «Я говорил вам о его романах в целом, и вы
знаете мое мнение». К счастью или к сожалению — ни Бунин, ни Алданов так
никогда и не узнали мнения шведских академиков на сей счет54. Уверяя, что «ни
малейших надежд на премию не возлагает», Алданов тем не менее настойчиво
расспрашивает И.М. Троцкого о его «встречах с членами Нобелевского
комитета» и разговорах с ними: «Я никого в Стокгольме не знаю» [Уральский 2014:275]
(письмо от 22.09.1950).
Впрочем, неизменно пессимистически настроенный М.А. Алданов умел
трезво смотреть на вещи и сделал абсолютно точное предсказание. В письме от
27 ноября 1933 г. к A.B. Амфитеатрову, польстившему Алданову пожеланием
стать следующим русским лауреатом Нобелевской премии, он выразился весь-
52 Статья «Ivan Bunin Revisited» была напечатана в «The New York Times», 1950, Nov. 26.
53 Алданов, впрочем, не скрыл в ответном письме удивления таким славословием: «...мне
"Пещера" не кажется хорошей книгой <...»> [Переписка Бунина с Алдановым 1983,1: 166].
54 Оно было представлено неизменной фразой: «Это предложение было отклонено прежде и
не дает повода к пересмотру <решения>» [Nobelpriset i litteratur, II: 417].
438
ма недвусмысленно: «Но можно с полной уверенностью сказать, что больше из
русских эмигрантов никто никогда этой премии не получит» [«Парижский
философ из русских евреев» 1997: 569]55. И все-таки вместе с Буниным продолжал
эту мучительную игру до последних лет первого нобелевского лауреата: один
тешил себя несбыточными иллюзиями (уповая, возможно, и на случай —
писателем он был гораздо более высокого уровня, чем Перл Бак), другой упорно
выполнял долг чести. «Необыкновенный был писатель, — помянул Бунина
М.А. Алданов в некрологе «Нового журнала». — И необыкновенный человек»
(Новый журнал, 1953, т. 35, с. 130). Марк Александрович судил об этой
удивительной натуре не понаслышке — последнее обращение И.А. Бунина в
Нобелевский комитет с номинацией алдановской кандидатуры было отправлено в
январе 1953 г. Призрачная надежда рассыпалась:
Прежде была еще маленькая, крошечная надежда на Нобелевскую премию, —
Иван Алексеевич регулярно, каждый год в конце декабря выставлял мою
кандидатуру на следующий год. Теперь и эта крошечная надежда отпала: я не
вижу, какой профессор литературы<,> или союз, или лауреат меня выставил
бы. Слышал, что другие о себе хлопочут, что ж, пусть они и получают, хотя я
думаю, у русского эмигрантского писателя вообще шансов до смешного мало
[Уральский 2014: 283] (письмо от 6.12.1953).
З.Н. Шаховская, наряду с другими мемуаристами, указывает на бунинскую
«ностальгию по дворянскому миру», «к которому, он помнил крепко, он
принадлежал по своему роду»: «Барство и род уважал он и в себе, и в других как
что-то имеющее некую и нравственную ценность» [Шаховская 1991: 204-205].
От долга по отношению к неизменно верному почитателю и готовому к
услугам другу Бунин не мог отказаться именно как от такой же «нравственной
ценности».
Сам Алданов руководствовался несколько иными жизненными
принципами. После того как осенью 1953 г. Бунин скончался, Алданов не перестал
хлопотать о выдвижении своей кандидатуры на Нобелевскую премию. Хотя,
несмотря на переводы его сочинений на иностранные языки, писателю не
удалось завербовать в свои сторонники подлинных знатоков русской литературы
из числа европейской профессуры или зарубежных лауреатов Нобелевской
премии, однако в 1954 г. его кандидатура была вновь «выставлена»: на сей раз в
Стокгольм с весьма пространной номинацией обратился Самсон Соловейчик56,
55 Речь идет, разумеется, о представителях послереволюционной эмиграции — ибо никаких
иных «волн» в 1933 г. не мог предвидеть даже проницательный Алданов. Он выражает в письме
Амфитеатрову искреннюю благодарность за «лестное предсказание» [«Парижский философ из
русских евреев» 1997: 569].
56 Соловейчик Самсон Моисеевич (1884 [1887?]-1974) — юрист, общественный деятель,
публицист; эсер по партийной принадлежности, публиковался в берлинских газетах «Руль»
и «Дни». До Второй мировой войны жил в Париже, активный член общества «Новая Россия»,
русско-еврейского движения; из-за угрозы гитлеровского нашествия переехал в Америку.
439
профессор «русской цивилизации» университета Канзас-Сити (США).
Нетрудно догадаться, что среди заслуг «наиболее блестящего представителя
современной свободной русской литературы» вновь фигурировали «Британская
энциклопедия» (13-е издание) и все та же «Книга месяца»... Кроме того — и это
указывает на новые приоритеты в послевоенной Европе — в качестве
достижений Алданова было упомянуто несколько его американских изданий. Если у
Бунина не поднималась рука сделать кощунственное в его глазах сравнение, то
профессор из штата Миссури смело называет сочинения Алданова
«высочайшим достижением русской исторической романистики XIX и XX вв.» после
«Войны и мира»; к тому же и алдановский стиль, по его убеждению, «весьма
напоминает стиль Толстого». СМ. Соловейчик вообще не скупится на
исключительно высокие оценки:
В сочетании с тщательным изучением исторических событий, составляющих
как фон, так и содержание его романов, его чрезвычайно искусный и
утонченный талант превращает их чтение в истинное интеллектуальное наслаждение.
<...> Психология большевизма — пресловутая «загадка России» — вскрыта и
проанализирована так, что становится совершенно смехотворной избитая
идея о «загадочной славянской душе».
Кое-кто противопоставляет русскую цивилизацию западноевропейской.
Сочинения Алданова со всей очевидностью доказывают несостоятельность
этой точки зрения. Никто из нынешних русских писателей не изобразил лучше
него подлинную русскую цивилизацию, цивилизацию Толстого и
Достоевского, Чайковского и Мусоргского, Лобачевского и Павлова. Алданов — это
живое доказательство единства европейской цивилизации, хотя, возможно,
подавленной и задушенной в странах за железным занавесом.
Присуждение Нобелевской премии Марку Алданову — политэмигранту,
представляющему надежды русской демократии в ее борьбе против
тоталитаризма, — окажет честь не только великому русскому писателю и мыслителю,
но также и принципу свободы совести, творчества и мысли в противовес
рабским условиям, в которых существуют литература и наука в тоталитарных
государствах.
«Если потребуется какая-либо дополнительная информация, дайте мне,
пожалуйста, знать. Я буду рад ее предоставить», — завершает свой гимн
профессор Соловейчик. Нельзя не отдать должное знатоку русской цивилизации:
номинация составлена превосходно, с учетом политической конъюнктуры. Но
велико было и доверие Нобелевского комитета к отзывам А. Карлгрена: новая
экспертиза заказана так и не была. Год спустя, в 1955 г., С. Соловейчик повторил
свою номинацию. Вполне вероятно, что он действительно был горячим
поклонником алдановского творчества и алдановского описания «русской
цивилизации». Однако дополнительных лестных эпитетов для своего панегирика Алда-
С 1940-х гг. преподавал в разных американских университетах (в Сити Колледже в Нью-Йорке, в
университетах штата Колорадо и в университете Миссури в Канзас-Сити). Печатался в «Новом
русском слове» и «Новом журнале».
440
нову американский специалист по русской культуре не только не подыскал, но,
напротив, представил тот же текст в слегка сокращенном виде57. Очевидно, что
холодная война в середине 1950-х гг. разворачивалась по всем фронтам,
откровенно политизируя даже ходатайство о международной литературной
награде58; но если, впервые прибегнув к услугам своего американского друга, Алда-
нов попытался сыграть на возможных антисоветских настроениях Нобелевского
комитета, то год спустя именно политические выпады из рекомендательного
письма были исключены. Чутье не подвело исторического романиста: шведские
академики всерьез задумались о награждении советского писателя, не без
причины полагая, что русская цивилизация продолжается в России, а не за ее
пределами. Кандидатура Алданова была отклонена, «как и неоднократно до
этого».
57 М.А. Алданов был воодушевлен этой поддержкой и даже взволнован слухами (ложными)
о поддержке его кандидатуры М.М. Карповичем (см. [Уральский 2014: 285]).
58 Так, например, в 1955 г. на Нобелевскую премию по литературе был выдвинут
(несколькими американскими профессорами литературы) антисоветский роман «Падение титана» («The
Fall of a Titan») Игоря Гузенко, советского разведчика-перебежчика. Хранящиеся в архиве
Шведской академии эксцерпты из англоязычной прессы, приложенные к номинации, исключительно
наглядно свидетельствуют о том, что в пору холодной войны пропагандистская машина на
Западе работала на полную мощь и едва ли не превосходила советскую по части «промывания
мозгов». Тем не менее ни о каком давлении на шведских академиков не было и речи. В «Заключении»
Нобелевского комитета за 1955 г. сказано, что этот «сильно разрекламированный в США,
политически сенсационный роман» не имеет ничего общего с присуждением международной премии
по литературе.
Глава 10
Николай Александрович
БЕРДЯЕВ
Бердяев принадлежит к плеяде русских гениев XX столетия. Его
философское наследие до сих пор вызывает горячие споры и является предметом
неослабевающего изучения. Без отсылки к его трудам не обходится, наверное,
ни одно исследование, посвященное историческим судьбам России.
Нобелевский комитет по литературе, однако, отверг кандидатуру блестящего
представителя эпохи расцвета русской философской мысли. Архивные документы,
которые проливают свет на это решение шведских академиков, позволяют не
только узнать, как развивалась история с номинацией и обсуждением
кандидатуры русского философа в нобелевском закулисье, но и добавить новые черты
к осмыслению восприятия и интерпретации его нетривиальных идей
европейскими интеллектуалами.
Николай Александрович Бердяев (1874-1948) уже в начале века проявил
себя как яркий мыслитель, прошедший путь от марксизма к идеализму, и как
противник революционных потрясений. Один из авторов сборников «Вехи»
(1909) и «Из глубины» (1918), участник Союза освобождения и Религиозно-
философского общества в Москве, основатель Вольной академии духовной
культуры (1919-1922), после революции он был дважды арестован, а в 1922 г.
выслан из страны. Сначала Бердяев остановился в Берлине, где познакомился с
немецкими философами, с их трудами и идеями; в 1924 г. переехал в Париж;
последние годы жил в пригороде Парижа Кламаре, там же и похоронен.
В эмиграции H.A. Бердяев вел интенсивную интеллектуальную и
общественную жизнь: сотрудничал с Русским студенческим христианским движением
(РСХД), став одним из его главных идеологов, был создателем и редактором
(1925-1940) журнала «русской религиозной мысли» «Путь», много
публиковался (его перу принадлежат 43 книги и около пятисот статей), поддерживал
контакты с крупными европейскими философами (Эмманюэлем Мунье, Габриэлем
Марселем, Карлом Бартом и др.), организовывал межконфессиональные
встречи представителей католической, протестантской и православной религиозно-
философской мысли. Эмиграцию философ воспринял как экзистенциальный
опыт, когда опорой бытия оказывается личность человека; свобода стала
основополагающим принципом философии Бердяева. В годы Второй мировой
войны у знаменитого мыслителя обостряется чувство родины, заставившее его за-
442
явить: «Я не националист, я русский патриот» [Бердяев 1949: 292]. Не случайно
сразу после войны H.A. Бердяев выпустил книгу «Русская идея. (Основные
проблемы русской мысли XIX века и начала XX века» (Париж, 1946), в которой
попытался осмыслить главные русские духовные ценности, раскрыть идею
Богочеловечества. Литература о Бердяеве почти необозрима, его философское
наследие продолжает быть востребованным, дискуссионным и широко
цитируемым.
В 1942-1948 гг. Николай Бердяев был номинирован на Нобелевскую
премию. Все номинации принадлежат Альфу Нюману (Nyman; 1884-1968),
профессору теоретической философии Лундского университета, члену Королевского
гуманитарного научного общества Швеции.
В Европе полыхает война. 1 января 1942 г. 26 государств подписали
«Декларацию Объединенных наций». Из заметных событий на фронтах в январе,
когда шведский философ и психолог впервые берется за перо, чтобы составить
обращение в Нобелевский комитет, в историографии Великой Отечественной
войны отмечено только одно — освобождение Малоярославца (2 января).
Немецкие войска отжаты от Москвы. Это была громадная победа, первый
перелом в ходе мировой войны: в зимних операциях 1942 г. рухнул миф о
непобедимости немецкой армии и был сорван план «молниеносной войны». В
Северной Африке британская армия нанесла поражение немецко-итальянским
войскам, и, хотя в целом по всей линии фронта в Атлантике, на Средиземном море
и в Северной Африке инициативой владели вооруженные силы
фашистского блока, стала укрепляться антигитлеровская коалиция. Из Швеции в
Германию между тем продолжался экспорт необходимой для производства
оружия железной руды, что избавляло нейтральную скандинавскую страну от
оккупации.
Начало войны, антигитлеровское движение в среде русской эмиграции
(у Бердяевых часто собираются Г. Федотов, мать Мария (Скобцова), И. Фонда-
минский, думают, что «предпринять» в новых условиях1) и непрестанная
работа мысли Ни (H.A. Бердяева) отчасти отражены в дневнике жены философа,
Лидии Юдифовны Бердяевой (1871-1945). Вот запись от 18 ноября 1939 г.:
«Меня поражает работоспособность Ни (курсив цитируемого издания. —
Т.М.). Теперь у него задумано одновременно 3 книги помимо статей и
семинара. Недавно я, сидя у него в кабинете, наблюдала, как он в одно и то же время
может и писать письмо, и делать заметки в тетрадь к той или иной задуманной
книге» [Бердяева 2002: 190]. Другая запись, от 15 апреля 1940 г., — собственное
признание H.A. Бердяева: «Я под впечатлением мысли, как-то пронзившей
меня. Я вдруг ясно почувствовал себя продолжателем основной русской идеи,
1 Л.Ю. Бердяева приводит слова Г.П. Федотова: «"Всякий раз, как наступают важные
события, — все стремятся к Бердяевым. Это — главный штаб!" И это верно. Я много раз это замечала.
Все как-то чувствуют, что у нас могут поговорить о том, что всех волнует, в атмосфере доверия и
свободы. Оживленная беседа» [Бердяева 2002: 200].
443
выразителями которой являются Толстой, Достоевский, Вл. Соловьев, Чаадаев,
Хомяков, Федоров. Основа этой идеи — человечность, вселенскость... И мысль,
что я являюсь продолжателем этой русской идеи, меня глубоко радует... Вот
сегодня я с какой-то особенной остротой осознал эту свою связь с основной
традицией русской литературы» [Бердяева 2002:199].
Дневниковых записей в 1941-1942 гг. жена философа не вела или они не
сохранились. В 1943 г. примечательна следующая запись от 8 октября: «За
завтраком Ни сказал нам: "Сегодня я окончил мою новую книгу «Русская идея"» ([Там
же: 204], курсив цитируемого издания. — Т. М.). Через неделю, 16 октября,
Бердяев прочел домашним оглавление будущей книги — первая глава о «кризисе
христианства», «главы о страдании, о страхе, о Боге, о бессмертии» [Там же].
Затем начата и завершена в январе 1945 г. новая книга. К этому же времени
относится еще одно знаменательное признание философа: «Какая у меня сильная,
неугасимая жажда познания! Многие устают от познания, а я нет. Мне хочется
знать все больше и больше» [Там же]. В годы войны философом было написано
пять книг: «Самопознание (Опыт философской автобиографии)» (1940, изд.
1949); «Творчество и объективация (Опыт эсхатологической метафизики)»
(1941, изд. 1947); «Экзистенциальная диалектика божественного и
человеческого» (1944-1945; изд. на франц. яз. 1947, на рус. яз. 1952); «Русская идея
(Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века)» (1946); «Истина и
откровение. Пролегомены к критике Откровения» (1946-1947; на рус. яз.
впервые 1996).
«Сороковые годы были чрезвычайно тяжелыми для Бердяевых: война,
немецкая оккупация Франции, нехватка топлива и продовольствия, преклонный
возраст, болезни, серьезная операция, перенесенная Николаем
Александровичем в 1942 году, гибель одних друзей, разлука с другими», — пишет Е.В.
Бронникова, публикатор дневников Л.Ю. Бердяевой [Бердяева 2002: 20-21]. В 1945 г.
она сама серьезно заболела и в том же году скончалась. В одной из записей
военных лет верная подруга русского мыслителя размышляет: «Странно
думать, что мы переживаем время, о кот<ором> позже (если это время не
последнее!) будут писать, как о чем-то небывалом, грандиозном, впервые в истории
происходившем, а вот мы сидим за столом, обедаем, светит солнце, жизнь идет
себе, будто так все и должно быть...» [Там же: 201]. Но именно так проходили
военные годы в нейтральной Швеции: светило солнце, шел дождь, шла жизнь.
Альф Нюман с самого начала своей научной карьеры колебался между
философией и психологией. Его первая книга (1915) была посвящена «биологии
познания» Рихарда Авенариуса (Avenarius), основоположника
эмпириокритицизма, чьим главным трудом, кстати, считается книга «О предмете психологии»
(1894-1895). Среди прочего плодотворно и разнообразно работавший А.
Нюман издавал избранные сочинения И. Канта («Тезисы о праве и мире», 1915)2,
2 Kant I. Avhandlingar от fred och rätt / Översatta och med en inledning av A. Nyman. Stockholm,
1915.
444
выпустил биографию этого немецкого мыслителя («Путь Канта», с
приложением отрывков из «Критики чистого разума» в переводе на шведский язык)3 и
защитил посвященную Канту диссертацию4. Параллельно с занятиями
историософией А. Нюман издал книгу «Психологизм против логизма: главные черты и
течения современной логики»5. В то время как Николай Бердяев пробует себя
на ниве марксизма, обращается к идеализму, обнародует pro et contra русской
революции, оказываясь в конце концов выдворенным из родной страны, Альф
Нюман разрабатывает различные стороны физики и метафизики, проводит
параллели между Аристотелем и Кантом6, а также вносит свой вклад в изучение
поэтики литературного произведения7. В 1927 г. выходит книга о философах
«нового времени» с жанровым подзаголовком «исследования и эскизы»8 и сразу
вслед за ней, в том же лундском издательстве, — книга как будто другого
ученого с тем же именем, настолько неожиданной кажется тема: «Музыкальный
интеллект: очерки и наброски»9. А между тем А. Нюман долгие годы был
музыкальным критиком в газетах «Свенска дагбладет» (Svenska dagbladet) и «Сюд-
свенска дагблад снельпостен» (Sydsvenska dagblad snellposten).
Исследовательская мысль Альфа Нюмана все время движется в нескольких
направлениях: от обзорных историко-философских очерков («От Платона до
Эйнштейна»10) — к разысканиям в различных областях психологии. В 1929 г.
Нюман стал профессором Лундского университета в области теоретической
философии и одновременно продолжал заниматься изучением современной
психологии; его книга «Новые пути в психологии»11 выдержала несколько
переизданий, выходила также после войны. Он активно развивает лундскую
традицию в области эстетики, осмысляя ее прежде всего с точки зрения музыки.
Один из шведских академиков, член Нобелевского комитета в 1921-1937 гг.
Генрик Шюк считал основной заслугой А. Нюмана «изгнание снобов-эстетов»
из Лундского и Упсальского университетов12. Нюман сотрудничает и в
шведской научной периодике, публикуется в гётеборгском журнале «по философии
3 Nyman Α. Kants väg: en tankebiografi som inledning tili förnuftskritiken: jämte valda stycken ur
kritiken i översättning. Lund, 1919.
4 Nyman A. Dissertationens Kant: ett kapitel ur kriticismens utvecklingshistoria. Lund, 1919.
5 Nyman A. Psykologism mot logism: brytningar och strömningar inom den modärna logiken.
Stockholm, 1917.
6 Nyman A. Kring antinomierna: Teser och antiteser inom föraristotelisk filosofi. Lund, 1920;
Nyman A. Antinomierna i Aristoteles' Fysik: en Kantparallell. Lund, 1921.
7 Nyman A. Metafor och fiktion: ett bidrag till poetikens teori. Lund, 1922.
8 Nyman A. Nutidstänkande: studier och utkast. Lund, 1927.
9 Nyman A. Musikalisk intelligens: uppsatser och snabbteckningar. Lund, 1928.
10 Nyman A. Frân Platon till Einstein: studier och utkast. Stockholm, 1933.
11 Nyman A. Nya vägar inom psykologien. Stockholm, 1934.
12 Электронный ресурс «Шведский национальный биографический словарь» (Svenskt bio-
grafisktlexikon)https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=8489 (дата обращения: 13.06.2016).
445
и психологии» «Теория», пишет предисловие к шведскому изданию Рене
Декарта и размышляет о «мудрости» королевы Кристины в брошюре, посвященной
ей как «моралисту и знатоку людей»13. Не менее активно А. Нюман публикуется
и в шведской прессе, объединив в 1935 г. свои газетные заметки в книгу под
красноречивым названием «Философски и нефилософски»14.
К 1941 г. относится его исследование «Нацизм, цезаризм, большевизм»15
(под цезаризмом понимается итальянский фашизм). В нем шведский философ
подвергает беспощадному анализу тоталитарную идеологию, сравнивая ее с
паутиной, в иллюзиях или даже во лжи которой может запутаться целая нация.
Будучи человеком либеральных убеждений и приветствуя победу демократии
над тоталитаризмом, т. е. поражение нацистской Германии во Второй мировой
войне, он видит не меньшую опасность в распространении массовой культуры.
В работе «Образование, элита, масса» (1946)16 А. Нюман постулировал
необходимость предоставить свободу самобытному гению развиваться по его
усмотрению и доказывал потребность современного обезличенного общества в
гениальности. Но в этом отношении Нюман оставался пессимистом, не полагаясь
на снисходительность массы к подлинному творцу.
В 1942 г., когда почтенный профессор впервые адресовался в Нобелевский
комитет, у него вышла работа с любопытным названием: «Таланты и общество:
некоторые размышления о наших врожденных духовных способностях и их
использовании»17. Свое обращение в Шведскую академию на имя «Господина
Директора» лундский профессор датирует 30 января: если за один день письмо
не достигнет по какой-либо причине Стокгольма (хотя что может этому
помешать?), то штемпель удостоверит, что оно написано точно в срок, т. е. до 1
февраля. А. Нюман хорошо знаком с правилами выдвижения на Нобелевскую
премию и цитирует соответствующие параграфы Устава Нобелевского фонда. Хотя
на литературную премию право выдвигать имеет профессор-филолог, но Альф
Нюман является членом Королевского гуманитарного научного общества, что,
возможно, приравнивается к членству в академии; во всяком случае, эта
номинация по формальным признакам отвергнута не была. Первое обращение
«относительно премии по литературе за этот год» написано Альфом Нюманом от
руки яркими синими чернилами; последующие отпечатаны на машинке.
«Если предположить, — пишет шведский историк философии и специалист
по психологии, — что Академия ожидает от меня выдвижения кандидата, чьи
достижения в философских исследованиях и чье литературно-философское
13 Nyman A. En drottnings visdom: Christina av Sverige som moralist och människokännare.
Stockholm, 1942.
14 Nyman A. Filosofiskt och ofilosofiskt: dagsverken i pressen. Lund, 1935.
15 Nyman A. Nazism, cesarism, bolsjevism. Lund, 1941.
16 Nyman A. Bildning, élit, massa. Sju kulturpolitiska kapitel. Stockholm, 1946.
17 Nyman A. Begâvningarna och samhället: nâgra synpunkter pâ vâra andliga naturtillgângar och
deras tillvaratagande. Lund, 1942.
446
мастерство заслуживают величайшего признания, то я назову имя Николая
Бердяева» (и имя это дважды подчеркнуто). А. Нюман считает, что, наряду с
Бенедетто Кроче, «выдающимся итальянским философом и литературоведом,
сенатором», русский философ принадлежит к тем, кто прямо соответствует § 1
Устава Нобелевского фонда. В этом параграфе процитированы слова
завещания А. Нобеля о достойных премии авторах: «создавшие нечто выдающееся в
идеальном направлении»18. Перечислив те разнообразные области
гуманитарного познания, которых H.A. Бердяев касается в своих многочисленных
работах, и причислив русского философа к тому направлению, которое развивалось
«от Соловьева через Достоевского к Мережковскому», Альф Нюман
подчеркивает, что ему особенно импонирует попытка Бердяева соединить идеи
христианского гуманизма с романтическим идеализмом. Восхищает шведского
профессора и бердяевский стиль, остро полемичный, пламенный и
метафоричный: «.. .насколько я мог судить по английским, немецким и даже датским
переводам, — замечает Нюман, — это стиль подлинного мастера» (последние слова
подчеркнуты). Тем не менее Альф Нюман склонен отделять яркую пассионар-
ность от идей «чистого разума», и если он утверждает: «В современной
культурной борьбе Николай Бердяев — одна из самых влиятельных, самых страстных
личностей» (в оригинале подчеркнуто), — то в продолжении фразы
оговаривается, что среди русских мыслителей современности пальму первенства стоит
отдать Николаю Лосскому. К числу лучших работ H.A. Бердяева шведский
профессор относит его «анализ собственно славянской жизни и славянской
религиозности».
Сама номинация на этом заканчивается, но Альф Нюман сопровождает ее
тремя приложениями. В первом на двух машинописных страницах изложены
на английском языке «жизнь и занятия» Николая Бердяева — этим очерком
русский философ сам снабдил своего шведского коллегу «за несколько лет
перед тем»; текст биографического резюме на английском языке «Николай А.
Бердяев», составленного самим философом, полностью приведен нами в
[Марченко 2016: 47-48].
Приложения 2 и 3 — это списки «лучших», как они аттестованы в
номинации, трудов Бердяева, на английском (List of the chief works of N.A. Berdyaev) и
немецком (Die letzte Werke Nikolai Berdiajews) языках. Не названо ни одного
издания в переводе на шведский (указаны датские издания — Лунд находится на
самом юге Швеции, гораздо ближе к Копенгагену, чем к Стокгольму).
Английский список содержит лишь названия книг и пометы, на какие из основных
европейских языков они переведены. Так, книга «Новое средневековье» (1924)
переведена «на 12 языков». О прочих сочинениях русского философа сказано
просто: «Numerous brochures, and articles in Russian and foreign periodicals».
После этого еще три работы философа названы по-шведски, также с пометой о
18 О формулировке завещания Альфреда Нобеля и о многолетней дискуссии вокруг нее см.
главу 1.
447
переводах на европейские языки. Немецкий список (Приложение 3 в первой
номинации) включает в себя подробные библиографические данные
приведенных изданий — это перепечатанный на машинке проспект швейцарского
издательства «Vita Nova», в котором труды H.A. Бердяева выходили в немецком
переводе Е. Шора19. Сообщено о типе обложки (твердый картонный переплет или
тонкий бумажный) и указана цена. К последующим номинациям будут
прилагаться печатные рекламные буклеты издательства «Vita Nova» с выдержками из
газетных откликов. Это эксцерпты из рецензий, традиционно размещаемые
вслед за выходными данными и нередко на последней стороне обложки
следующего издания книги или новой книги того же автора; большинство
рецензий почерпнуто из швейцарских газет. Речь идет по крайней мере о шести
работах H.A. Бердяева: «Христианство и классовая борьба», «О достоинстве
христианства и недостоинстве христиан», «Правда и ложь коммунизма»,
«Смысл и судьба русского коммунизма», «О назначении человека», «Судьба
человека в современном мире».
В тексте номинации есть и еще одна отсылка, связанная с Бердяевым. А. Ню-
ман пишет: «В моей книге "Нацизм, цезаризм, большевизм" (Лунд, 1941)
некоторые страницы посвящены рассмотрению его философских пророчеств,
особенно страницы 190-263, к которым я беру на себя смелость вас отослать. Тем
не менее было бы справедливо добавить, что указанное исследование не отдает
всей справедливости религиозно-эсхатологическим и эстетическим идеям
этого мыслителя, в высшей степени самобытным, но, в соответствии с планом
книги, намеренно ограничено лишь рассмотрением ряда актуальных политических
и общекультурно-философских мотивов». И наконец, показавшееся важным
заключение: «через Швейцарию» Нюману удалось узнать, что «профессор
Николай Бердяев находится в настоящий момент во Франции, и вот его адрес: 83,
ул. Молен де Пьер, Кламар, <департамент> Сены».
Обращение 1943 года датировано 28 января и полностью повторяет текст
первого письма Нюмана в Шведскую академию; обращение от 29 января 1944 г.
идентично по тексту (только отпечатанному на пишущей машинке) и
приложениям (на сей раз напечатанным на бумаге с водяными знаками). 29 января
1945 г. Альф Нюман пишет крупным почерком небольшой текст, занимающий
почти целую страницу. Это неизменное обращение к «Господину Директору»,
повторение первой фразы — собственно номинации на премию — и
добавление: «В качестве копии прилагается мое кратко мотивированное предложение
от января 1943 г., а также два соответствующих приложения». На отпечатанном
19 Шор Евсей Давидович (J. Schor; 1891-1974) — историк русской мысли, искусствовед,
журналист; эмигрировал в 1922 г. в Германию (не вернулся из служебной командировки), сблизился
с русскими и немецкими философами; в 1934 г. через Италию перебрался в Палестину.
Переводчик сочинений В.И. Иванова, Л.И. Шестова, Г.Г. Шпета на немецкий язык, переводил работы
H.A. Бердяева для издательства «Vita Nova» (Люцерн). В том же издательстве вышла его
собственная книга «Германия на пути в Дамаск» (Deutschland auf dem Wege nach Damaskus. Luzern,
1934).
448
на машинке листе от руки написано: «Копия», и даже дата (28 января 1943 г.)
сохранена. Следующее обращение датировано 30 января 1946 г.; из
остающегося неизменным текста убраны строки об адресе философа. Приложения
становятся более «убористыми»: они больше не пронумерованы, на полутора
страницах перепечатана автобиография H.A. Бердяева, нижняя часть второй
страницы занята списком его трудов — это все те же неизменные десять
названий, ссылка на «многочисленные» прочие публикации и еще три работы,
названные по-шведски и с указанием, на какие языки они переведены. Немецкий
список из обращения в Шведскую академию исчезает, хотя ничего
крамольного в нем нет, — ведь книги были изданы в Швейцарии, а не в гитлеровской
Германии.
Следующее обращение Нюмана в Стокгольм датировано 30 января 1947 г.;
в левом верхнем углу карандашом помечено: «поступило 31.1.47». Слово в слово
повторяется обращение, написанное за пять лет до того, в последней строке
снова появляется адрес философа в Кламаре. Однако перед этим
заключительным абзацем такими же яркими синими чернилами, которыми некогда была
написана и первая номинация, сделана приписка. Полностью повторив
отсылку к своей книге, где, поневоле ограниченные ее тематикой, рассматриваются
некоторые идеи Бердяева, А. Нюман на сей раз замечает: «Однако эти идеи
довольно подробно разобраны в работе Свена Стольпе "Николай Бердяев"
(Стокгольм, 1946)»20. Книга известного шведского литературоведа и критика,
очевидно, стала заметной новинкой минувшего года, если А. Нюман, уже подготовив
номинацию (вероятнее всего, заранее отпечатанную на машинке секретарем),
решился вписать на полях (!) указание на работу о русском философе. Не
удовольствовавшись этим, он продолжает, пользуясь свободным местом внизу
страницы, слева от расположенной по центру подписи: «Следует также
добавить, что духовное влияние Бердяева на французскую культурную жизнь
непрестанно возрастает. Я могу назвать среди прочих книгу Гастона Фессара
"Франция, берегись потерять свою Свободу!" (Париж, издательство "Темуань-
яж кретьен", 1946)21». Последняя книга, кстати, тоже относится к числу только
что изданных.
Последнее обращение в Стокгольм с номинацией Николая Бердяева было
подписано Альфом Нюманом 28 января 1948 г. Текст полностью повторяет
самое первое обращение; никаких библиографических добавлений, вписанных в
номинацию годом раньше, в этом послании нет. Заметим также, что в прило-
20 Stolpe S. Nikolaj Berdjajef. Stockholm, 1946. Свен Стольпе (1905-1996) — шведский писатель,
литературовед и критик, журналист. Его небольшая работа о Бердяеве вышла в серии «Идея и
полемика» (Idé och debatt) и была переиздана несколько десятилетий спустя (Boras, 1983. 161 s.).
21 Fessard G. France prends garde de perdre ta liberté. Paris, 1946. Гастон Фессар (1897-1978) —
священник-иезуит, известный французский философ, богослов. В ноябре 1941 г. отец Фессар
опубликовал в первом номере редактируемого им журнала «Cahiers de Témoignage chrétien»
(«Христианское свидетельство») статью «Франция, берегись потерять свою душу» (France, prends
garde de perdre ton âme).
449
женном к двум последним номинациям списке избранных трудов H.A.
Бердяева, названных по-английски, три последние позиции, обычно приводимые по-
шведски, даны на французском языке. 23 марта 1948 г. русского философа не
стало, и, кажется, только это обстоятельство смогло прервать регулярные
обращения в Шведскую академию его поклонника из Лунда.
В 1942 г., получив от Альфа Нюмана первое послание с выдвижением
Николая Бердяева на Нобелевскую премию по литературе, Нобелевский комитет,
следуя сложившейся практике, поручил написать отзыв о творчестве
предложенного кандидата своему присяжному эксперту по славянским литературам,
уже известному нам профессору Копенгагенского университета и редактору
газеты «Dagens nyheter» Антону Карлгрену.
Будучи отнюдь не поверхностным знатоком России, Карлгрен в период
между двумя русскими революциями выпустил несколько книг: «Vinterdagar
bland ryska bonder» («Зимние дни среди русских крестьян»; Stockholm, 1907)
о русско-шведской деревне на Днепре; «Ryssland utan vodka. Studier av det ryska
spritförbudet» («Россия без водки. Исследование русского сухого закона»;
Stockholm, 1916); «Ryska intervjuer. Studier frân världskrigets Ryssland» («Русские
интервью. Очерки из воюющей России»; Stockholm, 1916). Через несколько лет
после Октябрьской революции была издана книга «Bolsjevikernas Ryssland»
(«Большевистская Россия»; Stockholm, 1925; вышла в 1926 г. в переводе на
датский и финский языки, в 1927 г. — по-английски). В то же время им написаны
разделы о России для шведского энциклопедического издания «Всемирная
история»22. В середине 1920-х — 1930-е гг. печатная продукция самого А. Карл-
грена-слависта резко снижается, все его время отнимает редакторская работа в
«Дагенс нюхетер» и составление экспертных заключений для Шведской
академии. В год первого выдвижения на Нобелевскую премию H.A. Бердяева
выходит монография «Stalin. Bolsjevismens väg frân leninism till Stalinism» («Сталин.
Путь большевизма от ленинизма к сталинизму»; Stockholm, 1942); том в
шестьсот страниц в тот же год увидел свет на финском языке.
Экспертный очерк — это не научная работа, предназначенная для
публикации. В нем нет библиографии, не соблюдается хронологическая
последовательность рассмотрения отдельных работ, реферативное изложение произвольно и
отражает прежде всего субъективное мнение эксперта. Но очерк Антона Карл-
грена о H.A. Бердяеве содержит еще и полемику — с соотечественником Аль-
фом Нюманом, попавшим, среди прочих европейских интеллектуалов, под
обаяние сочинений Бердяева. Замечательно, что параллельно в Швеции были
изданы труды, касающиеся в той или иной степени русской революции и боль-
22 «Rysslands inre historia 1863-1914» (Norstedts Världshistoria, del 13: Den väpnade freden.
Imperialism och industrialism (1871-1914), Stockholm, s. 817-872); «Tsarismens sista och bolsjevismens
första àr» (ibid., del 14: Varldskriget och frederna, Stockholm, 1937, s. 735-922). Для тома
«Вооруженный мир» написан раздел «История России 1863-1914»; для тома «Мировая война и мир» —
раздел «Последний год царизма и первый год большевизма».
450
шевизма; замечательно и то, что авторы этих трудов — профессор философии,
рассуждающий с историософских позиций, и профессор-славист,
выступающий более как публицист, нежели как историк, — вступили в заочный спор,
выбрав в качестве предмета рассмотрения сочинения Николая Бердяева. Альф
Нюман, автор «Нацизма, цезаризма, большевизма», и А. Карлгрен, автор «Пути
большевизма от Ленина к Сталину», находились в неравном положении:
первый высказал мысли о взглядах Бердяева в своей монографии, второй оставил
их надолго погребенными в архиве, материалы из которого становятся
доступными через полвека хранения. Книга Нюмана была доступна любому
шведскому читателю, но обращена прежде всего, конечно, к гуманитарной элите, к
которой принадлежали и члены Шведской академии. Их всего восемнадцать
(пятеро из них составляют Нобелевский комитет), и они оказались
единственными читателями экспертного реферата А. Карлгрена. В их мнении — важном
исключительно при присуждении Нобелевской премии по литературе —
Карлгрен одержал безоговорочную победу и над Нюманом, и над Бердяевым.
Написанный А. Карлгреном обзор о русском философе выглядит как
настоящий трактат — 87 страниц машинописи. Представляется вероятным, что
такой объем и год работы (очерк не был даже закончен в срок) спровоцированы
не самой номинацией русского философа, а монографией выдвинувшего его
кандидатуру А. Нюмана, опиравшегося на труды Бердяева. Не соглашаясь с
ними обоими, в ярком полемическом ключе, порой с публицистическими
перегибами и нелицеприятными оценками А. Карлгрен пишет заказанное
«заключение эксперта» tantum adversus (только против), выпуская все «pro» и
скрупулезно отбирая аргументы исключительно «contra».
Вступление к этому трактату начинается с констатации ряда
неутешительных моментов. Эксперт заявляет:
Относительно адекватной интерпретации сочинений Николая Бердяева
следует с самого начала оговориться, что для нижеподписавшегося это было
почти неразрешимой задачей. Во-первых, эта задача предполагает философское
и прежде всего богословское образование, и особенно понимание связанных
с православной церковью знаний и представлений, которого у
нижеподписавшегося совершенно нет; большая часть сочинений Бердяева не может быть
понята и ни в коем случае не может быть оценена никем, кроме эксперта по
богословию. Из другой части лишь небольшая часть его сочинений оказалась мне
доступна. Из его дореволюционной продукции мне не удалось добыть ни
единой строчки; из его продукции 20-х и 30-х годов мне удалось заполучить
несколько работ, а из редактируемого им журнала «Путь», в котором он с 1920-х гг.
опубликовал массу статей, я видел лишь отдельные номера. Но, помимо
прочего, мне удалось познакомиться только с несколькими его работами на языке
оригинала. И Нобелевской библиотеке, с величайшими усилиями заказавшей
книги в прочих библиотеках и предоставившей их в мое распоряжение, и мне
самому удалось достать в основном немецкие, английские и французские
переводы. А их изучение подчас просто сводит с ума. Переводчики очевидно не-
451
многое понимают из весьма туманных рассуждений автора, и заканчивается
это тем, что переводы, особенно в сложных вопросах, попросту
обессмысливаются. Порой с помощью сопоставительного анализа, например, английского и
немецкого переводов одного сочинения вы можете преуспеть в поисках
смысла, но часто это совершенно безнадежно.
Рассмотрению подвергаются далеко не все работы Бердяева; в сущности,
очень немногие. Первая часть экспертного реферата посвящена «в высшей
степени хаотичной работе» «Смысл истории», в пересказе которой А. Карлгрен
постарался восстановить «логические связи»: «столь пространный реферат этой
работы мотивирован ее весомостью в глазах самого Бердяева». Высоко оценив
исторический кругозор русского мыслителя, Карлгрен совершенно отвергает
принадлежащие ему религиозно-философские истолкования исторических
процессов:
Смелая оригинальность, которая, несомненно, отличает автора, а также
развернутый им взгляд на историю обладает определенным величием, так же как
интересны и дают пищу для размышлений некоторые его взгляды на
исторические события. Но когда по собственным своим рецептам он сходит в
бездонные шахты, чтобы раскрыть тайны исторического процесса, то не нужно и на
поверхности быть историком, чтобы понять, как сильно он заблуждается. То,
что большевики, перед которыми он с завидным мужеством развивал свои
мысли о смысле истории на лекциях в Москве, сочли его присутствие в
большевистском государстве бессмысленным, можно понять; будет, однако,
совершенно безопасным для философа признать, что не только большевики находят
его взгляды целиком и полностью неприемлемыми.
Сам эксперт признается, что «не может быть и речи о том, чтобы
представить подробный обзор религиозно-философских и этико-богословских
сочинений Бердяева», хотя сам он, постепенно втянувшись, прочел их «с интересом,
вызванным благородным идеализмом, который их питает и который выражен
с оригинальностью порой ошеломляющей, хотя за стремительно несущейся
мыслью следовать подчас нелегко». Эксперт полагает, впрочем, что «экспресс-
обзор» религиозно-философских работ Бердяева «можно смело опустить,
поскольку явно не за них он был выдвинут на Нобелевскую премию». Карлгрена
привлекает иная, важная для него самого тема: роль и место России в широкой
исторической перспективе.
Жанр обзора А. Карлгрена о глубоко чуждом ему, малопонятном
философском творчестве Н. Бердяева можно определить как «реферат с претензиями».
Претензии, впрочем, предваряют реферат трудов философа.
В качестве первой претензии эксперт называет стиль философа. Читателю
следует набраться терпения, полагает Карлгрен, поскольку его «ожидают
тяжелые испытания». При этом эксперта возмущает, что в номинации — «на
основании иностранных переводов» — Бердяев назван «мастером стиля»: «Это
утверждение совершенно ошарашивает; Бердяев в своих работах как стилист так
452
плох, что никто из самых благожелательных эмигрантских критиков не
осмеливается этого отрицать». Приведем en pendant выдержку лишь из одной
рецензии (и оговоримся, что большинство рецензентов-философов обращают
внимание не на слог, а исключительно на содержание): «Новая книга H.A. Бердяева
представляет собой выдающееся событие в русской философской литературе.
Она в чрезвычайно яркой и глубоко продуманной форме подводит итог
многолетним философским исканиям автора и синтезирует их плоды. Несмотря на
громадную систематическую и историческую насыщенность книги,
вибрирующей вместе с тем в унисон со всеми новейшими тенденциями современной
мысли, она изложена общедоступно и читается легко и с напряженным
интересом» [Гурвич 1931: 512]23.
А. Карлгрену, впрочем, понравилось сравнение одного из переводчиков,
который назвал стиль Бердяева «тавтологическим», уподобив его «молотку
скульптора»; неустанно повторяя слова и фразы, он словно вбивает их в головы
читателей — или, иначе, работает над отделкой своей мысли. Шведский славист
полагает, что лучшим инструментом при работе над бердяевским стилем стала
бы красная ручка — чтобы безжалостно вычеркнуть все бесчисленные
повторения, которыми наводнены его сочинения. «Писатель способен жевать и
пережевывать одно и то же без конца, пока читателя не начинает тошнить, —
интимно делится Карлгрен со шведскими академиками, присуждающими
Нобелевскую премию, — часто он даже и не заботится о разнообразии
выражений, и, раз обретя кем-нибудь или им самим счастливо сформулированную
фразу, он так и повторяет ее затем по нескольку раз».
Из этой претензии вытекает следующая — «острая нехватка» строгой
логики в развитии мысли и построении текста. «Как только мысль приходит ему в
голову, он отдается ей; от главного аргумента он уходит все дальше и дальше
ради причудливых отступлений и ненужных эскапад; он непоследовательно
переходит от одного аргумента к другому. И все это фонтанирует без
передышки, без паузы, — сокрушается нобелевский эксперт, — он пишет порой
несколько страниц, а то и главы целиком без того, чтобы оторвать перо от бумаги;
зачастую вязкое и мутное повествование не позволяет разделить его на логически
более мелкие куски». В скобках А. Карлгрен замечает, что переводчики
Бердяева на иностранные языки делят текст при переводе по своему произволу,
обычно чисто механически, так что фрагменты текста на разных языках не
соответствуют друг другу (например, немецкий — английскому). Кроме того, «сделать
паузу там, где ее нет», — отнюдь не означает облегчить текст для понимания.
Наконец, еще одна претензия, неотделимая от предыдущих, — это
неспособность к «стилистическому оформлению», к строгой композиции текста. За-
23 Нелишне заметить, что в том же разделе «Критика и библиография» того же тома журнала
Н. Лосским отрецензирован франкоязычный труд о современных тенденциях в германской
философии самого Г. Гурвича, владеющего, стало быть, широким материалом, в контексте которого
он сам оценивает и книгу Бердяева (см. [Лосский 1931]).
453
мечательно, что, указав на это, безусловно, слабое с точки зрения нормативных
риторик место Бердяева, Карлгрен невольно обнаруживает тем самым сильную
сторону философа: его «бесспорный пафос», собственная увлеченность так
захватывает читателя, что последний попросту забывает обо всех
несовершенствах стиля. На помощь вновь приходит сравнение с молотком скульптора, на
глазах испуганных зрителей высекающего из камня искры; вот и Бердяев в
слове «дерзок, часто противоречив, вечно провокативен в отражении мыслей, для
которых он счастливо находит возвышенные и порой парадоксальные формы
выражения (эффект теряется, если вы встречаете их снова и снова)». Общее
впечатление у шведского слависта от сочинений Н. Бердяева складывается
неблагоприятное: «сильно запутано, тягуче и монотонно; при чтении сочинений
Бердяева прежде всего возникает впечатление о невероятно болтливом языке,
который, как только начал молоть, так и работает полумеханически на лету без
остановки». Довольно скандальное определение, хотя, между прочим, и не
рассчитанное на публикацию. Это определение приобретает почти издевательский
характер, если предположить, что Карлгрен знал о мимическом тике
Бердяева— неожиданно высовывать при разговоре язык... однако в этом случае
шведский профессор едва ли решился бы на подобное сравнение.
Первой подвергается рассмотрению «Философия свободного духа
(Проблематика и апология христианства)» (1927). Эта проблематика, как и эта
апология, в наименьшей степени соответствуют умонастроениям и интересам
нобелевского эксперта: область его подлинных интересов — современная история и
политика, его взгляды на литературу предполагают, что это прежде всего belles
lettres — т. е. художественная литература в собственном смысле слова,
обладающая всеми признаками fiction. Но философия, к тому же с религиозным
уклоном, решительно не привлекала Антона Карлгрена; однако тогда он был
единственным экспертом-славистом Нобелевского комитета. Больше полувека
спустя кажется странным, что члены Шведской академии не были знакомы с
трудами H.A. Бердяева, что они до Второй мировой войны не переводились и не
издавались в Швеции, что имя русского философа-эмигранта, который
«целиком и полностью стоит на почве православия», настолько мало известно, что
требуется специальный реферативный очерк его работ24. Антон Карлгрен
настроен полемично, и не столько в отношении идей Бердяева: человек западной
24 Заметим, что и за прошедшие десятилетия появилось всего несколько шведских
переводов трудов H.A. Бердяева. Одна из книг вышла в год смерти философа: BerdiaeffNicolai. Pâ tröskeln
till ny tid <Ha пороге новой эры> / Översättning av G. Andersson. Stockholm, 1948. Несколько
десятилетий спустя был выпущен сборник цитат из сочинений Бердяева: Berdjajev N. Källor till rysk
vishet: tankar och dikter <Источники русской мудрости: мысли и афоризмы> / Till svenska av
А.-В. Andersson, text red. E. Hettinger. Stockholm; Malmö, 1980. Наконец, в 1990-е гг. северношвед-
ское издательство «Artos» предприняло издание сразу нескольких работ философа (Berdjajev
Nikolaj) в переводах на шведский язык Стефана Борга (Stefan Borg): Historiens mening: Ett försök
till en nlosofi om det mänskliga ödet <Смысл истории: попытка философии человеческой судьбых
Skellefteâ, 1990; От Dostojevskij. Skellefteâ, 1992; Vägar tili självkännedom <Пути к самопознании».
Skellefteà, 1994.
454
протестантской культуры, он не приемлет горячего воодушевления русского
философа, который готов «несколько однообразно — и столь же избыточно —
ураганным огнем разнести на мелкие части» противоречащую его мыслям
концепцию. Эксперт констатирует, завершая свою попытку изложить некоторые
тезисы «Философии свободного духа»:
Речь не идет о том, чтобы углубиться в религиозно-философские и морально-
богословские труды Бердяева, типичные образчики мыслей которого мы
привели. Непосвященный, привыкнув после немалых усилий к особенностям
слога, прочтет ее оту работу> с интересом, увлеченный благородным идеализмом,
который пленяет оригинальными комментариями, порой прямо дух
захватывающими своим вольным полетом, за которым не всегда легко уследить.
Однако высказать мнение об этой работе в целом здесь невозможно, поскольку
многое пришлось опустить, и только следует признать, что не это сочинение
Бердяева послужило поводом для его выдвижения на Нобелевскую премию.
Следующий раздел экспертного заключения А. Карлгрен посвящает
«Смыслу истории» (1927), «самому главному», если верить философу, из его трудов.
Подобно исследованию «глубин христианства», замечает шведский славист,
Бердяев стремится погрузить свой ланцет в «глубины истории». Однако
Карлгрен должен пояснить, что для русского мыслителя главной становится
историософская проблема: тесно связанная с христианской традицией, русская
философия на протяжении последнего века, в борьбе славянофилов и западников,
билась над эсхатологическим вопросом миссии России во всеобщей истории.
Мировая война и революция подвигли Бердяева принять «вызов» русской
историософской традиции. Карлгрен указывает также, что это сочинение родилось
из лекций, прочитанных Бердяевым в Москве зимой 1919-1920 гг. в Вольной
академии духовной культуры и переработанных в книгу в Берлине после
высылки в 1922 г. Однако произнесенные устно, когда бесконечные повторы
оправданы стремлением донести до слушателей свою мысль, эти лекции не
подвергались необходимым сокращениям, так что добраться до сути «труда
кажется сверхсложным».
Поскольку оба шведа, Нюман и Карлгрен, обратились к исследованию
феномена большевизма, то будет, пожалуй, небесполезным остановиться именно
на той части отзыва нобелевского эксперта, где он реферирует осмысление
Бердяевым русского исторического пути. Ссылаясь на предисловие философа к
«Смыслу истории» (1923), Карлгрен замечает, что, помимо желания «углубить
христианство», Бердяева увлекают историософские проблемы, которые «более
ста лет занимали русские умы, привели к великим распрям между
славянофилами и западниками, пытавшимися осмыслить миссию России в мировой
истории; эти проблемы носили эсхатологический характер и были апокалипти-
чески окрашены, а русская философия истории была по преимуществу
религиозной». Русский мыслитель полагает, что «историзм» традиционной
исторической науки слишком далеко уходит от «тайн исторического процесса».
455
Как же трактует теория Бердяева смысл исторического процесса? Смысл
истории, если выразить положения Бердяева в концентрированном виде, состоит в
том, что люди в земном своем бытии не в состоянии реализовать свои
возможности и разрешить поставленные перед собой задачи, и, следовательно,
реализация возможностей и решение задач может произойти только за пределами
земного существования. История не что иное, как путь в иной мир; в рамках
истории достижение какого бы то ни было совершенного состояния
невозможно; это возможно в другом мире, навсегда.
Протестант (и, возможно, агностик), скептик, позитивист — шведский
славист не в состоянии всерьез воспринимать подобные тезисы. Складывается
впечатление, что он с трудом удерживается от иронии, излагая религиозную
основу историософской концепции Бердяева: «.. .история, по Бердяеву, это путь
в иной мир <...> она включает в себя не только земную судьбу человека, но и
небесную». Самого Карлгрена больше привлекает рассмотрение земной
истории, и он признает — обратившись к «Новому средневековью», — что именно
те работы, где Бердяев рассматривает «большевизм, условия его
возникновения, его характеристики, его перспективы в будущем», снискали
исключительный успех на Западе.
К пророчествам фаталистов, предрекающих разрушение нашей цивилизации,
мир в последнее время прислушивался неохотно, и бердяевские вариации на
тему, безусловно, показались ему весьма любопытными. Его исследования
большевизма привлекли столь очевидный интерес, поскольку раскрывали
проблемы, связанные с большевистской революцией и большевистским
правлением, гораздо глубже, чем их обычно представляли, и поскольку автор их,
как принято считать, находился в особых условиях, дающих возможность
проникнуть в истинное положение вещей и беспристрастно осветить их. Как
сугубо надежного свидетеля, отличающегося от так называемых политических
туристов, профессор Альф Нюман и привлекает Бердяева в своей книге «Нацизм,
цезаризм, большевизм». Нюман подчеркивает, что ввиду слишком
расходящихся представлений о большевизме, разнонаправленных и односторонних,
ценнее всего прислушаться к русскому мыслителю, в непосредственной
близости пережившему политическое землетрясение у себя на родине и при этом
свободному от подозрений в том, что он замаскированный сторонник тех, кто
сверг самодержавие.
Карлгрен напрасно так принижал свои способности в понимании и
интерпретации идей Бердяева. Афористичность оригинала способствует
выразительному лаконизму реферата: «Самым неприемлемым в капиталистической
системе для Бердяева является то, что она подчиняет духовное материальному,
направляет всю человеческую энергию не внутрь, а наружу и утверждает над
жизненными силами господство не церкви, а биржи». Но есть у Бердяева и
такие идеи, с которыми шведский славист, журналист и специалист по России не
может согласиться ни в каком случае:
456
Самым главным достижением гуманистической эпохи, на раскрытии и
уничтожении которого Бердяев сосредоточился в первую очередь, является все же
демократия; борьба с ней обретает центральную роль в сочинениях Бердяева.
Ненависть, которую он питает к большевизму, смешана с доброй долей
уважения, но ненависть к демократии доходит в нем до отвращения — и это
отражает доминирующее настроение в среде русской эмиграции, чья ненависть
к большевистскому режиму меньше, чем к демократическому правлению,
которое предшествовало большевистской революции и — что действительно
справедливо — своей злополучной политикой подготовило почву для
большевизма (своих чувств к Керенскому, к этому козлу отпущения русской
эмиграции, Бердяев и не скрывает). В демократии, согласно Бердяеву,
самоутверждение гуманизма обрело самое злокачественное выражение. Воля человека
обретает, по Бердяеву, решающее значение для человеческого общества, и
будут сметены все, кто стоит на пути проявления человеческой воли и ее
окончательного господства. Воля человека не будет подчинена никаким высшим
целям. Из этого следует, что демократия равнодушна к народной воле, к ее
направленности и содержанию; она не обладает критериями, чтобы оценить,
движется ли народ согласно своей воле в верном или неверном направлении.
Демократия, таким образом, равнодушна к добру и злу; она толерантна,
потому что безразлична, она утратила веру в истину и не способна истину выбрать.
Определять истину должно большинство, и это показывает, что демократия не
знает истины и не верит в нее, потому что тот, кто ведает истину, не доверит ее
решение простому большинству. Демократия провозглашает, что истины не
существует, в этом основа демократии и ее величайшая ложь. Демократия
оптимистична, она уверена, что простой перевес голосов неизменно ведет к
хорошим результатам — демократическая идеология основана на руссоистской
концепции о доброте человека и словно исключает возможность, что в людях
существует и зло, что большинство может предпочитать несправедливость и
ложь, а истина может принадлежать и малому меньшинству. Демократия не
является гарантией того, что люди будут желать свободы, а не ее искоренения.
В сущности, конспект — упрощенный до схематизма пересказ, без
передергиваний, но с упором на самые дерзкие формулировки русского философа:
«Подлинные сопротивление и свобода были более вероятны во времена пыток
инквизиции, чем в нынешних буржуазных республиках». Постулат Бердяева,
что народ перестает существовать, лишившись веры, а также утверждение о
«великой лжи демократии», которая учитывает волю только современного
поколения и тем самым словно отменяет прошлое, историю народа, его
многовековые традиции, настораживает А. Карлгрена; обобщающий тезис Бердяева,
что народная воля — это само историческое существование народа, созданная
им культура — заставляет нобелевского эксперта решительно возразить:
«Помимо прочего, стоит заметить, что в подобных рассуждениях Бердяев ступает
на весьма опасную почву».
Русская культура была довольно смешанного типа. Даже и в ней не все, это
вынужден признать и Бердяев, было созидательным. Русь собирается московски-
457
ми князьями во многом благодаря ловкому канальству этих самых князей,
Россия превращается в мощную державу благодаря грубой империалистической
политике. Наряду с более или менее спокойными периодами в российской
истории есть некоторые совершенно отталкивающие. В общем, можно сказать,
что воля русского народа в исторической перспективе обрушивалась
ужасающими ударами и здорово напугала немецкую историографию; нет никакого
сомнения в том, что, когда разъяренные толпы зверствовали во время
революции, воля русского народа действовала в добром согласии с русской
исторической традицией. Постацить современную политику в зависимость от
эксцессов, которые русский народ позволял себе в истории, — рецепт, внушающий
опасения, и Бердяев это также понимает и спешит выставить ограничения:
воля народа находит свое чистейшее выражение в религиозной жизни. Не та
воля русского народа, что выразилась в погромах и бунтах восставшей черни,
но та, что проявилась в единстве русского народа в вере, и в ее превосходстве
над религиозностью других народов Бердяев убежден, считая ее единственно
верной и органичной; если демократия не провозглашает эту народную волю
как путеводную в социальной политике, то в этом и состоит ее
фундаментальная ложь. Времена гуманизма, в том числе и демократии, против которых
Бердяев выступает исключительно односторонне — отчасти курьезно, отчасти
с блеском шулера, ведь он слывет беспристрастным наблюдателем и экспертом
по обличению исторических явлений, — подходят, однако, как он заявляет,
к концу, и человечество вступает, через потрясения, характерные для
каждого временного сдвига, в новую эпоху — по Бердяеву, это новое средневековье.
Не отказывая себе в некотором травестировании идей Бердяева («согласно
его диагнозу, мы уже стоим одной ногой в средневековье, но времена, слава
Богу, не повторяются»), нобелевский эксперт так передает культурную
дихотомию русского философа: «Культурный кризис, в котором мы оказались, состоит
в том, что культура не может больше оставаться религиозно индифферентной,
должен совершиться выбор между безбожной цивилизацией Антихриста и
святой, христианской культурой, христианской трансформацией жизни. Мир
гуманизма распадается на две части, коммунизма и Церкви Христовой». К
удивлению Карлгрена, русский философ применяет «термины коммунизм, марксизм,
социализм как эквиваленты» и полагает, что коммунизм (вбирающий в себя и
русский большевизм) использует волю народа для достижения высших, однако
антихристианских по своей направленности целей (и «коммунистическое
государство представляет собой не теократию, а сатанократию»).
Следует оговорить, что Антон Карлгрен отнюдь не разделял
коммунистических или социалистических идей, но был твердо убежден в глубокой
исторической предопределенности русской революции; кроме того, тенденциозность,
односторонность любого дискурса была для него неприемлема. Вот и в своем
реферате он восстает не столько против идей Бердяева, сколько против
абсолютизации этих идей — именно так он прочитывает тексты русского философа.
Кстати, Карлгрен замечает, что в рассуждениях о марксизме заметно
марксистское прошлое Бердяева, соглашающегося с «частично истинными» идеями ком-
458
мунистического учения. Разумеется, утвердившийся недавно в России
коммунизм привлекает Бердяева как предмет исследования прежде всего, хотя
сделанные им некогда личные наблюдения «нуждаются в освежении и
пополнении». Больше всего его занимает вопрос: «Как случилось, что марксизм
победил в России? Как могли большевики взять власть и удержать ее?» И тут
же следует оговорка: «Можно с самого начала констатировать, что Бердяев
отвечает на этот вопрос весьма многоречиво. Порой ответы на эти вопросы
заводят его слишком далеко, но чаще всего он дает их в том же духе, что в целом
множестве своих крайне запутанных статей и книг, посвященных тому же
предмету».
Нельзя не заметить, как остроумно Карлгрен соединяет марксистскую
историографию («прогнившее самодержавие») с религиозно-философским
подходом Бердяева (революция как «наказание за царские грехи»). И все-таки трезво
мыслящий, прагматичный швед не может не удивляться столь чуждому для
него мировоззрению: «Но, как правило, Бердяев поразительным образом
обходит вклад царского режима в разразившуюся революцию и перекладывает всю
вину за нее на русский народ». Карлгрен полагает, что измученное войной,
вооруженное крестьянство в солдатских шинелях восстало ради
справедливого распределения земли, а Бердяев уверяет, что русский народ отошел от
христианской веры и понес наказание за вероотступничество.
Но у Бердяева есть особенное объяснение и тому, как утрата Бога привела к
революции, и тому, почему она была столь ужасна. С отпадением народа от
Бога царизм был приговорен; царизм мог существовать только благодаря вере
народа. «Авторитет власти всегда ведь держится религиозными верованиями
народа. Когда религиозные верования разлагаются, авторитет власти
колеблется и падает», — утверждает Бердяев (ср. [Бердяев 2002: 265] — Т. М.).
Можно осведомиться, полагает ли он, что, например, и власть Гитлера
основана на религиозной вере немецкого народа, или, кстати, если бы он знал
шведские дела, неужто он и в самом деле подумал бы, что авторитет правительства
Пера Альбина Ханссона25 зиждется на религиозной вере шведского народа?
С падением царизма, по Бердяеву, открылась дорога к хаосу великой и ужасной
русской революции.
Карлгрен подмечает не одно противоречие в концепции Бердяева:
Кстати, любое из заблуждений самого царизма, считавшего, например,
всеобщее образование вредным для народа и тормозящим мирное и счастливое
развитие России, можно обнаружить и у самого Бердяева. Он говорит о
«полуобразовании», которое начало распространяться в России и которое, как он
полагает, ведет к утрате веры; то, что темные русские массы не могут усвоить
25 Hansson Per Albin (1885-1946) — шведский политический и государственный деятель,
председатель Социал-демократической рабочей партии Швеции; премьер-министр с 1932 по
1946 г. Его политика в отношениях с нацистской Германией, весьма выгодная для Швеции,
вызывала неоднозначную реакцию у соотечественников.
459
на начальном этапе ничего, кроме «половинных» знаний, — вопрос о том,
чтобы приохотить русского мужика к высшему образованию, даже не стоит, —
заставляет Бердяева полагать, что подобные полузнания станут катастрофой для
русского народа, — как царизм считал, что лучше бы народу и вовсе оставаться
безграмотным.
Объяснения Бердяевым русской революции, апеллирует ли он к провиден-
циалистским силам, или апокалиптическим, или вообще готов считать
большевиков «непонятной мистической силой», шведскому профессору не кажутся
убедительными. Несколько десятилетий европейские интеллектуалы ищут
объяснений русской революции и большевистскому правлению, и далеко не
всех удовлетворяют умозаключения Бердяева, подобные следующим:
«Большевизм пришел к власти не просто потому, что он был наслан, вроде египетской
чумы, в качестве наказания русскому народу, а потому что он проистекал из
самой греховной и надломленной природы русского народа»; «народ пошел по
ложному пути и создал ложную власть». Эксперт так реферирует
«Размышления о русской революции» H.A. Бердяева (этюд второй в книге «Новое
средневековье»):
По мнению Бердяева, русский народ знать не хочет никакого
конституционного правления, но имеет сильную склонность к самодержавной власти. Вера в
то, что русский народ имеет вкус к деспотии, вера, которую, среди прочего,
высказывала последняя русская императрица, эта вера до невозможности
неверна, напротив, русские люди во все века выражали самое яркое неприятие
российских самодержцев, сменявших друг друга, и страстно желали одного —
разумеется, не установить конституционное правление, и в этом Бердяев,
несомненно, прав, — а получить неограниченную свободу и жить в своей
анархической вольнице. Что оказалось ударом для русского народа, возложившего
на большевизм большие надежды, способствовавшего его победе и не
питавшего ни малейшего сочувствия к самодержавной системе, это что большевики
не только не дадут ему свободу, но ограничат ее даже больше, чем при
самодержавии. Другое дело, что русский народ, с замечательной, отличающей его
характер пассивностью, во все времена преспокойно — хотя и с кулаком в
кармане и проклятьями на устах — жил при самодержавии. Впрочем, это может
объяснить, почему, когда большевистское самодержавие оказалось худшим из
всех, народ не восстал против него; но это никак не объясняет, однако, почему
же Россия стала большевистской. <...>
Русский народ — народ религиозный, и это является основой
рассматриваемой теории Бердяева. При этом нельзя не признать, что грехов у русского
народа не меньше, а то и больше, чем у европейских народов, он, может быть,
менее нравственный и честный, чем прочие. Однако он сосредоточен на
осуществлении Царства Божия, его глаза отведены от земного к небесному, как
наставляет его православная вера. У русских никогда не было живого чувства
привязанности к земным благам, к собственности, семье, государству,
собственным правам, к своему скарбу или к своим привычкам. Если русский и
одержим грехом жадности и корысти, собственность все же никогда не будет
460
для него священной, он не попытается психологически оправдать обладание
материальным добром и не задумается в глубине души, что лучше уйти в
монастырь или взять в руки посох странника, нет, он, скорее, как упомянутый
Бердяевым купец, будет думать, что нажился нечистыми способами (что, без
сомнения, во многих случаях бывало неизбежным) и рано или поздно придется
покаяться. Легкость, с какой имущественные права были отменены в России,
согласно Бердяеву, без затруднений объясняется тем, что русский человек
поразительно равнодушен к земному (ср. [Бердяев 2002: 273-274] — Т. М.).
Русскому человеку вся наша западная секуляризированная культура, вся стройно
упорядоченная цивилизация всегда была противна, и он духовно боролся
против нее, видя в ней нечто унизительное для человека духовного. Вся западная
буржуазная идеология чужда русскому человеку; другими словами, русского
не заставишь быть французским или немецким патриотом.
Карлгрен имеет преимущество перед многими и многими
западноевропейскими читателями Бердяева, в том числе и перед своим соотечественником
А. Нюманом: история России в истолковании русского философа все-таки
остается историей России, и ее основные вехи и ключевые фигуры хорошо известны
ему как слависту. К большинству «тезисов Бердяева» ему хочется «поставить
знак вопроса» или проинтерпретировать их по своему разумению. Так,
«идеализация русского крестьянства» («народа-богоносца, по Достоевскому») была
«во все времена характерна для того класса, к которому принадлежит Бердяев и
который не смогла излечить даже русская революция, показавшая истинное
лицо мужика». Представление об «особой религиозности русского народа,
которое разделяет Бердяев», заставляет Карлгрена усомниться, не была ли эта
религиозность «лишь поверхностным слоем, а души оставались не затронутыми».
Еще меньше доверия у нобелевского эксперта вызывает «великая религиозная
схизма, так называемый раскол», которому Бердяев «придает такой вес»: ни
религии, ни религиозности не было в этом движении, «кардинальным вопросом
которого стала манера креститься — двумя или тремя пальцами», а сам раскол
привел к образованию «самых ужасных сект, где под тончайшей пленкой
религиозности скрывались все виды всяческих мерзостей и отвратительных
предрассудков». Наконец: «Это было народное движение, которое скорее доказало
невероятную суеверность русского народа и его свирепую дикость, нежели его
религиозные склонности». Но аргументом, опровергающим представления
Бердяева о «христианских добродетелях русского народа», стали в глазах
Карлгрена «последние десятилетия», когда «русские крестьяне со свирепой
алчностью набросились на помещиков». И «совершенно забавным» кажется Карлгре-
ну Бердяев, когда «поясняет, что западный патриотизм — который он считает
грехом — не может быть привит русским душам: патриотизм сейчас охватил
всю Россию так, как и не снилось Западу». Написано, напомним, в 1942 г.
У Бердяева — своя Россия, а у нобелевского эксперта — своя, и ему
непременно хочется возразить русскому философу, доказывая прямо
противоположный тезис: лишь по внешности русский человек казался религиозным или даже
461
фанатиком веры, на деле же речь может идти о диких инстинктах или о
преклонении перед атрибутикой. Так, возмущение народа реформами Петра шведский
славист сводит к сакраментальному бритью бород и стремлению «мужиков»
защитить свое право «предстать перед Богом с этим христианским орнаментом».
Напоминая о предшественниках Бердяева — старце Филофее с концепцией
Москвы — Третьего Рима, Достоевском с «благочестивой» идеей
народа-богоносца, — эксперт по России (каким Антон Карлгрен неизменно готов предстать
в роли нобелевского эксперта по русской литературе) договаривается до того,
что в представлениях о «светлом будущем России», о «русском мессианизме»,
о «великой роли России» сквозит «весьма грубая, примитивная
империалистическая подкладка».
Но у русского философа есть не только предшественники, но и
современники: «Из разработок советских марксистов Бердяев усваивает поучительнейшие
и забавнейшие детали», обращая «материалистическую философию в самую
радикальную идеалистическую». Вероятно, в глазах А. Карлгрена идеализм —
нечто до такой степени несовременное и скомпрометированное, что он ставит
в упрек своему соотечественнику, профессору теоретической философии
А. Нюману «подробный реферат» идей Бердяева, которые на самом деле
являются «развитием советской философии».
Когда Бердяев утверждает, что Россия стала большевистской, потому что
русский народ, с присущей ему религиозностью, особенно горячо воспринял
мессианские идеи марксизма, у вас возникает два немаловажных возражения.
Во-первых, это что, так уже теперь достоверно, что русский народ эти идеи
воспринял? В своих доводах Бердяев базируется на этом утверждении как на
факте, даже не затрудняясь доказательствами. В разных контекстах он твердит
о тех чарах, которыми учение марксизма соблазнило русский народ, о
вызванном им энтузиазме, о способности коммунистических идей захватить людские
массы и вовлечь их в грандиозную и непрерывную революционную борьбу. Но
в иных контекстах он уже не так во всем этом уверен. Уже когда он заявляет,
что популярность коммунизма на первом этапе революции можно объяснить,
как он выразился, умением большевиков оболванить народ лозунгом «грабь
награбленное», он тем самым признает, что если толпу и обольстили
марксистские идеи, то в начале революции большевики победили, вовсе не взывая к
чаянию народа построить Царство Божие на земле; так что никак нельзя
объяснить природной склонностью русского народа к марксизму то, как и почему
большевики захватили власть. Или в ином месте, когда он утверждает, что
нельзя отрицать в русской молодежи искренней, самозабвенной
приверженности к коммунизму, отразившейся в том, как она трудится над выполнением
пятилетнего плана, — но если он говорит только о молодежи, то, вероятно, не
столь уверен — и он воистину прав! — в остальном населении. Или вот еще в
одном месте, когда он заявляет, что большевики невыносимы для русского
народа, но люди просто находятся в «большевистском состоянии» (ср. [Бердяев
2002: 269] — Т. М.), любопытное выражение, смысл которого, по общему
признанию, не вполне ясен, но едва ли это может означать, что недоброжелатель-
462
ство по отношению к представителям марксизма может сочетаться с горячей
приверженностью к идеям марксизма. На самом деле нет никаких сомнений,
что подавляющие массы русского народа от души ненавидят не только
большевиков, но и большевизм, и уж во всяком случае не склонностью этих масс
к коммунистическим идеям можно объяснить, почему Россия так увязла в
коммунизме.
Во-вторых, если теперь какая-то часть русского народа приняла марксизм,
то было бы очень опрометчиво, вслед за Бердяевым, полагать, что это
произошло из-за его будто бы религиозной составляющей, — тех элементов, которые
Бердяев считает наиболее привлекательными для религиозных русских душ
(каковыми их считает лишь он сам). <...> Разговоры о мировой революции и
мировом социалистическом рае были заменены программой — и сделал это
Сталин — сосредоточить надежды и силы русского народа на новом
национальном российском здании, которое, по общему признанию, возводилось во
имя социализма, но совершенно ясно, что поставленные цели были
направлены вовсе не на достижение какого-либо земного рая, но на укрепление
процветающей и сильной русской великой державы, во всех возможных
отношениях превосходящей остальной мир. Это большевизму до некоторой степени
удалось благодаря мужеству русского народа, силы которого были
мобилизованы в устремлении к целям едва ли небесным, но прежде всего вполне
земным. В этой концентрированной народной силе большевизм нашел точку
опоры и стал победителем. А мнимая религиозность русского народа не имеет к
этому никакого отношения.
Между тем нобелевскому эксперту вменено не развивать собственные
взгляды, а реферировать сочинения Бердяева. Карлгрену это доставляет тем
большее удовольствие, что, излагая далее теорию Бердяева, как русский народ
«оказался в руках идеологии», подменившей «религию Христа религией
Антихриста», приходится касаться увлекающей его самого феноменологии
российской истории — раскол и раскольники, нигилизм и нигилисты. И тут Карлгрен
обнаруживает, как Бердяев придает знакомым, казалось бы, понятиям
«совершенно новый смысл». Напоминая, что в западноевропейской традиции
«нигилистами» принято называть тех русских революционеров, кто был вовлечен в
непосредственную революционную деятельность, Карлгрен обнаруживает, что
для Бердяева «нигилистами» (попутно шведские академики получают справку
о Тургеневе и «Отцах и детях») оказываются «радикальные писатели с
Белинским во главе, появившиеся задолго до того, как был изобретен сам термин, но
чьи идеи более или менее оплодотворили русское революционное учение».
Именно они «сделали первый шаг на пути, который вел от русской
религиозности к русскому марксизму». При этом, согласно Бердяеву, «нигилисты» XIX в.
представляли собой «новейшее издание раскольников XVII в.», «центрального
явления русской истории». Эксперт несколько иронически дивится тому, как
это из келий в дремучих лесах раскольники вдруг оказались в столичных
кабинетах («психология схизмы», по Бердяеву, «была передана русскому
образованному классу, интеллигенции»), и отмечает, что «нигилисты» — или революцио-
463
неры — унаследовали «бескомпромиссное и неподдельное рвение к истинному
Царству Божию» и с тем же пафосом, но «с большей укорененностью в
окружающей действительности, с большим бесстрашием в своем мышлении и
склонностью к крайним взглядам ринулись на утверждение абсолюта правды в
общественной жизни». Карлгрен согласен с русским философом в типологической
общности «раскольников» и «нигилистов» — их роднит «непреклонная
убежденность в собственной правоте», склонность «доходить до крайностей» в ее
отстаивании, «бесстрашие по отношению к враждебной этой правде
государственной власти», «отказ от других жизненных ценностей», «готовность
уничтожить противника своей правды». «Но это же просто означает, — замечает
нобелевский эксперт, — что присущие русской психике черты проявлялись в
обоих случаях сходным образом». Замечает он и другое: «...когда Бердяев в
качестве доказательства единства религиозного духа, которым
руководствовались и раскольники, и нигилисты, указывает на пропасть, которая отделяла тех
и других от властей предержащих, он даже сам не замечает, что от
доказательства тем самым не остается и следа».
Двигаясь вслед за Бердяевым по пути русского революционного движения и
отметив, что «нигилисты» прониклись религиозным духом, согласно русскому
философу, из сострадания к человечеству, Карлгрен задается вопросом —
обращенным к реферируемому им мыслителю: «Почему же тогда, спросите вы
Бердяева, почему же тогда русскую душу, наполненную сочувствием и любовью
к людям, так привлекло учение вовсе ей незнакомого Карла Маркса?» Потому,
«отвечает Бердяев» (сокращаем пространную тираду), что угнетенные,
победив, сами неизбежно становятся угнетателями: «Победа революции вызвала
глубокую внутреннюю трансформацию души триумфаторов и привела к
воспитанию нового поколения, нового человека, нового "антропологического типа".
Таков, по мнению Бердяева, путь от религиозности раскольников до
современных русских марксистов». И тут, по заключению Карлгрена, Бердяев, до этого
прямо следовавший схеме Гегеля — «раскольники» тезис, «нигилисты»
антитезис, — вдруг отклоняется от нее и вместо синтеза предлагает «нечто новое и
ни с чем не сообразное — русский марксизм»:
Вся эта теория, согласно которой русский марксизм до революции не был
подлинным марксизмом, но оставался девственной психологией нигилизма с его
мнимым человеколюбием и состраданием к страждущим и в соответствии с
которой (теорией) только те элементы, которые пришли после революции,
представляют собой реальный марксизм с его волей к власти, настолько
совершенно беспочвенна, что неясно, как человек, с именем которого связано
распространение марксизма в России, был в состоянии ее произвести. Марксизм
победил в России, потому что провозгласил пролетариат движущей силой и
тем самым мобилизовал русскую революционную энергию, придав силу и
волю до этого малочисленному марксистскому авангарду, который
воспользовался благоприятной экономической ситуацией и, встав во главе масс, взял на
себя ведущую роль в стихийной русской революции, — вот и весь ответ на во-
464
прос, который запутал Бердяева в его сложных теориях. <.. .> Марксизм
мобилизовался и взял власть в процессе революции, преуспев до определенной
степени в привлечении и одушевлении русского народа, в пробуждении его
созидательных сил, которым при царизме никогда не давали возможность
проявиться. Энергия долго связанного народа была выпущена и сфокусирована на
решении огромного, заманчивого дела — дела, которое имело очень мало или
вообще ничего общего с первоначальными социалистическими идеалами, а,
напротив, оказалось чисто национального характера: пятилетка,
национальная индустриализация, национальная оборона.
Марксизм как учение ни при чем, уверен Карлгрен: большевикам удалось
воспользоваться вырвавшейся на свободу почти первобытной энергией
слишком долго угнетенных классов; это могло произойти где угодно и при каком
угодно правлении — дело не в царизме или в большевизме, а в подавляющем
волю и творческие силы народа режиме. Это умозаключение «дезавуирует идею
Бердяева». Реальность (межвоенное строительство советской России)
приходит «в слишком сильное противоречие со всем его прихотливо выстроенным и
весьма мудреным объяснением того, как явился большевизм из недр природной
русской религиозности». Для шведского слависта несомненно другое:
революция пробудила «первобытные» силы русского народа, стимулировала его
энергию, задавленную во времена царизма и во многом разбуженную войной; этой
мощной конструктивной энергией и объясняется энтузиазм пятилеток, но ни с
«конститутивной религиозностью русской души», ни с «изначальными
социалистическими идеалами», ни с «запутанными объяснениями» Бердяева
история большевистской России не имеет, по мнению Карлгрена, ничего общего.
Возникает между тем следующий вопрос: как победить большевизм? Для
Бердяева решительно невозможна контрреволюция в России, реставрация
самодержавия. Но это слишком очевидно, досадует нобелевский эксперт, ведь
о контрреволюции всерьез могли задумываться только самые одиозные
эмигранты, да и то в самом начале 1920-х гг. Ожидаемый путь спасения России от
большевиков, отстаиваемый Бердяевым, — путь религиозного возрождения —
Карлгрена, как и следовало ожидать, разочаровывает. Эксперт поясняет, на чем
основывает свою веру в русский религиозный ренессанс Бердяев — очищение
русской религиозной жизни от лицемерия, церкви — от сращения с
государством, мужество и даже мученичество православных священников в годы
гонений, обращение народа к вере как к неизменной духовной опоре во все времена.
И констатирует: «Иллюзия, вне всякого сомнения». Из страны близкого,
недоброжелательного, но отгороженного своим нейтралитетом от исторической
реальности соседа кажется, что русский народ нимало не протестовал против
преследования священства и веры — как не протестовал и против вторжения
большевиков во все сферы жизни русского человека, и потому ожидать
религиозного возрождения в России не приходится. Во всем мире гуманизм с его
демократическими идеалами гибнет; всемирно-исторической миссией России,
465
по Бердяеву, было поставить мир перед дилеммой: либо братство во имя
Христа, либо царство Антихриста.
Очевидно, что нобелевский эксперт с трудом реферирует эти мысли
Бердяева, настолько невозможными, несвоевременными, прямо невообразимыми
кажутся они ему:
Мир стоит на перекрестке <...> с Христом или с Антихристом <...> только
христианство спасет мир, как во времена распада Римской империи <...>
философия, искусство, государство должны стать религиозными <...>
государство и общество смогут соединиться только на почве веры... Бог должен стать
центром всей нашей жизни, наших мыслей, наших чувств. Бог должен быть
нашей единственной надеждой. Духовным центром в новую эру должна, как и
в средневековье, стать Церковь.
Это визионерство Бердяева не заслуживает критики: она лишь склоняет
голову в почтительном молчании. Но затем он идет дальше, и когда он, как
социальный реформатор, подробно описывает новое общество, которое будет
построено в так называемом новом средневековье, то трудно оказать ему то же
почтение. Тогда не остается ничего другого, как безо всякого почтения
покачать головой.
Разумеется, прежде всего шведского профессора сильно смущает
«ненависть» Бердяева к демократии, но в целом он совершенно, перестает
воспринимать серьезно изумившие его идеи русского философа, словно приглашая
нобелевский ареопаг посмеяться над наивными фантазиями:
Характерной чертой нового средневековья будет пристрастие к оккультным
наукам. Собственно наука вернется к своим истокам в магии, а вслед за тем
раскроется и волшебная природа техники. В свою очередь религия и наука
начнут подменять друг друга, а затем явится потребность в новом познании. Мы
возвращаемся в столь чуждую в еще недавнее время атмосферу чудес, когда
снова возможной становится белая и черная магия.
Но разве не имел Бердяев оснований для подобных утверждений, если в
Третьем рейхе при нацизме расцвел оккультизм, создавались организации
вроде полумифической «Ahnenerbe» («Наследие предков») и формировались
экспедиции на поиски легендарной Шамбалы? И разве не подтверждает
прозорливости H.A. Бердяева следующий пассаж:
Характерным для нового общества является то, что женщины там будут играть
более активную роль, чем раньше. Исключительно мужская культура
истощила себя в Первой мировой войне; женщине, которая более сокровенно
соединена с мировой душой, чем мужчина, и, как недавно было показано, находится на
более высоком уровне, чем он, отведена особенно большая роль в современном
религиозном пробуждении. Женщина приобретает все большее значение в
новую эру, что, однако, не имеет ничего общего с современным движением
женской эмансипации, которое хочет уравнять мужчину и женщину, — это
антииерархическое, уравнивающее движение, которое отрицает вечную
женственность. <...> Женское начало, освобожденное не затем, чтобы заступить
466
место мужчины, но в своей вечно женственной ипостаси в наступающем
историческом периоде будет более значительным.
На этом эксперт полагает завершенным «обзор основной части трудов
Бердяева; все прочее, им опубликованное, представляет меньший интерес. Это
пара монографий. Одна о Достоевском, другая о своеобычном русском писателе
прошлого столетия <Константине> Леонтьеве», хотя имя этого «безвестного»
и, в «пору русской реакции, сверхреакционно мыслящего» писателя
«целесообразнее было бы оставить в полнейшем забвении». Наконец, в заключение
А. Карлгрен объявляет, что он не берется «измерить значение» трудов,
вышедших из-под пера русского философа, который «в современной русской
философии ни в коей мере не считается звездой первой величины, уступая гораздо
более значительным именам. Что же до его трудов, затрагивающих актуальные
проблемы современности, то эти труды, которые, в сущности, и прославили его
имя и были сочтены заслуживающими Нобелевской премии, я не могу назвать
иначе как откровенно бессмысленными».
Так заканчивается очередной, отделенный звездочками раздел «реферата
с претензиями», который представил шведским академикам эксперт-славист.
Но он продолжает свой очерк о Бердяеве — большая его часть еще впереди.
Следующий раздел посвящен работам H.A. Бердяева 1920-1930-х гг., звучащим
«обвинительным актом современности» и объединенным темой «нового
средневековья». Речь и идет о книге 1924 г. «Новое средневековье (Размышление о
судьбе России)». Карлгрен указывает:
Поскольку марксизм относится к тем явлениям, которые Бердяев считает
особенно показательными для нового средневековья, то он и рассматривает
особенно подробно большевизм, его особые условия, его отличительные
особенности, его перспективы. Эта работа Бердяева, прочая продукция которого
оказалась интересной лишь весьма узкой части западноевропейской публики,
привлекла едва ли не всеобщее внимание. К пророческим воплям о последних
днях нашей европейской культуры, переживающей закат, мир еще недавно
прислушивался неохотно, и тот поворот, который придал теме Бердяев,
обеспечил, безусловно, немалый интерес. Его исследование большевизма,
очевидно, заинтересует осмыслением проблем, принесенных большевистской
революцией и большевистским режимом, в более глубокой перспективе, чем их
принято рассматривать, к тому же исследование это проведено человеком,
у которого, как считается, были особые условия, чтобы проникнуть в истину
и засвидетельствовать ее.
Выгодно отличаясь, как непосредственный очевидец событий, от
«политических туристов» (явная аллюзия на европейских литераторов, посещавших
Советский Союз), Бердяев вдохновил «среди прочих», считает Карлгрен, и
профессора Альфа Нюмана в его книге «Нацизм, цезаризм, большевизм».
Сам Антон Карлгрен только что подготовил к изданию внушительную
монографию «Сталин» с подзаголовком «Путь большевизма от ленинизма к ста-
467
линизму», т. е. обратился к тем же вопросам «большевистской революции» и ее
исторической перспективы; и русский эмигрант Бердяев, и соотечественник
Нюман выступают, тем самым, как его конкуренты. Лундский профессор,
впрочем, не оппонирует Бердяеву, а является его сторонником: «Нюман указывает
на то, что ввиду сильно расходящихся представлений о большевизме,
разнонаправленных и заведомо односторонних, стоит "прислушаться к русскому
мыслителю, рядом с которым в его стране произошел политический обвал и
который свободен от подозрений, что он лазутчик рухнувшей царской
системы"». Приведя, в сущности, не вызывающее возражений мнение А. Нюмана,
выдвинувшего русского мыслителя на Нобелевскую премию, А. Карлгрен
обращается к разбору еще нескольких трудов H.A. Бердяева — причем не приводит
ни одного названия, это просто «другие работы». Судя по содержанию
дальнейшего реферата, к рассмотрению была привлечена книга «Истоки и смысл
русского коммунизма» (1938)26. Замечательно, однако, что Карлгрен словно
заражается дискурсивными пороками Бердяева — невозможно определить то место
в его тексте, где он от рассмотрения одной работы русского философа
обращается к другой; сам он начало обзора нового труда никак не помечает, а потом столь
же неожиданно вновь возвращается к «Новому средневековью».
Поскольку реферат представляет особый интерес с точки зрения
восприятия философских идей H.A. Бердяева в европейской интеллектуальной среде и
еще более важен в ракурсе влияния их на шведскую гуманитарную
интеллигенцию, то его следовало бы рассматривать специально в этом контексте. Мы же
ограничимся только теми высказываниями А. Карлгрена из оставшейся,
большей части его очерка, которые непосредственно относятся к выдвижению
русского философа на Нобелевскую премию. В обстоятельном обзоре «Нового
средневековья» Карлгрен позволяет себе полемику с А. Нюманом,
номинировавшим Бердяева на премию. Замечательно при этом, что Нюман —
профессиональный философ, историк философии, углубленно занимавшийся также
проблемами психологии и эстетики, а Карлгрен — филолог по образованию (его
диссертационная работа носила чисто лингвистический характер, а затем его
увлекли журналистика и политология). Но Карлгрен — славист, претендующий
на знание и понимание русской истории; именно исторические аспекты и их
истолкование прежде всего занимают его в работах Бердяева — эксперт
реферирует их, чтобы оспорить.
26 Название этой книги в списке А. Нюмана приведено по-шведски, причем оговорено: «нет
по-русски, но издано на английском, немецком и французском языках». Если вспомнить
вступление к экспертному очерку, то там Карлгрен сетует, что какие-то работы ему не удалось
достать по-русски, а лишь в переводах. Речь могла идти и об этой книге, впервые опубликованной
в переводах: Berdiajew Nikolai. Sinn und Schicksal des russischen Kommunismus: ein Beitrag zur
Psychologie und Soziologie des russischen Kommunismus / Deutsch hrsg. v. I. (Eusebius) Schor. Luzern,
1938; Berdyaev N The Origin of Russian Communism / transi, from Russian by R.M. French. Glasgow,
1937. Русский оригинал впервые увидел свет уже после войны и после кончины философа:
Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955.
468
Нарочито или невольно, Карлгрен демонстрирует свое владение
историческим материалом и русским языком, вводя русские слова в свой реферативный
дискурс. А когда он изобретает сложное шведское слово, разве может оно
равноценно отразить русское понятие «самотек», тот «стихийный»,
нерегулируемый процесс, который имеет в виду Бердяев, цитируя в свою очередь
Плеханова, полагавшего, что именно «самотеком» из сознания просвещенных
революционных масс «уйдет» религия? И, раз объяснив значение введенного
им русского слова, Карлгрен активно оперирует им — слово «самотек» в его
тексте встречается чаще, чем у Бердяева, употребившего это понятие один-
единственный раз27. Помещая свои комментарии в скобках после
процитированного утверждения Бердяева, шведский славист превращает их в подробное
объяснение того или иного феномена. Так, объясняя, из кого рекрутировались
в России XIX в. бунтовщики, эксперт указывает на большой процент среди них
«сыновей священников»: семинарии «с их монастырским укладом и
казарменной дисциплиной» превращались в «питомники, где возрастали будущие
революционеры».
Карлгрен подробно, на нескольких страницах, разбирает тезисы Бердяева
относительно истоков большевизма и его связи с религиозностью русского
народа, отпадением от веры и наказанием за грехи. Утверждение Бердяевым
«коммунистической религии, которую он не только изобрел, но и отстаивает со
всей страстностью», проанализировано экспертом для того, чтобы указать, что
профессор Нюман в своей работе «Нацизм, цезаризм, большевизм»,
упомянутой в письме-номинации, «в этом пункте совершенно не понял Бердяева».
Карлгрен цитирует Нюмана, обнаружившего у высоко ценимого им русского
философа «противоречие»: с одной стороны, Бердяев «гвоздями прибивает к
позорному столбу коммунизм как конечное следствие религиозно
нейтральных, отживших идей гуманизма», с другой стороны — «подчеркивает, что
русский менталитет всегда поглощал эти самые идеи и пропитывался ими до
самых сокровенных глубин своей неукротимой души». «Ясно, — продолжается
цитата из А. Нюмана, — что оба эти воззрения не позволяют сложить
целостную картину эпохи». Карлгрен словно разъясняет для своего соотечественника
и невольного оппонента в «бердяевоведении», что противоречия в
действительности нет, поскольку коммунизм с его дегуманизацией как раз
противостоит глубинной религиозности русского народа: «Верно ли это по существу, —
замечает нобелевский эксперт в скобках, — это совсем другая история».
27 «Религия исчезнет сама собой, "самотеком", без страстной борьбы, связанной с насилием.
Для Плеханова это был прежде всего вопрос изменения сознания, т. е. вопрос научный и
философский. Ленинисты противополагают этому революционную классовую борьбу против
религии, борьбу, неизбежно переходящую в гонение. <...> Всякая другая точка зрения на религию
признается буржуазной. Лишь ортодоксальный диалектический материализм дает единственно
верное понимание сущности всякой религии. <.. .> Сочинения Ленина — священное писание, а в
священном писании все вообще вопросы должны быть предрешены» [Бердяев 1990а: 132-133].
469
Так, шаг за шагом, т. е. выдвигая свой антитезис на едва ли не каждый
(задевающий, настораживающий его или прямо кажущийся неверным) тезис
Бердяева, Карлгрен завершает свой многостраничный обзор, постепенно подменяя
порученное ему рассмотрение сочинений русского философа и даже полемику
с ним собственным разъяснением особенностей русского менталитета и
русской истории. Шведский славист с удивлением обнаруживает, что Бердяев, со
всеми своими идеями «коммунизма как религии», вполне смыкается с
«советской философией, делая из нее весьма поучительные и порой забавные
выводы». Впрочем, для Карлгрена не составляет труда убедиться: если следуешь за
мыслью Бердяева, то обнаруживаешь, что «речь идет уже вовсе не о марксизме,
а об особой разновидности в высшей степени радикального идеализма»:
«Подробный обзор этого описанного Бердяевым развития советской философии
содержится в упомянутом труде Нюмана, к которому я в этом пункте и
отсылаю». Что касается собственно русской истории и — отчасти — истории
русской литературы (в частности, в истолковании нигилизма), тут Карлгрен
чувствует себя совершенно в своей стихии. Он легко погружается не только в XIX,
но и в XVII в., чтобы пополемизировать с Бердяевым относительно подлинного
смысла русского церковного раскола и его влияния на общественно-духовную
русскую жизнь последующих столетий28. Соглашаясь с русским философом (он
«несомненно прав») в том, что раскольники имели ряд общих черт с
революционерами XIX в., Карлгрен не склонен согласиться не только с
историософской концепцией Бердяева, стройно соединившей раскольничество («этап
раскольников-нигилистов», иронизирует эксперт), нигилизм (собственно
«нигилистов» Карлгрен считает лучше всего изображенными в «Бесах»
Достоевского) и большевизм («этап нигилистов-большевиков»), но и — в еще меньшей
степени — с его объяснениями «истоков коммунизма» в России и
большевистского правления как реализации теории и практики нигилизма.
Из прочих тем, волновавших H.A. Бердяева в 1920-1930-е гг., Карлгрен
выбирает и ему самому наиболее интересную — «Как может быть побежден
большевизм и что за этим последует?». Вопросы политические, контрреволюция
28 Замечательно, что советскому писателю-коммунисту Константину Федину приходит в
голову то же сопоставление — фанатизма большевиков с фанатизмом раскольников. Кирилл
Извеков, один из героев романа «Костер» (1961), вспоминая Гражданскую войну, когда он, красный
комиссар, столкнулся со староверами и с монахом-отшельником, говорит: «Это меня изумило: до
чего стоек старик! Такой не поддастся, не уступит... <.. .> Мне подумалось, что мы — тоже ни за
что не поддадимся, не уступим! Подумалось, что мы крепки своими убеждениями не меньше, а
больше, чем старик своей верой. И что не только он нас не пересилит, но и все, кто с ним, сколько
бы их ни было и сколько бы ни изумляли своим упорством, — не перетянут нас никогда!..»
Старый коммунист Рагозин неприятно поражен: «Ты, что же, убеждения коммунизма со старой
верой сравниваешь? С религией? — Кирилла даже отшатнуло в сторону от удивления. — Крепость
приверженности сравниваю, — воскликнул он. — Стойкость сравниваю, упорство! Шли ведь
когда-то раскольники в огонь за свою веру. Разве мы отступаем перед огнем, защищая свои
убеждения?» Но Рагозин, совсем как скандинавский профессор, упорствует, доказывая
несопоставимость явлений: «Наша стойкость иного источника и совсем иных целей» [Федин 1971: 236-237].
470
или реставрация прежнего режима, впрочем, очевидно невозможные, не
занимают русского философа: «Христос или Антихрист — вот на какой вопрос,
согласно Бердяеву, должен дать ответ русский народ <...>. Эпохе гуманизма с ее
демократическими идеалами во всем мире пришел конец; дорогу, лежащую
сейчас перед миром, показал русский пример. Он показал, что, если не осуществить
братства во Христе, то установится сообщество во имя Антихриста. Мир стоит
на распутье». Работы Бердяева 1930-х гг., охваченные одной мыслью
(«Философии, искусства, государства, общественная жизнь должны стать
религиозными»), «заметно слабее», по мнению А. Карлгрена, сочинений 1920-х гг. В
попытке историософского соединения «религиозности русского народа» и
атеистических идей нигилизма шведский славист видит какой-то невероятный
интеллектуальный оксюморон, высказывая наконец прямо, что все построения
Бердяева настолько «целиком сотканы из воздуха, что диву даешься, как мог
человек, стоявший у истоков русского марксизма, вообще до них додуматься».
Со времени написания этого очерка прошло почти три четверти века.
Религиозно-философское, историософское наследие H.A. Бердяева продолжает
вызывать неподдельный интерес, остается предметом горячих споров и научных
исследований. Работа Антона Карлгрена, предназначенная для служебного
пользования в недрах Шведской академии, никогда не была опубликована;
кстати, она и не была написана с расчетом на печать, чем и объясняется резкая
субъективность высказанных в ней суждений.
На вердикт Нобелевского комитета в 1942 г. мнение эксперта-слависта
повлияло самым решительным образом. О кандидатуре Николая Бердяева,
замыкавшего список номинаций, было записано, что экспертное заключение еще не
готово, но в скором времени ожидается — не удивительно, ведь эксперту
пришлось прочитать несколько философских книг и отреферировать их на
нескольких десятках страниц! «Согласно краткому заключению эксперта, —
сказано в финальном протоколе Нобелевского комитета, — он охарактеризовал
кандидатуру как "совершенно безнадежную". Комитет не в состоянии дать
собственное мнение об этом предложении» [Nobelpriset i litteratur, II: 331].
Хотя Нобелевский комитет работал в соответствии с четко заведенным
порядком, принимая номинации, заказывая экспертам обзоры творчества
кандидатов на премию и занося в протокол их финальное обсуждение, но пять лет
в течение Второй мировой войны, с 1940 по 1944 г., премию не присуждали.
В 1943 г. в протокол было занесено следующее: «Это предложение не
обсуждалось в прошлом году, так как из-за почтовых проволочек экспертное
заключение не поспело к заседанию Комитета. Однако вскоре оно поступило и
содержало весьма подробную и основательную критику философии Бердяева,
кульминацией которой стало отрицание ее <философии> значения и важности.
Комитет выражает в этом году свой отказ от этой кандидатуры» [Ibid.: 338]. В
1944 г. о кандидатуре русского философа в протоколе Нобелевского комитета
сказано, что она отвергнута уже дважды на основании «разгромного» эксперт-
471
ного заключения, и это решение не подлежит пересмотру [Ibid.: 347]. В 1945 г.
комитет, как и прежде, находит нецелесообразным рассмотрение этой
кандидатуры [Nobelpriset i litteratur, II: 354]. В 1946 г. о кандидатуре Бердяева записано
уже на первой странице протокола следующее: «С 1942 г. наличествует
подробный разбор русского философа Антоном Карлгреном, который приходит к его
решительному отклонению. Комитет присоединился к этой позиции эксперта и
позже повторил свое отклонение кандидатуры Бердяевах Он придерживается
его и сейчас» [Ibid.: 361]. В. 1947 г. кандидатур становится вдвое больше, в
списке, где вновь значится Бердяев, появляются новые имена русских писателей.
В истории присуждения Нобелевской премии по литературе начинается новая
глава, поскольку основными претендентами на премию становятся советские
писатели. H.A. Бердяева отвергли в двух строках, сославшись на критический
отзыв эксперта и на принятое прежде отрицательное решение [Ibid.: 374].
Между тем в послевоенном прибавлении к «Самопознанию» H.A. Бердяев
заметил: «В ныне кончившемся 1945 г. очень возросла моя известность. Меня
начали ценить гораздо больше, чем раньше. Я постоянно слышу, что у меня
"мировое имя". Ко мне постоянно приезжают иностранцы, я получаю
неисчислимое количество писем. <...> К моему удивлению, я стал очень почитаемым,
почтенным, значит, уже солидным, почти что учителем жизни, руководящим
умом. Это совершенно не соответствует моему самочувствию. Я <...> лишь
искатель истины и правды, бунтарь, экзистенциальный философ, понимая под
этим напряженную экзистенциальность самого философа, но не учитель, не
педагог, не руководитель. Моя возрастающая известность давала мне мало
радости жизни, мало счастья, в которое я вообще мало верю. Я очень мало
честолюбив» [Бердяев 1949: 365]. Но если всемирная известность не приносила особой
радости, то была причина и для горьких сожалений: «Я очень известен в Европе
и Америке, даже в Азии и Австралии, переведен на много языков, обо мне
много писали. Есть только одна страна, в которой меня почти не знают, — это моя
родина» [Там же: 364].
В 1948 г. русский философ, выдвинутый на премию своим неизменным
предстоятелем перед Нобелевским комитетом, скончался, что и было
зафиксировано в финальном протоколе [Nobelpriset i litteratur, II: 390].
Суммируя впечатления от одной из послевоенных международных «встреч»
интеллектуалов, ужаснувшись маргинализации «духовности» в мире,
элементарности мыслей и слов, Бердяев констатировал: «Я опять остро
почувствовал, до какой степени я одиночка. <...> Я обращен к векам грядущим...»
[Бердяев 1949: 374].
Глава 11
Борис Леонидович
ПАСТЕРНАК
Одно из первых соприкосновений семьи Пастернак с Нобелевской премией
по литературе относится к 1933 г. Вся русская эмиграция праздновала тогда
«зимнюю пасху», как выразилась одна из корреспонденток И.А. Бунина: за
исключением нескольких литературных завистников, торжества по случаю
присуждения премии русскому писателю справляло все русское зарубежье
[Марченко 2007:405-433]. Из Берлина, еще не ставшего страшным жупелом для всей
Европы, едва узнав из газет имя нового лауреата, мгновенно откликается
«наисердечнейшими поздравлениями с радостным и заслуженным всемирным
успехом» и «одновременным триумфом истинного искусства» Л.О. Пастернак (РАЛ.
MS. 1066/4546). Четверть века отделяло сына художника, поэта Бориса
Пастернака от подобного «всемирного успеха».
Советская пресса в 1933 г. проскрежетала в адрес Бунина нечто отнюдь не
приветственное. «Литературная газета» отдала дань известной риторике,
которую сам лауреат называл, не обинуясь, «большевистским жаргоном» и
«употреблением с якобы ядовитейшей иронией высокого стиля» [Бунин 1990: 28]
(запись от 22.04.1919). Однако за камуфляжем оперно-злодейского стиля
проступала краткая, но важная информация о первом присуждении литературной
Нобелевской премии русскому писателю:
Факт этот ни в какой степени не является неожиданностью для тех, кто
пристально присматривался в течение последнего времени к подозрительной
возне в литературном болоте эмиграции. Возня эта особенно усилилась с тех пор,
как в 1932 году был пущен слух, что очередная премия по литературе будет
отдана... Максиму Горькому. Наивные Митрофанушки всерьез поверили, что
буржуазная академия, для которой даже Л. Толстой оказался в свое время
слишком страшным радикалом, увенчает нобелевскими «лаврами»
пролетарского писателя, беспощадно разоблачающего ложь и гниль
капиталистического строя и призывающего массы под знамена ленинизма!
В противовес кандидатуре Горького, которого никто и никогда не
выдвигал, да и не мог в буржуазных условиях выдвинуть, белогвардейский Олимп
выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру матерого волка контрреволюции
Бунина, чье творчество, особенно последнего времени, насыщенное мотивами
смерти, распада, обреченности в обстановке катастрофического мирового
кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев
(Литературная газета, 29.11.1933, № 55 (310), с. 5).
473
Казалось, послевоенный мир изменился.
Однако судьбы поэтов в России типологически неизменны.
И неизменна вера журналистов и, как ни печально, исследователей в
существование некоего черно-белого мира, где воистину библейские ангелы в
сверкающих белых одеждах ниспровергают отвратительных бесов с рогами и
хвостами1. В Советском Союзе не могли представить, что есть
западноевропейские ценители творчества М. Горького, которые считают его достойным
главной международной награды по литературе; в современном мире, где тексты
изданы, а архивы открыты, вызывает недоверие сама возможность увенчания
М. Шолохова за «Тихий Дон», который шведы, без малейшего вмешательства
СССР, несколько десятилетий на страницах солиднейших, респектабельных и
вполне «буржуазных» газет именовали исключительно великим романом.
После драматических коллизий нобелиады Б.Л. Пастернака появилась странная
вера во всемогущество Советского Союза и ее руководителя Н.С. Хрущева, все
в том же злодейско-оперном стиле: стукнул ботинком по трибуне — и
Нобелевскую премию мигом вручили кому следует. А еще через пять лет (присуждение
Нобелевской премии А.И. Солженицыну) ботинок советского лидера вдруг
утратил свою чудодейственную силу... Да и за несколько лет до этого —
присуждение премии Б.Л. Пастернаку — тоже не действовал.
История с выдвижением поэта на Нобелевскую премию поначалу шла
заведенным порядком (ср. первую публикацию на эту тему: [Марченко 2007: 580-
581])2.
В 1946 г. Б.Л. Пастернак был номинирован авторитетным профессором
античной литературы Сесилом Баурой3 из Оксфорда — где, кстати, жили обе
1 Подобные метафоры невольно появлялись на страницах нобелевских экспертиз, причем
речь могла идти как о советских писателях, так и об эмигрантских (см., например, главы о
П.Н. Краснове и М.А. Шолохове).
2 В книге «Борис Пастернак и Нобелевская премия» Л. Флейшман большее внимание
уделяет обстоятельствам публикации «Доктора Живаго» и еще большее — рецепции поэзии и
романа Пастернака, самой его фигуры в интеллектуально-литературном пространстве русской
эмиграции двух волн и в англоязычной критике [Флейшман 2013]. Собственно о Нобелевской
премии речь идет в двух совместных статьях: М. Юнггрена и Л. Флейшмана «На пути к Нобелевской
награде (СМ. Баура, Н.О. Нильссон, Пастернак)» [Там же: 503-560] и Л. Флейшмана и Б. Янг-
фельдта «Борис Пастернак в кругу нобелевских финалистов» [Там же: 561-615]. Отсылаем
читателей к этому обстоятельному труду, где собрано большое количество материалов из архивов и
периодики.
3 Английский литературовед Сесил Морис Баура (Bowra, Sir; 1898-1971) — один из
крупнейших в XX в. филологов-классиков, академическая карьера которого связана с Оксфордским
университетом (с 1938 по 1970 г.). С. Баура несколько раз (1909,1914) проехал через всю Россию (его
отец работал в Китае, где будущий ученый родился), а в сентябре 1914 г. провел несколько недель
в Петрограде, где овладел азами русского языка. СМ. Боура был личностью, примечательной в
разных аспектах (например, он славился своим интеллектуальным остроумием, особой
разновидностью английского юмора — wit); иногда его убеждения способствовали карьере (резкое
неприятие нацизма), иногда противодействовали ей — он не скрывал своей гомосексуальной
ориентации, придумывая ей разные названия (Гоминтерн по аналогии с Коминтерном или «Амо-
474
сестры поэта, занимаясь переводами его стихов на английский язык. Переводил
его весьма успешно и сам номинатор, хорошо известный своим интересом к
русской поэзии, к русской философии (см., например: [Davidson 2006]). В
восторженном послевоенном письме к английскому переводчику своих стихов
Б. Пастернак постарался отмежеваться от своих современников — советских
писателей — в самой нелицеприятной форме: перечислив ряд имен
(«покойные» А.Н. Толстой и М. Горький «и теперь Леонов»), Пастернак называет их
«небольшими людьми, неуважавшими (sic! — T. M.) себя».
С них начался тот сервилизм и то тупоумие, которые утверждали потом в виде
тона, обязательного для всех. Я никого их (sic! — T. M.) ни в грош не ставлю<,>
и мне бывает больно стоять рядом с ними. Но, к счастью, никому не придет
в голову сближать нас: это слишком великая «честь» для меня [Davidson
2009а: 72].
Сесил Баура адресуется в Нобелевский комитет не по сугубо личному
вдохновению: зная, как инертна просвещенная элита, незнакомая с самыми
простыми правилами выдвижения на знаменитую премию, и получая ежегодно
сотни — в послевоенные годы счет пошел уже на тысячи — обращений в
поддержку самых маргинальных литераторов со всего мира, Шведская академия
заранее рассылает письма в университеты и академии, адресуется к
нобелевским лауреатам предыдущих лет, к авторитетным ученым-филологам,
подталкивая их к выдвижению достойных авторов на Нобелевскую премию. Вот и
С. Баура начинает свое послание, датированное 9 января 1946 г., так: «Господа,
вы оказали мне большую честь, предложив выдвинуть кандидатуру на
Нобелевскую премию по литературе, и я настоятельно рекомендую вам русского
поэта Бориса Пастернака». Стихотворные сборники Пастернака названы Баурой
по-русски (хотя и латиницей) — «Сестра моя жизнь», «Темы и вариации» и «На
ранних поездах».
Эта поэзия — безупречного качества, и в ней нет ни единой уступки ни
теперешней моде, ни — что куда труднее в России — политическим запросам.
У Пастернака строгая классическая форма обретает изумительно
современную форму, в которой его непревзойденная восприимчивость претворяется в
ошеломляюще живые, великолепные слова. Эта поэзия необычайно
оригинальна в своих образах, в своем почти пантеистическом видении мира, в своей
интенсивной насыщенности и в отсутствии всего, что не принадлежит чистой
поэзии. Пастернак — один из очень немногих современных поэтов, кому
удалось передать современный образ мыслей, не порывая с прошлым, не впадая в
отталкивающее уродство. Он смотрит на жизнь благородно, творчески,
оставляя человеку его место в природе и отдавая природе дань более значительную,
ральный фронт»). Страстная любовь почетного доктора почти десятка европейских и
американских университетов к поэзии оказалась сугубо научной, его собственные стихи всерьез никогда
не воспринимались. Сохранилось четыре письма Б. Пастернака СМ. Бауре (1945, 1946 и два
1956 г.); они опубликованы Памелой Дэвидсон [Davidson 2009a]. Об отношении С. Бауры к
поэзии и личности Б. Пастернака см. также: [Davidson 20096].
475
чем просто фон или сцена. Он показывает, как силы природы воздействуют на
человека и преобразуют его. Даже когда он пишет на политические темы, он
сохраняет лирическую чистоту и превращает политические представления во
что-то личное, живое, движущееся, образное. По соображениям
политическим он не признан официально великим поэтом России, но я уверен, что лет
через пятьдесят или сто станет ясно, что он ведущий поэт своего времени. По-
своему, оставаясь чутким к современности, он продолжает классическое
искусство Пушкина, и каждое слово его полновесно и значимо. Я уверен, что он
вполне заслуживает Нобелевской премии.
Номинация Пастернака была принята к рассмотрению, т. е. эксперту по
славянским литературам профессору Антону Карлгрену было поручено составить
ознакомительный очерк о поэте. Однако в 1946 г. в заключительном протоколе
Нобелевского комитета было констатировано: из-за отсутствия экспертного
очерка обсуждение кандидатуры Пастернака переносится на следующий год
[Nobelpriset i litteratur, II: 362]. Ни имени, ни творчества Бориса Пастернака
шведские академики не знали; tabula rasa оказалось творчество Пастернака и
для эксперта — вот почему он так задержался со своим «заключением» и не
представил его вовремя. Без профессионально выполненных переводов и
критических откликов в прессе даже самый прославленный на родине гений
оказывается незнакомцем для зарубежных читателей. Незадолго до войны, сообщив
в литературной панораме, что «Россия читает стихи куда больше, чем романы»,
обозреватель заметил: «Лучший современный русский поэт носит немного
забавное для шведского уха имя Пастернак, но его должно радовать, что тираж
его книги в 20.000 экземпляров разошелся в несколько дней» (Svenska dagbladet
[далее SD], 04.10.1936, s. 30). О сборнике «Букет русской лирики», в котором уже
через несколько лет после окончания войны были напечатаны поэтические
перлы «от Пушкина до Маяковского и Пастернака»4, рецензент заметил: «Русская
поэзия просачивается в шведскую литературу по каплям» (SD, 10.12.1953, s. 28).
Однако стихи и отрывки из поэм Б. Пастернака и до этого уже были включены
в некоторые поэтические антологии (19395, 19456 и 19507 гг.), так что имя его,
вероятно, самым продвинутым читателям «забавным» уже не казалось.
Впрочем, до появления в прессе в 1957 г. интригующих объявлений о предстоящем
выходе в свет романа Б. Пастернака говорить не только о славе, но даже об
известности поэта в Швеции не приходится.
4 En bukett rysk lyrik. Valda av J. Edfeldt. Stockholm, 1953. В этот «букет» было вплетено два
стихотворения Б. Пастернака, «Воробьевы горы» (пер. Н.О. Нильссона) и «Сложа весла» (пер.
Р. Линдквиста).
5 Rysk lyrik. Ett urval frân Pusjkin till Pasternak av Nils Àke Nilsson. Stockholm, 1939.
6 Under rod himmel. Nyryska dikter i urval. Helsingfors, 1945. В этот томик вошло 4
стихотворения в переводе Р. Линдквиста, а во второе издание (1947) — уже 10.
7 Rysk lyrik. Stockholm, 1950. Н.О. Нильссон перевел для этого издания два стихотворения и
отрывки из «Лейтенанта Шмидта», но позже перевел большое число поэтических и прозаических
текстов Б.Л. Пастернака для разных изданий.
476
Только в июне 1947 г. эксперт завершил подробный очерк поэзии Бориса
Пастернака. «Доктор Живаго» еще не написан, и профессор Карлгрен пытается
сложить целостное представление о лирике живущего в СССР, но совсем не
«советского» поэта по доступным ему текстам на русском, немецком, английском
и шведском языках. Свое экспертное заключение А. Карлгрен начинает со
следующего заявления:
Борис Пастернак, первый советский писатель, выдвинутый на Нобелевскую
премию по литературе, занимает совершенно особое положение в
современной русской литературе: среди современных русских писателей он является,
безусловно, наиболее выдающимся, тогда как для среднего читателя —
наименее доступным (понятным), а для русской литературы — в ее нынешнем
виде — наименее характерным.
Более того, в послевоенной Европе все, что так или иначе пишется о
Пастернаке, лишь перепевает, по мнению А. Карлгрена, суждения и цитаты Д.П. Свя-
тополк-Мирского из его книги «Современная русская литература» 1926 года
[Mirskij 1926]8 — а им сказано не так уж много, по его собственному
признанию9.
Пишущему о Пастернаке, объясняет свою миссию нобелевскому ареопагу
Карлгрен, приходится выступать в роли некоего чичероне, без приглашения
лезущего в поэтический мир. Между прочим, Карлгрен находит союзника в
критике и журналисте Стефане Шиманском, который в предисловии к изданию
«Избранная проза» Б. Пастернака пытается представить его англосаксонскому
читателю [Pasternak 1945]. Английский критик пишет о «темных» местах у
Пастернака, из которых, собственно, и состоит его поэзия, и замечает, что
читатель в кажущейся поэтической невнятице должен винить не поэта, а самого
себя — поскольку не может в этой «темноте» разобраться. Сам Карлгрен
вспоминает «старый рецепт» и цитирует влиятельного английского критика XVIII в.
Сэмюэла Джонсона: «Непонятые строки следует перечитать заново» (If lines are
not easily understood, they can be read again).
Очерк Карлгрена, которому предпосланы две страницы предварительных
замечаний о невозможности написания подобного очерка, традиционно
начинается с биографии поэта, и эти биографические подробности сейчас, спустя
семь десятилетий, можно опустить ввиду их всеобщей известности. Шведский
славист неизменно поражается способности Бориса Пастернака оставаться чи-
8 Во втором томе «Истории русской литературы с древнейших времен по 1925 год» Д.М. Свя-
тополк-Мирского — «Современная русская литература» — очерк «Пастернак» включен в главу
VI, посвященную русской поэзии пред- и послереволюционной эпохи.
9 Ср. замечание А. Сергеевой-Клятис [2013] о Д.П. Святополк-Мирском, «скрупулезно
отслеживающем все последние публикации Пастернака в советской России» и полагавшем, что его
стихи войдут в «историю литературы» как продолжение «традиции одиноких» и «творческое
завершение "традиции русской жертвенной революционности"»: «Все узлы дореволюционной
русской традиции сошлись теперь в поэте, который исходная точка всех будущих русских
традиций» [Святополк-Мирский 1928: 154].
477
стым лириком в государстве, где поэзия используется пропагандистским
аппаратом в своих целях. Вероятно, предполагает Карлгрен, «пресс давит и
Пастернака», но тогда поэт предпочитает вовсе замолчать, чем «петь под чужую дудку».
Как Карлгрен и предупреждал — в своем разборе он не оригинален и
начинает его с поэтических воспоминаний Пастернака («Мне четырнадцать лет.
Вхутемас еще Школа ваянья...»). Стихи приведены в шведском переводе, почти
буквальном — благо стихи белые. Как переведен Вхутемас? Не переведен, а
передан латиницей — как и рабфак: примечаний буквально к каждому имени
собственному и реалии русской (московской) дореволюционной жизни
приходится делать немало. В страстном увлечении поэта музыкой, и прежде всего
захватившим его Скрябиным, Карлгрен видит источник главной особенности
Пастернака — предельной остроты его чувств, изливающихся на читателя
водопадом в стихах. Сдержанным этого поэта назвать трудно.
Еще одно качество, которое Карлгрен без труда выводит из биографии
Пастернака, выглядит так: «...в современной русской литературе он
единственный европеец». И это не кажется сильным преувеличением. Ни первый русский
нобелевский лауреат Бунин, живший во Франции и еще в начале века
гениально переведший Лонгфелло, ни автор «Тихого Дона», следующий после
Пастернака лауреат литературного «Нобеля», не были так приобщены к европейской
культуре, к философской мысли, даже к самым «священным камням Европы»,
по слову Достоевского. И московский период жизни поэта, среди живописи и
музыки, и годы учебы в Марбургском университете, и итальянское
путешествие — все это не просто погружало Пастернака в европейскую атмосферу, не
просто вдохновляло его, но сформировало его творческую личность.
Ориентированный на культурный мир, лежащий к западу от русских границ, Пастернак
при этом не был оторван от традиций русской лирики, полагает Карлгрен, не
порывал с наследием Пушкина и Тютчева, с Серебряным веком, который
увенчан именем Блока.
Антон Карлгрен отнюдь не является знатоком поэзии Пастернака — он и
сам подчеркивает свой дилетантизм. Однако, цитируя то прозу (в английских
переводах), то поэзию (уже в шведских), Карлгрен выбирает необычайно
красноречивые примеры и делает из них вовсе не поспешные и поверхностные,
а исключительно точные выводы. В одном пассаже, где Пастернак описывает
бессонную ночь в берлинском отеле, Карлгрен видит и романтика, с повышенно
внимательным отношением к своему «я», с трагическим анализом своих
любовных переживаний, — и одновременно кубиста, глазами которого увидено
внутреннее пространство комнаты («I was surrounded by transformed objects»).
Подобно камерному интерьеру, утратившему привычные черты, неузнанным
оказался и Марбург, изменивший цвета и очертания, словно он тоже был
«потрясен»: «Чувства изменяют вещи, — отмечает Карлгрен, — это постоянное
явление в поэзии Пастернака». Чрезвычайно простое и абсолютно убедительное
определение авангардистского искусства: все эти изломанные линии, глаза на
478
щеке или подбородке, немыслимое сочетание цветов и прочие выводящие из
себя неподготовленного зрителя принадлежности портретов и пейзажей
нового времени — попытка отразить не сами вещи, дать не их достоверное
внешнее изображение, а через их непривычные смещения и изломы отобразить
душевное смятение и внутреннее настроение художника. Именно по этому пути
двигалась и поэзия Пастернака — и это поэтическое движение нобелевский
эксперт сумел уловить без труда.
Заметим, что Карлгрену приходится создать своего рода «очерк в очерке»,
т. е. дать обзор русской поэзии первой трети XX в., коснувшись различных
модернистских течений, от символизма до футуризма, иначе фигура Пастернака
оставалась одинокой в столь мало известной шведскому читателю русской
поэзии Серебряного века, словно она была пустыней. Перечисляя первые
поэтические сборники Пастернака, Карлгрен замечает, что книгу «Сестра моя жизнь»,
в которую вошли главным образом стихи, написанные летом 1917 г., из-за
разных трудностей послереволюционного времени оказалось возможным издать
лишь в 1922 г. в Берлине. Так что судьба не впервые подталкивала Пастернака к
заграничным издательствам. Хотя «Сестра моя жизнь» стала подлинным
литературным событием — для Карлгрена оно просто равнозначно появлению
стихов Пушкина или Лермонтова, — сам Пастернак имел успех лишь в своей
литературной среде, справедливо отмечает нобелевский эксперт. Он скорее поэт для
поэтов, чем поэт для народа, подчеркивает Карлгрен, и в этом его подлинное
место в русской литературе.
Для современной истории русской литературы, в которой пастернаковеде-
ние стало весьма развитой и разработанной отраслью, многие положения
экспертного очерка А. Карлгрена могут показаться устаревшими или, во всяком
случае, общими местами. Надо, однако, помнить, что судить о поэте шведскому
слависту приходилось без какой-либо опоры на предшественников, самому
оценивать язык лирики Пастернака, его усложненную метафорику, новизну
рифмы. Удержаться от того, чтобы не продемонстрировать соотечественникам,
не знающим русского языка, нетривиальность, порой ошеломительную,
неточной рифмы Пастернака, Карлгрен не мог. Он выбрал из стихотворений
Пастернака (русских оригиналов) некоторые примеры, в которых рифмуются слова
«европейского» происхождения, т. е. вошедшие в русский язык из разных
европейских языков, со словами также иноязычными по происхождению — или с
собственно русскими: клиники - малинник, Спарты - фартук, эссенции -
полотенец, амфор - комфорт, купол - кукол. Экклезиаста - алебастра,
валькирий - эфире, амфитеатром - завтра, Архангельск - Ганге, абонемент - онемев.
Карлгрен указывает между прочим, что именно Пастернаку суждено было
обновить «технику рифмованного стиха», вслед за ним поэты стали рифмовать
смелее и традиционное искусство рифмованных стихов ожило. Карлгрен
чрезвычайно внимателен и к звукописи Пастернака, прекрасно улавливая
осмысление фонетики, особенно вокализма: Пастернак работает со словами, как компо-
479
зитор, замечает нобелевский эксперт, наделяя звуки смыслом — не только
гласные, но и согласные, и стремясь не только к красоте, но и к
выразительности (в частности, насыщая стих звуками «6» или «р» для достижения
определенного эффекта).
Карлгрен находит собственные определения не только для инструментовки
стиха, присущей поэзии Пастернака, но и для ее особой ритмической
организации. Его стихи — это не песни, это встревоженная речь в экзальтированном
темпе: как будто юноша стремится рассказать что-то очень важное, но
волнуется, сбивается, глотает слова, заикается — вот и получается не пение, а
отрывистое стаккато. Рассуждения Карлгрена о нарушении порядка слов и
собственно синтаксиса в стихотворениях Пастернака вновь возвращают нас к
сближению его литературных исканий с поисками обновления
изобразительного искусства: те же смещения, изломы, разрывы естественных связей в
пользу необычных, порой шокирующих или непонятных новых соединений
призваны отобразить «смятение чувств», душевные волнения и переживания поэта.
Логические связи нарушены, прежнюю упорядоченность и гармонию сменил
первобытный хаос — но именно поэтому мир предстал новым и свежим,
и смысл рождается в муках на наших глазах, а не обретен и не облечен в слова
давным-давно. Пастернак взирает на мир как дитя — или, лучше сказать, как
взрослый, глаза которого открылись впервые. Если привычнее всего увидеть
стихи, выстроенные в линию, с характерными подъемами и падениями
интонации, с кульминацией и финальным аккордом, то поэзия Пастернака
напоминает сейсмографическую кривую, обозначающую более или менее сильное
землетрясение. Для шведского слависта это отражение природных катаклизмов
в русском стихе пленительно, и недаром Карлгрен разбирает стихотворение
«Сестра моя — жизнь / И сегодня в разливе...».
Помимо ошарашивающей новизны рифмы, интонационно-ритмической
экспрессивности, особой мелодики пастернаковского стиха Карлгрена
привлекают в этом обновлении русской поэзии и другие стороны. В частности,
техника ассоциаций. Захваченный дополнительным смыслом, заключенным в
использованном слове, полагает Карлгрен, Пастернак направляет стих по новому
пути. Мысль перелетает легко или даже вовсе ускользает от поэта, увлеченного
цепочкой ассоциаций; восстановить первоначальный замысел и подлинный
смысл стихотворения Карлгрен считает чаще всего невыполнимой задачей.
Впрочем, если распутать кажущиеся при первом прочтении странными,
непонятными ассоциации, то связи между вещами беспредельно далекими вдруг
отчетливо проступают и образ привычных вещей (летней ночи, полустанка,
проселочной дороги) поразительно и великолепно изменяется.
Касаясь тем и мотивов лирики Пастернака, А. Карлгрен замечает, что
несколько стихотворений Пастернака о природе в английском переводе С. Бауры
позволяют почувствовать силу и прелесть оригинала. В качестве постоянного
мотива названо лето («Лето»), за мотивом дождя угадан постоянный символ
480
чувства свежей, пробуждающейся жизни. Карлгрен увлекается выписыванием
ошеломляющих поэтических находок, сравнений, метафор: «Грудь под поцелуи,
как под рукомойник!» («Воробьевы горы»). Самого Карлгрена особенно
пленило весеннее послегрозовое обновление: «Ты в ветре, веткой пробующем...»
(«Душистою веткою машучи, / Впивая впотьмах это благо, / Бежала на чашечку
с чашечки / Грозой одуренная влага...»). Однако шведским академикам
приходилось довольствоваться английскими переводами — и оказывалось, что все
рассуждения Карлгрена о небывалых рифмах Пастернака пропали втуне. Так,
называя одним из наиболее цитируемых и лучших у Пастернака стихотворение
пятое из цикла «Нескучный сад» («Спасское»: «Незабвенный сентябрь
осыпается в Спасском...») и добавляя, что о его «странность <...> споткнулось столько
читателей», Карлгрен даже не пытается множить «странности» этого
стихотворения разбором рифм. А между тем языковая, музыкальная прелесть стиха
исчезает в переводе совершенно: Спасском - с подпаском^ совсем, увы, не
тождественно буквальному переложению Spasskoye - the herdsman.
Стихи на историко-литературной подкладке в рассмотрении А. Карлгрена
интересны в имагологическом отношении. Так, процитировав стихотворение
«Шекспир», Карлгрен замечает, что в нем неразрывно слиты великое искусство
и обыденная жизнь, символом которой становится ренессансный Лондон
(«Извозчичий двор и встающий из вод / В уступах — преступный и пасмурный
Тауэр...»). Замечательно то, что стихотворение современного русского поэта об
английском гении Возрождения процитировано в переводе современного
английского знатока Античности... Говоря о том, что Пастернак — поэт
«европейский», Карлгрен как раз и имел в виду общее европейское культурное поле,
общее для шведа, русского, англичанина, еврея, когда помимо национального
или социального, помимо «почвы и судьбы» существует единый духовный
контекст, без которого немыслимо творчество.
Захваченный поэзией Пастернака, принадлежащей вечности, Карлгрен,
словно спохватившись, вспоминает и о том, что в стихах советского лирика
слышно и эхо социально-политических потрясений в России. «Его отношение
к революции довольно теплое, — указывает Карлгрен, одновременно
поясняя: — В любом случае он далек от того, чтобы стать на службу политике».
Стихотворения Пастернака с отголосками революционной тематики — «Высокая
болезнь», «Фрагмент» (о Ленине) — приведены в немецком переводе.
Поскольку требования времени к поэзии были суровы, напоминает шведский славист,
Пастернак пишет поэмы «революционного содержания» («Девятьсот пятый
год», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский»). Поэмы Карлгрен не столько
разбирает, сколько обильно цитирует в переводе на шведский язык и сопровождает
пересказом и некоторыми пояснениями — то, что иллюстративно, а не
метафорично, не требует изысканного анализа и может быть просто приведено для
ознакомления. Несколько страниц машинописи стихов Пастернака в переводе
на шведский язык подталкивают Карлгрена к простому и верному выводу:
481
Пастернак не является эпиком. В его историко-революционных поэмах лучшие,
подлинно поэтические строки — лирические.
От лиро-эпического жанра Карлгрен естественно поворачивает к разбору
прозы, уверяя, что романтический рассказ «Il Tratto di Apollo» (1915), «Письмо
из Тулы» и «Детство Люверс» (1918), «Воздушные пути» (1924) представляют
собой своеобразнейшее явление в русской литературе. «Детство Люверс» —
попытка взглянуть на мир детскими глазами — единственный в своем роде у
Пастернака опыт психологического анализа, считает Карлгрен. Сделав несколько
выписок (в переводе на английский язык) и бегло очертив бессобытийное
содержание повести (взросление двух детей, прежде всего пробуждение в
девочке — женщины), Карлгрен замечает, что «Детство Люверс» навеяно идеями
Фрейда. Нобелевский эксперт не может не заметить и не отметить
исключительности в русской литературе этой прозаической вещи — напоминающей
скорее о Прусте, хотя Пастернак явно без влияния французского писателя
стремится ухватить неуловимые движения на границе сознательного и
бессознательного. Впрочем, Карлгрен находит и иные соприкосновения прозы
Пастернака с западноевропейской литературой — например, в «Воздушных путях»
эпизод, в котором революционеры и контрреволюционеры, политика,
перевороты, заговоры, приговоры и расстрелы отступают перед человеческими
чувствами — матери, отца, любовников, — живо напоминает Карлгрену
поэзию немецких экспрессионистов и пьесы Стриндберга.
Говоря о прозе Пастернака, нобелевский эксперт выделяет его
«Автобиографию», «в высшей степени странный документ» — слишком фрагментарный и
отрывочный, скорее «страницу из биографии». Еще точнее — это «черновик»,
дневник или еженедельник для личного пользования. Любопытно, что все эти
автобиографические заметки кажутся Карлгрену существенными лишь
постольку, поскольку в них проступает главная суть личности Пастернака —
создание им стихов. Не случайно эксперт тут же обращается к рассмотрению
«Второго рождения» (1930-1932), в котором переживания и впечатления поэта
обретают форму стихов. Карлгрен склонен рассматривать этот поэтический
сборник как иллюстрацию к излюбленным идеям русского формализма:
искусство использует художника как марионетку, вовлекая его в процесс творчества,
заставляя искать все новые и новые формы. И в своих формах Пастернак, по
мнению эксперта, черпает понемногу из музыки и философии, берет от
формализма и символизма — и так складывается его собственная поэтическая
индивидуальность. Однако, сетует Карлгрен, из-за того, что разобраться в стихах
Пастернака можно, лишь хорошо зная сугубо интимные подробности его
личной жизни, зачастую его стихи остаются темными и загадочными.
При всей загадочности лирики Пастернака от шведского эксперта не
ускользают многие зашифрованные образы, и, если бы у него было больше времени и
желания подробнее разобрать отдельные стихи, стиховедение весьма бы
обогатилось. Так, название «Второе рождение» Карлгрен связывает не столько
482
с внешним, содержательным аспектом — новая любовь, новые стихи, — но с
внутренним, формально-поэтическим: с рождением нового стиля или, во
всяком случае, с движением к нему, с движением к классической форме и
человечности. Любовь — это уже не бурление, а более утонченное и интимное
переживание, и в поэзию Пастернака возвращается «камерная атмосфера конца
века» («Никого не будет в доме...»); более того — в стихи Пастернака
возвращается мелодия.
Стихотворения из сборника «Второе рождение» заинтересовали Карлгрена
не только метрикой и ритмикой. На размышления наталкивают стихи с богатой
традицией в русской литературе — о Кавказе. У Пастернака, по уверению
советских критиков (и эта обобщенная отсылка впервые возникает в очерке
Карлгрена), в стихах не подлинный Кавказ — Грузия, Сванетия, Осетия, — а Кавказ
литературный, почерпнутый из русской поэзии XIX в. Между тем эксперта
интересует не литературная традиция: ему важно, что, формально находясь
внутри традиции, Пастернак взрывает ее изнутри, отказываясь от русского
романтического взгляда на Кавказ. В этом смысле Карлгрена поразила образность
стихотворения «Волны», где Пастернак как будто и в самом деле остро ставит
вопрос о завоевании Кавказа, Грузии: «Овладевали ей, как жизнью, / Или как
женщину берут». В небольшом пассаже о социализме («Ты рядом, даль
социализма») Карлгрен даже не тщится разглядеть подлинное и увлеченное
воспевание социалистического строительства или пятилетнего плана, слегка
иронизируя над взволнованной, высокопарно-образной (как образно и все в целом
навеянное встречей с Кавказом это лиро-эпическое стихотворение) риторикой
и понимая, каким посторонним этот мотив является для сугубого лирика —
Пастернака. В стихотворениях из «Второго рождения» Карлгрен замечает —
вместо привычного для советской поэзии вдохновения от строек
коммунизма — отсутствие иллюзий и понимание того, как тяжела участь подлинного
поэта в советском государстве («О, знал бы я, что так бывает...»).
По «усталому тону» поэта в этом сборнике Карлгрен склонен был
предполагать, что это его последнее слово в поэзии. Но после войны появился
сборник «На ранних поездах» (1945) — его не оказалось в распоряжении эксперта,
и стихотворения он собрал по публикациям в периодике. Как же оценивает
шведский славист эту новую поэтическую книгу? Мастерство Пастернака
ослабло, темы «просоветились», он стал более сухим и риторичным и к высотам
поэзии приближается уже не тогда, когда пишет о любви, природе и искусстве,
а когда касается темы болезни, смерти или военных переживаний. Манифестом
этого «другого» Пастернака, средоточием его новых настроений и новой
лирики Карлгрен считает «Весну» («Все нынешней весной особое...», 1944).
Отметим, что нобелевский эксперт пишет свой очерк в достаточно объективном
ключе, в беспристрастном тоне, не выдавая своего отношения к разбираемой
поэзии; впрочем, она скорее оставляет его равнодушным — так же как ему,
в сущности, безразлично, насколько лирика Пастернака индивидуалистична,
483
сосредоточена ли она на внутреннем мире поэта или открыта внешнему миру,
остается ли «чуждой народу» или обретает более «демократичные» черты.
Но выдающуюся деятельность Пастернака-переводчика шведский
профессор не обходит молчанием. Даже весьма приблизительный список европейских
авторов, поэзию которых переводил на русский язык Пастернак, вызывает
уважение. Этот род литературных занятий, разумеется, совершенно не
учитывается при присуждении Нобелевской премии; однако он чрезвычайно высоко
ценится шведскими академиками — во всяком случае, ценился полвека назад:
шведы справедливо считают себя полноправной частью западноевропейской
культуры, а знание языков позволяло им быстро приобщаться к новейшим
достижениям литературы других стран, так что переводы классиков на родной
язык, уровень этих переводов и само переводческое мастерство для небольшой
страны всегда много значили. О Пастернаке Карлгрен сообщает, что его имя
переводчика прославили переводы грузинской поэзии и Шекспира. Если
судить о переводах грузинских авторов Карлгрен не только сам не берется, но и
подвергает известному сомнению компетентность в грузинском языке
Пастернака, то о его переводах трагедий Шекспира нобелевский эксперт заявляет, что
«довольно прочитать несколько строк, чтобы убедиться, что русский поэт
позволяет себе свободу, едва ли возможную в любой другой стране»: «Это почти
донага раздетый Шекспир»; его «богатое красноречие, игра словами и
образами, его лирический полет и поэтические отступления твердой рукой выметены
из переводов ради большей отчетливости поступков и персонажей». Карлгрен
замечает: если английский Шекспир — это барокко, то русский — готика.
Сравнив слова Родриго («Отелло») в английском и в русском (через посредство
шведского!) звучании, эксперт добавляет: «...такое вот упрощение».
Основываясь на самопризнании Пастернака, Карлгрен действительно — словно
хорошо зная знаменитые слова Жуковского — видит в нем соперника Шекспира,
ищущего тех верных слов, которые не нашел автор «Гамлета». Принцип
Пастернака, замечает Карлгрен, был одобрен на Шекспировском конгрессе в Москве
(1941), подтвердившем, что путь Пастернака верен. Не стоит «копировать»
автора, можно — речь идет именно о «Гамлете» — пренебречь деталями и не
передавать их буквально, а вместо перевода словами и метафорами перейти
к переводу сценами и мыслями. Советские шекспироведы приветствовали
не-шекспировский образ Гамлета — не марионетки, но бунтаря, начисто
лишенного «помпезной ренессансной роскоши» (А. Морозов). Завершая свой
очерк, Карлгрен не без сарказма замечает, что подобным переводом Пастернак
выполнил соцзаказ и удовлетворил пожелания времени.
В конце 50-й страницы замечательного в своем роде очерка Антон Карлгрен
буквально «умывает руки». Он сообщает, что представленный обзор — плод
его многомесячных разысканий, и выражает надежду, что сказанного
«достаточно для того, чтобы судить о поэзии» Пастернака; однако для того, чтобы
«оценить ее, нужна квалификация, которой нижеподписавшийся не обладает».
484
Кажется, что Карлгрен не обладал этой «квалификацией» и раньше: из тех
русских писателей, которых ему приходилось оценивать по поручению Шведской
академии, было несколько поэтов — Бальмонт, Бунин и Мережковский, — но
первый был им сразу и безоговорочно отвергнут, а двое других были интересны
и эксперту, и Нобелевскому комитету прежде всего как прозаики, как
продолжатели традиции русского романа.
В 1947 г. Нобелевский комитет не нашел достаточных оснований для
награждения Б. Пастернака:
Оригинальность русского поэта со всей очевидностью вытекает из глубокого
критического анализа, представленного в экспертном заключении, которое,
однако, не служит рекомендацией для этой прошлогодней кандидатуры. Оно
свидетельствует, что Пастернак, использующий виртуозные средства, —
утонченный лирик, который, лишь сопротивляясь, смог в результате денежного
давления Советской республики приспособиться к государственным
славословиям и социалистическому реализму. Комитет придерживается мнения,
что творческая продукция Пастернака не является достаточным основанием
для присуждения премии. Более обоснованным было бы подождать [Nobelpriset
ilitteratur, 11:376].
В 1948 г. с кандидатурой Пастернака было вновь решено «повременить»,
поскольку комитет не смог увидеть в русском лирике значительного писателя,
«величина и значение» которого заслуживали бы столь высокого признания. Его
кандидатуру отстаивал лишь Мартин Ламм (Lamm; 1880-1950) — крупный
шведский историк литературы, один из 18 членов Шведской академии, который
и выступил с номинацией русского поэта (а также Ш.Й. Агнона) в 1948 г.
Вероятно, по его инициативе Сесилу Бауре рекомендовали повторить свою
номинацию, и в 1949 г. он опять адресуется в Стокгольм. Датированное 24
января письмо английского профессора-классика на сей раз намного лаконичнее,
не столь тщательно обдумано в каждом слове, но при этом не повторяет
первого обоснования, а дополнено новой аргументацией.
Могу ли я самым настойчивым образом рекомендовать вам русского поэта
Бориса Пастернака? По моему мнению, он сильнейший из современных поэтов
Европы, обладающий более утонченным воображением и большей силой
воздействия, нежели Элиот, и особым образом соединяющий в себе модерниста и
продолжателя великой традиции. Мне хотелось бы подчеркнуть, что в
труднейших обстоятельствах и в условиях всеобщего политического давления он
сохраняет безупречное искусство, от чего сам же и страдает. Я знаю, что
Нобелевский комитет испытывает колебания, присуждать ли премию русским, но в
данном случае сомневаться не приходится, поскольку Пастернак — большой
европейский писатель. По мощи, музыке и технике стиха он настолько не имеет
себе равных, что я самым настоятельнейшим образом рекомендую его вам.
В 1949 г. шведские академики, чье мнение не поколебала «рекомендация
английского ученого», привели для аргументации своей выжидательной позиции
485
«нежелательные последствия», которые присуждение премии могло бы иметь
для Пастернака «в его щекотливом положении» [Nobelpriset i litteratur, II: 401].
Из этого следует, что кандидатура Бориса Пастернака сразу вызвала чувство
тревоги — за его будущее на социалистической родине в том случае, если бы на
Западе ему присудили международную награду. В 1950 г., при неизменной
неготовности комитета к поддержке кандидатуры Пастернака, в очередь с С. Бау-
рой предложенной М. Ламмом, указано на такое обстоятельство, как
«растущий в английском литературном мире» интерес к его творчеству благодаря
«новому изданию переводов его избранной лирики, относящейся, впрочем,
лишь к периоду до 1930 г.» [Ibid.: 419]. Затем в течение нескольких лет новых
номинаций советского поэта на нобелевскую награду не поступало: даже в 1955
и 1956 гг. — буквально за пару лет до присуждения Пастернаку премии — его
имя не фигурирует среди кандидатов на литературного «Нобеля».
И вновь возникает в списках кандидатов на премию лишь в 1957 г. по
предложению одного из членов Шведской академии, X. Мартинсона.
На своем заседании 23 мая 1957 г. члены Нобелевского комитета
постановили считать наиболее достойными премии четырех кандидатов из списка
номинаций. Нобелевский лауреат должен был быть выбран из следующих
кандидатур: Альбер Камю, Андре Мальро, Карен Бликсен и Борис Пастернак. Секретарь
запротоколировал это решение, сопровождавшееся небольшим
библиографическим списком возле каждого имени. Приведем список Пастернака, дополнив
его необходимыми сведениями:
Pasternak В. Prosa. Oversat af Ivan Malinovski. Kobenhavn: Borgen, 1953.
Pasternak B. The collected prose works. Arranged with an introduction by
Stefan Schimanski. London: L. Drummond, 1945. <Перевод осуществили: P.S.R.
Payne, H. Home, J.A. Devon, V. Tikhonov, R. Cargoe, R. Young.>
Pasternak B. Selected poems. Translated from the Russian by J.M. Cohen. London:
L. Drummond, 1946.
Pasternak B. Selected writings. NY: New Directions, 1949 (Direction series. Vol. 9).
Pasternak B. Poèmes [Robin Armand. Poèmes de Boris Pasternak. Edition mise en
vente au profit des militants prolétariens victimes de la bourgeoisie communiste].
Paris: Éditions anarchists, 1946.
17 сентября 1957 г. состоялось финальное заседание комитета. Голоса
академиков разделились между двумя претендентами на премию от французской
литературы. Одинаково достойными были признаны Андре Мальро и Альбер
Камю. В творчестве Мальро академики увидели живое продолжение эпической
традиции, сопоставимой с «Войной и миром» Толстого. Но премию этого года
присудили Камю. Заключительный протокол с замечаниями по всем
выдвинутым кандидатурам продолжается (с общей пагинацией) комментарием А. Эстер-
линга (с. 9-11) о двух кандидатах, «которые не имеют перспективы попасть на
передний план», — К. Бликсен и Б. Пастернаке.
486
Борис Пастернак вновь продемонстрировал оригинальный подход, который
оплодотворил русскую лирическую поэзию. Он, среди прочего, развил
современный образный язык, который отличает его от экспериментаторов стиха
в Западной Европе и Америке. Поскольку Пастернак в целом менее доступен,
чем Хименес, то его выбор во мнении мировой общественности мог бы
показаться несколько односторонним. И, разумеется, было бы совершенно
невероятно, если бы предложение исходило с родины писателя.
Как видим, о романе как жанре, за который могли бы присудить премию, не
сказано ни слова. Эстерлинг вспоминает нобелевского лауреата 1956 г.
испанского лирика Хуана Хименеса; сразу вслед за Пастернаком, в 1959 г., был
отмечен итальянский лирик Сальваторе Квазимодо. А из какого числа блестящих
поэтов, мировых величин Нобелевскому комитету приходилось делать свой
выбор!
Однако именно в 1957 г., в ноябре, в Милане на итальянском языке был
опубликован «Доктор Живаго» (в оригинале, по-русски, роман вышел только в
1958 г.)10:
Издательская судьба романа стала еще одним пастернаковским
произведением, им задуманным и при его твердом желании доведенным до <н>обелевской
награды. <...> Страсти, вокруг «Доктора Живаго» не утихли до сих пор
[Толстой 2009: 9].
Именно эти «страсти» не укладываются в рамки нашего исследования. Мы
согласны с И.Н. Толстым в том, что «писатель бился за роман и считал его
великим, втайне меряя замысел Львом Толстым» [Толстой 2009: 9]. Приглядимся к
русским нобелевским лауреатам — они все жили в толстовской системе
измерения, не представляя себе другой: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын.
Каждый так или иначе выходил за эти рамки в свое измерение, у каждого была
свои «жизнь и судьба», свои романы. И все вышеперечисленные мастера
русской литературы XX века в одной не имеющей отношения к творчеству мелочи
отличались от Льва Толстого — все они страстно желали Нобелевской премии
как мирового признания. Но наше повествование — не о страстях, а о
документах из архива Шведской академии. Склонный к броским метафорам, И. Толстой
называет историю с публикацией «Доктора Живаго» на Западе «путем от
спички до пожара» [Толстой 2009: 107]. Метафора эта напоминает о другом
знаменитом образе — «рукописи не горят». К счастью, в подземных сейфах здания
старой стокгольмской Биржи бумаги действительно находятся в полной
сохранности — и сохраняют ту историю, которая часто разочаровывает падких
на сенсации журналистов. От экспертного заключения А. Карлгрена, высоко
оценившего русского поэта, но не увидевшего в нем кандидата на Нобелевскую
премию, до момента, когда Борис Пастернак оказался в числе главных
претендентов на нобелевские лавры, прошло ровно десятилетие. Как возникло имя
10 См. изложение истории публикации романа [Толстой 2009; 2017].
487
Пастернака вновь, какие шли дискуссии — в архиве устные переговоры не
задокументированы.
Можно осторожно предположить, что шведские академики поторопились
с обсуждением кандидатуры Бориса Пастернака, чтобы оградить его
бесспорным международным признанием от преследований на родине. Письма с
предложением поддержать кандидатуру Пастернака рассылались по всему миру за
подписью секретаря Нобелевского комитета Уно Виллерса (Willers), но
вдохновителем этой кампании выступил Андерс Эстерлинг, патриарх Шведской
академии, шесть десятилетий входивший в Нобелевский комитет и возглавлявший
его почти четверть века, с конца 1940-х гг. Поддержка кандидатуры Пастернака
потребовалась для обоснования мирового признания его творчества,
поскольку после номинаций С. Бауры писателя из Советского Союза включали в список
кандидатов на премию лишь по предложению самих членов Шведской
академии: в 1950 г., как уже упоминалось, номинатором выступил Мартин Ламм
(в том же году он скончался), а затем в 1957 г. к кандидатуре Пастернака
предложил вернуться поэт и романист Харри Мартинсон (Martinson), будущий
лауреат Нобелевской премии (1974). Кстати, последняя «номинация» выглядит как
деловая записка на карточке с золотым грифом-надписью «Шведская
академия», за подписью «A.Ö.» (Андерс Эстерлинг) и с обращением «брат» (!) —
с сообщением, что X. Мартинсон выдвигает Бориса Пастернака, а К.И. Андерс-
сон (Andersson Carl Ingvar, историк) — Эзру Паунда. Эта записка в книге
[Флейшман 2013] проигнорирована.
Все спекуляции о необходимости русского оригинала романа для
присуждения премии беспочвенны: во-первых, потому, что это никак не оговорено
в уставе Нобелевской премии, основатель которой был полиглотом и
космополитом и языку, на котором написано «произведение в идеальном
направлении», значения не придавал. Академики же привыкли следовать «статуту». Во-
вторых, необычайной удачей оказалось издание романа в переводе именно на
итальянский язык. А. Эстерлинг, знаток этого языка, переводивший
итальянскую поэзию на шведский буквально без роздыху, каждую свободную минуту,
стал одним из первых читателей романа за пределами России и Италии.
Необъяснимая странность масштабного акрибического труда [Флейшман
2013], где к работе американского ученого были подключены два шведских
слависта, состоит в почти полном игнорировании материалов собственно
шведской прессы 1957-1958 гг. (тогда как 1940-е гг., хотя и несистематично, но
представлены). Не может не удивить, что в отличие от тщательно собранных
публикаций в эмигрантской и американской периодике отсылки к страницам
газет, выходивших в Стокгольме и едва ли не с большей заинтересованностью,
чем кто бы то ни было в мире, писавших о поэте, его романе и о Нобелевской
премии, практически отсутствуют. Постараемся восполнить эту лакуну своими
скромными разысканиями.
488
«Свенска дагбладет» (что характерно, без подписи) опубликовала материал
«Вести о свободе», вводящий читателей в курс дела. Какова осведомленность
газеты, если большая статья вышла в Швеции на следующий день после
появления итальянского издания романа! Очевидно, что готовилась она — судя по
процитированному ниже тексту — заранее. Впрочем, этот жанр знаком
журналистам по обе стороны железного занавеса: «Я роман не читал, но скажу...»
Странное происшествие, связанное с литературой, вновь привлекло внимание
к состоянию интеллектуальной жизни в Советском Союзе. Речь идет о Борисе
Пастернаке; сейчас ему 67 лет, и еще до Первой мировой войны <sic!> он
относился к ведущим русским поэтам. Он написал роман, «Доктор Живаго», и во
время одной московской конференции передал копию рукописи своему
итальянскому издателю. В России это сочинение должно было появиться в журнале
«Новый мир», но его не допустила до печати цензура. Несмотря на обращения
автора, итальянское издательство в Милане в пятницу выпустило книгу (22
ноября 1957 г. — Т.М.). Таким образом, книга Пастернака теперь доступна
западному миру, но ее невозможно прочитать в Советском Союзе (SD, 23.11.1957, s. 4).
Ситуация с публикацией романа Пастернака сравнивается с
обстоятельствами публикации и идеологической критики романа В.Д. Дудинцева «Не
хлебом единым» (1956), которая свидетельствовала об «изменении климата в
стране после "оттепели"». Газета не утаила от читателей, что после революции 1917
года Пастернак «занимал позицию, отличавшуюся лояльностью
коммунистической системе, но вряд ли с подлинным энтузиазмом».
То обстоятельство, что сейчас он написал произведение столь опасное, что оно
даже не может быть опубликовано, и хотел, чтобы оно появилось прямо к
сорокалетию революции, свидетельствует о том, что битвы между
литературными школами все еще бушуют и последствия их непредсказуемы. Это
свидетельствует и о том, что по крайней мере Пастернак, со своей стороны, не считает
битву за литературную свободу проигранной.
О литературном значении романа Пастернака говорить еще рано. Это
обширная семейная хроника, близкая по типу роману Толстого «Война и мир», на
который она ориентирована, и охватывающая все эпохи, которые пережил сам
Пастернак, приблизительно от революционных волнений 1905 г. до окончания
Второй мировой войны. Что вызвало недовольство русской цензуры, можно
только догадываться. Роман пропитан религиозным настроением, и в схватке
белых и красных Пастернак не встает на чью-либо сторону, а предпочитает
разыгрывать «любовную» партию, что, разумеется, и означает критику
революционной системы, бесчеловечности и авторитарной демагогии. Эпилог
романа — подлинная апология свободы.
<...> Заключенные в нем слова11 русский читатель романа— появись та-
11 «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе
с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные
годы, составляя их единственное историческое содержание.
Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот
вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и
489
кой — мог бы прямо применить к нынешнему времени. После смерти Сталина
во всем восточноевропейском блоке вспыхнуло стремление к свободе, и
повсюду интеллектуалы, прежде всего писатели, отстаивали ее в первых рядах.
<...> Новое кремлевское руководство четко дает понять, что оно осознает
опасность этой независимости. Великим поворотным моментом стало
подавление венгерской революции русскими танками. За этим событием
последовало множество других акций, менее трагических, но нацеленных на одно:
раздавить оппозицию и заткнуть рты.
<...> Советские правители обладают ужасной властью — недавние
столкновения продемонстрировали, как она ужасна. Вполне вероятно, что в любой
недалекий момент, как утверждает советолог Джордж Ф. Кеннан, может
произойти возвращение к сталинскому репрессивному режиму. Происходившее в
советской России во время и после Второй мировой войны может прорваться
потоком исторических изменений. Происходящее значит, быть может, не так
уж много — отвергнутый цензурой роман, изъятый журнал, арестованный и
получивший наказание противник режима, короче говоря, если
воспользоваться словами Пастернака, свобода не наступила, как думали. «Но все равно:
предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их
единственное историческое содержание».
«Дагенс нюхетер» (далее DN), напротив, не стала затевать политическую
игру. Обстоятельная статья Ингемара Виселиуса (Wizeliüs; 1910-1999) «Новый
роман Пастернака» появилась только в начале декабря. «Новый» означало,
конечно, не «очередной», а подчеркивало радикальное несходство книги с
привычной советской литературной продукцией. Впрочем, критик указывает на
предшественников «Доктора Живаго», но из другой эпохи — «Сивцев Вражек»
М. Осоргина (1928) и «Товарищ Кисляков» («Три пары шелковых чулок») П.
Романова (1930); обе книги появились и в шведском переводе (resp. в 1932 и
1931 г.). В послевоенное время М. Шолохов, автор «большой эпопеи», не
написал ничего равновеликого, а В. Дудинцев подвергся разгромной критике за «Не
хлебом единым», хотя цензура и пропустила его. Выход романа «Il dottor Zivago»
«стал событием первостепенной важности» (DN, 4.12.1957, s. 4).
«Любопытные обстоятельства публикации романа просочились в
прессу», — с удовольствием делится журналист подробностями изумительной
аферы Фельтринелли. Впрочем, изумление у него вызывает и другое: «Не секрет,
что Пастернак всегда принадлежал к законопослушным гражданам, об этом
можно прочитать в любом литературно-историческом очерке о нем, но между
тем он никогда прямо и не служил власти. Удивительно, как ему удалось
избежать физического и психического уничтожения. Об этом ничего не известно,
но по некоторым эпизодам романа можно догадаться, что у него был влиятель-
отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю
землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало
неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все
это и давала их чувствам поддержку и подтверждение» [Пастернак 2010: 554]. Цитируем по
изданию, подаренному нам Е.Б. Пастернаком накануне кончины.
490
ный покровитель» (DN, 4.12.1957, s. 4). Вероятно, не все шведы свободно
читают по-итальянски, потому что в статье, очевидно, заказанной в расчете на
большой объем, почти нет речи о содержании романа. Порассуждав со знанием дела
об осоргинском «Сивцевом Вражке», который И. Виселиус, без сомнения, читал
в шведском переводе, поспекулировав о биографии писателя при сталинском
режиме и кратко осветив его происхождение и «годы учения», критик сообщает
о поэтической «постлюдии» к роману — стихах Юрия Живаго, напомнив, что
Пастернак прежде всего лирик. «Эти стихи — многие на библейские мотивы —
исполнены такого величия, что идея присудить Пастернаку Нобелевскую
премию вновь стала актуальной».
Роман и захватывает прежде всего своей лирической силой, утверждает
критик, ибо в «психологических характеристиках Пастернак экономит на
деталях», а его герои кажутся списанными с классических русских образцов.
Любовная история Лары и Юрия Живаго доминирует в романе, тогда как
описания действительно эпохальных событий на фронтах Первой мировой или в
кровавые дни революции редуцированы; герой укрывается в сибирской
глухомани от жестокостей времени. И. Виселиус объясняет замысел Пастернака так:
«Он <...> изображает революцию скорее как природную катастрофу, как
разрушительное извержение вулкана». Шведский критик высказывает и еще одну
конструктивную мысль: лирический дар Пастернака обретает в романе
нравственный императив. И. Виселиус указывает и на то, что станет общим местом
в разговорах о романе — на исключительные в своем роде описания природы.
И подытоживает: «<...> это самое убедительное прозаическое произведение
русского писателя с тех пор, как Шолохов написал "Тихий Дон"» (ibid.).
Нобелевские контроверзы! Представитель русской эмиграции В. Вейдле, например,
сравнил роман Пастернака совсем с другим явлением русской прозы — во-
первых, действительно очень близким, а во-вторых, сотрудник радио
«Освобождение» прямо перекидывал мостик от первого русского нобелевского
лауреата по литературе — к потенциальному: «После "Жизни Арсеньева" Бунина
не было напечатано ни в России, ни за рубежом более замечательной русской
книги» (цит. по: [Толстой 2009: 206]).
На следующий день слово с газетных страниц берет редактор отдела
культуры «Дагенс нюхетер» Улоф Лагеркрантц12. Он не читал романа по-итальянски;
он пишет о другом. Чтобы узнать больше о неведомом ему авторе
«запрещенного» в России романа, Лагеркрантц прочел автобиографию Пастернака по-
английски и особенно был впечатлен финальным эпизодом, описанием смерти
Маяковского — «.. .меня словно кнутом огрели: как могло случиться, что мы не
переживали каждую секунду русской боли и страданий!».
12 Lagercrantz Olof Gustaf Hugo (1911-2002) — шведский поэт-лирик, литературовед и
публицист. В 1960-1975 гг. главный редактор «Дагенс нюхетер», отвечавший также за отдел
культуры; сыграл важную роль в полевении шведской культурной жизни, которым отмечена эта
эпоха.
491
Сорок лет на востоке царила тишина. Сейчас на пол-Европы наложено
железное ярмо. Чем были для нас некогда русские — образцом человечности,
глубоким, горячим источником добра во плоти и в душе! Сильный дух свободы в
идущей от сердца пушкинской лирике; муки, но и равенство полов в «Записках
из мертвого дома» Достоевского; мощь отступающих столетий во время
разговора толстовских князя Андрея и Пьера Безухова на переправе. А сейчас
русский народ безмолвствует. Лишь немногие, негодуя, шепотом говорят друг
с другом, спасают остатки нежности и доброты и саму жизнь подальше от
силков власти, цинично присвоившей себе «волю народа». Один из них —
Пастернак. Голос, случайно донесшийся до нас из нестерпимых, невыносимых
условий. Сами мы ничего не можем сделать для этого неспокойного мира, где
многие, безусловно, даже не слыхали, что жить можно и без диктатуры. Но мы,
быть может, как предложил Ингемар Виселиус, могли бы увенчать Пастернака
Нобелевской премией — никто не заслужил ее больше, чем он, — и послать
ему тем самым весточку, что мы не забыли, мы читаем его и давно уже ждем,
когда на Западе мы снова сможем услышать живой, горячий русский голос
(DN, 5.12.1957, s. 4).
Тем временем на обращение Шведской академии откликнулись профессора
из престижных американских университетов. В списке 1958 г. кандидатура
Пастернака подкреплена солидными номинациями американских профессоров:
Ренато Поджоли (Poggioli), профессор по славянским литературам и
сравнительному литературоведению Гарвардского университета, и еще один профессор
того же университета Роман Якобсон, Гарри Левин (Levin), профессор
английской литературы и сравнительного литературоведения, заведующий кафедрой
современных языков, и Эрнест Джей Симмонс (Simmons), профессор
славянского языкознания и русской литературы, заведующий кафедрой славистики
Колумбийского университета (Нью-Йорк); к ним присоединился также
оксфордский профессор Дмитрий Оболенский. Сам внешний вид писем-номинаций из
Америки свидетельствует об организованной кампании; известным сходством
отличается также и текст этих обращений в Нобелевский комитет — это явный
отклик на призыв номинировать именно кандидатуру Бориса Пастернака, что
буквально подчеркивается в начальной фразе каждого послания; например,
Г. Левин и Э. Симмонс адресуются непосредственно Уно Виллерсу, секретарю
академии, рассылавшему письма с просьбой о номинации советского поэта.
Тем не менее эти письма — отнюдь не формальные отписки; все профессора
пишут с энтузиазмом, убежденные в том, что Борис Пастернак — великий
русский поэт, хотя аргументы у каждого рекомендателя свои. Все эти письма — в
оригинале и в переводе — приведены в [Флейшман 2013: 575-590], и
дублировать их на страницах нашего издания представляется излишним.
Газеты готовят общественность. «Подвал» «Свенска дагбладет» в середине
сентября отведен под статью Гуннара Бранделя (Brandeil) «Доктор Живаго» (SD,
13.09.1958, s. 4). Критик опирается на английское издание, а о шведском
сообщается «подготовлено в издательстве "Боньерс"». Титульного героя Г. Брандель
492
сравнивает с героями дворянской русской романистики XIX в., причислив его к
«побежденным». Складывается впечатление, что «Доктор Живаго» не кажется
критику вершинным творением мировой литературы, он сухо сообщает, что
Пастернак скорее лирик, чем мастер эпической прозы, он «импрессионист в
описаниях природы», а роман его нельзя отнести к литературе модернизма;
«характеры очерчены контурно, они претенциозны и перегружены русскими
переживаниями, хотя повествование не сводится к монологической прозе и не
дробится на символические эпизоды». Связь сочинения Пастернака,
вовлекающего в свою орбиту две войны и революцию, со «старым» романом очевидна,
хотя и не нарочита. Очевидно критику и другое, не уходящее корнями в
русскую классику и не прорастающее никоим образом из модернизма: это
религиозный план романа, «расширяющий его пределы»: «с Христом история
обретает смысл».
Но хватит о философии! Пастернаковская тайна истории настолько далека от
марксистских истин, как только возможно, заинтересуетесь вы ею или
отложите. Несомненно лишь, что она является крайне литературной, чисто
литературной. За ней стоит подлинно человеческая культура, великая в том же
смысле, как у Тургенева или Толстого; роман написан как завещание писателя,
сознающего свое значение. Ведутся разговоры, чтобы присудить Нобелевскую
премию писателю с Востока; в этом случае более достойной кандидатуры не
найти.
Тот же автор в «заметках на полях книг» пару дней спустя цитирует двух
советских писателей: Алексея Суркова, полагающего саму идею присудить
премию Пастернаку «необоснованной», и Ильи Эренбурга, давнего и всесторонне
информированного друга Швеции, читавшего роман в рукописи («штамповали
ли ее там, что ли?») и считающего описание эпохи в ней «отличным» (SD,
15.09.1958, s. 14). 17 сентября газета представляет «Осенний список» книг
издательства «Боньер», где анонсирован роман Пастернака (SD, 17.09.1958, s. 12).
А через неделю, 25 сентября 1958 г., был составлен заключительный
протокол Нобелевского комитета. Среди рассмотренных кандидатур оказались
Роберт Фрост и Михаил Шолохов, Жорж Сименон и Иво Андрич, Жан-Поль
Сартр, Грэм Грин, Торнтон Уайлдер, Теннесси Уильяме, Джон Стейнбек. Всего в
списке «финалистов» 41 кандидатура. К ежегодному заключительному
протоколу Нобелевского комитета по каждой из выдвинутых кандидатур А. Эстер-
линг приложил в 1958 г. две с половиной страницы машинописного текста с
обоснованием кандидатуры Пастернака [Флейшман 2013:611-613] и еще
четверых кандидатов, включая поставленных на вторую и третью позицию А.
Моравиа и К. Бликсен.
Нового экспертного очерка о Пастернаке заказано не было. Во-первых,
именно в это десятилетие, в 1950-е гг., менялся прежний порядок подхода к
кандидатурам на премию: функции экспертов перенимала Нобелевская
библиотека, сотрудники которой собирали отзывы о номинированных писателях в лите-
493
ратурно-критической периодике их стран и составляли дайджесты для членов
Нобелевского комитета; для внутреннего рецензирования привлекались
специалисты из университетов и иных научных центров. Во-вторых, в качестве
экспертного заключения о романе Пастернака к материалам его нобелевского
«дела» была приобщена статья самого А. Эстерлинга «Роман Бориса Пастернака
о революции», опубликованная в «Стокхольмс тиднинген» в начале 1958 г.
(Stockholms tidningen, 27.01.1958, s. 3).
Статья председателя Нобелевского комитета оказалась вводной ко всему
сразу: к личности и творчеству Бориса Пастернака, совсем неизвестного
шведскому читателю — ведь переводы были весьма малочисленны; к теме «поэт и
власть», потому что надо было объяснить в общих чертах историю с изданием
Фельтринелли; к роману «Доктор Живаго», его революционно-историческому
фону и его революционной внепартийности, к индивидуализму, откровенному
и прекрасному, но немыслимому в коммунистическом государстве, к фигуре
главного героя, чья личность, чья любовь и чьи проникновенные стихи —
частично, впрочем, публиковавшиеся в советском журнале «Знамя» — требовали
известных пояснений для западного читателя, на головы которого внезапно
обрушился ни на что не похожий роман. Сейчас реферировать эту статью нет
смысла, но шведского читателя следовало подготовить к появлению
неизвестного нобелевского лауреата: премия была присуждена еще до публикации
романа в шведском переводе. Кажется, что западный (шведский) читатель
испытывает некоторое отдохновение от советской литературной продукции — так,
например, Эстерлинг выражает удовлетворение тем, что «сильный
патриотический акцент» обходится, наконец, без ура-партийной риторики.
Роман льется подобно неторопливой беседе, и Пастернак неизменно находит
верный, чисто русский тон — в обыденной ли речи простых людей или в
философско-религиозных размышлениях. Язык — один из критериев правдивости
романа. Герои говорят так, как только русские люди могут говорить, каждый
по-своему (в соответствии со своим положением и званием).
Еще одной сильной стороной романа Эстерлинг считает картины природы,
в которых Пастернак предстает как мастер «таинств сменяющих друг друга
времен года»:
В его прозе ощутим и бег времени, и пульс дня, то, как падают в саду листья,
как приходит на Урал весна, как блестят под луной снега, как зажигаются огни
и как немо и глухо в погрузившейся в ночной сон Москве. Если вспомнить
предшествующие произведения Пастернака, виртуозно сочетающие вычурный
модернизм со смелыми интеллектуальными сопоставлениями, впечатляет,
когда видишь его энергичную борьбу с требованиями эпического
повествования. Порой замечаешь, что это был долгий труд, работа над которым
прерывалась и снова возобновлялась. Первая глава представляет детское окружение
Юрия и Лары многолюдным, а затем в романе использованы лишь немногие
лица. Проходит немало времени, прежде чем происходит сцепление нужных
494
линий и любовь Юрия и Лары становится господствующим мотивом. В
отношениях этой пары из высших слоев общества проявляются, по мысли
Пастернака, индивидуальные черты затронувшей всех революции, и даже на ее фоне в
них сияет красота как признак великой скорби, как знак расцветающей смерти.
Само собой разумеется, что итальянский перевод русского романа (если
даже он и выполнен со всем возможным усердием) все же не может стать
достаточным основанием для суждения о его качестве, особенно когда речь идет
о таком художнике слова, как Пастернак. К тому же роман принадлежит к
книгам, которые следует перечитывать, но и при первом знакомстве он читается с
захватывающим интересом. Чувствуешь и сильный патриотический упор,
однако без малейшего следа пропагандистской риторики. А его богатая
документальная основа, его насыщенный местный колорит и психологическая
достоверность во всяком случае оказываются ярчайшим свидетельством того, что
литературные силы России не угасли, так что приходится представить себе по
этому творению, какой же невидимый фронт противостоит Советам.
Резюмируя по праву председателя дебаты 1958 года в приложении к
заключительному протоколу Нобелевского комитета, Эстерлинг сразу подчеркнул,
что Борис Пастернак должен стать главной кандидатурой без каких бы то ни
было обсуждений. Вторым номером был поставлен итальянский писатель Аль-
берто Моравиа, третьим — датчанка Карен Бликсен. Идея разделить премию
между двумя итальянскими поэтами, Сальваторе Квазимодо и Джузеппе Унга-
ретти, не понравилась А. Эстерлингу; он считал, что Унгаретти был только
новатором, давшим новый, свежий импульс более молодым литераторам, и со
временем Квазимодо получит индивидуальную премию (что и произошло уже
в следующем, 1959 г.).
Прежде всего Эстерлинг, базируясь на известных ему переводах лирики
Пастернака на иностранные языки, называет поэта «самым значительным» среди
всех его современников. Но, разумеется, главным аргументом в пользу
Пастернака становится только что вышедший роман «Доктор Живаго».
Я не могу представить себе ничего другого, кроме этого произведения, которое
по своему художественному мастерству, по своей зрелой умудренности, по
чистому и мощному своему духу, возвысившемуся над партийными склоками и
скорее всего просто аполитичному, в такой наивысшей степени соответствует
тем идеалам, ради которых с самого начала была учреждена Нобелевская
премия. <...> Как свидетельство времени и отчасти как художественное
произведение роман Пастернака может достойно выдержать сравнение с «Войной
и миром» Толстого: поразительно, как, благодаря авторской laterna magica,
словно молнией озаряются картины трагического хаоса того периода русской
истории13.
13 Мы предпочли свой перевод, впервые представленный в [Марченко 2011: 342], не только
потому, что буквальный перевод не передает изысканной речи Эстерлинга (сначала поэта, а уже
потом академика), но прежде всего потому, что обнаружили известные неточности в [Флейшман
2013: 612]: слово delvis переводится как «частично, отчасти, в какой-то мере» и отнюдь не
означает «в особенности».
495
Достоинства романа так очевидны для всех нобелевских ареопагитов,
полагает Эстерлинг, что «Академия может в этом случае принять решение с
чистой совестью, основываясь на переводе и не обращая внимания на то, что
произведение еще не опубликовано Советами».
Итак, на Советский Союз было решено не обращать внимания.
Премию Борису Пастернаку присудили «за выдающиеся заслуги в
современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской
прозы» — «för hans betydande insats saväl inom den samtida lyriken som pâ den
stora ryska berättartraditionens omrâde» (в буквальном переводе со шведского —
«за его выдающийся вклад как в современную лирику, так и в области великой
русской повествовательной традиции»). Непостижимы и абсолютно
субъективны доводы Л.С. Флейшмана [2013: 614-615], уверяющего, что премия была
присуждена лишь за поэзию: за роман, как к нему ни относись полвека
спустя, — тоже.
Только на первый взгляд может показаться, что история с присуждением
Нобелевской премии Пастернаку выглядит на страницах шведской прессы
осени-зимы 1958-1959 гг. как обособленный сюжет. Уже 22 октября ведущий
журналист «Дагенс нюхетер» У. Лагеркрантц рекомендует читателям газеты
подробное интервью с русским писателем, которое взял у него на даче в
Переделкине Нильс Оке Нильссон и опубликовал в литературном журнале
издательства «Боньер». Пересказывая фрагменты интервью, Лагеркрантц особенно
выделяет такое наблюдение: «Пастернак производит впечатление человека, не
заинтересованного своей судьбой» (DN, 22.10.1958, s. 4). 24 октября 1958 г.
шведские газеты вышли под схожими шапками: «Нобелевская премия по
литературе — Борису Пастернаку». «Свенска дагбладет» отвела лауреату пять
страниц (3, 4, 8, 9, 19), «Дагенс нюхетер» — четыре (1, 4-6). Конечно, все, чем
запестрели газеты, — публикация телеграмм, которыми обменялся Пастернак с
Эстерлингом (телеграмма Пастернака факсимильно отпечатана в SD, 26.10.1958,
s. 15), «реакция Запада» с восторженными откликами
писателей-современников (DN, 24.10.1958, s. 4), страницы рукописи «Доктора Живаго» с
собственноручными пометами автора и моментально переведенные на шведский отрывки
из романа, чудесные переделкинские фотографии, очередная статья Г. Бранделя
«Ожившая статуя», интервью с переводчиком романа на шведский Свеном
Вальмарком, сообщившим о «пяти месяцах тяжелого труда»14, — все это
создавало ощущение прорыва. Из-за железного занавеса пахнуло настоящей
свободой. Даже сам переделкинский дачный сосновый воздух вокруг деревянного
дома напоен, казалось, тем же запахом, что и хвойные леса вокруг Стокгольма,
и взволнованное, счастливое лицо поэта, такое неноменклатурное, тоже было
14 Pasternak В. Doktor Zjivago / Reviderad översättning frân manuskriptet av Sven Vallmark;
dikterna översatta av Ralf Parland och Leo Lindberg. Stockholm, 1958. (Сверенный по рукописи
перевод Свена Вальмарка, стихотворения в переводе Ральфа Парланда и Лео Линдберга.)
Стихотворение «Гамлет» напечатано в «Свенска дагбладет» 24 октября 1958 г. (с. 4).
496
настоящим. А ложка дегтя в этом всеобщем меду славословий — реплика
недовольного выбором Шведской академии А. Лундквиста, не разделявшего
мнение, что «эта книга продолжает традиции великой русской романной прозы», и
сказавшего в интервью, что сюжет ее «не соответствует истории и носит
личный, частный характер», содержание же, в сущности, насквозь идеологично, а в
СССР этот выбор не одобрят (SD, 24.10.1958, s. 8). Но зато доволен А. Камю —
«лучший выбор»! (ibid.). Метет по всей земле...
И как революция и Гражданская война захватили и понесли, словно
щепочки в мутном потоке, Юрия Живаго и Лару, точно так же и их создатель оказался
в плену у времени: ведь шла холодная война. «Дагенс нюхетер» броскую шапку
заголовка снабдила подзаголовками, отрезвляющими, как ледяной душ:
«Полная тишина в Москве. Цензура останавливает интервью. Даг Хаммаршёльд
(Генеральный секретарь ООН в 1953-1961 гг.— Т. М.) пишет дипломатическое
обоснование присуждения премии». Кстати, шведы продуманно объявили о
новом лауреате именно в пятницу: перед выходными официальной Москве
было труднее сориентироваться, а корреспонденты шведских газет уже были
предупреждены и готовились к марш-броску в Переделкино. Между прочим,
отличился догадливый корреспондент «Стокхольмс тиднинген» в Англии. Он
отправился в Оксфорд и встретился с сестрами лауреата, которых тот не видел
37 лет. Лидия Слейтер и Жозефина Пастернак рассказали о своем младшем
брате. Та же газета сообщила, как в Брюсселе советские туристы, посещавшие
книжную ярмарку и вообще с разными целями вояжировавшие по Европе,
раскупили роман «Доктор Живаго», изданный в русском оригинале стотысячным
тиражом.
25 октября, в субботу, когда в «Дагенс нюхетер» подпись под фотографией
лауреата, на коленях которого покоится кот, обещала: «Охотно приеду в
Швецию и получу премию», зловещий заголовок предупреждал: «Москва
рассвирепела на Академию». В СССР начался «мощный протест против присуждения
премии Пастернаку», а писательская газета подключилась к «единодушному
осуждению» (Литературная газета, 28.10.1958, № 129 (3940), с. 3), и в тот же день
стало известно о присуждении Ленинской премии шведскому писателю —
в СССР отметили ею «под сурдинку» Артура Лундквиста (SD, 28.10.1958, s. 3-4).
Ответ был достойным: 122 000 крон (Нобелевская премия в тот год составляла
214 559 крон).
В понедельник, 27 октября, Пастернак «остается спокойным: премия
вызывает проблемы» («Дагенс нюхетер»). Но проблемы были не только у него:
московские корреспонденты «Дагенс нюхетер» проинтервьюировали
Александра Маковского, тогда — одного из членов редколлегии «Литературки», чтобы
услышать его критику в адрес Пастернака. «Стокхольмс тиднинген»
пересказала своим читателям статью из «Правды» Давида Заславского, который назвал
роман «подарком буржуазной прессе»; в самой этой прессе публиковали
многочисленные высказывания западноевропейских интеллектуалов в поддержку
497
Пастернака. Нарастал и другой скандал — чествование Лундквиста по случаю
присуждения ему Ленинской премии прошло без музыкального
сопровождения. В стокгольмский Концертный зал не явились академики во главе с Эстер-
лингом, их пустые места зияли в первом ряду; музыканты отказались играть —
в знак солидарности с Пастернаком. Впрочем, довольно быстро выяснилось,
что Лундквист хочет пожертвовать свою премию на переводы зарубежных
авторов на шведский язык. Несколькими днями позже А. Эстерлинг очень
внушительно объяснил в «Свенска дагбладет», что Ленинскую премию шведскому
писателю на заседании академии вручать не будут и что он против смешения
литературы и политики.
Среда, 29 октября, принесла новую сенсацию: Нобелевской премии были
удостоены три советских физика — Игорь Тамм, Павел Черенков и Илья Франк
(SD, 28.10.1958, s. 3). Тем временем Пастернака уже исключили из Союза
писателей. И очередная публикация в «Свенска дагбладет»: «Судьба Пастернака» (SD,
29.10.1958, s. 4), с продолжением в конце номера: «Эмигрант в своей стране,
говорит советский писатель», — и лицо честного коммуниста А. Суркова на
фотографии (SD, 29.10.1958, s. 15). Четверг, 30 октября— Пастернак отказался от
Нобелевской премии: «Общество, к которому я принадлежу...»: факсимиле
телеграммы с текстом по-французски на первой странице газеты (SD, 30.10.1958,
s. 315). И сразу под его телеграммой, датированной предыдущим числом, 29
октября (и недели не прошло со дня его избрания лауреатом), — в «Дагенс ню-
хетер» заметка под названием: «Мощные атомные испытания в России». На
газетном развороте этого номера «Дагенс нюхетер» опубликована подборка:
интервью с госсекретарем США Джоном Фостером Даллесом, уверяющим в
тотальном контроле в СССР за словом и мыслью; «параллель с нацистской
Германией» — очерк о том, как в Германии при Гитлере преследовали
инакомыслящих и подозрительно относились к Нобелевской премии; сообщения о молчании
в Москве по поводу телеграммы с отказом от премии, печально знаменитая
фраза Семичастного — «свинья не гадит там, где ест», внушительные слова
Хрущева о том, что «все мы должны служить коммунизму...». И энергичный
комментарий X. Мартинсона: «Русские нападки бесподобны по бесстыдству»
(DN, 29.10.1958, s. 1).
30 октября А. Эстерлинг получил в 14.30 печально известную телеграмму,
«полчаса спустя она разнеслась по всему миру» (DN, 30.10.1958, s. 1). Первый
случай в 58-летней истории присуждения Нобелевской премии, потрясенно
сообщали газеты. «Это человеческая трагедия, — сказал А. Эстерлинг, — но она
затрагивает нас всех» (ibid.). А на 12-й странице того же номера, полностью
отведенной под обсуждение неслыханного события, в центре полосы помещена
фотография счастливых людей: за праздничным столом поэт чокается бокалом
красного вина с К. Чуковским, рядом Зинаида Николаевна... Отказ от премии
«Свенска дагбладет» прокомментировала просто: «Это конец личной свободе»
15 Номер газетной страницы не должен смущать: первые две страницы — рекламные.
498
(SD, 30.10.1958, s. 3). И, озаглавив материал «Пастернак: эпилог», газета
напомнила, что и предшественник Пастернака — великий мастер Толстой — тоже
отверг Нобелевскую премию. Но ведь его писательская величина от этого
меньше не стала?
В пятницу, 31 октября, шведы наконец дожидаются официальных
разъяснений от советского посла, публикуя рядом высказывания Эрнеста Хемингуэя,
лауреата 1954 г. Американский писатель полагает, что премия должна быть
абсолютно свободна от политики и присуждаться за чисто литературные
достижения. Первыми о таких достижениях писателя должны высказаться его
соотечественники, прочитавшие его на родном языке, а не иностранцы, судящие по
переводам. Хемингуэй обрушивается на издательство Фельтринелли, которое,
по его мнению, не должно было публиковать роман в переводе, провоцируя обе
стороны в конфликте на неверные шаги, что, в конце концов, и привело к
сложившейся ситуации (SD, 30.10.1958, s. 3). Между тем протесты Хрущеву
направляют другие нобелевские лауреаты — американка Перл Бак и исландец Халлдор
Лакснесс (DN, 31.10.1958, s. 9). В тот же день тринадцать членов Шведской
академии (пятеро по разным причинам отсутствовали) обсудили неожиданный
для себя прецедент и, принимая отказ от премии, отбили автору «Доктора
Живаго» телеграмму «с сочувствием и уважением» (ibid.).
В тот день «Свенска дагбладет» опубликовала стихи, посвященные
Пастернаку Бу Сеттерлиндом (SD, 31.10.1958, s. 4). Эти белые стихи повествуют об
осени, о лошади, которая, как кажется поэту, бредет по опушке леса, и лирический
герой не сразу угадывает в ней Пегаса, покидающего крестьянские поля и
направляющегося в свою космическую конюшню, где нет ничего, кроме света,
а дни подобны солнечным дискам. В сверкающей ночи померкли его здешние,
земные страдания; «в сияющем звездами небе он теперь навсегда дома». Наряду
со столь проникновенными строками печатались карикатуры, на которых
круглоголовый лысый мужчина, именуемый Ромео, вопил во все горло:
«Любите меня!». С балкончика взирали оробевшие Джульетты — Швеция, Норвегия,
Дания. В руках у Ромео была крылатая ракета с серпом и молотом.
Протестов все больше, Москва постепенно оказывается в очередной
изоляции — но выхода из сложившейся ситуации нет. Даже письмо Пастернака
Хрущеву, опубликованное в Швеции 2 ноября, признание поэта, что отъезд из
страны для него равен смерти, не способно поколебать твердокаменный агитпроп.
«Свободный мир реагирует огорченно и брезгливо» (SD, 30.10.1958, s. 15). На
страницах стокгольмских газет имена шведских академиков и писателей
мелькают с большей частотой, чем имена звезд шоу-бизнеса в таблоидах. Газеты
наполняют страницы «телеграфным штормом против угнетения Пастернака» (SD,
31.10.1958, s. 8; 2.11.1958, s. 16). Два дня передышки печатному станку в Швеции,
но в Москве выходных как не бывало: «Новая фаза в нобелевской драме
Пастернака» (SD, 2.11.1958, s. 3). Информированность блестящая, каждая буква,
выходящая из-под пера Пастернака и его окружения и адресованная властям, тут
499
же становится достоянием шведской гласности. Страсти раскалены, X. Лакснесс
именует происходящее «скандалом» (SD, 2.11.1958, s. 16), газеты потрясены
новым поворотом: «Пастернака склоняют к "добровольному" изгнанию из
страны» (SD, 3.11.1958, s. 3). Кипит журналистика, но «спокойно и тихо» обсуждали
нобелевского лауреата шведские писатели, собравшиеся на очередную осеннюю
встречу в кабачке (SD, 4.11.1958, s. 26). Как только заканчивается истерия,
выясняется, что шведских академиков поддерживает далеко не вся творческая
элита страны: «неосторожным и несвоевременным» назвал выбор
Нобелевского комитета поэт Харальд Форс (Forss; 1903-1996). X. Мартинсон совершил
экскурс в историю русской советской поэзии и поведал о своей встрече с М.
Горьким в 1934 г.; он отказался защищать выбор Шведской академии, но совместное
письмо к русским писателям — ради чего, собственно, и было устроено soupe, —
осуждающее ангажированное присуждение А. Лундквисту Ленинской премии,
счел «правильным». Тем временем в Упсале, где традиционно выступает с
лекцией нобелевский лауреат по литературе, профессора и студенты, осознав, что
лекции в этом году не будет, организовали диспут на тему «Нобелевская
премия, поэты и политики» (SD, 4.11.1958, s. 26).
В пятницу, 7 ноября, Свен Вальмарк, переводчик, в качестве подарка к 41-й
годовщине Октября публикует очерк «"Доктор Живаго" и "Тихий Дон"» —
возможно, являющийся первой попыткой сопоставления этих двух столь
несхожих эпических полотен об одной исторической эпохе (мы подробно разбираем
эту публикацию в главе о Шолохове). А лицо Пастернака на фотографиях уже
изменилось; газеты пишут о его «драме», втискивая заметки между рекламой
перчаток и зубных щеток. Среди других материалов ноября стоит отметить
статьи в «Свенска дагбладет» — «Одинок ли Пастернак?» Г. Бранделя (SD, 15.11.1958,
s. 4) и «Подготовительные шаги Пастернака» Оке Янсона (Janzon) о
предварительных набросках к роману, с публикацией трогательной фотографии поэта на
лавочке в осеннем саду (SD, 5.12.1958, s. 14).
Постепенно печальная история сходит на нет, на газетных страницах
появляются новые лица: например, Павел Черенков посещает Париж по пути в
Стокгольм, Ингмар Бергман становится главным режиссером «Драматена» —
ведущего стокгольмского театра, русские нападают на американский самолет
на восток от Готланда — в районе Рижского залива, а Хрущева приглашают в
наступающем году посетить Стокгольм (DN, 21.11.1958, s. 1). Пока же Хрущев в
Бонне — у Москвы созрел новый коварный план, вызвавший очередную бурю
во всем мире, — советское руководство заявило, что хочет превратить
восточный сектор Берлина в свободный город. 6 декабря советские физики, авторы
первых спутников, прибывают в Стокгольм на нобелевские торжества. «Дагенс
нюхетер» как-то задумчиво сообщает: «Запуск нового спутника упрочивает
русские достижения. Молчание о Пастернаке». 10 декабря, в день вручения
нобелевских наград, «Дагенс нюхетер» публикует статью о русском поэте под
красноречивым названием «День Пастернака». Над фотографией Павла Черен -
500
кова, улыбающегося декольтированной веселой соседке за праздничным
столом, подпись строго напоминает: «Все мысли направлены к Пастернаку».
Во всех газетных материалах, освещающих нобелевские торжества,
отсутствие лауреата по литературе воспринималось как огромное и важное
присутствие:
Кульминацией нобелевского года всегда становится присуждение
Нобелевской премии по литературе. Обычно все испытывают радостное волнение.
Было такое возбуждение и в этом году — и завершилось скучным
настроением. На кафедру взошел доктор Андерс Эстерлинг и сказал: «Премия этого
года была присуждена русско-советскому писателю Борису Пастернаку за его
выдающиеся достижения как в современной лирике, так и в области великого
русского повествовательного искусства. Но почтенное сим лицо сообщило,
как известно, что оно не желает принимать награду. Этот отказ не влечет за
собой никаких изменений в действительности принятого решения. Академии
остается лишь с прискорбием констатировать, что вручение премии не может
состояться» (SD, 11.12.1958, s. 17).
На нобелевском банкете речь сказал лауреат предыдущего года Альбер
Камю:
Суть поэта не позволяет ему служить тем, кто создает историю, <...> он
служит тем, кто претерпевает от нее. Эти слова словно напророчили судьбу
Борису Пастернаку. Русский поэт глубоко воспринял эту правду, и мы не должны
забывать его за этим праздничным столом. Альфред Нобель, как известно,
хотел, чтобы литературную премию вручали за дух идеала. Нынешний
нобелевский пир — это тризна по подавленному идеальному духу (SD, 11.12.1958,
s. 16).
А начинался этот год в шведской прессе так: 13 января в «Стокхольмс тид-
нинген» шведский ученый Оке Густафссон выступил с открытым письмом к
«секретарю партии» Никите Хрущеву. Его послание было озаглавлено
«Лысенко и облагораживание растений». Ошеломленный генетик пытался
предостеречь советское руководство от лысенковщины. В конце 1958 г. и партийное, и
литературное руководство СССР продемонстрировало: нельзя привить
благородство дичку.
Глава 12
Михаил Александрович
ШОЛОХОВ
В декабре 1965 г. на сцену Концертного зала в Стокгольме, чтобы получить
главную международную награду по литературе из рук шведского короля,
впервые вышел советский писатель. Его нобелевская речь — весьма выразительный
пример коллективистского сознания, выступления от лица миллионов —
усилена твердым ощущением стоящей за писателем мощной страны и
«руководящей» партии. Произносимые Шолоховым слова [Шолохов 1986: 313] («отряд
писателей моей родины», «отношение единомышленников») отдают сполна
дань партийной риторике, но выражают его собственные убеждения. Отвергая
«попытки представить свое маленькое "я" центром мироздания», Шолохов не
кривит душой и действительно ставит интересы и цели, «близкие миллионам
людей», выше личных [Там же: 314]. Он прямо вступает в полемику с
противоположной точкой зрения (следует, кстати, учесть его происхождение не из
рядов интеллигенции или дворянства, а из казачества — или, по крайней мере,
десятилетия жизни, проведенные в казачьей среде, в которой человек
неизбежно привык осознавать себя прежде всего частью целого):
Человечество не раздроблено на сонм одиночек, индивидуумов, плавающих
как бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам, вышедшим за пределы
земного притяжения. Мы живем на Земле, подчиняемся земным законам, и,
как говорится в Евангелии, дню нашему довлеет злоба его, его заботы и
требования, его надежды на лучшее завтра. Гигантские слои населения земли
движимы едиными стремлениями, живут общими интересами, в гораздо большей
степени объединяющими их, нежели разъединяющими. <...> Я принадлежу к
числу тех писателей, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу
в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу
[Там же].
Член КПСС неожиданно апеллирует к Евангелию, заверяя тем самым, что
духовный источник у русской литературы один.
И действительно, разве не содержится это неразрешимое противоречие
между личным и общим, между личностью и человечеством в самом Новом
Завете? Совершенно очевидно, что, выбирая между Горьким и Буниным, между
Шолоховым и Пастернаком, члены нобелевского жюри сами сознавали всю
сложность и нерешенность этой проблемы, ее противоречивую политическую,
502
социальную, религиозную подоплеку. Присуждение Нобелевской премии по
литературе последовательно Пастернаку и Шолохову реализует отринутую
некогда возможность отметить международной наградой одновременно Бунина и
Горького. То, что никому не пришло в голову разделить премию между
авторами «Доктора Живаго» и «Тихого Дона», наглядно демонстрирует, сколь на
разных идейно-художественных полюсах находятся и творения, и их создатели.
Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) ждал нобелевской награды
ровно тридцать лет.
В Советском Союзе над международным значением и пропагандистским
зарядом Нобелевской премии задумались лишь после присуждения ее
«белоэмигранту» Бунину. При активном участии советского посла в Швеции A.M.
Коллонтай на следующий год после бунинского триумфа была организована
поездка М.А. Шолохова по скандинавским странам [Блох 2001: 120]. Знакомый
с советской прессой тех лет эксперт Нобелевского комитета А. Карлгрен
припомнит в экспертном очерке о писателе откровенное ликование от удавшегося
визита в Скандинавию «культурного агента» Советов. Автор «Тихого Дона»
должен был посрамить «скандинавскую буржуазную прессу», которая «в
лучшем случае замалчивает достижения советской литературы, советского
искусства, советской культуры, а в худшем — описывает большевиков как неких
полудикарей, у которых ничего ценного никогда не может появиться» [Там же].
В цитируемом донесении в Наркомат иностранных дел от 24 декабря 1934 г.
Коллонтай докладывала: «К нам приезжал тов. Шолохов и произвел весьма
приятное впечатление. Все газеты, даже правые, дали о нем хорошие отзывы.
Шолохов в Швеции — признанное имя. Еще раз ставлю вопрос о том, не
попытаться ли через известные группы выставить его кандидатуру на Нобелевскую
премию по литературе в 1935 году, хотя, конечно, легче было бы получить
премию по линии научной <...>» [Там же]. Коллонтай, неустанно пекущаяся о
создании положительного образа социалистического соседа в шведском
восприятии, с начала 1934 г. посылает депеши своему начальству, побуждая
руководителей страны и науки начать кампанию по выдвижению кандидатур
советских ученых на Нобелевскую премию. Коллонтай работала
исключительно четко, устанавливала нужные связи, собирала необходимую информацию,
буквально «проталкивала» настроенных дружественно по отношению к СССР
или прямо прокоммунистически деятелей шведской науки для поездок с
научно-туристическими целями в Советский Союз1. 24 октября 1934 г. Коллонтай в
1 A.M. Блох [2001: 112-126] публикует интереснейшую подборку из богатой коллекции
Архива внешней политики РФ, подробно освещающую деятельность A.M. Коллонтай на посту
посла СССР в Швеции в 1930-е гг. и ее усилия по организации выдвижения советских ученых на
Нобелевскую премию. Из опубликованных материалов становится очевидным прекрасное
знание ситуации в Швеции и трезвый прагматизм Коллонтай, которые обусловливали
исключительно ясное понимание ею того, что в СССР шансы на получение международно признанной
награды есть только у ученых — прежде всего медиков и химиков.
503
письме к заместителю народного комиссара иностранных дел Б.С. Стомонякову
ставит «специальный вопрос относительно <Н>обелевской премии для
советского ученого» [Блох 2001: 115]. Изложив конкретные соображения, она
подчеркивает: «Я придаю большое значение этому вопросу как средству
политической агитации» [Там же: 116].
В литературном «Нобеле» агитационного потенциала было заложено во
много раз больше, однако советский посол трезво оценивала ситуацию: «Нам
едва ли приходится рассчитывать, что архиконсервативный Нобелевский
комитет, состоящий из 18 старцев, среди которых один 65-летний считается
юношей, готов был бы присудить <Н>обелевскую премию одному из наших
советских писателей-беллетристов». Коллонтай не может смириться с прошлогодней
обидой и, путая число членов Нобелевского комитета с составом всей
Шведской академии, продолжает вменять ей в вину солидный возраст ее членов. «На
такую акцию они не пойдут, считая, что наша беллетристика — сплошная
агитация и пропаганда идей коммунизма. Даже имя Горького их отпугивает» [Там
же]. Любопытно, что в основанной на донесениях посла в Швеции переписке
руководителей НКИД и Академии наук СССР личным выпадам, очевидным в
послании Коллонтай, придан вполне нейтральный вид — речь идет лишь о
«консервативном составе Нобелевского комитета». В письме, адресованном
сотрудниками наркомата иностранных дел непременному секретарю АН СССР
В.П. Волгину в декабре 1934 г., упомянуто только одно писательское имя: «Из
литературной области отклик в Швеции находит Шолохов, которого читают и
ставят высоко» [Там же: 120].
Это не преувеличение. Ни один русский писатель не был так хорошо
известен в Швеции. В шведской табели о рангах русские прозаики постепенно
выстроились следующим образом: Лев Толстой - Максим Горький - Михаил
Шолохов. Романы Шолохова переводили частями, по мере их появления,
переиздавали и обсуждали в прессе, читали по радио; интервью с писателем — и во
время его визитов в Скандинавию, и из Вешенской, от собкоров, — регулярно
появлялись на страницах газет. Однако со сменой эпох менялся тон
публикаций о М.А. Шолохове, хотя звание «самого прославленного советского
писателя», автора «великой эпопеи о казачестве» неизменно сопутствовало его имени
на страницах ведущих шведских газет. Шолоховская нобелиада неотделима от
шведской периодики и тесно с ней переплетена. Поэтому в документальном
рассказе о том, как Михаил Шолохов стал нобелевским лауреатом, невозможно
обойтись без обзора шведских газет.
Имя Шолохова и название его первого романа2 впервые появляются на
страницах шведской прессы с 1930 г. Книга неизвестного публике автора
поначалу упоминается среди новинок издательства «Тиден» (Tiden) наряду с
романом «русского писателя-эмигранта Ильи Эренбурга. Другое имя — Михаил
2 Sjolochov M. Stilla flyter Don. Auktoriserad översättning frân ryskan av David Belin. Stockholm,
1930-1942. 5 vol.
504
Шолохов»: так ориентировала читателя в мире современной русской
литературы «Свенска дагбладет»3 (SD, 27.10.1930, s. 4). Довольно скоро последовали
рекламные объявления в разделе «Книги, которые все читают, книги, которыми
все увлекаются, книги, о которых все говорят», ср.: «<...> с небывалым
энтузиазмом шведские критики приветствуют новинку», «Тихий Дон» Михаила
Шолохова. Далее следуют традиционные эксцерпты из откликов в прессе: «Какая
удивительная книга! Каждая страница словно живая, каждая подробность
эффективная, каждый персонаж безусловно убедителен. Книга захватывает как
художественное произведение, но она также интересна как документ, с
достоверным изображением русских взаимоотношений и русского менталитета»;
«Поэт <.. .> художник слова, с силой и свежестью классической русской прозы»
(SD, 6.11.1930, s. 4).
Небольшая рецензия «Казачий эпос», принадлежавшая перу Карла-Августа
Буландера (Bolander) и посвященная первой части «Тихого Дона» в издании
«Тиден», была опубликована в «Дагенс нюхетер» 21 октября 1930 г.4 Критик
утверждал: «Шолохов не просто коммунист — он еще и поэт. <.. .> Михаил
Шолохов — мастер эпического повествования, обладающего силой и свежестью
старой русской прозы, но с гораздо большим уклоном в брутальный
натурализм, — представляет именно новую русскую литературу». «Полнокровная»,
«живая», «широкая», «красочная» — рецензент не скупится на эпитеты,
характеризуя жизнь донских казаков в изображении Шолохова. «Отрешенный от
сражений и страстей, от войн и революций, захватывая всех русских людей,
течет через эпос тихий Дон, безучастный к эпохальным переменам, символ самой
сути жизни, вечной человеческой — и бесчеловечной — жизни» (DN, 20.10.1930,
s. 6). Реклама первого тома «Тихого Дона» регулярно публикуется в газете, и
чуть более чем через год тот же критик откликается на шведский перевод
второй части рецензией «Казачья хроника», где роман назван «документальной
хроникой казачества в революцию», «русской главой из мировой истории» (DN,
1.12.1931, s. 17). «Никакая тенденция не нарушает повествования,— уверяет
рецензент, — красные и белые — одинаково жестоки, и огромная страстность
Михаила Шолохова — подлинная».
В «Свенска дагбладет» рецензии на роман, выходивший частями, были
написаны присяжным критиком газеты Э.В. Ульссоном (Erik William Olsson).
О первой части «Тихого Дона» он замечает: «К сильнейшим страницам романа
принадлежит изображение жизни станицы, художественно насыщенное,
берущее за душу и доставляющее неописуемое удовольствие. Все искрится и
красочно переливается» (SD, 16.11.1930, s. 8). Описание войны дано иначе: «азиатская
жестокость, почти садизм» соединяются в русском народе с «детским простоду-
3 Далее при цитировании газеты дата и страницы указаны в скобках после условного
сокращения SD.
4 Далее при цитировании газеты дата и страницы указаны в скобках после условного
сокращения DN.
505
шием и чувствительностью»; и только революционная пропаганда выглядит
«сугубо неорганично» в этом «необыкновенном романе о казачестве». Вторая
часть несколько разочаровала Э.В. Ульссона, поскольку историзм шолоховского
повествования обретает зависимость от «партийной установки» (SD, 21.10.1931,
s. 5). Соединение романа с чистой историей не кажется критику удачным
«гибридом»; собственно романное повествование колеблется между «жанровыми
сценками, колоритными и бурлескными», и «мощными, выразительными
картинами»; и только концецтуальность «очевидно ограничивает шолоховское
мастерство»: «Шолохов пал жертвой тенденциозной литературы, стал живым
свидетельством того, как происходит распад искусства, когда художник
руководствуется партийной программой». Несмотря на эти, безусловно, верные
претензии книга Шолохова, по сообщению издательства «Тиден», оказалась в
числе шести наиболее распродаваемых (SD, 16.12.1931, s. 31). Три года спустя,
когда в Швеции вышла уже третья часть романа, на страницах «Свенска дагбла-
дет» появилось интервью с М.А. Шолоховым во время его визита в
Скандинавию, где сообщалось, что «Тихий Дон» побил рекорды — его тираж дошел до 2,5
миллионов экземпляров (SD, 19.12.1934, s. 10).
Когда в Стокгольме вот-вот должен был решиться выбор в пользу Ивана
Бунина, рубрика «Книги для чтения» рекомендовала «Тихий Дон» (DN,
30.09.1933, s. 12). О том, что автор «знаменитого» «Тихого Дона» находится в
Швеции, сообщается на первой странице ведущей национальной газеты (DN,
19.12.1934, s. 1,32); полгода спустя ее московский корреспондент на самолете (!)
наносит визит писателю в Вешенской (DN, 21.04.1935, s. 8). Еще через полгода
страницы «Свенска дагбладет» и «Дагенс нюхетер» украсили большие рецензии
на «Поднятую целину» в шведском переводе5 (SD, 16.11.1935, s. 26-27; DN,
14.12.1935, s. 6). Роман советского писателя о коллективизации взорвал
шведские — отнюдь не левые — газеты, за два года до этого горячо
приветствовавшие эмигранта Ивана Бунина: «художник и идеалист в одном лице», автор двух
«шедевров» — этими словами сопровождается реклама нового романа
Михаила Шолохова в «Дагенс нюхетер» (DN, 18.11.1935, s. 4); «новый успех Шолохова»,
«подлинный шедевр, который с первой до последней страницы пышет жизнью,
и силой, и красками, и напряжением», — перепечатывает «Свенска дагбладет»
восторженные оценки южношведской газеты «Сюдсвенска дагбладет» (Sydsven-
ska Dagbladet; DN, 3.12.1935, s. 4).
Рецензия в «Дагенс нюхетер», написанная редактором отделов политики и
культуры Торстеном Фогельквистом6, озаглавлена «Эпический коммунизм»
(DN, 14.12.1935, s. 6). Несмотря на «пагубное влияние диктатуры на свободу
искусства», делает традиционный выпад рецензент — и к этому времени член
Шведской академии, — есть и утешение, пусть и слабое: и в условиях политиче-
5 SjolochovM. Nyplöjd mark. Auktoris. overs, fràn ryskan av David Belin. Stockholm, 1935.
6 Fogelkvist Torsten (1880-1941) — шведский журналист и писатель— поэт, эссеист,
очеркист, религиозный автор; с 1931 г. член Шведской академии.
506
ского давления появляются настоящие писатели: «В России пишет Шолохов».
«Этот писатель, — продолжает Т. Фогельквист, — интересный пример того, как
даже самая радикальная революция не в силах разрушить сильные
литературные традиции. Только что своей раздольной, красочной, богатой казачьей
эпопеей "Тихий Дон" <Шолохов> проявил себя как прямой наследник великой
русской прозы». Следующее заявление не вызвало бы изумления, не касайся
противопоставление Шолохову писателя, всего два года назад ставшего
нобелевским лауреатом: «.. .даже такой тонкий художник, как Бунин, меркнет на его
фоне», зато иными страницами роман напоминает «Западню» Э. Золя.
В «Свенска дагбладет» рецензию на «Поднятую целину» вновь опубликовал
Э.В. Ульссон — и он первым связал имя советского писателя с Нобелевской
премией. Шолохов отнюдь не выдвинут на премию, не попал в список
кандидатов — однако история начинает отсчет именно с этой публикации. Приведем
расширенную цитату из критического отзыва Ульссона о книге, которая
«читается с большим интересом и огромным интеллектуальным наслаждением»:
«Шолохова не случайно называют иногда наследником Толстого. Он повествует
с широтой, с несметным количеством ярких деталей, так удивительно
обрисовывает человеческие характеры, что с ним редко кто может сравниться в
современной литературе. Если когда-нибудь Нобелевскую премию присудят
Советскому Союзу, ее, конечно, получит Шолохов, а не давно изживший себя Горький».
Прекрасный рекламный ход для книжной продукции — газеты охотно
тиражируют этот прогноз: «...Нобелевскую премию получит Шолохов».
В рассказе о выставке русских (советских) книг в Королевской библиотеке
(Стокгольм) в «Свенска дагбладет» (SD, 19.05.1939, s. 6) приведены некоторые
цифры: всего за двадцать лет в Советском Союзе выпущено 692,7 млн книг,
из них художественной литературы — 106,9 млн экземпляров; абсолютным
лидером среди читателей был М. Горький (38,1 млн), а «издания романа "Тихий
Дон" Шолохова уже достигли 4,3 млн экземпляров». В конце 1930-х - середине
1940-х гг. имя Шолохова неизменно появляется в книжной рекламе — его
романы востребованы на шведском книжном рынке, имеют спрос у читателей,
переиздаются. На страницах газеты «Свенска дагбладет» в том же 1939 г. появляется
реклама выпущенной в переводе на шведский язык первой части «мощного
произведения высочайшего литературного стандарта», «великого эпоса о
казачестве» «Тихий Дон» (SD, 19.12. 1939, s. 6); к 1942 г. роман выходит целиком (SD,
01.10.1942, s. 8). Ульссон посвящает роману рецензию «Завершение эпоса» (SD,
24.11.1942, s. 25).
Любопытен контекст сообщения об одной радиопередаче: в своей
ежемесячной вечерней программе писатель Эрик Блумберг7 рассказывал о «Поднятой
целине» М.А. Шолохова (DN, 5.02.1946, s. 11), предваряя художественное чтение
отрывков из романа следующим образом: «<...> за горячим восхвалением Шо-
7 Blomberg Eric Axel (1894-1965) — шведский писатель, литературный критик, переводчик
лирики с разных языков; брат главы шведского радио Хуго Блумберга (1897-1994).
507
лохова (помимо "Поднятой целины" еще и автора могучего "Тихого Дона") ясно
прозвучал намек: кое-что было сказано о гуманистическом духе его книг и о
том, стало быть, что он достоин Нобелевской премии». Идея носилась в
воздухе — и была в прямом смысле озвучена в шведском радиоэфире в первый
послевоенный год.
«Пятьдесят неразлучных спутников» — так был озаглавлен материал в «Да-
генс нюхетер» несколькими днями позже. Писатель, литературный критик Эрик
Линдегрен (Lindegren) составил и обосновал список из полусотни классических
литературных произведений. Этот перечень начинается с «Илиады» Гомера и
включает — наравне с общепризнанными шедеврами мировой литературы,
рядом с Сервантесом, Свифтом, Бальзаком, Флобером, рядом с великими
современниками — Т. Манном, Кафкой, Джойсом (не будем перечислять все пять
десятков имен) — несколько русских писателей: Гоголя с «Мертвыми душами»,
Чехова, Горького, два романа Л.Н. Толстого и три — Достоевского (что
количественно превышает другие позиции в списке). Есть там и «Тихий Дон»
Шолохова — среди книг, «дающих острую связь с землей» (DN, 5.10.1946, s. 9).
А месяц спустя шведские писатели и критики рассуждали на страницах
газеты о литературной Нобелевской премии. Ивар Лу-Юханссон (Lo-Johansson)
сразу начал с критики Шведской академии. «Неблагодарным занятием» счел он
спекуляции о возможных лауреатах: кого ни назови, академия, кичащаяся
своей независимостью, «назовет кого-нибудь другого»: «Крупные писатели,
такие как Лев Толстой, остаются, как правило, без премии; следует также
признать, что крупные величины также и весьма редки». Еще одна причина
сложности выбора достойного писателя — вовлеченность международной
премии в «политическую торговлю». Несправедливо также увенчивать одного
национального писателя, оставляя без награды ничем ему не уступающего
соотечественника: И. Лу-Юханнсон выдвигает спорную и не прижившуюся идею
награждать писателей группами, заметив, что «индивидуальные премии
устарели, настала пора коллективных наград». Порассуждав на эту тему, автор
замечает: «Если, несмотря на все вышеизложенное, мне все же пришлось бы
назвать одного кандидата на премию по литературе за этот год, я предложил
бы Михаила Шолохова. Он создал величайший эпос нашего поколения, и в
"Тихом Доне" всегда будут видеть великую прозу. В нем довольно войны и
крови, чтобы отразить наше время; в его нежной лиричности отражен
современный человек. Прежде всего, это свежее искусство, великое искусство,
свободное искусство. В моем списке только одно имя — Михаил Шолохов»
(SD, 9.11.1946, s. 7). И, вероятно, это не только мнение одного писателя
«пролетарской школы»: анализируя читательские предпочтения, газета сообщает, что
среди зарубежных писателей «сильную позицию уже долго удерживает Михаил
Шолохов» (DN, 24.07.1949, s. 9).
Но мнение Нобелевского комитета — как не без оснований и предполагал
Лу-Юханссон — не совпало с мнением шведских читателей и писателей. Столь
508
благосклонная к Шолохову ситуация послевоенных 1940-х использована не
была, а в 1950-е ветер поменялся и в стране, и в мире. Михаил Шолохов не
почувствовал этого; в шведской прессе он постепенно превращается из героя —
великого автора великих книг — в антигероя, автора сомнительных
выступлений и высказываний. Правда, в московских «литературных заметках» Свена
Вальмарка8 еще нет критических оценок — это лишь корреспонденции,
например, о писательском съезде 1955 г. и речи Шолохова на нем (DN, 4.01.1955, s. 4).
Газета даже сочла нужным втиснуть крошечную заметочку о награждении
М.А. Шолохова, «знаменитого автора "Тихого Дона"», орденом Ленина к
50-летнему юбилею (DN, 20.07.1955, s. 5). Комментарий в «литературных заметках»
С. Вальмарка к этому событию оказывается неожиданно ядовитым, и с этого
времени почтительно-восторженный тон, в каком на страницах газеты было
принято два десятилетия писать о «прославленном писателе», сменяется
колкими, недружественными выпадами, антисоветская окраска которых даже не
маскируется. Юбиляр откровенно осмеивается, впервые предметом насмешек
становится отсутствие у него новых произведений, и как издевка подано
славословие «Ваш талант находится в самом расцвете!» — «это дурной знак»,
обозначающий бесплодность некогда знаменитого автора. О публикации отрывков из
обещанного романа о войне сказано и вовсе уничижительно: «Первые снятые
пробы вызывают сомнение во вкусе целого блюда» (DN, 1.08.1955, s. 3).
Сообщения о писателе и о его романах не исчезают с газетных страниц, и в
феврале 1956 г. на них отразилась «резкая и ироничная критика» Шолохова,
с которой он обрушился на своих коллег на XX съезде КПСС (SD, 22.02.1956,
s. 6); отзвук этой речи слышится еще в нескольких номерах (SD, 24.02.1956, s. 4;
SD, 29.02.1956, s. 6) — «Свенска дагбладет» сослалась на «Литературную газету»,
откуда раздалась резкая критика в адрес уже самого Шолохова. «Дагенс нюхе-
тер» с неменьшим интересом отнеслась к шолоховскому выступлению, в
котором он резко и резво прошелся по советским писателям, и даже
отреферировала публикацию в «Литературной газете» от 28 февраля (DN, 29.02.1956, s. 10),
где Шолохова раскритиковали за демагогию и склонность к «личному культу».
В марте того же года газета публикует в «подвале» большую статью «Советский
писатель» Антона Карлгрена, несколько десятилетий бывшего экспертом
Нобелевского комитета по славянским литературам (SD, 22.03.1956, s. 13). Материал
посвящен не одному только Шолохову, но повествует о «новой литературной
8 Wallmark Sven (1912-1988) — шведский переводчик, журналист (в том числе
радиожурналист); в 1950-1960-е гг. считался одним из главных знатоков России, с 1953 г. был
постоянным автором «Дагенс нюхетер», писал на самые разные темы о Советском Союзе. Русский язык
выучил самостоятельно и рассказывал своим слушателям и читателям о стране, в которой
никогда не был (в 1959 и в 1960 г. ему отказали в визе), неизменно вызывая своими публикациями
гневную реакцию шведских коммунистов. Перевел с русского языка около двух десятков книг,
в том числе А.И. Солженицына («Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ», в соавторстве) и
некоторые стихотворения A.C. Пушкина. «Доктор Живаго» впервые появился на шведском языке
именно в его переводе.
509
политике» партии, о хрущевских намерениях относительно «смягчения
литературной диктатуры» (в которое А. Карлгрен верить не склонен). Шведская газета
продолжает следить за происходящими в СССР переменами, в том числе
литературными, сообщая, между прочим, своим читателям, что Шолохов оказался
среди тех писателей, кого теперь обвиняют в «лакировке действительности»
(SD, 05.05.1956, s. 4). В связи с интеллектуальными брожениями в советской
интеллигенции после XX съезда упоминается и Шолохов с его неоднозначным
выступлением (SD, 29.12.1956, s. 6).
Развенчание Шолохова на страницах шведской прессы стремительно
нарастало, и роль первой скрипки сыграл Свен Вальмарк. Именно он первым
запустил антишолоховский пиар, отрицая в том числе и право этого советского
писателя на Нобелевскую премию по литературе. В материале, предваряющем
майский визит в Швецию в 1957 г. автора казачьей эпопеи, С. Вальмарк
вспоминает его предыдущую, довоенную поездку, отталкиваясь в своей заметке
«Шолохов в Скандинавии» от статьи М.Д. Моричевой9 (DN, 9.03.1957, s. 4).
Журналист иронизирует над тем, что советская скандинавистка «цитирует целиком
издательскую рекламу на обороте обложки датского издания» «Тихого Дона»,
давая тем самым понять подлинную цену подобным книжным промоушен.
Между прочим исследовательница цитирует Ганса Кирка10 — датский писатель-
коммунист сравнил широкую и вольную эпику «Тихого Дона» с «Войной и
миром» по общему для них «спокойному дыханию»; Вальмарк восклицает:
«Поразительное заявление»! Кроме того, Г. Кирк «заявил также, что если кто
из писателей и заслуживает Нобелевской премии, так это Михаил Шолохов».
М.Д. Моричева цитирует и шведских критиков, Т. Фогельквиста и Э. Блумберга,
которые «еще в 1935 г. заявили, что Шолохов должен получить Нобелевскую
премию». Что касается утверждения советской исследовательницы, будто
скандинавские писатели «следуют за Шолоховым», то С. Вальмарк замечает:
«Следовать-то особенно не за чем» — и указывает на ничтожность послевоенной
литературной продукции Шолохова, поскольку «прозаические отрывки» на
страницах советской печати «не стали литературным событием».
То же можно сказать и о повести «Судьба человека», опубликованной в
новогодних номерах «Правды». Предполагалось, что повесть эта станет образцом
для тех писателей, которые сбились с широкой дороги социалистического
реализма. Повесть и рассматривается, и прославляется советскими
литературными критиками как образец. И это совсем не смешно. (DN, 9.03.1957, s. 4).
9 Моричева М.Д. М. Шолохов в скандинавских странах // Михаил Шолохов. Сборник статей.
Л., 1956. С. 243-249.
10 Kirk Hans (1898-1962) — датский юрист, писатель (автор самой продаваемой книги всех
времен и народов в родной Дании, романа в новеллах «Рыбаки», 1928). В 1931 г. вступил в
коммунистическую партию и оставался активным коммунистом до конца жизни. Во время оккупации
Дании Гитлером был арестован (1941), бежал из лагеря в 1943 г. накануне депортации в немецкий
лагерь смерти. После войны сотрудничал с газетой «Земля и народ» (Land og Folk), продолжал
писать книги.
510
В 1957 г. имя писателя мелькает в десятке небольших заметок, что и не
удивительно: в мае-июле Шолоховы ездили в туристическую поездку по
Скандинавии11. Солнечным днем 28 мая 1957 г. Шолохов, щурясь, сошел с борта парохода
«Регина» на причал стокгольмской Шеппсбрукайен. Приветливое сообщение
с первой газетной страницы «Дагенс нюхетер» продолжается репортажем под
красноречивым названием: «Немного опубликовано автором за годы
молчания...» (DN, 28.05.1957, s. 21). Это молчание несколько раз ставится в укор
гостю из донской станицы; его политическое кредо названо на сей раз
«своеобразной смесью из оппозиции и подчинения режиму». Выдержанных шведов
не могут не удивлять эскапады обласканного властью писателя: «То он
устраивает выволочку оскудевшей советской литературе, то вдруг садится и
вычеркивает из "Тихого Дона" украинизмы и диалектизмы». Многое из сказанного в
этой заметке, подписанной «Svan», отзовется в материалах «нобелевского дела»
Шолохова, даже пример его работы над текстом романа: «вместо "закованной в
камень" Москвы появляется "широкая, добрая Москва"» и под. Автор
текстологического исследования — сравнения двух редакций «Тихого Дона» (сделать
это мог только славист, разумеется, а не репортер газеты) — на следующий день
выступал на радио в передаче о госте шведской столице: доцент Нильс Оке
Нильссон представил шведскому радиослушателю творчество Шолохова,
охарактеризовав его «как естественное продолжение и обновление
повествовательной традиции русского реализма XIX в.» (DN, 29.05.1957, s. 15).
В «Свенска дагбладет» следов этого визита осталось на удивление немного.
Поездка вышла не самой удачной, имя заключенного в тюрьму Имре Надя не
сходит с газетных полос, и Шолохову задают весьма неприятные вопросы, пока,
наконец, с газетных страниц в адрес писателя не зазвучали чисто политические
обвинения (SD, 28.06.1957, s. 4; SD, 01.07.1957, s. 4). Годом раньше венгерские
события 1956 г. всколыхнули весь мир; в ноябре шведские писатели, откликаясь
на призыв своих венгерских коллег, обратились с открытым письмом к
писателям советским. Год спустя в «Дагенс нюхетер» С. Вальмарк перепечатывает из
«Огонька» фотографию М. Шолохова, во время своего визита в Швецию мило
беседующего с Маргаретой Субер (Suber), инициатором вышеупомянутого
послания, «исполненого негодования». Как, вопрошает Вальмарк уже самих
шведских писателей, эта встреча вообще могла состояться и как после нее объяснить
«негодование», выраженное за год до того, если Шолохов — не просто
«выдающийся представитель советских писателей, он уже четверть века является
членом коммунистической партии и представляет советских писателей на всевоз-
11 М.А. Шолохов с супругой прибыл в Швецию 27 мая из Финляндии и находился в стране
почти две недели, а затем отбыл в Данию: «Тепло встретили в Швеции замечательного советского
писателя. 27 мая в порту, куда прибыл пароход из Хельсинки, М. Шолохова встречали
представители прессы и различных организаций, в том числе Союза писателей Швеции <...>. Секретарь
Союза писателей Гуннар Бергман, в сердечных выражениях приветствуя Шолохова, назвал его
великим современным русским классиком» (Литературная газета, 1957, № 67, 4 июня, с. 4). См.
также публикацию «От собств. корр.»: Огонек, 1957, № 25, 16 июня.
511
можных важных форумах. Он должен был бы авторитетно ответить и как
писатель, и как член партии» (DN, 27.06.1957, s. 4). Невозможно, кстати, не
обратить внимания на стилистику шведского журналиста, буквально
совпадающую со стилистикой «партийной» советской печати. Но С. Вальмарк не траве-
стирует, он настроен отнюдь не шутливо; он требует организации протестов
шведских писателей против нарушения их авторских прав в СССР — перевода
и издания книг без их ведома. И вот уже имя Шолохова оказывается в
компрометирующем контексте, ср.: «аморально», «нарушение шведских законов»,
«необходимость юридической экспертизы». К издательской политике СССР автор
«Тихого Дона» не имеет прямого отношения — тем не менее как коммунист и
советский писатель должен отвечать за все «преступления режима». Маргарета
Субер, заместитель председателя шведского объединения писателей, через
несколько дней напечатала в «Дагенс нюхетер» открытое письмо Свену Вальмар-
ку (DN, 30.06.1957, s. 4). Она указала журналисту, что в любом случае исполняла
долг гостеприимства, и напомнила, что «Россия не поддерживает т. н. Бернскую
конвенцию»12.
Единой во мнениях, как показывает этот колкий обмен «открытыми
письмами», шведская интеллигенция отнюдь не была. Сам Шолохов, уезжая, о
литературных встречах интервьюеру рассказывать не стал, а на вопрос, изменилась
ли Швеция с его прошлого визита (в 1935 г.), ответил:
Ну-у... ну, раньше ходили в коротких штанах, а теперь штаны стали намного
длиннее. — Дружный смех.
— А что вы скажете о своей конъюнктурной переработке первоначальной
версии «Тихого Дона»?
— Ну да... вообще-то я скептически отношусь к обеим. Но это уж сами
читатели должны решать, что им больше нравится.
— А что вы скажете о спорах в Советском Союзе о свободе литературы?
— О, да, всякая дискуссия оставляет след в литературе... пока, пока!
<...> И все были очень приветливы (DN, 3.07.1957, s. 8).
Так заканчивается «маленькое интервью с удовлетворенным русским
писателем», подписанное только именем — Нильс. Однако о переработке «Тихого
Дона» в Швеции мог спросить только один человек: Нильс Оке Нильссон13. Ин-
12 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений —
универсальный международный договор по авторскому праву, принятый в 1886 г. (назван по месту
ратификации). Согласовывалась и изменялась на протяжении более чем столетия несколько раз.
Советский Союз долгое время не присоединялся к международной конвенции, поэтому все
издания зарубежных авторов (включая русских эмигрантов, в частности, И.А. Бунина), вышедшие
на его территории, считались за его пределами нарушением авторских прав. СССР
присоединился к конвенции в 1973 г., однако не в парижской редакции 1971 г., специально оговорив свои
претензии.
13 Кстати, о смене литературной парадигмы. Через пару лет после присуждения
Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку газета «Дагенс нюхетер» рекламирует вышедший в серии «Книги
для всех» сборник «24 великих русских писателя», подготовленный Н.О. Нильссоном (24 stora
512
тервьюер обескураженно замечает, что писателя не интересует литература, —
во всяком случае, на вопросы о ней он отвечает крайне неохотно и сворачивает
разговор. Его интересует сельское хозяйство, а «рыба занимает его в
особенности». Шолохов действительно старательно избегает любых, даже невинных
провокаций. А что касается длинных брюк, сменивших шорты, — то это не совсем
невинная шутка наблюдательного классика: в 1930-е гг. Швеция
ориентировалась на Германию, традиционная баварская мужская одежда распространилась
в Третьем рейхе повсеместно и была охотно перенята шведами, хотя в их
климате подобная форма одежды особенно комфортной не является. После войны
Швеция уже не была ориентирована на Германию, в том числе и в сфере моды.
Шутка советского классика оказалась с политическим подтекстом.
Шолохов перешел в разряд анахронизмов, в его образе появилось что-то
шутовское — во всяком случае, в подобном ключе о нем пишет шведская
пресса, а журналисты со скукой отмечают, что его новые публикации не становятся
«событием» в литературе. На фоне закосневшей в соцреализме и
задыхающейся от цензуры советской литературы в том же 1957 г. разразилась сенсация:
итальянская публикация «неортодоксального романа Бориса Пастернака "И
dottor Zivago" (Feltrinelli, Milano) стала первостепенным литературным
событием»14. Рецензент «Дагенс нюхетер» замечает, что Б. Пастернак пишет «роман
того же типа», что и «Сивцев Вражек» Михаила Осоргина, — с тем
существенным отличием, что Осоргин жил в эмиграции, когда писал свой роман о
судьбах московской интеллигенции в революционные годы15. Завершает свой
отклик на роман И. Виселиус следующим образом: «Роман со всей очевидностью
является большим моральным достижением, заставляя вспомнить и о
захватывающих достижениях Пастернака-лирика, но благодаря неизменной
правдивости автора и выразительности лучших эпизодов романа он становится самым
убедительным прозаическим произведением, которое русский писатель сумел
преподнести нам со времени создания Шолоховым "Тихого Дона"». Однако
Свен Вальмарк не согласен: опираясь на парижскую «Русскую мысль», он
вносит существенные коррективы в сложившуюся иерархию русской литературы:
по версии русских эмигрантов — не Шолохов предшественник Пастернака в
создании новой выдающейся русской прозы, «Доктор Живаго» продолжает
ryska berättare frân Tjechov till Pasternak. Red. av Nils Àke Nilsson. Stockholm, 1961). Подзаголовок
гласит: «От Чехова до Пастернака». В книгу включены рассказы Горького, Андреева, И. Ильфа и
Е. Петрова, конечно, Шолохова — но если раньше русская проза XX в. укладывалась между
Чеховым и Шолоховым (Berömda ryska berättare frân Tjechov till Sjolochov. I urval av Nils Âke Nilsson;
med teckningar av Kerstin Abram-Nilsson. Stockholm, 1958), то теперь одно «знаменитое» имя
«справа» поменялось на другое «великое». (Выделено нами — ХМ.)
14 Wizelius I. Pasternaks nya roman // Dagens nyheter. 4.12.1957. S. 4.
15 Чтобы прочитать эту и некоторые другие книги М.А. Осоргина в Швеции, русским
языком было владеть не обязательно: несколько книг писателя — «Вольный каменщик», «Свидетель
истории», «Книга о концах» и «Сивцев Вражек» — были изданы в переводе Э. и И. Ривкин и
Д. Брика в середине 1930-х гг. Последний получил по-шведски название «Тихая улица»: Osorgin M.
Den tysta gatan. Auktoris. övers. frân ryskan av Daniel Brick och Josef Riwkin. Stockholm, 1932.
513
иные традиции — это лучшее произведение после «Вора» Л. Леонова 1927 г. и
«превосходит» шолоховский «Тихий Дон» (DN, 11.04.1958, s. 5). Никогда не
интересовавшая северную Швецию литературная жизнь русского Парижа и Нью-
Йорка оказывается, наконец, востребованной, а неслыханные прежде шведами
имена и названия — Борис Зайцев, «Новое русское слово» — становятся гласом
литературной истины. Неудивительно: в СССР «немногое изменилось со
времени смерти Сталина».
В новогоднем номере 1957 г. «Свенска дагбладет» провела викторину
(сейчас это называется тест), предложив читателям 20 вопросов о важных событиях
уходящего года; из трех возможных ответов следовало выбрать правильный.
Вопрос под буквенным номером «i»: «В этом году один из кандидатов на
литературную <Нобелевскую> премию побывал в стране с визитом. Кто это?
1. Жан-Поль Сартр. 2. Альберто Моравиа. 3. Михаил Шолохов». Для тех, кто не
знает правильного ответа, — подсказка: портрет М.А. Шолохова (SD, 31.12.1957,
s. 11). В преддверии наступающего 1958 г. газета не прогадала бы, открыв
тотализатор: читатели ни за что не угадали бы очередного лауреата.
Хотя до скандала с присуждением Нобелевской премии еще полгода,
странная утечка информации все же произошла, сначала попав на страницы
советской газеты и лишь затем отразившись в шведской прессе: «Московская
"Литературная газета" критикует Нобелевский комитет за то, что из списка
кандидатов на премию этого года вычеркнут Михаил Шолохов» (SD, 28.04.1958,
s. 24). В мае в Москве побывал председатель шведского союза писателей Стел-
лан Арвидсон (Arvidson; 1902-1997), политик социал-демократической
ориентации с сильными коммунистическими симпатиями, проведший ряд встреч
с советскими писателями и литературными функционерами (в том числе с
М. Шолоховым, И. Эренбургом, А. Сурковым; SD, 24.06.1958, s. 15). На
августовском кинофестивале в Карловых Варах экранизация «Тихого Дона» (фильм
Сергея Герасимова) получила Гран-при, о чем также сообщает шведская газета
(SD, 28.07.1958, s. 7).
То, что выбор нобелевского лауреата 1958 г. — открытый вызов СССР,
косвенно подтверждают другие публикации в шведской прессе. Так, посвящая
целую полосу новому лауреату по литературе («Гамлет» в переводе Р. Парланда и
Л. Линдеберга, статья Гунара Бранделя «Ожившая статуя»), «Свенска
дагбладет» размещает и редакционный — неподписанный — материал «Нобелевский
лауреат Борис Пастернак» о первом советском писателе, получившем премию,
где утверждается, что Пастернак — «величайший представитель советской
литературы, равновеликий таким фигурам, как поэт Маяковский и Михаил
Шолохов, автор великого романа "Тихий Дон"» (SD, 24.10.1958, s. 4). В ноябре 1958
г., на фоне публикаций о Б.Л. Пастернаке, его творчестве и судьбе, «Дагенс ню-
хетер» рассказывает о «русском киношедевре» — герасимовском «Тихом Доне»:
«наиболее захватывающий из всех мною когда-либо виденных фильмов»,
заявляет автор кинообозрения С. Бьёркман (DN, 4.11.1958, s. 6). Восторженный рас-
514
сказ о фильме завершается так: «Шолохов все же не получил Нобелевской
премии, он даже не разделил ее с Пастернаком, что было бы встречено с
удовлетворением. Но фильм Сергея Герасимова по роману "Тихий Дон" заслуживает
безраздельной нобелевской награды по киноискусству».
Из публикуемого 25 октября обзора шведских газет явствует, что
присуждение премии Борису Пастернаку ошеломило шведских интеллектуалов, никогда
об этом русском писателе не слыхавших и его не читавших (при почти полном
отсутствии переводов). Понимая всю политическую изощренность этого
выбора, журналисты высказываются осторожно. Так, Улоф Лагеркранц заметил,
что «Михаил Шолохов является великим писателем и ему тоже следовало бы
присудить Нобелевскую премию» (SD, 25.10.1958, s. 4). Шеф отдела культуры
газеты «Моргон тиднинген» Эрвин Лейсер попытался обосновать выбор
Нобелевского комитета тем, что Пастернак стоит вне политики, а это импонирует
больше, чем вовлеченность Шолохова в партийную жизнь. Впрочем, это
писатель настолько прославленный, что выбор Шведской академии, конечно,
многих удивил; однако Шолохов «остается в списке ожидания» (SD, 26.10.1958, s. 4).
Публикации, связанные с «делом Пастернака» и неотделимыми от него
спекуляциями на тему «почему не Шолохов», с отсылкой к московским откликам на
событие, перемежаются с киноафишей, сообщающей, где можно посмотреть
герасимовский «Тихий Дон». Киноклассикой, конгениальной роману, называют
экранизацию кинокритики (SD, 04.11.1958, s. 9). В те же дни публикуется
заметка о письме издателя Дж. Фельтринелли в немецкую газету «Вельт» (Die
Welt), содержащее предположение, будто Пастернак «пал жертвой личных
конфликтов» с А. Сурковым, использовавшим свой политический ресурс
секретаря СП СССР в личных целях; кстати же Фельтринелли осуждает Шведскую
академию за сделанный выбор, слишком политизированный, — имея в виду
«особенности» советской литературы, «премию следовало поделить между
Шолоховым и Пастернаком» (SD, 16.11.1958, s. 3).
«В буре, разыгравшейся вокруг осеннего присуждения Нобелевской премии
по литературе, шолоховский эпос "Тихий Дон" сражался против "Доктора
Живаго" Пастернака», — подытоживает нобелевские контроверзы 1958 г. «Дагенс
нюхетер», предоставив слово Свену Вальмарку: в своей статье он «сопоставил
романы и нашел в них определенные соответствия»16. В первых строках
сказано, будто «разные источники утверждают, что было бы лучше, если бы
Нобелевскую премию этого года разделили между Шолоховым и Пастернаком».
Однако «Тихий Дон» написан уже давно, «что не раз звучало со страниц этой
газеты», напоминает Вальмарк, словно расстроенный тем, что его заслуги по
вытеснению Шолохова как крупного современного писателя из сознания
массовой шведской аудитории остались незамеченными; журналист также
озабочен, что кто-то видит в мотивации в пользу Пастернака не только его
«литературные заслуги», но «тактический политический ход» — а «это во всех смыслах
16 Wallmark S. «Doktor Sjivago» och «Stilla flyter Don» // Dagens nyheter. 7.11.1958. S. 4.
515
неприемлемо». Обратившись к истории создания «Тихого Дона» и его
переработки, даже процитировав советских шолоховедов, В.В. Гуру и И.Г. Лежнева17,
Вальмарк завершает свой экскурс весьма откровенно, констатируя, что
присуждение Нобелевской премии Шолохову было бы воспринято в Советском
Союзе с удовлетворением.
Между тем журналист не может не признать, какое удивительное сходство
лежит и в непростых условиях работы писателей над обоими романами, и в
некоторых образах, особенно в женских. Так, необычайно похожи между собой
«покорные, любящие Наташа и Тоня, с одной стороны, и страстные, сильные
Аксинья и Лара — с другой. Да и во всей структуре романов в целом
соответствий так много, что невозможно не задаться вопросом, простое ли это
совпадение. В образе Григория Мелехова Шолохов воплощает трагедию обычного
зажиточного казака, середняка в эпоху революции, в которой он, в силу своего
происхождения и воспитания, естественно, не может найти правильного для
себя места. Но сходным образом и Пастернак воплощает в докторе Живаго
трагедию старой интеллигенции.
Свен Вальмарк был тяжело болен: неправильное лечение от туберкулеза
еще в молодые годы сделало его фактически инвалидом; он жил в глубокой
провинции, в деревне. Он выписывал русские газеты, слушал радио, однако его
суждения о Советском Союзе оставались чисто умозрительными, настоящей
страны и ее людей он не знал и не чувствовал. Поэтому к его мнению —
впрочем, весьма ценимому ангажировавшими его шведскими масс-медиа — можно
прислушиваться как к кабинетному пророчеству, но можно рассматривать как
ни на чем не основанный нонсенс. Вальмарк продолжает свой
сопоставительный обзор:
Пастернака называют внутренним эмигрантом из Советского Союза. Но кто
такой, по сути, Шолохов? Само собой, он прославлял Сталина и с враждебным
смирением принимал руководящую роль партии. Но все это внешне. А что он
за писатель? И он тоже эмигрант во внутренний мир. Он почти совсем молчит
в течение уже долгого времени, подавляемый системой, которую он, по
общему признанию, принял и которая давала ему славу и богатство на
протяжении многих лет, но лишила самого существенного — его живого голоса в
русской литературе.
И вот Шолохов и Пастернак, два представителя одной литературы, стоят
теперь на разных полюсах; коллизия, которая кажется Вальмарку поистине
барочной! Он вновь замечает, как много сходства между Григорием Мелеховым и
Юрием Живаго, — им было бы о чем поговорить, тогда как с Мишкой Кошевым
доктору говорить не о чем. «Очевидно, что увенчание законопослушного, давно
принужденного к молчанию члена партии Шолохова было бы со счастливым
удовлетворением встречено в нынешнем Советском Союзе. Однако пришло
17 Тура В.В. Жизнь и творчество М.А. Шолохова. М., 1955; Лежнев И.Г. Михаил Шолохов. М.,
1948.
516
время признать, что партийные здравицы во славу его великой эпопеи мертвы.
Ведь только помыслить о присуждении премии за иные литературные и
человеческие достоинства, чем те, которые представил Пастернак в "Докторе Живаго",
означало бы продемонстрировать глубокое пренебрежение фактической
стороной дела». Возможно, эта статья является самым убедительным
доказательством в пользу выбора, сделанного Нобелевским комитетом, чем многие и
многие тексты, разбирающие противоречия советской литературной нобелиады
1950-1960-х гг.
О визите М.А. Шолохова в Стокгольм в мае 1959 г., когда писатель совершал
большое весеннее турне по европейским странам, в «Летописи его жизни и
творчества» говорится фрагментарно18. Между тем шведские газеты широко
освещали этот визит. Так, 12 мая «Дагенс нюхетер» начинает репортаж о
приезде Шолохова с первой страницы19; на ней, кстати, размещено всего три
фотоснимка — строительство метромоста в центре Стокгольма, встреча
Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршёльда с министрами иностранных дел в
Женеве и — советский писатель, не лауреат Нобелевской премии. Шолохов
начинает с обыгрывания пушкинской цитаты (об обращении Шолохова к
Пушкину дружно написали все репортеры): «Поговорим о "Докторе Живаго",
поговорим о Пастернаке». Пушкинская строка в переводе на шведский звучит не
настолько точно, чтобы понять — цитирует ли Шолохов «Гавриилиаду»
(«Поговорим о странностях любви») или «19 октября» («Поговорим <...> о славе, о
любви»). Но именно соединение двух этих пушкинских строк слишком верно
отражает настроение самого Шолохова: не он ли говорил о том, что надо было
бы просто напечатать роман Пастернака в Советском Союзе и никакой
мировой шумихи не было бы? Так и в Стокгольме — никто и заикнуться не успел о
недавнем нобелевском лауреате, его имя у самого Шолохова так и крутится на
языке, очевидно, что он неотступно думает о Пастернаке — в Венеции, Риме,
Флоренции, Милане, когда восхищается молодыми итальянскими писателями,
музеями Ватикана и запоздалым академизмом художника Григория Шилтьяна,
в поездке по замкам Луары, в Британском музее, на пароходе из Копенгагена в
шведскую столицу... То, что он говорит, уже растиражировали другие
европейские газеты, это не экспромт, а отточенные, обдуманные формулировки:
«...антихудожественный роман, аморфный в предмете и в повествовании,
который стоило бы опубликовать и в СССР. То-то удивились бы три тысячи
молодых писателей средней руки, почему же не печатают их столь же плохие
романы?». Особенно интересно то обстоятельство, что «все советские писатели — и
сам Шолохов — читали этот роман в рукописи» (DN, 12.05.1959, s. 1, 40).
18 См.: http://feb-web.ru/feb/sholokh/shl-abc/shl/shl-289l.htm?cmd=2&istext=l, дата
обращения 11 сентября 2017 г.
19 Называется материал, кстати, «Русская практика по закону об авторских правах теперь
может быть пересмотрена»: блиц-обмен открытыми письмами шведских литераторов на фоне
обсуждения Шолохова, кажется, тоже имел к этому некоторое касательство. Материал не
подписан. См.: Rysk författarrättspraxis nu mögen art revideras // Dagens nyheter. 12.05.1959. S. 1, 40.
517
Поспекулировав немного о важности читательского мнения — чем немало
позабавил интервьюера, отлично понимающего цену и массовому читателю,
и формируемому у него мнению, — Шолохов вновь возвращается к Пастернаку,
«больше и лучше известному на родине поэтическими переводами», а
собственными стихами — «лишь узкому кругу эстетствующих снобов». Шолохов
«добавляет, что старается говорить как можно более объективно, совсем не с
партийной точки зрения», а как «друг, не удостоенный Нобелевской премии»;
впрочем, Шолохов не скрыл, что не теряет надежд на премию: «А что будет, если
он ее получит? Нет, не следует делить заранее шкуру неубитого медведя...».
Ответы на литературные вопросы: «Лучший роман? — Ненаписанный. — Лучший
зарубежный писатель? — Джеймс Олдридж. — Почему не Хэмингуэй? —
Потому что у него на целый роман может не быть ни одной женской фигуры <...>»
И еще: «...роман, быть может, в своей художественной форме должен дольше,
чем все прочее, долгое время полежать нетронутым» (DN, 12.05.1959, s. 1,40).
Газеты, разумеется, наслаждаются скандалом. «Свенска дагбладет» также
тиражирует уже почти крылатые слова Шолохова о «Докторе Живаго»
(«нехудожественная книга») и о присуждении премии «великому переводчику»,
чья известность как поэта не выходит за пределы «узкого круга эстетов и
снобов» (SD, 12.05.1959, s. 8). На фотографии Шолохов, прикусив сигарету, смотрит
в лицо читателям не очень веселыми глазами, но шутит, что он моложе и
Бунина, и Пастернака, — а далее, как под копирку, слова о надежде на премию и о
медвежьей шкуре (ibid.). На следующий день в газете публикуется
неподписанный материал «Шолохов и Пастернак» (треть колонки), где появляются
добавления к шолоховской оценке Пастернака и его романа, прозвучавшие на пресс-
конференции писателя в шведской столице (SD, 13.05.1959, s. 4); однако важнее
озвучивания официальной партийной точки зрения на «Доктора Живаго» как
на «антибольшевистский роман» для Шолохова, вероятно, было присутствие
на премьерном показе в стокгольмском кинотеатре «Роял» фильма Сергея
Бондарчука «Судьба человека», прошедшем с огромным успехом (SD, 13.05.1959,
s. 15; на экранах Швеции киноленту начали крутить осенью). А в конце августа
газета перепечатала сообщение агентства новостей о визите руководителя
Советского государства в Вешенскую и о приглашении писателя в официальную
поездку по США (SD, 31.08.1959, s. 8).
Во время сентябрьского визита Н.С. Хрущева в США, куда его сопровождал
М.А. Шолохов, шведские газеты охотно цитировали злоязыкого «отставного
кандидата на Нобелевскую премию», именующего Пастернака то «поэтом для
старых дев» (DN, 2.09.1959, s. 10), то «раком-отшельником» (DN, 27.09.1959,
s. 22). А через месяц газета в разделе кинокритики «с радостью рекомендует
всем кинозрителям первоклассный фильм, фильм высокохудожественный и
глубоко человечный»: «Судьба человека» (DN, 27.10.1959, s. 16). Весной 1960 г.
газеты освещают очередной визит М.А. Шолохова в Скандинавию гораздо
лаконичнее и суше, чем прежде. Это и не удивительно: Шолохову по-прежнему
518
приходится отвечать на вопросы о «Докторе Живаго», а журналистам
неинтересно перепечатывать ответы, что ничего значительного Пастернак не написал,
о чем будто бы свидетельствуют малые тиражи его книг. Но о чем еще говорить?
«Быть может, господин Шолохов невысокого о нас мнения, раз мы все время
спрашиваем о его отношении к прославленному коллеге? Быть может, он
отвечает так, нарочно нас провоцируя? Быть может, его ответ продиктован
опасением быть превратно истолкованным на родине?» (DN, 15.03.1960, s. 2).
Корреспондент (материал напечатан без подписи) намерен даже защитить Шолохова,
уставшего отвечать на тысяча сто первый вопрос о его «литературном
конкуренте», но не прочь и объяснить, почему «Доктора Живаго» не читают в
Советском Союзе: все просто, «он там запрещен»: «Так не будем продолжать эту
лицемерную комедию. Будем впредь спрашивать у Шолохова о погоде» (ibid.). Не
прошло и дня, как Шолохов должен был высказаться в Стокгольме о
Достоевском, — и оказалось, что автор «Преступления и наказания» и «Братьев
Карамазовых» «устарел» и его «все меньше и меньше» читают в России (DN,
16.03.1960, s. 9). Забежим вперед: в 1965 г. в потоке информации о новом
нобелевском лауреате мелькнет и цитата из его статьи 1963 г., о «позабытом» будто
бы в СССР нобелевском лауреате Бунине (SD, 16.10.1965, s. 11). Но и в
следующий свой визит — на сей раз с целью изучать шведское сельское хозяйство —
Шолохов все-таки не удержался от свежего литературного заявления:
«Настоящий русский писатель — это Лесков; он известен меньше, чем Тургенев, но
крупнее его» (DN, 4.02.1962, s. 20).
Все годы между двумя «советскими» литературными «Нобелями» не
унимался Свен Вальмарк, продолжая «преследовать» Михаила Шолохова.
Журналист скептически откликается на выход в «Роман-газете» «фрагментов
долгожданного романа» «Они сражались за Родину» (DN, 16.03.1959, s. 5), сообщает
о слухах вокруг предполагаемого финала «Поднятой целины» и о ее
заключительной главе («свершилось: завершена»), прочитанной наконец автором в
Московском университете под гром оваций, — заметка называется, кстати,
«Препарированный Шолохов», поскольку сообщает и о том, как редактировались с
подачи партийного руководства статьи Шолохова для его собрания сочинений
(DN, 25.01.1960, s. 4). Наконец, он публикует развернутую рецензию на
«Поднятую целину, часть II» (DN, 2.05.1960, s. 420), разумеется, не разделяя
«энтузиазма» советских критиков. Вальмарк не ироничен и даже не очень
критичен — он печален, ибо главное его впечатление состоит в том, «что у Шолохова
никогда не было свободы быть самим собой». Выдержав довольно долгую паузу,
в начале 1963 г. С. Вальмарк публикует статью «Шолохов и Нобелевская пре-
20 Уже после получения М.А. Шолоховым Нобелевской премии С. Вальмарк откликается на
сообщение из Москвы о найденных в архиве двух письмах писателя Сталину 1933 г. и
напоминает читателям о своей рецензии, сохраняя прежнюю уверенность в том, что роман «не дает
впечатления о том времени, о котором сам Сталин сказал, что оно было тяжелее мировой войны
(в разговоре с Черчиллем в 1942 г. о коллективизации. — Т. М.), и которое стоило миллионов
жизней, отнятых ликвидациями или голодом» (DN, 14.02.1966, s. 4).
519
мия» (DN, 4.02.1963, s. 5), основанную, как и всегда у этого автора, на анализе
советской прессы. Выяснилось, что на праздновании 100-летия A.C.
Серафимовича Шолохов «раскритиковал Шведскую академию, которая присудила
Нобелевскую премию Бунину, вместо того чтобы отметить "солидный",
"энциклопедический" роман "Клим Самгин" Горького или его же "Артамоновых". <...> О
том, что Пастернак получил Нобелевскую премию, но вынужден был от нее
отказаться, Шолохов не упомянул». Заканчивается же литературная заметка, как
припевом, словами, что в «Советском Союзе писателю нужно быть членом
партии и писать официально признаваемые произведения — как в точности и стал
делать Шолохов после завершения первой части "Тихого Дона"» (ibid.).
В первой половине 1960-х гг. имя Шолохова не редкость на страницах газет.
1964 г. ознаменовался очередным скандалом с Нобелевской премией по
литературе, и в октябре Шолохов упомянут на странице, посвященной присуждению
Нобелевской премии Ж.-П. Сартру и его отповеди Шведской академии (SD,
23.10.1964, s. 10). «Свенска дагбладет» напечатала большой материал от первого
лица, правда, подписанный взявшей интервью Биргит Нерман-Баффуа (Ner-
man-Baffoy), но являвшийся чистым монологом французского лауреата-«дисси-
дента» и воспроизводивший его слова в литературном приложении «Фигаро» от
15 октября. Сартр сказал, среди прочего, что «несмотря на все симпатии» точно
так же отверг бы и Ленинскую премию. Отказываясь от Нобелевской премии,
Сартр заявил, что «с объективной точки зрения» она превратилась в награду,
которой «отмечают либо писателей из западного блока, либо бунтарей из
восточного блока. Поэтому ее лаврами никогда не увенчают Неруду, величайшего
из южноамериканских поэтов. Ее никогда не присудят Луи Арагону, который
ее, несомненно, заслужил. Прискорбно, что премию присудили Пастернаку
прежде, чем Шолохову, да к тому же еще за советско-русское произведение,
которое было издано за рубежом и запрещено в собственной стране» (ibid.).
Публикуя интервью Ж.-П. Сартра, отказавшегося от премии и заявившего,
что Шолохова следовало отметить ею раньше, чем Пастернака, «Дагенс нюхе-
тер» в качестве одного из подзаголовков ставит слова «Русский голос об
академии: закулисная игра» (DN, 24.10.1964, s. 6). Шолохов — кстати, сменивший
в шведской прессе свой привычный титул «великого писателя» на неизменное
отныне «автор "Тихого Дона"» — почти обвинен в том, что он был «лучшим
другом» Хрущева, а из Сартра цитируются справедливые строки, которые
никогда и никого еще не утешали в нобелевской лотерее: «Я хочу, чтобы меня
читал народ, потому что он действительно хочет читать мои книги ради самих
книг, а не ради коллекционирования» (ibid.). Летом следующего 1965 г. по
шведскому телевидению был показан фильм Е. Моргунова «Когда казаки плачут»
(1963), посвященный Шолохову и анонсированный на страницах «Дагенс нюхе-
тер» (DN, 9.08.1965, s. 10).
Наконец, в середине октября 1965 г. из Стокгольма пришло долгожданное
известие. О Нобелевской премии, присужденной писателю, сообщалось на
520
страницах 1, 7 и 9 субботнего номера «Дагенс нюхетер» от 16 октября 1965 г.
«Шолохов получил Нобелевскую премию» (s. 1), «Тихо течет Дон» (s. 7), а уже
набившее оскомину рекламное объявление о продаже книг писателя
украсилось крупной шапкой: «Нобелевский лауреат этого года Михаил Шолохов» (DN,
16.10.1965, s. 9). «Свенска дагбладет» 16 октября 1965 г. вышла с заголовком
«Нобелевское золото— Дону-реке» (SD, 16.10.1965, s. 3). Газета перепечатала
уже украшавшую некогда ее страницы фотографию свежеиспеченного
лауреата, прикусывающего сигарету и в упор смотрящего на читателя, но уже почему-
то не грустно, а с большой хитрецой. «Создатель национального эпоса» и
«современный классик», ставший, наконец, первым — но, собственно, пока
последним — русским писателем, который принял нобелевскую награду, находясь на
родине, выразив благодарность и готовность приехать за ней в Стокгольм, что
и исполнил в соответствии с общепринятым ритуалом. «Русское бюро новостей
ТАСС отправило телеграмму-молнию, вызвав шквал откликов на то, что
выдающийся русский писатель получил, наконец, заслуженную награду» (SD,
16.10.1965, s. 1).
«Свенска дагбладет» 16 октября была переполнена посвященными писателю
материалами: не без язвительности Оке Янсон в очерке «Академия сюрпризов»
отметил, что «восемнадцать угодливых шведских господ» во всей современной
мировой литературе отыскали, наконец, автора написанных три десятка лет
назад книг и увенчали «представителя социалистического реализма, о котором
мечтал некогда Горький» (16.10.1965, s. 4); десятая страница— праздничная:
«опутанный микрофонами» постоянный секретарь академии Карл Рагнар
Тиров, с лицом совершенно бесстрастным, провозглашает лауреата 1965 г.;
собственный корреспондент Йонни Флудман (Flodman) сообщает из ликующей
Москвы (SD, 16.10.1965, s. 10-11): «Эта радость резко контрастирует с
озлобленной реакцией, когда в 1958 г. Борис Пастернак получил Нобелевскую премию и
был вынужден от нее отказаться». Уже на следующий день, в воскресенье,
«после долгих и интенсивных телефонных звонков шефа московского корпункта»
появляется «эксклюзивное» интервью писателя (SD, 17.10.1965, s. 3,12),
находящегося в поездке по Уралу; в традиционном литературном приложении к этому
номеру опубликован рассказ «Наука ненависти» в переводе А. Викман (Wick-
man), с иллюстрациями Ф. Хальда (Hald) и с фотографией молодого Шолохова
в кубанке «на террасе его дома в Вешенской» (SD, 17.10.1965, s. 25). Тем
временем Й. Флудман отправляется в Ростовскую область и рассказывает о писателе
из его «огромной виллы», «13-комнатного казачьего замка» (SD, 19.11.1965, s.
32). 3 декабря газеты сообщают точный состав «свиты» М.А. Шолохова — жена
и четверо взрослых детей, журналисты (Ю.С. Мелентьев, Ю.Б. Лукин — «шоло-
ховеды», М. Теплов21). Во время визита в Швецию Шолохова будет принимать
21 М.И. Теплов недаром был назван без привычного второго инициала: он был хорошо
знаком шведам, заведовал бюро АПН в Швеции, сам публиковал иногда материалы в «Дагенс
нюхетер», а в «свите» нобелевского лауреата выполнял роль переводчика.
521
«преподаватель русской и советской экономической политики в Упсальском
университете» Андреас Одаль (Âdahl) — но не слависты-филологи.
Накануне торжеств, 8 декабря, Шолохов отвечал на вопросы журналистов
на большой пресс-конференции: «на идеологические и политические —
традиционным (и ожидаемым) набором, на литературные — на удивление четко и
ясно»: «...отмахнулся от Ивана Бунина как от "эмигранта", Пастернака
классифицировал как "внутреннего эмигранта"», но косвенно признал, что «победой»
советского строя можно считать «только третьего нобелевского лауреата по
литературе, хотя награда и пришла с тридцатилетним опозданием» (SD, 8.12.1965,
s. 11). Шолохова расспрашивают о писателях-диссидентах, и он отвечает «нечто
невразумительное» о И. Бродском и А. Синявском22; другими ответами ставит
шведов в тупик, сообщив, в частности, что «Исаак Бабель был его другом»
(ibid.). На вопрос о полученных деньгах отвечает, что будет путешествовать,
что «хочет многое повидать».
Далее все идет своим чередом, в компании советского посла Н.Д. Белохво-
стикова с женой и пресс-атташе посольства Е.П. Рымко М.А. Шолохов во фраке,
сопровождаемый супругой М.П. Шолоховой в идеально сидящем длинном,
согласно церемонии, платье и с просто заколотыми волосами, получил диплом и
банковский чек, выступил, посетил и т. д. согласно протоколу и, ко всеобщему
удовольствию, торжественно и прилично случаю. Совсем молодой
преподаватель из Упсалы, говорящий по-русски А. Одаль сопровождал семейство
Шолоховых повсюду, помогая им ориентироваться в иноязычной праздничной
неразберихе. На банкете «дамой» Шолохова была госпожа Луиза Нобель: «Они
живо болтали, но вот интересно, на каком языке?» (SD, 11.12.1965, s. 11).
Воскресный номер «Свенска дагбладет» от 12 декабря украшен исключительно
фотографиями Шолоховых, хотя и на приеме у короля, и в банке побывали все
нобелевские лауреаты 1965 г. В Скандинавском банке Шолохову помог открыть
счет и разместить деньги в шведских кронах и в долларах директор банка Ларс-
Эрик Тюнхольм (Thunholm), говоривший с лауреатом по-русски; «Тихий Дон»
финансист также читал в оригинале, так что ему было о чем побеседовать —
помимо вклада — с одним из его самых «прославленных клиентов» (SD, 12.12.1965,
s. 14). Впрочем, радость (посещение конезавода, поцелуи с белокурой Люсией
на традиционном предрождественском празднике) сильно отравлена:
«рефлексы сталинской России» — арест Синявского и Даниэля — «угнетают»
европейских коллег лауреата и обращают на него взоры прогрессивной
общественности (SD, 13.12.1965, s. 10). Но — напрасно: в Упсале (это обязательный визит в
старейший университет Швеции для нобелевских лауреатов по литературе)
Шолохов категорически опроверг, что в советской культурной политике «после
оттепели вновь ударили морозы»: «Так что никакой либерализации в
Советском Союзе — та же погода, что и в сталинскую эпоху!» (SD, 23.12.1965, s. 4).
А. Синявский и Ю. Даниэль были арестованы 13 сентября 1965 г.
522
Среди разнообразных материалов выделяется обстоятельный «подвал»
«Техника и правда в "Тихом Доне"» в «Свенска дагбладет», тонкая и
стилистически изощренная статья Постоянного секретаря Шведской академии и члена
ее Нобелевского комитета Карла Рагнара Гирова23 (SD, 16.10.1965, s. 4). Автор
констатирует, что уже с момента выхода первой части романа он «стал
общеевропейским достоянием». Эту статью не принято цитировать в публикациях о
Шолохове в шведской периодике более позднего времени. Она не
апологетическая, однако принадлежит перу человека, лично сделавшего выбор в пользу
Шолохова. K.P. Гиров напоминает, как популярны на Западе выступления казачьих
ансамблей, когда лихие казачки в шароварах и шелковых блузах поют мощными
голосами и ловко отплясывают перед растроганными зрителями битком
набитых концертных залов: «.. .как значителен контраст между этим привычным
образом и тем, что изображает Шолохов», — признает шведский писатель,
противопоставив ряженым казачкам «полнокровный мир, который так и стоит перед
глазами, выступая из поэтического творения русского писателя», «жизнь в
самом ее процессе». Шолоховский роман, попав в «море военной прозы,
захлестнувшей Европу и отчасти Америку в 1930-е гг.», от Ремарка до Хемингуэя,
оказался в ней «главенствующим», хотя и по содержанию («война и ее последствия»),
и по форме в нем не было ничего сверхвыдающегося — «кроме мастерства»; его
произведение «остается главным и единственным в своем роде». «Тихий Дон»
слишком далек от литературы «потерянного поколения», сам предмет
шолоховского романа иной, но главное — «в нем звучит правда». Гиров проводит
сравнение не с современными Шолохову авторами и не с традициями Толстого, а с
гомеровским эпосом и со скандинавскими сагами, с их мощью, простотой и
реализмом.
Впрочем, это не критический текст — это поэтическая рефлексия на тему
шолоховского романа, в котором разворачиваются не гомеровские, а
собственно шолоховские «захватывающие дух картины: сватанье и свадьба в казацкой
деревне, изображенная широкой кистью, бурлескно и с непревзойденной
верностью; широкие степные горизонты, где в идиллической дымке бесконечных
полей тают занятые жатвой люди; завораживающий ночной час в окопах под
пылающими звездами и под треньканье мандолины с вражеских позиций, по
другую сторону лунного света; эшелоны с солдатами и их пышнотелыми
подругами в начале революции, голова идет кругом и стены сотрясаются от
казачьих плясок, от хохота и песенного рева». Карл Рагнар Гиров не просто читал
шолоховский роман, он очевидно упивался им и, осмысливая, пытался
разглядеть за внешне обыденными происшествиями «что-то другое», угадать их
символический смысл:
23 Gierow Karl Ragnar (1904-1982) — шведский режиссер, писатель и переводчик;
руководитель литературного отдела «Свенска дагбладет» в 1946-1951 гг., в 1951-1963 гг. — во главе
ведущего стокгольмского драматического театра «Dramaten». Член Шведской академии с 1961 г.;
в 1964-1977 гг. Постоянный секретарь академии, в 1963-1982 гг. член Нобелевского комитета
(и в 1970-1980 гг. его председатель).
523
В бесконечных расправах и муках, в ужасающем насилии и бездонном
бесправии исчезает все святое, что лишает душераздирающие кровопролитные
эпизоды всякой праведности. Малейший проблеск <авторского> участия затмил
бы остроту взгляда, размыл бы подробности, действительность оказалась бы
субъективной, и повествование утратило бы свою убедительную силу.
Таков эпический стиль, такова техническая хватка: интенсивность
впечатления зависит от расстояния, на котором находится наблюдатель.
Шолоховская хватка не ведает милости; писатель знает, что требуется для его искусства.
Поэт не выбирает свой Стиль, он востребован им, стиль заключается в
предмете изображения и в нем самом. Художественная техника самым сокровенным
образом связана с отношением поэта к бытию, с его личностью и моралью.
Сейчас, когда перед глазами читателей разворачивается это послание о
жестоком насилии, они смогут понять, чего стоила сама живая жизнь. О том, что
Шолохов убежденный коммунист, не стоит и говорить. Это именно то, что он
и хотел сказать своим «Тихим Доном». И это сказано не только слогом.
Наблюдатель может не принимать участия в изображаемом и не обязан принимать
участия. В романе это требование соблюдено в точности. <...> Политически
было необходимо изобразить появление этого нового царства как можно более
точно, не будучи вовлеченным в процесс его становления, поскольку
соучастие становилось вопросом жизни и смерти.
В художественном отношении поведение молодого писателя было столь же
строптивым, как и в политическом. Его стремления не имели ни одной точки
соприкосновения с советскими литературными идеалами 1930-х гг. Не были
они совместимы и с новым реализмом, провозглашенным позднее. Планы,
которые роились в едва державшейся на плечах голове неизвестного автора,
подвергались давлению со всех сторон, подобно его собственным казакам.
Благодаря высокой оценке Горького и его авторитету роман смог вообще выйти в
свет.
Это ничего не упрощает. Речь не идет о белых бесах и красных ангелах.
Зверская жестокость, тупое насилие и подлое предательство творятся с обеих
сторон, но также с обеих сторон исходят вера и смятение, чуткость, нежность
и любовь. И так во всем романе, все персонажи словно двоятся: главного героя,
Григория, расщепило, как и его родной хутор, в битве между старым и новым
мирами, и он разрывается между противоположными взглядами, как рвется и
между двумя женщинами, и хотя выстрел не слышен, трагический исход
предопределен. На этом и завершается роман.
В нем ничего не приукрашено: ни, само собой разумеется, война, ни
революция, ни даже мир. Некоторые из самых лютых зверств случаются в первых
же эпизодах и творятся казаками со спокойной невозмутимостью.
В нем ничего не превознесено, кроме счастливо-несчастной, неизменной,
радостной и разрушительной связи Григория и Аксиньи.
Замечательно, что это произведение стало излюбленным чтением русского
народа и почти официально признанным эпосом о судьбе нового государства.
Это необычайный успех маетерства Шолохова, его мощи и его правды,
вышедших за пределы его отечества. Тот, кто написал величайший русский
исторический роман после «Войны и мира» и — что не поймет не знающий русско-
524
го языка — богатейший по изображению народной жизни после Горького,
самый страстный любовный роман после «Анны Карениной», заслуживает
занять место среди немногих классиков современной литературы (выделено
нами. — Т. М.).
Очевидно, что, публикуя эту статью, Карл Рагнар Гиров не просто
разъяснял что-то читателям, но заканчивал долгий изнурительный спор внутри
Шведской академии и шведского интеллектуального истеблишмента, между
сторонниками и противниками шолоховской кандидатуры. Эхо закулисных споров
звучит в статье довольно отчетливо — но услышать его можно лишь сейчас,
полвека спустя, когда архивные документы стали доступными для изучения.
Отголоском каких споров стала эта подытоживающая статья, будет раскрыто
ниже.
Праздничный оркестр, впрочем, звучал в Швеции вразнобой. Свен Валь-
марк в широком эскизном обзоре жизни и творчества М.А. Шолохова нашел в
себе силы для единственной похвалы: «Его женские образы принадлежат к
наиболее живым в русской литературе, страстная гордячка Аксинья, покорная
любящая Наталья, неистовая Дарья и выносливая Дуня» (DN, 16.10.1965, s. 10).
Ниже на той же странице напечатана статья «Выбор» главного редактора «Да-
генс нюхетер» Улофа Лагеркрантца. Он не стал скрывать, что выбор Шведской
академии — «скорее политическое, чем литературное деяние». На его взгляд,
«с тем же успехом премию можно было присудить какому-нибудь из секретарей
КПСС». Припомнив репрессии писателей и годы вынужденного литературного
молчания выживших — Пастернака, Ахматовой, почему-то также
Паустовского, У Лагеркрантц замечает, что Шолохов все это время был «официально
признанным культурным послом своей страны и коммунистической партии»,
служил «галеонной фигурой». Однако это газетное выступление — не протест, это
призыв к диалогу и поиску консенсуса. «Следует ли осуждать присуждение
премии Шолохову? — вопрошает Лагеркрантц. — Ответ, по моему мнению, — нет».
Когда премию присудили Пастернаку, Шолохов резко высказывался о нем и о
его творчестве. Он автоматически стал в своей стране на официальную точку
зрения, и в его словах звучала личная антипатия. Когда Шолохов приедет, как
я надеюсь, чтобы получить премию, мы должны будем предупредительно
избавить его от вопросов о Пастернаке. Очевидно, что эти двое представляют два
разных мира. Мы немного знаем о том, как распределены роли за фасадом
однопартийного государства. Но мы — не вовсе безнадежно — ожидаем
большего понимания и свободного обсуждения, чтобы можно было с
удовлетворением сказать: мы ничего не преувеличивали, мы признаем Шолохова
значительным писателем. Не наше дело разбираться в его сделках с совестью, на
которые он шел, чтобы устоять во времена сталинского террора или в его
нынешнем мучительном творческом кризисе. Мы даже не знаем, стал ли он столь
важной общественной фигурой в своей стране из-за малодушия или из-за
веры в коммунистические идеалы, которая потребовала от него человеческих
и художественных жертв. В литературном отношении премия запоздала, силь-
525
но запоздала, и в произведениях Шолохова слишком мало современности. Но
он совершенно достоин этой премии.
Весь следующий год нобелевский лауреат еще интересен прессе, его
присутствие еще памятно, его слова становятся предметом для дискуссий. В
неожиданно большом материале «Кардиолог в культурных спорах» профессор медицины
и специалист по сердечным заболеваниям Гуннар Бьёрк (Biörck) высказывается
на страницах «Свенска дагбладет» в том числе и о Шолохове, «заявившем на
нобелевских торжествах, что содержание важнее формы»: «Нынешним
эгоцентричным эксгибиционистам он противопоставил задачу художника жить
интересами и нуждами своих сограждан». Но врач-культуролог убежден, что
подобное отношение к думающему читателю направлено лишь на развитие
стадного инстинкта; то, что высказал Шолохов о художественном творчестве,
предполагает, что его «собственный народ должен жить в культурной
изоляции, оказаться в положении провинциалов без общения с окружающим миром,
который незаметен для них, но который существует и, кажется, существует и
без них» (SD, 5.01.1966, s. 5).
Нобелевский лауреат едва уехал из Швеции, а критика в его адрес обретает
уже кислотный привкус. В обстановке раскаленной идейно-политической
борьбы (политической, несомненно, больше, чем идейной) нельзя не
поражаться, что автору «Тихого Дона» вообще присудили премию. Московский собкор
«Свенска дагбладет» Йонни Флудман публикует острый материал: «Шолохов
атакует либеральных писателей: "Мне стыдно за них!"» (SD, 2.04.1966, s. 7). Речь
идет об А. Синявском и Ю. Даниэле, уже приговоренных — один к семи годам
в исправительно-трудовой колонии, другой — к пяти; процесс по их делу
предшествовал XXIII съезду КПСС, проходившему с 29 марта по 7 апреля. Но, по
предположению шведского журналиста, нобелевский лауреат и член ЦК
компартии «имел в виду еще и Валерия Тарсиса, а также, вполне вероятно,
подразумевал Бориса Пастернака». Й. Флудман передает самые свежие новости,
цитирует речь М.А. Шолохова на съезде: «Мне стыдно не за тех, кто оболгал
Родину и облил грязью все самое святое для нас. Они аморальны. Мне стыдно
за тех, кто пытается взять их под защиту, чем бы эта защита ни
мотивировалась». Это сообщение о Шолохове, воспроизводящее с комментариями его
слишком знаменитую речь, напечатано рядом с фотографией, от которой и
сейчас кровь стынет в жилах: фасад отеля «Виктория» в Сайгоне, страшные
разрушения и множество трупов после взрыва. Второй год идет война во Вьетнаме,
развязанная Соединенными Штатами, — «агрессия, чреватая самыми
опасными последствиями для всеобщего мира»: эти слова министра обороны СССР
Р.Я. Малиновского тоже прозвучали на XXIII съезде24 и были переданы в
Стокгольм тем же Й. Флудманом; они и напечатаны на той же странице. Листок из
календаря мировой политики полувековой давности.
24 Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме было принято
единогласно 8 апреля 1966 года.
526
«А не должен ли писатель Михаил Шолохов вернуть Нобелевскую премию?
Все больше и больше представляется бесчестным то, что он ее получил» (SD,
3.04.1966, s. 18) — в сущности, пустяк, воскресное литературное приложение.
Звучит, однако, серьезно.
Атакует Запад. Атакует и Восток. «Горькое разочарование» испытали
китайские товарищи: Шолохов «бросил вызов Ленину, Сталину, Октябрьской
революции и собственной родине», приняв из рук капиталистов Нобелевскую
премию (SD, 15.05.1966, s. 10). Ссылаясь на газету «Жэньминь жибао», «Свенска
дагбладет» публикует мнение китайских коммунистов, утверждающих, что
Нобелевский комитет «выбирал изменника среди русских писателей, писателей,
чей талант противостоял коммунизму», каковым и стал лауреат 1958 г.
«безвестный ренегат Борис Пастернак». Приняв ту же награду, делают вывод
мудрые китайцы, Шолохов тем самым «обратил собственный народ к
прославлению также и Пастернака». И это неоспоримо — ведь «буржуазная» премия
таковой осталась и в руках писателя-коммуниста.
Нобелевскую премию по литературе за 1966 г. поделили Ш.Й. Агнон и
Нелли Закс; возможность, упорно отвергаемая шведскими академиками, когда речь
заходила о русской литературе, была просто и спокойно реализована по
отношению к двум заслужившим премию писателям — представителям еврейского
народа. Шолохов собирался посетить нобелевские торжества, но приземлился в
Арланде, стокгольмском аэропорту, только в январе 1967 г., приехав «в гости к
друзьям на неделю или дней на десять» (SD, 28.01.1967, s. 4). Речь вновь шла о
завершении романа о войне, поэтому помимо советского посла Шолохова
встречал и Б. Кристель (Christeil), руководитель издательства «Тиден»,
выпускавшего все книги советского писателя. Газета сообщила, что нобелевский
лауреат приехал проконтролировать свой вклад: ходили слухи, что он снимет
деньги, но он оставил их в банке (SD, 29.01.1967, s. 14). Неизменно упоминая
имя Шолохова в связи с делом Синявского и Даниэля и нарастающими
протестами внутри страны и за рубежом, «Свенска дагбладет» все же сочла нужным
сообщить, что нобелевский лауреат Шолохов стал Героем социалистического
труда (SD, 25.02.1967, s. 6). Еще несколько месяцев спустя газета не без
содрогания процитировала выступление нобелевского лауреата на IV съезде советских
писателей, где Шолохов объявил, что «писателю не следует давать полную
свободу, чтобы он писал, что хочет» (SD, 26.05.1967, s. 9). Журналисты еще не
знают, что Шолохов фактически откликался на письмо съезду А.И. Солженицына
(«Вместо выступления»), первым пунктом которого было предложение
упразднить всю и всяческую цензуру; письмо «прославленного на весь мир» автора
«Ивана Денисовича» «Свенска дагбладет» опубликует десять дней спустя (SD,
5.06.1967, s. 4). На следующий день Й. Флудман докладывает со съезда
писателей свежие новости: Шолохов и помимо речей об ограничении свободы
творчества проявил свою «агрессивность, узколобость и непримиримость по
отношению к инакомыслящим». Он вступил в заочный спор с И.Г. Эренбургом, «а тот
527
даже не мог ему возразить, поскольку находился в Италии» (SD, 27.05.1967,
s. 10). Последнее, кажется, никак не свидетельствовало об ограничении
свободы даже фрондирующего писателя — Эренбург подгадал поездку как раз к
съезду, в котором не хотел участвовать. Процитировав слова Ленина об
«абсолютной свободе», Шолохов связал ее с «агрессией США во Вьетнаме и
фашизмом, поднимающим голову в Западной Германии». Впрочем, речам Шолохова
корреспондент дал следующую оценку: «...он говорит лишь от своего
собственного имени и от имени таких же замшелых реакционеров среди советских
писателей» (ibid.).
Как и другие зарубежные писатели — лауреаты или не-лауреаты
Нобелевской премии, М.А. Шолохов постепенно уходит с первых страниц газет, хотя
никогда не исчезает с них совсем. «Устаревший консерватор», он скорее забавен
своими высказываниями, нежели своим творчеством, даже перенесенным на
киноэкран. И вот очередная связанная с ним сенсация: «Нобелевский комитет
надули! Получивший награду писал не сам!» (DN, 5.11.1967, s. 3). Шуму наделал
«писатель-эмигрант» Валерий Тарсис25 на своей пресс-конференции в
Стокгольме. Сенсационных заявлений было даже два: во-первых, накануне
грандиозных торжеств по случаю полувекового юбилея Октября полубеглец,
полуизгнанник предупреждал: «...в СССР близится революция— я не пророк, но
меня не изумит, если она произойдет уже завтра». Во-вторых, первую, лучшую
часть «Тихого Дона» написал не нобелевский лауреат, а «погибший белый
офицер»: «Шолохов — очень плохой писатель, — уверял Тарсис буквально в тех же
словах, в каких сам Шолохов сообщал шведам о Пастернаке, — он и говорить-то
по-русски правильно не умеет. <...> Он просто поставил свою подпись на
чужой рукописи. В русской писательской академии <sic!> хорошо умеют
фальсифицировать подделки» (ibid.). Через несколько дней на это сообщение
откликается Свен Вальмарк (DN, 8.11.1967, s. 5), напоминающий, что слухи о плагиате
преследовали Шолохова с 1928 г., а В. Тарсис их возродил по «особой причине»:
Шолохов прославился гонениями на писателей Синявского и Даниэля, вызвав
ожесточенный протест в самой писательской среде. Вальмарк приводит и
эпиграмму А. Вознесенского («Сверхклассик и собрат, / Стыдитесь, дорогой, / Один
роман — содрал, / Не мог содрать второй») и подробно цитирует открытое
письмо Л.К. Чуковской26, страстное и откровенное («Литература уголовному
суду неподсудна»).
25 Тарсис Валерий Яковлевич (1906-1983) — советский писатель, переводчик; участник
Великой Отечественной войны, обороны Сталинграда. За критику советского строя,
отразившуюся главным образом в сатирических произведениях, публиковавшихся на Западе, был помещен в
психиатрическую клинику, в 1966 г. покинул с разрешения властей Советский Союз и вскоре был
лишен советского гражданства. Многое из написанного осталось неопубликованным. Жил и
умер в Швейцарии.
26 «Свенска дагбладет» отреферировала и процитировала открытое письмо Чуковской
Шолохову в специальной — неподписанной — публикации «Осуждение Синявского и Даниэля
грозит задержать прогресс советской культуры» (SD, 20.11.1966, s. 8).
528
В августе 1968 г. корреспондент газеты «Дагенс нюхетер» в Москве Оке
Рингберг (Ringberg) публикует большую аналитическую статью о венгерских
и чехословацких событиях «Зачем Советы сделали это?», и в ней Шолохов
предстает уже не крупным писателем, лауреатом, авторитетом, а злосчастным
поборником отживших догм. «Старик Шолохов» — так именует его теперь
О. Рингберг (DN, 25.08.1968, s. 5). Писатель Курт Меларстедт (Mälarstedt),
рассказывая, что Шолохов — нобелевский лауреат! — не подписал
опубликованного 23 августа в «Times» письма советских писателей чехословацким, именует
его и Федина (как и их собратья по перу в своем письме) «литературными
спекулянтами» (DN, 12.09.1968, s. 16). Письмо, однако, не подписали многие
крупные литераторы: Леонов, Симонов, Твардовский — но об этом в заметке нет ни
слова; разумеется, они ведь не нобелевские лауреаты!27 Напротив, нобелевский
лауреат поддержал вторжение советских войск в Чехословакию «от всего
сердца»; писатель, замечает Оке Рингберг, «относится к наиболее консервативным
силам в советской литературе» и неизменно поддерживает «ортодоксальную
линию партии» (DN, 16.09.1968, s. 16). Узнав из советской печати о ходе работы
Шолохова над романом о войне, С. Вальмарк пытается дать ему оценку по
фрагментам, публиковавшимся в газетах: «Коммунистическая партия превознесена
до небес. Это, как обычно, остро современное произведение. Шолохов всегда
был остро современным, восхваляя Сталина, одобряя Хрущева или сочиняя
призывы к русским частям в Чехословакии» (DN, 25.11.1968, s. 2). С Шолоховым
связано все старое, консервативное, отжившее: со страниц шведских газет
смотрит уже другое лицо, и С. Вальмарк рассказывает о другой литературе —
«смертельной правде» книг А.И. Солженицына (DN, 8.11.1968, s. 4). Вальмарк
явно относится к Шолохову как к требующему разрушения Карфагену и в
разговоре о Солженицыне возвращается к излюбленному мотиву «не пишущего»
писателя: «.. .писатель предстает в своих трудах, а не в молчании или
официальных почестях. Устрашающим примером подобного сорта писателей является
Михаил Шолохов» (DN, 27.12.1969, s. 4).
Но Йонни Флудман, представляющий шведскую прессу в Москве, вовсе не
вторит своему коллеге. Пока «Дагенс нюхетер» весь 1969 г. пером Свена Валь-
марка ведет кампанию по развенчанию Шолохова, в «Свенска дагбладет»
появляется материал, посвященный опубликованным в «Правде» отрывкам из
романа «Они сражались за Родину»28. Фрагменты из «новой сенсационной книги»
Михаила Шолохова, которые публикует «главный партийный орган», шведский
журналист называет «чтением, обращенным к самой мрачной главе из
истории Советского Союза и потрясающим для советских граждан». Появившийся
15 марта в «Правде» отрывок из романа московский корреспондент шведской
27 О том, что письмо 88 советских писателей в «Тайме» — мистификация, на Западе не знает
еще никто [Гланц 2011].
28 Flodman J. Oskyldiga till Sibirien. Stalin ett misterium. <Невиновного в Сибирь. Сталин как
загадка> // Svenska dagbladet. 15.03.1969. S. 9.
529
газеты полупересказывает, полуцитирует в собственном, на скорую руку,
переводе. Й. Флудман сообщает, между прочим, что речь в шолоховском тексте идет
о «системе доносов в сталинское время, это тема, затронутая Александром
Солженицыным в романе "Раковый корпус", запрещенном в СССР, но изданном на
Западе». «Шолохов изображает в своей книге также и личность Иосифа
Сталина, но образ покойного диктатора вышел размытым». Сталин «долго еще будет
загадкой», говорит герой Шолохова (генерал Стрельцов), и шведский
журналист строит догадки, почему впервые после XX съезда главная советская газета
вновь открыто заговорила о сталинской эпохе и ее беззакониях, не было ли
произведение Шолохова продиктовано нежеланием и дальше утаивать «от партии,
народа и армии» подлинные события прошедшей эпохи и не является ли это
эксплицитным «протестом определенных кругов против ползучей
реабилитации Сталина в последние годы».
Однако в отношении писателей, «не следующих линии партии», Шолохов
непримирим: его очередным «резким нападкам» подвергся Александр
Солженицын. Жирным шрифтом набраны в «Свенска дагбладет» его слова об авторе
«Архипелага ГУЛАГ» — «...колорадские жуки из тех, которые едят советский
хлеб, а служить хотят западным, буржуазным хозяевам. Советские писатели
хотят избавиться от таких литераторов» (SD, 28.11.1969, s. 3; процитировано в
урезанном виде). Эти слова Шолохова (сказанные на съезде колхозников,
отсюда и характерная метафора) показались настолько важными — в сущности,
в них уже была предсказана судьба Солженицына, речь шла только о времени
его высылки из страны, — что через несколько страниц их повторил в своем
расширенном репортаже из Москвы Пер Эгиль Хегге (Hegge) (SD, 28.11.1969,
s. 9). За Шолоховым, благодаря его несдержанным и резким речам, начала
закрепляться геростратова слава. Фотографию нобелевского лауреата
сопровождает подпись, и вряд ли редакторы газеты не посмеивались над своей
убийственной выдумкой: «Михаил Шолохов — чумные язвы литературы».
Летом 1970 г. «Свенска дагбладет» констатировала, что оттепель
закончилась, «реабилитации репрессированных в сталинское время пришел конец»
(SD, 27.06.1970, s. 4). Немалую роль в этой пессимистической констатации
сыграл нобелевский лауреат Шолохов, в одном из интервью заявивший, что
«труд Сталина во время войны нельзя недооценивать. Это повредит нашей
стране». А три месяца спустя — газеты сообщили новость 9 октября —
Нобелевская премия по литературе была присуждена А.И. Солженицыну. В
шведской прессе спокойно отнеслись к разразившейся в Москве буре с обвинениями
в адрес Нобелевского комитета: «Это примерно то, чего и стоило ожидать в
качестве первой официальной реакции на присуждение премии. Интересно, что
убежденность, будто Солженицын получил премию по политическим
причинам, разделяется не только теми, кто не согласен с решением: даже те
советские граждане, которые считают, что премия присуждена правильно и
заслуженно, не желают согласиться с тем, что писателя наградили не по политиче-
530
ским, а по чисто литературным соображениям». Присуждение премии
Шолохову московская интеллигенция тоже сочла политическим актом, сообщает
П.Э. Хегге мнения своих знакомых в литературных кругах; но теперь
конъюнктура изменилась.
В преддверии писательского съезда в июне 1971 г. Пер Шёгрен (Sjögren)
констатировал, что из троих советских лауреатов Нобелевской премии по
литературе лишь один был одобрен властями; Б. Пастернака уже нет на свете, а
А. Солженицын — в опале. Ничего нового о литературе от Шолохова услышать
не удается: «Дайте нам больше бумаги!» — цитируют нобелевского лауреата
шведские газеты (DN, 29.05.1971, s. 4). Десяти лет не прошло, как шведский
король вручил Шолохову нобелевские медаль и диплом, а в «Дагенс нюхетер»
стиль упоминаний о лауреате изменился радикально. Небольшая заметочка в
развязном тоне: «Поскольку Болгария не Швеция, Михаилу Шолохову, этому
старому плуту, навесили там орден Кирилла и Мефодия за то, что он так много
сделал для укрепления дружбы между советским и болгарским народами. <...>
Михаил Шолохов написал "Тихий Дон" Принято утверждать, что сам» (DN,
12.06.1973, s. 15). Но в следующем году Шолохов вновь появился в Швеции —
«половить сельдь», как он с «озорным огоньком в глазах» сообщил
корреспондентам. О литературе говорил, как обычно, немного, но никого не ругал: все
писатели «много работают», и он сам «работает» — это единственное, чего
от него удалось добиться в расспросах о романе «Они сражались за Родину».
Автор материала, Йоста Юлин (Julin), сообщает, что Шолохов, который любит
порыбачить и на родном Дону, давно превратился в «писателя-рыбака»,
рыбацкие байки которого печатает на своих страницах «Правда» и перепечатывают
прочие советские газеты. В Швецию нобелевский лауреат приезжает к своим
друзьям-писателям — на фотографии он снят во время веселой беседы с
А. Лундквистом — «и еще из-за нобелевского счета в банке, утверждают злые
языки» (DN, 4.05.1974, s. 4).
В 1974 г. вышла из печати в «ИМКА-пресс» книга Д.* (И.Н. Медведевой-То-
машевской) «Стремя "Тихого Дона"». Швеция была обязана откликнуться на
обвинения в плагиате — ведь обвиняемым был один нобелевский лауреат, а на
стороне обвинения находился другой, А.И. Солженицын. «Свенска дагбладет»
посвящает теме два больших «подвала»: московский корреспондент газеты
Нильс Мортен Утгорд (Utgaard) разбирается в хитросплетениях вокруг
авторства «Тихого Дона» и инспирированного Солженицыным исследования в
статье «Будет буря на тихом Дону» (SD, 31.08.1974, s. 4), а приглашенный эксперт —
постоянный автор газеты «Экспрессен» (Expressen) К.Г. Миханек (Michanek) —
в статье «Дон за семью печатями» (SD, 27.09.1974, s. 4). Первый материал
проиллюстрирован портретом Федора Крюкова, второй — фотографией
Шолохова, подписанной «Нобелевский лауреат Михаил Шолохов —
историко-литературная загадка». Первый автор осторожно излагает факты, второй сразу вводит
в оборот «секретную деятельность КГБ». Миханек основывает свою публика-
531
цию на книге американского автора Джона Бэррона (John Barron) «KGB — the
secret work of secret Soviet agents» (L., 1974), поскольку в ней содержится сюжет,
«интереснейшим и увлекательнейшим образом дополняющий солженицын-
ский анализ "Тихого Дона"». Согласно американскому автору, вся шолоховская
карьера шла в тесном (в том числе литературном) контакте с «органами» — ЧК,
ОГПУ, ГПУ, КГБ. И Бэррон, и Солженицын распутали параллельно один сюжет
с «ленинградской рукописью», и Миханек подытоживает: «Дело совершенно
ясное: автором рукописи <"Тихого Дона"> не был агент КГБ и человек из тайной
русской полиции Михаил Шолохов, который получил Нобелевскую премию за
великий роман».
«Притоки Дона» — так озаглавлен материал в «Дагенс нюхетер», в котором
рассказывается о том, как А. Солженицын обвинил М. Шолохова в плагиате,
и о разъяснениях Шведской академии по этому деликатному вопросу (DN,
13.10.1974, s. 4). Именно в этом году С. Вальмарк издал в своем переводе на
шведский язык прозу Андрея Платонова (Platonov A. Don Quixote i revolutionen.
Stockholm: Norstedts, 1974); откликаясь на эту книгу, Рихард Сварц (Swarz)
замечает, что «со шведского горизонта современная советская литература похожа
на айсберг: единственной вершиной, возвышающейся над водой, выступает
Александр Солженицын» (SD, 14.02.1974, s. 5). И вот теперь этот писатель,
олицетворяющий собой всю современную литературу гигантского советского
соседа, нанес Шолохову ответный и страшный удар. Безусловную
художественную ценность романа о казачестве никто никогда не опровергал; но что если его
автором был вовсе не ортодоксальный коммунист Шолохов? «Нобелевскую
премию назад?» — вопрошает С. Вальмарк в обстоятельном материале
«Является ли "Тихий Дон" на самом деле плагиатом?» (DN, 20.10.1974, s. 4). Изложив
всю историю подробнейшим образом, С. Вальмарк замечает: «Если Шолохов в
последние годы был резко настроен против некоторых своих коллег, например,
против Синявского, Даниэля и Солженицына, и превратился в несимпатичную
в целом фигуру, то это вовсе не является доказательством его плагиата» (ibid.).
Вальмарк предлагает вдуматься, в какое время был написан роман, какую
эволюцию проделал писатель, ставший членом коммунистической партии и
поставивший свой талант — вольно или невольно — на службу «большевистской
пропаганде». «Немного странно, — пишет этот кабинетный знаток России и
совершенно независимый в суждениях журналист, — что Солженицын не
подумал о таком объяснении, хотя сам он испытал подобное давление в очень
сильной степени, только он сопротивлялся ему. Шолохов, между тем, писал в
несравнимо более опасное время, когда многие его коллеги-писатели просто
исчезли во мраке, часто были физически устранены. И он, конечно, не обладал
мощной силой Солженицына» (DN, 20.10.1974, s. 4).
В феврале 1984 г. газета «Свенска дагбладет» откликнулась на уход из жизни
нобелевского лауреата по литературе. Б. Шойц (Scheutz), автор небольшой
полуколонки, концентрируется исключительно на идее ложного авторства «Тихо-
532
го Дона»; главным аргументом и спустя десять лет считается молодой возраст
писателя — «невозможно» так написать в 23 года. Однако и в середине 80-х
Шолохов официально считается самым крупным советским писателем; тот самый
Шолохов, который назвал Б. Пастернака «раком-отшельником», а
Солженицына — «колорадским жуком», да и прочие писатели-диссиденты были им
поименованы «насекомыми-вредителями». Сам же писатель остался «приверженцем
стиля соцреализма, с правильными героями и так далее» (SD, 22.02.1984, s. 4).
Но это только начало! Буквально через пару дней на смерть писателя
откликается Бенгт Янгфельдт (Jangfeldt), сотрудник славистической кафедры
Стокгольмского университета; под сопровождающей его публикацию фотографией
подпись: «Михаил Шолохов — нобелевский лауреат и лояльный коммунист».
Янгфельдт пишет: «Когда я пару месяцев назад прочел в "Известиях", что
Михаил Шолохов снова был выдвинут кандидатом в члены Верховного совета,
выборы которого состоятся 4 марта, я был несколько потрясен. Шолохов уже лет
десять парализован после инсульта, а сильным алкоголизмом страдает
десятилетиями». Далее в статье концептуализированы тезисы, надолго
предопределившие — и все еще определяющие — рецепцию творчества Шолохова на Западе.
Автор великого романа о донском казачестве, «следующего традициям
реализма XIX в.», создал «подлинный шедевр», свободный от партийной догматики и
шаблонов, «Тихий Дон» — «это хорошая литература, а не политический
памфлет». Но с момента публикации уже первой части романа появились слухи о
том, что Шолохов не является его автором, что он слишком молод и не имеет
богатого жизненного опыта. Пересказывая слухи и их опровержение, Б.
Янгфельдт замечает, что они никогда не затухали совсем, их подогрел в 1974 г.
А. Солженицын, назвав в качестве возможного автора Федора Крюкова.
Профессор русской литературы университета Осло Г. Хьетсо вместе с коллегами
провел «стилистический компьютерный анализ», сопоставив тексты,
написанные Шолоховым и Крюковым29. Выводы, сделанные исследователями, не были
однозначными: ими было доказано, что Крюков не писал «Тихого Дона», и он
«был исключен как автор», автор романа — Шолохов, «но доказать научными
методами авторство Шолохова невозможно». (Между тем прошло почти сорок
лет, в области технологий был совершен поистине нанорывок, и, если бы
возможно было с помощью компьютерного анализа доказать обратное — т. е.
подтвердить подозрения Шолохова в плагиате, такое исследование, несомненно,
было бы проведено.)
Указав, что Шолохов был «лояльным коммунистом», Б. Янгфельдт
сообщает, что писатель «был женат на сестре Никиты Хрущева (!) и тот
поспособствовал его избранию в 1961 г. в Центральный комитет партии», — как видим,
29 Kjetsaa G., Gustavsson S., Beckman B. The authorship of «The Quiet Don». Oslo; New Jersey,
1984. См. также: Хьетсо Г. Обвинение Михаила Шолохова в плагиате // Хьетсо Г., Густавссон С,
Бекман Б., Гил С. Кто написал «Тихий Дон»? (Проблема авторства «Тихого Дона»). М., 1989. С. 16-
123.
533
разнообразные слухи преследовали Шолохова всю жизнь. «Долгие годы он
оставался литературным призраком, не писал новых книг (последняя вышла в
1960 г.). Однако свое огромное влияние он использовал, чтобы преследовать
других писателей: Бориса Пастернака, Андрея Синявского, Александра
Солженицына, — обвиняя их всех в предательстве советского государства и его
идеалов». Но и это не главное; статья называется «Лояльный мультимиллионер»:
«Шолохов был мультимиллионером с открытым банковским счетом — и не
удивительно, что он любил жизнь в своем лучшем из миров» (SD, 24.02.1984,
s. 16). Если это не пропаганда в ее самом примитивном варианте — то к какому
жанру относятся подобные материалы? В то время как одни скандинавские
слависты используют едва появившиеся компьютерные технологии в текстологии
для установления истины, другие не брезгуют слухами из коммунальных
кухонь (фальшивое родство Хрущева и Шолохова) и роются в чужих кошельках,
даже не потрудившись узнать, на что нобелевский лауреат 1965 г. потратил
шведские кроны, или сопоставить тиражи книг Шолохова — с выручкой для
государства — и потребности живущего на селе писателя.
Но — tempora mutanter. В 1992 г. в приложении «Культура. Спорт. Сегодня»
была опубликована небольшая заметка гётеборгского слависта М. Юнггрена
(Ljunggren) «Кем же на самом деле был Шолохов?». Стоит привести этот текст
без купюр:
Нобелевский лауреат Михаил Шолохов всегда оставался непостижимым. Он
мог называть Трумэна и Черчилля кровавыми фашистами30, славил
коммунистическую партию как мать, а своих коллег Синявского и Даниэля клеймил
врагами народа. Он сожалел, что русская молодежь не ездит больше верхом и
не играет в снежки. Будучи с визитом в Швеции, он больше интересовался
коровами и процессом доения. Так кем же он был на самом деле? Он ли написал
«Тихий Дон» или только, пусть и гениально, скомпилировал его? И вот его
образ еще немного усложнился. «Литературная газета» познакомила с
содержанием его письма Сталину 1930-х гг.31, в котором писатель протестует против
незаконных арестов, проводимых НКВД, пыток невиновных и против
подозрений в его собственный адрес. Письма писателей Сталину — это почти
особый жанр. Писал Булгаков, писали Замятин, Белый, Зощенко. Но никто не
делал это в морализирующем, возмущенно-ожесточенном тоне. То, что он
<Шолохов> остался в живых, это лишь еще одно доказательство абсолютно
иррациональной сущности сталинизма (SD, 24.11.1992, s. 35).
30 Вероятно, сам шведский славист считает уничтожение Дрездена и Мюнхена,
апокалипсис Хиросимы и Нагасаки и настойчивые призывы подвергнуть атомной бомбардировке
Москву проявлением либерального мышления, в борьбе с противниками которого все средства
хороши.
31 Известны несколько писем М.А. Шолохова Сталину 1930-х гг.: январское 1931 г.,
апрельские 1933 г. и февральское 1938 г.; С.Г. Семенова характеризует их как «какие-то черные слепки с
обезумевшей, садистской, какой-то адской реальности» [Семенова 2005: 177]. Письма Шолохова
Сталину выявлены и опубликованы в издании: [Писатель и вождь 1997].
534
Шолохов не пропадает надолго со страниц шведской прессы, его имя
упоминается в самых разных материалах, литературных и политических и,
разумеется, посвященных истории присуждения Нобелевской премии. Однажды
«Свенска дагбладет» сочла необходимым сослаться на материал из «Нойе
Цюрхер Цайтунг» (Neue Zürcher Zeitung), принадлежащий перу Φ. Ингольда
(Ingold), который объявил urbi et orbi, что «Шолохов как писатель целиком и
полностью сконструирован советской тайной полицией, ГПУ Служащие
скомпилировали текст из произведений военного писателя Федора Крюкова и
приправили прозой Михаила Булгакова»32. И говорить, стало быть, «следует не о
шолоховском творчестве, а о неизученном литературно-политическом
проекте» (SD, 25.08.2006, s. 68). Полгода спустя, анонсируя книгу И. Толстого
«Отмытый роман», «Свенска дагбладет» вновь повторит «сенсационное» сообщение
из швейцарской газеты — видимо, для равновесия с архивными открытиями,
затрагивающими вмешательство ЦРУ в судьбу романа Б. Пастернака «Доктор
Живаго» (SD, 23.02.2007, s. 68).
Очередная статья М. Юнггрена «Премию Шолохову могли дать под
давлением» начинается с заявления, что к 1965 г., когда премия писателю была, наконец,
присуждена, «он уже в течение длительного времени был номинирован
советской стороной» (SD, 10.10.201233). Это не так, но шведский славист пишет не
историко-документальную, а концептуально-публицистическую статью.
Доказательств советского «давления» нет, но есть другие приемы. Цитируем М.
Юнггрена: «Это началось в 1946 г. Обстоятельства казались благоприятными.
Никогда еще Швеция не была так — парадоксально! — благожелательна к России.
В Москве рос культ Сталина. МГБ, бывший НКВД, снова проводил массовые
аресты. Рауль Валленберг был заточен в Лефортове. Но победа Красной армии
над Гитлером на время сделала Швецию словно слепой к репрессиям и ужасам».
Исторически почти без натяжек, однако тон слишком явно демонстрирует,
почему русскому писателю — если он не был «внешним», как Бунин, или
«внутренним», как Пастернак (по определению М. Юнггрена), эмигрантом из
России — было так трудно, если не невозможно, получить Нобелевскую премию по
литературе. Постараемся избежать заданного шведским коллегой
публицистического тона (анахроничного дискурса времен холодной войны) и
сосредоточимся на конкретных подробностях, представленных в его публикации.
К сожалению, подлинные факты со ссылками на источники в тексте статьи
перемешаны с домыслами («возможно», «вероятно», «не тогда ли» и под.). Так,
32 Ingold RPh. Geklönter Nobelpreisträger // Neue Zürcher Zeitung, 23.08.2006. См. полный текст
статьи на сайте газеты: https://www.nzz.ch/articleEDSGV-l.54882 (дата обращения 15 сентября
2017 г.). Феликс Филипп Ингольд утверждает, что для советской литературы характерны
«узурпация или фальсификация текстов», и высказывает подозрение, что в ней шло «также и
"клонирование" авторов, в одном лице которых соединены реальные люди и литературные
марионетки».
33 Полный текст статьи доступен на сайте газеты «Свенска дагбладет», см.: https://www.svd.
se/patryckningar-kan-ha-gett-sjolochov-priset, дата обращения по подписке 12 августа 2017 г.
535
M. Юнггрен сообщает о визите большой делегации советских деятелей
культуры в Швецию и об их общении с коллегами. Шведские писатели были
представлены социал-демократами Э. Блумбергом и И. Лу-Юханссоном, поднявшими,
среди прочего, и тему Нобелевской премии, которую еще ни разу не
присуждали представителям СССР: «Может показаться, что ими обоими были получены
инструкции». От кого? От «шведпра», по давнему сокращению A.M. Коллонтай,
т. е. шведского правительства, которому вздумалось увенчать нобелевскими
лаврами коммунистических соседей? Или от представителей советской
делегации, сделавших соответствующие наущения? Э. Блумберг вскоре опубликовал
рецензию на «Поднятую целину» — первую часть он рецензировал еще до
войны, в 1935 г. (и оба раза в партийной печати, а не в многотиражной центральной
газете). Оба раза Блумберг указывал, что советский писатель достоин
Нобелевской премии, и хотя это нельзя считать номинацией на премию, но он, как и
Э. Ульссон, соединил имя Михаила Шолохова со знаменитой наградой в
шведском сознании.
Следующие построения шведского слависта напоминают политический
детектив со сложно продуманной интригой — разумеется, если допустить, что
отслеживать, кто кого выдвинул на Нобелевскую премию в подзабытой за годы
войны нейтральной Швеции, в поднимающейся из руин Советской стране было
делом первостепенной государственной важности. Итак, в соответствии с
расследованием М. Юнггрена, цепь событий такова. В январе 1946 г. оксфордский
профессор С. Баура выдвигает на премию поэта Бориса Пастернака. Летом
1946 г. советская делегация посещает Швецию. В начале осени в газете «Ню даг»
(Ny Dag) писатель социал-демократических убеждений (Э. Блумберг) помещает
рецензию о книге Шолохова, называя его достойным премии. 19 октября того
же года в «Литературной газете» публикуют сообщение ТАСС с цитатой из
Блумберга, подтвердившего свое мнение о соответствии Шолохова
Нобелевской премии. Но и это еще не все: «возможно», узнав о номинации Пастернака,
«советские власти разработали ответный ход» — исключили А. Ахматову, поэта
сходного «модернистско-индивидуалистского направления», из Союза
писателей.
Незадолго до объявления лауреата 1946 г. (Г. Гессе) И. Лу-Юханссон
опубликовал в другой крупной шведской газете, «Дагенс нюхетер», заметку о
Шолохове в специальном книжном обозрении, посвященном Нобелевской премии;
весь материал был щедро проиллюстрирован карикатуристом, ведь
«отказников» среди писателей мирового уровня за полвека оказалось немало.
Напомним, что все военные годы премия не присуждалась, чем и объясняется
попытка активизации интереса к ней в Швеции и за рубежом. Шведские академики
становятся активнее, чем до войны, от имени Нобелевского комитета
рассылаются письма всем, кто имее*г право номинировать кандидатов — в
национальные академии и писательские союзы, университетским профессорам
литературы. Напомним процитированные выше слова шведского писателя: «Он
536
создал величайший эпос нашего поколения, и в "Тихом Доне" всегда будут
видеть великую прозу. В нем довольно войны и крови, чтобы отразить наше
время; в его нежной лиричности отражен современный человек. Прежде всего, это
свежее искусство, великое искусство, свободное искусство. В моем списке
только одно имя — Михаил Шолохов». Предположить, что заметки о всех прочих
писателях были написаны по инициативе редакции газеты, проводившей
своего рода анкетирование о достойных премии писателях, а о Шолохове написал
не ценитель его творчества, а ставленник Москвы, не решился даже М.
Юнггрен. Слависту остается констатировать: «Проблема состояла лишь в том, что
Шолохов еще не был номинирован». Но позвольте — разве не нечто обратное
утверждалось в начале статьи? Впрочем, в ней был сделан обзор шведской
прессы, а не архива Шведской академии.
Политический детектив М. Юнггрена разворачивается далее. На фоне
заключения важных и взаимовыгодных торговых соглашений между СССР и
Швецией шведские социал-демократы ожидают жестов симпатии в адрес
могущественного соседа; последняя часть «Тихого Дона» вышла перед войной, а в
Швеции во время войны, так что роман в целом еще претендует на то, чтобы
быть литературной новинкой. Главный редактор газеты «Ню даг» заявил, что
«железный занавес, отгораживаясь от востока, опускают наши собственные
академические мумии». Эта метафора появилась в советской периодике чуть
позже, в публикации Натальи Крымовой в журнале «Новое время»: в январе
1947 г. она поведала о поездке советской делегации в минувшем году в Швецию
и о разговоре о популярности Шолохова у шведского читателя; один из
шведских коллег (Блумберг или Лу-Юханссон) заметил, что «академические мумии
хотят спрятать советскую литературу за железным занавесом». Установив,
таким образом, шведское происхождение метафоры, М. Юнггрен подтверждает
только очевидную поддержку Шолохова в Швеции — не как кандидата на
премию, а как значительного современного писателя. Но что еще замечательнее —
первая номинация Шолохова исходила из шведских академических кругов: то
ли упреки в «мумифицированности» подействовали, то ли Советский Союз
пригрозил, то ли судьба Григория Мелехова задела за живое — однако
профессор X. Ульссон выдвинул М.А. Шолохова на Нобелевскую премию. В чем при
этом сказалось давление Москвы, автор статьи так и не продемонстрировал.
Экспертом Нобелевского комитета выступил Антон Карлгрен. Его
монографический обзор мы отреферируем подробно; оценка этого труда М. Юнггреном
выдает лишь одно — ему не захотелось прочитать основательный труд коллеги-
слависта полностью. Ибо выводы ему тогда пришлось бы сделать прямо
противоположные: Карлгрен пишет огромную работу, понимая возложенную на него
ответственность. Он инкорпорирует в текст отзыва подробный пересказ
романа, часть за частью, с упоминанием ведущих персонажей и разбором узловых
эпизодов. Но сделанный вывод — «захватывающий роман, искажающий
историческую правду», — обусловлен желанием доказать несоответствие Шолохова
537
высокой международной награде по литературе из-за его твердых
коммунистических убеждений. Экспертное заключение А. Карлгрена прозвучало
приговором, на котором и оказалось основанным решение Нобелевского комитета по
кандидатуре Шолохова в 1947 г. Это был год 30-летия Октябрьской революции
(Юнггрен ошибочно называет это годом юбилея Советского Союза) и —
гораздо более важная драматическая для шведов дата — именно в этот период исчез
(и, вероятно, уже был убит) Рауль Валленберг.
Дальнейшее продвижение кандидатуры Шолохова в Нобелевском
комитете М. Юнггрен трактует не менее однозначно: так, он полагает, что шведский
ΠΕΗ-Клуб выдвинул Шолохова, поскольку писатель был его гостем при
очередном посещении Швеции, а советский писатель С.Н. Сергеев-Ценский —
«по указанию свыше». Однако прежде чем советские власти предержащие
одобрили обращение академика Сергеева-Ценского в Стокгольм, он получил в
своем крымском уединении письменное предложение из Шведской академии
воспользоваться своим статусом и принять участие в номинации на
Нобелевскую премию. М. Юнггрену не удается также объяснить участие в кампании по
выдвижению шолоховской кандидатуры выдающегося лингвиста Валентина
Кипарского, жившего после революции в Финляндии, известного шведского
писателя, академика — и будущего нобелевского лауреата (1974) — Харри
Мартинсона и даже «одного норвежского профессора химии». Несколько обеску-
раженно М. Юнггрен цитирует сохранившееся в архиве письмо Дага Хам-
маршёльда 1961 г., свидетельствующее о его содействии в присуждении премии
Шолохову. Однозначности, которую изначально задал в своей статье М.
Юнггрен, нет; его упреки шведским социал-демократам звучат анахроничным поч-
ти-маккартизмом — разве не при социал-демократах (в том числе и во главе с
Улофом Пальме) Швеция стала той преуспевающей демократичной страной,
какой остается до сих пор? Впрочем, и М. Юнггрен вынужден признать вместе
с Нобелевским комитетом, что значение великого шолоховского эпоса не
проходит с годами. В формулировке Нобелевского комитета были отмечены
«художественная сила и честность» в создании эпоса о донском казачестве; Юнггрен
заявляет, что «честность»-де идет вразрез с экспертным заключением А.
Карлгрена. Однако честности недостает и его собственному краткому исследованию,
в котором ответственность и скрупулезность ученого сталкивается с
априорными пропагандистскими установками публициста.
Через несколько лет после этого документально-политического
расследования «Свенска дагбладет» предприняла новый литературно-просветительский
проект: в начале каждого года публикуются статьи о лауреатах, получивших
премию полвека назад. Открывается архив Шведской академии, журналисты
получают доступ к документам и пытаются восстановить историю
присуждения международной награды. В январе 2016 г. Кай Шюлер (Schueler)
опубликовал статью «Премия, которая порадовала Советы», — о, «быть может, самом
противоречивом и вызывающим споры выборе послевоенного времени, как
538
литературном, так и политическом», — о присуждении премии М. Шолохову
(SD, 5.01.2016, s. 20). Шведский журналист заглянул только в финальные
протоколы 1965 г. и первым оповестил мир о выдвижении на премию Анны
Ахматовой. Уже традиционно Шюлер возглашает, что увенчанию Шолохова
«возрадовался, естественно, только советский режим. Он торжествовал так же бурно,
как рычал в 1958 г., когда лауреатом стал Б. Пастернак». Сообщив, что K.P. Гиров
будто бы годами «резервировал» место лауреата за Шолоховым, К. Шюлер не
хочет смириться с заслуженностью награды: «Хотя у Шолохова было
множество сторонников из числа шведских писателей, шведская пресса осталась
весьма прохладной. Премию присудили слишком поздно». В этом
непоследовательном до наивности тексте хороши только цитаты; вот, например, суждение,
почерпнутое из газет того времени — с намеком на главных кукловодов в
нобелевской игре: «Тихо течет Академия (роман Шолохова в переводе назывался
«Тихо течет Дон». — Т. М.). Пусть уж МИД ею и управляет».
К. Шюлер вспоминает еще и о завещании А. Нобеля — увенчивать
«замечательное <произведение> в идеальном направлении» — и вопрошает: если Эзре
Паунду отказали в премии на том основании, что он своим творчеством
пропагандирует идеи фашизма, «противоречащие духу Нобелевской премии», то
«разве ему не противоречили сталинизм и коммунизм»? К сожалению, оба
автора, журналист, как и славист, не познакомились со всеми материалами архива
Шведской академии, документирующими выдвижение М.А. Шолохова на
Нобелевскую премию, и не сделали их предметом подробного критического
рассмотрения. Постараемся исправить это упущение, обратившись к архивным
источникам.
Итак, шолоховская нобелиада началась не после войны, а задолго до войны.
Писателя охотно переводили, писали хвалебные отклики, прочили ему
Нобелевскую премию по литературе. Недоставало одного — номинации.
После четырех лет Второй мировой войны присуждение Нобелевской
премии возобновили в 1944 г. В 1946 г. премию получил антифашист Г. Гессе —
немецкий писатель, годы войны проведший в добровольной эмиграции в
Швейцарии, а в 1947-1949 гг. лауреатами стали последовательно представители
стран-победительниц: А. Жид, Т. Элиот, У. Фолкнер.
Инициатива выдвижения М.А. Шолохова исходила не из советских кругов.
Первым кандидатуру советского писателя предложил шведский
литературовед Хенри Ульссон в 1947 г.
X. Ульссон (Karl Henry Olsson; 1896-1985) недолгое время был секретарем
скандинавской Ассоциации Норден (Assotiation Norden), затем был принят в
архив Шведской академии (1930) и занимался, с уклоном в психологический
анализ, по преимуществу историей шведской литературы XIX в. В 1941 г. он был
избран членом Королевского общества по изданию рукописей по скандинав-
539
ской истории, а в 1947 г. стал членом Королевского института литературы,
истории и древностей (по-шведски именуемого Akademien). И последнее
членство, и должность профессора «истории литературы и поэтики»
Стокгольмского университета (1945-1961) давали Ульссону полное право выступать с
номинацией на Нобелевскую премию по литературе. Членом Шведской академии он
стал позднее (1952).
Его номинация адресована Нобелевскому комитету Шведской академии,
датирована 26 января 1947 г., подписана только именем и фамилией, без
регалий и званий, отпечатана на машинке и предельно лаконична: «В качестве
кандидата на Нобелевскую премию по литературе этого года настоящим
почтительнейше предлагаю русского писателя Михаила Шолохова, известного
преимущественно своим мощным романом "Тихий Дон" (в шведском переводе
"Тихо течет Дон")».
В соответствии с сохранявшейся некоторое время и в середине века
процедурой очерк о писателе был поручен эксперту, каковым все еще пребывал
Антон Карлгрен. Его, без преувеличения, акрибическое монографическое
исследование насчитывает 136 переплетенных в серо-зеленую обложку страниц
нестандартного формата. При пересчете на традиционные масштабы (размер
листа A4) монографический очерк оказывается равен 170 стандартным
страницам, или 6 авторским листам. Процитировать этот труд в настоящем издании
удастся только в очень сокращенном объеме.
В современной русской литературе Шолохов уже давно занял такое место, что
оставалось только вопросом времени, когда он окажется в списке кандидатов
на Нобелевскую премию. Из всех нынешних русских писателей он
несопоставимо самый читаемый как на родине, так и за рубежом. Из двух его романов,
«Тихий Дон» и «Поднятая целина», на долю первого выпал ошеломляющий
успех. Первый том был воистину сухо встречен официальной русской
литературной критикой; Шолохова причислили к тем писателям, которых называли
«попутчиками», т. е. к писателям, которые в 1920-е гг. хотя и были терпимы, но
считались аутсайдерами <outsiders>— в своем творчестве при большевиках
они делали хорошую мину, но не шагали в ногу с ними. Русский читатель,
однако, с первого мгновения с воодушевлением отнесся к роману. Три
последовавшие части <...> обеспечили полнейший успех. Поскольку с каждым новым
томом шолоховский роман обретал все более чистый политический оттенок,
то и критики, хотя и бранили его порой за так называемые идеологические
ошибки — его поучали, как не должны были поступать в том или другом
случае его персонажи, — все более единодушно признавали его за, быть может,
ведущего представителя так называемого социалистического реализма,
который стал образцом для всех советских писателей с начала 1930-х гг. Среди
русских читателей его роман набирал все большую популярность, а тиражи
«Тихого Дона» перегнали «Войну и мир» Льва Толстого, каждую новую часть
романа ожидали с возрастающими напряженностью и нетерпением;
поскольку последняя часть заставляла себя ждать, то на рабочих собраниях
голосовали за введение нормативов для литературного труда, как в угольной промыш-
540
ленности. Шолохов оказывает влияние и за рубежом; из советских писателей
его несоизмеримо больше всех переводят на другие языки, и за пределами
России к нему растет огромный интерес; уже в 1934 г., во время поездки по
скандинавским странам, он сообщил, что тираж его сочинений в
западноевропейских странах достиг полутора миллионов экземпляров.
Разумеется, только за громадные тиражи Нобелевскую премию не
присуждают. И все же они свидетельствуют о том, что за русского писателя голосует
читательская аудитория такого размаха, о котором и мечтать не мог ни один
нобелевский лауреат. У Ивана Бунина, получившего премию за год до первого
визита в Швецию Михаила Шолохова34, тиражи были микроскопические и по-
русски, и в переводах, а предпринятое было собрание сочинений, рассчитанное
на эмигрантскую аудиторию, обернулось крахом. Миллионы читателей против
пяти шведских академиков — это был бы демократический выбор. Между тем
Антон Карлгрен представил еще полторы сотни страниц, самостоятельно
пытаясь разобраться в феномене шолоховского романа.
Биографический контур дополнен всевозможными разъяснениями,
например, этнографических особенностей донских казаков или причин, почему
нельзя буквально передать название шолоховской эпопеи. В шведском языке
прилагательное «тихий» «обесцвечивает эпитет, как, например, в названии Тихого
океана; вот почему в переводе на западноевропейские языки заглавие романа
звучит как "Тихо течет Дон" (а по-английски "И тихо течет Дон") и тем самым
приглашает читателя к тривиально-назидательным раздумьям о контрасте
между величием и спокойствием природы и теми бурями, что маленькие люди
сами для себя устраивают, — если уж как-то думать о смысле названия, — а
ведь в русском названии ничего этого нет». Шолохов хотел привлечь своего
читателя совсем к другому подтексту — ощущению того, что «и после многолет-
34 В «Летописи жизни и творчества М.А. Шолохова» о двухмесячной заграничной поездке
писателя в сопровождении членов семьи говорится следующее: 23 ноября 1934 г. «М.А. и
М.П. Шолоховы отправляются в деловую поездку по странам Европы по приглашению
издательств — в Швецию, Данию, Англию, Францию. Поездка по скандинавским странам, Англии
и Франции продолжалась 59 дней.
Ко времени приезда писателя в Швецию издательством "Тиден" (Стокгольм) было выпущено
уже три первые книги "Тихого Дона" в переводе Давида Белина, и в шведских газетах было
немало рецензий на еще не оконченный роман. 18 октября 1934 года редакция газеты "Арбетет"
в рецензии на 3-ю книгу писала: "...«Тихий Дон» значителен не только по своим качествам эпоса
и реалистического романа, но и по своим глубоким психологическим описаниям, богатым
чудесными, разящими наблюдениями как в отношении особой психологии казаков, так и человека
вообще. Уже сейчас еще не оконченный роман представляется одним из самых важнейших
вкладов в новую русскую литературу".
В Швеции М.А. Шолохова встречали тепло и восторженно. В посольстве, по свидетельству
СМ. Шолоховой, состоялась встреча и беседа писателя с A.M. Коллонтай. Как сообщали
"Известия" от 21 декабря 1934 года, "шведская печать проявила большой интерес к писателю
Шолохову", публикуя его стокгольмские интервью и подчеркивая в своих статьях популярность писателя
не только в СССР». См. электронный ресурс: http://feb-web.ru/feb/sholokh/shl-abc/shl/shl-1101.
htm?cmd=2&istext=l, дата обращения 1 августа 2017 г.
541
ней борьбы казачества с большевиками казаки не были вычеркнуты из
большевистских черных списков». Во время работы писателя над эпопеей вышла
«Поднятая целина», роман о «громадном и страшном процессе
сельскохозяйственной коллективизации»; продолжение его появилось уже во время войны,
когда Шолохов публиковал «пропагандистские рассказы» и начал роман «Они
сражались за Родину», помещая отрывки из него в газетах.
А. Карлгрен сообщает обо всех регалиях Шолохова (ордена и премии), его
избрании академиком, его участии в партийной жизни Вешенской и
одновременно работе депутатом Верховного совета СССР и, разумеется, о его
«культурном десанте» в Скандинавию — с обширными выписками из советских газет.
Рассмотрение А. Карлгреном первой части «Тихого Дона» начинается
подробнейшим пересказом романа с его первых строк, представлением семейства
Мелеховых и рассказом о любви Григория и Аксиньи, протекающей «в далеко
не салонной форме». Шолоховских героев Карлгрен называет именами, более
традиционно звучащими для шведов, — Грегори, Стефан, однако ни на йоту не
отступает от сюжета, перемежая пересказ цитатами. Больше всего эта далеко не
краткая передача содержания похожа на сценарий, где опущены все
прославленные лирические описания природы и лишь сквозное действие соединяет
эпизоды романа. Создается ощущение, что таков и был заказ Нобелевского
комитета: изложить содержание романа для тех академиков, кто «Тихого Дона» не
читал. Роман действительно велик, читать его можно было только в переводе,
т. е. не ощущая всей первозданной прелести текста. Шолохов был выдвинут
впервые, и невозможно было предугадать, как повернется его обсуждение;
а ведь прочитать пятичастную (в шведском варианте) эпопею наряду с массой
другой книжной продукции академики могли и не успеть.
Завершая пересказ первой части романа, Карлгрен замечает:
Любовь Григория и Аксиньи, заряженная свежим звериным вожделением и
изображенная изумительно дерзкими и красочными мазками, представляет
собой только главный сюжетный стержень романа. За описанием центральных
персонажей проступает грандиозная картина жизни казачьей станицы. Вот
именно, только проступает: «Тихий Дон» не является романом о деревне,
живописующим крестьянскую жизнь во всех ее стадиях и вникающим в
психологию крестьян. Однако знакомство с казацкой средой все же происходит.
Знакомишься с народом, который гордится своим уникальным положением в
российском обществе и добросовестно придерживается традиционного уклада;
это люди жизнерадостные и буйные, обычно веселые и добросердечные,
бесхитростные и невежественные, но бойкие на язык и независимые. Слышишь,
как они говорят на своем сочном, богатом языке, обильно сдобренном
пословицами, поговорками и прибаутками, не всегда сразу понятными даже
русскому читателю, так что к роману приложен словарь специальных казацких слов и
выражений; заставляя казаков говорить на их природном языке, писатель
насыщает роман таким особым свежим духом, который в переводе теряется
почти во всем романе <...>.
542
В скобках эксперт замечает, что шведский перевод вышел довольно
удачным, однако язык все же не обладает «колоритностью оригинала».
Читая роман, продолжает А. Карлгрен, оказываешься в степи и в поле
вместе с работающими там казаками, на их «фермах», погружаешься в казачью,
«слегка фольклоризированную» жизнь «со всеми ее обрядами, ухаживаниями
или забавными сценками». Эксперт подчеркивает, кстати, что каждодневный
быт казаков, в сущности, мало отличается от уклада жизни «в Великороссии».
Жизнь донских казаков писатель представляет «смачными душистыми
порциями», каждый фрагмент непременно завершая «пейзажной виньеткой»,
прорисованной «с острой наблюдательностью, насыщенно и поэтично, порой с
большим вкусом». Через эти мастерские зарисовки природы писатель, от главы к
главе, заставляет «все стихии звучать в согласии с каждым событием или
диссонируя с ним, что порой все же несколько утомляет своей надуманностью».
А. Карлгрена смущает (он уверяет, что и советские критики задавались этим
вопросом), что первая часть романа слишком мало связана с
социально-политическими проблемами предвоенной России. Казаки — народ по
преимуществу неграмотный, состоявший на царской службе и — в качестве воинской
повинности — участвовавший в подавлении революционных волнений. По
мнению эксперта, не увидевшего никаких симптомов классовой борьбы,
зарождающейся в казачьей среде, Шолохов не раскрывает именно того, что могло бы
действительно беспокоить казаков в самодержавном правлении и привести в
будущем к их активному участию в перевороте. С тех пор, как «Тихий Дон»
«превратился в классику», в нем замечают «процесс расслоения крестьян на
кулаков, середняков и бедняков, создающего предпосылки будущей классовой
борьбы. Но это чистая реконструкция». Следует иметь в виду, что гражданину
страны, которая переживала в начале XX в. тяжелые экономические времена,
падение сельского хозяйства и массовую эмиграцию в Новый Свет в поисках
лучшей доли, казаки кажутся «процветающими сверх всякой меры», а
шолоховские персонажи (в первой части романа), как ему представляется, «не
испытывают никаких общественных или экономических трений». В качестве
примера Карлгрен приводит тестя Григория, Мирона Коршунова, зажиточного
казака, которого не только никто не порицает за богатство, но, напротив,
станичники оказывают ему сугубое уважение, да и сам писатель очевидно ему
симпатизирует. Шведский славист напоминает: «За то время, что создавался
роман, кулаков нещадно преследовали и уничтожали, прежде
воспользовавшись их помощью, чтобы снова поставить на ноги и укрепить сельское
хозяйство, поощряя их льготами и стимулируя воззванием, исходившим из недр
большевистской власти: "Обогащайтесь!"35». Еще меньше, на взгляд шведского
35 Лозунг «Обогащайтесь!» — часть фразы, прозвучавшей в докладе Н.И. Бухарина «О новой
экономической политике и наших задачах» на собрании актива Московской партийной
организации 17 апреля 1925 г.: «Всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь,
накапливайте, развивайте свое хозяйство». Хотя Бухарин отрекся от этих идей, немедленно
подвергнутых остракизму, это не спасло его — как и российское крестьянство — от репрессий,
543
слависта, у казаков было оснований враждовать с дворянством, прежними
землевладельцами, с которыми, судя по роману, контакты или конфликты бывали
скорее личные, чем социальные. Листницкие — такие, какими их изображает
Шолохов, и особенно симпатичный ему старый генерал, — это «реликты
прошлого», а вовсе не участники классовых битв, и тут советский автор «открыто
следует русской литературной традиции, идущей от Чехова, изображая их без
малейшей злобы», скорее как «отживших оригиналов».
Иным предстает Сергей Мохов, хозяин магазина («торгует он в основном
краденым», сообщает Карлгрен) и мельницы, иногородний и чуждый казакам,
вроде «надсмотрщика в колонии». Подробно остановившись на ряде эпизодов,
эксперт констатирует, что «казаки не разделяют враждебности писателя к
торговцу», и резонно замечает, что при «общем высоком благосостоянии казачьей
станицы» долги в магазин не ложатся на казаков столь уж тяжким бременем.
Эксплуататором Мохов если для кого и является, то разве что для рабочих своей
мельницы. «Таким образом, — заключает шведский славист, — еще не созрели
предпосылки для неизбежной борьбы казаков с классовым врагом; стоит
добавить, что читатель его <классового врага> даже и не увидел». Нельзя не
заметить, что от искреннего восхищения писательским мастерством Шолохова в
изображении донского казачества Карлгрен переходит к столь свойственной
ему иронической насмешке, обратившись к анализу идеологической
тенденциозности, — в первых частях романа это «пробуждение прозябавшей в социально-
политической девственности казачьей деревни», которая, как кажется
шведскому слависту при чтении, существует словно не накануне Первой мировой
войны, а где-то на рубеже веков, явно до революции 1905 г.
В станицу приезжает Штокман — «юный писатель не был вовсе незнаком с
мировой литературой», комментирует нобелевский эксперт36. Штокман —
рабочий-большевик, «весьма эффективно» ведущий в станице пропагандистскую
о чем А. Карлгрен, автор книги о советской России и сталинизме, был хорошо осведомлен.
Исторически лозунг считается символом Июльской монархии Луи-Филиппа и восходит к призыву
министра иностранных дел Ф. Гизо к народу Франции (1843).
36 Доктор Томас Стокман — главный герой пьесы Г. Ибсена «Враг народа» (1882). Первые
переводы на русский язык были сделаны не с норвежского, а с немецкого языка, поэтому имя
героя было передано как Штокман. Именно так («Доктор Штокман») назывался спектакль,
поставленный в МХТ К.С. Станиславским, сыгравшим также и заглавную роль (1900). Монолог
Стокмана о силе большинства и правоте одиночек хорошо известен: «Большинство никогда не
бывает право. Никогда, — говорю я! Это — одна из тех общепринятых лживых условностей,
против которых обязан восставать каждый свободный и мыслящий человек. Из каких людей
составляется большинство в стране? Из умных или из глупых? Я думаю, что все согласятся, что глупые
люди составляют страшное, подавляющее большинство на всем земном шаре. Но разве это
правильно, черт возьми, чтобы глупые управляли умными? Никогда в жизни! (Шум и крики.) Да! Да!
Вы можете перекричать меня, но вам не опровергнуть моих слов. На стороне большинства сила,
к сожалению, но не право. Правы я и немногие другие единицы. Меньшинство всегда право»
[Ибсен 1957: 602] (выделено в издании). Именно как одиночка появляется с новой правдой в
романе и шолоховский Штокман.
544
работу; но живой ли это образ? Живые у Шолохова казаки, поясняет Карлгрен,
«но как только он оставляет казачью среду, его образы становятся
схематичными». И если речь заходит о пропаганде, то и «пропагандирует Шолохов лишь в
самых общих чертах: предмет щепетильный, а молодой автор и сам не очень
тверд, заводя разговор о политике». На самом деле, согласно Антону Карлгрену,
большевикам пришлось действовать на Дону не теориями, они прежде обильно
полили землю казачьей кровью, прежде чем отобрать ее.
Показав жизнь казаков изнутри, Шолохов выводит их в мир за пределами
станицы — Григорий Мелехов окунается в солдатскую жизнь накануне войны,
и «писатель не скупится на мрачные краски». Нобелевский эксперт не остается
голословным — он пересказывает и цитирует соответствующие фрагменты
романа с его жестокой обнаженной правдой, заключая: «"Тихий Дон" — это не
роман для законоучителя». Описание станицы летом 1914 г. Карлгрен не
доверяет шведскому переводу романа — он пересказывает эти страницы сам, с
видимым наслаждением от сгущенной предгрозовой атмосферы засушливого
жаркого лета со всеми его звуками, запахами, жатвой и напряженным
ожиданием. «Сцена <мобилизации> весьма эффектная, но полная неосведомленность
деревни о происходящем такова, что отказываешься верить». И ведь хорошо
понимает шведский славист, что казачья масса невежественна, необразованна и
попросту неграмотна, посмеивается над безуспешными попытками агитатора
Штокмана вразумить эту темную силу благополучных свободных крестьян;
вместе с офицерами и докторами Карлгрен видит, каким дикарем и чуть ли не
дегенеративным типом кажется со стороны почти песенный герой Гришка
Мелехов, — и все-таки полнейшая отъединенность от мира, от европейской
политики затерянного в глубине южнорусских степей хутора поражает эксперта. Но
разве не менее поразительна реакция на те же события героя, живущего в
самом центре вступившей в войну Европы, разве Ярослав Гашек в образе
«бравого солдата» Йозефа Швейка не обнаруживает не просто равнодушие
«маленького человека» к событиям большой истории, но полнейшую ненужность и
даже убийственную враждебность этой истории и этой политики для
городского обывателя, или пашущего землю крестьянина, или учителя и врача? Но
эксперт и сам отвечает на свое недоумение, замечая, что если из романа и не
узнать, что думало и чувствовало все казачество, собираясь в поход, то
достаточно и одного голоса, сокрушающегося о посеянных десятинах и покидаемом
урожае. И эта оставляемая спелая пшеница, конечно, важнее споров царей,
кайзеров, президентов и королей!
Тем не менее «казачья каста седлает коней и отправляется на фронт».
Первая же батальная сцена — «увертюра войны» — вызывает очередной всплеск
восхищения у А. Карлгрена, поражая «массой зорко подмеченных и интенсивно
воспроизведенных деталей ужасающего реализма». Но о дальнейшем развитии
событий, о ходе войны и о том, что, собственно, обо всем этом думают казаки,
«в романе речи нет». Порой писатель считает нужным «проинформировать чи-
545
тателя об именах генералов, расположении войск и о названиях местностей»,
т. е. сообщает факты «сухой военной истории», «быстро возвращаясь назад»,
к «плоским анекдотическим байкам» о казаках (Крутикове и под.), так что от
первого этапа войны остаются лишь разрозненные эпизоды, которые, кажется,
мало связаны с романом в целом и в которых центральные персонажи не
появляются вовсе или мелькают лишь спорадически. Другой пример побочного
сюжета — дневниковые записи неизвестного студента, любовная история,
которая случилась в Москве еще до войны и в которой «женская партия
принадлежит развращенной дочери купца Мохова». Эксперт сообщает, как Григорий
подобрал дневник у погибшего бойца и как развлекается за его чтением
полковой писарь: «Читатель романа мог бы вполне обойтись без этой истории,
включение которой в повествование понять трудно — то ли изображение падения
буржуазной дамы призвано стать иллюстрацией общего распада ее класса, то
ли описание грубого сексуального разврата представляет собой примитивный
противовес к устроенной казаками оргии, о которой рассказано дальше».
Между тем, как замечает эксперт, писатель начинает раздвигать рамки
романа (и даже столь смутивший А. Карлгрена эпизод относится, в сущности,
к такой же попытке выйти за рамки казачьей среды, прикоснуться — хотя бы
и подобным образом — к столичной жизни). Одного из второстепенных в
первой части персонажей, молодого лейтенанта Листницкого, Шолохов выводит
как характерного представителя офицерской среды, безоговорочно
поддерживающей монархию. Писатель не изображает его «откровенно несимпатичным»,
«смехотворно наивным», но приводит его письмо отцу, где обожание царя
слишком напоминает восторженную институтку. Удрученный тем, что он
видит и слышит от товарищей на фронте, Листницкий знакомится с Бунчуком,
и нобелевский эксперт передает, со всеми фразеологизмами — до
шолоховского персонажа так загадочно пересыпал свою речь пророческими пословицами
лишь пушкинский Пугачев — их диалог. «По своей глупости и невинности»,
замечает шведский славист, молодой офицер не понял, что перед ним большевик,
«который изучает искусство войны, чтобы применить его позже таким
образом, которого его собеседник и вообразить себе не мог. Большевик, которого
столь прилежно обрисовывает писатель, придавая ему все черты идеального
большевика, — это твердокаменная порода в русском хаосе и обязательный
персонаж в советской литературе».
В следующем затем подробном пересказе основной сюжетной линии, где
вновь в центр повествования возвращается Григорий Мелехов и его близкие,
экспертом выделена «драматическая» сцена объяснения Натальи и Аксиньи.
Григорий, с новым опытом и взглядами, встречает в госпитале украинца
(разумеется, не «хохла») Гаранжу, «желчного, ядовитого человека, который клянет
все: правительство, войну, свою судьбу, диету, докторов, — все, что попадает на
его острый язык». И, переходя на несобственно-прямую речь, А. Карлгрен
передает резкие высказывания Гаранжи и слабые попытки Григория возражать,
546
так что постепенно последний «со страхом понимает, что злокозненный
мудрый украинец шаг за шагом неуклонно разрушал все его прежние
представления о царе, отечестве и казацком долге». Простая и ясная правда открылась
герою, не скрывает ее от шведских академиков и А. Карлгрен: «...каждая страна
должна иметь рабоче-крестьянское правительство, тогда не будет больше
войны и над всем миром взойдет красная заря». Пока никак не комментируя этой
новой правды, открывшейся Григорию, и почти целиком процитировав эпизод
со скандальным визитом «высоких гостей» — «императорской фамилии»,
обдавшей георгиевского кавалера «дорогим парфюмом», эксперт вновь
возвращается к сюжету — к тому «ряду драматических сцен», которые и создали во
многом славу автору «Тихого Дона». В пересказе сцены избиения нагайкой Лист-
ницкого («За меня! За Аксинью!») вновь трудно отделить шолоховский текст от
рассказа эксперта, настолько он ярок и эмоционален и, кстати, лишен
моральной оценочности; очевидно, что Карлгрен неохотно реферирует наполненные
политикой страницы романа, но на большом подъеме, заражая академиков
подлинными чувствами персонажей, передает собственно романную линию.
На родной хутор Григорий вернулся изменившимся, с думами не о
казацкой, а о «великой человеческой правде», вдруг вызывающей эмоциональную
реакцию у шведского слависта:
Великая человеческая правда! — так именует и сам Шолохов вульгарное
евангелие ненависти, провозглашенное Гаранжой; и если в первой части романа он
занимает по отношению к этой правде еще не вполне явную позицию и лишь с
восторгом живописует назидательную сцену, во время которой Григорий
демонстрирует членам царской семьи, до чего он стал свободен, то теперь сам
писатель уже откровенно декларирует ее. Григорий не забывает, между тем, и
обеих своих женщин, —
не без иронии добавляет эксперт. Отделяя идеологию «Тихого Дона» от
любовной истории, пейзажной поэзии и бытовых зарисовок, Карлгрен все время
подчеркивает нецелостность романной ткани: с одной стороны, полнокровный,
живой реализм, достоверный, жестокий и лиричный одновременно, с другой —
неизбежная тенденция, превращающая шедевр русской литературы в образец
литературы советской.
Но Шолохов совершает неожиданный романный ход: когда наступает 1917
год, год двух русских революций, «главный герой великого русского романа о
революции, о котором было бы всего интереснее узнать перед лицом столь
громадных событий, исчезает из повествования». Вместо этого Шолохов выводит
на первый план иных персонажей, например, вновь объявляющегося Бунчука;
его взгляды на революцию эксперт добросовестно реферирует. И замечает:
Сцена, в которой Бунчук, чтобы доказать офицерам правоту своих слов,
цитирует ленинские статьи, представляется в высшей степени неправдоподобной.
Чтобы большевик в армии вел себя таким образом — ведь это, разумеется, не
547
только не давало ему шансов убедить офицерское сообщество, но и делало
совершенно невозможным исполнение его прямых обязанностей, агитировать
солдат, — и вовсе кажется чистым безумием. <.. .> Почему писатель заставляет
Бунчука действовать вопреки всякому правдоподобию, непонятно. Шолохову
было нужно представить то, что он только что назвал великой человеческой
правдой, то есть идеи большевиков, в более приглядном виде, чем вульгарные
поучения Гаранжи, и он не мог выдумать ничего лучше, как дать слово самому
Ленину.
Военные события писатель разворачивает «широким полотнищем»,
«длинно и сухо, как в военно-исторической хронике», перечисляя фронты,
дислокации войск «etc.», прерывает наскучившую цитату Карлгрен и упоминает
те «разрозненные сцены», из которых складывается батальное полотно и
которые постепенно переводят военное противостояние в социальное, «классовую
борьбу». Пока на мелеховском хуторе сменялась череда счастливых и
драматичных событий внутри большого семейства, произошла Февральская революция.
Но великие для России события остаются за рамками романа, лишь вновь
появляется надолго исчезавший с его страниц рефлексирующий лейтенант Лист-
ницкий, а на Татарском «столь лояльные режиму казаки принимают новость <о
свержении царя> с не вполне достоверным равнодушием» и относятся «к
перевороту с затаенной сдержанностью и осторожностью». Только торговец Мохов
выражает опасение, а казаки слушают школьного учителя Баланду,
проповедующего новую жизнь. «Великие и важные события, которые произошли в
последующие месяцы и реакцию на которые казаков в станице и казаков на
фронте было бы интересно хоть немного узнать, Шолохов пропускает».
Задерживается он только на «июльском наступлении», и его описание «оказывается
непропорционально растянутым». Об июльской неудаче большевиков писатель
упоминает «как о вещах всем известных»:
Вообще его изображение революционных лет в России предполагает такие
знания о развитии революции в России, которыми, конечно, не обладают его
зарубежные читатели и, возможно, даже немногие русские. Без подобных
знаний большую часть повествования трудно воспринимать.
От романа, написанного по горячим следам событий, трудно ожидать
энциклопедичное™, а мысли о переводах на другие языки, о мировом признании и
Нобелевской премии вряд ли приходили в голову Михаила Шолохова в 1920-е гг.
Корниловскому мятежу отведено как раз немало места в романе:
...читатель должен получить впечатление об этой безрассудной, с самого
начала обреченной и внезапно закончившейся авантюре, которая, вероятно,
сыграла роль в обострении революционного противостояния и в усилении
большевистской работы по привлечению на свою сторону русской армии, и это
действительно был наиважнейший эпизод в русском революционном
развитии вообще и центральный — в 1917 г. Но писатель умудряется изобразить эти
548
события без вовлечения в них своих главных персонажей, выводя на сцену
исторических личностей.
Их портретированием нобелевский эксперт не удовлетворен: «интересный,
трагический образ» Корнилова обрисован лишь через внешние черты и не
получился живым, а о «прочих исторических деятелях третьей или четвертой
степени говорится, как о старых знакомых читателя» (Родзянко, Родичев,
Савинков, Добринский, Завойко, Чернов — некоторые из перечисленных лиц, следует
поддержать шведского слависта в исторической перспективе, сейчас мало
известны уже и русским читателям). А писатель между тем «в подробностях
расписывает, как готовился мятеж с участием этой галереи теней». Обсуждение
генералом Корниловым с соратниками, как открыть фронт немцам, «является
совершенно недопустимой фальсификацией истории», утверждает А. Карлгрен
и добавляет, что «в искреннем патриотизме Корнилова никто не сомневался».
Шолохов перелопачивает массу исторического материала, включает в
повествование различные документальные источники, но «должного раскрытия такой
сложнейшей темы, как корниловский мятеж, не получается»: о событии
рассказано
в соответствии с вульгарной версией большевиков, которой писатель всецело
следует. С точки зрения исторических событий эти описания сделаны в
высшей степени упрощенно и, как выше сказано, частично фальсифицированы,
а как вставки в роман эпизоды со множеством безжизненных статистов и с
массой почерпнутого в источниках сухого материала — безобразны.
Пожалуй, впервые эксперт высказался о романе столь категорично и столь
негативно. Однако о романе ли? В своем отзыве шведский славист
последовательно разграничивал собственно роман-эпопею — высокохудожественное
повествование о донском казачестве в переломные для России годы — и истори-
ко-политический фон, который начинает проступать все сильнее, по мере того
как хронологически приближается Октябрьский переворот, и который кажется
эксперту неудовлетворительным сразу по двум причинам: исчезновение из
рассказа главных героев, тогда как именно их опыт и переживания в эпоху
катастрофических перемен особенно интересны и важны, и схематизация и даже
«фальсификация» истории в соответствии с большевистским взглядом на
революцию, ее деятелей и ее последствия.
После подавления корниловского мятежа, в котором сыграли немалую
роль казаки, Шолохов вновь обращается к позабытым было героям,
противопоставляя офицерам (Листницкий) подготовленного некогда Штокманом для
революционной работы рабочего Ивана Алексеевича и прапорщика Бунчука
и «быстро перескакивая от корниловского мятежа к большевистской
революции, или, правильнее сказать, к последнему акту большевистской революции».
Охраняющие Зимний дворец казаки пререкаются с бойцами женского
«батальона смерти», поддаются уговорам матросов Балтийского флота пропустить
549
их, «и читателю становится ясно, что в это мгновение старая Россия получила
смертный приговор, мгновение, которое заслуживало куда более подробного
изображения». Если первые части романа Карлгрен пересказывал с явным
удовольствием, захваченный перипетиями жизни мелеховского семейства, то
теперь каждый новый эпизод эксперт сопровождает замечанием: «если верить
писателю». Например, «на казаков на фронте новости о большевистском
перевороте не произвели большого впечатления» — «если верить писателю».
Предпочитая помалкивать, казаки предчувствуют конец войны, массово
дезертируют, полками отправляются в Россию — и это, надо признать, чистая
историческая правда. Казаки уезжают на Дон, «и там, на Дону, разворачивает
писатель продолжение романа», становясь для 1917-1918 гг. «своего рода
историческим хроникером». Но как ни пытается Шолохов «детально разъяснить отот
исторический хаоо, он не может предотвратить мешанины в головах
читателей».
Карлгрена все время настораживает тенденция писателя стать только на
одну сторону, зачисляя в контрреволюционеры всех, кто по разным причинам
не принимает большевизм, и не оказывая, например, «ни малейшего уважения»
к тем казачьим соединениям, которые собирает на Дону генерал Каледин.
Неудовольствие Карлгрена нарастает, поскольку Шолохов разбирает начало
казачьего нестроения in extenso, но «зачем читателя нужно мучить этими сырыми
историческими первоисточниками — непостижимо». То, как большевики и
казаки сражались с Добровольческой армией, представлено «в столь
отредактированном виде, что порой с трудом веришь, будто это военно-историческое
изображение Гражданской войны». Из примеров ясно, что читателю (и не
только иностранному) номера полков и батальонов, названия станиц и разъездов не
говорят решительно ничего — ив доказательство Карлгрен приводит
обширную цитату. Читателю интересен Мелехов — и писатель «задним числом
вкратце рассказывает, как Григорий жил» в то время, когда происходили революции
и начиналась Гражданская война.
Эксперт останавливается на знакомстве Мелехова с Подтелковым, реально
существовавшим историческим лицом со свинцово-тяжелыми
«глазами-картечинами». Попутно Карлгрен замечает, что «сталь сверкает в глазах многих
литературных большевиков», но на главного героя его собеседник «производит
неотразимое впечатление, а его аргументы заставляют Григория дрогнуть», хотя
«полной ясности» в его мыслях так и не появляется. Зато у читателя появляется
возможность ознакомиться «с методами борьбы во время Гражданской войны»:
приводимый экспертом эпизод (расправа с генералом Чернецовым) ужасает,
и хотя «шашками рубят» противников и белые, и красные, «мужественная
смерть с достоинством оказывается в романе уделом одних только
большевиков». С холодным сердцем возвращается Григорий домой, и жизнь на хуторе
идет такая «тихая и спокойная», что эксперт пересказывает некоторые сцены
домашней жизни Мелеховых без прежнего увлечения.
550
«В следующей части "Тихого Дона" бои продолжаются», и писатель
«переносит свою лишенную всякого интереса историческую хронику в белый лагерь
с его запутанными политическими играми», «прилагая и несколько картин
из красного лагеря». Не без отвращения полупересказав-полупроцитировав
неудачную любовную сцену между Анной Погудко и Бунчуком,
заканчивающуюся словами «молодой еврейки»: «О-о-о, как это мерзко!», — Карлгрен
роняет: «Читатель согласен — сцена мерзкая». Если же речь заходит об
отношениях между казаками и большевиками на Дону (речь идет о зиме 1918 г.), эксперт
не столь покладист, заметив, в частности, о случае в Мигулинской: «Если верить
Шолохову, дело было пустяковое, — но добавляя, — однако оно дало повод к
восстанию» и закончилось «ужасающим массовым убийством». Подчеркнув,
что «писатель упивается его изображением», эксперт и сам так потрясен этим
событием, что подробно пересказывает весь эпизод.
Начало третьей части романа — это разворачивающееся восстание донских
казаков. Шведский славист с усвоенной в этом очерке манерой точно следовать
за сюжетом рассказывает об избрании генерала Краснова атаманом (не
упомянув, кстати, что за двадцать лет перед тем ему было поручено написать
экспертный отзыв о романистике генерала37). Прозу Краснова сам он уничтожал
сарказмом, однако ироничный тон Шолохова по отношению к боевому генералу
ему не кажется подобающим. Разочарованный в большевиках Григорий теперь
воюет с ними; хотя объяснение братоубийственной войны с точки зрения
казаков одно — она идет за землю, но «главным инстинктом любой войны»
(цитирует Шолохова Карлгрен) является мародерство. Грабят деморализованные
казаки и офицеры все подряд, «одежду, самовары, швейные машинки, упряжь,
все, что имеет хоть какую-то ценность, и переправляют награбленное с фронта
в деревни», и попытки Григория прекратить это наталкиваются на
непонимание воюющих под его началом казаков. Отбросив красных за Дон, казаки
теряют интерес к войне и, смертельно усталые, разбредаются по домам.
Возвращается на свой хутор и Григорий; из Германии вернулся муж Аксиньи Степан,
а ее отпустил из имения приехавший туда с женой Листницкий. И последнее
кажется эксперту «совершенно невероятным»: он полагает, что «всех
помещиков выгнали из их имений немедленно после Октябрьской революции». Однако
Шолохов ведь пишет о Доне, контролируемом белыми, — так почему бы
помещику не вернуться в свою усадьбу?
При чтении романа с его эпическим охватом событий череда сменяющихся
властей не кажется столь динамичной; в поневоле сжатом пересказе шведского
слависта создается впечатление ужасающей стремительности событий: «И вот
пришли красные». В станице устанавливается «жестокий красный режим»,
в действие вступает прежде редко появлявшийся персонаж, Миша (именно так
и никогда с уменьшительным суффиксом) Кошевой, а Григорий, к «некоторому
изумлению читателя», со свойственным ему «волнообразным» поведением,
37 См. главу 6.
551
остается. Пересказ следующих эпизодов — приказ казакам (только наполовину
крестьянам, а наполовину — военизированному формированию)
разоружиться, затем приказ «изъять враждебное население» в момент наступления
белых — подтверждает, в сущности, правоту шведского слависта, для которого
роман имел силу и ценность, если все происходившие в России исторические
события проходили через судьбы героев романа. Когда вместо «сухих»
документов, «сырого» материала речь идет, в частности, о жизни Мирона
Григорьевича, отца Натальи, то и достоверность повествования возрастает, и его
эмоциональное воздействие усиливается. Фигуры большевиков тоже перестают быть
бесплотными тенями: местные, станичные большевики «способны
противостоять безжалостному правосудию с той же вероятностью, что и читатели
романа», уточняет эксперт, и только «вовремя» подоспевший Штокман с
готовностью подключается к расстрелам: «С врагами вообще не стоит церемониться:
революцию обычно не делают в перчатках, как сказал Ленин»38. И далее — без
кавычек: «Или они нас, или мы их, среднего не дано».
Но и красные во главе со Штокманом покидают деревню, а Григорий,
наконец, начинает воевать против них. «Описаниями последовавших сражений
писатель наполняет большую часть романа», а сам эксперт — цитатами свой
пересказ. Впрочем, о разложении Белой армии, о душевной усталости Григория,
утрате радости жизни из-за привычки к войне, убийству людей рассказано
гораздо лаконичнее, чем о новой встрече с Аксиньей и о новом бегстве с ней «в
степь, влекущую своей тишиной, своей темнотой, пьянящим ароматом
росистой травы». То, что в текст экспертного очерка, хотя и в редуцированной
форме, вторгается живая струя поэтических шолоховских описаний любви и
природы, выдает, как глубоко трогает А. Карлгрена роман в целом. Следующий
затем военный эпизод эксперт считает «самым подробным в романе», не
удерживаясь от собственных комментариев. Так, например, Шолохов показывает
«неразумность» действий Троцкого, который организовывал Красную армию и,
вопреки сопротивлению Сталина, старался привлечь на службу в ней бывших
офицеров: «В самом произведении одно только это может объяснить победы
Красной армии над Белой». Не скрывая потрясения, в деталях рассказывает
Карлгрен о жутком убийстве Дарьей Ивана Алексеевича и о ночном визите
Григория: «...в последнем русском издании, — добавляет он, — сцена смягчена»,
изменения же понадобились будто бы «из-за обнаружения писателем, что в
дальнейшем лицо Дарьи не несет никаких следов насилия». (Действительно,
след от «кованого каблука», которым бешеный от ярости Григорий наступает на
лицо пьяной Дарьи, никак в дальнейшем не отражается на внешности героини.)
Но не этот драматический эпизод кажется эксперту наиболее ярким, а
следующие за ним встреча Григория с отцом, разговор о домашних делах и бедах и о
38 Ср. статью В.И. Ленина «Революционеры в белых перчатках» (1905), а также употребление
метафоры в литературных произведениях (Б. Савинков, «То, чего не было», 1912; И.А. Бунин,
«Окаянные дни», 1919).
552
поджоге красными станицы, наконец, возвращение домой Мишки Кошевого,
«венчающее третью часть сильным финальным эффектом».
Если третья часть заканчивается, казалось, «безнадежным» поражением
восставших казаков, то в начале четвертой части «ситуация быстро меняется».
Эксперт замечает, что в деталях русской Гражданской войны в романе «никто
читателя не ориентирует», и сам дает небольшую историческую справку о
развитии событий. Однако включение в пересказ романа большого количества
цитат подтверждает по умолчанию, что шведский славист принимает
шолоховские объяснения происходящих событий, в том числе и вложенные в уста
персонажей. Пребывание Григория дома превращается «в чистую идиллию»,
ожившая после тифа Наталья «не скрывает своего любовного стремления к
нему», их отношения «развиваются гармонично», и даже с Дарьей нет никаких
разногласий — «то, как Григорий чуть не раздавил ей лицо сапогом и — в
первоначальной версии — переломил ей нос, забыто, по-видимому, и ими обоими,
и самим писателем». Возвращение Григория на фронт отягчено его
рефлексией — он понимает, что «воюет на неправой стороне, а так называемая великая
человеческая правда — на стороне большевиков». Оспаривает шведский
славист, впрочем, не эту мысль, а размышления Григория о Буденном и его
победах (речь идет о 1919 годе) — «анахронизм: он побеждал на гораздо более
поздних этапах войны». «Недостаточно хорошо мотивированным» представляется
Карлгрену нежелание Григория сражаться на стороне белых («непонятно
почему»). Тем временем Григорий «на время исчезает из поля зрения читателя», а на
первый план выступает Митька Коршунов, которого братоубийственная война
лишила всякой человечности. Пересказав без прикрас две зеркально схожие
сцены, в которых два бывших односельчанина из благополучной сытой
станицы выступают кровавыми убийцами мирных людей (Кошевой и Коршунов
расправляются с членами семейств друг друга), Карлгрен замечает, что описания
эти «типичны для романа: если автор позволяет иногда большевикам — крайне
редко — совершить какое-либо злоупотребление, то он смягчает производимое
им впечатление и заставляет белых ответить преступлением в десять раз
худшим» (так, импульсивность Кошевого противостоит подлинным зверствам
Коршунова, вызывающего отвращение даже у близких).
Следующий фрагмент экспертного очерка стоит привести полностью —
настолько ярко проявляется в нем и ведущая линия критического разбора Карл-
грена, и его неповторимый стиль, и особенности передачи шолоховского
текста (в угловых скобках нами приведены соответствующие цитаты из «Тихого
Дона»):
Писатель, однако, одарил станицу еще более замечательным визитом и тем
самым получил возможность внести дополнительный вклад в характеристику
белых. В один прекрасный день пришло известие, что приезжает
командующий Донской армией генерал Сидорин, деревня собирается на сходку и
избирает старого Пантелея для поднесения хлеба-соли высокому гостю. В разгар
553
боевой кампании у генерала находится время, чтобы съездить в Татарский и
вручить награды т. н. казачьим героиням, которые отличились в борьбе с
большевиками <«Мне хотелось бы отметить наградой тех женщин вашего хутора,
которые, как нам известно, особенно отличились в вооруженной борьбе
против красных. Я прошу выйти вперед наших героинь-казачек»>; оказывается,
что первой в наградном списке стоит Дарья, которой вручается Георгиевский
крест за то, что она, по словам генерала, своими собственными руками убила
одного из комиссаров-коммунистов, известного своей свирепой жестокостью
<«Мы награждаем женщин, проявивших в боях с большевиками
исключительное мужество. У большинства из них мужья были убиты в начале восстания
против большевиков, и эти женщины-вдовы, мстя за смерть мужей,
уничтожили целиком крупный отряд местных коммунистов. Первая из
награжденных мною — жена офицера — собственноручно убила прославившегося же-
стокостями комиссара-коммуниста»>. За зверскую расправу этой и прочих
фурий с беззащитными арестованными большевиками белые — так вот
каковы они! — называют их героинями. В торжественном, но несколько комичном
акте принимает участие некий английский офицер. Это наблюдатель,
посланник сочувствующей Деникину Антанты: пока он с истинно британской
невозмутимостью рассматривает казацкое население и удовлетворенно
размышляет об этих варварах, что теперь уж и их потомкам не придется идти в Индию:
после падения большевиков, в чем он нимало не сомневается, —
проповедующим коммунизм утопистам не следовало и помышлять о победе в полудикой
стране — Гражданская война надолго исключит Россию из числа ведущих
стран, и в ближайшие десятилетия она не будет угрожать английскому
владычеству на Востоке <«Полковник немного знал историю; рассматривая казаков,
он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их не придется идти
в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы
над большевиками обескровленная Гражданской войной Россия надолго
выйдет из строя великих держав, и в течение ближайших десятилетий восточным
владениям Британии уже ничто не будет угрожать. А что большевиков
победят — полковник был твердо убежден. Он был человеком трезвого ума, до
войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в
полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма...»>.
В семье Мелеховых между тем «происходит две катастрофы»: самоубийство
Дарьи (ее заболевание — «новая позиция в обвинительном листе белых») и
уход из жизни Натальи (отчасти по вине Дарьи и Аксиньи); Григорий, который
быстро продвигался по службе, «с поразительным либерализмом» отпущен
домой на месяц. Антон Карлгрен с откровенным недоверием отнесся к чувствам
ставшего вдовцом героя — в его запоздалую жалость к измученной жене и во
внезапную отцовскую любовь эксперту верится мало. Не симпатизирует он и
тому, что Григорий, «так сказать, не против того, чтобы жить с обеими, с женой
и любовницей, и одинаково любить их»:
Мужчина, который, с одной стороны, настолько горячо любит жену, что
безутешен после ее смерти, и, с другой стороны, хочет объединить любовь к жене
554
с продолжающейся любовью к любовнице, — без сомнения, интересный
психологический случай; ошибка лишь в том, что в него невозможно поверить.
Очевидно стоя на стороне Натальи (во всяком случае, законной жены),
шведский славист все-таки позволяет себе некоторую субъективную оценоч-
ность в отношении Аксиньи, назвав ее любовь к Григорию «бесцеремонной
страстью». И, кстати, не случайно, видимо, опускает эксперт из своего
пересказа тот факт, что Аксинья забрала к себе детей Григория — со всей горькой
тоской и нежностью этого эпизода. Гораздо больше неразрешимого любовного
треугольника эксперта привлекает беседа (собственно, совместная выпивка)
Григория с английским офицером и мысли, высказанные Мелеховым о родине:
.. .этот бренд русского патриотизма вошел в моду в 1930-е гг., когда
дописывался роман, и писатель сделал Григория его представителем; есть нечто
противоестественное — едва ли можно оспорить — в том, что он проявил свои чувства
к отечеству, присоединившись к казачьему восстанию по освобождению Дона
от современной России.
Шведский славист дает своего рода резюме событиям Гражданской войны
на Дону, как они, по его мнению, представлены в романе, подчеркнув, что
обреченность военной кампании белых ясна читателю с самого начала. Писатель
делает исчерпывающий обзор их поражения, «наполняя страницу за
страницей сухим военно-историческим материалом», со всеми возможными
подробностями («сколько штыков, сколько сабель, сколько пушек» на вооружении у
обеих противоборствующих сторон), перечисляя массу географических
названий и указывая все направления передвижения войск: «работа в целом
устрашающая». Эксперт убежден:
Едва ли найдется читатель, который попытается воспринять весь этот экскурс,
прямо нарезанный из какого-то военно-исторического труда, — шведский
переводчик решительно опустил все эти части. Цель писателя, впрочем, яснее
ясного: под видом соблюдения строжайшей надежности и документальной
достоверности — по-видимому, это впечатление и обеспечивается скапливанием
подробной фактической информации — способствовать внедрению
дезориентирующей большевистской фальсификации истории Гражданской войны.
В качестве примеров приводятся, во-первых, обвинение Троцкого в
«пораженческом» военном плане и, во-вторых, вмешательство Сталина в нужный
момент: «Вся эта версия намеренного поражения красных под руководством
Троцкого и того, как Сталин единолично победил грозных белых генералов,
является наиболее гротескным искажением правды <...>, — далее А. Карлгрен
отсылает к соответствующим страницам своей монографии о Сталине (Stalin:
bolsjevismens väg frân leninism till Stalinism. Stockholm: Norstedt, 1942) и
продолжает: — Лакействующий Шолохов в своем романе контрабандой протаскивает
Сталина — хотя и весьма неудачно и неуклюже — в легендарные герои и тем
555
самым рекламирует его миллионам своих читателей самым неаппетитным
образом».
Неужели писатель, изумляется А. Карлгрен, вовлекая Григория Мелехова
в участие в гражданском противостоянии, действительно полагает, что
читателю всего интереснее узнать номер дивизии и количество в ней винтовок?
Пересказывая дальнейший ход событий по роману, шведский эксперт
поражается черно-белой стилистике: «красные ангелы сражаются с белыми бесами», —
но чего же он хотел от литературы в условиях революционного
противостояния? В процитированной выше статье «Техника и правда в "Тихом Доне"»
1965 года Карл Рагнар Гиров публично возразил на этот тезис нобелевского
эксперта — хотя и с опозданием почти в два десятка лет. Эксперт, впрочем,
замечает, что шведский переводчик, Давид Белин, сослужил добрую службу
писателю, удалив из текста «комплименты красным». Дальнейший пересказ
касается перипетий беженства донских казаков на Кубань, страшных картин
повального тифа, смерти старого Пантелея Прокофьича, эвакуации из
Новороссийска («последний акт деникинской военной кампании»), когда Григорию
с другими донскими казаками недостало места на корабле.
Последняя (пятая в шведском переводе) часть романа вновь переносит
читателей на хутор Татарский. Григорий воюет в армии Буденного с поляками;
умирает, благословив дочь на брак с Кошевым и примирившись с Аксиньей,
старая Ильинична — все эти события в их сложном сплетении и развитии
эксперт пересказывает подробно, со многими цитатными вкраплениями. А.
Карлгрен следует сюжету романа, замечая, что писатель сначала повествует о
событиях в мелеховском доме, а затем уже переходит к теме большевистского
правления, установившегося во всей Донской области. Атмосфера на хуторе
Татарском враждебна большевикам, в то, что их власть пришла надолго, казаки
не верят. Однако деятельность Кошевого с помощью ЧК приводит к тому, что
«некоторые казаки задержаны, другие исчезают, но антибольшевистских
настроений преодолеть не удается», а население живет в ожидании
освобождения — на сей раз от Махно. Тем временем происходит «очередное
возвращение» (rentré) Григория домой; «как ему удалось отбиться в Новороссийске от
шести окруживших его красноармейцев, узнать не придется». Последняя
метаморфоза, связанная с Мелеховым, не показалась шведскому слависту
достаточно обоснованной:
Как разрешилась эта самая драматическая из всех тех захватывающих
ситуаций, в которые помещает своего героя писатель, как вообще герою удалось в
свое время перейти от красных к белым и в течение нескольких лет быть
активным участником белого движения, а затем оказаться в рядах Красной
армии и занимать там ответственный пост, как развивалась его жизнь в этом
новом окружении — это окружение, особенно после знакомства с Белой
армией, тоже было бы интересно хотя бы отчасти осветить, — какие неудобства он
очевидно испытывал при всех этих, несомненно, измучивших его превраще-
556
ниях из белого в красного — весь этот период в жизни романного героя не
обдуман; все, что Григорию удается, в конце концов, уразуметь, это что
большевики косо — и не без оснований — на него поглядывают, и это начинает
угнетать его. Ничего не сказано и о том, почему, после участия в
большевистской борьбе, Григорий все-таки оказался демобилизован. У писателя и сам
Григорий, что довольно невероятно, не только не понимает, в чем дело, но и не
интересуется этим. Во время трудной дороги домой он лишь радуется, что его
война — и у красных, и у белых — определенно закончена. За семь прошедших
лет все мысли его были пропитаны отвращением к войне, теперь он жаждет
лишь в тишине и покое вернуться к работе на пашне.
Но эти надежды напрасны, у большевиков он вызывает стойкое недоверие,
и ни домашняя обстановка, ни дети, ни прежняя любовь не могут его утешить,
он предполагает, что и его могут расстрелять; предупрежденный сестрой Дуня-
шей о готовящемся аресте, он снова скрывается.
Поднять казаков на новое сопротивление советской власти надежды почти
нет, и Григорий без энтузиазма включается в новую борьбу. Армии больше нет,
есть только промышляющие грабежом в окрестных деревнях мелкие банды;
после их ликвидации Григорию с несколькими товарищами удается скрыться на
одном из островков на Дону: «Дни идут, бездействие и неопределенность
действуют на нервы». Постепенно Григорий «в своей борьбе с большевизмом
превращается в сообщника чистых бандитов». Роман стремительно летит к
завершению: Григорий с Аксиньей вновь бегут из деревни, Аксинья погибает, и
Григорий «объят ужасом». После нескольких месяцев бесцельного кружения
этой, кажется, потерянной жизни Григорий решается вернуться домой.
Встречей с сыном кончается роман:
...что дальше произошло с Григорием, писатель не рассказывает — и понятно,
почему он этого не делает.
Ясно, что Григорий должен был бы уже не один раз проститься с жизнью;
его, конечно, немедленно арестуют, и суд будет коротким и решительным, у
него будет отнято право умереть достойно, и умрет он, конечно, как и прочие
злосчастные борцы с большевизмом. Но на подобное завершение истории
Григория писатель пойти не мог. Вне всякого сомнения, он искренне сочувствует
своему герою; на протяжении романа тот сражался и любил как настоящий
мужчина, у него много подлинных достоинств, среди которых, помимо
прочего, сильная и прекрасная ненависть к высшему классу, которая пронизывает
все части романа; Шолохов знает также, что его читатели ощущают ту же
симпатию — с советской точки зрения весьма сомнительную — к его герою. Со
своей стороны, он бы, конечно, дал герою амнистию, ведь, глубоко унизив его
из-за совершенных ошибок и заставив страдать из-за всех разразившихся
событий, он в конце концов уже достаточно его наказал. Автор совершенно
уверен — и он позволил Григорию осознать это, — что можно создать новую,
лучшую жизнь на развалинах былого. Но позволить ему самому познать щедрость
прощения Шолохов не отважился: это было бы опасно, было бы вызовом
советской справедливости. И вот он оставляет вопрос о дальнейшей судьбе Гри-
557
гория открытым и передает каждому читателю право по собственному вкусу
и усмотрению завершить роман о Григории Мелехове.
Итак, роман пересказан; однако его рассмотрение не завершено. Только
изложив подробнейшим образом содержание, следуя за движением самой
истории, за причудливыми перипетиями сюжета и не упуская из виду ни главных,
ни второстепенных персонажей — разных в каждой части и в каждом новом
эпизоде романа, эксперт Нобелевского комитета Антон Карлгрен приступает
к следующему разделу: по жанру это уже не суждение о романе, а осуждение
романа. Шведский славист безапелляционно утверждает, что того, что роман
обещает в первой части и что было задумано писателем, «произведение в целом
не дает».
Картина так называемого казачьего эпоса о том, что происходило в годы
революции и как разворачивались события на Дону, с какими мощными
историческими катаклизмами пришли в соприкосновение казаки и как их затронули
эпохальные идеи времени, — картина эта неудовлетворительна в целом, а
местами прямо вводит в заблуждение.
То, что литература вовсе не должна скрупулезно, как научное исследование,
следовать фактам, а влюблять читателя в обманы — это вообще ее
имманентное качество, очевидно; шведский славист прибегает к откровенно шаткому
аргументу. Ценность художественного сочинения — не в строгом следовании
историческим фактам, и это тот же нобелевский эксперт доказывал на
примере творчества Д.С. Мережковского. Однако от романа Шолохова, названного
«казачьей эпопеей», А. Карлгрен требует не только неумолимого следования
правде — и здесь он во второй раз ступает на зыбкую почву, поскольку одной
правды в гражданском противостоянии, в революционном переустройстве
общества нет; он требует широкомасштабного изображения событий на
протяжении десятилетия и с теми же персонажами (так что волей-неволей писатель не
мог дать погибнуть Григорию ни в одной из коллизий). Как читатель, как
иностранец, как славист он хочет понять, почему стабильное в первую русскую
революцию 1905 года патриархальное казацкое общество в годы Первой
мировой войны сумело так расшататься и испытать такие потрясения, такой разлом
после революции 1917 года, в Гражданскую войну. Эксперт уверен —
«предпосылок к этому нет», а в романе недостаточно показано казацкое общество
во время войны и даже во время мобилизации. Претензии, однако, и без того
велики:
Как война повлияла на жизнь населения, на его жизненный уклад и как оно
отреагировало — в том числе все более зрелыми солдатскими листовками, —
когда военные потери стали более тяжкими, когда начали приходить
сообщения о катастрофических поражениях и известия о гибели близких, как оно
отнеслось к разразившемуся урагану социально-политической пропаганды,
558
пронесшемуся над тихим Доном и поднявшему его дыбом, — обо всем этот
читатель ровно ничего не узнает.
С той же «экономностью» изображены и обе революции. Нобелевскому
эксперту нравится метафорика, связанная с образом реки; так, падение
самодержавия передано «юмористической сценкой», которая «так же соответствует
действительным событиям, как треугольная волна, с точки зрения природы
бессмысленная и невероятная». И далее, «когда в последующие месяцы
следовало изучать пошедшую по тихому Дону рябь, тогда писатель просто отвернулся
от волн, вздыбивших до небес русскую жизнь». Нескольких эпизодов
революционного времени шведскому слависту не хватает, и он вновь выдвигает
претензии советскому писателю:
Но что в это время происходило в казачьих станицах, какое было там
положение и как на него влияли текущие события, как казаки реагировали на все
более заявлявший о себе большевизм, с которым они вскоре вступят в открытый
конфликт, и он станет лишь прелюдией к последующему казачьему
восстанию, — всему этому писатель не считает нужным посвятить ни строчки.
Собственно, неудовлетворительной оказывается вся историко-политиче-
ская подоплека романа, от непоследовательности в поведении казаков, которые
сначала конфликтуют с офицерами, а затем под их руководством поднимаются
на борьбу с большевизмом, до установления советской власти на Дону. Но не на
писателя же следует возлагать ответственность за громадный масштаб,
непредсказуемость и разнонаправленность боевых действий в годы Гражданской
войны, за все сложности смутного времени, далеко не полностью и не в том
ракурсе, как хотелось бы рецензенту, отраженные в романе! Иначе как можно
обвинять автора в том, что «читателю трудно ухватить нить в этом запутанном
клубке калейдоскопических событий»? Переводчик романа на шведский язык
Давид Белин удостаивается — не в первый раз — похвалы за то, что нещадно
сокращал «военные эпизоды». С одной стороны, эксперту не хватает полноты
презентации русских историко-революционных событий, с другой — он
полагает, что у писателя «завышенные представления о читательской способности
к восприятию», что он доводит «до смешного» доскональные описания
военных операций, в которых «разобраться в состоянии только профессиональные
военные с подробнейшими картами в руках» и «без которых читатель отлично
может обойтись».
«Картина борьбы казачества с советской властью — как она изображена в
романе — в некотором отношении, без сомнения, информативна и
поучительна». Речь идет не только о «дикой жестокости» обеих сторон, но и о «великой
миграции на юг», «достоверно изображенной в ее нестерпимом ужасе». Однако
в картине не хватает главного — ответа на вопрос, «почему так долго и жестоко
длилось сопротивление казаков большевизму». Шведский славист считает, что
писатель «скрывает», как отличалось казачество от крестьян остальной России,
559
владея отличными землями и процветая на них, и как «большевистская
идеология противоречила выкристаллизовывавшейся столетиями психология
казачества». Вместо этого Шолохов дает «неверные, фантастические объяснения»:
Заставлять казаков, при всей их малограмотности, верить, будто бы набранная
из малоземельных крестьян большевистская армия пришла к ним,
позарившись на их землю; приписывать казакам столь глупые мысли, будто бы
живущее севернее Дона население явилось с намерением поселиться на их земле, —
значит превращать казаков в чистых шутов.
Эксперт весьма эмоционально перечисляет деяния большевиков на Дону,
экспроприацию зерна, расправы с противниками и т. д., упрекая Шолохова, что
он «подливает масла в огонь», когда договаривается до того, что казаки будто
бы сопротивлялись большевикам «не из враждебности, а из любви к грабежам и
разбою». Наконец: «В полном соответствии с попытками скрыть глубокое и
принципиальное противоречие между казаками и большевиками находится
также изображение писателем того, как мало, в сущности, интересовало все
происходящее казаков», как «они изнемогли от войны», как разлагаются морально.
Однако, замечает эксперт, писатель вынужден констатировать, что эта спешно
мобилизованная армия довольно скоро отбросила большевиков далеко за Дон.
Будь правдой все, что писатель рассказывает об утрате воюющими казаками
боевого духа и о пассивности прочего населения, то вряд ли пришлось бы
большевикам два года безуспешно биться за тихий Дон; будь сопротивление
казачества большевизму столь незначительным, как это предлагает считать
писатель, не было бы и наступление большевиков на казаков столь
решительным и мощным, как сам же писатель и изображает: оно оказалось бы тогда не
только ненужным, но и неразумным. И казачество вовсе не смирилось,
согласно автору, с советской властью после ее окончательного установления, но
оставалось, что хорошо известно, исключительно ненадежным элементом, что
вынуждало большевиков еще долго подавлять очаги сопротивления.
Резких нареканий удостаиваются и «протагонисты белого движения», как
белые генералы, так и прочие участники казачьего восстания, изображенные с
такими «искажениями правды», такими «очерненными», что вышло «не что
иное, как карикатура». Напротив, большевиков Шолохов изображает
доброжелательно и с сочувствием, так что выходит целая галерея
привлекательных людей, представителей человеческой элиты — решительных и
непреклонных, волевых и энергичных, даже их внешний облик исполнен силы; они
пылают воодушевлением борьбы за правое дело, ежечасно готовы
пожертвовать собой, героически умереть за него и — что также является их
преимуществом — полны ненависти к классовому врагу.
Карлгрен просто отказывается верить, что «рабочие и крестьяне,
составившие Красную армию, с энтузиазмом сражаются за социализм, причем, в отли-
560
чие от белых, сугубо добровольно и дисциплинированно, демонстрируя
глубоко порядочное поведение в занятых деревнях». Претензии эксперта не сильно
преувеличены: он справедливо полагает, что террор не был исключительной
прерогативой белых, красные отвечали на него энергично, массово и не менее
жестоко. Но даже когда писатель не скрывает этого, то акции расправы красных
над населением или противником объясняются необходимостью, а отказ от
репрессий «выглядел бы с точки зрения большевиков недопустимой слабостью».
Впрочем, повторяется шведский славист, Шолохов неодинаково относится к
эксцессам, исходящим из противоборствующих лагерей, и едва возникающее в
повествовании «возмущение деяниями красных оказывается тут же
утопленным в еще большем негодовании против белых» (и вновь в качестве примера
приведены две резни, устроенные в деревне — сначала Кошевым, затем
Коршуновым).
Наконец, эксперт обращается к центральной фигуре романа — Григорию
Мелехову, к его семье и связанным с ней в большей или меньшей степени (с
оговоркой — «скорее менее») прочими персонажами. Но и тем, как писатель
показал «конфликт между большевистскими идеями и казацким
менталитетом», А. Карлгрен остался не удовлетворен. Писатель заставляет Мелехова
«разрываться между новыми идеями, забродившими, как сусло, в его душе, и
старыми казачьими традициями, которые, подобно закваске, лежат на самом ее дне»,
и «наблюдает за его внутренней борьбой, где идеи бьются, как на фронте, герой
меняет окраску, как хамелеон, а победу одерживают обе силы». Шведский
славист подчеркивает в очередной раз (ссылаясь на свой многостраничный,
приведенный выше «реферат» романа), что в «Тихом Доне» не отражена в должной
мере подлинная реакция казачества на большевизм и установление советской
власти, однако метания героя между двумя силами, двумя идеологиями
интересны как «опыт самопознания»: ведь и сам Шолохов оказался в том же
положении, что и Григорий Мелехов. Эксперт полагает, что в душе героя (и писателя)
сосуществуют «два агитатора — один за независимое казачество, другой — за
большевизм».
К недостаткам образа Григория Мелехова, в котором, по замыслу писателя,
должна была отразиться «борьба между старым и новым в психологии
казачества», относится слабость его психологической обрисовки: в романе «не
показано его развитие, а лишь дано весьма неполное представление о его психике,
необычайно примитивное, незамысловатое и неинтересное». (Заметим в скобках,
что Григорий Мелехов — землепашец и воин, и было бы нелепо требовать от
писателя приписывать ему особую душевную сложность.) По замыслу
писателя, полагает А. Карлгрен, герой выполняет в романе другую задачу— он
становится примером того, «как казаки приняли советскую власть», но если
они отступают от нее, то писатель наказывает их «в соответствии с
большевистской моралью, годной для воскресных школ»: терпит полное крушение
Григорий Мелехов, а его отец, бравый «старый Пантелей», превращается из
561
мощной фигуры, какой он был в начале романа, в фигуру «смехотворную», и
конец его жалок. И Петр, последовательный и неколебимый враг большевиков,
также наказан писателем «постыдной смертью». Да и к Дарье, собственноручно
убившей большевика, «наказание приходит незамедлительно». (Вновь заметим
в скобках, что эксперт вовремя оборвал этот перечень, а то трудно
предположить, за какие грехи перед советской властью писатель «оштрафовал» бы —
в буквальном переводе со шведского — Ильиничну, Наталью, Аксинью и
маленькую Полю.)
Но в «Тихом Доне» есть и еще кое-что помимо того, что планировал показать в
нем автор и что прежде всего ожидает от романа читатель. Вместо
рассмотрения и объяснения отношения казачества к русской революции, в особенности
через изображение главных персонажей, призванных показать, что движет в
общем процессе отдельными людьми, получился тенденциозный роман с
довольно неуклюжей большевистской моралью, что все-таки не помешало ему
оказаться весьма стоящим. У романа есть неоспоримые плюсы, которые и
объясняют его успех на родине (успех, в котором вышеупомянутая мораль ни в
коей мере не повинна). Но и как развлекательное чтиво для невзыскательной
публики «Тихий Дон» не годится.
Прежде всего, это увлекательный, местами захватывающий
приключенческий роман. Из романа нельзя получить полного представления о том, какая
глубокая социальная драма разыгралась на берегах Дона, но это высочайшего
уровня, первоклассное авантюрное произведение, и следить за сюжетными
коллизиями, в которые попадают персонажи, доставляет подлинное
удовольствие. Это произведение зрелищно и жизненно, красочно и стремительно.
Впрочем, иллюстрацией всех этих замечательных романных качеств
оказывается перечисление «блистательных» батальных сцен, на фронтах Первой
мировой и Гражданской войны, поскольку едва ли не самым важным элементом
этой «приключенческой драмы» нобелевский эксперт считает именно
«изображение лютых ужасов и зверств», будто бы соответствующих «вкусу
читательской публики, у которой свирепость в крови». Писатель полагает, что так
думает сам Шолохов; очевидно, что так думали многие писатели и до него, начиная с
Гомера. Писатель «упивается, живописуя зверства», а между тем сцены
чудовищных расправ относятся, «безусловно, к потрясающему, хотя и
отталкивающему реалистическому мастерству».
С другой стороны, «Тихий Дон» в очень значительной степени — любовный
роман, также приспособленный к вкусам широкой публики. Начиная с того
эпизода в романе, когда писатель заставляет казаков всем полком
изнасиловать польскую служанку, роман переполняется эротическими сценами, иногда
сальными, порой просто безвкусными.
Прежде всего эксперта занимает «главный драматический любовник»,
Григорий Мелехов, в эротизме которого «не слишком много души, но зато
довольно здорового аппетита». Подобно тому как Григорий мечется между 6е-
562
лыми и красными, так и его любовь делится надвое: «...он любит прекрасную
Аксинью, чья отлично вылепленная шея с завитками волос на ней сильно
очаровывает его на протяжении всего романа, но он любит и свою жену
Наталью, когда ее поцелуи, поначалу слегка холодноватые, нагреваются до нужного
градуса». Почему-то хорошо известная, в том числе и мировой литературе,
ситуация любовного треугольника вызывает недоверие у А. Карлгрена,
полагающего, что читатель скорее увидит, как Григория буквально «разорвет»
между двумя женщинами, чем дождется психологического анализа его отношений
с ними.
Эксперт прибегает к таким натяжкам в истолковании любовных
взаимоотношений героев, что их неловко приводить; например, он пеняет писателю,
что тот так и не дает читателю «ключ к тому, что же скрывается у прекрасной
Аксиньи за ее прекрасной наружностью»; напрашивается вопрос в стиле
самого Карлгрена — а что должно скрываться? Шведского слависта ставят в тупик
и проснувшаяся в Наталье, выданной замуж юной застенчивой девушкой и
оттого вначале «холодной», горячая любовь к мужу, и сожительство Аксиньи,
при всей страсти к Григорию, с молодым помещиком: «все эти эпизоды
приводят в замешательство читателя, оставленного писателем без должных
наставлений». Любопытно: значит, бегство с Анатолем Курагиным (впрочем,
неудавшееся) Наташи Ростовой, помолвленной с Андреем Болконским, не
вызывает у читателя вопросов, а поступки героинь и героев «Тихого Дона»
требуют специальных «наставлений», причем психологических. Но разве к
середине XX в. это было столь уж необходимо, разве литература модерна не
отказалась от психологического анализа в пользу совсем иных
художественных приемов, раскрывающих личность человека? Но нет: «советские критики,
включившие обеих женщин в галерею знаменитых женских портретов,
которыми столь прославлена русская литература, до смешного преувеличили
эти совершенно эмбриональные образы». Впрочем, одно исключение есть:
«Сладострастное существо, чья богатая, хотя и не самым изысканным
цветом цветущая эротическая жизнь не создает никаких проблем, — Дарья,
бездумная, манящая и сдобная, относится, без сомнения, к лучшим романным
образам».
За пределами главного сюжета, авантюрно-любовного, остаются другие
важные образы — в частности, Ильинична, «выносливая, стойкая казачка с ее
верной материнской любовью». Н.В. Корниенко, оценивая рецепцию Шолохова
его современниками, отметила, что в дискуссиях о «Тихом Доне» 1940 г. (т. е.
после публикации романа целиком) «никто из критиков вообще не обратил
внимания» на трагический образ матери в финале, и только А. Ахматова «была,
кажется, единственной, кто адекватно прочитал эту великую сцену»
[Корниенко 2003: 313]. Между тем скандинавский славист Антон Карлгрен, анализируя
жанровую природу романа и выявляя его главные проблемно-тематические
узлы, отмечает и «задушевную историю грубой и мужественной старухи Ильи-
563
ничны, с ее трогательной материнской любовью: если в начале романа она
появлялась в повествовании лишь изредка, то с его развитием она становится
образом, приковывающим внимание и вызывающим сочувствие». Шведскому
критику, исключительно нелицеприятно оценившему роман в целом,
неожиданно верно удалось указать на один из его жанрообразующих характеров,
обойденный вниманием современной Шолохову советской критики.
Нобелевский эксперт отмечает и целую галерею персонажей, связанных с
юмористической линией повествования, и в качестве примера выхватывает из «массы»
верного приятеля Григория, «беззаботного» Прохора, «послушать которого всегда
удовольствие». Словно спохватываясь, шведский славист констатирует, что
автор «Тихого Дона» может широко и свободно, «посреди драматичной, даже
страшной сцены рассыпать полную горсть юмористических сценок».
И вот, наконец, заключительные слова о «Тихом Доне»:
Что касается многочисленных лирических описаний природы, о которых было
сказано выше (в двух словах. — Т. М.), то они составляют важную особенность
романа и значительно возвышаются над ним, вообще довольно низменным
и плоским; в этом отношении — но только в этом — Шолохов достигает
наивысшего мастерства.
Еще треть экспертного очерка посвящена «Поднятой целине» и буквально
пара слов — романе о минувшей войне. Поскольку известность Шолохову в
мире принес именно казачий эпос «Тихий Дон» (и за него, в конечном итоге,
писатель все же получил Нобелевскую премию), то его рассмотрение и было
главной целью эксперта. Если в реферативном изложении содержания романа
А. Карлгрен большей частью удерживался от оценки, лишь иногда оспаривая
историко-политические положения автора, то «выводы» о романе поражают
не просто предвзятостью, но прямой тенденциозностью суждений вплоть до
осуждения. Антон Карлгрен — насколько это следует из его прочих
нобелевских экспертных отзывов — относил тенденциозность к главным недостаткам
художественного произведения; и вот он сам выступает в роли нарочито
пристрастного критика, необъективного и предубежденного. Его могла
отталкивать, быть полностью ему чуждой идеология писателя, неприемлемыми
коммунистические убеждения Шолохова. Но отвергать силу, яркость, захватывающую
страстность любовной линии романа, пытаться отрицать потрясающую
жизненность и обаяние его главных женских образов, Натальи и Аксиньи, — это
значило погрешить против истины. Однако делать выводы о том, насколько
честен был эксперт, когда оспаривал значение и художественный уровень
романа, мы не беремся; ясно лишь, что его убеждения были не менее искренними,
чем у советского писателя Михаила Шолохова. Только прямо
противоположными — антикоммунистическими.
Совершив подробный историко-политический экскурс, касающийся
разных сторон коллективизации, и детально изложив содержание следующего шо-
564
лоховского романа («главное содержание», как он сам скромно именует 30
страниц), А. Карлгрен заключает, что «Поднятая целина» как «описание процесса
коллективизации в русской деревне обладает нулевым значением», а «в целом
Шолохов представил миллионам читателей картину коллективизации, во всех
отношениях лживую». «Нет ни малейшего сомнения в том, — вновь утверждает
шведский славист несколькими страницами ниже, оспорив право писателя
называться правдивым художником, — что созданная Шолоховым картина
объединения русских крестьян в колхозы во время коллективизации является
чистой фальсификацией». А. Карлгрен, написавший солидную монографию о
советском строе при Сталине, со знанием дела говорит и о политике партии,
и о раскулачивании, об общей антигуманности всего происходившего тогда
в русской деревне и, комментируя образ Нагульнова, «перегибы на местах» и
директивную статью Сталина («Головокружение от успехов»), обвиняет
Шолохова в «продажной правде» его романа, отражающего линию партии.
Нобелевский эксперт осмеивает и отвергает само предположение, что коммунист
Давыдов мог действовать самостоятельно и независимо от партийных
предписаний, и вероятность того, что русские крестьяне сопротивлялись
коллективизации под влиянием и организованным руководством кулаков и «недобитых
белогвардейцев»: «все это абсолютно исключено». Карлгрен неизменно
подчеркивает, что «Поднятая целина» — «это намеренное и постоянное искажение
правды писателем». Роман, подытоживает шведский славист, выполняет свою
главную задачу — доказать, что сталинизм — это неотвратимая необходимость:
«Шолохов помогает своим романом Сталину мобилизовать силы против
грозного призрака капитализма». И далее:
Служба, которую Шолохов сослужил сталинизму отим романом>, имеет ту
особую ценность, что пропаганда в такой форме легко проскальзывает. Это и в
самом деле поразительно, с каким изумительным мастерством агитационный
материал переплавляется в романную форму. Одновременно с тем, как автор
выступает в романе агитатором с жесткой политической указкой, он
выступает и как автор с искусно заточенным пером, сумевший так пленить
международную читательскую аудиторию, что она и не заметила прикосновения
указки, а шведские рецензенты и вовсе настаивали, что «Поднятая целина»
свободна от тенденций.
А. Карлгрен признает то искусство, с которым Шолохов создает своих
персонажей, т. е. «превращает партийные манекены в живых людей»39, так что
«читатель и не замечает приклеенных к ним политических ярлыков», — однако
делает писатель это, «выполняя заказ». Как с самого начала романа его герои
делятся на две группы, «стопроцентных большевиков» и их врагов, так и краски
на шолоховской палитре строго разделены для изображения представителей
39 А. Карлгрен цитирует Т. Фогельквиста и полемизирует с ним, ср.: «Люди <в романе> — не
политические манекены, а живые люди из плоти и крови, пылкие и страстные» (DN, 14.12.1935,
S.6).
565
двух противоборствующих лагерей. Эксперта изумляет, что находятся
читатели — «по крайней мере, западные читатели», — которые принимают героев
«Поднятой целины» за чистую монету. Он ссылается на своего коллегу Торстена
Фогельквиста, который в рецензии на «Поднятую целину» (ее первую,
довоенную часть) принял «монструозную фигуру» Половцева за «великолепного
представителя landen régime», a «идеального большевика» Давыдова — за
«существующего в действительности». Но это скорее исключения, а в среднем
Шолохов «моделирует» своих.персонажей так, что создается «полная иллюзия» их
достоверности, как, например, в случае с «криптокулаком» (подпольным
кулаком) Островновым или со многими прочими «удачно
индивидуализированными» персонажами. Среди них — «безнадежный болтун дед Щукарь и
упрямец Молчун, из которых первый является таким живым слепком с ничтожной
человеческой натуры, что в его подлинности нельзя усомниться»: «подлинной
драгоценностью» назвал этот образ Т. Фогельквист.
Впечатление, что в художественном пространстве находишься словно в живом
мире, усиливается от того, что помимо персонажей, служащих главной цели
романа, писатель выводит целую галерею других образов, созданных с тем
непревзойденным искусством обрисовки человеческих характеров,
оплодотворенным задушевным знанием казачества, которым владеет Шолохов: казаки и
казачки, к которым писатель относится слегка скептически и которые выходят
даже чересчур живыми с их здоровой дикарской простотой, озорством,
сочным юмором, с их дурными запахами — прямо бьющими читателя в нос, — и,
кроме всего прочего, виртуозно воспроизведена богатая казацкая речь <...>.
И само романное действие, в котором участвуют персонажи, скроено с
отменным мастерством: эскиз, по которому вычерчен роман, очевиден с самого
начала — представить процесс коллективизации не так, как он на самом деле
проходил в русской деревне, а как властям хотелось бы, чтобы он шел. Чтобы
избежать этого и достичь полной иллюзии незамутненной правды, читателя
стараются всерьез заверить, будто автор не мог знать, что в действительности
происходило в русской деревне в целом; хотя русскому читателю изо дня в день
вбивали в голову миф о победе коллективизации, он все же знал, к каким
тяжелым последствиям для русского народа привела коллективизация, но должен
был принять на веру, что в одном отдельно взятом Гремячем Логу большевизм
одержал великую победу; и даже западной публике, наивно доверяющей
победным донесениям с фронтов коллективизации, долгонько понадобилось,
чтобы осознать, что шолоховское повествование реагирует лишь на самые
абсурдные из них (для шведских рецензентов роман Шолохова был
заслуживающим доверия свидетельством подлинных событий). Несомненно, исполненное
автором полотно до того увлекает читателя, что делает его в той или иной
степени податливым объектом для обработки. В итоге скомпонована беззубая
драма — крепкая композиция во многом отличается от зыбкой, текучей
композиции «Тихого Дона», — основное действие которой — борьба добра в лице
Давыдова с силами зла, работа ради жизни — несомненно, захватывает,
вызывает в читателе сочувствие и, благодаря быстро завязывающимся и разрешае-
566
мым конфликтам и пуантированным ситуациям, держит его в непрестанном
напряжении, а вокруг главного действия группируются пейзажные сцены
лунных ночей, радующие глаз. Ориентируясь тем самым в большой степени на
довольно невзыскательный вкус, <...> писатель только увеличил
привлекательность романа в глазах публики, на которую он в первую очередь и был
рассчитан.
Главным средством, угождающим непритязательному, простому читателю,
Карлгрен считает бурлескный, грубый юмор, порой сальные анекдоты, в
которых блистает Щукарь; подобные безвкусные соленые шутки «действуют на
нервы требовательному читателю», и драматичный этот фарс разыгрывается
«на фоне природы, и ее картины во всем повествовании, нестерпимо
фальшивом, оказываются единственно подлинными и пленительными». Восхищаясь
мастерством Шолохова-пейзажиста, эксперт поддерживает довоенного
рецензента романа, Т. Фогельквиста; ср.: «Это живой пейзаж скудной русской земли,
русской степи. Чувствуешь ее одновременно глазами, ушами и носом. И люди
здешние, как эта жесткая трава, — ветер гнет ее, но погубить не может. <.. .> Та
же звериная жизнь, что наполняет прозу Толстого, но в шолоховском
изображении» (DN, 14.12.1935, s. 6). Фогельквист, впрочем, был гораздо благосклоннее
к советскому писателю:
Сочный народный юмор, дерзко-утонченное чувство природы, похвальное
стремление вникнуть в конфликт интересов и отдать должное также
традиционным инстинктам и образу мышления отличают этот литературный
документ. Писатель-наемник никогда бы не смог так написать, для этого нужно
эпическое дарование лепить образы и искусство зоркой восприимчивости
(ibid.).
Как будто именно на этот тезис возражает Карлгрен:
Что «Поднятая целина» обладает большими литературными достоинствами —
неоспоримо. Но как ее следует взвешивать наряду с творчеством Шолохова в
целом, нуждается в обсуждении: ведь эта книга на самом деле является не
литературным произведением, а пропагандистским сочинением для введения
публики в заблуждение. Пропагандистское сочинение, истинная суть
которого не укрыта эффектным литературным камуфляжем, призвано одурачивать
народ и создавать тем самым предпосылки для его угнетения.
Это — последняя страница экспертного очерка, соединившего в себе
доскональное изложение содержания двух романов М.А. Шолохова и их
публицистически страстное обличение с идеологических позиций, прямо
противоположных устоям автора. Коммунистические идеи, идеалы и средства агитации и
пропаганды натолкнулись на твердое антикоммунистическое сопротивление;
великий писатель, наделенный громадным литературным талантом, создавший
мощные, захватывающие книги, оказался на острие критического пера
блестящего полемиста, виртуозного стилиста, знающего слависта, неизменно к тому
567
же симпатизирующего России, русскому народу и лучшим образцам русской
литературы. Чья правда настоящая? Чьи идеалы привлекательнее? Более чем за
десять лет до Карлгрена его соотечественник Т. Фогельквист признал, что в
романе «Поднятая целина»
Шолохов выступил как пропагандист советской политики коллективизации
в сельском хозяйстве, и ему удалось без догм и тенденций соединить ее с
художественной энергией повествования. <...> Но существенное в этой книге не
доктрина, а жизнь <...> и чисто художественное впечатление, оставляемое ею
(DN, 14.12.1935, s. 6).
Антон Карлгрен не выносит приговора и не формулирует заключения:
«заслуживают обсуждения», пишет он.
О продолжении «Поднятой целины» эксперту нечего добавить, поскольку
роман, насколько он смог провести разыскания, «был проигнорирован
советской критикой и еще не дошел до Западной Европы», «во всяком случае, в
Швеции и Дании его пока достать не удалось». «Вероятно, с ним что-то
произошло, — домысливает Карлгрен, — и, хотя в нем очевидно продолжается
изображение победного марша коллективизации, время для этого сочли
неподходящим, поскольку великая и всем видная работа <коллективизация> оказалась
стоящей на шатком основании». Хотя и роману, и его центральным образам
эксперт уделяет немало места, приведем лишь одно, весьма выразительное
своей метафорической образностью суждение Карлгрена о внутренней связи
двух шолоховских книг: согласно своим «посевным методам», не без издевки
замечает нобелевский эксперт, «большевики должны подождать, пока казаки
сначала обильно оросят <землю> кровью, прежде чем большевики смогут
поднять целину».
Наконец, в лаконичном последнем абзаце Карлгрен вскользь касается
только анонсированного, едва начатого романа «Они сражались за Родину» (о
новеллистике писателя эксперт не упоминает вовсе). Пока в газетах появились
лишь «мелкие отрывки весьма патриотичного содержания», и потому,
оценивая творчество Шолохова, их рано принимать во внимание, и «судить о них
пока невозможно».
Словом «невозможно» отзыв Антона Карлгрена завершается.
Обсуждение трактата А. Карлгрена о крупном писателе и «фальсификаторе
истории» Михаиле Шолохове на страницах заключительного протокола
Нобелевского комитета 1947 г. отразиться, увы, не могло. В небольшом абзаце,
посвященном Шолохову, отмечено лишь, что «кандидатуру русского писателя
следует вынести на повторное рассмотрение, когда его роман-хроника о России в
минувшую войну, над которым он сейчас работает, будет полностью
опубликован и доступен». Далее сдержанно отмечено, что слава знаменитого «Тихого
568
Дона», «с его сочностью и народной красочностью», основывается на первом
томе, тогда как продолжение романа слабее в художественном отношении, и «в
отношении этой кандидатуры следует присоединиться к мнению эксперта»
[Nobelpriset i litteratur, II: 376].
Прошло всего несколько месяцев после этого вердикта, который, кажется,
не оставлял М.А. Шолохову никаких шансов на премию — особенно если
заглянуть вперед и принять во внимание, что «роману-хронике» «Они сражались
за Родину» суждено было остаться незавершенным, а эксперт дал однозначно
отрицательную рекомендацию. Между тем в 1948 г. кандидатура Михаила
Шолохова вновь оказалась в списке номинаций, выставленная на сей раз самим
Нобелевским комитетом [Ibid.: 387]. Однако со ссылкой «на прошлогодний
обстоятельный отзыв эксперта» академики вновь указали на необходимость
дождаться полной публикации «романа-хроники о роли России во Второй
мировой войне» [Ibid.: 389]. Та же причина «повременить» указана и в заключениях
1949 и 1950 гг. — в ответ на номинацию профессора-слависта Хельсинкского
университета Валентина Кипарского40 [Ibid.: 401, 418].
В послевоенное время Шведская академия письменными запросами
побуждает лица и организации, имеющие право выдвигать кандидатов на
Нобелевскую премию, активнее принимать участие в процессе номинаций. Письма-
обращения из Стокгольма получают университетские профессора литературы,
руководители писательских объединений, действительные члены
национальных академий, представляющие гуманитарные науки. Старейшим писателем-
академиком был в Советском Союзе Сергей Николаевич Сергеев-Ценский,
получивший в 1953 г. запрос от Шведской академии с указанием строго
соблюдаемых сроков — выдвигать кандидатов не позднее конца января. С.Н. Сергеев-
Ценский (1875-1958), дебютировавший как писатель в самом начале XX в., в
советское время почти безвыездно проживал на своей даче в Крыму, в Алуште;
там он скончался и был похоронен, там сейчас действует посвященный ему
литературный музей. В 1943 г. за книги о русских классиках — романы о Пушкине,
Лермонтове, Гоголе — Сергееву-Ценскому была присуждена степень доктора
филологических наук, а затем последовало избрание в АН СССР. Именно
поэтому он получил приглашение принять участие в номинации на Нобелевскую
премию по литературе.
Телеграмма от 78-летнего академика и маститого прозаика была получена в
Стокгольме, судя по четкому штемпелю, 27 февраля 1954 г. Из-за почти
месячного опоздания это предложение было перенесено на следующий год. Имя
писателя подписано карандашом от руки внизу, рядом со штемпелем, очевидно, в
Швеции — с такой неуверенностью, исправлениями и вписываниями это
сделано: «Sergeev-Censkij Sergej Nikolaevic». Телеграмма послана из Симферополя и
набрана латиницей по французской транскрипции (приводим ее на кириллице
в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации): «В ответ
40 Подробнее см. в главе 15 раздел о Л.М. Леонове.
569
на ваше любезное предложение выдвинуть кандидата на Нобелевскую премию
по литературе за 1953 (sic! — T. M.) год имею честь сообщить, что я выдвигаю в
качестве кандидата выдающегося писателя нашего времени Михаила
Александровича Шолохова. Письменную мотивировку высылаю почтой.
Действительный член Академии наук СССР Сергеев-Ценский». К телеграмме латиницей, но
по-русски приложен перевод на шведский язык с транскрипционными
разъяснениями правильного чтения «ч» и «ц» в отчестве и фамилии.
В.В. Васильев подробнейшим образом проследил путь, который проделало
письмо-номинация С.Н. Сергеева-Ценского по высшим партийным
инстанциям, задержавшись настолько, что кандидатура М.А. Шолохова оказалась
внесенной в список не 1954, а уже 1955 г. Процитируем полностью фрагмент
работы исследователя с документами советских партийных архивов [Васильев
20026]:
Предложение Нобелевского комитета Сергееву-Ценскому сначала
обсуждалось в принципе, начиная с правления Союза писателей и кончая ЦК КПСС, —
принимать его или не принимать, воспользоваться им «для публично
мотивированного отказа участвовать в какой-то мере в работе этой общественной
организации с разоблачением этой организации, являющейся инструментом
поджигателей войны, или для мотивированного выдвижения кандидатуры
одного из писателей как активного борца за мир» (Б.Н. Полевой — М.А. Суслову,
21 января 1954 года). Когда вопрос был решен в пользу последнего
соображения, началось в таком же порядке обсуждение кандидатуры, в частности
Шолохова, и согласование текста письма, мотивировавшего его выдвижение.
Наконец Секретариат ЦК КПСС на заседании 23 февраля 1954 года решил:
«1. Принять предложение Союза советских писателей СССР о
выдвижении в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе за 1954 год
писателя Шолохова М.А.
2. Согласиться с представленным Союзом советских писателей текстом
ответа писателя Сергеева-Ценского Нобелевскому комитету при Шведской
академии...
3. Внести на утверждение Президиума».
Президиум ЦК партии утвердил постановление 25 февраля 1954 года.»
Спустя некоторое время на представление Сергеева-Ценского пришел
ответ Нобелевского комитета, датированный 6 марта 1954 года: «Нобелевский
комитет Шведской академии с интересом принял Ваше предложение
присудить Нобелевскую премию М.А. Шолохову.
Так как предложения должны поступать к нам не позднее 1-го февраля,
Ваше предложение дошло до нас слишком поздно^ чтобы быть обсуждаемым за
нынешний год.
Однако Шолохов будет выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую
премию за 1955 год» (курсив цитируемого автора. — Т. М.).
Замечательна ремарка современного исследователя: описав чудовищную
советскую бюрократическую процедуру, в которой не знаешь, чего больше —
570
ложных страхов или самодовольного сознания партийного всевластия, — В.
Васильев искренне возмущается:
В ответе Нобелевского комитета обращает на себя внимание весьма
ощутимый акцент на формальную сторону решения вопроса. В предложении
Комитета советскому академику говорилось о представлении кандидатуры на
премию в сроки «не позднее февраля» (см. выше). Последние слова нельзя понять
или истолковать иначе, как в течение февраля месяца, а не к 1 февраля. Иными
словами: Сергеев-Ценский задержался с ответом на каких-нибудь два-три дня,
и, как говорится в подобных случаях, при наличии доброй воли формальный
момент можно было бы легко преодолеть.
«Иными словами» — советские партийные органы могут как угодно играть
человеческими судьбами, подчиняя их мысли, стремления, тексты партийной
дисциплине, но собственное следование простым, более полувека назад раз и
навсегда установленным правилам, которые соблюдает весь мир, кажется
пустой формальностью, а указание на их нарушение возмущает нарочитым
противодействием. Телеграмма опоздала в Стокгольм не на пару дней, а на целый
месяц. При всем том Шведская академия очень ответственно отнеслась к
посланию из СССР. В ее архиве отложился рукописный черновик ответа
советскому писателю и академику, с большим уважением составленный по-русски, с
исправлениями и все равно с грамматическими и речевыми ошибками. Документ
от 6 марта 1954 г. подписан Уно Виллерсом (см. с. 592-593) — иными чернилами
и тем более почерком. Но Виллерс был, несомненно, автором ответа на
шведском языке, с которого осуществлялся перевод и который тоже сохранился в
архиве. Назвать его формальной отпиской никак нельзя, составители обдумали
каждое слово, чтобы в Москве не обиделись отказом, и, кстати, приложили
«при сем уставы» (текст по-русски) в качестве дальнейшей инструкции.
Текст письма-номинации С.Н. Сергеева-Ценского, рассмотренный и
одобренный в верхах партийного руководства СССР, составлен чрезвычайно
обстоятельно и в самых продуманных выражениях:
Действительный член Академии наук СССР Михаил Шолохов, по моему
мнению, как и по признанию моих коллег и читательских масс, является одним из
самых выдающихся писателей моей страны. Он пользуется мировой
известностью как большой художник слова, мастерски раскрывающий в своих
произведениях движения и порывы человеческой души и разума, сложность
человеческих чувств и отношений.
Сотни миллионов читателей всего мира знают романы Шолохова «Тихий
Дон» и «Поднятая целина» — произведения высоко гуманистические,
проникнутые глубокой верой в человека, в его способность преобразовать жизнь,
сделать ее светлой и радостной для всех.
Скрупулезно подсчитаны тиражи шолоховских романов,
свидетельствующие «об их необычайной популярности и полезности для человечества»; совет-
571
екая риторика не грешит против истины: писатель «тесно связывает свое
творчество с жизнью, интересами простых советских людей. В их жизни и борьбе он
черпает материал для своих произведений, среди них находит героев своих
книг. В художественных произведениях он поднимает вопросы, наиболее
волнующие наших современников». Крупнейший писатель, творящий в традициях
русской классики и сам создатель «классических» произведений, Шолохов
ставит «большие моральные и гуманистические проблемы — о путях развития
человечества, о судьбах целых классов и отдельных людей»:
В превосходных реалистических картинах писатель раскрывает светлые и
темные стороны жизни. Он показывает борьбу против социального зла за
торжество светлых начал жизни. Любовь и ненависть, радость и страдания героев
описываются Шолоховым с большой проникновенностью, знанием жизни и
сочувствием к человеку.
<...> Творчество Михаила Шолохова, бесспорно, служит прогрессу
человечества, укреплению дружественных связей русского народа с народами
других стран.
Я глубоко убежден, что именно Михаил Шолохов имеет
преимущественное перед другими писателями основание на получение Нобелевской премии.
Невозможно представить, чтобы умно и тонко составленный текст этой
номинации — твердо определяющий место Шолохова в ряду русских классиков и
в современной литературе — был написан без знания нобелевской
формулировки об «идеальной» литературе, служащей во благо всему человечеству. М.А.
Шолохов направил телеграмму С.Н. Сергееву-Ценскому в связи с его 80-летним
юбилеем (1955) и откликнулся добрыми словами («Богатырь нашей русской
литературы») на смерть писателя [Чалмаев 2016: 760]. Нет оснований
противоречить традиционному мнению литературоведов: «с искренним восхищением»
[Там же: 759].
Только когда Шолохов опять очутился в списке кандидатов — но не на
1954, а на 1955 г., — новый экспертный очерк о его творчестве был поручен уже
более молодому слависту, стокгольмскому преподавателю (позже профессору)
Нильсу Оке Нильссону (Nils Âke Lennart Nilsson; 1917-1995). Нильссон учился
русскому языку у М. Хандамирова в Лунде — и уже не застал, увы, легендарного
С. Агреля; затем его славистическая карьера — изучение, преподавание,
перевод, издание и пропаганда русской литературы — была в основном связана со
шведской столицей. Ему удалось познакомить с русским реализмом XIX в. и с
русским модернизмом XX в. широкого шведского читателя: с 1946 по 1967 г. он
выпустил 40 томов русских авторов в серии «Современные классики».
«Петербургские повести» Гоголя, вышедшие в его переводе, переиздавались шесть раз!
Жизнь первого шведского профессора-слависта «с упором на русский язык и
литературу» не раз переплеталась с Россией. Перед войной Нильс О. Нильссон
работал в шведском посольстве в Москве — ему было поручено читать и
реферировать советские газеты; в 1940 г. он вернулся в Швецию, но почти сразу об-
572
ратился к университетской славистике, хотя десятилетиями помещал обзоры
о русской литературе и культуре на страницах газеты «Экспрессен». Как
знатоку русской (русско-советской, как это уточняюще называется по-шведски)
жизни ему предложили заведовать русской книжной коллекцией Стокгольмского
университета; при нем она разрослась и образовала библиотеку созданного им
Русского института Славистического семинара. Для руководимого Артуром
Лундквистом издания «История европейской литературы» Н.О. Нильссон
написал раздел о русской литературе, а несколько лет спустя, по собственной
инициативе, дополнил издание отдельным томом по истории советской
литературы. В 1946-1951 гг. он издавал «Русское книжное обозрение» (Ryskbokrevy), где
публиковал в форме рефератов, рецензий и библиографии информацию о
новых книгах, в том числе поступивших в библиотеку Русского института. Как
утверждает автор биографической статьи о Нильсе Оке Нильссоне в Шведском
словаре переводчиков (Svenskt översättarlexikon) M. Юнггрен, «советские власти
не без основания полагали, что именно Нильссон проложил путь к
Нобелевской премии 1958 г. для "антисоветчика" Бориса Пастернака. На этом
основании ему отказывали во въездной визе семнадцать лет»41. Отрезанный от
Советского Союза, Нильссон много переводит, издает и преподает — в том числе за
рубежом; среди его коллег и друзей — еще один будущий нобелевский лауреат
по литературе, Чеслав Мйлош.
Разносторонний и плодовитый автор, признанный знаток советской
литературы, пишущий о ней в самых разных жанрах, Нильс Оке Нильссон
представил свой обзор творчества Михаила Шолохова, уместившийся на восьми с
половиной машинописных страницах, уже к 1 мая. Очерк начинается не с
литературных свершений Шолохова, а с констатации того, что после публикации в
1940 г. завершающей части «Тихого Дона» Шолохов новых романов не писал,
хотя и давно известно о его работе сразу над двумя рукописями — книгой о
войне и продолжением «Поднятой целины». Любые факты можно
интерпретировать в зависимости от поставленной цели. Если Бориса Пастернака выдвинули
на премию зарубежные ценители его поэзии, познакомившиеся с нею по
незначительному числу переводов, а Шведская академия никак не могла дождаться
выхода его романа и присудила премию за первое же — на итальянском
языке — издание, то главное оружие, которое обратили против автора, безусловно,
великого романа, — это публикация его финальных глав еще до войны.
Между получением М.А. Шолоховым в 1941 г. за роман «Тихий Дон»
Сталинской премии первой степени, уже 23 июня перечисленной в фонд обороны,
и первой номинацией писателя на Нобелевскую премию в 1947 г. уместилась
Великая Отечественная война. Почему Шолохов не написал в эти годы нового
романа? Летопись его жизни и творчества свидетельствует: «Служил военным
корреспондентом Совинформбюро, газет "Правда" и "Красная звезда" <...>.
41 http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Nils_%c3%85ke_Nilsson, дата обращения 24 июля
2017 г.
573
Демобилизовался в декабре 1945 года. Служба в действующей армии: август -
октябрь 1941 года — Западный фронт; октябрь - декабрь 1941 года — Южный
фронт; декабрь 1941 - январь 1942 года — Юго-Западный фронт; январь -
сентябрь 1942 года — Южный фронт; сентябрь 1942 - май 1943 года —
Сталинградский фронт; май 1943 - март 1945 года — Западный фронт; март - май 1945
года — 3-й Белорусский фронт»42.
Впрочем, Нильс Оке Нильссон составляет свой реферат десять лет спустя
после окончания войны, отмечая, что за эти годы, кроме анонса в
«Литературной газете», никаких новых произведений Шолохова (вероятно, новых по
названию и завершенных) не появилось, а «газета не сообщила о причинах».
Эксперт ядовито добавляет: «Едва ли новая литературная политика,
провозглашенная Ждановым поздним летом 1946 г., затронула и Шолохова, заставив его
отложить публикацию». «Гостившие в Швеции русские писатели» (речь идет об
И.Г. Эренбурге) рассказывали, что Шолохов «решился на радикальную
переработку первоначальных планов» романа «Они сражались за Родину» и «теперь
пишет совершенно новый роман на ту же тему. За последние 5-6 лет он ни слова
не вымолвил в русской прессе о том, скоро ли надо ждать выхода его военного
романа»43. Следующий «проект», которым занят советский писатель, — это
продолжение «Поднятой целины». «Помимо фрагментов еще не
опубликованных романов, Шолохов с 1940 г. пишет незначительные вещицы
преимущественно публицистического содержания»; далее Нильссон перечисляет ряд
произведений: «Казаки» (1941), «На Дону» (1941), «На юге» (1942; русское название
передано ошибочно — «В юге»), «Наука ненависти» (1942) и «Слово о Родине»
(1951). Некоторые из этих текстов оказалось невозможно достать в Швеции из-
за места публикации — Ростов, Пятигорск, но Нильссон предполагает, что это
лишь отдельные главы из обещанного романа о войне, «которые позже будут
собраны и объединены под заглавием "Они сражались за Родину"».
Эти «главы из романа», как явствует из подзаголовка, насчитывают примерно
150 страниц. Но из них пока совсем не ясно, как именно Шолохов мыслит далее
свой роман. Предполагать можно что угодно, поскольку пока книга
представляет собой лишь несколько отрывочных описаний русского отступления на
юге в 1941 г., под натиском немецких танковых колонн, и попыток оказать
сопротивление превосходящим силам. Советские романы подобного типа
начали выходить сотнями сразу после войны, и нельзя сказать, будет ли
шолоховский вклад в этот жанр разительно отличаться от среднестатистического.
42 См.: Михаил Шолохов. Летопись жизни и творчества: (Материалы к биографии). Сост.
Н.Т. Кузнецова. М., 2005. Хронологическая часть (со ссылкой на: Лежнев И. Путь писателя. М.,
1958. С. 376; Личное дело М.А. Шолохова в Вешенском райвоенкомате): http://feb-web.ru/feb/
sholokh/shl-abc/, дата обращения 25 июля 2017 г.
43 Выступая перед студентами Гётеборгского университета в марте 1960 г., М.А. Шолохов,
привычно и аргументированно высказавшись на тему «Почему Пастернак не великий писатель»
(так и озаглавлена публикация в «Свенска дагбладет»), рассказал, что «заканчивает романную
трилогию о Второй мировой войне» (SD, 15.03.1960, s. 15).
574
Опубликованные отрывки все же не выдержаны в непрерывном героико-
патриотическом ключе, чем отличаются многие русские романы о войне, —
рассуждает Нильссон, не считающий нужным упомянуть ни одного имени или
названия. Но сотни романов! Неужели за десять лет их вышло такое
количество? И университетский профессор, успевающий преподавать, переводить,
издавать чужие тексты и публиковать собственную продукцию и т. д., успел
прочесть их все и составить столь категоричное мнение о жанре советского
военного романа? Далее о Шолохове:
Некоторые эпизоды содержат солдатские разговоры, окрашенные юмором. Но
лучше всего удаются Шолохову батальные сцены; особенно ярко и драматично
описаны попытки отступающей русской армии отразить натиск наступающих
немецких танковых войск. Следует признать, однако, что в целом эти
разрозненные фрагменты не оставляют никакого сильного или необычного
впечатления, и лучше всего сделает тот, кто отнесет шолоховский роману к
«литературе готовности <к войно»44.
Этот тезис Нильссон иллюстрирует на примере «Науки ненависти»,
содержание которой определено как «отражение Шолоховым <...> рассказа русского
лейтенанта о пребывании в немецком плену»: Шолохов вновь «работает с
сильными эффектами на грани пропагандистской публицистики, так что и этот
рассказ можно отнести к его вкладу в русскую литературу готовности».
Сборник «Слово о Родине», содержащий публицистические статьи о войне
и о послевоенном времени, касается также политики, в частности, писатель
критикует Организацию Объединенных Наций за «империалистическую
политику». Есть в сборнике и давший ему название «небольшой изящный этюд» —
воспоминание об эпохе коллективизации, дважды опубликованный в шведском
переводе45. Нильс Оке Нильссон пересказывает этот рассказ кратко, но с
большим чувством, и не удивительно: он сам и выступал в роли переводчика на
родной язык. Тематически это логический переход к новой главе «Поднятой
целины», опубликованной частями в 1954 г. в «Огоньке» (№ 15-17, 21, 23), но это
лишь «слабый намек на темы и события романа»: «Пока представляется, что
задуман многостраничный роман, живописующий жизнь в колхозах на родине
44 Особый жанр антифашистской шведской литературы (beredskapslitteratur), сложившийся
в период Второй мировой войны. Традиционная по форме повествования, простая по языку,
эта литература отличалась идеалистическим патриотизмом и гуманистическим пафосом, но
вызвала критику модернистов и довольно быстро оказалась в тени набирающего в 1940-е гг. силу
экзистенциализма и «антинатурализма».
45 Н.О. Нильссон дает краткую отсылку, так что академики без труда могут сами прочитать
этот «этюд», патриотическое название которого в переводе было изменено на вполне безликое
«Поездка в Вешенскую» (Resan till Vesjenskaja). Рассказ был опубликован в сборниках: Rysska
berättare i urval / Overs. Bo Johannes Edfeldt. Inledning Nils Ake Nilsson. Stockholm, 1949; Sexton
berättelser om jorden. Ur världslitteraturen / Redigering och biografier av H. Âkerhielm. Halmstad;
Stockholm, 1954.
575
Шолохова после коллективизации». Поскольку ни на один европейский язык
эти отрывки недавно опубликованного произведения советского писателя
переведены не были, Нильссон передает их содержание с небольшими
комментариями. Первый отрывок — наиболее драматичный; во втором появляется
«любимец Шолохова», коммунист Давыдов, «"положительный" герой, который
непременно, согласно канонам соцреализма, должен присутствовать в каждом
советском романе», однако превратившийся в «сухую пропагандистскую
фигуру». В третьем отрывке от первого лица рассказана история колхозника
Аржанова; четвертый содержит «забавный эпизод» о том, как Макар Нагульнов
слушал ночной концерт петухов; пятый живописует колхозников за работой и
выводит нового персонажа, влюбленную в Давыдова девушку, которая,
очевидно, «предназначена стать "героиней" романа».
Шведский славист признается, что опубликованные отрывки написаны
«свежо и живо». Читается роман хорошо, не отрицает Нильссон, но вряд ли это
новое сочинение
поднимется до художественного уровня «Тихого Дона» и «Поднятой целины».
В первых романах на шолоховскую органичную манеру повествования
счастливо повлияли образцы импрессионистической и натуралистской советской
прозы 1920-х гг. Новый роман, однако, демонстрирует зависимость от новой
литературной линии («социалистический реализм») с ее обязательной
ориентацией на русский реализм XIX в. Мы уже не встречаем той страстной силы,
какую демонстрировало единство лиризма и натурализма первых частей
«Тихого Дона». В новом романе Шолохов избегает драматичных, энергичных сцен,
он не позволяет себе переступать границ. Что же касается языка, то он не
прибегает больше в той же степени к просторечию и диалектизмам и уже не
приправляет ими свой язык так сильно, как прежде. Кажется также, что в новом
романе усилились пропагандистские ноты, то есть писатель собирается
показать, как быстро люди привыкли к новой колхозной системе и уже не думают,
что нет ничего лучше, чем собственное хозяйство.
В этой связи Нильссон напоминает, что Шолохов в последние годы
пересмотрел и переработал два своих романа. Эти литературные ревизии были
обусловлены следующими «интересными обстоятельствами»:
Когда в 1950 г. Сталин выступил в роли «лингвиста» и раскритиковал
языковеда Марра и его «марксистское» языкознание, он, среди прочего, заявил,
что образцовый русский литературный язык не должен вбирать в себя слова
из говоров, профессиональных жаргонов и сленга. Вмешательство Сталина
вызвало длительные споры о языке, когда Шолохова, среди прочих,
приводили как пример писателя, который неумеренно наводняет свои книги
диалектизмами и просторечием. Шолохов согласился с этими замечаниями и
принял критику В 1951 г. он публично объявил, что теперь считает
некритичное использование диалектизмов в художественном произведении
недостатком.
576
Нильссон ссылается на публикацию в «Новом мире» (1954, № 6), где
Шолохов с готовностью признает свой чудесный, пропитанный подлинной народной
речью язык погрешностью против мастерства и вкуса: это беспрекословное
подчинение «генеральной линии» в глазах эксперта перевешивает все
бесспорные литературные заслуги писателя. Становится понятным, что на сторону
Пастернака Нильссон встал не по политическим мотивам (хотя и они, наверное,
сыграли роль), а из-за бескомпромиссного предпочтения личности,
отстаивающей свою индивидуальность, тем деятелям искусства, кто государство,
советскую власть, коммунистическую доктрину, все сопряженные с этим идеалы и
благоглупости ставил бесконечно выше своих индивидуальных желаний и
стремлений.
Н.О. Нильссон рассказывает о переработке Шолоховым языка «Тихого
Дона» во всех подробностях, сообщая о тысяче изменений в пользу языковой
нормы и замене «слов и выражений, характерных для южной России, на
обычные аналоги из нормальной прозы». Романному языку это, несомненно,
повредило, по мнению Нильссона, но его интересует еще и политический аспект
произведенных замен, например, «немецкого происхождения» — на «латышского»,
«закованной в камень Москвы» — на «широкую, добрую Москву». Сообщив
попутно, что схожая правка затронула и «Поднятую целину», шведский славист
завершает свой очерк рассказом о появлении Шолохова на Втором Всесоюзном
съезде советских писателей (15-26 декабря 1954 г., Москва).
Принятая резолюция означала возвращение к видоизмененной ждановской
линии после года литературной «оттепели» (по названию романа Ильи Эрен-
бурга, опубликованного весной 1954 г. и подвергшегося сильной критике).
В первых речах на все лады перефразировали слова из приветственной
телеграммы коммунистической партии, зачитанной на открытии съезда; в ней
прозвучали все основные моменты, закрепленные позже в уже принятой
резолюции. Попытки критически высказаться о советских литературных условиях
прозвучали лишь в единичных выступлениях. Самым заметным критическим
выступлением оказалась речь Шолохова, ставшая, без сомнения, скандальной.
Шолохов появился лишь на седьмой день работы съезда. Он начал с того, что
процитировал русскую поговорку, которую можно было бы лучше всего
передать как «пустые бочки гремят сильнее»46. По его мысли, эта поговорка лучше
всего характеризует идущий съезд. Много говорилось о наших общих
достижениях, заявил он, но при этом книжный рынок наводнил «серый поток
бесцветной, посредственной литературы». Тем не менее вину за это Шолохов
возложил не на официальный «социалистический реализм» и его давление на
писателей. Подобное обвинение стало бы чем-то неслыханным в Советской
стране, а Шолохов всегда оставался лояльным к партии. Он, кажется, полагает,
что ограничения, налагаемые партийной программой, не препятствуют
появлению подлинной, индивидуальной литературы.
46 Из речи Шолохова: «Старая народная поговорка, давно родившаяся там, где бурлят
стремительные горные потоки, говорит: "Только мелкие реки шумливы"» [Шолохов 1986: 211].
577
Истинный пафос речи Шолохова (кстати, названной В.А. Кавериным
«хулиганской») ускользнул от шведского слависта, мысли Шолохова не показались
ему ни злободневными, ни интересно высказанными, не затронули его ни в
малой степени. Раз Шолохов «лоялен к партии» и поддерживает ее линию, все
остальное, литературное, оказывается, в сущности, второстепенным. Внимание
привлекла лишь прилюдная порка «наиболее влиятельных писателей наших
дней», K.M. Симонова и И.Г. Эренбурга, «играющих значительную роль в
советской литературе, но писателей посредственных». Любопытно, что один из
использованных Шолоховым образов (разоблачительная реплика мальчика «А
король-то голый!») в передаче шведским славистом для его
соотечественников-академиков должен был обрести автора: «как мальчик в сказке Андерсена».
Всему съезду советских писателей было понятно, откуда взята реплика... Но
Нильссон оговаривается: Шолохов готов и самого себя подвергнуть критике и
самокритике, когда речь идет о «ведущих» писателях.
Его откровенное выступление пролило свет на нынешнее положение
советских писателей — и его самого. Официальная литературная программа,
выработанная самой коммунистической партией, не оставляет русскому писателю
выбора. Ее следует безоговорочно принять и писать в соответствии с ней. Как
правило, они и пишут столь беззубо и шаблонно, чтобы не рисковать отойти
в чем-либо от партийной программы, которая может измениться в любой
момент. Или они должны замолчать — полностью или частично. К молчащим
писателям, которые иногда всплывают в «периоды оттепели», принадлежит,
например, выдающийся поэт-лирик Борис Пастернак. Другие занимаются
организационной работой и редко когда выпускают книги.
Заключительный абзац Нильссона о писателе, идущем в фарватере партии
и пишущем дюжинные книги (ничего иного из этого критического реферата
вынести как будто нельзя), гласит:
Шолохов также не избежал дилеммы, встающей перед советским писателем.
Очевидно, что он пытался приспособить свое природное дарование к
требованиям партийной программы, которую он, по-видимому, лояльно
принимает, пытался найти компромисс, примиряющий его с собственной
творческой совестью. Его длительная пассивность, канитель с несколькими
романными проектами, его поведение на писательском съезде свидетельствуют об
этом.
Только одно замечание: если писатель отмечен диссидентством по
отношению к советскому строю, то его творческая участь — молчать. Если молчит
писатель, убежденно разделяющий идеи и цели советской власти, — ему
приписана творческая пассивность и творческое бессилие. Нильсу Оке Нильссону
удалось, не отступая от истины, блестяще справиться с жанром
антирекомендации. На ее основе Нобелевский комитет в 1955 г. отложил рассмотрение
кандидатуры Шолохова до публикации его нового крупного сочинения.
578
В 1956 г. кандидатура Михаила Шолохова была предложена норвежским
филологом Йоханнесом А. Дале47 и швейцарским лингвистом Андре Боннаром48.
В нобелевском архиве сохранились обе номинации. Норвежский профессор
первым номером называет Никоса Казандзакиса, подчеркивая эпическую силу
его романов и возвышенный идеализм, столь точно отвечающий требованиям
Нобелевской премии, и уже «во вторую очередь» рекомендует вниманию
Шведской академии «русского писателя». Швейцарский филолог выдвигает одну
кандидатуру и дает более пространную мотивацию:
Михаил Шолохов — один из лучших «des premiers> советских писателей.
Среди невероятного множества авторов совершенно неравноценных романов ему
принадлежит первое место. Создатель четырех томов «Тихого Дона»
изображает новый мир в становлении, воссоздавая его с поразительным реализмом,
способным превзойти реальность, и при этом независимо от какой бы то ни
было идеологии. Главный герой этого романа, разорванный между двумя
сражающимися лагерями и переходящий из одного в другой, — фигура самая
высокотрагичная и одновременно ужасная в литературе нашего времени.
Нобелевский комитет отверг столь высоко оцененного писателя в трех
сухих строках: «Отсылая к прошлогоднему заключению, комитет полагает, что
рассмотрение этой кандидатуры следует отложить до тех пор, пока на него не
будет представлено любое новое произведение писателя».
Два года спустя, в 1958 г., имя Михаила Шолохова внесено в список
кандидатов на премию благодаря нескольким номинациям. Йоханнес Эдфельт
(Johannes Edfelt; 1904-1997) воспользовался своим правом председателя шведского
ΠΕΗ-клуба. Поэт и переводчик, Эдфельт возглавлял его шведское отделение в
1957-1967 гг., в 1969 г. был избран в члены Шведской академии, в 1970 г.
получил степень почетного доктора Стокгольмского университета. В его обширной
деятельности — переводческой, издательской (более шестидесяти лет он выпу-
47 Dale Johannes Andreasson (1898-1975) — норвежский филолог, литературовед, профессор
норвежской («новонорвежской» — nynorsk) литературы в университете Осло, автор большого
количества научных работ и учебников по истории норвежской литературы, первопроходец в
области норвежских социолитературных исследований.
48 Bonnard André (1888-1959) — швейцарский филолог-классик, переводчик трагедий
Софокла, Эсхила, Еврипида на французский язык, профессор Лозаннского университета. Идеалы
А. Боннара были во многом схожи с идеалами основателя знаменитой премии, Альфреда Нобеля.
Если Первая мировая война ужаснула его и определила его пацифизм, то победа Красной армии
во Второй мировой войне сделала его поклонником СССР, в котором он увидел реализацию
своих гуманистических идеалов. В 1949 г. он был избран главой Швейцарского движения борьбы
за мир, вошел во Всемирный совет мира, что вызвало преследования со стороны швейцарских
властей, установивших за ним полицейское наблюдение. В 1952 г. из-за участия в Берлинском
конгрессе за мир он был арестован и судим на родине за измену и шпионаж. Приговор был
мягким (15 суток), но из-за враждебного отношения окружающих он был вынужден покинуть свой
пост раньше срока, не получив звания заслуженного профессора. В 1955 г. был удостоен
Сталинской премии мира. Много лет спустя его память была реабилитирована, его именем названы
площадь в родной Лозанне и одна из университетских аудиторий.
579
скал различные поэтические сборники зарубежных поэтов в шведских
переводах) и критической (он выступал критиком на страницах обеих крупнейших
шведских газет, «Dagens Nyheter» и «Svenska Dagbladet», a также литературного
журнала издательства Боньер «Bonniers Litterära Magazin») — нельзя не
отметить роль редактора и автора предисловий в 12-томном довоенном собрании
сочинений Максима Горького49. Основанием для выдвижения Шолохова
послужил тот факт, что «при голосовании на одном из собраний в ΠΕΗ-клубе он
получил наибольшее число голосов». И. Эдфельт напоминает также, что прежде
ΠΕΗ-клуб выдвигал Эзру Паунда50.
Новое обращение в Нобелевский комитет Йоханнеса А. Дале написано на
«нюнорск», который профессор преподавал и изучал. Тем не менее на премию
он «представляет» русского писателя Михаила Шолохова «за его громадную
эпическую мощь и захватывающие человеческие характеры». В качестве
дополнительных кандидатов Дале готов рассматривать норвежского поэта и
новеллиста Тарьея Весоса (Tarjej Vesaas; 1897-1970) и датскую писательницу Карен
Бликсен (Karen Blixen; 1885-1962).
В 1958 г. Шведской академией был сделан поистине роковой — как в
античных трагедиях — выбор; руководство СССР повело себя недостойно своей
великой страны, медийно громкие политические победы и поражения стоили
нобелевскому избраннику жизни. О Шолохове в тот год записали кратко:
«Никакого нового сочинения, которое могло бы актуализировать предложение, не
появилось». И в этой лаконичной фразе таилось очевидное
противопоставление: ведь Б.Л. Пастернаку премию присудили за только что изданный — и даже
не на языке оригинала — роман.
В список номинаций 1961 года М.А. Шолохов попал благодаря «господину
Мартинсону» (как он просто, без инициалов назван в списке номинаций)51;
член Шведской академии, как это практиковалось, предложил кандидатуру
советского писателя устно. Лауреат 1961 г. Иво Андрич был назван 19 сентября,
обойдя при голосовании Грэма Грина и Карен Бликсен. О советском писателе в
финальном протоколе было записано следующее: «Насколько известно, обе-
49 Maxim Gorkis bästa verk / Red. och försedd med inledningar av Johannes Edfelt. Översättning av
Walborg Hedberg och Rafael Lindqvist. 12 vol. Stockholm, 1936-1937.
50 Pound Ezra (1885-1972) — крупнейшая величина в мировой поэзии XX века,
американский поэт и переводчик — не получил Нобелевской премии. Именно в 1958 г. он был, после
многочисленных хлопот и протестов, выпущен из психиатрической больницы в США, заменившей
ему тюрьму за активную поддержку фашистского режима Муссолини в годы Второй мировой
войны, и навсегда переехал в Италию.
51 Martinson Harry Edmund (1904-1978) — шведский писатель, поэт-лирик, романист и
драматург; член Шведской академии с 1949 г. В 1934 г. был участником Первого съезда советских
писателей, разочаровался в Советском Союзе. В 1974 г. разделил с Э. Юнсоном (Johnson)
Нобелевскую премию по литературе, и это последняя по времени премия, присужденная сразу двум
писателям. Скандал, связанный с этим присуждением, — не только сразу два шведских писателя
стали лауреатами, но X. Мартинсон был еще и академиком — привел его через несколько лет к
самоубийству.
580
щанный роман о войне, над которым Шолохов работает в последние годы, все
еще не вышел. К обсуждению этого предложения, согласно мнению Комитета,
следует обратиться, когда труд будет полностью завершен».
В 1962 г. профессор-языковед из Йены Генрик Беккер52 предложил две
кандидатуры, Арнольда Цвейга (Zweig; 1887-1968), в послевоенные годы
вернувшегося из Палестины в ГДР, ставшего депутатом Народной палаты,
президентом Академии художеств и лауреатом Государственной премии, председателем
немецкого ΠΕΗ-клуба (в 1957-1967 г. объединявшего писателей Восточной и
Западной Германии), и Михаила Шолохова. Лауреат 1962 г. Джон Стейнбек был
«поставлен на первое место» далеко не всеми членами Нобелевского комитета,
заседавшего 13 сентября, однако все же обогнал Жана Ануя (Anouilh) и Роберта
Грейвса (Graves). «Комитет положительно относится к кандидатуре
Шолохова, — было записано в заключительном протоколе, — но хотел бы дождаться
выхода его обещанного нового сочинения, в котором речь идет об обороне
Ленинграда. Сейчас можно рассматривать только другую новую работу писателя,
продолжение романа "Поднятая целина", переведенного на наш язык как
"Жатва на Дону"; речь в нем идет о тех же местах, что и в хорошо известном донском
цикле. Некоторые эпизоды напоминают его лучшие первые книги, напитанные
живой кровью натурализма, но повествование в целом оказывается лишь их
слабым слепком с усиливающейся пропагандистской тенденцией».
17 января 1963 г. на приглашение Шведской академии выдвигать
кандидатов на премию откликнулся профессор Стэнфордского университета Джек
А. Посин (Posin). Уроженец Ашхабада, Яков Абрамович Посин (1900-1995)
перебрался в 1918 г. в США, где не сразу выбрал славистику своей
специальностью. В 1939 г. он получил докторскую степень и, постранствовав по различным
американским университетам, в 1946 г. стал профессором отделения азиатских
и славянских языков в Стэнфорде. В 1955 г. Дж. Посин был вице-председателем
Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских
языков (AATSEEL), был также членом Ассоциации современных языков (MLA)
и членом Американской ассоциации университетских профессоров. Своим
коллегам он запомнился не только отличной памятью — русскую поэзию он
много и охотно читал наизусть, — но и выступлениями перед выпускниками на
провокативные темы — «Развалится ли Советский Союз?» — и предсказанием
этого развала в недалеком будущем53. Тем более удивительно, что Дж. А. Посин,
американский профессор русистики (русского языка, литературы и цивилиза-
52 Becker Henrik (1902-1984) — немецкий лингвист, с 1924 г. связанный с Пражским
лингвистическим кружком. Был профессором германистики в разных университетах Восточной
Германии; с 1956 г. возглавлял Институт лексикологии и культуры речи Йенского университета
им. Ф. Шиллера.
53 В некрологе профессора, помещенном в новостном бюллетене Стэнфордского
университета (Stanford University News Service (650) 723-2558, 02.03.1995), приведены цитаты из его
антикоммунистических выступлений, см.: http://web.stanford.edu/dept/news/pr/95/950203Arc5391.
html, дата обращения 27 июля 2017 г.
581
ции), выдвигает «на премию русского писателя Михаила Шолохова (в скобках
впечатано кириллицей: Михаил Шолохов. — Г. М.)».
Я считаю его монументальный труд «Тихий Дон» (в скобках дано название
романа в английском переводе: «The Quiet Don». — T. M.) выдающимся
литературным подвигом нашего века, соизмеримым с великими русскими романами
XIX столетия.
Я, разумеется, сознаю, что писатель живет и работает в условиях
коммунистической диктатуры. Однако при оценке литературных достижений это
обстоятельство способно лишь повысить его заслуги, если принять во внимание
исключительно трудные условия для работы. И, я думаю, за это произведение
М. Шолохов заслуживает награды.
Я также осознаю все недостатки этого сочинения, проистекающие из
искаженных жизненных условий их автора: некоторые из его персонажей —
членов коммунистической партии, как, например, Бунчук в «Тихом Доне», — не
столь подлинные и живые, как другие герои. Это можно назвать
профессиональным риском: невозможно не описывать коммунистов, если пишешь о
современной России, но невозможно (подчеркнуто автором текста. — Т. М.) и
описывать их реалистически.
Между тем даже с такими неизбежными изъянами сочинение это —
выдающееся. В том-то и дело, что за последние шестьдесят или около лет, со
времени «Воскресения» Л. Толстого, только два великих романа было создано
на русском языке. Один из них — «Тихий Дон». Второй, на мой взгляд, — это
«Доктор Живаго» Бориса Пастернака.
Ввиду этих соображений я считаю обоснованным выдвижение Михаила
Шолохова на Нобелевскую премию за 1963 год.
В заключительном протоколе 1963 года Нобелевский комитет с готовностью
«отдает должное замечательному русскому прозаику, хотя пропагандистский
или конформистский характер свойствен отнюдь не только его более поздним
произведениям». В протоколе было записано, что «в ожидании экспертного
заключения» — как будто речь идет о впервые номинированном безвестном
авторе — решение о присуждении Шолохову Нобелевской премии «должно
отлежаться».
В январе 1964 г. в Стокгольм начали поступать новые номинации автора
«Тихого Дона». 23 января датировал свое обращение «господам» из
Нобелевского комитета профессор Джон Стефенсон Спинк (J.S. Spink; 1909-1985),
представлявший Отделение французского языка и литературы Бедфордского
колледжа Лондонского университета: «Имя, которое мне хотелось бы назвать, —
это Михаил Шолохов. В качестве обоснования я прилагаю копию рецензии на
произведения Шолохова, которую я опубликовал в "Англо-советском журнале"
в 1962 г.». Профессор Джек Спинк (так его обычно именовали в жизни, но не в
библиографических описаниях) всю жизнь посвятил изучению века
Просвещения — французской литературе XVIII в., заслужив признание не только
в родной стране, но и на родине Дидро и Вольтера. Однако Дж. Спинк был
582
не только ученым-романистом, свободно рассуждающим о ренессансной или о
современной французской литературе, о музыке и искусстве. Он не скрывал
своих прокоммунистических симпатий и интереса к прогрессивным
политическим идеям. В 1940-е гг. он изучил русский язык настолько, что перевел на
родной язык «Танкер "Дербент"» Ю. Крымова54. В «Англо-советском журнале» он
помещал отклики на русские и английские издания русских авторов и/или
о русских авторах (Достоевском, Герцене, Горьком, Шолохове)55.
Небольшая журнальная вырезка из «Англо-советского журнала»56
приложена к номинации. «Рецензия» представляет собой характерный образец
презентации новой книги в западноевропейской периодике: это не собственно
литературно-критический разбор, более уместный в серьезных научных изданиях,
а сжатые заметки о книгах, призванные эмоционально (реже интеллектуально)
побудить читателя взять в руки именно эту книгу. В подобном жанре краткого
эссе написана и «рецензия» Дж.С. Спинка:
Все чувства пробуждаются, когда читаешь шолоховскую прозу. Но это не
просто искусство словесной изобразительности. Впечатления, которые вызывает
Шолохов, ощущаешь где-то на уровне сердца. Он — поэт. Слово «эпос» хорошо
подходит к его творчеству. Если из великих имен европейской литературы
можно найти кого-то наиболее ему близкого, то это Виктор Гюго. Оба поэты.
Оба «жизнеутверждающие романтики» («положительные романтики», если
использовать термин Горького). Но их поэзия не ограничена индивидуальным
существованием. Это не та трепетная чувствительность, которую внешний
мир может затронуть только острым наслаждением или резкой болью. Это
поэзия неба, которое прекрасно, несмотря на обжигающее до волдырей
солнце. Это поэзия земли, которая прекрасна, несмотря на всю кровь, которая
струится по ней, и людей, которые прекрасны, даже если они отъявленные
мерзавцы и даже если они несутся на вас с шашками наголо.
В обзоре номинаций, присланных из Москвы, придется слегка нарушить
хронологический порядок и знакомиться с ними, бюрократически говоря, по
мере их поступления в Шведскую академию.
27 января 1964 г. в Стокгольм пришла телеграмма из Москвы, написанная на
английском языке и адресованная Андерсу Эстерлингу в «Комитет Шведской
54 Krimov Yu. The tanker «Derbent»: A soviet novel / Translated by John S. Spink. Harmondsworth
(Middlesex, England), 1944.
55 Библиографию см.: http://www.unz.org/Author/SpinkJS, дата обращения 31 июля 2017 г.
56 Spink J.S. Master of the Don Country. Rew: Sholokhov M. Harvest on the Don: a sequel to Virgin
Soil. Transi. H. Stevens. L., 1960; Sholokhov M. Tales from the Don. Transi. H. Stevens. L., 1961 // Anglo-
Soviet Journal. Vol. 23. № 2. P. 41-42. Рецензия доступна на сайте электронного архива журнала:
http://www.unz.org/Pub/AngloSovietJ-1962q2-00041. «Anglo-Soviet Journal» (1940-1992) издавался
Обществом культурных связей между Британским содружеством и СССР (SCRSS; с 1995 г. издает
преемник «Англо-советского журнала», «SCRSS Digest»). Информация об Обществе и его
периодических изданиях выложена по постоянно действующему электронному адресу: http://www.
scrss.org.uk/scrssarchive.htm.
583
академии по Нобелевским премиям». Текст телеграммы вдвое короче
перечисленных ниже подписей:
Глубокоуважаемый профессор, мы выдвигаем на Нобелевскую премию по
литературе за 1964 г. советского писателя Михаила Шолохова. Все необходимые
документы отправлены авиапочтой. Константин Федин, академик, секретарь
Союза советских писателей, Иван Анисимов, член-корреспондент Академии
наук СССР, Виктор Виноградов, академик, Леонид Леонов, секретарь Союза
советских писателей, Николай Конрад, академик, Алексей Сурков, секретарь
Союза советских писателей, Михаил Храпченко, член-корреспондент
Академии наук СССР, Александр Твардовский, поэт, секретарь Союза советских
писателей.
Регалии в данном случае необходимы — все подписавшие телеграмму имеют
право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию.
Отдельная телеграмма направлена директором ИМЛИ им. Горького АН
СССР И.И. Анисимовым (имя латиницей набрали с неверно поставленным
пробелом — Ivanan Isimov, так что секретарем комитета от руки внесено
исправление). Переводить ее не стоит: «Requisite materials books papers sent
Regards». Эта телеграмма пришла лишь 30 января. Первая телеграмма была
отправлена в субботу, за несколько дней до срока; посылку собирали и отправляли
в первые два дня наступившей недели, отбив во вторник телеграмму-отчет.
24 января текст выдвижения на Нобелевскую премию составили и
подписали секретари Союза советских писателей — Константин Федин (он был также
действительным членом Академии наук), Леонид Леонов, Александр
Твардовский, Алексей Сурков. Дата проставлена в начале послания (цифра,
обозначающая день, каллиграфически вписана от руки), место его составления — в конце:
ул. Воровского (ныне, как и прежде, Поварская), 52. Это адрес, по которому
располагался Союз писателей и его руководство. Машинопись на английском
языке занимает чуть более двух страниц. Это довольно живой, не забитый
штампами литературный портрет. Вот как (после опущенных нами биографических
подробностей) сказано о «Тихом Доне»:
...реалистически написанное широкое эпическое повествование о жизни
донских казаков накануне Первой мировой войны, во время войны, революции и
Гражданской войны 1918-1920 гг.
И далее:
.. .роман живо и талантливо повествует об истории казацкой семьи Мелеховых
и о главном герое, Григории Мелехове, о его любви, об общественном распаде
и о гибели патриархальной казацкой семьи под давлением социальных бурь и
потрясений, типичных для России той эпохи.
Разумеется, безыскусная простота слога номинации, как из школьного
учебника, во многом проистекает из необходимости выразить на иностранном язы-
584
ке все то огромное, значительное, что пережил Гришка Мелехов, и сталинский и
ленинский лауреат Шолохов, и большие писатели, подписавшие эти не великие
по глубине строки, и весь русский, советский народ. Английский язык только
входит в обиход, а немецкий, на котором К.А. Федин мог бы написать
блестящий очерк, из обихода вышел. Повторяются слова, ходит по кругу мысль:
Роман талантливо соединяет эпическое полотно исторической жизни народа с
яркими зарисовками своеобразного быта казачества, с описанием сложных и
сокровенных чувств и личных переживаний.
Вместо руководящей роли партии сказано о главной любовной линии
романа, близкой и понятной каждому читателю. Некоторые преувеличения даже
уместны в устах писателей — это ученым пристало придерживаться точных
цифр и фактов:
.. .тиражи в двадцать миллионов только на русском языке, роман переведен на
языки всех народов СССР и опубликован почти в каждой зарубежной стране.
Как Шекспир, другого примера не подобрать.
После этой почти святой гиперболы писать становится легче, о «Поднятой
целине» сказано с воодушевлением: «эпическая и психологически глубокая
картина послереволюционного поворота в жизни казаков к коллективизации».
Перечислены главные герои — «местные коммунисты, простые казаки и
противники коллективного ведения сельского хозяйства, борьба с которыми
способствует динамичному развитию событий». Не будем гадать, чем вызвано
такое освежение подхода к классике советской литературы, но на фоне
бесконечных отказов шведских академиков увенчать мировыми лаврами
пропагандиста, конформиста, идейного коммуниста тезис о том, что, собственно, все
трудности и ужасы коллективизации сводятся к беллетристическому
мастерству закручивать сюжет, обезоруживает. Просто хорошая литература — вот и
все. Как и названные ниже «незавершенный» (и тоже не криминал — мало ли
знает мировая литература неоконченных шедевров) роман «Они сражались за
Родину» и «хорошо известный на родине и за ее пределами рассказ» «Судьба
человека». Финальный абзац:
Место Михаила Шолохова в советской литературе, его широкая популярность
здесь и за рубежом дают нам основания верить, что выдающийся
представитель романного жанра, наиважнейшего в мировой литературе, абсолютно
достоин присуждения Нобелевской премии по литературе.
25 января в Институте мировой литературы (его адрес — ул. Воровского,
25а — указан под датой) четыре члена Академии наук СССР подписали — в
отличие от писателей, латиницей, но тоже разными ручками (если это важно) —
переведенную на английский язык номинацию Шолохова на Нобелевскую
премию. Приведем письмо, скрепленное именами двух членов-корреспондентов
585
Академии, Ивана Анисимова, директора Института мировой литературы, и
Михаила Храпченко, и двух академиков, Николая Конрада и Виктора
Виноградова, именно на том языке, на котором оно было адресовано их прямому
коллеге Андерсу Эстерлингу и отослано в Шведскую академию:
Dear Sir,
Now that candidates for 1964 Nobel Prize Award in literature are being nominated
we think it our duty to put forward the name of the Soviet writer Michail Sholokhov.
Michail Sholokhov, the author of the novels «Quite flows the Don», «Upturned
Soil» and many short stories, among which "The Fate of a man» is most remarkable,
possess the world fame as an outstanding master of literary art. The mighty uncom-
promised truthfulness of his skill is inspired by the noble ideas of creation and peace,
deep respect and love for the Man. Involved in main problems of human existence in
XX-th century the writer stands boldly for understanding and friendship among
peoples.
We believe, that Sholokhov's writings makes it possible to nominate him a
candidate for the year s Nobel Prize Award.
Текст номинации (со всеми его погрешностями) выдает некоторую
усталость от кампании, которая длится столько лет и в которую вовлечено столько
важных людей. Очевидно, однако, что письмо из Москвы в Стокгольм может
прийти быстро только дипломатической почтой — обычной почтой ему никак
не поспеть к строго оговоренному сроку. Именно поэтому эти письма — как и
рассматриваемые ниже — оказались в папке номинаций на 1965 г.: пока все
послания, которые можно было бы подготовить, разумеется, загодя, добрались до
здания Биржи в старом городе шведской столицы, срок подачи заявок на
текущий год истек. А в качестве советской номинации за 1964 г. действительной
оказалась лишь предусмотрительно отбитая телеграмма с выдвижением
шолоховской кандидатуры.
В качестве сопроводительных «документов» к процитированному выше
письму было приложено несколько страниц машинописи на английском языке,
без подписи. Первый текст — это биография Михаила Шолохова,
уместившаяся на двух страницах, второй — своего рода «расширенная номинация», тоже
две неполных страницы. Что касается биографии, то ее, не мудрствуя лукаво,
просто перевели на английский — это типовой текст советской биографии, как
ее писали для подачи в самые разные инстанции, на премию например. Именно
поэтому поражает множество нерелевантной для Нобелевской премии
информации — сколько стран посетил писатель, когда он впервые был избран
депутатом Верховного Совета (1937) и т. д. Более существенно то, что в 1939 г.
Шолохов был избран академиком (тогда в стране была только одна академия, АН
СССР), а в 1962 г. ему присудили степень почетного доктора старейшего в
Шотландии (третьего из основанных в Великобритании) Сент-Эндрюсского
университета. Среди собственно биографических и библиографических данных
указано и получение писателем в 1960 г. Ленинской премии за роман «Поднятая
586
целина»; тот факт, что Шолохов был лауреатом Сталинской премии, опущен.
Отметим кстати, что усиленно и неоднократно — как в этом тексте, так и в
следующем, «расширенной номинации», — подчеркивается неписательская
ипостась Шолохова — «борца за мир». Вероятно, «в верхах», где готовилась
номинация, не видели больших различий между литературной премией и
Нобелевской премией мира — которые, между тем, даже присуждают в разных странах.
Вероятно также, что рекомендация составить подобную рекомендацию была
получена в одной из тех устных бесед советских руководителей с сочувственно
относящимися к улучшению добрососедских отношений шведскими
коллегами, о которых сообщает Уно Виллерс (об этом немного ниже). Однако сам
дискурс обсуждения литературы в Советском Союзе столь разительно отличался
от разговора о литературных новинках на Западе, что авторы отправленного
в Стокгольм текста просто не могли отойти от привычных, казалось, навсегда
усвоенных штампов.
Приведем текст номинации так, как он отложился в архиве Шведской
академии, т. е. по-английски, с исправлением только очевидных опечаток.
Michail Sholokhov is no doubt one of the most outstanding and popular modern
Russian writers. His name is well-known both in the Soviet Union and abroad. His
works were translated into many languages. His books, penetrative in thought, grand
in feeling and full of human anguish, convey the image of ocean-vast Russia and of its
people, simple and strong.
His novels are faithful to reality and as life could be. One would find the true
artistic picture of life and of peoples fates whether one would take the short-story «The
Fate of a Man» or envisage the epic vastness of his «Quiet Flows the Don» or
«Upturned Soil».
«Quiet Flows the Don» is a story of the Don Cossacks in 1912-1921. But
certainly it is not due to local environment and social relations among the Cossacks that
«Quiet Flows the Don» has acquired its impact. The characters are involved in the
crucial events of world importance, their joys, their griefs and woes shared by all
humanity. The artist creates individual characters with great skill, a wide range of
human fates reflecting the potent pace of world history. The vividness and brilliance of
his style depend on the interlacement of various lines of the narrative and the highly
dramatic strain of the action. His style is that of a perfect reflection of reality, the style
that is impressive, full of motion, energy, pathos and exquisite humor, calm and
venomous in its irony, the style of magnificently individualized language; it is really
adequate to the grandiose contents of his writing: the complex, difficult, painful, con-
tradictive and still full of joy transition to the new stage of historic development. The
novel «Upturned Soil» — the story of establishing of the new way of life in Soviet
villages and the novel «They Fought for their Country» showing the heroic deeds of
our people during the Second World War against Hitler s Germany follows the same
realistic line of epic narration.
Sholokhov s artistic manner develops the epic style of Leo Tolstoy, and his novel
in many aspects is akin to the classic Russian novel as well as European.
587
His books confirm the fact that only the writer who has inherited the life loving
pathos of the great literature of the past, its big truths and deep understanding of the
people, the boldness of its ideas, its esthetic freedom and artistic grace could really
develop the great traditions of literature.
Sholokhov s novel is a spring off of the new epoch. The writer expressed essential
truths of the World history of the twentieth century and portrayed the most
characteristic features of the Russian soul of the new stage of its historic development. The
author has a specific method of characterization and he manages to combine the epic
character of his objective prose with the emotional tension.
The immortal vitality of Michail Sholokhov s novels, which are, in fact, a great
contribution to world literature, lies in their realism, artistic perfection and the
simple wisdom that has always been characteristic of any great literary achievement.
Michail Sholokhov, the great humanist and fighter for peace and fraternity of
peoples, really deserves to be awarded with the Nobel Prize.
Небольшое экспертное заключение в 5 страниц и на сей раз написал Нильс
Оке Нильссон. Свой новый экспертный очерк Нильссон начинает почти с того
места, на котором остановился девять лет назад: «В 1953 г. Михаил Шолохов
выпустил переработанное издание "Тихого Дона"»57. Затем шведский славист
углубляется в филологическую историю и очень точно расставляет акценты:
Непосредственно причиной к этому послужило сталинское вмешательство
1950 г. в споры о т. н. «марризме», который выдвинулся как «марксистское»
течение в языкознании и, утвердив свой монополизм, годами калечил всю
лингвистическую науку в Советском Союзе. Также по инициативе Сталина
преувеличенный интерес был привлечен и к литературному языку. Уже в
1934 г. Максим Горький начал кампанию за «чистый» литературный язык58,
против тенденций 1920-х гг. усиливать диалектные элементы и социальный
жаргон как «пролетарское» противопоставление «буржуазному» характеру
литературного языка прежних эпох. Прежние споры стали вновь
злободневными. Вновь было указано, что использование диалектизмов, вульгаризмов
и жаргонизмов несовместимо с принципами социалистического реализма.
Нильссон напоминает, что среди писателей, злоупотреблявших народным
просторечием, донскими говорами, оказался и Шолохов.
И шведский славист приступает к разъяснениям, в каких направлениях
перерабатывал автор текст своего прославленного романа. Нильссон сообщил,
что «со сбором материала» ему помогала магистр философии Тамара Хед (Hed).
Однако текстологические штудии по сопоставлению разных редакций шоло-
57 Полный список изданий романа «Тихий Дон», начиная с публикации первых двух частей
книги первой 1928 года, доступен по постоянно действующей ссылке (дата последнего
обращения 25 августа 2017 г.): http://feb-web.ru/feb/sholokh/biblio/rsp.htm?cmd=2.
58 Имеется в виду статья М. Горького «О языке» 1934 г., где он, ссылаясь на классиков,
которые «отобрали из речевого хаоса наиболее точные, яркие, веские слова», требовал «организации
языка, очищения его от паразитивного хлама» и призывал к борьбе «за чистоту, за смысловую
точность, за остроту языка» [Горький 1949-1955,27: 168, 170].
588
ховского романа не имеют никакого отношения к жанру экспертного
заключения — ведь членам Нобелевского комитета не так уж важно, как шла работа над
произведением и какой вариант текста лег в основу печатного издания.
Заметим, что отлично осведомленный в советском историко-литературном
процессе Н.О. Нильссон, подлинный знаток не только текстов, но и широкого фона, на
котором они были созданы, не касается темы возможного «плагиата» «Тихого
Дона», в котором Шолохова обвиняли с конца 1920-х гг.59 По твердому
убеждению шведского слависта, Шолохов не достоин Нобелевской премии —
международное признание у него давно уже есть, речь идет о его прославлении как
писателя, выразившего своим творчеством идеал, — поскольку он своим
творчеством отражает цели и задачи коммунистической партии. Именно этого не
приемлет Нильс Оке Нильссон. Художественные ценности с нагрузкой из
советской пропаганды не убеждали Нильссона; он, напомним, был учеником
Михаила Хандамирова, царского офицера, интернированного в Швеции после
Первой мировой войны и всеми силами радевшего о Нобелевской премии для
«белоэмигранта» Бунина.
Итак, с помощью Тамары Хед Н.О. Нильссон проделывает небольшое
текстологическое исследование. Он классифицирует внесенные Шолоховым
изменения по трем направлениям: «1) языковое — избавление от фонетических,
морфологических и лексических диалектизмов; 2) антинатуралистическое —
ослабление натуралистического элемента; 3) политическое — чисто
фактические изменения, затрагивающие изображение революции и Гражданской
войны». Что касается «языковых изменений», то разъяснения о «южнорусском с
вкраплениями украинизмов диалекте донских казаков», разумеется, не имеют
никакого отношения к формированию мнения Нобелевского комитета об
авторе «Тихого Дона», как и ограничение диалектизмов в новом издании лишь
диалогами, тогда как раньше «целые куски авторского повествования были
диалектно окрашены». Мнения советских критиков о такой «нормализации» языка
«Тихого Дона» разделились, информирует Нильссон: «С одной стороны, первое
издание было переполнено диалектизмами, что затрудняло чтение для
обычного русского читателя, с другой стороны, отмечается, что при такой
тщательной чистке роман в своем новом облике потерял в выразительности».
«Антинатуралистических» изменений профессор насчитал «около двадцати
в двух первых частях». Для удобства своих именитых читателей Нильссон
указывает страницы шведского издания, подчеркивая опущенное слово,
выражение или целую фразу — вероятно, члены Нобелевского комитета, отложив
книги нескольких десятков номинированных на премию писателей со всего мира,
должны были снять с полки (взять в библиотеке) шведский том Шолохова и
следить за выписками Н.О. Нильссона и Т. Хед. «Иногда пропадают целые эпи-
59 Следует подчеркнуть, что за все время обсуждения кандидатуры писателя ни
академики — члены Нобелевского комитета, ни эксперты-слависты ни разу не коснулись темы
возможного шолоховского «плагиата».
589
зоды», — уточняет Нильссон, — например, из-за грубого натурализма
вычеркнута беседа Григория Мелехова с сидящей в отхожем месте старухой или
сцена, как солдаты кашу в горшке варили. То же касается и эротических сцен».
Например, одна из самых страшных сцен романа, «эпизод с Франей»,
«смягчается» путем удаления лобовых подробностей.
Политические изменения, касающиеся прежде всего второй части,
направлены на то, чтобы привести изображение революции и Гражданской войны в
соответствие со сложившейся при Сталине исторической концепцией,
констатирует Нильссон. Для аргументации этого тезиса шведский славист выбирает
фрагмент, связанный с генералом Корниловым, поскольку «новое издание
направлено на то, чтобы сделать его облик иным, более негативным». Опущенной
оказывается фраза «Я не хочу ничего, только спасти Россию, спасти любой
ценой!». И далее Нильс Оке Нильссон приводит фрагмент целиком (по-шведски),
подчеркиванием выделяя опущенные слова и прописными буквами — вставки.
И с сожалением добавляет: «Следовавшее затем в первоначальном издании
лирическое описание природы полностью опущено в издании 1953 г.».
Нобелевский эксперт указывает, что и в следующем томе происходят изменения текста
по тому же образцу, когда отдельные выражения и фразы исчезают, но
появляются другие, в частности, уточнение — «как отметил Ленин». И, заключая,
подчеркивает, что новая редакция «Тихого Дона» в языковом отношении
следует пуристической тенденции, в стилевом отношении обнаруживает
усиление «антинатуралистического и пуританского» элементов, а политические
замены произведены «чисто в духе Сталина».
Тем не менее, продолжает шведский славист, издание 1953 г. оказалось
не «последним и окончательным» вмешательством автора в текст его романа.
В 1956 г. в Советском Союзе началось издание собрания сочинений М.А.
Шолохова, и читатель столкнулся с очередной редакцией.
Без малейших комментариев или упоминаний в русской прессе — в
противоположность разрекламированному изданию 1953 г. — и здесь обнаруживаются
перемены по сравнению с первоначальным текстом. Но если издание 1953 г.
вышло с подзаголовком «переработанное»60, то в 1956 г. названию было
предпослано примечание «текст пересмотрен и переработан писателем»61.
Прибавление «писателем» не кажется неважным: его можно интерпретировать как
намек на то, что изменения, внесенные в издание 1953 г., не принадлежали
собственно автору.
На эту мысль шведского слависта наталкивает полная уверенность в том,
что коснувшиеся второго тома стилистические изменения являются
формулировками, «прямо почерпнутыми из какого-нибудь руководства по истории пар-
60 Шолохов М. Тихий Дон: Роман. В 4 кн. Изд. испр. М., 1953.
61 Библиографическое описание выглядит несколько иначе, чем предложенное Н.О. Нильс-
соном: Шолохов МЛ. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2-5. Тихий Дон. Кн. 1-4. Тексты испр.
автором. М., 1956-1960.
590
тии». Как напоминает Нильс Оке Нильссон, советская реальность такова, что в
художественный текст может вмешиваться издательский редактор или «какой-
нибудь ревностный партийный функционер». Шведский славист готов
допустить, что «политические» изменения могли быть сделаны и помимо писателя,
но он категорически утверждает, что «антинатуралистическая и пуристическая
правка не была сделана ручкой ревностного партийца и совершенно
несомненно, что всю языковую правку Шолохов проделал сам». Уточняя свое участие в
«исправлении» «Тихого Дона» в версии 1953 г., Шолохов, считает нобелевский
эксперт, и сделал в собрании сочинений соответствующую ремарку.
«Издание 1956 г., таким образом, является возвращением к
первоначальному тексту, — замечает Нильссон. — Но не совсем. Фактически мы можем
говорить о новой редакции. Хотя политические изменения 1953 г. и устранены,
однако некоторое антинатуралистическое сглаживание осталось». Были
возвращены некоторые животно-грубоватые, физиологически дерзкие сцены из
частной жизни казаков, но, например, эпизод с изнасилованием Франи уже не
вернулся к прежнему тексту (без ложной стыдливости Н.О. Нильссон
указывает, что исчезло, например, слово «слизисто-красный»). Текст романа в
собрании сочинений стал своего рода компромиссом между первоначальным
текстом и его переработкой 1953 г.: некоторые прежде вычеркнутые диалектизмы
вернулись в повествование, «но не все. Шолохов вычистил наиболее сложные
для понимания слова, которые могли бы затруднить восприятие смысла для
простого русского читателя. К тому же он отказался от присущего первому
изданию стремления к фонетической передаче диалектных слов».
Впрочем, нобелевского эксперта «незначительные изменения» последнего
из рассмотренных им изданий не вдохновили: все вмешательства писателя в
первоначальный текст означают «насилие» над ним, только ретуширование
было произведено более или менее явное. «Мы вполне можем допустить, что
издание 1956 г. стало последним по времени авторизованным текстом "Тихого
Дона". А издание 1953 г. можно рассматривать как временные скобки в
интересной и весьма сложной текстологической истории этого романа».
Помимо экспертного очерка такого авторитетного слависта, как Н.О.
Нильссон, в архиве отложился еще один текст. Это обзор «Русские и польские
писатели, могущие иметь интерес для Нобелевского комитета», составленный для
Нобелевского комитета Эриком Местертоном (Mesterton; 1903-2004), также
весьма авторитетным гётеборгским библиотекарем и переводчиком с
английского и русского языков62. Прежде всего Э. Местертон останавливается на
фигуре М.А. Шолохова:
Вклад последнего в литературу приходится целиком и полностью на советский
период, и премия ему, разумеется, будет весьма благосклонно воспринята <со-
ветским> режимом, как, впрочем, и русским литературным мнением, совер-
О нем и его участии в работе премиального института подробнее см. в главах 13 и 14.
591
шенно свободным от партийного влияния. Его чисто литературные
достоинства бесспорны и общепризнанны также и за пределами России. Однако
очевидно, что Шведская академия не может упускать из виду трудности,
связанные с кандидатурой Шолохова, его поведение в кризисе с Пастернаком. Тогда
он демонстративно занял антипастернаковскую позицию и
солидаризировался с кампанией против Шведской академии. Он присоединился к
инспирированному Союзом советских писателей протесту — и отнюдь не по
принуждению, некоторые известные писатели отказались подписываться. В телефонном
интервью шведской газете он говорил то же самое, безапелляционно и в том же
духе. Быть может, Академии стоило бы изучить отношение Шолохова к этой
истории по тому, как она отразилась в шведской и зарубежной прессе.
Кажется, что Академии будет трудно просто проигнорировать эти факты.
Вместе с тем Э. Местертон полагает, что пренебрегать фигурой Шолохова и
далее Нобелевский комитет не вправе.
В архиве Шведской академии сохранился еще один документ с датой «14/9
1964». Он принадлежит перу Уно Виллерса, подписан инициалами «UW», легко
раскрываемыми благодаря ряду других сопроводительных бумаг, где подпись
стоит целиком. У. Виллерс не был академиком и членом Нобелевского комитета
и участия в избрании лауреатов не принимал. В Шведской академии он
начинал как библиотекарь, т. е. вел большую подготовительную работу по
составлению библиографий, дайджестов из периодики, подбору книг
номинированных авторов; однако со временем круг его обязанностей существенно
расширился. Личность эта настолько примечательна, что заслуживает небольшой
биографической справки.
Уно Виллерс (Uno Willers; 1911-1980) был историком искусств по
образованию, полученному, среди прочего, в университетах Марбурга (1933) и Берлина
(1938-1939), но жизнь вел беспокойную и востребованную. 15 лет он провел на
службе в трех столичных библиотеках (библиотека Каролинского
медицинского института, 1931-1936; библиотека парламента, 1941-1942; Королевская
(национальная) библиотека, 1942-1946). Некоторые перерывы связаны, вероятно,
с отсутствием Виллерса в Швеции, не отмеченным в официальных биографиях.
В 1945 г. У Виллерс получил докторскую степень и место доцента в
Стокгольмском университете (1945-1950). За этот краткий срок он успел побывать (1946-
1947) заведующим шведской студенческой резиденцией в Париже и
одновременно парижской библиотекой Сент-Женевьев (Bibliothèque Sainte-Geneviève).
В 1946-1950 гг. он был директором Нобелевской библиотеки Шведской
академии, а в 1950-1952 гг. руководил архивом Министерства иностранных дел;
с 1952 по 1977 г., т. е. до выхода на пенсию, Виллерс носил звание
«государственного библиотекаря»63. То, что это был действительно не простой библиотекарь,
63 Об этом даже сохранился анекдот, достойный пушкинских table-talk: некто встретил
друга и почитателя Виллерса вскоре после этого назначения, и тот прокомментировал: «Ну да,
сейчас мы можем только ожидать его назначения на должность всемирного библиотекаря» (см.: G. 17.
592
подтверждает его общественная деятельность; перечислим лишь самые
замечательные его посты: заместитель председателя Национальной комиссии по
делам ЮНЕСКО, председатель попечительского совета Стокгольмского
городского театра (Stadsteater, ведущие подмостки Швеции), председатель Туристической
ассоциации Швеции, председатель Исследовательского библиотечного совета.
Список наград еще более впечатляющ: Уно Виллерс — командор шведского
ордена Северной Звезды, кавалер ордена за заслуги перед Федеративной
Республикой Германией, командор ордена Исландских Соколов, норвежского ордена
Святого Олафа и рыцарь французского ордена Почетного Легиона, а также
почетный член нескольких шведских королевских институций, среди которых не
только Королевское общество по изданию рукописей по скандинавской
истории, но и Королевский Военно-морской институт. И это скромный
библиотекарь?! К его 60-летию был издан сборник статей «Библиотека и история» (Biblio-
tek och historia. Festskrift till Uno Willers. Stockholm, 1971), а его фонд в
национальной Королевской библиотеке в Стокгольме занимает 15 полок.
Своей блистательной карьерой У. Виллерс обязан оценившему его
потенциал однопартийцу— социал-демократу, с 1917 г. почти непременному члену
кабинета министров, в 1945-1962 гг. министру иностранных дел Швеции Эсте-
ну Ундену (Во Osten Undén; 1886-1962). Деятельность Э. Ундена в шведской
и мировой дипломатии отмечена многими крупными достижениями; конец
1940-х гг. замечателен в том числе сближением позиций его министерства с
советской внешней политикой. Более того — он отважился назвать Советский
Союз «правовым обществом» (rättssamhälle), а США и Запад в целом именовал
«так называемым свободным миром» («den sa kallade fria världen»)! Уно Виллер-
са называли «агиографом» Ундена (Uno Willers. Undén, Osten // Svenska Man och
Kvinnor. Del 8. Stockholm, 1955). Унден был избран в 1940 г. членом Королевской
академии наук, которую столь часто и неправомерно смешивают со Шведской
академией, куда избирают прежде всего за литературные заслуги.
Именно в эпоху расцвета дипломатии Э. Ундена и развития им теории
шведского социализма, в 1947-1967 гг., Виллерс был секретарем Нобелевского
комитета Шведской академии — его именем подписан ряд бумаг, сопровождающих
ежегодные списки номинаций и финальные протоколы. Обычно это небольшие,
почти навязчивые приписки — автограф Виллерса мелькает даже после
списков номинированных кандидатур, т. е. он относится к отбору и составлению
перечня имен как к важному служебному заданию; реже он оставляет
комментарии к обсуждению той или иной кандидатуры. Столь подробно на его биографии
и даже на биографии его патрона мы остановились потому, что в своем рефера-
Namn att minnas: Uno Willers // Svensk tidskrift. 31.12.1958. S. 186). Статья, впрочем, написана в
изощренно-ироническом ключе; укрывшийся за инициалами автор не скрывает всеобщего
удивления головокружительным продвижением по службе в министерстве иностранных дел
обычного библиотекаря. См.: http://www.svensktidskrift.se/namn-att-minnas-uno-willers/, дата обращения
20.06.2017.
593
те о кандидатуре М.А. Шолохова У Виллерс проявляет удивительную для
скромного библиотекаря и секретаря осведомленность и знакомство с сильными
мира сего, в том числе с Н.С. Хрущевым. В 1964 г. секретарь Нобелевского
комитета У. Виллерс счел необходимым поделиться «Некоторыми указаниями <sic!>
к номинации Михаила Шолохова на премию этого года». Виллерс сообщает:
В этом году моя миссия служения комитету, состоявшая в том, чтобы
запросить у специализирующегося по литературе слависта расширенный обзор о
Шолохове, не увенчалась успехом. Двое из возможных экспертов отказались
под предлогом недостатка времени, хотя я не мог не заметить их явного
интереса. У членов Академии была возможность ознакомиться как с обзором
изданий, принадлежащим Нильсу Оке Нильссону, так и с общим заключением
Эрика Местертона. Кроме того, есть исполинское (в оригинале mastodontiska. —
T. M.) и немыслимое для чтения исследование Антона Карлгрена 1947 г. и
краткое — Нильса Оке Нильссона 1955 г., несколько утратившее актуальность из-
за его новейшего очерка. Долгие дискуссии с английскими и шведскими
славистами весной и летом этого года и поездка в Москву обновили для меня
некоторые факты и наблюдения, которые сделали возможным выполнить задачу (т. е.
написать обзор о творчестве Шолохова. — Т. М.) не специалисту.
Таким образом, легко простившись со столичной университетской
кафедрой и изумив служащих министерства иностранных дел, куда он сразу попал,
не имея нужной квалификации, на должность зав. архивом, секретарь
Нобелевского комитета Уно Виллерс взялся за дело, прежде поручавшееся именно
экспертам по национальным литературам, читающим и номинированных
писателей, и критику о них в оригинале. Объявленное, в буквальном переводе,
«нечитабельным» монографическое исследование А. Карлгрена, разобравшего
«Тихий Дон» едва ли не строка за строкой, восполняется личными
впечатлениями и впечатлениями от личных разговоров непростого библиотекаря.
Факты, согласно Виллерсу, таковы. Русский (советский) писатель
номинирован на Нобелевскую премию в 11-й раз начиная с 1947 г. (далее 1948, 1949,
1950,1955,1956, 1958; с 1961 г. номинации становятся ежегодными), «но в этом
году впервые поступило предложение от русских официальных инстанций».
Затем библиотекарь заявляет, что беседовал с Н.С. Хрущевым во время его
визита в Стокгольм — советский руководитель побывал в Швеции с
пятидневным визитом в июне 1964 г., У Виллерс пишет свою записку в сентябре и не
ведает, что через месяц советского лидера отправят на пенсию. Поговорил
библиотекарь и с «некоторыми представителями советской культуры», поскольку
интересовался «длящимися два года переговорами шведских и русских
руководителей». Побывал вездесущий У Виллерс со шведским министром
иностранных дел (после ухода на пенсию Э. Ундена этот пост занимал Торстен Нильссон)
в Москве в 1963 г., где «обсуждал издательские проекты». Переговоры,
удовлетворенно замечает Виллерс, «шли в позитивном русле», хотя русский лидер «был
утомлен и едва ли имел какие-либо интеллектуальные интересы». Шведская де-
594
легация преподнесла подарок: роскошно переплетенную фотокопию словаря
В.И. Даля издания 1863 г., хранящегося в Королевской библиотеке в Стокгольме
и испещренного пометами, дополнениями и исправлениями Льва Толстого
(кстати, замечает автор записки, работавшего в тот период над «Войной и
миром»).
Но разговор не клеился, пока Уно Виллерс не рассказал Никите Хрущеву
об издании «Пословиц русского народа» того же В.И. Даля с предисловием
М.А. Шолохова {Даль В.И. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля / Пре-
дисл. М. Шолохова, вступ. статья В. Чичерова. М., 1957). Беседа оживилась:
Хрущев принялся с жаром объяснять, какая это должна быть отличная, ценная
книга, что он ее непременно посмотрит. «Мы с Шолоховым, вероятно, не
всегда совпадаем во мнениях, но он никогда не выпустил бы ничего, что не было бы
совершенным». Публично Хрущев как-то признался, что плохо понимает
новейшую русскую литературу и что Шолохов — один из его любимых
писателей. Но что он хотел этим сказать, осталось неясным. Злободневность для
Швеции пастернаковской истории ему известна, и он оказался более
миролюбивым, чем тогдашний твердолобый ожесточенный секретарь союза
писателей. Шолохов также — во всяком случае, это следует из коммюнике русского
агентства новостей — нанес <Пастернаку> несколько болезненных ударов.
Один из советских интеллектуальных радикалов, с которым я в последние
годы мог говорить относительно свободно, по крайней мере о литературе и
книгах, как-то объяснил мне в ответ на мои расспросы, что Шолохов никогда
не читал «Доктора Живаго», а на яростные вспышки негодования его,
вероятно, спровоцировало коварство Суркова, обвинившего Пастернака в якобы
компрометации традиционных русских ценностей. Шолохову едва ли дано
подлинное понимание изысканной мощи поэзии Пастернака.
У. Виллерс замечает, между прочим, что Хрущев слишком связан с
событиями уже относительно давнего прошлого и потому его мышление далеко не так
свободно и либерально, как у «десталинизированных» советских правителей.
В русской литературе был период в 1936-1941 гг., напоминает хорошо
информированный библиотекарь, «когда ликвидировали Исаака Бабеля и Бориса
Пильняка, а Максима Горького, могучего покровителя Шолохова64, убили, но
сам Шолохов дважды в 1937 г. отказался подписать обращение ведущих
советских писателей — документ, осуждающий жертв чисток65». Далее более или ме-
64 Именно A.M. Горький организовал встречу М.А. Шолохова со Сталиным у себя на даче
в июне 1931 г., когда у автора «Тихого Дона» возникли проблемы с публикацией второго тома.
Но на Первом съезде советских писателей в докладе Горького имя Шолохова упомянуто не было;
о его фигуре и творчестве вообще на съезде не говорилось, хотя среди делегатов писатель был.
65 «Литературная газета» от 26 января, перепечатав обвинительное заключение по процессу
«антисоветского троцкистского центра», страницы с 3 по 6 заполнила выступлениями советских
писателей, клеймящих позором «разоблаченных врагов народа». Среди авторов нескольких
десятков текстов (а не единого обезличенного коллективного обращения), написанных в условиях
подлинно инквизиторских, нет имени творца «Тихого Дона». У него в этом году были другие
заботы, приковавшие его к Вешенской, он отказался от поездки в Испанию на Международный
595
нее точно Уно Виллерс излагает историю публикации «Тихого Дона» и резких
нападок марксистской критики на 2-4-ю части романа, «среди прочего, из-за
изображения главных персонажей»: «Но Шолохов оставался непреклонным»,
не изменяя эволюции главного героя и не переписывая роман в соответствии
с «шаблонами соцреализма».
Впервые в Шведской академии прозвучали факты, касающиеся личности
Шолохова, и факты эти говорили в пользу писателя: в самые страшные годы
сталинских репрессий он был, перефразируя слова его современницы, «там, где
его народ к несчастью был». Уно Виллерс старается не звучать голословно, его
источник — это беседы с советскими интеллектуалами:
Те, кто непосредственно общался с Шолоховым и полагают, что теперь могут
говорить относительно свободно, утверждают, что в 1956 г. возвращения к
первоначальному тексту потребовал сам писатель. Когда я с резким
осуждением говорил о том, что обычно цитируют из Шолохова в связи с
присуждением премии Пастернаку, по крайней мере один из моих московских друзей
уверял меня, будто это выступление было прямой фальсификацией советского
новостного агентства, АПН, от которого писатель просто не имел
возможности отказаться. Это утверждение, конечно, всего лишь выдает желаемое за
действительное — но и в нем есть доля истины, что только подтверждает
схему, по которой в том году66 разворачивались события в Советской стране.
Сформулировав столь важный тезис, в котором содержится серьезное
оправдание возможного выбора Михаила Шолохова в качестве нобелевского
лауреата, а одиозность его выступлений в 1950-е гг. удачно отретуширована
безупречностью его поведения в 1930-е, Уно Виллерс — отлично
информированный секретарь Нобелевского комитета с широкими и разнообразными
контактами в Москве — меняет тему, возвращаясь к жанру традиционного экспертного
заключения. Речь заходит о том, что Шолохова, как ни одного другого из
современных русских писателей, много и охотно переводят на иностранные языки.
Небольшое сопоставление: «Тихий Дон» переведен на 35 языков, а «Война и
мир» — на 50; на 29 языков переведена «Поднятая целина». Однако о переводах
Виллерс затеял разговор не для восхищения популярностью русского писателя,
а испытав читательское удивление при сравнении шведского перевода донской
эпопеи, осуществленного Давидом Белином, с английскими и немецкими
переводами соответствующих фрагментов. Для сравнительного анализа переводов
У Виллерс привлек своего коллегу — библиотекаря Упсальской
университетской библиотеки Стаффана Даля (Dahl; 1911-2009). С. Даль был славистом, пе-
конгресс писателей, в июне ездил в Москву, в октябре дважды письменно обращался лично к
Сталину с просьбой принять его. В годы Большого террора Шолохов не подписал ни одного
документа, который запятнал бы его имя.
66 У. Виллерс ненавязчиво соединяет в одном абзаце два факта — отказ Шолохова от правки
сталинского времени и его выступления о Пастернаке, — подчеркивая известную несвободу
советского писателя.
596
реводчиком русской художественной литературы (А. Чехова, И. Гончарова,
И. Бабеля), но главным делом своей жизни считал перевод романов Ф.
Достоевского. В 1961 г. он перевел книгу рассказов М.А. Шолохова «Лазоревая степь»
(Sjolochov M. Den azurblâ stäppen och andra noveller. Stockholm, 1961).
Стаффан Даль скрупулезно сверил «перевод Белина с русским оригиналом
и пришел к сугубо негативному результату»67. Выяснилось, что переводчик не
следовал русскому тексту точно. Так, «в первой части выразительные описания
природы, которая часто отражается в поступках персонажей, а иногда
предвещает грядущие события, были в шведском переводе порой изуродованы или
опущены, а иногда неудачно переосмыслены». Заметив, что примеров можно
привести немало, У Виллерс ограничивается только одним, сразу
позволяющим понять, что вызвало его недовольство: Д. Белин передавал прежде всего
смысл, и в содержательном отношении к его переводу трудно придраться, —
однако поэзия из текста ушла. Он зияет пропусками именно там, где в
шолоховском романе звучит ритмическая проза, отголоски народных песен —
«важнейший элемент повествования». В упрек Белину поставлено даже отступление от
авторской структуры романа — четыре части в восьми книгах: шведский
перевод состоит из пяти частей, что, разумеется, отступает от ритма оригинальной
романной архитектоники. Но зачем понадобилось это акрибическое
сопоставление перевода с оригиналом? По мысли Виллерса, оно позволяет объяснить
тот факт, что «шведские критики оценивают роман менее позитивно по
сравнению с английскими, французскими и немецкими критиками и со знатоками,
способными прочитать русский подлинник».
Следующий фрагмент очерка У Виллерса, начинающийся после
отчеркивания новым абзацем на новой странице, кажется переходом к другой теме,
относящейся к иным авторам. Композиционное искусство секретаря
Нобелевского комитета (и государственного библиотекаря) в небольшом тексте не может
не восхитить. Итак:
В то время, когда сыну хуторянина из южнорусских степей исполнилось
двадцать лет и он в духе Льва Толстого работал над своими сочинениями и в
подражание ему создавал «Войну и мир» XX века, Петер Каменцид подводил итог
своим поэтическим странствиям, Андре Жид посвящал своих
«Фальшивомонетчиков» Роже Мартен дю Гару, а Томас Манн заканчивал «Волшебную гору»68.
Молодой Михаил Шолохов был уже достаточно зрелым, чтобы заключить свой
опыт в литературную оболочку, посвятить себя целиком писательскому труду.
К своим двадцати годам он пережил многое. Сопоставление жизненных
фактов шолоховской биографии с тремя вышеперечисленными
значительнейшими событиями современной европейской литературы помогает объяснить,
67 У эксперта с тонким художественным чутьем и большого знатока русской литературы
А. Карлгрена в переводе Д. Белина нарекание вызвало только то, что шведскому переводчику для
передачи казачьего языка пришлось прибегнуть к городскому сленгу.
68 «Петер Каменцид», роман Г. Гессе, вышел в 1925 г., «Фальшивомонетчики» А. Жида и
«Волшебная гора» Томаса Манна — в 1924 г.
597
почему Шолохова обычно считают старше, — на самом деле ему нет еще и
шестидесяти лет.
У. Виллерс цитирует в переводе на шведский язык автобиографические
заметки Шолохова 1934 г.: «.. .продолжать учение не мог, так как Донская область
стала ареной ожесточенной гражданской войны». Более удачного хода и
придумать нельзя: европейский литературный модерн, изощренный эстетизм,
отточенный интеллектуализм, философские искания — и на этом фоне из
переливающихся звезд первой величины юный талант из российской глубинки
кометой врывается на литературный небосвод прямо вслед за Толстым. По
закону сопоставления — равновеликий всем названным, если не превосходящий
(сколько пережито и в какие молодые годы!). Кстати, Виллерс упоминает — и
вряд ли случайно — только лауреатов Нобелевской премии69 — и — великого
Толстого, ее главный просчет.
Далее У Виллерс замечает, что, в отличие от других известных советских
писателей, имя Шолохова даже для тех, кто интересуется Советской страной,
окружено некоторой таинственностью. Что имеется в виду? «Самый читаемый»
современный русский писатель избегает публичности и, хотя и участвует в
государственных и общественных делах, предпочитает Москве уединенную
жизнь в родной станице. Очевидно, что У. Виллерс не смог лично встретиться и
побеседовать с «самым почитаемым в СССР из ныне живущих писателей».
Публично писатель выступает не часто, «говорят, вызвало фурор его согласие летом
1963 г. принять участие — хотя, по состоянию здоровья, и частичное — в работе
Европейского союза писателей в Ленинграде70». «Его речь, — полагает У
Виллерс, — шла вразрез со мнением многих советских писателей и критиков и
стала серьезным аргументом для укрепления позиции романа в современной
литературе». Шолохов, в частности, сказал: «...лично для меня вопрос о том, "Быть
или не быть роману", не стоит, так же как перед крестьянином не может стоять
вопрос — сеять или не сеять хлеб. Вопрос может быть поставлен в такой
плоскости: как сеять и как вырастить урожай получше? Точно так же и для меня, как
для романиста, может возникнуть вопрос, как получше сделать роман, чтобы
69 Кстати, напомним, что Т. Манну Нобелевская премия была присуждена в 1929 г. за роман
1901 г. «Будденброки».
70 Международный конгресс (общеевропейское совещание) по проблемам современного
романа был созван в Ленинграде 5 августа 1963 г. Европейским сообществом писателей совместно
с Союзом писателей СССР. Среди участников были Дж. Унгаретти (президент сообщества),
Дж. Вигорелли (генеральный секретарь сообщества), Дж. Леман (вице-президент), Ж.-П. Сартр
и С. де Бовуар, Н. Саррот, А. Вильсон, У. Голдинг, Г.В. Рихтер, Г. Энценсбергер, И. Венезис, Е. Пу-
трамент, К. Калчев и др. Советских писателей представляли М. Шолохов, И. Эренбург, К. Федин,
А. Твардовский, Л. Леонов, Б. Полевой, А. Чаковский, А. Сурков, М. Бажан, Л. Соболев, Г. Марков,
А. Прокофьев, К. Воронков, Е. Евтушенко. Отговорившийся нездоровьем Шолохов через
несколько недель совершил беспримерно интенсивную поездку по странам Европы (с 30 августа по
27 сентября посетил Францию, Англию, Данию, Норвегию, Швецию, остановившись на
обратном пути на два дня в Стокгольме).
598
он с честью послужил моему народу, моим читателям»71. Очерк Уно Виллерса и
кончается большой цитатой из «προ-романной» речи М.А. Шолохова «С честью
послужить народу»72:
Мы начинаем совещание в знаменательный день. Сегодня в Москве будет
подписан Договор о запрещении ядерных испытаний. И мне думается: «Большие
политические деятели и дипломаты договорились. Неужели мы, писатели, не
договоримся, как лучше служить своим искусством человеку, делу мира? Нам
будет просто стыдно перед нашими читателями. Надо найти общий язык, и он
наверняка будет найден!» Мы, советские писатели, встречаем вас, дорогих
гостей, с открытой душой и широким русским гостеприимством.
Точка, дата, подпись. Кажется, никаких рекомендаций? Но разве несколько
раз не было повторено, что Шолохов — самый читаемый и почитаемый русский
писатель современности? Разве не был он поставлен в один ряд с крупнейшими
литературными величинами? Разве случайно были приведены слова Шолохова
о необходимости находить общий язык, разве напрасны были отсылки к
личным беседам с Хрущевым? Предположение, что шведский чиновник столь
высокого ранга, завершивший свою карьеру с таким послужным списком и с
таким количеством регалий, как Уно Виллерс, мог быть как-то «подкуплен» или
«запуган» русскими, — смехотворно. Но не менее очевидно, что русский
писатель вновь оказывался пешкой в сложной мировой многоходовке, а у скромного
библиотекаря, двадцать лет исполнявшего обязанности секретаря
Нобелевского комитета, были влиятельные патроны — на государственном уровне. Ибо
очерк Виллерса в несколько страниц, выдаваемый за экспертный отзыв
«неспециалиста», на самом деле является отлично составленной и отнюдь не
двусмысленной рекомендацией академикам не затягивать с избранием Михаила
Шолохова лауреатом Нобелевской премии.
Как видно по двум «экспертизам» с элементами текстологии (!), внутри
шведского интеллектуального сообщества не было единства во взглядах на
современный литературный процесс и место в нем советских писателей.
Воспринимать Нобелевский комитет как некое целое под обобщающим названием
«шведские академики» более чем неоправданно. Представленный крупнейшим
шведским славистом того времени очерк в «идейно-текстологическом» жанре
потребовал контрэкспертизы, выравнивающей мнение о М.А. Шолохове как о
сугубо ангажированном писателе на службе коммунистической идеологии и
выводящей на первый план его мировое значение. Когда свидетелем эпохи
71 Летопись жизни и творчества М.А. Шолохова: http://feb-web.ru/feb/sholokh/shl-abc/shl/shl-
3372.htm?cmd=2&istext=l, дата обращения 24 июля 2017 г. Между прочим, в одном из
выступлений того же 1963 г. (мы упоминали его выше в обзоре шведских газет) Шолохов посетовал, что
Нобелевскую премию присудили Бунину, а не Горькому за «Жизнь Клима Самгина», — но об
этом Виллерс предпочитает умолчать.
72 Виллерс цитирует с купюрами, приводим цитату целиком, выделив курсивом опущенный
фрагмент.
599
остаются лишь документы, трудно вообразить, как раскалялись страсти; но
даже бесстрастные архивные листочки позволяют ощутить электрические
разряды внутри Шведской академии, которая уже несколько лет — с момента
увенчания Б.Л. Пастернака в 1958 г. — находилась на передовой противостояния
двух идеологических систем, в сущности — двух непримиримых взглядов на
пути развития человечества.
Интересен не сам финальный протокол Нобелевского комитета 1964 г.,
а приложенное к нему «особое мнение» Андерса Эстерлинга. Эстерлинг,
оценивая шансы нескольких кандидатов на Нобелевскую премию и называя, в
частности, Сэмюэля Беккета (будущий нобелевский лауреат 1969 г.) и Эжена
Ионеско, обращается к слишком давно и безуспешно ожидающей премии
кандидатуре М.А. Шолохова. (В этом приложении Эстерлинг упоминает имя
К.Г. Паустовского как выдающегося русского прозаика.) Эстерлинг уверен, что
премию Шолохову неизбежно придется присудить, тем более что «его эпос о
донских казаках относится к безусловной классике XX века», и предлагает
вынести на обсуждение две кандидатуры: Сартра и Шолохова. Сартр поставлен
первым, поскольку Эстерлинг учитывает мнение других членов Нобелевского
комитета. Ж.-П. Сартр был их единственным кандидатом и стал лауреатом. Он
получил премию «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками
истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время».
Список кандидатов на Нобелевскую премию 1965 г. был составлен Уно Вил-
лерсом уже 24 января, за неделю до окончания сбора номинаций. Как уже
говорилось, кандидатура Михаила Шолохова была поддержана московскими
учеными и писателями (их запоздавшая номинация была автоматически
перенесена на следующий год) — и двумя профессорами французской литературы,
вновь Джоном Стефенсоном Спинком из Лондонского университета, а также
Андре Виалем (André Vial; 1917-1987) из университета Лиона.
Джек Спинк сопровождает выдвижение Шолохова справедливым
замечанием, что он «полностью изложил основания» для номинации писателя годом
раньше: «Я могу суммировать их, сказав, что романы Шолохова о донской
земле — не только выдающееся произведение повествовательной прозы, но также
и выразительная эпическая поэма, одушевленная огромной любовью к
человечеству и глубоким уважением человеческого достоинства».
Включившийся последним в кампанию по выдвижению М. Шолохова на
Нобелевскую премию по литературе А. Виаль — доцент, затем профессор
французской литературы в университете Лион II (1954-1975). Среди авторов,
которым он посвящал свои исследования и которых издавал, — вероятно, весь
пантеон французского XIX века, прозаики и поэты, включая их
эпистолярное наследие. Но мелькает и одно русское имя — Ivan Tourgueniev. В своем
письме-номинации лионский профессор сначала останавливается на фигуре
Ж.-П. Сартра, столь скандально отказавшегося от Нобелевской премии 1964
года. А. Виаль считает нужным предварить свою номинацию замечанием, что
600
он «не любит Сартра ни как человека, ни как мыслителя», и подчеркнуть, что
тот мог бы отказаться от премии в других выражениях, без оскорбительного
эпатажа. Эта необычная для номинации прелюдия понадобилась лионскому
профессору, так как он сомневается, что его кандидаты будут встречены с
распростертыми объятиями и, с другой стороны, смогут со спокойным
достоинством принять премию, если станут ее лауреатами.
Самому А. Виалю хотелось бы выдвинуть двух писателей, и он называет их
в порядке, отвечающем его предпочтениям. Вторым оказывается его
соотечественник Луи Арагон, «француз до мозга костей», который «благодаря своему
таланту, своему абсолютному гуманизму и непрестанному протесту,
лишенному каких бы то ни было предрассудков, являет пример чистой свободы духа».
Но кандидат номер один — «Шолохов, который является одновременно
Гомером и Толстым. Нужно было бы, конечно, по возможности посоветоваться с
ним, чтобы не вышло таких злоключений, как с Пастернаком».
На первой странице заключительного протокола Нобелевского комитета
1965 г., поставив свою подпись в соответствии с возложенными на него
обязанностями, секретарь комитета Уно Виллерс записал 10 сентября 1965 г.: «На
своей сессии 9 сентября 1965 г. Нобелевский комитет Шведской академии
единогласно постановил в качестве главного кандидата на Нобелевскую
премию этого года предложить Михаила Шолохова». А. Эстерлинг напоминает, что
годом раньше кандидатура М. Шолохова была поставлена сразу вслед за
Сартром, и постулирует:
В прошлом году Шолохова обсуждали как ближайшего кандидата <на
премии» наряду с Сартром. Думаю, что и в этом году его имя по-прежнему
актуально, и отсылаю к мнению прошлого года. Его романная серия (sic! —
T. M.) — это классический шедевр <klassiskt mästerverk>, который сохраняет
блеск при каждом перечитывании, и эта народная эпопея остается
бесспорным основанием для присуждения премии — хотя и весьма запоздалого.
Сейчас Шолохову 60 лет. Представляется, что провозглашение его имени позволит
исправить некоторые прошлые упущения в отношении к русской литературе.
Упущение, собственно, состояло лишь в том, что слова о «классическом
шедевре» могли бы быть с неменьшей справедливостью произнесены в те
послевоенные годы, когда Нобелевскую премию вручали одному за другим
представителям литературы стран — победительниц во Второй мировой войне. Участник
войны, Михаил Шолохов с полным правом мог претендовать на премию уже
тогда.
Но только в 1965 г. Нобелевская премия по литературе была присуждена
Михаилу Шолохову «за художественную силу и цельность эпоса о донском
казачестве в переломное для России время».
601
Глава 13
Анна Андреевна
АХМАТОВА
«Ходили упорные слухи, что над Анной Андреевной маячит Нобелевская
премия. Об этом говорили все. Казалось, что это абсолютно достоверно, и даже
сама скептически настроенная Анна Андреевна чуть-чуть стала верить в такую
возможность» [Гитович 1991: 506].
Роман Тименчик, автор наиболее авторитетного биографического
исследования об A.A. Ахматовой (1889-1966) в последнее десятилетие ее жизни
[Тименчик 2014], опирается на исчерпывающее, вероятно, количество источников,
сообщающих слухи о выдвижении поэтессы на прославленную премию и
отразивших ее реакцию и ожидания. Главное имя, которое фигурирует в
мемуарах и переписке, — Эрик Местертон (Mesterton; 1903-2004), шведский писатель,
критик, переводчик, библиотекарь. Уроженец Упсалы, он изучал в Упсальском
университете англистику и скандинавистику, историю литературы и
славистику — как видим, эта дисциплина стоит на последнем месте среди его
первоначальных интересов. С 1949 г. его основная деятельность была связана с Гёте-
боргской городской библиотекой. В 1960-е гг. он руководил отделом иностранной
литературы, ведал закупкой книг, стал инициатором новаторского — полвека
назад — «звукового архива». Весной 1958 г., еще до получения Борисом
Пастернаком Нобелевской премии по литературе, он побывал в Москве и сделал
аудиозапись. В 1961 г. Э. Местертон посетил Ленинград, на сей раз — чтобы
записать голос Анны Ахматовой, читающей свои стихи.
Э. Местертон был популяризатором шведской литературы на английском
языке (в качестве преподавателя в университетах Лондона и Кембриджа в
довоенные годы и в качестве переводчика), позже занялся переводом английских
авторов на шведский язык, от Томаса Элиота (нобелевского лауреата 1948 г.)
до шекспировского «Гамлета» по заказу стокгольмского Стадстеатерна в 1967 г.
(в соавторстве с Э. Линдегреном). Но если английская литература была
профессиональным делом Э. Местертона, то к русской литературе, точнее, к русской
поэзии он питал любительский интерес. В старших классах гимназии он брал
частные уроки русского языка, затем продолжал свои занятия в университете и
даже оказался среди тех студентов, которые посетили в 1928 г. Советский Союз
в составе первой социалистической молодежной делегации (он был включен в
нее именно за знание языка). В зрелые годы он совершенствует свои знания в
русском языке, обратившись к творчеству Анны Ахматовой, публикует два
602
больших газетных эссе о ее поэзии и прежде всего о «Поэме без героя» и
переводит (совместно с Эббой Линдквист) шесть стихотворений русской поэтессы.
Затем последовали эссе о никому еще не ведомом Иосифе Бродском и перевод
его стихотворений, перевод для постановки в Гётеборге «Самоубийцы» Н.
Эрдмана, переводы из Велимира Хлебникова. Местертон переводил не только с
русского — так, в 1965 г. он перевел стихи В. Шимборской, нобелевского лауреата
1996 года... Одним из первых в Европе в 1965 г. он обратился к изучению работ
М.М. Бахтина, переводил с английского труды по семиотике и выступал как
теоретик поэтического перевода. В 1966 г. ему была присуждена премия
Шведской академии в области перевода, в 1974 г. — премия Литературного фонда
Швеции1.
«Дагенс нюхетер», представляя Э. Местертона на своих страницах,
утверждала, что «он играет большую роль в нашей литературе как вдохновитель и
инициатор» ее процессов и, хотя он «редко появляется на публике», многие
современные шведские поэты именно ему обязаны возникшим у них интересом к
поэтическому переводу. «В последнее время его захватила русская литература
по обе стороны октябрьской революции» (DN, 1.04.1962, s. 4). Так что «швед»,
как его именовала Анна Андреевна, — в европейских языках грамматика
требует в таких случаях неопределенного артикля, то есть «некий», — был прекрасно
известен в шведском литературном мире, в том числе и как популяризатор
русской поэзии на свейских берегах.
«Летом 1962 года еще раз появился Эрик Местертон», — сообщает Р. Тимен-
чик, опираясь на свидетельство мемуаристки Е.М. Клебановой: «К A.A.
приезжал представитель <Ш>ведской академии и сообщил ей, что она кандидатка на
получение Нобелевской премии» [Тименчик 2014: 260]. Радость от этого
известия в ахматовском близком кругу, робкие надежды — все-таки «мировая
слава» — простодушно выдают желаемое за едва ли не осуществленное. В апреле
этого года «Дагенс нюхетер» опубликовала большую статью кандидата
филологии Мод Арвидсон (Maud Arvidson) «Стихи из Санкт-Петербурга»,
целиком посвященную Анне Ахматовой, проиллюстрированную портретом кисти
Н. Альтмана и с приложением стихотворения «Память солнца» (1911),
переведенного на шведский язык автором статьи (DN, 9.04.1962). Д. Кленовский2
создает невообразимый сюжет из полунамеков: «Мне писали из Швеции3, что
1 Сведения об Эрике Местертоне почерпнуты нами из биографического очерка Сверкера
Йоранссона (Sverker Göransson), размещенного на электронном портале «Svenskt översättarlexikon»
(«Шведский словарь переводчиков»), см.: http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Erik_Mesterton,
дата обращения 13.05.2017.
2 Кленовский (Крачковский) Д.И. (1893-1976) — русский поэт, журналист. Начал
печататься до революции; до Великой Отечественной войны жил в Харькове, работал переводчиком.
С 1942 г. в эмиграции, жил в Германии, издал 11 поэтических сборников.
3 Корреспондентом его был С.А. Риттенберг (Rittenberg), скандинавский славист родом из
России. 12 марта 1963 г. он прочел в Стокгольме публичную лекцию «К 50-летию литературной
деятельности великого поэта» (DN, 12.03.1963, s. 13).
603
проф. Эрик Местертон усиленно хлопотал о присуждении Ахматовой
Нобелевской премии. Он дважды к ней ездил в Ленинград, переводил ее стихи и
собирается издать их» [Тименчик 2014: 268]. Фантасмагорические были времена,
если одно только намерение опубликовать стихи в Швеции, высказанное
отнюдь не профессором и тем более не академиком, почти прямо приравнивалось
к получению «Нобеля».
Разумеется, нобелевская закулиса была почти непроницаемой,
процедура — неизвестной и малопонятной. Сама Анна Андреевна 12 июля 1962 г.
записала: «Приходил швед. <...> Прощаясь, сказал: "Вам скажет сын Пановой"».
Дело было в Комарове, и через два дня Ахматова отправилась на ужин к А.И. и
С.С. Гитовичам, где встретила Б.Б. Бахтина, сына В.Ф. Пановой, — востоковеда-
синолога, писателя, драматурга, философа. «Выпили за меня, — продолжает
Ахматова, — и гость сказал: "Эрик Местертон просил вам передать, что вы
выставлены в этом году на Нобелевскую премию"» [Черных 2008: 582].
Но Э. Местертон — «швед», «поразивший Ахматову», — много позже
дезавуировал этот рассказ как выдумку. В 1990 г. он утверждал:
В разговоре с историком литературы, который проживал в том же поселке, что
Α., я сказал, ничего не имея в виду: «Было бы хорошо, если бы A.A. получила
Нобелевскую премию?» Ответ был: «Это было бы очень хорошо». Из этого
маленького перышка выросла большая курица. Что касается моей роли в
нобелевском предприятии, то выше цитированные слова — это единственная
реальность. Все остальное — фантазии [Тименчик 2005: 535]4.
Некоторое лукавство, впрочем, есть и в этой отчужденности от ахматов-
ской краткой нобелиады.
Как свидетельствует достоверный источник — архив Нобелевского
комитета, хранящийся в Шведской академии, — Анна Ахматова первый раз оказалась
в списке писателей, выдвинутых на премию, в 1965 г. Но в архиве отложился
небольшой текст, датированный 1964 г. Обзор «Русские и польские писатели,
могущие иметь интерес для Нобелевского комитета», составил именно Эрик
Местертон. Из трех машинописных страниц одна посвящена A.A. Ахматовой.
Из русских писателей упомянут Шолохов, польских имен больше — Мария
Домбровская, Витольд Гомбрович и Юлиан Пшибось.
Начинается этот обзор так: «В современной русской литературе, по моему
мнению, два имени заслуживают упоминания в связи с Нобелевской премией.
Это Анна Ахматова и Михаил Шолохов» (оба имени подчеркнуты). Какая бы
критика ни раздавалась в адрес Шолохова, эпатирующего Запад заявлениями в
ортодоксально-партийном духе, автора «Тихого Дона» «нельзя игнорировать,
если присуждать высшую литературную награду именно русскому. Но
возможность преодолеть эту трудность все же есть: разделить премию».
4 В издание [Тименчик 2014] это признание включено не было.
604
В искренности Э. Местертона трудно сомневаться, его размышления звучат
удивительно неангажированно даже после «кризиса», вызванного
присуждением Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку и обозначившего, как до сих пор
представляется, веху в идеологическом, даже духовном расслоении общества,
сначала советского, позже — российского. Однако переводчику русской и
польской поэзии брожение в умах европейских интеллектуалов и раскол советской
интеллигенции не кажутся фатальными, все еще поправимо. Писатели
огромного дарования, гордость страны оказались разобщены и натравлены друг на
друга... Но ведь не все так просто и однозначно: А. Суркова считают
организатором травли Б. Пастернака, Ахматова же с ним в самых товарищеских
отношениях, и он хлопочет об издании ее избранных стихов. Поэтому Эрик Местертон
и предлагает считать, что речь должна идти не о скандале и не об «истории»,
а именно о кризисе внутри русской литературы. Идея «разделить» награду была
не нова, в предвоенные 1930-е гг. «примирить» таким образом расколотую
революцией и Гражданской войной русскую литературу пытались и Р. Роллан, и
С. Агрель. Это была хорошая, благоприятная и даже выгодная для Советской
страны идея — разделяя славу и деньги, соединять писателей, объединять
общество. Но воплотить эту идею Нобелевский комитет по литературе не
отважился ни разу.
Поскольку Шолохов не нуждается в представлении, первому номеру в
обзоре Э. Местертона уделено значительно больше места. Анне Андреевне
Ахматовой, которую Э. Местертон предлагает в качестве русского солауреата
Нобелевской премии по литературе и которая в тот год отпраздновала 75-летний
юбилей, в родной стране отведено «особое положение»:
...ее стихи причислены к классическим и пользуются широкой
популярностью, тогда как сама поэтесса живет в полном уединении вне
литературно-политических споров советской общественности. Ее любовная лирика, берущая
начало в 1909 г., принадлежит к лучшим образцам этой великой традиции,
восходящей к Пушкину. Но ее творчество не ограничено только этой лирикой.
Опыт, обретенный в революции и войнах, обнаруживает себя в некоторых
глубоко гражданских (по терминологии шведского критика —
«ангажированных». — Т. М.) стихотворениях из эпохи 1914-1917 гг. и в двух произведениях,
недавно опубликованных за пределами России. Одно из них — это большая
лирико-эпическая «Поэма без героя», изданная в США в 1960 г.5 <...>.
Другое — поэтический «Реквием», вышедший в Мюнхене в 1963 г., но
созданный в эпоху ежовского террора, во время больших чисток 1930-х гг. В обоих
случаях есть указания, что тексты были напечатаны без знания и согласия
автора. Ахматову не подвергли репрессиям, от чего прежде страдали писатели,
чьи сочинения, официально не разрешенные в Советском Союзе,
публиковались на Западе. Пройдет, наверное, немало времени, прежде чем фигура Ахма-
5 Э. Местертон указывает, что откликнулся на выход этой поэмы рецензией в газете «Гёте-
боргс хандельстиднинген» (Göteborgs handelstidningen, 5.12.1961).
605
товой как свидетеля истории предстанет во всей полноте: значительная часть
написанного ею после 1918 г. остается неопубликованной.
Однажды Анна Ахматова под сильным давлением написала стихотворное
приношение Сталину, но в остальном она всегда страдала от партийных
директив. Она настоящий патриот; сама она, очевидно, не считала, что
противостоит режиму, а после оттепели ее стихи начали широко публиковать в
ведущих журналах. Любопытно, что наиболее яростный противник Пастернака —
Алексей Сурков, проводивший кампанию 1958 г. в качестве секретаря Союза
писателей, — большой поклонник ахматовской лирики. В 1958 г. он выпустил
книжечку ее избранных стихов, а затем и более полное их собрание в 1961 г.,
снабдив его восторженным послесловием. Когда пару лет назад Шолохов
беседовал с гётеборгскими студентами, он весьма уважительно отозвался о стихах
Ахматовой.
Как лирик, Ахматова, по моему мнению, равноценна таким поэтам, как
<Хуан Рамон> Хименес, <Сальваторе> Квазимодо и <Йоргос> Сеферис.
Разделив премию между Шолоховым и Ахматовой, Академия отдала бы дань
традициям русской культуры, чьим последним крупным представителем является
поэтесса, и одновременно обеспечила бы признание ведущему писателю новой
советской литературы.
Читая это предложение, невольно поражаешься, как неизменно наивны
бывают интеллектуалы в своем чистом стремлении увенчать подлинные
литературные свершения. Если бы Шведская академия ставила себе цель присудить
награду достойнейшему писателю и при этом отметить различные
эстетические тенденции в русско-советской литературе, то премию уже в первые
послевоенные годы можно было разделить между Пастернаком и Шолоховым,
избежав громких политико-идеологических скандалов с далеко идущими
последствиями. Пожелание Альфреда Нобеля было бы воплощено в полной мере
через примирение творческих личностей, партийных и общественных интересов,
народов и культур. Но основоположник премии и сам был удивительно наивен,
мечтая поощрить «идеальное направление» и устремить по нему весь мир.
Присуждая премию Пастернаку, меньше всего думали о его творчестве,
художественных достижениях, о его стихах и прозе; кто задумывался, что
переживания приводят поэтов к «полной гибели всерьез»: ведь в сражениях гибнут
миллионы, «что тот солдат, что этот», по выражению Льва Копелева (давшего в
переводе такое название пьесе Бертольта Брехта «Mann ist Mann»). Достойны
премии были и Пастернак с Ахматовой, изумительные лирики советской эпохи,
и Шолохов, непостижимый автор «черного солнца», убежденный коммунист,
оставивший своего героя одиноким на распутье между белым и красным
Доном. .. И охотник за бабочками, автор «Лолиты»... Но изысканная прелесть
русской поэтической речи, грубая мощь или изощренная игра русской прозы —
материал для истории русской литературы XX в., размышлений и споров
исследователей. Русские авторы в истории послевоенной Нобелевской премии по
литературе оказались лишь фигурами в очередной политической рокировке
эпохи холодной войны.
606
Список кандидатов на Нобелевскую премию в 1965 г. впервые был
составлен по алфавиту, а не по мере поступления предложений. Анна Ахматова
открывает этот список. Ее выдвинули трое профессоров, двое американских и один
(точнее, одна) из Франции. Однако в отложившемся в архиве списке
номинаций назван автор только одного обращения в Стокгольм — Роман Якобсон.
Руководитель кафедры славянских языков Колумбийского университета
(Нью-Йорк) Уильям Эдвард Харкинс (William E. Harkins; 1921-2014) выражает
уверенность, что «вся необходимая информация» о выдвинутом на премию
авторе «доступна Комитету», но если нет, то он «будет счастлив снабдить его
всем необходимым материалом». Вслед за этим нью-йоркский славист
выражает озабоченность, по-прежнему ли действительна прошлогодняя номинация
на премию польской писательницы Марии Домбровской, и изъявляет горячее
желание присоединиться к выдвижению именно этой кандидатуры.
Софи Лаффит6, специалист по русской поэзии, автор работ об А.
Григорьеве, А. Блоке, С. Есенине, написала кратко, но не поверхностно, именно в
ипостаси специалиста «по русской литературе и цивилизации», как она себя
аттестовала. Письмо, написанное по-французски синими чернилами на обеих сторонах
двух блокнотных листочков с грифом «Faculté des Lettres et Sciences humaines»
Сорбонны, начинается с извинения за «поздний ответ»: С. Лаффит была больна
и не сразу откликнулась на призыв Шведской академии активнее выдвигать
писателей на Нобелевскую премию. Однако она успела, ее номинация датирована
29 января 1965 г. и содержит «единственное великое имя — поэтессы Анны
Ахматовой» (имя подчеркнуто), «величайшей женщины-поэта в русской
литературе».
С формальной точки зрения, она — классик, с точки зрения содержательной,
она пишет на самые главные темы — о любви, о родине, о смерти. В первую
очередь, это великие и вневременные темы поэзии. Ясность и выразительность
стихотворений Ахматовой превращает их в драматические миниатюры,
живые, реалистические, лаконичные и наглядные.
Стихи родившейся в эпоху символизма Ахматовой почти не несут на себе
символистского отпечатка. Она целиком и полностью принадлежит
классической традиции: чутко отзывается на общие вопросы и погружена в заботы о
деталях, не стремится к универсальности, но, напротив, возвращает видимый
мир к его истокам и вместо поиска синтеза — превосходна в анализе.
Если мир Ахматовой предельно точен — балтийские дюны, набережные
Невы, столетние деревья в парках, «томных и тенистых» <«Павловск», 1915>,
деревня посреди России, где она оплакивает свое истекающее кровью
сердце, — то и ее Бог не имеет ничего общего с многоликими и туманными
божественными универсалиями символистов. Это тот же Бог, которому, как она сама,
молятся крестьяне, это те же церкви с их обрядами, та же вера в загробный мир
6 Laffitte Sophie (С.Г. Гликман-Тумаркина; 1905-1979) — профессор факультета филологии и
гуманитарных наук Сорбонны (Париж).
607
и жизнь вечную; этот Бог, так же как и она сама, непостижимо и загадочно
связан с ее родной землей и с ее народом.
Добавлю, что госпожа Ахматова молится за всю Россию (которую она
никогда не хотела покидать).
В Швеции есть замечательный специалист по русской поэзии, который
лично знаком с Ахматовой и собирает все ее произведения. Это г-н Эрик Мес-
тертон из библиотеки Гётеборгского университета.
Наконец, Роман Якобсон, профессор славистики и общего языкознания
Гарвардского университета и профессор Массачусетского технологического
института, пишет в ином тоне, даже, можно сказать, в ином жанре: он не робкий
проситель за скромную поэтессу, он не смотрит снизу на недосягаемую
вершину Нобелевской премии — напротив, он приглашает шведских академиков
совершить восхождение к вершинам русской поэзии. Якобсон пренебрежительно
отмахивается от возможных оппонентов, предлагая то главное, что и пытается
отыскать Нобелевский комитет в современной литературе: идеал.
Найдется немного знатоков, исследователей и любителей русской поэзии, кто
не согласится с моим глубоким убеждением, что Ахматова — один из
величайших русских поэтов последних двух столетий. Она принадлежит, как один
из самых выдающихся и творческих представителей, к последнему из двух
имевших всемирное значение, кульминационных периодов в развитии
русской поэзии.
Именно так и следует писать номинации, утверждая, что выдвинутый
кандидат — один из величайших поэтов за два века существования русской
поэзии. Про Михаила Шолохова, например, руководители ИМЛИ им. Горького АН
СССР сочли необходимым написать, что он — депутат Верховного Совета. Как
будто это релевантно — для шведских академиков или для истории мировой
литературы... В номинации P.O. Якобсона содержатся и аргументы,
подтверждающие его высокую оценку русской поэтессы sub specie aeternitatis.
Почти шесть десятилетий эта теперь уже 75-летняя поэтесса не перестает
удивлять читателей вечно новыми замечательными достижениями в области
стихотворной формы, образности и на редкость разнопланового лиризма.
Трагический опыт последних пятидесяти лет отметил личность Ахматовой и ее
стихи той печатью гуманизма и героизма, которые позволяют ей открыто,
глубоко и бесстрашно отвечать на все русские и общемировые потрясения нашего
века. Ее стихотворения тридцатых годов, военного времени и послевоенного
периода, написанные кровью ее жизни и одновременно с точки зрения
вечности7 останутся среди наиболее трогательных и непреходящих документов
нашей эпохи.
Венчает эту номинацию замечание, которое не менее важно, чем ледяной
космос вечности:
7 Процитированную выше латынь этого определения номинатор выделяет подчеркиванием.
608
Стихами Ахматовой восхищаются и старшие, и младшие поколения русских
поэтов и читателей.
С утверждения, неоспоримого полвека спустя, начинается и экспертный
отзыв об Анне Андреевне Ахматовой, написанный Эриком Местертоном:
Не вызывает возражений, что Анне Ахматовой — после ухода из жизни в
1941 г. Марины Цветаевой — принадлежит первое место среди писательниц
в истории русской литературы.
Это весьма краткий (8 страниц машинописи), но весьма емкий текст.
Биографии поэтессы в нем отведен небольшой абзац: родилась в 1889 г. в Одессе,
детство и юность провела в Царском Селе, вышла замуж за поэта Николая
Гумилева — расстрелянного в 1921 г. Во время войны была эвакуирована из
Ленинграда, за исключением этого периода всю жизнь прожила в «городе на
Неве».
Далее следует обзор творческой биографии, начинающейся сборниками
стихов «Вечер» (1912) и «Четки» (1914) — их читатели «впервые услышали
поэтический голос женщины, которая на родном языке и совершенно
естественным тоном говорила о любви и о разочаровании; она была как дома в
повседневности и вместе с тем пребывала в плену жгучего психологического
реализма». Затем последовали новые сборники лирики: «Белая стая» (1917),
«Подорожник» (1921), «Anno domini» (1922). Одновременно, как замечает
эксперт, в 1923 и в 1925 гг. «вышло два монографических исследования о ее
творчестве, принадлежащие двум наиболее известным представителям русского
формализма, Борису Эйхенбауму < [Эйхенбаум 1923]> и В.В. Виноградову <
[Виноградов 1925]>». Сборник стихов, анонсированный в 1929 г., не вышел из
печати: «к концу десятилетия правления Сталина культурный климат слишком
ужесточился, чтобы продолжать подобные публикации». Только в 1940 г. смог
появиться новый том, названный «Из шести книг», куда вошли избранные
стихи из первых книг и новые стихотворения8. В Ташкенте, где поэтесса жила в
эвакуации, вышел еще один томик, «Избранное» (1943). Автор экспертного
очерка замечает, что «пережитые в Ленинграде испытания — начало войны,
затем и блокада города» — заставили поэтессу «солидаризоваться с советской
властью и написать патриотические стихи, направленные против Гитлера».
Следующее испытание, уже после войны, обрушилось на Ахматову со
стороны именно советской власти. Эрик Местертон называет «буллой» жданов-
ское постановление 1946 г., после которого поэзия Ахматовой «смогла вновь
появиться на советском книжном рынке» лишь в 1958 г. «в виде тоненькой
книжечки» «Стихотворения», а в 1961 г. (ошибочно указан 1962) вышел «значитель-
8 С 1925 г. стихи А. Ахматовой перестают публиковаться также в периодике. Шестая книга,
фрагменты которой удалось включить в предвоенное издание, — это рукописный «Тростник».
Сборник избранных стихов, не имевший авторского названия, не был и составлен автором;
неизвестно, кто и по какому принципу отобрал предназначенные для печати стихотворения.
609
но более репрезентативный сборник» «Стихотворения 1909-1960»,
напечатанный тиражом в 50 тысяч экземпляров и изящно изданный. Замечательно, что
добро на выход двух последних книг было получено от Алексея Суркова,
тогдашнего секретаря Союза писателей, чье имя после присуждения Борису
Пастернаку Нобелевской премии мир узнал почти так же хорошо благодаря его
беспримерному поведению в травле автора «Доктора Живаго». В то же время
стихи Анны Ахматовой начинают публиковаться на страницах крупнейших
советских газет, что фактически означало ее реабилитацию. Дальнейшие
колебания несколько раз изменявшегося литературного климата уже не могли
значительно повлиять на обретенное писательницей положение. Эрик Местертон
сообщает, что в ближайшее время будет издан новый том сочинений Ахматовой
и, хорошо сознавая, что его состав должны утверждать «ответственные
органы», надеется на включение в этот том и тех произведений, которые «до сих пор
были опубликованы только на Западе».
Оптимизм шведского литературоведа был преждевременным: все
последующие тома сочинений A.A. Ахматовой оказались посмертными, увидев свет
только несколько лет спустя. Л.К. Чуковская весной 1965 г. обрадовала
Ахматову, что «в перспективном плане Госиздата красуется ее трехтомник. — "Знаю, на
1967 год. Это уже не для меня. Это уже по ту сторону"» [Черных 2008: 681]. Из
произведений, увидевших свет на Западе, нобелевский эксперт называет
«Поэму без героя» (вошедшую в альманах «Воздушные пути», № 1-2, Нью-Йорк,
1960-1961) и «стихотворный цикл» «Реквием» (Мюнхен, 19639). Кроме того,
эксперт упоминает о переводах, осуществленных поэтессой с различных
иностранных языков, замечая, что стихотворные переводы долгие годы, пока
собственное творчество Ахматовой было под запретом, оставались для нее
единственным средством заработка. Не забыты также литературоведческие штудии
поэтессы, ее работы о Пушкине, «опубликованные в журналах».
Э. Местертон считает небесполезным упомянуть переводы стихов
Ахматовой на иностранные языки, в том числе на шведский (восемь стихотворений в
переводе Эббы Линдквист)10; половину третьей страницы экспертного очерка
9 Э. Местертон называет первое издание поэмы (в СССР она была опубликована впервые
в 1987 г.); дата создания «Реквиема» — 1935-1940 гг.
10 Эбба Линдквист имела соавтора — самого Эрика Местертона, опустившего собственное
имя из скромности. Переводы стихотворений «В Царском Селе», «Как белый камень в глубине
колодца», «Лотова жена», «Клеопатра», «Когда человек умирает», «Наяву», «Таинственной
невстречи», «Пусть кто-то еще отдыхает на юге...» были опубликованы в «Литературном журнале
<издательства> Боньер» (Atta dikter. Tolkn. Ebba Lindqvist och Erik Mesterton // Bonniers litterära
magasin. 1963. 32. S. 350-355). «Стихи русской поэтессы» были названы в рецензии «Свенска даг-
бладет» «крупной жемчужиной», а переводчики снискали немалые похвалы; «Пусть кто-то еще
отдыхает на юге...» было процитировано полностью (SD, 17.06.1963, s. 5). От внимания эксперта
ускользнули (или он не счел их релевантными) другие переводы отдельных стихов Ахматовой на
шведский язык, рассеянные в сборниках и газетах. Рафаэль Линдквист сначала опубликовал в
своем переводе одно стихотворение Анны Горенко (sic!) — «Чем хуже этот век
предшествовавших? Разве...» (Lindqvist R. Ur Rysslands sang. Helsingfors, 1936. S. 132), десять лет спустя еще два
610
занимает небольшая библиография («писательница лучше всего представлена
во французских переводах», уточняет эксперт). Но самой «богатой подборкой
коротких стихотворений (более пятидесяти)» стало итальянское издание
«Поэзия А. Ахматовой» — с параллельными текстами, в переложении Раисы Наль-
ди и под редакцией Этторе Ло Гатто [Achmatova 1962]п. Предисловие Ло Гатто,
«длинное и основательное», является, по мнению эксперта Нобелевского
комитета, «наиболее подробным рассмотрением Ахматовой» на Западе (в оригинале
«на одном из западноевропейских языков»). По-английски к моменту
выдвижения Анны Ахматовой на Нобелевскую премию — через год ее не станет — не
оказалось ни одного отдельного издания, о ее творчестве можно было
составить представление лишь по разрозненным переводам (например, включенным
Д.П. Святополк-Мирским в его «прославленную» «Историю русской
литературы» [Mirsky 1949]12). Без библиографических отсылок упомянуты «весьма
хорошие» переводы Франсес Корнфорд (Frances Cornford), которые эксперту «давно
уже не попадались». В «книгу русской поэзии» издательства «Пингвин» под
редакцией Д. Оболенского [The Penguin book of Russian verse 1962] оказались
включенными несколько (12) стихотворений Ахматовой в «прозаическом
переложении» (хороша, заметим в скобках, «поэзия»!). Наконец, на немецком языке
отмечено еще десять стихотворений, вошедших в антологию «Новая русская
лирика» (Neue russische Lyrik. Hrsg. und übersetzt von Johannes von Guenther.
Frankfurt/Main, 1960). Очевидно, что самые смелые интеллектуалы и тонкие
ценители поэзии по таким крохам на европейских языках не могли составить
собственного верного представления о номинированной на премию русской
поэтессе13.
Следующий вслед за тем обзор творческого пути Анны Ахматовой не несет
никакой новизны; приведем только те суждения, которые интересны с точки
зрения восприятия поэтессы на Западе. Заметив, что символизм в юные годы
Ахматовой уже сдавал свои позиции и не повлиял на начинающую поэтессу,
Э. Местертон пытается охарактеризовать акмеизм, к которому она примкнула,
(«Тебе покорной? Ты сошел с ума!» и «Пусть голоса органа грянут» (Kontakt (Helsingfors), 1946, 1,
s. 17) и вскоре прибавил к ним в книге избранных стихов «современных русских поэтов» «Под
красным небом» еще 10 стихотворений (Under rod himmel. Nyryska dikter i urval. 2. uppl. Stockholm,
1947, s. 149-157). Мод Арвидсон перевела для «Дагенс нюхетер» стихотворение «Память о солнце
в сердце слабеет» (DN, 9.04.1962).
11 В тот же год на итальянском появился и другой поэтический сборник Ахматовой:
Achmatova Anna. Poesie. Intr. e trad, di В. Carnevali. Parma, 1962. 354 р. А самое первое издание стихов
русской поэтессы в итальянском переводе вышло десятилетием раньше: Achmatova Anna. Poesie.
A cura di D.D. Di Sarra. Firenze, 1951. 167 p.
12 Размещено два перевода: «Настоящую нежность не спутаешь» (<Наталии> Даддингтон) и
«Со дня Купальницы-Аграфены» — самого Д.П. Мирского.
13 В новейшей «Библиографии шведских переводов русской художественной литературы»,
составленной Хансом Окерстрёмом через полвека после номинации поэтессы на Нобелевскую
премию, переводы стихотворений Анны Ахматовой на шведский язык приведены на десяти
страницах, это весьма внушительный список [Akerström 2015: 3-12].
611
поскольку его адептом был Гумилев, «ее муж». Если «идеалы стиля» были у
акмеизма иными, чем у символизма — который он все-таки продолжал, — то он
имеет «временные точки соприкосновения с англосаксонским имажинизмом,
главным вдохновителем которого был Эзра Паунд». Подобно ему и русские
поэты-акмеисты «противопоставляли Верлену — <Теофиля> Готье,
расплывчатой музыке слов — четкость образов, точность выражения». Ранние стихи
Ахматовой отмечены «экономностью и конкретностью языка», они представляют
собой «драмы в миниатюре»; средства, к которым она часто прибегает, Т. Элиот
называл «техникой сюрприза». Первую книгу Ахматовой, полагает Э.
Местертон, можно читать как дневник, в котором бесконечно «варьируется любовная
тема с драматической развязкой». Но самой главной отличительной чертой
молодой поэтессы было «сопряжение дерзкой оригинальности со строгой,
сдержанной классической формой, которая своей ясностью и уравновешенностью
наследует Пушкину».
Репертуар Ахматовой не ограничен сугубо лирической тематикой,
всемирные катастрофы не обходят ее творчество, а война и революция глубоко
затронули некоторые ее поэтические произведения 1914-1917 гг. Новый
«патетический тон» зазвучал в послереволюционных стихах, например, в «Лотовой жене»
(1924), где «раскрывается ее собственная судьба после революции, ее
трагическое сродство с прошлым, ее верность своему жизненному опыту». В стихах
Ахматовой, продолжает Местертон, появляется «высота — то, что возвышает
их над бушующей толпой, что отделяет их ото всей литературы, вдохновленной
политикой». Особой высоты поэтесса достигает в «Реквиеме», который, «что
явствует из названия <!>, не мог быть опубликован в Советской стране».
Очевидно, что в середине 1960-х гг. обстоятельства написания поэмы, историко-
политическая ситуация в СССР настолько хорошо известны в мире, что нужно
всего несколько биографических штрихов. «Реквием» — это «потрясающий
человеческий документ, рядом с ним совестно думать о слоге; но он написан с той
же объективностью и точностью, что и ее ранние стихи». Тема «скорбящей
матери» (mater dolorosa) изложена в таких словах, в которых могла бы рассказать
о своем горе каждая скорбящая ленинградская мать, у каждой перед глазами
стоят те же картины, и «этим достигается подлинная надындивидуальное™,
как будто плачет сам народ».
«Настоящие перлы», сообщает далее Местертон, можно найти среди стихов
Ахматовой, опубликованных в газетах. Каждый пищущий об иностранной
поэзии стремится найти ей соответствие в родных образах. Для Эрика Местерто-
на такой параллелью оказывается стихотворение Юхана Людвига Рунеберга14
14 Runeberg Johan Ludvig (1804-1877) — финский поэт шведского происхождения; несмотря
на то, что писал по-шведски, его стихи стали частью финского национального эпоса.
«Финляндский Пушкин» (П.А. Плетнев) много занимался переводами, в том числе из русских поэтов; его
самого на русский язык переводили А. Блок (в частности, «Наш край» — национальный гимн
Финляндии) и В. Брюсов. После кончины писателя Александр II объявил его дом национальным
612
«Последний час» (Den enda stunden). Впрочем, параллелизма этого эксперт
никак не развивает, сообщив уже в следующей фразе, что ему «осталось назвать
произведение больших пропорций» (sic!) — «Поэму без героя»: сочинение, «до
сих пор еще полностью не опубликованное, на протяжении двух десятилетий
было ахматовским "work in progress"». Начатое в 1940 г. и в первой версии
завершенное в 1943 г., эта поэма «все еще не окончена, хотя и была напечатана в
США в 1960-1961 г.». «Писательница объяснила мне во время моего визита к
ней в Ленинграде в 1962 г., — делится Э. Местертон свидетельством из первых
уст, — что только что завершила <поэму>, и показала мне последние вставки.
Тогда я смог лишь мельком взглянуть на них, и мое понимание поэмы основано
на опубликованном тексте».
Указав, что «Поэма без героя» в жанровом отношении имеет в русской
литературе блестящие образцы в романтических поэмах «пушкинско-байрониче-
ского стиля», Э. Местертон высказывает предположение, что Ахматова могла
ориентироваться и на «Ярмарку тщеславия» У. Теккерея, жанровое определение
которой — «роман без героя»15. В этом предположении есть своего рода «гендер-
ный» аспект: это роман без героя во всех смыслах слова, но это, безусловно,
роман с героиней. Романтическая поэма, напоминает Эрик Местертон; но ведь
главное в романтической поэме — добавим от себя — именно герой.
Отталкиваясь от жанровых возможностей байронических поэм, Пушкин уже в своих
южных поэмах перенес акцент с героя на героиню: несмотря на название,
подлинным героем «Кавказского пленника» оказывается черкешенка, Земфира
сильнее Алеко («Цыганы»), Заремой заострен — буквально! — сюжет
«Бахчисарайского фонтана»; «Евгения Онегина» — роман в стихах — мы воспринимаем
во многом через Татьяну, героиня становится «философским камнем» для души
заглавного персонажа. Ахматова смешивает жанровые определения во всей их
содержательной насыщенности — «роман в стихах», «роман без героя», «поэма
без героя», уже названием собственного произведения (которым становится
прежний подзаголовок) задавая литературно-семантические коды и приглашая
к их дешифровке.
Но еще и «поэмой времени» называет Эрик Местертон «Поэму без героя»,
выполненную в технике сновидений, большего формата и охвата, чем у кого-
либо из ее предшественников. Если Александр Блок в «Двенадцати» (1918)
«отразил революционный вихрь, вырвавшиеся разрушительные силы угнетенного
русского народа», то в поэме Ахматовой, первоначально озаглавленной «191316.
Петербургская повесть», на сцене является старый режим (landen régime):
музеем; 5 февраля, день рождения поэта, празднуется в Финляндии как День Рунеберга. На его
стихи написано более 900 музыкальных произведений.
15 «Vanity Fair: A Novel without а Него» (1848). Отметим, что и Теккерей воспользовался
«чужим» образом «ярмарки суеты», почерпнув его из «Путешествия Пилигрима» (1678-1688)
Дж. Беньяна (Bunyan).
16 Точнее, «Девятьсот тринадцатый год».
613
«маскарад привидений, вакханалия с налетом Вальпургиевой ночи, где в
атмосфере надвигающейся обреченности тени минувшего обретают облик архе-
типических фигур — Фауста, Дон Жуана, Гамлета, Мефистофеля». Стиль
изложения экспертного эссе Местертона начинает напоминать авторские
ремарки в лирической драме Блока «Незнакомка»: «Постепенно персонажи
становятся более четкими, известная актриса17 выдвигается как героиня поэмы,
мимо скользят силуэты художников старого Петербурга, Павлова, Шаляпин,
Блок, овеянные той самой метелью, что была центральным символом
"Двенадцати"». Финал «Петербургской повести» также связан с Блоком, с
«апокалиптической темой его предреволюционных стихов»:
Тень, ветер, барабан являются как предвестники гибели. В эту
художественную концепцию включен также фантасмагорический город Петербург, Unreal
city, который уже со времен Пушкина, Гоголя, Достоевского как ничто другое
воплощал в себе судьбу страны.
Возможно, сердцевиной этой стихотворной сюиты без героя является не
общий опыт гибели времени и призрачность существования без единой
личной человеческой трагедии, а память о человеке, о поэте, умершем в молодые
годы, давно ушедшем, но вновь оживающем, обретающем очертания
возлюбленной тени, которой стихи обязаны отчасти своим взволнованным тоном
и колдовской атмосферой. Фатальная связь жизни Анны Ахматовой с этой
тенью покрыта мраком, но в поэтическом воображении она становится
важным символом освобождения.
И мотивы, и образы «Поэмы без героя» разительно контрастируют с
мастерским искусством миниатюры Теофиля Готье, путеводной звезды акмеистов
с момента возникновения этого движения, однако в присущем им понимании
поэзии это произведение — подлинный шедевр. Ахматова далеко отходит в
этом произведении от литературных идеалов своей юности, зато обращается
к символистам и к старшим романтикам, причем не только к русским: среди
тех, кого она упоминает или цитирует в поэме, — Байрон, Шелли, Ките и
Э.Т.А. Гофман. Поразительным примером ее ориентации на романтическую
иронию может стать часть поэмы, озаглавленная «Интермедия». Она
начинается бурлескно, Ахматова играет с собственным стихом, смотрит на него
глазами обычного советского гражданина, но потом становится серьезной.
Она сообщает, что использует симпатические чернила и пишет зеркальным
письмом18. Так возвращается центральная тема первой части, отношения с
молодым поэтом, умершим, не достигнув двадцати лет. И вновь, без какого-либо
перехода, настроение меняется на ироническое подтрунивание. Она
представляет себя столетней чаровницей, изгнанной на советский чердак со своим
романтическим хламом, с призраками Байрона и Шелли. Третья, заключительная
часть этого триптиха, как Ахматова называет свою поэму, озаглавлена «Моему
городу». Она сидит в самолете, оставляя осажденный Ленинград,
одновременно прощается с прошлым, с пережитым в этом городе и визионерствует, пред-
17 O.A. Глебова-Судейкина (1885-1945).
18 «Но сознаюсь, что применила / Симпатические чернила, / Я зеркальным письмом пишу... »
[Ахматова 1987: 294].
614
ставляя Сибирь, куда сосланы в лагеря ее друзья и многие, многие другие.
Среди них и ее сын.
Увиденная в контексте современной советской литературы, «Поэма без
героя» поражает оригинальностью. Но музыкальная обработка тем,
ассоциативность письма не имеют ничего подобного и во всей русской поэзии. Если
же смотреть из широкой европейской перспективы, то поэтическая техника
не кажется столь уж новаторской. Решающий стимул придал, безусловно,
Т.С. Элиот19. В разговоре со мной Ахматова говорила, что знакома с первыми
квартетами, но не с «The waste land». Ее поэма свидетельствует о том, что она
отождествляет себя с финальными словами в «East Coker»: «In my end is my
beginning». Можно отметить и некоторые другие реминисценции из квартетов,
касающиеся ее размышлений о времени. Столь же справедливо (или
несправедливо), как произведения Элиота или Джойса, поэму можно отнести к
интеллектуальной поэзии: она весьма богата культурным материалом и
изобилует литературными аллюзиями и скрытыми цитатами, однако оставленными
без примечаний. Техника воскрешения в памяти, без сомнения, восходит к
опыту обоих названных выше писателей.
Подобно «Доктору Живаго», «Поэма без героя» — совершенное
произведение искусства. Порой поэтесса заходит за границы мелодраматизма и
риторики, однако не имеет ли на это право писатель, который годами жил в
вынужденном молчании среди духовного вакуума вместо живого литературного
окружения, мог потерпеть неудачу в самокритике и невольно потерять
ощущение художественного баланса? Поэзия Ахматовой неровная, шероховатая, но
всегда чарующая. Иногда ее поэзия темна, чаще всего из-за намеков на русские
события и лица, незнакомые иностранцу. Но стоит только начать <читать>,
как она захватывает. Отчасти это связано с документальным характером
поэзии, в которой фантасмагорический опыт рождается из цепочки обыденных
событий. Эта поэзия пленяет и своим насыщенным символическим языком, с
повторяющимся мотивом смерти и возрождения (в чем также несомненно
влияние тематики Элиота). То, что эта поэзия захватывает столь сильно,
связано и с тем, наконец, что Анна Ахматова сумела выразить трагичность самого
чувства жизни и тем самым лишить поэзию ощущения тщеты и
бесполезности, которое так распространено в западноевропейской литературе нашего
времени.
Готовясь в 1962 г. к своему визиту в Ленинград, Эрик Местертон
опубликовал в «Дагенс нюхетер» серьезную статью «Двойной лик Петербурга»,
посвященную, выражаясь современным языком, полуторавековой петербургской
литературной топике. Вспомнив и Блока, и А. Белого, последний абзац
шведский переводчик посвятил Анне Ахматовой, «последней представительнице
русской поэзии Серебряного века» (DN, 1.04.1962, s. 5). В этой статье (или в
этом абзаце из статьи) тезисно прозвучали те мысли, которые были развиты
19 Э. Местертон был не просто ценителем и знатоком, но и переводчиком
англо-американского поэта Томаса Элиота (T.S. Eliot; 1888-1965) на шведский язык. Нобелевская премия по
литературе присуждена Т.С. Элиоту в 1948 г. именно «за приоритетное новаторство в области
современной поэзии». Далее упоминаются его поэмы «Бесплодная земля» (1922) и «Четыре
квартета» (1943); «Ист Коукер» (1940) — второй квартет из вышеназванной поэмы.
615
позже в отзыве для Нобелевского комитета. Кроме одной, музыкальной: «это
симфоническая обработка темы Петербурга с акцентом на "нереальном городе"
и с темой судьбы из «Дон Жуана» Моцарта с вариациями из Пушкина и Блока»
(DN, 1.04.1962, s. 5).
Финальная фраза краткой экспертизы Эрика Местертона почти буквально
повторяет слова номинации Романа Якобсона о том, что творчество Анны
Ахматовой заслуживает Нобелевской премии, что сейчас именно она является
последним литературным представителем старой русской культуры и что,
наконец, «ее лирика признана классической последующими поколениями и она
любима своим народом».
Эрику Местертону (Э.М.) Анна Ахматова посвятила стихотворение «Запад
клеветал и сам же верил» (1963), в метафорах (и метонимии) которого звучит
благодарность: «Так мой старый друг, мой верный Север / Утешал меня, как
только мог».
В 1965 г., когда Нобелевский комитет принял в конце концов решение
присудить премию М.А. Шолохову, имя Анны Ахматовой оказалось среди
девятнадцати впервые предложенных кандидатур. По сложившейся практике,
сначала были перечислены имена тех писателей, которых уже выдвигали,
рассматривали и отклоняли. На сей раз среди них оказались Теодор Адорно, Сэмюэль
Беккет, Луи Арагон, Генрих Бёлль, Мария Домбровская, Макс Фриш, Ярослав
Ивашкевич, Ясунари Кавабата, Уильям Сомерсет Моэм, Торнтон Уайлдер,
Владимир Набоков, а также еще десятки известных и не очень писателей, тех, кого
полвека спустя называют великими, и тех, кого читатели и издатели давно
забыли. Но кандидатура Ахматовой была не просто отвергнута с более или менее
развернутой формулировкой в общем протоколе. К нему оказалось
приложенным «особое мнение» А. Эстерлинга, касающееся «трех схожих случаев» в
обсуждении текущего года. Речь идет о нескольких «совместных предложениях»,
когда награду предлагалось — или предполагалось академиками — разделить
между двумя заслуженными представителями одной национальной
литературы. Р. Роллан, выдвинувший Горького, Бальмонта и Бунина, явно не возражал
бы против их совместного увенчания; о том же радел и С. Агрель, соединяя
в своих номинациях имена Горького и Бунина, Бунина и Мережковского. На
два прецедента в истории присуждения премии Эстерлинг указывает и сам: в
1904 г. награду разделили представители сразу двух национальных литератур,
Ф. Мистраль (французский, точнее, провансальский поэт) и испанский
драматург X. Эчегарай; в 1917 г. лауреатами стали два датских писателя — К.А. Гьел-
леруп (писавший, впрочем, в основном на немецком языке) и Г. Понтоппидан.
Но далее патриарх Шведской академии замечает:
Поделить литературную премию возможно лишь в тех исключительных
случаях, когда речь идет о двух представителях одного языка (не иначе —
провансальского и испанского, немецкого и датского. — Т. М.) и одной литературы и
616
когда выбор в пользу одного не может быть сделан без вопиющего ущемления
равновеликих литературных достоинств другого.
Такое разделение премии Эстерлинг называет «вынужденным
компромиссом» и обращается далее к рассмотрению трех сложившихся пар:
гватемальский писатель М.А. Астуриас vs. аргентинец Х.Л. Борхес (первый стал
нобелевским лауреатом 1967 г., второй так и не получил Нобелевской премии);
Ш.Й. Агнон и Нелли Закс, представители еврейской литературной традиции
(они все же разделили премию 1966 г.); первыми названы Анна Ахматова и
Михаил Шолохов: «Оба пишут на одном языке, — соглашается Эстерлинг, — но
больше у них нет ничего общего». В своем мнении о «русской поэтессе»
Эстерлинг готов «отчасти» солидаризироваться с оценкой эксперта — насколько ему
вообще позволяют судить о стихах переводы:
Я нахожусь под сильным впечатлением от подлинно вдохновенной и
утонченной поэзии Ахматовой, но гораздо глубже меня тронула ее судьба, которая
обрекла поэтессу на годы вынужденного молчания.
Однако выбор сделан, и премия 1965 г. отдана Михаилу Шолохову20.
Посетивший A.A. Ахматову в середине октябре Ю.Г. Оксман среди прочего
записывает: «С Нобелевской премией заглохло. <...> Сурков умоляет ее выступить
<...> в Большом театре» [Черных 2008: 696].
Между тем свежеиспеченный лауреат еще не доехал до Стокгольма за
премией, а шведская пресса активно вводит в сознание массового читателя иные
имена русских поэтов и писателей. В «Свенска дагбладет» Ларе Эрик Блумквист
(Blomqvist) публикует обзор очередного номера журнала «Новый мир»;
публикация украшена фотопортретом К.Г. Паустовского — «одного из новомирских
либералов». Характеризуя журнал, критик замечает, что вокруг его редакции
сложился крут поэтов (в который входят Анна Ахматова и Евгений Евтушенко),
«объединенных преклонением перед русским поэтическим модернизмом».
Перечисляя имена советских писателей, чьи произведения «в той или иной
форме» увидят свет на страницах журнала в ближайшее время, Блумквист вновь
упоминает Ахматову (SD, 22.11.1965, s. 5). До этого имя Ахматовой мелькало на
страницах шведской прессы крайне редко — в 1946 г., когда газеты немного по-
муссировали присной памяти «ждановское» постановление, затем в 1960-е гг.
заговорили о ее возвращении «из молчания», а в музыкальном мире событием
стало исполнение Галиной Вишневской пяти песен С.С. Прокофьева на стихи
поэтессы. Чаще писали о Евгении Евтушенко, а в статьях о нем вспоминали и
об Анне Ахматовой. Но получение А. Ахматовой итальянской поэтической
премии «Etna Taormina» не было обойдено вниманием (SD, 12.04.1965, s. 7).
20 А. Эстерлинг составил список из трех фаворитов в таком порядке: 1. М.А. Шолохов;
2. Ш.Й. Агнон; 3. УХ. Оден (последний, с его репутаций едва ли не величайшего поэта XX в.,
Нобелевской премии не получил).
617
В 1966 г. Анна Ахматова вновь была помещена под первым номером в списке
номинаций на Нобелевскую премию. Это было предложение, исходившее как
из недр самого Нобелевского комитета, от его члена K.P. Гирова, так и от двух
профессоров-славистов, почти однофамильцев — Гуннара Якобссона из Гёте-
боргского университета21 и Романа Якобсона из Гарварда. Кандидатом на
премию A.A. Ахматова пробыла пять недель.
6 марта на страницах «Свенска дагбладет» (по иронии или по
благосклонности судьбы — над элегантной рекламой женского белья) был опубликован
некролог «самой неоднозначной русской поэтессы», «несколько раз <только
дважды!> номинированной на Нобелевскую премию». Газета цитирует
официальное сообщение ТАСС от 5 марта, где ее стихи были названы «эстетически
утонченной лирикой», и приводит те факты ее биографии, которые в Советском
Союзе не озвучивались (расстрел Н.С. Гумилева, например). Автор некролога
(неподписанного) замечает, что сама Ахматова «никогда не выступала открыто
против революции и отказалась эмигрировать, подобно Бунину и другим
русским писателям» (SD, 06.03.1966, s. 13).
«Дагенс нюхетер» отозвалась официальным некрологом своего московского
корреспондента, однако несколько дней спустя откликнулась на смерть поэта
статьей Ларса Клеберга (Kleberg) «Ахматова между двумя эпохами» (DN,
10.03.1965, s. 5). Но все это — уже послесловие, уже история литературы. Так, в
конце марта в большой статье о русском «тамиздате» («underjordiska motpol»,
буквально «подземном противоположном полюсе») сообщается о выходе
«Реквиема» Анны Ахматовой, нового опубликованного не на родине крупного
явления русской литературы после Б. Пастернака (SD, 28.03.1966, s. 15). В начале
сентября, в небольшой заметке «Болгарская поэтесса — кандидат на
Нобелевскую премию», обсуждаются слухи о номинации 75-летней Елизаветы Багряны,
переведенной на 22 языка, только не на шведский. О ее личности и творчестве
газете рассказал доцент славистики Стокгольмского университета Н.О. Нильс-
сон, добавив, что это теперь крупнейшая поэтесса из ныне живущих в
славянском мире — после ухода из жизни Анны Ахматовой (SD, 08.09.1966, s. 23).
А в заключительном отчете Нобелевского комитета за 1966 г. было просто
констатировано: «В этом году русская поэтесса умерла».
21 Jacobsson Gunnar Fridleif Andreas (1918-2001) — шведский славист. Учился в Лунде у
С. Агреля и М. Хандамирова; защитил диссертацию в Упсальском университете, преподавал в
Гётеборгском университете, где стал профессором в 1964 г. По преимуществу лингвист, свое
увлечение славянскими литературами Г. Якобссон смог реализовать в переводческой
деятельности.
618
Глава 14
Константин Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ
О выдвижении Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) на
Нобелевскую премию сложилась такая красивая легенда, отшлифованная, как
камешки в прибрежных волнах, в полувековых семейных преданиях, что даже
жаль ворошить архивную пыль ради установления истины. Тем более что на
Нобелевскую премию писателя номинировали и интерес к его книгам в
Швеции некоторое время действительно был.
Легендарная часть выглядит так:
— А почему Паустовскому все же не дали Нобелевскую премию?
— Наверняка этого не знает никто. Константин Георгиевич жил тогда на
Капри, ему это рекомендовали врачи, и узнал о своем выдвижении за «Повесть
0 жизни» уже там. Причем выдвинули его какие-то иностранные союзы
писателей, а не наш, советский, так что с самого начала шансов было немного.
Правда, в какой-то момент пошли слухи, что премию все же дадут. <...> А
затем новость: дали Шолохову. Вскоре на Капри приехал председатель
Нобелевского комитета, сказал Константину Георгиевичу: «Я и король голосовали за
вас». — На память об этом у нас осталась книга, изданная в Италии, где
написано, что ее автор — кандидат на Нобелевскую премию [Арбузова 2017: 42].
Мифология враждебна логике, поэтому утверждение, что выдвижение
отечественным писательским объединением предпочтительнее при обсуждении
кандидатур на Нобелевскую премию, в комментариях не нуждается. Что же
касается итальянского издания, то уместно будет привести замечание С. Гардзонио:
Константину Паустовскому не очень повезло в Италии, за исключением
промежутка между 1960 и 1970 годами. Последнее обстоятельство, возможно,
связано также и с тем, что писатель поддерживал сначала Бориса Пастернака, а
потом и Андрея Синявского, Александра Солженицына и Юрия Любимова, не
говоря уже о том, что в 1965 г. он был включен в шорт-лист Нобелевской
премии. Именно тогда итальянским читателям были представлены многие из его
самых значительных работ — от «Повести о жизни» и «Романтиков» до
«Стеклянного моря» и «Блистающих облаков». Среди произведений исторической
тематики в 1964 г. была переведена «Северная повесть»1.
1 Gardzonio S. «Il destino di Charles Lonceville», di K. Paustovskij // Riflessi novità in traduzione /
IIAssociazione premio Gorky. См.: http://premiogorky.com/it/books/new-translations/stefano-garzonio/
126, дата обращения 7 октября 2017 г.
619
В «коротком» списке номинаций на Нобелевскую премию в 1965 г.
оказалось 57 имен. Вот только имени К.Г. Паустовского в нем нет; оно появляется
лишь в заключительном протоколе Нобелевского комитета за этот год. По
сообщению заведующей архивом Шведской академии Мадлен Энгстрём Бруберг,
кандидатура Паустовского была предложена устно — небывалый случай,
поскольку заархивированных записей об этом не сохранилось, — одним из
членов Нобелевского комитета. В Италии же Паустовский мог, всего вероятнее,
встречаться именно с тогдашним председателем Нобелевского комитета Андер-
сом Эстерлингом. А. Эстерлинг, сам плодовитый поэт, был крупнейшим в
Швеции переводчиком поэзии с разных языков, но его наиболее важным
достижением считаются поэтические переложения итальянских авторов, начиная
с эпохи Возрождения и вплоть до современности, в том числе получивших
Нобелевскую премию по литературе С. Квазимодо (1959) и Э. Монтале (1975).
В 1965 г. в переводах Эстерлинга в издательстве «Боньер» вышла книга
«Итальянская лирическая поэзия девяти веков»2.
Как же произошло знакомство шведского читателя с Константином
Паустовским? Первым, кто представил его на родине, был, безусловно, Артур Лунд-
квист3, совершивший огромное насыщенное путешествие по Советскому
Союзу и описавший его в книге «Маки из Ташкента» [Lundkvist 1952]. Книга
написана таким простым языком и так разнообразна по содержанию, что даже
сейчас читается с огромным интересом: Средняя Азия и Кавказ, Крым и
Поволжье, Сибирь и Урал, обе столицы с их музеями, театрами, кино —
концентрация встреч и впечатлений превращает небольшую книгу в настоящую
энциклопедию Советского Союза для простого незашоренного читателя.
Перечислить всех советских писателей, кому уделена хотя бы страничка,
невозможно — так их много, так Лундквист старается никого не упустить. Паустовский
замыкает литературную часть книги, и не случайно: «...хотя он и принадлежит
к тому же поколению, что и Федин (также отраженный в очерках шведского
автора. — Г. М.), но, по крайней мере, для меня это новое и очень приятное
знакомство» [Lundkvist 1952: 223].
2 Italiensk lyrik frân nio sekler. I tolkningar av Anders Österling. Stockholm, 1965.
3 Lundkvist Nils Arthur (1906-1991) — шведский писатель, поэт и литературный критик,
известен также как переводчик с немецкого и французского языков; член Шведской академии с
1968 г. Опубликовал несколько книг о своих путешествиях по Южной Америке, Индии, Китаю,
Африке и Советскому Союзу. А. Лундквист, называвший себя «свободным социалистом», не был
коммунистом, но был убежденным сторонником Страны Советов. Во время холодной войны
пытался занимать нейтральную позицию по отношению к противостоянию двух сверхдержав, был
членом шведского комитета борьбы за мир (отделения Всемирного совета мира, просоветской
организации). В 1957 г. был награжден Международной Ленинской премией «За укрепление
мира между народами». Сейчас путевые очерки А. Лундквиста об СССР, Кубе и Китае
расцениваются как некритические, идеализирующие жизнь в коммунистических странах; однако
подобные оценки — не что иное, как дань моде на фоне формирования резко негативного образа
государств, основанных на идеологии коммунизма и социалистических ценностях.
620
Его «Избранные рассказы»4 содержат самую индивидуальную и самую
интересную прозу, вышедшую в Советской стране после писавших в 1920-е гг.
Бабеля, Иванова и Пильняка. Но он вовсе не безумный экспрессионист со
стрижкой ежиком или автор фантастических арабесок, творящий экзотический мир.
Весь его образ жизни определяется ненасытным влечением к реальности,
которое он пытался удовлетворить, осваивая самые разные профессии по всему
Советскому Союзу и перепробовав массу занятий, от рыбака и моряка, от
сталевара и машиниста до учителя и журналиста.
У него уже около сорока книг, несмотря на довольно поздний дебют. Две
наиболее известные из них, «Кара-Бугаз» <1934> и «Колхида» <1934>, вышли в
1930-е гг. и вошли в том «Избранного», и обе на редкость захватывающие,
построенные по принципу слабо связанных между собой прозаических
отрывков, объединенные единой большой темой и распахивающие перспективы во
всех направлениях. <...> В красочных эпизодах Паустовский живописует
трудное, постепенное завоевание Кара-Бугаза, встречи в соляной пустыне
советских инженеров с местными жителями на фоне непостижимо прекрасных
солнечных рассветов, укрощение диких сил природы современными
научными методами.
Колхида — это древнее название болот на грузинском черноморском
побережье, полутропические джунгли, затопленные постоянными
наводнениями. <...> Советские инженеры приступили к изменению природы, и вскоре
каналы, шлюзы, дренаж и высадка растений превратили былые болота во
фруктовый рай. Этот процесс проиллюстрирован рядом приключенческих
эпизодов охоты на дикую кошку и борьбы с малярией, картинами наводнений
и ураганов. Ненасытное любопытство Паустовского абсолютно ненаучно, но в
высшей степени занимательно и поражает богатством воображения. Его
дифирамбы тому, как невероятно быстро растут эвкалипты, или полученным
путем скрещения новым плодам — это блистательная поэзия в прозе. Некоторые
из его коротких рассказов 1940-х гг. столь же разнообразны в художественном
отношении, столь же нюансированы в передаваемом настроении, будь то
размышления на ночной реке или разговоры со смышлеными пастушатами
[Lundkvist 1952: 224-225].
Но это рассказ о незнакомце. В Швеции к началу 1960-х гг. имя писателя
мелькнуло в прессе лишь пару раз: небольшую новеллу «Медные доски» в
переводе Н. Хольмберга (Holmberg) включили в сборник «Советские писатели»;
вышедший в разгар Второй мировой войны5, в послевоенное десятилетие
«Старый повар» попал в книгу «Писатели со всего света»6, а «Ночь в октябре»
и «Старый челн» напечатала «Свенска дагбладет» (SD, 28.10.1956, s. 10; SD,
30.8.1959, s. 5). В радиопрограмме на 7 октября 1953 г. анонсировалось чтение
4 Речь идет о книге «Избранное» (М.: Советский писатель, 1947) в серии «Библиотека
избранных произведений советской литературы».
5 Paustovskij К. Kopparplâtarna. Overs, fr. eng. Nils Holmberg // Sovjet berättar. Stockholm, 1943.
S. 195-199.
6 Paustovskij К. Den mystiske musikern. Övers. F. Köhler // All världens berättare. 1955: 3. S. 50-52.
621
Г. Функквистом (Funkquist) рассказа «Стеклянные бусы», который вошел в
сборник писателя, ставший результатом советско-шведского издательского
проекта (SD, 7.10.1953, s. 17)7; был ли рассказ опубликован на страницах
периодики раньше или его текст был передан на радио из издательства, авторитетный
библиографический указатель переводов русских писателей на шведский язык
ответа не дает [Akerström 2009]. Но уже в середине 1960-х гг. К. Паустовского
переводили на шведский язык так же охотно, как и на итальянский; его
рассказы публиковали в центральных газетах, включали в антологии, выпускали
отдельными сборниками8.
Исключительно осведомленный (благодаря чтению советских газет) автор
«Дагенс нюхетер» Свен Вальмарк поместил Паустовского в нобелевский
контекст самым неожиданным образом. Рассказывая своим читателям о
праздновании 85-летию со дня рождения И.А. Бунина в Государственном литературном
музее в Москве, он отметил среди выступавших К. Паустовского и Л. Никулина
(одного из первопроходцев в изучении творчества писателя на родине). С.
Вальмарк напоминает, что Бунин был удостоен Нобелевской премии, но в советской
России предпочитают об этом умалчивать, уверяя, что свои лучшие книги он
написал до эмиграции (DN, 8.11.1955, s. 4). Впрочем, С. Вальмарка гораздо
более привлекают фигуры и сочинения В. Дудинцева и Б. Пастернака, и в его
материалах Паустовский — второстепенная фигура, хотя и с положительным
знаком. Извещая читателей о похоронах Б.Л. Пастернака, П. Перссон (Persson)
в репортаже из Переделкина рассказывает, что первым нанес утренний визит
вдове поэта Константин Паустовский — «едва ли не единственный, кто стал на
сторону Пастернака в буре, которая разразилась в русском писательском мире
после присуждения Пастернаку Нобелевской премии» (SD, 1.6.1960, s. 11).
Посетивший СССР главный редактор «Дагенс нюхетер» Улоф Лагеркрантц
именно Паустовского выделяет среди современных советских писателей (DN,
10.05.1961, s. 6; 28.05.1961, s. 4). Еще год спустя литературный обозреватель
«Дагенс нюхетер» Фольке Исакссон9 посвящает писателю небольшую статью
«Настоящий романтик», проиллюстрированную портретом писателя и
начинающуюся словами: «К интереснейшим русским писателям наших дней
принадлежит Константин Паустовский, которого один из шведских знатоков России
7 Paustovskij К. En nordisk berättelse. Overs. Sven N. Storck. Moskva: Progress; Stockholm: Arbetar-
kultur, 1964. 181 s.
8 Однако трехтомное издание «Повести о жизни» (1963-1970) в переводе К. де Лаваль было
завершено уже после смерти писателя.
9 Isaksson Nils Otto Folke (1927-2013) — шведский писатель, переводчик, комментатор (вел
телепрограмму «Поэтические прогулки») и литературный критик; в 1959-1975 гг. публиковал
статьи и рецензии в «Дагенс нюхетер». «Кара-Бугаз» («Черную пасть» в шведском переводе,
выдержавшем три издания в 1960-е гг.) Ф. Исакссон называет «отличной повестью» (utmärkt kort-
roman), написанной с «непостижимым первоапостольским оптимизмом», и утверждает, что
«пустыню, солнце, коррозию соленых почв Паустовский изображает с зоркостью подлинного поэта»
(DN, 8.06.1962, s. 4).
622
(Ханс Бьёркегрен10) считает достойным Нобелевской премии» (DN, 8.06.1962,
s. 4). Полтора года спустя тот же Ф. Исакссон посвящает Паустовскому уже
целую полосу под названием «Дно жизни», приуроченную к выходу в переводе
крупнейшей переводчицы с русского Карин де Лаваль (de Laval) первой части
«Повести о жизни»— «Далекие годы»11 (DN, 29.01.1964, s. 4). Когда весной
1965 г. писатель оказался среди тех, кого выдвинули на Ленинскую премию,
«Дагенс нюхетер» с гордостью напомнила, что номинированные произведения
писателя переведены и на шведский язык (DN, 7.03.1965, s. 5).
Паустовского продолжают время от времени читать по радио (даже если
именуют Иваном; SD, 12.10.1960, s. 22; SD, 13.10.1960, s. 27), публиковать его
рассказы — те, что умещаются на одну газетную полосу с иллюстрациями
(«Корчма на Брагинке», SD, 23.09.1962, s. 5), или еще меньше («Бабушкин сад»,
SD, 22.09.1963, s. 5; «Ленька с Малого озера», DN, 15.11.1964, s. 3). В 1965 г. в
радиоэфире звучат «Жильцы старого дома» в переводе Асты Викман и в
исполнении Стины Столе (Stale; SD, 15.07.1965, s. 19). Φ. Исаксон откликается
рецензией «Чистые сердца» еще на один перевод Паустовского на шведский
язык — на «Северную повесть» (DN, 12.04.1965, s. 4).
6-8 сентября 1965 г. в Риме прошла большая встреча писателей,
организованная Европейским союзом писателей Comes. Темой, предложенной к
обсуждению, был «европейский авангардизм вчера и сегодня», а Паустовский
упомянут в следующем контексте: «Из Южной Америки прибыло имя <sic!>,
которое итальянские корреспонденты в Стокгольме называют кандидатом на
Нобелевскую премию этого года, и это Астуриас (нобелевский лауреат 1967 г. —
Г. М.)> a из Москвы, среди прочих, <приехал> Паустовский, защитник
молодежи, также называемый кандидатом на Нобелевскую премию» (SD, 29.09.1965,
s. 17). Итальянская осведомленность, всего вероятнее, была обусловлена
откровенностью А. Эстерлинга, в рамках проекта по изданию итальянской поэзии
в своих переводах тесно связанного с Джакомо Орельей (Oreglia),
преподававшим историю итальянской литературы и театра в Итальянском институте
в Стокгольме и в Стокгольмском университете, переводившим на итальянский
язык шведских писателей и представлявшим интересы издательства «Italica»,
которое выпускало издания с параллельными текстами на шведском и
итальянском языках. Но писателя с репутацией кандидата на литературного «Нобе-
10 Björkegren Hans Rudolf (1933-2017) — шведский журналист, переводчик. В 1960-1965 гг.
был московским корреспондентом «Стокгольме тиднинген» («Stockholms tidningen»), в 1965-
1968 гг. руководил скандинавским новостным бюро в Москве, с 1968 г. стоял во главе
зарубежного бюро шведского национального агентства новостей TT (Tidningarnas Telegrambyrâ). Автор
целого ряда книг о России, русско-шведских отношениях и русской литературе (в том числе
одной из первых критико-биографических книг о А.И. Солженицыне «Alexander Solsjenitsyn: bio-
grafi och dokument», 1971). Считается одним из ведущих шведских переводчиков с русского
языка, среди переведенных им авторов — А. Солженицын, С. Алексиевич, Л. Улицкая и многие
поэты — А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак, И. Бродский, Г. Айги, А. Вознесенский и др.
11 Paustovskij К. Ungdomsâr. Overs. Karin de Laval. Stockholm, 1963.
623
ля» все еще совсем мало знают в Швеции. И вот в ноябре 1965 г. Л.Э. Блумквист
в двух колонках подробно освещает сентябрьский юбилейный номер «Нового
мира»; К. Паустовский лишь перечислен среди прочих авторов — но именно
его фотография украшает материал (SD, 22.11.1965, s. 5), напечатанный прямо
накануне приезда в Стокгольм новоизбранного нобелевского лауреата М. А.
Шолохова.
Экспертный очерк 1965 г. о К.Г. Паустовском был написан для Нобелевского
комитета Эриком Местертоном без лукавых мудрствований, с традиционным
пересказом биографии и попыткой разобраться, чем привлекательно
творчество писателя с точки зрения международной награды по литературе.
Константин Паустовский «родился в Москве в 1892 г. в семье,
принадлежавшей к служащей интеллигенции, но уходящей корнями на Украину, где предки
писателя были казаками». Рано увлеченный литературой, Паустовский
перепробовал множество профессий в разных уголках необъятной Российской
империи (заметим, что о том же писал и А. Лундквист — только называя страну
исключительно Советским Союзом). Упомянув окончание «классической
гимназии» и учебу в университетах Киева и Москвы, эксперт с удовольствием
перечисляет испробованные будущим писателем профессии: работу
вагоновожатым и кондуктором на московском трамвае, матросом, рабочим на
металлургических заводах в Донецком угольном бассейне и в Таганроге, санитаром в
начале Первой мировой войны, рыбаком на Азовском море, репортером в
газетах Одессы и Батума, корреспондентом телеграфного агентства в Москве.
Э. Местертон намечает следующие вехи творческой биографии
Паустовского. Писатель начал публиковаться еще гимназистом, но первая книга, «Морские
наброски», вышла только в 1925 г.; после еще нескольких сборников рассказов
появился и первый роман, «Блистающие облака» (1929), «сюжетом которого
становятся поиски дневника погибшего русского летчика, попавшего в руки
американского злодея». Только следующий роман, «Романтики», был отмечен
читательским успехом: начатый в 1916 г., он увидел свет в 1935 г.; первая
большая часть — «Кара-Бугаз» — была напечатана в 1932 г. (в шведском переводе —
«Черная пасть», 1961). Подобно многим другим произведениям той эпохи, это
«производственный роман», связанный с первой пятилеткой (1928-1932) и
повествующий о том, как советские ученые и инженеры создают в туркменской
пустыне крупный индустриальный центр.
Эта книга, которая удостоилась статьи М. Горького, позволила Паустовскому
посвятить себя в дальнейшем литературе. Технологическая линия
продолжается в «Колхиде» 1934 г.; в ней воспевается превращение болота в
субтропиках на Кавказе в цветущий плодородный край.
Другим популярным жанром, как отмечает Э. Местертон, был
исторический роман, и Паустовский откликнулся на веяние времени «Судьбой Шарля
Лонсевиля» (1933) — наполеоновского артиллерийского офицера, взятого в
624
плен и отправленного в Петрозаводск. Вышедшая вслед за тем «Северная
повесть» (1937; опубликована в 1938) была переведена на шведский язык (En
nordisk berättelse) и своими безыскусными романтическими новеллами
напоминает Августа Бланша12, пересаженного на русскую интеллектуальную почву.
Уже «Кара-Бугаз» был переведен на несколько западноевропейских языков,
но подлинная международная известность пришла к Паустовскому благодаря
его неоконченной автобиографии «Повесть о жизни». Местертон перечисляет
«пять до сих пор опубликованных частей» — «Далекие годы» (1946),
«Беспокойная юность» (1955), «Начало неведомого века» (1957), «Время больших
ожиданий» (1958), «Бросок на юг» (1959-1960); «те же пять частей вышли в двух
томах» (М., 1962).
На шведском языке появилась только первая часть под названием «Юность»
(1963). Первые четыре части изданы в переводе на немецкий язык, первые три
вышли в Америке однотомником под названием «The story of life» (1964).
Из разнообразной литературной продукции Паустовского нобелевский
эксперт считает заслуживающими упоминания «многочисленные рассказы», «пару
исторических драм (о Пушкине и Лермонтове)», «романизированные
биографические очерки о Шевченко, Левитане и других художниках» («других» было
двое — Орест Кипренский и Нико Пиросмани) и «книгу о литературном
творчестве "Золотая роза" 1955 г., которая переведена на английский язык».
В русской литературе нашего времени Паустовский, бесспорно, занимает одно
из ведущих мест. Но это не крупный писатель, насколько я понимаю. Из его
произведений книга о соленом озере «Кара-Бугаз» заслужила наиболее
высокую оценку, которую я не вполне разделяю. Книги, которые сочетают в себе
социалистический реализм с экзотикой, характерной для его первых
произведений, отличает оригинальность композиции: это можно назвать монтажом
документального материала и художественного повествования. Восторг от
чудес техники и воодушевление от советских первопроходцев кажутся мне
инфантильными и некритичными. Но я охотно поделюсь и более
положительными оценками: в книге путевых очерков «Маки из Ташкента» (1952) Артур
Лундквист называет и книгу о Кара-Бугазе, и о Колхиде «на редкость
захватывающими», а Фольке Исакссон нарек первую из них «маленьким шедевром».
Как повествователь (рассказчик) Паустовский «прежде всего новеллист»:
Даже его основные произведения построены обычно как серии новелл. Не в
последнюю очередь это относится к его главному сочинению «Повесть о
жизни», главы которой можно публиковать как отдельные очерки. Автобиография
составлена как мозаика из эпизодов, легко и без строгой хронологии
вызываемых из памяти, в стиле, напоминающем атмосферу саги, особенно заметную в
первых частях, и с подлинно мемуарным характером, кстати, все более преоб-
12 Blanche August (1911-1968) — шведский писатель, драматург, журналист, политик и
публицист.
625
ладающим в последующих частях. Среди историй о детстве, рассказанных
писателем, особенный свет исходит от Киева. Украинскую среду, в которой
возрастал писатель, с ее мириадами различных этнических групп, мы
воспринимаем как экзотическую и примитивную. Но Паустовского влечет не только
живописное, но и человечески важное и значительное в картинах старой
России, которую он своим искусством спасает от исчезновения.
В качестве примера Э. Местертон приводит главу «Корчма на Брагинке» из
первой части автобиографической «повести», где речь идет о вещах, далеких не
только от шведских академиков середины XX в., но и от самого писателя,
описывающего начало столетия. Эксперт замечает, что «шведский перевод этого
эпизода неполон» (и приводит отсылку к шведскому изданию «Юности» —
«Далеких лет»), поскольку «30 стихов песни, исполняемой слепцом над могилой
хлопчика (написанных Паустовским), опущены без объяснений». Это
сокращение текста в самом деле необъяснимо, поскольку, вопреки утвердившемуся
в русской литературе любовному цитированию украинского фольклора,
приведенный Паустовским «распев» написан на хорошем русском языке, даже без
украинизмов.
Любопытно, как эксперт связывает Паустовского с предшествующей
литературной традицией. Он сообщает, что у рецензируемого писателя есть письмо
от высоко им почитаемого Ивана Бунина, где тот пишет, что «Корчма на
Брагинке», которую он прочел в газете, «принадлежит к лучшим рассказам в
русской литературе»13. Упомянуто впечатление, которое произвели на
одноклассников Паустовского уход Толстого и его смерть в Астапове в 1910 г. Классики,
причем классики, так или иначе связанные с Нобелевской премией: русский
гений, которому было отказано в премии, первый ее русский лауреат по
литературе. .. Упомянут и отклик еще одного безуспешного претендента на
нобелевскую награду — М. Горького; к тому же эксперт так подробно останавливается
на автобиографической книге Паустовского, что прославленные и хорошо
известные в Швеции «Детство» и «В людях» невольно приходят на ум.
Эти страницы в их простой обыденности — незабываемы. Писатель умеет
описать жизнь правдиво и благоговейно. Картины воскрешены рассказчиком,
сохранившим в душе ребенка, живо и ясно. Отсутствие проблем сообщает
книге большую часть ее обаяния, но одновременно, разумеется, и
ограничивает ее. В ней нет надрыва, нет раздумий, нет сомнений в том, правильно ли
был воспринят полученный опыт, нет попытки выйти за пределы обыденного
восприятия реальности. Изображения людей схематичны, без
психологической углубленности. Нет ничего удивительного в том, что Паустовский
восхищается живописью Рафаэля или скульптурой Кановы. У Паустовского есть
склонность к сентиментальности, особенно в связи с размышлениями об
искусстве и о судьбе художника. Примеры легко обнаружить в «Юности». Фан-
13 «Дорогой собрат, я прочел Ваш рассказ "Корчма на Брагинке" и хочу Вам сказать о той
редкой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа ("под зана-
вес"), он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы» [Бабореко 2004: 117].
626
тазии, вызванные картиной Врубеля «Демон» (иллюстрация к поэме
Лермонтова с тем же названием), свидетельствуют о существенной слабости, которая
часто разрушает прозу Паустовского. Излияния писателя и о картине, и о
судьбе Лермонтова банальны и лишены вкуса, почти бессмысленны14.
Совершенно естественно, что Паустовский выступает откровенным
традиционалистом как в своей концепции искусства, так и на практике. Он
прославился своими описаниями природы. Необходимо, впрочем, подчеркнуть,
что он следует по стопам своих предшественников, начиная с интерпретации
русского пейзажа, которое дал в «Евгении Онегине» Пушкин. У
традиционализма есть и сильная положительная сторона. Никто не сделал больше
Паустовского, чтобы сохранить жизнь русской литературе. Он послужил таким
авторам, как Бунин и Бабель, просто цитируя их. Его воздействие на молодых
русских писателей, например, на Юрия Казакова, имело огромное значение.
Один английский интервьюер год назад спросил Паустовского, как он
относится к экспериментам в советской литературе. Он ответил примерно
следующее: нам не хватило сил для экспериментов, силы были нужны для сохранения
наследия. Главное достижение Паустовского как писателя и человека состоит
в следующем: он сохранил наследие.
Паустовский — писатель с большими достоинствами, но и с большими
недостатками. Что касается меня, то я не могу утверждать, что его сильные
стороны настолько перевешивают слабые, чтобы обосновать присуждение ему>
Нобелевской премии. Рецензию на только что переведенную книгу
Паустовского — «Северную повесть», одну из его слабейших, — Фольке Исакссон
назвал «Чистое сердце». Позволю себе процитировать ее:
«Это самая чистосердечная книга, которую я держу в руках с тех пор, как
перестал странствовать по "Детской библиотеке Саги"15, и она ставит
серьезный вопрос. Может ли писатель сегодня, если он хочет говорить правду,
оставаться чистым сердцем? Я отвечаю, что это недостижимо. У него для этого
просто нет слов».
Это мнение, как мне кажется, можно приложить к творчеству
Паустовского в целом.
Экспертный обзор на этом завершен, и подтекст его совершенно ясен:
прекрасный писатель, но не великий, не уровня Нобелевской премии. Может быть,
14 Приведем некоторые формулировки из автобиографического повествования К.Г.
Паустовского: «...сверкала, как синий алмаз, как драгоценность, найденная на сияющих вершинах
Кавказа, эта картина Врубеля. Она жила в зале галереи холодом прекрасного, величием
человеческой тоски»; «Впервые я понял, что созерцание таких картин не только дает зрительное
наслаждение, но вызывает из глубины сознания такие мысли, о каких человек раньше и не
подозревал», и т. д. (Повесть о жизни. Глава I. Далекие годы).
15 «Barnbiblioteket Saga» — шведский проект (1899-1979) по изданию детских и юношеских
книг с целью дать подрастающему поколению доступ к хорошей литературе с
высококачественными иллюстрациями. В названии «Сага» (это не только «сказка, предание», но и — как имя
собственное — скандинавская богиня мудрости) отразился национальный романтический дух.
Ф. Исакссон, таким образом, относит «Северную повесть» к сугубо детскому и юношескому
чтению и выводит за рамки подлинно серьезной литературы, ставящей острые современные
вопросы и ищущей на них ответы.
627
так думал и Ф. Исакссон, но свое «Чистое сердце» он начинает с признания: он
не знает русского языка и не может прочесть Паустовского в оригинале, однако
«считает его своим любимым писателем» (DN, 12.04.1965, s. 4). Рецензент
продолжает:
А если бы я знал русский язык, я написал бы ему длинное письмо или поехал
бы в Москву и попытался встретиться с ним. Я много раз думал, читая его
книги, что Паустовский не просто очень значительный писатель, но что его можно
назвать, положа руку на сердце, честнейшим из слов, которое люди иногда
присваивают друг другу, — словом «человечный».
В 1965 г. в заключительном протоколе Нобелевского комитета о КХ
Паустовском было записано следующее:
Этому русскому предложению (т. е. выдвинутому русскому писателю. — Т. М.),
поступившему впервые, комитет придает со своей стороны более высокое
значение, чем то, которое представлено в экспертном заключении. Главное
произведение писателя, «Повесть о жизни», только что появившееся в
замечательном переводе, по художественной зрелости и сердечной правдивости
воспоминаний можно сравнить со знаменитым мемуарным сочинением Горького.
Комитет не сомневается, что это оправданное предложение, и хотел бы горячо
рекомендовать его вниманию Академии, пусть даже в сложившейся в этом
году ситуации выбора и нет места для новой <русской> кандидатуры.
Нобелевский комитет Шведской академии на своем заседании 9 сентября
1965 г. единогласно пришел к заключению, что первым именем, которое следует
предложить на Нобелевскую премию по литературе за этот год, является
Михаил Шолохов. Новая кандидатура, хотя бы и столь симпатичная комитету,
появилась не ко времени. Опытные люди понимали, что представитель русской
литературы еще долго не станет лауреатом Нобелевской премии. И ошиблись.
Следующим вскоре стал А.И. Солженицын (1970). В 1966 г. Паустовский, как и
Ахматова, был номинирован K.P. Гировом. Выдвигали ли его в 1967 и 1968 гг. —
станет известно уже скоро.
Спустя три года после шолоховского позднего триумфа Паустовского не
стало. В «Свенска дагбладет» корреспонденция из Москвы об уходе из жизни
«хорошо известного русского либерального писателя» подписана TT (шведское
бюро новостей). Новость свежая, путаница в датах извинительна:
Два года назад Паустовский был одним из фаворитов на Нобелевскую премию
по литературе, в последние годы он принимал участие в протестах против
преследования писателей. Он также поддержал Бориса Пастернака, когда на того
обрушилась критика после присуждения ему Нобелевской премии за «Доктора
Живаго»в1957<1958>г.
В последние годы Паустовский был более известен своими выступлениями
против контроля за культурой во времена сталинизма и своим участием в
акциях протеста против задержания некоторых русских писателей. Несмотря на
628
свои трения с русским режимом, когда он наряду с прочими подписывал
письма протеста, Паустовский стал в предыдущем году лауреатом Ленинской
премии, главной награды в Советском Союзе.
Кончина Паустовского вызвала большой отклик у советской
интеллигенции. Многие считают его едва ли не лучшим современным прозаиком,
«мастером стиля», кроме того, он был едва ли уязвимым защитником гонимых.
Паустовский выступал как представитель романтизма и экзотизма в эпоху
жестких революционных чисток и нивелировки стиля (SD, 16.07.1968, s. 5).
«Дагенс нюхетер» откликнулась на уход писателя из жизни некрологом
Артура Лундквиста. «Константин Паустовский не принадлежит к самым крупным
именам среди советских писателей, — признавал шведский автор, — но он, без
сомнения, самый чуткий и привлекательный из них» (DN, 17.06.1968, s. 3).
Каждая встреча с этим «романтиком социализма» глубоко трогала Лундквиста,
начиная с первой поездки в СССР еще в «мрачные времена», в 1952 г., со
знакомства в дороге с избранными произведениями советского писателя:
Это было сродни открытию: какое большое словесное искусство, какая
своеобразная повествовательная манера, я хочу с ним встретиться! Но нет, не
получалось, все возможные старания не увенчивались успехом, и я догадался,
что он не принадлежит к первой обойме. Но во время моего следующего
визита десять лет спустя все было по-другому: Паустовский оказался среди самых
уважаемых и любимых «народом» писателей! <...> Он принял меня с
товарищеской сердечностью, в которой не было ничего нарочитого или
обязательного <...> С живым воодушевлением он рассказывал о Горьком, о своем друге
Пастернаке, о прозе Исаака Бабеля, о восхитительных описаниях природы у
Пришвина. Но даже после просьбы он не говорил о самом себе.
<...> Литературный талант Паустовского необычайно привлекателен и
человечен, и он сохраняет в своих созданных после революции книгах ряд
художественных и социальных черт, присущих свободному творчеству (ibid.).
Глава 15
...И ДРУГИЕ
К «прочим» в зеркале Нобелевской премии относятся крупнейший
советский прозаик Леонид Максимович Леонов (1899-1994), молодой и дерзкий
(тогда) поэт Евгений Александрович Евтушенко (1932-2017), почитаемый
литератор старшего поколения эмиграции Борис Константинович Зайцев (1881-1972),
грандиозный — и уже американский — писатель Владимир Владимирович
Набоков (1899-1977).
В 1949 и 1950 гг. профессор-славист русского происхождения из Хельсинки,
Валентин Кипарский (Valentin Kiparsky; 1904-1983), рекомендовал в своих
обращениях в Шведскую академию сразу двух русских романистов — М.А.
Шолохова и Л.М. Леонова. После революции 1917 г. петербургская русско-немецкая
дворянская семья Кипарских обосновалась на даче на Карельском перешейке,
отошедшем к Финляндии. В. Кипарский окончил университет в Хельсинки,
защитил диссертацию в Кенигсберге; в 1946 г. стал профессором
новообразованной кафедры (института) русского языка и литературы Хельсинкского
университета, с 1947 г. возглавлял ее и одновременно стал руководителем Института
культурных связей между Финляндией и СССР. В 1950 г., после нападок
советских лингвистов на его этимологические публикации (лингвистические
работы, в которых Кипарский доказывал финно-угорское происхождение названий
русских рек) и высказанного недоверия относительно того, может ли он вообще
занимать пост руководителя «Советского института» (как, между прочим,
называли его в Скандинавии), профессор подал в отставку с этого поста. В
середине 1950-х гг. был приглашенным профессором в университетах
Великобритании и США; с 1958 по 1963 г. занимал должность профессора славянской
филологии в Свободном университете Берлина, затем, до выхода на пенсию
в 1974 г., вновь был профессором Хельсинкского университета. Почетный
доктор Стокгольмского университета (1977).
Составленное уже совершенно в иной стилистике, чем отзывы
предшественников, А. Йенсена и А. Карлгрена, экспертное заключение стокгольмского
русиста Нильса Оке Нильссона о Л.М. Леонове сродни добротной
энциклопедической статье. На восьми машинописных страницах дана лаконичная, но
достаточно полная и точная характеристика главных произведений Леонова, от
«Петушихинского пролома» (1922), когда впервые зазвучал не
подражательный, а собственный голос писателя, до повестей и драм военного времени,
630
впрочем, оставленных без анализа. Указания эксперта на экспрессивный,
орнаментальный стиль ранней прозы Леонова, контрапунктное построение
композиции, интерес к сложным конфликтным сюжетам и психологическим
коллизиям, разумеется, верны, но не прибавляют новых черт к тому, что известно о
леоновской творческой манере. В этом отзыве акценты расставлены иначе:
гораздо важнее, чем эволюция стиля писателя, оказались особенности его
идейно-социального самоопределения. Альтернативы, собственно, не было:
следовало либо примкнуть к пролетарским писателям, либо быть объявленным
контрреволюционером, напоминает Н.О. Нильссон. Сопоставляя
художественную манеру в «Барсуках» и «Воре», шведский славист весьма наглядно
показывает, насколько «Вор», производящий «впечатление экспериментального
романа, занимательный, захватывающий, как русские немые фильмы в пору их
расцвета», отличается от более ранних «Барсуков» большей громоздкостью
композиции, замедленностью сюжета и, главное, отсутствием ясной,
воплотившейся в тексте идеи.
Леонов 1930-х гг., указывает Нильссон, — это автор производственных
романов, ставший на путь выполнения социального заказа. Однако столь велики
его «свежий вкус к жизни и тяготение к драматическим коллизиям», что, даже
изображая процесс индустриализации и выполнения пятилетки, он создает
яркие, неординарные произведения, как, например, повесть «Саранча», которая
«несмотря на свой малый формат принадлежит к лучшему и виртуознейшему
из всего, что написал Леонов». Но уже в романе «Соть» (о покорении природы)
начинают преобладать «черты реалистического повествования», с
неодобрением констатирует Нильссон, явно подразумевая не просто реализм, а
социалистический реализм. О «Скутаревском», впрочем, сказано и того меньше: это
роман «не об окружающей среде, а о тех людях, которые покоряют ее». «Дорога
на океан», самое крупное эпическое творение Леонова («это кирпич почти в
1000 страниц», замечает нобелевский рецензент), — экспериментальный
роман, «без сомнения, интересный», но распадающийся на ряд эпизодов, не
связанных единым стержнем. На этом, сообщает эксперт в 1949 г., романное
творчество Леонова закончилось. (В действительности же именно в послевоенное
время писатель работал над своим самым знаменитым романом «Русский лес»,
опубликованным в 1953 г.) Оценив весьма высоко пьесы Леонова (в частности,
«Половчанские сады» отнесены к «лучшим образцам современной советской
драматургии») и отметив, что писатель играет важную, хотя и подчиненную
линии партии роль в литературном процессе своей страны, Н. Нильссон
резюмирует разбор творческой эволюции писателя утверждением, что в последних
леоновских сочинениях главенствует «коммунистическая тенденция». В
литературно-критических рубриках шведских газет имя Леонова практически не
мелькает, поскольку ни одно из его произведений к тому времени не было
переведено на шведский язык.
631
В 1949 г. заключение по леоновской кандидатуре в протоколе Нобелевского
комитета гласит:
Его романы мощно и увлекательно отражают советско-русское развитие,
выявленное оригинальным художником, но, ограниченные эпохой, его
сочинения уже не открывают общечеловеческой перспективы. То, что было обещано
в ранних романах Леонова, никогда не было им исполнено, и последний этап
его творчества едва ли вселяет надежду на новое и интересное развитие.
Именно отсутствие «общечеловеческой перспективы» и было сочтено
решающим для отклонения кандидатуры Леонида Леонова в Нобелевском
комитете [Nobelpriset i litteratur, II: 403]. Хотя Нильссон справедливо рассматривает
в качестве прямого художественного предтечи Леонова не Толстого, а
Достоевского, суть, однако, в другом: отвергнутый за попытку обозначить
перспективу для всего человечества русский гений Л. Толстой и отклоненный спустя
полвека за следование коммунистической линии крупнейший советский писатель
Л. Леонов оказались неприемлемы для нобелевских судий, как ни
парадоксально это прозвучит, из-за своих идеалов. От этой традиции — следования
идеалу — русская литература не отступала почти весь XX век. В 1950 г., не вдаваясь
в подробности, что крайне нехарактерно для стиля нобелевских заключений,
академики записали о Леонове: «Предложение отклоняется» [Ibid.: 418].
Почти десятилетие ушло у Нобелевского комитета Шведской академии
на поиск современного русского писателя, достойного звания лауреата
прославленной международной премии, присуждаемой за «идеальную»
направленность творчества; этим драматическим контроверзам посвящены
соответствующие главы нашего исследования. После «кризиса», связанного с
Нобелевской премией Бориса Пастернака, новые номинации русский писателей
относятся уже к началу 1960-х гг.
Не зная о поступивших в Стокгольм первых обращениях с именами
Михаила Шолохова и Бориса Пастернака, Марк Алданов из-за океана беспокоился, что
у него есть соперники из числа писателей-эмигрантов, и считал таковым Бориса
Зайцева. Волнения были не напрасны, хотя несколько преждевременны — имя
Зайцева возникло в номинациях на премию уже после смерти Алданова.
Кандидатура Зайцева была предложена вниманию стокгольмских
академиков в 1961 году Р. Плетневым, профессором русской литературы
Монреальского университета. Ростислав Владимирович Плетнев (1903-1985) в 1919 г.
вступил в Добровольческую армию, в 1920 г. эвакуировался на Принцевы острова,
гимназию окончил в Белграде (1923), диплом слависта получил в Карловом
университете в Праге (1926), там же защитил диссертацию («Природа в
произведениях Достоевского», 1928); после прихода к власти в Чехословакии
правительства Бенеша (1935) вернулся в Белград, преподавал на русском и сербском
языках в гимназии и Коларчевом университете, занимался славистическими
исследованиями. В 1941 г., после нападения гитлеровской Германии на Югосла-
632
вию, Плетнев вступил в королевскую армию, попал в плен, бежал и скрывался
от немецких властей. После победы Плетнева, как бывшего белогвардейца,
несколько раз подвергали арестам, а в 1951 г. он был объявлен «лишенцем» (его
лишили гражданства социалистической Югославии). Плетнев был вынужден
эмигрировать в Канаду, занимался черной работой (посудомойщика,
дворника); лишь в 1955 г. ему удалось устроиться преподавателем русской литературы
во франкоязычном Монреальском университете, в 1956 г. он стал профессором
Оттавского университета и в 1960 г. — англоязычного монреальского
университета Мак-Гилл. В Канаде Р. Плетнев выпустил на английском языке свои
лекции по русской литературе (Lectures on Russian Literature. Toronto, 1959), а на
французском языке «Беседы о русской литературе» (Entretiens sur la littérature
russe des 18e et 19e siècles. Montreal, 1964). После отставки в 1975 г. Ростислав
Плетнев продолжал научную и публицистическую деятельность.
Номинация Б.К. Зайцева на Нобелевскую премию датирована 10 ноября
1961 г. Ей предпослан эпиграф из Юзефа Виттлина (Wittlin; 1896-1976),
польского поэта, прозаика, эссеиста, переводчика, жившего в эмиграции в Нью-
Йорке: «Трудно чувствовать себя полезным, если это никому не нужно».
Написанное по-английски послание адресовано в «Королевскую академию наук» —
извечная путаница: такая академия в Швеции есть, но она объединяет ученых
естественнонаучных специальностей, а писатели и филологи входят в
Шведскую академию, Нобелевский комитет которой и присуждает знаменитую
премию в области литературы. Приведем, слегка купировав, текст этого послания:
Я беру на себя смелость предложить кандидатуру русского
писателя-изгнанника Бориса Зайцева на Нобелевскую премию о литературе.
В настоящее время Б. Зайцев живет в Булонь-сюр-Сен, Франция. Его
достижения как выдающегося писателя и автора литературных биографий
превосходны. Его произведения проникнуты великим духом христианства,
особенно «Преподобный Сергий Радонежский», «Москва», «Италия», «Золотой
узор», биографии Чехова и Жуковского. Его <прозаический> перевод
«Божественной комедии»1 принес ему заслуженную славу в области современной
русской прозы и эссеистики.
Как профессор русской литературы, я убежден, что, присуждая
Нобелевскую премию, вы не откажетесь рассмотреть произведения Бориса Зайцева.
В наше время не так много авторов, отличающихся столь же глубоким духом,
постигающим пространство и время.
1 К работе над переводом «Божественной комедии» Данте Б.К. Зайцев приступил в 1913 г.,
заключив договор с издательством К.Ф. Некрасова. Обстоятельства двух мировых войн,
революции и эмиграции надолго прерывали этот труд жизни, оконченный лишь зимой 1942-1943 гг.
Фрагменты публиковались в эмигрантской периодике (газетах «Возрождение» и «Последние
новости»), отдельным изданием перевод «Ада» вышел почти полвека спустя после начала работы —
но как раз накануне нобелевской номинации: Данте Алигиери. Божественная Комедия. Ад /
Перевод Бориса Зайцева. Париж: YMCA-Press, 1961.
633
Однако заслуженный профессор с такой типичной для русского эмигранта
биографией ошибался. В заключительном протоколе Нобелевского комитета
за 1962 год было констатировано, что сочинения (среди прочих перевод
«Божественной комедии») Бориса Зайцева — русского писателя-эмигранта,
живущего во Франции, малоизвестны и не заслуживают проведения подробного
рецензирования. Кандидатура тем самым была отклонена.
Между тем в списке кандидатов на премию 1962 года значится имя,
носитель которого, в отличие от действительно некрупного прозаика Бориса
Зайцева, пользуется репутацией одного из крупнейших филологов мира. Это
Роман Якобсон, номинированный профессором Петером Гартманом из Мюн-
стерского университета (Германия)2.
Поблагодарив Нобелевский комитет Шведской академии, которому
адресовано письмо на английском языке, за любезное приглашение принять
участие в выдвижении кандидатов на премию по литературе — первоначально
предполагалось, что эта честь присвоена лишь профессорам литературы, но
затем она была делегирована всем профессорам-филологам, — П. Гартман
использует свое право довольно оригинально. Не случайно в обращении в
комитет он позволяет себе нарочитую лексико-синтаксическую игру, говоря о
выдвижении на «Нобелевскую премию (литературную)»: главное для этой награды
уточнение помещено в скобки как нечто второстепенное! «Быть может, это
будет выглядеть забавно, — словно продолжая шутку и, однако, весьма тонко
используя известный прецедент, продолжает мюнстерский профессор, — если я в
своем предложении разграничу две категории, но я думаю о прославленных и
уже отмеченных прежде кандидатах, таких, как Теодор Моммзен, который стал
внушительным явлением, выходящим за пределы одной научной дисциплины.
Но решение принимать вам». Даже в этом последнем утверждении чудится
улыбка; но еще интереснее сделанное и неплохо обоснованное предложение.
Их, собственно, два. «Личность, достойная премии благодаря подлинным
заслугам — в литературном творчестве, в философии, имевшая большое
влияние и, по моему мнению, именно как личность, — это Жан-Поль Сартр
(сочинение, которое следует особенно выделить: "Бытие и ничто"3)». Напомним, что
после нескольких лет ожесточенных споров среди членов Нобелевского коми-
2 Hartmann Peter (1923-1984) — немецкий лингвист; учился в Берлинском университете им.
А. Гумбольдта и в университете Мюнстера, изучал общее и сравнительное языкознание, а также
японистику и индологию; первую диссертацию защитил по японскому языку, докторскую
(профессорскую хабилитацию) — по санскриту. Работал в Мюнстере, с 1953 по 1956 г. лектором и с
1956 по 1969 г. в качестве профессора общего и индоевропейского языкознания. В 1969 г. он стал
профессором общей лингвистики в университете Констанца, где проработал до самой смерти в
1984 г. Деятельность Гартмана принято делить на два периода: в университете Мюнстера он
занимался чистой наукой, в новообразованном университете Констанца — организацией науки.
П. Гартман был одним из создателей вводных курсов ряда славянских языков, изучение которых
было включено в университетскую программу. Среди двух десятков его книг — четырехтомная
«Теория грамматики» (Гаага, 1959-1962).
3 L'Être et le Néant: Essai dbntologie phénoménologique (1943).
634
тета премия была присуждена французскому философу, эссеисту, романисту,
драматургу в 1964 г. Словно подтверждая мнение П. Гартмана о мощном
воздействии на мыслящее человечество — еще большем, чем творчества, — его
личности, Сартр от премии отказался.
Под цифрой 2 в номинации немецкого профессора помещено имя
Якобсона:
Внушительным явлением с подлинными научными достижениями,
выходящими за пределы одной (моей собственной) научной дисциплины, но
имеющими международное признание, и ученым в области современной
лингвистики с результатами, известными во всем мире, я бы назвал Романа
Якобсона (профессора Гарвардского университета). Трудно выделить какой-либо
один труд, поскольку сама дисциплина в целом и, соответственно, каждый
труд ученого такого масштаба подразумевает проникновение в суть
главного средства национальных взаимосвязей и интернациональных культурных
взаимоотношений — языка (языков). Но, быть может, это именно то, что на
сей раз окажется препятствием.
Подписываясь, Петер Гартман завершил свое послание словами «С
благодарностью за ваше обращение», и это не кажется только формулой вежливости:
в самом деле, если за номинацией на литературную премию обратились к
лингвисту, то почему бы ему не подобрать подходящего кандидата именно в своей
области? Да ведь и P.O. Якобсон был не только ученым — но и личностью:
документы, связанные с его именем, отложились в нобелевском архиве и по
другим поводам, о чем мы уже говорили (в главах о Б. Пастернаке и А. Ахматовой).
Но, к сожалению, на этом сюжет заканчивается, не успев стать даже
маргинальным. В «Заключении» Нобелевского комитета о кандидатуре Р. Якобсона
записано: «Предложение отклонено». Если и были какие-то более пространные
возражения, в протокол они не занесены.
В 1963 г. среди кандидатов на Нобелевскую премию три русских имени:
советского романиста Михаила Шолохова, советского поэта Евгения Евтушенко
и русского эмигранта, американского писателя Владимира Набокова.
Заслуженный профессор Майнцского университета им. Иоганнеса Гуттен-
берга, живущий на покое в Бохуме славист Конрад Биттнер (Bittner; 1890-1967),
сам несколько смущенный своей неожиданной идеей, в самых церемонных
выражениях адресуется в Шведскую академию 21 января 1963 г. Поблагодарив
«досточтимый Нобелевский комитет» за «любезное приглашение представить
кандидатуру на Нобелевскую премию», эмеритус подчеркивает, что он
представляет «две дисциплины, немецкий язык и литературу и славянские языки и
литературы», и потому полагает, что имеет «право на номинацию только в
рамках двух этих специальностей».
Кроме того, позволю себе выразить свое мнение, что настоящее положение
вещей в немецкой литературе, как в Федеративной республике, так и в совет-
635
ской оккупационной зоне, не кажется мне достойным увенчания Нобелевской
премией.
В славянских странах я позволю себе указать на молодого русского (род.
1933) Евгения Александровича Евтушенко, убежденного коммуниста, в чьих
художественных произведениях, как в стихах, так и в прозе, все больше
прорывается стремление отразить человеческие мысли и чаяния, причем он не
уклоняется от конфликтов с официальной литературной линией в Советском
Союзе, но, напротив, мужественно держит удар. Впрочем, у меня лично
сложилось мнение,
1. что художественное развитие вышеназванного писателя только
начинается и еще не созрело для столь высоких почестей;
2. что и сам писатель еще так молод, что его, в процессе становления,
может захватить общим течением, так что с чистой совестью можно пройти мимо
этого предложения.
Молодой, дерзкий — ни о ком из советских поэтов шведские газеты не
писали в оттепельные годы так много и охотно, как о Евгении Евтушенко;
Пастернак и Ахматова, с их трепетным отношением к Серебряному веку, с
изысканным, но маргинальным в советскую эпоху модерном, далеко отставали от
Евтушенко по интересу, проявлявшемуся к ним журналистами. Однако
патриархи из Нобелевского комитета обоснованно указали, что «в мгновение ока
обративший на себя внимание и ставший сенсацией русский поэт пока еще
создал так незначительно мало, что предложение должно быть отложено до
будущих времен».
Владимира Набокова первым номинировал Роберт М. Адаме (Adams; 1911-
1992), профессор английского языка Корнельского университета (Итака, США).
«В набоковской биографии Итака наиболее известна как место рождения
Лолиты», — замечает Моррис Бишоп (Bishop; 1893-1973), некогда сыгравший
судьбоносную роль в получении В.В. Набоковым ставки профессора русской
литературы в этом университете [Бишоп 1999: 152-155]. Бишоп был
профессором романской филологии, и в его небольшом мемуаре о писателе Нобелевская
премия не упоминается; впрочем, Набоков профессорствовал в Итаке с 1947
по 1959 г., а номинация написана несколькими годами позднее. Однако в
воспоминаниях Морриса Бишопа прекрасно воссоздана атмосфера или, точнее,
аура, которой окружил свое пребывание «в Корнеле» Набоков. Прочитанные
им (с блеском) лекции не только о русских, но и об английских классиках
поражали интерпретацией их творчества, осуществляемой «с проницательностью
филолога и осведомленностью творца», щедро уснащенной «набоковскими
эпиграммами и шуточными интерлюдиями» [Там же: 153]. «Годы, проведенные
в Корнеле, были плодотворными для Набокова. Кроме рассказов и стихов для
<Ήью-Йopκepa,, он написал "Пнина", "Лолиту", "Убедительное доказательство",
серию статей по энтомологии; перевел "Слово о полку Игореве" и "Евгения
Онегина"» [Там же: 154].
636
В переводе — и, без сомнения, в оригинале — профессорских
воспоминаний участь американского издательства, которое решилось бы на публикацию
«Лолиты», элегантно названа «ограничениями личной свободы», т. е.
преследованиями вплоть до ареста [Там же: 155]. М. Бишоп вспоминал:
Когда в 1955 году «Лолита» вышла в Париже под маркой порнографического
издательства и когда вскоре после этого книга была запрещена напуганными
французскими властями, мое беспокойство резко возросло. Я воображал
поток раздраженных писем к Президенту университета: «Не этот ли мерзавец
учит мою дочь? Немедленно заберу ее из университета и прекращу
пожертвования в Фонд выпускников». К счастью, лишь немногие выпускники были в
курсе парижских литературных новостей. А к 1958 году, когда «Лолита» была
опубликована в Америке, в печати появилось еще несколько смелых работ,
и битва за свободу выражения велась уже на других полях. Теперь «Лолита»
являлась художественным произведением, а не щекотливым пособием для
одинокого сердца. <...> Взрыв, которого я боялся, не произошел. Но я все же
полагаю, что он мог произойти в 1955 году; трехлетняя отсрочка публикации
книги в Америке спасла Владимира, университет и меня от шумихи и,
пожалуй, от гибельной конфронтации [Там же: 155].
Таким образом, Роберт Адаме обратился в Нобелевский комитет, когда
страсти вокруг «Лолиты» улеглись даже в Америке, а Набокову давно уже было
что предъявить читающему человечеству и помимо капризной нимфетки.
Роберт Мартин Крапп (Krapp) сменил фамилию на Адаме после службы в
армии по время Второй мировой войны — возможно, из-за ее слишком
немецкого звучания. Он окончил Колумбийский университет, где получил все свои
дипломы и степени; преподавал в университетах Висконсина, Корнуэлла, Нью-
Джерси и Калифорнии. Интересы Р. Адамса — не только преподавателя, но и
переводчика, и критика — были чрезвычайно обширными. Ему принадлежат
монографии о Шекспире, Мильтоне, Стендале, Джойсе, а также книги по
теории и практике перевода и обзорный труд «Англия — страна и литература:
исторический очерк» («The Land and Literature of England: A Historical Account»,
1983). Статьи и рецензии Адамса публиковались, в частности, в «The New York
Times Book Review», «The Wall Street Journal», «The New York Review of Books»;
его переводы из мировой классики — «Кандид» Вольтера, «Красное и черное»
Стендаля, «Князь» Никколо Макиавелли — также стали классическими.
Литературовед, переводчик и редактор переводов великих европейских писателей,
Роберт Адаме обладал и должными познаниями, и безупречным литературным
вкусом. В Стокгольм он обращается как руководитель Отделения литературы
(Chairman, Division of Literature).
Датированная 7 января 1963 г. номинация Владимира Набокова на
Нобелевскую премию заслуживает публикации практически без купюр:
637
Господа,
откликаясь на ваше любезное приглашение назвать кандидатов на
Нобелевскую премию по литературе, я счастлив предложить имя Владимира
Набокова.
Набоков прославился, увы, как автор одного нашумевшего романа —
«Лолита». Однако, хотя и воспринятый как сенсационный, роман «Лолита»
таковым вовсе не является; напротив, он стал вершинным достижением целой
напряженной литературной жизни, выражением всеобщей отчужденности,
распустившимся цветком совершенного и теперь уже исчезающего стиля. По-
русски и по-английски уже более сорока лет Набоков неустанно занят
совершенствованием особого зрительного дара, особого вида литературной
гармонии. Из его восьми романов, написанных на русском языке, я считаю лучшим
«Приглашение на казнь»; по стилю он отдаленно напоминает Кафку, но с
оттенком интеллектуального превосходства, что помещает его, на мой взгляд,
на ступень выше, чем тягучая покорность кафкианского повествования. На
английском языке — разумеется, «Лолита»; недавно веселый взрыв «Бледного
огня» (1962), который <рецензент> Мэри Маккарти назвала лучшим— при
любом раскладе — из всех американских романов; ряд грустно-комических
очерков, составляющих «Пнина» и «Подлинную жизнь Себастиана Найта»,
и еще три сборника рассказов, чтобы уравновесить также три русских
новеллистических сборника. В добавление к этому перечню произведений — на
двух, заметим, языках и значительных по содержанию — Набоков выступает
еще и как критик и переводчик. Его исследование Гоголя стало классическим,
а его перевод «Евгения Онегина» (с обширными комментариями) не только
виртуозен в литературном отношении, но столь глубок и компетентен в
отношении научном, что (когда будет издан) он заставит устыдиться советских
пушкиноведов4.
Совершенно особое качество творчества Набокова проистекает из того
обстоятельства, что он с ранней юности был лишен дома, был лишен
гражданства и был вырван из почвы своего родного языка. Со времен Джозефа
Конрада никому не удавалось осуществить столь ошеломляюще успешно переход
на другой язык. Он находится на таком этапе своего творческого развития,
когда Нобелевская премия сможет подтвердить его литературные достижения
и воздать должное его безусловной индивидуальности, столь давно очевидной
его собственному уму и стилю. Наконец, я нахожу важным отдавать дань —
всюду, где это возможно, — интеллигенции, лишенной наследства;
изгнанникам, свободным умам; интеллигенции потерянной и всем чужой, которую
Набоков прежде всего и представляет.
Я отлично понимаю, каким относительно радикальным выглядит это
выдвижение и что перед вами — имена куда более почтенных мужей, столпов
литературного общества. И вот как раз именно потому, что он не является
членом какой-либо группы, школы или национальной традиции, мне кажется,
что это исполинское, гонимое воображение, этот фантастический дар
стилиста заслуживает высочайшей из литературных наград.
4 См.: [Бишоп 1999: 155].
638
Дважды американский литературовед — тонкий и умный ценитель набо-
ковской прозы — деликатно предостерегает Нобелевский комитет от риска
банальных и глубоко неверных трактовок: оговорив опасность досужего
обывательского осуждения «Лолиты» и позволив себе в завершение отсылку к
названию пьесы Г. Ибсена5, одного из наиболее прославленных «отверженных»
среди кандидатов на Нобелевскую премию. Но призыв Роберта Адамса не был
услышан. В заключительном протоколе 1963 года записано именно то, чего
опасался американский профессор:
Репутация русского писателя-эмигранта тесно связана с его аморальным
сенсационным романом «Лолита», который едва ли возможно рассматривать
с точки зрения Нобелевской премии. Мемуарные очерки писателя о детстве в
дворянском окружении обладают, впрочем, бесспорным очарованием, и он
является прославленным мастером стиля, превосходно овладевшим
английским языком. Его виртуозность все же не имеет никакого отношения к
идеальной направленности, заложенной в Нобелевской премии.
В 1964 г. с предложением набоковской кандидатуры выступила
кембриджский профессор-славист Элизабет Хилл6. Ей не кажется, что требуется
подробное обоснование: ведь писатель очевидно великий! Выдвигая прославленного
русско-американского писателя на Нобелевскую премию, Э. Хилл просто
констатирует:
У него столь прочная репутация, что я, как следствие, лишь признаю, что у
меня нет необходимости писать о нем пространный очерк. Я бы хотела,
однако, подчеркнуть свое твердое убеждение, что будущие историки русской
литературы, обращаясь к периоду ее послереволюционного развития, будут
рассматривать вклад Владимира Набокова в жанр романа как наиболее
оригинальный и значительный не только в русском, но и в мировом контексте.
Письмо ушло в Стокгольм 17 января 1964 г. Но и в 1964, и в 1965, и в 1966 г.
академики лаконично помечали в заключительном протоколе: «Владимир
Набоков. Кандидатура уже отклонена». Напрасно старались хлопотавшие за
необыкновенного писателя американские профессора. В 1965 г. Набокова
номинировали два профессора английской литературы Колумбийского университета,
Andrew J. Chiappe (1915-1967), ведущий американский специалист по
Шекспиру, и Фредерик (Фред) В. Дьюпи (EW. Dupee; 1904-1979), преподававший
современную литературу и имевший репутацию одного из крупнейших
американских литературных критиков; начинал он, кстати, как марксистский весьма
радикально настроенный журналист. В 1966 г. в Стокгольм обратился профессор
5 «Столпы общества» («Pillars of Society»; «Samfundets Stotter», 1877).
6 Dame Elizabeth Mary Hill (Елизавета Федоровна; 1900-1996) — британский славист
англорусского происхождения, профессор Кембриджского и Лондонского университетов,
руководитель государственной программы по подготовке переводчиков-русистов для военных и
разведывательных целей.
639
французской литературы Жак Гишарно из Йельского университета (Jacques
Guicharnaud; 1925-2005), знаток французского театра, от классицизма до Бек-
кета. Академики оставались непреклонны, указав, что «последнее» (по-русски
вышедшее в 1938 г.) произведение Набокова, «Изобретение Вальса» («комедия о
создании телекоммуникационного разрушительного оружия), впечатляет
скорее изощренной виртуозностью, чем глубиной прозрения». Casus Nabokovi не
требовал подробного очерка, аргументированного мнения экспертов — члены
Нобелевского комитета руководствовались собственным мнением, и если в
литературном отношении их позиция оказалась более чем уязвимой, зато они
верили в непогрешимость собственной морали. И в то, что блистательный стиль
не имеет отношения к идеалам...
Заключение
Зеркало может рассказать о многом — но какие же выводы можно сделать
из его отражений? Отражения — только мгновения вечно меняющейся, всегда
новой жизни, в которой недавние кумиры становятся архаикой и настоящее
всегда неудовлетворительно... Однако нобелиады русских писателей
неизменно притягательны, занимательны и поучительны. Во-первых, потому, что они
стали частью биографий писателей, теми страницами их жизни и творчества,
которые благодаря Нобелевской премии оказались вписанными в мировой
социокультурный и политический контекст. Во-вторых, архив Шведской
академии и шведская периодика раскрываются как богатейший источник по
рецепции русской литературы и ее интерпретации европейским сознанием. При
всем неизбежном недовольстве многими решениями Нобелевского комитета
шведская точка зрения является весьма показательным примером зарубежного
восприятия русской литературы, будучи довольно взвешенной и
ответственной, прежде всего в силу прагматической зависимости от присуждения
международной награды. В-третьих, формирование мифообраза России на Западе
неотделимо от чтения русской литературы; важно и то, что вычитывают из
классики XX века, и то, что в нее вчитывают.
Как институт прежде всего премиальный, Нобелевский комитет судит
литературу своего времени — что по плечу не каждому литературному критику.
Однако цель нобелевского ареопага — разглядеть в национальном творении
общечеловеческий идеал, и потому процесс обсуждения той или иной
кандидатуры неизбежно обнажает тенденции как развития литературы, так и ее
восприятия; более того, он раскрывает ожидания, в разные периоды XX столетия
обращенные к художественному слову.
Впрочем, можно ли к международной литературной премии подходить с
теми же мерками, какие мы предъявляем к учебной или научной «Истории
литературы»? В истории присуждения Нобелевской премии запечатлен
литературный процесс целого столетия, движение мировой литературы, а не ее
застывшие в неких образцах каноны. В годы, когда умами человечества владели
Толстой и Ибсен, Стриндберг и Горький, именно эти писатели не мыслились
приемлемыми в качестве лауреатов. Дело не в частном консерватизме шведских
академиков: этот консерватизм отражал некий метафизический ужас
европейских интеллектуалов в предощущении «заката Европы», когда обновленные
формы искусства и взрывоопасные идеи, казалось, сами приближают,
провоцируют время катастроф, эпоху войн и революций.
641
Два десятка русских кандидатур было представлено на литературную
Нобелевскую премию за первые две трети XX в., и очевиден тот факт, что и сами
писатели, и их творчество были охвачены революционной стихией, ибо
«русская литература середины и второй половины девятнадцатого века жила
пафосом реформаторским, верой в возможность усовершенствования человеческой
жизни путем политических и социальных реформ», как отметил Д.П. Свято-
полк-Мирский в статье 1926 г. «О нынешнем состоянии русской литературы»
[Mirsky 1989: 227]. После Октября 1917 года крушение прежней и созидание
новой России, во всем драматизме событий и судеб, вновь было пережито
литературой, хотя страсти по русскому роману, созданному в Советской стране,
развернулись только в послевоенное время.
Изучение нобелевских архивных материалов весомо подтверждает, что
русская литература в глазах европейцев современной ей эпохи — это прежде всего
«зеркало русской революции», от романов Л. Толстого до поэм А. Ахматовой.
Чтобы избежать искажений при этих множественных отражениях, непременно
следовало пролистать шведскую периодику, страницы которой пестрят
именами советских писателей, — их в межвоенный период на премию не выдвигали,
хотя переводили и рецензировали весьма охотно; между тем номинированные
писатели русского зарубежья выглядели тенденциозными в своем отрицании
закономерности и необходимости свершившейся революции и переводились
на шведский язык куда менее охотно. После Второй мировой войны
игнорировать советских авторов в Нобелевском комитете стало уже невозможно;
но борьба, развернувшаяся вокруг кандидатур Пастернака и Шолохова и
вовлекавшая в свою орбиту весь цивилизованный мир, свидетельствовала лишь
о том, что революция продолжается — и война, т. е. идеологическое
противостояние, разгорается с новой силой.
Рассуждая о «смысле истории» с точки зрения русской революции, H.A.
Бердяев со свойственной ему афористичностью так сформулировал главный итог
революции:
Русская культура была по преимуществу дворянской. Она кончилась.
Дворянство низвергнуто. И оно само много сделало для своего падения, оно
выродилось и потеряло сознание своего призвания. Дворянский стиль культуры,
который господствовал и в недворянских слоях, в буржуазии и интеллигенции,
заменился стилем солдатско-мужицко-пролетарским [Бердяев 2002: 266].
Бердяев указывает — и, в отличие от писателей-эмигрантов, в ужасе
бежавших из охваченной гражданской войной страны, ему не мешают зашоренность
и предубеждение, — что катастрофа
произошла в самых первоосновах русского общества и русской культуры, она
произошла в глубине духа народного. Русский народный слой, в сущности,
никогда не мог не только социально, но и религиозно принять русский
культурный слой и русское барство. Раскол между верхним и нижним слоем у нас
всегда был таков, какого не знали народы Запада [Там же: 266-267].
642
Этот раскол и его итоги откровеннее и с художественной точки зрения ярче
и, главное, обаятельнее всего отразились в творчестве Бунина, и именно эту
тему — гибель дворянской, «барской» России — в нем выделил нобелевский
синклит. Положение Бунина в истории русской литературы гораздо менее
однозначно, чем простой «традиционализм», но выполнение им определенной
художественной «миссии» несомненно: не дождавшись эпопеи о
революционной современности, исполненной с толстовским размахом, в Шведской
академии остановили выбор на отпевании той самой дворянско-помещичьей
России, великолепному цветению которой за сто лет до того был посвящен великий
роман отвергнутого нобелевскими «ценителями и судьями» автора.
Ни религиозно-мистические искания интеллектуала Мережковского, ни
сказ Шмелева — сбивчивые голоса городской интеллигенции и мещанства, ни
тем более литературные опыты представителей разбитой Белой армии
(Краснов) или разорившейся буржуазии (Алданов) не привлекли благосклонного
внимания нобелевского жюри; лишь анахронизмом показался некогда
пленявший умы Бальмонт; историософские объяснения истоков и смысла русской
революции, предложенные Бердяевым, конвертировавшимся из марксиста в
идеалисты, тоже были в Стокгольме проигнорированы. Правда, шведских
академиков и привлекала, и отталкивала Россия Горького, и лишь политические
убеждения писателя определили полную невозможность увенчать его
нобелевскими лаврами. Главный выбор, во многом политизированный, и совершался
между Горьким и Буниным — между двумя направлениями русской
литературы, выраженными в творчестве именно этих двух писателей особенно
отчетливо и эстетически, и идеологически: служение «чистому искусству» и
общественное служение. Бунинское творчество, казавшееся продолжением
классических русских традиций, было гораздо ближе европейскому
негативному восприятию России: хотя жестокое изображение страшных сторон жизни и
человеческой души в русской литературе неизменно сопрягалось с идеалом,
Бунин останавливается на границе света и тьмы, тогда как Горький стремится
к ее преодолению.
Сосредоточенность европейских читателей на русской прозе тем более
примечательна, что перед революцией в отечественной литературе сложилась
своеобразная ситуация, когда главным родом литературы стала поэзия. В
начале 1920-х гг. безупречно-изысканный Бунин был принят современной
критикой за образец — но, увы, падения, измельчания русской прозы, тогда как ее
«возрождение» зоркий Д.П. Святополк-Мирский связывал отнюдь не с
писателями, оказавшимися в эмиграции, а с молодыми литераторами, творившими в
советской России [Mirskiy 1923: 200]. Правота критика-парадоксалиста
подтверждается и шведскими источниками: не успели отзвенеть фанфары бунин-
ских нобелевских торжеств, как в Стокгольме огласили имя уже другого
русского кандидата на премию — Шолохова, автора «великой эпопеи» о донском
казачестве в революционную смуту. Нобелевский комитет ожидал эпического
643
полотна с изображением и, возможно, даже желательно, с объяснением
событий совершившейся на глазах истории. Ожидание было огромным: западные
читатели ждали эпоса, подобного толстовской эпопее «Война и мир», об эпохе
русской революции.
Но дело заключалось не только в отсутствии литературного дарования,
столь же мощного и глубокого; сознание писателя раскалывалось вместе с
расколом сознания общественного. В литературе предельный индивидуализм
обусловливал лирический субъективизм повествования (Бунин, позже
Пастернак), подчинение коллективной воле накладывало идеологические вериги на
писателя (Горький, позже Шолохов). Космополит и гений стиля Набоков
безнадежно проигрывал рожденному тоталитарным государством и отважившемуся
на борьбу с ним диссиденту Солженицыну (во всех подробностях их
«нобелевские дела» предстоит открыть в ближайшие годы). История присуждения
Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку изучена едва ли не во всех своих
драматических перипетиях, но архивы преподносят новые сюрпризы. О том, как шел к
нобелевским лаврам М.А. Шолохов, было известно прежде всего по
отечественным источникам, к которым нам впервые удалось добавить материалы из
шведского академического архива и из ведущих шведских газет за несколько
десятилетий. Молодой и ранний властитель умов, каким автор казачьей эпопеи
воспринимался в Швеции на протяжении нескольких десятилетий, постепенно в
представлении европейской интеллигенции измельчал до уровня эпатажного и
косного советского ортодокса: нобелиада верного коммунистическим идеалам
писателя вновь высветила неизменность идеологической парадигмы по
отношению к СССР на Западе.
Контроверзы политические, отнимавшие у литературы ее художественные
права и саму свободу творческого акта, обратили Нобелевский комитет к
поиску хороших несервильных писателей в советской литературе (и в списке
номинаций появились патриархи Ахматова и Паустовский, мелькнуло имя молодого
и дерзкого Евтушенко). Как и в первой половине века, в следующие
десятилетия многое в решении комитета зависело от эксперта, хотя научная
осторожность и академическая взвешенность очевидно приходят на смену крайнему
субъективизму прежних оценок. Если Антон Карлгрен с блеском полемиста и в
великолепии словесного дара разил гениев не столько как незаконных
претендентов на нобелевское золото и славу, но прежде всего — за несоответствие
собственным представлением об образцовой, точнее, чарующе прекрасной
русской литературе (красноречив пример Бердяева), то Нильс Оке Нильссон
стремился к раскрытию истины даже в формате экспертных заключений и старался
придать своим pro et contra облик строгих научных аргументов; и все же его
оценка Л. Леонова, дерзновенно обновлявшего литературные формы, сильно
отретуширована идеологией и оттого излишне строга. Пожалуй, только Э. Мее-
тертон продемонстрировал глубокую честность подлинного специалиста в
области литературы, оценивая творчество Ахматовой и Паустовского.
644
Нобелевский комитет никаких эталонов не вырабатывал — но, разумеется,
следовал тем или иным художественным образцам соответствующей эпохи.
Что именно привлекало шведских академиков в русской литературе и что
отталкивало — это не просто вопрос частных литературных пристрастий и
вкусов небольшой группы людей. Это и отражение — иногда искаженное, чаще
бледное, но порой удивительно точное — смены идейно-художественных вех в
самой русской литературе. Несколько ключевых пунктов этого восприятия
помогают, в конечном счете, создать более полную историю русской литературы в
XX веке, осознать ее ценностные ориентиры и художественные достижения, ее
смелую оригинальность и обретение свободы в разрушении формальных
образцов или отживших идеалов.
Нобелевская премия по литературе — лишь зеркало, улавливающее
отражения «громадно несущейся» мировой литературы. Образ русской литературы,
отразившийся в нобелевском зеркале, предстает не всегда узнаваемым,
утрачивает некоторые привычные черты и наделяется новыми качествами.
Надеемся, что некоторые из «русских отражений» нам удалось запечатлеть
в этой книге.
ЛИТЕРАТУРА
Адамович 1932 — Адамович Г. [Рец.] И.С. Шмелев. Родное. Про нашу Россию: Воспоминания,
рассказы. Белград, 1931 // Современные записки. 1932. T. XLIX.
Адамович 1933а — Адамович Г. 9-го ноября // Последние новости. 16.11.1933. № 4621.
Адамович 19336 — Адамович Г. Шолохов // Последние новости. 24.08.1933. № 4537.
Адамович 1994 — Адамович Г. Бунин. Воспоминания // Дальние берега: Портреты писателей
эмиграции / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1994.
Адамович 2001а — Адамович Г. Мережковский // Д.С. Мережковский: Pro et contra. Личность и
творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология / Сост. А.Н. Нико-
люкин. СПб., 2001.
Адамович 20016 — Адамович Г. «Митина любовь» И. Бунина // И.А. Бунин: Pro et contra
(Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и
исследователей). Антология / Сост. Б.А. Аверина, Д. Риникера, К.В. Степанова, коммент. Б.В. Аверина,
М.В. Виролайнен, Д. Риникера, библиогр. Т.М. Двинятиной, А.Я. Лапидус. СПб., 2001.
Адамович 2002 — Адамович Г.В. Одиночество и свобода / Сост., послесл., примеч. O.A. Коросте-
лева. СПб., 2002.
Алданов 1930 — Алданов М. [Рец.] Ив. Бунин. «Жизнь Арсеньева». Истоки дней (Париж, 1930) //
Современные записки. 1930. T. XLII.
Алданов 1931 — Алданов М.А. [Рец.] Мережковский Д.С. Тайна Запада. Атлантида - Европа//
Современные записки. 1931. T. XLVI.
Амфитеатров и Иванов. Переписка 1997 — A.B. Амфитеатров и В.И. Иванов. Переписка /
Предисл. и публ. Джона Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 22. СПб., 1997.
Анастасьев 1987 — Анастасьев Н. Присутствие критика // Мирский Д. Статьи о литературе. М.,
1987.
Андреев 1994 — Андреев H.H. S.O.S.: Дневник (1914-1919). Письма (1917-1919). Статьи и
интервью (1919). Воспоминания современников (1918-1919). М.; СПб., 1994.
Аничков 1914 — Аничков Е.В. Бальмонт // Русская литература XX века / Под ред. проф. С.А. Вен-
герова. Т. 1. М., 1914.
Анненский 1906 — Анненский И. Книга отражений. СПб., 1906.
Анненский 1979 — Анненский И.Ф. Книга отражений. М., 1979.
Арбузова 2017 — «Он старался быть подальше от власти». Писатель Константин Паустовский
в воспоминаниях своей падчерицы Галины Арбузовой. Беседовал К. Журенков // Огонек.
2017. 29 мая. №21.
Ариас-Вихиль 2011 — Ариас-Вихиль М.А. М. Горький — претендент на Нобелевскую премию
(По материалам Архива М. Горького) // От Бунина до Пастернака. Русская литература в
зарубежном восприятии: К юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям /
Сост. Т.В. Марченко. М., 2011.
Афанасьев 1966 — Афанасьев В.Н. И.А. Бунин. Очерк творчества. М., 1966.
Ахматова 1987 — Ахматова A.A. Сочинения. В 2 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы / Сост., подгот.
текста и коммент. В. Черных. М., 1987.
Бабореко 1973 — Из письма Р. Роллана Луизе Круппи 20 мая 1922 г. (Сообщ. А.К. Бабореко) //
Литературное наследство. Иван Бунин. Кн. П. М., 1973.
Бабореко 1983 — Бабореко А.К. И.А. Сунин. Материалы для биографии с 1870 по 1917. Изд. 2-е.
М., 1983.
Бабореко 2004 — Бабореко А.К. Бунин: Жизнеописание. М., 2004.
Бальмонт 2010 — Бальмонт К.Д. Собрание сочинений. В 7 т. М., 2010.
646
Бальмонт и Шмелев. Письма 2002 — Константин Бальмонт и Иван Шмелев. Письма К.Д.
Бальмонта к И.С. Шмелеву / Вступ. ст., примеч. и публ. K.M. Азадовского и Г.М. Бонгард-Леви-
на // Наше наследие. 2002. № 61.
Бахрах 1977 — Бахрах А. По памяти, по записям. М.А. Алданов // Новый журнал. 1977. Кн. 126.
Бахрах 1978 — Бахрах А. По памяти, по записям. Разговоры с Буниным // Новый журнал. 1978.
Кн. 130 (I). Кн. 131 (II). Кн. 133 (III).
Бахрах 2001 — Бахрах А. Померкший спутник // Д.С. Мережковский: Pro et contra. Личность и
творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология / Сост. А.Н. Нико-
люкин. СПб., 2001.
Бахчинян 1998 — Бахчинян А. Редкостная для нашего времени закваска // Элитарная газета.
Ереван, 10.01.1998. № 1 (39).
Белый 1904 — Белый А. К.Д. Бальмонт // Весы. 1904. № 3.
Белый 1994 — Белый А. Бальмонт // Белый А. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и
примеч. Л.А. Сугай. М., 1994.
Бем 1996 — Бем АЛ. Письма о литературе. Прага, 1996.
Берберова 1996 — Берберова H.H. Курсив мой: Автобиография. М., 1996.
Бердяев 1949 — Бердяев H.A. Самопознание (опыт философской автобиографии). Париж, 1949.
Бердяев 1990а — Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Бердяев 19906 — Бердяев H.A. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и
начала XX века // О России и русской философской культуре: Философы русского
послеоктябрьского зарубежья. М., 1990.
Бердяев 2002 — Бердяев H.A. Новое Средневековье // Бердяев H.A. Смысл истории. Новое
средневековье. М., 2002.
Бердяева 2002 — Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа / Сост., автор предисл. и коммент.
Е.В. Бронникова. М., 2002.
Бицилли 1938 — Бицилли П.М. [Рец.] Д. Мережковский. Франциск Ассизский // Русские записки.
1938. Т. 11.
Бишоп 1999 — Бишоп М. Набоков в Корнельском университете / Пер. с англ. Г. Стариковского;
вступ. заметка Г. Глушанок // Звезда. 1999. № 4.
Блок 1909 — Блок А. Бальмонт // Речь. 1909. 2 марта.
Блок 1962 — Блок A.A. Собрание сочинений. В 8 т. Т. V. Проза 1993-1917. М.; Л., 1962.
Блок 1963 — Блок A.A. Собрание сочинений. В 8 т. Т. VIII. Письма 1898-1921. М.; Л., 1963.
Блох 2001 — Блох A.M. Советский Союз в интерьере Нобелевских премий. Факты. Документы.
Размышления. Комментарии. СПб., 2001.
Блюм лова, Блюмл 1999 — Блюмлова Д., Блюмл Й. «Крестный путь» чехов за Нобелевской
премией по литературе // Славяноведение. 1999. № 3.
Богомолов 2004 — Богомолов H.A. Читая брюсовскую переписку (Несколько заметок) // В.Я.
Брюсов и русский модернизм: Сб. статей / Ред.-сост. O.A. Лекманов. М., 2004.
Бонгард-Левин 1997 — Бонгард-Левин Г.М. Четыре письма И.А. Бунина М.И. Ростовцеву //
Скифский роман: Сборник очерков. М., 1997.
Бонгард-Левин 2001 — Бонгард-Левин Г.М. Кто вправе увенчивать? // Наше наследие. 2001. С. 59-
60.
Бонгард-Левин 2002 — Бонгард-Левин Г.М. Академик М.И. Ростовцев и Нобелевская премия
И.А. Бунина // Бонгард-Левин Г.М. Из «Русской мысли». М., 2002.
Брандес 2001 — Брандес Г. Мережковский // Д.С. Мережковский: Pro et contra. Личность и
творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология / Сост. А.Н. Николю-
кин. СПб., 2001.
Брюсов 1912 — Брюсов В.Я. Далекие, близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до
наших дней. М., 1912.
Брюсов 1975 — Брюсов В.Я. Что же такое Бальмонт? // Брюсов В.Я. Собрание сочинений. В 7 т.
Т. 6. Статьи и рецензии 1893-1924. Из книги «Далекие и близкие». Miscellanea. M., 1975.
Бунин 1965-1967 — Бунин И.А. Собрание сочинений. В 9 т. М., 1965-1967.
647
Бунин 1987-1988 — Бунин И.А. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1987-1988.
Бунин 1990 — Бунин И.А. Окаянные дни. СПб., 1990.
Бунин 1991 — Бунин И.А. Избранное. М., 1991 (Серия Русские писатели — лауреаты Нобелевской
премии).
Бунин 1998 — Бунин И.А. Публицистика 1918-1953 гг./ Вступ. ст. О.Н.Михайлова; коммент.
С.Н. Морозова, Д.Д. Николаева, Е.М. Трубиловой; под общей ред. О.Н. Михайлова. М„ 1998.
Бунин, Горький 2004 — Бунин И. Окаянные дни. Горький М. Несвоевременные мысли. М., 2004.
Бунин: Pro et contra 2001 — И.А. Бунин: Pro et contra (Личность и творчество Ивана Бунина в
оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей). Антология / Сост. Б.А.
Аверина, Д. Риникера, К.В. Степанова, коммент. Б.В. Аверина, М.В. Виролайнен, Д. Риникера,
библиогр. Т.М. Двинятиной, А.Я. Лапидус. СПб., 2001.
Бунин: Новые материалы 2004 — И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. I / Сост., ред. О. Коросте-
лева и Р. Дэвиса. М., 2004.
Бунина 1989 — Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989.
Бунина-Муромцева 1994 — Бунина-Муромцева В.Н. То, что я запомнила о Нобелевской премии //
Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд.
М., 1994.
Вадимов 1993 — Вадимов А. Жизнь Бердяева. Россия. Oakland; Berkeley, 1993. (Berkeley Slavic
Specialties. Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts. Vol. 29.)
Васильев 2002а — Васильев В.В. Краснов П.Н. «От Двуглавого Орла к красному знамени» //
Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918-1940. Книги / Гл. ред. и сост. А.Н. Нико-
люкин. М., 2002.
Васильев 20026 — Васильев В.В. Шолохов и Нобелевская премия: история вопроса // Литература.
2002. № 23 <http://noblit.ru/node/1290>.
Вейдле 1993 — Вейдле В. О тех, кого уже нет. Воспоминания. Мысли о литературе / Публ. Г.
Поляка // Новый журнал. 1993. Кн. 192-193.
Венгеров 1904 — Критико-биографический словарь русских писателей и ученых/ Под ред.
С.А. Венгерова. Т. VI. СПб., 1904.
Венгеров 1905 — Венгеров С. Бальмонт, Константин Дмитриевич // Энциклопедический словарь /
Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Доп. т. I. СПб., 1905.
Виноградов 1925 — Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой (стилистические наброски). Л.,
1925.
Воронский 1926 — Воронский А.К. О Горьком // Красная новь. 1926. № 4 (апрель).
Вышеславцев 1934 — Вышеславцев Б.П. [Рец.] Д.С. Мережковский. «Иисус Неизвестный» //
Современные записки. Париж, 1934. Т. 55.
Ганелин 1985 — Ганелин P.C. М. Горький и американское общество в 1906 году // Русская
литература. 1985. № 1.
Гиппиус 1924 — Гиппиус З.Н. Южные стихи // Современные записки. 1924. Т. XVIII.
Гиппиус 1929 — Гиппиус 3. Синяя книга. Петербургский дневник: 1914-1918. Белград, 1929.
Гиппиус 1933 — Гиппиус 3. В сей час // Последние новости. 16.11.1933. № 4621.
Гиппиус 1991 — Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский // Гиппиус З.Н. Живые лица:
Воспоминания / Сост., предисл. и коммент. Е.Я. Курганова. Тбилиси, 1991.
Гиппиус 1999 — Гиппиус З.Н. Синяя книга (1914-1917) // Гиппиус З.Н. Дневники. В 2 кн. М., 1999.
Гитович 1991 — Гитович С В Комарове // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.
Гланц 2011 — Гланц Т. Позор. О восприятии ввода войск в Чехословакию в литературных и
гуманитарных кругах // Новое литературное обозрение. 2011. № 111.
Городецкая 1933 — Городецкая Н. Встреча с Буниным // Возрождение. 16.11.1933. № 3089.
Горький 1949-1955 — Горький A.M. Собрание сочинений. В 30 т. М., 1949-1955.
Горький 1998 — Горький М. Неизданная переписка с Богдановым, Лениным, Сталиным,
Зиновьевым, Каменевым, Короленко // Горький. Материалы и исследования. Вып. 5. М., 1998.
Горький и Будберг. Переписка 2001 — A.M. Горький и М.И. Будберг. Переписка (1920-1936). М.,
2001.
648
Горький и Осоргин. Переписка 2002 — М. Горький и М.А. Осоргин. Переписка / Вступ. ст., публ.
и примеч. И. А. Бочаровой // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за
рубежом / Под ред. Р. Дэвиса, В.А. Келдыша. М., 2002.
Горький и Роллан. Переписка 1995 — М. Горький и Р. Роллан. Переписка (1916-1936). М., 1995.
(Архив A.M. Горького. Т. XV).
Гофман 1909 — Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Очерки. Стихотворения.
Автографы / Под ред. М. Гофмана. СПб., 1909.
Грузинский 1900 — Грузинский А. П.В. Шейн (Некролог) // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1900.
Ч. СССХХХИ (декабрь).
Гуль 1984 — Гуль Р. Я унес Россию. Т. 1. Нью-Йорк, 1984.
Гурвич 1931 — Гурвич Г.Д. [Рец.] Бердяев H.A. О назначении человека. Опыт парадоксальной
этики. Изд. «Современные записки», 1931 // Современные записки. 1931. Т. XLVII.
Гусев 1960 — Гусев H.H. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891-1910. М., 1960.
Даль 1956 —Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. T. I-IV. М., 1956.
Дальние берега 1994 — Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост., авт. предисл. и
коммент. В. Крейд. М., 1994.
Двинятина 2017 — Двинятина ТМ. Нобелевский год И.А. Бунина (По материалам дневников и
семейной переписки // Литературный факт. 2017. № 4.
Демидов 1926 — Демидов И.П. [Рец.] Мережковский Д.С. Тайна Трех: Египет и Вавилон //
Современные записки. 1926. Т. XXVIII.
Диалог писателей 2002 — Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей
XX века, 1920-1970. М., 2002.
Дон-Аминадо 2004 — Дон-АминаЬо. [Из воспоминаний] // У книжной полки. 2004. № 3.
Драгомиров 1898 — Драгомиров М.И. Очерки: Разбор «Войны и мира». Русский солдат. Наполеон
I. Жанна д'Арк. Киев, 1898.
Зайцев 1934 — Зайцев К.И. И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Берлин, 1934.
Зарубежные писатели о Бунине 1973 — Зарубежные писатели о Бунине. IV Бунин в споре с Андре
Жидом / Предисл. Т.Л. Мотылевой; публ. А.К. Бабореко // Литературное наследство. Иван
Бунин. Кн. И. М., 1973.
Зёрнов 1973 — Зёрнов В.М. Воспоминания врача // Литературное наследство. Иван Бунин. Кн. II.
М., 1973.
Злобин 1970 — Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970.
Ибсен 1957 — Ибсен Г. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3. Пьесы 1873-1890 / Пер. А. и П. Ганзен. М.,
1957.
Иван Шмелев: отражения в зеркале писем 2001 — Иван Шмелев: отражения в зеркале писем. (Из
французского архива писателя) / Подгот. текста, примеч. и публ. О.Н. Шотовой и В.П. По-
лыковской. Предисл. В.И. Сахарова // Наше наследие. 2001. № 59-60.
Иванов 1938/1939 — Иванов П.К. [Рец.] Д. Мережковский. «Франциск Ассизский» // Путь.
1938/1939. Т. 58.
Иванов-Разумник 1918 — Иванов-Разумник Р.И. С Антихристом за Христа//
Иванов-Разумник Р.И. Год революции. Статьи 1917 г. Пг., 1918.
Иванов-Разумник 1922 — Иванов-Разумник Р.И Мертвое мастерство// Творчество и критика:
Статьи критические. 1908-1922. Пг., 1922.
Иванов-Разумник 1951 — Иванов-Разумник Р.И. Писательские судьбы. Нью-Йорк, 1951.
Ивлев 2000 — Ивлев М. Литературное наследие П.Н. Краснова // Простор. 2000. № 10.
Из воспоминаний Цурикова 2003 — Из воспоминаний H.A. Цурикова / Публ. В.А. Цурикова //
Canadian-American Slavic Studies. 2003. 37. № 1-2.
Из переписки Горького и Роллана 1994 — Из переписки М. Горького и Р. Роллана / Предисл., подг.
текстов и примеч. Л.А. Спиридоновой; подг. писем Р. Роллана и примеч. Н.Ф. Ржевской при
участии Л.А. Спиридоновой // Горький и его эпоха. Материалы и исследования. Вып. 3:
Неизвестный Горький. М., 1994.
Ильин 1959 — Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин.
Ремизов. Шмелев. Мюнхен, 1959.
649
Ильин 1991 — Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин.
Ремизов. Шмелев. Москва, 1991.
Илюкович 1992 — Илюкович A.M. Согласно завещанию. Заметки о лауреатах Нобелевской
премии по литературе. М., 1992.
Казак 1998 — Казак В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. L., 1988.
Казнина 1997 — Казнина O.A. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-англий1
ских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997.
Кан 1998 — Кан A.C. Санкт-Петербург и национальная безопасность Швеции // Шведы на
берегах Невы: Сборник статей / Сост. А. Кобак, С. Конча Эммрих, М. Мильчик, Б. Янгфельдт.
Стокгольм, 1998.
Кизеветтер 1926 — Кизеветтер А. [Рец.] М. Алданов. «Чертов мост» // Современные записки.
1926. Т. XXVIII.
Классик без ретуши 2010 — Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И.А. Бунина:
Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е- 1950-е гг.): Антология / Под общ. ред. Н.Г.
Мельникова; сост., подг. текста, коммент. Н.Г. Мельникова, Т.В. Марченко. М., 2010.
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. М., 1962-1978.
Кожинов 1997 — Кожинов В.В. Нобелевский миф // Кожинов В.В. Судьба России. М., 1997.
Корниенко 2003 — Корниенко Н.В. «Сказано русским языком...»: Андрей Платонов и Михаил
Шолохов. Встречи в русской литературе. М., 2003.
Костомарова 2003 — Костомарова И.А. К истории присуждения И.А. Бунину Нобелевской
премии // Центральная Россия и литература русского зарубежья (1917-1939): Исследования и
публикации. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию
присуждения И.А. Бунину Нобелевской премии. Орел, 2003.
Краснов 1922 — Краснов П.Н. На внутреннем фронте // Архив русской революции / Изд. И.В. Гес-
сеном. Т. I. Изд. 3-е. Берлин, 1922.
Краснов 1957 — Краснов H.H. Незабываемое (1945-1956). Сан-Франциско, 1957.
Крыжицкий 1972 — Крыжицкий С. Жизнь и творчество И.А. Бунина в эмиграции // Русская
литература в эмиграции. Сборник статей / Под ред. Н.П. Полторацкого. Питсбург, 1972.
Кузнецова 1995 — Кузнецова Г.Н Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М., 1995.
Куприяновский 1998 — Куприяновский П.В. К истории взаимоотношений Горького и
Бальмонта // Русская литература. 1998. № 2.
Куприяновский, Молчанова 2014 — Куприяновский П.В., Молчанова НА. Бальмонт. М., 2014.
Кускова 1928 — Кускова Е.Д. Обескрыленный сокол // Современные записки. 1928. Т. XXXVI.
Лесин 2002 — Лесин Е. Сарафанный рай [рец.: Краснов П.А. «За чертополохом»] // Книжное
обозрение. 17.06.2002.
Ли 1972 — Ли Ч.Н Марк Александрович Алданов: Жизнь и творчество // Русская литература в
эмиграции. Сборник статей / Под ред. Н.П. Полторацкого. Питсбург, 1972.
Литературная энциклопедия русского зарубежья 1997 — Литературная энциклопедия русского
зарубежья (1918-1940). Писатели русского зарубежья. М., 1997.
Лосский 1931 — Лосский Н. [Рец.] Gourvitch. Les tendences actuelles de la philosophie allemande //
Современные записки. 1931. T. XLVII.
Лот-Бородина 1935 — Лот-Бородина М.И. Церковь забытая. По поводу книги Д. Мережковского
«Иисус неизвестный» // Путь. 1935. Т. 47.
Лотман 2000 — Лотман Ю.М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская
традиция // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М., 2000.
Львов-Рогачевский 1910 — Львов-Рогачевский В. «Лирика современной души». Русская
литература и группа символистов // Современный мир. 1910. № 9. Отд. И.
Макаров, Макарова 1993 — Макаров А.Г.У Макарова С.Э. К истокам «Тихого Дона»: структура и
характер заимствований в «Тихом Доне» // Новый мир. 1993. № 6.
Мандельштам 1937 — Мандельштам Ю.В. [Рец.] Д. Мережковский. «Лица святых». Т. I. Павел //
Круг. 1937. № 2.
Манн 1959-1961 — Манн Т. Собр. соч. В 10 т. М., 1959-1961.
650
Марченко 2000 — Марченко Т. Нобелевский эксперт: русские писатели в оценке Антона Карлгре-
на (1920-е -1930-е гг.) // Scando-Slavica. 2000. Т. 46.
Марченко 2001 — Марченко ТВ. «В конце концов будем надеяться»: Несостоявшаяся
Нобелевская премия // Литературоведческий журнал. 2001.15.
Марченко 2002 — Марченко Т.В. Славянские писатели и Нобелевская премия (1901-1951) //
Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Международный съезд славистов.
Доклады российской делегации. М., 2002.
Марченко 2007 — Марченко Т. Русские писатели и Нобелевская премия (1901-1955). Köln;
München, 2007. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte; Bd. 55).
Марченко 2011а — Марченко ТВ. «Венок лауреата ему точно впору»: французская пресса о
Нобелевской премии Бунина // От Бунина до Пастернака: Русская литература в зарубежном
восприятии: К юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям:
Международная научная конференция: Москва, 16-19 ноября 2009 г. / Сост., науч. ред. Т.В. Марченко.
М.,2011.
Марченко 20116— Марченко Т.В. Нобелиада Бориса Пастернака: По шведским архивным
материалам и периодике // От Бунина до Пастернака: Русская литература в зарубежном
восприятии: К юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям: Международная
научная конференция: Москва, 16-19 ноября 2009 г. / Сост., науч. ред. Т.В. Марченко. М., 2011.
Марченко 2016 — Марченко ТВ. Как проваливаются гении, или Нобелевские маргиналы sub
specie aeternitatis: Бальмонт, Бердяев, Набоков и другие. Главы из книги «Русская литература
в зеркале Нобелевской премии» // Ежегодник Дома русского зарубежья. М., 2016.
Матич 1999 — Матич О. Христианство Третьего Завета и традиция русского утопизма. Д.С.
Мережковский // Мысль и слово. М., 1999.
Мережковский 1902; 1904 — Мережковский Д.С. Любовь сильнее смерти. Итальянская новелла
XV в. М., 1902. 2-е, более полное изд.: СПб., 1904.
Мережковский 1912 — Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. В 18 т. СПб.; М., 1912.
Мережковский 1914 — Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. В 24 т. Мм 1914.
Мережковский 1925 — Мережковский Д. Тайна Трех: Египет и Вавилон. Прага, 1925.
Мережковский 1931 — Мережковский Д. Тайна Запада. Атлантида - Европа. Белград, 1931.
Мережковский: Pro et contra — Д. С. Мережковский: Pro et contra. Личность и творчество
Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология / Сост. А.Н. Николюкин. СПб.,
2001.
Мирский 1935 — Мирский Д. Война и мир // Литературный современник. 1935. № 11.
Михайлов 1994 — Михайлов О.Н. Краснов// Писатели русского зарубежья (1918-1940):
Справочник. Ч. II: К-С. М., 1994.
Михайлов 1995 — Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья. М., 1995.
Молчанова 1999 — Молчанова H.A. «В мареве родимая земля»: О первой эмигрантской
стихотворной книге К.Д. Бальмонта // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные
искания XX века: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. IV. Иваново, 1999.
Молчанова 2006 — Молчанова НА. Трансформация сектантских песнопений в книге К.Д.
Бальмонта «Зеленый вертоград» // Народная культура сегодня и проблемы ее изучения:
Афанасьевский сборник. Материалы и исследования: Сб. статей. Вып. IV. Воронеж, 2006.
Мотылева 1978 — Мотылева Т.П. «Война и мир» за рубежом: Переводы. Критика. Влияние. М.,
1978.
Николюкин 1970 — Николюкин А.Н. Горький в США (по неопубликованным материалам) //
Горький и современность. М., 1970.
Нинов 1973 — Нинов A.A. М. Горький и Ив. Бунин: История отношений. Проблемы творчества,
Л., 1973.
Одоевцева 1989 — Одоевцева КГ. На берегах Сены. М., 1989.
Опульская 1998 — Опулъская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по
1899 год. M., 1998.
651
О—ый 1906 — О—ый Н. Из истории сербов-мусульман // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1906.
Новая серия. Ч. VI, декабрь.
Памяти ушедших. М.А. Алданов 1957 — Памяти ушедших. Марк Александрович Алданов //
Новый журнал. 1957. Кн. 48.
«Парижский философ из русских евреев» 1997 — «Парижский философ из русских евреев».
Письма М. Алданова к А. Амфитеатрову / Публ. Э. Гарэтто и А. Добкина // Минувшее.
Исторический альманах. Вып. 22. СПб., 1997.
Пастернак 2010 — Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Роман / Вступ. ст. Е.Б. Пастернака; коммент.
Е.В. Пастернак; худож. Л.О. Пастернак. М., 2010.
Пастернак 2011 — Пастернак Е:Б. Нобелевская премия Бориса Пастернака: воспоминания и
документы // От Бунина до Пастернака: Русская литература в зарубежном восприятии: К
юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям / Сост., науч. ред. Т.В.Марченко.
М.,2011.
Пахмусс 2002 — Пахмусс Т. Зинаида Гиппиус: Hypatia двадцатого века. Frankfurt am Main, 2002.
Пахмусс 2003 — Пахмусс Т. Страницы из прошлого: Из переписки Зинаиды Гиппиус / Сост., ред.,
коммент. и вступит, статьи автора. Frankfurt am Main etc., 2003.
Переписка Бунина с Алдановым — Переписка И.А. Бунина с М.А. Алдановым / Публ. А.
Звеерса // Новый журнал. 1983. Кн. 150 (I), 152 (II), 153 (III); 1984. Кн. 154 (IV), 156 (V).
Переписка двух Иванов 2000, 3 — Ильин И.А. Собрание сочинений. Т. 3. Переписка двух Иванов
(1927-1934) / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы; расшифр. и текстол. подгот. писем
И.С. Шмелева О.В. Лисицы. М., 2000.
Петрова 2014 — Петрова Т.С. Мотив пути в книге К.Д. Бальмонта «Марево» // Вестник Удмурт,
ун-та. История. Филология. 2014. Вып. 2.
Писатель и вождь 1997 — Писатель и вождь: Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. 1931-
1950 годы: Сборник документов из личного архива И.В. Сталина / Сост. Ю.Г. Мурин. М., 1997.
Письма Адамовича Бахраху 1999 — Письма Г.В. Адамовича A.B. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и
Веры Крейд // Новый журнал. Кн. 216. 1999.
Письма Адамовича Бахраху 2001— Письма Г.В. Адамовича A.B. Бахраху, 1954-1956// Новый
журнал. 2001. Кн. 224.
Письма Адамовича к Гулю 1999 — Письма Георгия Адамовича к Роману Гулю / Публ. Вадима
Крейда // Новый журнал. 1999. Кн. 214.
Письма Алданова к Буниным 1965 — Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Буниным / Подгот. к
печ. М.Э. Грин // Новый журнал. 1965. Кн. 80 (I); 1965. Кн. 81 (II).
Письма Бунина Агрелю 1967 — Ivan Bunins brev tili den svenske professorn Sigurd Agrell = Письма
Ивана Бунина шведскому профессору Сигурду Агрелу. (1923-1933) / Вступительные
примечания К. DravinS // Ârsbok 1965/1966 (utgv. av seminarierna for slaviska sprâk). Lund, 1967.
Письма Бунина к Зайцеву — Письма И. Бунина к Б. Зайцеву / Публ. А. Звеерса // Новый журнал.
1978. Кн. 132 (I), 134 (II); 1979. Кн. 137 (III); 1980. Кн. 138 (IV).
Письма Бунина к Зайцевым — Письма И.А. Бунина к Б.К. и В.А. Зайцевым / Публ. А. Звеерса //
Новый журнал. 1978. Кн. 132 (I); 1979. Кн. 134 (II), 136 (III).
Письма Бунина к Степуну 1975 — Письма И.А. Бунина к Ф.А. Степуну / Публ. А. Звеерса //
Новый журнал. 1975. Кн. 118.
Письма Бунина к Тырковой-Вильяме 1994 — Письма И.А. Бунина к A.B. Тырковой-Вильяме /
Публ. Р. Янгирова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 15. СПб., 1994.
Письма Гиппиус Амфитеатрову 1992 — Письма 3. Гиппиус А. Амфитеатрову / Публ. Ж. Шерона //
Новый журнал. 1992. Кн. 187.
Письма Зайцева к Буниным — Письма Б.К. Зайцева к И.А. и В.Н. Буниным / Публ. М. Грин //
Новый журнал. 1980. Кн. 139 (1922-1927) (I), 140 (1944-1953) (II); 1982. Кн. 146 (1943-1944)
(III), 149 (1933-1939) (IV).
Письма Злобина Мережковским 1999 — Письма В.А. Злобина З.Н. и Д.С. Мережковским: 1934-
1936 / Publ. de Ternira Pachmuss // Revue des études slaves. 1999. LXXI, f. 1.
652
Письма Манна Бунину 2002 — Письма Томаса Манна И.А. Бунину / Вступ. ст., публ. и примеч.
Р. Кийса // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002.
Письма Набокова к Струве 2004 — Письма В.В. Набокова к ГЛ. Струве. Ч. II (1931-1935) / Публ.
Е.Б. Белодубровского и A.A. Долинина. Коммент. A.A. Долинина // Звезда. 2004. № 4.
Полонский 2016 — Полонский В.В. Дмитрий Мережковский // Русская литература 1920-1930-х гг.
Портреты прозаиков. В 3 т. Т. 1. Кн. 1. М., 2016.
Попов 1934 — Попов К.С. «Война и мир» и «От Двуглавого орла к красному знамени» (в свете
наших дней). Париж, 1934.
Пречисский 2003 — Пречисский В.А. 70 лет Нобелевской премии И.А. Бунина // Центральная
Россия и литература русского зарубежья (1917-1939): Исследования и публикации. Материалы
международной научной конференции, посвященной 70-летию присуждения И.А. Бунину
Нобелевской премии. Орел, 2003.
Примочкина 1998 — Примочкина H.H. Писатель и власть. М. Горький в литературном движении
20-х годов. Изд. 2-е, доп. М., 1998.
Примочкина 2002 — Мережковские и Горький в годы революции (Письма Зинаиды Гиппиус и
Дмитрия Мережковского М. Горькому) / Вступ. ст., публ. и примеч. H.H. Примочкиной // С
двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002.
Примочкина 2003 — Примочкина H.H. Горький и писатели русского зарубежья. М., 2003.
Примочкина 2007 — Примочкина H.H. М. Горький и К. Бальмонт: история литературных
отношений // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2007. Т. 66, № 4.
Розенталь 1999 — Розенталъ Б.Г. Мережковский и Ницше: (К истории заимствований) // Д.С.
Мережковский: Мысль и слово. М., 1999.
Русская печать в Риге 1997 — Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х гг. /
Ред.-сост. Ю. Абызов, Б. Равдин, Л. Флейшман. Кн. I-V. Stanford, 1997.
Русские писатели — Русские писатели: 1800-1917. Биографический словарь. / Гл. ред. П.А.
Николаев. Т. 1 (А-Г). М., 1989; Т. 2 (Г-К). М., 1992; Т. 3 (К-М). М., 1994; Т. 4 (М-П). М., 1999; Т. 5
(П-С). М., 2007.
Русские писатели XX в. 1998 — Русские писатели XX в. Биобиблиографический словарь / Под ред.
H.H. Скатова. Ч. I, II. М., 1998.
Русские писателя 20 века 2000 — Русские писатели 20 века. Биографический словарь / Под ред.
П.А. Николаева. М., 2000.
Святополк-Мирский 1997 — Святополк-Мирский Д. Заметки об эмигрантской литературе.
Веяние смерти в предреволюционной литературе // Русский узел евразийства. Восток в русской
мысли. Сборник трудов евразийцев / Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 1997.
Седых 1932 — Седых А. Нужда в русском литературном Париже: (От парижского корреспондента
«Сегодня») // Сегодня. 24.11.1932. № 326.
Седых 1933а — Седых А. И.А. Бунин в Париже // Последние новости. 16.11.1933. № 4621.
Седых 19336 — Седых А. Путешествие к варягам. (От нашего корреспондента) // Последние
новости. 9.12.1933. № 4644.
Седых 1933в — Седых А. Бунинские дни в Стокгольме // Последние новости. 12.11.1933. № 4647.
Седых 1933г — А. Седых. Как Бунин получил Нобелевскую премию // Последние новости.
13.12.1933. №3648.
Седых 1933д — Седых А. Отъезд Бунина из Стокгольма // Последние новости. 20.12.1933. № 4655.
Седых 1933е — Седых А. В гостях у короля Густава V // Последние новости. 14.12.1933. № 4649.
Седых 1933ж — Седых А. И.А. Бунин в Стокгольме // Последние новости. 17.12.1933. № 4652.
Седых 1995 — Седых А. Далекие, близкие. М., 1995.
Семенова 2005 — Семенова С.Г. Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию.
М., 2005.
Сергеева-Клятис 2013 — Сергева-Клятис А.Ю. Поэзия Бориса Пастернака 1920-х годов в
советской журналистике и критике русского зарубежья. М., 2013 <http://pasternak.lit-info.ru/pas-
ternakykritika/sergeeva-klyatis-poema-905-j-god.htm>.
653
Сирин 1936 — Сирин <Набоков> В. [Рец.] М.А. Алданов. «Пещера» // Современные записки. 1936.
T. LXI.
Соболев 1993 — Соболев B.C. Августейший президент: Великий князь Константин
Константинович во главе Императорской Академии наук. 1889-1915 гг. СПб., 1993.
Солженицын 1975 — Солженицын A.M. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни.
Париж, 1975.
Сорокина 1994 — Сорокина О. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994.
Спиридонова 2004 — Спиридонова Я. A.M. Горький: новый взгляд. М., 2004.
Степун 1923 — Степун Ф. [Рец.] Максим Горький. Мои университеты // Современные записки.
1923. Т. XVII.
Степун 1925 — Степун Ф. [Рец.] Arthur Luther. Geschichte der russischen Literatur. Leipzig, 1924//
Современные записки. 1925. T. XXVI.
Степун 1929 — Степун Φ. [Рец.] Ив. Бунин. Избранные стихи (Париж, 1929) // Современные
записки. 1929. Т. XXXIX.
Степун 1931 — Степун Ф. [Рец.] Иван Бунин. «Божье древо» (Париж, 1931) // Современные
записки. 1931. T. XLVI.
Степун 1992 — Степун Ф.А. Встречи и размышления. Избранные статьи. Л., 1992.
Степун 2001 — Степун Ф.А. Литературные заметки: И.А. Бунин (по поводу «Митиной любви») //
И.А. Бунин: Pro et contra (Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и
зарубежных мыслителей и исследователей). Антология / Сост. Б.А. Аверина, Д. Риникера, К.В.
Степанова, коммент. Б.В. Аверина, М.В. Виролайнен, Д. Риникера, библиогр. Т.М. Двинятиной,
А.Я. Лапидус. СПб., 2001.
Струве 1967 — Струве Т.П. Историко-литературные заметки: 2. К истории получения И.А.
Буниным Нобелевской премии // Записки Русской академической.группы в США. Нью-Йорк,
1967. Т. 1.
Струве 1992 — Струве H.A. Православие и культура. М., 1992.
Струве 1996 — Струве Г. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора русской
литературы. Изд. 3-е, испр. и доп. Париж; М., 1996.
Сургучев 1927 — Сургунев И. Эмигрантские рассказы. Париж, 1927.
Сургучев 1952 — Сургунев И. Ротонда. Париж, 1952.
Терапиано 1933 — Терапиано Ю. [Рец.] Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный. Т. I // Числа.
1933. № 9.
Терапиано 1938 — Терапиано Ю.К. [Рец.] Д. Мережковский. «Павел и Августин» // Современные
записки. 1938. T. LXV
Терехина 2001 — Терехина В.Н. Письма И.С. Шмелева к В.Ф. Зеелеру // Венок Шмелеву.
Материалы Международной научной конференции «И.С. Шмелев — мыслитель, художник, человек.
К 50-летию со дня смерти (1873-1950)». Москва, май 2000. М., 2001.
Тименчик 2005 — Тименчик Р. Анна Ахматова в 1960-е гг. Toronto, 2005.
Тименчик 2014 — Тименчик Р.Д. Последний поэт. Анна Ахматова в 1960-е годы. Изд. 2-е, исправл.
и расширенное. Т. I. М., 2014.
Толстой 1928-1958 — Толстой JI.H. Полное собрание сочинений (юбилейное). В 90 т. М., 1928-
1958.
Толстой 1969 — Толстой МЛ. Мои родители // Новый журнал. 1969. Кн. 95.
Толстой 2000 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 100 т. Художественные
произведения. В 18 т. Μ., 2000-.
Толстой 2009 — Толстой И.Н. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ.
М., 2009.
Толстой 2017 — Толстой И.Н Свеча и огарок: издание «Доктора Живаго» как личная
инициатива // Ежегодник Дома русского зарубежья. М., 2017 (в печати).
Троцкий 1933а — Троцкий И. Нобелевская премия (Письмо из Копенгагена) // Последние
новости. 8.12.1933. № 4643.
654
Троцкий 19336 — Троцкий И. В ожидании лауреата (Письмо из Стокгольма) // Последние
новости. 26.11.1933. № 4631.
Тургенев 1968 — Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. Письма. Т. XIII. Л.,
1968.
Ульянов 1960 — Ульянов Н. Алданов-эссеист // Новый журнал. 1960. Кн. 62.
Уральский 2014 — Уральский М. «Нетленность братских уз». Переписка И.М. Троцкого, И.А.
Бунина и М.А. Алданова // Новый журнал. 2014. Кн. 277.
Устами Буниных 1977-1982 — Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры
Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. М. Грин. В 3 т. Frankfurt am Main, 1977-1982.
Федин 1971 — Федин К.А. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. М., 1971.
Флейшман 1992 — Флейшман Л. Материалы по истории русской и советской культуры. Из
Архива Гуверовского института. Stanford, 1992 (Stanford Slavic Studies. Vol. 5).
Флейшман 2013 — Флейшман Л.С. Борис Пастернак и Нобелевская премия. М., 2013.
Франк 2001 — Франк С. О так называемом «новом религиозном сознании» // Д.С. Мережковский:
Pro et contra. Личность и творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников.
Антология / Сост. А.Н. Николюкин. СПб., 2001.
Франс 1959 — Франс А. Собрание сочинений. В 8 т. М.,1959.
Харер 2004 — Харер К. Тройные почести: А.Ф. Лютер и его «Воспоминания» / Пер. М.
Кореневой // Звезда. 2004. № 9.
Хетсо 1996 — Хетсо Г. Почему Лев Толстой не стал нобелевским лауреатом // Литературная
газета. 16.10.1996.
Ходасевич 1931 — Ходасевич В. Премия Нобеля // Возрождение. 11.10.1931. № 2322.
Ходасевич 1933а — Ходасевич В. Книги и люди // Возрождение. 16.11.1933. № 3089.
Ходасевич 19336 — Ходасевич В. Книги и люди: «Современные записки». Кн. 53-я //
Возрождение. 9.11.1933. № 3082.
Хьетсо 1997 — Хьетсо Г. Максим Горький: Судьба писателя. М„ 1997.
Хьетсо 1998 — Хьетсо Г. Лев Толстой и Нобелевская премия // A Centenary of Slavic Studies in
Norway: The Olaf Broch Symposium. Papers. Oslo, 12-14 September 1996 / Ed. by J.I. Bjornflaten,
G. Kjetsaa, X Mathiassen. Oslo, 1998.
Цветаева 1994-1995 — Цветаева MM. Собрание сочинений. В 7 т. / Сост., подгот. текста и ком-
мент. Л. Мнухина. М., 1995.
Цетлин 1924 — Цетлин М. [Рец.] Иван Бунин. «Роза Иерихона» // Современные записки. 1924.
X XXII.
Цетлин 1929 — Цетлин М. [Рец.] Д.С. Мережковский. Наполеон: Т. I. Наполеон-человек. Т. П.
Жизнь Наполеона. Белград, 1929 // Современные записки. 1929. T. XL.
Цетлин 1930 — Цетлин М. [Рец.] М.А. Алданов. «Ключ». 1929 // Современные записки. 1930. X XLI.
Чалмаев 2016 — Чалмаев В.А. Сергей Сергеев-Ценский // Русская литература 1920-1930-х годов.
Портреты прозаиков. В 3 т. Т. 1. Кн. 1. М., 2016.
Черниговский 2000 — «Советская хроника» Ивана Бунина/ Публ. Дм. Черниговского// Ро-
щин М.М. Иван Бунин. М., 2000.
Черных 2008 — Черных В.А. Летопись жизни и творчества A.A. Ахматовой. 1889-1966. Изд. 2-е,
испр. и доп. М., 2008.
Чернышев 1991 — Чернышев А. Историко-литературная справка// Алданов М. Собрание
сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1991.
Чернышева 2004 — Чернышева О.В. Шведы и русские: Образ соседа. М., 2004.
Чулков 1922 — Чулков Г. Болящий дух // Наши спутники. 1912-1922. М., 1922.
Шатков 1961 — Шаткое Г.В. М. Горький и скандинавские писатели // Горький и зарубежная
литература. М., 1961.
Шаховская 1991 — Шаховская З.Н. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991.
Шаховской 2001 — Шаховской ДМ. Звенья духовного пути И.С. Шмелева // Венок Шмелеву.
Материалы Международной научной конференции «И.С. Шмелев — мыслитель, художник,
человек. К 50-летию со дня смерти (1873-1950)». Москва, май 2000. М., 2001.
655
Шолохов 1986 - Шолохов M. А. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Очерки, статьи, фельетоны,
выступления. М., 1986.
Шраер 2000 — Шраер М.Д. Набоков: Темы и вариации. СПб., 2000.
Эйхенбаум 1923 — Эйхенбаум Б.М. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пг., 1923.
Эйхенбаум 2001 — Эйхенбаум Б. Мережковский-критик // Д.С. Мережковский: Pro et contra.
Личность и творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология / Сост.
А.Н. Николюкин. СПб., 2001.
Эллис 1910 — Эллис <Кобылинский Л.Л.>. Русские символисты. М., 1910.
ЭС — Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1890-1907.
Юдин 1995 — Юдин В.А. Исторический роман русского зарубежья. Учебное пособие. Тверь, 1995.
Юнггрен 2002 — Юнггрен М. Иван Шмелев и Сельма Лагерлёф // Всемирное слово. 2002. № 15.
Янгфельдт 1994 — Янгфелъдт Б. Предисловие // Russica: Русская коллекция в Нобелевской
библиотеке Шведской академии. Избранный каталог 1766-1936. Stockholm, 1994.
Яновский 1993 —ЯновскийB.C. Поля Елисейские. СПб., 1993.
Achmatova 1962 — Achmatova Anna. Poesie. A cura di Raissa Naldi / Presentazione di E. Lo Gatto.
Milano, 1962.
Agrell 1931 — Agrell S. Valda Dikter: 1901-1930. Stockholm, 1931.
Allen 1993 — Allen S. Varför ändrade Nobel till «idealisk»? // Svenska dagbladet, 5.12.1993.
Allen, Espmark 2001 — Allen S., Espmark K. The Nobel Prize in Literature: An Introduction. Stockholm,
2001.
Aschenbrenner 1937 — Aschenbrenner M. Iwan Schmeljow: Leben und Schaffen des grossen russischen
Schriftstellers. Königsberg; Berlin, 1937.
Akerström 2015 — Akerström H. Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt tili svenska. Uppgraderad
november 2015. University of Gothenburg. Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis.
Göteborg <http://slaviska.se/bibliografi/rybiblny201 l.pdfx
Baur 1998 — Ваш J. Die Revolution und die Weisen von Zion: Zur Entwicklung des Russlandsbildes in
der frühen NSDAP // Deutschland und die Russische Revolution: 1917-1924 / Hrsg. von G. Koenen
und L. Kopelew. München, 1998.
Bloy 1912 — Bloy L. Lame de Napoléon. P., 1912.
Briefwechsel Hesse — Mann 1999 — Hermann Hesse — Thomas Mann: Briefwechsel / Hrsg. von A. Carls-
son und V. Michels. 3., erw. Ausg. Frankfurt am Main, 1999.
Camphausen 1990 — Camphausen G. Die wissenschaftliche historische Russlandforschung im Dritten
Reich, 1933-1945. Frankfurt am Main etc., 1990.
Chessin 1933 — Chessin S. de. Ivan Bunin. Diktare av Guds nâde. Pusjkins arvtagare: Fädernejordens
lovsângare - Herre tili Belvédère // Nya dagligt allehanda (söndagsbilaga). 10.12.1933.
Chessin 1934 — Chessin S. de. Ivan Alexejevitj Bunin: 1933 âr Nobelpristagare. Stockholm, 1934.
Correspondance Rolland - Gorki 1991 — Correspondance Romain Rolland - Maxime Gorki / Préface et
notes de J. Perus. R, 1991 (Cahiers Romain Rolland; 28).
Davidson 2006 — Davidson P. Vyacheslav Ivanov and CM. Bowra: A Correspondence from Two Corners
on Humanism. Birmingham, 2006.
Davidson 2009a — Davidson P. Pasternak's Letters to CM. Bowra (1945-1956) / Ed. by P. Davidson //
The Life of Boris Pasternak's «Doctor Zhivago» / Fleishman L. (ed.). Stanford, 2009.
Davidson 20096 — Davidson P. CM. Bowra's «Overestimation» of Pasternak and the Genesis of «Doctor
Zhivago» // The Life of Boris Pasternak's «Doctor Zhivago» / Fleishman L. (ed.). Stanford, 2009.
Den Svenska Litteraturen 1997 — Den Svenska Litteraturen / Red. L. Lönnroth, S. Delblanc. T. IV, V.
Stockholm, 1997.
£)uri§in 1964 — Ùurisin D. V.A. Francev und J. Skultéty: Aus der Korrespondenz zweier Slawisten //
Beiträge zur Geschichte der Slawistik. Berlin, 1964.
Encyclopaedia Britannica 1926 — Encyclopaedia Britannica. 13. ed. New supplements. Vol. I (A to
Aaland islands). 1926.
Encyclopaedia Britannica 1929 — Encyclopaedia Britannica. 14. ed.. Vol. I (A to Annoy). 1929.
Erdmann 1906 — Erdmann N. En världshistorisk trilogi // Ord och Bild. Stockholm, 1906.
656
Espmark 1991 — Espmark К. The Nobel Prize in Literature: A Study of the Criteria behind the Choices.
Boston (Mass.), 1991.
Espmark 2001 — Espmark K. Litteraturpriset: Hundra âr med Nobels uppdrag. Stockholm, 2001.
Foerster 1905 — FoersterR. Kaiser Julian in der Dichtung alter und neuer Zeit // Studien zur
vergleichenden Literaturgeschichte. 1905. Band 5.
Frankby 1984 — Frankby U.-B. Alfred Jensen — en gammal slavofil // Äldre svensk slavistik. Bidrag tili
ett symposium hellet i Uppsala 3-4 februari 1983 / Red. av S. Gustavsson och L. Lönngren. Uppsala,
1984.
Fràn Karamzin till Trifonov 1985 — Frân Karamzin till Trifonov: En bibliografie over rysk skönlitteratur
i svensk översättning. Stockholm, 1985.
Gerner 1996 — Gerner K. Sovjetryssland med svenska ögon // Vast möter Ost: Norden och Ryssland
genom tiderna / Red. M. Engman. Stockholm, 1996.
Geschichte der russischen Literatur 1986 — Geschichte der russischen Literatur von den Anfängen bis
1917. Band 2. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1917 / Red. W. Düwel. Berlin; Weimar, 1986.
Gierow 1965 — Gierow KR. Tolstojs Nobelrpis // Svenska dagbladet. 31.12.1965.
Hallström 1969 — Ivan Alekseevich Bunin / Presentation by Per Hallström, Permanent Secretary of
the Swedish Academy // Nobel lectures, including presentation speeches and laureates biographies.
Literature 1901-1967 / Ed. by Horst Frenz. Amsterdam etc., 1969.
Hansen-Löve 1989-2014 — Hansert-Löve A.A. Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der
poetischen Motive. Bd. I—III. Wien. Bd. I: Diabolischer Symbolismus. 1989. Bd. II: Kosmische
Symbolik. 1998. Bd. III: Mythopoetischer Symbolismus. 2014.
Heftrich 1995 — Hefirich U. Thomas Manns Weg zur slavischen Dämonie: Überlegungen zur Wirkung
Dmitri Mereschkowskis // Thomas Mann Jahrbuch. 1995. Bd. 8.
Hemmer 1922 — Hemmer J. Lyriska översättningar. Helsingfors, 1922.
Interviews mit Thomas Mann 1983 — Frage unt Antwort: Interviews mit Thomas Mann, 1909-1955 /
Hrsg. von V. Hansen und G. Heine. Hamburg, 1983.
Janzon 1965 — Janzon À. överraskningarnas akademi // Svenska dagbladet. 16.10.1965.
Jaugelis 1973 — Jaugelis G. Корреспонденция русских писателей с лундскими славистами. I. 20
писем Ивана Алексеевича Бунина // Slavica Lundensia. 1973. № 1.
Jaugelis 1974a — Jaugelis G. Корреспонденция русских писателей с лундскими славистами. И. 47
писем восьми русских писателей. 5. Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941) // Slavica
Lundensia. 1974. № 2.
Jaugelis 19746 — Jaugelis G. Корреспонденция русских писателей с лундскими славистами. П. 47
писем восьми русских писателей. 6. Иван Сергеевич Шмелев // Slavica Lundensia. 1974. № 2.
Jensen 1905 — Jensen Α. Tsardömet vid skiljovägen. Stockholm, 1905.
Kasack 1992 — Kasack W. Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. München, 1992.
Koenen 1998a — Koenen G. Betrachtungen eines Unpolitischen: Thomas Mann über Russland und den
Bolschewismus// Deutschland und die Russische Revolution. 1917-1924/ Hrsg. von G. Koenen
und L. Kopelew. München, 1998.
Koenen 19986 — Koenen G. Vom Geist der russischen Revolution: Die ersten Augenzeugen und
Interpreten der Umwälzungen im Zarenreich // Deutschland und die Russische Revolution: 19
ΠΙ 924 / Hrsg. von G. Koenen und L. Kopelew. München, 1998.
Koppen 1991 — Koppen E. Weltliteratur zwischen Vulgäridealismus und Repräsentation: Der Nobelpreis
für Literatur in der Belle Epoque // Studium universale. 1991. Bd. 13: Europas Weg in die Moderne.
Krasnow 1925 — Krasnow R Vom Zarenadler zur Roten Fahne. 3. Aufl. Berlin, 1925.
Lee 1969 — Lee C.N. The Novels of Mark Aleksandrovic Aldanov. The Hague; P., 1969.
Ljunggren 1983 — Ljunggren M. Om Greta Gerell // Rysk kulturrevy. 1983. № 4.
Lundkvist 1952 — Lundkvist A. Vallmor frân Taschkent. Resa tili Sovierunion. Stockholm, 1952.
Maier, Martjenko 2002 — Maier /., Martjenko T. Ryska nobelpriskandidater i Svenska Akademiens arkiv
1914-1937 // Samlaren. 2002. Vol. 123.
Mann 1977 — Mann T. Tagebücher, 1933-1934 / Hrsg. P. de Mendelssohn. Frankfurt am Main, 1977.
657
Markov 1988 — Markov V. Kommentar zu den Dichtungen von K.D. Balmont. Bd. 1. 1896-1909. Köln;
Wien, 1988.
Markov 1992 — Markov V. Kommentar zu den Dichtungen von K.D. Balmont. Bd. II. 1910-1917. Köln;
Wien, 1992.
Mereschkowskij 1930 — Mereschkowskij D.S. Das Geheimnis des Westens: Atlantis - Europa.
Betrachtungen über die letzten Dinge / Deutsch von Arthur Luther. Leipzig, 1930.
Mirskiy 1923 — Mirskiy D.S. The Revival of Russian Prose-Fiction // The Slavonic Review. 1923. Vol. 2.
Mirskij 1926 — Mirskij D.S. Contemporary Russian Literature 1881-1925. L., 1926.
Mirsky 1949 — Musky D.S. A History of Russian Literature / Ed. and abridged by F.J. Witfield. L., 1949.
Mirsky 1989 — Mirsky D.S. Uncollected writings on Russian Literature / Ed. with an introduction and
bibliography by G.S. Smith. Oakland, 1989. (Modern Russian Literature and Culture, Studies and
Texts. Vol. 13.)
Motylowa 1978 — Motylowa T.L. Thomas Mann und Romain Rolland // Werk und Wirkung Thomas
Manns in unserer Epoche: Ein internationaler Dialog / Hrsg. von H. Brandt und H. Kaufmann.
Berlin; Weimar, 1978.
Nobel: The Man and his Prizes 1972 — Nobel: The Man and his Prizes. 3d ed. / Ed. by Nobel Foundation.
NY, 1972.
Nobelpriset i litteratur — Nobelpriset i litteratur: Nomineringer och utlâtanden 1901-1950/ Utgv. av
B. Svensén. Del 1:1901-1920. Del II: 1921-1950. Stockholm, 2001.
Nordisk familjebok2 — Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedia. 2. uppl,
Stockholm, 1905-1926.
Nordisk familjebok3 — Nordisk familjebok: encyklopedia och konversationslexikon. 3. uppl. Stockholm,
1925-1945.
OleinikofFs. a. — OleinikoffN. The Family of Alfred Nobel. Stockholm, s. a.
Österling 1961 — Österling A. Dikten och livet. Essäer. Stockholm, 1961.
Österling 1972a — Österling A. Alfred Nobel and Literature // Nobel: The Man and his Prizes. 3d ed. / Ed.
by Nobel Foundation. NY, 1972.
Österling 19726 — Österling A. The Literary Prize // Nobel: The Man and his Prizes. 3d ed. / Ed. by
Nobel Foundation. NY, 1972.
Pachmuss 1971 — Pachmuss T. Zinaida Hippius: An Intellectual Profile. Carbondale etc., 1971.
Pachmuss 1972 — Pachmuss T. Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida
Hippius. München, 1972.
Pasternak 1945 — Pasternak В. The Collected Prose Works / Arranged, with an Introduction by S. Schi-
manski. L., 1945.
Pyman 1994 — Pyman A. A history of Russian Symbolism. Cambridge Univ. Press, 1994.
Rosenthal 1975 — Rosenthal B.G. Dmitri Sergeevich Merezhkovsky and the Silver Age: The Development
of a Revolutionary Mentality. The Hague, 1975.
Rysk poesi 1972 — Rysk poesi 1890-1930 /1 inval och tolkning av B. Jangfeldt och B. Julén. Stockholm,
1972.
Schakhovskoy 1980 — Schakhovskoy D.M. Bibliographie des œuvres de Ivan Chmelev. P., 1980.
Schoolfield 1972 — Schoolfield G.C. Thomas Mann und Fredrik Book// Deutsche Weltliteratur von
Goethe bis Ingeborg Bachmann / Ed. К. W. Jonas. Tübingen, 1972.
Schuck, Sohlman 1929 — Schuck H., Sohlman R. The Life of Alfred Nobel. L., 1929.
Setschkareff 1996 — Setschkareff V. Die philosophischen Aspekte von Mark Aldanovs Werk. München,
1996 (Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, Bd. 30).
Sohlman 1950; 1983 — Sohlman R. Ett testamente: Hur Alfred Nobel dröm blev verklighet. Stockholm,
1950; Faksimiluppl. 1983.
Stepun 1934 — Stepun F. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Berlin; Leipzig, 1934.
Struc 1988 — Struc R.S. Thomas Mann aß Critic of Russian Literature // Germano-Slavica. 1988. Vol. VI,
№1.
Sv'atopolk Mirskij 1929 — Svatopolk Mirskij D. Die Literatur der russischen Emigration // Slavische
Rundschau. 1929. № 4.
658
Svensk uppslagsbok1 — Svensk upplagsbok. Malmö; Lund, 1929-1937.
Svensk uppslagsbok2 — Svensk uppslagsbok. 2. uppl. Malmö, 1947-1955.
Svenskt biografiskt lexikon — Svenskt biografiskt lexikon. Band 20 (Ingeborg-Katarina), Stockholm,
1973-1975.
Svyatopolk-Mirsky 1989 — Svyatopolk-Mirsky D. Uncollected Writings on Russian Literature / Ed. with
an Introduction and Bibliography by G.S. Smith. Berkeley, 1989 (Modern Russian Literature and
Culture. Studies and Texts. Vol. 13).
Tassis 1995 — Tassis G. Lbeuvre romanesque de Mark Aldanov: Révolution, histoire, hasard. Bern etc.,
1995.
The Penguin book of Russian verse 1962 — The Penguin book of Russian verse / Introd. and ed. by
D. Obolensky. Harmondsworth, 1962.
Vetterlund 1934 — Vetterlund F. Ivan Bunin // Vetterlund F. Romantiskt 1800-tal. Ännu nâgra essayer.
Stockholm, 1934.
Vlach, Filipoflf 1967 — Vlach R„ FilipoffB. The Slavic Awards and some Candidates // Books Abroad. An
International Literary Quarterly. 1967. Vol. 41, № 1: Nobel Prize Symposium.
Vogué 1901 — Vogué E.-M. vicomte de. Maxime Gorki, l'homme et oeuvre // La Revue des Deux Mondes.
1901. 1 août.
Wegner 1978 — Wegner M. Thomas Manns Zauberberg und die russische Literatur // Werk und
Wirkung Thomas Manns in unserer Epoche: Ein internationaler Dialog / Hrsg. von H. Brandt und
H. Kaufmann. Berlin; Weimar, 1978.
Wellek 1991 — Wellek R. A History of Modern Criticism. 1750-1950. Vol. 7: German, Russian and
Eastern European Criticism. New Haven; L., 1991.
Werke russischer Autoren 1978 — Werke russischer Autoren in Thomas Manns Nachlaßbibliothek.
Anhang zu: Wegner M. Thomas Manns Zauberberg und die russische Literatur // Werk und Wirkung
Thomas Manns in unserer Epoche: Ein internationaler Dialog / Hrsg. von H. Brandt und H.
Kaufmann. Berlin; Weimar, 1978.
именной указатель
Авенариус P. (Avenarius) 444
Аверченко А.Т. 185
Агнон Ш.Й. (Agnon) 485, 527, 617
Агрель С. (Agrell) 24, 87, 88, 122-126, 134, 135,
147,177,221-223,262,263, 276-280,283-290,
297, 298, 299, 301, 303, 307, 312, 335, 342, 366,
409,572,605,616,618
Адамович Г.В. 7, 126, 129, 209-211, 235, 251,
253, 256, 266, 323, 357,411,412,432
Адаме P.M. (Adams,- Krapp) 636, 637, 639
Адорно Т. (Adorno) 616
Азадовский K.M. 242
АзефЕ.Ф. 179
АйгиГ.Н. 623
Аксаков СТ. 312
Алданов М.А. 9,20,25,26,94,103,133,204,205,
207, 212, 220, 226, 227, 231, 257-260, 265, 293,
300, 301, 349, 350, 356,413-441, 630, 643
АлдановаТ.М. 431,437
Александр I 43
Александр II 612
Александр III 51
Александр VI (Alexander VI) 63
Александровский Б.Н. 216
Алексей Петрович, царевич 64-66,124
Алексиевич С.А. 623
Аллен С. (Allen) 6, 9, 17, 18,182
Альвен Г. (Alfvén) 399
Альтман Н.И. 603
Аммиан Марцеллин 63
Амфитеатров A.B. 89-91, 125, 178, 212, 317,
402,415, 418,421-423, 425, 426,431, 432, 438,
439
Ангарский Н.С 243
Андерсен Г.Х. 578
Андерссон К.И. (Andersson) 488
Андреев Л.Н. 145, 146, 149, 151, 195, 196, 248,
290,321,325,341,367,513
Андреева М.Ф. 136,155,195
Андрич И. (Andric) 493, 580
Анисимов И.И. 584, 586
Аничков Е.В. 183
Анненский И.Ф. 183, 186,187,189, 190
Ануй Ж. (Anouilh) 581
Арагон Л. (Aragon) 520, 601, 616
Аракчеев A.A. 71
Арбузова Г.А. 619
Арвидсон M. (Arvidson) 603, 611
Арвидсон С. (Arvidson) 514
Ариас-Вихиль М.А. 10, 141
Аристотель 95,445
АрсеньевН.С 223
Арцыбашев М.П. 367
Астуриас М.А. (Asturias) 617, 623
Ауберт A. (Aubert) 39
Афанасьев В.Н. 264, 270
Ахматова (Горенко) A.A. 23, 525, 536, 539, 563,
591, 602-618,623, 635, 636, 642, 644
Бабель И.Э. 522, 595, 597,621, 627, 627, 629
Бабореко А.К. 258, 259, 264, 313,433,626
Багряна Е. 618
Баевская Е.В. 236, 238, 240, 241
БажанМ. 598
Байрон Дж.Г. (Byron) 136, 614
Бак П. (Buck) 439,499
Бакунин М.А. 57
Бакунцев A.B. 10
Бальзак О. де (Balzac) 508
Бальмонт К.Д. 25, 60, 77, 86, 123, 134, 146, 147,
149, 156,157, 182-203, 223, 234, 235, 242, 251,
256, 257, 259, 290,485, 616, 643
Барт К. (Barth) 442
Басов Н.Г. 14
Батюшков К.Н. 28
Батюшков Ф.Д. 264
Баура СМ. (Bowra) 474, 475, 480, 485, 486, 488,
536
Бахман Г. (Bachmann) 194
Бахрах A.B. 129,270,411,413,417,430,432,433
Бахтин М.М. 603
Бахчинян 80
Бёк Ф. (Book) 19, ,231, 233, 298, 299, 328, 334,
340, 343, 358,409
Беккер Г. (Becker) 581
Беккет С (Beckett) 18, 600, 616, 640
Бекман Б. (Beckman) 533
Белин Д. (Belin) 278, 283, 541, 556, 559, 596, 597
Белинский В.Г. 434
Бёлль Г. (Böll) 616
Белохвостиков Н.Д. 522
Белый А. 29, 156, 182, 183, 186, 187, 426, 534,
615
660
Бельман K.M. (Bellman) 409,410
Бельтраффио Дж. (Beltraffio) 64
БемАЛ. 125,243
Беман M. (Beman) 399
Бенеш Э. (Benes) 632
Беньян Дж. (Bunyan) 613
Берберова H.H. 126,127,129,132-134,251,416,
434
Бергман Г. (Bergman) 511
Бергман И. (Bergman) 500
Бергман Я. (Bergman) 363, 364
Бергсон A. (Bergson) 142,173
Бердяев H.A. 20,25,139,204,205,215,271,442-
472, 642-644
Бердяева Л.Ю. 443,444
Бернадот Ж.-Б. (Bernadotte) см. Карл XIV Юхан
Бертло П.Э.М. (Berthelot) 39
Беспалов И.М. 163
Бетховен Л. ван (Beethoven) 107,400
Бибиков А.Н. 57
Бибикова М.А. 57
Бизе Ж. (Bizet) 39
Биттнер К. (Bittner) 635
Бишоп М. (Bishop) 636-638
Бланш A. (Blanche) 625
Бликсен К. (Blixen) 486,493, 495, 580
Блок A.A. 182, 183, 188, 192, 194, 201, 478, 607,
612-616
Блох A.M. 14, 369, 371, 372, 503, 504
Блуа Л.М. (Bloy) 105,106
Блумберг X. (Blomberg) 507
Блумберг Э.А. (Blomberg) 507, 510, 536, 537
Блумквист Л.Э. (Blomqvist) 617, 624
Блюм Л. (Blum) 115
Блюмл Й. 331
Блюмлова Д. 331
Бовуар С. де (Beauvoir) 598
Богомолов А.Е. 309
Бодлер Ш. (Baudelaire) 59, 190
Болдырев И.А. 302
Бонгард-Левин Г.М. 10, 145, 221, 226, 227, 232-
234, 253, 254, 258, 261-263, 303
Бондарчук С.Ф. 518
Боннар А. (Bonnard) 579
Борг С. (Borg) 425
Борджа Ц. (Borgia) 63
Борхес X. (Borges) 23, 617
Бочарова И.А. 424
Брандель Г. (Brandell) 492,496, 500, 514
Брандес Г. (Brandes) 62, 67, 68,139, 279
Брандт М. фон (Brandt) 49,
Браун Ф. (Braun) 307, 308, 342, 343
Бреаль M. (Bréal) 39,48
Брехт Б. (Brecht) 606
Брешко-Брешковский H.H. 429
Бржезина О. (Bfezina) 79
Брик Д. 513
Брлич-Мажуранич И. (Brlic-Mazuranic) 125,
420
Бродский И.А. 22, 23, 167, 284, 522, 603, 623
Брок О. (Broch) 145,261, 305, 308, 313, 314, 334,
342
Брокгауз Ф.А. (Brockhaus) 60,131,135
Бронникова Е.В. 444
Броссет Ф.Л. (Brosset) 389, 396
Брюсов В.Я. 60, 77, 183, 184, 186, 188, 189, 194,
197-199,203,612
Буало Н. (Boileau) 319
БудбергМ.И. 131,155,307
Буденный СМ. 553, 556
Буландер К.-А. (Bolander) 505
Булгаков М.А. 534
Булль Ф. (Bull) 316
Бунин И.А. 5, 7-9, 19, 20, 22, 24-27, 29, 31-33,
36, 49, 52, 53, 57, 72, 81, 85-93, 101, 102, 109,
113, 115, 116, 121-123, 125, 129, 131-135,
144-147,149-152, 156,157, 167,168,176-178,
180-182, 185, 195, 201, 202, 204-206, 208, 210,
211, 216, 218, 220-228, 230, 231, 234-240, 243,
254,256-414,416-419,424,429-440,473,478,
485, 487, 491, 502, 503, 506, 512, 519, 520, 522,
541, 552, 589, 599, 616, 622,626, 627, 643, 644
Бунина В.Н. 8, 9, 88, 91, 101, 102, 115, 125, 178,
221, 222, 224, 235, 245, 250, 255, 256, 258, 297,
298, 300, 302, 304, 309, 319, 333, 334, 336, 337,
339, 341, 343, 349, 353, 354, 355, 359, 360, 368,
373, 379,381, 383,386,389-394,396,397,403-
406, 408, 409, 417, 429, 435, 437.
Бурцев В.Л. 178,179
БуткевичБ.В. 302
Бухарин Н.И. 543
Бьёрк Г. (Biörck) 526
Бьёркегрен Х.Р. (Björkegren) 284, 623
Бьёркман К. (Björkman) 334, 371
Бьёркман С. (Björkman) 514
Бьёрнсон Б. (Bjornson) 260, 284, 316
Бэррон Дж. (Barron) 532
Валери П. (Valéry) 18, 20, 303, 338
Валленберг P. (Wallenberg) 535, 538
Вальмарк С. (Wallmark) 496, 500, 509-513, 515,
516, 519, 520, 525, 528, 529, 532, 622
Ваннерберг Н.-Й. (Vannerberg) 16
Варбург К. (Warburg) 327
Василевский (He-Буква) И.М. 216
661
Васильев В.В. 214,216,570,571
Вахтин Б.Б. 604
Ведин Ротштейн Р. (Wedin Rothstein) 237, 238,
278,282, 283
Веер см. Вестер
ВейдлеВ.В. 103,368,491
Вейк Н. ван (van Wijk) 226, 232-234, 237, 253,
254
ВельтманА.Ф. 426
Венгеров С.А. 60,61, 82,135, 182-184,186-188,
190-192,264
Венезис И. (Βενέζης) 598
Вербицкая A.A. 207,213
Верлен П. (Verlaine) 612
Весос T. (Vesaas) 580
Вестер (Веер) Э.С. (Wester, Weer) 75, 81, 131
Веттерлунд Φ. (Vetterlund) 281, 282
Виаль A. (Vial) 600,601
Вигорелли Дж. (Vigorelli) 598
Видела Х.Р. (Videla) 23
Викман A. (Wickman) 524, 623
Виллерс У (Willers) 488, 492, 571, 587, 592-601
Вильсон A. (Angus Wilson) 598
Виноградов В.В. 584, 586, 609
Виноградов П.Г. 305
Виселиус И. (Wizelius) 490-492, 513
Виттлин Ю. (Wittlin) 633
Вишневская Г.П. 617
Вогюэ Э.-М. де (Vogué) 141
Вознесенский A.A. 528, 623
Волгин В.П. 504
Волынский (Флексер) А.Л. 64
Вольный И. (Вольнов И.Е.) 313
Вольтер (Voltaire) 62, 582, 637
Воронков К.В. 598
Воронский А.К. 150,243
Врубель М.А. 627
Врхлицкий Я. (Vrchlicky) 79
ВульфертА.К. 40
Вюрмсер A. (Wurmser) 302
Галеви Л. (Halevy) 39,48
Галин В.И. 131
Галлен-Каллела А. (Gallen-Kallela) 368
Гамсун К. (Hamsun) 142, 174, 238
Гангхофер Л. (Ganghofer) 134
ГанецкийЯ.С. 154
Ганзен A.B. 62
Ганзен П.Г. 62
Гардзонио С. (Gardzonio) 619
Гарди T. (Hardy) 154
Гарнак А. фон (Harnack) 45
Гарнак О. фон (Harnack) 45
Гартман П. (Hartmann) 634,635
ГаршинВ.М. 252
Гаретто Э. (Garetto) 423,426
Гауптман Г. (Hauptmann) 39, 236, 238
Гашек Я. (Hasek) 134,545
Гебер Н. (Heber) 293-295, 334, 389, 395, 407-
409,432
Гейзенберг В.К. (Heisenberg) 398,405
Гёльдерлин Ф. (Hölderlin) 213
Герасимов Н.И. 10
Герасимов С.А. 514, 515
Герель Г. (Gerell) 110-114, 116-122, 127, 128
Герцен А.И. 28,206,583
Гершензон М.О. 184
Гессе Г. (Hesse) 19, 20, 227, 231, 232, 235, 252,
253, 347, 536, 539, 597
Гёте И.В. (Goethe) 45,84,111,228,414,434,440,
Гизо Ф. (Guizot) 544
Гил С. 533
Гиппиус (Мережковская) З.Н. 53, 55, 57-59,64,
66, 72, 81, 82, 88-92, 102, 110-114, 121, 122,
127-129, 144, 145, 151, 156, 168, 178, 235, 256,
258, 290, 300, 337, 357, 365
Гиппиус H.H. 91
Гиппиус Т.Н. 91
Гиров K.P. (Gierow) 51, 521, 523, 525, 539, 556,
618,628
Гитлер А. (Hitler) 111, 126, 220, 229, 342, 372,
398,430,498, 510, 535, 588, 609
Гитович А.И. 604
ГитовичС.С. 602,604
Гишарно Ж. (Guicharnaud) 640
Глазенапп К.Ф. (Glasenapp) 40
Гланц T. (Glane) 529
Глебова-Судейкина O.A. 614
Гоголь Н.В. 28, 30, 42, 44, 54, 69, 137, 143, 180,
215, 262, 313, 323, 347, 365, 383, 426, 508, 569,
572, 614, 638
Голдинг У (Golding) 598
Голенищев-Кутузов A.A. 39,
Голсуорси Дж. (Galsworthy) 91, 118, 298, 327,
339, 340, 358, 359, 372, 378
Гомбрович В. (Gombrowicz) 604
Гомер (Όμηρος) 508, 562, 601
Гончаров И.А. 136,344,347,365,597
Горбов Д.А. 163,243
Горький М. (Пешков A.M.) 22, 25, 33, 47, 49,
53, 58, 69, 70, 79, 87, 88, 123, 131-182, 185,
190, 193, 195, 196, 201, 202, 206, 224, 239, 243,
244, 246, 252, 255, 259, 260, 261, 264, 289, 290,
292, 299, 305, 307, 308, 313, 315, 317, 318, 320,
335, 337, 340, 341, 346, 356, 358, 362, 363, 365,
662
367, 369, 371, 372, 375, 411, 424, 473-475, 500,
502-504, 507, 508, 513, 520, 521, 524, 525, 580,
583, 584, 588, 595, 599, 616, 624, 626, 628, 629,
641,643,644
Горянский В.И. 180
Готье T. (Gautier) 612, 614
Гофман М.Л. 182
Гофман Э.Т.А. (Hoffmann) 614
Грасс Г. (Grass) 23
Грейвс P. (Graves) 581
Грёнблад К. (Grönblad) 142, 314
ГржебинЗ.И. 414
Грибоедов A.C. 180
Григ Э. (Grieg) 400
Григорьев A.A. 607
ГримбергФ.И. 217
Грин Г. (Greene) 23, 493, 580
Грин М.Э. (Greene) 298, 318, 353
Грипенберг Б. (Gripenberg) 370
Громыко A.A. 22
ГузенкоИ.С. 441
Гукасов (Гукасянц) А.О. 309
ГульР.Б. 211,411,417
Гумилев Н.С. 609,612,618
ГураВ.В. 516
ГурвичГ.Д. 453
Гусев H.H. 39
Густав I Ваза (Gustav I Vasa) 403,406
Густав III (Gustav III) 12, 406
Густав V (Gustaf V) 382, 383, 386, 387, 397, 398,
400,402-404, 408
Густав Адольф, кронпринц (Gustaf Adolf) 397,
405
Густавссон С. (Gustavsson) 10, 533
Густафссон О. (Gustafsson) 501
Гьеллеруп К. (Gjellerup) 260, 616
Гюго В. (Hugo) 35,583
Даддингтон Н. (Duddington) 611
Дале Й.А. (Dale) 579,580
Даллес Дж.Ф. (Dulles) 498
Даль В.И. 596
Даль С. (Dahl) 597
Даниус С. (Danius) 9
Даниэль Ю.М. 522, 526, 527, 528, 532, 534
Данте (Dante) 20, 177, 266, 633
Декарт P. (Descartes) 446,434
Демидов И.П. 94, 96, 98,100,128, 296, 341
Деникин А.И. 234,361,554
Дженсен К. (Jensen) 10
Джойс Дж. (Joyce) 508, 615, 637
Джонсон С. (Johnson) 477
Дзержинский Ф.Э. 154,155
Дидро Д. (Diderot) 582
Дирак П. (Dirac) 391, 398, 404
ДобкинА.И. 423,426
Завойко B.C. 549
Долгов Д. 373
Домбровская M. (Dabrowska) 604, 607, 616
Дон-Аминадо (Шполянский А.П.) 341, 415
Достоевский Ф.М. 7,28,32,40,42,44,47,54,58,
62, 67, 71-74, 76, 77, 83, 84, 87, 96, 101, 105,
109, 122, 125, 130, 138, 139, 143, 229, 321, 347,
348, 363, 365, 376, 378, 412,415, 419, 440,444,
447, 461, 462, 467, 470, 478, 492, 496, 508, 519,
583, 597, 614, 632
Драгомиров М.И. 44
Драйзер Т. (Dreiser) 303
Дудинцев В.Д. 489, 490, 622
Дьюпи Ф.В. (Dupée) 639
Дьюхерст M. (Dewherst) 10
Дэвидсон П. (Davidson) 474, 475
Евгений, принц (Eugen) 368, 397,406
Евгеньев А. (Кауфман А.Е.) 290
Еврипид (Ευριπίδης) 579
Евтушенко Е.А. 598, 617, 630, 635, 636, 644
Екатерина II 12,44,421,424
Елизавета Петровна 210
Есенин С.А. 607
Ефимов М.В. 10
Ефрон И.А. 60,131,135
Жан де ла Круа см. Иоанн Креста
ЖантийомИ. 228
Жданов A.A. 574,617
Жид A. (Gide) 20, 52, 279, 375, 539, 597
Жуковский В.А. 356, 417,426, 484, 633
Зайцев Б.К. 29, 81, 155, 156, 206, 243, 336, 349,
350,403,415-417, 433,434, 514, 630, 632-634
Зайцев К.И. 269,317,321
ЗаксА.С. 293,415
Закс Н. (Sachs) 527,617
Замятин Е.И. 243, 534
Заславский Д.И. 497
Здзеховский M. (Zdziechowski) 308-309
ЗеелерВ.Ф. 235,434
ЗензиновВ.М. 250
ЗёрновВ.М. 377,378
Златовратский H.H. 270
Злобин В.А. 82,94,111-114
Золя Э. (Zola) 39, 120, 345, 507
Зощенко М.М. 534
Зуров Л.Ф. 8, 91, 297, 302, 353, 354, 378, 391
Ибсен Г. (Ibsen) 37, 62, 63, 65, 67, 174, 260, 544,
639, 641
Иван IV Грозный 148, 325, 326
663
Иванов Вс.В. 621
Иванов Вс.Н. 308
Иванов Вяч.И. 74,212,277,448
Иванов Г.В. 242
Иванов-Разумник Р.И. 88, 93
Ивашкевич Я. Л. (Iwaszkiewicz) 616
Ильин И.А. 34, 86, 91, 92, 119, 205, 207, 210,
221-227, 230, 232, 234, 242, 250, 253, 330
Ильф И.А. 513
Илюкович A.M. 356, 357
Ингольд Ф.Ф. (Ingold) 535
Ингрид, принцесса (Ingrid) 397
Иоанн Креста (Juan de la Cruz) 128
Ионеско Э. (Ionesco) 600
Ирасек A. (Jirasek) 79, 303
Исакссон Н.О.Ф. (Isaksson) 622, 623, 625, 627,
628
Йейтс У.Б. (Yeats) 142,154
Йенсен A. (Jensen) 15, 27-30, 32, 33, 40-49, 58-
79,92, 95, 97, 102,135-144, 150, 170, 262, 630
Йенсен Й. (Jensen) 350
Йерне Г. (Järne) 29,41, 78,142
Йоранссон С. (Göransson) 603
K.P. см. Константин Константинович
КавабатаЯ. 616
Каверин В.А. 578
Кадашев (Амфитеатров) В.А. 213
Казак В. (Kasack) 54,208
Казаков Ю.П. 627
Казандзакис Η. (Καζαντζάκης) 579
Казнина O.A. 178, 277, 308, 363, 368, 372
Каледин A.M. 550
КалчевК. 598
Кампенгаузен Р. фон (Campenhausen) 218, 219
Камю A. (Camus) 486,497, 501
Кан A.C. 66
Кандрейя P. (Candreia) 232, 235, 241
Канова A. (Canova) 626
Кант И. (Kant) 102, 444,445,421
Карамзин Н.М. 212,417
КареевН.П. 43,46
Карл XIV Юхан (Carl XIV Johan) 51,406
Карлгрен A. (Karlgren) 15, 27, 30-33, 92-109,
116, 119, 120, 122-126, 139, 150, 151, 153,
159-166, 168, 170, 172, 182-202, 204, 205,
212-217, 219, 221, 223, 233, 234, 242-252,
262-274, 290-299, 303, 314, 320-340, 344, 349,
351, 352, 358, 376,420-424,426-431,450-472,
476-485,487, 503, 505, 509, 510, 537, 540-556,
558, 561-569, 594, 597, 630, 644
Карлгрен Б. (Karlgren) 233
Карлфельдт Э.А. (Karlfeldt) 168, 170, 296, 298,
331, 333, 334, 364, 387
Карпович М.М. 441
КарташевА.В. 91,178
Каспер К. (Kasper) 10
Каун A.C. (Kaun) 270, 292, 293, 307, 315, 340-
342
Каун В. (Tracewell Kaun) 307
Кафка Φ. (Kafka) 508,638
Квазимодо С. (Quasimodo) 487, 495, 606, 620
Кёнен Г. (Коепеп) 83-85, 219, 228, 229, 230, 273
Кеннан Дж.Ф. (Kennan) 490
Керенский А.Ф. 419, 457
Кизеветтер A.A. 422,423
Кийс P. (Keys) 226, 227, 230
Кипарский В. (Kiparsky) 538, 569, 630
Киплинг P. (Kipling) 236, 238
Кипренский O.A. 625
КиркГ. (Kirk) 510
Ките Дж. (Keats) 614
Клебанова Е.М. 603
Клеберг Л. (Kleberg) 618
Кленовский (Крачковский) Д.И. 603
Клопшток Ф.Г. (Klopstock) 62
Ковалевская СВ. 391
КожиновВ.В. 20,21,40
Козлов A.A. 46
Козьма Индикоплов 95
Койранский A.A. 307
КоковцевВ.Н. 309
Коллонтай A.M. 318, 359, 369-372, 382, 386,
398,404, 503, 504, 536, 541
Конан Дойл А. (Conan Doyle) 94
Кондаков Н.П. 39,305
Кони А.Ф. 39,40
Конрад Дж. (Konrad) 638
Конрад Н.И. 584,586
Константин Константинович, вел. кн. (K.P.) 39,
50
Копелев Л.3. 134,606
Корниенко Н.В. 563
Корнилов Л.Г. 548, 549, 590
Корнилов Ф.Д. 116,377
Корнфорд Ф. (Cornford) 611
Короленко В.Г. 132,136,144,148, 149,151
Коростелев O.A. 350
Костомарова И.А. 276
Котляревский H.A. 54
Крапп см. Адаме
Краснов H.H. 210, 211,474
Краснов П.Н. 25, 204-220,474, 551, 643
664
Крафт-Эбинг Р. фон (Krafft-Ebing) 86
Крашенинников H.A. 29
Кристель Б. (Christeil) 527
Кристина, королева Швеции (Kristina) 446
Кроче Б. (Сгосе) 447
Крыжицкий С. 323
Крылов И.А. 364
КрымовЮ.С. 583
КрымоваН.А. 537
Крюков Ф.Д. 531,533,535
Кузнецова Г.Н. 53, 91, 115, 226, 282, 293, 294,
296-303, 309, 330, 331, 333, 334, 338, 339, 353,
354,359, 360, 373, 377, 379,381, 383,384,391-
394, 397, 405
Кузнецова Н.Т. 574
Кульман Н.К. 92, 123, 225, 234, 243, 306, 309,
319,330
Куприн А.И. 90, 156, 214, 243, 256-261, 307,
319,339
Куприна К.А. 354
Куприяновский П.В. 195, 196, 201
Кускова (Прокопович) Е.Д. 152, 341
Кутырина Ю.А. 228
Кюнцель Г. (Künzel) 432
Лаваль К. де (Laval) 622,623
Лагеркрантц УХХ. (Lagercrantz O.G.H.) 491,
496,515,525,622
Лагерлёф С. (Lagerlöf) 37, 113, 159, 174, 236,
238-242, 248, 364, 368, 382, 383, 385, 387, 398
Ладинский А.П. 218
Ладыжников И.П. 142
Лакснесс Х.Л. (Laxness) 499, 500
Ламм М. (Lamm) 485,486,488
Ланглет В. (Langlet) 38
Ландквист Й. (Landkvist) 358
Ларссон К. (Larsson) 368
Лафонтен Ж. де (La Fontaine) 364
Лаффит С. (Laffitte; Гликман-Тумаркина С.Г.)
607
Лев X (Leo X) 63
Левертин О. (Levertin) 21, 24, 26, 37, 38, 48, 72,
328
Левин Г. (Levin) 492
Левитан И.И. 625
Лежнев И.Г. 516,574
Лейсер Э. (Leyser) 515
Лейхтенбергский Г.Н. 209
Леман Дж. (Lehmann) 568
Ленин В.И. 132,140,145,162,163,176,195,213-
. 215, 371,420,469, 481, 527, 528, 548, 552, 590
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) 63, 64,
67,124
Леонов Л.М. 20,438,475, 514,529, 569,584, 598,
630-632, 644
Леонтьев К.Н. 467
Лермонтов М.Ю. 28, 32,54, 59,69,101,138,180,
203, 289,479, 569, 625, 627
Лесин Е.Э. 220
Лесков Н.С. 81,323,347,519
ЛиЧ.Н.аее) 421,436
Линдберг Л. (Lindberg) 496
Линдеберг Л. (Lindeberg) 514
Линдегрен Э. (Lindegren) 508, 602
Линдквист Р. (Lindqvist) 131,476, 610
Линдквист Э. (Lindqvist) 603, 610
Литвинов М.М. 369
Лиштанберже А. (Lichtenberger) 257
Лиштанберже Э. (Lichtenberger) 39
Ло Гатто Э. (Lo Gatto) 307, 308, 316, 317, 611
Лобачевский Н.И. 440
Ломброзо Ч. (Lombroso) 86
Ломоносов М.В. 66
Лонгфелло ГУ. (Longfellow) 478
ЛосскийН.О. 447,453
ЛотманЮ.М. 217
Лоуренс Д.Г. (Lawrence) 363
Лохвицкая М. 266
Луи-Филипп (Louis Philippe) 544
ЛукашИ.С. 212
Лукин Ю.Б. 521
Луначарский A.B. 163,164
Лундквист A. (Lundkvist) 17, 497, 498, 500, 531,
573,620,621,624,625,629
Лурье О.Д. 37
Лу-Юханссон И. (Lo-Johansson) 508, 509, 536,
537
Лысенко Т.Д. 501
Львов-Рогачевский В.Л. 135,190, 243
Льюис С. (Lewis) 296, 297, 358, 372, 389
Любимов ЮЛ. 619
Лютер A. (Luther) 29,194
Лютер М. (Luther) 111
Мазон A. (Mazon) 306
Майер И. (Maier) 6, 10
МайерФраатц A. (Meyer-Fraatz) 10
Макаров А.Г. 211,212
Макарова С.Э. 211,212
Макиавелли H. (Machiavelli) 63, 637
Маккарти М. (McCarthy) 638
Маклаков В.А. 309
Максимов В.Б. 352
Малиновский Р.Я. 526
Мальро A. (Malraux) 23,486
Мальмстрём Б.Э. (Malmström) 62
665
Мандельштам О.Э. 23, 623
Манн Г. (Mann) 227
Манн К. (Mann) 227,228
Манн Т. (Mann) 18-20,24,26,72,78,83-85,138,
150, 170,172, 221, 225-233, 236, 238, 240, 242,
249, 252, 262, 273, 279, 292, 300, 301, 346, 358,
363, 366, 372, 508, 597, 598
МанухинИ.И. 258
МанухинаТ.И. 258
Мария, мать (Скобцова Е.Ю.) 443
Марк Аврелий 60, 71
Марков В.Ф. 182,197
Марков Г.М. 598
Маркс К. (Marx) 102, 111, 464
Марр Н.Я. 576
Марри Дж.М. (Murry) 363
Марсель Г. (Marcel) 442
Мартен дю Гар Р. (Martin du Gard) 302, 597
Мартинсон Х.Э. (Martinson) 486,488,498, 500,
538, 580
Масарик Т.Г. (Masaryk) 331
Матич О. (Matich) 91
Махар Й.С. (Machar) 76-78
Махно Н.И. 556
Маяковский В.В. 390,476,491,514
Медведева-Томашевская И.Н. 212,531
Мейерхольд В.Э. 57
Меларстедт К. (Mälarstedt) 529
Мелентьев Ю.С. 521
Мелин К.А. (Melin) 54
Мережковская см. Гиппиус
Мережковский Д.С. 25, 29, 32, 46, 49, 53-129,
132-135,145, 150, 156, 167, 177, 178,180, 205,
215,221-226,234-236,238,239,244,255-262,
288-290,295-300, 305, 307, 318, 320, 327, 332,
335-340, 346, 350, 356, 365,403, 410,411,447,
428, 485, 558, 643
Местертон Э. (Mesterton) 591, 592, 594, 602-
605,608-616, 624-626, 644
Мечников И.И. 377
Микеланджело (Michelangelo) 60, 63, 67
Милош Ч. (Milosz) 573
Мильруд М.С. 89,90,254,432
Мильтон Дж. (Milton) 266, 637
Милюков П.Н. 296,419
Минский Н.М. 195
Мирский Д.П. см. Святополк-Мирский
Мирский Я.Ц. (Яцимирский А.И.) 46
Мистраль Г. (Mistral) 20
Мистраль Ф. (Mistral) 260, 616
Михайлов О.Н. 207-210
Михайловский Н.К. 46, 206
Миханек К.Г. (Michanek) 531
Могилевский В.А. 349
Молотов В.М. 370
Молчанова H.A. 195, 196,198, 200, 201
Моммзен Т. (Mommsen) 634
Монтале Э. (Montale) 620
Монтень М. де (Montaigne) 71
Моравиа A. (Moravia) 23,493,495,514
Морган Т.Х. (Morgan) 398
Моргунов Е.А. 520
Мориак Ф. (Mauriac) 339,409
МоричеваМ.Д. 510
Морозов A.A. 484
МотылеваТ.Л. 26, 150
Моцарт В.А. (Mozart) 616
Мочульский К.В. 93,123
Моэм УС. (Maugham) 616
Мунк Э. (Munch) 368
Мунье Э. (Mounier) 442
Муратов П.П. 308
Муромцев С.А. 379
Муромцева см. Бунина
Мусоргский М.П. 440
Муссолини Б. (Mussolini) 88, 580
Мэнсфилд К. (Mansfield) 363
Набоков В.В. (Сирин) 23, 88, 256, 266, 304, 327,
341, 344,417,425, 606, 616, 630, 635-640, 644
Надсон С.Я. 59,184, 185, 203
Надь И. (Nagy) 511
Нальди P. (Naldi) 611
Нансен Ф. (Nansen) 152
Наполеон I Бонапарт (Napoléon I Bonaparte) 42,
44,66,73,102,105-108,188,215,421,425,426
Некрасов К.Ф. 633
Некрасов H.A. 47
Нелидов А.И. 40
Нерман-Баффуа Б. (Nerman-Baffoy) 520
Нерон 188
Неруда П. (Neruda) 23,520
Николай II 84
Никулин Л.В. 622
НилусП.А. 313
Нильссон Н.О. (Nilsson) 15, 27, 33, 284, 474,
476,496, 511-513, 572-578, 588-591,594,618,
630,631,632,644
Нильссон Т. (Nilsson) 594
Нинов A.A. 313
Ницше Ф. (Nietzsche) 48,61,63,74,84,111,138,
161
Нобели 181, 309, 331, 397
Нобель А. (Nobel) 6,12,13,15-18,23-25,35,38,
39,43,68,79,87,89,95,116,120,133,158,181,
666
204, 220, 222, 257, 260, 287, 289, 309, 380, 388,
397-399, 405, 406, 447, 501, 539, 579, 606
Нобель Г. (Й.) (Nobel) 116,120, 395,407
Нобель Луиза (Nobel) 522
Нобель Людвиг (Nobel) 116, 309
Нобель Э. (Nobel) 116, 239, 303, 309, 311, 330
Нобель-Олейникова M. (Nobel-Oleinikoff) 330,
395, 397
Норденсон В. (Nordenson) 406
Нюман A. (Nyman) 139, 204, 443-451, 455, 456,
461,462,467-470
Оболенский Д.Д. 492,611
Оболенский Л.Е. 46
Одаль A. (Àdahl) 522
Оден УХ. (Auden) 617
Одоевцева И. Г. 113
Окерстрём X. (Akerström) 611,622
ОксманЮ.Г. 617
Олдридж Дж. (Aldridge) 518
Олейников Г.П. 330, 331, 360, 376, 381, 383, 389,
390, 395, 397, 407
Оливейра А. ди (Oliveira) 343, 350, 371
Оман Э. (Haumant) 306
Опульская Л.Д. 47
Орелья Дж. (Oreglia) 623
Осоргин М.А. 85, 158, 159, 167, 256, 275, 293,
301, 307, 313, 319,421,424,435,490, 513
Островский А.Н. 180
Оффенбах Ж. (Offenbach) 39
Павел I 420,424
Павлов И.П. 377,440
Павлова А.П. 614
Паламас К. (Παλαμάς) 303, 344, 350, 371
Пальме У. (Palme) 538
Панова В.Ф. 604
Парланд P. (Parland) 496, 514
Паскаль П. (Pascal) 434
Пастернак Б.Л. 5, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 33,
167, 284, 292, 363, 438, 473-503, 512-522,
525-528, 531, 533-536, 539, 573, 574, 577, 578,
580, 582, 592, 595, 596, 600-602, 605, 606, 610,
618, 619, 622, 623, 628-629, 632,635, 636,642,
644
Пастернак Е.Б. 490
Пастернак Ж.Л. 497
Пастернак З.Н. 498, 622
Пастернак Л.О. 473
Паунд Э. (Pound) 22,488, 539, 580, 612
Паустовский К.Г. 23, 525,600,617,619-629,644
Пахмусс Т. (Pachmuss) 59, 110-113, 128, 217,
338
Пащенко-Бибикова В.В. 57
Перссон П. (Persson) 622
Перюс Ж. (Perus) 147,158
Петр I Великий 51, 58, 61, 64-66, 84, 102, 124,
148,215
Петров Е.П. 513
Петрова Т.С. 200
Пешков М.А. 173
Пешкова Е.П. 155
Пильняк Б.А. 595,621
Пиночет А. (Pinochet) 23
Пиросмани Н. 625
Платов М.И. 554
Платон 95, 99
Платонов А.П. 532
Плетнев П.А. 612
Плетнев Р.В. 632,633
Плеханов Г.В. 469
Плиний Младший (Plinius Secundus) 71
Плутарх (Πλούταρχος) 106
По Э.А. (Рое) 59
Победоносцев К.П. 184
Поджоли P. (Poggioli) 492
Подтелков Ф.Г. 550
Полевой H.A. 212
Полевой Б.Н. 570,598
Поляков-Литовцев С.Л. 298,301,429
Понтоппидан Г. (Pontoppidan) 260,616
Попов К.С. 210
Посин Дж.А. (Я.Α.; Posin) 581
Пречисский В.А. 352
Примочкина H.H. 58, 132, 144, 145, 156, 157,
168, 176, 177, 185, 195, 292, 308
Пришвин М.М. 629
Прокофьев A.A. 598
Прокофьев С.С. 617
Пруденций (Prudentius) 62
Пруст M. (Proust) 18,482
Путрамент Ε. (Putrament) 598
Пушкин A.C. 28, 32, 59, 60, 66, 67, 71, 180, 188,
194, 199, 216, 217, 256, 276, 289, 311, 336, 342,
347, 356, 396, 403, 415, 417, 476, 478, 479, 492,
509, 517, 569, 593, 605, 610, 612-614, 616, 625,
627
Пшибось Ю. (Przybos) 604
Пэрри A. (Parry) 356
Пэре Б. (Pares) 307,308,315,316
Разумовский А.Г. 210
Распутин Г.Е. 198
Рафаэль (Rafael) 63,67, 626
Реймонт B.C. (Reymont) 142
Ремарк Э.М. (Remarque) 219, 523
Рембо A. (Rimbaud) 190
667
Ремизов A.M. 205
Ренье А. де (Régnier) 279
Репин И.Е. 240
Ривен Ж. (Rivain) 117
Ривкин И. 513
Ривкин Э. 513
РидМ.№е1<1) 218
Рильке RM. (Rilke) 292
Рингберг О. (Ringberg) 529
Риттенберг CA. (Rittenberg) 603.
Рихтер Г.В. (Richter Hans Werner) 598
Ришелье А.Ж. (Richelieu) 117
Робеспьер M. (Robespierre) 425
РодзянкоМ.В. 549
РодичевФ.И. 549
Розенберг К. (Rosenberg) 227, 228, 323
Розенталь Б.Г. 74
Роллан P. (Rolland) 54, 134, 145-153, 155-158,
166,170,182, 201, 236, 238, 257-261, 279, 280,
300,375,605,616
Романов П.С. 490
Ростовцев М.И. 145,226,261,303, 304,305,307,
317-319,336
Рубец А.И. 114,396
Руделиус Э. (Rudelius) 376, 378, 379
РумерО.Б. 66
Рунеберг Ю.Л. (Runeberg) 612,613
РымкоЕ.П. 522
Рюдбек О. (Rudbeck) 95
Рюдберг В. (Rydberg) 16, 65
РябининаЕ. 236
Сабуров A.A. 39
Савина М.Г. 57
Савинков Б.В. 549,552
Савонарола Дж. (Savonarola) 63
Сандлер P. (Sandler) 369
Саррот H. (Sarraute) 598
Сартр Ж.-П. (Sartre J.-P.) 493, 514, 520, 598,600,
601,634,635
Сварц P. (Swarz) 532
Свенсен Б. (Svensén) 14, 26, 36, 261
Свифт Дж. (Swift) 508
Святополк-Мирский Д.П. 47, 48, 87, 139, 177,
213, 230, 293, 365, 367, 368, 429, 477, 611, 642,
643
Северянин И. 203
Сегерстедт T. (Segerstedt) 17, 358
Седых А. (Цвибак ЯМ.) 90, 118, 339, 340, 353,
355,368,377, 379-381, 383-385,394-396,399,
404, 405, 407-409
Селандер С. (Seiander) 358
Семенова С.Г. 534
Семенов-Тян-Шанский В.П. 7-8
Семичастный В.Е. 498
Сенкевич Г. (Sienkiewicz) 30, 54, 68
Серафимович A.C. 520
Сервантес М. де (Cervantes) 20, 71, 508
Сергеева-Клятис А.Ю. 477
Сергеев-Ценский С.Н. 538, 569-572
Сеттерлинд Б. (Setterlind) 499
Сеферис Й. (Σεφέρης) 606
Сечкарев В.М. (Setschkareff) 413
Сибилла, принцесса (Sibylla) 397
СидоринВ.И. 553
Силланпя Ф.Э. (Sillanpää) 20, 303, 350, 370
Сименон Ж. (Simenon) 493
Симмонс Э.Дж. (Simmons) 492
Симонов K.M. 529,578
Синклер Э. (Sinclair) 19
Синявский А.Д. 522, 526, 527, 528, 532, 534,619
Сион см. Цион
Сирин см. Набоков
Скабичевский A.M. 46
Скотт В. (Scott) 218
Скрябин А.Н. 86,478
СлейтерЛ.Л. 497
СлонимМ.Л. 213,238,421
Смирнов Н.Г. 250
Соболев B.C. 39, 50
Соболев Л.С. 598
Соболев Ю.В. 238
Соколов-Кречетов С.А. 209
Сократ (Σωκράτης) 371
Солженицын А.И. 19, 22, 23, 25, 167, 474, 487,
509, 527, 529-534, 619, 623, 628, 644
Соловейчик СМ. 439, 440
Соловьев B.C. 44, 77,444,447
Сологуб Ф.К. 156
Сорель A. (Sorel) 39
Сорокина О.Н. 221,234,254
Софокл (Σοφοκλής) 579
Сперанский В.Н. 123
Спинк Дж.С (Spink) 582, 583, 600
Спиридонова Л.А. 176, 179
Стагнелиус Э.-Ю. (Stagnelius) 66
Сталин И.В. 22, 32, 126, 375, 421, 424, 434, 463,
467,440, 490, 514, 516, 519, 527, 529, 530, 534,
535, 552, 555, 565, 576, 588, 590, 595, 596, 606,
609
Станиславский К.С. 140, 409, 544
Стейнбек Дж. (Steinbeck) 20, 493, 581
Стендаль (Stendhal) 420, 637
Стендер-Петерсен A. (Stender-Petersen) 30
Степун М.А. 394
668
Степун Ф.А. 29,143,165,166,208,215,320-323,
325,410,412,416
Столе С. (Stale) 623
Стольпе С. (Stolpe) 449
Столыпин П.А. 50
Стомоняков Б.С. 369, 504
Страхов H.H. 43
Стрёмберг Ш. (Strömberg) 362-364
Стриндберг A. (Strindberg) 15, 17, 37, 174, 286,
328, 363, 368, 382, 383, 387,482, 641
Струве ГЛ. 87, 158, 208, 276, 305, 306, 341, 372,
413,435
Струве H.A. 158
Струве П.Б. 305
Субер M. (Suber) 511,512
Суворов A.B. 420
Сульман P. (Sohlman) 6,16, 389, 398, 399,407
СургучевИ.Д. 206,313
Суриков В.И. 240
Сурков A.A. 493, 498, 514, 515, 584, 595, 598,
605, 606, 610, 617
Суслов М.А. 570
Сюлли-Прюдом A. (Sully Prudhomme) 37,199
ТаммИ.Е. 498
ТарсисВ.Я. 526,528
Татьяна Николаевна, вел. княжна 213
Твардовский А.Т. 529, 584, 598
Твен M. (Twain) 18
Тегнер Э. (Tegnér) 66,328
Теккерей УМ. (Thackeray) 613
Теннисон A. (Tennyson) 266
ТепловМ.И. 521
Терехина В.Н. 235
ТименчикР.Д. 602-604
Толстой А.К. 28
Толстой А.Н. 256,418,475
Толстой И.Н. 487,491, 535
Толстой Л.Н. 6, 7, 22, 24, 27, 28, 30-32, 37-54,
58,61,62,67,71-74,77,78,83,84,87,105,109,
120,129, 130, 132, 138, 139, 141-143, 149-152,
165, 177,183, 207, 215, 216, 243, 256, 273, 279,
285-287, 312, 321, 325-327, 343, 344, 347, 348,
355, 356, 358, 361-363, 365, 374, 376, 378, 387,
400-403,412, 414,417, 419-421, 436,440,444,
473, 474, 486,487, 489,492,493, 495, 499, 504,
507, 508, 523, 540, 567, 582, 588, 595, 597, 598,
601,626,632,641-643
Толстой М.Л. 51
Третьяков П.М. 50
Троцкий И.М. 32, 122, 254, 293, 296, 298, 299,
349, 351, 352, 372, 381, 389,405, 438
Троцкий Л.Д. 215, 405, 552, 555
Трумэн Г. (Truman) 534
Тургенев И.С. 28, 32, 42, 49, 101, 136, 180, 232,
234, 265, 289, 294, 311-313, 317, 336, 344, 347,
356, 361, 363, 365, 367, 374, 378, 387,417,463,
493,519,600
Тыркова-Вильямс A.B. 260, 261,403
Тэффи H.A. 195,207
Тюлландер Б. (Tullander) 114
Тюнхольм Л.-Э. (Thunholm) 522
Тютчев Ф.И. 478
Уайлдер Т.Н. (Wilder) 493,616
Уайльд О. (Wilde) 63
Уильяме T. (Williams) 493
Улицкая Л.Е. 623
Ульссон К.Х. (Olsson) 537, 539, 540
Ульссон Э.В. (Olsson) 505-507, 536
Ульянов Н.И. 414,425
Унгаретти Дж. (Ungaretti) 495, 598
Унден Б.Э. (Undén) 593, 594
Унсет С. (Undset) 170,171,173,174, 304
Успенский Г.И. 47,137
Утгорд Н.М. (Utgaard) 531
Уэллс Г. (Wells) 144
Фаррер К. (Farrère) 257, 279
Фегершёльд Б. (Fägerskjöld) 128
Федин К.А. 470, 529, 584, 585, 598, 620
Федоров Н.Ф. 444
Федотов Г.П. 133,443
Фейхтвангер Л. (Feuchtwanger) 303
Фельтринелли Дж. (Feltrinelli) 490, 494, 499,
515
Фёрстер P. (Foerster) 63
Фессар Г. (Fessard) 449
Фет A.A. 203,243
Философов Д.В. 55,91
Филофей 462
Флейшман Л.С. (Fleishman) 179, 474, 488, 492,
493, 495, 496
Флобер Г. (Flaubert) 71, 101, 142, 508
Флудман Й. (Flodman) 521, 526-530
Фогельквист Т. (Fogelkvist) 506, 507, 510, 565-
568
Фолкнер У (Faulkner) 20, 539
Фомин А.Г. 135
Фондаминский (Бунаков) И.И. 121, 293, 301,
323, 374, 384, 443
Форс X. (Forss) 500
Фотий, архимандрит 71
Франк И.М. 14,498
Франк С.Л. 62,63
Франко Ф. (Franco) 127
Франс A. (France) 39, 207, 354
669
Франц Фердинанд (Franz Ferdinand) 51
Францев В.А. 204, 208, 305-307, 311-313, 315,
342
Фрёдинг Г. (Fröding) 174, 364
Фрейд 3. (Freud) 482
Френсен Г. (Frenssen) 134
Фриш В. 163
Фриш М. (Frisch) 616
Фрост Р.Л. (Frost) 493
Функквист Г. (Funkquist) 622
Хальд Φ. (Hald) 521
Хальстрём П. (Haiström) 168-171, 314, 328,
343, 385, 395,400-402
Хаммаршёльд А. (Hammarskjöld) 405
Хаммаршёльд Д. (Hammarskjöld) 22, 328, 405,
497,517,538
Хаммаршёльд Я. (Hammarskjöld) , 340,343,405
Хандамиров М.Ф. 80, 81, 82, 123, 233, 234, 237,
239-241,263,276-281,285,286,288, 361-362,
385,386,573,589,618
Ханссон П.А. (Hansson) 459
Харер К. (Harer) 194
Харкинс УЭ. (Harkins) 607
Харри И. (Harrie) 334
Хаух К. (Hauch) 62
Хегге П.Э. (Hegge) 530,531
XeAT.(Hed) 588,589
Хедберг В. (Hedberg) 44,131
Хедберг Т. (Hedberg) 134
Хейденстам В. фон (Heidenstam) 37, 54, 134,
174, 328, 344, 370, 398
Хемингуэй Э. (Hemingway) 499, 518, 523
Хеммер Я. (Hemmer) 203, 370
Хессельман Б. (Hesselman) 134
Хетсо см. Хьетсо
Хефтрих У. (Henrich) 72, 84
Хилл Э. (Hill) 639
Хименес Х.Р. (Jimenez) 487, 606
Хлебников В.В. 603
Ходасевич В.Ф. 133,154,235,266, 332-334, 348,
349
Хольмберг Н. (Holmberg) 621
Хомяков A.C. 444
Храпченко М.Б. 584,586
Хрущев Н.С. 22, 474, 498-501, 518, 520, 529,
533, 594, 595, 599
Хуан де ла Крус см. Иоанн Креста
Хьетсо Г. (Kjetsaa) 24,49,133,135, 533
Цвейг Α. (Zweig) 581
Цветаева М.И. 86, 152, 292, 410, 432, 609
Цвибак см. Седых
ЦертелевД.Н. 46
Цетлин М.О. 102, 105-107, 202, 266, 295,427
ЦетлинаМ.С. 417,433
Цион С.А. (Суоп) 396,432
ЦорнА. (Zorn) 37,368
Цуриков H.A. (Беленихин И.) 357
Чаадаев П.Я. 271,444
Чайковский П.И. 440
Чаковский А.Б. 497,598
Чалмаев В.А. 572
Чапек К. (Сарек) 20, 33, 79, 125, 331,420
Чапыгин А.П. 424
Черенков П.А. 498, 500-501
Чернецов В.М. 550
Черниговский Д.Е. 359, 369
Чернов В.М. 549
Черный С. 410
Черных В.А. 604,610,617
Чернышев А. 421
Чернышева О.В. 30, 31, 240, 389
Чернышевский Н.Г. 180
Черчилль У (Churchill) 177,519,534
Чехов А.П. 18, 28, 31, 32, 69, 72, 135, 136, 149,
151, 161, 180, 248,252, 256, 264, 270, 279, 284,
289, 313, 317, 327, 336, 344, 347, 356, 358, 362,
363, 365, 367, 387, 508, 513, 544, 597, 633
Чешихин-Ветринский В.Е. 238
Чириков E.H. 195,196
Чудаков Г. (Тиняков А.И.) 290
Чуковская Л.К. 528,610
Чуковский К.И. 58,498
Чулков Г.И. 93
Чюмина-Михайлова О.Н. 266
Шаляпин Ф.И. 298, 426, 614
ШатковГ.В. 159
Шаховская З.Н. 256, 294, 439
Шаховской Д.М. 255
Шевченко Т.Г. 625
Шёгрен П. (Sjögren) 531
Шекспир У. (Shakespeare) 217, 434, 481, 484,
585, 637, 639
Шелли П.Б. (Shelley) 614
Шёльд X. (Skjöld) 277, 364, 365
Шессен С. де (Chessin; Шершевский СБ.) 293,
296, 334, 338, 340, 343, 344, 366, 368, 389, 395,
396,408
Шестов Л.И. 83,123, 231, 300, 301, 306,448
Шиллер Ф. (Schiller) 45, 84
ШилтьянГ.И. 517
Шиманский С. (Schimanski) 477
Шимборская В. (Szymborska) 603
670
ШкуроА.Г. 210
Шлёцер Б.Ф. (Schloezer) 226
Шлотт В. (Schiott) 10
Шмелев И.С. 9, 25, 72, 86, 91-93, 119, 125, 130,
156,178, 205-207,210, 216, 221-256, 300, 301,
305, 310, 320, 330, 346-348, 356, 374-376, 402,
403,411,428,643
Шмелев СИ. 248,256
Шмелева O.A. 225
Шойц Б. (Scheutz) 533
Шолохов М.А. 5, 7, 15, 19, 20, 22, 27, 33, 167,
211, 283, 438, 474, 478, 487, 490, 491,493, 500,
502-601, 604-606, 608,616, 617,619,624, 628,
630, 632, 635, 642-644
Шолохова М.П. 522,541
Шолохова СМ. 541
Шопенгауэр А. (Schopenhauer) 138
Шор Е.Д. (Schor) 448
Шоу Б. (Shaw) 47,136
ШпетГ.Г. 448
Шраер M. (Shrayer) 356, 413,417
Шрёдингер А. (Schrödinger) 405
Шрёдингер Э. (Schrödinger) 372, 398
Штайнер Р. (Steiner) 111
Штайнке К (Steinke) 10
Шюк Г. (Schuck) 16, 29, 171, 172, 327, 343, 395,
445
Шюлер К. (Schueler) 538, 539
Щепкина-Куперник Т.Л. 266
Эдфельт Й. (Edfelt) 579
Эзоп (Αίσωπος) 364
Эйден Э. (Eiden) 113
Эйхенбаум Б.М. 99,609
Экблюм (Экблом) P. (Ekblom) 277
Элиасберг А. (Eliasberg) 192
Элиот Т.С (Eliot) 20,485, 539, 602, 612, 615
Эллис (Кобылинский Л.Л.) 184
Энгдаль X. (Engdahl) 9
Энглунд П. (Englund) 9
Энгстрём А. (Engström) 137
Энгстрём Бруберг М. (Engström Broberg) 9,620
Энценсбергер Г. (Enzensberger) 598
Эрдман Н. (Erdmann) 64
Эрдман Н.Р. 603
Эренбург И.Г. 256, 493, 504, 514, 527, 528, 574,
577, 578, 598
Эрнст П. (Ernst) 340,343
Эспмарк Ш. (Espmark) 8, 16-23, 33, 37,40, 370
Эстерлинг А. (Österling) 14-17, 168, 170, 282,
328, 340, 343-347, 362, 395,407, 409, 486-488,
493-496, 498, 501, 583, 586, 600, 601, 616, 617,
619, 620, 623
Эсхил (Αισχύλος) 579
Эчегарай X. (Echegaray) 260, 616
Юденич H.H. 209
Юдин В.А. 210
Юлиан Отступник 62, 63, 124
Юлин Й. (Julin) 531
Юлленстен Л. (Gyllensten) 20
Юнггрен М. (Ljunggren) 236-238, 240-242,474,
534-538, 573
Юнсон Э. (Johnson) 580
Юшкевич СС 313
Яблоновский A.A. 146
Якобсон P.O. 492, 607, 608, 616, 618, 634, 635
Якобссон Г. (Jacobsson) 618
ЯнВ.Г. 218
Янгфельдт Б. (Jangfeldt) 29, 474, 533
Янковский П.С 39-40
Яновский B.C. 111
Янсон О. (Janzon) 5, 500, 521
Яугелис Г. (Jaugelis) 53, 80-83, 123, 232, 233,
237-239,277-281,364,365
AimontJ.-H. 419
BaurJ.219
Böhm V. 284
ChiappeA.J. 639
FilipofTB. 37
FrankbyU.-B. 28,30
Gerner K. 27
Ghil R. 184
Hansen-Löve A. 184
Heywood A.J. 8
Holstein A. de 184
Janko J. 30
Koppen E. 257
Lopatina E.M. 8
Pyman A. 187
Rosenthal B.G. 126
RusenE.V. 376
Struc R.S. 72
VicoVarol73
Vlach R. 37
Wegner M. 150
Wellek R. 77
Научное издание
Марченко Татьяна Вячеславовна
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ЗЕРКАЛЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ