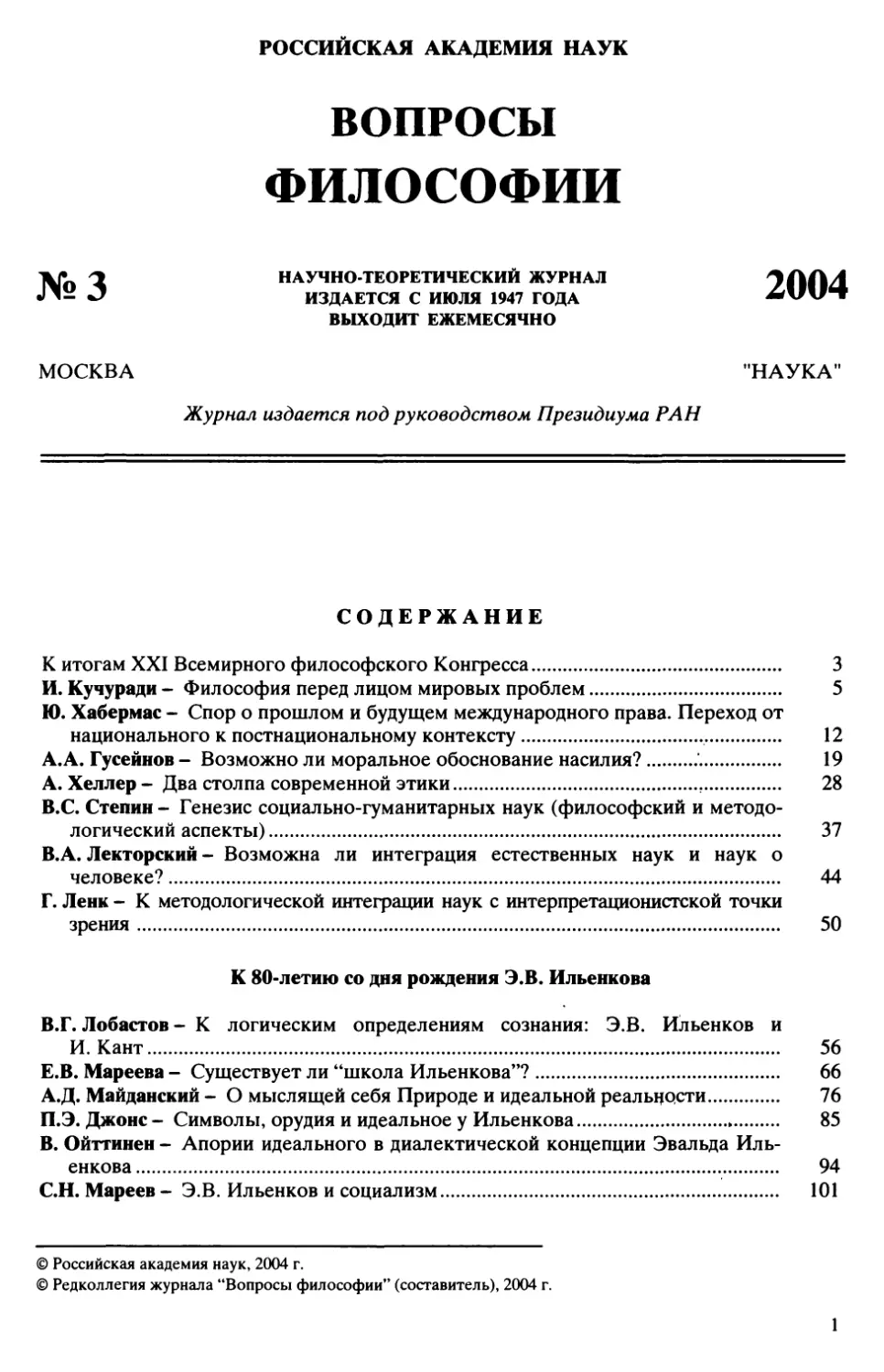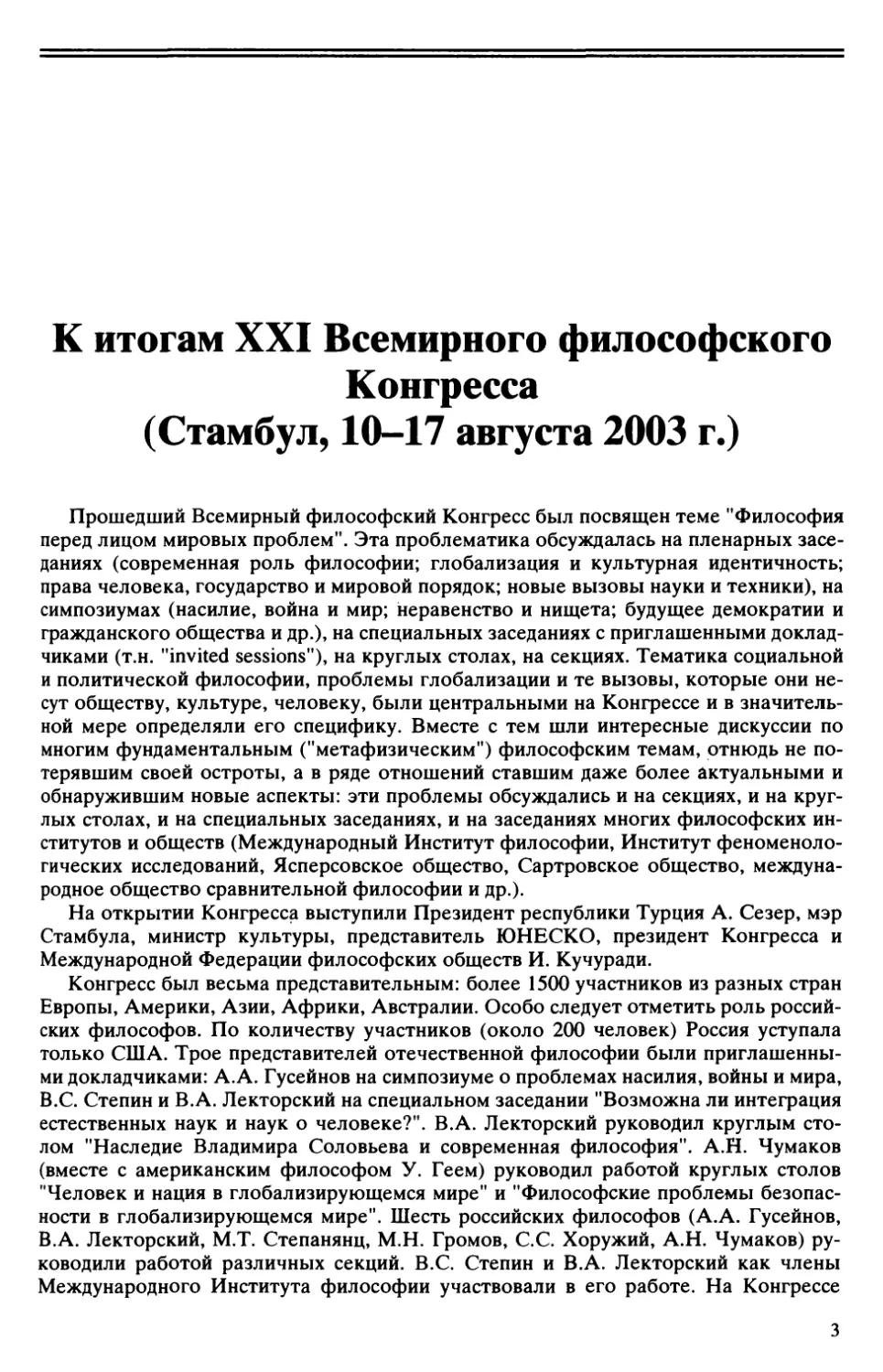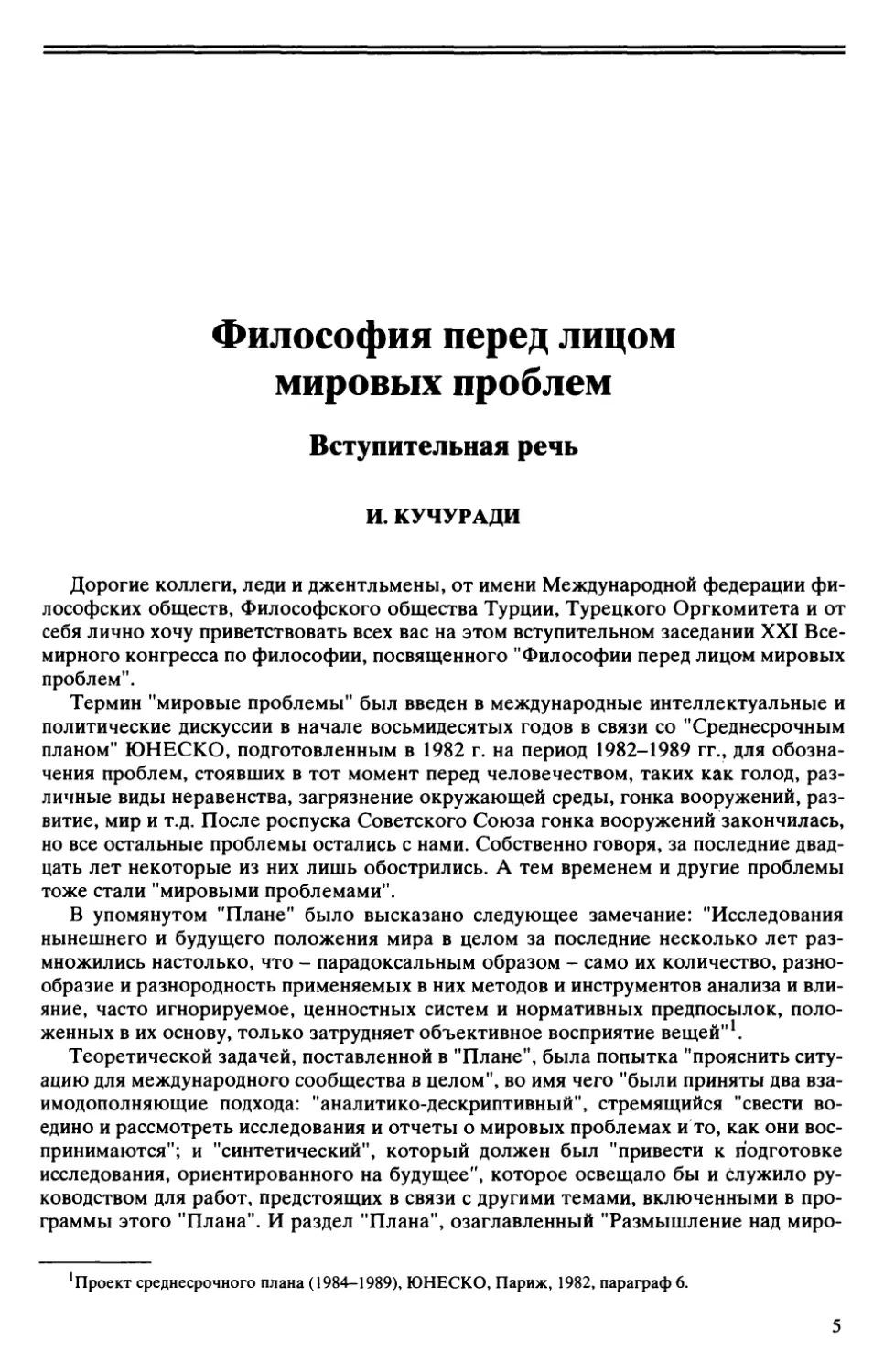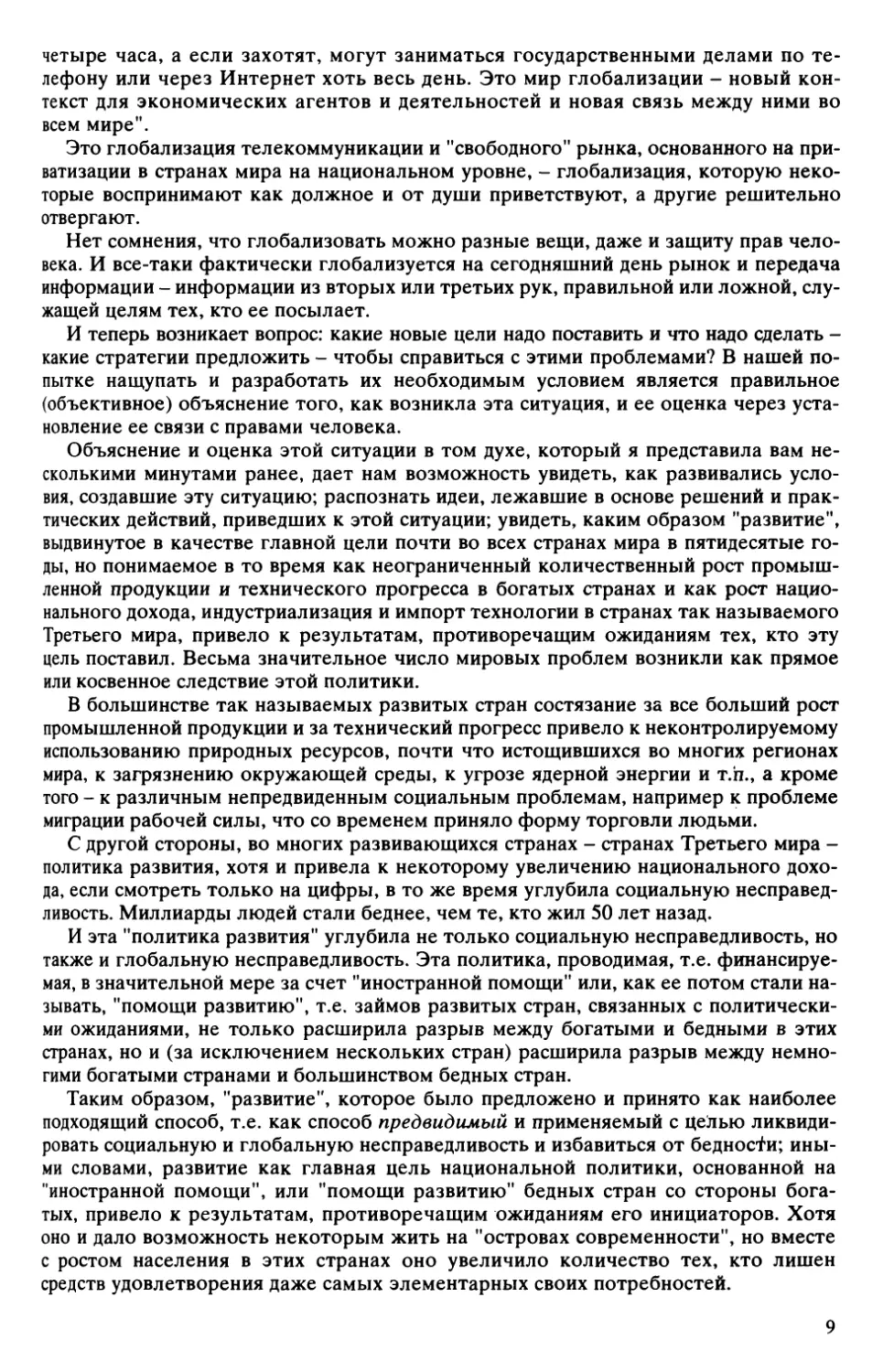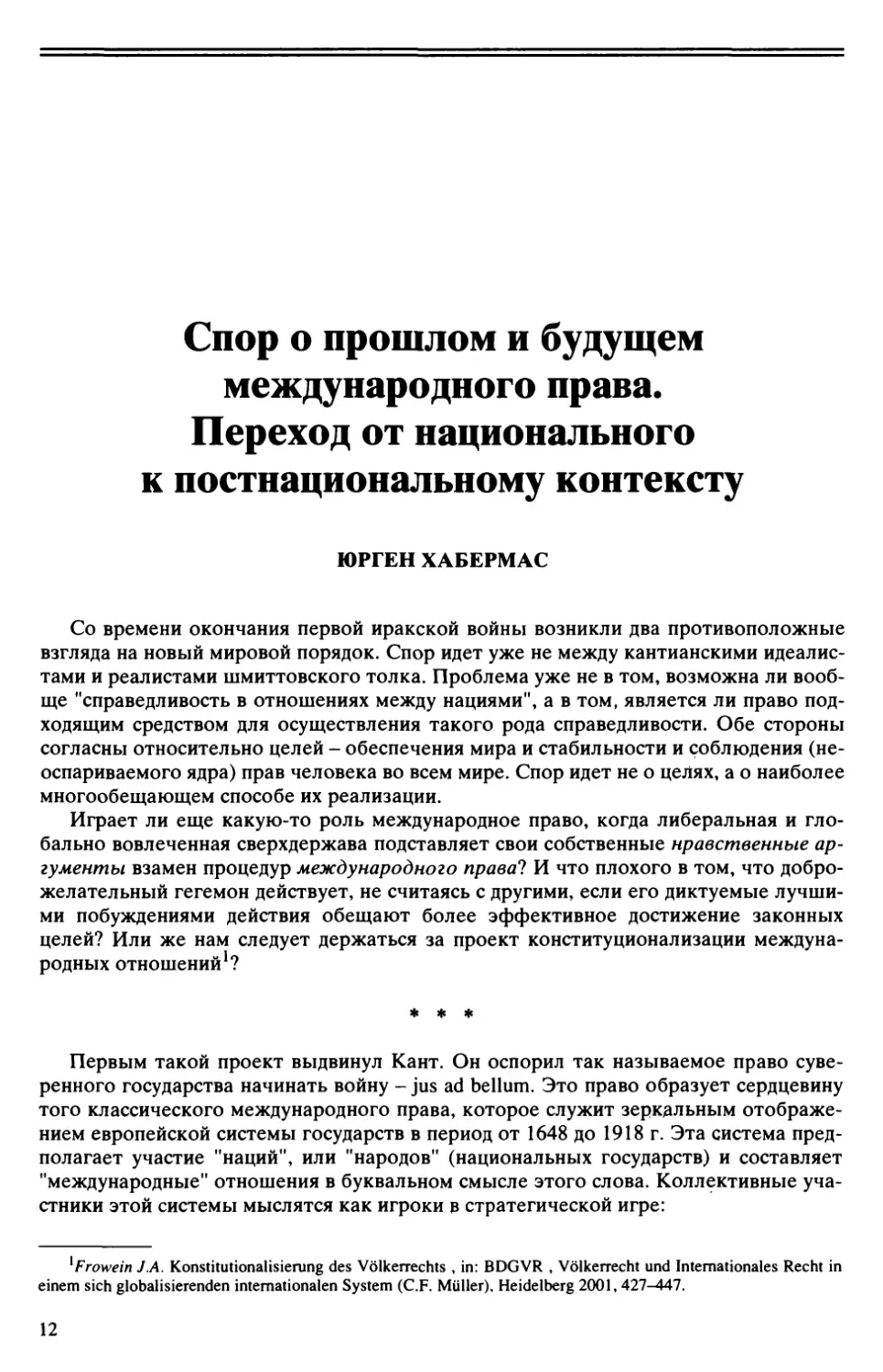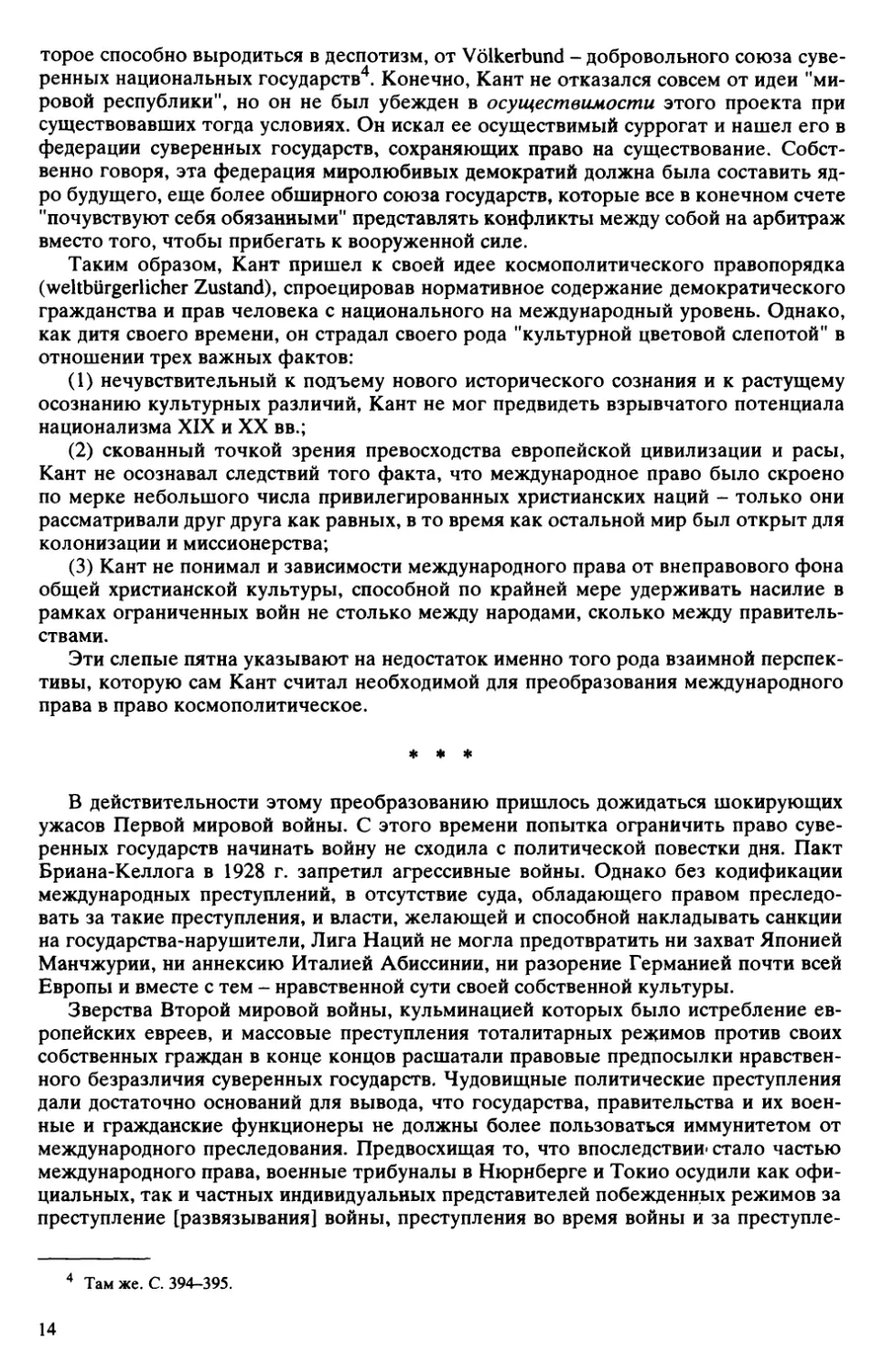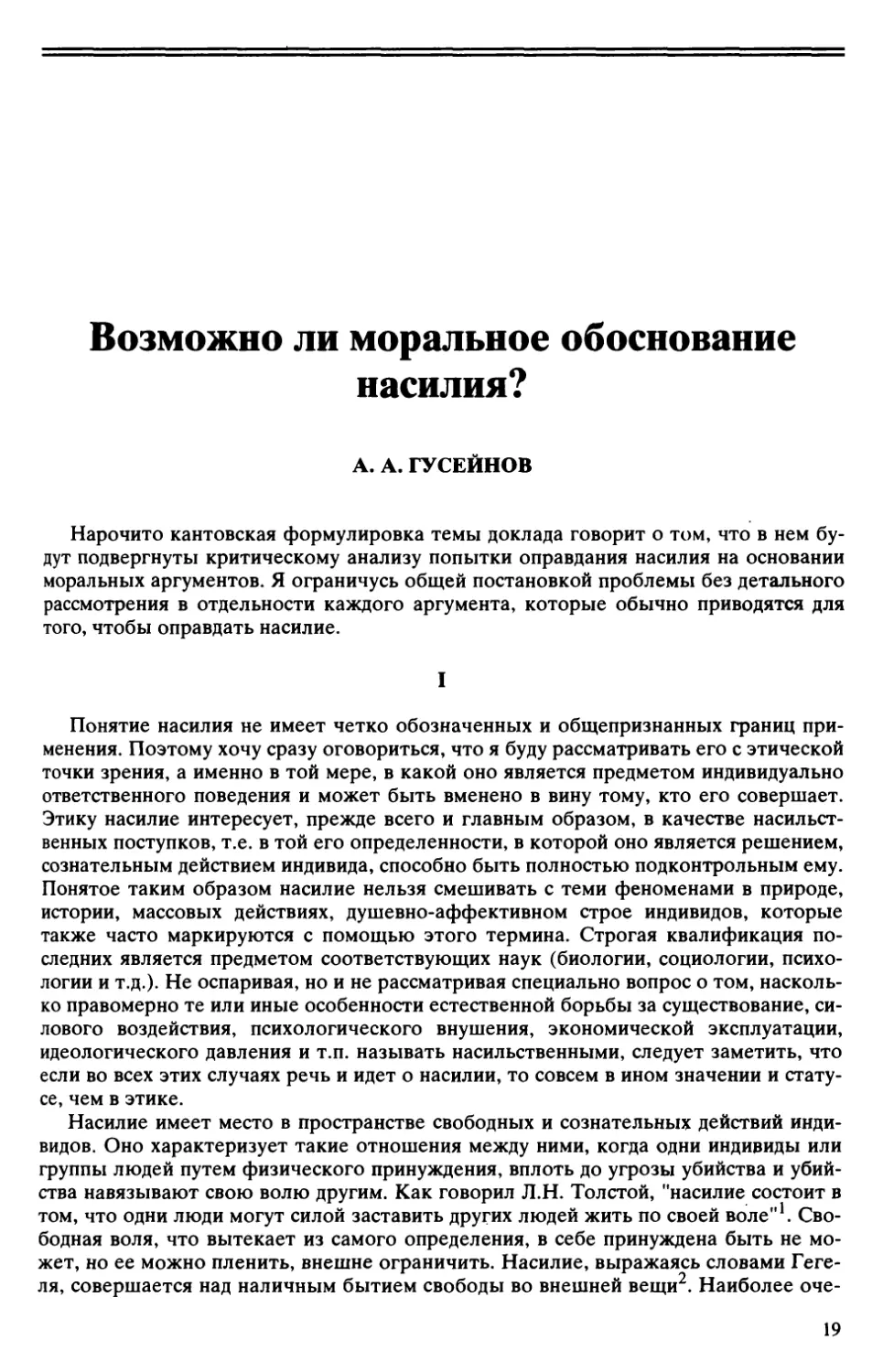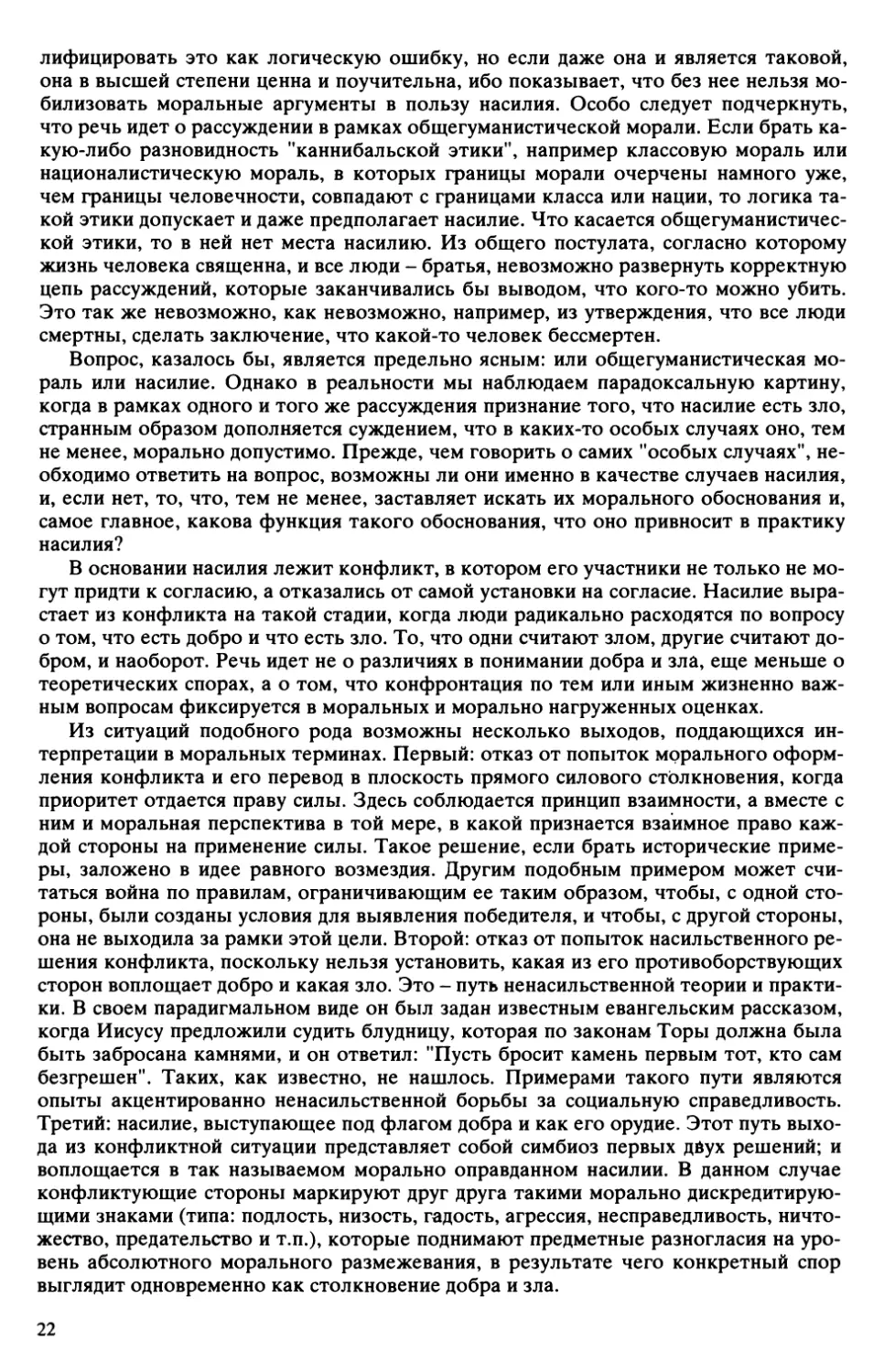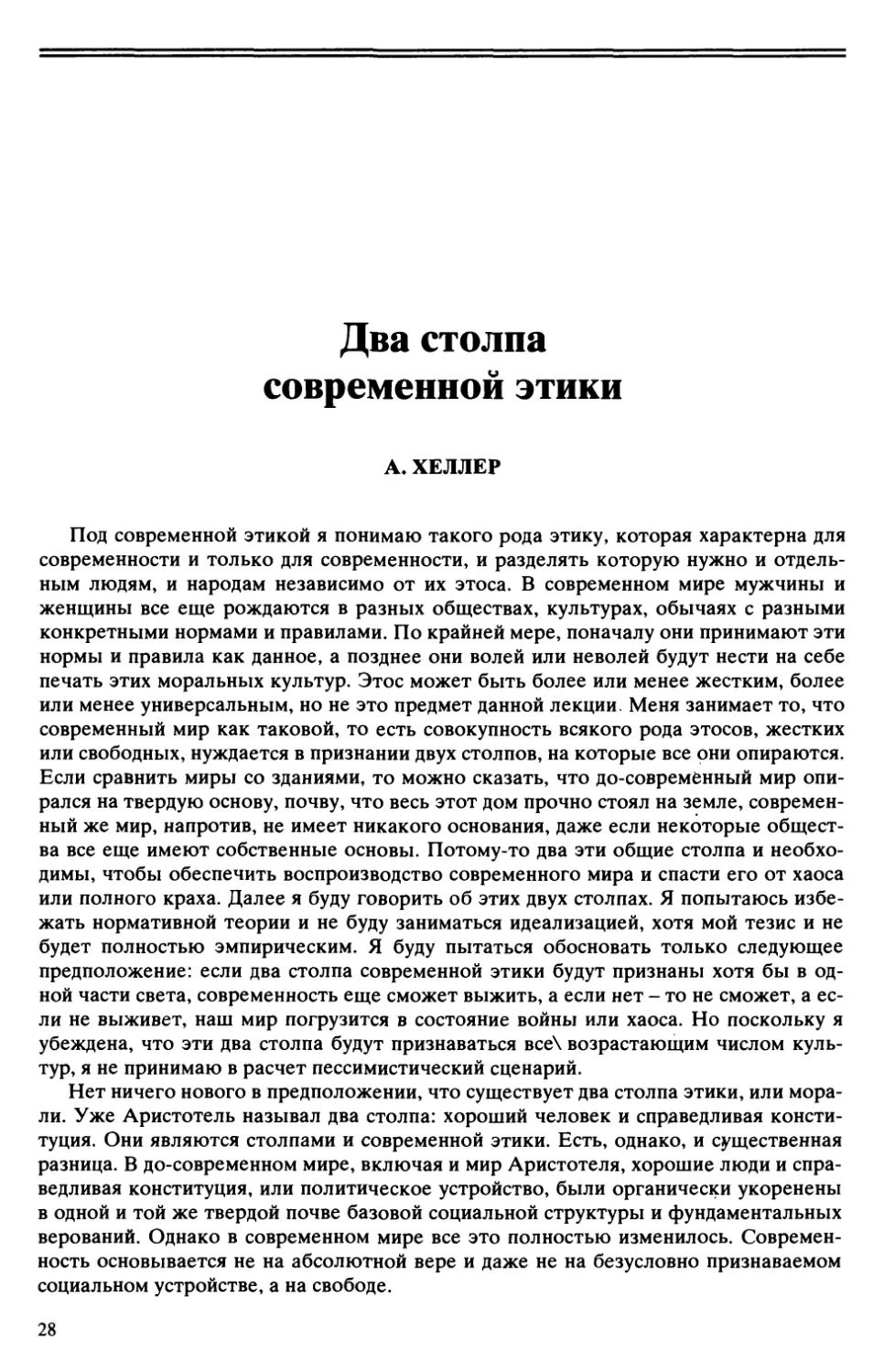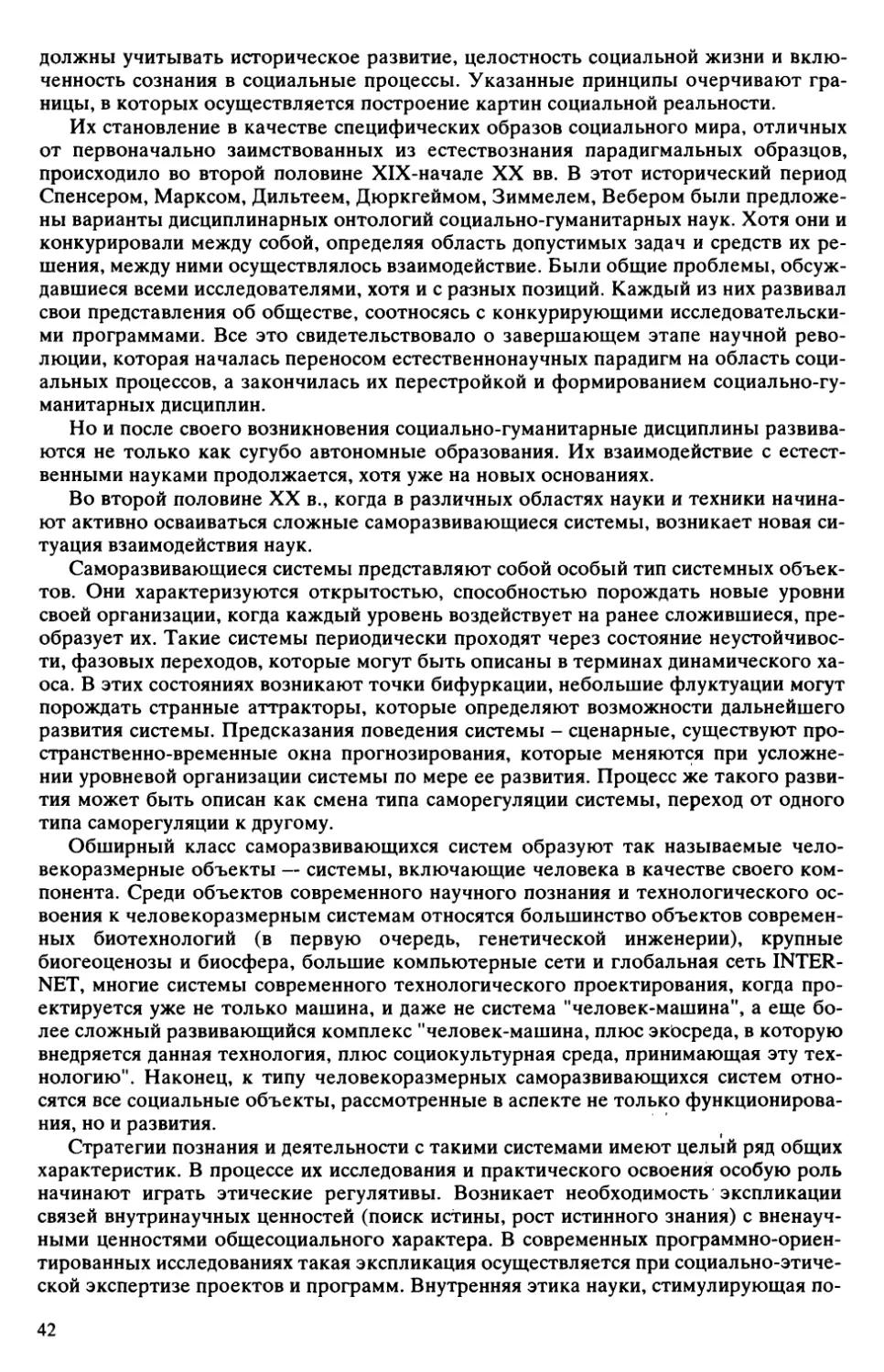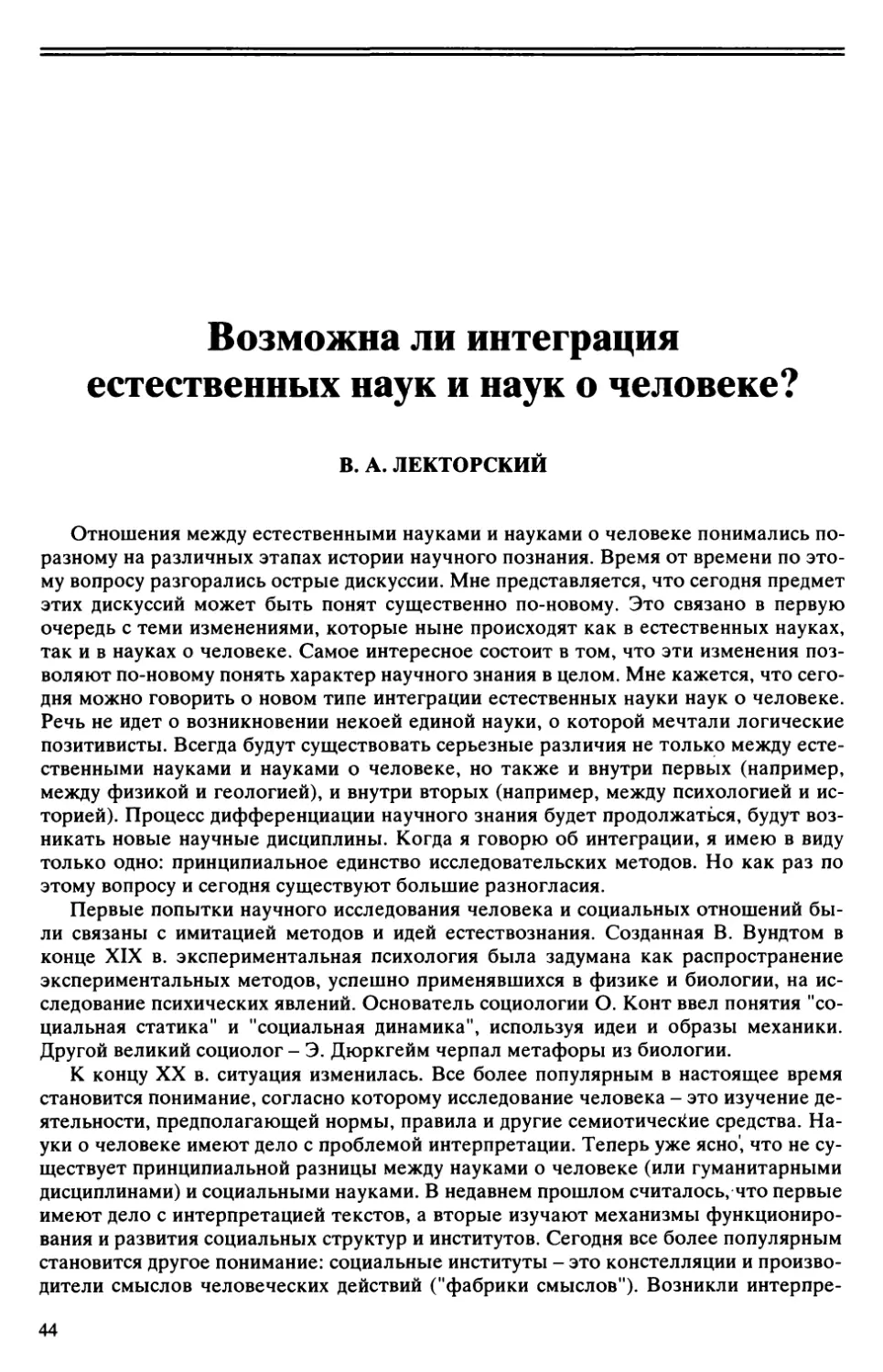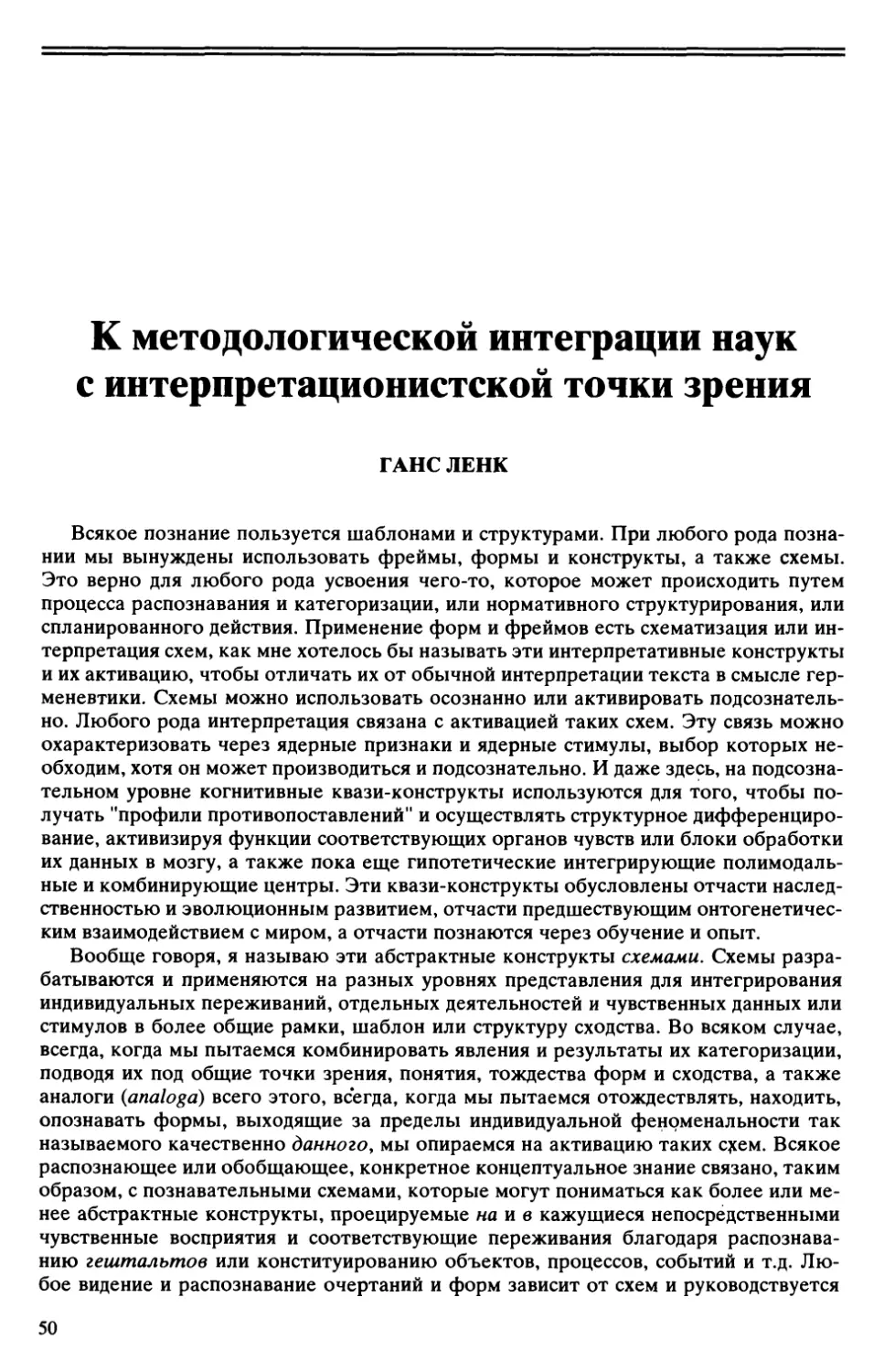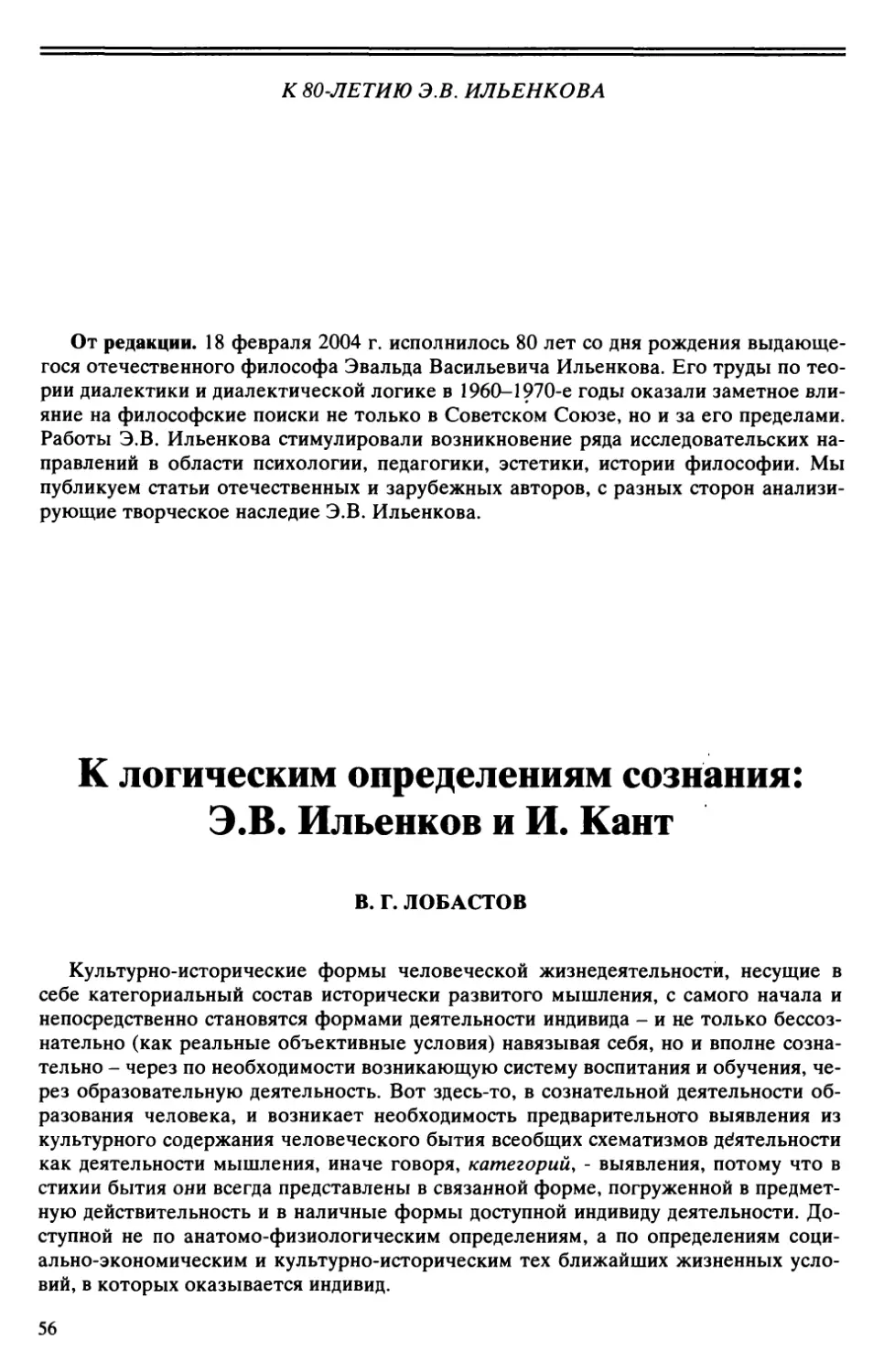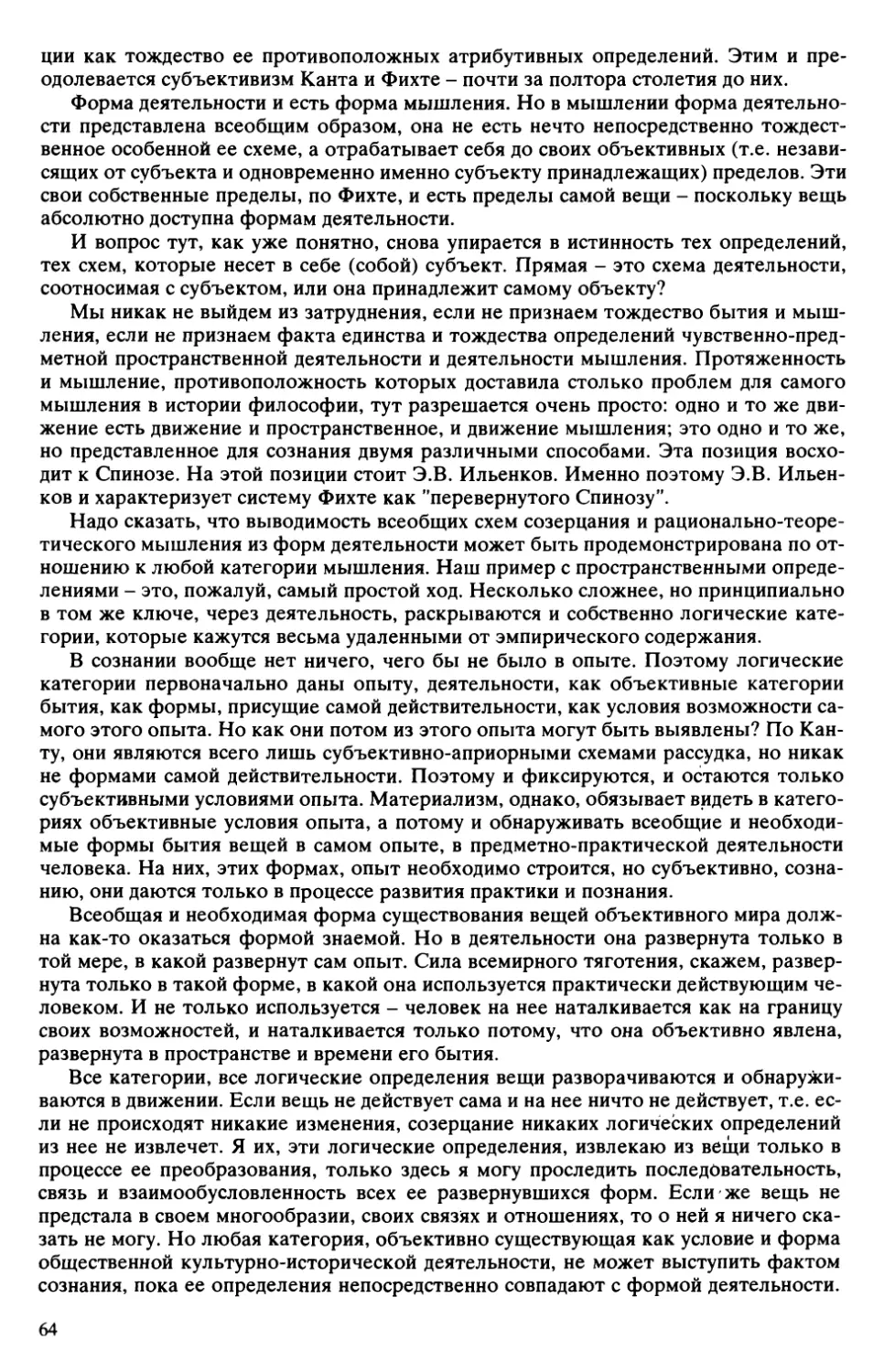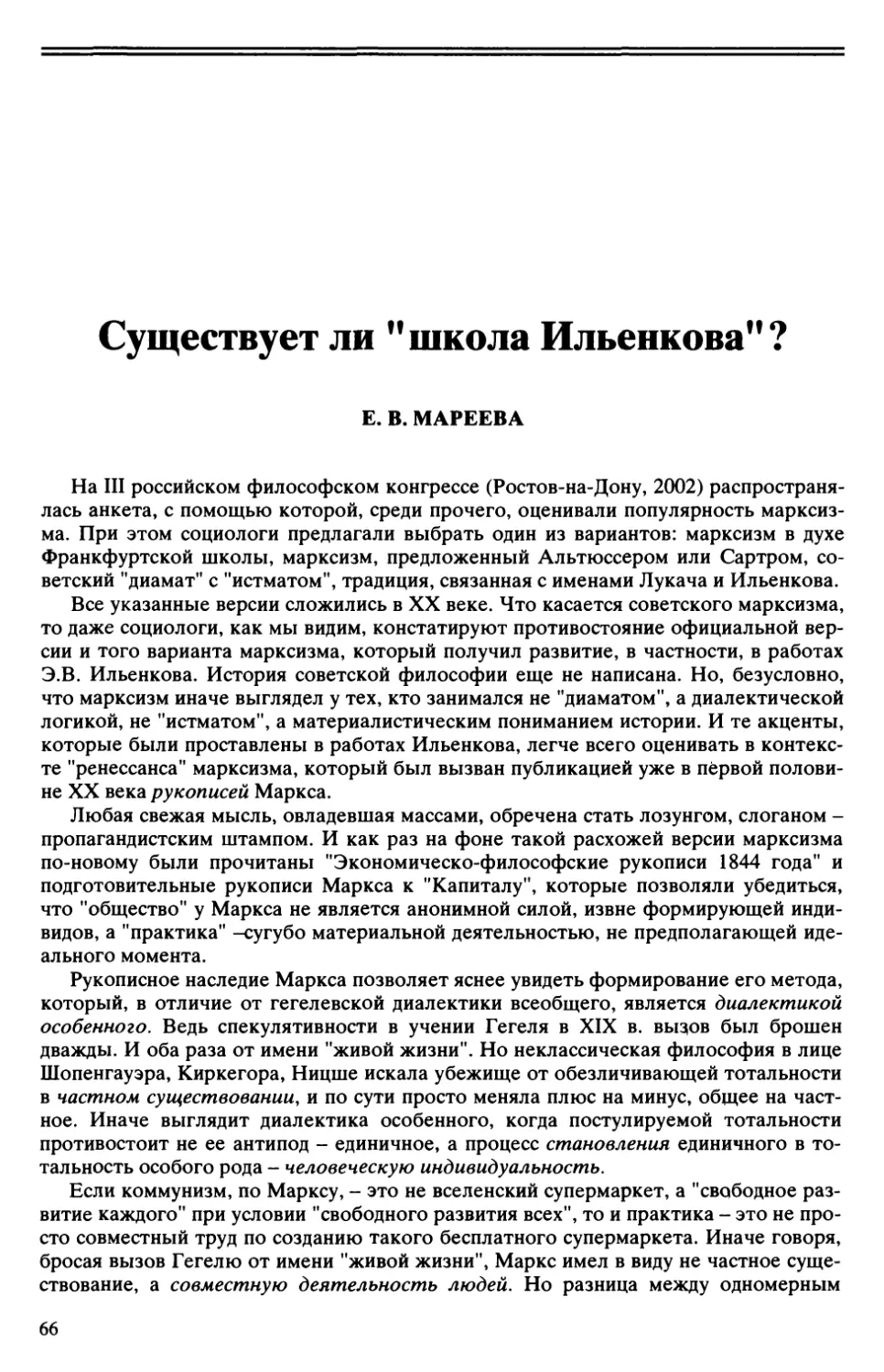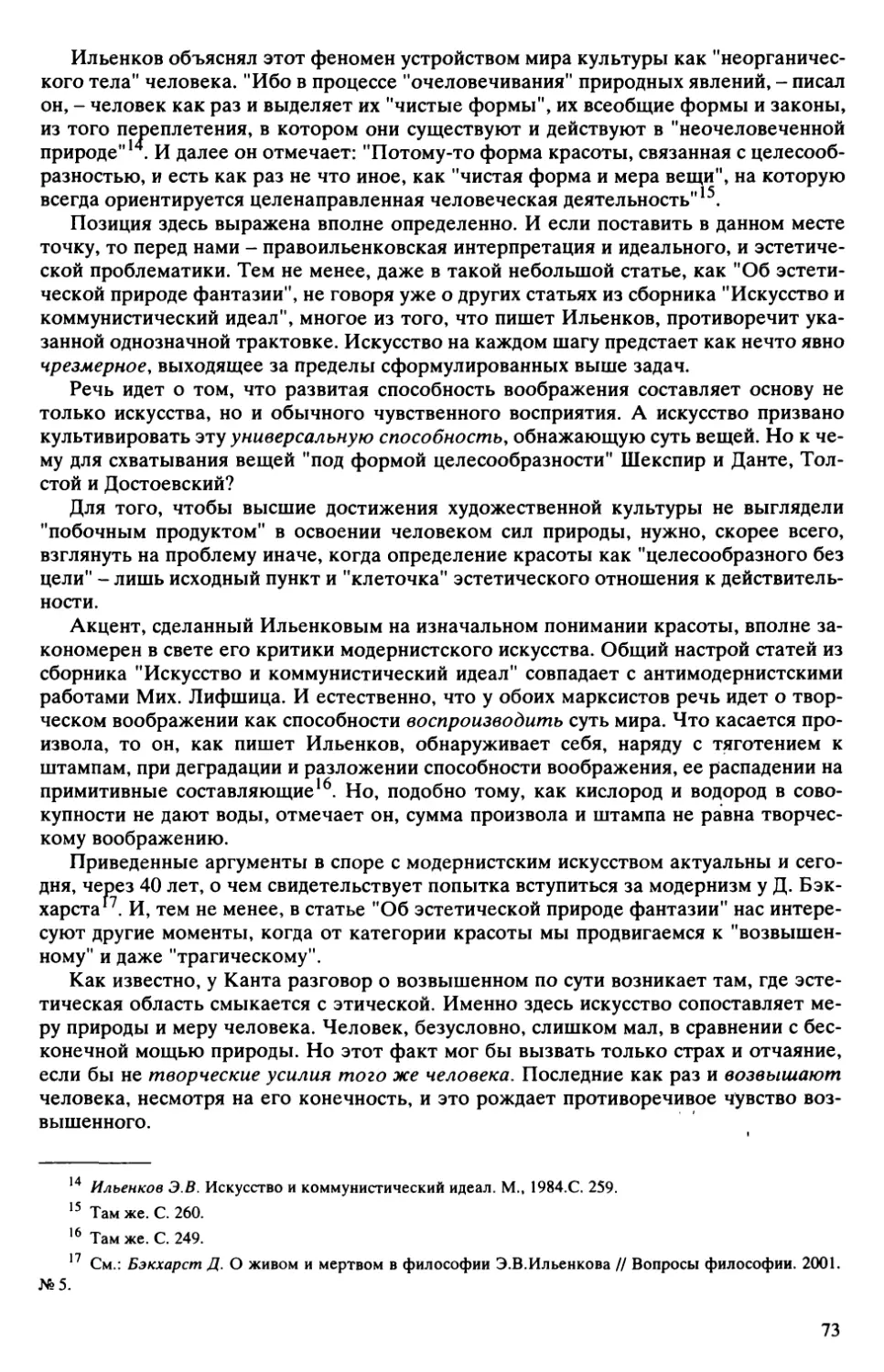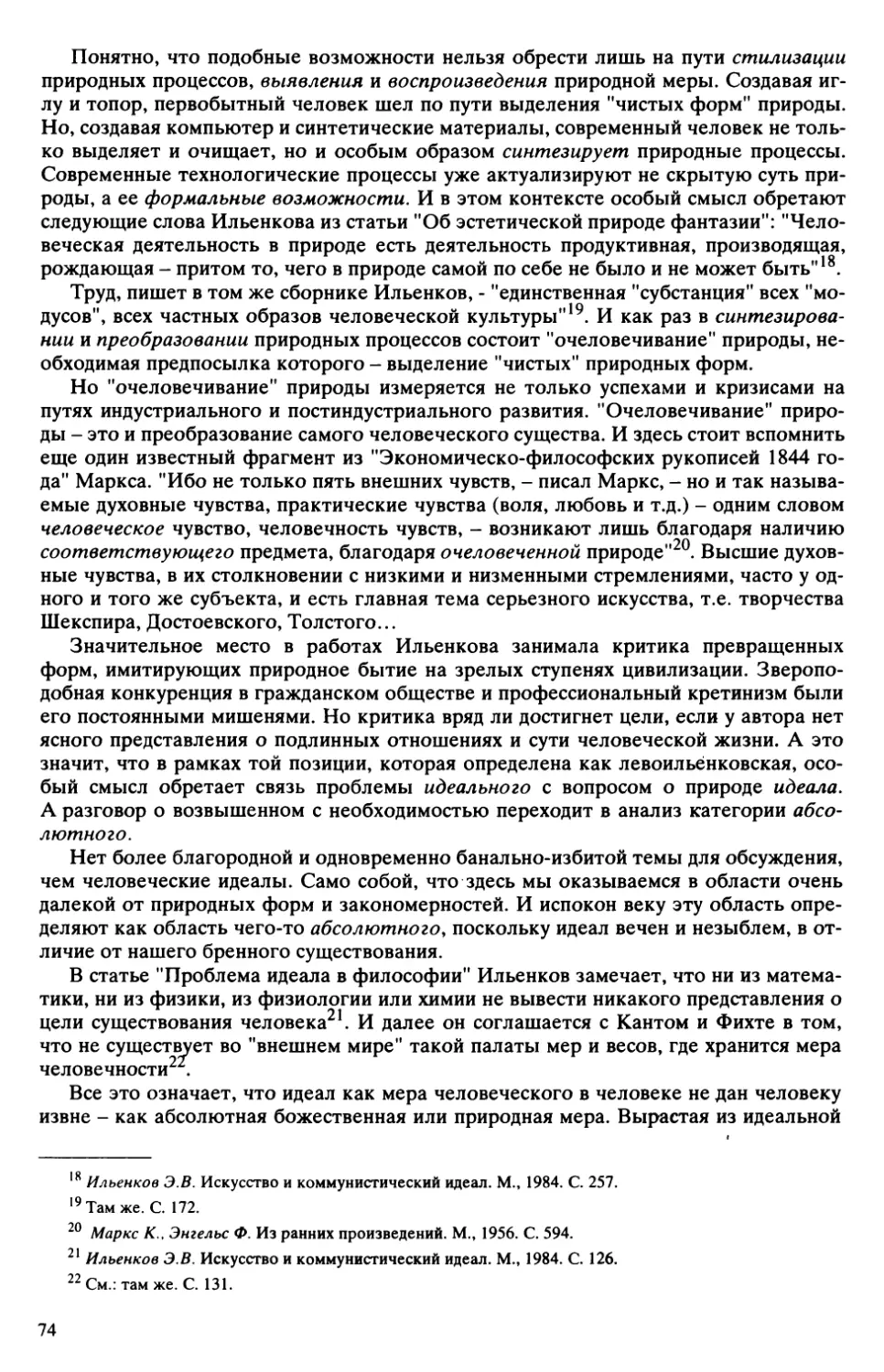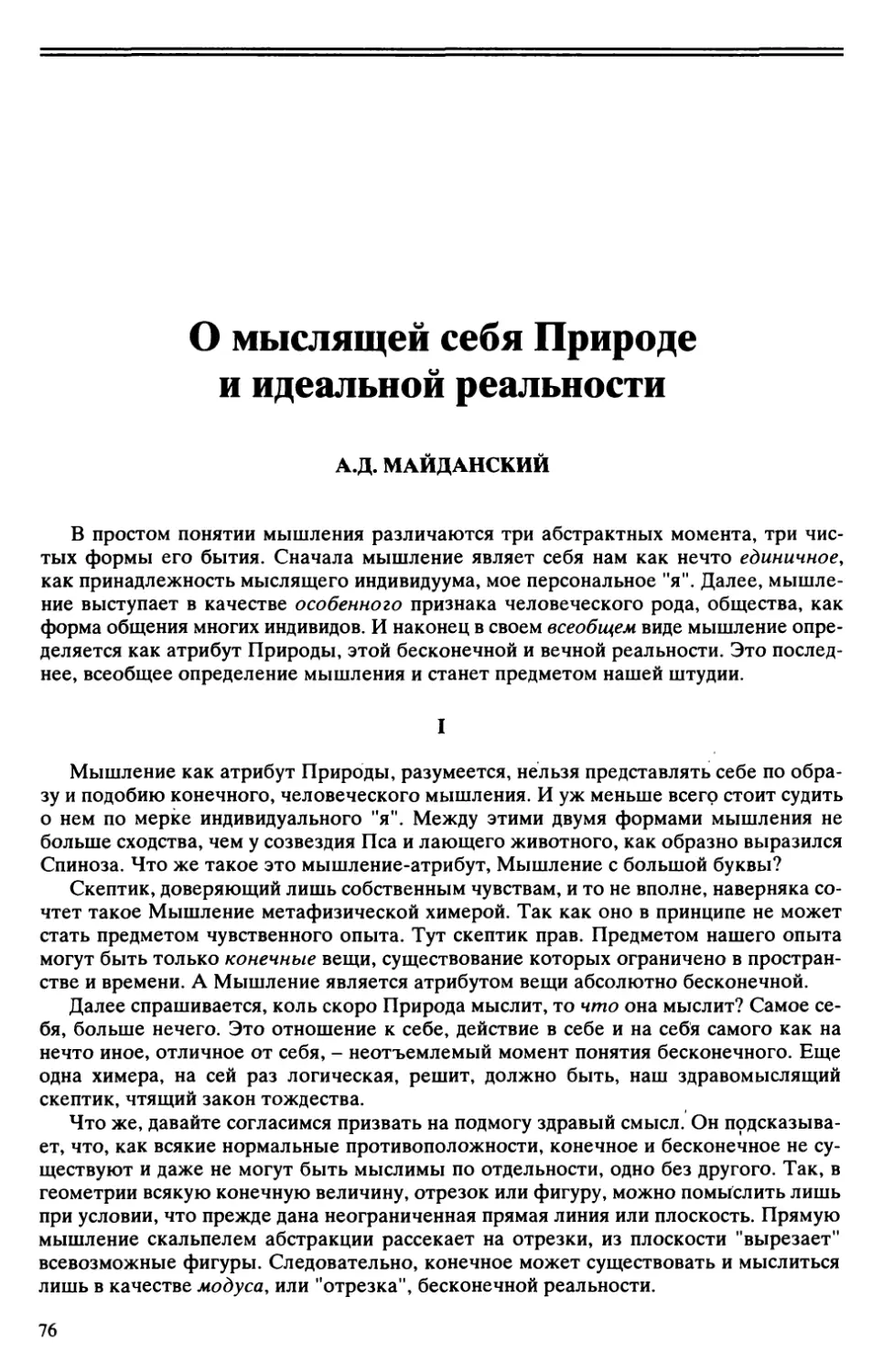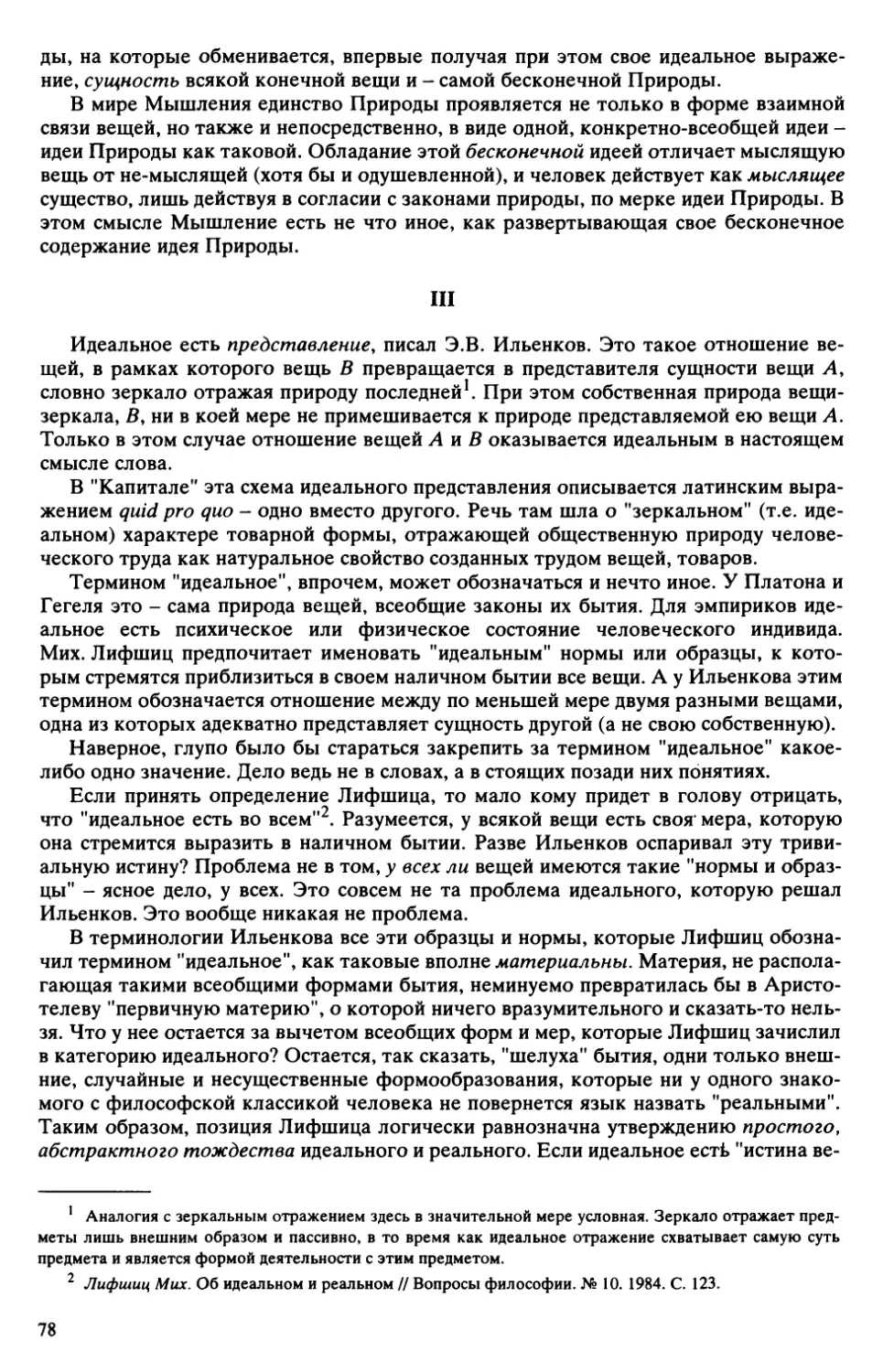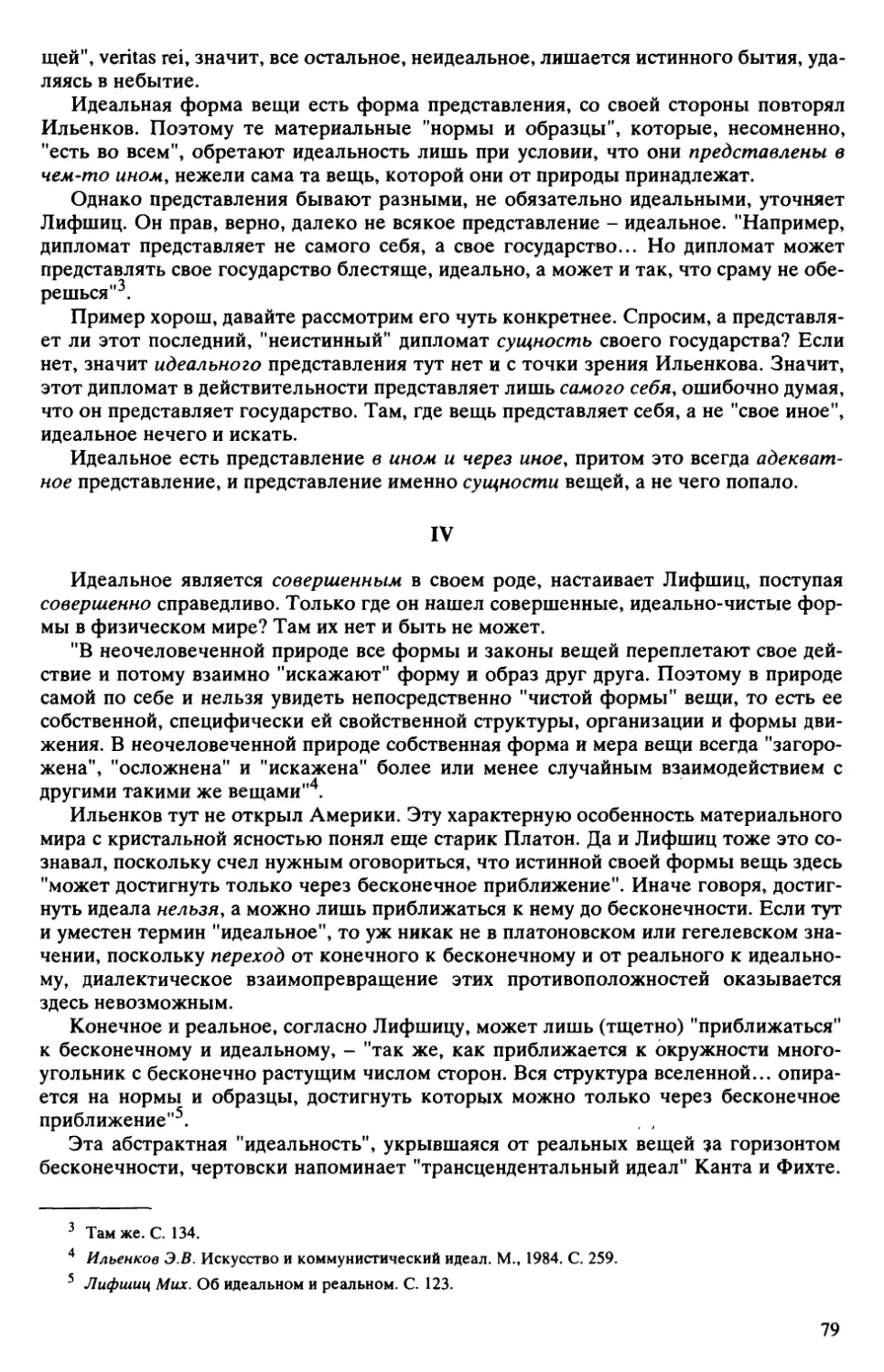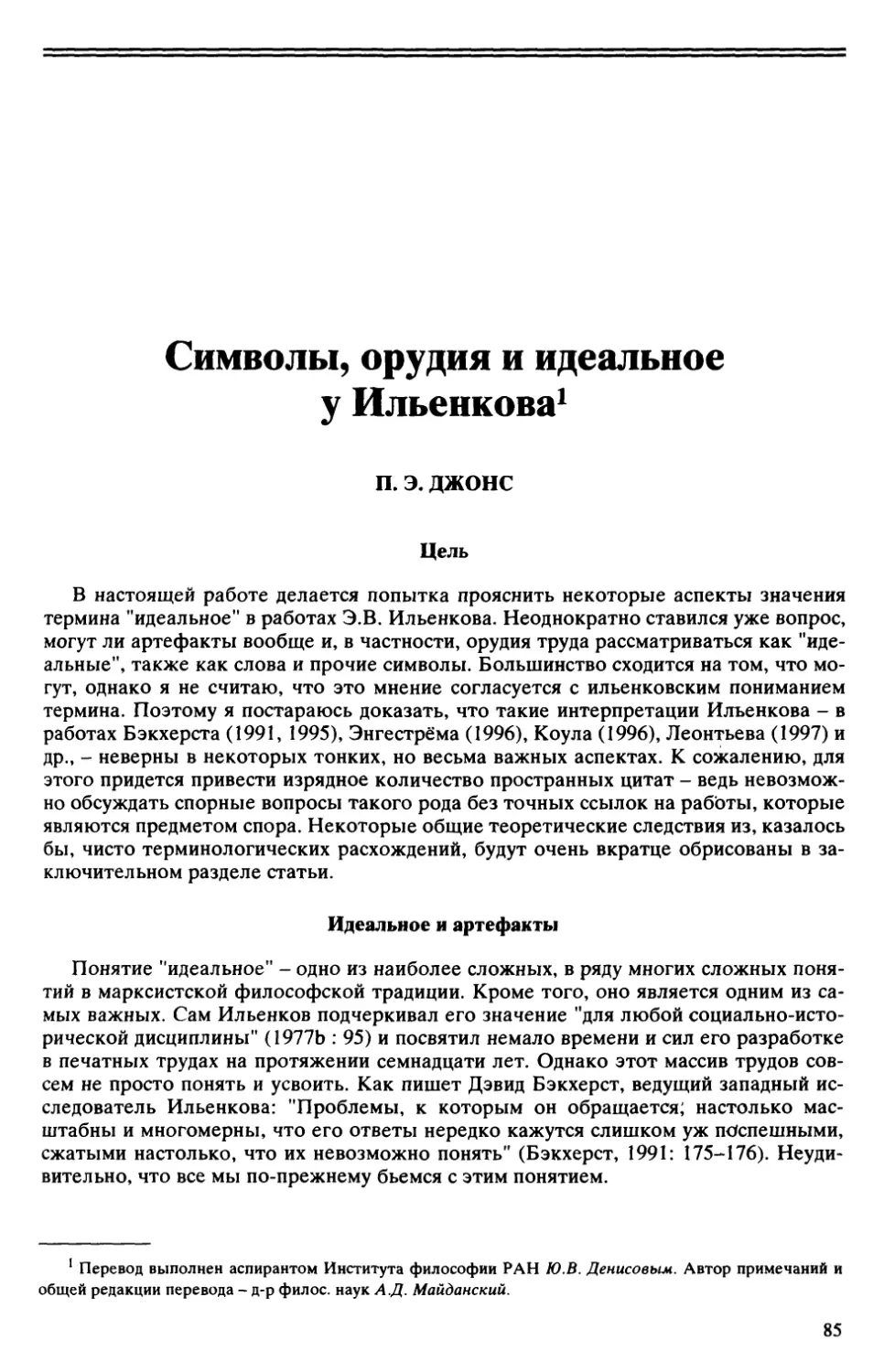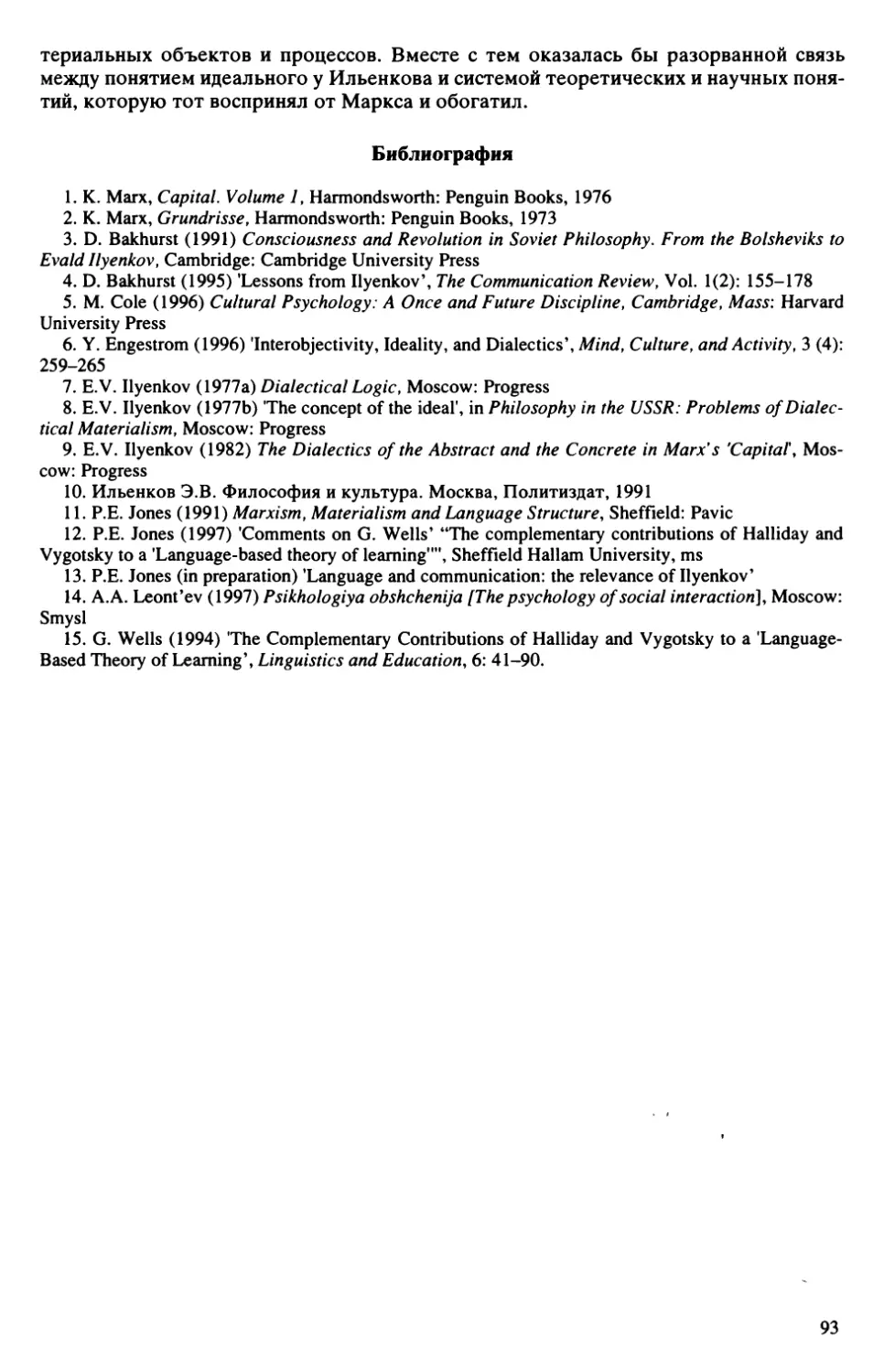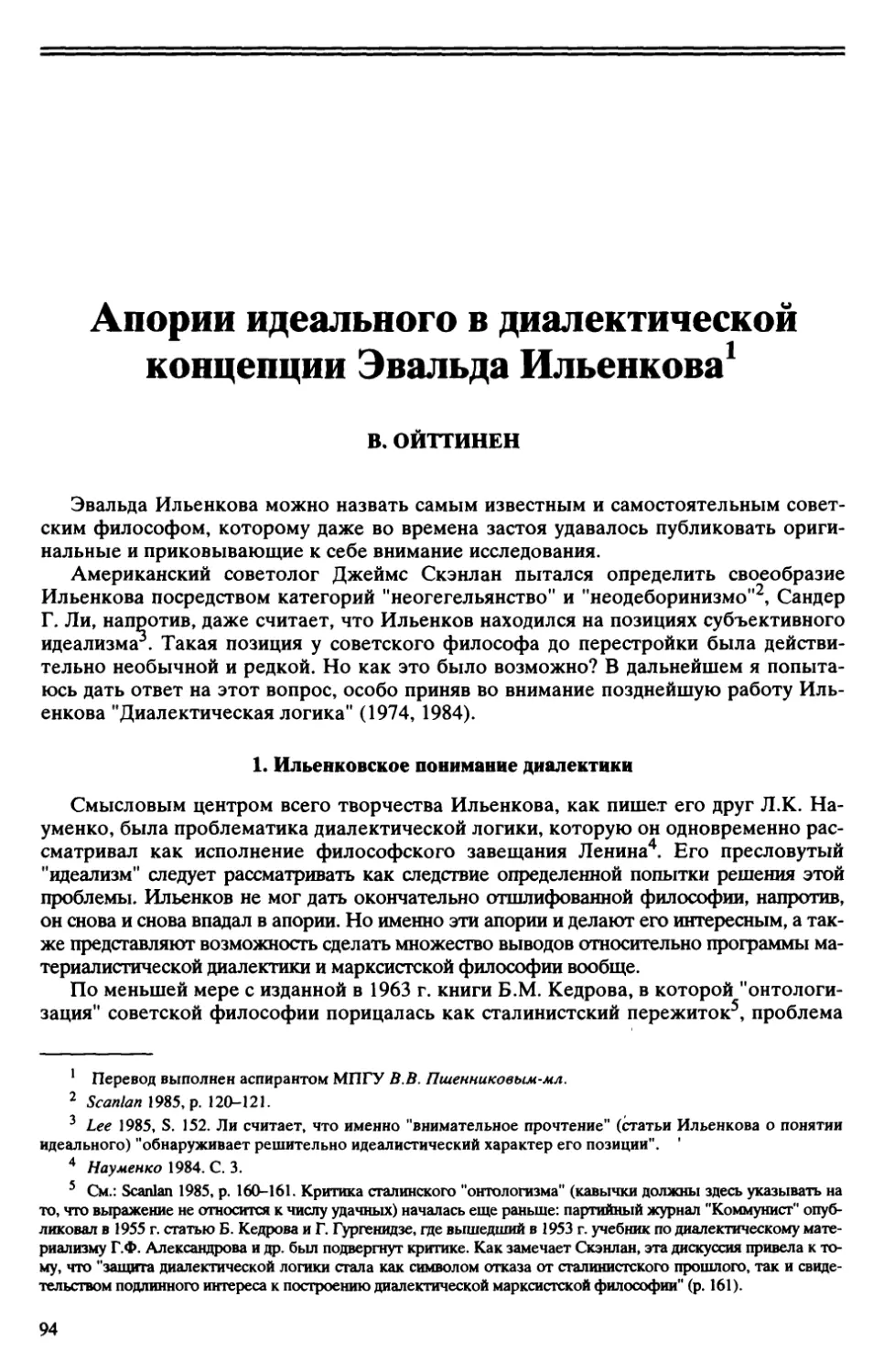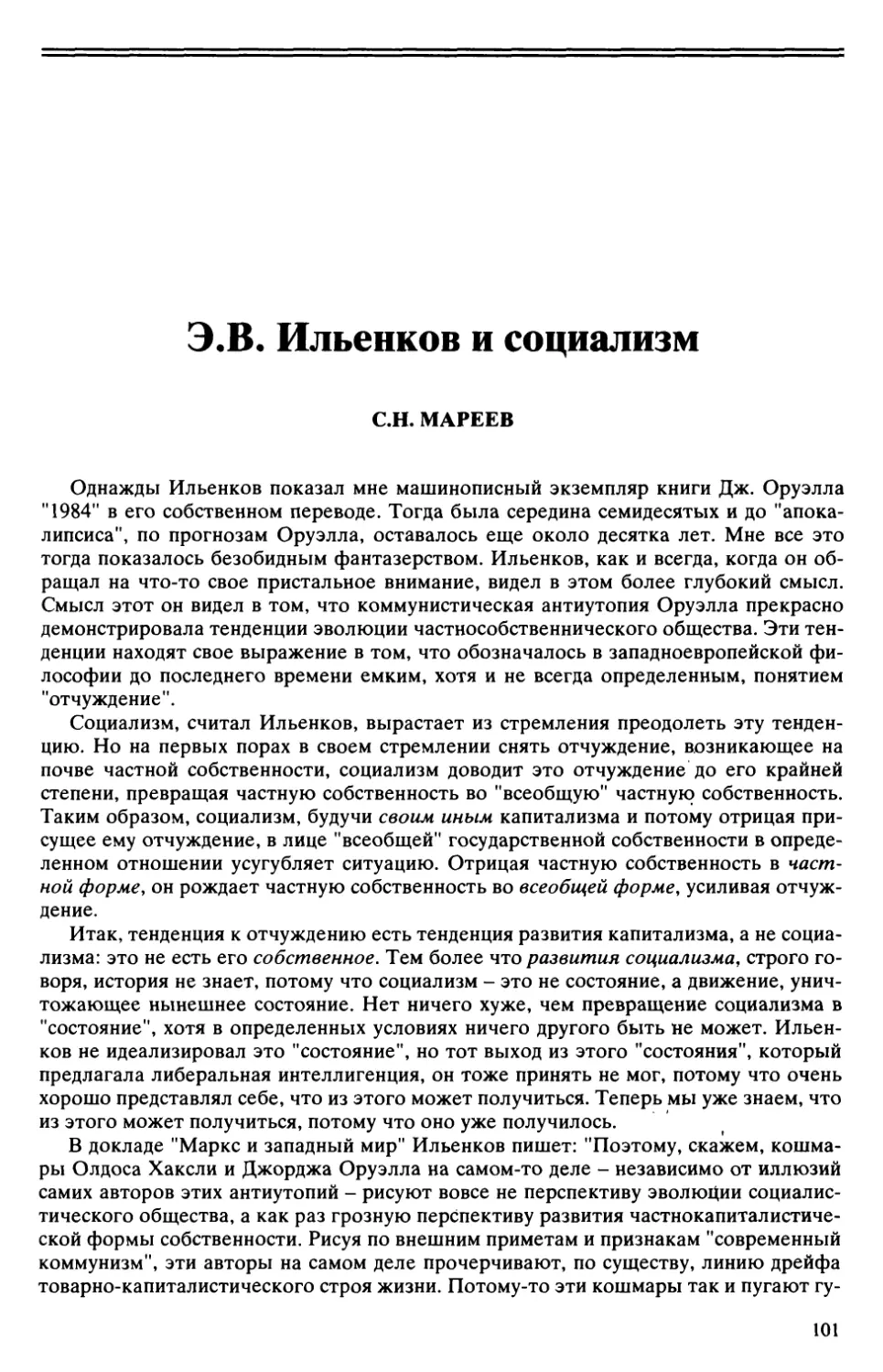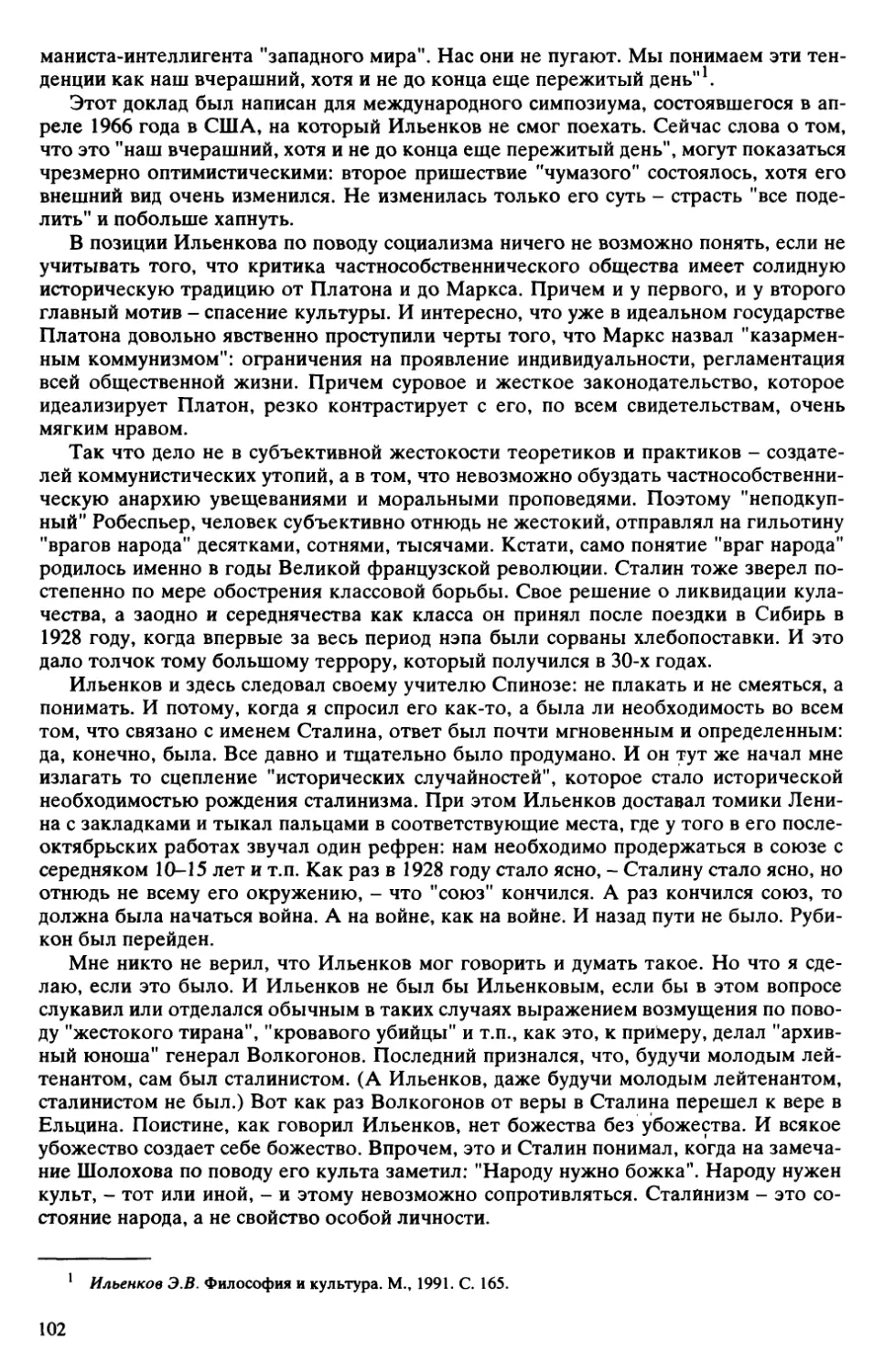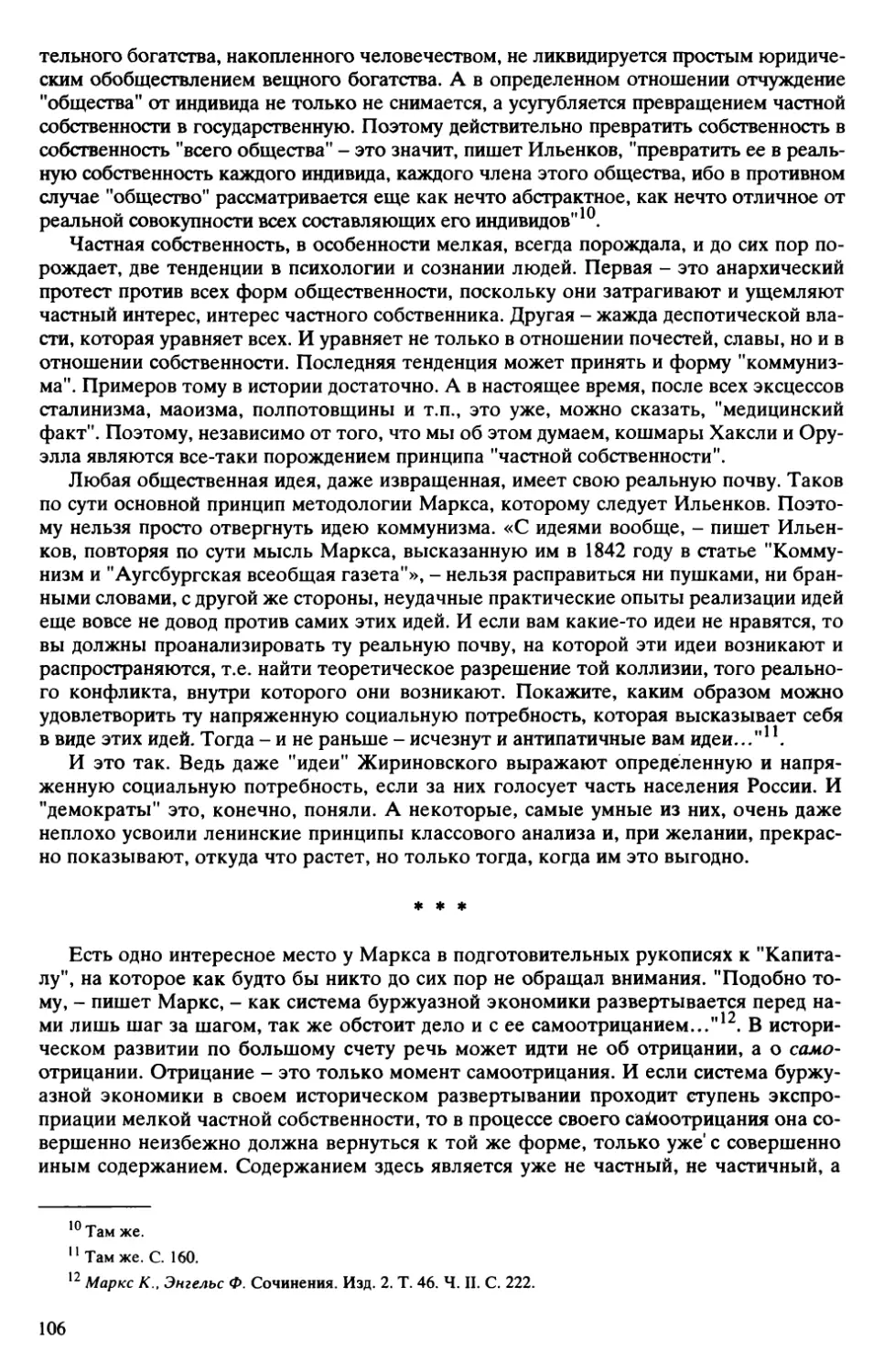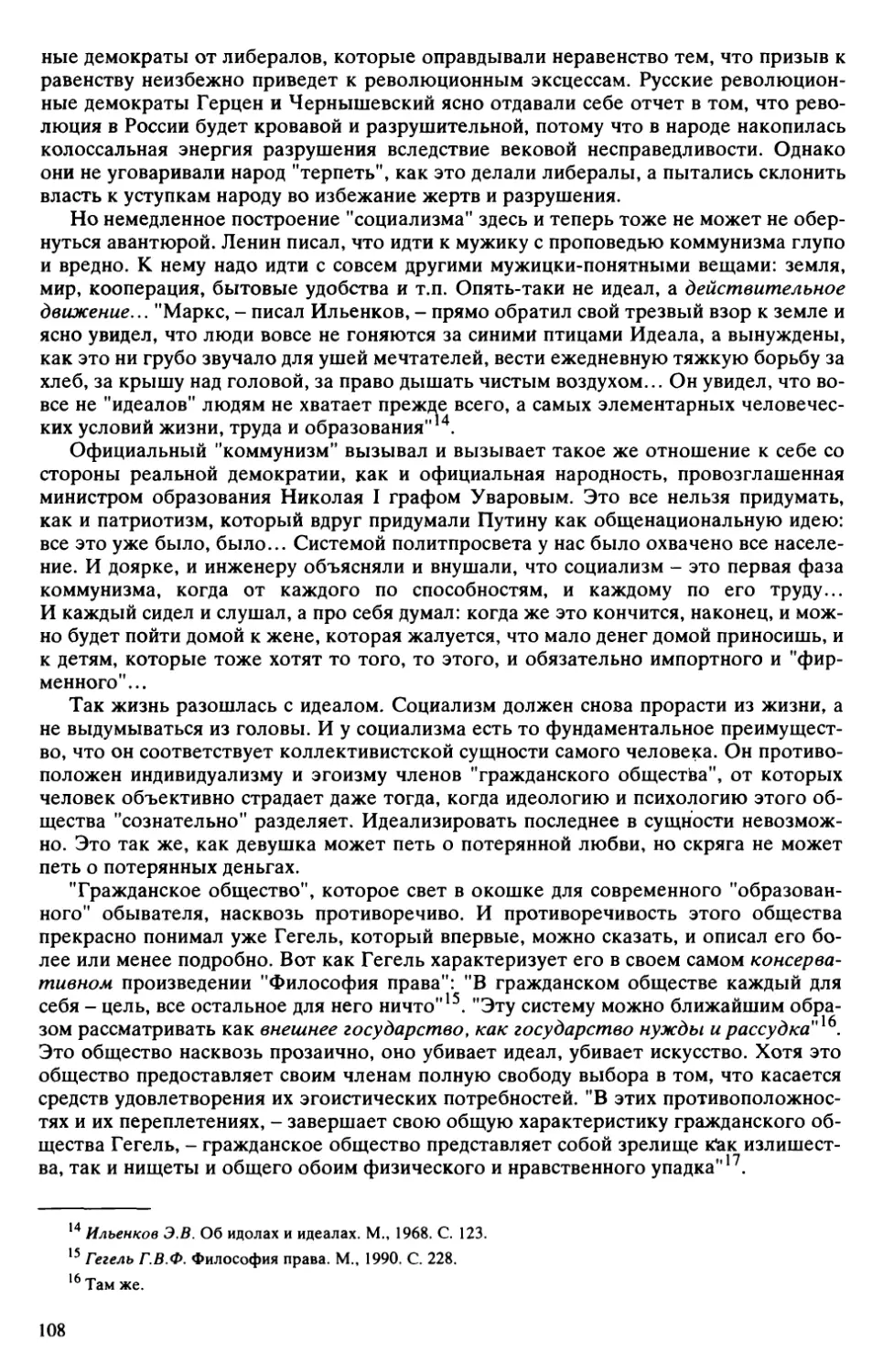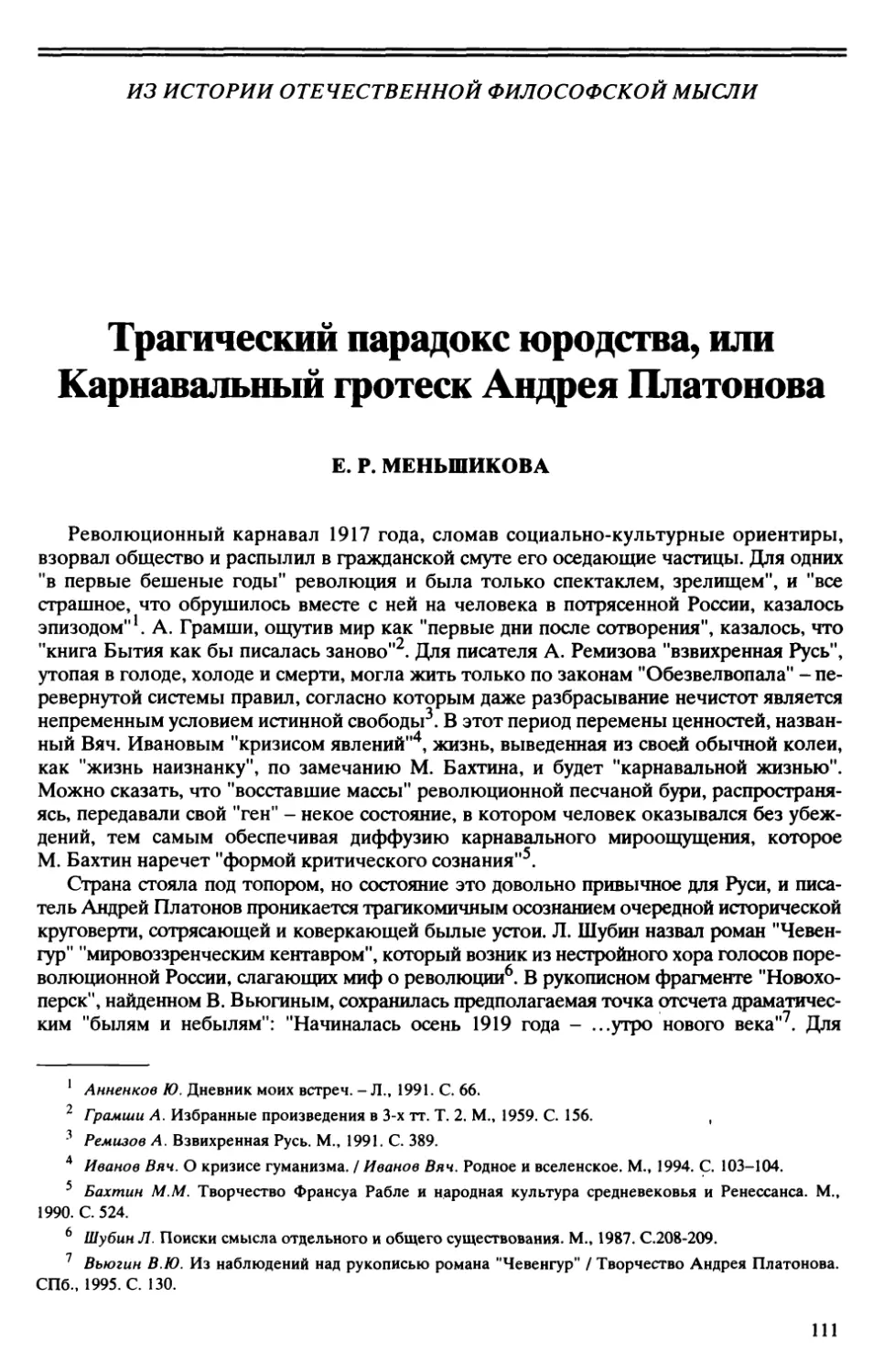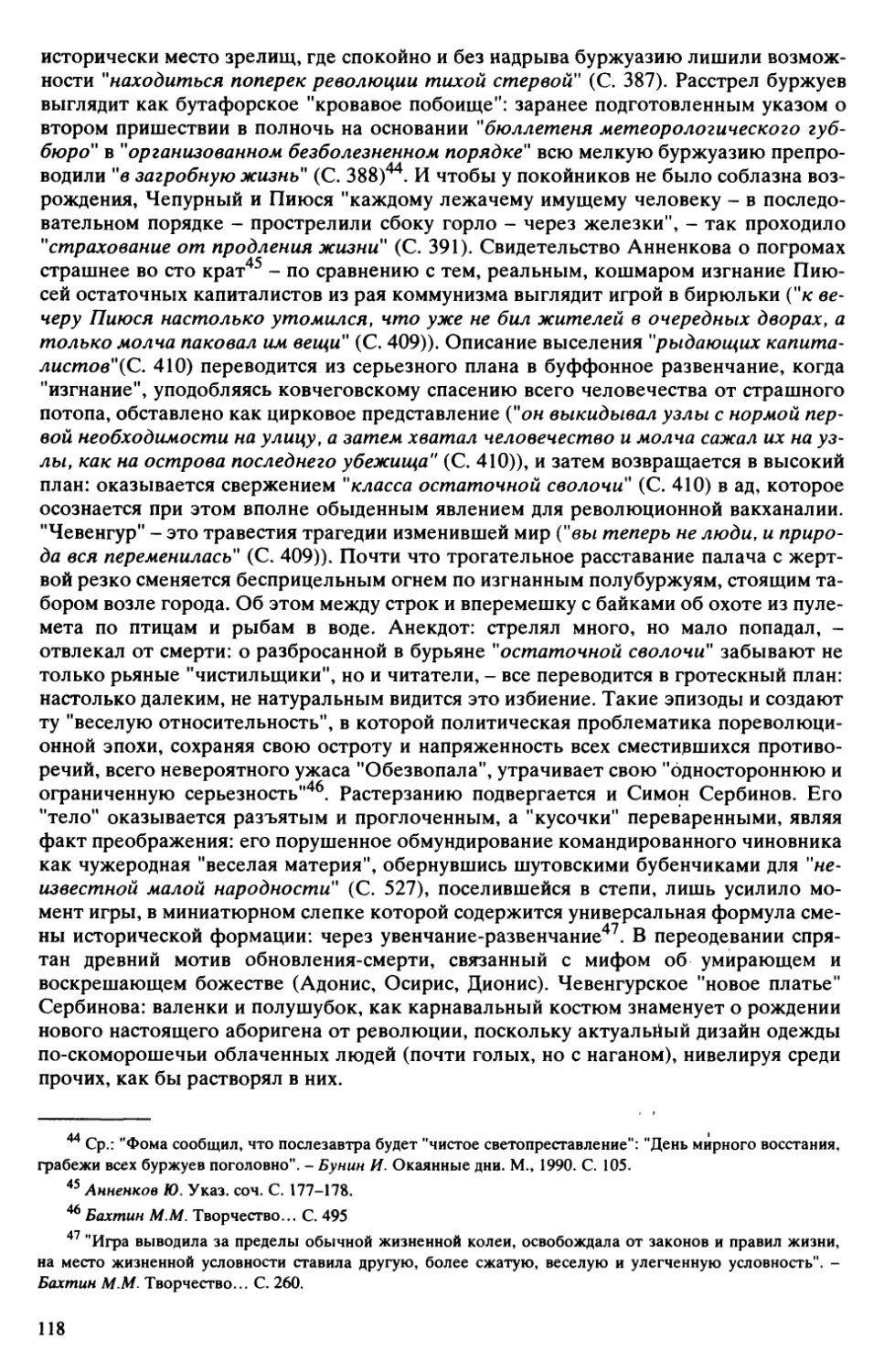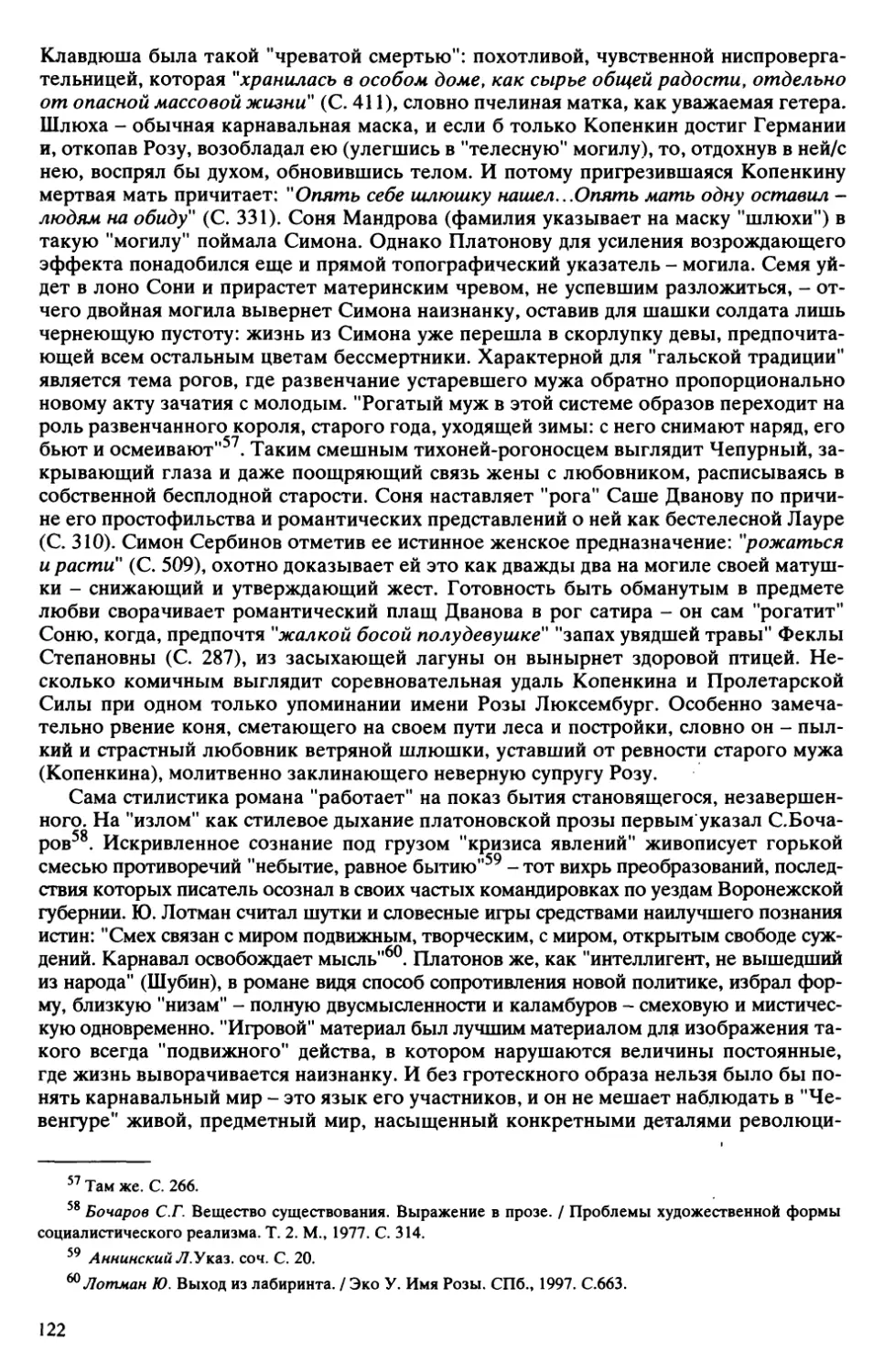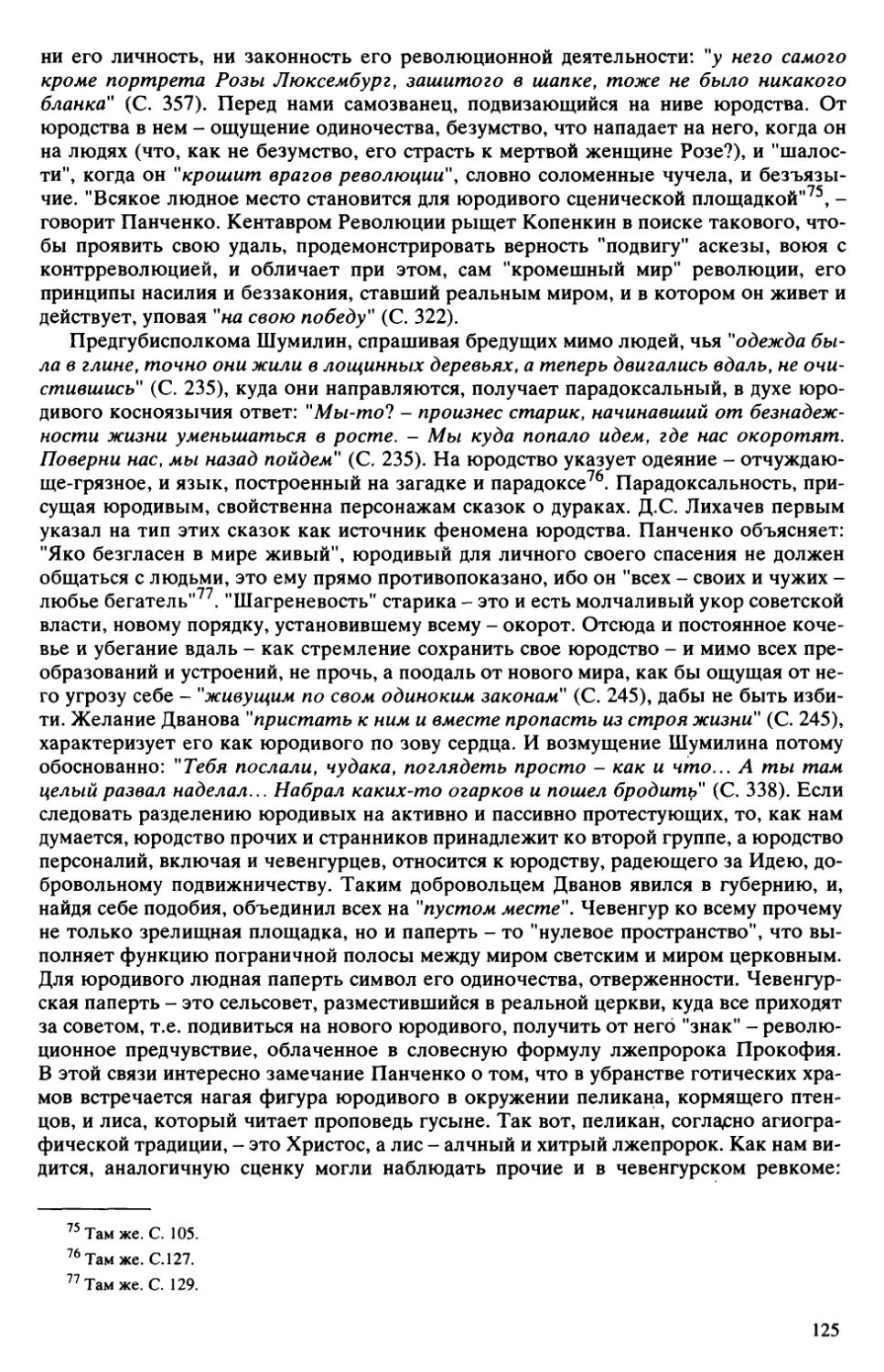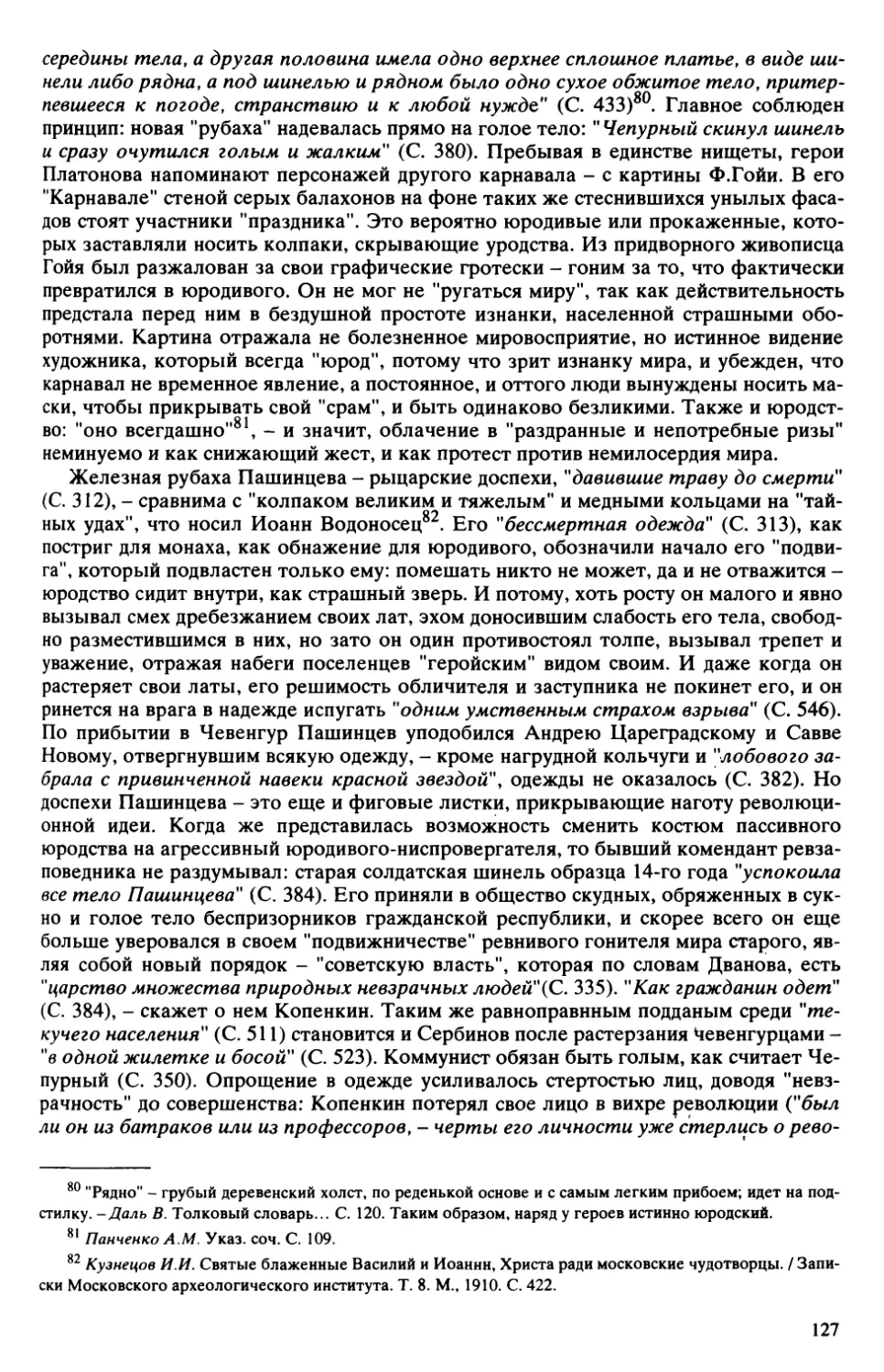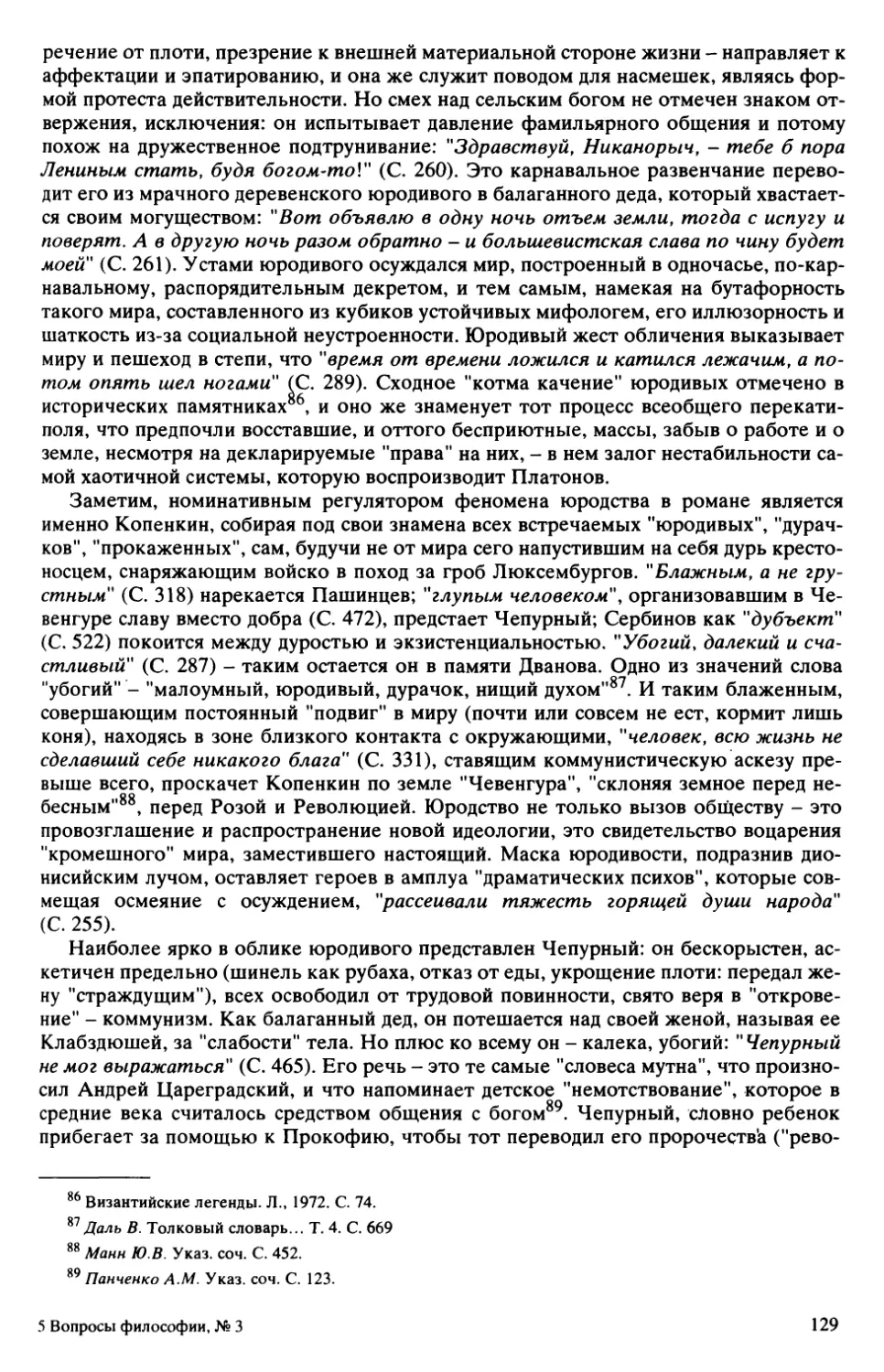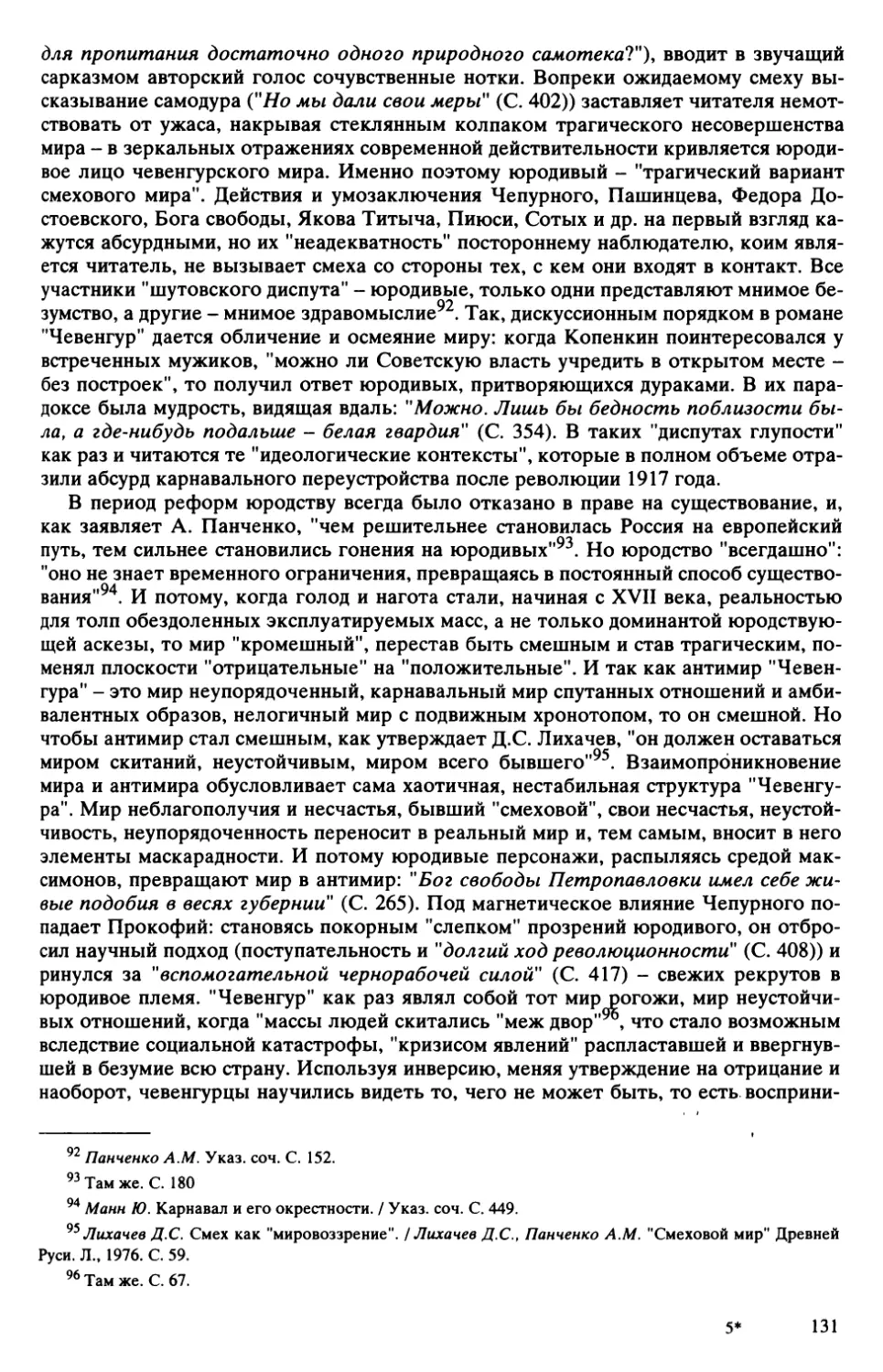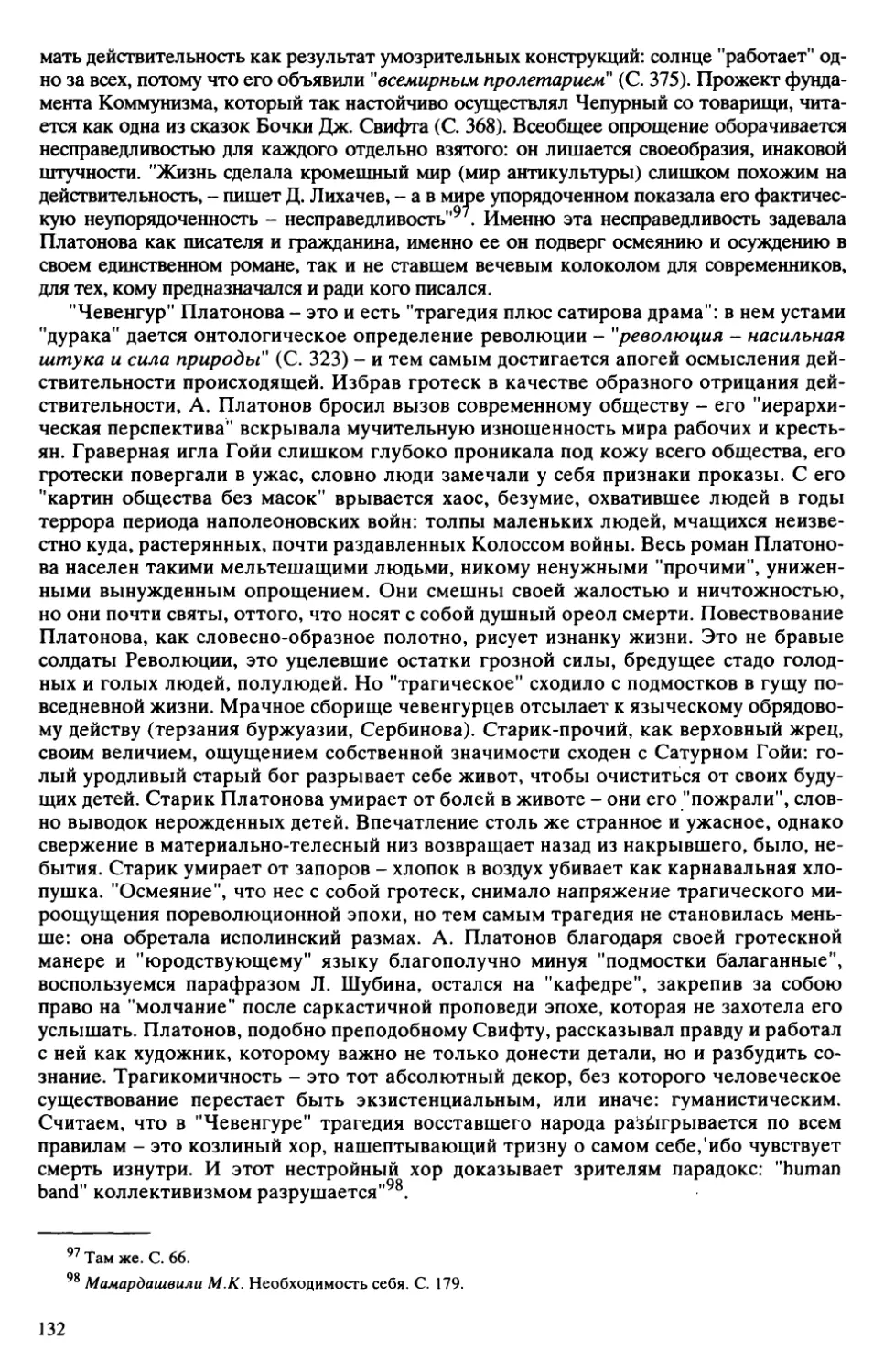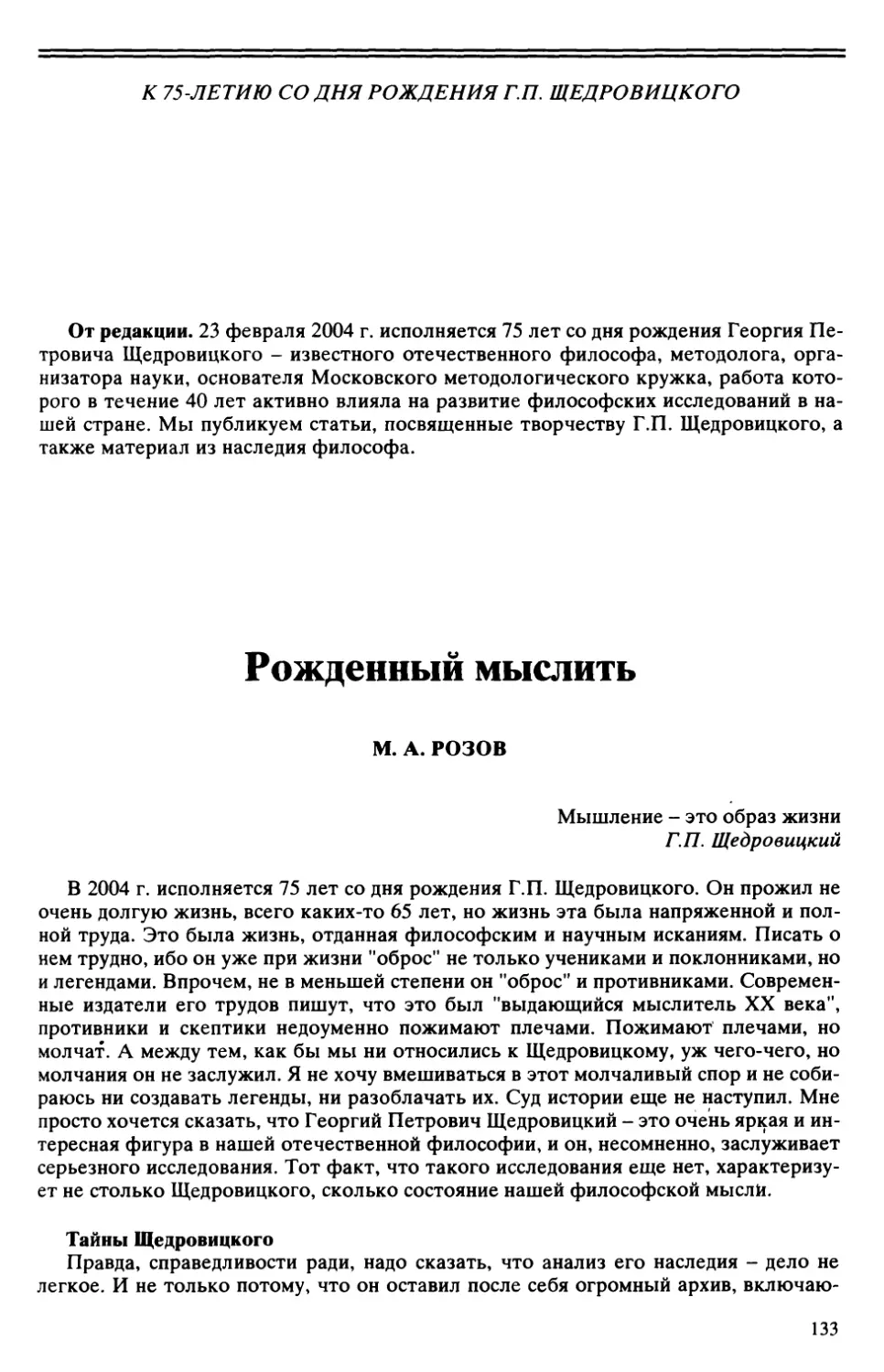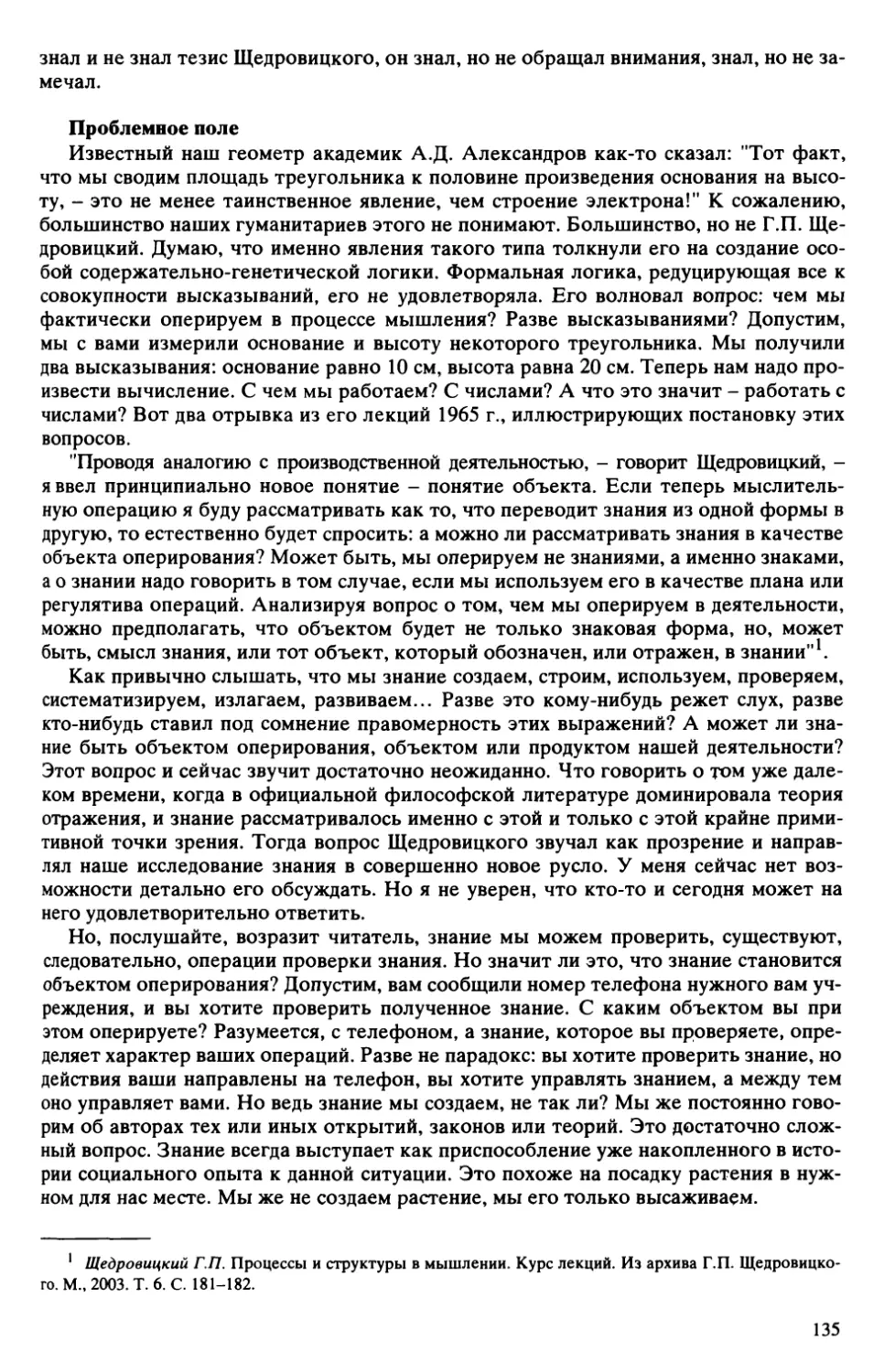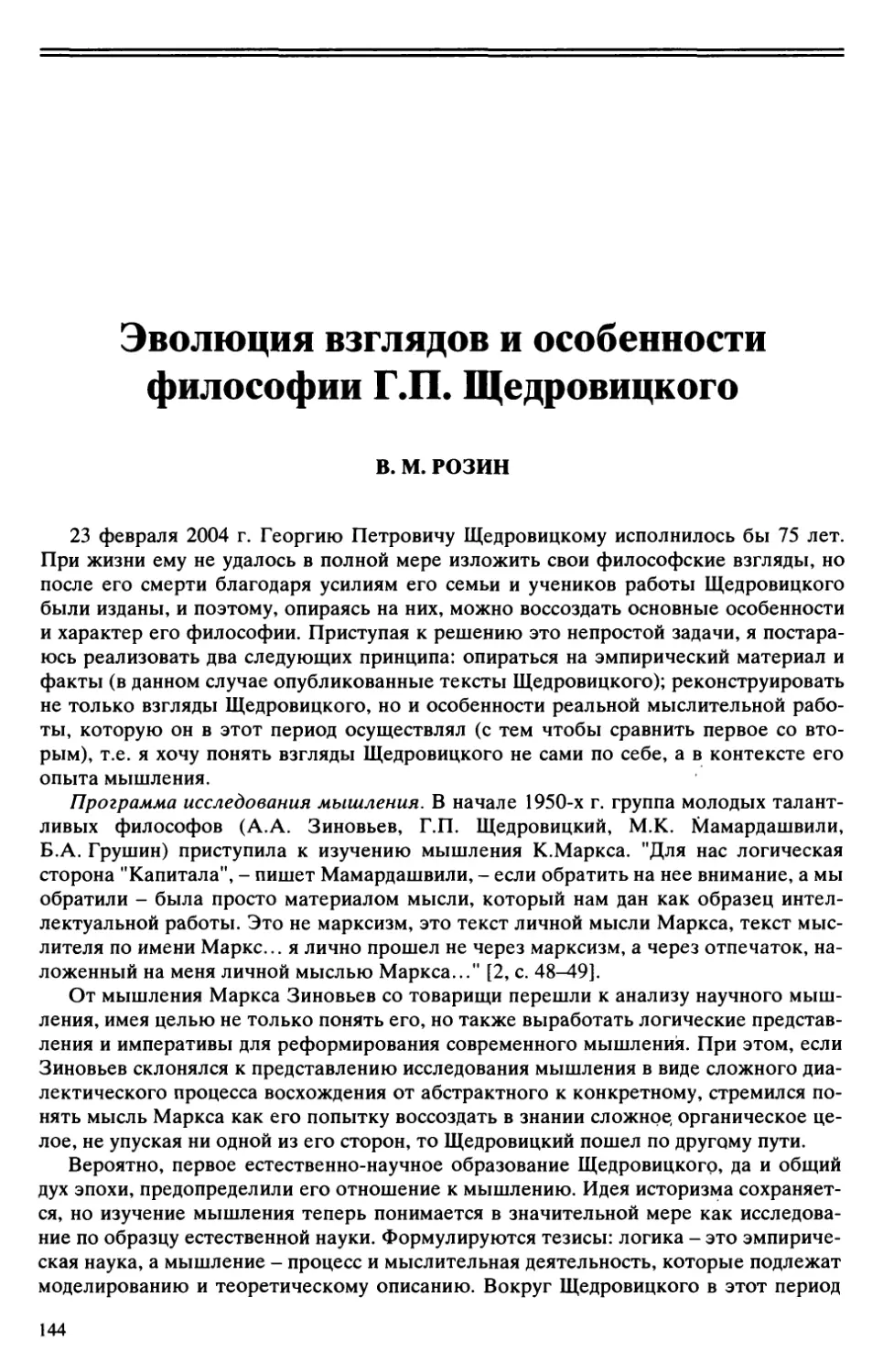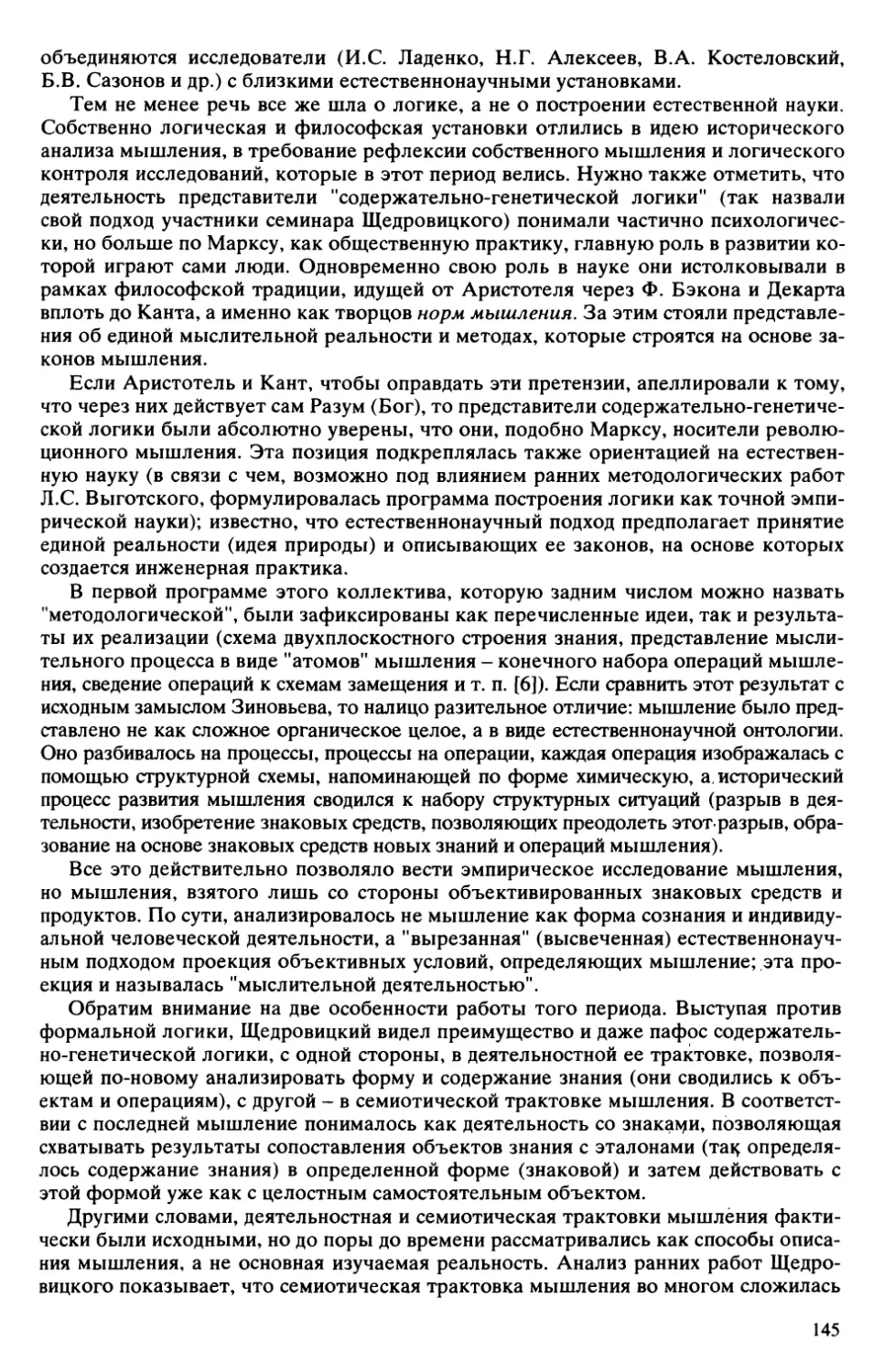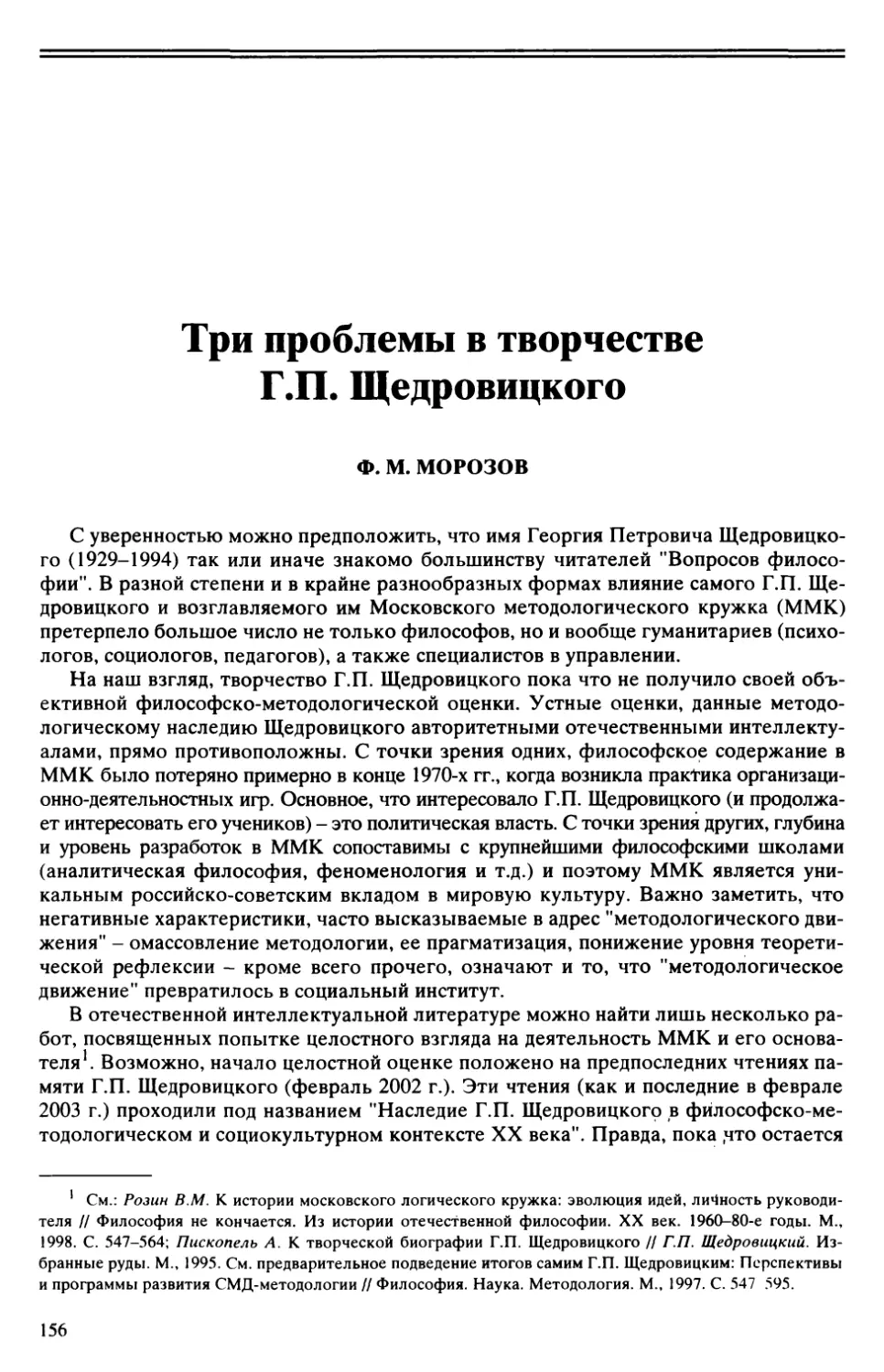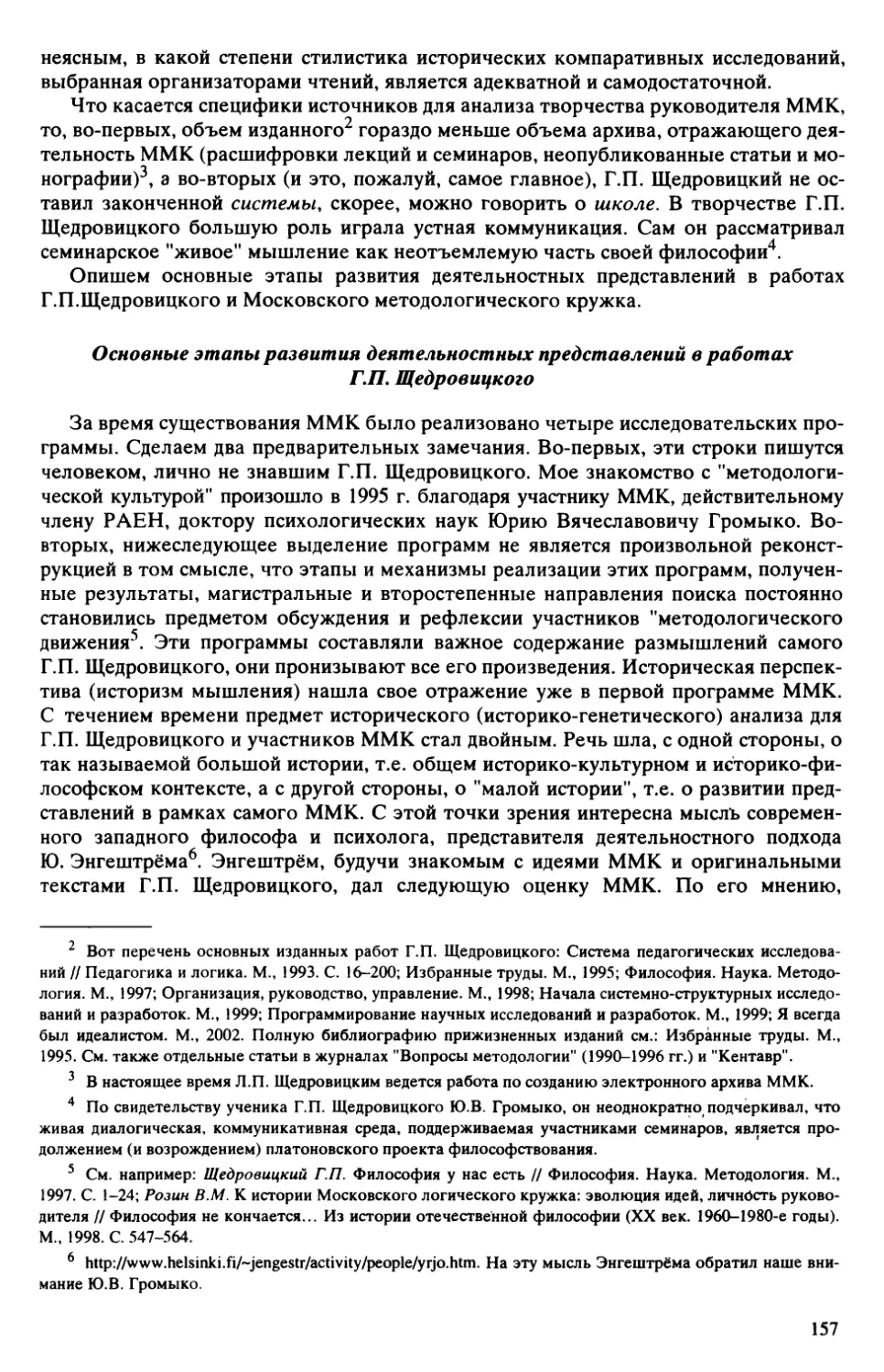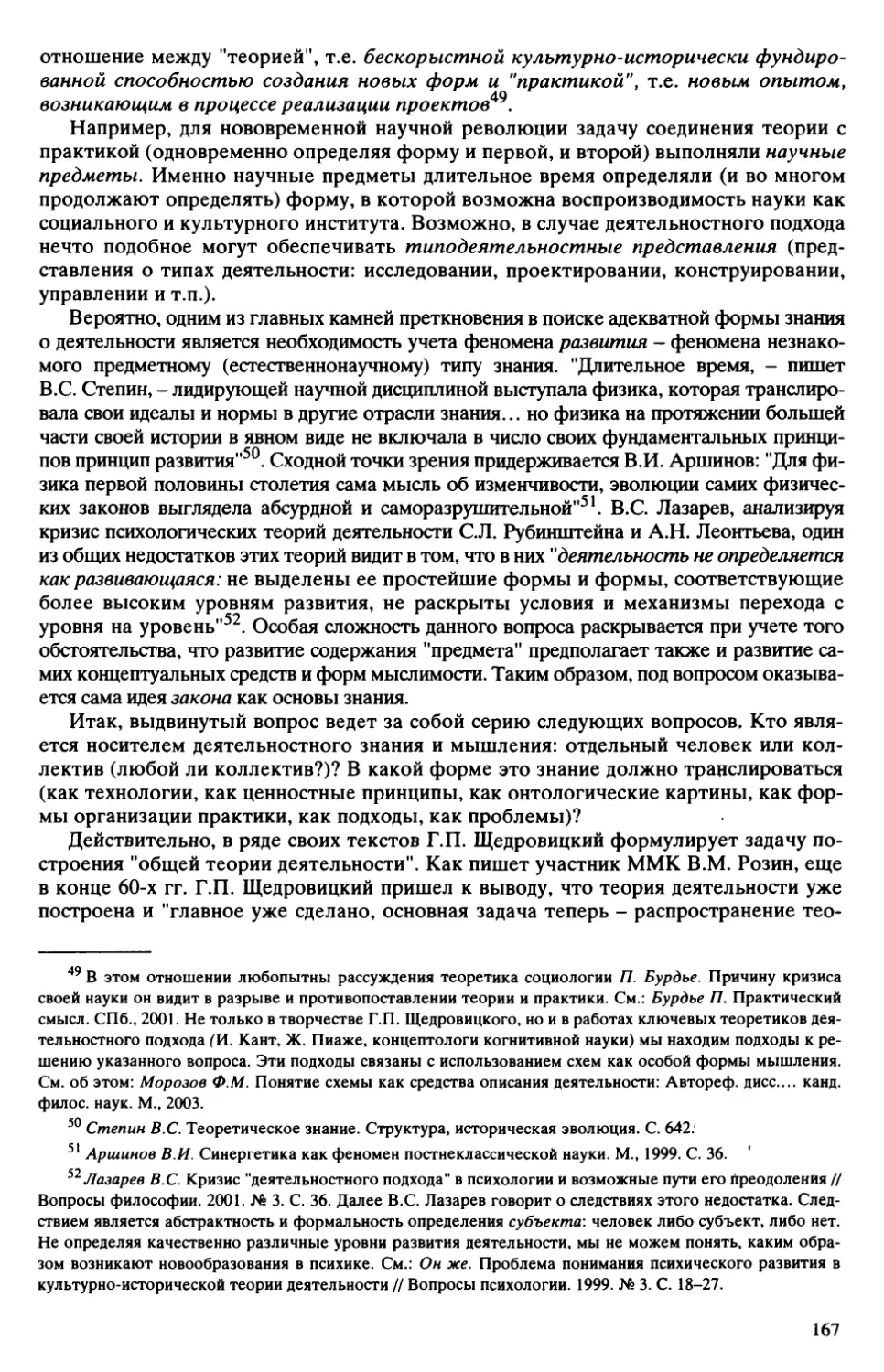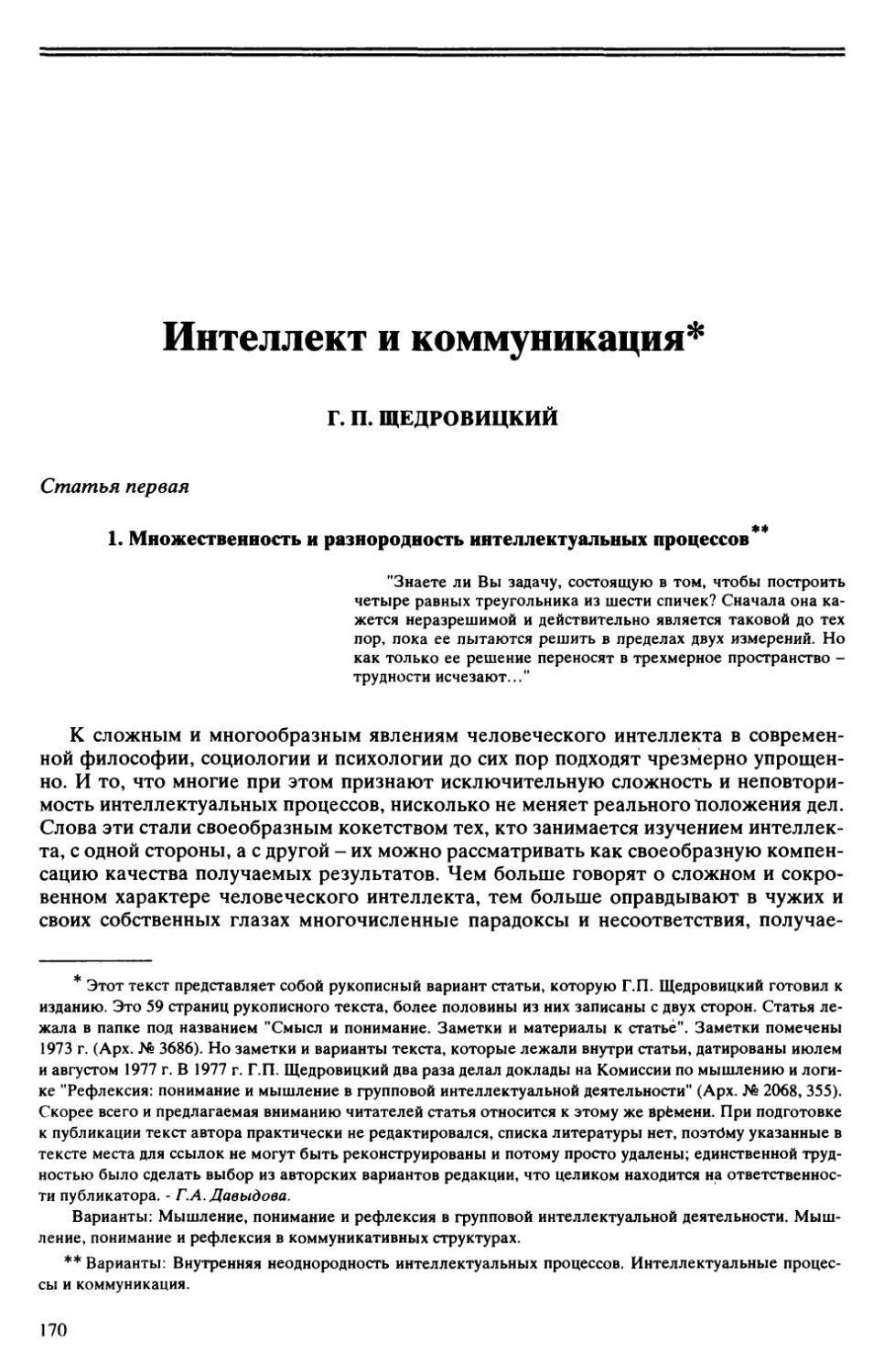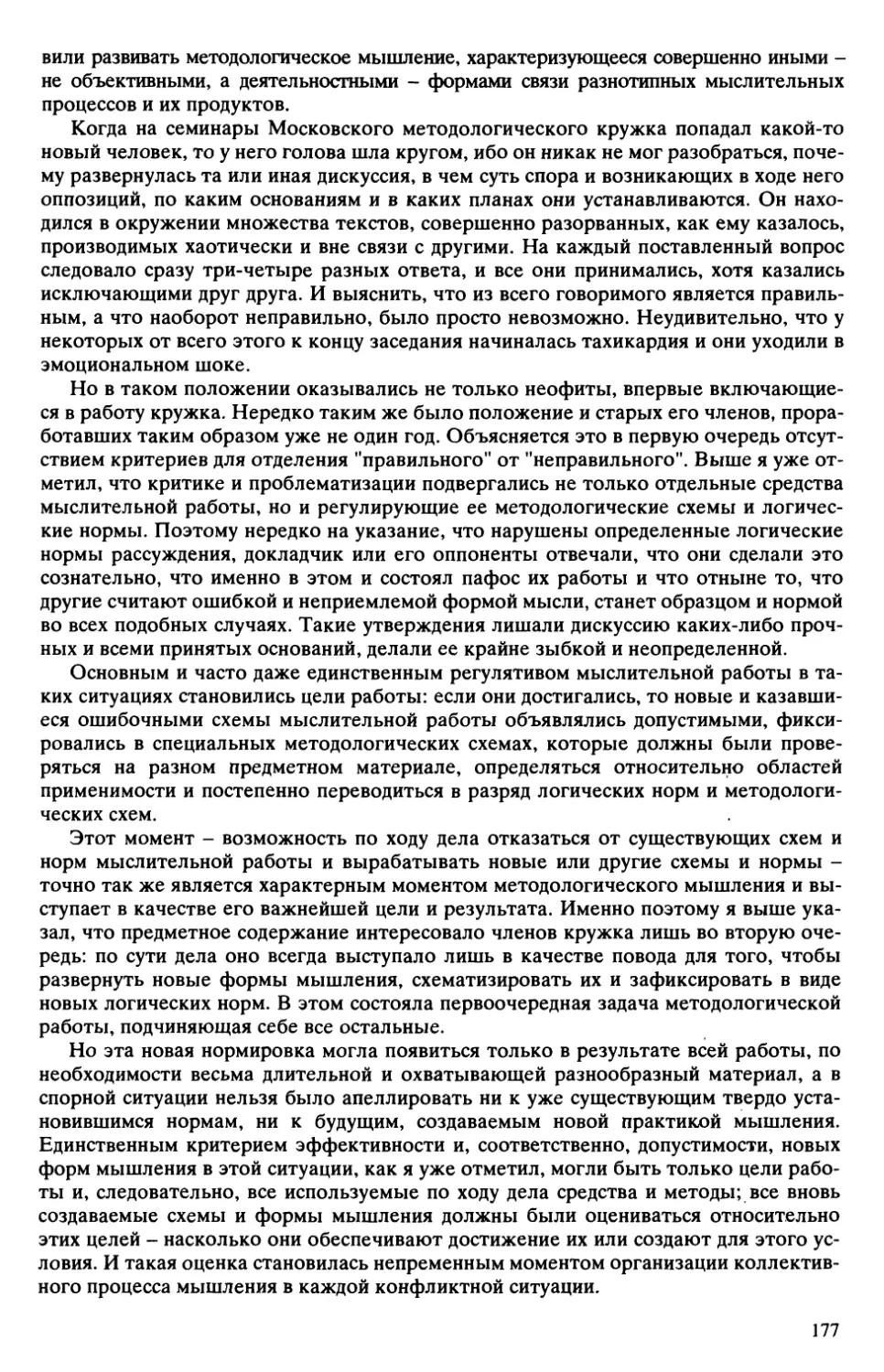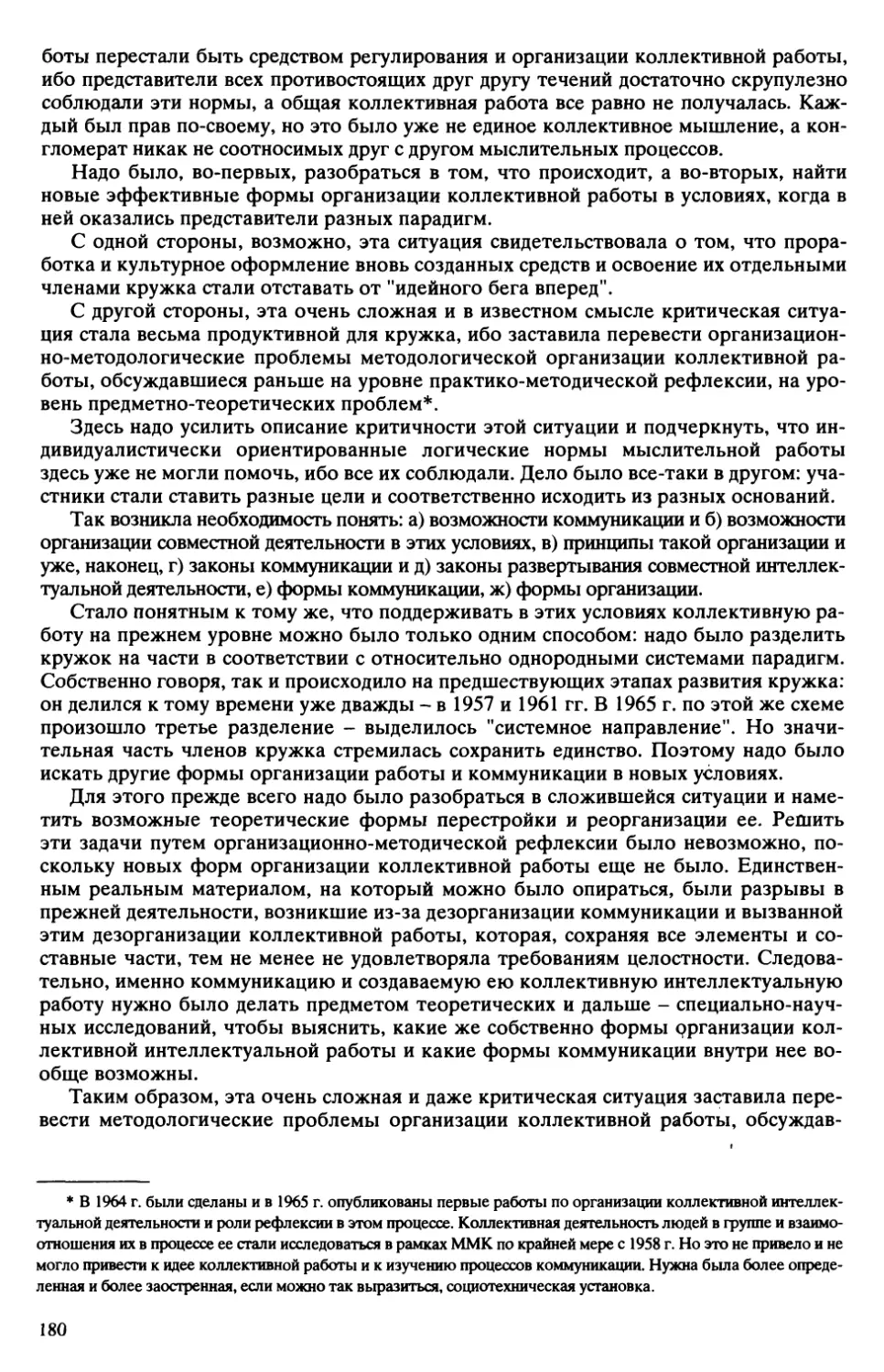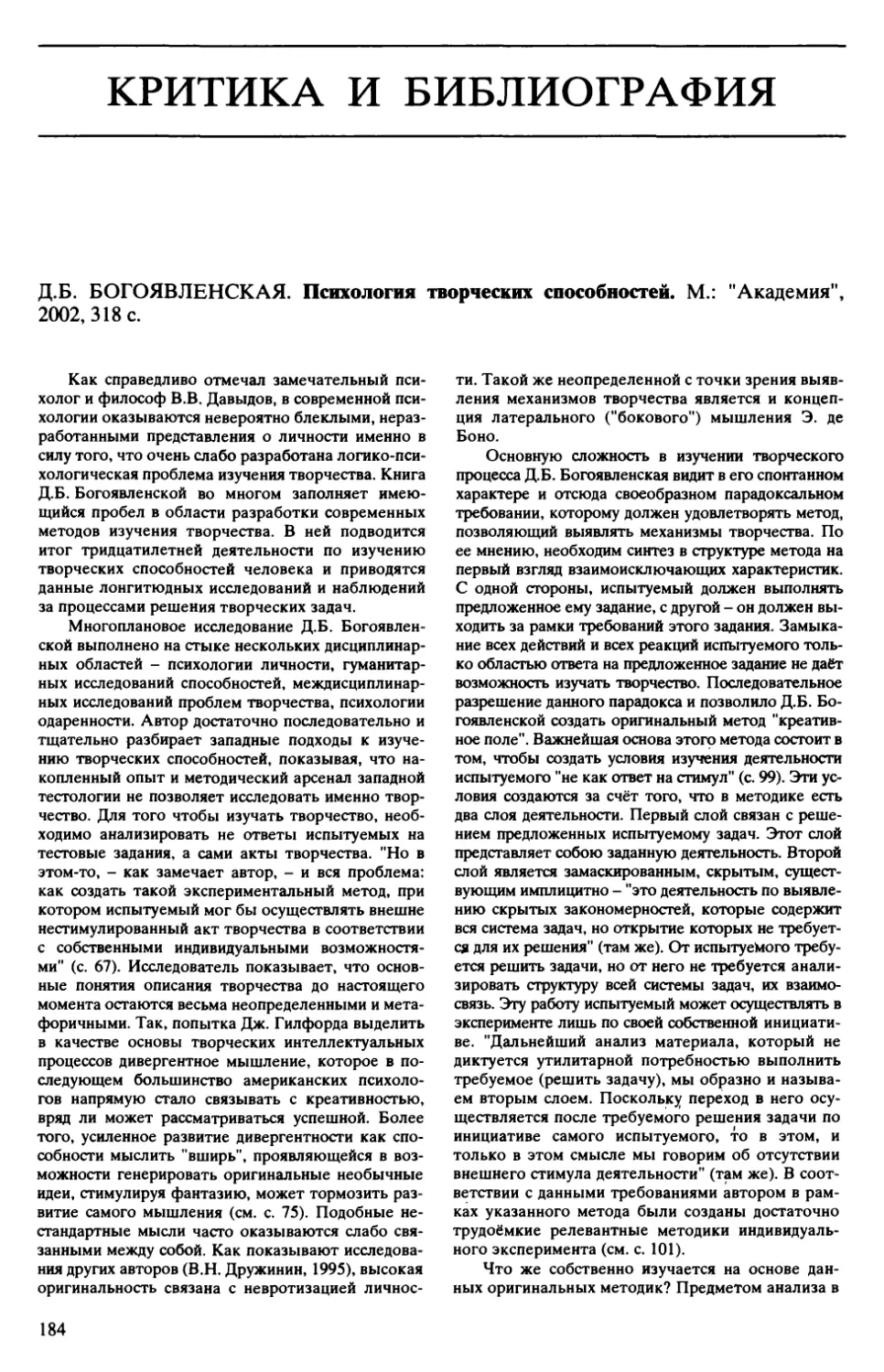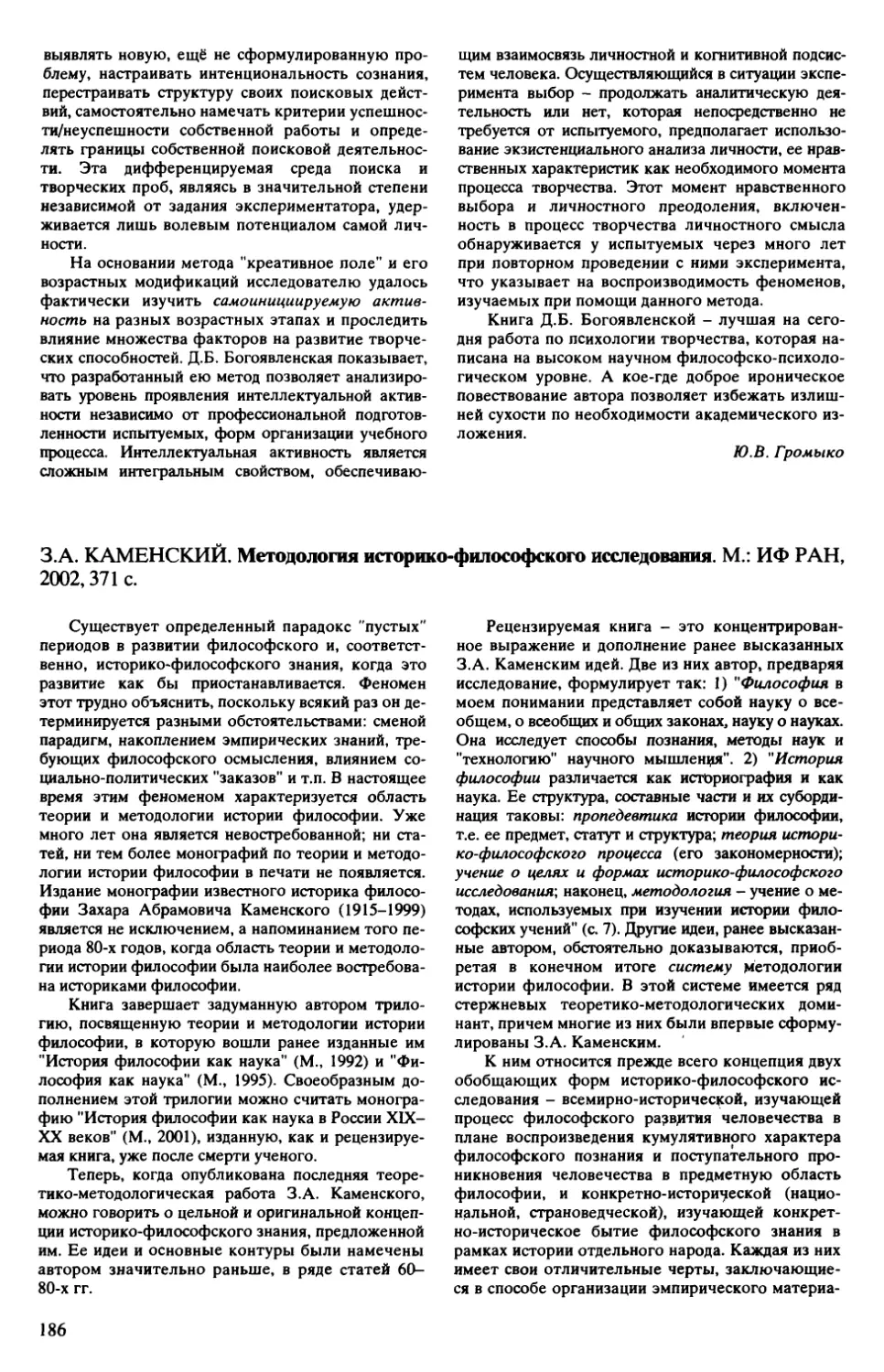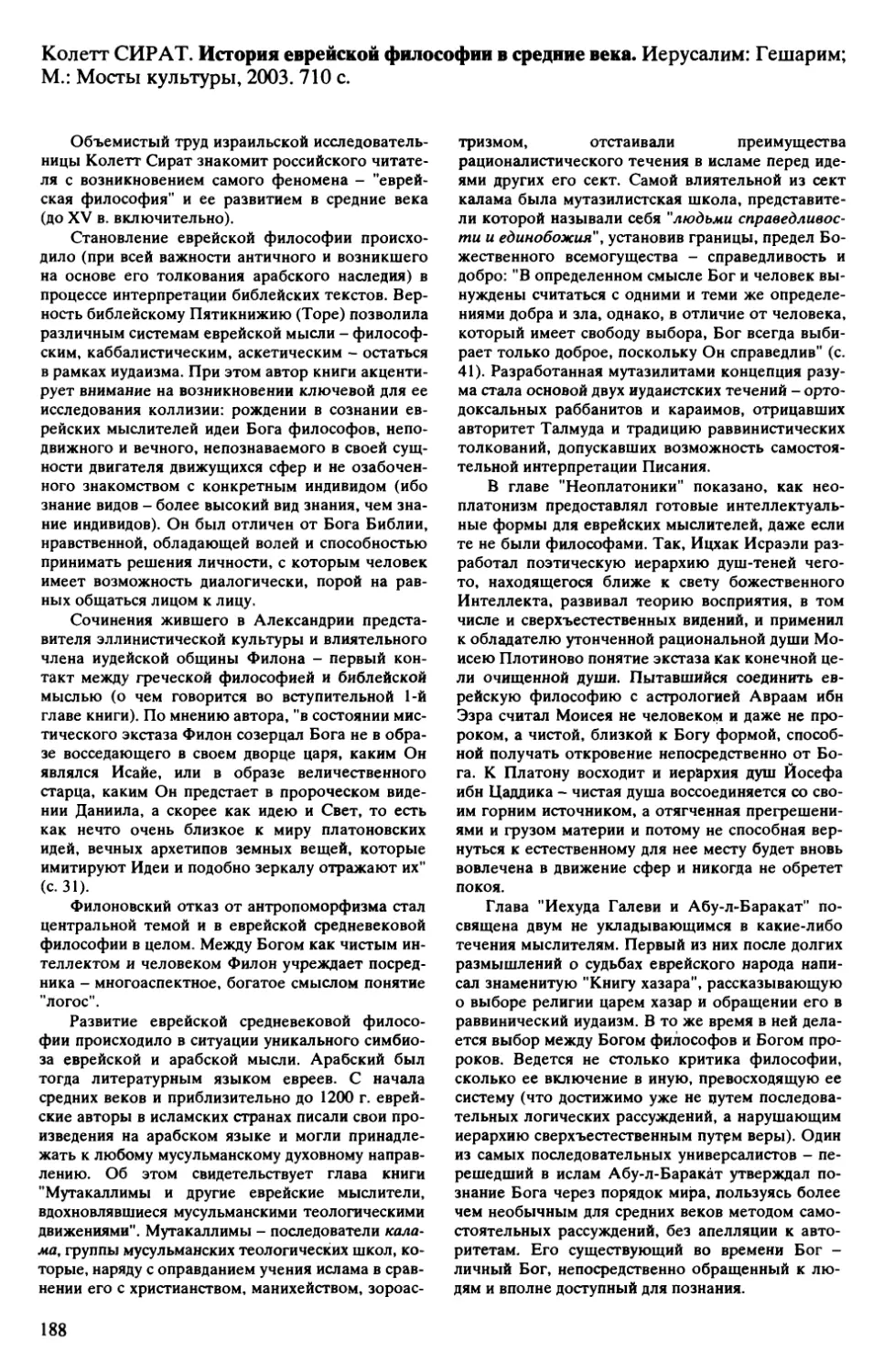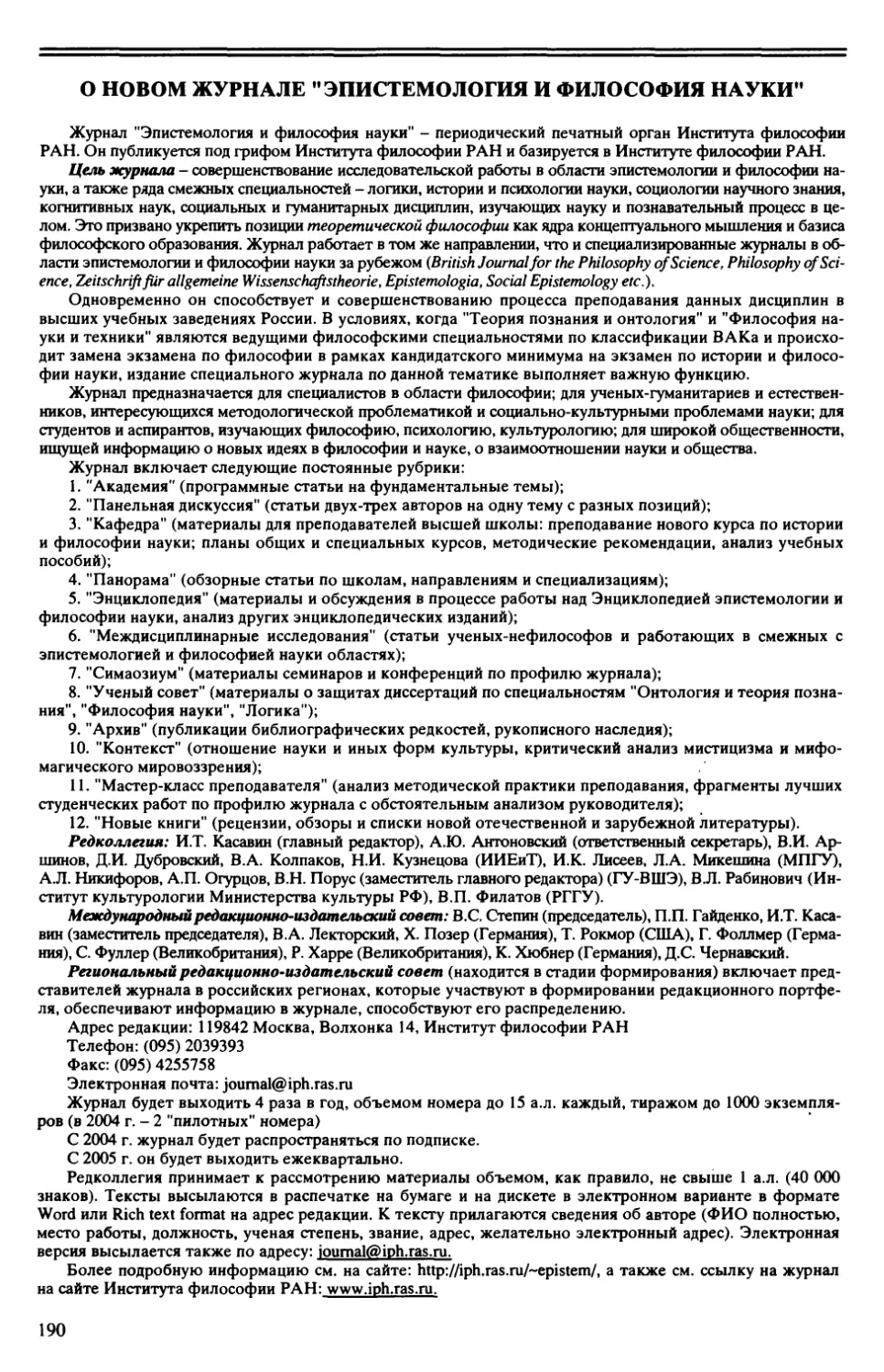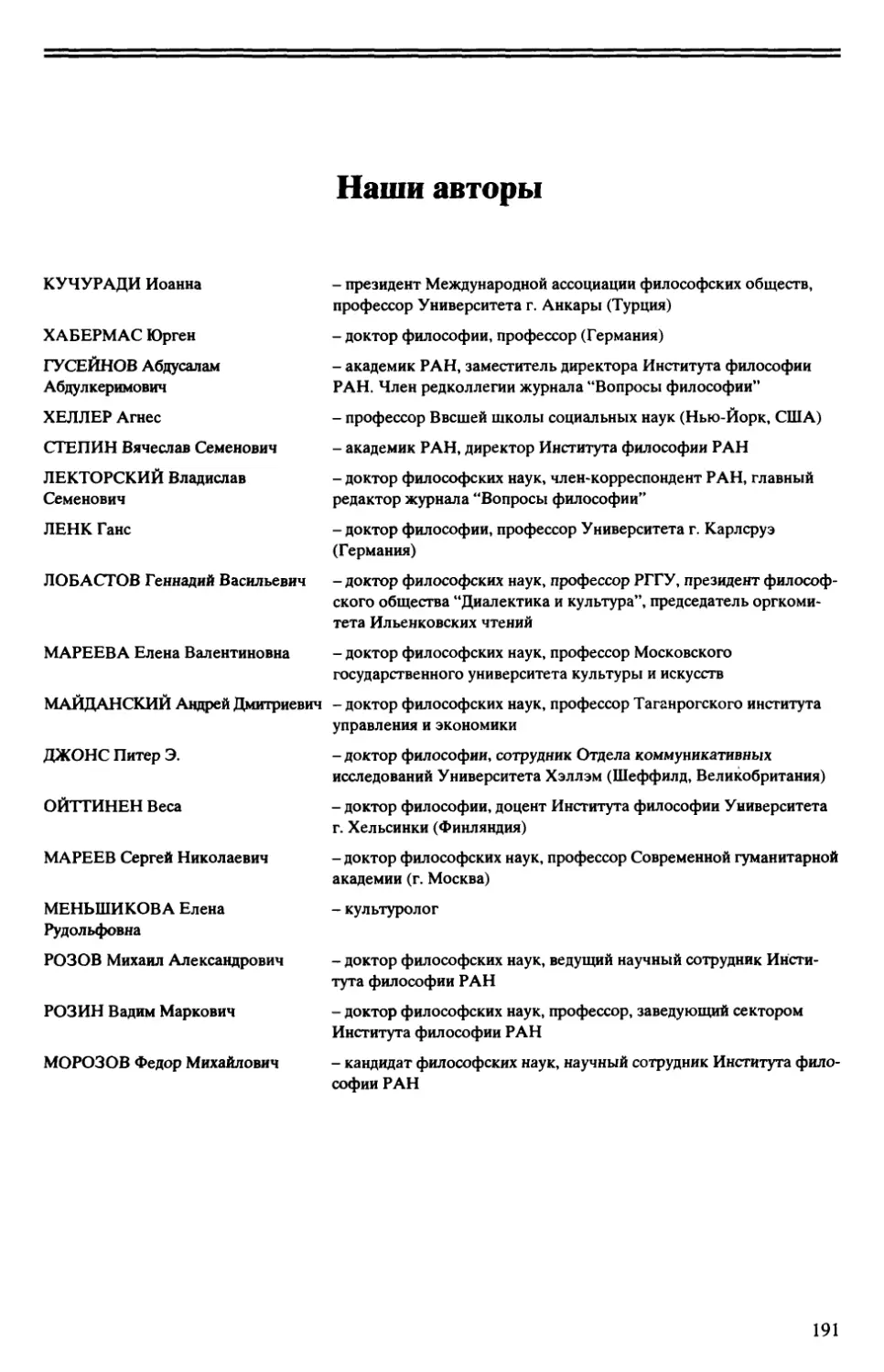Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
Журнал издается под руководством Президиума РАН
СОДЕРЖАНИЕ
К итогам XXI Всемирного философского Конгресса 3
И. Кучуради - Философия перед лицом мировых проблем 5
Ю. Хабермас - Спор о прошлом и будущем международного права. Переход от
национального к постнациональному контексту 12
A.A. Гусейнов - Возможно ли моральное обоснование насилия? 19
A. Хеллер - Два столпа современной этики 28
B.C. Степин - Генезис социально-гуманитарных наук (философский и
методологический аспекты) 37
В.А. Лекторский - Возможна ли интеграция естественных наук и наук о
человеке? 44
Г. Ленк - К методологической интеграции наук с интерпретационистской точки
зрения 50
К 80-летию со дня рождения Э.В. Ильенкова
В.Г. Лобастое - К логическим определениям сознания: Э.В. Ильенков и
И.Кант 56
Е.В. Мареева - Существует ли "школа Ильенкова"? 66
А.Д. Майданский - О мыслящей себя Природе и идеальной реальности 76
П.Э. Джонс - Символы, орудия и идеальное у Ильенкова 85
B. Ойттинен - Апории идеального в диалектической концепции Эвальда
Ильенкова 94
С.Н. Мареев - Э.В. Ильенков и социализм..... 101
© Российская академия наук, 2004 г.
© Редколлегия журнала "Вопросы философии" (составитель), 2004 г.
1
№3
МОСКВА
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
2004
"НАУКА"
Из истории отечественной философской мысли
Е.Р. Меньшикова - Трагический парадокс юродства, или карнавальный
гротеск Андрея Платонова 111
К 75-летию со дня рождения Г.П. Щедровицкого
М.А. Розов- Рожденный мыслить 133
В.М. Розин - Эволюция взглядов и особенности философии Г.П.
Щедровицкого 144
Ф.М. Морозов - Три проблемы в творчестве Г.П. Щедровицкого 156
Г.П. Щедровицкий - Интеллект и коммуникация 170
Критика и библиография
Ю.В. Громыко - Д.Б. Богоявленская. Психология творческих способностей 184
Б.В. Емельянов - З.А. Каменский. Методология историко-философского
исследования 186
А.П. Люсый - Колетт Сират. История еврейской философии в средние века 188
О новом журнале "Эпистемология и философия науки" 190
Наши авторы 191
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.А. Лекторский (главный редактор), А.И. Володин, П.П. Гайденко,
A.A. Гусейнов, В.П. Зинченко, А.Ф. Зотов, В.К. Кантор, СП. Курдюмов,
В.В. Миронов, Л.Н. Митрохин, Н.В. Мотрошилова, А.П. Огурцов,
Т.И. Ойзерман, Б.И. Пружинин (заместитель главного редактора),
A.M. Руткевич, В.Н. Садовский, B.C. Степин,
H.H. Трубникова (ответственный секретарь), B.C. Швырев
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Э. Агацци (Швейцария), Ш. Авинери (Израиль), Т. Имамичи (Япония),
У. Ньютон-Смит (Великобритания), П. Рикер (Франция), Ю. Хабермас (ФРГ)»
Р. Харре (Великобритания)
2
К итогам XXI Всемирного философского
Конгресса
(Стамбул, 10-17 августа 2003 г.)
Прошедший Всемирный философский Конгресс был посвящен теме "Философия
перед лицом мировых проблем". Эта проблематика обсуждалась на пленарных
заседаниях (современная роль философии; глобализация и культурная идентичность;
права человека, государство и мировой порядок; новые вызовы науки и техники), на
симпозиумах (насилие, война и мир; неравенство и нищета; будущее демократии и
гражданского общества и др.), на специальных заседаниях с приглашенными
докладчиками (т.н. "invited sessions"), на круглых столах, на секциях. Тематика социальной
и политической философии, проблемы глобализации и те вызовы, которые они
несут обществу, культуре, человеку, были центральными на Конгрессе и в
значительной мере определяли его специфику. Вместе с тем шли интересные дискуссии по
многим фундаментальным ("метафизическим") философским темам, отнюдь не
потерявшим своей остроты, а в ряде отношений ставшим даже более актуальными и
обнаружившим новые аспекты: эти проблемы обсуждались и на секциях, и на
круглых столах, и на специальных заседаниях, и на заседаниях многих философских
институтов и обществ (Международный Институт философии, Институт
феноменологических исследований, Ясперсовское общество, Сартровское общество,
международное общество сравнительной философии и др.).
На открытии Конгресса выступили Президент республики Турция А. Сезер, мэр
Стамбула, министр культуры, представитель ЮНЕСКО, президент Конгресса и
Международной Федерации философских обществ И. Кучуради.
Конгресс был весьма представительным: более 1500 участников из разных стран
Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии. Особо следует отметить роль
российских философов. По количеству участников (около 200 человек) Россия уступала
только США. Трое представителей отечественной философии были
приглашенными докладчиками: A.A. Гусейнов на симпозиуме о проблемах насилия, войны и мира,
B.C. Степин и В.А. Лекторский на специальном заседании "Возможна ли интеграция
естественных наук и наук о человеке?". В.А. Лекторский руководил круглым
столом "Наследие Владимира Соловьева и современная философия". АН. Чумаков
(вместе с американским философом У. Геем) руководил работой круглых столов
"Человек и нация в глобализирующемся мире" и "Философские проблемы
безопасности в глобализирующемся мире". Шесть российских философов (A.A. Гусейнов,
В.А. Лекторский, М.Т. Степанянц, М.Н. Громов, С.С. Хоружий, А.Н. Чумаков)
руководили работой различных секций. B.C. Степин и В.А. Лекторский как члены
Международного Института философии участвовали в его работе. На Конгрессе
3
была организована презентация "Энциклопедии глобалистики", которая была
выпущена перед Конгрессом на двух языках: русском и английском. Редакторы русского
издания - И.И. Мазур и А.Н. Чумаков. Английское издание в качестве еще одного
редактора включает американского философы У. Гея.
Большинство российских философов приехали в Стамбул на пароходе "Мария
Ермолова". На нем же они и жили. Это имело не только символический смысл
(второй в истории нашей страны "философский пароход", который, в отличие от
первого, вернулся на родину), но и позволило организовать на пароходе целый ряд
обсуждений, круглых столов на актуальные темы, связанные с Конгрессом, начиная от
глобализма и анти-глобализма и кончая преподаванием философии. В этих
обсуждениях охотно принимали участие философы из разных стран мира, которые
проявили большой интерес к современной российской философии и к нашим
философам.
В.А. Лекторский, который в течение 15 лет представлял нашу страну в Совете
Директоров Международной федерации философских обществ покинул свой пост в
связи с истечением полномочий. На Генеральной Ассамблее Конгресса новым
представителем России в Совете Директоров МФФО избрана М.Т. Степанянц.
Мы публикуем вступительную речь при открытии Конгресса президента
Конгресса и Президента МФФО И. Кучуради, а также некоторые доклады
приглашенных докладчиков: Ю. Хабермаса на первом пленарном заседании (тема заседания:
"Просвещение, постмодернистская мысль и другие перспективы"), A.A. Гусейнова
на симпозиуме " Насилие, война и мир", А. Хеллер на симпозиуме "Неравенство,
нищета и развитие: философские перспективы", B.C. Степина, В.А. Лекторского и
Г. Ленка на специальном заседании по теме "Возможна ли интеграция естественных
наук и наук о человеке?".
4
Философия перед лицом
мировых проблем
Вступительная речь
и. КУЧУРАДИ
Дорогие коллеги, леди и джентльмены, от имени Международной федерации
философских обществ, Философского общества Турции, Турецкого Оргкомитета и от
себя лично хочу приветствовать всех вас на этом вступительном заседании XXI
Всемирного конгресса по философии, посвященного "Философии перед лицом мировых
проблем".
Термин "мировые проблемы" был введен в международные интеллектуальные и
политические дискуссии в начале восьмидесятых годов в связи со "Среднесрочным
планом" ЮНЕСКО, подготовленным в 1982 г. на период 1982-1989 гг., для
обозначения проблем, стоявших в тот момент перед человечеством, таких как голод,
различные виды неравенства, загрязнение окружающей среды, гонка вооружений,
развитие, мир и т.д. После роспуска Советского Союза гонка вооружений закончилась,
но все остальные проблемы остались с нами. Собственно говоря, за последние
двадцать лет некоторые из них лишь обострились. А тем временем и другие проблемы
тоже стали "мировыми проблемами".
В упомянутом "Плане" было высказано следующее замечание: "Исследования
нынешнего и будущего положения мира в целом за последние несколько лет
размножились настолько, что - парадоксальным образом - само их количество,
разнообразие и разнородность применяемых в них методов и инструментов анализа и
влияние, часто игнорируемое, ценностных систем и нормативных предпосылок,
положенных в их основу, только затрудняет объективное восприятие вещей"1.
Теоретической задачей, поставленной в "Плане", была попытка "прояснить
ситуацию для международного сообщества в целом", во имя чего "были приняты два
взаимодополняющие подхода: "аналитико-дескриптивный", стремящийся "свести
воедино и рассмотреть исследования и отчеты о мировых проблемах и то, как они
воспринимаются"; и "синтетический", который должен был "привести к подготовке
исследования, ориентированного на будущее", которое освещало бы и служило
руководством для работ, предстоящих в связи с другими темами, включенными в
программы этого "Плана". И раздел "Плана", озаглавленный "Размышление над миро-
проект среднесрочного плана (1984-1989), ЮНЕСКО, Париж, 1982, параграф 6.
5
выми проблемами и исследованиями, ориентированными на будущее", завершался
следующей фразой: "Эти соображения вынуждают нас указать на необходимость
включить в рассмотрение мировых проблем аспект философской рефлексии"2.
В ответ на эту потребность, уже давно ощущаемую всеми осознающими
призвание философии, Философское общество Турции организовало в 1986 г.
международный семинар на тему "Философия перед лицом мировых проблем", а позднее
Международная федерация философских обществ составила проект серии обсуждений и
публикаций под общим названием "Идеи, лежащие в основе мировых проблем".
Предположение, положенное в основу этого проекта, состояло в том, что
некоторые идеи, направлявшие практику второй половины XX в., привели к
результатам, сильно отличающимся от исходных намерений тех, кто выдвинул их в качестве
ориентиров для принятия практических решений, потому, что они не были
достаточно глубоко проанализированы философски. У него было несколько
взаимосвязанных целей: "выявить суть основных идей, которые, вместе с другими
детерминантами, определяли практику последних десятилетий, и оценить их в связи с
порожденными ими этическими проблемами; обсудить возможные концептуализации этих
идей с учетом стоявших в то время проблем и тем самым способствовать когнитивно
оправданному оформлению этих идей, а при необходимости выдвижению новых
идей, способных служить ориентиром для практики на рубеже столетий" .
Именно это служило фоном тех соображений, которыми мы руководствовались,
выбирая центральную тему и структуру нынешнего конгресса.
В чем состоит или может состоять роль философии в решении мировых
проблем?
Роль философии в "оценке мировых проблем" многообразна. Одна из основных
ее ролей связана с концептуальными и методологическими вопросами, встающими
при попытках решения мировых проблем. Если не принимать во внимание этих
вопросов, "объективная оценка мировых проблем" кажется почти невозможной.
Первый концептуальный вопрос при рассмотрении мировых проблем касается
самого термина "мировые проблемы". Что такое мировая проблема?
Если перечесть относящиеся к этой теме документы ЮНЕСКО с точки зрения
того, что в них называется "мировой проблемой", мы увидим, что этот термин
обозначает по крайней мере два разных рода проблем: один из них касается
определенных фактов - различных аспектов тех тупиков, в которых находится значительная
часть человечества, невзирая на тот уровень цивилизованности, который достигнут
на сегодняшний день этим самым человечеством как целым: голод, высокий
процент смертности от болезней, поддающихся лечению, неграмотность, резкие
различия между отдельными людьми и группами в области защиты их основных прав,
пытки и т.п. Эти и другие подобные им факты - "позор" нашего времени.
Вторым типом так называемых "мировых проблем" являются определенные
чаяния, возникающие в связи с только что упомянутыми фактами, или предвидимые
пути выхода из этих тупиков. К этой категории мировых проблем относятся развитие,
мир, права человека, демократизация.
Исследование этих двух типов мировых проблем - как способов их выдвижения,
так и путей их решения - предполагает различные виды познавательной
деятельности: например, те мировые проблемы, которые представляют собой факты, нужно
объяснить, тогда как намечаемые пути их решения, надо обосновать - если только
мы не подходим к этим проблемам с готовыми формулами. Объяснение и
обоснование - два разных вида эпистемологической деятельности. Совсем кратко:
объяснения имеют целью указать на причины объясняемого объекта, т.е. раскрыть основ-
2 Разрядка моя - И.К.
3 "Идея и документы о правах человека". Предисловие. "Идеи, лежащие в основе мировых проблем 3".
Анкара, 1995. С. V.
6
ные факторы, которые совместно порождают событие, ситуацию, или основные
факторы, которые побуждают данное лицо в данной ситуации действовать так, как
он или она действовали, в то время как обоснования имеют целью показать
причины некоторого тезиса, т.е. те предпосылки или предположения и рассуждения,
которые приводят к данному тезису.
Последний момент тесно связан с другой ключевой ролью философии при
рассмотрении мировых проблем. Она состоит в правильном диагнозе факта, в том, что
я называю наименованием ситуации. Как все вы знаете, и в повседневной жизни, и в
политическом дискурсе, так же как и в научных исследованиях, мы часто видим, как
одна и та же реальная ситуация представляется в виде по крайней мере двух разных
ситуаций; это называется "подойти к одной и той же ситуации с разных точек
зрения". Однако и само выражение "подойти с разных точек зрения" передает два
разных смысла: объяснение и оценку события, ситуации или действия через призму
понятий разных нормативных систем (моралей, культур и т.п.) либо же через призму
разных политических теорий и идеологий, как и разных сопоставленных взглядов
гуманитарных и социальных наук на данную проблему, причем и то и другое
рассматривается как подход к одной и той же проблеме "с разных точек зрения".
Так называемый междисциплинарный подход все еще понимается обычно как
независимое исследование одной и той же проблемы разными дисциплинами, а не
как конкретный вклад различных дисциплин в разные стадии исследования
проблемы, т.е. в те пункты, в которых каждая из этих дисциплин релевантна тому же
самому исследованию.
При этом один из главных вкладов, которые философия может внести в решение
мировых проблем, и притом фундаментальный вклад, - пролить яркий свет на
способ объективной формулировки и оценки мировых проблем, т.е. наметить
последовательность познавательных действий, которая составила бы такой способ.
"Мировые проблемы" - это факты, порожденные специфическим сплетением
событий, к которому приводит то, как устроены социальные, экономические и
политические отношения в разных странах и в мире в целом. А то, как они устроены,
определяется обычно групповыми интересами, хотя их можно устанавливать и на
основе прав человека. Эти ситуации - нежелательные, нежелательные в том
смысле, что они не способствуют актуализации или делают невозможным развитие
определенных человеческих возможностей для многих людей в разных частях мира.
Как же возможно дать правильную оценку ситуации?
Очень кратко: ситуации как таковой нет, она не стоит перед нашими глазами
как вы или я. Она становится той конкретной ситуацией, которой является, только
когда она формулируется, т.е. когда мы ее называем. Похоже, что это основная
причина того, почему одна и та же ситуация часто представляется как по меньшей мере
две разные ситуации.
Итак, первый шаг в попытке оценить ситуацию - это сформулировать ее (to put
it forth). Это значит осознать отношения между различными одновременными
событиями, являющимися исходами данной ситуации или ее симптомами; иными словами,
это значит обнаружить среди разных их других причин общую причину некоторых
независимых событий, происходящих в данный момент. Это делает для нас
возможным поставить диагноз и назвать рассматриваемую ситуацию объективно, и отсюда
вытекают различные следствия относительно того, как определить подходящие
меры, которые следовало бы предпринять для изменения этой ситуации, так же как и
относительно правового подхода к тем, кто в этой ситуации участвует.
Второй шаг подобной оценки - объяснить, каким образом возникла
рассматриваемая ситуация. Это значит осознать, каким образом некоторое количество
других (предшествовавших) одновременных, но независимых событий сплелось вокруг
данной группы людей, и какую роль каждое из этих событий играло в создании
данной существующей ситуации. Это, вместе с правильным диагнозом ситуации, дает
7
возможность выяснить, что надо сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Но при
этом изменить ее можно в любом направлении, ради любой цели, которая у нас есть.
Эти два множества событий - те, которые служат причинами ситуации, и те,
которые образуют ее исход - не следует смешивать при любых попытках оценить
некоторую ситуацию или мировую проблему. Такое смешение легко приводит к
применению готовых рецептов, порождающих ситуации еще более сложные, нежели
та, которую мы хотим изменить.
Следующий шаг правильной оценки ситуации - установление связи между
данной реальной, исторической, уникальной ситуацией и знанием о правах человека.
Эта связь, установленная после правильного объяснения рассматриваемой ситуации,
не только помогает нам осознать последствия, которые данное сплетение событий
вокруг некоторой группы людей вносит в их жизнь как человеческих существ, но
также дает возможность выяснить, что следует или можно сделать в этой
конкретной ситуации, и как это сделать, чтобы рассечь узел, созданный вышеупомянутым
сплетением независимых событий, из которого складывается эта ситуация. Другими
словами, это дает возможность выяснить, что следует сделать в существующей
уникальной ситуации для защиты прав человека и человеческого достоинства в целом.
Соотнесение объективно диагностированной и наименованной ситуации или
мировой проблемы с основными правами человека дает возможность выяснить, что
следует сделать и что можно сделать для достижения предложенных целей.
Следовательно, представляется, что именно оценочный компонент может помочь
достичь того, что решение, предложенное для некоторой мировой проблемы, будет -
как решение - иметь высокую вероятность привести к желаемой цели - к условиям,
чаемым современным человечеством в целом.
Таким образом, возможность найти такой способ действия перед лицом мировой
проблемы зависит, по-видимому, от нашей способности определить его не по
отношению к нежелательной ситуации, - которая для кого-то может быть и
желательной, - не с помощью готовых рецептов или способов, применявшихся в ситуациях,
подобных данной с фактической стороны, но с точки зрения его оценки, в его
историчности, по отношению к основным правам человека.
Так что решающую роль играет установление связи между мировой проблемой
и правами человека. Ибо когда мы сегодня смотрим на факты, называемые
"мировыми проблемами", нетрудно видеть их общую черту: все они суть ситуации, в
которой права человека находятся под угрозой, нарушаются прямо или косвенно.
Дамы и господа, к числу мировых проблем, занимающих в наши дни первые
места в повестке дня международного сообщества, относится и "Глобализация и
культурные идентичности", составляющая предмет второго пленарного заседания
нашего конгресса. Сейчас я попытаюсь изложить вам как пример того подхода к
мировым проблемам, о котором я только что говорила, оценку этих двух проблем.
Прислушаемся для начала к описанию нынешней ситуации в связи с
глобализацией, данному Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в документе ООН под
названием "Мы, Народ", подготовленном в 2000 г. для Ассамблеи Миллениума: "Мы
знаем, как глубоко изменилось положение [со времени создания ООН]. Мировой
экспорт с 1950 года вырос десятикратно, даже с учетом инфляции, причем рост его
опережал рост мирового ВВП. Иностранные капиталовложения росли еще быстрей;
продажи мультинациональных фирм все более обгоняли рост мирового экспорта, а сделки
между филиалами одной корпорации представляют быстро расширяющийся сегмент
мировой торговли. Поток обмена валют взлетел до полутора триллионов долларов
США в день по сравнению с 15 миллиардами в 1973 году, когда рухнул режим
фиксированного курса валют. Недавнее объединение транснациональных
коммуникационных компаний создало фирму, чья рыночная стоимость превосходит ВВП
почти половины членов ООН, хотя по стоимости она занимает среди других
компаний лишь четвертое место в мире. Сегодня делегаты Генеральной Ассамблеи
[Главы государств и правительств] могут пересекать Атлантику меньше чем за
8
четыре часа, а если захотят, могут заниматься государственными делами по
телефону или через Интернет хоть весь день. Это мир глобализации - новый
контекст для экономических агентов и деятельностей и новая связь между ними во
всем мире".
Это глобализация телекоммуникации и "свободного" рынка, основанного на
приватизации в странах мира на национальном уровне, - глобализация, которую
некоторые воспринимают как должное и от души приветствуют, а другие решительно
отвергают.
Нет сомнения, что глобализовать можно разные вещи, даже и защиту прав
человека. И все-таки фактически глобализуется на сегодняшний день рынок и передача
информации - информации из вторых или третьих рук, правильной или ложной,
служащей целям тех, кто ее посылает.
И теперь возникает вопрос: какие новые цели надо поставить и что надо сделать -
какие стратегии предложить - чтобы справиться с этими проблемами? В нашей
попытке нащупать и разработать их необходимым условием является правильное
(объективное) объяснение того, как возникла эта ситуация, и ее оценка через
установление ее связи с правами человека.
Объяснение и оценка этой ситуации в том духе, который я представила вам
несколькими минутами ранее, дает нам возможность увидеть, как развивались
условия, создавшие эту ситуацию; распознать идеи, лежавшие в основе решений и
практических действий, приведших к этой ситуации; увидеть, каким образом "развитие",
выдвинутое в качестве главной цели почти во всех странах мира в пятидесятые
годы, но понимаемое в то время как неограниченный количественный рост
промышленной продукции и технического прогресса в богатых странах и как рост
национального дохода, индустриализация и импорт технологии в странах так называемого
Третьего мира, привело к результатам, противоречащим ожиданиям тех, кто эту
цель поставил. Весьма значительное число мировых проблем возникли как прямое
или косвенное следствие этой политики.
В большинстве так называемых развитых стран состязание за все больший рост
промышленной продукции и за технический прогресс привело к неконтролируемому
использованию природных ресурсов, почти что истощившихся во многих регионах
мира, к загрязнению окружающей среды, к угрозе ядерной энергии и т.п., а кроме
того - к различным непредвиденным социальным проблемам, например к проблеме
миграции рабочей силы, что со временем приняло форму торговли людьми.
С другой стороны, во многих развивающихся странах - странах Третьего мира -
политика развития, хотя и привела к некоторому увеличению национального
дохода, если смотреть только на цифры, в то же время углубила социальную
несправедливость. Миллиарды людей стали беднее, чем те, кто жил 50 лет назад.
И эта "политика развития" углубила не только социальную несправедливость, но
также и глобальную несправедливость. Эта политика, проводимая, т.е.
финансируемая, в значительной мере за счет "иностранной помощи" или, как ее потом стали
называть, "помощи развитию", т.е. займов развитых стран, связанных с
политическими ожиданиями, не только расширила разрыв между богатыми и бедными в этих
странах, но и (за исключением нескольких стран) расширила разрыв между
немногими богатыми странами и большинством бедных стран.
Таким образом, "развитие", которое было предложено и принято как наиболее
подходящий способ, т.е. как способ предвидимый и применяемый с Целью
ликвидировать социальную и глобальную несправедливость и избавиться от бедности;
иными словами, развитие как главная цель национальной политики, основанной на
"иностранной помощи", или "помощи развитию" бедных стран со стороны
богатых, привело к результатам, противоречащим ожиданиям его инициаторов. Хотя
оно и дало возможность некоторым жить на "островах современности", но вместе
с ростом населения в этих странах оно увеличило количество тех, кто лишен
средств удовлетворения даже самых элементарных своих потребностей.
9
* * *
Тупик, в который завела весь мир политика развития, был замечен в 1970-е гг.,
но в основном внимание обращалось на глобальные проблемы, возникшие в
промышленных странах (например, на загрязнение среды), т.е. последствия непрерывного
роста промышленного производства и технического развития привели к тому, что
люди с этих странах начали говорить о необходимости "новой концепции развития",
о необходимости "внести в развитие культурное измерение". Таким образом они
ввели понятие "культурного развития".
Люди в промышленно развитых западных странах под "культурным развитием"
понимали в основном расширение возможностей для масс "иметь доступ к культуре
и к участию в ней", т.е. доступ к тем видам деятельности, которые, как считалось,
дают людям возможность развивать свой потенциал как человеческих существ,
например, к артистической, научной, философской деятельности. Они понимали это
как способ удовлетворить свои потребности.
Однако была и другая причина того, что "культура" оказалась выдвинута на
первый план на глобальном уровне: то, что многочисленные развивающиеся страны,
или Третий мир, не принадлежащие к так называемой западной, или европейской,
культуре начали возмущаться против "колонизации умов", против "культурного
империализма", в результате чего в повестку дня был внесен вопрос о "культурной
идентичности". Тем самым они поддержали идею "культурного развития", все еще
понимая его в основном как возможность развивать - т.е. идентифицировать и
реконструировать - "их собственную культуру", которая, по их предположению, была
подавлена или забыта под влиянием западной культуры. Они начали пытаться
идентифицировать культуру, т.е. мировоззрение, концепцию человека и того, что
считается ценностью и определенной нормой, которая, по их мнению, является их
собственной и которую они хотят иметь своей собственной.
То, свидетелями чего мы были в последние десятилетия в разных азиатских и
африканских странах, представляет собой реакцию на "западную культуру" - реакцию,
которая привела каждую из соответствующих групп к поискам своей "культурной
идентичности", своих собственных ценностей; а поскольку при существующем
положении вещей невозможно было идентифицировать то, что они хотели
идентифицировать, они устремили взор назад, стремясь найти - чтобы возродить - то, что,
как они ощущали или предполагали, было их собственным, т.е. мировоззрение,
концепцию человека и концепцию ценностей (ценностные суждения и нормы),
преобладавшие в каждой из этих групп до того, как начался процесс индустриализации, или
до их встречи с "западной культурой", от которой они отталкивались.
Вот к чему в последнее десятилетие XX в. привело содействие "культурному
развитию", понимаемому как содействие культурной идентификации: оно создало свои
собственные факты, наиболее заметным из которых оказалось распространение
фундаментализма, набравшего силу в разных частях мира.
* * *
Дорогие гости, мы недостаточно осознаем тот факт, что нынешняя ситуация и те
мировые проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в значительной степени
являются результатом наших собственных решений, принятых с намерением
создать мир, "свободный от страха и нужды".
Мы недостаточно осознаем, что из факта, связанного с особого рода процессом,
мы сделали идею (в смысле немецкого Vorstellung), довольно смутную идею,
желательного положения вещей, характерного для уже "развитого", изобильного Запада,
но истолкованного в весьма проблематичном смысле, а именно сведенного всего
лишь к паре его ингредиентов; что из факта мы сотворили идеал, который и
поставили как цель, которой должны достичь другие, "еще не развитые" страны.
10
И вот мы продолжаем менять и множить характеристики развития - мы говорим
об экономическом, социальном, культурном, самобытном, опирающемся на
собственные силы, поддерживаемом, ориентированном на народ развитии, плюс равное
уважение ко всем культурам, но мы и не думаем о том, чтобы сменить эту главную
цель нашей национальной и международной политики. Мы принимаем эту цель как
нечто само собой разумеющееся, как принимаем сегодня глобализацию свободного
рынка, которая является одним из ее результатов.
Мы недостаточно осознаем, что во имя "свобод" мы проглатываем наживку,
предназначенную правам человека, что, содействуя приватизации и "свободному"
рынку во имя защиты так называемой "экономической свободы" индивидов, мы
смешиваем разного рода права личности - основные и неосновные права - и
пытаемся защищать "экономическую свободу" таким способом, каким можно защищать
только определенного рода права человека. Предполагается, что подходящий
способ защиты, например, "права на свободу мысли и выражения" является в то же
время подходящим способом защиты "экономической свободы" индивида.
То же превратное понимание свобод является, по-видимому, и одной из основных
причин распространения фундаментализма, который, пользуясь так называемыми
свободами мысли, религии, мнения и выражения, как и широко рекламируемым
"уважением к этическим и религиозным "ценностям" и культурному наследию
народов", пропагандирует мировоззрение и нормы, существенно противоречащие правам
человека, т.е. взгляды, препятствующие людям развивать их человеческий
потенциал. Для осознания всех этих проблем необходима философская рефлексия.
Дамы и господа, в свете высказанных соображений я полагаю, что самой
фундаментальной нашей целью в начале XXI в. должна быть смена главной цели нашей
политики на национальном и на международном уровне. И эта смена должна на
место "развития", какими бы эпитетами оно ни сопровождалось, поставить защиту
четко концептуализованных прав человека.
Мы должны осознать приоритет прав человека. Права человека - это не идеи
или принципы, которые можно относить к разным другим "хорошим" вещам, как
это имеет место сейчас, а наиболее фундаментальные потребности, от которых
зависит удовлетворение всех других потребностей. Почему? Потому что права
человека - это этические принципы обращения с отдельными людьми и в активном, и в
пассивном смысле: они выражают минимальные условия того, как люди - и прежде
всего должностные лица государства - должны относиться к другим людям, и как те
должны относиться ним; они требуют постоянного создания условий, делающих
возможным для людей актуализировать и развивать их человеческие возможности,
которые отличают людей от других живых существ и которые сделали возможными
исторические достижения человечества.
За этой сменой должна последовать рефлексия по поводу того, какие следствия
вытекают из прав человека в конкретных существующих условиях йаших стран и
нашего времени, следствия, которые должны обеспечивать, шаг за шагом и без
страха, стратегии, намечающие пути реализации этих следствий в различных
условиях наших стран и регионов нашего мира.
Я надеюсь, что наш конгресс обсудит, среди прочих точек зрения, и этот подход к
решению мировых проблем, перед лицом которых мы стоим в начале XXI столетия.
Я предлагаю его на ваше рассмотрение.
Перевод с английского Д.Г. Лахути
11
Спор о прошлом и будущем
международного права.
Переход от национального
к постнациональному контексту
ЮРГЕН ХАБЕРМАС
Со времени окончания первой иракской войны возникли два противоположные
взгляда на новый мировой порядок. Спор идет уже не между кантианскими
идеалистами и реалистами шмиттовского толка. Проблема уже не в том, возможна ли
вообще "справедливость в отношениях между нациями", а в том, является ли право
подходящим средством для осуществления такого рода справедливости. Обе стороны
согласны относительно целей - обеспечения мира и стабильности и соблюдения (не-
оспариваемого ядра) прав человека во всем мире. Спор идет не о целях, а о наиболее
многообещающем способе их реализации.
Играет ли еще какую-то роль международное право, когда либеральная и
глобально вовлеченная сверхдержава подставляет свои собственные нравственные
аргументы взамен процедур международного права? И что плохого в том, что
доброжелательный гегемон действует, не считаясь с другими, если его диктуемые
лучшими побуждениями действия обещают более эффективное достижение законных
целей? Или же нам следует держаться за проект конституционализации
международных отношений1?
* * *
Первым такой проект выдвинул Кант. Он оспорил так называемое право
суверенного государства начинать войну - jus ad bellum. Это право образует сердцевину
того классического международного права, которое служит зеркальным
отображением европейской системы государств в период от 1648 до 1918 г. Эта система
предполагает участие "наций", или "народов" (национальных государств) и составляет
"международные" отношения в буквальном смысле этого слова. Коллективные
участники этой системы мыслятся как игроки в стратегической игре:
Frowein JA. Konstitutionalisierung des Völkerrechts , in: BDGVR , Völkerrecht und Internationales Recht in
einem sich globalisierenden internationalen System (C.F. Müller), Heidelberg 2001, 427-447.
12
- они предполагаются независимыми, то есть способными принимать
собственные решения и следовать им;
- ожидается, что они принимают решения в соответствии со своими
"национальными интересами", и
- они относятся друг к другу как конкуренты в продолжающейся силовой борьбе,
основанной в конечном счете на угрозе военной силой.
Правила игры определяются международным правом и состоят в следующем:
(1) требования к участию: суверенитет государства зависит от его
международного признания;
(2) условия признания статуса суверенной державы: суверенное государство
должно быть способно эффективно контролировать общественные и
территориальные границы и поддерживать внутри этих границ закон и порядок;
(3) статус суверенитета: суверенное государство пользуется правом в любой
момент вступить в войну без каких-либо оправданий (jus ad bellum), но оно не
должно вмешиваться во внутренние дела другого государства (принцип
невмешательства);
- суверенное государство в худшем случае может погрешить против
благоразумия и эффективности, но не против закона или нравственности. Никакая власть не
должна преследовать за это ни государство, ни какого-либо отдельного его
представителя;
- суверенное государство сохраняет за собой право преследовать за военные
преступления (нарушения jus in bello) согласно собственной юрисдикции.
Нравственное содержание классического международного права довольно
бедное. Невзирая на различия в величине территории, населения и в фактической силе,
взаимное признание суверенитета устанавливает симметрию между государствами в
отношении права. Цена этого равенства правового статуса - свобода насилия и
нестабильность анархического естественного состояния в международной сфере. Это
было слишком высокой ценой для Канта, который не верил в то, что равновесие
держав, мешающих друг другу, приведет к миру.
В то время республики, возникшие в результате американской и французской
революций, воплощали собой другой, более существенный род равенства. Они
воплощали гражданское равенство в отношениях симметрии между отдельными
гражданами, а не государствами. Кант представил себе международную конкуренцию
между коллективными агентами как аналог первоначального естественного состояния,
которое, как считалось, существовало когда-то между до-социальными индивидами;
и он утверждал, что общественный договор, посредством которого эти индивиды
вошли в национальное сообщество граждан, остается незавершенным, пока эти
самые граждане не найдут аналогичного выхода из дотоле неукрощенного
международного естественного состояния. Тем самым Кант подошел к революционной идее
преобразования международного права как права государств в космополитическое
право как право индивидов, которые являются носителями не только прав граждан
своих соответствующих национальных сообществ, но и прав граждан
"космополитического сообщества" - прав граждан мира (Weltbürger). Одним из результатов
такого перехода от международного к космополитическому праву должен быть вечный
мир: "...нет никакого средства, кроме международного права, основанного на
публичных и опирающихся на силу законах, которым должно подчиниться каждое
государство (по аналогии с гражданским или государственным правом для отдельных
лиц)".
Кант говорит здесь о Völkerstaat, о государстве народов . Но через два года,
специально рассматривая проблему "Вечного мира", он готов отличать Völkerstaat, ко-
2 GrafVitzthum W. Völkerrecht. Berlin 2001.
3 Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1. М.: АО Kami, 1994. С. 348-349.
13
торое способно выродиться в деспотизм, от Völkerbund - добровольного союза
суверенных национальных государств4. Конечно, Кант не отказался совсем от идеи
"мировой республики", но он не был убежден в осуществимости этого проекта при
существовавших тогда условиях. Он искал ее осуществимый суррогат и нашел его в
федерации суверенных государств, сохраняющих право на существование.
Собственно говоря, эта федерация миролюбивых демократий должна была составить
ядро будущего, еще более обширного союза государств, которые все в конечном счете
"почувствуют себя обязанными" представлять конфликты между собой на арбитраж
вместо того, чтобы прибегать к вооруженной силе.
Таким образом, Кант пришел к своей идее космополитического правопорядка
(weltbürgerlicher Zustand), спроецировав нормативное содержание демократического
гражданства и прав человека с национального на международный уровень. Однако,
как дитя своего времени, он страдал своего рода "культурной цветовой слепотой" в
отношении трех важных фактов:
(1) нечувствительный к подъему нового исторического сознания и к растущему
осознанию культурных различий, Кант не мог предвидеть взрывчатого потенциала
национализма XIX и XX вв.;
(2) скованный точкой зрения превосходства европейской цивилизации и расы,
Кант не осознавал следствий того факта, что международное право было скроено
по мерке небольшого числа привилегированных христианских наций - только они
рассматривали друг друга как равных, в то время как остальной мир был открыт для
колонизации и миссионерства;
(3) Кант не понимал и зависимости международного права от внеправового фона
общей христианской культуры, способной по крайней мере удерживать насилие в
рамках ограниченных войн не столько между народами, сколько между
правительствами.
Эти слепые пятна указывают на недостаток именно того рода взаимной
перспективы, которую сам Кант считал необходимой для преобразования международного
права в право космополитическое.
* * *
В действительности этому преобразованию пришлось дожидаться шокирующих
ужасов Первой мировой войны. С этого времени попытка ограничить право
суверенных государств начинать войну не сходила с политической повестки дня. Пакт
Бриана-Келлога в 1928 г. запретил агрессивные войны. Однако без кодификации
международных преступлений, в отсутствие суда, обладающего правом
преследовать за такие преступления, и власти, желающей и способной накладывать санкции
на государства-нарушители, Лига Наций не могла предотвратить ни захват Японией
Манчжурии, ни аннексию Италией Абиссинии, ни разорение Германией почти всей
Европы и вместе с тем - нравственной сути своей собственной культуры.
Зверства Второй мировой войны, кульминацией которых было истребление
европейских евреев, и массовые преступления тоталитарных режимов против своих
собственных граждан в конце концов расшатали правовые предпосылки
нравственного безразличия суверенных государств. Чудовищные политические преступления
дали достаточно оснований для вывода, что государства, правительства и их
военные и гражданские функционеры не должны более пользоваться иммунитетом от
международного преследования. Предвосхищая то, что впоследствии· стало частью
международного права, военные трибуналы в Нюрнберге и Токио осудили как
официальных, так и частных индивидуальных представителей побежденных режимов за
преступление [развязывания] войны, преступления во время войны и за преступле-
4 Там же. С. 394-395.
14
ния против человечности. Это нанесло смертельный удар классической концепции
международного права как права государств.
По сравнению с постыдным провалом Лиги Наций вторая половина краткого
(sic!) XX в. отмечена ироническим контрастом между успешными правовыми
нововведениями и вызванной холодной войной блокировкой их применения. В свете идеи
Канта о космополитическом правопорядке эти правовые нововведения были в одно
и то же время и более радикальными, и более реалистическими, чем собственный
кантовский суррогат в виде добровольной лиги наций:
- На уровне принципов сочетание Устава ООН с Декларацией прав человека
было революционным шагом. Он наложил на международное сообщество обязанность
распространять и проводить в жизнь в мировом масштабе те самые принципы,
которые до сих пор осуществлялись только в конституционных государствах.
- На организационном уровне Объединенные Нации были задуманы как
всеобъемлющие: в их число допускались и либеральные, и авторитарные, и деспотические
государства. Это создавало напряженность между принципами Устава и
фактическими стандартами многих стран-участниц в области прав человека.
- Эта напряженность усиливалась составом Совета Безопасности,
объединившего все великие державы независимо от их внутреннего устройства, заплатив им за
активное сотрудничество уступкой в виде права вето.
- Ожидается, что всемирная организация будет защищать международную
безопасность на основе общего запрещения использования военной силы, кроме как в
жестко ограниченном случае самозащиты. Таким образом, принцип
невмешательства более не применяется к членам- нарушителям.
- Повестка дня Объединенных Наций включает, помимо кантовского
поддержания мира, еще и распространение и осуществление прав человека во всем мире.
Устав ООН призывает к санкциям против государств, нарушающих принятые правила,
если надо - то и с применением военной силы.
- Наконец, международные пакты о гражданских и политических, а также об
экономических, социальных и культурных правах создали всемирную систему
слежения и отчетов о нарушениях прав человека; они обеспечивают также каналы для
законных жалоб отдельных граждан на их собственные государства, нарушающие
их права. Этот факт имеет принципиальное значение, поскольку он подтверждает,
что отдельный гражданин непосредственно признается субъектом международного
права .
Все отмеченные моменты - конституционные характеристики всемирной
организации, ее состав и внутренняя структура, запрет агрессивных войн и
соответствующее ограничение принципа невмешательства, проблема прав человека,
индивидуальная судебная ответственность функционеров и признание отдельных лиц
субъектами международного права - выводят правовые рамки Объединенных Наций за
пределы кантовского проекта добровольной Лиги Наций именно в направлении
перехода от международного к космополитическому праву.
* * *
Здесь уместно поразмышлять немного о серьезном контраргументе, выдвинутом
против обсуждаемой идеи Карлом Шмиттом. Попытка умиротворить
воинственность наций обречена на неудачу, и право не может господствовать в отношениях
между нациями, поскольку любое понятие права или справедливости для них по
существу всегда будет спорным. Всякая универсалистская попытка оправдать
насильственное нарушение суверенитета другого государства, согласно этому аргументу,
есть всего лишь прикрытие частных интересов агрессора, стремящегося получить
Kay Hailbronner. Der Staat und der Einzelne als Völkerrechtssubjekte, in: Vitzthum (2001), 161-267.
15
несправедливое преимущество, опорочив своего противника. Отрицание статуса
честного врага, или Justus hostis, вносит нравственную асимметрию в отношения между
участниками конфликта, заслуживающими того, чтобы их рассматривали как
равных. Хуже того, подстрекательская нравственная "нагрузка" любого типа войны
интенсифицирует сам конфликт. "Морализованную" войну уже нельзя будет удержать
в рамках цивилизующего jus in bello (права поведения во время войны).
На первый взгляд этот аргумент кажется неубедительным. Упрек в морализации
кажется бьющим мимо цели, поскольку конституционализация международных
отношений означала бы их легализацию. Если только будут внедрены требуемые
правовые процедуры, позитивный закон защитит ответчиков от поспешного
нравственного осуждения. И когда Шмитт, тем не менее, продолжает утверждать, что
легальный пацифизм не сможет помешать морализаторству спустить насилие с цепи, он
неявным образом предполагает, что все попытки легализации обречены на провал и
что этот провал выпустит на волю разрушительную нравственную энергию.
Шмитт отрицает возможность консенсуса по поводу любого политического
понятия о праве или справедливости - такого, например, как демократия или права
человека - между конкурирующими нациями. Но он никогда не обсуждает
философского вопроса о нравственном не-когнитивизме (non-cognitivism) самого по себе.
Скорее он основывает свой скептицизм по поводу приоритета права перед добром
на сомнительном метафизическом понятии "политического": Шмитт убежден в том,
что антагонизм между нациями, занятыми самоутверждением, который призван
полемически отстаивать друг против друга их коллективные идентичности, сохранится
навечно.
Такого рода политический экзистенциализм все еще опирается на модель
неустойчивого равновесия сил между независимыми коллективными агентами,
свободными от каких-либо нормативных соображений и преследующими свои, ими самими
определяемые интересы. Эта модель, однако, более уже не адекватна.
Международные конфликты уже не принимают вид войн классического типа между
государствами. Их заменили три новые угрозы международному миру:
государства-преступники, несостоятельные государства и международный терроризм. Коль скоро
государства уже не являются монополистами и распорядителями войн, страх перед
морализаторскими последствиями ошибочно направленных попыток поставить
войны вне закона становится беспредметным6.
Современные политические преступления и угрозы безопасности - симптомы
постнациональной ситуации. Это смещение ситуации явилось результатом
глобализации торговли и производства, рынков и средств массовой информации, транспорта
и туризма, коммуникаций и культуры, рисков в сфере здравоохранения и
окружающей среды, преступности и безопасности. Государства все более и более
вовлекаются в сети все более взаимозависимого мирового сообщества, функциональная
дифференциация в котором безразлична к национальным границам.
Эти системные процессы уничтожают некоторые из условий поддержания той
независимости, которые были когда-то предварительными условиями признания
государственного суверенитета:
- национальные государства сталкиваются со все новыми и новыми
функциональными проблемами, требующими международного сотрудничества;
- они вынуждены делить международную сцену с глобальными агентами другого
рода (мультинациональными корпорациями, неправительственными организациями,
транснациональными организациями и т.д.);
- они создают и вступают в супранациональные организации (ЕС или АСЕАН)
или региональные организации (НАТО или Eowac);
ZanglB., Zürn M. Frieden und Krieg. Frankfurt/M., 172-205.
16
- они теряют некоторые полномочия (например, в области управления
национальными налоговыми ресурсами и их извлечения), но приобретают новое
пространство для оказания влияния различного рода.
Чем скорее государства научатся пропускать свои национальные интересы через
различные каналы транснационального и супранационального управления, тем в
большей степени будут они заменять традиционные формы дипломатического
давления и угрозы войной тем, что можно назвать "мягкой силой", размывая тем самым
границы между внутренней и внешней политикой7.
Правовые новации, связанные с ООН, оставались более или менее подобными
"флоту в гавани", который не мог начать двигаться, пока распад биполярного мира
не устранил основные причины блокирования Совета Безопасности. С тех пор в ход
были пущены некоторые из заржавленных инструментов ООН:
(1) Совет Безопасности принял ряд решений о вмешательстве для поддержания и
установления мира с целью остановить агрессию или гражданскую войну (Ирак,
Сомали, Руанда, Гаити и Босния);
(2) в двух из этих случаев были созданы военные трибуналы (для Руанды и для
бывшей Югославии), в то время как Международный Уголовный Суд и
кодификация международных преступлений находятся все еще в стадии становления;
(3) появление новой категории государств - пара-государств или
государств-изгоев - показывает, что международное признание суверенности во все возрастающей
степени зависит от соблюдения ими требований безопасности и прав человека .
И все-таки трезвый взгляд на этот кажущийся прогресс конституционализации
международных отношений отнюдь не приносит полного удовлетворения.
Финансовые и военные ресурсы, необходимые для вмешательства ООН, контролируются
индивидуальными государствами-членами. Международная организация пока еще
не может располагать своими собственными силами, но в каждом отдельном случае
зависит от доброй воли национальных правительств, которые в свою очередь
зависят от позиции своих избирателей. Из-за их слишком вялой поддержки
вмешательство ООН в Сомали закончилось полным провалом. Еще хуже неудачных
вмешательств - невмешательство, например в Судане, Анголе, Конго, Нигерии, Шри
Ланке и - слишком долгое время - в Афганистане. Чудовищная избирательность в
отношении того, что Совет Безопасности принимает во внимание и по поводу чего
принимает решения, свидетельствует о бессовестном преобладании национальных
интересов над законными глобальными озабоченностями. А право вето все еще
может парализовать Совет - как в случае Косова, когда вмешательство региональной
организации демократических государств получило формальную легитимацию
только постфактум. Нам не хватает аналога национальным законам о полиции, а
именно строгих правил проведения миротворческих миссий ООН, которые всегда
угрожают и невинным жизням.
Тот факт, что правительство Буша отказалось признать Римский статут,
устанавливающий Международный уголовный суд в Гааге, указывает, однако, на нечто
более тревожное, чем затяжки, ошибки и неудачи в течение 80 лет развития права,
движущей силой которого с самого начала были Соединенные Штаты Америки.
Несанкционированная интервенция в Ираке, сопровождавшаяся попыткой маргинали-
зовать ООН, говорит о принципиальном сдвиге направления международной
правовой политики. Позвольте мне поэтому вернуться к вопросу: является ли малая
эффективность ООН и ее неспособность действовать достаточной причиной для
отказа от нормативных исходных предпосылок кантовского проекта в целом?
7 Zürn M. Politik in der postnationalen Konstellation. / Politik in der entgrenzten Welt. Köln, 2001. S. 181-204.
Ders., Zu den Merkmalen postnationaler Politik. / Regieren in internationalen Institutionen. S. 215-234.
8 Frowein 2001, 429 ff. und Zangl, Zürn (2003), 254 ff.
M
Допустим для удобства обсуждения, что проводимая односторонне линия на Pax
Americana все еще диктуется первоначальными целями обеспечения международного
мира и прав человека во всем мире. Но даже и такой наилучший сценарий
благожелательного гегемона, по чисто когнитивным причинам, сталкивается с
непреодолимыми препятствиями при попытке определить, какие способы действия и какого рода
инициативы согласуются с общими интересами международного сообщества. Самое
осмотрительное государство, принимающее решения о гуманитарных
вмешательствах, о ситуациях самозащиты, о международных трибуналах и т.д. никогда не может
быть уверено, действительно ли ему удалось вычленить свои национальные интересы
из интересов общих и обобщаемых. Это не вопрос доброй воли или злых намерений, а
проблема эпистемологии принятия практических решений. Любое предвосхищение
одной из сторон того, что должно быть приемлемым для всех сторон, можно
проверить, только подвергнув это по предположению беспристрастное суждение
всеобъемлющему процессу обсуждения, по правилам которого все его участники должны в
равной мере принимать во внимание и точки зрения остальных участников. Такова
когнитивная цель беспристрастного суждения, которому, как предполагается, должны
служить правовые процедуры как на глобальной, так и на внутренней сцене.
Благожелательному унилатерализму недостает правового обеспечения
беспристрастности и легитимности. Этот недостаток нельзя компенсировать внутренним
демократическим устройством благожелательного гегемона. Граждане сталкиваются с той же
проблемой, что и правительства. Граждане, принадлежащие к одному политическому
сообществу, не могут предвидеть, к каким результатам приведут локальная
интерпретация и применение универсальных ценностей в культурном контексте другого
политического сообщества. То счастливое обстоятельство, что нынешняя сверхдержава
оказалась самой старой конституционной демократией в мире, дает нам, в то же время,
некоторые основания для надежды. Сродство ценностных ориентации между внутренней
политической культурой единственной сохраняющейся сверхдержавы, с одной стороны,
и космополитическим проектом, с другой стороны, по крайней мере облегчает
возможность возвращения будущего правительства США к первоначальной миссии нации,
бывшей инициатором внедрения конституционализации в международную политику.
Постнациональная ситуация находится на полпути к этому проекту.
Повседневный опыт растущей взаимозависимости во все усложняющемся мировом
сообществе незаметно меняет самовосприятие национальных государств и их граждан.
Прежде независимые агенты учатся принимать на себя роли сотрудничающих партнеров
в транснациональных сетях, ответственных членов супранациональных
организаций. Не следует недооценивать то воздействие, которое международные споры и
дискурс, сопровождающий создание новых правовых рамок, оказывает на сознание
людей. Благодаря участию в правовом общении и интерпретации права нормы,
поначалу признаваемые лишь на словах, как формальные декларации, все в большей
степени интериоризируются. Именно так независимые национальные государства
учатся в то же время рассматривать самих себя как членов более крупных
сообществ9. Континентальная сверхдержава, конечно, должна последней почувствовать
это мягкое символическое давление в сторону изменения собственного образа. Но
она вполне может воспринять урок менее благожелательного давления
международной критики, проистекающей из шмиттианского аргумента от асимметрии
силовых отношений в униполярном мире. Граждане либерального государства не могут,
в конечном счете, оставаться нечувствительными к когнитивному диссонансу между
универсалистским призывом к национальной миссии и партикуляристской природой
фактически существующих ("вложенных") интересов.
Перевод с английского Д.Г. Лахути
9 Об этой социально-конструктивистской точке зрения на перемены в международных отношениях
см.: WendtA. Social Theory of International Politics. Cambridge, 1999.
18
Возможно ли моральное обоснование
насилия?
А. А. ГУСЕЙНОВ
Нарочито кантовская формулировка темы доклада говорит о том, что в нем
будут подвергнуты критическому анализу попытки оправдания насилия на основании
моральных аргументов. Я ограничусь общей постановкой проблемы без детального
рассмотрения в отдельности каждого аргумента, которые обычно приводятся для
того, чтобы оправдать насилие.
I
Понятие насилия не имеет четко обозначенных и общепризнанных границ
применения. Поэтому хочу сразу оговориться, что я буду рассматривать его с этической
точки зрения, а именно в той мере, в какой оно является предметом индивидуально
ответственного поведения и может быть вменено в вину тому, кто его совершает.
Этику насилие интересует, прежде всего и главным образом, в качестве
насильственных поступков, т.е. в той его определенности, в которой оно является решением,
сознательным действием индивида, способно быть полностью подконтрольным ему.
Понятое таким образом насилие нельзя смешивать с теми феноменами в природе,
истории, массовых действиях, душевно-аффективном строе индивидов, которые
также часто маркируются с помощью этого термина. Строгая квалификация
последних является предметом соответствующих наук (биологии, социологии,
психологии и т.д.). Не оспаривая, но и не рассматривая специально вопрос о том,
насколько правомерно те или иные особенности естественной борьбы за существование,
силового воздействия, психологического внушения, экономической эксплуатации,
идеологического давления и т.п. называть насильственными, следует заметить, что
если во всех этих случаях речь и идет о насилии, то совсем в ином значении и
статусе, чем в этике.
Насилие имеет место в пространстве свободных и сознательных действий
индивидов. Оно характеризует такие отношения между ними, когда одни индивиды или
группы людей путем физического принуждения, вплоть до угрозы убийства и
убийства навязывают свою волю другим. Как говорил Л.Н. Толстой, "насилие состоит в
том, что одни люди могут силой заставить других людей жить по своей воле"1.
Свободная воля, что вытекает из самого определения, в себе принуждена быть не
может, но ее можно пленить, внешне ограничить. Насилие, выражаясь словами
Гегеля, совершается над наличным бытием свободы во внешней вещи2. Наиболее оче-
19
видные случаи насилия - увечья, поджоги, грабежи, пытки, изнасилования,
убийства и т.д.
Насилие часто называют инструментом, средством, что верно лишь наполовину.
Насилие есть средство, но такое, которое заключает в себе свою цель. В свое время
Л.Д. Троцкий, желая показать, что насилие в качестве средства нравственно
нейтрально и может служить различным целям, говорил, что пулей можно убить и
бешеную собаку, чтобы спасти ребенка, и человека, чтобы совершить ограбление. На
это следовало бы возразить, что пуля все-таки придумана и существует для того,
чтобы убивать людей. В этом смысле она не может считаться нейтральным
средством. Привычное соотношение цели и средства состоит в том, что средство есть путь
к цели и оправдывается ею. Оно порождает цель, которая затем уже начинает жить
своей самостоятельной жизнью. В случае насилия, выступающего в качестве
средства, оно не только порождает цель, оно еще постоянно поддерживает цель,
соприсутствует в ней. Насилие предназначено для того, чтобы добиться доминирования,
господства одних людей над другими вопреки воле последних и чтобы постоянно
поддерживать состояние такого доминирования. Цель, порождаемая средством-
насилием, не может существовать автономно от него точно также как
насилие-средство лишается смысла безотносительно к цели, с которой оно связано.
Насилие следует отличать от ближайших "соседей": с одной стороны, от форм
общественного принуждения, с другой стороны, от природной агрессивности.
Формы общественного принуждения осуществляются с прямого или косвенного
согласия тех, кто подвергается такому принуждению. В этом отношении типичны
патерналистское принуждение и правовое принуждение. Отец, наказывающий сына,
исходит из того, что последний, став взрослым, одобрит его действия. Правосудие,
наказывая преступника, исходит из того, что последний в качестве гражданина
является соучредителем законов и тем самым дал согласие быть наказанным в случае их
нарушения. Принуждение, в том числе физическое, воспринимается в этих случаях
как легитимное, справедливое. Насилие же в отличие от них есть такое
принуждение, на которое никакого согласия со стороны принуждаемых получено быть не
может и рассматривается ими как несправедливое. Поэтому внешнее физическое
воздействие приобретает здесь решающее значение; без него оно вообще не
существует. В принуждении патерналистском и правовом физическое воздействие
допускается в качестве крайнего средства, функционирует больше как возможная
угроза, чем актуальное состояние.
Человеку как живому существу присущи определенные агрессивные,
воинственные инстинкты; это, например, обнаруживается в том, что, если человека ударят, то
он автоматически замахнется, чтобы нанести ответный удар или нанесет его. Как
бы ни относиться к ним, в этической перспективе совершенно очевидно, что они
органичны человеку и их культивирование, заключающееся в том, чтобы ребенок мог
защитить себя на уровне телесных контактов со сверстниками, является одним из
моментов воспитания. Насилие от таких "естественных" действий отличается тем,
что оно является обдуманным, ищет для себя законные основания. Оно заявляет
себя в качестве сознательной воли. Насилие - не витальное состояние, а выходящее за
его пределы целенаправленное действие. Можно сказать, что насилие задает
общественную связь в негативной форме: стремится силой, физическим принуждением
достичь того, что находится в зоне разумно аргументируемого публичного действия,
но не удается добиться адекватными средствами.
От других форм общественного принуждения насилие отличается тем, что
доходит до пределов природной жестокости. От природной агрессивности оно
отличается тем, что апеллирует к разумным основаниям. Насилию нет места ни в рамках
инстинктивно-животного поведения, ни в публичном пространстве человеческой речи.
Оно занимает промежуточное положение между природностью индивида и
культурно-осмысленными, собственно человеческими формами его жизни. Оно как бы свя-
20
зывает две природы человека: это путь, по которому человек выходит из так
называемого естественного состояния, и по нему же он обратно деградирует в него.
Особо надо сказать о взгляде, который существенно сближает насилие с
властью, в частности, с политической властью, государством. Если вслед за X. Арендт
понимать власть как пространство публичной жизни, искусство совместных
действий, то совершенно очевидно, что власть и насилие - прямо противоположны. Но,
если даже понимать политическую власть узко как отношения господства и
подчинения, то и в этом случае ее жизнеспособность совпадает с легитимностью, с тем, в
какой мере эти отношения признаются справедливыми обеими сторонами. Тот
несомненный факт, что власть часто пользуется насилием, вовсе не исключает того, что
это - разные явления. Власть опирается на насилие, как правило, тогда, когда
перестает соответствовать своему понятию, лишается поддержки населения, властью
которого она является. Сущностное отношение насилия и власти состоит в том, что
насилие разрушает власть.
Понятие морали, как известно, также является многозначным, было и остается
предметом широких споров. Для наших целей важно и достаточно подчеркнуть, что
при всех доктринальных различиях в подходе к морали современные общественные
и научные дискуссии, как правило, исходят из ее общегуманистического понимания.
Основными признаками такого понимания являются две идеи: а) о самоценности
человеческой личности; б) о взаимности человеческих отношений в их универсальном
выражении, которая задается золотым правилом нравственности.
II
Понятия насилия и морали, как нетрудно заметить, мы берем не в каком-то
особом доктринальном значении, а в том общепринятом содержании, которое они
имеют в повседневном языке современных теоретизирующих и практикующих
гуманитариев. Эти понятия превращают поставленный нами вопрос о возможности
морально оправданного насилия в чисто риторический. Если, разумеется, сам вопрос
понимать таким образом, что насилие, как и любое другое действие, признается
морально обоснованным только в том случае, когда оно может быть помысленно в
качестве чистого морального акта, то есть действия, которое могло бы быть
совершено по одному лишь моральному мотиву. Эмпирический признак, позволяющий
удостоверить, может ли то или иное действие состояться в качестве собственно
морального, состоит в согласии всего вовлеченного в дискурс коммуникативного
сообщества считать его моральным. Применительно к нашей теме это означает, что
насилие могло бы быть признано морально оправданным, если бы на него было
получено согласие тех, по отношению к которым оно применяется, или, говоря
по-другому, если бы те, по отношению к кому применяется насилие, признавали его делом
достойным и справедливым. Но, как заметил профессор Р. Шпееман , если бы было
такое согласие, то не было бы никакой нужды в насилии. Насилие и мораль
исключают друг друга по определению.
В этой связи показателен следующий факт. И.А. Ильин, как известно, не
соглашался с позицией Л.Н. Толстого, который категорически, без каких бы то ни было
исключений, отказывал насилию в этической санкции и написал целую книгу почти
с программным антитолстовским названием "О сопротивлении злу силою". Ильин
признает, что "в самом слове "насилие" уже скрывается критическая оценка", что
"доказывать "допустимость" или "правомерность" насилия - значит доказывать
"допустимость недопустимого" или "правомерность неправомерного""4: И он вводит
более широкий термин заставления, который наряду с насилием, являющимся
предосудительным заставлением, включает в себя также такое физическое понуждение
и пресечение, которое он называет непредосудительным заставлением. Тем самым
Ильин подменил предмет спора и доказывает уже не моральную допустимость наси-.
лия, а моральную допустимость физического заставления. Не знаю, можно ли ква-
21
лифицировать это как логическую ошибку, но если даже она и является таковой,
она в высшей степени ценна и поучительна, ибо показывает, что без нее нельзя
мобилизовать моральные аргументы в пользу насилия. Особо следует подчеркнуть,
что речь идет о рассуждении в рамках общегуманистической морали. Если брать
какую-либо разновидность "каннибальской этики", например классовую мораль или
националистическую мораль, в которых границы морали очерчены намного уже,
чем границы человечности, совпадают с границами класса или нации, то логика
такой этики допускает и даже предполагает насилие. Что касается
общегуманистической этики, то в ней нет места насилию. Из общего постулата, согласно которому
жизнь человека священна, и все люди - братья, невозможно развернуть корректную
цепь рассуждений, которые заканчивались бы выводом, что кого-то можно убить.
Это так же невозможно, как невозможно, например, из утверждения, что все люди
смертны, сделать заключение, что какой-то человек бессмертен.
Вопрос, казалось бы, является предельно ясным: или общегуманистическая
мораль или насилие. Однако в реальности мы наблюдаем парадоксальную картину,
когда в рамках одного и того же рассуждения признание того, что насилие есть зло,
странным образом дополняется суждением, что в каких-то особых случаях оно, тем
не менее, морально допустимо. Прежде, чем говорить о самих "особых случаях",
необходимо ответить на вопрос, возможны ли они именно в качестве случаев насилия,
и, если нет, то, что, тем не менее, заставляет искать их морального обоснования и,
самое главное, какова функция такого обоснования, что оно привносит в практику
насилия?
В основании насилия лежит конфликт, в котором его участники не только не
могут придти к согласию, а отказались от самой установки на согласие. Насилие
вырастает из конфликта на такой стадии, когда люди радикально расходятся по вопросу
о том, что есть добро и что есть зло. То, что одни считают злом, другие считают
добром, и наоборот. Речь идет не о различиях в понимании добра и зла, еще меньше о
теоретических спорах, а о том, что конфронтация по тем или иным жизненно
важным вопросам фиксируется в моральных и морально нагруженных оценках.
Из ситуаций подобного рода возможны несколько выходов, поддающихся
интерпретации в моральных терминах. Первый: отказ от попыток морального
оформления конфликта и его перевод в плоскость прямого силового столкновения, когда
приоритет отдается праву силы. Здесь соблюдается принцип взаимности, а вместе с
ним и моральная перспектива в той мере, в какой признается взаимное право
каждой стороны на применение силы. Такое решение, если брать исторические
примеры, заложено в идее равного возмездия. Другим подобным примером может
считаться война по правилам, ограничивающим ее таким образом, чтобы, с одной
стороны, были созданы условия для выявления победителя, и чтобы, с другой стороны,
она не выходила за рамки этой цели. Второй: отказ от попыток насильственного
решения конфликта, поскольку нельзя установить, какая из его противоборствующих
сторон воплощает добро и какая зло. Это - путь ненасильственной теории и
практики. В своем парадигмальном виде он был задан известным евангельским рассказом,
когда Иисусу предложили судить блудницу, которая по законам Торы должна была
быть забросана камнями, и он ответил: "Пусть бросит камень первым тот, кто сам
безгрешен". Таких, как известно, не нашлось. Примерами такого пути являются
опыты акцентированно ненасильственной борьбы за социальную справедливость.
Третий: насилие, выступающее под флагом добра и как его орудие. Этот путь
выхода из конфликтной ситуации представляет собой симбиоз первых дЕух решений; и
воплощается в так называемом морально оправданном насилии. В данном случае
конфликтующие стороны маркируют друг друга такими морально
дискредитирующими знаками (типа: подлость, низость, гадость, агрессия, несправедливость,
ничтожество, предательство и т.п.), которые поднимают предметные разногласия на
уровень абсолютного морального размежевания, в результате чего конкретный спор
выглядит одновременно как столкновение добра и зла.
22
Вопрос о насилии как орудии добра упирается в вопрос о том, кто может
говорить от имени морали, авторитетно судить о том, что есть добро и что есть зло. Еще
со времен Сократа мы знаем, что не существует учителей добродетели аналогично
тому, как существуют учителя математики, музыки и т.д. Роль учителей
добродетели, наверное, могли бы взять на себя люди, которые сами являются
добродетельными. Но, как заметил тот же Сократ, добродетельные люди не способны передать
другим свою добродетель, иначе у добродетельных родителей не вырастали бы, как
это часто бывает, порочные дети. Кроме того, один из специфических признаков
добродетельного человека состоит в том, что он не признает себя в этом качестве, и
если даже не склонен считать себя очень грешным, то во всяком случае
отказывается выступать в роли учителя, носителя моральной истины. Святой, считающий себя
святым, святым не является. Это до такой степени верно, что уже одна готовность
человека быть олицетворением морали является несомненным доказательством
того, что он таковым не является.
Вопрос о том, кто может свидетельствовать моральную истину, был одним из
труднейших и для этической теории и для моральной практики. Наиболее
адекватный из апробированных в истории культуры ответов состоит в том, что моральные
истины изначальны (в теологическом варианте: даны свыше), а их авторитетной
инстанцией является совесть человека, сама личность. Следовательно, в серьезном,
ответственном смысле слова человеку дано морально судить только самого себя. У
него нет доказательных оснований судить других. Но, если бы даже и существовала
авторитетная инстанция моральных суждений, это не имело бы существенного
значения для разрешения интересующей нас проблемы поведенческого выбора в
ситуации радикального морального раскола. Ведь любого рода авторитетная
инстанция, а тем более авторитетная инстанция в моральных вопросах, держится
исключительно на уважении к ней, на признании ее в качестве авторитетной инстанции со
стороны тех, кто готов следовать ее указаниям.
Моральная аргументация в пользу насилия была бы безупречной, а само насилие
могло бы считаться для соответствующих случаев конструктивной поведенческой
стратегией, если бы вообще можно было квалифицировать людей в качестве
добрых и злых, точно определить, кто из них является добрым, а кто - злым. Если бы
добро и зло и в самом деле бегали каждое на своих двух ногах, и мы бы точно знали,
где одно, а где другое, то добрые должны были бы стремиться к уничтожению злых
подобно тому, как мы очищаем поле от сорняков или тело от паразитов. Но в том-
то и дело, что добро и зло не разведены поиндивидно таким образом, чтобы одни
были только добрыми, а другие - только злыми. Здесь можно привести много
аргументов. Наряду с основным уже приведенным выше содержательным аргументом,
согласно которому не существует более высокого и авторитетного этического
института помимо самой личности, принимающей моральные решения, ограничусь
еще одним логическим соображением. Принятие точки зрения нравственной
селекции людей означало бы, что одна воля признается исключительно (безусловно,
абсолютно) доброй, а другая - исключительно (безусловно, абсолютно) злой.
Безусловно добрую волю, как показал Кант, можно только помыслить, но она никак не
может быть реальной волей какого бы то ни было реального индивида. Что
касается безусловно злой воли, то ее существование невозможно даже помыслить, ибо,
додуманная до конца, она отрицает саму себя. Насилие, таким образом, не может быть
орудием добра и добрых людей, так как оно само является следствием ситуации,
которая характеризуется отсутствием ясности и согласия в вопросе о том, что такое
добро и что такое зло, кто является добрым, а кто злым.
Следовательно, особенность конфликта, разрешающегося в насильственное
действие, состоит в том, что вовлеченные в него стороны а) придают своему
противостоянию моральный смысл, считая его настолько важным, что ради него следует
пойти на риск жизни, и б) каждая из них имеет одинаковое основание считать свою
23
позицию морально достойной, а позицию противной стороны морально абсолютно
неприемлемой.
III
Особая изощренность моральной аргументации насилия заключается в том, что
она не отрицает положения, согласно которому насилие есть зло. Считается: именно
потому, что насилие есть зло, к тому же крайнее, абсолютное зло, оно должно быть
искоренено. Насилие оправдывается тем, что оно есть адекватное средство борьбы
против насилия и применяется для того, чтобы предотвратить большее насилие или
вообще уничтожить его. Эта аргументация, оправдывающая насилие как ответное
насилие, корректно выражена в идее талиона (возмездия), поскольку в ней нет
предположения (общей посылки) о том, что насилие есть зло. За этими пределами она,
на мой взгляд, является интеллектуальным фокусом, если не прямой насмешкой над
разумом.
Во-первых, отвечая злом на зло, мы увеличиваем его, как минимум на то
количество зла, которое содержится в ответном зле. Думать, будто злом можно
уничтожить зло, все равно, что полагать, будто один пожар можно погасить, разжигая
рядом второй.
Во-вторых, зло вообще, а в особенности зло насилия не может быть предметом
морального выбора. Зло содержательно отождествляется с разными вещами -
болью, ущербом и т.п. Среди них насилие, в частности убийство, есть крайняя форма,
за которой лишается смысла всякий выбор. И оно не может быть
предпочтительней, чем что бы то ни было иное. Функционально зло есть то, чего человек хочет
избежать, т.е. то, что он не выбирает, если понимать под выбором сознательное и
ответственное решение индивида, говорить о выборе зла - недопустимое языковое
выражение. Есть известная формула: выбор меньшего зла. Она оправдана постольку,
поскольку речь идет не о выборе зла, а о выборе меньшего зла. Т.е. здесь
выбирается меньшее. В случае ответного насилия меньшее никак не получается: чтобы
преодолеть насилие насилием (в каких бы единицах его не измерять), это второе
насилие должно быть больше первого. Тем самым зло насилия не уменьшается, а
увеличивается. История орудий насилия - прежде всего и главным образом вооружений -
несомненно доказывает истинность данного утверждения. Прогресс вооружений,
достигших в настоящее время тотальной разрушительной силы, осуществлялся в
рамках убеждения, будто насилие можно преодолеть насилием и оправдывался
таким убеждением. Кстати заметить, ядерное оружие очевидным образом
свидетельствует о том, что свойственно всякому насилию: его нельзя считать нейтральным
средством, способным быть примененным во имя благой цели, оно само по себе есть
зло.
В-третьих, так как насилием нельзя уничтожить насилие, то оно тем более не
может привести к обществу без насилия. Думать иначе - значит исходить из странных
представлений, будто можно подниматься вверх, опускаясь вниз. Кто насилием
пробивает себе путь в будущее, тот, даже если он разделался со всеми своими
противниками, несет его в будущее вместе с собой. Насилие не выбрасывается вместе с
оружием, тем более не выбрасывается, что сторонники так называемого справедливого
насилия в отличие от киллеров свое оружие не оставляют на месте преступления, а
вешают на стену в качестве символов доброй памяти. Иллюзорность идеи о том, что
через насилие можно придти к обществу без насилия является эмпирически
очевидной: желание искоренить насилие насилием всегда в истории приводило к его
увеличению.
Насилие нельзя преодолеть насилием. Оно не сводится к конкретным действиям,
в которых оно явлено. Насилие в то же время всегда выражает определенную -
нравственно (морально, этически) негативную - направленность поведения.
Единственный способ пробиться в мир без насилия - отказаться от него, сойти с пути наси-
24
лия. Это и значит, что невозможны ситуации, когда насилие могло бы считаться
морально достойной позицией.
Такой общий вывод не означает, будто этика нейтральна по отношению к
различиям в формах и масштабах насилия или будто не существует этически
извинительных случаев использования физической силы. Речь на самом деле идет не о том,
чтобы этика внешне отгородилась от мира насилия в его сложности и конкретном
многообразии, а лишь в том, чтобы ее вмешательство в этот мир не обернулось
апологией самого насилия. Можно согласиться, что в реальном опыте моральной жизни
нельзя ограничиваться точкой зрения, абсолютно противопоставляющей добро и
зло по евангельской формуле: "да - да", "нет - нет"; а что сверх этого, то от
лукавого. Но в то же время нельзя вникать в этот опыт столь полно, чтобы была забыта
или отброшена изначальная противоположность между моральным "да" и
моральным "нет". Тезис о невозможности морального обоснования насилия не исключает
более детализированный этический анализ насилия в его эмпирической и
контекстуальной конкретности, он лишь задает общие ограничивающие рамки такого
анализа. Как медицина изучает болезни под углом зрения того, чтобы побороть их, так
и этика имеет дело с насилием только в исходных рамках его отрицания. Медицина
использует яд для лечения. Но при этом никто не говорит, что она отравляет людей.
И не утверждает, что яд благотворен для организма. При осмыслении
насильственных или сопряженных с насилием ситуаций также очень важна точность оценок,
один из критериев которых состоит в том, чтобы они не выпадали из общего
вектора несовместимости морали и насилия самих по себе. К примеру, индивид,
поставленный перед дилеммой, быть ли ему убитым или ограбленным, наверное, выберет
второе. Но это вовсе не означает, что он хочет быть ограбленным или что насилие в
форме ограбления является в данном случае для него благом. Ограбление остается
ограблением, конкретность случая состоит лишь в том, что убийство еще хуже, чем
ограбление. Возьмем другой типовой случай, который часто приводится как пример
насилия, требующего, если не моральной санкции, то, по крайней мере, морального
снисхождения: убийство, совершенное в порыве естественной самообороны, или
убийство в бою. Действительная проблема, подлежащая здесь обсуждению, состоит
не том, как морально оценивать эти действия, а в том, насколько они являются
индивидуально ответственными, подлежащими моральному вменению. Это - хорошая
иллюстрация того, как можно конкретизировать формулу "да - да", "нет - нет", не
отвергая ее саму. Бывают действия, за которые человека можно пожалеть. Бывают
действия, которые нельзя осудить, но это не значит, что их можно одобрить.
IV
Хотя не существует моральных аргументов в пользу насилия, тем не менее
насильственные акции, как правило, всегда проходят под моральный аккомпанемент.
Это относится и к индивидуальным, но в еще большей мере к общественным
институционально оформленным насильственным действиям. Если послушать идеологов
насилия, окажется, что все ими делается ради блага и справедливости: воюют во имя
мира; убивают во имя жизни; разрушают, чтобы строить; отнимают, чтобы раздать
и т. д. И чем ужасней, отвратительней насилие, тем сильнее сопровождающая его
моральная демагогия. Почему так происходит и какое воздействие апелляция к
морали оказывает на само насилие, в частности, способствует ли она его смягчению и
ограничению или нет?
Людям, как известно, свойственно думать о себе лучше, чем они есть на самом
деле. И не просто лучше, а думать о себе хорошо. Это относится и к отдельным
индивидам и их объединениям. Они всегда стремятся выдать свое зло за добро и
изобразить свои решения таким образом, чтобы они подходили под моральную санкцию.
Собственно говоря, специфическая роль морали в мотивации и состоит в том, чтобы
быть последней санкцией поведения, благодаря которой последнее становится вы-
25
бором самого действующего индивида и может быть вменено ему в вину.
Стремление быть морально чистым (и в собственных глазах и в глазах других людей) тем
сильнее, чем грязнее дела, которые приходится делать. И здесь насилие, конечно,
занимает особое место, поскольку всеми признается, что само по себе оно есть зло.
Как в помещение с вредными веществами нельзя войти без респиратора, так
насильственные действия нельзя совершать без их морального прикрытия. Те, кто
совершает насилие, всегда стремятся придать делу "законный вид и толк", если
воспользоваться выражением из известной басни И.А. Крылова "Волк и ягненок". Исключение
составляют, быть может, только непосредственно эмоциональные насильственные
действия на личной почве, которые и в самом деле являются исключительными в том
смысле, что единственные среди многообразия форм насилия могут быть признаны
извинительными. Насилие, как и всякое индивидуально-ответственное действие,
требует того, чтобы на него решились. Каждое насильственное действие имеет свой
рубикон, который надо перейти. Инстанцией, которая ставит последнюю точку в
системе мотиваций и дает разрешение на насильственное действие, является мораль.
Моральное оправдание насильственных действий имеет одну особенность,
отличающую его от других случаев моральных самооправданий. Если обычно человек
главным образом обеспокоен тем, чтобы обелить себя, то в случае насилия его
интеллектуально-идеологические усилия направлены еще и даже в основном на то,
чтобы дискредитировать противника, низвести его до уровня, который уже
недостоин гуманного обращения. Противник не просто отрицается из-за его позиции, он
еще непременно и дискредитируется, а часто и демонизируется. Конфликту
придается такой вид, как если речь шла не о зле, а об абсолютном зле, и не о борьбе за
какие-то конкретные цели и интересы, а о столкновении добра и зла в чистом виде.
Эта мысль сегодня, когда идет война против так называемого международного
терроризма, не нуждается в особых иллюстрациях, достаточно включить радио или
телевизор, и мы услышим об "оси зла"; кстати, она проходит не очень далеко от места,
где заседает наш философский конгресс.
Моральное аргументирование насилия сводится к тому, чтобы представить себя в
качестве последнего оплота добра, а противоположную сторону в качестве
воплощения абсолютного зла. Тем самым противостоянию в конфликте придается
бытийный смысл, когда линия, разделяющая стороны, становится окопом. Через нее уже
нельзя переходить, через нее можно только стрелять. В христианской и
мусульманской религиозных утопиях предполагается отделение зерен от плевел, добрых от
злых, в результате чего добрые остаются вечно в раю, а злые обрекаются на вечное
умирание в аду. Там это происходит в день последнего суда, и, самое главное,
осуществляет эту процедуру сам Бог. Моральная аргументация насилия представляет
собой лицемерную форму последнего суда. В ней люди берут на себя роль, которая в
религиозных утопиях отводится Богу. И это не фигуральное выражение, если
учесть, что многие вооруженные конфликты вплоть до наших дней ведутся именем
Бога.
Несомненный, не знающий исключений факт состоит в том, что в истории, по
крайней мере в истории Нового времени, тем сражениям, которые ведут генералы,
предшествуют сражения, которые ведут моралисты. Осмысление конфликта как
морального противостояния придает ему такой вид, когда он неизбежно
приобретает насильственный характер. При этом моральное освящение насилия не смягчает
его, а напротив, придает ему тотальный характер. Именно моральные аргументы
создают ситуацию, когда не совершить насилие оказывается позором ("потерей
достоинства", "трусостью", "предательством великого дела" и т.п.) и когда противника,
поскольку он есть воплощенное зло, надо не только победить, но еще и унизить,
опозорить, стереть с лица земли, чтобы от него не осталось даже могилы. Его мало
победить, его надо изничтожить.
Таким образом, моральная аргументация в пользу насилия, выполняет
следующие функции: она дает последнюю санкцию на насилие, придает ему необратимый и
26
тотальный характер. Именно для того, чтобы выполнять эти функции, требуется
двойная моральная бухгалтерия, когда, с одной стороны, признается, что насилие
само по себе есть зло, подлежащее безусловному отрицанию, а, с другой стороны,
допускаются особые случаи морально оправданного насилия. Радикальное отрицание
насилия нужно для того, чтобы лишить права на насилие противную сторону.
Исключение для особых случаев насилия нужно для того, чтобы оправдать
собственное насилие. Все сводится к логике: когда мы убиваем - хорошо, когда нас убивают -
плохо.
Насилие в каких-то конкретных случаях, по-видимому, можно аргументировать
исходя из политических интересов, экономической выгоды, социологических целей,
естественно-антропологических склонностей, других весьма реальных и
многочисленных мотивов, которыми оно порождается. Но его ни в каком варианте нельзя
обосновать с помощью моральных аргументов, как если бы оно было допустимо в
качестве разумного, достойного, индивидуально ответственного действия личности.
Такое расхождение прагматически-ситуативных (предметно-целесообразных) и
моральных подходов к насилию не является ни случайным, ни закономерным. Это
вполне соответствует и наиболее ярко воплощает общее соотношение
необходимости и морали. Необходимость может совпадать с моралью, может противоречить ей,
может быть по отношению к ней совершенно нейтральной. Это не оказывает
прямого воздействия на мораль. В противном случае мораль не была бы автономна.
Если даже мораль не может ничего сделать с необходимостью, например, с
необходимостью насилия, которая, как вполне можно предположить, уходит истоками в
биологию индивидов и социологию их совместного существования, то и необходимость
насилия, коль скоро она реализуется через сознательные действия, не может ничего
сделать ни с моралью, которая считает такой способ действия несовместимым с
человечностью, ни с моральным индивидом, который решил отказаться содействовать
необходимости в этом пункте. Пусть мораль еще не способна сделать так, чтобы в
мире не было насилия. Но она способна сделать так, чтобы те, кто совершает
насилие, не тешили себя иллюзией, будто их позиция морально оправдана. Мораль
отнимает право так думать. Говорить и доказывать это - важная задача философов в
современном мире с его глубоко укоренившимся предрассудком, будто без насилия
невозможно отстоять человеческое достоинство и добиться справедливости.
На первый взгляд может показаться, будто позиция, осмысленно отказывающая
насилию в моральной санкции, является чистым мечтательством. В
действительности это не так. Дело не только в том, что общественное развитие всей своей
многотысячелетней истории свидетельствует о превалировании ненасилия над насилием,
что мы знаем вдохновляющие индивидуальные и коллективные (в наше время
прежде всего связанные с именами Л.Н. Толстого, М. Ганди, М.-Л. Кинга) опыты
принципиального отказа от насилия. Много важней, что такая позиция приобретает
нормативную определенность и действенность в усилиях, направленных на ограничение
насилия, что без нее были бы невозможны сами эти усилия.
Примечания
1 Толстой Л.Н. Путь жизни. М, 1993. С. 168.
2 Гегель Г.-Ф.-В. Философия права § 90-92. М., 1990. С. 141-142.
3 Spaemann R. Moral und Gewalt / Riedel (Hrsg.). Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Bd. I. Freiburg,
1971.
4 Ильин И.А. Путь к очевидности. M., 1993. С. 20.
27
Два столпа
современной этики
А. ХЕЛЛЕР
Под современной этикой я понимаю такого рода этику, которая характерна для
современности и только для современности, и разделять которую нужно и
отдельным людям, и народам независимо от их этоса. В современном мире мужчины и
женщины все еще рождаются в разных обществах, культурах, обычаях с разными
конкретными нормами и правилами. По крайней мере, поначалу они принимают эти
нормы и правила как данное, а позднее они волей или неволей будут нести на себе
печать этих моральных культур. Этос может быть более или менее жестким, более
или менее универсальным, но не это предмет данной лекции. Меня занимает то, что
современный мир как таковой, то есть совокупность всякого рода этосов, жестких
или свободных, нуждается в признании двух столпов, на которые все они опираются.
Если сравнить миры со зданиями, то можно сказать, что до-современный мир
опирался на твердую основу, почву, что весь этот дом прочно стоял на земле,
современный же мир, напротив, не имеет никакого основания, даже если некоторые
общества все еще имеют собственные основы. Потому-то два эти общие столпа и
необходимы, чтобы обеспечить воспроизводство современного мира и спасти его от хаоса
или полного краха. Далее я буду говорить об этих двух столпах. Я попытаюсь
избежать нормативной теории и не буду заниматься идеализацией, хотя мой тезис и не
будет полностью эмпирическим. Я буду пытаться обосновать только следующее
предположение: если два столпа современной этики будут признаны хотя бы в
одной части света, современность еще сможет выжить, а если нет - то не сможет, а
если не выживет, наш мир погрузится в состояние войны или хаоса. Но поскольку я
убеждена, что эти два столпа будут признаваться все\ возрастающим числом
культур, я не принимаю в расчет пессимистический сценарий.
Нет ничего нового в предположении, что существует два столпа этики, или
морали. Уже Аристотель называл два столпа: хороший человек и справедливая
конституция. Они являются столпами и современной этики. Есть, однако, и существенная
разница. В до-современном мире, включая и мир Аристотеля, хорошие люди и
справедливая конституция, или политическое устройство, были органически укоренены
в одной и той же твердой почве базовой социальной структуры и фундаментальных
верований. Однако в современном мире все это полностью изменилось.
Современность основывается не на абсолютной вере и даже не на безусловно признаваемом
социальном устройстве, а на свободе.
28
Свобода, однако, это такое основание, на котором ничего не основывается.
Именно потому, что свобода - это фундамент, который ничему не служит опорой,
современный мир оказывается лишенным всякого фундамента. Однако жить без
общего для всех абсолютного фундамента не значит жить вообще без оснований. В
противном случае мы все были бы уже ввергнуты в радикальный нигилизм. Но я
думаю, что это не так. Не только философия или любого рода теория невозможны без
какого-то основополагающего акта - политические и общественные ассоциации
тоже должны быть основаны. Анархия нежизнеспособна по той простой причине, не
говоря о других, что люди неспособны долгое время жить в состоянии анархии. Для
того, чтобы ожидания людей оправдывались, а обещания выполнялись, нужна
какая-то надежность, какая-то уверенность, устойчивость, своего рода регулярность,
повторение и повторяемость.
Но так же, как это бывает в философии, в мире, лишенном абсолютного
фундамента, не остается никакой общей субстанции, способной нести на себе все его
атрибуты. Так, институты, ценности, добродетели, разновидности знаний, вкусов и т.д.
не имеют общего фундамента. Истинность знания, красота стиха, справедливость
конституции, добрая воля человека уже не коренятся больше в одном и том же
субстанциальном веровании. Дело обстоит наоборот. Все они могут основываться на
своих собственных принципах. Поэтому-то Макс Вебер и называл современный мир
по существу политеистическим, в котором каждая сфера имеет собственное
божество. Поскольку сейчас я говорю только о двух столпах современной этики, хорошем
человеке и справедливой конституции, мне приходится оставить в стороне вопросы
о детотализации понятия истины и о превратностях понятия красоты в современном
мире, которыми я занималась в других работах.
Высокая моральность (moral goodness) с одной стороны и справедливая
конституция с другой - это не просто две ветви одного и того же дерева. Я попытаюсь
показать, что они основаны на своих собственных принципах, на разных принципах, и
что у них есть собственные основания - два разных основания. Однако, как можно
было ожидать, в их структуре должно быть что-то общее, и та, и другая должны
быть основаны на свободе, на основании, на котором ничто не основывается. Я хочу
проследить, как это делается. Очевидное можно высказать уже заранее. Они могут
основываться на Свободе - на основании, на котором ничто не основывается, -
приняв Свободу в качестве первичной ценности, ценности, которая не является
субстанцией, а скорее уж самим отсутствием субстанции. (Противоположный пример: Бог,
на котором был основан весь христианский мир, есть абсолютная Субстанция и
абсолютная ценность, источник всякой истины, справедливости, порядочности,
красоты).
Сначала я буду говорить о высокой моральности (порядочности), а потом - об
основах социальной и политической справедливости.
Первый столп: порядочность современного человека.
Сознание современности есть, помимо прочего, также и самоосознание
случайности. Переживание случайности имеет три аспекта. Во-первых, переживание
космической случайности, вытекающей из замены божественного провидения слепыми
законами природы, подытоженной Ницше в его тезисе о смерти Бога.
Наука заменяет религию в качестве доминирующего объяснения мира,
поставщика истины. Это - грандиозная перемена, потому что в противоположность
религиозной истине научная истина фальсифицируема и к тому же не претендует на
авторитет в делах морали, на руководство людьми в отношении их морали или образа
жизни. Второе переживание случайности возникает одновременно с разрушением и
деконструкцией упорядоченного до-современного социального и политического
мира. Макинтайр прав: в рамках до-современного общественного устройства человек
29
получал свой telos, свое земное предназначение от рождения. Там дорога вела от
случайности рождения к завершению или совершенствованию личности в
соответствии с ее или его первоначальным предназначением, которое было социально
определено рождением. Их генетическое а приори было вложено в конверт,
адресованный конкретному социальному а приори. Метафорическому почтальону
нетрудно было доставить этот конверт по указанному адресу. Продолжим метафору.
Современные мужчины и женщины вбрасываются в мир в конвертах без адреса.
Социальное а приори резко изменилось, оно не предлагает новорожденному telos, - во
всяком случае, этого от него не ожидают. Сартр хорошо выразил эту ситуацию,
когда сказал, что нас вбрасывают в Свободу, то есть в Ничто, в сеть возможностей, в
сеть без telos'a, без предназначения. И именно потому, что конверты, в которых
мужчин и женщин вбрасывают в современный мир, не имеют адреса, им приходится
раньше или позже самим адресовать свой конверт. Адресовать свой собственный
конверт - фундаментальная ответственность современного индивида. Я хочу
подчеркнуть слово "фундаментальная", потому что эта ответственность связана с
жестом основывания.
Ответственность за наш моральный характер и за наш характер в целом
возрастает параллельно убыванию несомненностей. Современные люди начинают
подвергать традиционные ценности, добродетели, обычаи суду разума. Но если все
ценности, добродетели и этические суждения последовательно представить на суд разума,
все они окажутся в проигрыше, ибо ни одна из них не сможет успешно выдержать
этот суд. Все ценности, конкретные нормы и конкретные этические суждения
можно с равной силой обосновать как истинные или отвергнуть как ложные, и процесс
доказательства их истинности или ложности может никогда не закончиться. В
каком-то месте надо прекратить задавать вопросы, хотя бы одну ценность надо
признать безусловной, если мы хотим достичь твердой почвы и начать строить новую
этику из старых камней. На самом деле цепочки обоснования-опровержения по
большей части не тянутся до бесконечности, ибо иногда их обрывает логика сердца,
а иногда - осколки собственных наших традиций.
Предположим, однако, что ничто другое не прерывает процесс
аргументирования, так что в рациональном фехтовании участвуют только обосновывающие или
опровергающие аргументы, В этом случае, просто для того, чтобы иметь какую-то
этику, что-то надо принять за архе, за что-то вроде первичного, основополагающего
принципа для участников поединка. Но эту роль архе не может выполнять никакая
конкретная норма, ценность или моральное убеждение, так что единственной
несомненностью остается то лицо, которое демонстрирует pro и contra истинности или
неистинности этических убеждений. Поскольку это лицо, этот существующий ищет
оснований не для знания, а для морали, процедура, заканчивающаяся единственным
существующим, все-таки порождает некоторую этику - этику личности. Итак,
одним из столпов современной этики оказывается некоторая - а не единая - этика
личности. Для простоты: личности, которая, становясь собой, становится вместилищем
этики.
Но как может единственный существующий принять на себя роль вместилища
моральной несомненности, основания своей собственной этики, если существо
морали все еще состоит в нашем отношении к Другому? Как могу я, единственный
существующий, различить добро и зло? Как могу я найти твердое основание в моей
самоуверенности, ручающейся за правоту моего морального суждения? Могу ли'я сам
решить, что мне следует делать, как мне будет правильным поступить?
На этот вопрос можно ответить да или нет, но ответ всегда будет подлежать
сомнению. И все-таки, если кто-то думает об этом, прежде чем приступить к какому-
то действию или составить конкретное суждение, поскольку сначала спрашивает
себя, будет это правильно или неправильно, и только потом - будет это полезно или
нет, мы будем правы, говоря об этике личности без дальнейших уточнений и
оговори
рок, и даже сможем принять предположение, что этика личности есть один из
столпов, на которые опирается этика современного мира.
Есть два рода этики личности, и не только в философии. Обе различают высокое
и низкое, благородное и низменное, обе поощряют саморазвитие, "чистоту"
характера, обе полагают, что высший долг человека - стать тем, что он есть, сдержать
обещания, причем данные не только самому себе. Это, однако, целиком формальная
этика, диаметрально противоположная эссенциалистской субстанциальной этике,
против которой современный человек начал свою освободительную войну. Ее
основание - сам существующий, не наделенный в своей личной свободе никаким
содержанием. И в то же время этот формальный столп - не слишком надежный столп. Но
все-таки он не лишен значимости и прямо относится к делу. Представление о том,
что единственное свободное ограничение личности есть ограничение, принятое
самим собой, хорошо вписывается в воображение современного мира. Но это
оставляет открытым вопрос: какого рода ограничение? Примет ли, или принимает ли
каждый на себя совершенно разные ограничения? Возможно ли, что не окажется
никакого согласия по поводу добра и зла, даже между двумя людьми, иначе как в
результате случайного совпадения? Чтобы этот столп тверже стоял на земле,
формальное понятие этики личности должно получить некоторого рода слабо
субстанциальное определение/ограничение.
До этого момента я просто реконструировала этические тенденции
современности. Вкратце их можно подытожить как своего рода сосуществование между
фрагментами традиционной этики, этики личности, использующей те или иные из этих
фрагментов, и фундаментализмов иного рода, стремящихся подтолкнуть этику
личности вернуться на прочное, хотя и сконструированное исключительно
идеологически, основание. А теперь я буду говорить о регулятивной идее, регулятивной
моральной идее этики личности, опираясь в основном на философию Кьеркегора.
Можно дать этике личности моральное содержание. Но как? С одной стороны,
этика личности не может быть обоснована в том же смысле, в каком обоснованы
метафизические этики. С другой стороны, она не может опираться как на основания
на эмпирические правила и нормы. Так как же может этика личности иметь хотя бы
слабое содержание? Решение, предложенное Кьеркегором, кажется простым:
может, если личность, выбирая себя, выберет себя как моральную личность. Любого
рода этику можно описать как коренящуюся в экзистенциальном выборе себя.
Человек выбирает себя как такого-то и такого-то и становится тем, что он есть.
Человек может наполнить свой экзистенциальный выбор слабым моральным
содержанием, если выберет себя как хорошую, честную личность и станет тем, что он/она
есть, - честным, порядочным, добрым мужчиной или женщиной. Поскольку этот
выбор экзистенциален и тем самым автономен и сам себя обосновывает,
экзистенциальный выбор не есть выбор чего-то. Я не выбираю доброту или честность, я не
выбираю какую-либо добродетель или ценность, я выбираю самого себя как
доброго, честного человека. Что это значит - что человек выбирает себя как
порядочного, честного человека? Кьеркегор говорит, что он выбирает выбор между добром и
злом. Но это лишь первый шаг. Человек становится тем, что он есть, так что ему
надо уметь различать добро и зло в общем случае. Ему нужна опора. Но такая опора*
нужна ему только после того, как он выбрал себя как хорошего человека. Этот ход
не делается просто формальной этикой личности.
Чтобы обзавестись такой опорой, нет надобности спекулировать на
искусственных логических примерах. Можно спокойно обратиться за советом к философской
традиции.
Сократ/Платон по крайней мере дважды мобилизовал лучшие свои аргументы,
чтобы доказать, что лучше претерпеть несправедливость, чем сотворить
несправедливость, лучше претерпеть зло, чем причинить зло другим. Да, он доказывает свой
тезис, но он мучительно осознает очевидное - что противоположное утверждение, а
именно что лучше совершить несправедливость, нежели претерпеть ее, тоже можно
31
доказать убедительными аргументами, с равной силой и с возможностью
подтверждения на опыте. Это - моральная антиномия, очень похожая на антиномию,
сформулированную Кантом в "Критике практического разума". Но если метафизики не
существует, и людей нельзя разделить на homo поитепоп с одной стороны и homo
phenomenon с другой стороны, эту антиномию разрешить нельзя. В философии этики
личности эта антиномия превращается в парадокс, поскольку современная
философия морали не может гарантировать абсолютной несомненности без, по крайней
мере, одной несомненности (той, которую я назвала apxel).
Поскольку без основания, или центра, не может быть никакой моральной
философии, да и морали вообще, можно высказать следующее предположение: хотя
тезис Сократа не может быть доказан или, в обратной формулировке,
противоположный ему тезис тоже может быть доказан не менее убедительно, все-таки нечто
остается несомненным: для Сократа, то есть для порядочного, честного человека, этот
тезис истинен. Фактически Сократ поступал в соответствии с духом своих
убеждений, он умер за них.
Мы можем повторить: для человека, который выбрал себя как порядочного,
хорошего человека, тезис Сократа истинен, и теоретически, и практически. Он
выбрал се^бя как моральную несомненность в той мере, в какой выбрал себя хорошим
человеком. Так что этика личности, которая наполняет себя моральным
содержанием, уже имеет основание, фундамент. Это основание, этот фундамент этики
личности есть не что иное как сама честная, порядочная личность. Суть хорошего человека
состоит в том, что для него тезис Сократа истинен. Это - определение хорошего
человека, если такое определение вообще нужно. В этике личности, наполняющей
себя моральным содержанием, личность свободно, самостоятельно выбирает свою
"хорошесть". Экзистенциально выбирается не просто различие между добром и
злом, но и моральный критерий проведения такого различия.
Но почему одни мужчины и женщины выбирают себя как порядочных людей, а
другие нет? На этот вопрос ответа дать нельзя, и лучше не притворяться, будто мы
знаем ответ. Источник добра трансцендентен, и это есть просто позитивная
формулировка ответа "мы не знаем". Но как можно узнать, что некая личность выбрала
себя экзистенциально как честную личность? Из ее практической порядочности, ни
из чего больше. Это напоминает кантовское доказательство (или не доказательство)
трансцендентальной свободы как факта разума, через свободную причинность
дающего закон природе. Это не доказательство логического или трансцендентального
типа. Это жест.
Второй столп, на который опирается современная этика - конституционные
свободы.
Мне следовало бы с самого начала заметить, что понятие права может связать,
но не объединить и тем более не слить наши два столпа. Они остаются и должны
оставаться раздельными. Гегель высказал несколько примечательных рекомендаций в
пользу их постоянной связи в своей "Философии права", в подглаве о моральных
правах. Вкратце их можно сформулировать так: существуют три моральные права -
право отдельных личностей развивать свои способности, их право стремиться к
личному счастью и их право жить в соответствии со своим собственным представлением
о добре. Из этих трех моральных прав только третье относится к этике. Можно
было бы доказывать, что в этой подглаве Гегель открывает возможность этики
личности: формальной - в формулировке первых двух прав и слегка субстанциальной - в
третьем. Однако Гегель никогда не имел в виду отдельного столпа, ибо моральные
права поглощаются институтами Sittlichkeit (морали) и потому теряют свой характер
и силу. Поэтому эта глава имеет отношение только к обсуждению второго столпа.
32
Обсуждение второго столпа современной этики можно начать с той же мысли,
что и первого. Современное политическое устройство, в отличие от
до-современного, не имеет абсолютного основания. Но нельзя иметь никакого политического или
общественного устройства без всякого основания.
Эти основания, однако, в принципе можно заменить, поскольку они не священны
и потому не прикрыты оградой трансцендентности. Они не могут считаться вечным
политическим устройством. Современные государства основаны людьми, и
некоторые современные государства, прежде всего демократические, основаны на фикции,
что они были и остаются основаны самими гражданами, которые на деле стали
гражданами именно в силу и через посредство акта основывания.
Для простоты я буду далее говорить только об этих последних.
Основным законом (Grundgesetz) государства является его конституция. Слово
"основной" (по-немецки Grund) отсылает к ней как к основанию, тогда как слово
"конституция" указывает также на то, что она конституирует, поскольку она
конституирована гражданами. Слово "конституция" предполагает, что она создана
людьми. Это признавал уже Аристотель, когда описывал принятие конституции как
techne, а не как energeia. Но эти конституции были не просто созданы, они также
основывались на традиции, на этике. Вот почему "Политика" Аристотеля есть
продолжение его "Никомаховой этики" - она предполагает этику. В современном мире, где
второй столп столь же лишен оснований, как и первый, это уже не так.
Однако какие конституции гарантируют три вышеописанные гегелевские права
личности? Не все современные конституции делают это, хотя все они
конституированы, созданы людьми, притом что на свободе как основе современности ничего не
основывается. Только те конституции гарантируют эти права, которые также
включают, или скорее признают свободу, по крайней мере в ее интерпретации как
политических свобод, как высшую субстанциальную ценность, на которую опирается
справедливое государство. Эта интерпретация свободы как высшей ценности
должна присутствовать в воображении до конституирования свобод, до акта
основывания.
Однако что это за основание?
Ведь если акт основывания предполагает предварительное существование идей
основания, эти идеи очевидным образом тоже должны основываться на чем-то
другом, логически или исторически предшествующем, и так далее до бесконечности, в
процессе бесконечной регрессии. Кажется, что искать абсолютное и свободное
основание - все равно, что строить дворец на песке. И это действительно так, но все
же не совсем так.
Современные конституции и акт конституирования свобод сами основаны на
смутном и в равной мере фиктивном понятии естественных прав. Поэтому они так
существенно отличаются от конституций, описанных Аристотелем, которые были
основаны не на фикции, а на традиции.
Посмотрите только на формулировку Декларации независимости Соединенных
Штатов, особенно на исходное предложение: "Мы считаем самоочевидными
следующие истины" - и далее перечислены эти истины, такие как "все люди рождаются
свободными", "все наделены Создателем разумом и совестью". Позвольте мне
вкратце развернуть это исходное положение.
Утверждается, что все люди рождаются свободными. Это утверждение
порождает столько же трудностей, что и кантовская трансцендентальная свобода. Оба не
являются эмпирическими, и никто не может их ни доказать, ни опровергнуть. С
утверждением, что Бог в равной мере наделил нас разумом и совестью, дело обстоит
еще хуже. Но можно представить себе эти высказывания в качестве регулятивных
теоретических и практических идей в значительной мере в кантианском смысле.
Я могу сказать: "Я (далее следует мое имя) обязуюсь думать об общественных и
политических делах так, как если бы люди рождались свободными, и обещаю
действовать, исходя из предположения о равной свободе для всех людей". Но поскольку эти
2 Вопросы философии, № 3
33
высказывания нельзя ни доказать, ни опровергнуть (или с тем же успехом доказать,
как и опровергнуть), как могу я гарантировать, что они истинны? На это можно
ответить: мы, нижеподписавшиеся, этой подписью наших имен свидетельствуем, что
эти высказывания истинны. Мы приглашаем всех подписаться под ними. Мы,
живущие согласно этой конституции, все подписались под ними. Они истинны для нас,
подписавшихся под ними, но не для других, которые этого не делали. Это наше
свободное основание, которое было и все еще остается конституировано нашим
свободным актом основывания. Иначе говоря, конституция есть абсолютное, но не
безусловное основание, оно обусловлено нашей готовностью и решимостью снова и
снова подписать исходное положение.
Американские отцы-основатели считали истинность исходных положений
самоочевидными. Но что самоочевидно? Все, что мы не ставим под вопрос. Если мы
считаем высказывание, что все люди рождаются свободными, "самоочевидным", его
истинность становится абсолютной истиной, которую мы не должны и не можем
ставить под вопрос. Однако мы хорошо знаем, что эти самоочевидные истины с тех пор
постоянно ставились под вопрос. Расовые теории отвергают самую суть этих
положений. Расисты утверждают, что люди, принадлежащие к одной расе или одному
полу, выше тех, кто принадлежит к другой (другому). Самоочевидные истины
самоочевидны только для подписавших или фиктивно подписавших, но не самоочевидны
и даже не истинны для других. Таким образом, исходные положения американской
конституции, даже если они и претендуют на абсолютную достоверность, являются
и остаются преходящими. Это я также имею в виду, когда называю их условными.
Что же тогда можно сказать об исходных положениях? Они служат основаниями
социальной и политической справедливости в современном мире постольку,
поскольку находятся в ожидании подписания их всеми современными мужчинами и
женщинами. Принятие исходных положений (о фиктивных естественных правах) -
этический минимум современной либеральной/демократической политики. И
обратно: либеральной демократией можно назвать политическое устройство
(конституцию), основанную на общем признании этики антропологического минимума не
только де юре, но и де факто. Антропологический минимум не тождествен с
"образом человека". Возвращясь к гегелевским "моральным правам": в либеральной
демократии различные движения, партии и программы развивают, явно или неявно,
свои собственные, быть может более конкретные образы человека. Например, и
политика социал-демократического "государства всеобщего благоденствия", и
политика неограниченного экономического или политического либерализма, и политика
воинствующей демократии все имеют свой собственный "образ человека". Но они
являются либеральными/демократическими, только если разделяют этику
антропологического минимума, если они подписываются под исходными положениями. Но
гражданин, подписавшийся под исходным положением, никоим образом не является
по необходимости порядочным человеком. И хотя социально-политическую
справедливость можно основать на конституции, а конституция может опираться на фикцию
антропологического этического минимума, никакое общество, никакая культура,
никакой мир не может поддерживаться только свободно основанной конституцией
самой по себе. Это всего лишь один столп. Если предоставить его самому себе,
здание рухнет, ибо различные жизненные миры с иногда несовместимыми этическими
и моральными кодексами не могут не рухнуть на землю, которая не дает им основы.
Обсуждая два столпа современной этики, я не коснулась вопроса о содержании,
субстанции, и не ссылалась ни на одну конкретную норму. Ибо, как я сказала в
начале, этическое содержание обычно наследуется, и это до какой-то степени верно и
применительно к пост-традиционным обществам. Некоторые традиционные
добродетели, такие как смелость, милосердие, великодушие все еще уважаются как тако-
34
вые, даже если иногда и в новой интерпретации, например смелость как
гражданская смелость. Современная добродетель подлинности, современное название для
самостоятельности Другого, может изменить содержание унаследованных норм.
Большинство конкретных моральных норм из императивов превратились в
рекомендации или советы. Но что бы ни случилось с содержанием норм, хороший,
порядочный человек становится все более и более самоконституируемым в духе этики
личности (человек выбирает себя как личность, которая в случае выбора между
тем, претерпеть ли зло или причинить зло другим, предпочтет первое), а социально-
политическая справедливость основывается на принятии этического
антропологического минимума (все мужчины и все женщины рождаются свободными, в равной
мере наделенными разумом и совестью). Таковы два созданные человеком столпа
современной этики.
Оба эти столпа - фикции. Мифы древних были фикциями, в основном
гетерономными; у нас есть свои фикции - автономные. Экзистенциальный выбор себя есть
фикция, как и история о естественных правах. Есть, однако, существенная разница
между этими двумя современными фикциями, во всяком случае в моей
интерпретации. Моя модель этики личности максималистская, тогда как моя модель конституи-
рования оснований для споров о справедливости - минималистская.
Нет нужды даже верить, что существует хотя бы одна личность, которая
полностью станет тем, что она есть. Модель максималистская, но ее можно
аппроксимировать, а аппроксимация - не недостаток. В конце концов, каждый порядочный
человек порядочен на свой манер. Однако, не видя/не зная/не чувствуя, где находится
центр, его невозможно аппроксимировать. Аппроксимируется максимум, т.е. центр,
но для современного человека этим центром является форма порядочности, а не ее
содержание. Читатели заметят, если уже не заметили, что этот столп современной
этики - в высшей степени кантианский. Он кантианский без метафизики, для него
неповторимость и хрупкость человека - не препятствие, а самое условие
аппроксимации, а также и центра. И все же этот столп не дает нам этоса, даже и слабого.
Модель второго столпа - минималистская. Во-первых потому, что исходные
положения нельзя аппроксимировать, под ними надо подписаться как под абсолютным
обязательством. Поскольку любого рода аргументация справедливости должна
возвращаться к исходному положению и тем самым постоянно утверждать заново его
абсолютную, хотя отнюдь не вечную и не безусловную верность, этот второй столп
современной этики дает современному человеку слабый этос, этос гражданина.
Слабый этос может стать более крепким там, где подписавшиеся под исходным
положением выполняют свое обязательство в жизни как активные граждане в
конкретных случаях споров о справедливости.
Разница между моим максималистским и моим минималистским описаниями двух
столпов современной этики заключается в разнице их соответствующих субъектов.
В случае этики личности субъект - первое лицо единственного числа, "я", который
служит основой; во втором случае это первое лицо множественного числа - "мы".
Если человек говорит "я", его главной современной моральной добродетелью
является аутентичность как абсолютное обязательство быть и оставаться верным себе в
формальном смысле или при слабом моральном содержании; если же человек
говорит "мы", его главной добродетелью будет солидарность в формальном .смысле как
слабый этос, то есть как обязательство гражданина участвовать в спорах по поводу
справедливости, занимая при этом позицию симметричной взаимности. У этих двух
столпов, однако, есть и нечто общее. Чтобы стоять твердо, чтобы выносить тяжесть
мира, остающегося лишенным оснований, им нужна сила Атланта. Порядочные,
честные мужчины и женщины несут на себе тяжесть одного из столпов, а хорошие
граждане - тяжесть другого. И те, и другие имеют нечто общее: они берут на себя
ответственность.
2* 35
Стало модным жаловаться на аморальность современного мира. Говорят, что
люди уже не отличают добра от зла, не заботятся о нормах и добродетелях,
нарушают все заповеди, преследуют только собственную выгоду, что мы стали
гедонистами. Эти и подобные жалобы столь же стары, как и сама мораль, быть может за
одним исключением. Древние моралисты обвиняли своих современников в моральном
цинизме и лицемерии, в том, что они грешат, поддаваясь страстям или сознательно
становясь виновными. В наши дни всеохватывающее, всеобъемлющее обвинение
состоит в том, что мы потеряли способность различать добро и зло, то есть в
моральном нигилизме. Как будто мужчины и женщины вернулись теперь в состояние
невинности, то есть в состояние неведения в вопросах добра и зла до грехопадения.
Эта первая невинность была райской, но вторая, утверждают обвинители, будет
дьявольской. Фундаменталистские движения иногда призывают и обещают вернуться к
основам, к райскому состоянию повелений и повиновения, к до-рефлектирующему
миру праотцев, к всеобъемлющим абсолютным основаниям. Но этих оснований
больше нет. Фундаменталисты тоже выбирают. Они выбирают для себя быть
фундаменталистами. Поскольку фундаментов нет, все фундаменты просто выбираются.
Не является абсолютно исключенным, что люди вернутся к прежнему фундаменту,
и в этом случае они могут поставить второй столп современного мира под угрозу
крушения. Но фундаменталистский Атлант не в силах вынести тяжесть здания
современности, которое в этом случае рухнет, погребая под собой и уничтожая все
известные цивилизации.
Если бы я верила, что мы, современные люди, приближаемся к состоянию
второй (дьявольской) невинности, нигилизма, и что в результате этого второй столп
современной этики рухнет, или если бы я верила, что фундаменталиситский Самсон
сотрясет второй столп так, что тот рухнет, я не написала бы эту статью. Но я хотела
представить аргументы в пользу внушающей надежду версии современной этики в
моей собственной философской интерпретации. Признавая, что свобода есть основа
современного мира, и что это такой фундамент, на котором ничего не
основывается, я настаивала на том, что современные люди могут свободно конституировать
себе собственные основы, по крайней мере те два столпа, на которых твердо стоит
здание современности. Пока эти столпы стоят, все еще возможно отличить добро от
зла. Верно, что свободно выбранные, хоть и абсолютные основания в то же время
преходящи, но они не безусловно преходящи. Де-модернизирует ли себя наш мир,
современный мир, свободно вернувшись к безусловным фундаментам в жесте
саморазрушения, или возобладает тенденция, ведущая ко второму, дьявольскому
состоянию невинности, к нигилизму, я не знаю. Но я не хочу рассуждать о худших
сценариях, пока еще есть лучшие, всё еще жизнеспособные.
Перевод с английского Д.Г. Лахути
36
Генезис социально-гуманитарных наук
(философский и методологический аспекты)
В. С. СТЕПИН
Важно предварительно провести различение понятий "социально-гуманитарное
знание" и "социально-гуманитарные науки". Содержание первого включает
результаты научных исследований, но не сводится к ним, поскольку предполагает также и
иные, вненаучные формы творчества. В состав гуманитарного знания, понятого в
широком смысле, включают часто философскую эссеистику, публицистику,
литературную критику, произведения литературы и поэзии, акцентирующие
мировоззренческую проблематику, и т.п. Что же касается социально-гуманитарных наук, то они
ограничиваются только рамками научной деятельности.
Разумеется, эта деятельность не изолирована от других форм культуры,
взаимодействует с ними, но это не основание для отождествления науки с иными, хотя и
соприкасающимися с ней формами человеческого творчества.
Чтобы акцентировать специфику наук об обществе и человеке, часто
противопоставляют естествознание и социально-гуманитарное знание. Но более продуктивно
сравнивать социальные и гуманитарные науки, с одной стороны, и естественные
науки, с другой. Оба вида научного познания имеют как сходство, так и различие. Их
сходство определено тем, что это - две разновидности научного познания. Их
различие коренится в специфике их предметной области и методов исследования. В
социальных и гуманитарных науках предмет включает в себя человека, его сознание и
часто выступает как текст, имеющий человеческий смысл. Фиксация такого
предмета и его изучение требует особых методов и познавательных процедур.
Система социально-гуманитарных наук коституировалась значительно позднее
математики и естествознания. Чтобы выяснить, как и каким образом возникали
социальные и гуманитарные науки в качестве особой области научного знания
целесообразно выделить две проблемы. Первая касается социокультурных предпосылок
формирования этих наук. Вторая - механизмов становления их оснований,
обеспечивающих рост и развитие соответствующих эмпирических и теоретических знаний.
Социокультурные предпосылки возникновения наук об обществе и человеке
Как и другие области научного знания, социальные и гуманитарные науки имели
свои истоки еще в древности, в накапливаемых знаниях о человеке, различных
способах социального поведения, условиях воспроизводства тех или иных социальных
общностей. Систематизация этих фактов и их объяснение длительное время осуще-
37
ствлялось посредством социофилософских схем. Это была скорее предыстория
социальных и гуманитарных наук. Что же касается истории этих наук в собственном
смысле слова, то она началась достаточно поздно. В качестве особых научных
дисциплин они конституировались в XIX столетии, когда в культуре техногенной
цивилизации отчетливо оформилось отношение к различным человеческим качествам и
к социальным феноменам как к объектам управления и преобразования.
Отношение к любым исследуемым явлениям и процессам как к объектам является одним из
обязательных условий научного способа познания, в том числе и
социально-гуманитарного. Именно в эпоху индустриализма объектно-предметное отношение к
человеку и человеческим общностям становится доминирующим в техногенной
культуре. В это время окончательно оформляется приоритетный статус "отношений
вещной зависимости", которые подчиняют себе и ограничивают сферу "отношений
личной зависимости", выступавших основой организации социальной жизни в
традиционных обществах. Главным фактором такой смены социально-культурных
приоритетов стало всеохватывающее развитие товарно-денежных отношений, когда
капиталистический рынок превращал различные человеческие качества в товары,
имеющие денежный эквивалент. К. Маркс одним из первых проанализировал
процессы и социальные последствия опредмечивания человеческих качеств в системе
отношений развитого капиталистического хозяйства. Сходные мысли позднее
развивал Г. Зиммель. Отталкиваясь от идей Маркса, он разработал свою философскую
концепцию денег, в которой главное внимание уделялось
социально-психологическим аспектам денежных отношений, их влиянию на духовную жизнь людей. Деньги
рассматривались Зиммелем не только как феномен экономической жизни
общества, но как универсальный способ обмена, определяющий характер отношений и
общения в самых различных областях человеческой жизнедеятельности. Зиммелем
была высказана мысль о знаково-символической роли денег и их
функционировании как особого культурного феномена, опосредующего отношения людей1.
Комментируя книгу Зиммеля "Философия денег", современный французский
психолог Серж Московичи писал: "Зиммель не открыл деньги. Тем не менее он
первым охватил во всей полноте философию культуры, рожденной ими, и первым
сформулировал целостную теорию их власти. Эта власть проявлялась в самых
различных сферах человеческого бытия. Она фиксировала дистанцию между
предметом и потребляющим его человеком. Именно благодаря деньгам как посреднику, не
только материальные предметы, но и духовные сущности, идеи и ценности
"становятся миром столь же автономным и объективным, как и мир физический"3. Деньги
"раздробляют и стерилизуют, как нечто мешающее им, тот тип человеческих
связей, в основе которого лежит смесь чувств и интересов, превращают личные
отношения в безличные, при которых человек становится вещью для другого
человека"4.
И еще на одно свойство денег обращает особое внимание Зиммель: на их
способность превращать индивидуально неповторимые вещи, состояния, человеческие
качества в количественные, калькулируемые объекты.
После работ Маркса и Зиммеля эта идея была развита М. Вебером в рамках его
концепции духа капитализма. Вебер особо подчеркивал роль идеала целерациональ-
ного действия в становлении и функционировании новой цивилизации,
зародившейся в эпоху Ренессанса и Реформации. Этот идеал предполагал особый тип
рациональности, основанной на принципах объективности, законодательного регулирования,
планирования и расчета. Новая рациональность, включалась в самые различные
области человеческой жизнедеятельности, организуя экономику, право, науку,
искусство, повседневную жизнь людей.
Отношение к человеку как к предмету рациональной регуляции характеризовало
огромное многообразие практик, сложившихся в историческую эпоху становления и
развития техногенной цивилизации. В исследованиях М. Фуко, посвященных
формированию клиники, истории тюрьмы, истории сексуальности, достаточно убедитель-
38
но показано, что во всех этих, на первый взгляд малосвязанных между собой сферах
человеческой жизни, реализовался некоторый общий принцип "знания-власти".
Человек выступал здесь как предмет, который нужно исследовать и рационально
регулировать. Фуко показывает как это отношение проявлялось в исторически
возникающей организации надзора и контроля в тюрьмах, в системе обезличенного
наказания от имени закона, в правилах внутреннего распорядка тюрем, больниц, учебных
заведений, в самой их архитектуре и планировке внутреннего пространства. К этому
же классу феноменов, выступающих в качестве своеобразных культурных символов
"знания-власти" Фуко относит: практику медицинского обследования, основанную
на осмотре тела, которое предстает как объект, открытый для наблюдения;
практику тестирования и медицинской документации; публичное обсуждение проблем
сексуальности; периодические смотры-экзамены в учебных заведениях, когда власть
заставляет человека-объекта публично демонстрировать себя и т.п. Такого рода
практики и дискурсы формировали и закрепляли новое отношение к индивиду как к
объекту наблюдаемому, описываемому и регулируемому определенными
правилами. Соответствующие смыслы укоренялись в мировоззренческих универсалиях
культуры, в понимании человека и его социального бытия, создавая предпосылки
для возникновения социально-гуманитарных наук. Еще раз подчеркну, что речь
идет о предпосылках, об особом социокультурном фоне, стимулировавшем
возникновение этих наук. Предпосылки создали возможность их становления. Реализация
же этих возможностей была связана с распространением ранее выработанных
наукой представлений и методов на новую область исследования и формирование
оснований социально-гуманитарных наук.
О генезисе оснований социально-гуманитарных наук
Становление оснований социально-гуманитарных наук первоначально
осуществлялось как серия "парадигмальных трансплантаций" из области естествознания на
область социально-гуманитарных исследований. Решающую роль в начальной фазе
этого процесса сыграла механика как наиболее развитая наука в XVIII — начале
XIX вв. Механическая картина мира в эту эпоху выполняла функции не только
физической, но и естественнонаучной и общенаучной картины мира. Идеалы
механистического объяснения воспринимались как олицетворение научности, а философия
механицизма выступала как функция философских оснований науки.
Наука XVIII столетия стремилась построить научное знание об обществе и
человеке, используя основания механического естествознания в качестве своей
исследовательской программы.
Ламетри и Гольбах используют понятия машины, силы, инерции, притяжения,
отталкивания для характеристики человека. Эту же стратегию можно обнаружить,
например, в социальных концепциях А. Сен-Симона и Ш. Фурье. В работе "Труд о
всемирном тяготении" Сен-Симон писал, что наиболее важные рассуждения о
политике могут и должны быть непосредственно выведены из знаний физики.
По мнению Сен-Симона, закон всемирного тяготения должен стать основой
новой философии, которая в свою очередь может стать фундаментом новой
политической науки. Он полагал, что "поскольку единственной наукой является классическая
механика, то по своему строению история должна будет приблизиться к небесной
механике"5.
Сходные идеи можно найти в творчестве Ш. Фурье. Он писал о существовании
двух типов законов, которым подчиняется мир. Первый из них - это закон
материального притяжения, приоритет открытия которого принадлежит Ньютону. Фурье
полагал, что можно открыть второй тип законов, притяжения по страсти, которая
является определяющим свойством природы человека6.
Первые шаги к конституированию социальных наук в особую сферу
дисциплинарного знания были связаны с модернизацией образов, заимствованных из механи-
39
ческой картины мира. Хотя О. Конт, признанный одним из основоположников
социологии, интерпретировал ее как социальную механику, он включал в нее
представление о ее историческом развитии, которое полагал фундаментальной характеристикой
общества. Общество, в его концепции уже начинает рассматриваться не как
механизм, а как особый организм, все части которого образуют целостность. В этом
пункте отчетливо прослеживается влияние на контовскую социологическую
концепцию биологических представлений.
Дальнейшее развитие этих идей было связано с разработкой Г. Спенсером общей
теории эволюции и представлений о развитии общества как особой фазе эволюции
мира. Спенсер не просто переносит на область социальных наук идеи биологической
эволюции, а пытается выделить некоторые общие принципы эволюции и их
специфические конкретизации применительно к биологическим и социальным
объектам . Идея общества как целостного организма, согласно Спенсеру, должна
учитывать, что люди как элементы общества обладают сознанием, которое как бы
разлито по всему социальному агрегату, а не локализовано в некотором одном центре.
Дальнейшие шаги, связанные с перестройкой первичных парадигмальных
образов, перенесенных из естествознания в социальные науки, были связаны с
дискуссиями относительно методологии социального познания. Эти дискуссии
продолжаются и в наше время, и в центре их стоит сформулированный В. Дильтеем тезис о
принципиальном отличии наук о духе и наук о природе. В. Дильтей, В. Виндельбанд и
Г. Риккерт определяли это отличие через противопоставление понимания и
объяснения, индивидуализации и генерализации, идеографического метода,
ориентированного на описание уникальных исторических событий, и номотетического метода,
ставящего целью нахождение обобщающих законов. Обозначились два крайних
полюса в трактовке методов социально-гуманитарных наук: первый полагал их
идентичность, второй их резкое противопоставление. Но реальная научная практика
развивалась в пространстве между этими полюсами. В этом развитии выявлялись
общие для естествознания и социально-гуманитарных наук черты идеала научности
и их спецификации применительно к особенностям изучаемых явлений. Рефлексия
над такого рода научной практикой порождала методологические подходы,
снимающие резкое противопоставление объяснения и понимания, индивидуализации и
генерализации. Например, Вебер, подчеркивая важность для социологии понимания
мотивов, установок и намерений действующих субъектов, вместе с тем развивал
представление об идеальных типах как обобщающих научных понятиях, посредством
которых строятся объясняющие модели социальных процессов.
Нелишне отметить, что в естественнонаучном познании также можно проследить
связи понимания и объяснения, хотя и в иной акцентировке, чем в социальных и
гуманитарных науках. В частности, понимание встроено в сами акты естественнонаучного
наблюдения и формирования фактов. Когда современный астроном наблюдает
светящиеся точки на небесном своде, он понимает, что это - звезды, огромные плазменные
тела, аналогичные Солнцу, тогда как звездочет древности мог понимать это же
явление иначе, например, как небесный свет, который сияет через прорези в небосводе.
Акты понимания определены культурной традицией, мировоззренческими
установками, явно или неявно принимаемой исследователем картиной мира. Это —
общие черты понимания в любой области познания.
В принципе, идея согласно которой только в действиях людей исследователь
имеет дело с включенными в нее ментальностями, а при изучении природы он
сталкивается с неживыми и бездуховными объектами — это мировоззренческая установка
техногенной культуры. В иных культурных традициях, например, в
традиционалистских культурах, которые признают идею перевоплощения душ, познание природы и
человека не столь резко различаются, как в культуре техногенной цивилизации.
Проблема противопоставления индивидуализации и генерализации,
идеографического метода, с одной стороны, и номотетического метода, с другой, также
требует уточнения. Индивидуально неповторимые события имеют место не только в ис-
40
тории общества, но и в процессах исторического развития природы - истории жизни
на Земле, истории нашей Вселенной.
На уровне отдельных эмпирически фиксируемых событий и общественные, и
природные явления индивидуально неповторимы. Но наука не сводится только к
эмпирическим констатациям неповторимых событий. Если речь идет об исторических
процессах, то цели науки состоят в обнаружении тенденций, логики их развития,
законосообразных связей, которые позволили бы воссоздать картину исторического
процесса по тем "точкам-событиям", которые обнаруживает историческое
описание. Такое воссоздание исторических процессов представляет собой историческую
реконструкцию. Каждая такая реконструкция лишь внешне предстает как чисто
идеографическое знание. На деле же в ней идеографические и номотетические
элементы соединяются особым образом, что выявляет определенную логику
исторического процесса.
Исторические реконструкции можно интерпретировать как особую
теоретическую модель того или иного уникального исторического процесса.
Исследования Вебера, посвященные протестантской этике и зарождению духа
капитализма, являются примером исторической реконструкции, относящейся к
теоретическому осмыслению истории. То же можно сказать о работах К. Маркса,
посвященных анализу революционных событий во Франции 1848-1852 гг. и 1871 г.
Результаты соответствующих исследований Маркса, изложенные в его работах
"Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта", "Гражданская война во Франции", представляют
собой реконструкции, демонстрирующие в материале исторического описания его
теоретическое видение.
Теоретические конструкты, применяемые в реконструкциях, не отделены в
явном виде от объясняемых ими фактов, а как бы сплавлены с ними. Они
выстраивают факты в определенной логике исторического развития и демонстрируют эту
логику, подобно тому, как замысел скульптора демонстрирует его скульптура.
Теоретические конструкты (как, например, классы, классовый интерес в упомянутых
реконструкциях К. Маркса) онтологизируются, приписываются реальности и
представляют реконструируемый исторический процесс как саму реальную историю, а
не как одну из ее моделей. Эта особенность исторических реконструкций часто
приводит к их неправомерному отождествлению с эмпирическим описанием.
Но достаточно указать на то обстоятельство, что один и тот же набор фактов и
один и тот же фрагмент истории может быть представлен в различных
реконструкциях. Тогда каждая из них выступает в качестве своего рода теоретической модели,
претендующей на описание, понимание и объяснение исторической реальности. Они
соперничают друг с другом, что также не является экстраординарной ситуацией для
науки.
Разумеется, существует специфика исторических реконструкций в естественных
и социально-гуманитарных науках. Когда исследователь реконструирует те или
иные фрагменты духовной истории, то он сталкивается с необходимостью понять
соответствующий тип культурной традиции, который может быть радикально
иным, чем его собственная культура. В этом случае на передний план выходят
процедуры понимания, движения по герменевтическому кругу, когда понимание
многократно переходит от части к целому, а затем от целого к части, постигая
особенности иной культурной традиции .
Акты понимания и процедуры построения исторических реконструкций в
гуманитарных науках (как впрочем и в естествознании) обусловлены принятой
исследователем дисциплинарной онтологией, специальной научной картиной мира, которая
вводит схему-образ изучаемой предметной области. Дискуссии относительно
идеалов и норм исследования в "науках о духе" во многом касаются способов построения
такой картины и ее философского обоснования. Общими принципами,
относительно которых явно или неявно уже достигнут консенсус в этих дискуссиях, выступают
три фундаментальных положения: любые представления об обществе и человеке
41
должны учитывать историческое развитие, целостность социальной жизни и
включенность сознания в социальные процессы. Указанные принципы очерчивают
границы, в которых осуществляется построение картин социальной реальности.
Их становление в качестве специфических образов социального мира, отличных
от первоначально заимствованных из естествознания парадигмальных образцов,
происходило во второй половине Х1Х-начале XX вв. В этот исторический период
Спенсером, Марксом, Дильтеем, Дюркгеймом, Зиммелем, Вебером были
предложены варианты дисциплинарных онтологии социально-гуманитарных наук. Хотя они и
конкурировали между собой, определяя область допустимых задач и средств их
решения, между ними осуществлялось взаимодействие. Были общие проблемы,
обсуждавшиеся всеми исследователями, хотя и с разных позиций. Каждый из них развивал
свои представления об обществе, соотносясь с конкурирующими
исследовательскими программами. Все это свидетельствовало о завершающем этапе научной
революции, которая началась переносом естественнонаучных парадигм на область
социальных процессов, а закончилась их перестройкой и формированием
социально-гуманитарных дисциплин.
Но и после своего возникновения социально-гуманитарные дисциплины
развиваются не только как сугубо автономные образования. Их взаимодействие с
естественными науками продолжается, хотя уже на новых основаниях.
Во второй половине XX в., когда в различных областях науки и техники
начинают активно осваиваться сложные саморазвивающиеся системы, возникает новая
ситуация взаимодействия наук.
Саморазвивающиеся системы представляют собой особый тип системных
объектов. Они характеризуются открытостью, способностью порождать новые уровни
своей организации, когда каждый уровень воздействует на ранее сложившиеся,
преобразует их. Такие системы периодически проходят через состояние
неустойчивости, фазовых переходов, которые могут быть описаны в терминах динамического
хаоса. В этих состояниях возникают точки бифуркации, небольшие флуктуации могут
порождать странные аттракторы, которые определяют возможности дальнейшего
развития системы. Предсказания поведения системы - сценарные, существуют
пространственно-временные окна прогнозирования, которые меняются при
усложнении уровневой организации системы по мере ее развития. Процесс же такого
развития может быть описан как смена типа саморегуляции системы, переход от одного
типа саморегуляции к другому.
Обширный класс саморазвивающихся систем образуют так называемые чело-
векоразмерные объекты — системы, включающие человека в качестве своего
компонента. Среди объектов современного научного познания и технологического
освоения к человекоразмерным системам относятся большинство объектов
современных биотехнологий (в первую очередь, генетической инженерии), крупные
биогеоценозы и биосфера, большие компьютерные сети и глобальная сеть
INTERNET, многие системы современного технологического проектирования, когда
проектируется уже не только машина, и даже не система "человек-машина", а еще
более сложный развивающийся комплекс "человек-машина, плюс экосреда, в которую
внедряется данная технология, плюс социокультурная среда, принимающая эту
технологию". Наконец, к типу человекоразмерных саморазвивающихся систем
относятся все социальные объекты, рассмотренные в аспекте не только
функционирования, но и развития.
Стратегии познания и деятельности с такими системами имеют целый ряд общих
характеристик. В процессе их исследования и практического освоения особую роль
начинают играть этические регулятивы. Возникает необходимость экспликации
связей внутринаучных ценностей (поиск истины, рост истинного знания) с вненауч-
ными ценностями общесоциального характера. В современных
программно-ориентированных исследованиях такая экспликация осуществляется при
социально-этической экспертизе проектов и программ. Внутренняя этика науки, стимулирующая по-
42
иск и рост истинного знания, постоянно и в явном виде соотносится с гуманическими
ценностями. Исследование и технологическое освоение сложных, человекоразмер-
ных, развивающихся систем сближает методологические стратегии естественных и
социально-гуманитарных наук. Резкое противопоставление наук о природе наукам о
духе, которое имело основания в науке XIX столетия, по отношению к современной
науке во многом утрачивает эти основания.
Примечания
1 Позднее, уже во второй половине нашего столетия эту мысль развивал Т. Парсонс, рассматривая
деньги как особый код культуры, "специализированный язык", а обращение денег как "отправление
сообщений". (Parsons Т. Systems analysis; social systems / International Encyclopedia of the Social Science. N.Y.,
1968).
2 Московичи С. Машина, творящая богов. M., 1998. С. 455.
3 Там же. С. 398.
4 Там же. С. 423.
5 Там же. С. 234.
6 Фурье Ш. Избр. соч. М.-Л., 1951. Т. 1. С. 83-108.
7 См.: Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев, 1997. С. 282-299.
8 См.: Rorty P. Historiography of Philosophy: Four Genres / Philosophy in History. Essays on the
Historiography of Philosophy. Cambridge etc., 1985. P. 67.
43
Возможна ли интеграция
естественных наук и наук о человеке?
В. А. ЛЕКТОРСКИЙ
Отношения между естественными науками и науками о человеке понимались по-
разному на различных этапах истории научного познания. Время от времени по
этому вопросу разгорались острые дискуссии. Мне представляется, что сегодня предмет
этих дискуссий может быть понят существенно по-новому. Это связано в первую
очередь с теми изменениями, которые ныне происходят как в естественных науках,
так и в науках о человеке. Самое интересное состоит в том, что эти изменения
позволяют по-новому понять характер научного знания в целом. Мне кажется, что
сегодня можно говорить о новом типе интеграции естественных науки наук о человеке.
Речь не идет о возникновении некоей единой науки, о которой мечтали логические
позитивисты. Всегда будут существовать серьезные различия не только между
естественными науками и науками о человеке, но также и внутри первых (например,
между физикой и геологией), и внутри вторых (например, между психологией и
историей). Процесс дифференциации научного знания будет продолжаться, будут
возникать новые научные дисциплины. Когда я говорю об интеграции, я имею в виду
только одно: принципиальное единство исследовательских методов. Но как раз по
этому вопросу и сегодня существуют большие разногласия.
Первые попытки научного исследования человека и социальных отношений
были связаны с имитацией методов и идей естествознания. Созданная В. Вундтом в
конце XIX в. экспериментальная психология была задумана как распространение
экспериментальных методов, успешно применявшихся в физике и биологии, на
исследование психических явлений. Основатель социологии О. Конт ввел понятия
"социальная статика" и "социальная динамика", используя идеи и образы механики.
Другой великий социолог - Э. Дюркгейм черпал метафоры из биологии.
К концу XX в. ситуация изменилась. Все более популярным в настоящее время
становится понимание, согласно которому исследование человека - это изучение
деятельности, предполагающей нормы, правила и другие семиотические средства.
Науки о человеке имеют дело с проблемой интерпретации. Теперь уже ясно', что не
существует принципиальной разницы между науками о человеке (или гуманитарными
дисциплинами) и социальными науками. В недавнем прошлом считалось, что первые
имеют дело с интерпретацией текстов, а вторые изучают механизмы
функционирования и развития социальных структур и институтов. Сегодня все более популярным
становится другое понимание: социальные институты - это констелляции и
производители смыслов человеческих действий ("фабрики смыслов"). Возникли интерпре-
44
тативная социология и антропология, культурная психология, герменевтика
используется в исторических исследованиях. Но именно эти факты как раз и являются с
точки зрения ряда теоретиков свидетельством того, что между науками о природе и
науками о человеке существует непреодолимая пропасть. Есть даже мнение о том,
что последние не являются науками в строгом смысле слова. Я попробую сначала
суммировать главные тезисы сторонников этой точки зрения, а затем привести свои
возражения.
* * *
Вот главные утверждения сторонников точки зрения о существовании
принципиальных различий между науками о природе и науками о человеке.
1. Естественные науки пытаются обнаружить общие зависимости, науки о
человеке исследуют уникальные индивидуальные явления. Эта идея была
сформулирована Г. Риккертом еще в начале XX столетия, однако она продолжает быть
популярной до сих пор, особенно среди историков.
2. В науках о природе предлагаются объяснения фактов, науки о человеке могут
дать только интерпретацию человеческих действий и их продуктов, включая тексты
и социальные институты. Использование методов герменевтики - это
специфическая особенность наук второго типа.
3. Естественные науки могут предсказывать будущие события. Поэтому их
используют для создания разного рода технических устройств, с помощью которых
можно контролировать естественную среду и утилизировать природные ресурсы.
Науки о человеке не предсказывают. Их единственная задача - обеспечить
понимание.
4. Объяснения, формулируемые в естествознании, - это не только и не
обязательно эмпирические обобщения. Лучшие из них получаются с помощью теории.
Однако в науках о человеке довольно трудно делать обобщения. Еще труднее
строить в них теории, так как науки этого типа изучают отдельные события,
локализованные в определенном участке пространства и происходящие в определенное
время. Существует даже мнение, что в науках о человеке теория невозможна.
5. Естествознание может дать объективное представление об исследуемой
области реальности. Науки о природе могут контролировать объективность своих
результатов с помощью эксперимента. Между тем, эксперименты, которые практикуются
в науках о человеке (например, в психологии), не являются настоящими, так как в
процессе их осуществления между экспериментатором и изучаемыми субъектами
возникают коммуникативные отношения. В результате получаемые факты в
значительной степени порождены вмешательством исследователя и несут отпечаток
принимаемой последним системы ценностей, его социальных интересов, политических
взглядов и места, которое он занимает в системе отношений власти. К тому же
исследуемые субъекты могут принять выводы исследователя относительно них, и это
обстоятельство изменит этих субъектов, т.е. изменит изучаемую человеческую и
социальную реальность. Поэтому невозможно говорить об объективном знании (и,
может быть, о знании вообще) в науках о человеке, так как в этом случае
исследуемая реальность порождается самим процессом исследования.
Изложенные идеи широко распространены и имеют много сторонников среди
философов и других теоретиков. Я попытаюсь оспорить эти идеи по йсем пунктам.
1. Нельзя противопоставлять исследование уникальных событий и
формулировку обобщений. Об отдельном событии вообще ничего нельзя сказать, если не
использовать общие понятия и не учитывать систему общих отношений. Во времена
Г. Рикерта историки главным образом изучали деяния отдельных ("исторических")
личностей. Сегодня большинство из них исследует исторические ситуации, в
которые включено множество анонимных персонажей. Многие историки изучают
проблемы социальной стратификации, экономические отношения в определенном реги-
45
оне в определенное время. Они опираются на результаты социологии и
экономической науки, используют математическую статистику и другие общие методы. Они
пытаются выявить общие черты изучаемых объектов. Сегодня ясно, что анализ
исторических фактов - это не что иное, как рациональная реконструкция,
опирающаяся на общие методы.
С другой стороны, сегодня многие естествоиспытатели все больше изучают
механизмы функционирования и эволюции таких уникальных систем, как Вселенная,
Солнечная система, Земля, всемирная экологическая система. Этот интерес связан с
появлением идеи об историческом характере самих природных законов (идея
глобального эволюционизма) и с обострением экологической ситуации и
необходимостью сохранения уникальной природной среды обитания человечества.
2. Верно, что в обычных ситуациях, когда человек имеет дело с людьми,
принадлежащими к его собственной культуре, к его социальному окружению, к его
"жизненному миру", процедуры объяснения и понимания представляются существенно
различными. Не так уж сложно понять другого человека, но не просто объяснить
необычное явление. Это видимое различие было использовано В. Дильтеем для
формулирования концепции, согласно которой науки о человеке имеют дело с
пониманием, а науки о природе с объяснением. Согласно Дильтею достаточно
осуществить "эмпатию", чтобы понять другого человека, текст или иную культуру. Однако
для того, чтобы осмыслить природное явление, следует предложить гипотетическое
объяснение и проверить его.
Однако в действительности различие между науками о природе и науками о
человеке в этом отношении не является столь уж резким. Процедура понимания
человеческих действий и их продуктов включает знание правил действий и
коммуникации, мотивов действующих агентов и их представлений о конкретной ситуации.
Обычно это знание получить нетрудно, так как правила действий являются
одинаковыми для всех принадлежащих к данному "жизненному миру", мотивы
действующих агентов обычно известны, а их представления о ситуации весьма похожи. Но
если социолог, антрополог или историк пытается понять другое общество, иную
культуру или более ранние стадии собственной культуры, процедура понимания может
оказаться непростой. Так как в этом случае правила действий, мотивы агентов и их
репрезентации ситуации заранее не известны исследователю - он должен их
реконструировать. В этом случае он вынужден предлагать различные гипотезы
относительно смысла исследуемых им действий и их продуктов. Проверка этих гипотез
может подтвердить их или отвергнуть. Понимание оказывается, таким образом, не
мистической процедурой "вчувствования", а рациональной реконструкцией. При подобном
подходе понимание можно рассматривать как разновидность объяснения.
В естественных науках в свою очередь исследователь имеет дело с различными
типами интерпретации, так как факты для проверки его гипотез не "даны", но
всегда истолкованы, интерпретированы. Объяснения в естествознании - это попытки
обнаружения причин и причинных механизмов. В науках о человеке ученый
пытается не только найти причины событий, но и обнаружить мотивы действий. Однако
мотивы можно рассматривать как особый тип причин.
3. Кажется, что если мы имеем объяснение какого-то факта, мы легко можем
предсказать будущие факты (известный тезис о симметрии между объяснением и
предсказанием). Это мнение соответствует популярной модели объяснения как
подведения фактов под общий закон. При этом предполагается, что формулирование
предсказаний будущих событий - это отличительная черта естественных наук.
Однако в действительности предсказание природных явлений - непростая задача. В
некоторых случаях оно просто невозможно. Легко делать предсказания (с помощью
знания законов), если мы имеем дело с закрытыми системами и с ограниченным
количеством факторов, влияющих на протекающие процессы. Но такого рода
ситуации существуют только в лабораторных условиях и в некоторых природных
процессах, как, например, в движении планет Солнечной системы. Классическая механика
46
изучала процессы именно этого типа. Но если иметь дело с открытыми, сложно
организованными системами в точке их бифуркации, точное предсказание становится
невозможным. В этом случае можно лишь разработать несколько сценариев
возможного будущего, не зная, какой именно из них будет реализован. Тем не менее,
нередко можно объяснить те события, которые уже произошли. Ибо в этих случаях
исследователь знает не только общие законы, но и те факты, которые он
принципиально не мог знать раньше, и именно из-за этого не мог делать предсказаний.
Например, если сложно организованная система выбрала один из возможных
сценариев, это могло быть обусловлено неким случайным событием, которое нельзя было
предвидеть заранее. Но когда это событие произошло и стало известным
исследователю, поведение системы в прошлом может быть объяснено.
Но ведь ситуация в науках о человеке в принципе очень похожа. Невозможно
делать точные предсказания больших социальных трансформаций (об этом в свое
время писал Поппер). Зато можно разрабатывать сценарии возможного будущего и
объяснять события, когда они уже произошли: последним в частности специально
занимаются историки. Трудно предсказать поведение отдельного человека в
необычных условиях, особенно в ситуациях, когда индивид должен сделать выбор
между разными линиями поведения (иногда в таких условиях человек не может
предсказать даже свое собственное поведение). Возможность выбора между разными
действиями часто рассматривается как специфическая черта человека, ответственная за
принципиальное различие между естественными науками и науками о человеке.
Однако объяснить действия отдельного человека, если они уже осуществлены, можно,
если мы знаем правила, которых придерживается данный агент, если мы можем
реконструировать мотивы, повлиявшие на сделанный им выбор, и ту репрезентацию
ситуации, которую он имел. В то же время в обычных условиях повседневной жизни
можно предсказать поведение большой группы людей в той мере, в какой эти люди
придерживаются правил взаимодействия, воплощенных в социальных институтах.
Поэтому с помощью наук о человеке можно делать прогнозы при некоторых
условиях. Эти науки могут быть использованы для разработки социальных и
гуманитарных технологий (в частности, в области экономики, политики, образования, в
психологическом тренинге, в психотерапии и т.д.).
4. Человеческие действия не только производят и воспроизврдят социальные
структуры, но в свою очередь сами обусловлены последними. Исследователь,
работающий в науках о человеке, не только описывает действия, но также пытается
анализировать социальные и культурные структуры, включая социальные институты и
их взаимоотношения. Участники социальных взаимодействий придерживаются
определенных правил. Но вовсе не обязательно, чтобы они знали эти правила и тем
более знали структуру социальных институтов и взаимосвязи между ними. Одна из
задач специалиста в области наук о человеке - анализ этих структур. Решить эту
задачу можно, только построив теорию. Верно, что регулярности в человеческих
действиях не являются постоянными, что они имеют локальные черты и культурно и
исторически обусловлены. Если и возможно говорить об открытии законов в науках
о человеке, то приходится признать, что эти законы не универсальны, а локальны.
Тем не менее понимание и объяснение этих законов (регулярностей) возможно
только с помощью теории.
В то же время, как я уже говорил, сегодня многие специалисты в области
естествознания начинают рассматривать естественные законы как исторические и
изменяющиеся, иными словами, тоже как локальные.
Таким образом, и в этом отношении нет принципиальной разницы между
науками о природе и науками о человеке.
5. Естествоиспытатели изучают реальность, которая не зависима от процесса
исследования. Но они могут делать это, только конструируя различные
концептуальные системы и используя разные искусственные приспособления: инструменты,
приборы и т.д., и нередко создавая искусственные условия в виде эксперимента.
47
Сторонники разных концепций (теорий, парадигм, исследовательских программ,
познавательных традиций и т.д.) вступают в коммуникативные отношения и в борьбу
друг с другом. Эта борьба, как хорошо показано сегодня в работах о социальных
условиях производства знаний, включает защиту не только какой-то системы идей, но
и определенных интересов, в частности, места в науке как в социальном институте.
Важно подчеркнуть однако, что эти социальные отношения не препятствуют
получению объективного знания о природных феноменах. Можно даже сказать, что
только в таком человеческом контексте и возможно развитие естествознания, так
как эти условия позволяют формулировать разные подходы, выдвигать разные
гипотезы, только некоторые из которых оказываются плодотворными.
Но ситуация в науках о человеке во многом похожа. Разные системы ценностей
позволяют исследователю выявлять разные аспекты социальной реальности, как
бы видеть эту реальность в разных перспективах. В то же самое время ученые,
принадлежащие к одной социальной и культурной группе, разделяют основные способы
интерпретации человеческой реальности и поэтому могут понимать друг друга,
сравнивать и проверять свои гипотезы. Верно, что социальная реальность (в
отличие от природной) не существует вне человеческой деятельности: она производится
и воспроизводится последней (можно даже сказать, конструируется человеческой
деятельностью). Но существует объективная социальная структура, которая
обуславливает саму деятельность. Исследователь и в этом случае (как во всех случаях,
где действительно имеет место познание) не может творить изучаемую реальность.
Другое дело, что возникают такие ситуации, когда ученый в результате
исследования рекомендует изменение социальных отношений (в социологии, в экономической
науке), или меж-личных отношений (в социальной психологии), или же личных
способов осмысления жизни и самого себя (например, в психотерапии, основанной на
теории психоанализа). В этом случае полученное знание в самом деле может
изменить исследуемую реальность. Но это может случиться только тогда* когда такие
своеобразные объекты исследования, как люди, принимают результаты
исследования и используют их для осуществления изменений. Сам по себе процесс
исследования никогда не может изменить изучаемую реальность. Раб, который знает о своем
рабстве, не может перестать быть рабом с помощью одного лишь знания.
Верно, что трудно, а во многих случаях невозможно ставить эксперименты в
науках о человеке. Потому что исследователь может (часто неосознанно) влиять на
поведение экспериментируемых. Коммуникация между исследователем и
изучаемыми им субъектами может изменить интерпретацию ситуации последними.
Сторонники коммуникационного подхода в психологии подчеркивают, что исследователь (в
частности, экспериментатор) не открывает что-то, что существует до исследования,
а в процессе коммуникации вместе с изучаемыми им субъектами конструирует
новую социальную реальность. Однако важно подчеркнуть, что, как правило,
исследователь не может изменить правила и нормы действий изучаемых субъектов. В то же
время существуют определенные техники, предотвращающие влияние
исследователя на получаемые результаты.
Но ведь во многих случаях эксперименты нельзя проводить и с сложно
организованными природными системами. Эксперимент имеет дело с закрытыми
системами. Но сейчас ясно, что в своем большинстве природные системы открыты и
нестабильны.
Таким образом, хотя в этом пункте существуют различия между естественными
науками и науками о человеке, они все же не дают основания для формулирования
тезиса о том, что эти две группы наук принципиально различны.
Я хочу сделать некоторые выводы из сказанного.
Наука как особый способ получения знания не возникла в Новое Время.
Имеются основания говорить об античной и средневековой науке, которые отличаются от
современной в ряде существенных отношений, так как они развивались в рамках
иных когнитивных установок и систем ценностей.
48
Современная наука - продукт определенной культурно-исторической ситуации.
Так, например, в античной науке теория понималась как выражение определенного
содержания, которое изначально дано и может созерцаться, интуитивно
схватываться (дедуктивное развертывание теории есть лишь выявление этого содержания).
Экспериментальное естествознание Нового времени могло возникнуть лишь в
условиях определенного понимания природы и отношения к ней человека. Это
понимание связано с возникновением особого типа цивилизации, которую можно называть
технологической. Природа истолковывается как простой ресурс человеческой
деятельности, как пластический материал, допускающий безграничное человеческое
вмешательство, переделку и преобразование с точки зрения интересов человека.
Эксперимент есть способ такого вмешательства в естественные процессы для того,
чтобы лучше понять их внутренние механизмы. Человек может в принципе точно
предсказывать природные процессы, а поэтому контролировать и регулировать их,
стать господином природы. Но при таком понимании научного мышления изучение
человеческих осмысленных действий выглядело как нечто чуждое самому духу
науки. В результате мнение о существовании принципиальной разницы между
исследованием природы и изучением человека и человеческих отношений приобрело
популярность.
Я пытался показать, что происходящие изменения в науках о природе и в науках
о человеке позволяют понять их отношения в новом свете и выявить их сущностное
единство. Они дают возможность также по-новому понять цели научного мышления
в целом. Это не только предсказание и контроль. В тех случаях, когда исследование
не ведет к осуществлению этих целей, оно не обязательно перестает быть научным,
ибо может иметь ценность уникального способа реализации человеческой
потребности в объяснении и понимании реальности. Ведь жить в неосмысленном мире
человек просто не может.
49
К методологической интеграции наук
с интерпретационистской точки зрения
ГАНС ЛЕНК
Всякое познание пользуется шаблонами и структурами. При любого рода
познании мы вынуждены использовать фреймы, формы и конструкты, а также схемы.
Это верно для любого рода усвоения чего-то, которое может происходить путем
процесса распознавания и категоризации, или нормативного структурирования, или
спланированного действия. Применение форм и фреймов есть схематизация или
интерпретация схем, как мне хотелось бы называть эти интерпретативные конструкты
и их активацию, чтобы отличать их от обычной интерпретации текста в смысле
герменевтики. Схемы можно использовать осознанно или активировать
подсознательно. Любого рода интерпретация связана с активацией таких схем. Эту связь можно
охарактеризовать через ядерные признаки и ядерные стимулы, выбор которых
необходим, хотя он может производиться и подсознательно. И даже здесь, на
подсознательном уровне когнитивные квази-конструкты используются для того, чтобы
получать "профили противопоставлений" и осуществлять структурное
дифференцирование, активизируя функции соответствующих органов чувств или блоки обработки
их данных в мозгу, а также пока еще гипотетические интегрирующие
полимодальные и комбинирующие центры. Эти квази-конструкты обусловлены отчасти
наследственностью и эволюционным развитием, отчасти предшествующим
онтогенетическим взаимодействием с миром, а отчасти познаются через обучение и опыт.
Вообще говоря, я называю эти абстрактные конструкты схемами. Схемы
разрабатываются и применяются на разных уровнях представления для интегрирования
индивидуальных переживаний, отдельных деятельностей и чувственных данных или
стимулов в более общие рамки, шаблон или структуру сходства. Во всяком случае,
всегда, когда мы пытаемся комбинировать явления и результаты их категоризации,
подводя их под общие точки зрения, понятия, тождества форм и сходства, а также
аналоги (analoga) всего этого, всегда, когда мы пытаемся отождествлять, находить,
опознавать формы, выходящие за пределы индивидуальной феноменальности так
называемого качественно данного, мы опираемся на активацию таких схем. Всякое
распознающее или обобщающее, конкретное концептуальное знание связано, таким
образом, с познавательными схемами, которые могут пониматься как более или
менее абстрактные конструкты, проецируемые на и β кажущиеся непосредственными
чувственные восприятия и соответствующие переживания благодаря
распознаванию гештальтов или конституированию объектов, процессов, событий и т.д.
Любое видение и распознавание очертаний и форм зависит от схем и руководствуется
50
ими. Так что всякое познание схематично. Это верно не только для распознавания,
но и для действия, т.е. не только для скорее пассивного сорта "усвоения", но и для
его более активных разновидностей.
Кант предвосхитил этот процесс создания и установления, а также применения
когнитивных конструктов для использующего воображение осознания,
визуализации ментальных конфигураций и моделей, т. е. знаний. Когнитивная психология
только в последние десятилетия, вслед за теориями и понятиями
гештальт-психологии заново открыла это понятие схем как "имагинативных" когнитивных
конструктов. Румельхарт называет схемы "строительными блоками познания". Психология
открыла, что не только зрительное представление и чувственное восприятие
вообще, но также и концептуальное и основанное на здравом смысле, или наивное,
теоретическое познание оперирует в терминах создания и применения схем, т.е. что
всякое познание, интерпретация, знание связано с применением, выбором и
активацией, а также с проверкой схем. Процесс интерпретации по существу следует
усматривать в выборе или даже рассматривать как выбор и активацию возможных
конфигураций схем, проверяемых с точки зрения того, согласуются ли они с
фрагментами мысленных данных в памяти. Помимо того, этот процесс есть процесс активного
поиска информации и ее структурирования.
В общем случае мы используем ментальные представления фреймов или
признаков данных или содержаний, типизируемые, распределяемые по родам и
сосредотачиваемые вокруг релевантных признаков, находимых в памяти. Естественно
поставить вопрос: сводятся или нет такие выражения и понятия как "структура",
"конструкт" и подобные им понятия "стратегия", "сценарий", "фрейм", "конфигурация",
"концептуальная схема" и т.д. по существу к одному и тому же понятию, понятию
схема. Не существует явного, действительно не кругового определения "схемы";
поэтому Румельхарт сосредоточивается на разработке теории схем, в которой
существенные признаки задаются внутри гипотез, т.е. используется неявное, или
функциональное, или "операциональное" определение функционального понятия "схема".
Однако схемы более абстрактны и общи, чем драма или ее сюжет и сценарий.
Схемы могут ссылаться также на вещи, объекты, формы и события, как и на любые
пространственные, статические или функциональные отношения или констелляции
вообще.
Важно то, что схемы состоят из подсхем. Активация некоторой подсхемы
обычно непосредственно связана с активацией самой схемы, и наоборот. Сравнение схем
с программами, сетями и т.д. безусловно плодотворно и может быть наглядно
представлено в виде графиков и других аналогичных структурных средств, допускающих
идентификацию состояний и точек, составляющих схемы, и разветвление таких
структур. Все множество схем, используемых нами для интерпретации нашего мира,
составляет в некотором смысле нашу частную теорию природы реальности. Схемы
представляют, так сказать, нашу внутреннюю модель соответствующих ситуаций в
мире. Говоря методологически, интерпретация (схемы) есть не что иное как
(реактивация схем. Верно, что, согласно современной когнитивной психологии, интер-
претативное структурирование чувственных восприятий, понимание текста, так же
как и запоминание и решение проблем существенно зависит от выбора,
(реактивации и экземплификации схем. Однако за применением схем, руководимым отчасти
понятиями, отчасти чувственными данными, следует не только интерпретация
ситуации, но и активный поиск информации, так же как и включение в контексты и
выработка стратегий для решения проблем. Здесь существенна взаимная активация
схем и подсхем. В общем, понятие схемы, или когнитивного конструкта, или даже
интерпретационного конструкта является довольно-таки плодотворным
инструментом для разработки не только когнитивной психологической теории, но и
методологической эпистемологии. Когнитивные конструкты, схемы и интерпретационные
конструкты на самом деле суть "строительные блоки познания" и любого
ментального представления или манипулирования информацией. Как это признал уже Кант,
51
динамическая и структурная, так же как и функциональная визуализация
абстрактных конструктов зависит от схем, и это верно не только для эмпирических процедур
усвоения, т.е. познания и действия, но и для методологических конструктов. Можно
разработать своего рода нефундаменталистскую трансцендентальную философию
фундаментальных условий всякого создания, применения и стабилизации любых
процедур структурирования, использующих любые способы репрезентации, будь то
с помощью фреймов, понятий, упорядочений, унификаций, конфигураций и т.п.
Интерпретация есть, вообще говоря, создание, стабилизация и активация
(применение) ментально репрезентированных конструктов, или схем. Интерпретация (в
широком смысле) есть по существу интерпретация схем и основана на этом, а также
на активации схем. Поэтому я говорю об интерпретации схем. Мы даже можем
представить себе основную аксиому, или принцип, методологического интерпрета-
ционизма, согласно которой всякого рода усвоение, познание и действие зависят от
интерпретации, т.е. основаны на активации схем. Это верно далеко не только для
психологичских теорий и эпистемологических точек зрения, но и для самого общего
всеобъемлющего методологического подхода, включающего в себя философию
знания (эпистемологию), как и философию действия и репрезентации. Мы могли бы
назвать этот подход методологическим и трансцендентальным интерпретациониз-
мом конструктов, или схем, преодолевающим даже современный разрыв между
естественными и социальными, а также гуманитарными науками, поскольку все эти
дисциплины структурировали бы свои области применения и предметы в
соответствии с активацией схем на основе процедур установления, стабилизации и активации
схем как когнитивных конструктов для структурирования соответствующих версий
мира и множеств объектов или событий, структур, процедур, а также проекций.
Интересно, что интерпретация схем допускает разные уровни категоризации, как
и вариативность соответствующих схем, которые могут быть зафиксированными
наследственно, или конвенциональными, или гибкими, возникать и активироваться
в подсознании или же задумываться и использоваться сознательно. Я разработал
иерархию уровней интерпретации, состоящую из шести разных уровней или
плоскостей интерпретации.
Эти уровни следующие. Первый состоит из практически неизменных
продуктивных первичных интерпретаций первичного конструирования, которые могут быть
представлены подсознательной экземплификацией схем. Сюда относится
определяемая наследственно, основанная на генетике активация селективных схем
чувственного восприятия (например, контраста тьмы и света и т.п.), а также интерактивная,
селективная активация ранних этапов онтогенетического развития, таких как
стадии психологии развития, обсуждавшиеся Пиаже. Сюда относятся также
биологически закрепленные первичные теории, которые мы не можем изменять по нашей
воле, но которые мы можем поставить под вопрос (только) в принципе. Например, у
нас нет чувства магнитного поля или способности воспринимать ультразвук, как у
летучих мышей. Но мы можем представить себе условия, при которых мы могли бы
иметь такие чувства или, по крайней мере, изобрести технические средства,
замещающие их.
На втором уровне мы имеем обычные интерпретации фреймов, образующие
качества, и категоризации схем, а также категоризации, абстрагируемые из
доязыковой различительной деятельности, восприятия равенства форм, сходства
представлений и переживаний и т.д. Установление и различительная способность
доязыковой концептуализации и формирование понятий о языке должны происходить на
этом уровне.
На третьем уровне мы имеем обычное образование понятий, а именно
заложенные в социальной и культурной традиции соглашения и нормы репрезентации и
формы различительной деятельности, такой как эксплицитная концептуализация
расчленения мира в соответствии с естественными родами и т.п. В той мере, в какой
это не связано уже с языковой дифференциацией, мы можем выделять подуровень
52
(За), для которого характерны доязыковые конвенционализации. С другой стороны
на уровне (ЗЬ) мы имеем эксплицитно языковую конвенционализацию, или
дифференциацию понятий посредством языка.
Четвертый уровень включает осознанно формируемые интерпретации
включения или отнесения к категории, а также классификации и описания в соответствии с
родовыми терминами и т.п. Это уровень упорядоченного образования понятий, а
также упорядочения и подведения под категории.
Пятый уровень идет дальше, используя объяснительные или, в более узком
смысле, понимающие ("Verstehen") интерпретации и обосновывая теоретически
аргументируемые интерпретации, отыскивая для них причины и основания.
Такая деятельность, конечно, имеет место не только в науке и интеллектуальных
дисциплинах, но во всяком случае в повседневной жизни при употреблении здравого
смысла. Здесь важно любого рода систематическое понимание в рамках теорий,
систем и интегративных точек зрения.
Выше него есть, однако, еще и шестой уровень эпистемологических и
философских, а также методологических интерпретаций метатеоретического характера,
охватывающих и интегрирующих процедуры построения и интерпретации теорий,
методологию и модели интерпретации в смысле самого методологического интерпре-
тационизма. Этот уровень можно назвать метауровнем интерпретативности и
говорить об эпистемологических метаинтерпретациях.
Однако этот уровень кумулятивен и может считаться открытым для следующих
метауровней. Подход методологического интерпретационизма сам, конечно,
является интерпретативным и может быть описан и разработан только на определенном
соответствующем метауровне, рассматриваемом в рамках этого уровня. Поэтому у
нас есть возможность самоприменения интерпретативного метода к самим
процедурам интерпретации. Философия интерпретации схем - это философия
интерпретационных конструктов, понимаемая как эпистемологическая модель, допускающая
некоторого рода метатеоретическое и метасемантическое самоприменение в виде
некой "метаинтерпретации". Это, конечно, может считаться достоинством и
эпистемологическим преимуществом по сравнению с некоторыми другими
эпистемологическими подходами, в том числе критическим рационализмом после Поппера,
теорией, не допускающей и не представляющей точных условий своей собственной
фальсификации. Человек действительно есть "метаинтерпретирующее существо",
способное подниматься на все более высокие метауровни интерпретации (схем).
Если мы используем эти уровни и метауровни интерпретационных конструктов,
мы можем переинтерпретировать многие из традиционных философских проблем и
переформулировать их в терминах отношений между разными уровнями
интерпретации, упомянутыми выше. Это верно, например, для понятия истины в смысле
теории соответствия, как и для консенсусной или прагматической теории истины и для
многих других центральных проблем, таких как проблема смысла (значения),
проблема референции и даже для проблемы содержания и интенциональности, а также
старомодной проблемы реализма. Последнюю можно теперь решить с позиций
того, что можно назвать прагматическим интерпретационным реализмом, на который
мы должны полагаться по практическим жизненным причинам, основанным на
здравом смысле.
К тому же мы можем, так сказать, интерпретативно релятивизировать проблему
реальности мира, обсуждая ее с точки зрения разных уровней интерпретации,
намеченных выше. Конечно, нам придется отказаться от абсолютного фундаментализма
в философии и эпистемологии. Но, во всяком случае, различение реальности и ее
интерпретационного представления остается релевантным и с точки зрения
упомянутой выше аксиомы всепроникающей интерпретативности и пронизанности
интерпретацией всего, что "усваивается" или даже мыслится благодаря установлению
интерпретативного отношения между соответствующим уровнем или метауровнем
интерпретационных конструктов и постинтерпретационистским различением понятий,
53
фреймов и т.п., с одной стороны, и "вещами", "предметами" и т.п., с другой стороны.
Мы можем говорить об определенном прагматическом или практическом реализме
не только по соображениям здравого смысла, но и с точки зрения
методологического интерпретационизма квази-трансцендентального характера, допускающего реля-
тивизированную реалистическую позицию. Этот реализм, безусловно, не является
наивным, но критически и интерпретационно "вымуштрованным", действительно
пронизанным интерпретациями схем. Всякий реализм, с точки зрения
интерпретаций, должен быть ограничен в той мере, в какой у нас нет чистого,
непредубежденного знания гипостазированного мира (а всякое гипостазирование по необходимости
является интерпретирующим схемы). Нам приходится признать, что любое усвоение
нами реальности формируется, поддерживается, устанавливается и пре-структури-
руется различными нашими интерпретациями схем, от первичных до более
конвенциональных (это можно считать кантианским подходом, который обнаруживается и
во "внутреннем реализме" Патнема).
Во-вторых, нам приходится признать, что, говоря методологически, даже
различение между "реальным" миром и интерпретирующим его существом,
интерпретирующим "я" или традиционным трансцендентальным субъектом, само есть
результат такой методологической интерпретации. Квази-дуалистическая модель
различения "мира" и "я" - если судить о ней с более высокого уровня (например, с уровней
от 4-го до 6-го) - есть интерпретационная модель1. То же самое верно и для
различения знания и действия и т.д. Мы можем представить "нечто" и оперировать с ним
только в пределах наших интерпретаций, так сказать, с некоторых
интерпретационных точек зрения, применяя и используя интерпретационные методы и
методологии.
Короче: то, что мы не можем обойтись без интерпретации схем, не подлежит ни
сомнению, ни обсуждению. Всякое познание и усвоение и в активном, и в пассивном
смысле этих слов, всякое понимание чего-то как чего-то - будь оно идеальным,
реальным или каким угодно, зависит от форм и структур интерпретации, короче - от
интерпретационных конструктов и интерпретаций схем. Любая реальность, любой
идеальный или подразумеваемый объект может быть "схвачен", или усвоен, только
в формах и рамках интерпретации схем и потому до известной степени зависит от
интерпретаций, пропитан интерпретациями, конституирован и конституируем
только средствами интерпретации. Он зависит от точки зрения без того,· чтобы - как в
случае импрегнации (см. подстрочное примечание выше) - быть с необходимостью
полностью относительным. Однако интерпретация схем сама по себе есть только
эпистемологическое средство интерпретирования. Она сама есть интерпретативный
конструкт или деятельность, на которую распространяется прагматическая
интерпретационная методология, которую можно сочетать с прагматическим реализмом.
Интерпретация схем - это еще не все, но все мыслимое зависит от интерпретации с
некоторой точки зрения или в более специфическом смысле "нагружено"
интерпретацией, если даже и не - как опять-таки в случае непосредственного восприятия -
пронизано интерпретацией схем в узком смысле. Все можно усвоить только с
помощью интерпретации схем, т.е. путем составления схемы и разработки, а также
активации и реактивации схем, короче, путем интерпретации схем. Всякое "схватывание"
чего угодно (будь оно на вид пассивным, в форме восприятия, или "импрегнации" в
узком смысле факторами "внешнего мира", или более активным, организующим мысли
и действия) формируется, испытывает влияние или "импрегнируется" извне
выбором и активацией схем.
1 Тем не менее, с точки зрения конкретного более высокого эпистемологического интерпретативно-
го уровня факторы "реального" мира можно интерпретировать как воздействующие, влияющие на и
даже со-"причиняющие" активацию схем (как, например, при непосредственном восприятии). Активации
схем, опосредуемые таким образом "факторами реального мира", я называю импрегнациями.
54
Довольно интересно, что современная неврология находится на пороге создания
"натурализованной" теории создания, активации и стабилизации схем, а также их
реактивации. Исследователи мозга представляют мозг как "интерпретативную
систему" и говорят о "мозговых конструктах" ("Hirnkonstrukte"), основанных на
формировании и развитии пластичных (т.е. гибких, хотя и относительно устойчивых)
нейронных комплексах. Как предполагается, формирование и установление нейронных
комплексов состоит в нарастании и стабилизации частотных фаз колебательных
реакций различных накладывающихся друг на друга, совместно изменяющихся и
совместно колеблющихся нейронных объектов и комплексов или сетей, активируемых
одновременно и селективно, и приспосабливающихся к определенной ритмической
базовой частоте в 40 герц, и в соответствующем процессе синхронизации этих
колебаний, которые начинают протекать в общей фазе. Такая теория синхронности
нарастания и динамической стабилизации некоторого рода конфигурации колебаний и
инициированных импульсов в физическом смысле кажется возможным
объяснением распознавания конфигураций, представления форм и распознавания ментальных
состояний деятельности, а также ментальных образов и припоминания. Так что у
нас есть конкретные основания для гипотезы о нейробиологических и
нейрофизиологических основах процессов схематизации и создания конструктов внутри мозга и
во взаимодействии с внешней средой стимулов и репрезентационных "кодирований",
включающем "активное" вмешательство в нее. Это может быть связано также с
формированием нейронов и с перцептивными, так же как и с когнитивными
возможностями в психологии и физиологии развития, когнитивной науке и неврологии,
а может дать натурализованный базис для процессов формирования знания,
восприятия и познания в целом. Я не думаю, что все семантические программы смысла
(значения) и эпистемологические проблемы интенциональности могут быть натурализованы
в строгом смысле этого слова. Мы все еще неспособны полностью перекрыть
"семантическую лакуну" - даже в рамках телеологически-функциональных подходов,
таких как хорошо разработанный подход Милликена.
Даже представители естественных наук в таких современных областях как
микрофизика, имея дело с теоретическими объектами, пользуются
интерпретационными конструктами, как и все мы в нашей повседневной жизни. Поэтому разрыв
между естественными науками и интерпретативными дисциплинами, пропасть между
реальностью и ее представлением, между знанием и действием, между экспериментальным
результатом и предэкспериментальной ситуацией, между формированием понятий с
одной стороны и референтами понятий с другой стороны не так широки, как
традиционно думают. Знание и действие связаны и пересекаются, они суть всего лишь
различия в точках зрения при определенной акцентировке. Вмешательство в мир
всегда зависит от интерпретации, и наоборот. Интерпретация вообще и способность
интерпретировать зависят от импрегнации в узком смысле, т.е. от того факта, что
гипостазированные "реальные" структуры мира воздействуют на наши действия и
реакции, как и на наши способы и средства репрезентации. Вмешательство,
интерпретация и импрегнация взаимосвязаны; даже отделение "мира" от наших действий
и распознаваний, от познания и знания является постепенным, релятивизированным,
само в каком-то смысле зависящим от интерпретации, по крайней мере с
эпистемологической точки зрения.
Перевод с английского Д.Г. Лахути
55
К 80-ЛЕТИЮ Э.В. ИЛЬЕНКОВА
От редакции. 18 февраля 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рождения
выдающегося отечественного философа Эвальда Васильевича Ильенкова. Его труды по
теории диалектики и диалектической логике в 1960-1970-е годы оказали заметное
влияние на философские поиски не только в Советском Союзе, но и за его пределами.
Работы Э.В. Ильенкова стимулировали возникновение ряда исследовательских
направлений в области психологии, педагогики, эстетики, истории философии. Мы
публикуем статьи отечественных и зарубежных авторов, с разных сторон
анализирующие творческое наследие Э.В. Ильенкова.
К логическим определениям сознания:
Э.В. Ильенков и И. Кант
В. Г. ЛОБАСТОВ
Культурно-исторические формы человеческой жизнедеятельности, несущие в
себе категориальный состав исторически развитого мышления, с самого начала и
непосредственно становятся формами деятельности индивида - и не только
бессознательно (как реальные объективные условия) навязывая себя, но и вполне
сознательно - через по необходимости возникающую систему воспитания и обучения,
через образовательную деятельность. Вот здесь-то, в сознательной деятельности
образования человека, и возникает необходимость предварительного выявления из
культурного содержания человеческого бытия всеобщих схематизмов деятельности
как деятельности мышления, иначе говоря, категорий, - выявления, потому что в
стихии бытия они всегда представлены в связанной форме, погруженной в
предметную действительность и в наличные формы доступной индивиду деятельности.
Доступной не по анатомо-физиологическим определениям, а по определениям
социально-экономическим и культурно-историческим тех ближайших жизненных
условий, в которых оказывается индивид.
56
Мышление развивается внутри реального бытия человека и развивается именно
этим бытием, степенью использования внутри этого бытия выявленных историей
объективных отношений действительности, т.е. сложившимися формами
деятельности внутри наличных условий существования. Сознавая форму движения
объективной вещи, человек сознает и свою форму движения. Как и наоборот. И сознает
именно потому, что между ними существует различие. Отсутствие этого различия
означало бы отсутствие сознания. "...Сознание вообще есть там, - пишет Э.В.
Ильенков, - где есть расхождение заранее заданной схемы действия и реально
осуществимой схемы и где эта последняя тоже дана субъекту как схема внешней ситуации, с
коей надо согласовывать заранее заданную". (Э.В. Ильенков. Философия и
культура. М., 1991. С. ПО).
Иначе говоря, где схемы эти совпадают, там сознания нет. Чтобы оно возникло,
необходимо расхождение этих схем, данных первоначально в тождестве, причем
такое расхождение, в котором обе эти схемы, схема внешней ситуации и актуальная
схема действия, остаются данными субъекту.
Как это возможно? Чисто логически ясно, что это различие должно быть дано в
некотором единстве, иначе это различие выступит просто безразличием
различенного. Формой такого единства может выступить только взаимодействие - на какой
бы основе оно ни осуществлялось. Взаимодействие, или действие одного на другое,
объективно высвечивает особенности взаимодействующих вещей. И высвечивает не
для сознания, а для самого их, этих вещей, бытия: каждая вещь преобразуется и
своей преобразованной формой указывает на особенности той вещи, с которой
взаимодействовала. Одновременно эта преобразованная форма есть обнаружение своих
собственных особенностей - обнаружение для всех других вещей, ибо она теперь
именно в этой форме начинает бытовать среди них. Каждая из них осуществляет
себя в другой, форма движения одной вещи - в форме движения другой. Только при
этих условиях каждая вещь может отличить себя от другой и "осознать" самое себя,
т.е. выявить - через другое - свои собственные определения, соотнесенные, правда,
именно с этим другим. Каждая из сторон измеряет себя другой, и измеряет только
потому, что в другой она обнаруживает свой собственный предел, и обнаруживает
потому, что наталкивается на собственную форму другой вещи.
Человеческая деятельность по своему объективно-фактическому содержанию есть
организация и управление взаимодействием вещей. Но по своему существу она есть
способ человеческого бытия, осуществляющегося всегда через определенную цель. Логике
этой цели и подчинено движение всего состава включенных в нее вещей, какого бы
рода они ни были. Именно она, деятельность, соотнесена (взаимодействует) с
собственными формами объективного мира, в объективной действительности себя осуществляет,
осуществляя одновременно в себе, в своих формах, формы этой действительности.
Собственная чистая форма этой деятельности, противостоящая любой форме объективной
действительности, и есть, по Э.В. Ильенкову, мышление, в схемах, категориях которого
представлена и предстает любая и каждая вещь. Оно, мышление, есть идеальное
воспроизведение действительности в ее собственных всеобщих формах, и эта всеобщая
форма есть форма собственной деятельности человека.
Поэтому может показаться, что чем адекватнее деятельность человека той вещи,
с которой он действует, тем глубже его сознание этой вещи, потому что в
адекватности заключена истина. Однако из этого факта сознание не выводится, хотя им
предполагается. Выводится оно именно из различия между формой вещи и формой
деятельности. А потому это различие есть всеобщее условие сознания, более того -
его основание.
Но сознание не возникает и без момента тождества между формой вещи и
формой деятельности с ней. Различие должно удерживаться в единстве, иначе
различенное просто будет разрозненным. В животной жизнедеятельности это различие не
удерживается, вещь, не тождественная формам этой жизнедеятельности, просто
выпадает за рамки "заинтересованного" отношения. А внутри этих рамок? Неудачное
57
действие, действие, не завершившееся предположенным в потребности результатом, -
разве оно не свидетельствует о различии формы вещи и формы действия? И
наоборот, разве пространственная активность животного не положена именно различием
"мест" потребности и ее предмета? Ведь если бы эти "места" не были
предварительно даны, и даны как различенные, определенность пространственного действия
была бы невозможной. А там, где потребность и ее предмет непосредственно
совмещены, пространственной активности вообще нет, там есть лишь снимающая себя
деятельность потребности - процесс ее удовлетворения. Животному, чтобы действовать
в "поле" пространства, это пространство должно быть субъективно дано, и дано в
едином образе. Вне этого субъективного условия невозможна пространственная
деятельность.
Поэтому и кажется, что способность пространственного восприятия дана до
всякого опыта, как это получалось у Канта. А потому якобы и деятельность не может
быть интерпретирована как всеобщее основание всех феноменов субъективности.
Однако созерцание пространственных вещей - не изначальная способность.
Пространственное несовпадение потребности и ее предмета полагает необходимость
движения, осуществляющего их реальную связь. Этим движением и измеряются
объективные характеристики пространства, ибо пространство (протяжение)
снимается движением. Поэтому именно деятельность, осуществляющая бытие субъекта в
пространственном мире и преследующая цели именно этого бытия, абсолютно
бессознательно снимает протяжение и в этом снятом виде сохраняет его в себе. Но
сохраняет уже как бессознательный образ. Не как образ, содержащий в себе мотив и
цель, а образ как условие. Как представленную в форме деятельности форму
пространства, т.е. в их тождестве, в их субъективной неразличенности.
Поэтому весьма интересным и важным и кажется вопрос, оставшийся по
существу нерешенным у Канта: как дано пространство сознанию в качестве условия,
предпосылки и схемы внешнего созерцания?
Скажем, как объективно, т.е. независимо от сознания человека, в сознании
человека образуется абстракция прямой линии как пространственное определение? Дана
ли она объективно в чувственном материале и потому через деятельность
созерцания входит в сознание как его, этого сознания, определение; или она порождается,
создается субъектом как его средство, как средство его деятельности, как средство
определения объекта, скажем сидьнее, как средство созерцания самого
чувственного материала?
Если прямая принадлежит чувственно-материальной действительности
естественно-природного характера, то как она становится фактом сознания? Посредством
деятельности органов чувств, также имеющих естественную природу? Или наоборот,
она является изначальной принадлежностью субъекта и потому определяет как
созерцание, так и создаваемый деятельностью человека культурно-исторический мир?
Или, третий вариант, она не есть нечто природное и не есть нечто изначально-
субъективное, а всецело создается собственной активностью человека в его
творческой и познавательной деятельности. Тогда вопрос: выходит эта творящая
теоретические абстракции деятельность за пределы самой природы или она находится в
границах последней, и поэтому прямая - всего лишь объективная возможность,
становящаяся действительной в культурно-историческом мире?
При таком подходе прямая как предел должна как бы "вывернуться" из мира,
который "ничего не имеет против нее" и даже потенциально ее содержит в себе, но ко^
торая становится объективной реальностью только через деятельность человека.
И, как легко понять, не через деятельность созерцания, которая эту прямую извлечь
из мира никак не может (хотя иллюзия такой способности существует), а только в
творчестве самой культурно-исторической действительности человека. Она,
прямая, должна быть сотворена в человеческом мире, и сотворена как значимый
элемент этого мира - не иначе. И сотворена не в качестве произвольной фантазии, а
только в логике дела человека. Ее творение есть открытие ее в той действительной
58
ситуации, которая содержит в себе противоречие, именно через нее, эту абстракцию
прямой, разрешаемое: она принадлежит, эта прямая, не непосредственно миру
природных вещей, а миру человеческой действительности, которая ее как потенцию
актуализирует, делает субъективно открывшейся и объективно применяемой в деле.
И потому она становится объективно-реальной принадлежностью человеческих
вещей. Теперь ее можно созерцать, и человек задолго до введения его в понятие
прямой имеет ее в своем представлении - как нечто вынутое из чувственного опыта.
И ему кажется, что созерцаемые, уже чувственно различенные, абстрактные
характеристики вещей человеческого мира есть характеристики мира вещей вообще.
И потому же это созерцание и мыслится достаточным основанием, принципом
производства знания. Кажется, что в акте перехода от чувственного созерцания к
теоретической абстракции содержится вся суть понимания самой этой абстракции:
известное, переиначивая слова Гегеля, здесь становится понятым. Материал
чувственности должен быть переработан в понятие через выработку абстрактных
определений самого этого чувственного содержания и их последовательную необходимую
связь в конкретную целостность. Поэтому первый вопрос, который тут возникает,
это вопрос об образовании абстракции, который, конечно же, лежит в основе
понимания мышления как рациональной формы. И, разумеется, всегда имплицитно
содержащийся здесь, а для философии всегда явный, - это вопрос об истинности
получаемых определений действительности.
Но с истинностью абстракции дело далеко не ограничивается ее
непосредственным соотнесением с чувственно данной действительностью. В самом ли деле
теоретические абстракции имеют (не имеют) непосредственный объективно-чувственный
эквивалент в действительности? Скажем, та же самая прямая? Ведь кажется, что
зрительное восприятие осуществляется по прямым линиям от глаза к каждой точке
воспринимаемого объекта, более того, легко соотносит один элемент поля
восприятия с другим - и соотносит, опять же, по прямым линиям (по световому лучу).
Иначе говоря, прямая дается (и используется) как реальная характеристика, как
реальный элемент пространства. Более того, пространственные определения с
самого начала опосредуют созерцание и, кажется, единственно делают возможным
целостность воспринимаемого образа (Кант).
Но если прямая выступает как условие целостности созерцания, то никак нельзя с
полной определенностью сказать, связано ли это условие с бытием самой
созерцаемой вещи или оно всего лишь субъективное условие деятельности созерцания. В
самом деле, в образе восприятия в единство связываются такие вещи, которые реально
друг к другу никакого отношения не имеют - кроме пространственного. Не будем
говорить о других условиях единства и целостности образа восприятия (например в
искусстве), но здесь налицо зависимость его от пространственных определений,
которыми деятельность созерцания связывает элементы воспринимаемой действительности.
Поэтому-то пространство легко и мыслится как некая пустота, как нечто от вещей
независимое, как условие их бытия (Ньютон), и, с другой стороны, совершенно
логично начинает пониматься как только субъективное условие восприятия (Кант).
Однако всякая абстракция возникает в процессе жизненного погружения индивида
в мир объективных обстоятельств его бытия. Само познание вырастает как
необходимое условие жизненного процесса. И любая абстракция, следовательно, возникает в
условиях той проблемности, той объективно-жизненной противоречивости, которая
непосредственно и лежит за этой абстракцией и которую эта абстракция разрешает.
Иначе говоря, всякая абстракция первоначально объективно обнаруживается только
лишь своим ближайшим определением быть средством разрешения противоречий.
А отвлеченно-всеобщая форма разрешения противоречий есть мышление,
поэтому возникновение абстракции есть с самого начала возникновение мышления.
Определение же истинности абстракции, ее соответствия действительности
непосредственно не обнаруживается. Попытка указать на непосредственный
чувственный аналог какого-либо теоретического фрагмента очень часто заканчивается не-
59
удачей или фантастическими вымыслами. "Онтологизация" понятий математики или
теоретической физики, например, изобилует такими построениями, которые
десятилетиями исповедуются самой наукой, а вслед за ней и обыденным сознанием
(например многомерные пространства, атом и т.д.), но которые от истины бывают весьма
далеки. Что стоят только представления о Вселенной, возникшей из некой точки!
Но поделать ничего нельзя, "интерпретировать" понятия и в самом деле надо,
сознание, наивно или нет, но чувствует, что за его понятиями, сколь бы абстрактными
они ни были, лежит действительность. Действительность лежит и за прямой, и не
только потенциальная действительность, но и актуальная. Следовательно, так или
иначе, данная в созерцании.
Но проблема теперь заключается в способности этого созерцания, в способе его
осуществления, деятельности. Внутренняя логика созерцающей деятельности - это
логика предметно-практической деятельности. Именно в этой деятельности дана
прямая, и она дана до ее воплощения в культурно-историческую предметность, она
дана уже в пространственных действиях животных. Обезьяна потому и способна
разрешить поставленную В. Келером задачу, что в опыте своем она имеет прямую,
но в решении своем она впервые ее абстрагирует, вычленяет из этого опыта в
качестве высоты ящика и длины палки, иначе говоря, в качестве абстрактных
пространственных определений, способных связать две точки пространства, не
связываемых ее собственным телесным движением.
Именно здесь впервые и появляется абстрактная мысль как средство разрешения
возникающей проблемности. И первая ее форма, форма мысли, есть форма
математическая, работающая с самыми простейшими, абстрактно-всеобщими,
элементарными определениями пространства и количества: обезьяна не только
абстрагирует и удерживает в своем внимании две абстрактные пространственные
характеристики, но и совмещает их с прямой между двумя точками (прямая, по определению,
есть кратчайшее расстояние между двумя точками). А для такого совмещения она
абстрагирует и величину, величину прямой (высоты ящика, длины палки), и, что
самое интересное, эти две величины приравнивает к одной.
Сама по себе отдельная абстракция, как видно из этого примера, никогда не
возникает как единично-обособленная характеристика, она возникает только через
соотношение с другими тут же абстрагируемыми определениями ситуации, -
ближайшим образом теми определениями, которые и составляют противоречие. Потому
мы и наблюдаем то, что получило название инсайта. Если это обстоятельство иметь
в виду, то в педагогической практике, да и не только в педагогической, любое
абстрактное определение должно быть сознательно увязано с полнотой условий ее
происхождения и с полнотой ее функциональных определений - то есть замкнуто в тот
контекст, через который единственно она, абстракция, и может быть понята как в
отношении ее к действительности, так и в отношении к субъекту.
И все эти абстракции субъект производит в контексте созерцаемого образа
действительности и через этот же контекст их удерживает в единстве, определенном
проблемностью. Именно эта проблемность задает форму синтеза абстрактных
определений. Но первоначально никак не самих по себе и потому не теоретически, а
сугубо через действия с чувственными предметами объективной ситуации.
Абстракция здесь уже совершена, но она еще не вычленилась из практической, созерцаемой
сферы, не обособилась и не предстала в своей самостоятельности как элемент и
форма мышления. Чтобы предстать субъекту в своем собственном созерцаемом
облике именно как абстрагированное и отвлеченное определение объекта,'она должна
получить специфическое предметное выражение и закрепление. Только при этих
условиях, при условиях объективного, чувственно-предметного обособления свойств
объекта, абстракция получает свою объективно-практическую истинность и становится
общественно необходимой формой деятельности исторического человека. Такой формой
обособления и закрепления абстрактных определений действительности выступают в
первую очередь орудия труда (Э.В. Ильенков).
60
Если элементарные пространственные определения (абстракции) мы получаем в
опыте и через опыт, а для сознания они высвечиваются только через их синтез в
условиях содержащей противоречие ситуации, то возникает вопрос: а сам этот синтез,
его форма, был в предшествующем опыте или он впервые порождается здесь?
Ответ на него очень прост: прямая как ближайшее пространственное определение
возникает именно только как синтез, как связь двух точек того же пространства
(потому и в теории она получает такое же определение), и, значит, сама возникает
только в условиях пространственного различения этих точек (абстракция точки как
момент пространственного разрыва, следовательно, дана вместе с абстракцией
прямой), различения, задаваемого - опять же! - жизненной проблемностью внутри
пространственного бытия.
Но синтез абстрагируемых определений положен субъективно - не потому, что
какие-то объективные характеристики находятся в различии и противоречии друг с
другом, а потому что самому субъекту присуща определенная проблемность,
противоречие. Это-то противоречие и полагает его деятельность, пространственное
движение. Нельзя сказать, что в нем, этом противоречии, уже дано понятие цели, но
потенция ее уже есть, целесообразность как объективное отношение задано
противоречивостью бытия.
Итак, абстракция прямой - это не есть абстракция некоторой характеристики
вещи, таковой просто у вещей естественно-природных нет, разве только в качестве
намека, который может понять лишь тот, кто понятие того, на что намекают, уже
содержит в себе. Обезьяна абстрагирует не прямую, которая, конечно же, каким-то
деталям ящика и палки принадлежит, она абстрагирует длину, протяжение,
заключенную в высоте ящика, но длину только в качестве прямой, поскольку ищет
кратчайшее расстояние между двумя точками. В своем предшествующем опыте две
точки обезьяна, разумеется, связывала, но не удерживала абстракцию пространственной
величины только потому, что ее собственное движение совпадало с определением
этой абстракции (форма пространства непосредственно представлена в форме
деятельности). Отделить форму этого движения от самого движения, осуществить
рефлексию ее, вынуждает именно их различие, обнаруживаемое через неспособность
разрешить проблему. Величина поэтому в опыте животного дана и "субъективно"
обнаруживается ему как мера его движения, не совпадающая с пространственными
условиями действия. Тем самым дано и различие величин.
Но все эти определения, повторю, не отделены от собственного движения.
Различие величин дается как различие только через соотношение их, но само это
отношение абстрагируется лишь в условиях неразрешимости наличной проблемности:
движение оказывается неспособным связать две точки пространства.
Пространственная величина, выражаемая движением, и величина протяжения между имеющими
субъективное значение точками пространства не совпадают, различны. Поэтому и
возникает необходимость сравнения неравного объединения величин и их
уравнивания - как в примере с обезьяной. В этой необходимости абстрагирования и
деятельного сравнения и возникает необходимость осознания свойств объекта.
Действие здесь выходит за свои собственные реальные физические
возможности, противоречие наличной ситуации выворачивает из имеющегося опыта его
собственные потенции, и потенции эти в практическом разрешении ситуации
обнаруживаются как актуальные способности самого субъекта. Более того, здесь не просто
раскрывается прежний опыт своим потенциальным содержанием, здесь то, что
потенциально дано в наличной ситуации, благодаря деятельности субъекта переходит
в действительность, осуществляется. Деятельность субъекта здесь оказывается
реально-объективной формой развития самого объекта, силой, связующей его
определения так, как они сами по себе не связываются.
В способности экстраполяции, например, созерцание продолжает (проецирует)
движение - и здесь прямая дана уже не как только характеристика движения, а как
способность самого восприятия, как способность, бессознательно вычлененная из
61
действия и сохранившая себя в созерцании как его активная сила, абсолютно
необходимая для осуществления созерцанием своего определения быть средством,
опосредовать реальное действие действием восприятия предметных условий.
Итак, прямая содержится в созерцании, но не как абстракция с
пространственных форм чувственных вещей, а как характеристика, как абстракция
определенного действия в рамках активности индивида. Она здесь, в созерцании, повторю,
содержится, но не дана субъективно, рефлексия ее отсутствует, работа ее
бессознательна, не вычленена внутри созерцания как особая форма. Как таковая она
вычленяется как раз в решении проблемных задач, но и здесь не удерживается в
качестве субъективного образа до тех пор, пока не получит определенное внешне-
предметное выражение. С момента же ее объективно-предметной фиксации
созерцание становится внутренне расчлененным, мыслящим, т.е. удерживающим предмет
через пространственную связь его абстрактных определений, погруженных в
чувственную фактуру.
Разумеется, это не есть еще истинный образ предмета, хотя наивному сознанию
именно таким он и кажется. Он не истинен потому, что связь абстрактных
определений тут не есть логическая связь, а в первую очередь именно пространственная.
Кант тут абсолютно прав: чувственный образ невозможен без схемы пространства,
присоединение любого определения здесь осуществимо только по этой схеме,
пространство - это всеобщая форма созерцания, причем форма априорная, данная до
всякого опыта.
Для Канта чистое пространство априорно потому, что та логика, на которой он
сознательно базирует все свои философские построения, и в самом деле не дает
возможности вывести пространство из опыта в качестве всеобщего и необходимого
признака всех вещей - на том основании, что опыт никогда не завершен, всех вещей
мы в опыте не знаем, и потому полная индукция неосуществима. Но тем не менее
синтез чувственных представлений мы осуществляем. Отсюда и вынужденность
признать схему синтеза созерцаний (пространство) доопытной.
По Ильенкову же, эта схема исходным образом принадлежит активности
субъекта и в созерцании она представлена настолько, насколько она присуща
деятельности. Но тут - ничего поделать нельзя! - мы попадаем в принцип Фихте, согласно
которому объект, все, что противоположно Я, т.е., следовательно, не-Я, определяется
Я, субъективной способностью, деятельностью человека. Фихте здесь абсолютно
последователен: не существует ни одного определения объекта, которое не было бы
определением субъективной деятельности.
Этот последовательный монизм Фихте явно направлен против кантовской "ве-
щи-в-себе", которая лежит по ту сторону познавательных способностей субъекта и в
принципе, по Канту, недоступна им. Он показывает, что такой вещи-в-себе не
может быть, потому что она не мыслима, а если мыслима, то она тем самым уже и не
есть вещь-в-себе.
Иначе говоря, Фихте утверждает, что все определения объекта, без всякого
остатка, доступны активности субъекта и воспроизводятся в ее формах. При этом для
Фихте нет необходимости, более того, это было бы алогизмом, утверждать наличие
объекта помимо нашего сознания, ибо все, что мы знаем и можем знать о нем,
дается только через деятельную активность человека. Форма активности и форма вещи
здесь совпадают.
Фихте, следовательно, показывает, что ни одно определение в теоретическом
движении мышления не может быть привлечено извне, случайным внешним образом,
оно обязано быть встроенным в контекст понятия вещи принципом деятельного Я.
Деятельность Я строит, порождает объект, порождает его теоретический образ.
Математика, надо сказать, так и поступает: все ее определения пропущены через схема-
тизмы мышления и ей никакого дела нет до соответствия этих теоретических
определений чувственно-объективной действительности. Она конструирует мыслимую
действительность, действительность, как она дается теоретическому сознанию, не
62
задаваясь вопросом, что за ее конструкциями лежит. И этим мысленным
(теоретическим) определениям она доверяет гораздо больше, чем чувственной
достоверности. "Дважды два равно четыре" для нее более фундаментальный факт, чем любое
эмпирическое несоответствие этому факту. Что ее определения каким-то образом
совпадают в конечном счете с действительностью, она это чувствует и понимает, но
если пытается дать чувственную интерпретацию какого-либо отдельно (абстрактно)
взятого своего определения, то рискует впасть в заблуждение.
Прямая есть исходное пространственное определение, без которого
конструировать пространство вообще невозможно: это первое его измерение, предполагающее,
правда, мысль об отсутствии всяких измерений - точку, которая мыслящей силой
теоретика (вслед за осуществленным в опыте действием) раздвигается в
одномерность.
Откуда списано наивное представление о расширяющейся Вселенной, впервые
возникшей из "точки", т.е. из объекта, не имеющего пространственных измерений?
Ведь не потому же так происходит, что наука, вынужденная в математической
теории опираться на точку как необходимое условие построения и развития своей
теории, и в "онтологии" опирается на "точку"; совсем не тем обстоятельством диктуется
это представление, что схематизм расширения требует обнаружения и фиксации
предельной исходной позиции. За этими "ближайшими причинами" лежит более
глубокое основание: логика, исповедуемая наукой и восходящая к принципу
непротиворечивости. Ведь именно поэтому все действительные теоретические
противоречия и выталкиваются в сферу представлений, несовместимых друг с другом.
Если бы логика, содержащая в теоретическом разворачивании объективных форм
диалектику, была освоена, такие картины бытия не порождались бы. Не порождались
бы и представления типа ньютонианских об абсолютном пространстве как условии
бытия вещей: вещей бы не могло быть, если бы не было предварительно
пространства, ибо им было бы быть негде. Как не было бы и противоположных, не менее
наивных, представлений о порождении материального бытия пространством.
Правда, тут есть что-то похожее на Канта? Ведь мысль об априорности
пространства равна мысли Ньютона, только с противоположным знаком: эта мысль
утверждается не по отношению к вещам самим по себе, а по отношению к вещам,
данным в созерцании.
Чистое пространство Канта как априорная форма созерцания активно только в
той мере, в какой оно связывает в единство образ восприятия. Поэтому априорности
пространства совершенно недостаточно как основоположения для науки о
пространстве, пространственных формах и отношениях. Кант это хорошо понимает: "Мы
не можем мыслить линию, не проводя ее мысленно, не можем мыслить окружность,
не описывая ее, не можем представить себе три измерения пространства, не проводя
из одной точки трех перпендикулярных друг другу линий... Даже само понятие
последовательности порождается прежде всего движением как действием субъекта..."
(Кант. Критика чистого разума. М., 1994. С. 112). "Но движение как описывание
пространства есть чистый акт последовательного синтеза многообразного во
внешнем созерцании вообще при помощи продуктивной способности воображения и
подлежит рассмотрению не только в геометрии, но даже в трансцендентальной
философии" (Там же. С. 112, прим.).
Но субъективное, активно-деятельностное определение действительности Кант
не доводит до конца, поэтому оно противополагается объекту и в этом
противоположении остается. Фихте снимает это противоположение предельным завершением
принципа деятельности: все определения бытия есть определения моей
Деятельности. Здесь нет противополагания субъекта и объекта, есть тождество, но тождество,
определенное с субъективной стороны. Последовательный монизм Фихте совпадает
в этом отношении с монизмом Спинозы. Но монизм Спинозы связывает в единство
и определения мышления, и определения протяжения, связывает в понятии субстан-
63
ции как тождество ее противоположных атрибутивных определений. Этим и
преодолевается субъективизм Канта и Фихте - почти за полтора столетия до них.
Форма деятельности и есть форма мышления. Но в мышлении форма
деятельности представлена всеобщим образом, она не есть нечто непосредственно
тождественное особенной ее схеме, а отрабатывает себя до своих объективных (т.е.
независящих от субъекта и одновременно именно субъекту принадлежащих) пределов. Эти
свои собственные пределы, по Фихте, и есть пределы самой вещи - поскольку вещь
абсолютно доступна формам деятельности.
И вопрос тут, как уже понятно, снова упирается в истинность тех определений,
тех схем, которые несет в себе (собой) субъект. Прямая - это схема деятельности,
соотносимая с субъектом, или она принадлежит самому объекту?
Мы никак не выйдем из затруднения, если не признаем тождество бытия и
мышления, если не признаем факта единства и тождества определений
чувственно-предметной пространственной деятельности и деятельности мышления. Протяженность
и мышление, противоположность которых доставила столько проблем для самого
мышления в истории философии, тут разрешается очень просто: одно и то же
движение есть движение и пространственное, и движение мышления; это одно и то же,
но представленное для сознания двумя различными способами. Эта позиция
восходит к Спинозе. На этой позиции стоит Э.В. Ильенков. Именно поэтому Э.В.
Ильенков и характеризует систему Фихте как "перевернутого Спинозу".
Надо сказать, что выводимость всеобщих схем созерцания и
рационально-теоретического мышления из форм деятельности может быть продемонстрирована по
отношению к любой категории мышления. Наш пример с пространственными
определениями - это, пожалуй, самый простой ход. Несколько сложнее, но принципиально
в том же ключе, через деятельность, раскрываются и собственно логические
категории, которые кажутся весьма удаленными от эмпирического содержания.
В сознании вообще нет ничего, чего бы не было в опыте. Поэтому логические
категории первоначально даны опыту, деятельности, как объективные категории
бытия, как формы, присущие самой действительности, как условия возможности
самого этого опыта. Но как они потом из этого опыта могут быть выявлены? По
Канту, они являются всего лишь субъективно-априорными схемами рассудка, но никак
не формами самой действительности. Поэтому и фиксируются, и остаются только
субъективными условиями опыта. Материализм, однако, обязывает видеть в
категориях объективные условия опыта, а потому и обнаруживать всеобщие и
необходимые формы бытия вещей в самом опыте, в предметно-практической деятельности
человека. На них, этих формах, опыт необходимо строится, но субъективно,
сознанию, они даются только в процессе развития практики и познания.
Всеобщая и необходимая форма существования вещей объективного мира
должна как-то оказаться формой знаемой. Но в деятельности она развернута только в
той мере, в какой развернут сам опыт. Сила всемирного тяготения, скажем,
развернута только в такой форме, в какой она используется практически действующим
человеком. И не только используется - человек на нее наталкивается как на границу
своих возможностей, и наталкивается только потому, что она объективно явлена,
развернута в пространстве и времени его бытия.
Все категории, все логические определения вещи разворачиваются и
обнаруживаются в движении. Если вещь не действует сама и на нее ничто не действует, т.е.
если не происходят никакие изменения, созерцание никаких логических определений
из нее не извлечет. Я их, эти логические определения, извлекаю из вещи только в
процессе ее преобразования, только здесь я могу проследить последовательность,
связь и взаимообусловленность всех ее развернувшихся форм. Если же вещь не
предстала в своем многообразии, своих связях и отношениях, то о ней я ничего
сказать не могу. Но любая категория, объективно существующая как условие и форма
общественной культурно-исторической деятельности, не может выступить фактом
сознания, пока ее определения непосредственно совпадают с формой деятельности.
64
Лишь их различие при условии удержания в единой деятельностной ситуации дает
возможность и задает необходимость осознания этих категорий.
Выявляя в деятельности внутренние формы вещей и делая их фактом своего
сознания, превращая эти формы в свои деятельные способности, человек расширяет и
обогащает свои возможности проникновения как в суть вещей, так и в суть своего
собственного Я, в суть становления и способа бытия этого Я. Вся система моих
представлений о мире и о человеке сознательно или бессознательно является глубочайшей
основой моего суждения о любой вещи в этом мире, предикатом моего жизненного
бытия. Более того, здесь предикат как раз становится на место субъекта, ибо Я есть
не что иное, как свернутое в точечность содержание тех категориальных схем,
которые индивид присваивает в процессе своей предметно-практической деятельности.
Мышление не есть рассуждение. Мышление есть всеобщая идеальная форма
деятельности человека, согласующаяся со всеобщими формами самой
действительности. Поэтому рассуждение может претендовать на мышление только при условии
согласования своего внутреннего порядка с этими формами. Первоначально форма
вещи, в ее внешних и внутренних определениях, может выявиться для меня и стать
знаемой только в реальной деятельности с этой вещью. И, удерживая образ этой
вещи в своей субъективности (в душе, в сознании, в памяти и т.д., пока это
несущественно), я могу идеально, вне реальной деятельности, осуществлять деятельность
планирующую, т.е. предвидеть все возможные объективные и субъективные
моменты моей будущей деятельности. Это и есть размышление, т.е. оперирование
образами действительности при построении необходимого мне действия. Но это
"оперирование", если оно в самом деле претендует на истину, должно опираться на всеобщие
формы деятельности, т.е. категории, любой дискурс должен быть согласован с
ними, собой выражать их и через них проявлять себя.
Всеобщие формы движения человеческой культуры поэтому и есть мышление.
Попадая в "силовое поле" форм этой культуры, человек во всех его проявлениях
испытывает его напряжение и вынужден согласовывать с его "силовыми линиями"
любое свое действие. И эта вынужденность не менее жесткая, чем формы
природной действительности, на которые наталкивается деятельность человека и которые
она по необходимости в себе воспроизводит.
В практике человека вещи даны с их собственной активностью, мера которой
содержится в формах активности самого человека (иначе говоря, своей способностью
человек измеряет и способности вещи). Обнаруживая различие в форме и мере
движения каждой вещи, в обстоятельства его деятельности попадающей, человек и себя
сознает как вещь среди других вещей со своей особой мерой активности. Но, став
фактом сознания, активность любой вещи мыслится человеком через свою
собственную форму движения: с одной стороны, через ее отличие от своей формы
движения, а с другой - через форму тождества с ней. Поэтому, кстати, движению вещи и
приписывается такое же начало, какое сознание обнаруживает в действиях самого
человека: вещи мыслятся как имеющие субъективность, им приписывается все то,
что присуще человеку. Отсюда мифологическое сознание.
Именно в такой форме субъективность и осознается первоначально. А
объективно активным моментом этой субъективности является мышление, которое как
специфическая универсальная способность будет выделена сознанием внутри себя
значительно позже, софистами. Человек есть мера всех вещей, утверждал Протагор, и если
это положение не понимать субъективистски и не приписывать эту способность
измерения вещей каждому отдельному человеку, а мыслить ее как всеобще-человеческую
способность, - если это утверждение понимать вне софистики, то ничто не должно
нам помешать увидеть в нем истину. Человек потому имеет право измерять
(оценивать) вещи, что он в своих способностях, способах своего бытия удерживает всеобщие
формы самих вещей, и тем самым его измерение вещей есть измерение вещей самими
вещами, есть суждение о вещи с точки зрения ее всеобщей формы. Всеобщее вещей
обособилось в человеке, а потому и стало для них, этих вещей, мерой.
3 Вопросы философии, № 3
65
Существует ли "школа Ильенкова"?
Е. В. МАРЕЕВА
На III российском философском конгрессе (Ростов-на-Дону, 2002)
распространялась анкета, с помощью которой, среди прочего, оценивали популярность
марксизма. При этом социологи предлагали выбрать один из вариантов: марксизм в духе
Франкфуртской школы, марксизм, предложенный Альтюссером или Сартром,
советский "диамат" с "истматом", традиция, связанная с именами Лукача и Ильенкова.
Все указанные версии сложились в XX веке. Что касается советского марксизма,
то даже социологи, как мы видим, констатируют противостояние официальной
версии и того варианта марксизма, который получил развитие, в частности, в работах
Э.В. Ильенкова. История советской философии еще не написана. Но, безусловно,
что марксизм иначе выглядел у тех, кто занимался не "диаматом", а диалектической
логикой, не "истматом", а материалистическим пониманием истории. И те акценты,
которые были проставлены в работах Ильенкова, легче всего оценивать в
контексте "ренессанса" марксизма, который был вызван публикацией уже в первой
половине XX века рукописей Маркса.
Любая свежая мысль, овладевшая массами, обречена стать лозунгом, слоганом -
пропагандистским штампом. И как раз на фоне такой расхожей версии марксизма
по-новому были прочитаны "Экономическо-философские рукописи 1844 года" и
подготовительные рукописи Маркса к "Капиталу", которые позволяли убедиться,
что "общество" у Маркса не является анонимной силой, извне формирующей
индивидов, а "практика" -сугубо материальной деятельностью, не предполагающей
идеального момента.
Рукописное наследие Маркса позволяет яснее увидеть формирование его метода,
который, в отличие от гегелевской диалектики всеобщего, является диалектикой
особенного. Ведь спекулятивности в учении Гегеля в XIX в. вызов был брошен
дважды. И оба раза от имени "живой жизни". Но неклассическая философия в лице
Шопенгауэра, Киркегора, Ницше искала убежище от обезличивающей тотальности
в частном существовании, и по сути просто меняла плюс на минус, общее на
частное. Иначе выглядит диалектика особенного, когда постулируемой тотальности
противостоит не ее антипод - единичное, а процесс становления единичного в
тотальность особого рода - человеческую индивидуальность.
Если коммунизм, по Марксу, - это не вселенский супермаркет, а "свободное
развитие каждого" при условии "свободного развития всех", то и практика - это не
просто совместный труд по созданию такого бесплатного супермаркета. Иначе говоря,
бросая вызов Гегелю от имени "живой жизни", Маркс имел в виду не частное
существование, а совместную деятельность людей. Но разница между одномерным
66
марксизмом и его "творческим" вариантом коренится в разном понимания самой
практической жизни.
Аксиома "диамата" в том, что материя первична, а дух вторичен. В "истмате"
речь уже идет об "общественном бытии", определяющем "общественное сознание".
И в обоих случаях жизнь и мысль - антиподы, как это и должно быть в отчужденном
обществе. Таким образом, сама отчужденная жизнь с необходимостью превращала
"практику" в банальный труд, а "общественное бытие" - в бездушную
унифицирующую тотальность. И нужен был "ренессанс" марксизма, чтобы в понятии "практика"
вновь обнаружился диалектический смысл, а к "общественному бытию" вернулось
сознание.
Работы Э.В. Ильенкова потому и стали событием культурной жизни, что
марксизм в них предстал как материализм нового типа, который не противопоставляет
идеальное и материальное, а исследует такие формы материального бытия,
которые чреваты идеальным, т.е. предполагают его в качестве своего внутреннего
момента. Более того, через четверть века после его гибели многим стало ясно, что
ядро его творчества - это концепция идеального. В ней наиболее явно выразился
"ренессанс" марксистской философии, в русле которого и возникла "школа Ильенкова".
В концепции идеального Ильенкова сходятся в единство другие аспекты его
творчества. Здесь исток его нового прочтения философской классики. И здесь,
наверное, вход в "школу Ильенкова", к которой принадлежат не только те, кто лично
знал философа. Наоборот, многие из тех, кто его знал, не приняли этой
методологии или ее не поняли. Преемственность в философии может устанавливаться через
текст, а значит, заочно. А потому путь в "школу Ильенкова" для многих впереди.
И связан он с признанием парадокса, смысл которого в том, что марксизм - это
такой материализм, который считает сутью человеческой жизни идеальное.
Так исторически сложилось, что сторонники "творческого" марксизма,
отмежевываясь от штампов, связанных с понятиями "общество" и "социальная
обусловленность", стали пользоваться оппозицией "культура" и "натура". Работы Ильенкова,
изданные в серии "Мыслители XX века", совсем не случайно собраны под общим
названием "Философия и культура" (М., 1991). В массовом сознании Маркс
присутствует как автор "Капитала" и идеолог пролетарской революции. Но сам капитализм,
как и пролетариат XIX-XX вв., сегодня уже в значительной мере история. Даже в
отсталых странах, к которым вновь принадлежит Россия, отношения между
хозяином и работником трансформированы в свете постиндустриальной реальности.
Для догматического марксизма, превратившего марксизм в систему, ход истории
обернулся катастрофой. Но параллельно с тем, как становилась историей теория
пролетарской революции и пресловутая "пятичленка", особую актуальность
обретал метод Маркса - его понимание восхождения от абстрактного к конкретному,
единства исторического и логического, вся его историческая диалектика как
методология культурно-исторического процесса.
И в этом свете по-новому зазвучало известное положение из "Немецкой
идеологии" о теоретических абстракциях, которые, будучи обособленными от реальной
истории, ничего не стоят. Эти абстракции, писали Маркс и Энгельс в самом начале их
сотрудничества, служат упорядочиванию, обобщению и осмыслению исторического
материала. Но они не должны быть "рецептом" и "схемой", под которые подгоняют
реальную историю1. Речь идет о том, что, будучи скорректированным практикой,
метод с необходимостью оборачивается новой теорией. А в результате к концу XX века
именно в форме культурно-исторической теории марксизм стал продуктивно
работать в области психологии, педагогики и т.д.
Но, предлагая увидеть в марксизме метод анализа культуры, следует иметь в
виду, что такого рода культурно-историческое исследование лишь терминологически
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. С. 26.
3* 67
сопоставимо с современной культурологией, а по сути оно о том же, но совсем по-
другому. Ближе всего к обозначенному культурно-историческому подходу
находится "философия культуры" в том ее марксистском варианте, который принадлежит
В.М. Межуеву. В размежевании с официальным марксизмом, В.М. Межуев и
ученики Э.В. Ильенкова шли параллельными путями.
Именно в рамках диалектической логики складывается представление о том, что
материальное в мире культуры не противостоит, а прорастает своей
противоположностью - идеальным. В данном случае граница между материальным миром и
идеальным - это не граница между потусторонним и посюсторонним бытием. И
материальное здесь чревато идеальным не в качестве некоего ядра, скрытого за
материальной оболочкой. По большому счету грань между материальным и идеальным не
пространственная, а временная. Это граница между природным и культурным
бытием живых существ. Когда-то, положив начало культурно-историческому бытию,
наши животные предки стали первыми людьми, а сегодня эту грань переступает
каждый ребенок, придавая своей физиологии культурную форму.
Культура в свете концепции идеального Ильенкова - это как раз тот уровень
материального бытия, которому доступно идеальное. Причем идеальным чреваты не
только книга и храм, но также стул, стол и швейная игла, если они включены в наше
общение и деятельность и сделаны по-человечески. К концепции Ильенкова
применима формула: идеальное - это не антипод, а "снятое" материальное. Гегелевская
категория "снятие" в данном случае помогает ясно понять, что идеальное - это не
чистый дух в противоположность косной материи. Идеальное в ильенковском
понимании - это то же материальное, но живущее не своей жизнью, если такова жизнь
природы. Идеальное - это материальное, живущее по законам культуры.
Когда мы заставляем металлы летать, а собак искать наркотики, то они как раз
действуют по законам мира культуры, а собственно природные закономерности
здесь снимаются, т.е. уходят в основание культурно-исторического процесса. И
такая трансформация бытия вещей возможна лишь посредством предметной
деятельности, которая предписывает вещам иные законы существования, используя
природный закон в качестве необходимой предпосылки.
Следовательно, материальное в мире культуры чревато идеальным не в смысле
наполнения чрева, а в смысле возможной деятельной функции. Идеальный момент
представлен уже в целесообразном устройстве иглы, предназначенной для шитья.
Он выражен еще откровеннее, если иглой делают прекрасную вышивку. Но
наиболее явным образом идеальное представлено в действиях вышивальщицы, ее мыслях
и переживаниях, если она делает это с любовью.
Формула "идеальное есть снятое материальное" означает, что идеальное - это
способ существования материального, когда материальные предметы в Нашей
деятельности и общении обретают всеобщий идеальный смысл. И, будучи
включенными в человеческую жизнедеятельность, материальные предметы начинают
подчиняться таким идеальным нормам как Истина, Добро и Красота, которых нет в
природе.
Изложенное выше понимание идеального даже у сторонников Ильенкова может
вызвать протест. И причина не в том, что здесь сознательно искажена суть дела, а в
том, что позиция Ильенкова, как и всякая серьезная философия, отражает реальные
противоречия бытия и познания, а потому, в свою очередь, двоится. Из Гегеля, как
известно, вышли старо- и младогегельянцы. В России из Маркса исходили
сторонники как "легального", так и "революционного" марксизма. Сегодня уже можно
говорить о существовании правого и левого уклона в "школе Ильенкова". И критерием
расхождения между ними стало отношение к концепции идеального у советского
марксиста Мих. Лифшица.
Поначалу несомненным и очень важным было единство Ильенкова и Лифшица в
их противостоянии различным формам субъективизма. В предисловии к сборнику
статей Ильенкова "Искусство и коммунистический идеал", изданному уже посмерт-
68
но, Лифшиц недаром сделал акцент в работах Ильенкова на том, что и сознание, и
личность человека тем значительней, чем полнее и шире в ней представлено
коллективно-общее, а вовсе не сугубо индивидуальная ее неповторимость2.
Идеальна не собственно субъективная, а объективная сторона нашего
существования. А потому идеальна не прихоть, а именно свобода. Но Ильенков и Лифшиц
едины еще и в том, что идеально такое объективное содержание жизни, в котором
присутствует определенная мера совершенства. И, следовательно, проблему
идеального нельзя отделить от проблемы идеала.
Истоки указанной постановки проблемы идеального содержатся уже у Платона.
Но если в традиции, идущей от Платона к Гегелю, идеальное по сути тождественно
объективно представленному всеобщему, то в марксизме идеальным является не
всеобщее как таковое, а его особая форма. И тогда с необходимостью встает вопрос
о том, когда и при каких условиях материально-всеобщее становится идеально-
всеобщим!
Именно в этом пункте и разошлись по большому счету Лифшиц и Ильенков. Но,
как показывает сегодняшняя полемика вокруг их концепций, это было расхождение
не во второстепенном, а в главном. В настоящий момент за единством их взглядов
просматривается принципиальное различие в трактовке соотношения культуры и
натуры, сущности человека и способа освоения им мира, т.е. ядра всякой серьезной
философской теории.
Если Ильенков нигде явным образом не высказывался по поводу идеальных
образований в природе, то у Лифшица здесь наиболее характерный пункт его "онтогносео-
логии"3. Уже в природе, доказывал Лифшиц, есть предметы, которые стали
зеркалом целого круга явлений, выражением их всеобщего значения. И в этом качестве
они идеальны.
Именно такие объекты, достигшие естественного предела в развитии, а значит, и
определенного совершенства, с точки зрения Лифшица, сообщают идеальность
нашему сознанию. Истинное сознание, считал он, отличается от неистинного не
столько характером отражения, сколько объектом. Оно истинно и идеально, когда
отражает идеальные природные формы, и выступает в роли зеркала зеркал, идеала
идеалов. Таким образом, идеальность человеческого сознания оказывается у Лифшица
производной от идеальности форм природы.
Главное назначение человека в рамках "онтогносеологии", отметил в свое время
А.К. Фролов, состоит в том, что он есть "отработанный естественным процессом
развития, орган идентичных себе, достигших известного самобытия вещей"4. А это
значит, что в практической жизни, науке, искусстве - во всей культуре человечества
находит свое выражение суть и норма природного бытия. И, следовательно, в
высшем идеальном содержании культуры представлены высшие достижения природы.
Культура оказывается продолжением природы, когда та дозревает до рефлексии
своих субстанциальных потенций.
Здесь стоит отметить, что философская общественность в 60-е годы была
шокирована именно тем, что Ильенков также рассматривал идеальность как
взаимоотношения не столько идей, сколько вещей. "Под "идеальностью", или "идеальным", -
писал он, - материализм и обязан иметь в виду то очень своеобразное - и то строго
фиксируемое - соотношение между двумя (по крайней мере) материальными
объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями), внутри которого один матери-
См.: Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М, 1984. С. 5.
3 Подробнее об "онтогносеологии" Мих.Лифшица см.: Мареев С.Н., Мареева Е.В., Ароланов ВТ.
Философия XX века (истоки и итоги). Академпроект, M., 2G01. Гл. 6, § 4. Онтогносеология Мих. Лифшица и
"советский марксизм".
4 Фролов А.К. К вопросу о соотношении понятий "идеал" (Ideal) и "идеальное" (Ideele) // Ильенков-
ские чтения-99. Москва-Зеленоград, 1999. С. 41.
69
альный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя другого
объекта, а еще точнее - всеобщей природы этого другого объекта, всеобщей
формы и закономерности этого другого объекта, остающейся инвариантной во всех его
изменениях, во всех его эмпирически-очевидных вариациях"5.
Из этого следовало, что идеальное по сути есть "объективное представление",
когда одна вещь представляет сущность, закон, норму другой вещи. Без "quid pro
quo", т.е. "одного вместо другого", нет феномена идеального. И такое понимание
идеального было парадоксально для обыденного сознания, неприемлемо для многих
философов и истинно для Лифшица с Ильенковым. Здесь очередное совпадение их
позиций. Но здесь же таилось и принципиальное различие, связанное с понятием
деятельности.
Родиной идеального в "онтогносеологии", как уже говорилось, является природа.
Именно в природном мире до и независимо от деятельности человека и культуры,
согласно Лифшицу, рождаются идеальные формы бытия. Таким образом не что
иное, как естественно-природная эволюция превращает материально-всеобщее в
идеально-всеобщее в виде совершенных, а по-другому - "чистых" форм природы. А
деятельность человека, т.е. культура по большому счету продолжает
совершенствовать и помогает рефлектировать эти идеальные формы. Там же, где она выходит
за пределы природной меры, перед нами путь к отчуждению культуры,
искусственности и гибели человечества.
Иначе выглядит рождение идеального в концепции Ильенкова, где именно
деятельность человека, а не природная эволюция преобразует материально-всеобщее в
идеально-всеобщее. Много раз в зависимости от контекста Ильенков повторяет, что
идеального не может быть без человека и человеческой жизнедеятельности.
"Поэтому "идеальное" существует только в человеке, - пишет он. - Вне человека и
помимо него никакого "идеального" нет"6. Но это как раз и означает, что не природа, а
мир культуры является родиной идеального.
Идеальное, согласно Ильенкову, есть "своеобразная печать", наложенная на
вещество природы человеческой жизнедеятельностью, это форма функционирования
физической вещи в процессе человеческой жизнедеятельности7. Тайна идеальности,
утверждает он, состоит в том, что это форма вещи, представленная в деятельности
человека как форма этой деятельности. И наоборот: идеальность состоит в том, что
форма деятельности предстает как форма внешней вещи8.
Признать деятельность человека, а не природную эволюцию, субстанцией
идеального - серьезный шаг в анализе этой проблемы. Но все останется пустой
декларацией превосходства культуры над природой, если мы не ответим на вопрос о
качественном отличии деятельных возможностей человека.
Самое простое - это отождествить феномен идеального с процессом
опредмечивания-распредмечивания, когда одно и то же содержание предстает то как форма
внешней вещи, то как схематизм действия с ней. Правда, здесь сразу же возникает
вопрос о том, какая именно форма "сканируется" действием человека. Внешняя или
внутренняя?
В свое время Аристотель считал возможным воссоздавать с помощью осязания
только внешнюю форму вещи, а внутреннюю субстанциальную форму вещи
связывал с деятельностью бестелесного ума Бога-перводвигателя. Когда Ильенков
говорит о деятельном воссоздании всеобщей формы и закономерности вещи, то это уже
не действия руки или бестелесного ума, а сложно организованная и технически осна-
5 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 235.
6 Там же. С. 269.
7 См.: там же. С. 256.
8 См.: там же.
70
щенная деятельность человечества, что взятое в историческом контексте и
называют "практикой". И в тех случаях, когда культурный человек может одной лишь
рукой воссоздать внутреннюю форму вещи, он действует не с любой вещью, а, по
словам Ильенкова, с вещью, созданной "человеком для человека".
Итак, к миру идеального предметы приобщаются не их природным развитием, а
практической деятельностью, способной, по выражению автора ряда статей об
Ильенкове А.Д. Майданского, выворачивать материальное "сущностью наизнанку".
Причем, согласно концепции Ильенкова, идеальность адекватно выражена там, где
суть вещи и рода представлена не в лучшем представителе, а в принципиально ином.
Например, сущность вещи в теоретическом понятии, суть человеческих отношений
в звуках музыки, мраморе и пр. Интересно, что для некоторых исследователей
творчества Ильенкова область символических форм и есть собственно сфера бытия
идеального. Так Питер Е. Джонс (Великобритания) в своей статье "Символы, орудия и
идеальность у Ильенкова" считает, что орудия труда в свете этой концепции не
содержат в себе ни грана идеального. "Следовательно, невозможно прямо
отождествлять "идеальность" (которую Бэкхарст кое-где относит к "нематериальным
свойствам"), - пишет Джонс, - с социально-исторически формирующимся
функционированием полезных артефактов, орудий, средств труда и т.д. ... Короче, "идеальность"
вообще не означает использование или функцию .
Здесь, как мы видим, обнаруживается очередной спорный момент, связанный с
проблемой идеального. Речь идет о том, является ли истоком идеального
материально-преобразующая деятельность, а значит, следует различать исходную
идеальность орудий труда и идеальность высших продуктов духовной культуры. Или
идеальны лишь символические формы культуры, в науке и искусстве прежде всего?
Указанные спорные моменты позволяют представить и оценить многообразие
аспектов проблемы идеального, и все же, по мнению автора данной статьи, у всех
этих споров есть своеобразное методологическое ядро, помогающее высбетить всю
оригинальность ильенковской концепции. Причем автор, не переходя на личности,
предполагает, что деление на "правых" и "левых" способно задать критерий для
самоопределения внутри ильенковского движения. Предложенная терминология во
многом условна, т.е. не имеет прямого отношения к политической борьбе XX века.
Так в политическом плане правоильенковец А.К. Фролов намного "левее" автора
этой статьи. Что касается политических взглядов самого Ильенкова, то это тема для
отдельного разговора.
Итак, методологическим ключом в данном случае является соотношение
культуры и природы. "Правое" при этом означает ставку на объективную закономерность,
но такую закономерность, которая в мире культуры является продолжением
закономерностей природы. Для правоильенковцев Ильенков наиболее важен и
интересен там, где идеализирующая деятельность человека совершенствует природную
субстанцию, обнаруживая ее скрытые закономерности. И этот акцент на
принципиальном тождестве всеобщего в его природной и культурной ипостаси, безусловно,
сближает позиции Ильенкова и Лифшица.
"Левое" сегодня, как и сто лет назад, связано со стремлением обнаружить
объективное в самой субъективности, выявить закономерности иного типа в самой
деятельности человека как субстанции культуры. И культура, таким образом,
оказывается не продолжением, а диалектическим снятием природы, в процессе которого
идеализирующая деятельность человека на основе природы созидает новую форму
бытия с принципиально новыми возможностями. Естественно, что культура здесь
предстает именно в том виде, который Лифшиц считал чреватым деградацией и
гибелью человечества.
9 Jones Peter Ε. Symbols, tools and ideality in Ilyenkov //http://caute.by.ru/ilyenkov/comments/jones.htm -
1998. Перевод статьи Питера Ε. Джонса см. в наст, номере журнала.
71
Левоильенковцы акцентируют внимание на творческой стороне деятельности,
которая внушала беспокойство Лифшицу. Здесь стоит напомнить о критике Лифши-
цем модернизма, с которым он столкнулся в 20-е годы, будучи студентом ВХУТЕ-
МАСа. Но отрицание отчужденных форм культуры у Лифшица по сути переходит в
отрицание положительной специфики культурного бытия вообще. В работах
Ильенкова Лифшиц как раз увидел пример того, как признание своеобразия культуры
превращается в признание и оправдание ее отчужденных форм. Все ненормальное и
вырожденное в нашей жизни с позиций "онтогносеологии" - плод культуры, а
нормальная жизнь без уродств и извращений - проявление естественной природы
человека. Но это в духе руссоизма и толстовства.
Итак, творчество, творческая деятельность, с точки зрения Лифшица, неизбежно
таит в себе отчуждение. По сути он признает лишь такое творчество, которое
основано на отражении, а не на преобразовании сути природы. А там, где человек
начинает привносить принципиально новое в природную норму, он вступает, по мнению
Лифшица, на путь превращенных форм. Именно поэтому Лифшиц считал акцент,
сделанный Ильенковым на объективных формах культуры, слабостью его
концепции идеального. В своей статье "Об идеальном и реальном" Лифшиц определил
такую позицию как "фетишизм культуры", а по-другому - "культурно-исторический
редукционизм"10.
Формы культуры, которые Ильенков именовал "объективными
представлениями", и вправду можно назвать его "увлечением". "Сюда входят, - уточнял он, - все
общие нравственно-моральные нормы, регулирующие бытовую жизнедеятельность
людей, а далее и правовые установления, формы государственно-политической
организации жизни, ритуально узаконенные схемы деятельности во всех ее сферах,
обязательные регламенты и т.д. и т.п., вплоть до грамматически-синтаксических
структур речи и языка и логических нормативов рассуждения"11. Указанные
формы, по Ильенкову, определяют поведение человека подобно тому, как законы
природы обусловливают движение природных тел. И здесь, согласно Ильенкову,
заключена сердцевина мира культуры и идеального, а не ее периферия, чреватая
эксцессами, как это представлялось Лифшицу. Важно подчеркнуть, что указанные
идеальные образования невозможно редуцировать к природным формам, как
невозможно обнаружить преддверие Ромео и Джульетты в любви скорпионов, несмотря
на все заверения создателя "онтогносеологии".
И все же в работах Ильенкова по проблеме идеального обсуждение этой
стороны дела только намечено. Более определенно она обсуждается в работах
Ильенкова, связанных с эстетикой. И как раз в них более явно обнаруживает себя
объективное противоречие в ильенковской трактовке идеального, которое породило
теоретические разногласия в стане его учеников.
В статье "Об эстетической природе фантазии" Ильенков анализирует известное
положение Маркса из "Экономическо-философских рукописей 1844 года", согласно
которому человек, в отличие от животного, способен формировать природный
материал по мерке любого рода, и в силу этого "также и по законам красоты".
Еще Кантом красота была определена как "целесообразное без цели", когда
эстетическая оценка и художественное творчество изначально ориентированы на
гармонию мира. А в результате человек может воссоздать целое по фрагменту и части,
может усмотреть сущность в явлении.
См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы философии. 1984. № 10. С. 142.
Ильенков Э.В. Философия и культуры. М., 1991. С. 247.
См.: Лифшиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы философии. 1984. № 10. С. 130.
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 566.
72
Ильенков объяснял этот феномен устройством мира культуры как
"неорганического тела" человека. "Ибо в процессе "очеловечивания" природных явлений, - писал
он, - человек как раз и выделяет их "чистые формы", их всеобщие формы и законы,
из того переплетения, в котором они существуют и действуют в "неочеловеченной
природе. И далее он отмечает: "Потому-то форма красоты, связанная с
целесообразностью, и есть как раз не что иное, как "чистая форма и мера вещи", на которую
всегда ориентируется целенаправленная человеческая деятельность.
Позиция здесь выражена вполне определенно. И если поставить в данном месте
точку, то перед нами - правоильенковская интерпретация и идеального, и
эстетической проблематики. Тем не менее, даже в такой небольшой статье, как "Об
эстетической природе фантазии", не говоря уже о других статьях из сборника "Искусство и
коммунистический идеал", многое из того, что пишет Ильенков, противоречит
указанной однозначной трактовке. Искусство на каждом шагу предстает как нечто явно
чрезмерное, выходящее за пределы сформулированных выше задач.
Речь идет о том, что развитая способность воображения составляет основу не
только искусства, но и обычного чувственного восприятия. А искусство призвано
культивировать эту универсальную способность, обнажающую суть вещей. Но к
чему для схватывания вещей "под формой целесообразности" Шекспир и Данте,
Толстой и Достоевский?
Для того, чтобы высшие достижения художественной культуры не выглядели
"побочным продуктом" в освоении человеком сил природы, нужно, скорее всего,
взглянуть на проблему иначе, когда определение красоты как "целесообразного без
цели" - лишь исходный пункт и "клеточка" эстетического отношения к
действительности.
Акцент, сделанный Ильенковым на изначальном понимании красоты, вполне
закономерен в свете его критики модернистского искусства. Общий настрой статей из
сборника "Искусство и коммунистический идеал" совпадает с антимодернистскими
работами Мих. Лифшица. И естественно, что у обоих марксистов речь идет о
творческом воображении как способности воспроизводить суть мира. Что касается
произвола, то он, как пишет Ильенков, обнаруживает себя, наряду с тяготением к
штампам, при деградации и разложении способности воображения, ее распадении на
примитивные составляющие . Но, подобно тому, как кислород и водород в
совокупности не дают воды, отмечает он, сумма произвола и штампа не равна
творческому воображению.
Приведенные аргументы в споре с модернистским искусством актуальны и
сегодня, через 40 лет, о чем свидетельствует попытка вступиться за модернизм у Д. Бэк-
харста . И, тем не менее, в статье "Об эстетической природе фантазии" нас
интересуют другие моменты, когда от категории красоты мы продвигаемся к
"возвышенному" и даже "трагическому".
Как известно, у Канта разговор о возвышенном по сути возникает там, где
эстетическая область смыкается с этической. Именно здесь искусство сопоставляет
меру природы и меру человека. Человек, безусловно, слишком мал, в сравнении с
бесконечной мощью природы. Но этот факт мог бы вызвать только страх и отчаяние,
если бы не творческие усилия того же человека. Последние как раз и возвышают
человека, несмотря на его конечность, и это рождает противоречивое чувство
возвышенного.
Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. M., 1984.С. 259.
15 Там же. С. 260.
16 Там же. С. 249.
17 См.: Бэкхарст Д. О живом и мертвом в философии Э.В.Ильенкова // Вопросы философии. 2001.
№5.
73
Понятно, что подобные возможности нельзя обрести лишь на пути стилизации
природных процессов, выявления и воспроизведения природной меры. Создавая
иглу и топор, первобытный человек шел по пути выделения "чистых форм" природы.
Но, создавая компьютер и синтетические материалы, современный человек не
только выделяет и очищает, но и особым образом синтезирует природные процессы.
Современные технологические процессы уже актуализируют не скрытую суть
природы, а ее формальные возможности. И в этом контексте особый смысл обретают
следующие слова Ильенкова из статьи "Об эстетической природе фантазии":
"Человеческая деятельность в природе есть деятельность продуктивная, производящая,
рождающая - притом то, чего в природе самой по себе не было и не может быть"18.
Труд, пишет в том же сборнике Ильенков, - "единственная "субстанция" всех
"модусов", всех частных образов человеческой культуры"19. И как раз в
синтезировании и преобразовании природных процессов состоит "очеловечивание" природы,
необходимая предпосылка которого - выделение "чистых" природных форм.
Но "очеловечивание" природы измеряется не только успехами и кризисами на
путях индустриального и постиндустриального развития. "Очеловечивание"
природы - это и преобразование самого человеческого существа. И здесь стоит вспомнить
еще один известный фрагмент из "Экономическо-философских рукописей 1844
года" Маркса. "Ибо не только пять внешних чувств, - писал Маркс, - но и так
называемые духовные чувства, практические чувства (воля, любовь и т.д.) - одним словом
человеческое чувство, человечность чувств, - возникают лишь благодаря наличию
соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе"20. Высшие
духовные чувства, в их столкновении с низкими и низменными стремлениями, часто у
одного и того же субъекта, и есть главная тема серьезного искусства, т.е. творчества
Шекспира, Достоевского, Толстого...
Значительное место в работах Ильенкова занимала критика превращенных
форм, имитирующих природное бытие на зрелых ступенях цивилизации.
Звероподобная конкуренция в гражданском обществе и профессиональный кретинизм были
его постоянными мишенями. Но критика вряд ли достигнет цели, если у автора нет
ясного представления о подлинных отношениях и сути человеческой жизни. А это
значит, что в рамках той позиции, которая определена как левоильенковская,
особый смысл обретает связь проблемы идеального с вопросом о природе идеала.
А разговор о возвышенном с необходимостью переходит в анализ категории
абсолютного.
Нет более благородной и одновременно банально-избитой темы для обсуждения,
чем человеческие идеалы. Само собой, что здесь мы оказываемся в области очень
далекой от природных форм и закономерностей. И испокон веку эту область
определяют как область чего-то абсолютного, поскольку идеал вечен и незыблем, в
отличие от нашего бренного существования.
В статье "Проблема идеала в философии" Ильенков замечает, что ни из
математики, ни из физики, из физиологии или химии не вывести никакого представления о
цели существования человека21. И далее он соглашается с Кантом и Фихте в том,
что не существует во "внешнем мире" такой палаты мер и весов, где хранится мера
человечности .
Все это означает, что идеал как мера человеческого в человеке не дан человеку
извне - как абсолютная божественная или природная мера. Вырастая из идеальной
8 Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М, 1984. С. 257.
9 Там же. С. 172.
!0 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 594.
1 Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М., 1984. С. 126.
12 См.: там же. С. 131.
74
стороны существования человека, он является производным "следящего рефлекса"
нашей деятельности. Так руку в практическом действии поправляет глаз, а в более
сложном действии - воображаемый образ конечного продукта. Но человек
отличается от животного тем, что его действиями руководит не только глаз и образ
воображаемой цели, но и представление о добре и справедливости.
Таким образом, своеобразие культурно-исторической методологии, которую,
вслед за Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым развивал Ильенков, состоит в том, что
идеальное и идеалы здесь отнюдь не постулируются. Целевая детерминация
человека идеалом понимается как необходимый момент в становящейся деятельности
человека, а вовсе не как ее внешняя неизменная предпосылка.
Но, рождаясь в мире культуры, идеал не теряет своего абсолютного содержания. И в
этом, наверное, самая парадоксальная сторона в бытии человека. Когда мы говорим, что
"рукописи не горят", то это не означает, что они сделаны из материала, не подверженному
быстрому окислению. Так буквально понимает это выражение лишь химик, причем
химик "недалекий". На деле в данном случае речь идет не о форме, а о содержании, а именно
о неком абсолютном ( идеальном) смысле произведения искусства.
Абсолютным и бессмертным в культуре является не то, что существует всегда. В
мире культуры, в отличие от ее прародительницы - природы, бессмертно то, что,
возникая и исчезая, несет в себе указанное идеальное содержание. И особый вопрос -
каким образом это вечное, абсолютное содержание оказывается представлено в
единичном - единичном произведении или индивиде.
Здесь перед нами высший продукт идеализации мира человеком, когда смертное
и бессмертное совпадают. Ведь не только в духовной, но и в материальной культуре
творческая деятельность способна привнести в существование бренного, конечного
индивида момент бессмертия. И здесь, на наш взгляд, наиболее перспективный
момент исследования проблемы идеального.
Взаимосвязи в мире культуры на первый взгляд действительно алогичны. Ведь в
искусстве повторение не губит, а реализует неповторимые черты произведения. В том же
искусстве мы обретаем, по словам Ю. Лотмана, "опыт неслучившегося", т.е. воплощаем
абстрактную возможность, что невозможно в природе. И нравственный поступок столь
же парадоксален, поскольку в этом случае, отдавая, мы не утрачиваем, а,обретаем. А в
совместном творчестве даже неэквивалентный обмен оказывается справедлив. Ведь
обмениваясь с кем-то идеями и способностями, все оказываются в выигрыше»
Рассудочной логикой указанные парадоксы не объяснить. Как не объяснить
рассудком способ "воскрешения" через общение с текстом или просто вещью,
принадлежавшей кому-то. Легче всего в таких ситуациях призвать на помощь мистику.
И дополнение рассудка мистикой - распространенный способ объяснения
парадоксов в бытии идеального. Другое дело - путь от рассудочной к диалектической
логике, которая по сути и есть диалектика истории, культуры, идеального...
Ильенкова часто называли идеалистом. Этот упрек высказывался
ортодоксальными марксистами-"диаматчиками", для которых до сих пор единственная
реальность лишь та, которую можно пощупать. Но тот, для кого идеалы - объективная
реальность мира культуры, рождающегося из предметной деятельности человека,
идеалист особого рода. Сегодня, когда Россия переживает "ренессанс" уже не
марксизма, а христианства, творчество Ильенкова - серьезный аргумент в споре с теми,
кто, вслед за Достоевским, утверждает: если Бога нет, то все позволено. Это
аргумент в пользу того, что идеал человечности может быть всерьез понят как
порождение не потустороннего, а посюстороннего мира. Понять "очеловеченный" мир в его
противоречивом единстве и пытался Ильенков.
Таким образом, суть "школы Ильенкова" не сводится к сумме положений и
формул, признав которые становишься "ильенковцем". Признать и принять его
наследие можно, но, чтобы "школа" имела перспективу, нужно превратить наследие
Ильенкова в "рабочую методологию", дающую результаты в теоретическом
постижении и практическом утверждении культуры.
75
О мыслящей себя Природе
и идеальной реальности
А.Д. МАЙДАНСКИЙ
В простом понятии мышления различаются три абстрактных момента, три
чистых формы его бытия. Сначала мышление являет себя нам как нечто единичное,
как принадлежность мыслящего индивидуума, мое персональное "я". Далее,
мышление выступает в качестве особенного признака человеческого рода, общества, как
форма общения многих индивидов. И наконец в своем всеобщем виде мышление
определяется как атрибут Природы, этой бесконечной и вечной реальности. Это
последнее, всеобщее определение мышления и станет предметом нашей штудии.
I
Мышление как атрибут Природы, разумеется, нельзя представлять себе по
образу и подобию конечного, человеческого мышления. И уж меньше всего стоит судить
о нем по мерке индивидуального "я". Между этими двумя формами мышления не
больше сходства, чем у созвездия Пса и лающего животного, как образно выразился
Спиноза. Что же такое это мышление-атрибут, Мышление с большой буквы?
Скептик, доверяющий лишь собственным чувствам, и то не вполне, наверняка
сочтет такое Мышление метафизической химерой. Так как оно в принципе не может
стать предметом чувственного опыта. Тут скептик прав. Предметом нашего опыта
могут быть только конечные вещи, существование которых ограничено в
пространстве и времени. А Мышление является атрибутом вещи абсолютно бесконечной.
Далее спрашивается, коль скоро Природа мыслит, то что она мыслит? Самое
себя, больше нечего. Это отношение к себе, действие в себе и на себя самого как на
нечто иное, отличное от себя, - неотъемлемый момент понятия бесконечного. Еще
одна химера, на сей раз логическая, решит, должно быть, наш здравомыслящий
скептик, чтящий закон тождества.
Что же, давайте согласимся призвать на подмогу здравый смысл. Он
подсказывает, что, как всякие нормальные противоположности, конечное и бесконечное не
существуют и даже не могут быть мыслимы по отдельности, одно без другого. Так, в
геометрии всякую конечную величину, отрезок или фигуру, можно помыслить лишь
при условии, что прежде дана неограниченная прямая линия или плоскость. Прямую
мышление скальпелем абстракции рассекает на отрезки, из плоскости "вырезает"
всевозможные фигуры. Следовательно, конечное может существовать и мыслиться
лишь в качестве модуса, или "отрезка", бесконечной реальности.
76
По своему понятию бесконечное "первее" конечного, говорил Декарт, в одном
лице великий философ и геометр. Однако и бесконечное не может существовать
отдельно от конечных вещей, так сказать, в чистом виде. Бесконечное существует
только в конечной форме. Природа мыслит себя не иначе, как через посредство
конечных мыслящих существ, а не прямо и непосредственно, наподобие Господа Бога.
Мышление в этом плане есть не что иное, как особая форма выражения
бесконечной Природы в мире конечных вещей. Вот теперь мы подошли к сути дела. В
чистом виде проблема формулируется так: в чем заключается отличительная
особенность мышления как формы выражения природы вещей? Эту характерную черту
мышления два тысячелетия тому назад философы обозначили термином идеальное.
II
Какое же выражение природы вещей вправе именоваться "идеальным"? Только
чистая, предельно точная и адекватная форма выражения, в которой нет ничего, что
хоть на йоту искажало или затемняло бы сущность данной вещи. Еще Платон
увидел, что мысль мысли рознь, что далеко не всякая из них выражает сущность своего
предмета, и уж тем более не всякая мысль схватывает эту сущность в чистом виде,
не примешивая к ней ничего "от себя" или от посторонних вещей. Между тем, лишь
такие, абсолютно чистые выражения сущности вещей в мышлении относятся к
категории идей.
Взглянем теперь на дело со стороны уже не отдельных вещей, а Природы как
таковой, и сравним идеальную форму ее бытия, Мышление, с формой материальной.
В Материи, в мире движущихся, живых и неживых тел, вечные и бесконечные
законы Природы осуществляются косвенно, через взаимное действие бесчисленного
множества вещей. А в мире идей те же законы реализуются прямо и
непосредственно - в действиях одной, конечной вещи, которые строятся сообразно природе всех
прочих вещей, ex analogia universi (по образу вселенной), говоря языком Спинозы.
Эту универсальную форму деятельности он считал отличительным признаком
"вещи мыслящей" (res cogitans).
Всякая материальная вещь, тело, сталкиваясь с другими телами, всегда в разной
мере зависит от них. Одни из этих внешних тел отвечают природе данной вещи и
помогают ей раскрыть свой потенциал, другие же, напротив, враждебны ей.
Последние нарушают собственную форму движения и деформируют структуру данной
вещи, мешая ей реализовать свою конкретную природу. В конечном счете на всякое
тело воздействует, давит вся Вселенная. Вот почему в физическом мире не
встречаются идеально-чистые линии и формы бытия. Ни одна вещь здесь в принципе не
способна выразить свою сущность в полной мере, она может лишь приблизиться к
своему идеальному состоянию, но достигнуть его - нет, никогда. Между наличным
бытием и сущностью конечных вещей зияет тут пропасть бесконечности. Такова, в
самых общих чертах, форма осуществления законов Природы в мире движущейся
Материи.
Однако, как в мире товаров непременно находится идеальный товар-эквивалент,
способный адекватно выразить стоимость всех прочих товаров, так и в физическом
мире имеется такое тело, чья форма движения позволяет адекватно выразить
форму любого другого тела. Мыслящая вещь превращает формы бытия всех прочих
вещей в формы своей собственной деятельности, очищая и присваивая их. Она
рассекает плоть наличного бытия, обнажая сущность вещи и представляя ее в идеально-
чистом виде, отдельно от самой вещи, которой эта сущность принадлежит. Там, где
сущность вещи Л получает такое своеобразное "инобытие" в поле деятельности
вещи В, мы встречаемся с феноменом идеального.
Мыслящая вещь есть идеальное "зеркало мира", speculum mundi. Ее
"неорганическим телом" делается вся бесконечная Вселенная - от элементарных частиц и
молекул до звезд и галактик. Создаваемые ею предметы культуры суть "деньги" Приро-
77
ды, на которые обменивается, впервые получая при этом свое идеальное
выражение, сущность всякой конечной вещи и - самой бесконечной Природы.
В мире Мышления единство Природы проявляется не только в форме взаимной
связи вещей, но также и непосредственно, в виде одной, конкретно-всеобщей идеи -
идеи Природы как таковой. Обладание этой бесконечной идеей отличает мыслящую
вещь от не-мыслящей (хотя бы и одушевленной), и человек действует как мыслящее
существо, лишь действуя в согласии с законами природы, по мерке идеи Природы. В
этом смысле Мышление есть не что иное, как развертывающая свое бесконечное
содержание идея Природы.
III
Идеальное есть представление, писал Э.В. Ильенков. Это такое отношение
вещей, в рамках которого вещь В превращается в представителя сущности вещи Л,
словно зеркало отражая природу последней1. При этом собственная природа вещи-
зеркала, В, ни в коей мере не примешивается к природе представляемой ею вещи Л.
Только в этом случае отношение вещей Л и В оказывается идеальным в настоящем
смысле слова.
В "Капитале" эта схема идеального представления описывается латинским
выражением quid pro quo - одно вместо другого. Речь там шла о "зеркальном" (т.е.
идеальном) характере товарной формы, отражающей общественную природу
человеческого труда как натуральное свойство созданных трудом вещей, товаров.
Термином "идеальное", впрочем, может обозначаться и нечто иное. У Платона и
Гегеля это - сама природа вещей, всеобщие законы их бытия. Для эмпириков
идеальное есть психическое или физическое состояние человеческого индивида.
Мих. Лифшиц предпочитает именовать "идеальным" нормы или образцы, к
которым стремятся приблизиться в своем наличном бытии все вещи. А у Ильенкова этим
термином обозначается отношение между по меньшей мере двумя разными вещами,
одна из которых адекватно представляет сущность другой (а не свою собственную).
Наверное, глупо было бы стараться закрепить за термином "идеальное" какое-
либо одно значение. Дело ведь не в словах, а в стоящих позади них понятиях.
Если принять определение Лифшица, то мало кому придет в голову отрицать,
что "идеальное есть во всем"2. Разумеется, у всякой вещи есть своя мера, которую
она стремится выразить в наличном бытии. Разве Ильенков оспаривал эту
тривиальную истину? Проблема не в том, у всех ли вещей имеются такие "нормы и
образцы" - ясное дело, у всех. Это совсем не та проблема идеального, которую решал
Ильенков. Это вообще никакая не проблема.
В терминологии Ильенкова все эти образцы и нормы, которые Лифшиц
обозначил термином "идеальное", как таковые вполне материальны. Материя, не
располагающая такими всеобщими формами бытия, неминуемо превратилась бы в
Аристотелеву "первичную материю", о которой ничего вразумительного и сказать-то
нельзя. Что у нее остается за вычетом всеобщих форм и мер, которые Лифшиц зачислил
в категорию идеального? Остается, так сказать, "шелуха" бытия, одни только
внешние, случайные и несущественные формообразования, которые ни у одного
знакомого с философской классикой человека не повернется язык назвать "реальными".
Таким образом, позиция Лифшица логически равнозначна утверждению простого,
абстрактного тождества идеального и реального. Если идеальное есть "истина ве-
1 Аналогия с зеркальным отражением здесь в значительной мере условная. Зеркало отражает
предметы лишь внешним образом и пассивно, в то время как идеальное отражение схватывает самую суть
предмета и является формой деятельности с этим предметом.
2 Лифшиц Mux. Об идеальном и реальном // Вопросы философии. № 10. 1984. С. 123.
78
щей", Veritas rei, значит, все остальное, неидеальное, лишается истинного бытия,
удаляясь в небытие.
Идеальная форма вещи есть форма представления, со своей стороны повторял
Ильенков. Поэтому те материальные "нормы и образцы", которые, несомненно,
"есть во всем", обретают идеальность лишь при условии, что они представлены в
чем-то ином, нежели сама та вещь, которой они от природы принадлежат.
Однако представления бывают разными, не обязательно идеальными, уточняет
Лифшиц. Он прав, верно, далеко не всякое представление - идеальное. "Например,
дипломат представляет не самого себя, а свое государство... Но дипломат может
представлять свое государство блестяще, идеально, а может и так, что сраму не
оберешься"3.
Пример хорош, давайте рассмотрим его чуть конкретнее. Спросим, а
представляет ли этот последний, "неистинный" дипломат сущность своего государства? Если
нет, значит идеального представления тут нет и с точки зрения Ильенкова. Значит,
этот дипломат в действительности представляет лишь самого себя, ошибочно думая,
что он представляет государство. Там, где вещь представляет себя, а не "свое иное",
идеальное нечего и искать.
Идеальное есть представление в ином и через иное, притом это всегда
адекватное представление, и представление именно сущности вещей, а не чего попало.
IV
Идеальное является совершенным в своем роде, настаивает Лифшиц, поступая
совершенно справедливо. Только где он нашел совершенные, идеально-чистые
формы в физическом мире? Там их нет и быть не может.
"В неочеловеченной природе все формы и законы вещей переплетают свое
действие и потому взаимно "искажают" форму и образ друг друга. Поэтому в природе
самой по себе и нельзя увидеть непосредственно "чистой формы" вещи, то есть ее
собственной, специфически ей свойственной структуры, организации и формы
движения. В неочеловеченной природе собственная форма и мера вещи всегда
"загорожена", "осложнена" и "искажена" более или менее случайным взаимодействием с
другими такими же вещами"4.
Ильенков тут не открыл Америки. Эту характерную особенность материального
мира с кристальной ясностью понял еще старик Платон. Да и Лифшиц тоже это
сознавал, поскольку счел нужным оговориться, что истинной своей формы вещь здесь
"может достигнуть только через бесконечное приближение". Иначе говоря,
достигнуть идеала нельзя, а можно лишь приближаться к нему до бесконечности. Если тут
и уместен термин "идеальное", то уж никак не в платоновском или гегелевском
значении, поскольку переход от конечного к бесконечному и от реального к
идеальному, диалектическое взаимопревращение этих противоположностей оказывается
здесь невозможным.
Конечное и реальное, согласно Лифшицу, может лишь (тщетно) "приближаться"
к бесконечному и идеальному, - "так же, как приближается к окружности
многоугольник с бесконечно растущим числом сторон. Вся структура вселенной...
опирается на нормы и образцы, достигнуть которых можно только через бесконечное
приближение"5. , ,
Эта абстрактная "идеальность", укрывшаяся от реальных вещей за горизонтом
бесконечности, чертовски напоминает "трансцендентальный идеал" Канта и Фихте.
3 Там же. С. 134.
4 Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М., 1984. С. 259.
5 Лифшиц Mux. Об идеальном и реальном. С. 123.
79
"Идеал есть для разума прообраз (prototypon) всех вещей, которые... более или
менее приближаясь к нему, все же бесконечно далеки от того, чтобы сравняться с
ним", - сообщает нам автор "Критики чистого разума .
В диалектической логике речь идет не о бесконечном приближении, а о
конкретном тождестве идеального и реального, которое выражается понятием
истины. Идеальное, которое не достигает слияния с реальным, на деле не превращается
в реальное, никак не может считаться истинным. Диалектика обязывает искать
конкретную точку снятия абстрактной противоположности идеального и
реального, искать идеальную реальность, которая была бы в той же мере и реальной
идеальностью.
К примеру, Гегель определяет "идеальную реальность объективного" как закон,
прибавляя, что "эта реальная идеальность есть душа" объективной тотальности,
ранее им описанной как "свободный механизм"7. И в его «Лекциях по философии
истории» речь идет о реальном осуществлении общественного идеала - практическом
обретении всеобщей свободы в "германском мире". А вовсе не о "бесконечном
приближении" к идеалу, как в кантовском проекте "вечного мира".
V
Говоря об идеальном в физической природе, Лифшиц приводит в пример
абстракции, не имеющие ни актуального, ни хотя бы потенциального наличного бытия:
"идеальный газ, идеальный кристалл - реальные абстракции, к которым можно
приближаться".
Между прочим философ, у которого он предлагает читателям "взять урок"
понимания идеального, - Гегель, тоже искал идеальное в физическом мире, но, не в
пример Лифшицу, искал не среди абстракций, к которым можно лишь приближаться, а
в кругу реальных явлений природы, которые можно созерцать. Искал - и нашел,
первым делом свет (видимо, тут не обошлось без влияния оптико-поэтической
теории Гёте).
"Свет... есть идеальное полагание реального, полагание реальной идеальности".
"Свет же есть именно физическая идеальность". "И так как свет есть
прорывающаяся из физического идеальность, то начинают проступать и остальные физические
определения тотальной индивидуальности, запах и вкус, но совершенно идеальным
(ideale), нематериальным образом"8.
В приведенных фрагментах Гегель пользуется термином "идеальное" (ideale) в
значении "нематериального". Ранее же в "Науке логики" он заявлял, что ideale
имеет значение "прекрасного и того, что к нему относится", явно намереваясь передать
этот термин в распоряжение эстетики. А в самой логике предлагал пользоваться
термином ideelle.
"Ideale имеет более определенное значение (прекрасного и того, что к нему
относится), чем Ideelle; первому здесь [в логике] еще не место; поэтрму мы здесь
употребляем термин ideelle" .
Последний выражает в логике отношение конечного к бесконечному, бытие
конечного в качестве подчиненного момента бесконечной реальности. "Идеальное
(ideelle) есть конечное, как оно есть в истинно бесконечном - как некое определе-
6 Кант И. Соч. в 6 т. М, 1964-1966. Т. 3. С. 508.
7 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3 т. М., 1970-1972, Т. 3. С. 174-175.
8 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В 3 т. М., 1974-1977. Т. 2. С. 165, 301, 300. (Курсив
мой. -A.M.)
9 Наука логики. Т. 1. С. 215.
80
ние, содержание, которое различено, но не есть нечто самостоятельно сущее, а
дано как момент"™.
Термин же ideale, по замыслу Гегеля, относится к низшему в сравнении с логикой
слою реальности духа. Это мышление, еще не выступившее в логически чистом
виде, а являющееся в чувственно-конкретной форме художественного произведения,
"прекрасного".
Однако всего пару лет спустя после завершения "Науки логики" термин ideale,
как мы видели, появляется в "Философии природы", в контексте весьма далеком от
"прекрасного" - на самой первой ступеньке эволюции мирового духа. Здесь, в
неорганической природе, ideale означает всего-навсего "нематериальное,
невещественное". Свет, по словам Гегеля, представляет собой лишь "абстрактную идеальность".
Идея еще не явилась на свет в своем настоящем обличий, хотя ее контуры зримо
проступают уже в физическом мире. Идеальная природа вещей светится,
просвечивает сквозь ткань материальности в ее самых тонких местах.
Похоже, в работах Гегеля мы не находим единой, твердой позиции насчет этой
пары терминов - ideelle и ideale. Их значение со временем менялось и приобретало
разные новые оттенки в зависимости от предмета исследования. Во всяком случае
терминология Гегеля не выглядит в этой ее части такой уж определенной, какой ее
изобразил Лифшиц.
VI
Нет однозначности и в терминологии Маркса. Ideelle чаще всего означает у него,
как и у Гегеля, нечто непредметное и фигурирует в выражениях "идеальное
представление", "воображаемая, идеальная форма" и т.п. В отдельных случаях идеальное
становится синонимом латентного11, иногда синонимом абстрактного (момента
некоего целого)12... У этого термина целая семья значений в языке диалектической
логики.
Ильенков же особо выделил случай, когда Маркс назвал цену, и форму
стоимости вообще, "идеальной или представленной формой" (ideelle oder vorgestellte Form).
Речь здесь идет совсем не об "идеальном представлении" (ideelle Vorstellung) вещи в
сознании индивида, здесь имеется в виду реальный, предметный акт quid pro quo -
выражения стоимости одной вещи посредством другой, внешней вещи. Акт,
повторим, реальный, лишь отражаемый в индивидуальном сознании и сознании массовом,
причем отражаемый обычно превратным образом, не адекватно.
В одном месте Grundrisse Маркс прямо противопоставляет только идеальную
форму представления - представлению действительному. "Меновая стоимость как
таковая может, конечно, существовать лишь символически, хотя этот символ - для
того чтобы можно было применять его как вещь, а не только как форму
представления, - обладает вещным бытием и есть не только идеальное представление, а
действительно представлен в той или иной предметной форме"13.
Эта последняя, предметная форма представления - тоже форма идеальная, но не
в привычном значении слова, ибо она имеет предметное выражение. Это ее автор
"Капитала" назовет ideelle oder vorgestellte Form.
шТамже. С. 215-216.
' ' "Товар... идеально содержит (в скрытом виде содержит) свою меновую стоимость" {Маркс К.
Экономические рукописи 1857-1861 гг., в 2 ч. М, 1980. 4.1. С. 91-92).
12 Например, в выражении: "идеальная составная часть совокупной стоимости продукта" (Там же.
Ч. II. С. 198).
13 Там же. Ч. I. С. 99. (Курсив мой. - A.M.)
81
Говоря о символе, который "действительно представлен в той или иной
предметной форме", Маркс, как ясно видно из его дальнейших слов, имел в виду деньги. В
"Капитале" он определяет деньги как "образ всех других товаров, отделившийся от
них"14 и потому образ идеальный. Деньги символически представляют все другие
товары и сами представлены в виде особой вещи. В форме денег сущность товаров,
их меновая стоимость, обретает вещное бытие и вместе с тем "чисто общественное",
идеальное выражение.
Деньги - это идеальная реальность товарного мира. Налично сущее тождество
идеального и реального. Говоря о деньгах, Маркс всякий раз прибегает к помощи
пары категорий идеальное - реальное, иной раз специально подчеркивая сами
термины в тексте .
"Деньги есть материальное отношение", - со своей стороны заявляет Лифшиц.
Удивительно, как он всякий раз игнорирует тождество идеального и реального,
отказывается узнавать его, сталкиваясь с ним просто-таки лицом к лицу. А дело все в
том, что категорию ideelle Лифшиц рассматривает только как абстрактную
противоположность реального. Нет между ними ничего общего, и точка. Вот ideale,
Idealität - дело иное, тут, как мы видели, идеальное ставится в отношение абстрактного
тождества с реальным.
И все же, как можно утверждать, что для Маркса деньги материальны, - уму
непостижимо. Черным по белому он писал, что форма стоимости вообще (Wertform
überhaupt) идеальна. Деньги же не что иное, как одна из форм стоимости.
Отчего Лифшиц отказывается смириться с идеальностью денег? Нетрудно
догадаться. Для него ideelle всегда, в любом контексте означает нереальное,
непредметное. Иного не дано. А деньги - реальность вполне предметная. К тому же за ними
стоит отношение товаров, а это, ясно, далеко не идеал человеческих отношений.
Потому-то деньги и оказались у Лифшица "материальным отношением".
Вот товарный обмен - действительно, отношение материальное. Этот
экономический процесс включает в себя деньги и цены как свои идеальные моменты. Деньги
являют собой идеальную реальность только в мире товаров, меновых стоимостей,
а не как таковые, взятые в абстракции от всего и вся. В пространстве рынка деньги -
идеальный товар, прекрасный идеал, на который все прочие товары "бросают
влюбленные взоры" (Маркс). Эти платонически-идеальные взоры, бросаемые товарами в
сторону денег, суть не что иное, как цены.
А золото есть "идеальные деньги" и в то же время "реальные деньги"16. В золоте
Маркс усматривает осуществившийся на практике идеал - идеальную реальность
денег, точно так же, как ранее в деньгах он увидел идеальную реальность товарного
обмена. Повсюду он демонстрирует тождество идеального и реального, а не
довольствуется абстракциями, к которым реальность могла бы лишь приближаться до
бесконечности.
Разумеется, вся идеальность денег немедленно улетучивается, как только мы
покидаем пространство меновых отношений, т.е. тех самых отношений, сущность
которых идеально (ideale - абсолютно адекватно) представлена в денежной форме и
идеальным (ideelle) моментом которых являются сами деньги. В деньгах,
рассматриваемых абстрактно, ничего идеального'нет. Да, они являются оптимальной, самой
совершенной, чистой и высшей из всех возможных форм выражения стоимости, а
значит, формой идеальной (в любом значении термина - что ideale, что ideelle). Од-
14 Там же. С. 120.
15 "Если меновые стоимости в ценах идеально превращаются в деньги, то в обмене, при покупке и
продаже они превращаются в деньги реально" {Маркс К. Экономические рукописи 1857-1861 гг. Ч. I.
С. 140).
16 Маркс К. Капитал /Сочинения. Т. 23. С. 119-120.
82
нако ни Марксу, ни Ильенкову и в голову не приходило видеть в них идеал
отношений человека к человеку вообще.
VII
Граница между материальным и идеальным пролегает в самой реальности,
справедливо утверждает Лифшиц. Где же именно, в каком слое реальности ее следует
искать? По его мнению, эта граница разделяет истинное и неистинное бытие
материального. Причем "идеальное является признаком истинного бытия
материального"17. Идеальное присутствует в каждой вещи в той мере, в какой она
"соответствует своему понятию". Правда, строгое соответствие идеалу в реальности
недостижимо: "абстрактно говоря, оно осуществляется лишь в пределе"...18
Что ж, можно и так провести границу между материальным и идеальным. Только
зачем? Ту же самую границу философы давным-давно прочертили с помощью пары
категорий сущности и явления. Что дает переименование "сущности" -
аристотелевского ousia, или истинного бытия вещей, - в "идеальное"? Если, конечно, мы не
собираемся последовать за Платоном и Гегелем дальше, заявив, что миром правят
идеальные сущности... Но нет, это, по словам Лифшица, было бы "глупо и ложно".
Равным образом отношение категорий ideelle и ideale, как его понимает Лифшиц,
"взяв урок" у Шеллинга и Гегеля, превосходно описывается общепринятыми
категориями возможности и действительности. Неплохо было бы усвоить заодно и этот
урок гегелевской Логики.
Нельзя, разумеется, отнимать у философа право пользоваться теми терминами,
которые ему нравятся больше или, по разным соображениям, кажутся более
подходящими. Только в случае с "идеальным" ведь теряется из виду целая категория
явлений, которые этим словом обозначил Маркс. Для именования "представленных
форм" бытия вещей, благодаря которым сущность вещи получает отдельное от
своего "естественного" явления, чистое и адекватное выражение, нет в арсенале
философии никакого иного термина, кроме как "идеальное". Лифшиц хотел бы отнять у
них это имя, не дав ничего взамен.
Он вообще не видит серьезных оснований для зачисления в одну логическую
категорию, к примеру, иконы и золотой монеты . А ведь эти два символа,
экономический и религиозный, представляют две стороны одного и того же общественного
процесса - отчуждения "сущностных сил" человека. Традиция
сравнительно-генетического анализа идеальных форм экономического и религиозного миров восходит к
Мозесу Гессу и раннему Марксу.
"Бог значим теперь лишь постольку, поскольку он представляет Христа, человек -
лишь постольку, поскольку он представляет Христа. Точно так же обстоит дело и с
деньгами"20, - заявляет Маркс. Деньги являются посредником в отношениях
товаров, стоимость которых они представляют (это слово у него специально
подчеркнуто - дважды). Ту же самую функцию в религиозных отношениях людей
выполняет идеальный образ Христа, равно как и вообще любой образ божества, запечатлен-
Лифшиц Mux. Об идеальном и реальном. С. 123.
18 Там же.
19 "Икона, или золотая монета", обмолвился однажды Ильенков. Если икона есть то же самое, что
монета, только натуральное выражение стоимости, ее чувственно воспринимаемый образ, конечно, по
существу безразличен. Он также по существу безразличен, если икона - только предмет религиозного
культа. Но как художественное произведение икона представляет собой более тесное единство
общественного и природного (Там же. С. 133).
20 Маркс К. Конспект книги Дж. Милля "Основы политической экономии" /Сочинения. Т. 42. С. 19.
К аналогии стоимостной формы с религиозными образами Маркс снова возвращается в "Капитале", в
главе о фетишизме товаров (с. 82).
83
ный на иконе или фреске, отлитый в осязаемую форму бронзовой статуи или смутно
угадываемый в звуках органной фуги.
Форма представления человеческой сущности - вот что роднит икону и золотую
монету. Ильенков не "обмолвился", а с полным правом поставил рядом эти два
идеальных феномена, повторив, вслед за Марксом, что в плане идеального
представления "реальные талеры ровно ничем не отличаются от богов". А Лифшиц увидел тут
лишь "смешение" материального акта обмена товаров на деньги - с формой
человеческого сознания.
Ранее, проделав пару "алгебраических преобразований", он приписал Ильенкову
мысль, будто идеальное является формой общественного сознания, и только.
Игнорируя недвусмысленные слова Ильенкова о том, что идеальное рождается в акте
труда, в работе руки, в созидании "предметного тела человеческой цивилизации" и
практическом "очеловечении" природы.
Идеальное есть то же материальное, только вывернутое сущностью наизнанку.
Умение извлекать наружу скрытую сущность вещей и представить ее в
идеально-чистом виде - вот характерный признак разумного существа, "вещи мыслящей".
Идеальное поэтому участвует и присутствует во всем, что человек делает с умом, и есть
везде, где он действует согласно природе вещей, законам их бытия. А не является
только формой сознания.
В сознании (слово "общественное" добавлять не обязательно, ибо
необщественное сознание не встречается в природе) идеальная форма человеческой
деятельности оборачивается на себя и обретает, говоря гегелевским слогом, для-себя-бытие.
Если в непосредственном акте труда или обмена товаров идеальная форма
обслуживала материальные потребности человека, а следовательно, оставалась формой
иного, неидеального содержания, то теперь, в процессе распредмечивания и
обратного присвоения человеком деятельностных форм она получает свое собственное
предметное содержание и выступает в чистом виде.
Такие понятия, как сознание и самосознание, апперцепция и рефлексия, служат
для обозначения мышления, сделавшего своим предметом самое себя. Предметными
образами и орудиями, посредством которых совершается оборачивание идеальной
формы деятельности на себя, становятся храмы и статуи, книги и рисунки,
вычислительные машины и музыкальные инструменты, и в первую очередь - кора больших
полушарий мозга.
А вот деньги в этом ряду не стоят, оставаясь идеальным моментом и орудием
материального (экономического) процесса. Деньги не форма сознания, а идеальная
форма общественного бытия. В сознании эта идеальная форма лишь отражается,
причем отражается post festum и в мистически-превращенной форме.
Несомненно, и далеко не всякая картина или храм становится жилищем
идеального. Случается, что вместо природы вещей в них представлены лишь "мимолетные
нейродинамические состояния", дурная индивидуальность автора, формально
усвоенный стереотип или жажда денег, и ничего больше. Напротив, иногда
экономическая деятельность оказывается идеальной, при условии, что люди свободны от
давления органических потребностей и действуют ex analogia universi.
Материальное и идеальное в действиях человека накрепко переплетены и
сплавлены в одно целое, поэтому в каждом отдельном случае весьма непросто понять, что
же конкретно представлено в образе предмета, им созданного. Что перед нами -
исчезающий, лишь идеальный момент материальной деятельности или же идеальная
реальность.
84
Символы, орудия и идеальное
у Ильенкова1
П. Э. ДЖОНС
Цель
В настоящей работе делается попытка прояснить некоторые аспекты значения
термина "идеальное" в работах Э.В. Ильенкова. Неоднократно ставился уже вопрос,
могут ли артефакты вообще и, в частности, орудия труда рассматриваться как
"идеальные", также как слова и прочие символы. Большинство сходится на том, что
могут, однако я не считаю, что это мнение согласуется с ильенковским пониманием
термина. Поэтому я постараюсь доказать, что такие интерпретации Ильенкова - в
работах Бэкхерста (1991, 1995), Энгестрёма (1996), Коула (1996), Леонтьева (1997) и
др., - неверны в некоторых тонких, но весьма важных аспектах. К сожалению, для
этого придется привести изрядное количество пространных цитат - ведь
невозможно обсуждать спорные вопросы такого рода без точных ссылок на работы, которые
являются предметом спора. Некоторые общие теоретические следствия из, казалось
бы, чисто терминологических расхождений, будут очень вкратце обрисованы в
заключительном разделе статьи.
Идеальное и артефакты
Понятие "идеальное" - одно из наиболее сложных, в ряду многих сложных
понятий в марксистской философской традиции. Кроме того, оно является одним из
самых важных. Сам Ильенков подчеркивал его значение "для любой
социально-исторической дисциплины" (1977b : 95) и посвятил немало времени и сил его разработке
в печатных трудах на протяжении семнадцати лет. Однако этот массив трудов
совсем не просто понять и усвоить. Как пишет Дэвид Бэкхерст, ведущий западный
исследователь Ильенкова: "Проблемы, к которым он обращается; настолько
масштабны и многомерны, что его ответы нередко кажутся слишком уж поспешными,
сжатыми настолько, что их невозможно понять" (Бэкхерст, 1991: 175-176).
Неудивительно, что все мы по-прежнему бьемся с этим понятием.
Перевод выполнен аспирантом Института философии РАН Ю.В. Денисовым. Автор примечаний и
общей редакции перевода - д-р филос. наук АД. Майданский.
85
В превосходном обсуждении этой темы у Бэкхерста (там же: глава 5)
раскрывается масштаб и значимость понятия идеального в творчестве Ильенкова, но вместе с
тем, я полагаю, там имеется и небольшая ошибка. Бэкхерст рассматривает это
понятие через исследование артефактов (там же: 181, см. также Бэкхерст, 1995: 160-
161). Отличие некоего артефакта, например, стола, от природного объекта, такого
как кусок дерева, должно быть связано с человеческой деятельностью: "Когда
создается артефакт, в природном объекте некоторым образом воплощается
человеческая деятельность" (цит. соч. 182). Он разъясняет: "Ильенков имеет в виду не только
то, что, когда артефакт создан, некоторый материальный объект получил новую
физическую форму. Это так, однако это мог бы воспринять и натуралистский
подход (natural-scientific account). Вернее сказать, что созданный как осуществление
цели и определенным образом втянутый в нашу жизнедеятельность, произведенный
для некоторой цели и определенным образом используемый, - природный объект
обретает значение. Это значение и есть "идеальная форма" объекта, форма, которая
не содержит ни единого атома осязаемой физической субстанции, обладающей ею...
Именно это значение надлежит понять, если мы ищем отличие стола от куска
дерева" (там же).
Он продолжает: "Ильенков иногда объясняет это значение, обращаясь к
понятию представления. Чисто природный объект обретает значение, когда начинает
представлять нечто, с чем его телесная форма не имеет "ничего общего", - форму
человеческой деятельности... Объекты обязаны своей идеальностью тому, что они
включаются в целесообразную деятельность человеческого сообщества, тому, что
они используются. Понятие смысла (significance) раскрывается в терминах понятия
представления: артефакты представляют деятельность, которой они обязаны своим
существованием в качестве артефактов" (там же, 182-183).
Положение о том, что "объекты обязаны своей идеальностью тому, что они
включаются в целесообразную деятельность человеческого сообщества",
разумеется, верно. Однако разъяснение Бэкхерста подразумевает допущение, что
положение, обратное приведенному выше, а именно, что "объекты, вовлеченные в
целесообразную деятельность человеческого сообщества, являются идеальными", - тоже
верно. Это допущение образует стержень его доказательства того, что идеальное
можно объяснить или вывести из природы артефактов вообще, однако мне это
представляется необоснованным. Давайте рассмотрим аргументацию Бэкхерста шаг
за шагом.
Во-первых, если вещи идеальны потому, что они созданы как осуществление
конкретных целей, тогда все что угодно, связанное с человеческой деятельностью,
оказывается идеальным, поскольку за всем этим стоит некая "идея". Так что не
только орудие труда, например лопата, которой я копаю, но и продукт труда, яма,
выкопанная мною, является идеальной, поскольку она реализует идею ямы либо
цель выкапывания ямы, которой я руководствовался. Не только пекарня, но и хлеб,
который в ней выпекается и который я ем, идеален. И люди тоже: замысел
родителей завести детей реализуется в ребенке, который таким образом становится
"идеальной" (в той же мере, в какой и реальной) персоной. Если все, вовлеченное в
человеческую деятельность или связанное с ней, является идеальным, тогда весь смысл
(meaning) этого термина теряется.
Во-вторых, если мы решим вместо этого положить в основание идеальности
использование или функцию объектов, а не стоящую за ними идею, то,мы немедленно
столкнемся с противоречием. Стол, как человечески-созданный артефакт,
выполняет, разумеется, социально обусловленные и принятые в обществе функции (за
столом принимают пищу, на него ставят вазу с фруктами и т.п.), к чему его "деревянная
природа" сама по себе не обязывает. Но эта функция, с позволения Бэкхерста,
действительно включает в себя или обнимает собой каждый отдельный атом
осязаемой физической субстанции, "обладающей" этой функцией. "Функцию стола"
должен выполнять некий физический стол, сделанный из физического материала (на-
86
пример, дерева), сконструированный с прочностью достаточной, чтобы позволять
выполнение данной функции; использование стола (в качестве стола) - его
"значение" - обусловлено и неразрывно связано с его конкретными физическими
свойствами. Компьютер, которым я пользуюсь, покоится не на "значении", а на чем-то
вполне осязаемом. К тому же функция, как таковая, подчиняется законам
физической природы (например, силе притяжения), которые не зависят от наших целей и
намерений. Это станет еще яснее, если мы от столов перейдем к орудиям труда:
"Средство труда есть вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой
и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника его
воздействий на этот предмет. Он пользуется механическими, физическими, химическими
свойствами вещей для того, чтобы в соответствии со своей целью применить их
как орудия воздействия на другие вещи" (Маркс. Капитал. Т.1: 285).
Следовательно, невозможно прямо отождествить "идеальность", которую Бэк-
херст иногда трактует как "не-материальные свойства" (там же: 175), с
общественно-исторически сформированным функционированием полезных артефактов,
орудий, инструментов труда и т.д., которое состоит в приспособлении их "механических,
физических и химических свойств" к труду, что и в самом деле мог бы воспринять и
натуралистский подход. Коротко говоря, "идеальность" не означает использование
или функцию вообще.
В-третьих, проблематична интерпретация Бэкхерстом ильенковского
"представления". Как правило, артефакты не представляют деятельность, которой они
обязаны своим существованием и в которой они функционируют: экскаватор или
электростанция не "представляют" процесс копания или процесс производства
электроэнергии; они не "замещают" собой что-либо иное в этом процессе, а просто
используются (и в самом деле расходуются)1 в качестве инструментов, без какой
бы то ни было "репрезентативной" функции вообще. Это не мешает подобным
артефактам иметь добавочную символическую функцию: на экскаваторе могут иметься
какие-нибудь символы или эмблема, или какие-то аспекты его дизайна могут
служить для представления компании, которая его произвела и т.д. В таком случае в
теле данного артефакта пересекаются сразу несколько функций. Однако эти функции
логически и философски различны: когда экскаватор копает, он механически,
физически т.е. чисто материальным образом воздействует на объект; когда же он
представляет компанию, он делает это посредством чисто условным образом
введенного, "идеального" отношения между ним и компанией, отношения, в котором он,
материально, не имеет ничего общего с тем, что он представляет. Следовательно,
затрагивая существенные стороны ильенковской концепции идеального - идею
функции [вещей] внутри целесообразной человеческой жизнедеятельности и понятие
"представление", - интерпретация Бэкхерста, утверждаю я, приходит к
неправомерному распространению (over-extending) этого понятия на всю область артефактов.
Идеальное и "форма стоимости" в "Капитале"
Для того чтобы уяснить суть проблемы, необходимо внимательнее посмотреть,
как Ильенков развивает свою концепцию идеального из экономических работ
Маркса. Ильенков обращается к первому тому "Капитала", где "диалектика
превращения вещи в символ, а символа в знак и прослежена... на примере возникновения и
эволюции денежной формы стоимости" (1977а: 273). Идеальность формы
стоимости, утверждает он, "типичнейший и характернейший случай идеальности вообще, и
поэтому на марксовской концепции формы стоимости могут быть конкретно
продемонстрированы все преимущества диалектико-материалистического взгляда на иде-
Здесь игра слов: "to be used" (использоваться) и "to be used up" (изнашиваться, расходоваться).
87
альность и на "идеальное"» (1977b: 90-91). В другом месте он ссылается на форму
стоимости как на "типичнейший случай идеализации действительности, или акт
рождения идеального" (1977а: 276).
Маркс трактует товар как двоякого рода сущность: единство "потребительной
стоимости" и "меновой стоимости". Грубо говоря, первая - это польза, которую
товар приносит, вторая - сколько он стоит. Хотя потребности, которые товар
обслуживает, и его полезность развиваются общественно-исторически и, следовательно,
не заданы "от природы", тем не менее его потребительная стоимость реализуется β
процессе его использования, т.е. через процесс потребления, в котором товар,
например орудие труда, может быть физически израсходован и исчезает. В подобных
случаях потребительная стоимость как таковая не есть идеальное, но это прямая
функция "механических, физических и химических свойств" полезного объекта, как
показано выше.
Меновая стоимость (или "стоимость", для краткости), с другой стороны,
реализуется вовсе не в сфере потребления или использования, а в процессе обмена одного
товара на другой товар, предшествующем реализации их потребительной
стоимости. Когда пара сапог, скажем, обменивается на мешок кукурузы, хотя физическая
форма и конкретные виды труда по их производству совершенно различны, одно
"приравнивается" к другому в терминах стоимости. Ибо для собственника сапог
стоимость сапог представляется посредством или в форме кукурузы, а для
собственника кукурузы стоимость кукурузы представляется посредством или в форме сапог.
Свойство одного объекта (сапоги) представлено посредством другого (кукуруза) с
которым «его вещественная форма "не имеет ничего общего"» (Бэкхерст. Цит соч.:
183).
Стоимость сапог принимает форму кукурузы (и наоборот), и это та самая форма,
которая и есть идеальное и которая является формой "репрезентации", когда одна
вещь замещает собой другую. Кукуруза является "идеальной формой", или "идеальным
образом" сапог (и наоборот). Важно отметить, что идеальность стоимостной формы
заключена не в содержании или субстанции стоимости как таковой, т.е. количестве
труда, воплощенного в полезном объекте: полезные объекты или артефакты всегда,
при любой форме общества будут воплощать в себе известные количества труда.
Больше того, идеальность стоимостной формы заключается в характере ее
возникновения внутри капиталистического способа производства, при котором стоимость
товара X принимает форму товара Υ. Именно идеальность формы стоимости
готовит почву для появления денежной формы стоимости, в которой один товар -
золото - начинает действовать как представляющий, или замещающий собой, или
"символизирующий" стоимость любого товара. В изложении концепции идеального у
Бэкхерста, стало быть, имеется ошибка - не различаются два логически
противоположных аспекта понятия "артефакт": "потребительная стоимость" или функция
артефакта, которая, в случае со столом или орудием, всецело "не-идеальна" и
обусловлена физическими свойствами названных объектов, независимо от общественной
формации, в которой они производятся; и "форма стоимости" товара, которая чисто
"идеальна" и "отличается от его натуральной формы" (Маркс. Цит. соч.: 152).
Конечно, анализ стоимостной формы - это только иллюстрация социального
генезиса и природы идеального, и касается "идеализации" относительно узкого
аспекта производственной деятельности, тогда как "в человеке идеализована вся природа,
а не только та ее часть, которую он непосредственно производит и воспроизводит
или утилитарно потребляет" (Ильенков, 1977а: 276). Процесс человеческой
жизнедеятельности, таким образом, генерирует все возрастающее число "идеальных
форм" или форм "идеального образа" (ideal image), опосредствующих мириады форм
исторически сформированной и развивающейся социальной практики: "Поэтому-то
все вещи, вовлеченные в социальный процесс, и обретают новую, в физической
природе их никак не заключенную и совершенно отличную от последней "форму
существования", идеальную форму" (1977b: 86).
88
Но, когда Ильенков говорит об "идеальной форме", он рассматривает только
"вещи", которые имеют репрезентативную функцию или принимают участие в
символическом опосредствовании деятельности, как язык или форма стоимости, и
никогда не рассматривает орудия труда или товары вообще: "Непосредственно
идеальное осуществляется в символе и через символ, т.е. через внешнее, чувственно
воспринимаемое, видимое или слышимое тело слова. Но данное тело, оставаясь самим
собой, в то же время оказывается бытием другого тела и в качестве такового его
"идеальным бытием", его значением, которое совершенно отлично от его
непосредственно воспринимаемой ушами или глазами телесной формы" (Цит. соч.: 266).
А вот когда он временами перечисляет разные явления, имеющие такого рода
символическую или идеальную функцию, он никогда не упоминает орудия труда,
например: "книга, статуя, икона, чертеж, золотая монета, царская корона, знамя,
театральное зрелище и организующий его драматический сюжет" (Ильенков, 1991: 234).
Таким образом, поскольку идеальность есть свойство или аспект деятельности
социального человечества, постольку она реализуется "непосредственно" не в
любом и всяком объекте, произведенном руками человека, но в особой совокупности
"символических" объектов, которые образуют "мир представлений". Идеальность-
это не культура в целом, но некий "аспект культуры, как ее измерение,
определенность, свойство" (Ильенков, 1977b: 96). Является ли некий объект "идеальным" или
же нет, - это, следовательно, не вопрос о том, был ли он создан, чтобы воплотить в
себе или реализовать определенную цель или идею. В действительности такая
характеристика противоречила бы материалистическим философским установкам
ильенковского мировоззрения, потому что материализм считает решенным вопрос
о первоистоке и форме таких целей и идей. Ильенков особенно категоричен в этом
пункте: "Что такое это "нечто", представленное в чувственно созерцаемом теле
другой вещи (события, процесса и т.д.)? С точки зрения последовательного
материализма этим "нечто" может быть только другой материальный объект" (1991: 235).
Дело не в том, что орудия воплощают человеческие цели и это то, что делает их
идеальными, а в том, что человеческие цели (сознательные цели, которыми люди
руководствуются, чтобы производить то, в чем они нуждаются) сами по себе
идеальны: человеческие цели - не что иное, как материальный процесс и результат
деятельности в идеальной форме. Идеальный образ - это "объект производства" (т.е.
результат продуктивной деятельности), преобразованный в (или "полагаемый
идеально" как) "внутренний образ, как потребность, как побуждение и цель
человеческой деятельности" (1977а: 260, цитата из Grundrisse Маркса). Следовательно, дис-
тинкция между вещами материальными и идеальными зависит не от того, что
происходит в головах тех, кто использует эти вещи, а от того факта, как эти вещи
функционируют в реальном процессе общественного производства, - в
материальном (не понятийном или семиотическом) процессе, который в своем саморазвитии и
дифференциации, порождает идеальный (или семиотический) "образ" в форме
отношения, в котором некоторые вещи (слова, картины, деньги и т.д.) начинают
замещать собой другие вещи. Это, в самом деле, особая и жизненно важная функция,
которую идеальные формы выполняют в человеческой жизнедеятельности: они позволяют
замыслам, целям, побуждениям, намерениям, стратегиям и формам деятельности и
кооперации человеческого сообщества быть представленными помимо, прежде и
независимо от реальных действий, которые вызывают их к жизни: "Идеальное есть лишь
там, где сама форма деятельности, соответствующая форме внешнего предмета,
превращается для человека в предмет, с которым он может действовать особо, не
трогая и не изменяя до поры до времени реального предмета. Человек, и только
человек, перестает "сливаться" с формой своей жизнедеятельности, он отделяет ее от
себя и, ставя перед собой, превращает в представление" (1977а: 278).
Кроме того, идеальная форма воспроизводит не хаотические, случайные,
эмпирические детали вещей, вовлеченных в человеческую деятельность, а "их всеобщее,
общественно-человеческое значение, их роль и функцию внутри общественного ор-
89
ганизма" (1977а: 273). Этот момент часто игнорируется или недооценивается в
дискуссиях об идеальном и о функциях символических форм, в частности о языке.
Маркс же, например, постоянно обращал внимание на это важнейшее и
непременное свойство символических или идеальных форм, которое делает их необходимыми
для общественного производства: "Меновая стоимость как таковая может, конечно,
существовать лишь символически, хотя этот символ - для того чтобы можно было
применять его как вещь, а не только как форму представления, - обладает вещным
бытием и есть не только идеальное представление, а действительно представлен в
той или иной предметной форме" (Grundrisse: 145)2.
Мы могли бы равным образом сказать, что орудие есть материальное
воплощение идеи, то есть было создано для определенной цели - но это не делает его
"идеальной формой" или "образом" и не сообщает ему "семиотическую" природу. Это
цель как таковая является идеальной, и, поскольку эта цель постепенно реализуется
в процессе создания орудия, она превращается в материальную (а не в идеальную)
вещь: "идеальное, как форма человеческой деятельности, и существует только в
деятельности, а не в ее результатах... Когда предмет создан, потребность
общества в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее продукте, умерло и само
идеальное" (1977а: 275-276).
Зачисление орудий труда в категорию "идеальное", стало быть, в итоге
опрокидывает понимание отношения материального и идеального, принятое в
материалистической философии.
Другие интерпретации идеального
Давайте обратимся теперь к другим недавним интерпретациям понятия
идеального. Майкл Коул, например, основываясь на разъяснениях Бэкхерста, о которых
говорилось выше, заявляет следующее: "Благодаря изменениям, вносимым в процесс
их создания и использования, артефакты одновременно и идеальны (понятийны), и
материальны. Они идеальны в том, что их материальная форма приобрела свой
облик посредством участия во взаимодействиях, частью которых они были прежде и
которые опосредствуются ими теперь. Определенные таким образом, свойства
артефактов в равной мере сказываются, рассматриваем ли мы язык либо более часто
приводимые в пример виды артефактов, такие как столы и ножи, которые образуют
материальную культуру. То, что отличает слово "стол" от реального стола, - это
относительное расхождение их материальных и идеальных аспектов и диктуемых ими
форм соответствия. Ни одно слово не существует отдельно от его материального
воплощения (такого, как конфигурация звуковых волн, движений рук, письма или
действий нейронов), и в то же время любой стол воплощает в себе порядок,
установленный мыслящими человеческими существами" (1996: 117).
Я полагаю, что это определение идеальности, как и бэкхерстовское, слишком
широкое. В интерпретации Коула, все, на что оказала (и продолжает оказывать)
воздействие человеческая деятельность, становится "идеальным". Сюда пришлось бы
включить всю экосферу планеты, в той мере, в какой она была изменена - загрязнена,
например, - экономической, военной и научной деятельностью человека. Далее, мысль
В английском переводе этого фрагмента из "Главы о деньгах" (Экономические рукописи 1857-1861 гг.
М. 1980. Ч. I—II. См. Ч. I, с. 99), который цитирует Джонс: "Exchange value as such can of course only exist
symbolically, although in order for it to be employed as a thing and not merely as a formal notion, this symbol must
possess an objective existence; it is not merely an ideal notion, but is actually presented to the mind in an objective
mode", - допущена непростительная ошибка. Выражение "форма представления" переводится тут как
"formal notion" (формальное понятие), а "идеальное представление" - как "ideal notion" (идеальное
понятие). Между тем Маркс, прошедший школу гегелевской философии, никогда не смешивал представление
(Vorstellung) - с понятием (Begriff).
90
о том, что стол "воплощает в себе порядок, установленный мыслящими
человеческими существами", ставит вопрос о происхождении, природе и функциях "мышления",
которое устанавливает такой порядок. Возможно, здесь есть и более глубокие
разногласия, ибо Коул также принимает идею "изначального единства материального и
символического в человеческом познании" (Цит. соч.: 118), которая, надо полагать,
радикально расходится с марксистской позицией.
Еще одна спорная тема - "относительное расхождение" материальных и
идеальных аспектов в словах и артефактах. Совершенно верно, разумеется, что слова (и, в
самом деле, все "идеальные формы") должны обладать материальным
существованием ("представлены в той или иной предметной форме", см. выше слова Маркса).
Однако в терминах Ильенкова ограничиться этим значило бы упустить из виду суть
дела. Материальность и идеальность явления зависят от его функционирования
внутри системы, к которой он принадлежит. Термины "материальное" и "идеальное",
следовательно, относятся к совершенно разным (и противоположным) категориям
явлений. Слово так же материально, как и стол, однако в терминах его
функционирования в общественной деятельности, оно идеально, чисто идеально, идеально, так
сказать, на сто процентов. На том же основании, орудие труда является на сто
процентов материальным. Это вопрос не о степени расхождения или относительных
величинах материального и идеального: эти аспекты бытия не являются, так сказать,
ковариантными или дополняющими друг друга; это - абсолютно противоположные,
несоизмеримые свойства вещей и вместе с тем образующие "единство", согласно
теории диалектики.
В наше время орудия труда не являются, конечно, "природными" объектами, они
создаются, как верно замечает Коул, для выполнения конкретной роли в
человеческой деятельности. Это делает их чисто социальными продуктами, такими же, как
язык и другие идеальные формы. Однако "социальное" - это не то же самое, что
"идеальное". Человеческое общество - это материальный организм, часть природы,
а человеческая общественная жизнь - это материальный жизненный процесс, хотя и
организованный особым образом, как "социально организованная материя".
Идеальное - это внутренний момент движения социально организованной материи. Оно
возникает и функционирует внутри материального производства в качестве "не-ма-
териального" "образа", диалектически оказывающего ответное воздействие на свою
материальную первооснову. Существует, стало быть, диалектика идеального и
материального в процессе общественного производства, которая осуществляется в
циклическом или спиралеобразном движении (ср. Ильенков, 1982), посредством
которого материальное идеализуется (переводится в символы, образы), а идеальное, в
свою очередь, обращается в материю.
Та же ошибка, на мой взгляд, обнаруживается у Энгестрёма (1996) в его
интересном исследовании о связи деятельностной теории с трудами Бруно Латура. Энгест-
рём вполне ясно показывает, что Ильенков "развивает понятие идеального для того,
чтобы решить проблему социальности вещей" (там же: 263). Такое понимание
идеального распространялось бы, конечно, и на орудия труда, и Энгестрем особо
подчеркивает это, приводя цитату из Ильенкова, идущую, казалось бы, вразрез с той
интерпретацией, которую я попытался здесь защитить: "Идеальное включает "все
те вещи, которыми "опосредованы" общественно производящие свою жизнь
индивиды, и слова языка, и книги, и статуи, и храмы, и клубы, и телевизионные башни,
и (и прежде всего!) орудия труда, начиная от каменного топора и костяной иглы до
современной автоматизированной фабрики и электронно-вычислительной техники"
(Ильенков, 1977, с. 98)" (там же).
Однако список "вещей" в неполной цитате у Энгестрёма является не собственно
ильенковским перечнем "идеальных" форм, а более общим списком вещей,
"которыми "опосредованы" общественно производящие свою жизнь индивиды".
Идеальные формы ("слова, книги" и т.д.) включены в этот список, но сознательно
отделены Ильенковым от "орудий труда". Последние, утверждает он, опосредствуют про-
91
цессы "прежде всего", подразумевая, что в процессе общественного производства
они первичны по отношению к идеальным формам. Значит, взятое в целом, это
место, по-видимому, демонстрирует две следующие идеи: идеальное есть аспект
общественного производства и возникает только внутри общественного производства
как некая форма опосредствования; общественное производство - это направленная
на природу деятельность, первоначально опосредованная орудиями труда; и именно
в процессе такого "опосредованного" производства возникает идеальное.
Наконец, A.A. Леонтьев, в своем глубоком (insightful) исследовании о понимании
"объекта" человеческой деятельности в деятельностной теории утверждает, что:
"Человеческий предмет - это такой предмет, который обозначен, определен,
включен в деятельность через посредство ее социально значимых, объективных свойств,
а не как чисто вещественное образование. Объект деятельности, иными словами,
всегда не просто материален, но и идеален, что значит, по определению, социален"
(Леонтьев, 1997: 242-243)3.
Здесь опять-таки, полагаю, заметна та же самая ошибка. Тот факт, что объект
человеческой деятельности (скажем, уголь, нефть или какие-либо иные
энергоносители) "обозначен" и "определен" (categorized), не делает объект как таковой
идеальным. Идеальным, на самом деле, является символически выраженное "обозначение"
или "категория" (category), воплощающая в себе "образ" объекта.
Заключения и выводы
Я утверждал, что ильенковская категория "идеальное" включает в себя язык и
другие символические формы представления, но не орудия труда и инструменты,
как считают другие авторы, так как орудия принадлежат к категории материальных
явлений. Соответственно, создается впечатление, что в некоторых интерпретациях
этот ильенковский термин [идеальное] трактуется чересчур широко.
Тем не менее, само существование идеальных форм зависит, с точки зрения
Ильенкова как марксиста, от трудовой деятельности, то есть от общественного
производства и использования орудий труда. Идеальное, как более чем ясно показывает
Ильенков, является аспектом жизнедеятельности общественного человека, а не
магическим внутренним свойством вещей самих по себе. С другой стороны, без
идеального образа "человек вообще не может осуществлять обмен веществ с природой, а
индивид не может оперировать вещами, вовлеченными в процесс общественного
производства" (1977а: 274). Таким образом, поскольку существование и
функционирование вещи в качестве символа "принадлежат не ей как таковой, а лишь той
системе, внутри которой она приобретает свои свойства" (там же: 273), постольку
символ с необходимостью существует как особая "вещь", отдельно от орудия труда, от
[материальной] деятельности как таковой и от общественных отношений, в
которые он вовлекается в процессе деятельности, для того чтобы производственная
активность стала, собственно, человеческим трудом. По той же причине, мне кажется,
необходимо не только подчеркивать общественную природу идеальных форм и
общность их социогенеза, наряду со всеми прочими артефактами, но также
исследовать специфику их природы и функционирования внутри человеческой
деятельности. Если мы рассматриваем в качестве "идеальных" и слова, и орудия труда, то тем
самым мы сводим человеческую культуру в целом к "значению" или "идеям", как,
например, в лингвистической теории Майкла Холлидея (ср. Уэллс, 1994; Джонс,
1997), что несовместимо ни с Ильенковым, ни с восходящей к Выготскому
традицией исследования языка, с которой ильенковское понимание идеального очень тесно
связано (см. Бэкхерст, цит. соч.: глава 3), и что, с философской точки зрения,
затемняет понимание вторичной, зависимой природы идеальных форм, как "образов" ма-
Эта цитата из книги A.A. Леонтьева приводится в обратном переводе с английского.
92
термальных объектов и процессов. Вместе с тем оказалась бы разорванной связь
между понятием идеального у Ильенкова и системой теоретических и научных
понятий, которую тот воспринял от Маркса и обогатил.
Библиография
1. К. Marx, Capital. Volume 1, Harmondsworth: Penguin Books, 1976
2. К. Marx, Grundrisse, Harmonds worth: Penguin Books, 1973
3. D. Bakhurst (1991) Consciousness and Revolution in Soviet Philosophy. From the Bolsheviks to
Evald Ilyenkov, Cambridge: Cambridge University Press
4. D. Bakhurst (1995) 'Lessons from Ilyenkov', The Communication Review, Vol. 1(2): 155-178
5. M. Cole (1996) Cultural Psychology: A Once and Future Discipline, Cambridge, Mass: Harvard
University Press
6. Y. Engestrom (1996) 'Interobjectivity, Ideality, and Dialectics', Mind, Culture, and Activity, 3 (4):
259-265
7. E.V. Ilyenkov (1977a) Dialectical Logic, Moscow: Progress
8. E.V. Ilyenkov (1977b) 'The concept of the ideal', in Philosophy in the USSR: Problems of
Dialectical Materialism, Moscow: Progress
9. E.V. Ilyenkov (1982) The Dialectics of the Abstract and the Concrete in Marx's 'Capital',
Moscow: Progress
10. Ильенков Э.В. Философия и культура. Москва, Политиздат, 1991
11. P.E. Jones (1991) Marxism, Materialism and Language Structure, Sheffield: Pavic
12. P.E. Jones (1997) 'Comments on G. Wells' "The complementary contributions of Halliday and
Vygotsky to a 'Language-based theory of learning"", Sheffield Hallam University, ms
13. P.E. Jones (in preparation) 'Language and communication: the relevance of Ilyenkov'
14. A.A. Leont'ev (1997) Psikhologiya obshchenija [The psychology of social interaction], Moscow:
Smysl
15. G. Wells (1994) 'The Complementary Contributions of Halliday and Vygotsky to a 'Language-
Based Theory of Learning', Linguistics and Education, 6: 41-90.
93
Апории идеального в диалектической
концепции Эвальда Ильенкова1
В. ОЙТТИНЕН
Эвальда Ильенкова можно назвать самым известным и самостоятельным
советским философом, которому даже во времена застоя удавалось публиковать
оригинальные и приковывающие к себе внимание исследования.
Американский советолог Джеймс Скэнлан пытался определить своеобразие
Ильенкова посредством категорий "неогегельянство" и "неодеборинизмо"2, Сандер
Г. Ли, напротив, даже считает, что Ильенков находился на позициях субъективного
идеализма . Такая позиция у советского философа до перестройки была
действительно необычной и редкой. Но как это было возможно? В дальнейшем я
попытаюсь дать ответ на этот вопрос, особо приняв во внимание позднейшую работу
Ильенкова "Диалектическая логика" (1974, 1984).
1. Ильенковское понимание диалектики
Смысловым центром всего творчества Ильенкова, как пишет его друг Л.К. На-
уменко, была проблематика диалектической логики, которую он одновременно
рассматривал как исполнение философского завещания Ленина4. Его пресловутый
"идеализм" следует рассматривать как следствие определенной попытки решения этой
проблемы. Ильенков не мог дать окончательно отшлифованной философии, напротив,
он снова и снова впадал в апории. Но именно эти апории и делают его интересным, а
также представляют возможность сделать множество выводов относительно программы
материалистической диалектики и марксистской философии вообще.
По меньшей мере с изданной в 1963 г. книги Б.М. Кедрова, в которой "онтологи-
зация" советской философии порицалась как сталинистский пережиток5, проблема
Перевод выполнен аспирантом МПГУ В.В. Пшенниковым-мл.
2 Scanlan 1985, р. 120-121.
3 Lee 1985, S. 152. Ли считает, что именно "внимательное прочтение" (статьи Ильенкова о понятии
идеального) "обнаруживает решительно идеалистический характер его позиции". '
4 Науменко 1984. С. 3.
5 См.: Scanlan 1985, р. 160-161. Критика сталинского "онтологизма" (кавычки должны здесь указывать на
то, что выражение не относится к числу удачных) началась еще раньше: партийный журнал "Коммунист"
опубликовал в 1955 г. статью Б. Кедрова и Г. Гургенидзе, где вышедший в 1953 г. учебник по диалектическому
материализму Г.Ф. Александрова и др. был подвергнут критике. Как замечает Скэнлан, эта дискуссия привела к
тому, что "защита диалектической логики стала как символом отказа от сталинистского прошлого, так и
свидетельством подлинного интереса к построению диалектической марксистской философии" (р. 161).
94
соотношения диалектики, логики и теории познания стала предметом дискуссии в
советской философии. Эта проблема связана с "Философскими тетрадями" Ленина,
где последний замечал, что в Марксовом "Капитале" "применена к одной науке
логика, диалектика и теория познания [не надо 3-х слов: это одно и то же]
материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед"6.
Этот отрывок вызвал в советской литературе множество толкований, подробное
рассмотрение которых здесь не требуется. Достаточно констатировать, что ильен-
ковское прочтение Ленина с самого начала обозначило наиболее радикальную
позицию в этих дискуссиях: диалектика, логика и теория познания полностью
совпадают.
В 1960-м Ильенков писал о "принципе тождества логики, теории познания и
диалектики", что в нем "на первый взгляд чисто логический вопрос... по существу
является вопросом всеобщих форм, в которых происходит возникновение и развитие
объективной конкретности" . Он также считал, что метод "Капитала" Маркса
основывается именно на этом принципе, каковой и должен быть основополагающим для
марксистской философии вообще8.
Эту точку зрения Ильенков отстаивал до конца жизни. В "Диалектической
логике", первая часть которой состоит из историко-философских очерков, Ильенков
хотя и представил Канта выдающимся предшественником диалектики, но все же
осуждал его за то, что тот считал категории чисто логическими формами мыслительной
деятельности, которые являются пустыми в себе (die an sich leer sind). Поэтому
трансцендентальная логика Канта - это лишь голая логика (blosse Logik), лишь
учение о мышлении, то есть еще не диалектическая логика. Кантовское достижение
состоит в этой области только в "чисто формальном преобразовании прежней
метафизики (онтологии) в логику"9.
Интересным образом Ильенков при этом упускает - несмотря на то, что в других
местах он неоднократно критикует идеализм, - что обнаруживающая себя в кантов-
ском трансцендентализме воздержанность (Enthaltsamkeit) фактически указывает на
материалистическую черту его философии, так как Кант ставит себя выше всяких
попыток вывести из чистого мышления бытие . Ильенков, напротив, следует
дурной традиции в марксистском изложении истории философии и видиГ в
соответствующих усилиях Канта лишь формализм. Это симптоматично, и мы еще будем
возвращаться к результатам этой интерпретации Канта.
В дальнейшем этот кантовский недостаток был устранен при помощи
гегелевского определения мышления, продолжает Ильенков. Гегель правильно понял, что
"с фактически протекающими в головах людей актами мышления сравнивать
логику нельзя"11. Заслуга Гегеля состоит в том, что он не отождествляет, как Кант,
мышление с психической деятельностью12, а, напротив, понимает его много шире.
"Мышление обнаруживает свою силу [...] во всем грандиозном процессе созидания
культуры, всего предметного тела человеческой цивилизации", коротко говоря, в
образованиях, находящихся вне психики человеческого индивидуума. Итак, это геге-
6 Ленин В.И. Поли. собр. соч., Т. 25. С. 301.
7 IljenkowE.W., 1979, S. 167.
8 "В "Капитале" последовательно и систематично проводится принцип соответствия логики, теории
познания и диалектики...". Там же. S. 73.
9 Ильенков Э.В., 1984, С 69 и далее.
10 Из "мыслю" (cogito), по Канту, не может следовать "существую" (sum), по той простой причине, что
существует лишь то, что дано в опыте. См. также интересную работу Тевзадзе, 1979, С. 173 и далее.
11 Диалектическая логика. С. 113.
12 Там же. С. 115 и далее.
13 Там же. С. 117-118.
95
левское определение Объективного Духа, с помощью которого должна быть
преодолена ограниченность кантовского определения сущности мышления.
Видимо, Скэнлан не без основания называл Ильенкова "неогегельянцем". Ведь
дальнейшие рассуждения Ильенкова показывают, что он хотел бы сделать
гегелевское определение Объективного Духа обязательным и для материалистической
диалектики.
Ильенков, правда, порицает, в продолжение критики Гегеля со стороны
Фейербаха, марксистскую философию тождества (Identitätsphilosophie), которая
фактически является "философией тождества мышления самому себе"; "под грандиозно
глубокомысленной конструкцией гегелевской философии скрывается на самом деле
пустая тавтология"14. Однако несколькими строками ниже оказывается, что,
несмотря на свой марксистско-материалистический принцип, Ильенков делает совсем
иные выводы из этой критики в адрес Гегеля, нежели Фейербах. Заметив сперва,
что философами тождества Шеллингом и Гегелем "бытие как таковое" [...]
попросту не принимается в расчет", он комментирует: "Фундаментальный принцип
кантовского дуализма, таким образом, остается нетронутым. Мыслящий Дух с самого
начала рассматривается изначально как нечто абсолютно противоположное всему
чувственному, телесному, материальному, как особое имматериальное существо" .
Поскольку Шеллинг и Гегель в конце концов предстали перед ним дуалистами,
критика, задуманная Ильенковым как материалистическая, кажется сфокусированной
на том странном результате, что Гегель и К° не были в достаточной мере
философами тождества.
2. Марксистская философия тождества?
То, что это предположение подтверждается, и то, что ильенковская версия
материалистической диалектики фактически стала новым видом философии тождества,
доказывают его последующие комментарии. Он считает, что ошибки Шеллинга и
Гегеля заключаются в том, что они исходят из дуализма тела и души, а это "ложный
путь спиритуализма". Материалист напротив должен исходить из фактического
единства человеческого индивидуума, чтобы иметь возможность показать, "как и
почему в голове этого индивида возникает иллюзия о мнимой противоположности
мышления и телесного бытия". Противоположность мышления и бытия, таким
образом, для материалиста есть, утверждает Ильенков, лишь "иллюзия" - "чисто
субъективный факт"16.
Эта позиция "марксистской философии тождества" является логичным
следствием исходного пункта Ильенкова, который заключался, как мы видели, в
утверждении единства диалектики, логики и теории познания. Это одновременно означает,
что различие между онтологией и гносеологией исчезает, и, следовательно, по
Ильенкову, марксистская философия не нуждается в какой-либо специальной теории
познания. Гносеология как особая дисциплина является, скорее, изобретением
неокантианства на исходе XIX века, и нацелена на то, чтобы закрепить принципиально
незыблемые границы всякого познания, отрицая таким образом возможность
научного рассмотрения мира вообще17. Попутно Ильенков наносит удар больше
идеологического, нежели чисто философского характера. Побочным нежелательным
следствием этого гносеологизирующего неокантианства была еще и опасность ревизионизма
14 Там же. С. 140. Ильенков здесь опирается на фейербаховские "Основные принципы философии
будущего", прежде всего на §§ 24-29.
15 Там же. С. 140.
16 Там же. С. 143.
17 Там же. С. 190 и далее.
96
бернштейновского типа, который нанес "колоссальный вред" рабочему движению
своими речами в защиту этического социализма .
Особенно следует подчеркнуть то, что задуманная в таком виде марксистская
философия тождества не была способна проработать кантовское различение
мышления и познания. Для Канта мышление было независимо от того материала,
который дает созерцание (Anschauung); познание, напротив, возникает только из связи
мышления (формы) и созерцания (содержания, материи).
Если здесь хотят увидеть формализм Канта - что и делает Ильенков - то эта
критика, по меньшей мере отчасти, не обоснована. Как правильно замечает Лев
Абрамян, формализм кантовской теории состоит не в том, что мышление
рассматривается в качестве формы познания. "Допустим, - пишет он, - мы объединили мышление
и познание в некоторую целостность, в которой теперь могут существовать одни
лишь содержательные формы. Вправе ли мы после этого различать в этом единстве
относительно независимые формы "мышления-познания", или понятие формы
теперь уже лишилось всякого смысла? Что-нибудь должно же быть принято за форму
"мышления-познания", и если это не мышление, то ясно, что это будет что-то
другое". Абрамян правомерно констатирует: если хотят преодолеть формализм, то это
происходит не путем отказа от выделения форм вообще; больше всего нужно
остерегаться превращать эти формы в независимые .
3. Апории идеального
Проблемы, которые приносит с собой ильенковское понимание диаматовской
философии тождества, особенно наглядно проступают при определении им
идеального. Советские коллеги Ильенкова много полемизировали с этим определением,
последняя же дискуссия об идеальном состоялась в середине 1980-х гг. Невозможно
рассмотреть ее здесь в деталях, но все же следует коротко резюмировать основные
результаты.
В советской дискуссии чаще всего указывалось на один недостаток в работах
Ильенкова: даже если определение идеального у него содержит важные
новообразования - Ильенков разрабатывал проблематику общественного детерминизма
мышления - то, тем не менее, никакая однозначная дефиниция того, что, собственно
говоря, следует понимать под "идеальным" (в противоположность
"материальному"), ему не удалась. Ильенков довольствовался тем, что в своих работах постоянно
описывал этот термин с новыми нюансами, хотя главная мысль кажется
выраженной в тезисе "философии тождества", суть которого в том, что идеальное имеет
место вне мыслящего индивидуума, в созданном трудом предметном мире (то есть в
феномене культуры, как "объективного духа", пользуясь гегелевским термином) или в
собственно человеческой деятельности.
Наиболее подробно Ильенков развил свое толкование идеального в одной
статье, опубликованной посмертно в журнале "Вопросы философии". Сначала он
критикует концепции, которые отождествляют идеальное с феноменом
индивидуального сознания или вообще с понятием "информация" . Отождествление идеального с
"психическим вообще" не достаточно, потому что таким образом нельзя схватить
философскую проблему, которой занимался уже Платон, а именно проблему
объективности всеобщего, верно замечает Ильенков .
18 Там же. С. 197.
19 Абрамян 1979. С. 78-79.
20 Ильенков Э.В. Проблема идеального / Вопросы философии, 6 и 7, 1979.
21 Там же. № 6, С. 129. Противники Ильенкова здесь, как обычно, Игорь Нарский и Д.И. Дубровский.
4 Вопросы философии, № 3
97
Сущность идеального состоит, скорее, в том, что это - представление: идеальное
есть нечто, что представлено в материальных продуктах человеческой культуры - в
книгах, статуях, иконах, монетах, спектаклях. "Под "идеальностью" или
"идеальным" материализм и обязан иметь в виду то очень своеобразное и строго
фиксируемое соотношение между двумя (по крайней мере) материальными объектами
(вещами, процессами, событиями, состояниями), внутри которого один материальный
объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя другого объекта,
а еще точнее - всеобщей природы этого другого объекта" .
Сама собой напрашивается аналогия с марксовой теорией стоимости. Как писал
Маркс, "цена, или денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная форма,
есть нечто отличное от их чувственно воспринимаемой телесной формы,
следовательно, форма лишь идеальная, существующая только в представлении"23; но все же
цена и форма стоимости не психологические феномены, а объективные категории.
Однако Ильенков одновременно указывает, что понимание идеального и в
марксизме должно опираться на достижения немецкого идеализма, особенно на
гегелевское определение духа, так как таким образом преодолевается "узкопсихологическое"
толкование идеального. По Ильенкову получается, что Марксова форма стоимости
родственна гегелевскому определению духа: "Буквально все те характеристики,
которые традиционная философия и теология приписывали "душе" - универсальность,
бестелесность [...] и при этом всемогущая сила повелевать судьбами вещей и людей, -
все это в виде определений формы стоимости предстало перед теоретической мыслью
как бесспорная, никакому сомнению не подлежащая, любое сомнение (даже
декартовское, даже юмовское) выдерживающая реальность . Здесь налицо откровенно
гегельянствующая интонация ильенковской интерпретации Маркса.
Даже если этот избыток Гегеля был бы вычеркнут, идеальное обязано иметь,
судя по этому примеру, интерсубъективный характер и находиться вне
индивидуального сознания. Но Ильенков также дает другие дефиниции идеального, которые
очевидно не соответствуют только что упомянутым. Это - "субъективный образ
объективной реальности, т.е. отражение внешнего мира в формах деятельности
человека, в формах его сознания и воли"25. Итак, на этот раз идеальное определено в
качестве "субъективного образа", и как таковое оно вряд ли может быть схоже с
"объективным духом" (материальными продуктами культуры). .
Вероятно, осознавая проблематичность двух своих предыдущих дефиниций,
Ильенков дает третью, в которой активность субъекта представлена в качестве
дополнительного объяснения: идеальное - это "образ внешнего мира, возникающий в
мыслящем теле не в виде результата пассивного созерцания, а как продукт и форма
активного преобразования природы трудом поколений, сменяющих друг друга..."26.
У Ильенкова можно обнаружить еще и другие попытки определения
идеального27. Иногда он считает, что идеальное - это не просто отражение или
представление, а "форма" деятельности общественного человека28 (и здесь он, кажется, забыл
свою прежнюю критику кантовского формализма), в другой раз он даже пишет, что
22 Там же. С. 130. [Курсив В. Ойттинена. - Прим. пер.].
23 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 23. С. 105.
24 Там же, S. 135. [Курсив В. Ойттинена. - Прим. пер.]. ·
25 Ильенков, 1984. с. 165.
26 Там же. С. 166.
27 О них давний противник Ильенкова Игорь Нарский, симпатизирущий позитивизму, собрал целую
коллекцию в работе: "К вопросу о социальном характере познания в связи с содержанием категории
"идеальное", 1986.
28 Ильенков 1984. С. 172.
98
идеальное это "схема реальной, предметной деятельности человека, согласующаяся
с формой вне головы, вне мозга" - "именно только схема, а не сама деятельность"29.
4. Назад к Канту...
На проблематичность этих последних попыток дать дефиницию идеального
обоснованно указывал Нарский: "Даже если Ильенков, как мы уже отмечали, искал
идеальное в деятельной форме всех продуктов человеческой культуры, будет
правильным сказать, что он именно при этой форме все же переносил центр тяжести
постановки вопроса на содержание идеального"30.
Нарский не всегда прав в своей критике Ильенкова, но это замечание попадает в
цель. Ильенковские интерпретации идеального остались туманными, так как он не
хотел четко различать формальное и содержательное. С одной стороны, идеальное
должно указывать на культурное, интерсубъективное содержание и отражать его; с
другой, оно состоит лишь из "схем" или "форм" человеческой деятельности.
Ильенковские апории видимо указывают на то, что с программой диалектико-
материалистической логики, посредством которой должны были преодолеваться
вульгаризмы сталинского времени, дело обстоит не так хорошо, как хотелось бы.
Советские философы опубликовали большое число различных попыток изложения
диалектической логики, и все же эти усилия кажутся бесполезными; даже Ильенков,
который относится к способнейшим и тончайшим сторонникам этой программы,
был не в состоянии прийти к однозначным результатам.
Какие выводы можно было бы сделать из ильенковских апорий? Вероятно, не те,
что программа диалектико-материалистической логики умерла вместе с "советским
догматизмом". Материалистическая диалектика отнюдь не связана необходимым
образом с идеей "конфессиональной" марксистской философии. И все же можно
сказать, что некоторые клише прежнего марксизма в Советском Союзе
препятствовали развитию теории диалектики.
Полные апорий усилия Ильенкова по определению идеального показывают, что
некоторые позиции Канта надо воспринимать серьезнее, чем прежде, когда ложным
образом считали, что Кант в значительной степени снимается позднейшим
развитием классической немецкой философии31. Это касается прежде всего кантовского
строгого различения мышления и познания, имеющего далеко идущие последствия:
не только признание теории познания в качестве особой философской дисциплины,
но и то, что в пределах этой дисциплины мышление должно рассматриваться как
нематериальное. Фактически еще известная ленинская дефиниция материи содержала
это в имплицитной форме. "Ибо, - писал он, - единственное "свойство" материи, с
признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть
объективной реальностью, существовать вне нашего сознания"32. Итак, если материя
существует вне сознания, когда ее рассматривают гносеологически, то сознание
должно быть чем-то нематериальным. И как и ожидается, Ленин критиковал Дицгена за
то, что тот считал мышление столь же материальным, как и сама материя: "Назвать
мысль материальной - значит сделать ошибочный шаг к смешению материализма с
идеализмом"33.
29 Вопросы философии, 6, 1979. С. 136.
30 Нарский 1986. С. 51. [Цитата приведена в обратном переводе с немецкого. - Прим. пер.]
31 На это в последнее время так же указывал Стефан Дицш (1993. S. 7): "Плоское представление
следования друг за другом или вытекания одного из другого четырех частей системы" (то есть систем Канта,
Фихте, Шеллинга и Гегеля) "с конечной целью абсолютного идеализма Гегеля" есть клише
интерпретации (в Германии с Рихарда Кронера), которое начинает преодолеваться лишь сегодня.
32 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 18. С. 275.
4* 99
Именно эту "нематериальность" мышления Кант и обосновал своей дистинкци-
ей мышления и познания. Мышление "в себе" есть чистая форма, материал для
которой поставляется лишь чувственностью, превращая его в познание. Эта общая
черта Ленина и Канта советской философией - а также Ильенковым - до
сегодняшнего дня не учитывалась, так как, во-первых, предполагалось, что Кант снят
Гегелем, с другой стороны, в кантовском мышлении присутствовала опасность
агностицизма и даже ревизионизма.
Для программы материалистической диалектики кантовское определение
мышления важно и в том отношении, что с его помощью "чистое" мышление может
быть определено лишь как свойство индивидуального субъекта, который
располагает не только сознанием, но и самосознанием. Взятое для себя, самосознание есть
что-то совершенно пустое и формальное, о чем Кант сказал, что это лишь "X",
который все же сопровождает все представления Я - и который парадоксальным
образом образует необходимую предпосылку для единства сознания. Таким образом,
чистого, нематериального мышления нет, но все же оно есть.
Нечто столь же парадоксальное, кажется, присутствует в понятии идеального, и
Ильенков это чувствовал. После всех противоречий и колебаний при определении
этого понятия Ильенков наконец довольствуется констатацией того, что идеальное
"сугубо диалектично" - это "то, чего нет и что вместе с тем есть"; что не существует
в виде внешних вещей и одновременно существует как деятельная способность
человека. "Это бытие, которое, однако, равно небытию"34.
Литература
1. Абрамян Л.Α., Кант и проблема знания. Ереван, 1979.
2. Dietzsch S., 1990, Dimensionen der Transzendentalphilosophie 1780-1810, Berlin.
3. Iljenkow E.W., 1979, Die Dialektik des Abstrakten und Konkreten im Kapital von Marx, Berlin und Moskau.
4. Ильенков Э.В., Диалектическая логика, Изд. 2-е, M., 1984.
5. Lee S.H., 1985, The Status of the Debate on Rights in the USSR. In: Studies in Soviet Thought, 30, 1985.
6. Lenin W.I., Werke.
Т.Лифшиц M.A., Предисловие к книге Ильенкова, Искусство и коммунистический идеал. М., 1984.
8. Marx К., 1969, Das Kapital, Berlin.
9. Нарский И., К вопросу о социальном характере научного познания в связи с •содержанием
категории "идеальное". В кн.: Tartu Riikliku Ulikooli toimetised, 731. Tartu, 1986.
10. НауменкоЛ.К., Предисловие ко второму изданию Диалектической логики. М., 1984.
11. Scanlan J.Р., 1985, Marxism in the USSR. A Critical Survey of Current Soviet Thought, Ithaca-London.
12. Тевзадзе Г. Иммануил Кант. Тбилиси, 1979.
33
Там же. С. 257.
34 Ильенков 1984. С. 172.
100
Э.В. Ильенков и социализм
С.Н. MАРЕЕВ
Однажды Ильенков показал мне машинописный экземпляр книги Дж. Оруэлла
"1984" в его собственном переводе. Тогда была середина семидесятых и до
"апокалипсиса", по прогнозам Оруэлла, оставалось еще около десятка лет. Мне все это
тогда показалось безобидным фантазерством. Ильенков, как и всегда, когда он
обращал на что-то свое пристальное внимание, видел в этом более глубокий смысл.
Смысл этот он видел в том, что коммунистическая антиутопия Оруэлла прекрасно
демонстрировала тенденции эволюции частнособственнического общества. Эти
тенденции находят свое выражение в том, что обозначалось в западноевропейской
философии до последнего времени емким, хотя и не всегда определенным, понятием
"отчуждение".
Социализм, считал Ильенков, вырастает из стремления преодолеть эту
тенденцию. Но на первых порах в своем стремлении снять отчуждение, возникающее на
почве частной собственности, социализм доводит это отчуждение до его крайней
степени, превращая частную собственность во "всеобщую" частную собственность.
Таким образом, социализм, будучи своим иным капитализма и потому отрицая
присущее ему отчуждение, в лице "всеобщей" государственной собственности в
определенном отношении усугубляет ситуацию. Отрицая частную собственность в
частной форме, он рождает частную собственность во всеобщей форме, усиливая
отчуждение.
Итак, тенденция к отчуждению есть тенденция развития капитализма, а не
социализма: это не есть его собственное. Тем более что развития социализма, строго
говоря, история не знает, потому что социализм - это не состояние, а движение,
уничтожающее нынешнее состояние. Нет ничего хуже, чем превращение социализма в
"состояние", хотя в определенных условиях ничего другого быть не может.
Ильенков не идеализировал это "состояние", но тот выход из этого "состояния", который
предлагала либеральная интеллигенция, он тоже принять не мог, потому что очень
хорошо представлял себе, что из этого может получиться. Теперь мы уже знаем, что
из этого может получиться, потому что оно уже получилось.
В докладе "Маркс и западный мир" Ильенков пишет: "Поэтому, скажем,
кошмары Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла на самом-то деле - независимо от иллюзий
самих авторов этих антиутопий - рисуют вовсе не перспективу эволюции
социалистического общества, а как раз грозную перспективу развития
частнокапиталистической формы собственности. Рисуя по внешним приметам и признакам "современный
коммунизм", эти авторы на самом деле прочерчивают, по существу, линию дрейфа
товарно-капиталистического строя жизни. Потому-то эти кошмары так и пугают гу-
101
маниста-интеллигента "западного мира". Нас они не пугают. Мы понимаем эти
тенденции как наш вчерашний, хотя и не до конца еще пережитый день"1.
Этот доклад был написан для международного симпозиума, состоявшегося в
апреле 1966 года в США, на который Ильенков не смог поехать. Сейчас слова о том,
что это "наш вчерашний, хотя и не до конца еще пережитый день", могут показаться
чрезмерно оптимистическими: второе пришествие "чумазого" состоялось, хотя его
внешний вид очень изменился. Не изменилась только его суть - страсть "все
поделить" и побольше хапнуть.
В позиции Ильенкова по поводу социализма ничего не возможно понять, если не
учитывать того, что критика частнособственнического общества имеет солидную
историческую традицию от Платона и до Маркса. Причем и у первого, и у второго
главный мотив - спасение культуры. И интересно, что уже в идеальном государстве
Платона довольно явственно проступили черты того, что Маркс назвал
"казарменным коммунизмом": ограничения на проявление индивидуальности, регламентация
всей общественной жизни. Причем суровое и жесткое законодательство, которое
идеализирует Платон, резко контрастирует с его, по всем свидетельствам, очень
мягким нравом.
Так что дело не в субъективной жестокости теоретиков и практиков -
создателей коммунистических утопий, а в том, что невозможно обуздать
частнособственническую анархию увещеваниями и моральными проповедями. Поэтому
"неподкупный" Робеспьер, человек субъективно отнюдь не жестокий, отправлял на гильотину
"врагов народа" десятками, сотнями, тысячами. Кстати, само понятие "враг народа"
родилось именно в годы Великой французской революции. Сталин тоже зверел
постепенно по мере обострения классовой борьбы. Свое решение о ликвидации
кулачества, а заодно и середнячества как класса он принял после поездки в Сибирь в
1928 году, когда впервые за весь период нэпа были сорваны хлебопоставки. И это
дало толчок тому большому террору, который получился в 30-х годах.
Ильенков и здесь следовал своему учителю Спинозе: не плакать и не смеяться, а
понимать. И потому, когда я спросил его как-то, а была ли необходимость во всем
том, что связано с именем Сталина, ответ был почти мгновенным и определенным:
да, конечно, была. Все давно и тщательно было продумано. И он тут же начал мне
излагать то сцепление "исторических случайностей", которое стало исторической
необходимостью рождения сталинизма. При этом Ильенков доставал томики
Ленина с закладками и тыкал пальцами в соответствующие места, где у того в его
послеоктябрьских работах звучал один рефрен: нам необходимо продержаться в союзе с
середняком 10-15 лет и т.п. Как раз в 1928 году стало ясно, - Сталину стало ясно, но
отнюдь не всему его окружению, - что "союз" кончился. А раз кончился союз, то
должна была начаться война. А на войне, как на войне. И назад пути не было.
Рубикон был перейден.
Мне никто не верил, что Ильенков мог говорить и думать такое. Но что я
сделаю, если это было. И Ильенков не был бы Ильенковым, если бы в этом вопросе
слукавил или отделался обычным в таких случаях выражением возмущения по
поводу "жестокого тирана", "кровавого убийцы" и т.п., как это, к примеру, делал
"архивный юноша" генерал Волкогонов. Последний признался, что, будучи молодым
лейтенантом, сам был сталинистом. (А Ильенков, даже будучи молодым лейтенантом,
сталинистом не был.) Вот как раз Волкогонов от веры в Сталина перешел к вере в
Ельцина. Поистине, как говорил Ильенков, нет божества без убожества. И всякое
убожество создает себе божество. Впрочем, это и Сталин понимал, когда на
замечание Шолохова по поводу его культа заметил: "Народу нужно божка". Народу нужен
культ, - тот или иной, - и этому невозможно сопротивляться. Сталинизм - это
состояние народа, а не свойство особой личности.
Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 165.
102
Все социалистические мистерии XX века разыгрывались, что бы ни думали и ни
говорили об этом в свое время Волкогонов и Ципко, по сценарию, который был
написан Марксом еще в "Философско-экономических рукописях 1844 г.": неразвитая
частная собственность порождает неразвитые формы коммунизма - коммунизм
казарменный и уравнительный, коммунизм, отрицающий личность. Такой коммунизм
никогда не устраивал Маркса. И Ильенков в своей статье "Маркс и западный мир", я
думаю, очень доходчиво показывает причины неприятия Марксом теории и
"практических опытов" этого коммунизма.
«И Маркс, и Энгельс, - пишет в связи с этим Ильенков, - начинали свою
биографию именно в качестве наиболее радикальных теоретиков буржуазной демократии,
в качестве наиболее решительных защитников принципа "частной собственности",
которая сливалась тогда в их глазах с принципом полной и безоговорочной свободы
личной инициативы» . Иначе говоря, Маркс и Энгельс в 1842 году - это примерно то
же самое, что Гайдар и Чубайс сегодня. Разница только в том, что гуманизм и
культура первых очень быстро заставили их отказаться от этого "принципа", потому что
он неизбежно связан с отчуждением человеческой сущности. И это было ясно уже
из знакомства с Руссо и Гегелем. Вторые спокойно принимают весь цинизм
"гражданского общества" - этого, по словам Гегеля, чисто животного царства, в котором
каждый сам себе цель, а всякий другой только средство. «Здесь, - пишет Ильенков, - ...
молодой Маркс выступает еще как типичный представитель принципа "частной
собственности", который сливается в его глазах с принципом полной и безоговорочной
"свободы личной инициативы" в любой сфере жизни - будь то материальное или
духовное производство. Именно поэтому он и отвергает коммунизм как
теоретическую доктрину, которая кажется ему реакционной попыткой гальванизировать
"корпоративный принцип", идеал Платона» .
Маркс прекрасно знал историю общественной мысли, и потому он понимал, что
современный ему коммунизм - это повторение ошибок прошлого, чего не понимал
его соотечественник - столяр Вильгельм Вейтлинг, автор одной из
коммунистических утопий и типичный представитель "казарменного коммунизма". Но Маркс
понимал и другое. Он понимал, что современный ему коммунизм, в отличие от
коммунизма Платона, родился не в голове философа, а в народных низах. Следовательно,
он порожден определенными условиями жизни, которые необходимо прежде всего
проанализировать. И уж, во всяком случае, не надо спешить превращать его в
бранное слово, как это делала "Аугсбургская газета". "Она, - по словам Маркса, -
обращается в бегство перед лицом запутанных современных явлений и думает, что пыль,
которую она при этом поднимает, равно как и бранные слова, которые она, убегая,
со страху бормочет сквозь зубы, так же ослепляют и сбивают с толку непокладистое
современное явление, как и покладистого читателя"4.
Маркс здесь тоже спинозист: не браниться надо, а исследовать. А когда он
исследовал вопрос, то оказалось, что коммунизм есть выражение того же принципа
"частной собственности", поборником которого он выступал. И Маркс, в отличие от
современных нам "демократов", во имя истины и справедливости мог пойти против
себя. Но это не было шараханьем в противоположную сторону. Общий вывод из
исследования, которое Маркс осуществил в 1843-1844 годах, заключается в том, что
основой всех форм "отчуждения" является частная собственность. При этом нельзя
сказать, что частная собственность - это однозначно плохо, так же,как раньше все
было однозначно хорошо. Дело в том, что она противоречива, как и вообще всякое
историческое явление. И до тех пор, пока частная собственность не разовьет и не
исчерпает все свои положительные стороны, ее практическое отрицание не может по-
2 Там же. С. 159.
3 Там же.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 Т. 1. С. 116.
103
родить ничего хорошего. Отрицание неразвитой частной собственности, - и это,
пожалуй, самое главное, - не может вывести за пределы частной собственности. Она
только по форме станет "коммунистической". По сути же она останется частной, а
именно всеобщей частной собственностью, поскольку остается отчужденной от
непосредственного производителя.
Итак, коммунизм на первых порах выступает как "всеобщая частная
собственность"5. Если частная собственность в ее обычной форме выступает как
собственность одного, которая не есть собственность другого, то всеобщая частная
собственность выступает как собственность всех, не являясь собственностью никого в
отдельности. То есть если в обычном случае она есть то, что отделяет (отчуждает)
одного индивида от другого, то в случае всеобщей частной собственности она от-
чуждена от всех. Такая собственность выступает как собственность государства, но
само государство в той или иной мере есть отчужденная от общества общественная
сила. Это уже прекрасно понимал Руссо.
Та общественная собственность в государственной форме, которая была у нас,
как раз являлась всеобщей частной собственностью. И поскольку она по сути все-
таки частная собственность, то она и становится добычей бюрократии
("номенклатуры"). Номенклатурно-бюрократическая приватизация, как она произошла у нас,
просто юридически оформила то, что существовало фактически. Потому-то она
произошла тихой сапой, без особых революционных потрясений и за спиной
непосредственного производителя, который вчера знал, что Иван Иваныч - директор
завода, на котором он работает, а теперь узнал, что Иван Иваныч еще владеет также
контрольным пакетом акций этого же завода.
"Грубый коммунизм", как это ни странно, концентрируя и обобществляя
производство, как раз создает почву для номенклатурно-бюрократической приватизации.
Такая приватизация невозможна на базе мелкой собственности. Для этого
необходима экспроприация. Специфика номенклатурно-бюрократической приватизации
как раз в том, что это приватизация без экспроприации, присвоение того, что было
ничьим. "Грубый коммунизм", считал Ильенков, и это самый интересный пункт его
воззрений, "верно осознающий свою ближайшую цель - отрицание частной
собственности, сочетается с иллюзией, будто эта чисто негативная акция и есть
"позитивное разрешение" всех проблем современной цивилизации"6.
Коммунизм, по Марксу, - это только "энергический принцип ближайшего
будущего"7. Но это ни в коем случае не форма будущего общества. Более конкретные
контуры будущего общества для Маркса начинают прорисовываться в "Капитале", в
примыкающих к нему подготовительных рукописях. Не через обобществление
собственности, а через обобществление труда, через превращение частичного труда в
труд всеобщий, лежат пути к будущему обществу. Причем вместе с уничтожением
частичного труда должен исчезнуть и частичный человек - это уродливое создание
уродливого разделения труда. А всеобщим трудом Маркс называет "всякий научный
труд, всякое открытие, всякое изобретение". Иначе говоря, всеобщий труд - это
труд, продукт которого по сути не может быть частной собственностью, а он сразу и
непосредственно становится достоянием всего общества. Но именно этот труд и
продукты этого труда во все более возрастающих масштабах создают общественное
богатство, которое уже не поддается измерению рабочим временем, а потому и
"стоимостью".
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 42. С. 114.
6 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 162.
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 42. С. 127.
8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2 Т. 25 Ч. 1. С. 116.
104
Ленин, кстати, тоже понимал коммунизм как "энергический принцип
ближайшего будущего", как кавалерийскую атаку на капитализм, после которой должна
начаться его правильная осада, его использование, его эксплуатация, если хотите, в
интересах всего общества. Но этого чисто исторически не получилось. Получился
"социализм". Дело не в том, что у этого социализма не было никаких исторических
заслуг, - они, безусловно, были. Но фактически, в особенности на последнем этапе,
это было превращение "энергического принципа ближайшего будущего" в особую
форму общества, в "формацию", хотя бы и в ее первой фазе.
Ильенков в свое время вступил в острую полемику с известным и авторитетным
экономистом Я.М. Кронродом именно по этому вопросу и доказывал, что социализм -
это ни в коем случае не формация как устойчивое единство "базиса" и "надстройки".
Но эта глупость не только не была опровергнута, а нашла свое, можно сказать,
полное завершение в концепции так называемого "развитого социализма". "Движение,
уничтожающее нынешнее состояние", само превратилось в состояние, в состояние и
застой.
Коллизии частной собственности социализмом не преодолеваются, а, я бы
сказал, смягчаются, делаются не такими острыми. Отсюда сохранение, как писал
Маркс, "узкого горизонта буржуазного права", основой которого является принцип:
равная оплата за равный труд. Тем самым труд превращается в частную
собственность. Ведь частная собственность - это, как понимал уже Аристотель, все то, что
имеет стоимость. Потому-то социализм и может быть формой перевода мелкой
частной собственности в более крупную: государственную, корпоративную,
акционерную и т.д., а, тем самым, и формой ускорения индустриализации. Именно поэтому
почти все крестьянские, мелкобуржуазные страны Азии, Африки, Латинской
Америки в процессе своего освобождения от колониальной зависимости переболели
"социализмом".
Для них это тоже было "энергическим принципом ближайшего будущего", но
никакой устойчивой формой социализм так и не стал. Это было, если можно так
сказать, формой мобилизации национальных сил в определенных экстремальных
условиях, с исчезновением которых исчез и сам "социализм". Возможно потому Макс Ве-
бер считал, что социализм может быть только национальным социализмом.
Например, такие "социалистические" меры, как трудовая повинность и хлебная
разверстка во время Первой мировой войны ввели у себя обе главные воюющие
страны, Германия и Россия. Так что большевикам и не нужно было что-то придумывать,
а "военный коммунизм" мог спокойно уживаться и с капитализмом.
Хрущевская программа построения коммунизма за двадцать лет также была
попыткой превратить движение в состояние. По существу это была авантюра, которая
привела к прямо противоположному результату - полному разочарованию в
"коммунизме". И Сталин, надо отдать ему должное, меньше всего был склонен к
подобным утопиям. Он делал ставку как раз на продолжение "энергического принципа
ближайшего будущего", сумев избежать авантюры "мировой революции", за
которую ратовали троцкисты. Именно в силу того, что после Сталина превращение
движения в состояние, - а при Брежневе даже в застой, - практически произошло,
коммунистические идеи Маркса, и прежде всего идея коммунизма как снятия
отчуждения и возвращения человеку человеческой сущности, оказались непонятными и
неприемлемыми. Их списывали на "раннего", "незрелого" Маркса, а Коммунизм
преподавали по учебникам П. Федосеева и других идеологов построения коммунизма за
двадцать лет.
Задача, составляющая суть марксизма, как считал Ильенков, есть
"действительное освоение каждым индивидом всего накопленного в рамках "частной
собственности" (т.е. "отчужденного от него") богатства"9. Отчуждение индивида от действи-
Ильенков Э.В. Философия и культура. М„ 1991. С. 163.
105
тельного богатства, накопленного человечеством, не ликвидируется простым
юридическим обобществлением вещного богатства. А в определенном отношении отчуждение
"общества" от индивида не только не снимается, а усугубляется превращением частной
собственности в государственную. Поэтому действительно превратить собственность в
собственность "всего общества" - это значит, пишет Ильенков, "превратить ее в
реальную собственность каждого индивида, каждого члена этого общества, ибо в противном
случае "общество" рассматривается еще как нечто абстрактное, как нечто отличное от
реальной совокупности всех составляющих его индивидов"10.
Частная собственность, в особенности мелкая, всегда порождала, и до сих пор
порождает, две тенденции в психологии и сознании людей. Первая - это анархический
протест против всех форм общественности, поскольку они затрагивают и ущемляют
частный интерес, интерес частного собственника. Другая - жажда деспотической
власти, которая уравняет всех. И уравняет не только в отношении почестей, славы, но и в
отношении собственности. Последняя тенденция может принять и форму
"коммунизма". Примеров тому в истории достаточно. А в настоящее время, после всех эксцессов
сталинизма, маоизма, полпотовщины и т.п., это уже, можно сказать, "медицинский
факт". Поэтому, независимо от того, что мы об этом думаем, кошмары Хаксли и Ору-
элла являются все-таки порождением принципа "частной собственности".
Любая общественная идея, даже извращенная, имеет свою реальную почву. Таков
по сути основной принцип методологии Маркса, которому следует Ильенков.
Поэтому нельзя просто отвергнуть идею коммунизма. «С идеями вообще, - пишет
Ильенков, повторяя по сути мысль Маркса, высказанную им в 1842 году в статье
"Коммунизм и "Аугсбургская всеобщая газета"», - нельзя расправиться ни пушками, ни
бранными словами, с другой же стороны, неудачные практические опыты реализации идей
еще вовсе не довод против самих этих идей. И если вам какие-то идеи не нравятся, то
вы должны проанализировать ту реальную почву, на которой эти идеи возникают и
распространяются, т.е. найти теоретическое разрешение той коллизии, того
реального конфликта, внутри которого они возникают. Покажите, каким образом можно
удовлетворить ту напряженную социальную потребность, которая высказывает себя
в виде этих идей. Тогда - и не раньше - исчезнут и антипатичные вам идеи..."11.
И это так. Ведь даже "идеи" Жириновского выражают определенную и
напряженную социальную потребность, если за них голосует часть населения России. И
"демократы" это, конечно, поняли. А некоторые, самые умные из них, очень даже
неплохо усвоили ленинские принципы классового анализа и, при желании,
прекрасно показывают, откуда что растет, но только тогда, когда им это выгодно.
* * *
Есть одно интересное место у Маркса в подготовительных рукописях к
"Капиталу", на которое как будто бы никто до сих пор не обращал внимания. "Подобно
тому, - пишет Маркс, - как система буржуазной экономики развертывается перед
нами лишь шаг за шагом, так же обстоит дело и с ее самоотрицанием..."12. В
историческом развитии по большому счету речь может идти не об отрицании, а о
самоотрицании. Отрицание - это только момент самоотрицания. И если система
буржуазной экономики в своем историческом развертывании проходит ступень
экспроприации мелкой частной собственности, то в процессе своего самоотрицания она
совершенно неизбежно должна вернуться к той же форме, только уже' с совершенно
иным содержанием. Содержанием здесь является уже не частный, не частичный, а
10 Там же.
11 Там же. С. 160.
12 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 46. Ч. II. С. 222.
106
всеобщий труд: он мой собственный и, вместе с тем, непосредственно
общественный, потому что то, что я произвожу, - идея, открытие, изобретение, новая
технология и т.п., - имеет непосредственно общественное значение.
Современная система "буржуазной" экономики все это уже воочию
демонстрирует. Происходит то, что экономисты и социологи называют "диффузией"
собственности. Но, вместе с этим, идет и процесс обобществления за счет роста доли всеобщего
труда. За счет этого "частник" не только экономически, но и технологически
оказывается встроенным в единый народнохозяйственный механизм. Налицо
очевидный рост доли всеобщего труда: в индустриально развитых странах в настоящее
время уже более половины лиц наемного труда занято в сфере обслуживания,
управления, науки, образования, информатики и т.п. Это люди, которые продают не просто
способность к труду, а свою квалификацию, которая и является их частной
собственностью. Квалификация - это собственность, которую современный интеллигент
холит и лелеет, подобно тому, как это делал его дед или прадед по отношению к
своей корове, своей лошади и т.д., ведь она его кормит.
Это и есть не механическое, а органическое соединение частного и общего, за
которое ратовал Ильенков еще в 60-е годы, и что нашло свое отражение в его
письме к Ю.А. Жданову от 18 января 1968 года13. В общем и целом направление
движения в то время, по Ильенкову, должно было идти от формального "обобществления" - к
реальному через признание прав товарно-денежных отношений. Однако слабый
голос Ильенкова оказался в то время голосом выпивающего в пустыне, как остроумно
выразился один из его современников. И то, что не смогла сделать сознательно
партия, стоявшая у власти, сделала стихия, что лишний раз подтвердило марксистскую
истину: от исторической судьбы никуда не уйдешь. Ильенков предвидел печальные
последствия тупоголовости тогдашних теоретиков "научного коммунизма" и потому
был так печален.
Не отмена частной собственности, а ее снятие, - вот в чем состоит историческая
задача. И если "экспроприаторов экспроприируют", то это "энергический принцип
ближайшего будущего", а не идеал. Отнять и разделить - это не идеал, а только
вынужденная мера, вынужденная голодом, разрухой, гражданской войной. Так
называемый "военный коммунизм" никогда не был официальным пунктом программ и
решений, а был рядом мероприятий, рожденных чрезвычайными обстоятельствами.
И если говорить конкретно о Ленине, то для него общей нормой был скорее НЭП,
чем "военный коммунизм". И Ленин прямо писал о том, что приступить к
осуществлению программы социалистического строительства, которая предусматривала не
"ликвидацию" частника, а его кооперирование, помешала гражданская война. И как
раз интегрирующую частника систему хозяйства Ленин называл социалистической.
"Военный коммунизм" и аналогичный ему "казарменный коммунизм" - это не
идеал, а действительное движение, которое не предусмотрено никакими
доктринами и программами. Это творчество революционных масс. Но "творчество" чевен-
гурских романтиков есть неизбежное следствие того противоречия, которое Андрей
Платонов совершенно гениально выразил притчей про кузнеца Якова Титыча,
который страдал "ветрами" и "потоками" и потому проводил большую часть времени в
лопухах. Чтобы избавить его от этой болезни, Якова Титыча следовало накормить
мягкими жамками, а чтобы испечь эти жамки, надо было намолоть муки, а для того
чтобы пустить мельницу, надо было отковать палбрицу, а это мог сделать только
сам Яков Титыч. Отсюда понятно, что единственный выход из этого "положения" -
отобрать белые пышки у "буржуев", чтобы накормить несчастного Якова Титыча.
Это тот заколдованный круг, в который попадает всякая революция. Но это не
повод сказать массе: перестань бороться. А это только повод сказать власть
предержащим: не доводите народ до крайности. Именно этим всегда и отличались подлин-
См.: Э.В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999. С. 258.
107
ные демократы от либералов, которые оправдывали неравенство тем, что призыв к
равенству неизбежно приведет к революционным эксцессам. Русские
революционные демократы Герцен и Чернышевский ясно отдавали себе отчет в том, что
революция в России будет кровавой и разрушительной, потому что в народе накопилась
колоссальная энергия разрушения вследствие вековой несправедливости. Однако
они не уговаривали народ "терпеть", как это делали либералы, а пытались склонить
власть к уступкам народу во избежание жертв и разрушения.
Но немедленное построение "социализма" здесь и теперь тоже не может не
обернуться авантюрой. Ленин писал, что идти к мужику с проповедью коммунизма глупо
и вредно. К нему надо идти с совсем другими мужицки-понятными вещами: земля,
мир, кооперация, бытовые удобства и т.п. Опять-таки не идеал, а действительное
движение... "Маркс, - писал Ильенков, - прямо обратил свой трезвый взор к земле и
ясно увидел, что люди вовсе не гоняются за синими птицами Идеала, а вынуждены,
как это ни грубо звучало для ушей мечтателей, вести ежедневную тяжкую борьбу за
хлеб, за крышу над головой, за право дышать чистым воздухом... Он увидел, что
вовсе не "идеалов" людям не хватает прежде всего, а самых элементарных
человеческих условий жизни, труда и образования".
Официальный "коммунизм" вызывал и вызывает такое же отношение к себе со
стороны реальной демократии, как и официальная народность, провозглашенная
министром образования Николая I графом Уваровым. Это все нельзя придумать,
как и патриотизм, который вдруг придумали Путину как общенациональную идею:
все это уже было, было... Системой политпросвета у нас было охвачено все
население. И доярке, и инженеру объясняли и внушали, что социализм - это первая фаза
коммунизма, когда от каждого по способностям, и каждому по его труду...
И каждый сидел и слушал, а про себя думал: когда же это кончится, наконец, и
можно будет пойти домой к жене, которая жалуется, что мало денег домой приносишь, и
к детям, которые тоже хотят то того, то этого, и обязательно импортного и
"фирменного"...
Так жизнь разошлась с идеалом. Социализм должен снова прорасти из жизни, а
не выдумываться из головы. И у социализма есть то фундаментальное
преимущество, что он соответствует коллективистской сущности самого человека. Он
противоположен индивидуализму и эгоизму членов "гражданского общества", от которых
человек объективно страдает даже тогда, когда идеологию и психологию этого
общества "сознательно" разделяет. Идеализировать последнее в сущности
невозможно. Это так же, как девушка может петь о потерянной любви, но скряга не может
петь о потерянных деньгах.
"Гражданское общество", которое свет в окошке для современного
"образованного" обывателя, насквозь противоречиво. И противоречивость этого общества
прекрасно понимал уже Гегель, который впервые, можно сказать, и описал его
более или менее подробно. Вот как Гегель характеризует его в своем самом
консервативном произведении "Философия права": "В гражданском обществе каждый для
себя - цель, все остальное для него ничто"15. "Эту систему можно ближайшим
образом рассматривать как внешнее государство, как государство нужды и рассудка .
Это общество насквозь прозаично, оно убивает идеал, убивает искусство. Хотя это
общество предоставляет своим членам полную свободу выбора в том, что касается
средств удовлетворения их эгоистических потребностей. "В этих
противоположностях и их переплетениях, - завершает свою общую характеристику гражданского
общества Гегель, - гражданское общество представляет собой зрелище к*ак
излишества, так и нищеты и общего обоим физического и нравственного упадка"17.
Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968. С. 123.
15 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М, 1990. С. 228.
16 Там же.
108
Гегель не видел лучшего и иной перспективы. Поэтому он и предложил
единственный выход из положения: создать для этого общества систему "сдержек" и
"противовесов", как выражаются современные "политологи" - апологеты
"гражданского общества". Этими противовесами у Гегеля являются государство, или
"политическое государство", как он выражается, а также религия и философия. Они-то, по
Гегелю, в противоположность частным индивидам в "гражданском обществе",
выражают и представляют всеобщее. Поэтому они носители нравственного начала в
обществе, в противоположность безнравственности "гражданского общества",
которое превращает индивида всего лишь в средство.
Гегель - идеолог гражданского общества только потому, что он не видит в
перспективе ничего лучшего. Однако он и не пытается идеализировать это общество, а
наоборот - вскрывает его самые глубокие и неистребимые пороки. Потому
получается парадокс: в своем самом консервативном произведении Гегель наиболее
революционен. Этим и отличается великий мыслитель Гегель от тех жалких, в том числе
и наших современных кропателей, для которых "гражданское общество" - светлое
будущее всего человечества.
Отчуждение, о котором писал еще Гегель, в современном "гражданском
обществе", несмотря на его колоссальный прогресс, не только не исчезло, а стало более
изощренным. Никто тебя внешним образом не угнетает, ни к чему не принуждает, -
ты свободен. Но человек почему-то бежит от этой свободы и готов стать рабом
любого фюрера, лишь бы избавиться от своей внутренней неустроенности, от своего
внутреннего беспокойства, страха и неуверенности. И тогда фрейдисты,
экзистенциалисты, персоналисты и прочие философские антропологи заявляют, что человек в
сущности своей существо "трагическое". Иначе говоря, отчуждение человеческой
сущности - это не историческая, а антропологическая характеристика человека. И
то отношение, которое открыл Маркс, а именно, что отчуждение человеческой
сущности есть проявление отчуждения индивидов в "гражданском обществе", в
результате оборачивается. Все противоречия в жизни общества объявляются следствием
несовершенной "природы человека".
Вот почему важно понять и помнить, отчего Маркс выступал против
абстрактной внеисторической "природы" человека, и заявлял, что сущность человека - это
"мир человека, общество, государство". Но в последние советские годы у нас
возобладало именно антропологическое понимание человеческой сущности, вернее -
межеумочное социо-биологическое ее понимание. Такое понимание человека, тем не
менее, консервировало основное противоречие гражданского общества, в котором
главная фигура - отъявленный эгоист, но и он вынужден удовлетворять свои
потребности общественным способом.
Философия XX века по существу заимствовала понятие отчуждения
человеческой сущности у Маркса, но при этом перевернула и извратила это понятие,
запечатав в него все противоречия современного общества, современной культуры.
Разрешение этих противоречий или объявлялось вообще невозможным, или
откладывалось до второго пришествия. И последнее провозглашалось отнюдь не только в
фигуральном смысле, а в самом прямом христиански-ортодоксальном. К примеру,
вся историософия Бердяева заключается в своеобразно истолкованной
христианской эсхатологии, то есть в учении о "конце мира".
H.A. Бердяев прекрасно понимает и очень красочно рисует кризис современной
культуры. "Культура, - пишет он, - по глубочайшей своей сущности и nq
религиозному своему смыслу есть великая неудача. Философия и наука есть неудача в
творческом познании истины; искусство и литература - неудача в творчестве красоты;
семья и половая жизнь - неудача в творчестве любви; мораль и право - неудача в
творчестве человеческих отношений; хозяйство и техника - неудача в творческой
Там же. С. 230.
109
власти человека над природой. Культура во всех ее проявлениях есть неудача
творчества, есть невозможность достигнуть творческого преображения бытия. Культура
кристаллизует человеческие неудачи"18.
В общем, вся современная европейская цивилизация есть гигантский
исторический выкидыш. Эта мысль для XX века весьма распространенная. Гегель уповал на
государство. Современные идеологи гражданского общества и в этом разуверились.
Но где же выход? Во втором пришествии и преображении мира, когда и земля и
небо будут другими? Это очень удобная либеральная сказочка для утешения
страждущих и обремененных: терпите и обретете царствие небесное... Правда, идейный
предшественник Бердяева Ф. Ницше видел спасение не во втором пришествии
Христа, а в пришествии Сверхчеловека. Но это такая же мистификация реальной
проблемы, как и хайдеггеровское "тут-бытие", в которое спрятаны все концы.
Отчуждение человеческой сущности объявляется вечной и неразрешимой проблемой.
Вот почему Ильенков очень осторожно относился к самому словечку
"отчуждение". Это верное, но еще слишком абстрактное выражение реального положения
вещей в "гражданском обществе". Тезис об "отчуждении", считал Ильенков,
превратился у Маркса в формулу о наличии все обостряющегося противоречия "гражданского"
общества с самим собой. "В ней, - писал он, - алгебраически обобщенно выражался
тот факт, что условия, внутри которых каждый "частичный индивид" находится в
состоянии перманентной "войны всех против всех", саморазорваны, разодраны на
враждующие между собой, и все же крепко связанные одной веревкой, одной судьбой
звенья, сферы разделения труда. Такое "гражданское" общество не обладает никакими
средствами противодействия сложившемуся положению, и потому напряжение
противоречия между частичным и коллективно человеческим характером деятельности
каждого отдельного индивидуума растет беспрепятственно. Отсюда следовал вывод,
что в один прекрасный день напряжение достигнет критической точки и разразится
громыхающей молнией революции. Именно такой вывод и сделал Маркс"19.
Итак, социализм и есть разрешение основного противоречия "гражданского
общества", или общества "буржуазного", как мы чаще привыкли его называть. Это его
отрицание, но такое отрицание, которое сохраняет, как отмечал Маркс, "узкий
горизонт буржуазного права", а именно принцип распределения по труду. Но хотя это
и буржуазный по сути принцип, он более справедлив, чем распределение по
капиталам. "Коммунизм, - писали Маркс и Энгельс, - для нас не состояние, которое
должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться
действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает
теперешнее состояние"20.
Коммунизм как процесс и есть социализм. А потому он так многолик и
многообразен. И здесь нельзя поставить какие-то формальные рамки, придумать какую-то
формальную дефиницию, при помощи которой мы можем раз и навсегда отличить
социализм от несоциализма. Ленин, например, в свое время говорил, что строй
цивилизованных кооператоров и есть социализм. Или, что общество, устроенное так,
как устроен капиталистический трест, есть социализм. В конечном счете любую
меру, направленную против "отчуждения", против эксплуатации человека человеком
можно и нужно считать социалистической. И здесь просто опасно связывать себя
какой-то догмой. Вот главный урок, который вытекает из нынешнего прочтения
Ильенкова.
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 521.
Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968. С. 138.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 3. С. 34.
ПО
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ мысли
Трагический парадокс юродства, или
Карнавальный гротеск Андрея Платонова
Е. Р. МЕНЬШИКОВА
Революционный карнавал 1917 года, сломав социально-культурные ориентиры,
взорвал общество и распылил в гражданской смуте его оседающие частицы. Для одних
"в первые бешеные годы" революция и была только спектаклем, зрелищем", и "все
страшное, что обрушилось вместе с ней на человека в потрясенной России, казалось
эпизодом"1. А. Грамши, ощутив мир как "первые дни после сотворения", казалось, что
"книга Бытия как бы писалась заново"2. Для писателя А. Ремизова "взвихренная Русь",
утопая в голоде, холоде и смерти, могла жить только по законам "Обезвелвопала" -
перевернутой системы правил, согласно которым даже разбрасывание нечистот является
непременным условием истинной свободы3. В этот период перемены ценностей,
названный Вяч. Ивановым "кризисом явлений"4, жизнь, выведенная из своей обычной колеи,
как "жизнь наизнанку", по замечанию М. Бахтина, и будет "карнавальной жизнью".
Можно сказать, что "восставшие массы" революционной песчаной бури,
распространяясь, передавали свой "ген" - некое состояние, в котором человек оказывался без
убеждений, тем самым обеспечивая диффузию карнавального мироощущения, которое
М. Бахтин наречет "формой критического сознания"5.
Страна стояла под топором, но состояние это довольно привычное для Руси, и
писатель Андрей Платонов проникается трагикомичным осознанием очередной исторической
круговерти, сотрясающей и коверкающей былые устои. Л. Шубин назвал роман
"Чевенгур" "мировоззренческим кентавром", который возник из нестройного хора голосов
пореволюционной России, слагающих миф о революции6. В рукописном фрагменте "Новохо-
перск", найденном В. Вьюгиным, сохранилась предполагаемая точка отсчета
драматическим "былям и небылям": "Начиналась осень 1919 года - ...утро нового века"7. Для
Анненков Ю. Дневник моих встреч. -Л., 1991. С. 66.
2 Грамши А. Избранные произведения в 3-х тт. Т. 2. Мм 1959. С. 156. ,
3 Ремизов А. Взвихренная Русь. М, 1991. С. 389.
4 Иванов Вяч. О кризисе гуманизма. /Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 103-104.
5 Бахтин ММ. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.,
1990. С. 524.
6 Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. М., 1987. С.208-209.
7 Вьюгин В.Ю. Из наблюдений над рукописью романа "Чевенгур" / Творчество Андрея Платонова.
СПб., 1995. С. 130.
111
И.Бунина это "утро" было мрачным, так как третий год он наблюдал "только низость,
только грязь, только зверство, реки крови, море слез", - и был потрясен моральным
параличом народа, которому "все ни по чем"8. Художник Ю.Анненков видел не
только толпы обезумевших людей, убивающих друг друга по кастовым
соображениям, но и измученную паству, не знающую "куда податься, кому молиться, в кого
уверовать, как спастись", бегущую от духовных лидеров, воцаряющихся "с барабанным
боем, погромами, грабежами, пулеметами и песнями"9. Если революция
характеризовалась им как бутафорная комедия, то отмеченная Вьюгиным фрагментарность
начального текста романа "Чевенгур" вполне могла отражать карнавальную арабес-
ковость времени.
Именно в эти напряженные "взвихренные" будни начинает свою работу
Невельский кружок философии, участники которого анализировали проблему
комического и, рассматривая смех как универсальный аспект мира, признали необходимость
философии смеха, причем знаменитые книги о Гоголе и Рабле явились как
результат их долгих дискуссий и кропотливых исследований. В 1922 году Л.Пумпянский
писал, что "смех не только не противоречит трагическому (у Шекспира), но есть
единственно возможное введение бытовой реальности в общую ей и историческому
достоинству сферу общей культуры", и что "смех не менее широк, чем серьезность"10.
В 30-е годы М. Бахтин, создавая теорию "карнавальности", заметит, что подлинная
открытая серьезность не боится ни пародии, ни иронии, но и сам "смех не дает
серьезности застыть и оторваться от незавершимой целостности бытия"11. Писатель А.
Платонов, не желая уходить от "бедствий современного человеческого общества"
ни в схиму, ни романтическую феерию, "двойственность" своего отношения к этому
самому обществу зашил корявым швом, отчего в "Чевенгуре" и был замечен тайный
умысел, намек, пародия.13 Сомнения в действительности, реальной и вместе с тем
ирреальной, пробудили в нем великий дар сказителя земли русской: обличая, он
заставляет смеяться и грустить одновременно. "Первый серьезный сюрреалист"
прошлого века, изнывая от собственных прозрений, под неудержимой мощью своего
энергоемкого языка, находит свой неореалистический способ изображения эпохи -
угловатый стиль "юродивых откровений". Однако осмысливать современность,
имея свой особый стиль речения - кинически-сократический - было рискованно во
всех отношениях.
Роман был предложен в два издательства: "Федерация" отвергла его сразу как
"контрреволюционный", в "Молодой гвардии" текст был набран, но споткнулся на
корректуре. Опыт "переплавки" его в пьесу также дал осечку: литчасть 2-го МХАТа
"убоялась" несценичности текста. Журнал "Красная новь" опубликовал
"Происхождение мастера" (1928, № 4) и "Потомок рыбака" (1928, № 6), а рассказы "Ребенок в
Чевенгуре" и "Кончина Копенкина" отверг. В "Новом мире" вышел рассказ
"Приключение" о встрече Дванова с анархистами (1928, № 6). Окрыленный публикацией
"Приключения", Платонов атакует летом 1928 года редакцию "Нового мира"
просьбами напечатать еще один отрывок из романа - "Двое людей". Мнения рецензентов
8 Бунин И. Окаянные дни. М., 1990. С. 73.
9 Анненков Ю.П. Повесть о пустяках. М, 2001. С. 178.
10 Пумпянский Л. Гоголь. / Пумпянский Л .В. Классическая традиция. - М., 2Ö00. С. 262.
11 Бахтин ММ. Творчество... С. 36.
12 Платонов А. "Неодетая весна". (О М.Пришвине). //Литературное обозрение, 1940, № 20. С. 103
13 Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова зафиксировала следующее выступление Сле-
това: "В каждом отдельном слове платоновского голоса слышится что-то ехидное". / Андрей Платонов.
Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. С. 310.
14 Бродский И. Предисловие к повести "Котлован". /Андрей Платонов. Мир творчества. - М., 1994.
С.155.
112
разделились: H. Замошкин нашел рассказ "трагическим по своей сути" и
"совершенно особенным по неподражаемой грусти и иронии", а В. Соловьев был возмущен:
"Копаете не ко двору и не ко времени"15. Отказ сочли обоснованным. Ситуация
повторилась зимой 1929 года, когда члены редколлегии "Красной нови" не приняли
"рассказы из жизни города "Чевенгур"" ("Кончина Копенкина" и "Ребенок в
Чевенгуре"). Первоначально роман назывался "Строители страны"16. Именно этот
вариант показывал А. Платонов в 1927 году редактору Г.З. Литвину-Молотову, своему
другу и наставнику. Взору критика предстали не гордые строители страны, а
сезонные доходяги еще одного города Глупова. Та перевернутость рассудка, что начинала
оседать в головах и править новым миром своевольно, усердно и всеохватно, на
страницах романа оказалась очевидной истиной, и потому задела современников
фактическим обличением нового государственного порядка, точнее беспорядка.
Современники приняли текст романа буквально: "нищета, невежество, грязь и хамство
страны", ее "убогость" отражала "обычное, будничное революционное дело"17. Но
за то, что писатель "не травил негодное"18, а заставлял трепетать от ужаса, от
"глухой дикости" забитой деревни19, реализм его художественных образов и картин
отвергли за тенденциозность и односторонность - слишком убог20. В надежде, что его
"честная попытка изобразить начало коммунистического общества" зачтется как
"правильная" и, как "правдивая" история о степной коммуне, будет, наконец, издана,
Платонов отправил A.M. Горькому летом 1929 года рукопись романа "Чевенгур".
Горький будет честен как Макар Чудра: "не думаю, что ее напечатают", и ясно дал
понять Платонову, что не он главный цензор. Единственное, что посоветовал
Горький, найдя в психике Платонова "сродство с Гоголем", - это попробовать себя в
комедии, предложив драму оставить "для личного удовольствия", по-Соломоновски
прозревая будущность: "Все - минется, одна правда останется"21. Однако свою
драматическую рапсодию укрывать в стол Платонов не спешил - и показал рукопись
"Чевенгура" ЯЗ. Черняку, редактору издательства "Земля и воля", и тот
откликнулся статьей "Сатирический реализм Андрея Платонова" , готовую к сопровождению
публикации отрывка из книги. Деревенская коммуна изумила Я.Черняка своими
"заколдованными, почти сатирическими, напоминающими бессмертную тень
Сервантеса, образами", с помощью которых писатель осмысливал "все великолепие
противоречий и внутреннюю силу нового". Он указал на непосредственную связь изображения с
окружающей реальностью (вопреки обвинениям в реакционном очернительстве
государственного строя), заметив, что "даже комическое, даже "злое" в его повести звучит
только под куполом нашей эпохи, только в круге наших идей и чаяний", настолько автор
"верен действительности". И статью тут же оттеснили "зубры" конъюнктурной
политкорректное™ в архив - охранной грамоты из нее не получилось: мощи
геркулесовой ответственному секретарю "Печати и революции" не достало, и рукопись
спряталась в ожидании своего "восхода солнца".
Опасный катехизис "полуфантастического" мира Платонова не скрывал, как
позднее отметит И. Бродский, "наличие абсурда в грамматике", что, в свою очередь
15 Шубина Е. Приключение идеи. //Литературное обозрение, 1989, №9. С. 27-30.
16 Текст "Строителей страны" обнаружен в архиве ИРЛИ В.Вьюгиным.
17 Письмо Г.З Литвина-M олотова. / Шубина Е. Приключение идеи. // Лит. обоз., 1989, № 9. С. 29
18 Селивановский А. "В чем "сомневается" Андрей Платонов". //Лит. газета, 1931, 10 июня.
19 Тальников Д. Необыкновенная деревня Л.Леонова и А.Платонова. // Красная новь. 1929. № 1.
С. 250
20 Майзель М. Ошибки мастера. Мессер Р. Попутчики второго призыва. // Звезда, 1930, № 4.
21 Цит. по: Аннинский Л. Откровение и сокровение. //Литературное обозрение. 1989. № 9. С. 6-8.
22 ЦГАЛИ, Ф. 2208, оп. 2. Ед. хр. 10. Цит. по вступ. статье Е.Шубиной. /Андрей Платонов.
Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. С. 218.
113
свидетельствовало о трагедии всей человеческой расы . Осознания общественной
катастрофы, опустошающего и повергающего в мрачные сомнения, допускать было
нельзя, и роман "Чевенгур" остался неопубликованным именно по причине
онтологических вопросов, затронутых автором и вставленных в зрелищную форму
революционного эпоса, рассказанного сниженным, буффонным языком его
"придурковатых" участников . "Неправильную" гибкость языка Платонова - "прекрасную
косноязычность" - Л. Шубин связывал с эпохой, что внезапно заговорила - на
митингах, стихийных собраниях, толпе, и выразителем которой он был . В годы
кризиса и ломки, когда следует прыжок в массовое "бессознательное", бытие как раз
становилось: оно было подобно карнавальному телу - двойственное26, голосистое,
травестирующее, перерождающееся. М. Бахтин считал, что писатель должен
раскрывать не готовое бытие, а "незавершенный диалог со становящимся
многоголосым смыслом"27. Написав роман, Платонов явился эмиссаром философского
гротеска - сомневающимся, осмысливающим и осмеивающим действительность - и
вступил в острый диалог с обществом, из которого не мог выйти, в виду его крайней
неразрешимости и принципиальной незавершенности.
Трагикомическое изначально было присуще театрально-зрелищным формам и
лишь позднее было разъято. В период формирования классового и
государственного строя серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека лишаются
"первобытной слитности, доходящей до единства противоположностей"28. Ф. Ницше и
Вяч. Иванов, рассматривая индивидуальное существование человека в рамках
социума, принимали смеховое и серьезное отношение к миру в антиномии: возвышенное
виделось как художественное преодоление ужасного, а комическое - как
художественное освобождение от отвращения, вызываемого нелепым . В 60-е годы М.
Бахтин, работая над Дополнениями к "Достоевскому", вводит понятие "карнавализа-
ции" и рассматривает единство "серьезно-смехового", при этом, отмечая, что
"карнавальная основа "сократического диалога", несмотря на его очень усложненную
литературную форму и философскую глубину, не вызывает никаких сомнений .
Для Бахтина смех всегда был уникален своей двойственностью, в которой
положительное и отрицательное нераздельно слиты31. И потому смех выступает как нечто
демиургическое, скрепляющее высокое и низкое, - верх и низ связаны подвижно и
диалектично благодаря сознанию относительности всего сущего. Проникновением
смеха в философское ядро жанра снимался характер однотонности смеха.· Его вывод
совпал с ранней концепцией Пумпянского о "парности трагического и
комического", который считал, что смеются тогда, когда хотят поколебать "серьезную
жизненную цель и серьезное жизненное дело", и который был убежден, что великий
комический поэт - натура, прозревающая обман общественности и обличающая этот
обман сатирически . Еще в 20-е годы Л. Пумпянский, опираясь на теорию релятив-
23 Бродский И. Указ. соч. С. 154-155.
24 Роман, написанный в 1927 году, полностью опубликован в 1988 (Дружба народов, № 3-4).
25 Шубин Л.А. Поиски смысла отдельного и общего существования. М., 1987. С. 91.
Гражданская война, как и строительство социализма, поляризовала общество на "своих" и "чужих".
27 Диалогическую природу общественной жизни и жизни человека и ее незавершенность раскрыл
Достоевский, на что указывал М.Бахтин. / Бахтин ММ. 1961 год. Заметки. / Бахтин ММ. Собр. соч. Т. 5.
С. 357.
28Лосев А. Мифология греков и римлян. - М., 1996. С. 176.
29 Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм. / Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1990.
С. 80. Иванов Вяч. Ницше и Дионис. / Родное и вселенское. М., 1994. С. 29.
30 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. / Бахтин ММ. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 148.
31 Бахтин М. К вопросам теории смеха. / Бахтин ММ. С.с. Т. 5. М., 1997. С. 50.
32 Пумпянский Л. Указ. соч. С. 259-265.
114
ной действительности M. Бахтина, физиологию смеха кантианской эстетики и
символистской мифологемы сакрального происхождения комедии, заключает, что
"метрополия смеха есть трагическая культура, смех есть колониальное ее
расширение"33. В двойственном характере смеха заключалось его историческое значение.
Позже, в 40-е, Бахтин заметит, что "сделать образ серьезным значит устранить из
него амбивалентность и двусмысленность"34. Образы амбивалентной сферы
отсылают читателя к серьезному восприятию мира, его глубокому осмыслению, и
сохраняют, при этом, в себе отблеск смешного, в котором "положительное" нераздельно
слито с "отрицательным". И так как карнавальные пародии, увенчания и
развенчания, "отрицая, одновременно возрождают и обновляют"3 , то "снижение" становится
главным художественным принципом карнавального гротеска. В гротеске
происходит осмеяние и осмысление социальных явлений, как говорил М. Мамардашвили,
мы познаем искривлением, и потому "гротеск" - это еще и прием, способ передачи
определенного состояния или мироощущения. "Обратная" перспектива мировиде-
ния запрятана в гротески - отсюда и проистекает амбивалентность карнавальных
образов. Находясь в эпицентре "кризиса явлений", некоторые склоняются к
трагифарсу: в препозиции смех унижает, возмущая, - так действует сатира, но, следуя за
ужасом или наравне с ним, смех вводит серьезный план, приуготовляя
метафизическое осмысление явления. Такое "слияние", как говорил Бахтин, "трагедия плюс
Сатарова драма", восстанавливает амбивалентность и цельность народного образа, и
гротескное сознание художника, сохраняя трагическое мироощущение
действительности под сатирическим колпаком, отражало восприятие "сдвинутого" бытия в его
неразрешимых противоречиях.
Ярким выражением карнавальной травестии является образ гротескного тела,
всегда в смятении метаморфозном: "вечно неготовое, творимое и творящее" , - все,
что вылезает, выпирает, как бы торчит из него, отвечает за продление рода,
приобретает значение второго "я" и стремится прочь за его пределы к общению со всем
миром37. Именно таким "двутелым" в романе видится горбун Кондаев с его
"породистыми, длинно отросшими руками , которым отводится вакантное место
грандиозного производительного члена, так как он желал (и, вероятно, был способен)
одного: "всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния" (С. 212).
Ласкающий свой горб (вторая вакансия) похотливый мужик кажется вечно живущим -
извлекая целебное мумие из мух "со счастием удовлетворения"(С. 550), он остается
в финале былинным старцем, которому ничто не грозит, ибо он владеет всем миром.
Постоянно беременный живот жены Прохора Абрамовича, неистощимый на
рождения, подобен родовому телу: так и кажется, что из утробы Мавры Фетисовны
вышло целое племя: "Отец тоже от моей матери родился - из пуза. Пузо намнут, а
нахлебники как из пропасти рожаются" (С. 222). Двойственными кажутся
пригнанные Прокофием женщины: то ли девочки, то ли старушки, которые так и остаются
в пределах двутелости: днем они обогревали молодых прочих своим материнским
теплом, а по вечерам доверчиво подставляли детские тела для омовений (С. 544).
Двутелым оказывается и Пашинцев, без рыцарской амуниции не заметный, что,
совмещая в себе живое костлявое и искусственное металлическое тела, вырастает до
33 Пумпянский Л.В. Указ. соч. С. 259.
34 Бахтин М. Дополнения и изменения к "Рабле". / Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 5. М., 1997. С.83
35 Бахтин ММ. Творчество... С. 16. '
36 Бахтин М. Творчество... С. 453.
Таким частям отдается роль "ведущего" в гротескном реализме, они гиперболизируются, чтобы их
могли воспринимать за самостоятельную единицу жизни. И прежде всего это чрево, фалл, живот, зад,
горб, нос, уши, ноги - и все в преувеличенно-утрированном виде (Бахтин М. Творчество... С. 351).
38 Платонов А.П. Чевенгур. / Платонов Λ.Π. Ювенильное море: Повести, роман. М., 1988. С. 211.
Далее страницы указываются по этому изданию в скобках.
115
фигуры Колосса. "Постоянные револьверы в руках"(С. 425) коммунаров как
выпирающая часть гротескного тела отвечают за связь с миром - поглощение мира и
постижение его: окружающее пространство ощупывается пулями. Маленький Степан,
не слезающий с коня, упрямо врастающий в него, превращается в настоящего
Кентавра-ратника. Настолько же трансформированным, "смешанным телом",
оказывается и Чепурный: Прошкина голова, разумно и внятно говорящая, восполняет
разрывы в его сознании, восстанавливая связь с общественностью, и оттого даже
памятник одному из них вышел как сожительство неразлучных сиамских близнецов
(С. 539).
"Тихая злость похоти" Кондаева и незнающая удержу удаль богатырская
сыновей столяра ("несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили
огонъ"(2П)) как избыток материально-телесной силы придает гротескному телу
зримую образность великана, который является обязательной фигурой
ярмарочного балагана. Из всего романа действительным гигантом выделяется Пролетарская
Сила, которая, словно Святогор, "уставала, обыкновенно, не от дороги, а от
тяжести своего веса"(С. 281). Ее телесное изобилие, резко контрастируя,
подчеркивает ветхость и непригодность к битве всех населяющих роман - от голодающих
коммунаров, безвольной буржуазии до бестелесных, тени подобных, прочих. За веселых
великанов в одночасье положивших целый город можно принять Пиюсю с Киреем,
успевающего "в такт быстроходной отсечке пуль" (С. 416) изображать хлопками
по щекам, рту и коленям скоморошью плясовую. Как бесстрашные ярмарочные
великаны бросились коммунары на "машинальную силу": бежали "убивать врага
вручную": Пашинцев, в панцире и лобовом забрале, со скорлупой ручной бомбы,
стремящийся взять врага одним умственным страхом взрыва, Чепурный,
пытающийся убивать весом пустой винтовки, Гопнер, дерущийся рукояткой нагана, Яков
Титыч, сражающийся горящей головешкой (С. 547-548). Это напоминает бой
оловянных солдатиков с тяжелой артиллерией. Но, может быть, оттого площадные
великаны рухнули как карточные валеты, что в Чевенгур ворвалась настоящая
жизнь?
Еда и питье - одно из важнейших проявлений жизни гротескного тела. Встреча с
миром в процессе еды знаменует для гротескного тела победу над космосом, над
врагом, над смертью.39 Таким победившим телом, поглотившим мир и
обновившимся, но и изменившим сам мир, предстает Яков Титыч, восклицающий в недоумении:
"как после меня земля и люди целы?". Вместе с тяготами и думами он столько еды
поел, "будто весь свет на своих руках истратил, а другим одно мое жеванное
осталось" (С. 454), отмечая, при этом, что другие на него похожи40. Чевенгурцы
устроили настоящий "пир на весь мир", в котором участвуют все, и который завершает
процесс труда и борьбы общественного человека с миром. И это настоящая тризна
всему окружающему миру: в погребальный бульон кладется земная флора и фауна
(от "крапивы, укропа, лебеды и прочей съедобной зелени", несколько кур, телка, до
"жучков, бабочек и комариков" (С. 415)), и потому он наделяет плодоносящей силой
земли. Он амбивалентен: он символизирует благодатное разнообразие
материального начала, в нем смерть чревата новым рождением - после такого, супчика
худосочные коммунары, вновь ставшие великанами, кинутся на неприятеля как на снежный
городок.
Образ гротескного тела всегда сопровождали амбивалентные снижения,
которые носят характер приземления, приобщения к возрождающей производительной
силе земли41. Традиционный снижающий жест, известный со времен· античности,
Бахтин ММ. Творчество... С. 310. "Победившее тело принимает в себя побежденный мир и
обновляется".
40 В древних системах образов не было различий между едою и трудом: это были две стороны одного
явления - борьбы человека с миром, кончавшейся победой человека.
116
приветствует с первых же страниц романа: обливание мочой и бросание калом
унизительно благословенны, так как в них воедино сопряжены родовой акт с агонией.
Возможно жест "окропления" мочой (С. 197) позволил бедному Захару обрести
новых друзей (паровозы) и наследника (усыновленный Саша), а овеществленное
"благословение" уравняло мертвецов с живыми: мертвая и желанная Роза Люксембург,
мертвый, но горячий сын нищенки, разбросанные расстрелянные буржуи,
молчаливо ожидающие прихода коммунизма вместе с остальными; сюда же следует
прибавить готовность З.П. откапывать сына каждые десять лет, "чтобы видеть и
чувствовать себя вместе с ним" (С. 252). Так и деревенский душитель кур Кондаев,
ощущающий в себе поистине зевесову мощь продолжателя родов, "освящает" мочой
само солнце (С. 213) и "осеняет" на подвиги "горстью сухого праха" Прокофия, что
из "праховой пыли мусорных куч" (С. 226) выйдет с карающим мечом революции.
Возрождающий эффект за навозом был замечен Фуфаевым, учредившим сеть
навозных баз для удобрения губернских угодий (С. 339). Если учесть, что сама беднота
ничего не сеяла, то навозу, видимо, отводилась роль производительного семени.
Являясь одним из главных моментов жизни гротескного тела, работа внутренней
секреции олицетворяет торжество жизни над смертью. Яков Титыч, страдающий
"извержениями" от неравномерного питания (С. 450), в организме которого происходит
постоянная метаморфоза смерти-жизни42, превращается в единственного и
реального защитника целого города по причине раскатистости своих "ветров и потоков",
раздающихся охранными "сигналами в степи" (С. 451), пугающих врагов, словно
старик извергал огромное воинство на подмогу. Подобные образы снижают и оте-
леснивают саму смерть - будущую и неминуемую, уподобляя ее веселому
страшилищу, которому предстоит стать роженицей. Выделения гротескного тела - тот же
оплодотворяющий и обновляющий эликсир. И потому, Пролетарская Сила, с
жадностью облизывая "кровь и жидкость из провалов ран" не остывшего друга Копенкина
(С. 550), вобрала всю его силу и жажду жизни, и, пройдя по дну Мутева озера
могучим Тритоном, направится за новыми подвигами, исцеленная. Телесная могила и в
этом случае как бы родит заново. Вся эта "веселая материя" (термин Бахтина),
одновременно снижающая и успокаивающая, своим смеховым отелесниванием мира,
вводя космос в интимно-близкий план, призвана преодолеть тот мистерийный ужас,
что вызывает всякая стихийная катастрофа, к коей относится и революция.
Площадные зрелища, являясь способом и формой проявления чудесных качеств
гротескного тела, входят в систему амбивалентных травестий, которые берут свое
начало от древних вакханалий и связаны с эффектными моментами избиения чучел,
бутафорскими битвами, где главное - разъятие на части тела, его сжигание и
проглатывание. Аналогично дионисийскому: "Вакх, Эвое"43, страстным и
устрашающим кличем "За Розу\" Копенкин сопровождает свои набеги. Для схожего
вакхическому обряду чевенгурцами готовится достойная площадка: с легкостью, будто это
сценические задники, а не реальные каменные фасады купечества и пылающие
румянцем яблони, - вручную переставляют домики, на руках же перетаскивают сады -
"они легче" (С. 449) - словом, готовят городок-трансформер, чтоб рстрее ощущать
тело коммунизма. Просьба Клавдюши: "Подари мне его Прош, я за ним на подводах
из губернии npuedyl" (С. 542) еще больше убеждает в картонности Чевенгура, а
также и в том, что действие действительно разворачивается на карнавальных
подмостках. Соборную площадь для избиения "младенцев" выбрали как оправдавшее себя
"Снижая, хоронят и сеют одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше и больше". -
Бахтин М. Творчество...С. 28. Дионис - бог умирающей и воскрешающей природы. Снижение
приобщает нижней части тела, отвечающей за зачатие, поэтому "уничтожая" оно утверждает, роет телесную
могилу для новорожденного.
42 Смерть, целиком зависящая от обжорства, становится роженицей.
43Лосев А.Ф. I Мифология: Иллюстрированный энциклопедический словарь. СПб., 1996. С. 234.
117
исторически место зрелищ, где спокойно и без надрыва буржуазию лишили
возможности "находиться поперек революции тихой стервой" (С. 387). Расстрел буржуев
выглядит как бутафорское "кровавое побоище": заранее подготовленным указом о
втором пришествии в полночь на основании "бюллетеня метеорологического губ-
бюро" в "организованном безболезненном порядке" всю мелкую буржуазию
препроводили "в загробную жизнь" (С. 388)44. И чтобы у покойников не было соблазна
возрождения, Чепурный и Пиюся "каждому лежачему имущему человеку - в
последовательном порядке - прострелили сбоку горло - через железки", - так проходило
"страхование от продления жизни" (С. 391). Свидетельство Анненкова о погромах
страшнее во сто крат - по сравнению с тем, реальным, кошмаром изгнание Пию-
сей остаточных капиталистов из рая коммунизма выглядит игрой в бирюльки ("к
вечеру Пиюся настолько утомился, что уже не бил жителей в очередных дворах, а
только молча паковал им вещи" (С. 409)). Описание выселения "рыдающих
капиталистов"^. 410) переводится из серьезного плана в буффонное развенчание, когда
"изгнание", уподобляясь ковчеговскому спасению всего человечества от страшного
потопа, обставлено как цирковое представление {"он выкидывал узлы с нормой
первой необходимости на улицу, а затем хватал человечество и молча сажал их на
узлы, как на острова последнего убежища" (С. 410)), и затем возвращается в высокий
план: оказывается свержением "класса остаточной сволочи" (С. 410) в ад, которое
осознается при этом вполне обыденным явлением для революционной вакханалии.
"Чевенгур" - это травестия трагедии изменившей мир ("вы теперь не люди, и
природа вся переменилась" (С. 409)). Почти что трогательное расставание палача с
жертвой резко сменяется бесприцельным огнем по изгнанным полубуржуям, стоящим
табором возле города. Об этом между строк и вперемешку с байками об охоте из
пулемета по птицам и рыбам в воде. Анекдот: стрелял много, но мало попадал, -
отвлекал от смерти: о разбросанной в бурьяне "остаточной сволочи" забывают не
только рьяные "чистильщики", но и читатели, - все переводится в гротескный план:
настолько далеким, не натуральным видится это избиение. Такие эпизоды и создают
ту "веселую относительность", в которой политическая проблематика
пореволюционной эпохи, сохраняя свою остроту и напряженность всех сместиэшихся
противоречий, всего невероятного ужаса "Обезвопала", утрачивает свою "одностороннюю и
ограниченную серьезность"46. Растерзанию подвергается и Симон Сербинов. Его
"тело" оказывается разъятым и проглоченным, а "кусочки" переваренными, являя
факт преображения: его порушенное обмундирование командированного чиновника
как чужеродная "веселая материя", обернувшись шутовскими бубенчиками для
"неизвестной малой народности" (С. 527), поселившейся в степи, лишь усилило
момент игры, в миниатюрном слепке которой содержится универсальная формула
смены исторической формации: через увенчание-развенчание47. В переодевании
спрятан древний мотив обновления-смерти, связанный с мифом об умирающем и
воскрешающем божестве (Адонис, Осирис, Дионис). Чевенгурское "новое платье"
Сербинова: валенки и полушубок, как карнавальный костюм знаменует о рождении
нового настоящего аборигена от революции, поскольку актуальный дизайн одежды
по-скоморошечьи облаченных людей (почти голых, но с наганом), нивелируя среди
прочих, как бы растворял в них.
Ср.: "Фома сообщил, что послезавтра будет "чистое светопреставление": "День мирного восстания,
грабежи всех буржуев поголовно". - Бунин И. Окаянные дни. М., 1990. С. 105.
45 Анненков Ю. Указ. соч. С. 177-178.
46Бахтин ММ. Творчество... С. 495
"Игра выводила за пределы обычной жизненной колеи, освобождала от законов и правил жизни,
на место жизненной условности ставила другую, более сжатую, веселую и улегченную условность". -
Бахтин ММ. Творчество... С. 260.
118
Скучающая идиллия коммунарского бытия в "Чевенгуре" похожа на игру в
"товарищество" по условиям, когда водящим "работает" солнце, а остальные с криком:
"Чур, меня!" разбегаются в стороны от тесноты сваленных в кучу домов и деревьев.
И поскольку трудиться запрещено, время проводится в товарищеских играх, когда
"не сеют и не жнут, а миф инсценируют и разыгрывают. В романе возникает
атмосфера площадной откровенности, театрализующая реальность, которая
позволяет видеть безмолвных и покорных буржуев, полубуржуев и прочих, сползающих в
бурьян от бесчинства Пиюсиных слов и пуль, и окунающая в стихию панибратства
одним речевым извержением, минуя телесный контакт. Ругательства ("гундосный
черт" (С. 226), "идолы кромешные" (С. 262), "пагубная душа" (С. 293), "бессонный
сатаноид"(С 279)), как элементы карнавальных амбивалентных снижений, вопреки
своему низвергающему свойству, следует воспринимать как раскрепощающий жест,
снимающий вмененные обществом запреты, и как официальный сленг для
"вольного коллектива фамильярного обращения" в конкретную историческую эпоху. "Вся,
всё и все втягивались в сферу фамильярного общения"49, - отмечает Бахтин
признаки карнавальной жизни, в которой звучат "бранные вызовы миру" и рушится
"иерархическая дистанция в отношении мира и его явлений"50. На вольное
фамильярное отношение как качественный признак измененной эпохи указывал Ортега: "В
человеческом общении устраняется "воспитанность". Словесность как "прямое
действие" превращается в ругань. Сексуальные отношения утрачивают свою
многогранность" . Брань, становится неким эвфемистическим сигналом в игре "смерти-
жизни", превращаясь в знамение времени. При этом само бранное слово становится
прозвищем - табуированным, но вводящим в этот самый фамильярный круг
общения, отрицающим, но вместе с тем утверждающим, так как изначально было
амбивалентно: включало оба полюса смены и кризиса власти. "Черти окаянные" - это те
ставрогинские "бесенята", что устроили всю эту историческую карусель со
справедливостью и свободной волей. Но если имя освящает, то прозвище профанирует. Оно
"связано с настоящим и с зоной настоящего" (имя тяготеет к эпичности), и тем
самым, прозвищам "придается момент типичности и заведомой вымышленности" .
Этимология имени Чепурного прямо указывает на его тягу к перемене "платья", к
использованию маски (гл. "причипуриваться" означает "прихорашиваться, наводить
лоск"; прил. "чипурной" - "щеголевато одетый"), в качестве которой выступают
силлогизмы Прокофия ("формулируй, Прош"). Прозвище Японец, выражаясь
словами Бахтина, "метит в ахиллесову пяту прозываемого": он безъязыкий, не
владеющий русской речью "иностранец", что пользуется услугами переводчика, дабы
передавать миру свои "руководящие предчувствия" (С. 377). С прозвищем, что
"посылает в телесную могилу для переплавки и нового рождения"54, в котором таится намек
на "изношенность и брак" называемого, тесно связан мотив оборотничества или
самозванства, который отсылает к маске - обязательной карнавальной уловке, что
способствует "обновлению", "возрождению". Самозванцы "Чевенгура" - это
примета кризисного времени, в которой отразилась смена устоев и мировоззрений. Ника-
норыч из Петропавловки "считал себя богом и все знал" (С. 260)J Именно за кини-
ческую преданность к лишениям его почитали, и, словно истинный францисканец,
48 Мамардашвил М. Философские наблюдения и заметки. / Мамардашвили М.К. Необходимость себя.
М., 1998. С. 184.
49 Бахтин ММ. Дополнения и изменения к "Рабле". / Бахтин ММ. Собр. соч. Т. 5. С. 104
50 Там же. С. 104.
51 Ортега-и-Гассет X. Избранное. М., 2000. С. 85.
52 Бахтин М. Дополнения... С. 102.
53 Суперанская A.B. Пять тысяч отрицаний. // Русская речь, 1997, № 1. С. 70.
54 Бахтин ММ. Дополнения... С. 103.
119
он отклонял любую возможность вернуться в мир (предложение называться
Лениным), как и жить по его условиям (естественное для человека питание). В конце
концов, к такому образу жизни - без труда и еды - придет чевенгурская братия:
подножный корм и кустарное рукотворчество во имя товарищеской дружбы да дух
святой "коммунизма" - вот три составляющие их религии. Но желание быть только
Богом свободы Петропавловки {"своенравное лицо" (С. 260)) выдавало в нем
блажного, "мешанного" (С. 260). Так, зная, что "растет из одной глины своей души"
(С. 264), юродивый бог шел "не выбирая дороги, - без шапки, в одном пиджаке и
босой" (С. 261), предчувствуя и предвещая перерождение мира. И он был не одинок в
своем отчаянном эскапизме: автор сообщает, что он "имел себе живые подобия в
весях губернии" среди странных людей, "отошедших от разнообразия жизни для
однообразия задумчивости" (С. 265). Акт присвоения имени заключает в себе нечто
необычайно важное для сознания личности, поскольку с давних времен за именем
признается магическая сила, с помощью которой можно вызвать дух умершего.
Уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков переименовал себя в Федора
Достоевского официальным порядком: заявление, слушание, рассмотрение,
постановление, - правда, ревком состоял из него одного, но это не повод, чтобы срывать
"кампанию в целях самосовершенствования граждан" (С. 291), которую он начал с
себя. Степан Чечер выбрал прозвище "Христофор Колумб", а колодезник Петр
Грудин - "Франц Меринг": по-уличному Мерин. Последнему и преображать не
имело смысла: он и так был "предсказателем": "ногами воду чуял" (С. 293). Но
сакральный жест наречения оборачивается снижающим жестом уподобления: выбранное в
качестве "имени" прозвище преображая в соответствии с кличкой, создавало
"эффект типичности" подвергая буквальному осмеянию. Нареченный философом на
деле оказывается - дураком, что подтверждается словами Копенкина: "Понятно:
ты здесь всем текущим событиям затычка" (С. 294), отсылающими к известному
ироничному фразеологизму "каждой бочке затычка" и "заставь дурака богу
молиться". Мотив переименований в революционные и пореволюционные годы носил
стихийный характер. Переименовывалось всё и вся, причем имя выбиралось из сферы
высокой, как бы заранее готовящей к освящению, прославлению, увековечению.
Второстепенные герои, льющиеся потоком в "Чевенгуре", безымянны, а точнее
переименованы: их прозывают "прочими". Это прозвище несет в себе проклятие,
отпугивающее, прогоняющее от себя ("прочие" - пошли прочь, мимо), - в нем хула
космическая: всех лишних и мешающих новому строю свергают в обратную
перспективу. Отсутствие имени у старого дезертира говорит о каком-то фатальном
небытии: его прозвище Недоделанный отправляло, даже не в утробу, а периферию
всего сущего, и, как вечного аутсайдера и жизни и смерти, лишало его всякой
топографической метки. Но в то же время, оно позволяло существовать "общественной
утечкой" (С. 295) среди прочих таких же, распыленных революцией по праховым
дорогам.
Гротескные фигуры втянуты в фамильярного зону, где можно "тронуть руками и
губами, можно взять, ударить, обнять", или "быть тронутым, обнятым"55. Не это ли
тесное сплетенное единство тел, как некая "слитная плюральность", спрессованная
чистым коммунизмом, что наблюдается в Чевенгуре? Здесь и "тесный отряд"
прочих (С. 437), и "стоявшие массой чевенгурцы" (С. 437), и бдение товарищей от мух и
поглаживание их спин, "чтобы не осталось царапин или следа прикосновения"
(С. 437), и исступленные попытки Чепурного оживить мальчика методом "близкого
контакта" (массажа и искусственного дыхания). "Нужда в тепле во время сна и
холода в степи" (С. 474), как осознанная необходимость, отпадает только в Чевенгуре,
который источал жар, поскольку стал тесен от регулярных передвижек успевших
погрузнеть каменных фасадов и распушивших засохшие корни деревьев ("теплый
Бахтин ММ. Дополнения и изменения к "Рабле". / Бахтин ММ. Т. 5. С. 81.
120
покой коммунизма" (С. 452)). Горячими длинными поцелуями и нежными объятиями
проверяли каждую прибывшую женщину-недоноска Дванов и Сербинов на предмет
пригодности - в товарищи или матери (С. 533). Когда то же самое пытался сделать
Прокофий: "пробовал во время путешествия сжимать, забирая к себе в фаэтон
для испытания", то женщины "кричали от его любви, как от своей болезни"
(С. 532), ошпаренные вольтовой дугой от этого обязательного причастия.
Карнавальные контакты и нужны были, чтобы человеку можно было стряхнуть с себя
свое одиночество, свое мучительное интеллигибельное "я", продемонстрировать
высшим сферам свою силу, мудрость и готовность к преодолению волнений и
невзгод, пускай и в общем, народном теле - толпе, олицетворявшем весь род людской.
Такой близкий контакт обеспечивал сон: "от вздохов и храпа стоял такой шум,
точно здесь не спали, а работали" (С. 277), в общей скученности человек забывал о
своем страхе перед стихией, голодом, разрухой. Потому Сербинов так часто
"сжимал свое тело под постилкой, чувствуя свои ноги, свою грудь, как второго и тоже
жалкого человека, согревая и лаская его" (С. 528), как об упущенной возможности
"единения" Дванов пожалел об ушедших цыганках (С. 520), именно поиском
утраченного единства "среди чужеродности природы" занят прочий человек у
Платонова (С. 519). Этой цели "ощущения близкого родства в другом" придерживается и
комическая пара - обязательная в карнавальной травестии. Такой парой, построенной
на контрастах, предстают Дванов и Копенкин: молодой и старый, отчего и
встречают их вполне традиционно - смехом {"перед ними не опасные, ненужные люди"
(С. 329). По закону жанра, смех должен вызывать старик. "Пожилой" воин Степан
худосочного телосложения, не помышляя о первопричине, вместо мельниц и винных
бочек ссекает редкие степные кусты, заподозрив их в самом ужасном: ".. .если Роза
тебе не нужна, то для иного не существуй - нужнее Розы ничего нет" (С. 282), и,
стремясь "к могиле Розы Люксембург", словно к тобосской чаровнице, совершает
"ежедневные революционные подвиги" (С. 281), при этом собирая под свои знамена
всех окрестных "дураков" - юродивых от революции (Достоевский, Чепурный, Па-
шинцев характеризуются им довольно точно - психи: "из палаты
выздоравливающих"). Усиливает комический эффект его боевой тяжеловоз, жующий все без
разбора, что в отличие от покорной дон-кихотовской клячи с аристократическим
мужским именем наречен отвлеченным существительным с женской флексией, но с
эпическим налетом непобедимости, однако самостоятельно приводящий туда, "где
нуждались в вооруженной руке Копенкина" (С. 281) (карнавальность Пролетарской
Силы в самой неопределенности ее пола: то ли конь, то ли лошадь). Другая пара -
Чепурный и Прокофий (дурак и умный) - совершает шутовские
развенчания-увенчания в Чевенгуре, ставя все с головы на ноги. Потеха состоит в том, что один
изображает "немого", а другой - "глухого". Как объясняет сам предревкома: "...вот
приедем в Чевенгур, спроси у Прокофия - он все может ясно выражать, а я только даю
ему руководящее революционное предчуствие! Ты думаешь: я своими словами с тобой
разговаривал? Нет, меня Прокофий научил\"(368). Кто догадается перебить всех
горожан, словно воробьев, заселить город бродягами, поменять местами дома и сады,
заставить декретом работать одно едино солнце, - только балаганные скоморохи.
Так Карнавал нарушал свои пространственно-временные границы - "фантазии"
воспринимались за указания "свыше" и, что удивительно, исполнялись.
С образом гротескного тела связан и образ женщины. "Женщина в "гальской
традиции" - это телесная могила для мужчины", понимается как отлаженная
система обновления56. Может быть, поэтому затосковали прочие в Чевенгуре и
запросили: "одну сырую стихию доставь\" (С. 482). Но в Чевенгуре возрождения не
происходит, потому как Прошка не ту "стихию" пригнал, не женщин, а каких-то
"восьмимесячных ублюдков" (то ли недоспелое, то ли перезревшее лоно). И только
Бахтин ММ. Творчество... С. 265.
121
Клавдюша была такой "чреватой смертью": похотливой, чувственной ниспроверга-
тельницей, которая "хранилась в особом доме, как сырье общей радости, отдельно
от опасной массовой жизни" (С. 411), словно пчелиная матка, как уважаемая гетера.
Шлюха - обычная карнавальная маска, и если б только Копенкин достиг Германии
и, откопав Розу, возобладал ею (улегшись в "телесную" могилу), то, отдохнув в ней/с
нею, воспрял бы духом, обновившись телом. И потому пригрезившаяся Копенкину
мертвая мать причитает: "Опять себе шлюшку нашел.. .Опять мать одну оставил -
людям на обиду" (С. 331). Соня Мандрова (фамилия указывает на маску "шлюхи") в
такую "могилу" поймала Симона. Однако Платонову для усиления возрождающего
эффекта понадобился еще и прямой топографический указатель - могила. Семя
уйдет в лоно Сони и прирастет материнским чревом, не успевшим разложиться, -
отчего двойная могила вывернет Симона наизнанку, оставив для шашки солдата лишь
чернеющую пустоту: жизнь из Симона уже перешла в скорлупку девы,
предпочитающей всем остальным цветам бессмертники. Характерной для "гальской традиции"
является тема рогов, где развенчание устаревшего мужа обратно пропорционально
новому акту зачатия с молодым. "Рогатый муж в этой системе образов переходит на
роль развенчанного короля, старого года, уходящей зимы: с него снимают наряд, его
бьют и осмеивают"57. Таким смешным тихоней-рогоносцем выглядит Чепурный,
закрывающий глаза и даже поощряющий связь жены с любовником, расписываясь в
собственной бесплодной старости. Соня наставляет "рога" Саше Дванову по
причине его простофильства и романтических представлений о ней как бестелесной Лауре
(С. 310). Симон Сербинов отметив ее истинное женское предназначение: "рожаться
и расти" (С. 509), охотно доказывает ей это как дважды два на могиле своей
матушки - снижающий и утверждающий жест. Готовность быть обманутым в предмете
любви сворачивает романтический плащ Дванова в рог сатира - он сам "рогатит"
Соню, когда, предпочтя "жалкой босой полудевушке" "запах увядшей травы" Феклы
Степановны (С. 287), из засыхающей лагуны он вынырнет здоровой птицей.
Несколько комичным выглядит соревновательная удаль Копенкина и Пролетарской
Силы при одном только упоминании имени Розы Люксембург. Особенно
замечательно рвение коня, сметающего на своем пути леса и постройки, словно он -
пылкий и страстный любовник ветряной шлюшки, уставший от ревности старого мужа
(Копенкина), молитвенно заклинающего неверную супругу Розу.
Сама стилистика романа "работает" на показ бытия становящегося,
незавершенного. На "излом" как стилевое дыхание платоновской прозы первым указал
С.Бочаров58. Искривленное сознание под грузом "кризиса явлений" живописует горькой
смесью противоречий "небытие, равное бытию"59 - тот вихрь преобразований,
последствия которых писатель осознал в своих частых командировках по уездам Воронежской
губернии. Ю. Лотман считал шутки и словесные игры средствами наилучшего познания
истин: "Смех связан с миром подвижным, творческим, с миром, открытым свободе
суждений. Карнавал освобождает мысль . Платонов же, как "интеллигент, не вышедший
из народа" (Шубин), в романе видя способ сопротивления новой политике, избрал
форму, близкую "низам" - полную двусмысленности и каламбуров - смеховую и
мистическую одновременно. "Игровой" материал был лучшим материалом для изображения
такого всегда "подвижного" действа, в котором нарушаются величины постоянные,
где жизнь выворачивается наизнанку. И без гротескного образа нельзя было бы
понять карнавальный мир - это язык его участников, и он не мешает наблюдать в
"Чевенгуре" живой, предметный мир, насыщенный конкретными деталями революци-
57 Там же. С. 266.
58 Бочаров С.Г. Вещество существования. Выражение в прозе. / Проблемы художественной формы
социалистического реализма. Т. 2. М., 1977. С. 314.
59 Аннинский Л Указ. соч. С. 20.
60Лотман Ю. Выход из лабиринта. / Эко У. Имя Розы. СПб., 1997. С.663.
122
онной анархии начала 20-х, но в котором элементы "сверхъестественного"
"трансформируют" реальность. Людская толпа, словно мишура, бесшумно слетевшая в
излом земли, и могучий кентавр, побеждающий все зло мира, и мальчик-с-пальчик в
железных латах дровосека - все это метафоры обобщенных образов мира
реального, преломленного воображением художника. (Гротески Босха, Брейгеля, Гойи
отражают восприятие современной для них действительности, а не преломление ее в
мифе.) Движение гротескных фигур отражает хаотичность бытия на момент
становления и формирует ту иллюстрацию опрокинутости мира, тот "сельский молебен в
честь избавления от царизма" (С. 290), что изображен в романе, и который
свидетельствует об энтропии рассудка в мешанине социальной катастрофы. К. Кантор
предложил рассмотреть "Чевенгур" в свете "Идеального государства" Платона и
"Книги Бытия", видя в прозе Платонова "художественную онтологию русской
революции"61, где генезис сросся с апокалипсисом. Для С. Семеновой Платонов - философ,
чья "аналитическая мысль работает на сгущенных гротесках", и потому в "юродивых
хохмах" платоновских героев представлена "наглядная диагностическая вивисекция эпохи,
идей, людей"62. Там, где комика избыточна своей интенсивностью, она повергает в ужас.
Чудовищный мир "Капричос" Ф. Гойи - это сатира на образ жизни всех и каждого без
исключения, и гротеск появляется как следствие изменения-преломления реальных образов
в сознании под натиском переживаний. Так, порою безысходность рождает анекдот,
нелепый экзерсис, как противоядие от безысходности, создание комического эффекта "остра-
няет" любое действо, персонаж, идею, или иначе, как выразился Л. Пумпянский, "анекдот
есть развенчание всякой серьезности"63. Н. Корниенко в "фантастической" реальности
"Чевенгура" признала "антимир - смешной своей неупорядоченностью, спутанностью
разных знаковых систем", в нем новые догматы мира выворачиваются наизнанку, тем
самым писатель отстаивал "позитивную роль традиционного видения мира" . Но вечевой
гул лапотной страны - скомороший, балаганный - слышали далеко не все . Трагедия
реальная, зловонная, двуликая своей "правдой", отворила двери "юродивости" бытия
настоящего, показав те чудовищные уродства, ту обыденность абсурдных ситуаций, что
явились следствием тектонического разлома общества. Как подчеркивал известный
географ Дж. Голд, восприятие культурного ландшафта детерминировано историей
развития человека, внешними социально-культурными влияниями . Культурный
ландшафт "Чевенгура" попал под мощное воздействие электромагнитных полей
карнавала, каковой была вся пореволюционная ситуация. Именно его излучение
формирует идейно-эстетическое содержание романа: распространением,
внедрением и обаянием своих образов.
Отчаянные герои "Чевенгура" - свидетели не только мировой ломки, но и
преобразования мира. Платонов представил трагикомический опыт революционного
карнавала: его стражи революции, бьющие в ладоши в такт стреляющему пулемету, -
недоросли по сравнению с машиной-убийцей в лице чекистской тройки из повести
В.Зазубрина "Щепка", написанной в 1923 году и изданной в журнальном варианте
немногим позже "Чевенгура"67. У Зазубрина - "кровавая бойня", у Платонова -
"бескровное побоище". Высокое осмысление требует не плоскостного изображения, а
объемного, включающего оба полюса всех категорий и понятий - серьезный и смешной. В
романе "ужасное" дается с "нелепым" - писатель достаточно условен, и как художник
Кантор K.M. Без истины стыдно жить. // Вопросы философии, 1989, № 3. С. 15. '
Семенова СТ. Сердечный мыслитель. // Вопросы философии, 1989, № 3. С. 27-28.
Пумпянский Л. Гоголь. / Пумпянский Л.В. Указ. Соч. с. 259.
Корниенко Н. "Страна философов". / Андрей Платонов. Мир творчества. - М., 1994. С. 237.
КарасевЛ. Знаки "покинутого детства". // Андрей Платонов. Мир творчества. М., 1994. С. 119-120.
Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001. С. 342.
Зазубрин В. Щепка. // Сибирские огни, 1989, № 2. С. 41.
123
он только выигрывает. Допуская элементы "низкого", обнаруживая абсурд и
гротеск, не застревая в харкающих кровью черепах будничной смерти, он начинает "ос-
транять" "сдвинутое" бытие из горизонтали "обыденного" в вертикаль
"метафизическую". На наш взгляд, Платонов спешил передать бумаге весь творящийся абсурд
перепаханного идеей бытия, трагикомедию великой идеи, охватившей сознание
большинства, и жизненный жестокий контекст, безусловно, был важен для него как
поющая глина при отливке "говорящего" колокола. Но если он и прибегал к героям-
дуракам, то только оттого, что такие фигуры не требовали морализаторского
обрамления, так как несли в себе и осмеяние, и осуждение, и являлись солью народной
смеховой традиции. Платонов показал то мрачно-торжественное крушение
иерархии, что сопровождалось "повальным сумасшествием", и отрицая мир прежний,
сорванным в шепот голосом кричало о метаморфозе мира - "его перелицовке,
перехода от старого к новому, от прошлого к будущему"68.
Осмеяние и осмысление (осерьезнивание) в русской смеховой традиции в первую
очередь соотносится с юродством, или образом юродивого, который всегда
"балансирует на грани между смешным и серьезным, олицетворяя собою трагический
вариант смехового мира"69. С одной стороны пророк, а с другой - лицедей ("принимать
на себя юродство значит напускать на себя дурь, прикидываться дурачком, как
выделывали встарь шуты "). А.Панченко дает точную психо-физическую
характеристику юродивого Древней Руси, называя его "посредником" между народной
культурой и культурой официальной, что "объединяет мир смеха и мир благочестивой
серьезности... балансирует на рубеже комического и трагического"71. И потому, по
его мнению, юродивый - это гротескный персонаж. Юродство амбивалентно:
связанное с переодеваниями оно в духе карнавального комизма изобличает "мудрость"
и "логику" мира, противопоставляя им свою "глупость" и "ясность"72. Обличитель-
ство есть следствие подвига юродства, а не наоборот, причем смеховой момент при
этом может полностью отсутствовать. Активная сторона юродства состоит в
обязанности "ругаться миру", среди людей, обличая пороки и грехи сильных и слабых.
Пассивная сторона - смирение поношений и всех тягот скитальчества, вследствие
чего юродивый как бы имеет право "ругаться горделивому и суетному миру" .
"Движение" Д.С. Лихачев называет одним из самых характерных примет юродства.
Роман "Чевенгур" буквально изрешечен трассирующими "потоками жадных
странников" (С. 189). Кругом толпы куда-то идущих людей: "Со станции иногда
доносится гул эшелонов. Гремели чайники, и странными голосами говорили люди, как
чужие племена. "Кочуют! - прислушался Захар Павлович. -До чего-нибудь докочу-
ются" (С. 235). Да и Захар Павлович, ищущий то смысл жизни, то сына, кочует с
места на место. Саша Дванов, начинавший как нищий, как юродивый "ста ради", т.е.
сребролюбивый юродивый, мнимый, в процессе своего путешествия "с пустым
сердцем" (намек на полное опрощение, юродивое обнажение) становится настоящим
подвижником, юродивым добровольным - "Идеи ради". В усадьбе Пашинцева временно
поселился "окончательно бесприютный и нигде не зарегистрированный народ"
(С. 317). Так и Копенкин, совершающий набеги на окрестные селения, словно
отставший от войска опричник, нигде не учтен, не имеет мандата, подтверждающего
Бахтин М.М. Творчество... С. 455.
69 Лихачев Д.С, Панченко A.M. "Смеховой мир" в Древней Руси. Л., 1976. С. 93.
10 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1995. С. 669.
71 Панченко A.M. Смех как зрелище. /Лихачев Д.С, Панченко A.M. "Смеховой мир" Древней Руси.
Л., 1976. С. 109.
72 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 451.
7 Панченко A.M. Указ. соч. С. 95.
74 Там же. С. 101.
124
ни его личность, ни законность его революционной деятельности: "у него самого
кроме портрета Розы Люксембург, зашитого в шапке, тоже не было никакого
бланка" (С. 357). Перед нами самозванец, подвизающийся на ниве юродства. От
юродства в нем - ощущение одиночества, безумство, что нападает на него, когда он
на людях (что, как не безумство, его страсть к мертвой женщине Розе?), и
"шалости", когда он "крошит врагов революции", словно соломенные чучела, и безъязы-
чие. "Всякое людное место становится для юродивого сценической площадкой"75, -
говорит Панченко. Кентавром Революции рыщет Копенкин в поиске такового,
чтобы проявить свою удаль, продемонстрировать верность "подвигу" аскезы, воюя с
контрреволюцией, и обличает при этом, сам "кромешный мир" революции, его
принципы насилия и беззакония, ставший реальным миром, и в котором он живет и
действует, уповая "на свою победу" (С. 322).
Предгубисполкома Шумилин, спрашивая бредущих мимо людей, чья "одежда
была в глине, точно они жили в лощинных деревьях, а теперь двигались вдаль, не
очистившись" (С. 235), куда они направляются, получает парадоксальный, в духе
юродивого косноязычия ответ: "Мы-то? - произнес старик, начинавший от
безнадежности жизни уменьшаться в росте. - Мы куда попало идем, где нас окоротят.
Поверни нас, мы назад пойдем" (С. 235). На юродство указует одеяние - отчуждаю-
ще-грязное, и язык, построенный на загадке и парадоксе . Парадоксальность,
присущая юродивым, свойственна персонажам сказок о дураках. Д.С. Лихачев первым
указал на тип этих сказок как источник феномена юродства. Панченко объясняет:
"Яко безгласен в мире живый", юродивый для личного своего спасения не должен
общаться с людьми, это ему прямо противопоказано, ибо он "всех - своих и чужих -
любье бегатель . "Шагреневость" старика - это и есть молчаливый укор советской
власти, новому порядку, установившему всему - окорот. Отсюда и постоянное
кочевье и убегание вдаль - как стремление сохранить свое юродство - и мимо всех
преобразований и устроений, не прочь, а поодаль от нового мира, как бы ощущая от
него угрозу себе - "живущим по свом одиноким законам" (С. 245), дабы не быть изби-
ти. Желание Дванова "пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни" (С. 245),
характеризует его как юродивого по зову сердца. И возмущение Шумилина потому
обоснованно: "Тебя послали, чудака, поглядеть просто - как и что... Λ ты там
целый развал наделал... Набрал каких-то огарков и пошел бродить" (С. 338). Если
следовать разделению юродивых на активно и пассивно протестующих, то, как нам
думается, юродство прочих и странников принадлежит ко второй группе, а юродство
персоналий, включая и чевенгурцев, относится к юродству, радеющего за Идею,
добровольному подвижничеству. Таким добровольцем Дванов явился в губернию, и,
найдя себе подобия, объединил всех на "пустом месте". Чевенгур ко всему прочему
не только зрелищная площадка, но и паперть - то "нулевое пространство", что
выполняет функцию пограничной полосы между миром светским и миром церковным.
Для юродивого людная паперть символ его одиночества, отверженности. Чевенгур-
ская паперть - это сельсовет, разместившийся в реальной церкви, куда все приходят
за советом, т.е. подивиться на нового юродивого, получить от него "знак" -
революционное предчувствие, облаченное в словесную формулу лжепророка Прокофия.
В этой связи интересно замечание Панченко о том, что в убранстве готических
храмов встречается нагая фигура юродивого в окружении пеликана, кормящего
птенцов, и лиса, который читает проповедь гусыне. Так вот, пеликан, согласно
агиографической традиции, - это Христос, а лис - алчный и хитрый лжепророк. Как нам
видится, аналогичную сценку могли наблюдать прочие и в чевенгурском ревкоме:
Там же. С. 105.
Там же. С. 127.
Там же. С. 129.
125
Чепурный (нагой под шинелью) в окружении двух Двановых - пророка и
лжепророка. Все как бы логично: идут к Богу, а попадают к Юроду.
Замкнутость и недосягаемость Чевенугра позволяют коммунарам ощущать свое
одиночество в полной мере: даже товарищи не снимают тяжести одиночества, а их
необычность, граничащая с ненормальностью, пугает повидавших немало и
претерпевших еще больше прочих, которые противостоят их зрелищному балагурству
немым укором нищей действительности. С того момента, как "кромешный мир, стал
активным, пошел в наступление на мир действительный и демонстрировал
неупорядоченность его системы, отсутствие в нем смысла, справедливости и устроенности",
то реальный мир уподобился миру "кромешному": он стал неблагополучным,
"миром нищеты, нагих и голодных людей" . Добавим: неупорядоченным и хаотичным.
Д.С. Лихачев называет время переворота - последняя треть XVII столетия,
вызванного реальным обнищанием народных масс. Подобная метаморфоза повторилась,
когда Россия из вполне благополучной державы в одночасье, после войн и
революций, вывернулась наизнанку: стала страной нищих и идейных дураков. Юродивый,
бывший ярким обличителем и порицателем благополучного мира, после "бунта"
кромешного мира стал одним из многих, коих тысячи, тьма тьмущая тех, кто "из
лебеды и крапивы щи варит" (С. 316). Потому, как нам думается, позволительно
рассматривать феномен юродства в измененной категории - множественности, своего
рода коллективном теле, групповом теле, который сообща несет вериги юродства.
Эти "прочие" юроды несколько гонимы, сколько отвергаемы и поносимы: "Десятая
часть народа - либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по
крестьянски - за кем хоть пойдут" (С. 325). Юродивый никогда не работал,
исполнял роль скомороха, но не смешил, а учил, своим безобразием являя пороки мира,
его несовершенство. Оскорбление отсылает действительно по адресу, так как
собака - признанный символ юродства. Можно сказать, что прочие, неся свой "крест"
обездоленности и униженности, бесприютности и отчужденности, являют собой
символическое изображение искупительной жертвы второго пришествия -
Революции. В их молчаливом "укоре" - авторский стыд за развал страны, осуждение
слепого поклонения кумирам, обличение самой идеи, жалящей страну лукавым ядом.
Изношенность телесная, истлевающая, "ругается миру" и не эпатирует никого - участники
"кромешного" мира к ней привыкли - она обращена к читателю, наблюдателю, на кого,
собственно, и направлено их юродство79, и своего "благого эффекта" добивается, ибо он
начинает "рыдать" над миром. Находясь в полном беспамятстве, чевенгурские ходоки в
ничтожестве "простейших" влачатся по степи до первого "окорота": "их сил хватало для
жизни только в текущем момент, они жили без всякого излишка" (С. 438), являя племя
бесприютных юродивых и отринутых блаженных. Они, как и положено, противостоят
рутине, на сей раз - революционной. Они творят "духовный подвиг" самим фактом своего
безымянства и безотцовства, обличая мир за "холод" и безразличие: они оказались
"прочими и ошибочными" (С. 438).
В пользу их юродства говорит и их наряд: на них "висело настолько мало
одежды, будто им были не страшны ни встреченные женщины, ни хол,од ночей"(С. 441).
Нагота, утверждает А. Панченко, одна из важнейших примет юродства, она была
двусмысленна, ибо искушала соблазном и свидетельствовала об обуздании плоти.
Карнавальным костюмом в "Чевенгуре", по нашему мнению, и является одежда
юродивого, которая прежде всего подчеркивала его особость, принадлежность к
новому "кромешному" миру - миру послереволюционному и сиротскому.· Таким
атрибутивным признаком вместо привычной "лоскутной и многошвейной рубахи"
становится шинель или часть военной амуниции. "Половина людей была одета лишь до
78 Там же. С. 62.
79 "Юродство обретает смысл только, ...если становится общедоступным зрелищем" - Панченко A.M.
Указ. соч. С. 109.
126
середины тела, а другая половина имела одно верхнее сплошное платье, в виде
шинели либо рядна, а под шинелью и рядном было одно сухое обжитое тело,
притерпевшееся к погоде, странствию и к любой нужде" (С. 433) . Главное соблюден
принцип: новая "рубаха" надевалась прямо на голое тело: " Чепурный скинул шинель
и сразу очутился голым и жалким" (С. 380). Пребывая в единстве нищеты, герои
Платонова напоминают персонажей другого карнавала - с картины Ф.Гойи. В его
"Карнавале" стеной серых балахонов на фоне таких же стеснившихся унылых
фасадов стоят участники "праздника". Это вероятно юродивые или прокаженные,
которых заставляли носить колпаки, скрывающие уродства. Из придворного живописца
Гойя был разжалован за свои графические гротески - гоним за то, что фактически
превратился в юродивого. Он не мог не "ругаться миру", так как действительность
предстала перед ним в бездушной простоте изнанки, населенной страшными
оборотнями. Картина отражала не болезненное мировосприятие, но истинное видение
художника, который всегда "юрод", потому что зрит изнанку мира, и убежден, что
карнавал не временное явление, а постоянное, и оттого люди вынуждены носить
маски, чтобы прикрывать свой "срам", и быть одинаково безликими. Также и
юродство: "оно всегдашно" , - и значит, облачение в "раздранные и непотребные ризы"
неминуемо и как снижающий жест, и как протест против немилосердия мира.
Железная рубаха Пашинцева - рыцарские доспехи, "давившие траву до смерти"
(С. 312), - сравнима с "колпаком великим и тяжелым" и медными кольцами на
"тайных удах", что носил Иоанн Водоносец82. Его "бессмертная одежда" (С. 313), как
постриг для монаха, как обнажение для юродивого, обозначили начало его
"подвига", который подвластен только ему: помешать никто не может, да и не отважится -
юродство сидит внутри, как страшный зверь. И потому, хоть росту он малого и явно
вызывал смех дребезжанием своих лат, эхом доносившим слабость его тела,
свободно разместившимся в них, но зато он один противостоял толпе, вызывал трепет и
уважение, отражая набеги поселенцев "геройским" видом своим. И даже когда он
растеряет свои латы, его решимость обличителя и заступника не покинет его, и он
ринется на врага в надежде испугать "одним умственным страхом взрыва" (С. 546).
По прибытии в Чевенгур Пашинцев уподобился Андрею Цареградскому и Савве
Новому, отвергнувшим всякую одежду, - кроме нагрудной кольчуги и "лобового
забрала с привинченной навеки красной звездой", одежды не оказалось (С. 382). Но
доспехи Пашинцева - это еще и фиговые листки, прикрывающие наготу
революционной идеи. Когда же представилась возможность сменить костюм пассивного
юродства на агрессивный юродивого-ниспровергателя, то бывший комендант
ревзаповедника не раздумывал: старая солдатская шинель образца 14-го года "успокоила
все тело Пашинцева" (С. 384). Его приняли в общество скудных, обряженных в
сукно и голое тело беспризорников гражданской республики, и скорее всего он еще
больше уверовался в своем "подвижничестве" ревнивого гонителя мира старого,
являя собой новый порядок - "советскую власть", которая по словам Дванова, есть
"царство множества природных невзрачных людей"(С. 335). "Как гражданин одет"
(С. 384), - скажет о нем Копенкин. Таким же равноправнным подданым среди
"текучего населения" (С. 511) становится и Сербинов после растерзания чевенгурцами -
"в одной жилетке и босой" (С. 523). Коммунист обязан быть голым, как считает
Чепурный (С. 350). Опрощение в одежде усиливалось стертостью лиц, доводя
"невзрачность" до совершенства: Копенкин потерял свое лицо в вихре революции ("был
ли он из батраков или из профессоров, - черты его личности уже стерлись о рево-
80 "Рядно" - грубый деревенский холст, по реденькой основе и с самым легким прибоем; идет на
подстилку. -Даль В. Толковый словарь... С. 120. Таким образом, наряд у героев истинно юродский.
81 Панченко A.M. Указ. соч. С. 109.
82 Кузнецов ИИ. Святые блаженные Василий и Иоаннн, Христа ради московские чудотворцы. /
Записки Московского археологического института. Т. 8. М., 1910. С. 422.
127
люцию" (С. 273)). Словом, "юродство" съело его прошлое и взамен предложило
свою маску, за которой маячила его сокрушительная партийная принадлежность (С.
342). И, как шутовская маска, такое лицо выделяло его из толпы: в нем "было что-
то самодельное, словно человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами"
(С. 342), - и надета она была силами идущими от внутренней потребности "ругатися
миру". "Юродивому приходится совмещать непримиримые крайности. С одной
стороны, он ищет прежде всего личного "спасения". В аскетичном попрании тщеславия,
в оскорблении своей плоти юродивый глубоко индивидуален, он порывает с
людьми, "яко в пустыне в народе пребывая". И если это не индивидуализм, то, во всяком
случае, своего рода персонализм"83. Копенкин и есть настоящий юродивый: он ведет
себя как шут, воюя со всеми нищими, пугая и притесняя их ("Доеду - возьму и
документы спрошу - напугаю черта!" (С. 356)). Чепурный, как и подобает избравшему
"подвиг", чувствует себя "лучше всех" (С. 408): твердость и жестокость стоика
необходимы ему, чтобы довести свой кинизм до совершенства и не стереться "от
сохранения власти" (С. 408). Но ведь и юродивым нелегко давалась их аскеза, замечает
Панченко, иначе в ней не было бы нравственной заслуги. Пашинцев горд силой духа
не меньше: "В нас мочи больше и мы сильнее прочих элементов" (С. 317). Это часть
активного юродства, другую же пассивно-безмолвную составляют прочие,
странники. Юродивыми, безгласно-благодарно принимающими побои толпы, предстает
буржуазия, сведенная в одно обезличенное определение, покорно кольцом обступившая
Чевенгур и безропотно принимающая разящий удар "внезапного случая по
распоряжению чрезвычайки" (С. 368).
"Если идеальное платье юродивого нагота, - говорит Панченко, - то идеальный
язык - молчание"84. Но так как юродство театрально и зрелищно, а сам юродивый
выступает в вакантной роли режиссера своего шоу, и не может обойтись без
определенной системы знаков, которыми он руководил бы толпой. Такая система
включает в себя снижающий жест, рифмованную фразу, косноязычное бормотание,
парадокс и загадка в речевой фразе. Прочие как жили в своем безъязычии до Чевенгура,
так и покидают его, беззвучно исчезая, презирая и чевенгурские блага, и идеальное
житие коммуны, ускользая к безыменству своему. Копенкин, не обладая
красноречием ("не мог плавно проговорить больше двух минут, потому что лезли в голову
посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что он
сам останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове"
(С. 304)), использует язык жестов - убить, унизить, сокрушить готов без
промедления тех, в ком чувствовал угрозу новому миру. Это жест обличающий: его
придерживались и Чепурный, и Двановы, и Пиюся, и Кирей, и Пашинцев. Но жест мог
быть и заступническим - это, по определению Панченко, "отклоняющееся
поведение", когда в действиях юродивого прочитывается молчаливый протест против
благоустроенной, но утопающей во гресех, реальности. Поедание глины богом села
Петропавловки подобно утолению жажды Андрея Цареградского, который таким
образом укорял немилосердных. Поза отверженного позволяет юродивому, избравшему имя
"бог", указывать пороки успевшего народиться нового мира и на последствия этого
рождения - нищету и голод. Ковыряя застрявшую глину в зубах (С. 260), он укорял
мечтателей, творивших утопию одним умственным усилием, не обращая внимания
на условия для нее, т.е. землю, из которой все произрастает, ею живет. Свой жест
бог свободы усиливает парадоксальностью речи, свойственной сказочным дуракам,
к которой так часто прибегали юродивые, и которая, как указывает Панченко,
наследуется из фольклора, утверждая таким образом, что "юродивый" и' "дурак" -
синонимы . Избранная аскеза - бескорыстие и нестяжательство, скудость пищи, от-
Панченко A.M. Указ. соч. С. 110.
Там же. С. 129.
Панченко, С. 127.
128
речение от плоти, презрение к внешней материальной стороне жизни - направляет к
аффектации и эпатированию, и она же служит поводом для насмешек, являясь
формой протеста действительности. Но смех над сельским богом не отмечен знаком
отвержения, исключения: он испытывает давление фамильярного общения и потому
похож на дружественное подтрунивание: "Здравствуй, Никанорыч, - тебе б пора
Лениным стать, будя богом-то\" (С. 260). Это карнавальное развенчание
переводит его из мрачного деревенского юродивого в балаганного деда, который
хвастается своим могуществом: "Вот объявлю в одну ночь отъем земли, тогда с испугу и
поверят. Λ в другую ночь разом обратно - и большевистская слава по чину будет
моей" (С. 261). Устами юродивого осуждался мир, построенный в одночасье,
по-карнавальному, распорядительным декретом, и тем самым, намекая на бутафорность
такого мира, составленного из кубиков устойчивых мифологем, его иллюзорность и
шаткость из-за социальной неустроенности. Юродивый жест обличения выказывает
миру и пешеход в степи, что "время от времени ложился и катился лежачим, а
потом опять шел ногами" (С. 289). Сходное "котма качение" юродивых отмечено в
исторических памятниках , и оно же знаменует тот процесс всеобщего перекати-
поля, что предпочли восставшие, и оттого бесприютные, массы, забыв о работе и о
земле, несмотря на декларируемые "права" на них, - в нем залог нестабильности
самой хаотичной системы, которую воспроизводит Платонов.
Заметим, номинативным регулятором феномена юродства в романе является
именно Копенкин, собирая под свои знамена всех встречаемых "юродивых",
"дурачков", "прокаженных", сам, будучи не от мира сего напустившим на себя дурь
крестоносцем, снаряжающим войско в поход за гроб Люксембургов. "Блажным, а не
грустным" (С. 318) нарекается Пашинцев; "глупым человеком", организовавшим в
Чевенгуре славу вместо добра (С. 472), предстает Чепурный; Сербинов как "дубъект"
(С. 522) покоится между дуростью и экзистенциальностью. "Убогий, далекий и
счастливый" (С. 287) - таким остается он в памяти Дванова. Одно из значений слова
"убогий" - "малоумный, юродивый, дурачок, нищий духом"87. И таким блаженным,
совершающим постоянный "подвиг" в миру (почти или совсем не ест, кормит лишь
коня), находясь в зоне близкого контакта с окружающими, "человек, всю жизнь не
сделавший себе никакого блага" (С. 331), ставящим коммунистическую аскезу
превыше всего, проскачет Копенкин по земле "Чевенгура", "склоняя земное перед
небесным"88, перед Розой и Революцией. Юродство не только вызов обществу - это
провозглашение и распространение новой идеологии, это свидетельство воцарения
"кромешного" мира, заместившего настоящий. Маска юродивости, подразнив дио-
нисийским лучом, оставляет героев в амплуа "драматических психов", которые
совмещая осмеяние с осуждением, "рассеивали тяжесть горящей души народа"
(С. 255).
Наиболее ярко в облике юродивого представлен Чепурный: он бескорыстен,
аскетичен предельно (шинель как рубаха, отказ от еды, укрощение плоти: передал
жену "страждущим"), всех освободил от трудовой повинности, свято веря в
"откровение" - коммунизм. Как балаганный дед, он потешается над своей женой, называя ее
Клабздюшей, за "слабости" тела. Но плюс ко всему он - калека, убогий: "Чепурный
не мог выражаться" (С. 465). Его речь - это те самые "словеса мутна", что
произносил Андрей Цареградский, и что напоминает детское "немотствование", которое в
средние века считалось средством общения с богом89. Чепурный, словно ребенок
прибегает за помощью к Прокофию, чтобы тот переводил его пророчества ("рево-
Византийские легенды. Л., 1972. С. 74.
Даль В. Толковый словарь... Т. 4. С. 669
Манн Ю.В. Указ. соч. С. 452.
Панченко A.M. Указ. соч. С. 123.
5 Вопросы философии, № 3
129
люционные предчувствия") на общедоступный язык, причем, в роли бога, выступает
Маркс, слившийся в сознании Чепурного с Саваофом. "Недуг" образовался из-за
неспособности "думать в темную - сначала он должен свое умственное волнение
переложить в слово, а уж потом слыша слово, он мог ясно чувствовать его (С. 345). (Но
таким вот "прилеганием" думал и Достоевский, в миру Игнатий Мошонков. Копен-
кин также "обезгласен" своим рассеянным сознанием, отчего его "многие чувства
оставались невысказанными и превращались в томление" (С. 359).) Если принять во
внимание классификацию общенародной культуры, предложенной Б.Соколовым,
то Чепурный принадлежал к третьему слою городского простонародья и был
типичным "отщепенцем". И как "отщепенец", он являл собою переходное состояние:
оторван от деревенского образа жизни и непричастен к культуре образованного класса.
И поэтому ему нужно было выработать свой способ восприятия "чужой" культуры,
для чего использовался "русский обычай" искажения письменного текста, который
И.М.Снегирев объяснял желанием "поиграть" письменным словом, вероятно исходя
из того факта, что народная культура в целом игровая. "Отщепенец" упорно,
иногда не осознанно, стремится ""перехитрить" грамотное написание, перевести его в
привычную систему просторечия . Чепурный обращается "за умом к Карлу
Марксу: думал - громадная книга, в ней все написано." (С. 401). Но чтение (Прокофием)
марксистских тезисов не утоляют голод разума ("ничего не понял, но ему
полегчало"), и потому он, прибегая к "перевиранию" источника, использует ловкого
толмача, который выносит поношение старому миру. Как "отщепенец", японец понимает
и не понимает Маркса: ему недостает сформулированного канцелярита, который
услужливо предоставляет умелый и льстивый лжец Прошка. Так, не найдя у Маркса
объяснений классу остаточной сволочи, что "лежит поперек революции тихой
стервой" (С. 387), подпустив юродивый алогизм ("раз есть пролетариат, то к чему
же буржуазия!"), Юрод, впавший в людоедство власти, объявляет о ликвидации
класса буржуазии и назначает день погрома - "второго пришествия, которое в
организованном безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь"
(С. 388). Формулировки Прошки - того выучившегося грамотея, что путал книжное
с простонародным, не спасают Чепурного от смеха: новоявленный пророк,
блаженный прорицатель коммунизма, наводит порядок введением беспорядка, анархии,
сметающей город дробью пуль. "Под знаком вечного изгнания из Чевенгура и с
прочих баз коммунизма" (С. 402) исторгался сам мир, общество, покорное до смешного,
а юродивый утверждался помазанником антибога - коммунизма. Такое отступление
от правила невмешательства юродивого в мир свидетельствует о перемене самого
мира: юродство, размножившись, вывернуло его наизнанку как свой колпак.
Носители полуграмотной речи, к которым принадлежит Чепурный, чувствовали себя
причастными к игровой стихии - они и были участниками Великого карнавала, в
котором все пускалось в коловорот, осмысление и толкование сопровождалось "кри-
вотолком". Не случайно поэтому портфель Сербинова, показавшийся
полуграмотным коммунарам охранителем священных писаний, недоступных их пониманию,
был переведен в котомки - "сак" и "вояж". Прием "шиворот-навыворот", усиленный
замещением-самозванством, вводит в область сатирического гротеска. Но
регулярное спускание в "святая святых" юродивого: его внутренний мир размышлений,
осмысливающих происходящее, с мучительным поиском оправдания своим
осуществленным предчувствиям ("Неизвестно одно - нужен ли труд при социализме, или
Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. М., 1999. С. 168—174.
91 Там же. С . 174. Автор прибегает к свидетельству видного специалиста-этнографа по русской
культуре И.Е. Забелина: "Выучившийся грамотей... по необходимости, потому что заученная грамотность
его одолевала, перепутывал народное с книжным, простое и прямое с кривыми сплетениями языка
витиеватой книжности". - Забелин И.Е. Заметки о памятниках простонародной литературы. // Библиогр.
Записки. 1892, №2. С. 79.
130
для пропитания достаточно одного природного самотека!"), вводит в звучащий
сарказмом авторский голос сочувственные нотки. Вопреки ожидаемому смеху
высказывание самодура {"Но мы дали свои меры" (С. 402)) заставляет читателя
немотствовать от ужаса, накрывая стеклянным колпаком трагического несовершенства
мира - в зеркальных отражениях современной действительности кривляется
юродивое лицо чевенгурского мира. Именно поэтому юродивый - "трагический вариант
смехового мира". Действия и умозаключения Чепурного, Пашинцева, Федора
Достоевского, Бога свободы, Якова Титыча, Пиюси, Сотых и др. на первый взгляд
кажутся абсурдными, но их "неадекватность" постороннему наблюдателю, коим
является читатель, не вызывает смеха со стороны тех, с кем они входят в контакт. Все
участники "шутовского диспута" - юродивые, только одни представляют мнимое
безумство, а другие - мнимое здравомыслие92. Так, дискуссионным порядком в романе
"Чевенгур" дается обличение и осмеяние миру: когда Копенкин поинтересовался у
встреченных мужиков, "можно ли Советскую власть учредить в открытом месте -
без построек", то получил ответ юродивых, притворяющихся дураками. В их
парадоксе была мудрость, видящая вдаль: "Можно. Лишь бы бедность поблизости
была, а где-нибудь подальше - белая гвардия" (С. 354). В таких "диспутах глупости"
как раз и читаются те "идеологические контексты", которые в полном объеме
отразили абсурд карнавального переустройства после революции 1917 года.
В период реформ юродству всегда было отказано в праве на существование, и,
как заявляет А. Панченко, "чем решительнее становилась Россия на европейский
путь, тем сильнее становились гонения на юродивых"93. Но юродство "всегдашно":
"оно не знает временного ограничения, превращаясь в постоянный способ
существования"94. И потому, когда голод и нагота стали, начиная с XVII века, реальностью
для толп обездоленных эксплуатируемых масс, а не только доминантой
юродствующей аскезы, то мир "кромешный", перестав быть смешным и став трагическим,
поменял плоскости "отрицательные" на "положительные". И так как антимир
"Чевенгура" - это мир неупорядоченный, карнавальный мир спутанных отношений и
амбивалентных образов, нелогичный мир с подвижным хронотопом, то он смешной. Но
чтобы антимир стал смешным, как утверждает Д.С. Лихачев, "он должен оставаться
миром скитаний, неустойчивым, миром всего бывшего"95. Взаимопроникновение
мира и антимира обусловливает сама хаотичная, нестабильная структура
"Чевенгура". Мир неблагополучия и несчастья, бывший "смеховой", свои несчастья,
неустойчивость, неупорядоченность переносит в реальный мир и, тем самым, вносит в него
элементы маскарадности. И потому юродивые персонажи, распыляясь средой мак-
симонов, превращают мир в антимир: "Бог свободы Петропавловки имел себе
живые подобия в весях губернии" (С. 265). Под магнетическое влияние Чепурного
попадает Прокофий: становясь покорным "слепком" прозрений юродивого, он
отбросил научный подход (поступательность и "долгий ход революционности" (С. 408)) и
ринулся за "вспомогательной чернорабочей силой" (С. 417) - свежих рекрутов в
юродивое племя. "Чевенгур" как раз являл собой тот мир рогожи, мир
неустойчивых отношений, когда "массы людей скитались "меж двор" , что стало возможным
вследствие социальной катастрофы, "кризисом явлений" распластавшей и
ввергнувшей в безумие всю страну. Используя инверсию, меняя утверждение на отрицание и
наоборот, чевенгурцы научились видеть то, чего не может быть, то есть восприни-
92 Панченко A.M. Указ. соч. С. 152.
93 Там же. С. 180
94 Манн Ю. Карнавал и его окрестности. / Указ. соч. С. 449.
95 Лихачев Д.С. Смех как "мировоззрение". I Лихачев Д.С, Панченко A.M. "Смеховой мир" Древней
Руси. Л., 1976. С. 59.
96 Там же. С. 67.
5* 131
мать действительность как результат умозрительных конструкций: солнце "работает"
одно за всех, потому что его объявили "всемирным пролетарием" (С. 375). Прожект
фундамента Коммунизма, который так настойчиво осуществлял Чепурный со товарищи,
читается как одна из сказок Бочки Дж. Свифта (С. 368). Всеобщее опрощение оборачивается
несправедливостью для каждого отдельно взятого: он лишается своеобразия, инаковой
штучности. "Жизнь сделала кромешный мир (мир антикультуры) слишком похожим на
действительность, - пишет Д. Лихачев, - а в мире упорядоченном показала его
фактическую неупорядоченность - несправедливость" . Именно эта несправедливость задевала
Платонова как писателя и гражданина, именно ее он подверг осмеянию и осуждению в
своем единственном романе, так и не ставшем вечевым колоколом для современников,
для тех, кому предназначался и ради кого писался.
"Чевенгур" Платонова - это и есть "трагедия плюс сатирова драма": в нем устами
"дурака" дается онтологическое определение революции - "революция - насильная
штука и сила природы" (С. 323) - и тем самым достигается апогей осмысления
действительности происходящей. Избрав гротеск в качестве образного отрицания
действительности, А. Платонов бросил вызов современному обществу - его
"иерархическая перспектива" вскрывала мучительную изношенность мира рабочих и
крестьян. Граверная игла Гойи слишком глубоко проникала под кожу всего общества, его
гротески повергали в ужас, словно люди замечали у себя признаки проказы. С его
"картин общества без масок" врывается хаос, безумие, охватившее людей в годы
террора периода наполеоновских войн: толпы маленьких людей, мчащихся
неизвестно куда, растерянных, почти раздавленных Колоссом войны. Весь роман
Платонова населен такими мельтешащими людьми, никому ненужными "прочими",
униженными вынужденным опрощением. Они смешны своей жалостью и ничтожностью,
но они почти святы, оттого, что носят с собой душный ореол смерти. Повествование
Платонова, как словесно-образное полотно, рисует изнанку жизни. Это не бравые
солдаты Революции, это уцелевшие остатки грозной силы, бредущее стадо
голодных и голых людей, полулюдей. Но "трагическое" сходило с подмостков в гущу
повседневной жизни. Мрачное сборище чевенгурцев отсылает к языческому
обрядовому действу (терзания буржуазии, Сербинова). Старик-прочий, как верховный жрец,
своим величием, ощущением собственной значимости сходен с Сатурном Гойи:
голый уродливый старый бог разрывает себе живот, чтобы очиститься от своих
будущих детей. Старик Платонова умирает от болей в животе - они его "пожрали",
словно выводок нерожденных детей. Впечатление столь же странное и ужасное, однако
свержение в материально-телесный низ возвращает назад из накрывшего, было,
небытия. Старик умирает от запоров - хлопок в воздух убивает как карнавальная
хлопушка. "Осмеяние", что нес с собой гротеск, снимало напряжение трагического
мироощущения пореволюционной эпохи, но тем самым трагедия не становилась
меньше: она обретала исполинский размах. А. Платонов благодаря своей гротескной
манере и "юродствующему" языку благополучно минуя "подмостки балаганные",
воспользуемся парафразом Л. Шубина, остался на "кафедре", закрепив за собою
право на "молчание" после саркастичной проповеди эпохе, которая не захотела его
услышать. Платонов, подобно преподобному Свифту, рассказывал правду и работал
с ней как художник, которому важно не только донести детали, но и разбудить
сознание. Трагикомичность - это тот абсолютный декор, без которого человеческое
существование перестает быть экзистенциальным, или иначе: гуманистическим.
Считаем, что в "Чевенгуре" трагедия восставшего народа разыгрывается по всем
правилам - это козлиный хор, нашептывающий тризну о самом себе,'ибо чувствует
смерть изнутри. И этот нестройный хор доказывает зрителям парадокс: "human
band" коллективизмом разрушается"98.
Там же. С. 66.
Мамардашвили М.К. Необходимость себя. С. 179.
132
К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЛ. ЩЕДРОВИЦКОГО
От редакции. 23 февраля 2004 г. исполняется 75 лет со дня рождения Георгия
Петровича Щедровицкого - известного отечественного философа, методолога,
организатора науки, основателя Московского методологического кружка, работа
которого в течение 40 лет активно влияла на развитие философских исследований в
нашей стране. Мы публикуем статьи, посвященные творчеству Г.П. Щедровицкого, а
также материал из наследия философа.
Рожденный мыслить
М. А. РОЗОВ
Мышление - это образ жизни
Г.П. Щедровицкий
В 2004 г. исполняется 75 лет со дня рождения Г.П. Щедровицкого. Он прожил не
очень долгую жизнь, всего каких-то 65 лет, но жизнь эта была напряженной и
полной труда. Это была жизнь, отданная философским и научным исканиям. Писать о
нем трудно, ибо он уже при жизни "оброс" не только учениками и поклонниками, но
и легендами. Впрочем, не в меньшей степени он "оброс" и противниками.
Современные издатели его трудов пишут, что это был "выдающийся мыслитель XX века",
противники и скептики недоуменно пожимают плечами. Пожимают плечами, но
молчат. А между тем, как бы мы ни относились к Щедровицкому, уж чего-чего, но
молчания он не заслужил. Я не хочу вмешиваться в этот молчаливый спор и не
собираюсь ни создавать легенды, ни разоблачать их. Суд истории еще не наступил. Мне
просто хочется сказать, что Георгий Петрович Щедровицкий - это очень яркая и
интересная фигура в нашей отечественной философии, и он, несомненно, заслуживает
серьезного исследования. Тот факт, что такого исследования еще нет,
характеризует не столько Щедровицкого, сколько состояние нашей философской мысли.
Тайны Щедровицкого
Правда, справедливости ради, надо сказать, что анализ его наследия - дело не
легкое. И не только потому, что он оставил после себя огромный архив, включаю-
133
щий его бесчисленные лекции, доклады и выступления. Г.П. Щедровицкий вообще
фигура загадочная. Он оставил след в самых разных областях знания: в философии
и методологии, в семиотике и языкознании, в психологии, в социологии, в теории
дизайна... Но было бы большой ошибкой ограничиться анализом его философских
или научных результатов. Я во многом с ним не согласен и не считаю, что он решил
поставленные им проблемы. Но я при этом четко осознаю, что критика его работ
вовсе не сбрасывает его с пьедестала. Во-первых, постановка новых проблем - это
тоже результат и не менее значимый, чем их решение. А во-вторых, дело вообще не
в результатах, а в чем-то другом. И вот именно в этом "другом" мне и хотелось бы
разобраться. В чем величие и тайна Г.П. Щедровицкого?
Мы привыкли переизлагать чужие концепции. Раньше нас заставляли
бесконечно переизлагать так называемых классиков марксизма. Время изменилось, и теперь
мы переизлагаем современных западных философов. Известный отечественный
географ Б.Б. Родоман как-то сказал: "Мышление, если оно правильное, рано или
поздно приходит к тому, что уже сделано на Западе". Похоже, что мы все еще живем в
рамках подобной идеологии. Но Г.П. Щедровицкого нельзя переизлагать. Он не
писал итоговых работ, он не останавливался в своих исканиях, он ставил проблемы, и
каждый шаг в их решении порождал новые. Щедровицкий - это не статика, а
динамика, это непрерываемый процесс поиска, который неожиданно был остановлен.
Как можно переизлагать неоконченное произведение, в котором все еще впереди?
Его нельзя переизлагать, его надо продолжать. Именно продолжать, - и это одна из
тайн Щедровицкого, - ибо уже в начале своего так и не оконченного произведения
он сумел создать проблемную ситуацию, как бы завязку будущего детектива, но
развязки нет, и нам предстоит ее придумать.
Выше я сказал, что во многом с ним не согласен, не согласен с теми версиями
"расследования", которые он успел набросать. Но это несогласие особого рода.
Было бы неверно говорить о каких-то ошибках Щедровицкого. Точнее, есть ошибки и
"ошибки". Представьте себе, что мы едем по магистрали из города А в город В.
Очевидно, что нам не следует сворачивать на грунтовую дорогу. И если кто-то из нас все
же свернул, - он совершил ошибку. Но вот магистраль неожиданно раздваивается и
нет никаких указателей. Куда ехать? Один из нас повернул направо, другой -
налево. Один совершил "ошибку" и приехал не в В, а в С. Но эта "ошибка" не пропадет
даром, ибо теперь мы можем на развилке поставить указатель. "Ошибки"
Щедровицкого именно такого типа, и потому их анализ продуктивен. В этом еще одна его
тайна. И если я с ним не согласен, то только потому, что меня понесло по другой
дороге.
Щедровицкий умел видеть и ставить проблемы, умел видеть тайну в привычном и
обыденном, а это большой талант. Надо быть Ньютоном, чтобы обратить внимание
на упавшее яблоко. Щедровицкий утверждал, что существуют разные типы
мышления, сам он, как я полагаю, в основном был проектировщиком исследовательских
программ. У него было постановочное, проблематизирующее мышление. Именно в
проблематизации специфика его статей и докладов.
Щедровицкий, несомненно, был и блестящим лектором, нередко просто
завораживающим аудиторию. Это тоже была одна из его тайн. Многие пытались ее
разгадать. Одни считали, что все дело в интонациях, в расстановке акцентов, другие
видели разгадку в пластике движений, в характерных жестах, задерживающих внимание
аудитории на той или иной мысли. Все это было. Но главное, как мне
представляется, состоит в его таланте проблематизации, в удивительной способности
драматизировать ситуацию. Однажды знакомый философ, прослушав лекцию Щедровицкого,
сказал мне, что наконец-то понял, как жить и работать. "А какой основной тезис
Щедровицкого?" - спросил я. Он посмотрел в свои записи и кратко изложил
содержание лекции. "И разве ты этого не знал раньше?" "Знал", - ответил он крайне
озадаченно. Думаю, он был не совсем прав, отвечая на мой вопрос утвердительно. Он и
134
знал и не знал тезис Щедровицкого, он знал, но не обращал внимания, знал, но не
замечал.
Проблемное поле
Известный наш геометр академик А.Д. Александров как-то сказал: "Тот факт,
что мы сводим площадь треугольника к половине произведения основания на
высоту, - это не менее таинственное явление, чем строение электрона!" К сожалению,
большинство наших гуманитариев этого не понимают. Большинство, но не Г.П. Ще-
дровицкий. Думаю, что именно явления такого типа толкнули его на создание
особой содержательно-генетической логики. Формальная логика, редуцирующая все к
совокупности высказываний, его не удовлетворяла. Его волновал вопрос: чем мы
фактически оперируем в процессе мышления? Разве высказываниями? Допустим,
мы с вами измерили основание и высоту некоторого треугольника. Мы получили
два высказывания: основание равно 10 см, высота равна 20 см. Теперь нам надо
произвести вычисление. С чем мы работаем? С числами? А что это значит - работать с
числами? Вот два отрывка из его лекций 1965 г., иллюстрирующих постановку этих
вопросов.
"Проводя аналогию с производственной деятельностью, - говорит Щедровицкий, -
я ввел принципиально новое понятие - понятие объекта. Если теперь
мыслительную операцию я буду рассматривать как то, что переводит знания из одной формы в
другую, то естественно будет спросить: а можно ли рассматривать знания в качестве
объекта оперирования? Может быть, мы оперируем не знаниями, а именно знаками,
а о знании надо говорить в том случае, если мы используем его в качестве плана или
регулятива операций. Анализируя вопрос о том, чем мы оперируем в деятельности,
можно предполагать, что объектом будет не только знаковая форма, но, может
быть, смысл знания, или тот объект, который обозначен, или отражен, в знании"1.
Как привычно слышать, что мы знание создаем, строим, используем, проверяем,
систематизируем, излагаем, развиваем... Разве это кому-нибудь режет слух, разве
кто-нибудь ставил под сомнение правомерность этих выражений? А может ли
знание быть объектом оперирования, объектом или продуктом нашей деятельности?
Этот вопрос и сейчас звучит достаточно неожиданно. Что говорить о том уже
далеком времени, когда в официальной философской литературе доминировала теория
отражения, и знание рассматривалось именно с этой и только с этой крайне
примитивной точки зрения. Тогда вопрос Щедровицкого звучал как прозрение и
направлял наше исследование знания в совершенно новое русло. У меня сейчас нет
возможности детально его обсуждать. Но я не уверен, что кто-то и сегодня может на
него удовлетворительно ответить.
Но, послушайте, возразит читатель, знание мы можем проверить, существуют,
следовательно, операции проверки знания. Но значит ли это, что знание становится
объектом оперирования? Допустим, вам сообщили номер телефона нужного вам
учреждения, и вы хотите проверить полученное знание. С каким объектом вы при
этом оперируете? Разумеется, с телефоном, а знание, которое вы проверяете,
определяет характер ваших операций. Разве не парадокс: вы хотите проверить знание, но
действия ваши направлены на телефон, вы хотите управлять знанием, а между тем
оно управляет вами. Но ведь знание мы создаем, не так ли? Мы же постоянно
говорим об авторах тех или иных открытий, законов или теорий. Это достаточно
сложный вопрос. Знание всегда выступает как приспособление уже накопленного в
истории социального опыта к данной ситуации. Это похоже на посадку растения в
нужном для нас месте. Мы же не создаем растение, мы его только высаживаем.
1 Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. Курс лекций. Из архива Г.П.
Щедровицкого. М., 2003. Т. 6. С. 181-182.
135
А вот еще один вопрос из тех же лекций. "Совершенно непонятно, - отмечает
Щедровицкий, - с чем собственно мы действуем, когда складываем числа, - с
значками-цифрами, с объектами, обозначенными в них, или со смыслом чисел"2. Не
такой уж простой вопрос. Но главное - он ориентирует на филигранный анализ
знаковых систем науки, который и до сих пор не так уж и часто встречается в нашей
литературе.
Математик Р.Л. Гудстейн сравнивает арифметику с шахматной игрой, где мы по
определенным заданным правилам перемещаем по доске деревянные фигурки . Эти
деревяшки следует отличать от шахматных фигур типа короля, ферзя, пешки и т.п.
Шахматными фигурами их делают правила ходов; деревяшка становится фигурой,
если она играет на доске соответствующую роль. Эти деревянные фигурки
аналогичны цифрам; цифра становится числом, если мы начинаем оперировать ею по
определенным правилам. Шахматные фигурки можно делать не только из дерева, но и
из других материалов; потеряв какую-либо фигурку, ее можно заменить куском
сахара или спичечным коробком. Главное - это правила игры. Но в такой же степени
и цифры безразличны к материалу, их можно писать на бумаге или доске, а можно
делать из железа или вырубать в камне. Число - это роль цифры в арифметической
игре.
Но так ли все просто? Правила шахматной игры можно изменить, и мы получим
новую игру, которая, возможно, вполне будет иметь право на существование.
А можно ли с такой же легкостью изменить правила арифметики? Можно ли,
например, предположить, что 3 + 2 = 9? Не потеряет ли при этом арифметика своего
смысла и значения? Или другой аналогичный вопрос. Представьте себе, что мы
полностью забыли правила шахматной игры, можно ли их как-то восстановить, если не
осталось никаких воспоминаний и записей? Полагаю, что нет. А вот с арифметикой
дело обстоит совсем иначе, правила арифметики восстановить можно. Но означает
ли это, что, складывая числа, мы оперируем не цифрами, а реальными
множествами, совокупностями каких-то реальных предметов? Неужели, складывая два
пятизначных или семизначных числа, мы имеем дело с реальными совокупностями?
А может быть, мы оперируем и не цифрами, и не объектами, а самими операциями,
комбинируя их различным образом?
Строя свою содержательно-генетическую логику, Щедровицкий должен был
как-то ответить на сформулированные выше вопросы. Он исходил из следующих
положений. Знание - это "замещение" выделенного нами объективного содержания
знаковой формой. Первоначально, практически оперируя объектом X, мы
выделяем в нем некоторую сторону, некоторое содержание, которое и "замещается"
материалом знака. В дальнейшем мы оперируем уже самим знаком, точнее, его
материалом. Итак, объектом наших действий являются либо объекты, либо замещающие их
знаковые формы. Все это легко продемонстрировать на примере с измерением
площади треугольника. Думаю, что гораздо труднее обобщить такую модель на любое
знание за пределами физико-математических дисциплин.
Простейшее знание, которое Щедровицкий называл номинативным, имеет вид
X (А), где X - это некоторое выделенное объективное содержание, (А) -
знаковая форма, а черта обозначает "связь значения". Для того чтобы выделить
указанное объективное содержание, нам надо осуществить операцию "практически-
предметного сравнения", которая складывается, согласно Щедровицкому, из двух
существенно различных действий: первое из них - это сопоставление предмета X с
некоторым эталонным объектом по имени (А), второе - отнесение знака (*А) к
предмету X. "Характер действий сопоставления и отнесения, составляющих операцию
практически-предметного сравнения, - пишет Щедровицкий, - полностью определя-
2 Там же. С. 182.
3 Гудстейн РЛ. Математическая логика. М., 1961. С. 21-23.
136
ет строение полученного номинативного знания, характер связи между его
объективным содержанием и формой."4 Итак, связь значения в выражении X (А)
определяется операцией практически-предметного сравнения, описать эту связь -
это значит описать указанную операцию и ее составляющие. Но не парадокс ли это:
строение знания сводится к некоторой операции его получения. Мы описываем
знание или деятельность?
С парадоксом такого типа мы постоянно сталкиваемся в литературе: анализ
строения теории подменяется описанием процедур либо ее получения, либо
использования. Я думаю, Щедровицкий это понимал. В уже цитированных лекциях 1965 г.
он пишет: "Мы приходим к общему принципиальному вопросу: что собственно
должно рассматриваться в качестве продукта мыслительных операций? Здесь
выясняется прежде всего, что в этой области очень трудно говорить о собственно
процессах (операциях) и продуктах. Вообще надо сказать, что выделение продукта и
процесса происходило при анализе больших, длинных текстов. А в операции не
оказывается ничего подобного..."5.
Думаю, что как раз в этом пункте Щедровицкий и не заметил очень важную
"развилку дорог". Впрочем, и я тогда был очень далек от того, чтобы обратить на нее
внимание. Допустим, мы осуществили с объектом X операцию сопоставления с
эталоном (ΧΔ в обозначениях Щедровицкого) и присвоили X на этом основании имя
(А). Что мы имеем в качестве продукта? Щедровицкий прав, когда пишет: "Мы не
можем сказать, что (А) есть продукт ΧΔ"6. Продуктом, однако, является здесь сама
операция номинации, взятая в функции образца. "Практически-предметное
сравнение" предполагает определенную ситуацию коммуникации, оно приобретает
значимость только в том случае, если его начинают воспроизводить другие члены
сообщества. Именно это воспроизведение, т.е. функционирование исходного акта в
качестве образца и является здесь продуктом. Думаю, что та "развилка" имела свои
последствия. Меня она привела к концепции социальных эстафет, но только через
десять лет после лекций Щедровицкого, в которых была уже сформулирована сама
проблема.
Интересно, что где-то в начале 80-х гг. Щедровицкий признался, что для анализа
знания у него пока нет средств. "А что содержательно-генетическая логика не
прошла?" - спросил я. "Да, вероятно", - произнес он с такой интонацией,* словно ему не
хотелось отвечать на этот вопрос. А где-то уже в самом конце 80-х он неожиданно
попросил у меня мою книгу 1977 г. об эмпирическом исследовании научных знаний.
"Мне кажется, - сказал он, там можно кое-что использовать". Что он имел в виду, я
так, к сожалению, и не узнал.
Согласитесь, Георгий Петрович Щедровицкий умел задавать вопросы и вопросы
интересные, подталкивающие к исследованию и, несомненно, обогащающие
проблемный мир эпистемологии. И уже этого, полагаю, достаточно для признания его
заслуг перед нашей отечественной да и мировой философией. И что еще характерно
для Щедровицкого как исследователя - это четкость и простота тех моделей,
которые он строил уже в первых своих работах. Он не облекает свои мысли в словесную
шелуху, как это делают очень многие, он смело расставляет точки над i. Именно
поэтому он доступен критике, что, несомненно, согласно К. Попперу, является
признаком подлинного ученого.
И все же не в этом главная тайна Щедровицкого. Главное - это грандиозность
задачи, которая постепенно созревала в ходе его работ - построить мышление как со-
4 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 593.
5 Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. Курс лекций. Из архива Г.П.
Щедровицкого . Т. 6. С. 205.
6 Там же.
137
циальный процесс, построить в стране социальную индустрию мышления.
Попробуем показать, как это происходило.
Страничка воспоминаний
Я впервые встретился со Щедровицким на симпозиуме в Томске в 1960 г. Нельзя
было не обратить внимания на молодого стройного человека с тяжелейшим
магнитофоном "Мелодия". Весил он, кажется, килограмм 30. И эту тяжесть он привез в
Томск из Москвы и приносил на каждое заседание, чтобы записывать доклады!
Было совершенно очевидно, что на симпозиумы он ездил не отдыхать.
Мы с ним тогда очень быстро нашли общий язык. Я ставил перед собой задачу
построить логику (эпистемологию) как эмпирическую науку на базе анализа
научных текстов. Он свою задачу формулировал аналогичным образом. Как сейчас
очевидно, оба мы были тогда большими "нахалами" и претендовали ни много ни мало
как на создание новой научной дисциплины. У него в активе уже было довольно
много работ, и в том числе статьи о строении атрибутивного знания, которые мне
тогда очень понравились. Он тут же вручил мне список своих публикаций, и мы
договорились работать вместе.
В номере гостиницы, где он жил, каждый вечер собиралась группа его
приверженцев. Приглашали и "чужаков". Когда я попал на одно из таких заседаний, Щед-
ровицкий предложил обсудить какую-либо проблему "по кругу". Правила "игры"
сводились к следующему: все рассаживались в кружок, а сам хозяин занимал место в
центре, предоставляя слово всем по очереди и организуя обсуждение. Делал он это
мастерски, не позволяя уклоняться от заданной проблемы, постоянно ее обостряя и
подводя краткие итоги. Тему предложили назвать мне. Я назвал : "Эксперимент и
наблюдение". "Твое первое слово", - сказал Щедровицкий. "Представим себе, -
начал я, - что первобытный человек подходит к реке и, видя плывущую ветку или
щепку, определяет направление течения. Это наблюдение. Но если он осознал
происходящее и сам бросает щепку в реку для определения течения, то это
эксперимент". "Отлично! - подхватил Щедровицкий. - Эксперимент - это продукт
рефлексии!" И он тут же передал слово следующему.
Невозможно сейчас восстановить все детали этого обсуждения, но помню, что
оно произвело на меня очень сильное впечатление. Тема на глазах обрастала
фактами и соображениями. Завораживала коллективность действия, ощущение того, что
ты включен в какой-то мощный поток объективного развития мысли.
Щедровицкий, находясь в центре, не позволял потерять ни одного тезиса и не допускал
"сольных партий", в которых автор игнорировал уже сказанное. "Мы набрали материал
на целый сборник статей", - сказал он, завершая обсуждение, и тут же
сформулировал ряд тем, распределив их между участниками. Сборник, разумеется, так и не был
написан. Но все, как мне кажется, разошлись уже поздно ночью, вдохновленные
этой идеей. Думаю, что уже здесь было в зародыше то, что составляет главную
тайну Щедровицкого.
Томский симпозиум 1960 г. вообще был преисполнен романтических настроений.
На арену выходило новое философское поколение, и оно вовсе не собиралось
плестись по следам "стариков". Оно не страдало излишней скромностью и не собиралось
поклоняться мумиям. Понимая абсолютную бесплодность безликого советского
марксидства, оно претендовало по меньшей мере на свое собственное лицо. Но тут
пути расходились. Можно было предпринимать отчаянные попытки как-то
присоединиться к уже сложившимся традициям современной западной философии, можно
было ступить на стезю собственных поисков. Щедровицкий принадлежал к тем, кто
выбрал второй путь. И на этом пути он был, как мне представляется, самой яркой
фигурой.
У него тогда уже работал семинар, так называемый Московский
методологический кружок. И это был "злой" семинар, где на заседаниях придирались чуть ли не к
каждому слову выступающего. Он не был похож на наши "академические" семина-
138
ры, где, выслушав доклад, вяло задают вопросы, а в выступлениях прежде всего
хвалят докладчика. Такие семинары - это семинары равнодушных людей. Семинар Ще-
дровицкого был нацелен на постановку и решение проблем, он напоминал описанное
мной обсуждение "по кругу". Щедровицкий создавал кружок единомышленников для
реализации коллективного целенаправленного поиска. Все доклады записывались
на магнитофон и перепечатывались, постепенно накапливался огромный архив.
Георгий Петрович периодически делал итоговые доклады. Это был
интеллектуальный конвейер.
Об интенсивности его работы говорит хотя бы следующий слегка анекдотичный
эпизод. Где-то в конце 60-х годов Щедровицкий сказал мне, что очень хочет издать
собрание своих сочинений хотя бы в машинописном виде в трех-четырех
экземплярах. "Так в чем же дело?" - спросил я. "Дело в деньгах. Денег нет". Я тогда неплохо
зарабатывал и тут же предложил свою помощь. Глаза Щедровицкого сощурились, и
он посмотрел на меня с презрительным вызовом: "А ты представляешь себе, о
каком объеме идет речь? Я пишу примерно 60 страниц в день!" Я, разумеется, застыл с
открытым ртом. Подозреваю, что он несколько преувеличивал свою
продуктивность, но не очень, если учитывать все перепечатанные с магнитофона лекции и
выступления.
Передавалась из уст в уста и такая легенда. Когда Щедровицкий ехал в метро на
работу, то на каждой станции его ожидал очередной ученик. Георгий Петрович
разговаривал с ним и давал ценные указания до следующей станции, где в вагон входил
другой. Легенда легендой, но один знакомый лингвист рассказывал мне, что
однажды Щедровицкий провожал его до метро и, остановившись у турникета, продолжал
говорить, приводя какой-то пример с пищеварением. Возможно, речь шла о
знаменитой фразе Гегеля, что логика не учит мыслить, так же как физиология не учит
переваривать. Когда Щедровицкий ушел, дежурная у турникета сказала моему
знакомому: "Вы знаете, он ненормальный: он здесь уже третьему человеку рассказывает
о своем пищеварении".
Индустрия мышления
Московский методологический кружок, несомненно, был уникальным явлением.
Думаю, что, будучи физиком по образованию, Щедровицкий пытался перенести в
гуманитарную науку активный, бойцовский стиль физических семинаров. Сейчас
спустя много лет необходимо осознать, в каких условиях это происходило. В стране
десятилетиями разрушали социальный механизм мышления, механизм дискуссий и
обсуждений, механизм организации общественного мнения, механизм подключения
каждого к конкуренции идей и действий. Идеалом было общество, состоящее из
отдельных "винтиков", каждый из которых аккуратно выполняет свои функции в
социальной машине, управляемой неким вождем, который якобы знает, куда
поворачивать баранку. Годами вбивали в голову, что стратегия и тактика нашего развития
разрабатывается прежде всего в докладах генеральных секретарей.
Но ведь мышление, согласно Выготскому, это интериоризация спора, интерио-
ризация дискуссий. Представьте себе такую ситуацию: прекращены все шахматные
соревнования, нет ни турниров, ни матчей, ни публикаций партий крупных
шахматистов. Будут ли развиваться шахматы, т. е. шахматная теория, шахматное мышление?
Вероятно, нет, хотя любители и будут продолжать играть у себя дома в семейном
кругу. Думаю, что будут они играть все хуже и хуже. Ясно, что шахмать1 - это не
только любительская игра, но и некоторый социокультурный процесс. Так и
мышление вообще, мышление в любой конкретной области. Оно требует определенной
социальной среды, можно с полным правом говорить об экологии мышления.
Поднять интеллектуальный уровень - это значит создать определенный
социокультурный механизм, предусматривающий равноправное столкновение идей, их фиксацию
и распространение, их обоснование и опровержение. Напротив, разрушить такой
механизм - это значит постепенно разрушить и мышление. И не следует думать, что
139
такое разрушение вполне обратимо и сулит меньшие беды, чем уничтожение
животных и растений и вообще экологических структур. Мы просто не привыкли
обращать на это внимание, мы еще полагаем, что мышление присуще человеческому
индивиду самому по себе.
Я не знаю, осознавал ли это Щедровицкий или не осознавал, но фактически он
решал задачу восстановления в нашей философии и в наших гуманитарных науках
вообще "социальной индустрии мышления". Московский методологический кружок
был зародышем такой "индустрии". Он быстро эволюционировал. Первоначально
на семинаре обсуждались проблемы, связанные с теорией знания и мышления, затем
тематика сильно расширилась за счет теории деятельности, проблем философии
науки и за счет методологических проблем целого ряда социальных дисциплин.
Семинар терял узкую предметную ориентацию, и все больше функционировал как форма
коллективного мышления при решении проблем, как средство решения этих
проблем. Он становился образцом коллективной "мыследеятельности".
Параллельно зарождалась идея глобальной системнодеятельностной
методологии, и методологический аспект занимал в работе семинара все более и более
значительное место. Щедровицкий в принципе не принимал результатов, полученных
непонятно как. Подобно Декарту, он полагал, что лучше совсем не познавать, чем
познавать без метода. Когда я показал ему рукопись моей первой книги об абстракции
и спросил его мнение, он сказал: "Богатое эмпирическое видение при полном
отсутствии средств". "Так, может, ее не печатать?" - спросил я. "Обязательно печатать!
Мне будет кого критиковать!" Другой разговор состоялся по поводу истории учения
об электричестве. Я пытался показать, что многие открытия представляют собой
побочные результаты эксперимента. "Если это так, это не интересно, - сказал
Щедровицкий. - Это значит, что мы ничего не можем предвидеть. А нам нужен
продуктивный метод".
Щедровицкий везде активно вербовал сторонников, пропагандируя московский
семинар. При этом, как мне кажется, он пытался внедрять не столько свои идеи,
сколько способ коллективной работы. Семинар, который я организовал в
Новосибирске, он считал своим филиалом, но очень мало интересовался содержанием его
работы. Во всяком случае он почти никогда не разговаривал со мной по поводу тех
или иных научных проблем. Моей жене он как-то сказал: "Хорошие отношения с
Мишей мне важней теоретических разногласий". Это, разумеется, меня возмутило,
ибо, во-первых, я всегда ставил на первое место научные проблемы, а во-вторых,
никогда не смешивал серьезные научные разногласия с личными отношениями. Но
для Щедровицкого было важно нечто другое. Похоже, он пытался покрыть всю
страну сетью методологических семинаров. Это, разумеется, отмечал не только я. В
узком кругу иногда говорили, что под видом семинаров Георгий Петрович пытается
создать мощную политическую организацию, что семинары - это только маскировка.
Думаю, что это не так. Задача была в другом. Щедровицким управляли две
достаточно глобальные идеи. Первая заключалась в том, что XX век - это век
инженерии, век проектирования. Но любая инженерная деятельность полипредметна,
полипредметна в том смысле, что для создания любого проекта, например, проекта
моста, нужно знать не только строительную механику, сопротивление материалов,
материаловедение и прочие технические дисциплины, но и геологию,
грунтоведение, экономику и т.д. В связи с этим Щедровицкий неоднократно говорил о
"разложении научных предметов", о создании новых систем знания. Речь в конечном счете
шла о создании глобальной методологии как особого типа мышления. Вот, что он
писал в 1981 г.: "Суть методологической работы не столько в познании, сколько в
создании методик и проектов, она не только отражает, но также и в большей мере
создает, творит заново, в том числе - через конструкцию и проект. И этим же
определяется основная функция методологии: она обслуживает весь универсум
человеческой деятельности прежде всего проектами и предписаниями. Но из этого
следует также, что основные продукты методологической работы - конструкции, проек-
140
ты, нормы, методические предписания и т.п. - не могут проверяться и никогда не
проверяются на истинность. Они проверяются лишь на реализуемость. Здесь
положение такое же, как в любом виде инженерии или архитектурного
проектирования"7.
Увы, но сам Георгий Петрович чаще всего не проверял свои проекты указанным
способом. Свою конечную задачу он, вероятно, видел именно в методологическом
проектировании, включая и проектирование самой методологии. Я как-то упрекнул
его в том, что он сам не реализует своих собственных программ. "Да, - согласился
он. - Вероятно, я сам сделал бы это лучше, но я предпочитаю давать работу другим".
Он, кажется, верил, что методолог должен занять в обществе одно из ведущих мест.
Это напоминало платоновскую утопию. Но однажды, сидя рядом со мной на
заключительном банкете после симпозиума по кибернетике в Тбилиси и глядя на набитый
людьми ресторанный зал, он сказал с горечью: "Мы, методологи, им не нужны, они
все сделают сами, потому что их много и у них много времени".
Вторая его идея - это идея коллективной "мыследеятельности", идея организации
социальной "индустрии" мышления. Он придавал этому принципиальное значение. Как-
то, встретившись со мной в начале 80-х г., он сказал: "Ты - кабинетный ученый XIX
века. Ты отстал от жизни. Сейчас науку делают коллективы". Методология должна была
определить средства и целевые установки этой интеллектуальной работы, но эту
работу надо было еще организовать в форме массовой деятельности. И здесь московский
семинар, который первоначально имел достаточно четкую предметную направленность,
а затем постепенно стал формой обсуждения широкого круга методологических
проблем, стал для Щедровицкого образцом и объектом изучения. Участники шутили, что
семинар превратился в стриптиз методолога перед зеркалом. Опыт семинара
показывал, что мышление предполагает определенные организационные формы. Это,
во-первых. А во-вторых, он свидетельствовал, что при расширении предметной области
организационное единство можно сохранить только за счет методологической ориентации.
Две идеи Щедровицкого были тесно связаны друг с другом.
Однако задача организации социальной "индустрии" мышления оказалась
отнюдь не более простой, чем задача создания или восстановления индустрии без
кавычек. У нас и сейчас процветают "беззубые" семинары без жесткой фиксации
результатов, без преемственности обсуждений. Чаще всего каждый занят своим
делом, не очень интересуясь результатами коллег. Имеет место атомизация научного
сообщества. И в этих условиях мы постоянно теряем идеи, происходит
разбазаривание не только природных, но и информационных ресурсов в области науки и
философии. Увы, но это старая беда нашего научного сообщества, которое не признает
"пророков" в своем отечестве.
Первоначально Щедровицкий пытался решить свою задачу за счет участия
своего коллектива в философских симпозиумах и конференциях. Здесь он продолжал
вести себя так же, как и на собственном семинаре. Он задавал трудные и острые
вопросы, требовал, чтобы докладчик четко сформулировал свои тезисы и предъявил
метод своей работы. Мне он как-то сказал: "Ты неправильно себя ведешь на
конференциях. Ты готовишь дома доклад, который и делаешь. А надо выбрать на
конференции основного докладчика, выступить против него, развернуть дискуссию...
Твой тезис не так уж и важен, важно, чтобы ты в дискуссии победил. Тогда все
пойдут за тобой". Сам он проделывал это неоднократно.
Его деятельность за пределами семинара многих раздражала. Солидные доктора
наук, полные чувства собственного достоинства, терялись и мямлили что-то
неопределенное в ответ на его вопросы. Раздражало и то, что на конференциях
Щедровицкий появлялся в окружении своих молодых учеников, которые очень быстро
усвоили внешний рисунок его поведения. Их воспринимали как цепную свору, способную
7 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 95
141
облаять любого докладчика. Традиционное философское сообщество стояло перед
старой дилеммой: либо начать мыслить, либо изгнать новоявленного Сократа. И его
изгнали, почти перестав приглашать на симпозиумы и конференции. Так было
спокойней. Хорошо, что обошлось без цикуты.
Мне кажется, что, оказавшись в полной изоляции, семинар начал постепенно
деградировать. "Варка в собственном соку" привела к созданию терминологии,
которую уже никто не понимал за пределами семинара. У постоянных участников
появилось ощущение своей избранности, свойственное любым сектантам. План создания
социальной индустрии мышления явно проваливался. Но это был грандиозный план,
который лично у меня вызывает восхищение. Мне кажется, Щедровицкий четко
осознавал свою неудачу, и именно поэтому в своих последних выступлениях он
довольно часто резко и зло критиковал интеллигенцию. Впрочем, не исключено, что я
здесь ошибаюсь, не имея достаточных данных. Московский методологический
кружок и его эволюция - это интересный объект не только для
историко-философского, но и для социологического исследования.
И вот здесь появилась идея организационно-деятельностных игр - еще одна
глобальная идея Щедровицкого. С точки зрения его самого, идея эта базировалась на
трех основных "китах": 1. Марксистская теория деятельности. 2. Практика
проведения методологических семинаров. 3. Психолого-педагогические исследования игр
детей8. Это была еще одна грандиозная попытка организации коллективной "мыс-
ледеятельности", организации социальной индустрии мышления. Важно понять, что
она органически вытекала из всей предыдущей деятельности Георгия Петровича.
Зародыши этой идеи были уже в том обсуждении "по кругу", в котором я участвовал
в 1960 г. Игра организовывалась таким образом, чтобы каждый был втянут в
активный процесс мышления. Участников разбивали на небольшие группы. В каждой
группе усилиями организаторов (методологов и игротехников) возбуждалась
дискуссия по обсуждаемой проблеме. Никто не мог отсидеться или замкнуться в рамках
собственной позиции, ибо постоянно ставилась задача подведения итогов и
рефлексии по поводу происходящего. Итоговые доклады на общем собрании готовили все
участники. По моим наблюдениям, на многих участие в такой игре производило
потрясающее впечатление. Они никогда так активно не мыслили или не мыслили
вообще, и вот их втянули в этот процесс, и они, уверовав в себя, почувствовали всю
прелесть реализации этой высшей способности человека.
Увы, но организационно-деятельностные игры, как мне представляется, очень
быстро превратились в коммерческие мероприятия, в эффективное средство
добывания денег. Я думаю, это был честный заработок, но произошла смена задач,
некоторое рефлексивное переключение: основная задача стала побочной, побочная -
основной. Это, вообще говоря, некоторая общая закономерность в жизни Социума.
Мышление как образ жизни
"Мышление - это образ жизни". Удивительно лаконичная и емкая формула,
принадлежащая Щедровицкому. Я думаю, что одной этой фразы достаточного для того,
чтобы войти в историю. Я никогда не слышал ее из уст самого Георгия Петровича,
но до меня донесли ее его ученики. Я сам неоднократно говорил нечто подобное
своим студентам и аспирантам, но никогда мне не удавалось выразить это столь ясно и
лаконично. Я не знаю, как раскрывал и развивал эту мысль сам Щедровицкий, и
поэтому изложу это в своей интерпретации.
В "Истории моего современника" В.Г. Короленко описан следующий эпизод.
В гимназию приезжает новый учитель словесности Вениамин Васильевич Авдиев.
Все его ждут с любопытством и нетерпением. И вот первый урок, первое
знакомство и вдруг совершенно неожиданный вопрос: "Подумайте каждый про себя и скажите: вы
8 Там же. С 117.
142
когда-нибудь в своей жизни мыслили!". Это была обида. В классе поднялся легкий ропот.
"Все думаем, то есть мыслим", - ответило несколько голосов задорно. Учитель начинал
раздражать. "Думаете", - передразнил он, поведя плечом. - Вы вот думаете: скоро ли
звонок? И тоже думаете, что это-то и значит мыслить. Но вы ошибаетесь".
А действительно, как проверить, мыслите вы или нет? Можно поставить над
собой такой довольно простой эксперимент. Заведите тетрадь и каждый вечер
записывайте, о чем вы думали и к каким результатам пришли. В чем суть интересующей
вас проблемы, какие вы выдвигали предположения, какие анализировали факты,
почему те или иные из ваших гипотез не прошли. Мышление не может быть
нерезультативным, оно должно оставлять следы. Но допустим, что записать вам
решительно нечего. Значит, вы и не мыслите.
Не бросайте, однако, ваш эксперимент, продолжайте каждый вечер лихорадочно
вспоминать, какие проблемы вы обсуждали. Это прекрасный автостимулятор. Не
исключено, что вы действительно постепенно начнете каждый день раскручивать в голове
какую-либо проблему. Ваши вечерние записи станут все длинней и длинней, в ходе самих
этих записей начнут появляться новые мысли. Не исключено, что у вас уже не будет
времени все записать, ибо сам процесс записывания превратился в процесс мышления. Тут
как раз вы и заметите, что целиком изменился и ваш образ жизни. Ваш
интеллектуальный дневник целиком подчинил вас себе, вы работаете на него. Ваши проблемы не будут
оставлять вас ни в метро, ни во время прогулки, ни в период летних отпусков. Вы заведете
записную книжку, чтобы не забыть ту или иную деталь или оттенок мысли, вы
превратитесь в золотоискателя, собирающего свое богатство по крупинкам. Вы обнаружите,
наконец, что те или догадки или предположения, их подтверждение или опровержение
являются основными вехами вашей жизни.
Мышление, как писал еще Платон, это разговор или спор с самим собой.
Необходимо дополнить его внешним общением. Это примерно так, как и в шахматах, где есть
практическая игра, а есть домашний анализ и домашние заготовки. Не исключено, что
заранее подготовленный вами вариант противник опровергает прямо за доской. Просто
он мыслит чуть-чуть иначе. Необходима поэтому организация "внешних компонентов
мышления". В шахматах - это турниры или матчевые встречи, в сфере науки или
философии - это лекции, семинары, дискуссии. Аудитория - это ваш соавтор в процессе
мышления. Но соавтор, как и партнер в шахматах, должен быть активным, он должен
стремиться к выигрышу. Иначе он не принесет вам никакой пользы. И вот оказывается,
что ваш образ жизни дополняет еще одна компонента - вы организуете семинар.
Георгий Петрович Щедровицкий - это яркий образец жизни, целиком отданной
мышлению. Этому было подчинено все, что он делал, это было стержнем его
жизни. Все остальное просто несущественно. Говоря, что мышление - это образ жизни,
он, конечно же, говорил о себе. И он всеми силами пытался научить мыслить
других. Люди, к сожалению, не всегда этого хотят.
* * *
Что же представляет собой Г.П. Щедровицкий? Да, он был блестящий оратор.
Да, он умел видеть тайну в обыденном и привычном и умел ставить проблемы. Да,
он оставил ряд концепций, мимо которых нельзя пройти. Может быть, некоторые
концепции уже не живут сейчас, но на каждой из них можно написать, как и на
могиле знаменитых спартанских гоплитов: "Путник, извести Спарту, что здесь мы в
могиле лежим, честно исполнив закон". Щедровицкий был честный и
последовательный мыслитель. И он писал не потому, что необходимо было защищать
диссертацию или составлять отчеты, а потому, что хотел донести до читателя итоги своей
неустанной интеллектуальной работы. Но главное - это его дерзкий замысел построить
социальную индустрию мышления, которую целенаправленно разрушали так
называемые большевики. Я преклоняюсь перед этим замыслом. Думаю, что Георгий Петрович, к
сожалению, потерпел поражение, но это было поражение Прометея.
143
Эволюция взглядов и особенности
философии Г.П. Щедровицкого
В. М. РОЗИН
23 февраля 2004 г. Георгию Петровичу Щедровицкому исполнилось бы 75 лет.
При жизни ему не удалось в полной мере изложить свои философские взгляды, но
после его смерти благодаря усилиям его семьи и учеников работы Щедровицкого
были изданы, и поэтому, опираясь на них, можно воссоздать основные особенности
и характер его философии. Приступая к решению это непростой задачи, я
постараюсь реализовать два следующих принципа: опираться на эмпирический материал и
факты (в данном случае опубликованные тексты Щедровицкого); реконструировать
не только взгляды Щедровицкого, но и особенности реальной мыслительной
работы, которую он в этот период осуществлял (с тем чтобы сравнить первое со
вторым), т.е. я хочу понять взгляды Щедровицкого не сами по себе, а в контексте его
опыта мышления.
Программа исследования мышления. В начале 1950-х г. группа молодых
талантливых философов (A.A. Зиновьев, Г.П. Щедровицкий, М.К. Мамардашвили,
Б.А. Грушин) приступила к изучению мышления К.Маркса. "Для нас логическая
сторона "Капитала", - пишет Мамардашвили, - если обратить на нее внимание, а мы
обратили - была просто материалом мысли, который нам дан как образец
интеллектуальной работы. Это не марксизм, это текст личной мысли Маркса, текст
мыслителя по имени Маркс... я лично прошел не через марксизм, а через отпечаток,
наложенный на меня личной мыслью Маркса..." [2, с. 48^9].
От мышления Маркса Зиновьев со товарищи перешли к анализу научного
мышления, имея целью не только понять его, но также выработать логические
представления и императивы для реформирования современного мышления. При этом, если
Зиновьев склонялся к представлению исследования мышления в виде сложного
диалектического процесса восхождения от абстрактного к конкретному, стремился
понять мысль Маркса как его попытку воссоздать в знании сложное, органическое
целое, не упуская ни одной из его сторон, то Щедровицкий пошел по другому пути.
Вероятно, первое естественно-научное образование Щедровицкого, да и общий
дух эпохи, предопределили его отношение к мышлению. Идея историзма
сохраняется, но изучение мышления теперь понимается в значительной мере как
исследование по образцу естественной науки. Формулируются тезисы: логика - это
эмпирическая наука, а мышление - процесс и мыслительная деятельность, которые подлежат
моделированию и теоретическому описанию. Вокруг Щедровицкого в этот период
144
объединяются исследователи (И.С. Ладенко, Н.Г. Алексеев, В.А. Костеловский,
Б.В. Сазонов и др.) с близкими естественнонаучными установками.
Тем не менее речь все же шла о логике, а не о построении естественной науки.
Собственно логическая и философская установки отлились в идею исторического
анализа мышления, в требование рефлексии собственного мышления и логического
контроля исследований, которые в этот период велись. Нужно также отметить, что
деятельность представители "содержательно-генетической логики" (так назвали
свой подход участники семинара Щедровицкого) понимали частично
психологически, но больше по Марксу, как общественную практику, главную роль в развитии
которой играют сами люди. Одновременно свою роль в науке они истолковывали в
рамках философской традиции, идущей от Аристотеля через Ф. Бэкона и Декарта
вплоть до Канта, а именно как творцов норм мышления. За этим стояли
представления об единой мыслительной реальности и методах, которые строятся на основе
законов мышления.
Если Аристотель и Кант, чтобы оправдать эти претензии, апеллировали к тому,
что через них действует сам Разум (Бог), то представители
содержательно-генетической логики были абсолютно уверены, что они, подобно Марксу, носители
революционного мышления. Эта позиция подкреплялась также ориентацией на
естественную науку (в связи с чем, возможно под влиянием ранних методологических работ
Л.С. Выготского, формулировалась программа построения логики как точной
эмпирической науки); известно, что естественнонаучный подход предполагает принятие
единой реальности (идея природы) и описывающих ее законов, на основе которых
создается инженерная практика.
В первой программе этого коллектива, которую задним числом можно назвать
"методологической", были зафиксированы как перечисленные идеи, так и
результаты их реализации (схема двухплоскостного строения знания, представление
мыслительного процесса в виде "атомов" мышления - конечного набора операций
мышления, сведение операций к схемам замещения и т. п. [6]). Если сравнить этот результат с
исходным замыслом Зиновьева, то налицо разительное отличие: мышление было
представлено не как сложное органическое целое, а в виде естественнонаучной онтологии.
Оно разбивалось на процессы, процессы на операции, каждая операция изображалась с
помощью структурной схемы, напоминающей по форме химическую, а. исторический
процесс развития мышления сводился к набору структурных ситуаций (разрыв в
деятельности, изобретение знаковых средств, позволяющих преодолеть этот·разрыв,
образование на основе знаковых средств новых знаний и операций мышления).
Все это действительно позволяло вести эмпирическое исследование мышления,
но мышления, взятого лишь со стороны объективированных знаковых средств и
продуктов. По сути, анализировалось не мышление как форма сознания и
индивидуальной человеческой деятельности, а "вырезанная" (высвеченная)
естественнонаучным подходом проекция объективных условий, определяющих мышление; эта
проекция и называлась "мыслительной деятельностью".
Обратим внимание на две особенности работы того периода. Выступая против
формальной логики, Щедровицкий видел преимущество и даже пафос
содержательно-генетической логики, с одной стороны, в деятельностной ее трактовке,
позволяющей по-новому анализировать форму и содержание знания (они сводились к
объектам и операциям), с другой - в семиотической трактовке мышления. В
соответствии с последней мышление понималось как деятельность со знаками, позволяющая
схватывать результаты сопоставления объектов знания с эталонами (так
определялось содержание знания) в определенной форме (знаковой) и затем действовать с
этой формой уже как с целостным самостоятельным объектом.
Другими словами, деятельностная и семиотическая трактовки мышления
фактически были исходными, но до поры до времени рассматривались как способы
описания мышления, а не основная изучаемая реальность. Анализ ранних работ
Щедровицкого показывает, что семиотическая трактовка мышления во многом сложилась
145
под влиянием идей Л.С. Выготского. В работе 1957 г. "Языковое мышление" и его
анализ" Щедровицкий, с одной стороны, критикует Выготского, но с другой -
заимствует, естественно видоизменяя, его представление о мышлении [7].
Второе обстоятельство, определившее формирование первой программы,
связано с логикой работы будущих методологов. Как я старался показать на первых
"Чтениях", посвященных памяти Г.П. Щедровицкого, при создании схем и понятий
содержательно-генетической логики содержательно-генетические логики
субъективно руководствовались поиском истины и желанием понять природу мышления,
однако объективно (т.е. как это сегодня видится в реконструкции) решающее
значение имели, с одной стороны, способы организации коллективной работы - жесткая
критика, рефлексия, обсуждения, совместное решение определенных задач и т.п., с
другой - возможность реализовать основные ценностные и методологические
установки самих исследователей - естественнонаучный подход, деятельностный подход,
семиотический, исторический, социотехническая установка и др. Не должны ли мы,
следовательно, предположить, что характер мышления "раннего Щедровицкого"
был обусловлен не только проводимыми исследованиями, естественнонаучными и
логическими установками, но и ценностями и особенностями того уникального
сообщества ("союза" преданных идее людей), который в тот период сложился.
Программа исследования деятельности. На следущем этапе, начиная с
середины 60-х г7, задача построения науки о мышлении Щедровицким на время
отставляется в сторону и ставится новая - построения "теории деятельности". При этом
казалось, что поскольку мышление - это один из видов деятельности, то создание такой
теории автоматически позволит описать и законы мышления (правда, выяснилось,
пишет Щедровицкий в 1987 г., "что анализ деятельности ведет совсем в другом
направлении и сам может рассматриваться как ортогональный к анализу мышления и
знаний") [8, с. 282].
Но в середине 60-х это еще не выяснилось, напротив, Щедровицкий считает, что
единственной реальностью является деятельность, которую можно не только
исследовать, но и организовывать, и строить. Почему в качестве реальности берется
деятельность? С одной стороны, потому, что представители
содержательно-генетической логики считали мышление видом деятельности. С другой - потому, что в жизни
они по отношению к себе и другим специалистам отстаивали активную
марксистскую и одновременно нормативную позицию. С третьей стороны, к деятельности
вел анализ механизмов развития знаний и мышления; в работе "Предмет изучения
структуры науки" вместе с A.C. Москаевой я старался показать, что именно эти
механизмы были опознаны как деятельность [4].
Но все же главным, как мне видится сегодня, было другое обстоятельство -
переход Щедровицкого к новому типу работы. Практически прекратив исследование
мышления, он осуществляет методологическую экспансию в духе Выготского (см.,
например, статью последнего "Исторический смысл психологического кризиса
(методологическое исследование)") в нескольких областях: языкознании, педагогике,
науковедении, дизайне, психологии. Те, кому удалось видеть эту работу, вероятно,
запомнили блестящие выступления и доклады Щедровицкого во, второй половине
60-х и 70-е гг. Как правило, его выступления были построены по следующему
сценарию. Анализировалась познавательная ситуация в соответствующей дисциплине.
Подвергались острой критике подходы и способы мыслительной работы,
характерные для этой дисциплины, и утверждалось, что она находится в глубоком кризисе.
Затем предлагалась новая картина дисциплины и намечалась программа ее
перестройки и дальнейшего развития.
При этом всегда осуществлялся методологический поворот: от предметной
позиции Щедровицкий переходил к анализу мышления, деятельности, понятий, ситуаций
и пр. Например, от исследования психики, чем занимается психолог, к анализу того,
как психолог мыслит и работает, какими понятиями пользуется, какие идеалы науки
исповедует, какие задачи решает психологическая наука и что это такое и т.д и т.п.
146
Щедровицкий не только заставлял своих слушателей обсуждать несвойственные им
разнородные реалии (процедуры мышления, понятия, идеалы, ценности, ситуации в
дисциплине и пр.), но и предлагал новый синтез этих реалий, новое их понимание. В
процессе анализа ситуаций в дисциплине и синтеза обсуждаемых реалий
происходила реализация указанных выше ценностей и установок - исторического и деятельно-
стного подхода, идеи развития, естественнонаучного идеала, социотехнического
отношения и т.д. Иначе говоря, научный предмет заново задавался именно с опорой на
эти ценности и установки.
Но почему, спрашивается, специалисты должны были следовать за Щедровиц-
ким, вместо своих объектов изучения переключаться на незнакомые им реалии,
принимать предлагаемый синтез? Понятно, что одного обаяния Георгия Петровича
здесь было недостаточно. Необходимо было подкрепить осуществляемую
экспансию указанием на саму реальность. Однако посмотрим, какие к ней предъявлялись
требования. Во-первых, новая реальность должна была переключать сознание
специалиста со своего предмета на рефлексию его мышления и работы. Во-вторых,
нужно было, чтобы эта новая реальность позволяла реализовать перечисленные
ценности и установки содержательно-генетической логики. В-третьих, переключала
на разнородные рефлексивные реалии. В-четвертых, склоняла к новому пониманию
и синтезу этих реалий.
Если вспомнить, что мышление в содержательно-генетической логике уже было
связано с деятельностью, что деятельность понималась, еще со времен Выготского
и Рубинштейна, одновременно и как изучаемая реальность, и как деятельность
исследователя и практика, преобразующего реальность, что после Гегеля и Фихте
деятельность получила эпистемологическое истолкование (в ней порождались и
феномены сознания и понятия, и знания), то опознание (полагание) Щедровицким новой
реальности как деятельности вряд ли может удивить.
Не логика, а методология. Поскольку нормирование и организация мышления
других специалистов рассматривались в тот период как главное звено работы, как
деятельность, приводящая к развитию предметного мышления, суть мышления
стали видеть именно в деятельности. Постепенно деятельность стала пониматься как
особая реальность, во-первых, позволяющая развивать предметное мышление (в
науке, инженерии, проектировании), во-вторых, законно переносить знания,
полученные при изучении одних типов мышления на другие типы мышления.
Теоретико-деятельностные представления о "пятичленке" (структуре,
содержащей блоки "задача", "объект", "процедура", "средства", "продукт"), о кооперации
деятельности и позициях в ней (например кооперации "практика", "методиста",
"ученого", "методолога"), блок-схемное представление "машины науки", схемы
воспроизводства деятельности и другие (смотри [9]) позволили Щедровицкому, во-первых,
объяснять, почему происходило развитие тех или иных процессов мышления и
появление в связи с этим новых типов знаний, во-вторых, использовать все эти схемы и
представления в качестве норм и организационных схем по отношению к другим
специалистам. Предписывающий и нормативный статус таких схем и представлений объяснялся и
оправдывался, с одной стороны, тем, что они описывают деятельность и мышление
специалистов (ученых, проектировщиков, педагогов, инженеров и т.д.), с другой -
необходимостью проектировать и программировать эту деятельность в целях ее развития.
А как теперь должна была пониматься работа самого Щедровицкого и членов
его семинара, ведь вместо разработки норм мышления они перешли, к проектам
развития научных предметов и дисциплин? Вот здесь и выходит на свет идея
.методологии как программа исследования и перестройки деятельности (включая мышление
как частный случай деятельности), внутри в самой деятельности. Именно на этом
этапе, начиная со второй половины 60-х гг., Щедровицкий идентифицирует себя уже
как "методолога", а свою дисциплину называет методологией.
Но как возможно исследовать и менять деятельность, не выходя из нее?
Щедровицкий отвечает: опираясь на идею рефлексии, системный подход и собственно ме-
147
тодологическую работу по организации новых форм и видов деятельности. Если
рефлексия позволяет понять, как деятельность меняется и развивается ("Рефлексия - один из
самых интересных, сложных и в какой-то степени мистический процесс в деятельности;
одновременно рефлексия является важнейшим элементом в механизмах развития
деятельности" [9, с. 271]), то системный подход - это необходимое условие организации
деятельности; "категории системы и полиструктуры определяют методы изучения
деятельности вообще, так и любых конкретных видов деятельности" [9, с. 242].
Особенностью методологии является смещение задач, во-первых, от изучения
мышления к изучению той реальности (в данном случае деятельности), законы
которой, по убеждению методологов, определяют все и, в частности, мышление, во-
вторых, к задачам вменения заинтересованным специалистам-предметникам
(ученым, педагогам проектировщикам и т.д.) законов подлинной реальности (т.е.
представлений теории деятельности). Так и произошло: Щедровицкий ставит задачу
построения "теории деятельности", включающей в себя как свои части "теории
мышления", "теории знания", "семиотики", "теории науки", "теории проектирования",
"теории обучения" и пр. Кроме того, методологи "идут в народ", пытаясь
пропагандировать свои представления среди ученых, педагогов-исследователей, идеологов
проектирования и других специалистов.
Здесь требуется основательное разъяснение. По идее, и переход от предметной
точки зрения к методологической, и новый синтез рефлексивных реалий (подходов,
понятий, ситуаций в предмете, идеалов познания и пр.) предполагает анализ этих
реалий. Но если бы Щедровицкий пошел этим путем, то, во-первых, вряд ли в
обозримые сроки решил интересующие его задачи, во-вторых, попал бы под огонь критики
со стороны других исследователей этих реалий. Вот что он, обсуждая данную
проблему, пишет, например, по поводу рефлексии: "Представления, накопленные в
предшествующем развитии философии, связывают рефлексию, во-первых, с
процессами производства новых смыслов, во-вторых, с процессами объективации
смыслов в виде знаний, предметов и объектов деятельности, в-третьих, со
специфическим функционированием а) знаний, б) предметов и в) объектов в практической
деятельности. И, наверное, это еще не все. Но даже этого уже слишком много, чтобы
пытаться непосредственно представить все в виде механизма или формального
правила для конструирования и развертывания схем. Поэтому мы должны попытаться
каким-то образом свести все эти моменты к более простым отношениям и
механизмам, чтобы затем вывести их из последних и таким образом организовать все в
единую систему" [9, с. 273].
Другими словами, Щедровицкий решил не анализировать рефлексивные реалии
(в данном случае знания, предметы, объекты и их функционирование, а также
механизмы производства новых смыслов), а переопределить их (фактически, это
редукция) в новом более простом и конструктивном языке. Что это за язык? Системного
подхода (системно-структурный язык), в рамках которого теперь задается и
деятельность. "Исходное фундаментальное представление: деятельность - система", -
пишет Щедровицкий в работе 1975 г. "Исходные представления и категориальные
средства теории деятельности" [9, с. 241]. Здесь я не могу удержаться, чтобы не
сравнить ход мысли Щедровицкого с кантианским.
Как известно, Кант хотел построить философию по образцу новой науки. Он не
скрывает, что идеал такой науки для.него задают математика и естествознание.
Наличие в идеале новой науки этих двух дисциплин должно было бы вести к
пониманию философии, с одной стороны, как описывающей "формы мышления"
(философия как математика), с другой - "законы мышления" (философия как
естествознание). Но Кант утверждает, что трансцендентальная философия не содержит
математические и естественнонаучные способы мышления, а является
трансцендентальной ("чистой") логикой. При этом он понимает чистую логику одновременно
как науку и систему правил. Правда, показывая, что "философское познание есть
познание разумом посредством понятий, а математическое знание есть познание по-
148
средством конструирования понятий", Кант пишет, что следование в философии
математическому методу "не может дать никакой выгоды", что математика и
философия "совершенно отличны друг от друга и поэтому не могут копировать методы
друг друга" [1, с. 600,609].
А вот как он характеризует трансцендентальную логику. Кант пишет, что она
"содержит безусловно необходимые правила мышления, без которых невозможно
никакое применение рассудка, и потому исследует его, не обращая внимание на
различия между предметами, которыми рассудок может заниматься... Общая, но
чистая логика, - продолжает он, - имеет дело исключительно с априорными
принципами и представляет собой канон рассудка и разума, однако только в отношении того,
что формально в их применении, тогда как содержание может быть каким угодно...
В этой науке, следовательно, необходимо иметь в виду два правила. 1. Как общая
логика она отвлекается от всякого содержания рассудочного познания и от
различий между его предметами, имея дело только с чистой формой мышления. 2. Как
чистая логика, она не имеет никаких эмпирических принципов, стало быть ничего не
заимствует из психологии (как некоторые хотят этого), которая поэтому не имеет
никакого влияния на канон рассудка. Она есть доказательная наука, и все для нее
должно быть достоверно совершенно a priori" [1, с. 155-156].
Итак, чистая логика по Канту - это и правила мышления, и канон рассудка
(разума), и наука, и система априорных принципов, и характеристика чистой формы
мышления. Как это можно понять? Вспомним, что для Канта разум, с одной стороны,
органическое природное целое, с другой - мышление людей. Если философия
рассматривается в отношении к первой стороне, то она выступает как наука, а ее
основоположения - положения, фиксирующие законы разума. Если же ко второй
стороне, то философия - это логика, ее основоположения совпадают с правилами
мышления. Наконец, если философию рассматривать как законодателя разума, то она есть
канон рассудка. В качестве правил мышления, законов и канона философские
основоположения, действительно, не должны зависеть ни от мыслящих субъектов, ни от
конкретного содержания мысли, т. е. описывают, как говорит Кант, чистые формы
мышления. Однако с математикой все же не так просто.
Дело в том, что если Кант понимает философию как науку, напоминающую
естественную (ведь только в этом случае можно было говорить о вечных и неизменных
законах разума), ему необходимо было иметь или построить что-то вроде
математики, иначе, как философ мог связывать знания или понятия, осуществлять синтез,
определять опыт и каким образом сам Кант конструировал свою трансцендентальную
философию? Естественная наука опирается на математику, конструкции которой
она использует в качестве средств построения своих понятий, а на что мог опереться
Кант, если он утверждает, что математические методы не могут применяться в
философии? Но и для создания правил мышления Канту необходим был какой-то
конструктивный язык, вспомним хотя бы "Аналитики" Аристотеля (для описания своих
правил последний вводит такие понятия, как посылка, термин, силлогизм, отношение
включения и другие, кстати, независимые от содержания конкретных суждений).
Но заметим, в "Критике чистого разума" есть особый слой терминов и понятий,
который мы сегодня относим к структурно-системному мышлению. Так, Кант широко
использует понятия "функции" (функции рассудка), "системы", "систематического
единства", "целого", "анализа и синтеза", "связи", "обусловленности". Вот пример.
"Рассматривая все наши рассудочные знания во всем их объеме, - пишет Кант, - мы находим, что
то, чем разум совершенно особо располагает и что он стремится осуществить, - это
систематичность познания, то есть связь знаний согласно одному принципу. Это единство
разума всегда предполагает идею, а именно идею о форме знания как целого, которое
предшествует определенному знанию частей и содержит в себе условия для априорного
места всякой части и отношения ее к другим частям" [1, с. 553-554].
Анализ этой цитаты позволяет понять роль в мышлении Канта
структурно-системных представлений. Его мысль и рассуждение движутся одновременно в двух
149
плоскостях: плоскости представлений о разуме (это есть целое, все части и органы
которого имеют определенное назначение и взаимосвязаны) и плоскости единиц
(знаний, понятий, категорий, идей, принципов и т.п.), из которых Кант создает
здание чистого разума. При этом каждая единица второй плоскости получает свое
отображение на первой, что позволяет приписать ей новые характеристики,
обеспечивающие нужную организацию всех единиц построения. Именно
структурно-системные представления позволяют осуществить подобное отображение и по-новому
(системно) охарактеризовать все единицы построения.
Этот момент, в частности, объясняет, почему Кант настойчиво подчеркивает
преимущество синтеза над анализом, а также важность установки на целое
(единство): "Наши представления должны быть уже даны раньше всякого анализа их, и ни
одно понятие не может по содержанию возникнуть аналитически. Синтез
многообразного (будь оно дано эмпирически или a priori) порождает прежде всего знание,
которое первоначально может быть еще грубым и неясным и потому нуждается в
анализе; тем не менее именно синтез есть то, что, собственно, составляет из
элементов знание и объединяет их в определенное содержание" [1, с. 173]. А вот еще два
высказывания. "Отсюда видно, что при построении умозаключений разум стремится
свести огромное многообразие знаний рассудка к наименьшему числу принципов
(общих условий) и таким образом достигнуть высшего их единства... разум имеет
отношение только к применению рассудка, притом не поскольку рассудок содержит
в себе основание возможного опыта... а для того чтобы предписать ему
направление для достижения такого единства, о котором рассудок не имеет никакого понятия
и которое состоит в соединении всех действий рассудка в отношении каждого
предмета в абсолютное целое" [1, с. 344, 358].
Как же Кант осознает роль структурно-системных представлений при том, что
системный подход был осознан только во второй половине XX века? В его
философии эти представления могут быть отнесены к особого рода априорным
основоположениям. С современной же точки зрения - это особого рода математика, ее
можно назвать "методологической". Действительно, понятия системы, функции, связи,
целого, обусловленности, синтеза, анализа конструктивны и не зависят в
философии Канта от содержания собственно философских понятий, т.е. используются для
схематизации рассматриваемого Кантом эмпирического материала. Другими
словами, я утверждаю, что Кант все же создал первый образец своеобразной
"методологической математики".
По сути, Щедровицкий для своего времени и в новых условиях повторяет ход
Канта, основывая всю свою философию на системном подходе. Одновременно,
чтобы обосновать этот ход он утверждает, что системный подход является всего лишь
вариантом методологической работы. "Область существования подлинно
системных проблем и системных объектов, - пишет Щедровицкий, - это область
методологии" [10, с. 81]. "Системный подход в нынешней социокультурной ситуации может
быть создан и будет эффективным только в том случае, если он будет включен в
более общую и более широкую задачу создания и разработки средств
методологического мышления и методологической работы" [11, с. 114].
Если согласиться, что системно-структурный язык представляет собой вариант
методологической математики, то спрашивается, откуда Щедровицкий его берет.
В XVI-XVII столетии математика (арифметика, алгебра, теория пропорций,
геометрия) уже была и физики могли ей воспользоваться. Кроме того, они благодаря
творчеству Галилея и Гюйгенса научились превращать математические конструкции в
модели природных процессов (приводя в эксперименте локальные природные
процессы в соответствие с математическими конструкциями). Затем эти модели
уточнялись и доводились в практике инженерии.
По работам Щедровицкого мы знаем, что он, подобно Канту, сам создает
системно-структурный язык. При этом Щедровицкий утверждает, что источник не только
этого языка, но и схем деятельности двоякий: с одной стороны, это опыт его собст-
150
венной работы и его рефлексия, с другой - законы деятельности и мышления.
Подтверждение первому можно увидеть в лекции "Методологическая организация
сферы психологии". "Осуществляется, - подводит итог лекции Щедровицкий, - полный
отказ от описания внешнего объекта. На передний план выходит рефлексия, а
смысл идеи состоит в том, чтобы деятельно творить новый мыследеятельный мир и
вовремя его фиксировать, - и это для того, чтобы снова творить и снова отражать, и
чтобы снова более точно творить. Поэтому фактически идет не изучение внешнего
объекта, а непрерывный анализ и осознание опыта своей работы" [12, с. 124].
Второй источник обсуждается Щедровицким при анализе того, что собой
представляет рефлексия. Оказывается, что это не только и не столько осознание своей
деятельности человеком, сколько кооперация в деятельности и создание
обеспечивающих ее организованностей материала (практической, методической,
инженерной, научной и пр.) [9, с. 275-276].
Кстати, и Кант, обсуждая происхождение априорных основоположений,
указывает два источника - деятельность самого ученого (человека) и законы разума,
который, как выясняется затем, совпадает с Творцом. Судя по всему, разум Кант
понимает двояко: как разум отдельного эмпирического человека и разум как таковой, как
особую природу, законам которой подчиняется отдельный эмпирический разум,
отдельный правильно мыслящий человек. В какой степени сам Кант осознавал этот
двойной смысл используемого им понятия разума, сказать трудно, поскольку в своих
работах он этого вопроса не обсуждает.
Кое-что все же мы можем сказать о связи этих двух сторон разума, анализируя
семантику высказываний Канта. Так разум "осуществляет синтез", "выходит за
пределы опыта", "впадает в антиномии" и т.п. Обсуждая антиномии разума, Кант
пишет, что разум "заставляет выступать в защиту своих притязаний" философов,
ведущих спор, однако, с другой стороны, что философ является "законодателем разума"
[1, с. 592, 684]. Получается, что разум - это своеобразное "разумное" существо,
которое, не имея собственных органов, действует с помощью и через людей. Или по-
другому, разум осуществляет себя (существует) именно и только в мышлении всех
отдельных мыслящих людей. Тем не менее роль философов особая: как
законодатели разума они выступают в качестве "разума" самого разума.
Но не то же ли самое утверждает Щедровицкий, говоря в своих последних
выступлениях и интервью, что им мыслит мышление: "Итак, основная проблема, которая
встала тогда, в 50-е годы - звучит она очень абстрактно, я бы даже сказал
схоластически, не боюсь этого слова, - это проблема: так где же существует человек? Является
ли он автономной целостностью или он только частица внутри массы, движущаяся по
законам этой массы? Это одна форма этого вопроса. Другая - творчество.
Принадлежит ли оно индивиду или оно принадлежит функциональному месту в человеческой
организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю очень жестко: конечно, не
индивиду, а функциональному месту! Утверждается простая вещь: есть некоторая
культура, совокупность знаний, которые транслируются из поколения в поколение, а потом
рождается - ортогонально ко всему этому - человек, и либо его соединят с этим
самым духом, сделают дух доступным, либо не соединят" [13, с. 56-57].
"Со всех сторон я слышу: человек!., личность!.. Вранье все это: я - сосуд с
живущим, саморазвивающимся мышлением, я есть мыслящее мышление, его гипостаза и
материализация, организм мысли. И ничего больше... Я все время подразумеваю
одно: я есть кнехт, слуга своего мышления, а дальше есть действия мышления, моего и
других, которые, в частности, общаются. В какой-то момент - мне было тогда лет
двадцать - я ощутил удивительное превращение, случившееся со мной: понял, что на
меня село мышление и что это есть моя ценность и моя, как человека суть" (15, с. 9].
Итак, мыслит, действует и общается не Щедровицкий, а его и другие мышления.
Сам же Щедровицкий - только "гипостаза и материализация, организм мысли".
Изложенное здесь мировоззрение вызывает вопросы: например, как убедиться в
том, что на тебя "село мышление", а не какой-нибудь демон софистики, почему по-
151
мимо твоего правильного мышления в социуме существуют и находят
многочисленных сторонников другие неправильные формы мышления, что это за наука, если
истинность твоего мышления, в конце концов, зависит не от тебя как личности? Но
посмотрим, как реально Щедровицкий строит системно-структурный язык.
С одной стороны, он, действительно, рефлексирует свой опыт мышления, с
другой - конструктивизирует его (отрывает от реального контекста мышления,
превращает в объекты-конструкции, определяет последние в форме категорий системного
подхода). Но ведь Щедровицкий отказался анализировать рефлексивные
содержания (понятия, ситуации познания, установки и т.д.), какое же содержание он тогда
схватывает в категориях "система", "механизм", "организованность" и др.?
Анализ его работ позволяет выдвинуть гипотезу, что это содержание не в
последнюю очередь задается ценностями и онтологическими представлениями самого
Щедровицкого. Действительно, в конце концов, рефлексия - это просто рефлексия
Щедровицкого и механизм развития деятельности; деятельность - это разнородные
рефлексивные реалии, система и то, что обладает развитием; системно-структурые
представления являются продуктами методологической работы, которая в свою
очередь ориентирована на развитие деятельности. У нас, пишет Щедровицкий,
могут быть только две стратегии: 1) непосредственно приступить к "делу" и начать
конструировать системно-структурные представления, не зная, как это делать и что
должно получиться в результате, либо же 2) спроектировать и создать такую
организацию, или "машину деятельности" которая бы в процессе своего
функционирования начала перерабатывать современные ситемно-структурные представления в
стройную и непротиворечивую систему системных взглядов и системных
разработок... то, что это будут методологические представления, гарантируется
устройством самой "машины" [11, с. 109-110].
"Система методологической работы создается для того, чтобы развивать все
совокупное мышление и совокупную деятельность человечества... напряжение,
разрыв или проблема в мыследеятельности еще не определяют однозначно задачу мыс-
ледеятельности; во многом задача определяется используемыми нами средствами, а
средства есть результат нашей "испорченности", нашего индивидуального вклада в
историю, и именно они определяют, каким образом и за счет каких конструкций
будет преодолен и снят тот или иной набор затруднений, разрывов и проблем в
деятельности" [11, с. 112 ]. Последнее высказывание говорит о том, что Щедровицкий
прекрасно осознает, что источником построения его схем являются не внешняя ему
реальность, а филиация его собственных представлений или, как он пишет, "средств".
Формирование практической философии. Представим на миг, что Кант воскрес,
узнал судьбу своего философского учения, на вопрос, чем он подтвердит истинность
своих системных представлений и других априорных основоположений, вероятно,
ответит: через меня говорил Бог, и вот видите, какое большое значение имели мои
идеи в культуре, последнее лучше всего подтверждает их истинность. Известно, что
Щедровицкий не стал дожидаться исторического и социального подтверждения
своей философии. Он решил создать структуры деятельности и мышления,
соответствующие этой философии, что отчасти можно понимать как социальный эквивалент
галилеевского эксперимента и инженерной проверки. К тому же был и важный
аргумент: Щедровицкий думал, что теория деятельности уже построена.
Действительно, к концу 60-х гг. программа построения теорий Деятельности
оказалась довольно быстро реализованной: в течение нескольких лет было построено
столько схем и изображений деятельности, что их, по мнению Щедровицкого, с
лихвой хватало на описание любых эмпирических случаев. В результате Георгий
Петрович пришел к выводу, что теория деятельности построена (в конце 60-х гг. он
сказал мне в частной беседе: "Главное уже сделано, основная задача теперь -
распространение теории деятельности и методологии на все другие области мышления и
дисциплины").
152
Но этот финал можно понять иначе: исследование и мышления и деятельности
прекратились, построенные схемы и представления были объявлены онтологией,
реальность была истолкована как деятельность, а методологическая работа свелась
к построению на основе этих схем и представлений нормативных и
организационных предписаний для себя и других специалистов. Если же описываемый материал
все же сопротивлялся, схемы теории деятельности достраивались и уточнялись. Но
вся эта работа уже шла в рамках закрепленной онтологии и убеждения, что ничего
кроме деятельности не существует.
И все же Г.П. Щедровицкому удалось сделать еще один важный шаг -
сформировать особый класс деловых игр, получивших название "организационно-деятельно-
стных" (ОДИ), которые рассматривались как полноценная методологическая
практика, поскольку в ней методологи получали в свое распоряжение (во власть), правда,
только на период игры, специалистов-предметников и могли им предписывать, как
мыслить и действовать.
В современной ретроспективе переход к оргдеятельностным играм выглядит
вполне закономерным: если в обычных условиях, на территории той или иной
дисциплины многие специалисты не хотели принимать методологические требования и
нормы, то в игре их ставили в такие жесткие, искусственные условия, которые
позволяли не только распредмечивать (размонтировать) сложившееся мышление
специалистов, но и более или менее успешно вменять им методологические схемы и
схемы деятельности.
Новая реальность вроде бы целиком лежала в рамках деятельностной онтологии и
методологического социального действия. В свое время на методологическом
конгрессе в Киеве Г.П. Щедровицкий сформулировал и соответствующее понимание
методологии - как сферы организации деятельности и мышления специалистов, против
чего я, тогда, резко возражал. Как я уже отмечал, теоретическая установка в
методологии являлась достаточно значимой (вспомним соответствующие теории: теория
мышления, теория деятельности, семиотика, понимаемая как теория и т.д.). Пока
методологам нужно было организовывать на основе методологических схем собственное
мышление и деятельность или мышление сочувствующих методологии
предметников-специалистов, все более или менее получалось, хотя все равно были проблемы.
Но переход в ОДИ, к организации и нормированию мышления других
специалистов или попытки организовать с помощью ОДИ социальные процессы - обозначило
границу и предел так понимаемой методологии. Но СВ. Попов, ученик Щедровиц-
кого, как видно из его последних статей в "Кентавре", оценивает ситуацию
по-другому: он думает, что надо идти дальше - к социальной инженерии. Контртезис может
звучать так: не дело методологии заниматься социальной инженерией, но помочь
социальным инженерам в плане мышления можно. В Киеве я предсказывал, хотя и не
люблю этим заниматься, что понимание методологии как социотехники
(социальной инженерии) до добра ее не доведет. В этом плане я могу согласиться с
психологом и методологом A.A. Пузыреем, который пишет следующее. "Став "встроенной"
в игры, как в особый вид "поставляющего производства", должного "поставлять в
распоряжение" игротехника для "употребления" даже самую мысль, Даже самого
человека, не разделяет ли уже "методология", по сути дела, судьбу всей современной
техники? Вопреки тому, что во многом из критики ее когда-то зарождалась... До тех
пор, пока методология не вернет себе (не значит ли это, обретет впервые?) свою
историю, как Историю с большой буквы, сопряженную с Большой Историей мысли и
самого человека, до тех пор она не сможет освободиться из плена ею же
индуцированных фантомных форм жизни и лишь имитирующих мысль форм
рациональности" [3, с. 126-127].
На мой взгляд, методология - это особая культура мышления, точка роста
мышления, в принципе над любой сферой мышления и человеческой деятельности (не
исключая и социальную инженерию), но все же именно форма мышления, а не
практики. Хотя согласен, есть такие точки роста, когда практика и мышление как бы
153
сливаются в одно целое. Такова эзотерическая практика, художественная и в
некоторых случаях игровая и методологическая. Однако продолжим рассмотрение
эволюции взглядов Щедровицкого. Успехи игр, вскоре сменились проблемами.
Одна из них определялась самой природой игры. Хотя методологи сценировали
игры и старались в ходе игры управлять игровой стихией (навязывая ее участникам
методологические схемы, логику мышления, общую организацию), тем не менее и
самим организаторам игр приходилось менять заранее сценированное поведение,
вступать в диалог с ее участниками, частично поступаться собственными принципами.
К тому же ряд ведущих методологов отказались следовать общим методологическим
нормам и сценариям игр, которые вначале задавал или утверждал сам Щедровицкий.
Они стали создавать и предъявлять как не менее эффективные и обоснованные
свои собственные методологические нормы и сценарии игры. Причем на сей раз
конфликт разрешился не традиционно: не путем вытеснения нарушителя в "другую
комнату", т. е. отрицания любого способа мышления, отличающегося от
закрепленного и охраняемого самим Щедровицким. Было признано право участников игр и
семинаров на свою точку зрения, которая затем, однако, должна была вводится в
общее поле коммуникации и там совместно прорабатываться. Примерно в таком
контексте и возникло понятие "мысли-коммуникации", потянувшее за собой
необходимость очередного пересмотра методологической реальности.
В концепции "мыследеятельности", сформулированной Щедровицким в начале
80-х г., мышление понималось как подсистема в схеме мыследеятельности,
включающей в себя "пояса" коллективно-группового мыследействия, мысли-коммуникации
и чистого мышления [8, с. 130-132]. Почему новая реальность была названа мысле-
деятельностью? Вероятно потому, что в ОДИ, с одной стороны, решались
познавательные задачи, т.е. осуществлялось мышление, с другой - происходило
программирование и организация мышления всех участников игры, что по традиции
понималось как деятельность. Тем самым, был сделан важный шаг - задана новая рамка
для изучения мышления и указан его контекст.
Стало понятным, что мышление не может быть сведено к алфавиту процедур и
операций мышления, что это более сложное образование. Хотя мышление
задавалось как подсистема мыследеятельности, Щедровицкий признавал за мышлением
определенную автономность, самостоятельность. В отличие от других поясов
мыследеятельности пояс чистого мышления, писал он, "имеет свои строгие правила
образования и преобразования единиц выражения и законы, причем достаточно мони-
зированные; это все то, что Аристотель называл словом "логос"..." [8, с. 133].
Однако что же такое мышление не как аристотелевский логос, а как аспект
методологической реальности? Ясного ответа на этот вопрос Щедровицкий не дал. Не
заметил он также, что понятие мысли-коммуникации противоречит
естественнонаучной установке и деятельностной онтологии, что по сути это понятие из другой
парадигмы - гуманитарной, если только, конечно, коммуникацию не понимать так, как ее
трактуют в лингвистике и соссюровской семиотике. Если же коммуникацию
понимать скорее по М. Бахтину, как форму диалога и общения, в которых разные позиции
и точки зрения коммуницирующих выражаются и обосновываются (и именно за счет
всего этого и складывается общее поле коммуникации, становится возможным
понимание и даже согласованное действие), то в этом случае представление о
мыследеятельности противоречит естественнонаучному и деятельностному подходам.
Отчасти Щедровицкий это чувствовал, в начале 90-х г. он признает, что
деятельность - это, оказывается, еще не вся реальность, например, важную роль в
формировании последней играют процессы коммуникации; что мышление так и не было
проанализировано, наконец, что методолог не может сам, подобно демиургу,
создавать новые виды деятельности; требуется разворачивать организационно-деятель-
ностные игры, которые представляют собой "средство деструктурирования
предметных форм и способ выращивания новых форм соорганизации коллективной
мыследеятельности".
154
"С этой точки зрения, - пишет Щедровицкий в одной из своих последних работ, -
сами выражения "деятельность" и "действие", если оставить в стороне определение
их через схемы воспроизводства, выступают как выражения чрезвычайно сильных
идеализации, чрезмерных редукций и упрощений, которым в реальности могут
соответствовать только крайне редкие искусственно созданные и экзотические случаи.
В реальном мире общественной жизни деятельность и действие могут и должны
существовать только вместе с мышлением и коммуникацией. Отсюда и само
выражение "мыследеятельность", которое больше соответствует реальности и поэтому
должно заменить и вытеснить выражение "деятельность" как при исследованиях,
так и в практической организации" [8, с. 297-298].
При этом Щедровицкий не отказывается от своей исходной программы:
необходимо и исследование (теперь мыследеятельности) и практическая организация ее,
причем на основе соответствующих теорий мыследеятельности. "Развитая таким
образом методология, - пишет он, - будет включать в себя образцы всех форм,
способов и стилей мышления - методические, конструктивно-технические, научные,
организационно-управленческие, исторические и т.д.; она будет свободно
использовать знания всех типов и видов, но базироваться в первую очередь на специальном
комплексе методологических дисциплин - теории мыследеятельности, теории
мышления, теории деятельности, семиотике, теории знания, теории коммуникаций и
взаимопонимания" [14, с. 152-153]. Как, спрашивается, можно соединить эти два
понимания методологии: во второй программе она трактуется как имманентное целое, в
концепции мыследеятельности - как элемент более сложной действительности?
Философия Щедровицкого, на мой взгляд, весьма характерна для XX столетия.
В ней, как мы видим, сошлись самые разные традиции и направления философской
и научной мысли. И все же главными доминантами являются программы Канта и
Маркса, а также естественно-научные и социотехнические установки. Надо отдать
должное Щедровицкому, он, подобно Выготскому, доводил свою мысль до
логического конца, не отступая перед устрашающими и непопулярными выводами.
Литература
1. Кант И. Критика чистого разума. Соч. в 6 т. М., 1964. Т. 3.
2. Мамардашвили М.К. Начало всегда исторично, то есть случайно // Вопросы методологии. 1991. № 1.
3. Пузырей A.A. Послесловие к статье Г.П. Щедровицкого "Методологическая организация сферы
психологии" // Вопросы методологии. 1997. № 1-2.
4. Розин В.М., Москаева A.C. Предмет изучения структуры науки // Проблемы исследования
структуры науки. Новосибирск, 1967.
5. Щедровицкий Г.П. Методологическая организция сферы психологии // Вопросы методологии.
1997. № 1-2.
6. Щедровицкий Г.П. О различии исходных понятий содержательной и формальной логики //
Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995.
7. Щедровицкий Г.П. "Языковое мышление" и его анализ // Там же.
8. Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности - системно-структурное строение, смысл и
содержание // Там же.
9. Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности //
Там же.
10. Щедровицкий Г.П. Системное движение и перспективы развития системно-структурной
методологии//Там же.
11. Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической организации
системно-структурных исследований и разработок // Там же.
12. Щедровицкий Г.П. Методологическая организация сферы психологии // Вопросы методологии.
1997. № 1-2.
13. Щедровицкий Г.П. Сладкая диктатура мысли // Там же.
14. Щедровицкий Г.П. Смысл оппозиции натуралистического и деятельностного подходов //
Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995.
15. Щедровицкий Г.П. А был ли ММК? //Вопросы методологии. 1997. № 1-2.
155
Три проблемы в творчестве
Г.П. Щедровицкого
Ф. М. МОРОЗОВ
С уверенностью можно предположить, что имя Георгия Петровича
Щедровицкого (1929-1994) так или иначе знакомо большинству читателей "Вопросов
философии". В разной степени и в крайне разнообразных формах влияние самого Г.П.
Щедровицкого и возглавляемого им Московского методологического кружка (ММК)
претерпело большое число не только философов, но и вообще гуманитариев
(психологов, социологов, педагогов), а также специалистов в управлении.
На наш взгляд, творчество Г.П. Щедровицкого пока что не получило своей
объективной философско-методологической оценки. Устные оценки, данные
методологическому наследию Щедровицкого авторитетными отечественными
интеллектуалами, прямо противоположны. С точки зрения одних, философское содержание в
ММК было потеряно примерно в конце 1970-х гг., когда возникла практика организаци-
онно-деятельностных игр. Основное, что интересовало Г.П. Щедровицкого (и
продолжает интересовать его учеников) - это политическая власть. С точки зрения других, глубина
и уровень разработок в ММК сопоставимы с крупнейшими философскими школами
(аналитическая философия, феноменология и т.д.) и поэтому ММК является
уникальным российско-советским вкладом в мировую культуру. Важно заметить, что
негативные характеристики, часто высказываемые в адрес "методологического
движения" - омассовление методологии, ее прагматизация, понижение уровня
теоретической рефлексии - кроме всего прочего, означают и то, что "методологическое
движение" превратилось в социальный институт.
В отечественной интеллектуальной литературе можно найти лишь несколько
работ, посвященных попытке целостного взгляда на деятельность ММК и его
основателя1. Возможно, начало целостной оценке положено на предпоследних чтениях
памяти Г.П. Щедровицкого (февраль 2002 г.). Эти чтения (как и последние в феврале
2003 г.) проходили под названием "Наследие Г.П. Щедровицкого в философско-ме-
тодологическом и социокультурном контексте XX века". Правда, пока что остается
См.: Розин В.М. К. истории московского логического кружка: эволюция идей, личность
руководителя // Философия не кончается. Из истории отечественной философии. XX век. 1960-80-е годы. М.,
1998. С. 547-564; Пископель А. К творческой биографии Г.П. Щедровицкого // Г.П. Щедровицкий.
Избранные руды. М., 1995. См. предварительное подведение итогов самим Г.П. Щедровицким: Перспективы
и программы развития СМД-методологии // Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 547 595.
156
неясным, в какой степени стилистика исторических компаративных исследований,
выбранная организаторами чтений, является адекватной и самодостаточной.
Что касается специфики источников для анализа творчества руководителя ММК,
то, во-первых, объем изданного гораздо меньше объема архива, отражающего
деятельность ММК (расшифровки лекций и семинаров, неопубликованные статьи и
монографии)3, а во-вторых (и это, пожалуй, самое главное), Г.П. Щедровицкий не
оставил законченной системы, скорее, можно говорить о школе. В творчестве Г.П.
Щедровицкого большую роль играла устная коммуникация. Сам он рассматривал
семинарское "живое" мышление как неотъемлемую часть своей философии4.
Опишем основные этапы развития деятельностных представлений в работах
Г.П.Щедровицкого и Московского методологического кружка.
Основные этапы развития деятельностных представлений в работах
Г.П. Щедровицкого
За время существования ММК было реализовано четыре исследовательских
программы. Сделаем два предварительных замечания. Во-первых, эти строки пишутся
человеком, лично не знавшим Г.П. Щедровицкого. Мое знакомство с
"методологической культурой" произошло в 1995 г. благодаря участнику ММК, действительному
члену РАЕН, доктору психологических наук Юрию Вячеславовичу Громыко. Во-
вторых, нижеследующее выделение программ не является произвольной
реконструкцией в том смысле, что этапы и механизмы реализации этих программ,
полученные результаты, магистральные и второстепенные направления поиска постоянно
становились предметом обсуждения и рефлексии участников "методологического
движения5. Эти программы составляли важное содержание размышлений самого
Г.П. Щедровицкого, они пронизывают все его произведения. Историческая
перспектива (историзм мышления) нашла свое отражение уже в первой программе ММК.
С течением времени предмет исторического (историко-генетического) анализа для
Г.П. Щедровицкого и участников ММК стал двойным. Речь шла, с одной стороны, о
так называемой большой истории, т.е. общем историко-культурном и
историко-философском контексте, а с другой стороны, о "малой истории", т.е. о развитии
представлений в рамках самого ММК. С этой точки зрения интересна мысль
современного западного философа и психолога, представителя деятельностного подхода
Ю. Энгештрёма . Энгештрём, будучи знакомым с идеями ММК и оригинальными
текстами Г.П. Щедровицкого, дал следующую оценку ММК. По его мнению,
2 Вот перечень основных изданных работ Г.П. Щедровицкого: Система педагогических
исследований // Педагогика и логика. М., 1993. С. 16-200; Избранные труды. М., 1995; Философия. Наука.
Методология. М„ 1997; Организация, руководство, управление. М., 1998; Начала системно-структурных
исследований и разработок. М, 1999; Программирование научных исследований и разработок. М., 1999; Я всегда
был идеалистом. М, 2002. Полную библиографию прижизненных изданий см.: Избранные труды. М.,
1995. См. также отдельные статьи в журналах "Вопросы методологии" (1990-1996 гг.) и "Кентавр".
3 В настоящее время Л.П. Щедровицким ведется работа по созданию электронного архива ММК.
4 По свидетельству ученика Г.П. Щедровицкого Ю.В. Громыко, он неоднократно подчеркивал, что
живая диалогическая, коммуникативная среда, поддерживаемая участниками семинаров, является
продолжением (и возрождением) платоновского проекта философствования.
5 См. например: Щедровицкий Г.П. Философия у нас есть // Философия. Наука. Методология. М.,
1997. С. 1-24; Розин В.М. К истории Московского логического кружка: эволюция идей, личность
руководителя // Философия не кончается... Из истории отечественной философии (XX век. 1960-1980-е годы).
М., 1998. С. 547-564.
6 http://www.helsinki.fi/~jengestr/activity/people/yrjo.htm. На эту мысль Энгештрёма обратил наше
внимание Ю.В. Громыко.
157
Г.П. Щедровицкий и его коллектив создали уникальный прецедент реализации,
проживания и рефлексии длинных циклов деятельности.
Официальной датой "рождения" ММК можно считать 1954. В это время группа
молодых философов и аспирантов МГУ (Н.Г. Алексеев, Б.А. Грушин, A.A.
Зиновьев, М.К. Мамардашвили, В.Н. Садовский, В.И. Столяров, B.C. Швырев, Г.П.
Щедровицкий и др.) объединились с целью исследования мышления и развития логики. Эта
группа носила неформальный характер, у нее не было единого лидера. Вскоре возник
"Московский логический кружок" (МЛК), лидерство в котором принадлежало A.A.
Зиновьеву. В МЛК вошли некоторые из вышеперечисленных философов. Позднее A.A.
Зиновьев покинул коллектив и спустя некоторое время начал критиковать исходную
программу. После ухода A.A. Зиновьева лидерство перешло к Г.П. Щедровицкому, а группа стала
называться "Московский методологический кружок".
Это время можно считать датой появления первой исследовательской
программы, получившей впоследствии название "теоретико-мыслительной".
Суть этой программы заключалась в трактовке "мышления как деятельности по
выработке новых знаний"7. Для этого этапа были характерны следующие идеи и
принципы: понимание логики как эмпирической науки; историко-генетический
подход к исследованию мышления; принцип рефлективности, распространяемый как на
предмет, так и на процедуры исследования8. В рамках данной программы
исследовались процессы решения задач, рассуждения, построения новых идеализации и
моделей. Результатом данного этапа явились: схема двухплоскостного строения знания
(знание представляет собой связь объективного содержания и знаковой формы),
идея диспараллелизма формы и содержания, а также представление мышления в
виде набора операций (и конкретное описание некоторых из этих операций ).
Основное содержание первой программы связано с критикой психологизма в
логике и философии10. Впервые данная проблема в отчетливой форме была
сформулирована и описана Гуссерлем11. Антипсихологистский пафос стал одной из
сквозных тем развития деятельностных представлений Г.П. Щедровицкого. (Отметим в
этом смысле радикальное отличие идеи Г.П. Щедровицкого от идей Гуссерля:
логика рассматривается как эпирическая наука.)
Важной предпосылкой обсуждения "мыслительной деятельности" на данном
этапе являлось то, что мышление в рамках теоретико-мыслительной программы
понималось в первую очередь как предметно организованное. Иными словами, за
образец исследования было взято научное мышление, разворачивавшееся в структуре
научных предметов. Именно предметная организация мышления, реализованная
деятелями нововременной науки, с точки зрения Г.П. Щедровицкого, являлась спосо-
Щедровицкий Г.П. О различии понятий "формальной" и "содержательно-генетической" логик //
Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М, 1995. С. 39.
8 См.: Щедровицкий Г.П. О строении атрибутивного знания // Там же. С. 590-631; Он же. О различии
исходных понятий "формальной" и "содержательно-генетической" логик //Там же. С. 34-50; Он же.
Языковое мышление и его анализ // Там же. С. 449-466; Он же. Опыт логического анализа рассуждения
("Аристарх Самосский") // Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997; Щедровицкий Г.П.,
Алексеев Н.Г. О возможных путях исследования мышления как деятельности // Доклады АПН РСФСР.
1957. № 3; Щедровицкий Г.П.,Ладенко И.С. О некоторых принципах генетического анализа мышления //
Тезисы доклада I съезда Общества психологов. М., 1959. Вып. 1.
9 См., напр.: Ладенко И.С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах
мышления. О процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Доклады АПН
РСФСР. 1958. №1,2.
10 См.: Щедровицкий Г.П. О различии исходных понятий "формальной" и
"содержательно-генетической" логик // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 41.
11 См.: Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1 // Эдмунд Гуссерль. Философия как строгая наука.
Новочеркасск, 1994. С. 175-351.
158
бом соединения мышления и деятельности. В этом смысле Г.П. Щедровицкий
двигался в русле одной из основных философских тенденций XX в., связанных с
анализом феномена науки. Анализ иных типов мышления (религиозного, правового,
эстетического) не отображен в работах этого (и последующего) периодов. Частично
данная работа проводилась и проводится учениками, последователями и критиками
Г.П. Щедровицкого .
Установка на предметную организацию мышления привела к постановке
проблемы мышления в разных предметах ("полипредметного мышления" или собственно
"методологического мышления"13. Ситуация наличия различных предметных
изображений одного объекта (проблемная ситуация) имеет важный теоретический смысл.
Там, где возникает действительность нескольких проекций-представлений единого
объекта, возникает вопрос о несоответствии последних реальному объекту.
Предметные представления подвергаются "распредмечиванию". Распредмечивание и
связанное с ним опредмечивание стали одной из главных черт методологического
мышления. В этой связи интересно отметить типологическую близость проблематики
распредмечивания с постструктуралистской стратегией деконструкции.
Вторая программа (1961-1971) носила название "теоретико-деятельностной".
Изучение мышления (процессов решения задач, рассуждения, построения научных
предметов и т.п.) на первом этапе привело к представлению этих процессов в
следующей теоретической форме. Мышление описывалось как замещение объектов
знаками, одних знаков другими, как осуществление интеллектуальных операций
разного рода. В качестве практики на данном этапе выступила деятельность по
нормированию и организации специалистов, представителей различных предметных дисциплин
(ученых, педагогов, дизайнеров, проектировщиков, инженеров и т.д.). Оба указанных
обстоятельства - т.е. форма теоретического представления процессов мышления и
понимание частной методологии как нормативно-организационной дисциплины - и привели в
конце концов к построению теории деятельности. Описание механизмов развития
мышления и знания, к которым добавились схемы кооперации специалистов, с
определенного момента были рассмотрены как самостоятельная реальность -
собственно деятельность.
Фактически предельная категория - категория деятельности - на данном этапе
была превращена в предмет специального исследования.
На данном этапе был получен целый ряд схем, описывающих деятельность14.
Среди них: схема устройства научного предмета; схема воспроизводства
деятельности и культуры15; схема "машины науки" и ряд других. На этом этапе возникает
очень важная идея "позиции" (и соответствующее ей схематическое обозначение) .
12 См.: Генисаретский О.И. Поводы и намеки. М., 1993; Он же. Упражнения в сути дела: М, 1993;
Он же. Навигатор: методологические расширения и продолжения. М, 2002; Розин В.М. Психическая
реальность, способности и здоровье человека. М. 2001; Он же. Эзотерический мир. Семантика сакрального
текста. М., 2002; Он же. Мышление в контексте современности (от "машин мышления" к
"мысли-событию", "мысли-встрече") // Общественные науки и современность. М, 2001. № 5. Очень интересную
работу в сфере правовой мыследеятельности проводят участник ММК Р. Максудов и группа «Общественный
центр "Судебно-правовая реформа"» (http://www.sprc.ru).
13 Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: проблемы и методы // Щедровицкий Г.П. Избранные труды.
С.634-667.
14 См.: Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований // Педагогика и логика. М., 1993.
С. 16-200; Он же. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности //
Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 233-280; Он же. Историко-научные исследования и логическое
представление науки // Философия. Наука. Методология. С. 269-278; Проблемы и проблематизация в контексте
программирования процессов решения задач // Там же. С. 424-471. См. также другие работы этого
периода.
15 По сообщению М.А. Розова и Н.И. Кузнецовой, большая роль в теоретической разработке данной
схемы принадлежала Э.Г. Юдину.
159
"Позиция" выступала средством изображения процессов объективации и субъекти-
вации некоторого содержания. Данное понятие было выдвинуто в качестве попытки
развития и проблематизации категории "субъект". Позднее именно изучение
процессов объективации и субъективации (процессов позициирования и
самоопределения) привели к развитию антропологических представлений в рамках деятельност-
ного подхода .
Третья программа (1971-1979) была посвящена исследованию связи процессов
мышления и коммуникации. Она получила название "теоретико-коммуникативной".
Главная направленность данного этапа заключалась в попытке соединить "чистое
мышление" с представлениями о деятельности. Изучение коммуникации привело к
исследованию процессов понимания. Данный период характеризуется новым витком
изучения процессов рефлексии.
Основными результатами данного этапа стало описание так называемого мысле-
коммуникативного мышления18. В отличие от "чистого мышления", т.е. мышления
по поводу онтологических моделей (предмет изучения первой программы), мысле-
коммуникативное мышление в большой степени характеризуется ситуацией
общения, диалогичностью, прагматическими аспектами.
Четвертая программа (1979-1989) получила название "мыследеятельностной".
На этом этапе фактически был построен своеобразный синтез всех предыдущих
программ. В идее мыследеятельности нашли свое отражение представления о
теоретическом мышлении (первый этап), представление о процессах деятельности и
действии (второй этап) и теория коммуникации (третий этап).
Данный этап отмечен возникновением нового типа методологической практики -
практики "организационно-деятельностных игр" (сокращенно ОДИ)19. ОДИ
представляет собой средство и форму организации деятельности различных специалистов-
предметников. Организационно-деятельностные игры стали социокультурной
инновацией, разработанной Г.П. Щедровицким и его коллегами. ОДИ основывается на
так называемой схеме полифокусного управления игрой20. В соответствии с этой
схемой в ОДИ существует не жестко административная структура руководства, а
деятельность управления. Одна из ключевых идей ОДИ заключается в том, что
существует не одна, а несколько (три) позиций управления. Каждая из этих позиций
характеризуется своими целями и средствами. Управление с позиции руководителя игры
определяет соответствие происходящего разработанному до начала игры замыслу и
сформулированным целям игры. Выявление и создание средства мышления
осуществляется из другого фокуса управления игрой - позиции методолога. Провокацию
самоопределения в ситуации, освоение содержания игровой работы, инициацию
рефлексии обеспечивает игротехник.
16 См.: Щедровицкий Г.П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г.П.
Философия. Наука. Методология. С. 570 и ел.
17 Подробнее об этом ниже.
18 См.: Щедровицкий Г.П. Смысл и значение // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 545-577; Он
же. Коммуникация, деятельность, рефлексия // Исследования рече-мыслительной деятельности. Алма-
Ата, 1974.
19 См.: Щедровицкий Г.П., Котельников СИ. Организационно-деятельностная игра, как новая форма
организации коллективной мыследеятельности // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 115-142;
Громыко Ю.В. Организационно-деятельностные игры и развитие образования. М, 1992.
20 Мы далее описываем несколько упрощенный вариант этой схемы. Более подробно см.:
Щедровицкий Г.П., Котельников СИ. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод
развития коллективной мыследеятельности // Нововведения в организациях. Труды семинара ВНИИ
системных исследований. М., 1983. См. также: Попов СВ. Организационно-деятельностные игры:
мышление в зоне риска // Кентавр. 1994. № 3.
160
На данном этапе возникает концепция мыследеятельности и соответствующая
схема - схема мыследеятельности.
С точки зрения В.М. Розина21, появление схемы мыследеятельности вызвано
интенцией применения схем, полученных на теоретико-деятельностном этапе в
качестве средства описания множества эмпирических случаев. Возникновение нового
типа практики - практик ОДИ - проблематизировало уже имевшиеся схемы и привело
к необходимости появления новых схем. Это объяснение, правильное с точки зрения
фактической стороны дела, не выявляет другое важное обстоятельство. С
теоретической тонки зрения схема мыследеятельности выступила в качестве сложной
гетерогенной (неоднородной)22, гетерархированной (сложноподчиненной, т.е.
невозможно сказать, что какой-то один из ее элементов является "главным",
управляющим по отношению к другим) и гетерохронной (описывающей протекание разных
процессов, каждый из которых находится в "своем" времени и, следовательно,
протекает со своей скоростью, к примеру, "скорость" мышления иная по сравнению со
"скоростью"23 коммуникации и т.д.) единицы деятельности.
Схема мыследеятельности позволила разрешить исходную проблему связи
мышления и деятельности. В ней оказались связанными мышление, коммуникация,
действие, и так называемые процессы второго уровня - понимание и рефлексия .
Критика деятелъностных представлений Г.П. Шедровицкого
Укажем основные направления критики деятельностных представлений Г.П. Ще-
дровицкого. Отметим, во-первых, насыщенная диалогическая среда ММК сама
собою предполагала критическую атмосферу. Во-вторых, яркая полемическая
заостренность выступлений Г.П. Щедровицкого, открытость к критике, внутренняя диа-
логичность также способствовали накоплению и постоянному развитию критики.
Поэтому наша задача заключается в том, чтобы выделить магистральные
направления этой критики, дающие энергию дальнейшего развития деятельностных
представлений.
Таких магистральных направлений, с нашей точки зрения, - три.
Во-первых, те положения системы Г.П. Щедровицкого, которые.могут
претендовать на место антропологических, правильнее было бы назвать
"антиантропологическими".
Во-вторых, в системе Г.П. Щедровицкого ярче всего выражена проектная форма
деятельности. Критика настаивает на необходимости рефлексии границ проектной
формы: деятельность не тождественна проектированию. Отождествление
деятельности и проектирования ведет к целому ряду проблем экологического, социального
и гуманитарного планов.
В-третьих, разработка деятельностной проблематики поставила рефлексивный
вопрос о том, какой тип теории востребуем деятельностными представлениями?
С точки зрения ряда критиков, Г.П. Щедровицкий в ответе на данный вопрос нахо-
21 См.: Розин В.М. К истории Московского логического кружка: эволюция идей, личность
руководителя // Философия не кончается... Из истории отечественной философии (XX век. 1960-1980-е годы).
С. 552.
22 Подробнее о гомогенных и гетерогенных онтологиях см.: Морозов Ф.М. Гомогенизация,
компьютерная метафора и поиски онтологии деятельности в когнитивной науке // Научное знание глазами
гуманитария (в печати).
23 Мы намеренно помещаем слово "скорость" в кавычки, чтобы показать условность данного
термина. Речь не идет об однородном, однонаправленном и непрерывном времени в его классическом
понимании.
24 См.: Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности - системно-структурное строение, мысли и
содержание // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 281-286.
6 Вопросы философии, № 3
161
дился "в плену" естественнонаучных представлений. Он считал, полагают критики,
что необходимо построение "общей теории деятельности" по типу объективистских
физических теорий.
Перейдем к более развернутому обсуждению каждого из этих пунктов.
* * *
Первый пункт критики связан с антропологическими представлениями Г.П. Ще-
дровицкого. Так, Г.П. Щедровицкий пишет о том, что работы Маркса и Гегеля
утвердили особое понимание деятельности, согласно которому «человеческая
социальная деятельность должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а
как исходная универсальная целостность, значительно более широкая, чем сами
"люди". Не отдельные индивиды тогда создают и производят деятельность, а
наоборот: она сама "захватывает" их и заставляет "вести" себя определенным
образом... Каждый человек, когда он рождается, сталкивается с уже сложившейся с
непрерывно осуществляющейся вокруг него и рядом с ним деятельностью. Можно
сказать, что универсум социальной человеческой деятельности сначала противостоит
каждому ребенку: чтобы стать действительным человеком, ребенок должен
"прикрепиться" к системе человеческой деятельности, это значит - овладеть
определенными видами деятельности, научиться осуществлять их в кооперации с другими
людьми. И только в меру овладения частями человеческой социальной деятельности
ребенок становится человеком и личностью» .
Основателю "методологического движения" принадлежит "сильный" тезис о том,
что "человек - это сменный материал для деятельности".
Критики выделяют данное положение в качестве центрального для
антропологической позиции Г.П. Щедровицкого26. Например, В.И. Слободчиков видит в этих
идеях крайнее выражение версии "массовой деятельности", противопоставляемое
им психологической концепции "частно-индивидуальной деятельности",
разработанной А.Н. Леонтьевым. С точки зрения В.И. Слободчикова, именно последовательно
проведенная Г.П. Щедровицким антипсихологистская позиция стала причиной того,
что в его работах "впервые был глубоко поставлен вопрос о нормирующем
характере общественного производства" . Отметим, что сходную мысль, но в более
широком философском контексте - безотносительно к творчеству Г.П. Щедровицкого -
формулирует Б.И. Пружинин. Он пишет: "Именно реальная нормативная и
рефлексивно-критическая практика гносеологии выявила в науке мощные
социокультурные влияния, релятивизирующие систему методологических предпочтений, и
сделала эти влияния предметом пристального внимания гносеологии прежде всего для
того, чтобы каким-то образом восстановить ее практическую функциональную
эффективность" .
25 Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности // Там
же. С. 241-242.
26 См.: Зинченко В.П. Психологическая теория деятельности ("воспоминания о будущем") // Вопросы
философии. 2001. № 2. С. 83-87; Слободчиков В.И. Деятельность как антропологическая категория //
Вопросы философии № 3. С. 48-57; Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития
образования. М., 1996. С. 480 и ел.; Гиренок Ф.И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998.
Слободчиков В.И. Деятельность как антропологическая категория // Вопросы философии. 2001.
№ 2. С. 53. Справедливости ради отметим, что еще в 1968 г. Г.П. Щедровицким была подготовлена к
печати фундаментальная работа "Система педагогических исследований (методологический анализ"). Данная
работа включала программу антропологических исследований. К сожалению, она была опубликована
более чем 20 лет спустя. См.: Педагогика и логика. М., 1993. С. 96. и ел. (особенно с. 113-114).
28 Пружинин Б.И. Об одной особенности современной гносеологической проблематики // Познание в
социальном контексте. М., 1994. С. 135
162
Вернемся к критическому рассмотрению тезиса Г.П. Щедровицкого. Ю.В.
Громыко, полемизируя со своим учителем, утверждает, что "у человека как материала
деятельности есть своя собственная процессуальность, которая не определяется
процессами, задающими границы системы [деятельности. - Ф.М.]"29. "Исходным
первичным материалом мыследеятельности, - считает Ю.В. Громыко, - является
проспективно-смысловая сфера сознания"30. При анализе тезиса Г.П. Щедровицкого
о человеке как сменном материале деятельности и контраргументации Ю.В.
Громыко важно учитывать специфику профессионального категориального языка, при
помощи которого ведется рассуждение. Это язык системного анализа31.
Шокирующий, отталкивающий и провоцирующий смысл высказывания о человеке как
сменном материале для деятельности важно отличать от попытки содержательного
категориального определения такого сложного "предмета", как человек. Сделаем
небольшое отступление, чтобы показать возможные перспективы подобного хода.
Суть возражений Ю.В. Громыко заключается в том, чтобы рассмотреть одну из
категорий системного подхода - категорию материала - в качестве рамочной для
развития новых представлений о деятельности. С этой точки зрения понимание
того, что существуют типы материалов, обладающие различным строением*2,
делает возможным рассмотрение процессов деятельности на разных материалах. «По
функции категория "материал", - пишет Ю.В. Громыко, - есть возможность разо-
формлений и переоформлений существующих структураций"33. Такой ход делает
возможным проблематизацию существующих и формулирование новых
представлений относительно широкого спектра феноменов культуры: от структурирования
общественной практики до генезиса языка и знания. В этом отношении интересно
сравнить эпистемологическую программу феноменологии повседневности,
разрабатываемую И.Т. Касавиным . В одной из своих последних работ И.Т. Касавин
подходит к одному из "основных принципов неклассической теории познания, согласно
которому знание эволюционно возникает из незнания в буквальном смысле слова,
т.е. из того, что знанием не является, как органическое вещество из
неорганического, как психика из вещества. Знание в своих истоках - эпифеномен
непознавательных процессов, и этот процесс воспроизводится повсеместно и ежечасно»35. На наш
взгляд, здесь как раз выражена идея разоформления имеющихся форм при
рассмотрении одного и того же феномена (например знания) на разных материалах.
Оказывается, к примеру, что феномен знания приобретает совершенно иной вид, будучи
рассмотрен на новом материале, к примеру, на материале художественный текстов,
описывающих процесс вхождения человека в незнакомую социальную группу36.
С другой стороны, важно отметить, что анализируемый тезис и возникшая
вокруг этого тезиса полемика являются определенным прочтением понимания
субъекта в трансцендентальной традиции (в общем-то, начиная с Декарта). Там субъект
у Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития образования. С. 481.
30 Там же. С. 482.
Отметим, что версия системного анализа, разработанная в рамках ММК, отличается от иных
версий системных представлений. См.: Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической
организации системно-структурных исследований и разработок // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 88-
114.
32 Некоторые важные историко-философские аспекты проблемы см.: Ахутин А.Вк Понятие
"природа" в античности и в Новое время ("фюсис" и "натура"). М., 1988. ,
33 Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития образования. С. 480.
34 См.: Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст (Проблемы неклассической теории познания).
М., 1999; Он же. Традиция и интерпретация: Фрагменты исторической эпистемологии. СПб., 2000.
35 Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст (Проблемы неклассической теории познания). С. 20.
См.: Касавин И.Т. Свое и чужое. Ситуация Эдипа глазами феноменолога // Субъект, познание,
деятельность. М., 2002. С. 252-269.
6* 163
выступает в двух формах: как трансцендентальный субъект и как эмпирический
субъект. С этой точки зрения, принципиально важно, что эмпирический субъект
невозможен без субъекта трансцендентального: нормативы и критерии
познавательного процесса коренятся в особенностях трансцендентального субъекта.
В этой связи не стоит также забывать, что в целом ряде так называемых
традиционных антропологических практик формулируются идеи, сходные с тезисами
представителей деятельностного подхода. Специфика этих положений сильно
определяется культурно-историческими особенностями, но суть остается в принципе
одной и той же: индивид должен преобразовать свою природу, тогда он станет
способен к обретению (стяжанию) иных, до того не доступных способностей. Именно в
процессе этого самопреобразования и стяжания индивид становится "совершенным
человеком"37.
Совершенно иное направление критики мы находим у сторонников
принципиально не-деятельностной природы человека. Г.С. Батищев в своих поздних работах
говорит о существовании определенного порога распредмечиваемости, по ту сторону
которого лежат так называемые запороговые содержания. Эти содержания не
могут быть доступны в рамках той или иной деятельности. "Концепция порогов
распредмечиваемости, - пишет Г.С. Батищев, - ставит под сомнение тезис, что
деятельность есть способ бытия человека, его культуры и т.п.; на самом деле деятельность
есть способ бытия лишь допороговых содержаний". "Запороговые содержания"
связываются Г.С. Батищевым с "факторами бессознательного"38.
В тезисе Г.С. Батищева важно выделить два разных слоя. К философско-мето-
дологическому слою отнесем его тезис относительно порога распредмечиваемости,
который выступает границей деятельности. К предметному слою его мысли
отнесем положение о локализации запороговых содержаний в области
бессознательного. С этой точки зрения, представляется важным уточнить, для кого данные
содержания являются "запороговыми"? Противопоставление деятельности и
бессознательного возможно, с нашей точки зрения, либо с внешней безучастно наблюдающей
позиции, либо с позиции не рефлексивной. Реальные же процедуры "обнаружения"
и "контакта" с бессознательным носят вполне деятельностный характер в том
смысле, что рефлексивно могут быть опознаны неявные (и в этом смысле
формальные) отождествления структур и предпосылок коммуникации пациента и
терапевта с устройством психики.
В качестве примера сказанному сошлемся на анализ фрейдовской версии
бессознательного, данный М.М. Бахтиным. "Фрейдовская теория, - пишет Бахтин, -
является "проекцией" в психику некоторых объективных отношений внешнего мира.
В ней прежде всего находят свое выражение очень сложные социальные
взаимоотношения больного и врача... Больной желает скрыть от врача некоторые свои
переживания и события жизни, хочет навязать свою точку зрения на причины болезни и
на характер своих переживаний. Врач, в свою очередь, стремится отстоять свой
авторитет... Психические "механизмы" без труда выдают нам свое социальное
происхождение. "Бессознательное" противостоит не индивидуальному сознанию
больного, но прежде всего врачу, его требованиям и его взглядам. "Сопротивление" - это
также прежде всего сопротивление врачу, слушателю, вообще другому человеку" .
Сходное по направленности и по результатам критическое исследование
психоанализа предлагает Э. Фромм. Он показывает, что психоаналитическое понимание пси-
Совершенный человек. Теология и философия образа. М., 1997. Детальное эпистемологическое
рассмотрение одной из таких "традиционных антропологических практик" см.: Хоружий С.С.
Феноменология аскезы. М., 2000.
Батищев Г.С. Неисчерпаемые возможности и границы применимости теории деятельности //
Деятельность: теория, методология, проблемы. М., 1990. С. 28-29.
39 Волошинов В.И. (М.М. Бахтин). Фрейдизм. М., 1993. С. 77-79.
164
хологического здоровья оказывается производным от существующих в обществе
стандартов конформного производителя и потребителя. Не подвергается ли в
самом деле человек, проходящий психоанализ, нивелировке и приспособленности к
обществу?41
Перейдем к рассмотрению второго направления критики. Надо заметить, что
примерно в начале 70-х гг. XX в. проектирование резко расширяло сферу своего
влияния. Проектировались уже не только вещи или агрегаты вещей.
Разрабатывались проекты социальных систем, систем человек-машина. По-новому начали
рассматривать архитектурно-градостроительное проектирование, в котором акцент
был перенесен на программирование будущих условий жизни. Возникший в то
время в нашей стране дизайн рассматривался как "тотальный", а его методология - как
методология тотального проектирования. В духе романтического культа
бесконечных возможностей творчества, проектирование мыслилось как тотальная,
всепроникающая сила будущих столетий.
Проектирование стало одной из основных тем деятельностных разработок Г.П. Ще-
дровицкого .
Критики проектного подхода обращают внимание на негативные последствия
проектной деятельности в сфере экологии, социуме и гуманитарной сфере43.
Основной содержательный пафос этой критики связан со следующим обстоятельством.
Своеобразный "проектный оптимизм" привел к неоправданной экспансии
проектирования в другие типы деятельности и стал причиной целого ряда кризисов. В
первую очередь, с нашей точки зрения, здесь следует говорить о неразвитости и
принижении двух типов деятельности: исследовании и управлении. Как пишет А.Г. Раппа-
порт, "модели проектирования строились в логическом пространстве, не имеющем
метрики или какого-то внешне заданного пространства, а именно эти свойства
пространства и давали бы возможность фиксировать масштабы распространения
деятельности и проводить какие-то границы ее экспансии. Модели, в которых
описывалось... проектирование, не имели пространственной непрерывности или
субстанциальности, они имели только предметно логический смысл. Но для обозначения
границ нужны иные исходные модели, способные описывать дистанции, зоны,
непрерывность и т.п."44. Развернутая проектная деятельность выдвинула задачу
проведения исследований, направленных на экспликацию естественного, а не
искусственно спроектированного содержания предмета проектной деятельности, ее
механизмов, форм организации и той среды, в которой она разворачивается. Отметим,
См.: Фромм Э. Кризис психоанализа. Очерки о Фрейде, Марксе и социальной психологии. СПб.,
2000. С. 7-56.
41 См.: Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 227-245, 401-408.
42 См.: Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я. Проблема объекта в системном проектировании //
Методология исследования проектной деятельности. Тезисы сообщения «Автоматизация проектирования как
комплексная проблема совершенствования проектного дела в стране». Сб. 2. М., 1973; Щедровицкий Г.П.
Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности // Разработка и
внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975. И целый ряд
других работ.
43 См.: Розин В.М. Проектирование как объект философско-методологического исследования. //
Вопросы философии. 1984. № 10; Капустин П.В. Архитектура: Культура или Проектирование? //
Архитектура и культура. В 2 т. М.: ВНИИТАГ, 1990. Т. 1. С. 39-43; Карташов A.B. Проектное знание: опыт
методологического анализа // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник, 1988. М.,
1989. С. 163; Бочаров Ю., Раппопорт А. Градостроительные трактаты Ле Корбюзье и проблемы
современного проектирования //Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская Хартия. М., 1976. С. 130;
Раппопорт А.Г. Границы проектирования // Вопросы методологии. 1991. № 1.
44 Раппапорт А.Г. Границы проектирования // Вопросы методологии. 1991. № 1.
165
что в настоящее время эти задачи ставятся и решаются в практике экспертизы. По
словам B.C. Степина: "...в современных программно-ориентированных
исследованиях эта экспликация осуществляется при социальной экспертизе программ. С
этой точки зрения очень интересны работы по экспертизе, проведенные участником
ММК СВ. Поповым46.
С одной стороны, проектная деятельность проблематизирована с позиции
управления. Эти вызовы возникают из задачи воспроизводства во времени результатов
проектной деятельности. Под вопросом оказывается жизнеспособность и
самостоятельность спроектированных новообразований. Невозможно тратить новые
ресурсы на поддержание нежизнеспособных новообразований. Большую значимость в
этом контексте приобретает проблема конституирования "субъекта"
проектирования. В этом смысле характерно само название одного из параграфов работы
В.П. Зинченко: "Проектирование деятельности или манипулирование ее
субъектами?"47. В контексте решения указанных проблем приобретают важное значение
вопросы самооорганизации, самоуправления, историко-культурных детерминант
выдвигаемых целей.
С другой стороны, возникает проблема опознания контр-культурных проектов,
связанных с навязыванием не подлинных типов идентичности и ценностей. Такого типа
контр-культурные проекты вызывают отторжение и приводят к социокультурным
проблемам (глобализация, терроризм и т.д.)48. С этой точки зрения, успешность реализации
общественных проектов оказывается тесно связана с историко-культурным
измерением инициируемых изменений. Проектирование выдвинуло задачу проведения
исследований, направленных на экспликацию о-естественных в культуре детерминант
деятельности и поведения. "Следы" прошлых проектов, о-естественные в материале
жизнедеятельности, выступают в качестве механизмов воспроизводства новообразований, а
проектирование приобретает культурно-историческую размерность.
Заметим, что как с позиции исследования, так и с позиции управления проблема-
тизируется важнейшая предпосылка проектного мировоззрения в его техницистской
версии. Эта предпосылка строится на игнорировании любых детерминант
естественного характера.
* * *
Третье направление критики связано с высвечиванием формы знаний о
деятельности. С точки зрения критиков, Г.П. Щедровицкий - физик по своему базовому
образованию - объективистки подходил к построению теории деятельности.
Нам представляется важным вопрос о том, какого типа "теория" востребуется
деятелъностной проблематикой! Данный вопрос не является вопросом чисто
академического любопытства. Превратится ли деятельностный подход в набор частных
техник и методик, используемых в различных практических дисциплинах
(организационное консультирование, педагогика и т.д.) или же он сможет обеспечивать
развитие теоретического мышления и целостного мировоззрения? Цаверное, сложно
припомнить более замусоренные философские термины, чем "теория" и "практика".
И все-таки рискнем выдвинуть следующий тезис. Ответ на только что
сформулированный вопрос зависит от того, будет ли найдено адекватное взаиморбогащающее
Степин B.C. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 2000. С. 631.
46 См.: Попов СВ. Метод экспертизы // Кентавр. № 23.
47 См.: Зинченко В.П. Психологическая теория деятельности ("воспоминания о деятельности").
Вопросы философии. 2001. № 2. С. 83-86.
48 См.: Ремизов М. Опыт консервативной критики. М, 2002; Сорос Дж. Кризис мирового
капитализма. М., 1999; Хомский Н. Прибыль на людях. М, 2002.
166
отношение между "теорией", т.е. бескорыстной культурно-исторически
фундированной способностью создания новых форм и "практикой", т.е. новым опытом,
возникающим в процессе реализации проектов49.
Например, для нововременной научной революции задачу соединения теории с
практикой (одновременно определяя форму и первой, и второй) выполняли научные
предметы. Именно научные предметы длительное время определяли (и во многом
продолжают определять) форму, в которой возможна воспроизводимость науки как
социального и культурного института. Возможно, в случае деятельностного подхода
нечто подобное могут обеспечивать типодеятельностные представления
(представления о типах деятельности: исследовании, проектировании, конструировании,
управлении и т.п.).
Вероятно, одним из главных камней преткновения в поиске адекватной формы знания
о деятельности является необходимость учета феномена развития - феномена
незнакомого предметному (естественнонаучному) типу знания. "Длительное время, - пишет
B.C. Степин, - лидирующей научной дисциплиной выступала физика, которая
транслировала свои идеалы и нормы в другие отрасли знания... но физика на протяжении большей
части своей истории в явном виде не включала в число своих фундаментальных
принципов принцип развития". Сходной точки зрения придерживается В.И. Аршинов: "Для
физика первой половины столетия сама мысль об изменчивости, эволюции самих
физических законов выглядела абсурдной и саморазрушительной"51. B.C. Лазарев, анализируя
кризис психологических теорий деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, один
из общих недостатков этих теорий видит в том, что в них "деятельность не определяется
как развивающаяся: не выделены ее простейшие формы и формы, соответствующие
более высоким уровням развития, не раскрыты условия и механизмы перехода с
уровня на уровень" . Особая сложность данного вопроса раскрывается при учете того
обстоятельства, что развитие содержания "предмета" предполагает также и развитие
самих концептуальных средств и форм мыслимости. Таким образом, под вопросом
оказывается сама идея закона как основы знания.
Итак, выдвинутый вопрос ведет за собой серию следующих вопросов, Кто
является носителем деятельностного знания и мышления: отдельный человек или
коллектив (любой ли коллектив?)? В какой форме это знание должно транслироваться
(как технологии, как ценностные принципы, как онтологические картины, как
формы организации практики, как подходы, как проблемы)?
Действительно, в ряде своих текстов Г.П. Щедровицкий формулирует задачу
построения "общей теории деятельности". Как пишет участник ММК В.М. Розин, еще
в конце 60-х гг. Г.П. Щедровицкий пришел к выводу, что теория деятельности уже
построена и "главное уже сделано, основная задача теперь - распространение тео-
9 В этом отношении любопытны рассуждения теоретика социологии П. Бурдье. Причину кризиса
своей науки он видит в разрыве и противопоставлении теории и практики. См.: Бурдье П. Практический
смысл. СПб., 2001. Не только в творчестве Г.П. Щедровицкого, но и в работах ключевых теоретиков
деятельностного подхода СИ. Кант, Ж. Пиаже, концептологи когнитивной науки) мы находим подходы к
решению указанного вопроса. Эти подходы связаны с использованием схем как особой формы мышления.
См. об этом: Морозов Ф.М. Понятие схемы как средства описания деятельности: Автореф. дисс... канд.
филос. наук. М, 2003.
Степин B.C. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. С. 642.'
51 Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., 1999. С. 36.
52Лазарев B.C. Кризис "деятельностного подхода" в психологии и возможные пути его преодоления //
Вопросы философии. 2001. № 3. С. 36. Далее B.C. Лазарев говорит о следствиях этого недостатка.
Следствием является абстрактность и формальность определения субъекта: человек либо субъект, либо нет.
Не определяя качественно различные уровни развития деятельности, мы не можем понять, каким
образом возникают новообразования в психике. См.: Он же. Проблема понимания психического развития в
культурно-исторической теории деятельности // Вопросы психологии. 1999. № 3. С. 18-27.
167
рии деятельности и методологии на все другие области мышления и дисциплины .
Для того чтобы разрядить кажущуюся простоту такого понимания, процитируем
слова Г.П. Щедровицкого, написанные им спустя почти 15 лет после той беседы с
В.М. Розиным. "Сложилось уже совершенно отчетливое понимание того, что
методология (т.е. учение о деятельности. - Ф.М.) - это не просто учение о средствах и
методах нашего мышления и деятельности... что методологию нельзя передавать как
знание или набор инструментов от одного человека к другому, а можно лишь
выращивать, включая людей в новую для них сферу методологической мыследеятельно-
сти и обеспечивая им там полную и целостную жизнедеятельность"54. Очевидна
противоположность этих двух утверждений.
Согласно первому утверждению, "деятельность" для философа это примерно то
же самое, что "поле" для физика. "Общая теория деятельности", подобно "общей
теории поля", должна быть оттранслирована во все социальные практики, так или
иначе связанные с изучением деятельности. Согласно второму тезису, знание о
деятельности - это не объективистское знание про внешний и безразличный "объект".
Овладение этим знанием предполагает (пройдемся по смысловым пунктам второго
утверждения) несколько важных условий. Во-первых, речь идет о непредуготовлен-
ности результата: "выращивать", в отличие от "распространять", подразумевает,
что, скорее всего, вырастет нечто в принципе ожидаемое, но в существенных чертах
новое, не имеющее прецедентов. Во-вторых, овладение знаниями о деятельности
предполагает включение в общность, культивирующую данный тип знания и
познания. В-третьих, важным условием является "целостность" жизнедеятельности,
иными словами, передача и развитие знаний про деятельность (мыследеятельность)
возможны только в том случае, если человек, включенный в данную общность,
приобретает деятельностное мировоззрение.
Итак, с нашей точки зрения, за различием данных двух тезисов стоит
проблематика, которую вслед за названием известной статьи Л.С. Выготского можно условно
обозначить проблематикой "эпистемологического смысла кризиса деятельностного
подхода"55. Кризис деятельностного подхода кроме своих философских
предпосылок56 имеет еще и собственно эпистемологическое измерение. Суть данного
измерения заключается в том, что развитие деятельностной проблематики привело к
появлению новой позиции, которая в принципе способна теоретически мыслить и
действовать не только в действительности чистого философского мышления или только
в действительности отдельного предмета. Но данная позиция благодаря деятельно-
стному подходу в принципе способна распредмечивать существующие предметы,
создавать новые, ранее отсутствовавшие предметы, получать новый опыт.
Деятельность не является монопредметной, к примеру, психологической категорией57.
Поэтому, с нашей точки зрения, существует очень важный вопрос о формах
взаимодействия и кооперации между теорией деятельности и "деятельностной
практикой" . Формулируя такую проблему, мы сознательно уходим от ответа на слож-
Розин В.М. К истории Московского логического кружка: эволюция идей, личность руководителя //
Философия не кончается... Из истории отечественной философии (XX век. 1960-1980-е годы). С. 552.
54 Щедровицкий Г.П., Котельников СИ. Организационно-деятельностная игра как новая форма
организации коллективной мыследеятельности // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 118.
55 Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Собр. соч. в 6
т. М., 1982. Т. 1.
56 См.: Лекторский В.А. Деятельностный подход: смерть или возрождение? // Эпистемология
классическая и неклассическая. М., 2001. С. 75-87.
57 Что не отменяет возможность создания предметных, в том числе психологических, теорий
деятельности. См. в этом отношении, к примеру, цитированную выше статью B.C. Лазарева.
58 О понятии "деятельностная практика" см.: Морозов Ф.М. Что такое схематизация - языковая
техника или деятельностная практика? // Кентавр. № 26.
168
ный вопрос о том, в какой степени данное взаимодействие и кооперация
искусственно проектируется, а в какой степени оно естественно вырастает "само собой"?
* * *
Менее всего в качестве заключения хотелось бы претендовать на некоторый
синтез и обобщение описанных проблем в виде некоторой одной и единой "главной"
проблемы или оппозиции. Более соответствующей заявленной проектной интенции
является метафора продолжающегося диалога.
Поэтому обратим внимание читателя на то, что идеи, типологически сходные с
идеями мыследеятельности, заложены в основание относительно недавно
возникшей дисциплины "Наука-Технология-Общество" (сокращенно STS:
Science-Technology-Society). STS - учебная дисциплина в ряде американских, немецких, австрийских
университетов. Изначально STS проектировалась как дисциплина, способная задать
прагматический и более реальный контекст для традиционных курсов по
философии науки и философии техники. Программа по STS может включать в себя
широкий спектр тем: описание разного типа технологий (биомедицинские, военные,
энергетика и т.д.), теорию инноваций, теорию принятия решений, экологию, риторику,
теорию политического действия и коммуникации, историю, экономику,
глобалистику, этнополитику и т.п. Любопытно, что сама конструкция
наука-технология-общество есть определенный вариант схемы мыследеятельности. В этой конструкции
наука - это собственно мышление и способность создания новых идеализации,
технология - это действие, рассмотренное с различных точек зрения, и, наконец, общество
- это система позиционных мест и каналы коммуникации между разными местами.
169
Интеллект и коммуникация
Г. П. ЩЕДРОВИЦКИЙ
Статья первая
1. Множественность и разнородность интеллектуальных процессов
"Знаете ли Вы задачу, состоящую в том, чтобы построить
четыре равных треугольника из шести спичек? Сначала она
кажется неразрешимой и действительно является таковой до тех
пор, пока ее пытаются решить в пределах двух измерений. Но
как только ее решение переносят в трехмерное пространство -
трудности исчезают..."
К сложным и многообразным явлениям человеческого интеллекта в
современной философии, социологии и психологии до сих пор подходят чрезмерно
упрощенно. И то, что многие при этом признают исключительную сложность и
неповторимость интеллектуальных процессов, нисколько не меняет реального положения дел.
Слова эти стали своеобразным кокетством тех, кто занимается изучением
интеллекта, с одной стороны, а с другой - их можно рассматривать как своеобразную
компенсацию качества получаемых результатов. Чем больше говорят о сложном и
сокровенном характере человеческого интеллекта, тем больше оправдывают в чужих и
своих собственных глазах многочисленные парадоксы и несоответствия, получае-
Этот текст представляет собой рукописный вариант статьи, которую Г.П. Щедровицкий готовил к
изданию. Это 59 страниц рукописного текста, более половины из них записаны с двух сторон. Статья
лежала в папке под названием "Смысл и понимание. Заметки и материалы к статье". Заметки помечены
1973 г. (Αρχ. № 3686). Но заметки и варианты текста, которые лежали внутри статьи, датированы июлем
и августом 1977 г. В 1977 г. Г.П. Щедровицкий два раза делал доклады на Комиссии по мышлению и
логике "Рефлексия: понимание и мышление в групповой интеллектуальной деятельности" (Αρχ. № 2068, 355).
Скорее всего и предлагаемая вниманию читателей статья относится к этому же Времени. При подготовке
к публикации текст автора практически не редактировался, списка литературы нет, поэтому указанные в
тексте места для ссылок не могут быть реконструированы и потому просто удалены; единственной
трудностью было сделать выбор из авторских вариантов редакции, что целиком находится на
ответственности публикатора. - Г.А.Давыдова.
Варианты: Мышление, понимание и рефлексия в групповой интеллектуальной деятельности.
Мышление, понимание и рефлексия в коммуникативных структурах.
** Варианты: Внутренняя неоднородность интеллектуальных процессов. Интеллектуальные
процессы и коммуникация.
170
мые при исследовании его традиционными средствами и методами анализа, и таким
образом избавляют себя от необходимости искать новые формы и способы видения
объекта.
Сейчас можно назвать уже целый ряд направлений, в которых отчетливо
обнаруживается слишком упрощенный характер наших теоретических представлений об
интеллекте и соответственно недостаточность и неадекватность использованных
нами средств и методов анализа.
Я остановлюсь на двух из них, до сих пор меньше всего обсуждавшихся в
литературе и в наших собственных публикациях. Одним из них - и может быть, именно в
нем ярче всего проявляется чрезмерная упрощенность наших подходов - является
стремление представить интеллект в виде однородного целого.
Когда в 50-е гг. в отечественной логико-методологической литературе была
выдвинута программа построения единой и обобщенной теории мышления и начались
интенсивные исследования знаниевых и операциональных структур, то все явления
интеллекта, обсуждавшиеся в философских и психологических работах, фактически
оказались сведенными к мышлению, а все остальное было отодвинуто на задний
план как несуществующее. Затем в середине 60-х гг. в методологии начались
углубленные исследования рефлексии, и это привело к тому, что сейчас в целом ряде
философских и психолого-педагогических работ рефлексия рассматривается в
качестве основного интеллектуального процесса, охватывающего и подчиняющего себе
все другие, в том числе и мышление. А сейчас, когда одним из фокусов исследования
интеллекта стало понимание, в философских и специально-научных, особенно в
психолингвистических, работах обнаруживается не менее сильное стремление
представить понимание в качестве тотального, всеохватывающего и всепроникающего
интеллектуального процесса.
Сами по себе эти смены планов осмысления интеллекта не так уж страшны, а
если рассматривать их как увлечение новыми направлениями анализа, то можно было
бы признать их даже закономерными и полезными, если бы они сопровождались
углубленным изучением процессов мышления, понимания и рефлексии. Такое
изучение неизбежно привело бы к выявлению специфики каждого из этих процессов и к
внутреннему самоограничению их в рамках интеллекта как целого, что потом с
необходимостью вылилось бы в вопрос об их взаимных связях и соотношениях. Но
такого углубления в специфику названных процессов при всех этих переменах (во
всяком случае, в массовой научной литературе) не происходило.
Вместо этого каждый раз производилось переименование уже исследованных
процессов: то, что раньше называлось мышлением, теперь описывалось как
рефлексия, то, что раньше проходило как рефлексия, теперь трактуется в качестве
понимания и т.п. И все, что было известно об интеллекте, теперь пересказывалось под
новым углом зрения и в новых словах. В результате никогда не удавалось выйти к
задаче взаимного ограничения этих процессов и к выяснению их связей и
взаимоотношений внутри каких-то реальных целостностей.
Поэтому, какие бы смены точек зрения и планов осмысления не происходили и
сколько бы проекций интеллекта мы не фиксировали в наших знаниях, он
по-прежнему оставался однородным и весьма простым в своем внутреннем членении.
Сложность и многообразие знаниевых проекций не переводились в план устройства
самого объекта, ибо не было того структурного и функционального пространства, в
котором эту задачу можно было ставить и решать методологически осмысленно.
Таким образом, наши представления об интеллекте, вырабатываемые при разных
подходах и углах зрения, стали уже достаточно сложными и разнообразными, а сам
интеллект по-прежнему мыслится как простой и однородный. И в этом состоит
первое совершенно очевидное переупрощение в наших теоретических представлениях
интеллекта.
Но сам вопрос, к которому мы таким образом подошли, каков тот целостный
объект, который мог бы объединить в своей системе конкретные процессы мышле-
171
ния, понимания и рефлексии, или, что то же самое, каково то "пространство", в
котором эти процессы могут существовать в объективных связях и соотношениях друг
с другом, выводит нас к новому кругу проблем, в которых слишком упрощенный
характер наших теоретических представлений об интеллекте проявляется не менее
резко, чем в первом.
В принципе задача построения объекта для тех или иных методологических и
теоретических исследований интеллекта является крайне сложной и многоплановой.
Но мы, естественно, не будем рассматривать ее во всем объеме, возьмем лишь один
аспект, непосредственно связанный с темой настоящего исследования; речь пойдет
об отношениях и связях между интеллектуальными процессами и коммуникацией.
Хотя реально вся интеллектуальная работа может происходить в условиях
деятельности коллектива, замкнута на общение людей друг с другом (как в рамках
малых групп, так и в рамках культурно-исторических общностей) и представляет
собой по сути дела спор человека с другими людьми, несмотря на все эти совершенно
очевидные условия и обстоятельства, вне которых интеллектуальная жизнь и
деятельность людей вообще не может быть помыслена, коммуникация никогда прямо
не учитывалась в исследовании и нормировании интеллектуальных процессов - ни в
качестве конституирующего интеллект фактора, ни в качестве существенно
влияющего на него обстоятельства. По сути дела, во всех исследованиях - философских,
логических и психологических - интеллектуальные процессы рассматривались как
автономные и совершенно независимые от процессов коммуникации; почти все,
занимавшиеся этими проблемами, говорили, что интеллект проявляется или
выражается в коммуникации, но не было почти никого, кто рискнул бы сказать, что
интеллект создается коммуникацией (хотя сейчас такое утверждение кажется уже
естественным и чуть ли не само собой разумеющимся).
Источником и конечным основанием этого всегда, по-видимому, была социотех-
ническая установка на организацию и нормирование интеллектуальной
деятельности отдельного индивида. Неважно, что интеллектуальные процессы осуществлялись
всегда в условиях деятельности определенной социокультурной общности, а часто
также в условиях коллективного или группового действия, сложившаяся (уже по
крайней мере с античности) система разделения труда и фиксировавшие ее
социокультурные и организационные формы (такие как разделение умственного и
физического труда, предметизация и профессионализация умственной деятельности,
организация знаний по отдельным дисциплинам и т.п.) реально превращали
отправление этих процессов в жестко обособленные действия и деятельности отдельных
индивидов, для которых тексты коммуникации становились действительностью
особого рода, тем материалом, в котором был выражен и представлен мир и который в
силу этого подлежал специальному мыслительному анализу. Именно их нужно было
затем нормировать и таким образом интегрировать, чтобы обеспечить единство и
целостность общественных систем деятельности.
Примечания. Таким образом, мы рассматриваем "индивидуальную деятельность"
как исторически возникшую и, следовательно, в принципе исторически преходящую
форму членения и организации общественной деятельности. В этом плане
исторический процесс делает своеобразный круг: сначала за счет коммуникации и ее
специфических средств он связывает и объединяет поведение приматов в целокупную
общественную деятельность людей (деятельность, которая на первцх порах возможна
только как массовое поведение), а затем начинает дробить и разделять ее (теперь
уже как деятельность) на отдельные подсистемы и в какой-то момент приводит к
таким единицам, как "индивидуальная (интеллектуальная и
производственно-практическая) деятельность". При этом тексты сообщений, которые сложились
исторически как средства связи, объединяющие поведения отдельных людей в единую и
интегрированную за счет коммуникации общественную деятельность, приобрели новую
и в известном смысле противоположную функцию: для каждого индивида,
отправляющего интеллектуальные процессы, они заместили другие части и фрагменты це-
172
локупной общественной деятельности, стали их знаково-символическим
представлением, вместе с тем - особой действительностью, и благодаря этому позволили
деятельности каждого отдельного индивида выделиться из ткани ее реальных
общественных условий, через посредство знаков оторваться от других частей и
фрагментов общественной деятельности и автоматизироваться. Примерно так в
системе интегрированной общественной деятельности возникали такие образования,
как индивидуальная интеллектуальная деятельность - сначала как особые
организованности массовой общественной деятельности, а потом как единицы, на которые
она распадалась и из которых складывалась.
Но здесь пока склеены два разных момента: методологическая констатация и
псевдоисторическое выведение и объяснение. К такому выведению мы подошли в
самых ранних работах 1961-1962 гг. Тексты коммуникации всегда несут две
противоположные функции: с одной стороны, они выступают как средства связи
оторвавшихся друг от друга частей деятельности, а с другой - как средства разделения и
обособления их. Одновременно появляется третья функция - дополнения до целого,
а вместе с ней неоднородность самой деятельности, совмещение в ней реально-дея-
тельностных и знаково-символических планов.
Но это одновременно и та точка, в которой появляется мышление как таковое,
т.е. деятельность со знаками, понимаемыми и трактуемыми как замещение или
даже представление (в чем разница между тем и другим?) реального деятельностного
мира.
При таком выведении отчетливо обнаруживается обстоятельство, на которое
обращают внимание многие авторы, занимающиеся исследованием происхождения
мышления - в своем генезисе мышление неразрывно связано с мифом и
мифическим освоением действительности. Так должно быть, если мы понимаем мышление
как работу с замещающими или символизирующими знаками.
Тексты коммуникации мы уже давно зафиксировали как отличающиеся от
текстов трансляции: первые выступают как функциональные элементы и средства в
деятельности, вторые же, напротив, представляют собой прежде всего
самостоятельное и автономное явление, по отношению к которому будет развертываться своя
особая деятельность. Тексты трансляции - это мир, они - сама действительность.
Именно благодаря организационному осуществлению индивидуальной
интеллектуальной деятельности, поддержанию и воспроизводству ее, появляются.выраженные
тексты трансляции. Сначала они не имеют самодовлеющего значения. Ибо
трансляция осуществляется за счет и в форме образцов. Но постепенно тексты становятся
все более полными и самодовлеющими, они начинают описывать образцы и сами
становятся образцами. Образуется мир текстов и появляется совершенно особое
отношение к текстам. Теперь уже не как к средствам коммуникации, а как к знаковому
представлению мира.
Соответственно этой социотехнической ориентации на индивидуальную
деятельность строились конструктивно-технические и собственно исследовательские
предметы, а также философские мировоззрение и идеология.
Неправильно и наивно думать, что эти предметы (включая и собственно
исследовательские) строятся по принципу соответствия тем или иным реальным объектам -
так мог думать только тот, кто верил в возможность непосредственного созерцания
реального объекта. На деле все происходит иначе: в рамках каждого предмета
строится соответствующая его структуре и элементам схема объекта.
Нормативно-организационная ориентация на отдельного индивида определяла,
начиная с античности, характер всех конструктивно-технических, исследовательских и
собственно научных предметов, связанных с интеллектуальными процессами -
методологию, логику, теорию сознания и психологию. Линия на организацию деятельности
и мышления индивида прямо и непосредственно отражалась на направлениях
объективации нормативно-организационных, в частности логико-методологических, схем:
интеллектуальные процессы, которые должны были ими нормироваться, приписы-
173
вались индивиду и рассматривались как порождаемые им за счет внутренних
творческих сил (εντελέχεια древних*), а сам индивид в отношении к этим процессам
выступал как носитель, порождающая причина (или сила) и источник. Эти схемы
объяснения и исследования оформлялись в соответствующем философском мировоззрении
и идеологии. По крайней мере с XII в. в европейской культуре утверждается и
получает распространение в качестве равноправного и совершенно законного тот стиль
и способ мышления, который позднее, уже в XIX в., получил название
"психологизма". Его точно так же питала и поддерживала в течение веков установка на
организацию и нормирование деятельности и мышления отдельных индивидов.
И пока эта социотехническая установка со всеми обслуживающими ее
теоретическими представлениями и производимыми в ее рамках продуктами оставалась
действенной в практическом и организационном плане, тщетными были все
теоретические и методологические призывы к другому видению, осмыслению и исследованию
интеллектуальных процессов и интеллекта в целом. Даже в тех случаях, когда
принципиально иные воззрения на интеллект (скажем, такие, как гегелевские) не
отвергались с самого начала в принципе, как "нереальные", "неосмысленные", "ложные"
и т.п. <...>, а наоборот в силу тех или иных социокультурных обстоятельств
принимались в качестве идеологии или основного ядра господствующего мировоззрения,
они все равно так трансформировались и переосмыслялись, что начинали
оправдывать нормативно-организационную ориентацию на индивида как такового и
"психологизм" в исследованиях и теоретических объяснениях. И в этом плане самой
поучительной, наверное, является история разработки Марксова тезиса об общественной
природе интеллекта <...>
Всем этим трансформациям и переосмыслениям не надо удивляться. Наивно
было бы думать, что конструктивно-технические и исследовательские предметы
строятся в соответствии с "истинным" представлением об объекте - так мог думать и
представлять себе познание только наивный гносеолог, верящий в возможность
непосредственного созерцания реальных объектов. Сейчас мы уже достаточно хорошо
знаем, что все практически значимые, или непосредственно институциализируемые
(социализируемые), предметы строятся в соответствии с той или иной уже
существующей социотехнической практикой, а ориентация на "истинное" теоретическое
представление (в противоположность "ложному", практическому) является регулятивным
принципом только для узкой группы чисто теоретических предметов (всегда
характеризуемых как "оторванные" от реальной практической жизни), выполняющих в
своей сути прежде всего революционно-критическую функцию <...>.
Конечно, обсуждая весь этот круг проблем, нельзя сводить все к одним лишь
организационно-нормативным разработкам и представлять себе дело так, что все
предметы и все создаваемые в них или по поводу них теоретические представления
прямо и непосредственно отражали социотехническую установку и автоматически
менялись вслед за изменением социотехнической практики. Все теоретические
предметы, поскольку они уже сложились и определенным образом организовали
процессы исследований и разработок, имеют свою собственную жизнь и свои
имманентные законы функционирования и развития. Эти предметы постоянно
воспроизводятся и повторяются соответственно своей структуре и организации. Благодаря
этому они приобретают устойчивость и независимость по отношению к их деятель-
ностному окружению и оказывают обратное влияние на социотехническую
практику, препятствуя ее изменению и развитию. Иногда это обратное воздействие
существующих предметов и связанных с ними теоретических представлений· бывает на-
* В значении "осуществленность, законченность"; по Аристотелю, "единство материальной,
формально действующей и целевой причины". Это значит, по А. Лосеву, переход от потенции к организованно
проявленной энергии, которая сама содержит в себе материальную субстанцию, причину самой себя и
цель своего движения (Философская энциклопедия. Т. 5. С. 564).
174
столько сильным, что может на десятилетия и даже на столетия затормозить
развитие уже возникших и существующих в зародыше новых форм организации
деятельности.
Именно это, на наш взгляд, в течение длительного времени происходило в сфере
интеллектуальных процессов. Представление об их индивидуализированном
характере стало предрассудком1. В силу этого исторически преходящая форма
расчленения и организации целокупной общественной деятельности, оформленная и
закрепленная в этих представлениях стала восприниматься и трактоваться как единственно
возможная и естественно вытекающая из природы самой человеческой
деятельности. В результате этого даже в тех случаях, когда реальные способы отправления
интеллектуальных процессов существенно менялись, приобретали явно коллективные
формы и осуществлялись преимущественно в коммуникации и через
коммуникацию, ставя в совершенно новое отношение к самим процессам, и все это
приобретало, казалось бы, совершеннейшую очевидность и выпуклость, даже в этих случаях
коллективная и коммуникативная природа интеллекта не осознавалась, оставалась
за рамками методологического и теоретического описания, ибо уже существующие
теоретические представления об индивидуальной интеллектуальной деятельности
не давали места коммуникации внутри интеллекта и в его структуре. Коммуникация
могла быть привлечена и описана, но только как нечто внешнее по отношению к
субстанции интеллекта, как средство общения индивидуальных интеллектов друг с
другом, но не как средство конституирования самого интеллекта.
Насколько силен этот предрассудок, прекрасно показывает (хотя и в миниатюре)
история исследований интеллектуальных процессов в Московском
методологическом кружке. Практически вплоть до начала 70-х гг. основные усилия направлялись
на разработку теории индивидуализированных интеллектуальных процессов, хотя
вся практика реальной интеллектуальной работы кружка с начала 50-х гг.
демонстрировала нечто иное.
Семинарские заседания кружка были мало похожи на традиционные
академические собрания, в которых докладывают о полученных результатах. Докладчик по
сути дела только начинал обсуждение темы. Он должен был определить проблему, в
обсуждение которой включались затем все остальные. Границ между самим
докладом и дискуссией практически не существовало. Заседание представляло собой
коллективное обсуждение и решение проблемы, в которых нередко развертывались
одновременно и параллельно сразу два или три доклада на одну тему. Правильнее
было бы даже сказать, что это были содоклады и контрдоклады, ибо игра в
доказательства и опровержения стала основным принципом организации всей
интеллектуальной жизни кружка.
Вопросы можно было задавать после каждого смыслового куска доклада или
дискуссии, практически - по каждому тезису. Иногда они были направлены на
понимание сказанного, но, как правило, они касались не столько непосредственного
содержания сделанных утверждений , сколько различных элементов
интеллектуальной деятельности, осуществляемой докладчиком и его оппонентами:
формулирование целей, задач, оснований, проблематизация средств и методов мыслительной
работы, логических схем рассуждений, критериев оценки полученных результатов,
способов доказательств и опровержений и т.п. В результате главным моментом
интеллектуальной работы коллектива становилась рефлексия по поводу
деятельности, осуществляемой отдельными членами кружка и кружком в целом'. Иначе говоря,
в ходе этой рефлексии могли проблематизироваться и подвергаться критическому
1 В обоих смыслах этого слова: 1) тем, что предзадано индивидуальному рассудку в качестве
действительности, обладающей объективным статусом, и 2) тем, что уже больше не подвергается критическому
анализу.
2 Это содержание интересовало членов кружка в последнюю очередь.
175
анализу и перестройке не только любые элементы интеллектуальной работы, но и
ее основания, способы и стиль мышления, его категориальный строй и логические
нормы, языки описания и онтологические картины в такой же мере, как отдельные
понятия, модели и принципы анализа.
Поэтому в любой момент все собрание в ходе дискуссии могло перейти с
обсуждения исходной темы на обсуждение средств и методов работы, выбранных
докладчиком или его оппонентами, начать трансформацию и реконструирование этих
средств и методов, затем снова совершить рефлексивный выход и обратиться к
анализу средств и методов этой конструктивной деятельности, начать их перестройку
или проектирование новых средств подобной работы и вернуться к исходной теме
лишь через несколько недель или месяцев напряженной работы, разворачивавшейся
сразу в нескольких различных слоях и планах мышления. Количество уровней
рефлексии, на которые могло выйти обсуждение, никогда заранее не фиксировалось -
оно определялось всегда ситуативно в соответствии с возможностями работающего
в этот момент коллектива.
В силу такой достаточно "свободной" организации работы на каждом заседании
развертывалось сразу и одновременно несколько различных планов обсуждения
каждой темы. При этом, естественно, нельзя уже было говорить о каком-то одном и
едином результате интеллектуальной работы: таких результатов всегда было много -
соответственно различным планам рефлексивного осмысления хода коллективной
работы и непрерывно меняющихся ситуаций.
Множественность планов обсуждения и параллелизм в их развертывании делали
необходимым функциональное структурирование группы: одни из участников
коллективной работы принимали задачу конструктивного развертывания темы,
создавали модели и фиксирующие их понятия, другие брали на себя задачу критики этой
конструктивной работы и решали ее с культурно-исторической или категориально-
методологической точки зрения, третьи фальсифицировали созданные конструкции
относительно эмпирического материала, четвертые проблематизировали средства и
методы работы, пятые начинали разработку новых средств и методов и т.д.3 В ходе
обсуждения темы каждый из участников развивал свою собственную линию и
постоянно стремился "перетянуть" общую дискуссию в свой собственный план работы.
Но продуктивная содержательная работа каждого была возможна лишь в
органической связи со всеми другими, лишь при условии, что в общей целокупной работе
сохранялось равновесие между всеми ее планами, ибо ни одна линия не имела и не
могла иметь необходимой для мышления замкнутости и автономности, не обладала
необходимой полнотой предметного содержания и могла нормально развертываться
только если рядом и одновременно с ней развертывались другие, каждая зависела от
степени продвинутости других линий: одни из этих линий мыслительной работы
фиксировали разрывы и ошибки, другие поставляли проблемы и задачи, третьи -
материалы, четвертые давали средства и методы, пятые включали все в культурно-
исторический контекст, шестые определяли онтологическое пространство работы.
И только вместе друг с другом все эти линии работы образовывали целостность
мыслительной деятельности, очень сложным и причудливым образом
объединяющей мыслительные процессы разных типов - исторические реконструкции,
конструирование, технические и естественнонаучные исследования, проектирование,
нормировку, критику и т.д.
Но именно эта сложность и разноплановость целокупного мыслительного
процесса, конституирующая роль рефлексивных выходов внутри него и порожденная
ею внутренняя разнородность его элементов и компонентов, возможность
постоянно менять логику работы, делали для нас совершенно неприемлемыми формы
собственно научного и вообще теоретического синтеза мыслительной работы и
застаем, работы B.C. Степина по квантовой механике.
176
вили развивать методологическое мышление, характеризующееся совершенно иными -
не объективными, а деятельностными - формами связи разнотипных мыслительных
процессов и их продуктов.
Когда на семинары Московского методологического кружка попадал какой-то
новый человек, то у него голова шла кругом, ибо он никак не мог разобраться,
почему развернулась та или иная дискуссия, в чем суть спора и возникающих в ходе него
оппозиций, по каким основаниям и в каких планах они устанавливаются. Он
находился в окружении множества текстов, совершенно разорванных, как ему казалось,
производимых хаотически и вне связи с другими. На каждый поставленный вопрос
следовало сразу три-четыре разных ответа, и все они принимались, хотя казались
исключающими друг друга. И выяснить, что из всего говоримого является
правильным, а что наоборот неправильно, было просто невозможно. Неудивительно, что у
некоторых от всего этого к концу заседания начиналась тахикардия и они уходили в
эмоциональном шоке.
Но в таком положении оказывались не только неофиты, впервые
включающиеся в работу кружка. Нередко таким же было положение и старых его членов,
проработавших таким образом уже не один год. Объясняется это в первую очередь
отсутствием критериев для отделения "правильного" от "неправильного". Выше я уже
отметил, что критике и проблематизации подвергались не только отдельные средства
мыслительной работы, но и регулирующие ее методологические схемы и
логические нормы. Поэтому нередко на указание, что нарушены определенные логические
нормы рассуждения, докладчик или его оппоненты отвечали, что они сделали это
сознательно, что именно в этом и состоял пафос их работы и что отныне то, что
другие считают ошибкой и неприемлемой формой мысли, станет образцом и нормой
во всех подобных случаях. Такие утверждения лишали дискуссию каких-либо
прочных и всеми принятых оснований, делали ее крайне зыбкой и неопределенной.
Основным и часто даже единственным регулятивом мыслительной работы в
таких ситуациях становились цели работы: если они достигались, то новые и
казавшиеся ошибочными схемы мыслительной работы объявлялись допустимыми,
фиксировались в специальных методологических схемах, которые должны были
проверяться на разном предметном материале, определяться относительно областей
применимости и постепенно переводиться в разряд логических норм и
методологических схем.
Этот момент - возможность по ходу дела отказаться от существующих схем и
норм мыслительной работы и вырабатывать новые или другие схемы и нормы -
точно так же является характерным моментом методологического мышления и
выступает в качестве его важнейшей цели и результата. Именно поэтому я выше
указал, что предметное содержание интересовало членов кружка лишь во вторую
очередь: по сути дела оно всегда выступало лишь в качестве повода для того, чтобы
развернуть новые формы мышления, схематизировать их и зафиксировать в виде
новых логических норм. В этом состояла первоочередная задача методологической
работы, подчиняющая себе все остальные.
Но эта новая нормировка могла появиться только в результате всей работы, по
необходимости весьма длительной и охватывающей разнообразный материал, а в
спорной ситуации нельзя было апеллировать ни к уже существующим твердо
установившимся нормам, ни к будущим, создаваемым новой практикой мышления.
Единственным критерием эффективности и, соответственно, допустимости, новых
форм мышления в этой ситуации, как я уже отметил, могли быть только цели
работы и, следовательно, все используемые по ходу дела средства и методы; все вновь
создаваемые схемы и формы мышления должны были оцениваться относительно
этих целей - насколько они обеспечивают достижение их или создают для этого
условия. И такая оценка становилась непременным моментом организации
коллективного процесса мышления в каждой конфликтной ситуации.
177
Надо отметить, что вся эта сложность совокупного процесса мышления - его
внутренняя разнородность и разноплановость, наличие множества различающихся
между собой уровней и слоев рефлексии, свобода относительно уже установленных
и общепризнанных логических норм, определяющая роль целей и т.п., делали
особенно значимыми и важными формы непосредственной организации работы.
Текущая организация всех интеллектуальных процессов, осуществляемых
отдельными членами работающей группы, становилась тем важным моментом, в
котором первоначально осуществлялось и выражалось все - и число одновременно
соединенных, состыкованных друг с другом уровней и слоев рефлексивного
осмысления, и категориальный строй совокупной интеллектуальной работы и логика
коллективного процесса мышления, и наборы непосредственно взаимодействующих
друг с другом понятий и представлений. Эта организация творилась тут же, по ходу
дела, в процессе живой дискуссии, и ее главным регулирующим принципом было
отношение между поставленными целями и средствами мысленного достижения их.
А принимались и ставились на обсуждение только те темы, которые
характеризовались диффициентностью этого отношения, т.е. имели разрыв между целями и
средствами их достижения, и могли, следовательно, выступить в качестве
методологических проблем, требующих для своего разрешения построения принципиально новой
(по каким-либо методологическим параметрам) мыслительной деятельности.
Все это делало исключительно сложной и ответственной работу руководителя
семинарских занятий. Именно он в каждом спорном случае определял, что "правильно" и что
"неправильно" (хотя каждый участник дискуссии, конечно, мог остаться при своем особом
мнении), квалифицировал рефлексивно выявленные схемы рассуждений как
эффективные или неэффективные, обоснованные или необоснованные, узколокальные или
обобщенные и т.д. и таким образом проделывал первую часть работы по конституированию
образцов и норм мышления, запрещал и отсекал одни линии обсуждения и направлял всю
коллективную интеллектуальную работу по другим линиям. При этом он очень часто
испытывал большие затруднения из-за недостатка методологических средств, необходимых
для осмысления ситуаций, складывающихся в процессе коллективной работы, оценки
новых идей и новых ходов мысли, для принятия эффективных и перспективных решений, и
отнюдь не всегда он действовал лучшим образом: в ряде случаев решения, принятые в
весьма ответственных случаях, на несколько лет затормозили развитие методологических
исследований и разработок по очень важным и даже принципиальным направлениям
[предполагалась ссылка].
Такой была практика коллективной интеллектуальной работы в Московском
методологическом кружке, как она сложилась к концу 1953 г. К середине 1955 г. она
организационно оформилась в ряде методологических семинаров, а к началу 1958 г.
выработала уже свою собственную субкультуру, по крайней мере с середины 1955 г.
практика коллективной интеллектуальной работы стала предметом
непрекращающегося рефлексивного анализа и многие ее специфические черты осознавались уже
достаточно адекватно и фиксировались в методических, организационных и
этических принципах4. Но это не делало ее еще предметом теоретических и собственно на-
Отрывочные литературные данные [предполагались ссылки на литературу] позволяют нам заключить,
что нечто подобное же происходило и за рубежом. В первую очередь, конечно, в США, но в какой-то мере и в
Англии и в Германии складывались группы и коллективы, положившие в основу своей жизни принцип
коллективной интеллектуальной работы (сюда надо отнести, по-видимому, все "невидимые" колледжи, R£ND
корпорацию и Гудзоновский институт, в которых, по-видимому, именно таким образом строились обычно первые этапы
разработки какой-то темы или проекта), но в подавляющем большинстве учреждений и объединений подобные
группы никогда не были долговременными по составу участников и не сформировали поэтому своей
эзотерической субкультуры, но тем не менее опыт организационно-методической рефлексии был зафиксирован в целом
ряде "толстых" публикаций и использован (в соответствии со специфическими условиями американской жизни)
для создания целого ряда консультативных фирм, выполняющих по контракту работу по организации
коллективной интеллектуальной работы группы сотрудников какого-либо учреждения.
178
учных исследований и разработок: организационно-методической рефлексии было
вполне достаточно, чтобы поддерживать и воспроизводить уже сложившуюся
практику коллективной работы. Поэтому она развивалась в этом своем качестве, не
переходя в предметные научно-теоретические знания о коллективном мышлении.
За это время в коллективной интеллектуальной работе кружка сложилось по
крайней мере два комплекса независимых друг от друга знаний: кружок в целом
разрабатывал индивидуализированную теорию интеллектуальных процессов, а его
лидеры параллельно и в дополнение к этому рефлектировали практику коллективной
интеллектуальной работы и фиксировали ее в организованно-методических
знаниях. Каждая из этих форм знания существовала в своем особом "пространстве" -
имела своих пользователей, свою область приложений и соответственно этому свое
особое содержание. В деятельности эти знания никак не пересекались друг с другом;
хотя они и были элементами одной совокупной деятельности, но каждая форма
занимала в ней свое особое место, а поэтому не было никакой нужды соотносить и
связывать их с друг с другом по содержанию. В силу этого предметные
научно-практические разработки никак не обогащались за счет организационно-методической
рефлексии, а последняя, сколько она ни развивалась сама по себе, не оказывала и не
могла оказать на них никакого существенного влияния.
Так продолжалось до тех пор, пока в жизни кружка - а это случилось в середине
60-х гг. - не наступили "трудные времена". К этому периоду онтологические,
методические и теоретические средства методологической работы стали весьма
сложными и многообразными: конструктивные и проектные подходы отделились от
познавательного, деятельностный подход выделился из системно-структурного, и стала
оформляться теория деятельности, противопоставившая себя теории мышления.
Произошло разделение семиотики и эпистемологии, а внутри последней уже
наметилась граница между теорией знания и теорией научных предметов, а вместе с тем
существенно расширились области приложения методологии. Произошел переход
от политэкономии и физико-математических наук, на материале которых
преимущественно строились логико-методологические исследования в 50-е гг., к
лингвистике и биологии, к педагогике и психологии, к социологии и социотехнике, к
различным областям инженерного конструирования и проектирования и т.д.
Соответственно этому внутри кружка на базе общей методологической
идеологии сложилось несколько течений, которые все больше дифференцировались и
расходились между собой, с одной стороны, по областям работы, а с другой - по
характеру тех онтологических, методических и теоретических средств, которые клались в
основание всей методологической работы и в силу этого разрабатывались
интенсивнее всего: системно-структурный подход, содержательно-генетическая логика,
теория мышления, семиотика, эпистемология, теория научного предмета, теория
деятельности, теория сознания.
Так внутри Московского методологического кружка сложились относительно
автономные направления - теоретико-мыслительное, системно-проектное,
семиотическое и теоретико-деятельностное (в дальнейшем число их продолжало
непрерывно увеличиваться), причем настолько быстро, что очень скоро границы между ними
стали весьма условными и все они потеряли свою первоначальную
организационную определенность, так что сейчас требуется специальная методологическая
работа, чтобы разобраться в них и установить строгую логическую типологию.
В результате этой внутренней дифференциации методологических объектов и
методологической парадигматики ситуации на семинарских занятиях кружка
неимоверно усложнились, дискуссии стали практически неуправляемыми и
эффективность коллективной работы резко снизилась. Коммуникация перестала быть
внутренним структурным моментом общей мыслительной работы, а наоборот
превратилась в объемлющую и самодовлеющую систему, которая развертывалась по своим
собственным законам, нередко деформируя или даже целиком разрушая процесс
коллективного мышления. Логические нормы индивидуализированной мыслительной ра-
179
боты перестали быть средством регулирования и организации коллективной работы,
ибо представители всех противостоящих друг другу течений достаточно скрупулезно
соблюдали эти нормы, а общая коллективная работа все равно не получалась.
Каждый был прав по-своему, но это было уже не единое коллективное мышление, а
конгломерат никак не соотносимых друг с другом мыслительных процессов.
Надо было, во-первых, разобраться в том, что происходит, а во-вторых, найти
новые эффективные формы организации коллективной работы в условиях, когда в
ней оказались представители разных парадигм.
С одной стороны, возможно, эта ситуация свидетельствовала о том, что
проработка и культурное оформление вновь созданных средств и освоение их отдельными
членами кружка стали отставать от "идейного бега вперед".
С другой стороны, эта очень сложная и в известном смысле критическая
ситуация стала весьма продуктивной для кружка, ибо заставила перевести
организационно-методологические проблемы методологической организации коллективной
работы, обсуждавшиеся раньше на уровне практико-методической рефлексии, на
уровень предметно-теоретических проблем*.
Здесь надо усилить описание критичности этой ситуации и подчеркнуть, что
индивидуалистически ориентированные логические нормы мыслительной работы
здесь уже не могли помочь, ибо все их соблюдали. Дело было все-таки в другом:
участники стали ставить разные цели и соответственно исходить из разных оснований.
Так возникла необходимость понять: а) возможности коммуникации и б) возможности
организации совместной деятельности в этих условиях, в) принципы такой организации и
уже, наконец, г) законы коммуникации и д) законы развертывания совместной
интеллектуальной деятельности, е) формы коммуникации, ж) формы организации.
Стало понятным к тому же, что поддерживать в этих условиях коллективную
работу на прежнем уровне можно было только одним способом: надо было разделить
кружок на части в соответствии с относительно однородными системами парадигм.
Собственно говоря, так и происходило на предшествующих этапах развития кружка:
он делился к тому времени уже дважды - в 1957 и 1961 гг. В 1965 г. по этой же схеме
произошло третье разделение - выделилось "системное направление". Но
значительная часть членов кружка стремилась сохранить единство. Поэтому надо было
искать другие формы организации работы и коммуникации в новых условиях.
Для этого прежде всего надо было разобраться в сложившейся ситуации и
наметить возможные теоретические формы перестройки и реорганизации ее. Решить
эти задачи путем организационно-методической рефлексии было невозможно,
поскольку новых форм организации коллективной работы еще не было.
Единственным реальным материалом, на который можно было опираться, были разрывы в
прежней деятельности, возникшие из-за дезорганизации коммуникации и вызванной
этим дезорганизации коллективной работы, которая, сохраняя все элементы и
составные части, тем не менее не удовлетворяла требованиям целостности.
Следовательно, именно коммуникацию и создаваемую ею коллективную интеллектуальную
работу нужно было делать предметом теоретических и дальше -
специально-научных исследований, чтобы выяснить, какие же собственно формы организации
коллективной интеллектуальной работы и какие формы коммуникации внутри нее
вообще возможны.
Таким образом, эта очень сложная и даже критическая ситуация заставила
перевести методологические проблемы организации коллективной работы, обсуждав-
* В 1964 г. были сделаны и в 1965 г. опубликованы первые работы по организации коллективной
интеллектуальной деятельности и роли рефлексии в этом процессе. Коллективная деятельность людей в группе и
взаимоотношения их в процессе ее стали исследоваться в рамках ММК по крайней мере с 1958 г. Но это не привело и не
могло привести к идее коллективной работы и к изучению процессов коммуникации. Нужна была более
определенная и более заостренная, если можно так выразиться, социотехническая установка.
180
шиеся раньше в организационно-методической форме, на уровень онтологических -
и дальше - предметно-теоретических проблем. В 1964-1965 гг. были сделаны и
опубликованы первые работы, посвященные организации коллективного
интеллектуального процесса и роли рефлексии в нем. И с тех пор направление теоретических
и собственно научных исследований все более утверждалось в рамках кружка.
На передний план выдвинулись понимание и рефлексия - то, что при
логико-нормативных исследованиях мышления оставалось на заднем плане и рассматривалось
как добавка и приложение к процессам мышления. Произошла своеобразная пере-
центрация проблем. При изучении деятельности как таковой главным стал уже не
процесс мышления, а процесс рефлексии; последний легко и естественно
вписывался в позиционные и кооперативные схемы деятельности, в то время как связи
деятельности и мышления из-за сложности и разноплановости их до сих не
проработаны и не выяснены даже в своих основных чертах.
Еще несколько лет проблемы рефлексии и понимания (уже после того как они
были переведены в теоретическую и предметную или квазипредметную форму)
обсуждались во многом независимо от проблем мышления и развертывались в своих
самостоятельных предметах, которые существовали рядом с предметом теории мышления.
В принципе ни представления о рефлексии, ни представления о понимании не могли
претендовать на то, чтобы заменить или как-то вытеснить представления о
мышлении, тем более - встать на их место. Но подобные представления и оппозиции
складываются сами собой по законам социальной человеческой деятельности: всякий новый
круг идей может провозгласить свою значимость и социально утвердиться только за
счет противопоставления себя чему-то прежнему и борьбы с этим прежним.
Таким образом, новые схемы стали сталкиваться со старыми невольно, в
практике использования их в тех областях материала, где раньше использовались, и
казалось бы, и дальше должны были использоваться прежние схемы. Естественно, что
эта практика описания и объяснения какого-то материала в новых средствах и по-
новому стимулировала представителей прежней точки зрения попытаться описать
то же самое в старых средствах. Так неявная конкуренция разных средств и разных
подходов превращалась в явное состязание их на одном и том же материале.
Это делало неизбежным уже сознательное сравнение их (чаще всего
"нейтральными" членами кружка, чаще всего неофитами) по строго определенным и сознательно
фиксируемым познавательным функциям и методологическим критериям. À от
сравнения в свою очередь был уже только один шаг до сознательной постановки задачи
синтеза старых и новых представлений, тем более, что использование их для описания и
объяснения одного и того же эмпирического и смыслового материала наталкивало на
мысль о принадлежности их к одной системе - либо деятельностной, либо объектной (в
зависимости от ситуативных ориентации исследователя, ставившего эту задачу).
В силу этого на рубеже 60-70-х гг. проблема единства взаимосвязи
мыслительных процессов (которые по традиции относились преимущественно к
индивидуализированным схемам интеллектуальной деятельности), процессов рефлексии
(которые все чаще и чаще связывались теперь с многопозиционными схемами
деятельности) и процессов понимания (которые начиная с 1969 г. связывались чаще всего со
схемой бинарной коммуникации) стала одной из важнейших для многих членов
Московского методологического кружка.
При этом все эти схемы, с одной стороны, стали усиленно соотноситься и
связываться друг с другом: то схема коммуникации вставлялась внутрь схемы
коллективной многопозиционной деятельности, то, наоборот, схема многопозиционной
деятельности вводилась внутрь схемы коммуникации и выводилась из нее, то
индивидуализированная мыслительная деятельность, зафиксированная в логико-нормативных схемах,
рассматривалась как часть и составляющая коллективной мыслительной
деятельности, а с другой стороны, знания, в которых фиксировались разные аспекты мышления,
понимания и рефлексии, стали одинаково свободно относиться как к схемам индиви-
181
дуализированной интеллектуальной деятельности, так и к схемам коллективной
деятельности, пронизанной коммуникационными связями*.
Естественно, возник вопрос о том идеальном объекте, в рамках которого можно
было бы связать и совместить все эти представления.
Но как только действительность коллективной интеллектуальной работы и
коммуникации была представлена в теоретических схемах, выступающих в роли
онтологических картин и моделей, так тотчас же в действие вступили специфические
механизмы взаимного сопоставления, развертывания и синтеза различных
теоретических представлений, описывающих один объект. Различные знания, фиксирующие с
разных сторон интеллектуальные процессы - понимание, рефлексию и мышление,
стали проецироваться не только на модели и онтологические картины
индивидуальных процессов мышления, но также на модели и онтологические картины внутри-
групповой коммуникации и коллективной интеллектуальной деятельности. И тогда
выяснилось, что последние обладают значительно большей синтезирующей и
объяснительной мощью, чем первые.
Если раньше, рассматривая интеллектуальную работу как индивидуальный
процесс, мы ломали голову и, несмотря ни на какие ухищрения, не могли
правдоподобно объяснить, как связаны друг с другом процессы мышления, понимания и
рефлексии и как они могут быть представлены на схемах внутригрупповой коммуникации и
на схемах позиционной организации коллективной интеллектуальной деятельности,
теперь все это получало совершенно естественное и как бы само собой
разумеющееся объяснение и истолкование в соответствии с наглядной графикой схемы и
обыденным смыслом включенных в нее компонентов.
Эта ситуация вновь приводит нас к важнейшему вопросу всякой
методологической и научно-исследовательской работы: какими должны быть схемы, задающие
идеальный объект изучения, что именно они должны фиксировать или, другими
словами, какая именно структура должна стать ядерной, той, которая будет в
дальнейшем разворачиваться, конкретизироваться, соотноситься с эмпирическим
материалом, что служить принципом оценки и отсеивания его, связывать и объединять
все частные предметы. Именно этот вопрос является главным для всякого
подлинного научного исследования и составляет поэтому один из фокусов всех
методологических проблем, решаемых в процессе задания новых научных направлений и
создания необходимых для них научных предметов6.
В этот период в кружке интенсивно обсуждается проблема соотношения и связи представлений о
деятельности и о коммуникации (см. работы В. Овсяника [архивная папка называется: Г.П. Щедровицкий,
В.В. Овсяник. Тексты в ситуации коммуникации и в ситуации деятельности. 06.1972-04.1973. 272 стр.
машинописи]), но значительно меньше проблемы соотношения и связи коммуникации и мышления.
5Нужно еще предварительно ответить на вопрос, в какой роли выступает та или иная схема. Тогда все
эти понятия дифференцируются соответственно функциям схемы - что такое достаточность а)
схемы-модели, б) схемы онтологической картины объекта, в) организационно-методической схемы и т.д.
6 Почему-то именно эта важнейшая и в каком-то смысле даже единственно решаемая сторона дела
совсем не учитывается во многих работах, претендующих на создание новых направлений и областей
исследования. Считается, что достаточно на уровне смысла указать на необходимость учета и исследования
каких-то сторон нашей действительности и это будет уже значимым методологическим и даже научным
результатом. Широкое распространение этого наивного убеждения способствует появлению на книжном
рынке огромного числа околометодологических и околонаучных публикаций, в которых с
исключительной серьезностью и важностью на псевдонаучном языке пересказываются идеи здравого смысла,
обсуждавшиеся уже столетия, а иногда и тысячелетия назад. Хочется напомнить, что величие Галилея, как
создателя новой науки "механики", состояло отнюдь не в том, что он обнаружил ускоренные движения
(о них писал уже Аристотель), а в том, что он построил сложную геометрико-аналитическую модель
равноускоренного движения и таким образом получил средства для конструктивно-технической имитации
различных ускоренных движений и основанного на этом экспериментального исследования их.
182
Поэтому и в данном случае он, естественно, становится решающим: нужно
совершенно недвусмысленно ответить на вопрос, какие же выводы мы сделаем из всей
интеллектуальной работы ММК (включая сюда и опыт
организационно-методической рефлексии его деятельности) в отношении схем того идеального объекта,
который мы называем "интеллектуальная деятельность".
Отвечая на этот вопрос, мы можем сейчас сформулировать уже предельно резко
то, что раньше лишь подразумевалось и едва намечалось в наших теоретических
разработках: интеллектуальная деятельность как идеальный объект должна
вводиться и задаваться в виде групповой деятельности, организованной в одно целое
структурами коммуникации; коммуникация может рассматриваться либо в виде
внутренних связей и структур в общей групповой деятельности, либо в виде внешней
структуры для интеллектуальных процессов, осуществляемых отдельными членами
группы, но в обоих случаях она будет важнейшим системообразующим фактором
коллективной интеллектуальной работы.
То, что до сих пор рассматривали и описывали в виде "индивидуализированной
интеллектуальной деятельности", является вырожденным случаем и может существовать в
качестве полной и самодостаточной интеллектуальной деятельности только при условии,
что она имитирует и воспроизводит (пока неясно, в какой форме) групповые
взаимоотношения и групповую деятельность. "Индивидуализированные мыслительные процессы",
которые мы до сих пор воспроизводили в логических нормативных схемах и теоретически
описывали на базе этих схем, не могут интерпретироваться в качестве изображающих
полную интеллектуальную деятельность, или полный интеллектуальный процесс (хотя
они по-прежнему могут и должны использоваться в качестве логических норм
мышления); эти схемы точно так же не могут интерпретироваться в качестве изображающих
части коллективной деятельности: соотнесение их со схемами групповой интеллектуальной
деятельности представляет собой особую процедуру, которую надо будет осуществлять
специально после того, как будут построены модели и онтологические картины
групповой интеллектуальной деятельности.
Таким образом - я резюмирую сказанное - если мы хотим "схватить"
интеллектуальную деятельность в ее системности, выявить ее целостную структуру и понять
взаимосвязь образующих ее процессов мышления, понимания и рефлексии, то. должны
начинать анализ не с индивидуализированного интеллектуального процесса и
соответственно не с интеллектуальной деятельности отдельного человека, а с интеллектуальной
деятельности группы, более того - со структуры коммуникации, существующей в
группе, и из этого затем выводить, во-первых, многообразие интеллектуальных процессов,
развертывающихся внутри нее, и их взаимосвязи друг с другом, а во-вторых, формы
организации и динамику совокупной интеллектуальной работы группы.
Подготовлено к публикации Г. Давыдовой
183
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Д.Б. БОГОЯВЛЕНСКАЯ. Психология творческих способностей. М.: "Академия",
2002,318 с.
Как справедливо отмечал замечательный
психолог и философ В.В. Давыдов, в современной
психологии оказываются невероятно блеклыми,
неразработанными представления о личности именно в
силу того, что очень слабо разработана
логико-психологическая проблема изучения творчества. Книга
Д.Б. Богоявленской во многом заполняет
имеющийся пробел в области разработки современных
методов изучения творчества. В ней подводится
итог тридцатилетней деятельности по изучению
творческих способностей человека и приводятся
данные лонгитюдных исследований и наблюдений
за процессами решения творческих задач.
Многоплановое исследование Д.Б.
Богоявленской выполнено на стыке нескольких
дисциплинарных областей - психологии личности,
гуманитарных исследований способностей,
междисциплинарных исследований проблем творчества, психологии
одаренности. Автор достаточно последовательно и
тщательно разбирает западные подходы к
изучению творческих способностей, показывая, что
накопленный опыт и методический арсенал западной
тестологии не позволяет исследовать именно
творчество. Для того чтобы изучать творчество,
необходимо анализировать не ответы испытуемых на
тестовые задания, а сами акты творчества. "Но в
этом-то, - как замечает автор, - и вся проблема:
как создать такой экспериментальный метод, при
котором испытуемый мог бы осуществлять внешне
нестимулированный акт творчества в соответствии
с собственными индивидуальными
возможностями" (с. 67). Исследователь показывает, что
основные понятия описания творчества до настоящего
момента остаются весьма неопределенными и
метафоричными. Так, попытка Дж. Гилфорда выделить
в качестве основы творческих интеллектуальных
процессов дивергентное мышление, которое в
последующем большинство американских
психологов напрямую стало связывать с креативностью,
вряд ли может рассматриваться успешной. Более
того, усиленное развитие дивергентности как
способности мыслить "вширь", проявляющейся в
возможности генерировать оригинальные необычные
идеи, стимулируя фантазию, может тормозить
развитие самого мышления (см. с. 75). Подобные
нестандартные мысли часто оказываются слабо
связанными между собой. Как показывают
исследования других авторов (В.Н. Дружинин, 1995), высокая
оригинальность связана с невротизацией
личности. Такой же неопределенной с точки зрения
выявления механизмов творчества является и
концепция латерального ("бокового") мышления Э. де
Боно.
Основную сложность в изучении творческого
процесса Д.Б. Богоявленская видит в его спонтанном
характере и отсюда своеобразном парадоксальном
требовании, которому должен удовлетворять метод,
позволяющий выявлять механизмы творчества. По
ее мнению, необходим синтез в структуре метода на
первый взгляд взаимоисключающих характеристик.
С одной стороны, испытуемый должен выполнять
предложенное ему задание, с другой - он должен
выходить за рамки требований этого задания.
Замыкание всех действий и всех реакций испытуемого
только областью ответа на предложенное задание не даёт
возможность изучать творчество. Последовательное
разрешение данного парадокса и позволило Д.Б.
Богоявленской создать оригинальный метод
"креативное поле". Важнейшая основа этого метода состоит в
том, чтобы создать условия изучения деятельности
испытуемого "не как ответ на стимул" (с. 99). Эти
условия создаются за счёт того, что в методике есть
два слоя деятельности. Первый слой связан с
решением предложенных испытуемому задач. Этот слой
представляет собою заданную деятельность. Второй
слой является замаскированным, скрытым,
существующим имплицитно - "это деятельность по
выявлению скрытых закономерностей, которые содержит
вся система задач, но открытие которых не
требуется для их решения" (там же). От испытуемого
требуется решить задачи, но от него не требуется
анализировать структуру всей системы задач, их
взаимосвязь. Эту работу испытуемый может осуществлять в
эксперименте лишь по своей собственной
инициативе. "Дальнейший анализ материала, который не
диктуется утилитарной потребностью выполнить
требуемое (решить задачу), мы образно и
называем вторым слоем. Поскольку переход в него
осуществляется после требуемого решения задачи по
инициативе самого испытуемого, то в этом, и
только в этом смысле мы говорим об отсутствии
внешнего стимула деятельности" (там же). В
соответствии с данными требованиями автором в
рамках указанного метода были созданы достаточно
трудоёмкие релевантные методики
индивидуального эксперимента (см. с. 101).
Что же собственно изучается на основе
данных оригинальных методик? Предметом анализа в
184
эксперименте является возможность (или,
наоборот, невозможность) испытуемого в
определённый момент проявить собственную инициативу в
развитии осуществляемой деятельности, что
позволяет увидеть новый ракурс исходной ситуации и,
более того, порождает новую проблему,
становящуюся предметом его деятельности. Таким
образом, данный момент самодетерминации, развитие
деятельности по собственному почину образует
четко фиксируемую в эксперименте границу
между разными процессами деятельности
испытуемого. Момент самоорганизации, самодеятельности в
эксперименте является самым тонким и наиболее
ключевым моментом, позволяющим
анализировать спонтанность испытуемого - обязательную
характеристику процессов творчества. Д.Б.
Богоявленская на основе созданного метода построила
предмет психологического исследования,
позволяющий выявлять и делать предметом изучения
процессы самоорганизации испытуемого, самого
полагающего рамки действий в ситуации и
определяющего временные и содержательные границы
своей деятельности. Таким образом, с одной
стороны, понимание испытуемым
экспериментального задания, а с другой стороны, осуществление
поисковой деятельности за рамками оговоренного
задания и предполагаемого ответа создает в
эксперименте своеобразный средовой континуум
(ландшафт). Этот средовой континуум позволяет
объективировать основные особенности процесса
самоинициации исследовательской деятельности
испытуемого.
На основе разработанного метода автор
выделяет типы творчества по критерию нестимули-
рованного выхода на открытие закономерностей,
имплицитно содержащихся в системе
экспериментальных заданий, соответствующие разным
уровням интеллектуальной активности (ИА): стимуль-
но-продуктивный, эвристический и креативный.
Для первого (нулевого) уровня ИА характерно
восприятие предлагающихся задач как частных.
Деятельность продуктивна, поскольку они находят
способ решения задачи, но она каждый раз
стимулируется требованием решить предъявляемую
задачу. Испытуемые, у которых был зафиксирован
второй (эвристический) уровень ИА, имея
надежный алгоритм решения, продолжают анализ всей
структуры деятельности, сопоставляя задачи друг
с другом, что приводит к открытию новых общих
закономерностей для системы задач. Здесь задача
решается на уровне "особенного". На третьем
(креативном) уровне ИА найденные
закономерности доказываются, выделяется их исходное
основание. Это - решение проблемы на "всеобщем"
уровне. Данные уровни обнаружены и
просмотрены исследователем в разных областях практики и
на разных возрастных этапах у почти 7500
испытуемых, проходивших обучение в разных системах
образования.
С точки зрения анализа процессов,
происходящих в так представленном эксперименте, мы бы
хотели обратить внимание на сам мыследеятель-
ностный тип процесса - развития деятельности,
который инициируется испытуемыми,
выходящими за рамки эксплицитно заданного
экспериментального задания. Мы в психологии и методологии
гуманитарного знания являемся сторонниками
разработанного Г.П. Щедровицким подхода,
предложившего при анализе всякой полной системы мыс-
ледеятельности различать мышление, общение, а
также процессы рефлексии и понимания. С точки
зрения этого подхода типом процесса, на основе
которого испытуемый может осуществлять
интеллектуальную активность, являются либо "чистая"
рефлексия, либо рефлексивное мышление. Основной
характеристикой осуществления перечисленных нами
разновидностей рефлексивных процессов является
спонтанность или свобода в их инициации.
Очень важно, что, с точки зрения
исследователей рефлексии и рефлексивных процессов
(Н.Г. Алексеев, О.И. Генисаретский, В.И. Слобод-
чиков, Г.П. Щедровицкий), рефлексии нельзя
научить и рефлексию невозможно вызывать
произвольно. В рефлексивном состоянии можно
оказаться.
Возвращаясь назад к замечательному
апробированному методу Д.Б. Богоявленской, мы бы
взяли на себя смелость утверждать, что его основу
составляют метакогнитивные рефлексивные
способности, наличие которых испытуемый должен
обнаружить спонтанно, самостоятельно проявить.
При внимательном чтении монографии
благодаря фундаментальному рассмотрению
затрагиваемой проблематики становятся очевидными ряд
вопросов, среди которых для нас центральным
выступает неразработанность самого понятия
"способности" в отечественной и мировой литературе.
Оно пока, несмотря на все оговорки, сближается и
синонимизируется в отечественной литературе с
понятием психического процесса. И это
характерно для исследований В.Д. Шадрикова и В.Н.
Дружинина, в целом работ перспективных и
прорывных. Вместе с тем с точки зрения деятельностного
подхода обязательным моментом рассмотрения
способностей является построение представления о
способе действия, коммуникации, мышления,
понимания, рефлексии, воображения (О.И.
Генисаретский), трансценденции (Н.Г. Алексеев). Именно
способу действия, мышления, коммуникации,
соотнесенному с объективным логическим анализом, с
субъективной психологической стороны анализа
соответствует способность как субъективная
возможность организации и построения данного
процесса. И здесь нам вслед за В.В. Давыдовым
кажется, что продвижение в этой области требует
логического анализа разных инструментализированных
(способ, прием, процедура, операция, метод,
техника) и аксиологизированных (ценность, состояние,
переживание) характеристик процессов
активности, которые в форме описания может
использовать личность для организации своих творческих
состояний. Именно прорыв в понимании
логической структуры способностей, соотнесенной с
анализом способов мышления и техник управления
состояниями сознания, может создать новое поле для
изучения творчества.
Но подобные логические различения могут
иметь смысл для изучения творчества лишь после
того, когда мы на основе работ Д.Б. Богоявленской
уже усвоили, что творческая личность способна
сама себе ставить задачи, менять рамки задания,
формировать новый ракурс рассмотрения ситуации,
185
выявлять новую, ещё не сформулированную
проблему, настраивать интенциональность сознания,
перестраивать структуру своих поисковых
действий, самостоятельно намечать критерии
успешности/неуспешности собственной работы и
определять границы собственной поисковой
деятельности. Эта дифференцируемая среда поиска и
творческих проб, являясь в значительной степени
независимой от задания экспериментатора,
удерживается лишь волевым потенциалом самой
личности.
На основании метода "креативное поле" и его
возрастных модификаций исследователю удалось
фактически изучить самоинициируемую
активность на разных возрастных этапах и проследить
влияние множества факторов на развитие
творческих способностей. Д.Б. Богоявленская показывает,
что разработанный ею метод позволяет
анализировать уровень проявления интеллектуальной
активности независимо от профессиональной
подготовленности испытуемых, форм организации учебного
процесса. Интеллектуальная активность является
сложным интегральным свойством, обеспечиваю-
Существует определенный парадокс "пустых"
периодов в развитии философского и,
соответственно, историко-философского знания, когда это
развитие как бы приостанавливается. Феномен
этот трудно объяснить, поскольку всякий раз он
детерминируется разными обстоятельствами: сменой
парадигм, накоплением эмпирических знаний,
требующих философского осмысления, влиянием
социально-политических "заказов" и т.п. В настоящее
время этим феноменом характеризуется область
теории и методологии истории философии. Уже
много лет она является невостребованной; ни
статей, ни тем более монографий по теории и
методологии истории философии в печати не появляется.
Издание монографии известного историка
философии Захара Абрамовича Каменского (1915-1999)
является не исключением, а напоминанием того
периода 80-х годов, когда область теории и
методологии истории философии была наиболее
востребована историками философии.
Книга завершает задуманную автором
трилогию, посвященную теории и методологии истории
философии, в которую вошли ранее изданные им
"История философии как наука" (М, 1992) и
"Философия как наука" (М., 1995). Своеобразным
дополнением этой трилогии можно считать
монографию "История философии как наука в России XLX-
XX веков" (М., 2001), изданную, как и
рецензируемая книга, уже после смерти ученого.
Теперь, когда опубликована последняя
теоретико-методологическая работа З.А. Каменского,
можно говорить о цельной и оригинальной
концепции историко-философского знания, предложенной
им. Ее идеи и основные контуры были намечены
автором значительно раньше, в ряде статей 60-
80-х гг.
щим взаимосвязь личностной и когнитивной
подсистем человека. Осуществляющийся в ситуации
эксперимента выбор - продолжать аналитическую
деятельность или нет, которая непосредственно не
требуется от испытуемого, предполагает
использование экзистенциального анализа личности, ее
нравственных характеристик как необходимого момента
процесса творчества. Этот момент нравственного
выбора и личностного преодоления,
включенность в процесс творчества личностного смысла
обнаруживается у испытуемых через много лет
при повторном проведении с ними эксперимента,
что указывает на воспроизводимость феноменов,
изучаемых при помощи данного метода.
Книга Д.Б. Богоявленской - лучшая на
сегодня работа по психологии творчества, которая
написана на высоком научном философско-психоло-
гическом уровне. А кое-где доброе ироническое
повествование автора позволяет избежать
излишней сухости по необходимости академического
изложения.
Ю.В. Громыко
Рецензируемая книга - это
концентрированное выражение и дополнение ранее высказанных
З.А. Каменским идей. Две из них автор, предваряя
исследование, формулирует так: 1) "Философия в
моем понимании представляет собой науку о
всеобщем, о всеобщих и общих законах, науку о науках.
Она исследует способы познания, методы наук и
"технологию" научного мышления". 2) "История
философии различается как историография и как
наука. Ее структура, составные части и их
субординация таковы: пропедевтика истории философии,
т.е. ее предмет, статут и структура; теория
историко-философского процесса (его закономерности);
учение о целях и формах историко-философского
исследования', наконец, методология - учение о
методах, используемых при изучении истории
философских учений" (с. 7). Другие идеи, ранее
высказанные автором, обстоятельно доказываются,
приобретая в конечном итоге систему методологии
истории философии. В этой системе имеется ряд
стержневых теоретико-методологических
доминант, причем многие из них были впервые
сформулированы З.А. Каменским.
К ним относится прежде всего концепция двух
обобщающих форм историко-философского
исследования - всемирно-исторической, изучающей
процесс философского развития человечества в
плане воспроизведения кумулятивного характера
философского познания и поступательного
проникновения человечества в предметную область
философии, и конкретно-исторической
(национальной, страноведческой), изучающей
конкретно-историческое бытие философского знания в
рамках истории отдельного народа. Каждая из них
имеет свои отличительные черты,
заключающиеся в способе организации эмпирического материа-
З.А. КАМЕНСКИЙ. Методология историко-философского исследования. М.: ИФ РАН,
2002,371с.
186
ла, в целях и форме его изложения и в методах
исследования. Но прежде чем обстоятельно
изложить методологию каждой из этих историко-
философских форм исследования, автор дает свое
понимание "метода историко-философского
исследования" и "рациональной реконструкции
историко-философского процесса". Это тем более важно
было сделать, что в их определении до сих пор
существует разнобой. Согласно З.А. Каменскому,
"исследовательские средства (способы, приемы,
процедуры, словом, операции), с помощью которых
оптимальным образом осуществляется историко-
философское исследование в определенной форме,
т.е. достигается определенная его цель, называются
его методами, а учение об этих методах -
методологией историко-философского исследования" (с. 75).
При этом автор подчеркивает, что, поскольку эти
методы суть некоторые рекомендации,
предписания (императивы), а в основе понимания
методологии лежит идея цели, предложенную концепцию
методологии необходимо понимать как
"императивно-целевую концепцию методологии историко-
философского исследования". Кроме того, автор
вводит понятие "рациональной реконструкции
историко-философского процесса", позволяющей
отличать его от простой эмпирической или от
нерациональной реконструкции. Подобная
рационализация или рациональная реконструкция историко-
философского процесса, построенная как
достижение сознательно поставленной цели и проводимая
посредством специально разработанных для этого
средств-методов, и является той методологией,
которая позволяет провести строго научное
историко-философское исследование. Другое дело, что у
каждой из вышеназванных двух обобщающих форм
историко-философских исследований имеются свои
специфические методы, анализу которых автор
посвятил три последние главы монографии, разделив
их на общие и специальные.
Что касается общих методов, то необходимо
отметить еще одну теоретико-методологическую
новацию З.А. Каменского. Много лет назад он
высказал идею тройной детерминации
происхождения и развития философского знания, а в
рецензируемой книге еще раз ее доказательно обосновал.
Речь идет о детерминации предметной, социально-
исторической и по традиции. В методологическом
отношении каждая из них имеет свою операцио
нальность, соответственно: 1) редукцию и
реконструкцию, 2) опосредование и селекцию, 3)
определение характера выбора в зависимости от
стоящих задач.
На большом теоретико-методологическом
материале автор решает не менее важные
методологические проблемы истории философии - единства
развития философского знания и связанный с ним
принцип методологического универсализма, а
также дивергентности и кумулятивности
философского развития в связи с методами историзма и
партийности. О последнем необходимо сказать особо.
С момента крушения большевистской
моноидеологии этот метод стал с ней отождествляться.
Историки философии, особенно молодые, отдают
предпочтение методу объективизма, забывая о старых
традициях партийности в философии, высказанных
задолго до Энгельса и Ленина. З.А. Каменский
тщательно проанализировал все аспекты
появления, проявления и применения метода партийности,
его существенные характеристики (см. с. 144-145) и
предложил свое понимание этого меода в истории
философии: "Партийность как метод в его наиболее
общем определении означает необходимость
(предписание) аксиологической характеристики философских
учений, т.е. необходимость оценить или
квалифицировать их по тем критериям, которые выявлены
анализом закономерностей историко-философского
процесса - по детерминированности
(социально-исторической и предметной), дивергентности и
кумулятивности" (с. 146).
Анализ автором специальных методов
историко-философского исследования во
всемирно-исторической и национальной форме не менее
значителен для истории философии. С присущей З.А.
Каменскому методичностью и скрупулезностью в
монографии осуществлен анализ как старых
методов (восхождение от абстрактного к конкретному,
историческое и логическое, принцип историзма) с
построением "исторической категорологии базовой
философской системы", так и новых, связанных с
историей философии отдельного народа, приоритет
в разработке которых принадлежит ему. К
последним автор отнес формы существования
философских идей (направление, школа, философская
система, идея), а также важнейшие методологические
проблемы, прежде всего периодизацию как
фиксацию качественно различающихся этапов развития
национальной философии, и их развитие в объеме
собственно философского содержания и в
социально-исторической периодизации.
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что
историки философии получили многоаспектную по
объему рассматриваемых проблем и вместе с тем
цельную монографию, заполняющую
малоисследованную нишу истории философии как науки. А
теоретико-методологическую трилогию З.А.
Каменского в целом можно оценивать как итог
многолетних изысканий ученого, который составляет честь
не только ему, но и Институту философии РАН, в
стенах которого эта трилогия создавалась.
В заключение хотелось бы высказать два
замечания в жанре, так сказать, "воспоминаний о
будущем". Первое связано с тиражом книги. Тираж в
100 экземпляров объясняется прозаическими
обстоятельствами: книга издана на средства вдовы и
сына ученого. Книга такого тиража может
оказаться лишь в самых крупных библиотеках
страны. Ни за рубежом, ни в вузовских центрах, где
есть философские факультеты и преподается
история философии, она вряд ли будет доступна. И
почему бы не пожелать одному из крупнейших
научных издательств опубликовать все три (или
даже четыре) теоретико-методологические
монографии З.А. Каменского в едином комплексе?
Второе связано с тем, что после давнего ^учебного
пособия Б.В. Емельянова и К.Н. Любутина
"Введение в историю философии" (М, 1985), которое
на сегодняшний день в чем-то устарело, учебных
книг по методологии истории философии не
издавалось. А они нужны хотя бы для тех десятков
историко-философских диссертаций, чья
методология оставляет желать лучшего.
Б.В. Емельянов (Екатеринбург)
187
Колетт СИРАТ. История еврейской философии в средние века. Иерусалим: Гешарим;
М: Мосты культуры, 2003. 710 с.
Объемистый труд израильской
исследовательницы Колетт Сират знакомит российского
читателя с возникновением самого феномена -
"еврейская философия" и ее развитием в средние века
(до XV в. включительно).
Становление еврейской философии
происходило (при всей важности античного и возникшего
на основе его толкования арабского наследия) в
процессе интерпретации библейских текстов.
Верность библейскому Пятикнижию (Торе) позволила
различным системам еврейской мысли -
философским, каббалистическим, аскетическим - остаться
в рамках иудаизма. При этом автор книги
акцентирует внимание на возникновении ключевой для ее
исследования коллизии: рождении в сознании
еврейских мыслителей идеи Бога философов,
неподвижного и вечного, непознаваемого в своей
сущности двигателя движущихся сфер и не
озабоченного знакомством с конкретным индивидом (ибо
знание видов - более высокий вид знания, чем
знание индивидов). Он был отличен от Бога Библии,
нравственной, обладающей волей и способностью
принимать решения личности, с которым человек
имеет возможность диалогически, порой на
равных общаться лицом к лицу.
Сочинения жившего в Александрии
представителя эллинистической культуры и влиятельного
члена иудейской общины Филона - первый
контакт между греческой философией и библейской
мыслью (о чем говорится во вступительной 1-й
главе книги). По мнению автора, "в состоянии
мистического экстаза Филон созерцал Бога не в
образе восседающего в своем дворце царя, каким Он
являлся Исайе, или в образе величественного
старца, каким Он предстает в пророческом
видении Даниила, а скорее как идею и Свет, то есть
как нечто очень близкое к миру платоновских
идей, вечных архетипов земных вещей, которые
имитируют Идеи и подобно зеркалу отражают их"
(с 31).
Филоновский отказ от антропоморфизма стал
центральной темой и в еврейской средневековой
философии в целом. Между Богом как чистым
интеллектом и человеком Филон учреждает
посредника - многоаспектное, богатое смыслом понятие
"логос".
Развитие еврейской средневековой
философии происходило в ситуации уникального
симбиоза еврейской и арабской мысли. Арабский был
тогда литературным языком евреев. С начала
средних веков и приблизительно до 1200 г.
еврейские авторы в исламских странах писали свои
произведения на арабском языке и могли
принадлежать к любому мусульманскому духовному
направлению. Об этом свидетельствует глава книги
"Мутакаллимы и другие еврейские мыслители,
вдохновлявшиеся мусульманскими теологическими
движениями". Мутакаллимы - последователи
калама, группы мусульманских теологических школ,
которые, наряду с оправданием учения ислама в
сравнении его с христианством, манихейством,
зороастризмом, отстаивали преимущества
рационалистического течения в исламе перед
идеями других его сект. Самой влиятельной из сект
калама была мутазилистская школа,
представители которой называли себя "людьми
справедливости и единобожия", установив границы, предел
Божественного всемогущества - справедливость и
добро: "В определенном смысле Бог и человек
вынуждены считаться с одними и теми же
определениями добра и зла, однако, в отличие от человека,
который имеет свободу выбора, Бог всегда
выбирает только доброе, поскольку Он справедлив" (с.
41). Разработанная мутазилитами концепция
разума стала основой двух иудаистских течений -
ортодоксальных раббанитов и караимов, отрицавших
авторитет Талмуда и традицию раввинистических
толкований, допускавших возможность
самостоятельной интерпретации Писания.
В главе "Неоплатоники" показано, как
неоплатонизм предоставлял готовые
интеллектуальные формы для еврейских мыслителей, даже если
те не были философами. Так, Ицхак Исраэли
разработал поэтическую иерархию душ-теней чего-
то, находящегося ближе к свету божественного
Интеллекта, развивал теорию восприятия, в том
числе и сверхъестественных видений, и применил
к обладателю утонченной рациональной души
Моисею Плотиново понятие экстаза как конечной
цели очищенной души. Пытавшийся соединить
еврейскую философию с астрологией Авраам ибн
Эзра считал Моисея не человеком и даже не
пророком, а чистой, близкой к Богу формой,
способной получать откровение непосредственно от
Бога. К Платону восходит и иерархия душ Йосефа
ибн Цаддика - чистая душа воссоединяется со
своим горним источником, а отягченная
прегрешениями и грузом материи и потому не способная
вернуться к естественному для нее месту будет вновь
вовлечена в движение сфер и никогда не обретет
покоя.
Глава "Иехуда Галеви и Абу-л-Баракат"
посвящена двум не укладывающимся в какие-либо
течения мыслителям. Первый из них после долгих
размышлений о судьбах еврейского народа
написал знаменитую "Книгу хазара", рассказывающую
о выборе религии царем хазар и обращении его в
раввинический иудаизм. В то же время в ней
делается выбор между Богом философов и Богом
пророков. Ведется не столько критика философии,
сколько ее включение в иную, превосходящую ее
систему (что достижимо уже не путем
последовательных логических рассуждений, а нарушающим
иерархию сверхъестественным путем веры). Один
из самых последовательных универсалистов -
перешедший в ислам Абу-л-Баракат утверждал
познание Бога через порядок мира, пользуясь более
чем необычным для средних веков методом
самостоятельных рассуждений, без апелляции к
авторитетам. Его существующий во времени Бог -
личный Бог, непосредственно обращенный к
людям и вполне доступный для познания.
188
Глава "Аристотелизм" посвящена ведущему
представителю названного течения - Аврааму ибн
Дауду, видевшему мнимые, на его взгляд,
противоречия между философией и религией в незнании
аристотелевой философии.
Еще более масштабную задачу согласования
аристотелевой философии и религии поставил
перед собой Маймонид, которому посвящена
отдельная глава книги. Для еврейской мысли эта фигура -
своего рода точка отсчета, эталон, аналогичный
Фоме Аквинскому для схоластики (последний,
между прочим, часто цитировал рабби Моше).
Маймонид описывает разные классы людей с
точки зрения их отношения к знанию, то есть к
поискам Бога: "...провидение бдит над каждым, кто
наделен интеллектом, в соответствии с мерой
присущего ему интеллекта" (с. 287). В "Мишне Тора"
("Книге Знания") Маймонида говорится, что
человек, по сути, не является порочным, однако
индивиды слишком различны, чтобы согласие между
ними было легко достижимо. Большинство из них
являются рациональными существами лишь в
потенции. Простые люди - дети, женщины,
примитивные народы и все те, кто никогда не станут
философами, не могут выносить "сияние истины".
Эти истина передается от учителя к ученику или
проглядывает в текстах "между строк", тогда как
основной массе для праведной жизни достаточно
знать принципы Божественного единства и
нематериальности Бога. Маймонид солидарен с
арабским философом Аверроэсом, полагавшим, что
тот, кто открывает философские истины
простому народу и тем, кто не способен их воспринять,
является "неверным", ибо отвращает людей от
исполнения Божьего Закона и портит их. Сам он,
пожалуй, еще более жесток к такой, выражаясь
современным языком, " образованщине", считая, что
идущих неверным путем "иногда приходится
убивать, чтобы они не сбили с пути других" (с. 246).
В своем главном труде "Путеводитель
растерянных" Маймонид, по мнению автора, "является
частью большой традиции философского эзотеризма,
которая началась с Сократа, Аристотеля и
Платона, нашла продолжение в работах Спинозы и
закончилась (по крайней мере, в демократических
странах, ибо в тоталитарных она жива до сих пор)
с Вольтером, Руссо и, может быть, Кантом" (с.
249). Эта книга оказала шокирующее воздействие
на многих современников, во Франции на нее даже
был наложен херем (религиозный запрет),
который, впрочем, был вскоре снят.
Последующие главы книги К. Сират
построены уже не по принадлежности мыслителей к
идейным течениям, а по хронологическому принципу.
Так, глава "Тринадцатый век" в основном
повествует о критической реакции на учение Маймонида
иудейских философских школ в исламских
странах, Провансе, Южной Испании и Италии. XIII век
стал временем возникновения двух мистических
течений - Хасидей Ашкеназ (хасидим) и кабаллы.
Первое из них - аскетическое мистическое
движение, не столько философское, сколько религиоз-
но-раввинистическое, исходившее из
непознаваемости Бога, оказало огромное влияние на
повседневную жизнь общин. Согласно каббалистам,
сокровенный Бог являет в своем творении что-то от
Своего Непознаваемого Бытия. Божественные
атрибуты, сферот, дают ключ к мистической
"топографии", раскрываемой в многочисленных
метаморфозах библейских и традиционных текстов.
На протяжении всего ХШ в. каббала сближалась с
философией. Отличия - для философа злом было
отсутствие добра, тогда как для каббалиста зло
существовало как позитивная сила, постепенно
развивавшаяся по причине избыточности сфиры
строгого суда, отделяющейся от сфиры любви.
В главе "Четырнадцатый век" речь идет о
самом заметном иудейском мыслителе этого
времени Герсониде.
Глава "Пятнадцатый век" посвящена самому
тяжелому периоду в жизни испанских евреев,
начавшихся погромами 1391 г. и изгнанием из
страны в 1492-м. Тогда пришло также время
замкнутости и духовного кризиса - и очередных
интеллектуальных смотров тех философских пределов, в
рамках которых можно сохранить верность
иудаизму. Родившийся в Каталонии и пострадавший от
гонений, вынужденный перейти в христианство
Ицхак бен Моше ха-Леви писал: "Вера для тебя -
препоясание вокруг чресел, и Разум со всеми его
лживыми речами не способен соблазнить тебя и
совлечь на окольные тропы" (с. 522). Хасдай Ксес-
кас утверждал, что слово "существование" нельзя
использовать в одном и том же смысле в
отношении Бога и других существ, и привел новые
аргументы о сущностной разнице между бесконечным
и конечным. Последние средневековые еврейские
философы Северной Африки, Прованса и Турции
возвращаются к способности Бога знать частности
(Авраам Фриссол распространяет провидение на
каждое индивидуальное существо). XIX и XV в.
отмечены своего рода ренессансом философской
мысли в Йемене на основе толкований
Маймонида. Еврейские философы приняли участие и в
итальянском Возрождении, будучи там открытыми
для восприятия новых способов мъпиления (в
отличие от испанских коллег, более занятых
возведением барьеров вокруг Торы).
Колетт Сират завершает книгу констатацией
глубокого и долговременного влияния
средневековой философии на еврейскую мысль в целом
(особо выделяются три школы - универсалистская
философия Маймонида, еврейский партикуляризм
Иехуды Галеви и неоплатонизм в соединении с
астрологией, в том виде, в котором его ввел в
научный оборот Авраам ибн Эзра, - по сей день
остающиеся неотъемлемой частью еврейского
культурного наследия). Может быть, здесь следовало бы
подчеркнуть мировое значение этой философии,
питавшей, в частности, своими мессианским духом
и русскую религиозную философию (взять хотя
бы филоновское понятие "логоса", которому
посвятил книгу "Учение о Логосе" Евгений
Трубецкой). "Книга Хазара" явно была на столе у Мило-
дана Павича в ходе написания знаменитого романа
"Хазарский словарь". Но проявленная автором
"скромность" лишь подчеркивает основательность
ее труда, который лучше всего расскажет о себе
сам.
А.П.Люсый
189
О НОВОМ ЖУРНАЛЕ "ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ"
Журнал "Эпистемология и философия науки" - периодический печатный орган Института философии
РАН. Он публикуется под грифом Института философии РАН и базируется в Институте философии РАН.
Цель журнала - совершенствование исследовательской работы в области эпистемологии и философии
науки, а также ряда смежных специальностей - логики, истории и психологии науки, социологии научного знания,
когнитивных наук, социальных и гуманитарных дисциплин, изучающих науку и познавательный процесс в
целом. Это призвано укрепить позиции теоретической философии как ядра концептуального мышления и базиса
философского образования. Журнал работает в том же направлении, что и специализированные журналы в
области эпистемологии и философии науки за рубежом (British Journal for the Philosophy of Science, Philosophy of
Science, Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, Epistemologia, Social Epistemology etc.).
Одновременно он способствует и совершенствованию процесса преподавания данных дисциплин в
высших учебных заведениях России. В условиях, когда "Теория познания и онтология" и "Философия
науки и техники" являются ведущими философскими специальностями по классификации ВАКа и
происходит замена экзамена по философии в рамках кандидатского минимума на экзамен по истории и
философии науки, издание специального журнала по данной тематике выполняет важную функцию.
Журнал предназначается для специалистов в области философии; для ученых-гуманитариев и
естественников, интересующихся методологической проблематикой и социально-культурными проблемами науки; для
студентов и аспирантов, изучающих философию, психологию, культурологию; для широкой общественности,
ищущей информацию о новых идеях в философии и науке, о взаимоотношении науки и общества.
Журнал включает следующие постоянные рубрики:
1. "Академия" (программные статьи на фундаментальные темы);
2. "Панельная дискуссия" (статьи двух-трех авторов на одну тему с разных позиций);
3. "Кафедра" (материалы для преподавателей высшей школы: преподавание нового курса по истории
и философии науки; планы общих и специальных курсов, методические рекомендации, анализ учебных
пособий);
4. "Панорама" (обзорные статьи по школам, направлениям и специализациям);
5. "Энциклопедия" (материалы и обсуждения в процессе работы над Энциклопедией эпистемологии и
философии науки, анализ других энциклопедических изданий);
6. "Междисциплинарные исследования" (статьи ученых-нефилософов и работающих в смежных с
эпистемологией и философией науки областях);
7. "Симаозиум" (материалы семинаров и конференций по профилю журнала);
8. "Ученый совет" (материалы о защитах диссертаций по специальностям "Онтология и теория
познания", "Философия науки", "Логика");
9. "Архив" (публикации библиографических редкостей, рукописного наследия);
10. "Контекст" (отношение науки и иных форм культуры, критический анализ мистицизма и мифо-
магического мировоззрения);
11. "Мастер-класс преподавателя" (анализ методической практики преподавания, фрагменты лучших
студенческих работ по профилю журнала с обстоятельным анализом руководителя);
12. "Новые книги" (рецензии, обзоры и списки новой отечественной и зарубежной литературы).
Редколлегия: И.Т. Касавин (главный редактор), А.Ю. Антоновский (ответственный секретарь), В.И. Ар-
шинов, Д.И. Дубровский, В.А. Колпаков, Н.И. Кузнецова (ИИЕиТ), И.К. Лисеев, Л.А. Микешина (МПГУ),
А.Л. Никифоров, А.П. Огурцов, В.Н. Порус (заместитель главного редактора) (ГУ-ВШЭ), В.Л. Рабинович
(Институт культурологии Министерства культуры РФ), В.П. Филатов (РГГУ).
Международный редакционно-издательский совет: B.C. Степин (председатель), П.П. Гайденко, И.Т.
Касавин (заместитель председателя), В.А. Лекторский, X. Позер (Германия), Т. Рокмор (США), Г. Фоллмер
(Германия), С. Фуллер (Великобритания), Р. Харре (Великобритания), К. Хюбнер (Германия), Д.С. Чернавский.
Региональный редакционно-издательский совет (находится в стадии формирования) включает
представителей журнала в российских регионах, которые участвуют в формировании редакционного
портфеля, обеспечивают информацию в журнале, способствуют его распределению.
Адрес редакции: 119842 Москва, Волхонка 14, Институт философии РАН
Телефон: (095) 2039393
Факс: (095) 4255758
Электронная почта: joumal@iph.ras.ru
Журнал будет выходить 4 раза в год, объемом номера до 15 а.л. каждый, тиражом до 1000
экземпляров (в 2004 г. - 2 "пилотных" номера)
С 2004 г. журнал будет распространяться по подписке. .
С 2005 г. он будет выходить ежеквартально.
Редколлегия принимает к рассмотрению материалы объемом, как правило, не свыше 1 а.л. (40 000
знаков). Тексты высылаются в распечатке на бумаге и на дискете в электронном варианте в формате
Word или Rich text format на адрес редакции. К тексту прилагаются сведения об авторе (ФИО полностью,
место работы, должность, ученая степень, звание, адрес, желательно электронный адрес). Электронная
версия высылается также по адресу: iournal(S)iph.ras.ru.
Более подробную информацию см. на сайте: http://iph.ras.ru/~epistem/, а также см. ссылку на журнал
на сайте Института философии РАН: www.iph.ras.ru.
190
Наши авторы
КУЧУРАДИ Иоанна
ХАБЕРМАС Юрген
ГУСЕЙНОВ Абдусалам
Абдулкеримович
ХЕЛЛЕР Агнес
СТЕПИН Вячеслав Семенович
ЛЕКТОРСКИЙ Владислав
Семенович
ЛЕНК Ганс
ЛОБАСТОВ Геннадий Васильевич
МАРЕЕВА Елена Валентиновна
МАЙДАНСКИЙ Андрей Дмитриевич
ДЖОНС Питер Э.
ОЙТТИНЕН Веса
МАРЕЕВ Сергей Николаевич
МЕНЬШИКОВА Елена
Рудольфовна
РОЗОВ Михаил Александрович
РОЗИН Вадим Маркович
МОРОЗОВ Федор Михайлович
191
- президент Международной ассоциации философских обществ,
профессор Университета г. Анкары (Турция)
- доктор философии, профессор (Германия)
- академик РАН, заместитель директора Института философии
РАН. Член редколлегии журнала "Вопросы философии"
- профессор Ввсшей школы социальных наук (Нью-Йорк, США)
- академик РАН, директор Института философии РАН
- доктор философских наук, член-корреспондент РАН, главный
редактор журнала "Вопросы философии"
- доктор философии, профессор Университета г. Карлсруэ
(Германия)
- доктор философских наук, профессор РГГУ, президент
философского общества "Диалектика и культура", председатель
оргкомитета Ильенковских чтений
- доктор философских наук, профессор Московского
государственного университета культуры и искусств
- доктор философских наук, профессор Таганрогского института
управления и экономики
- доктор философии, сотрудник Отдела коммуникативных
исследований Университета Хэллэм (Шеффилд, Великобритания)
- доктор философии, доцент Института философии Университета
г. Хельсинки (Финляндия)
- доктор философских наук, профессор Современной гуманитарной
академии (г. Москва)
- культуролог
- доктор философских наук, ведущий научный сотрудник
Института философии РАН
- доктор философских наук, профессор, заведующий сектором
Института философии РАН
- кандидат философских наук, научный сотрудник Института
философии РАН
CONTENTS
ON THE RESULTS OF XXI PYILOSOPHICAL CONGRESS (bu I. KUCHURADI,
Ju. HABERMAS. A.A. GUSEINOV, A. HELLER, V.S. STEPIN, V.A. LEKTORSKY,
H. LENK. V.G. LOBASTOV. To Logical Definitions of Consciousness. E.V. Ilyenkov and
I. Kant. E.V. MAREEVA. Is there "Ilyenkov School"? A.D. MAIDANSKY. On Nature
Thinking Itself and the Ideal Reality. P.E. JONES. Symbols, Instruments and Ideality by
Ilyenkov. V. ΟΓΓΠΝΕΝ. Ideality Aporias in Dialectical Conception by Evald Ilyenkov.
S.N. MAREEV. E.V. Ilyenkov and Socialism. E.R. MEN'SHIKOVA. Tragic Paradox of
Behaving like Yurodovy or Carnaval Grotesque by A. Platonov. M.A. ROSOV. Born to Think.
V.M. ROSIN. View Evolution and Peculiarities of Schedrovitsky Philosophy. F.M. MOROSOV.
Three Problems in Schedrovitsky Works. P. SCHEDROVITSKY. Intellect and
Communication. BOOK REVIEWS.
Сдано в набор 14.11.2003 Подписано к печати 02.02.2004 Формат 70 х 100Vi6
Офсетная печать Усл.-печ.л. 15.6 Усл.-кр. отт. 66.5 тыс. Уч.-изд.л. 18.9 Бум. л. 6.0
Тираж 4198 экз. Зак. 8047
Свидетельство о регистрации № 011086 от 26 января 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители:
Российская академия наук, Президиум РАН ,
Адрес издателя: 117997 Москва, Профсоюзная, 90
Адрес редакции: 119991 Москва. ГСП-1, Мароновский пер., 26
Телефон 230-79-56
Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6
192