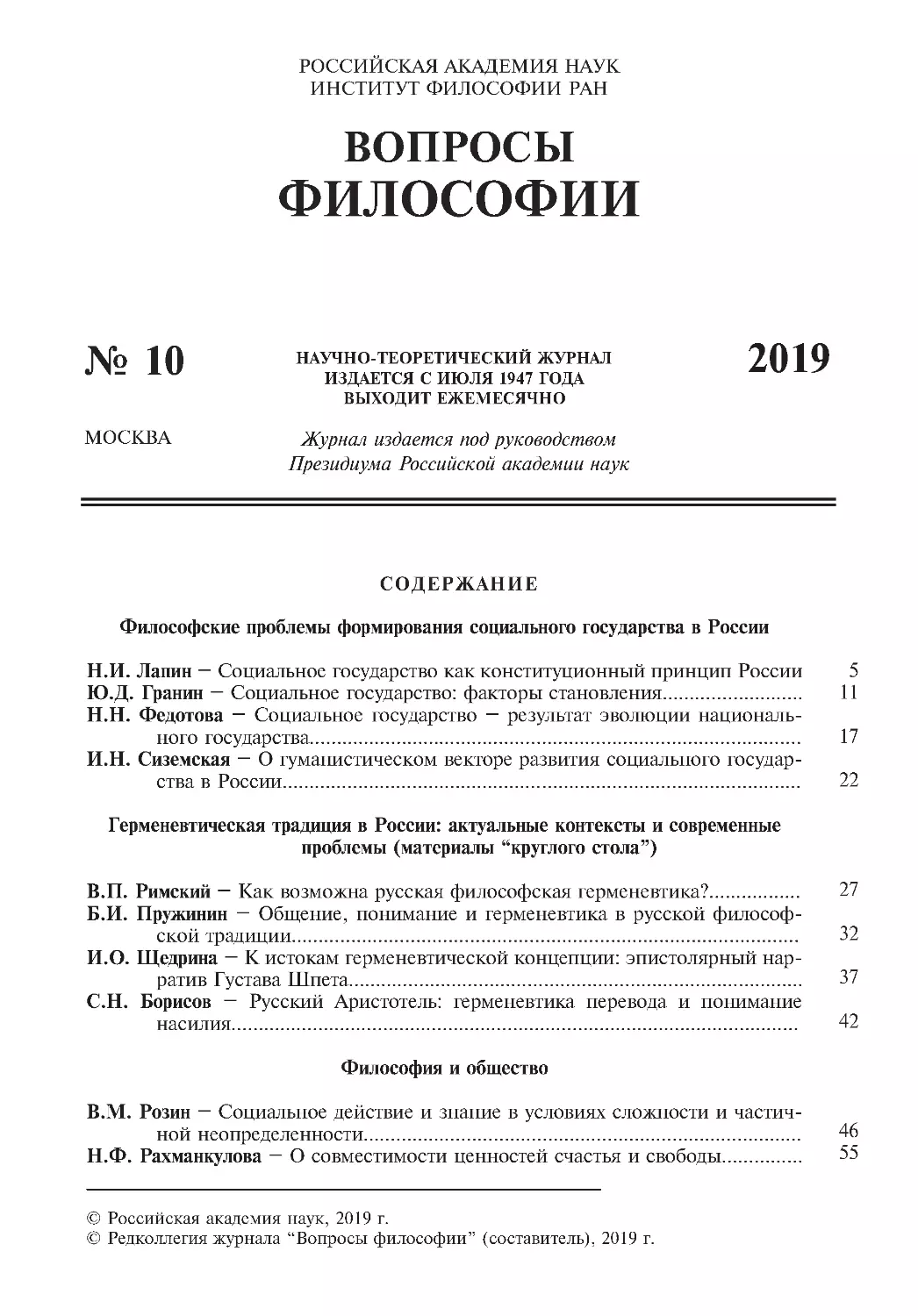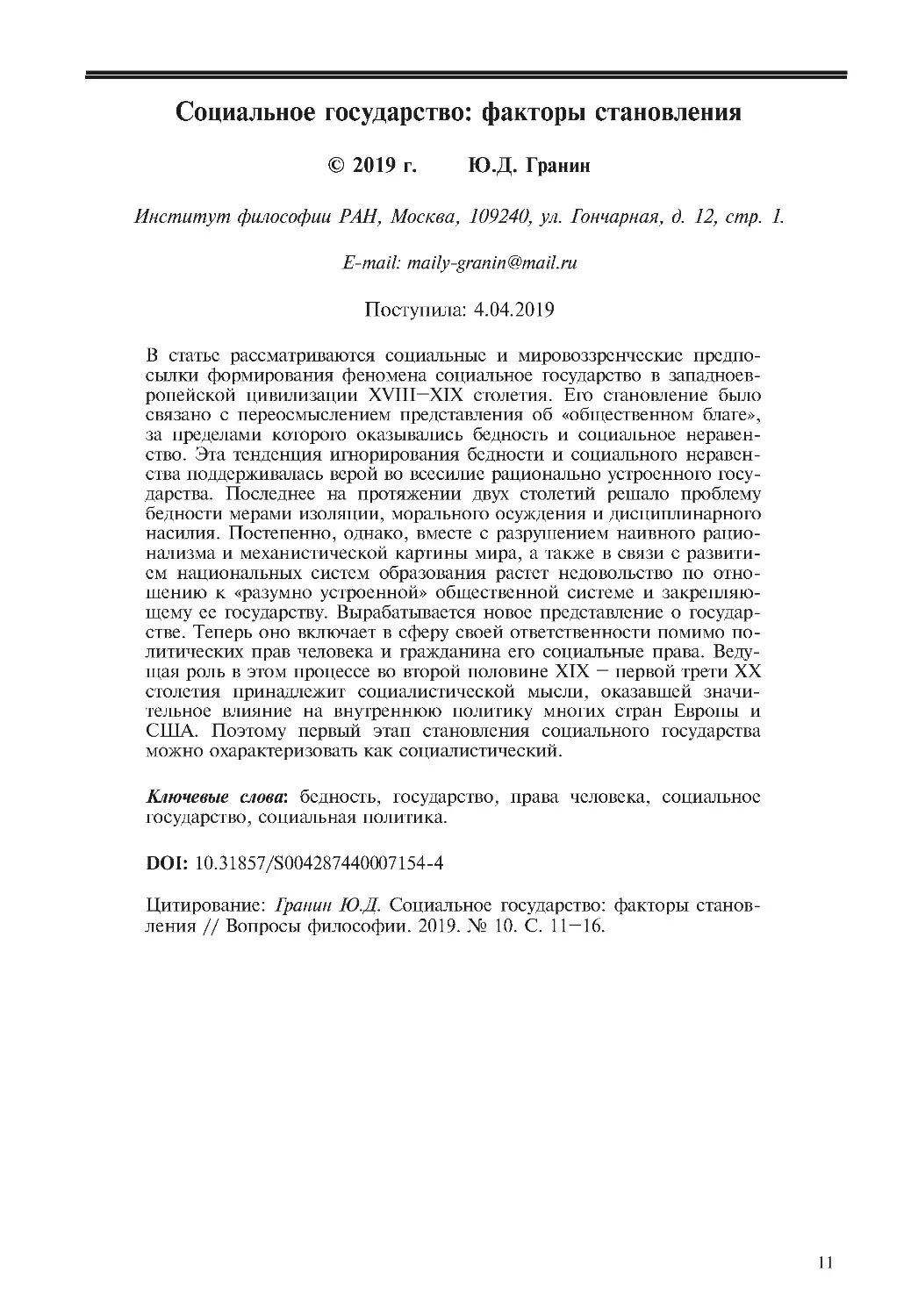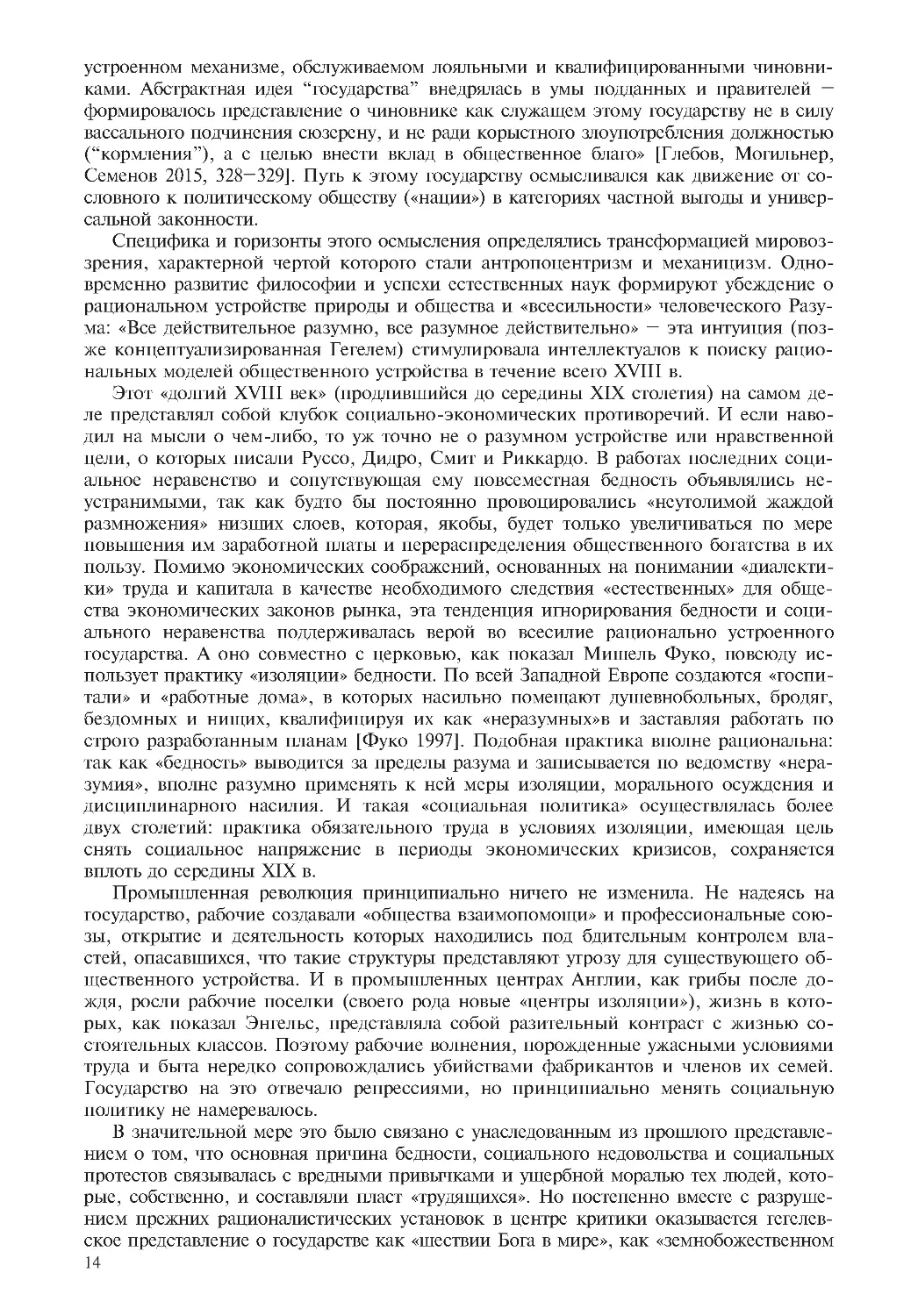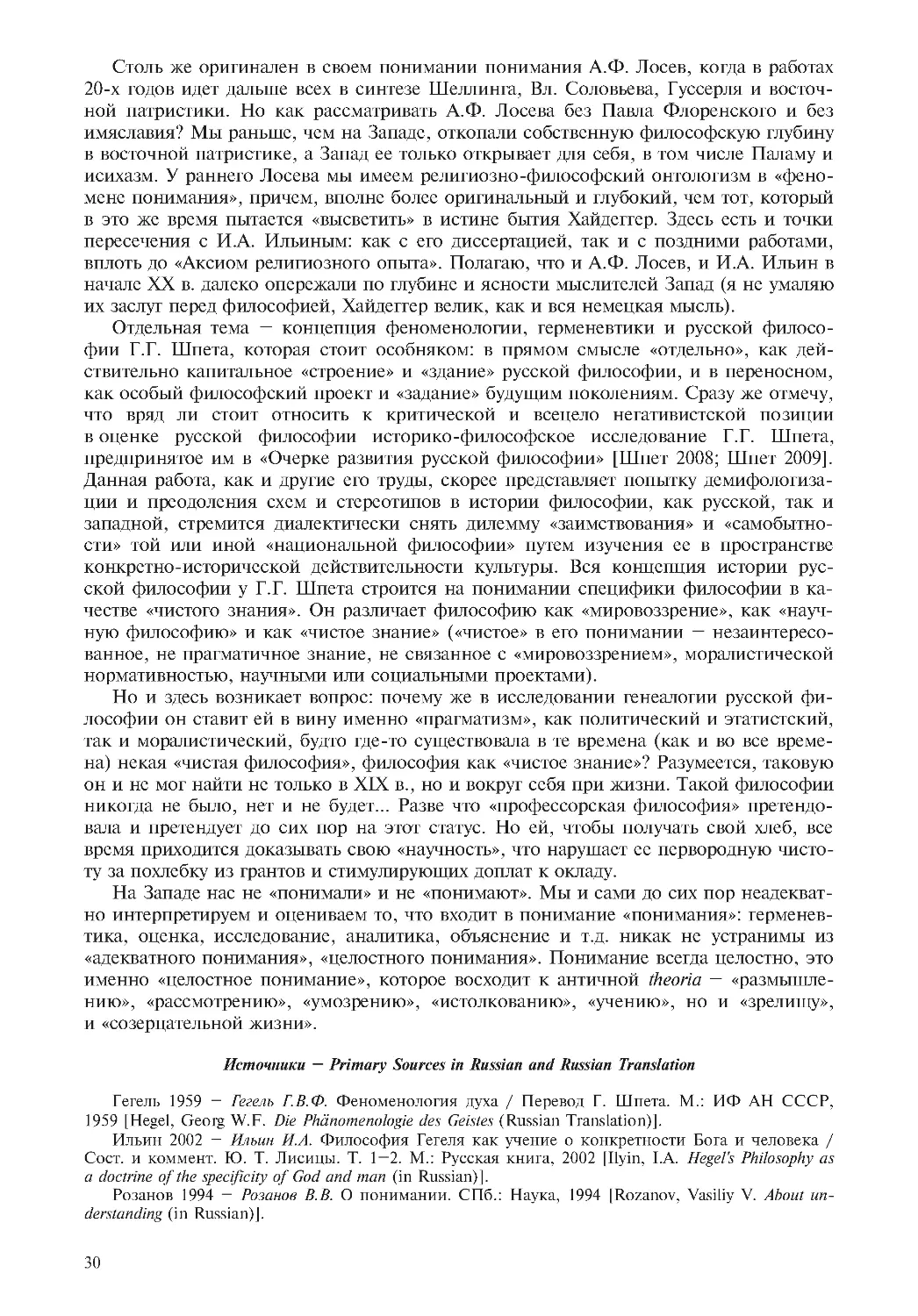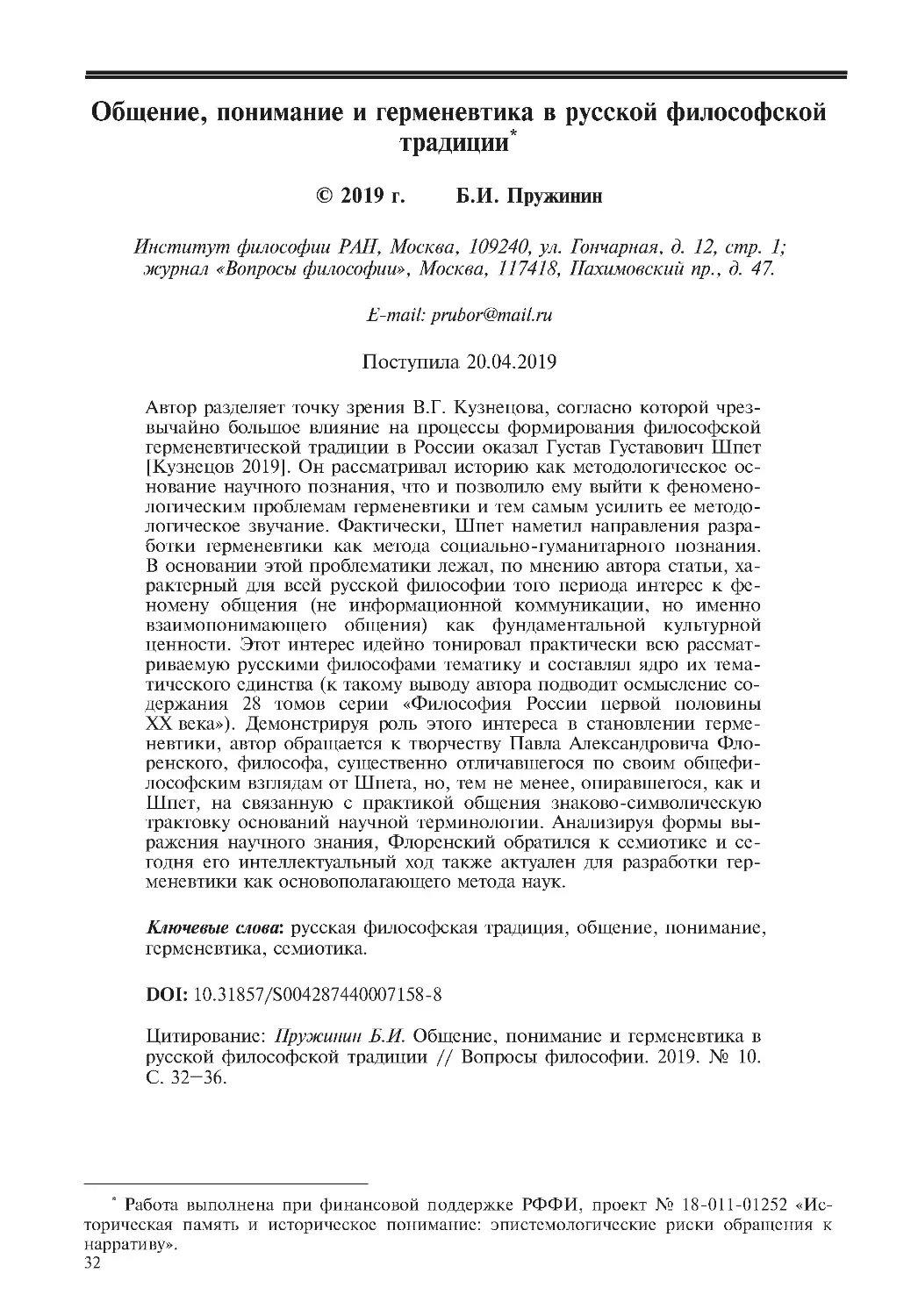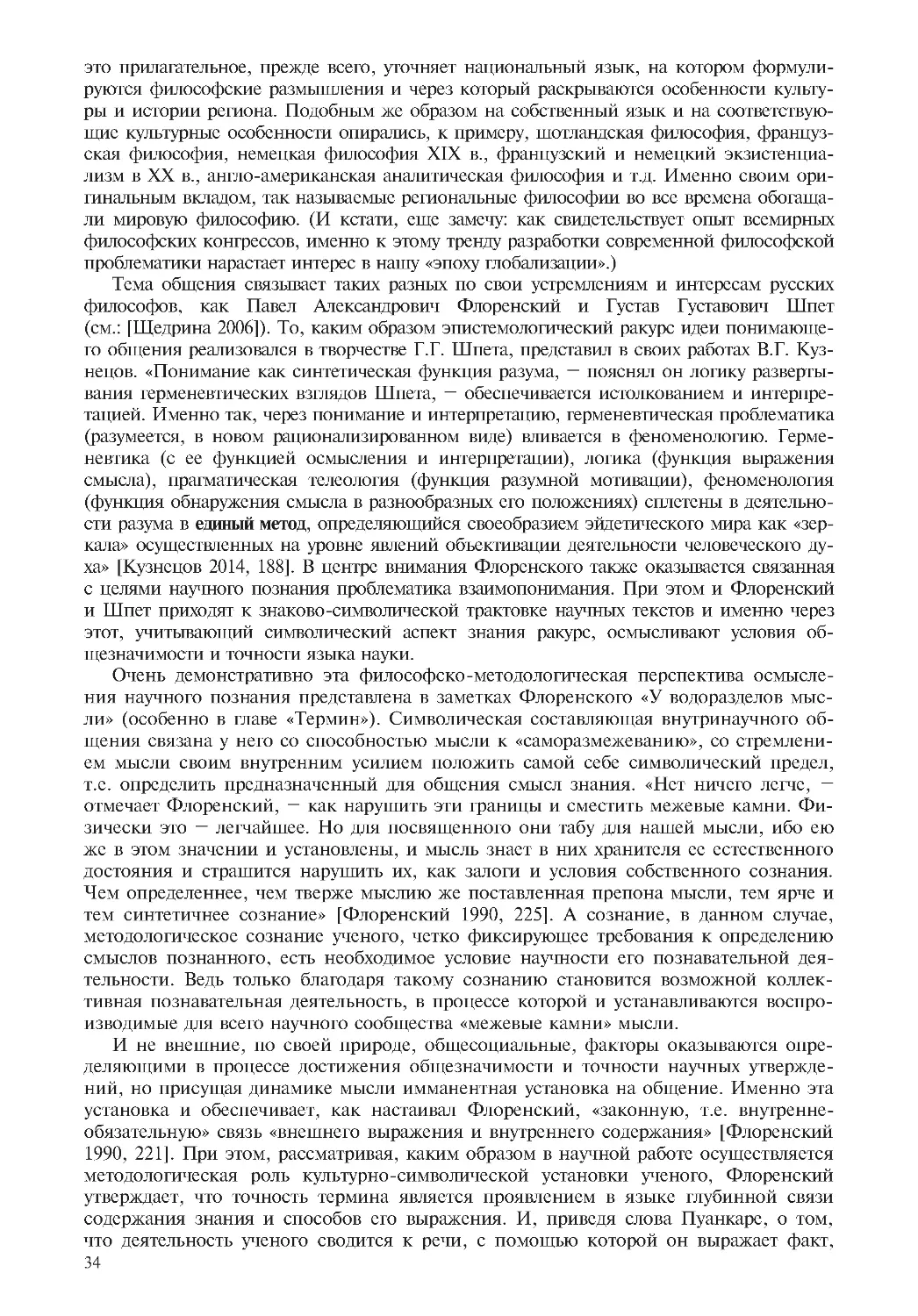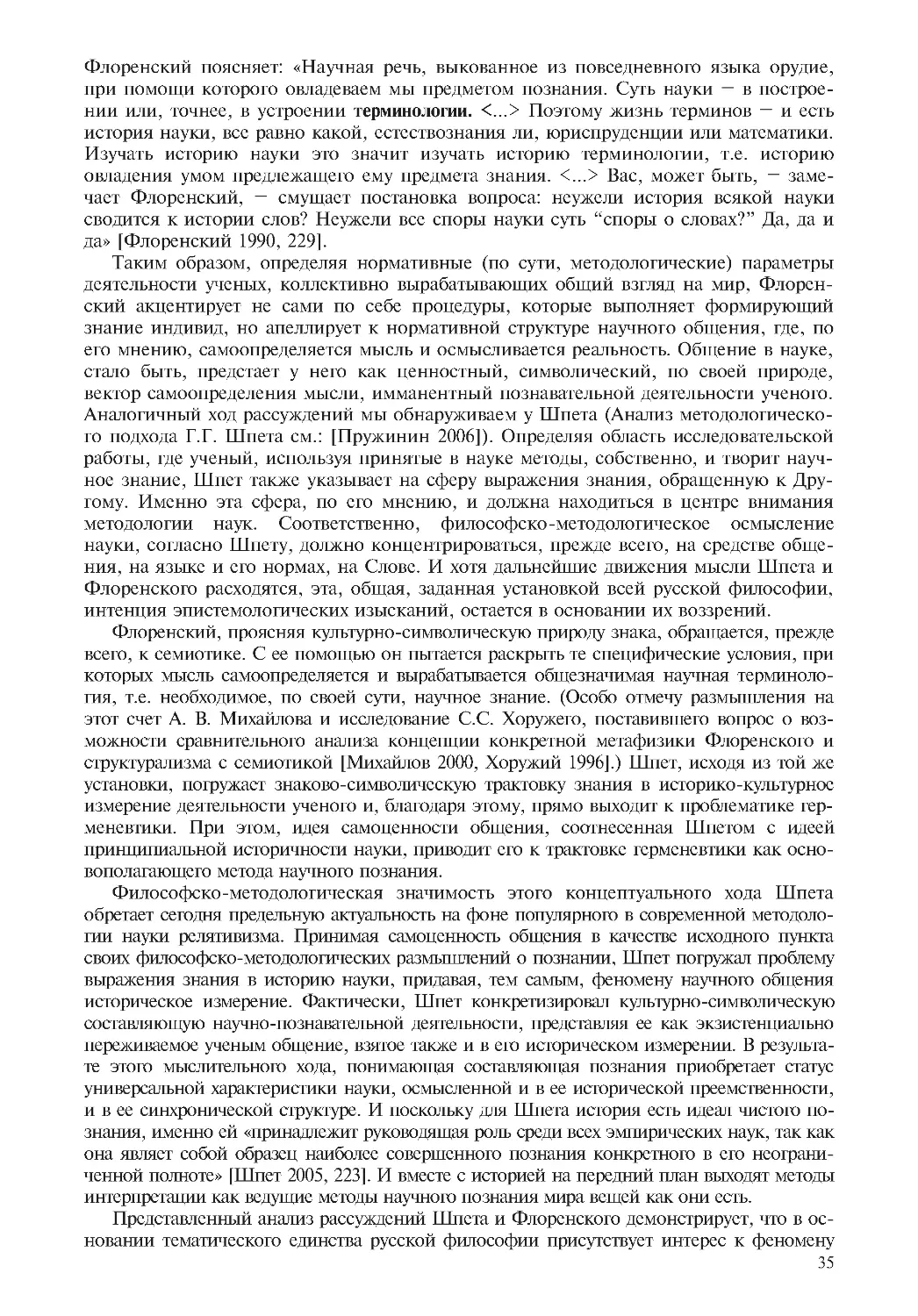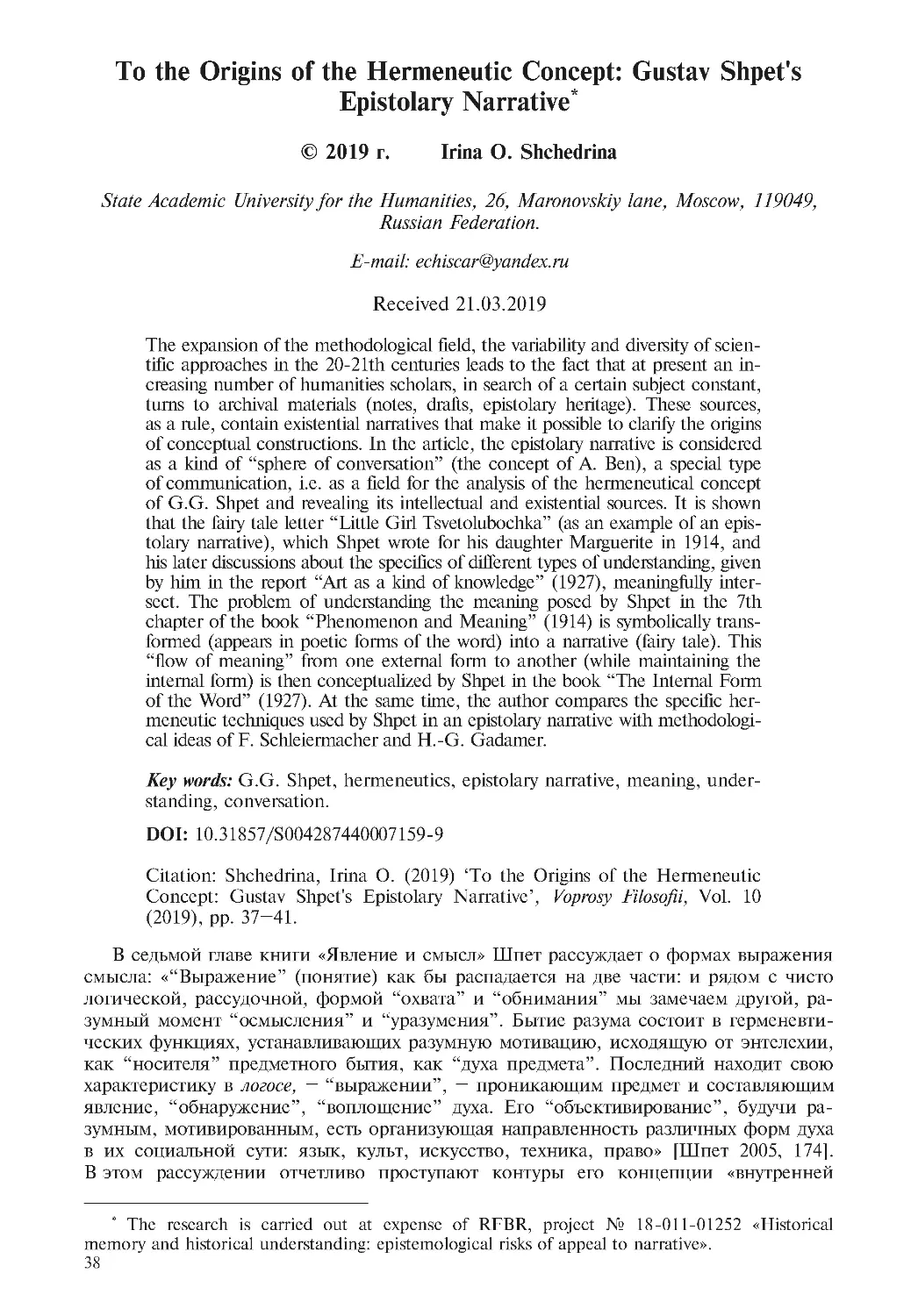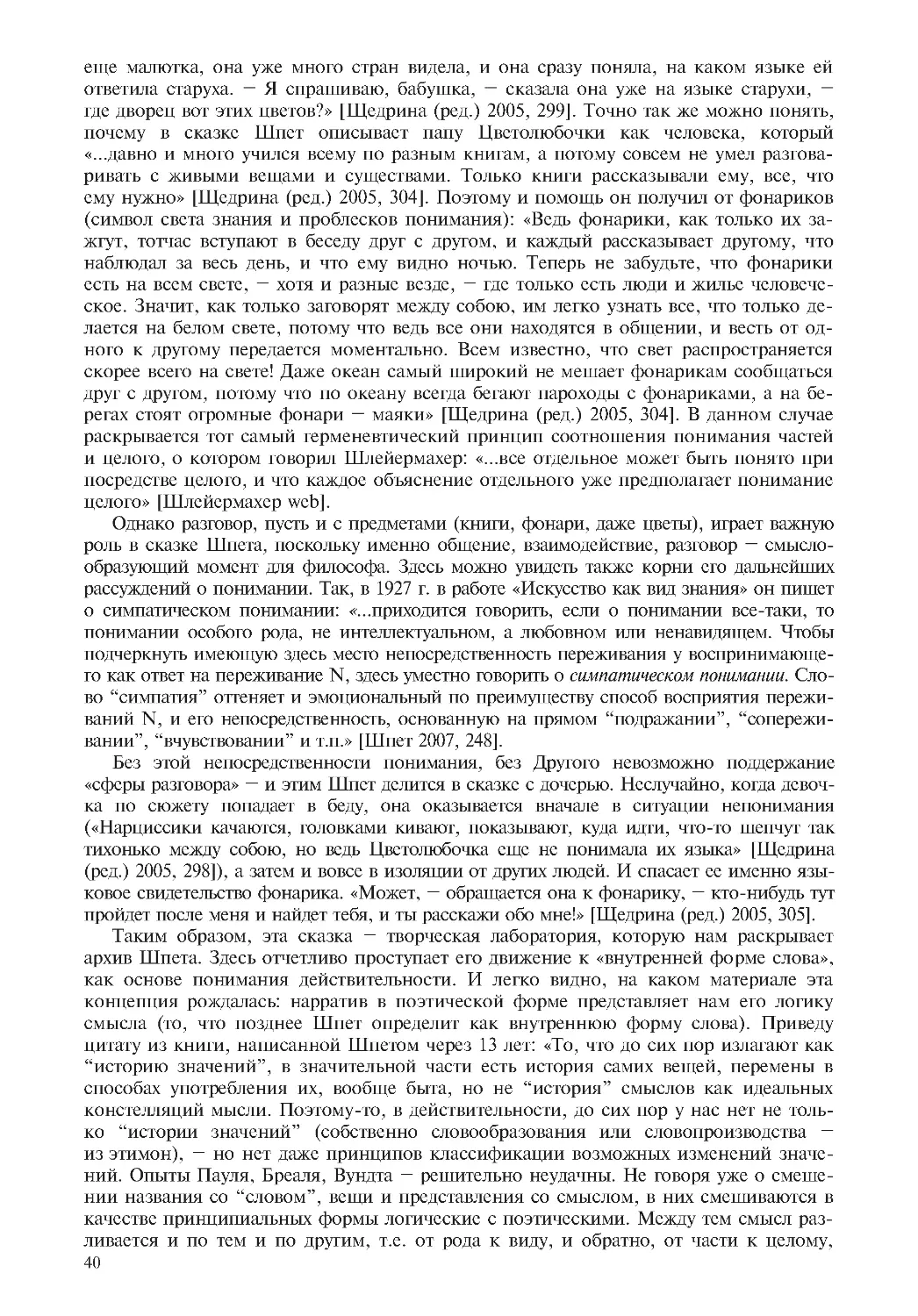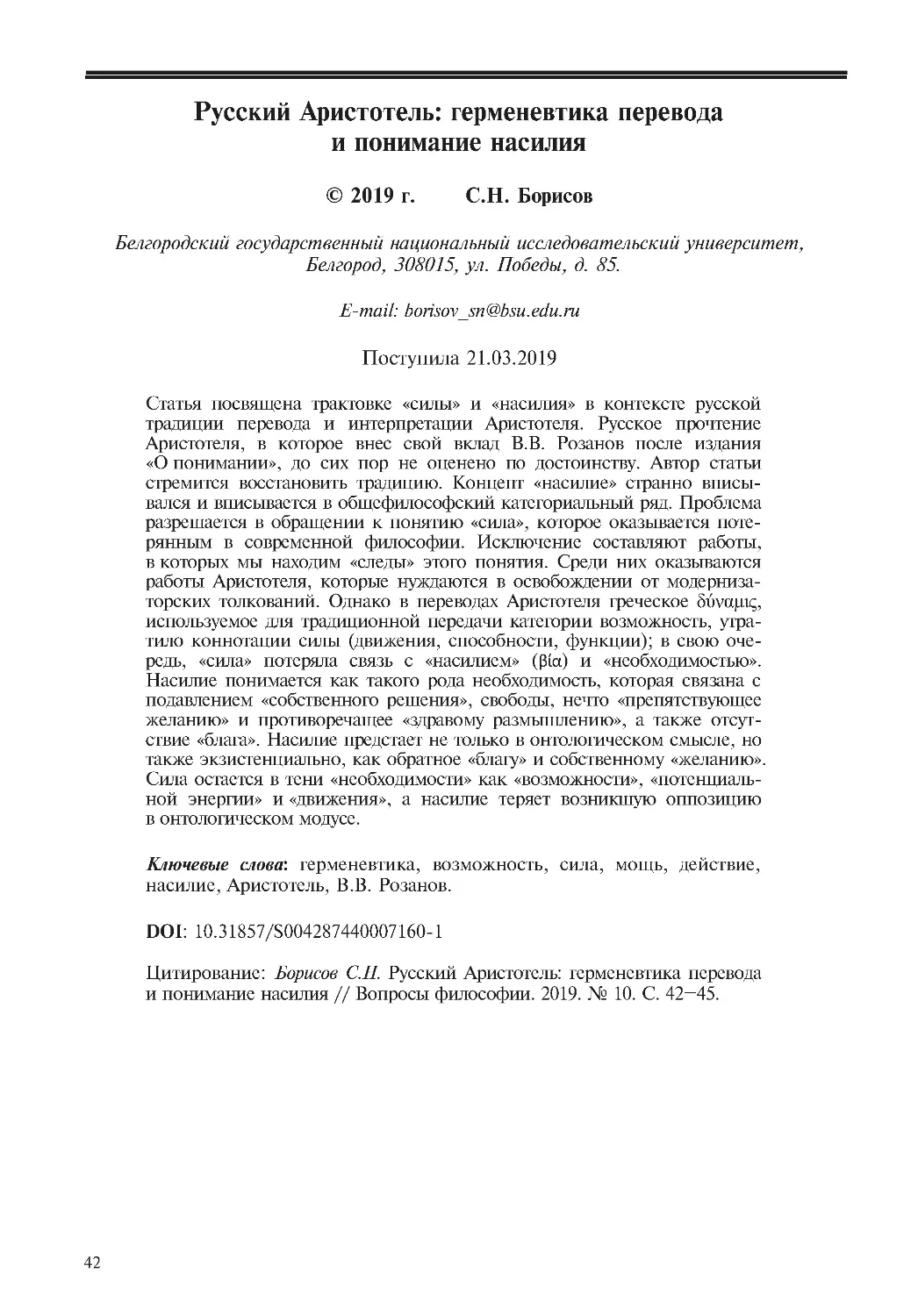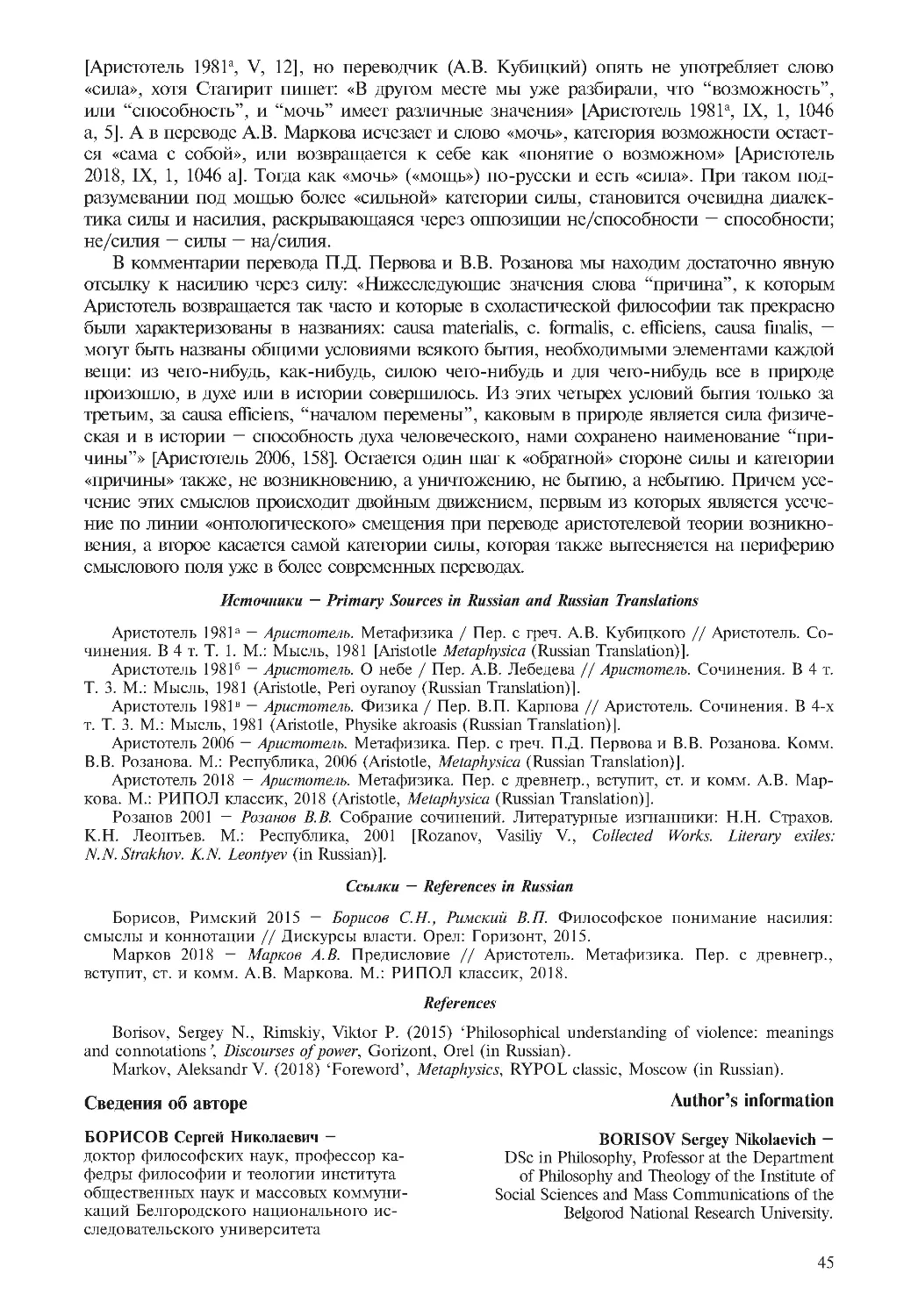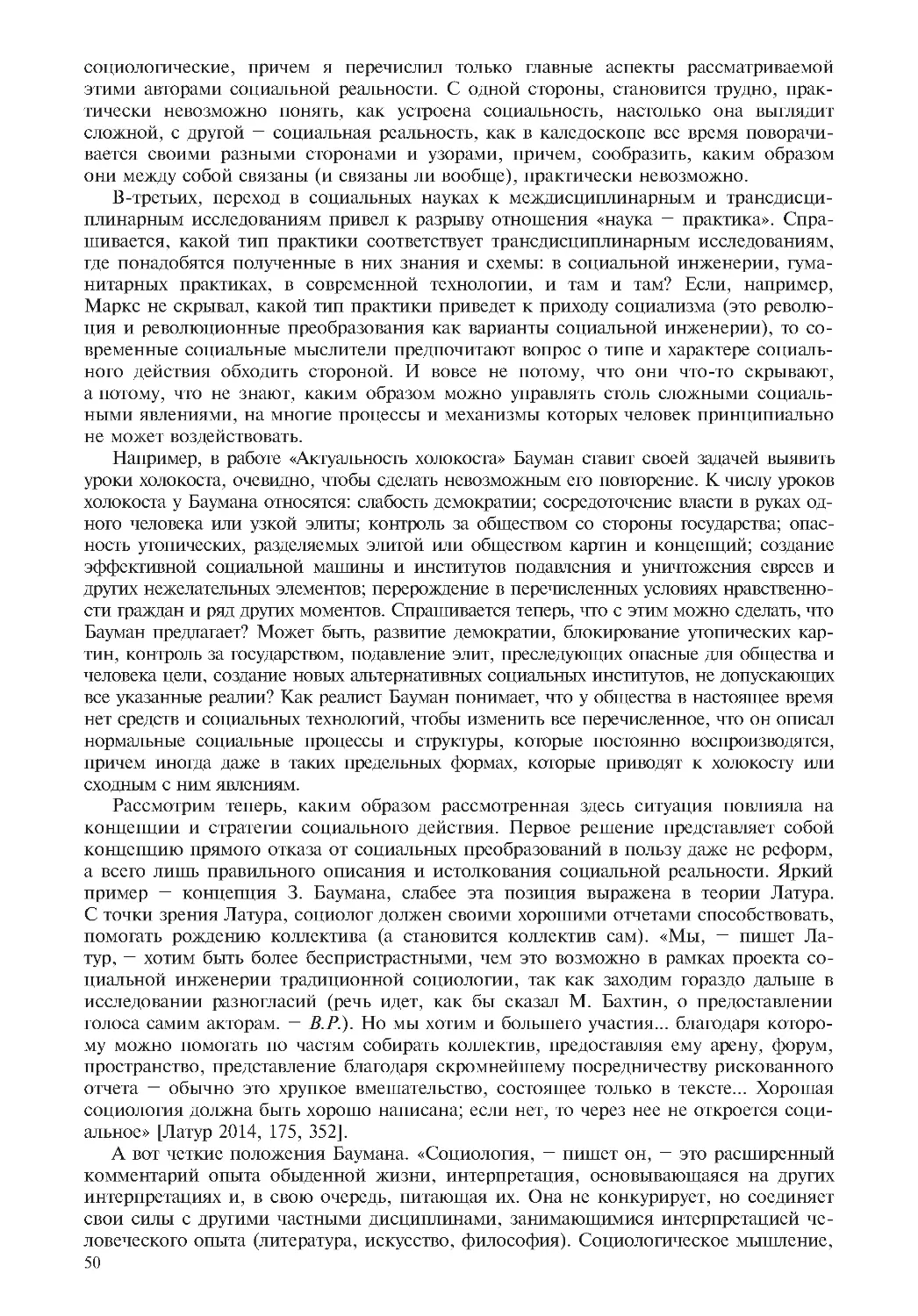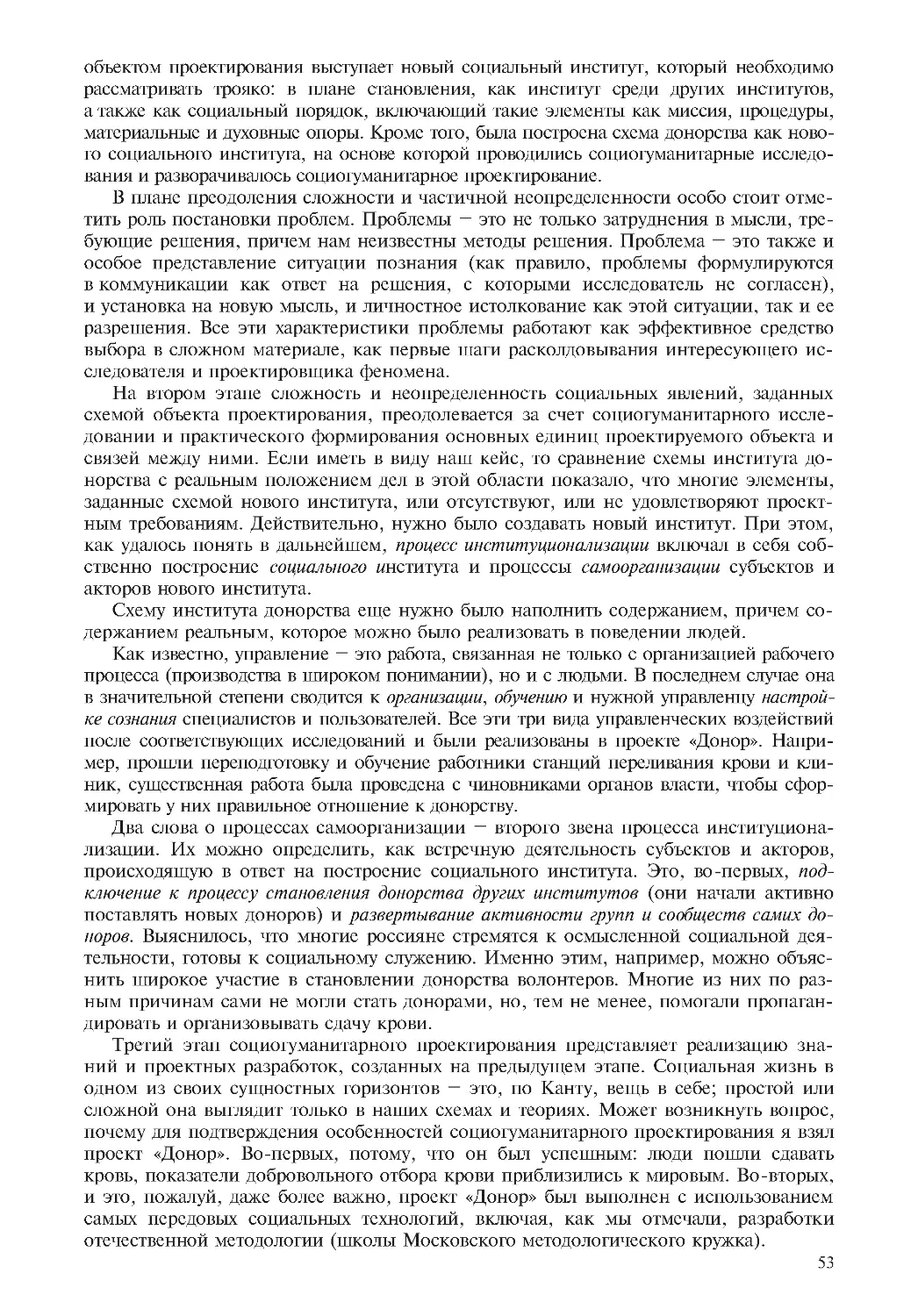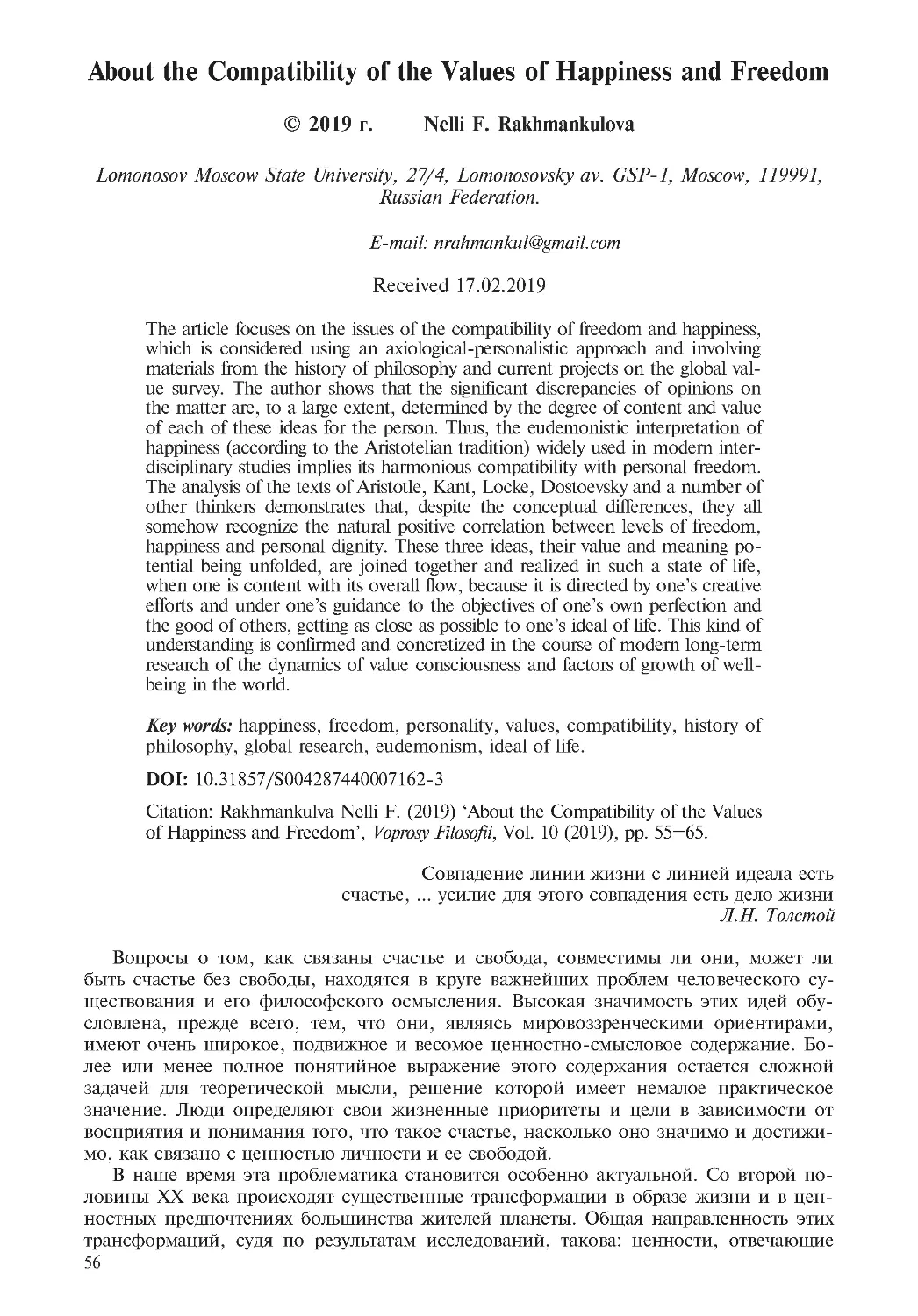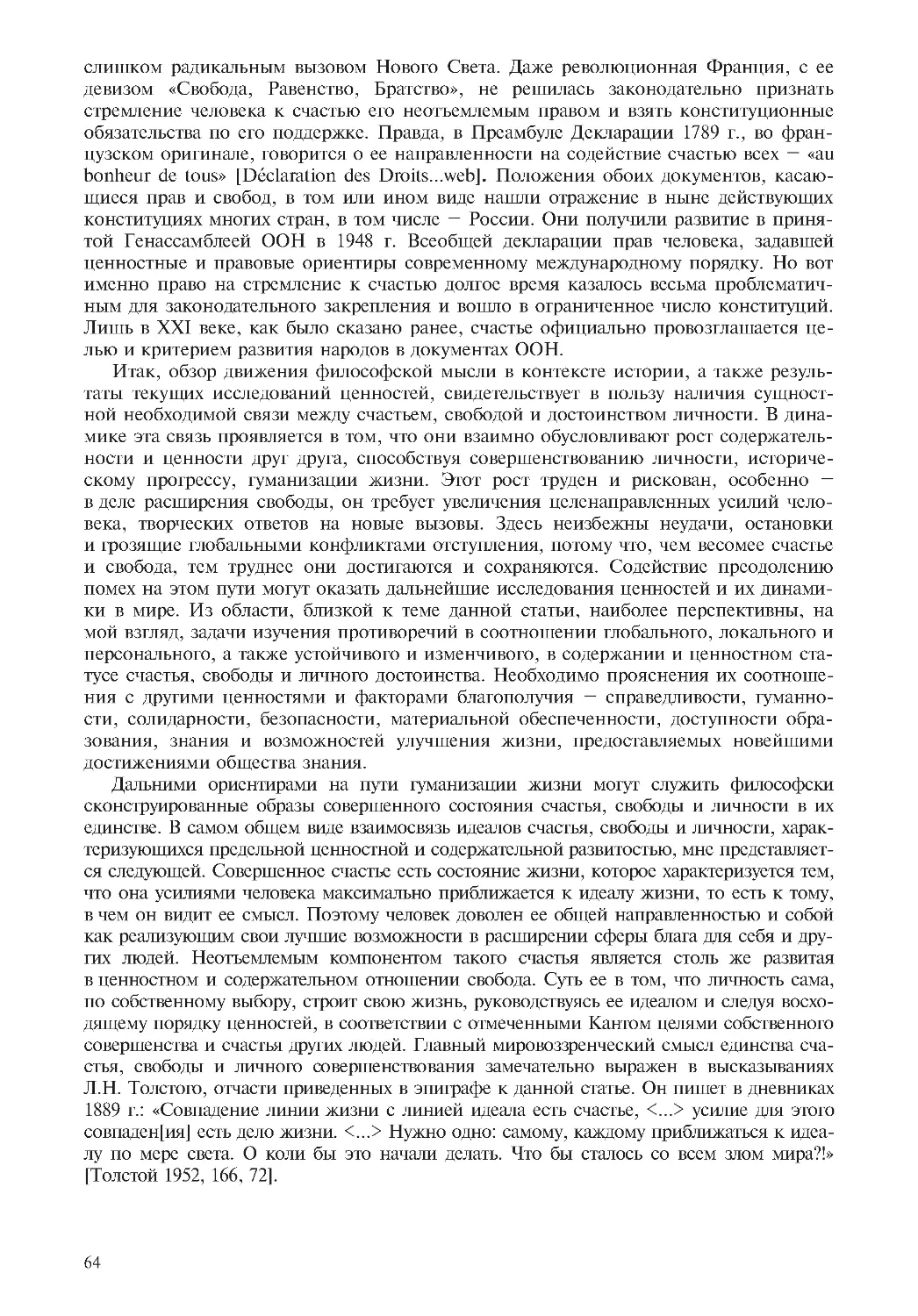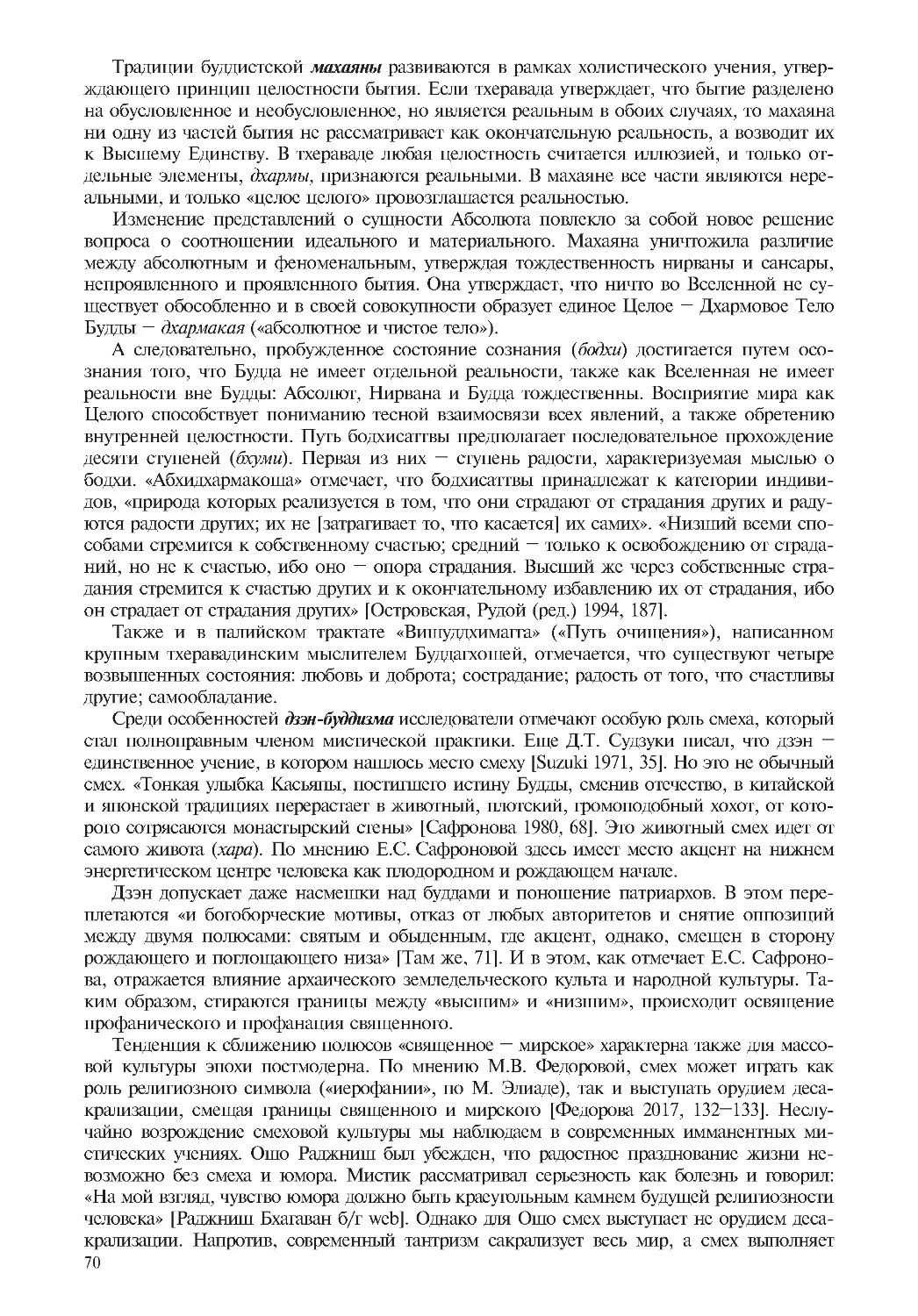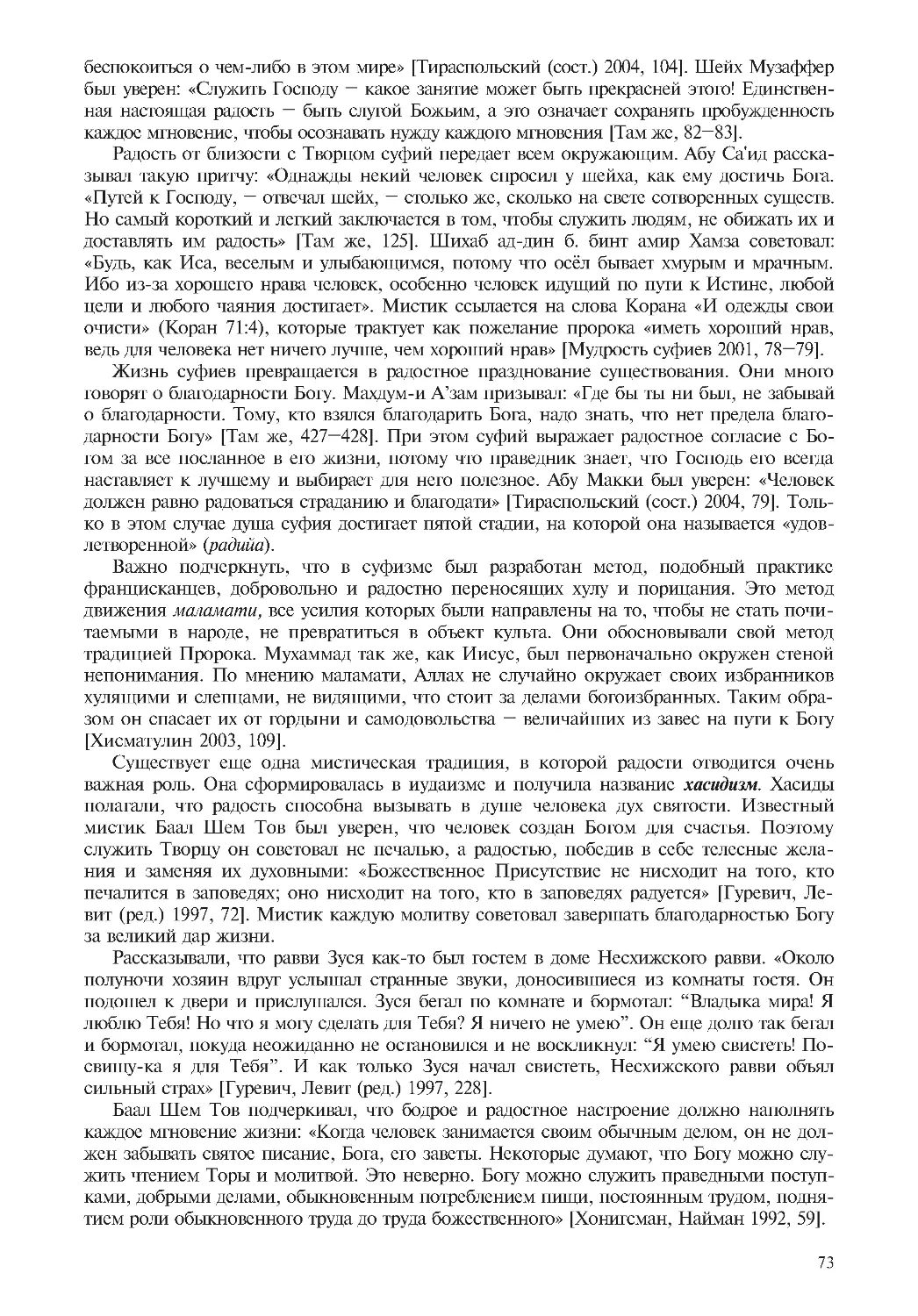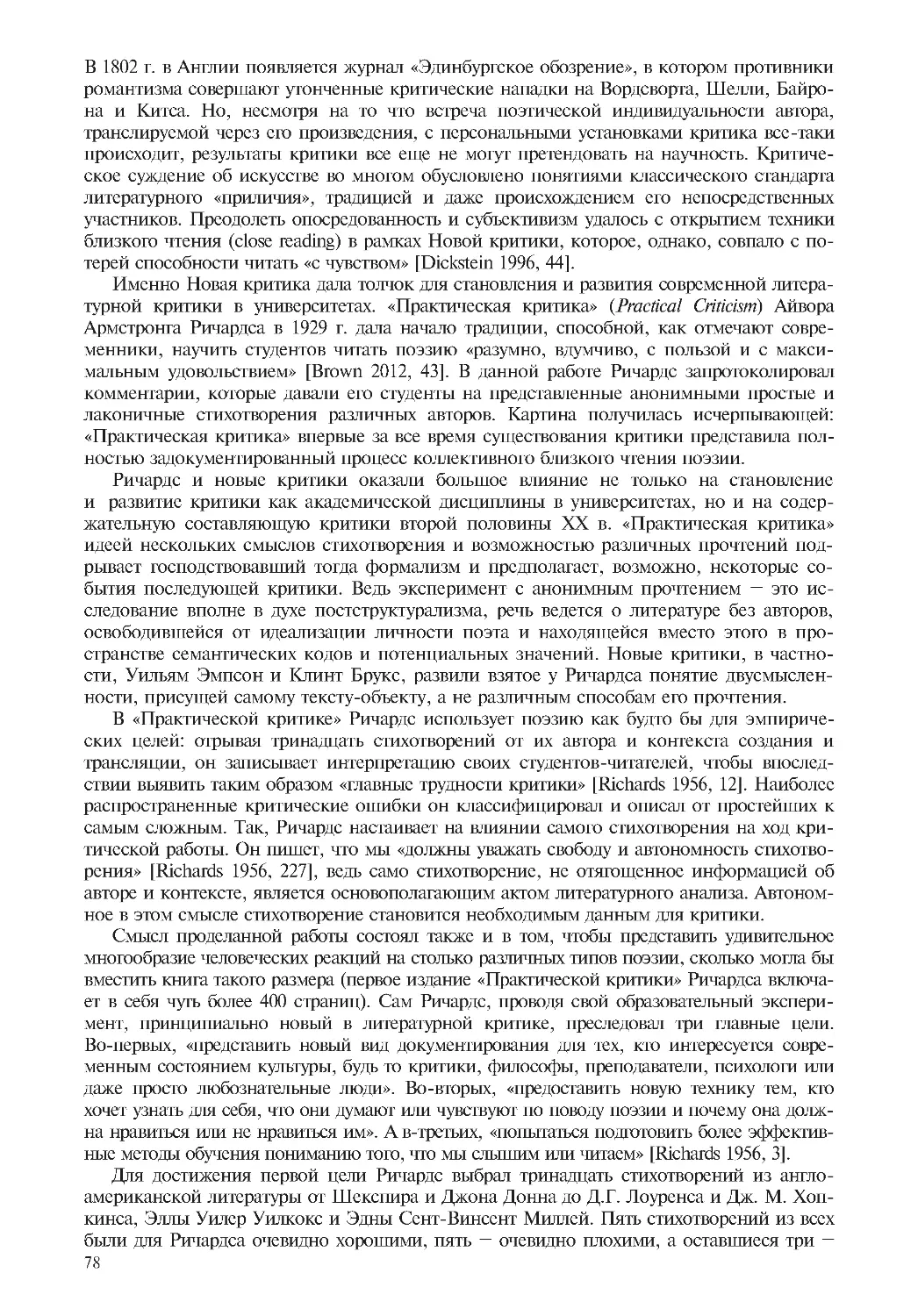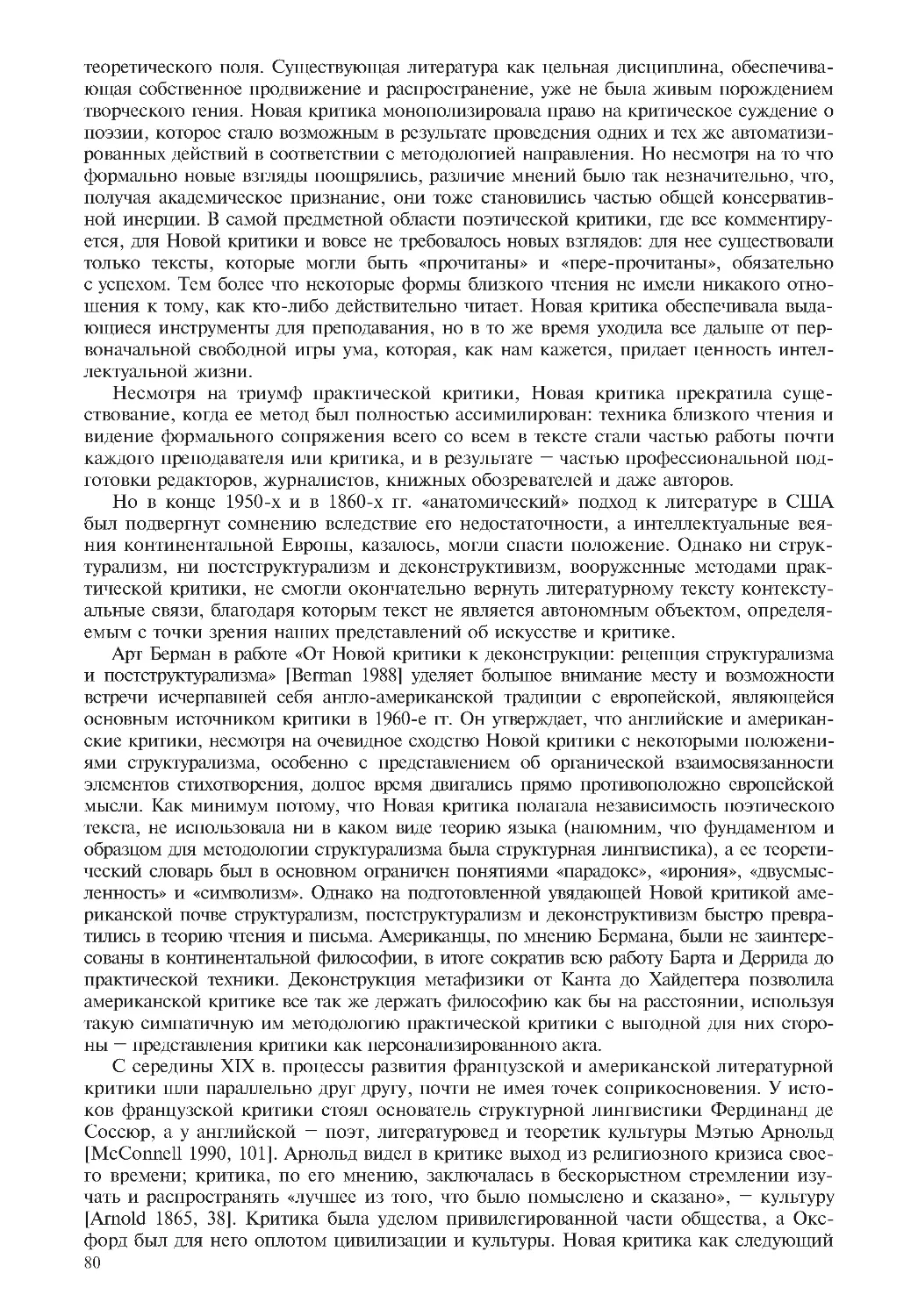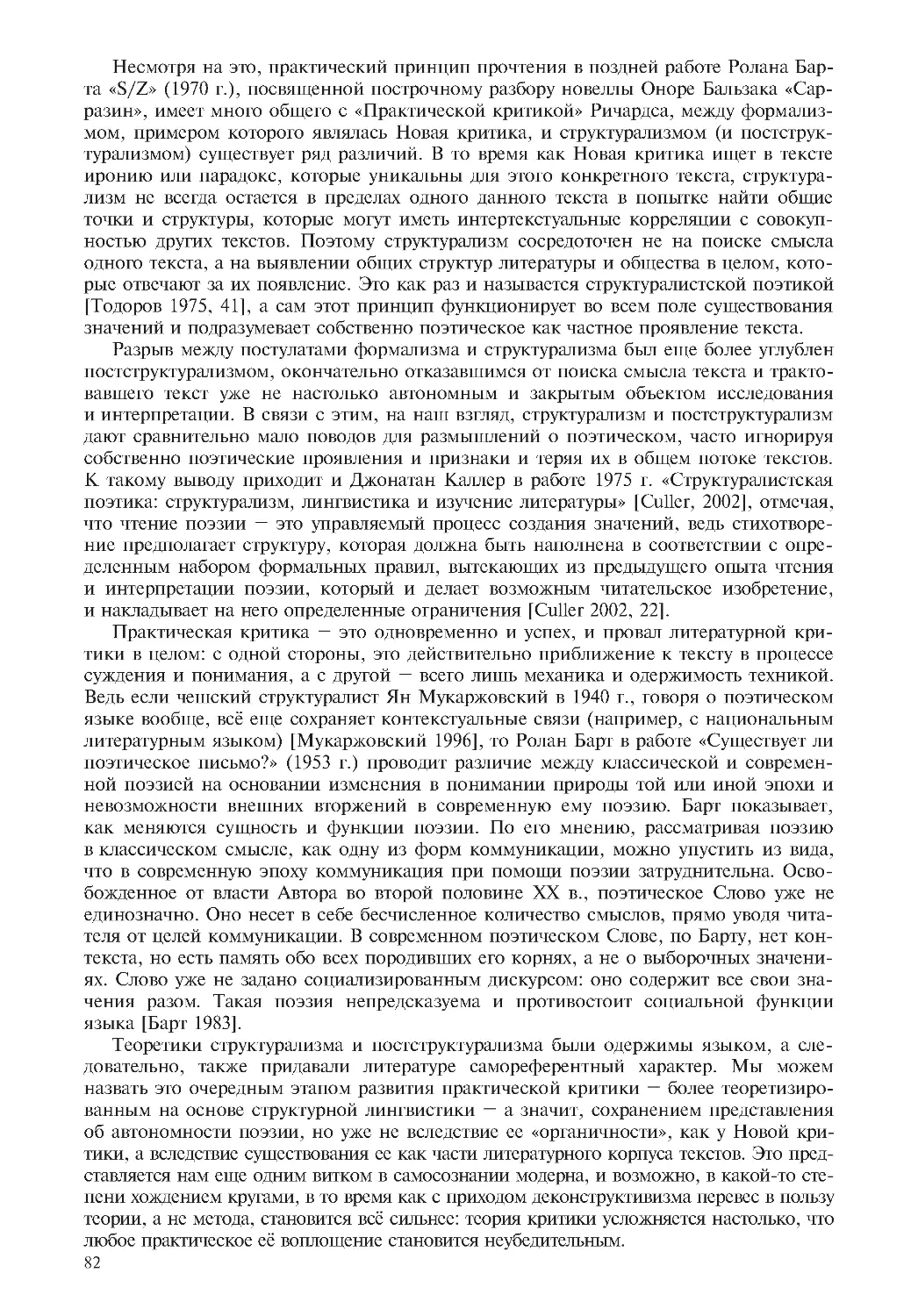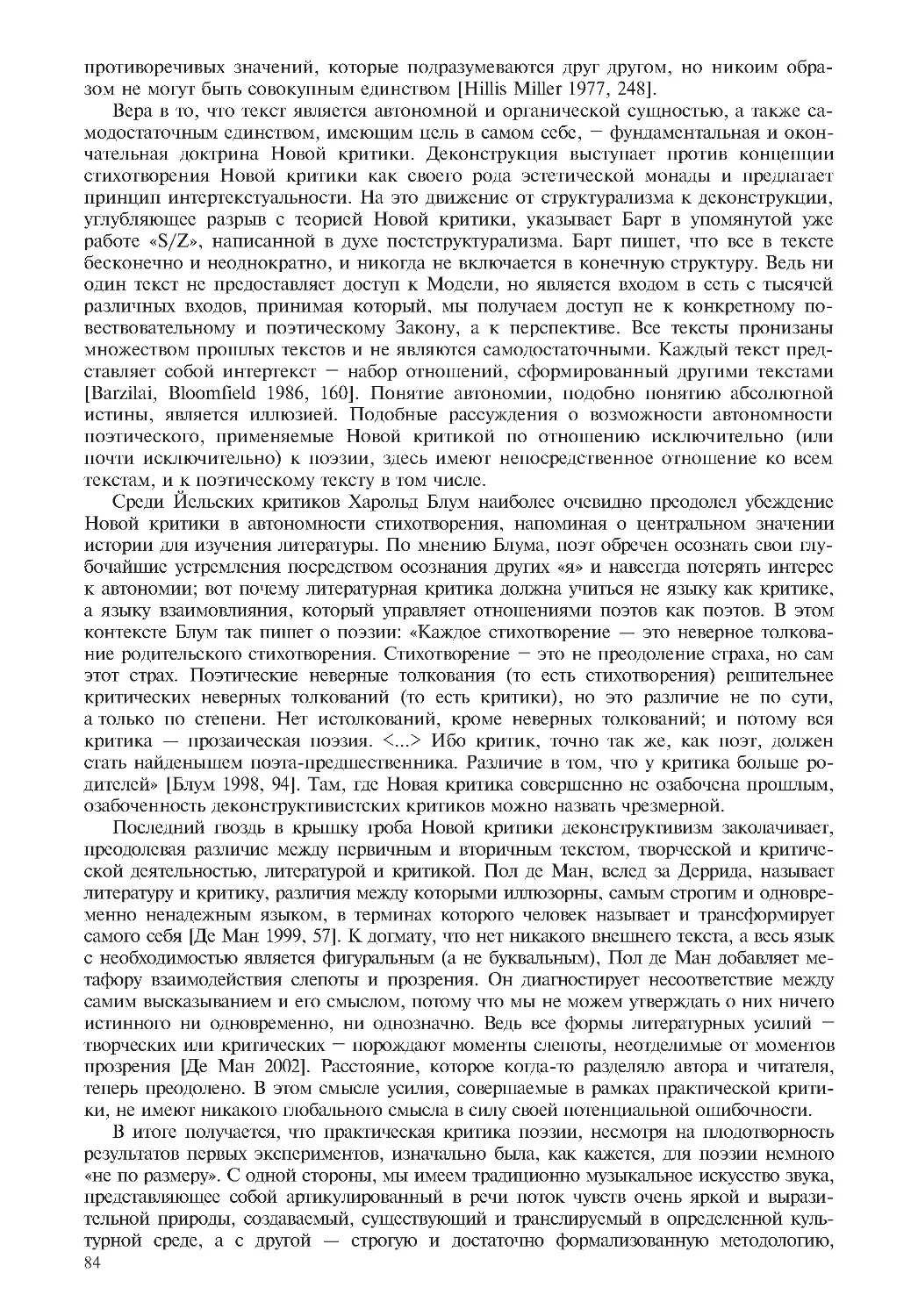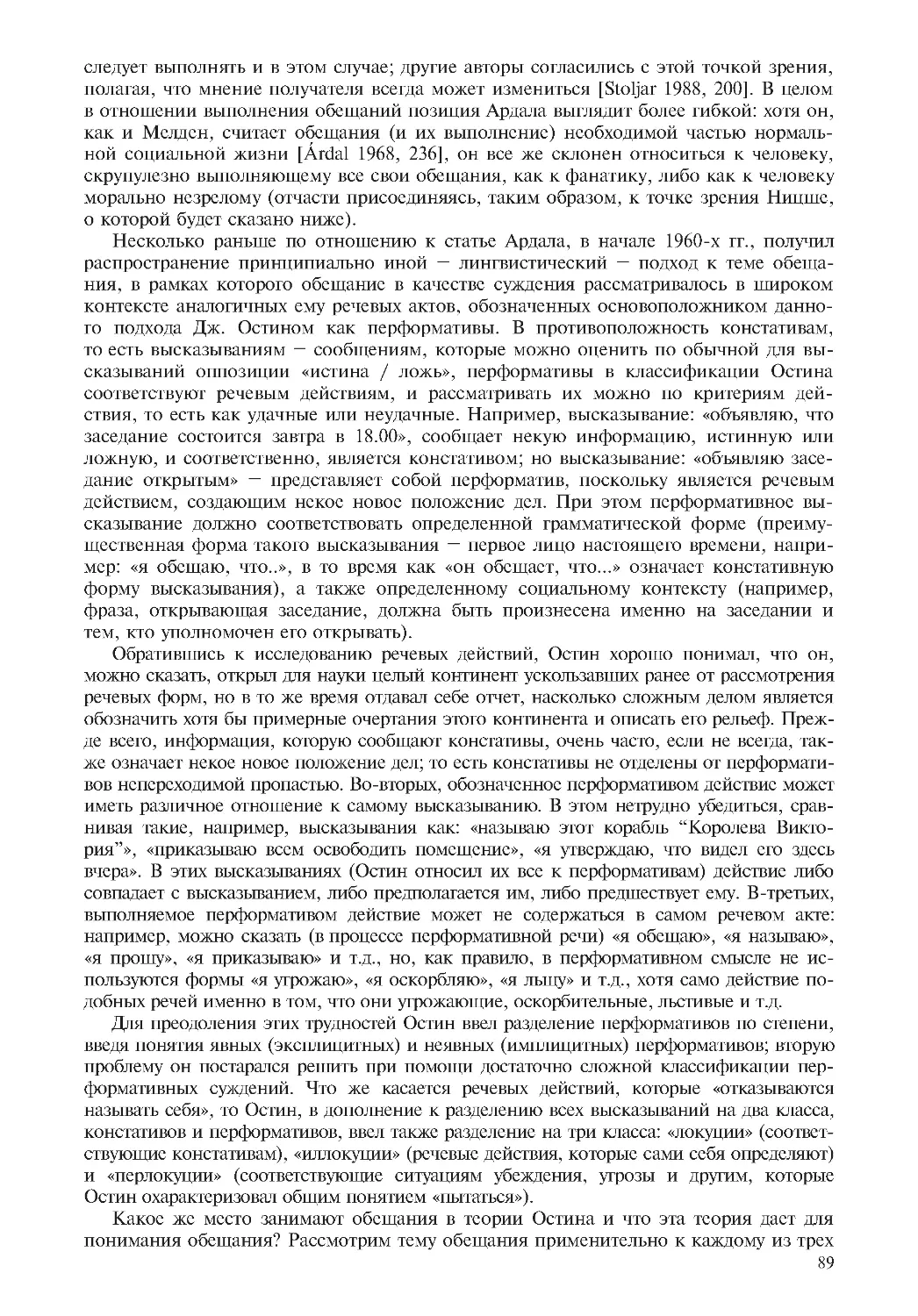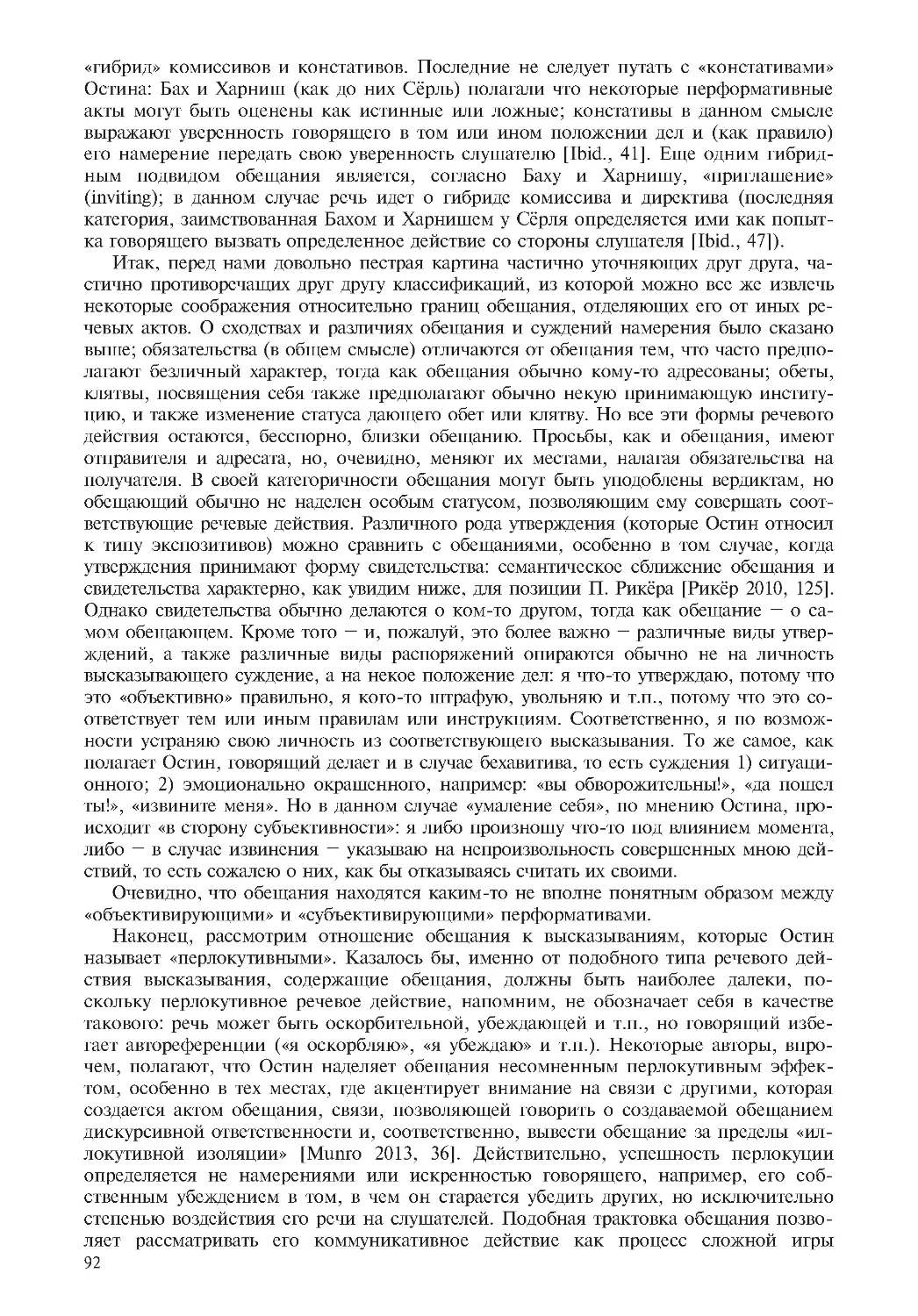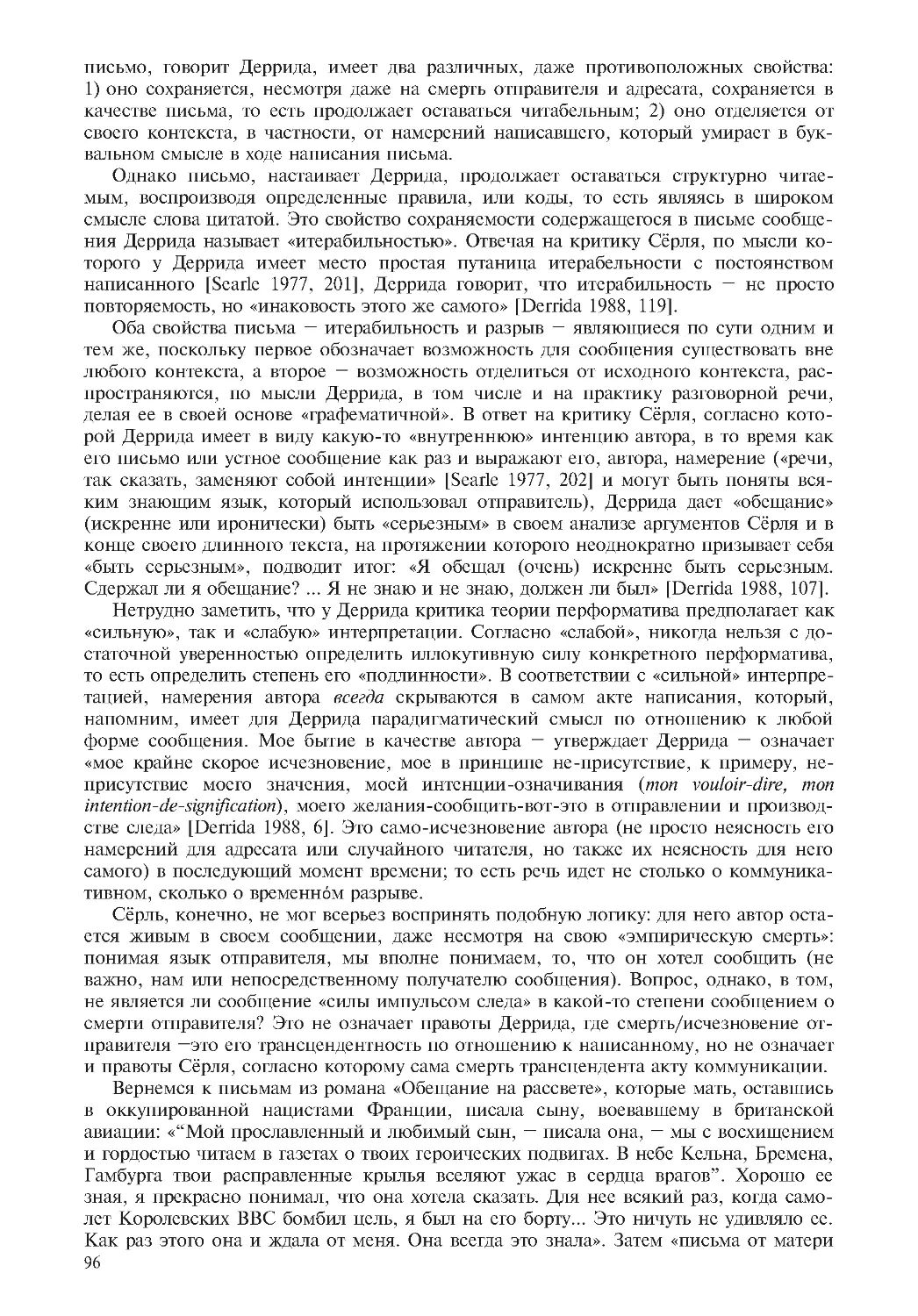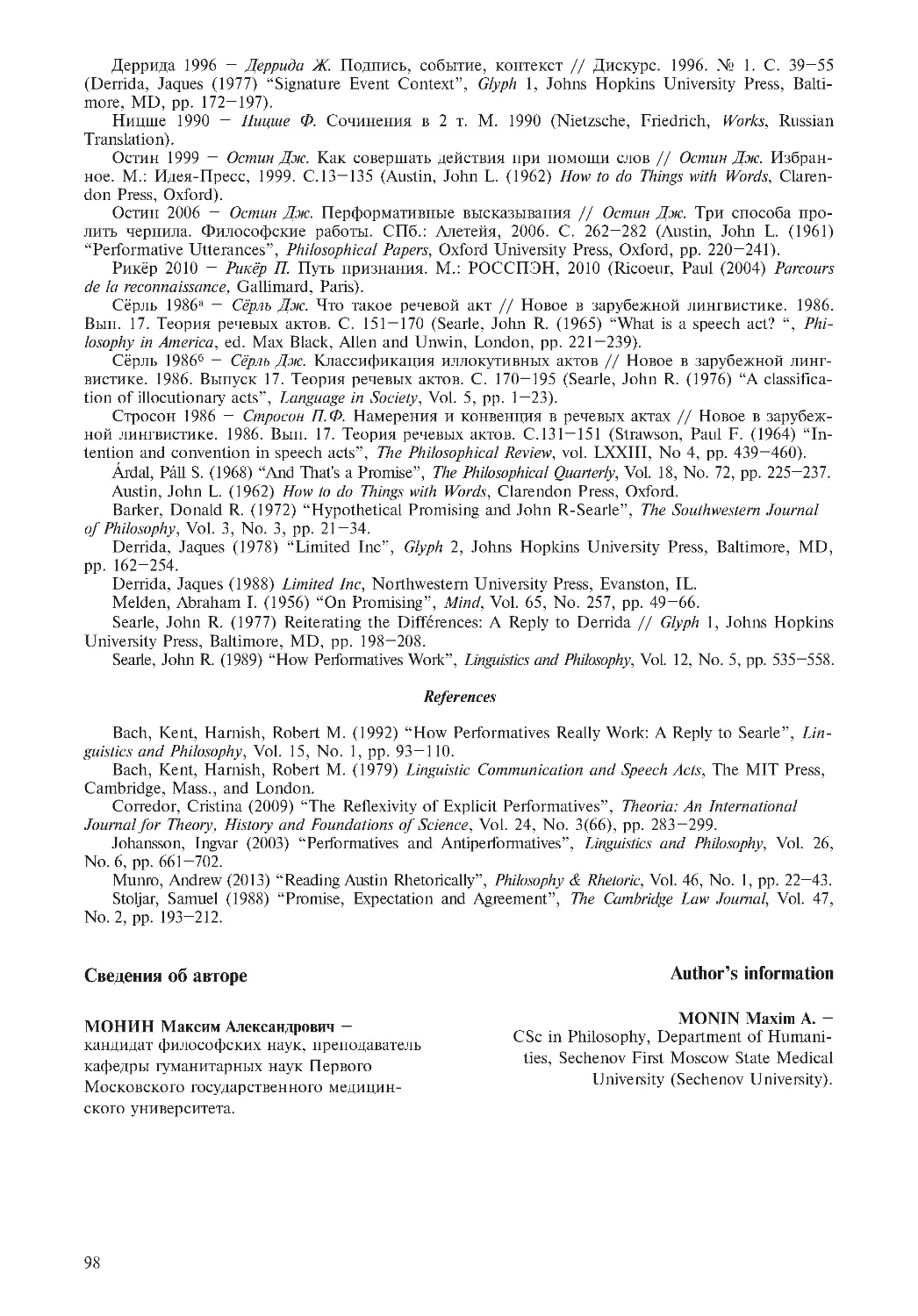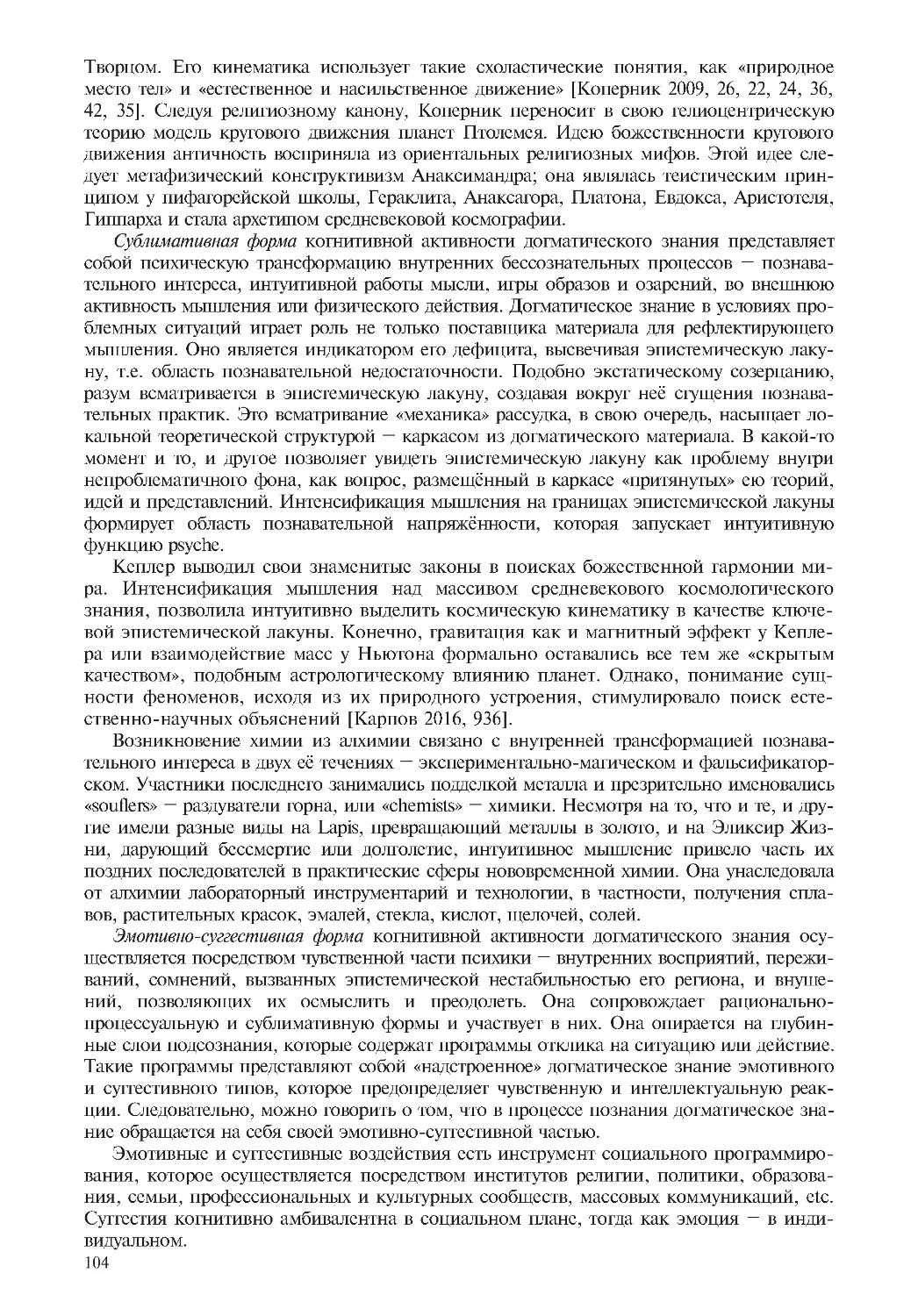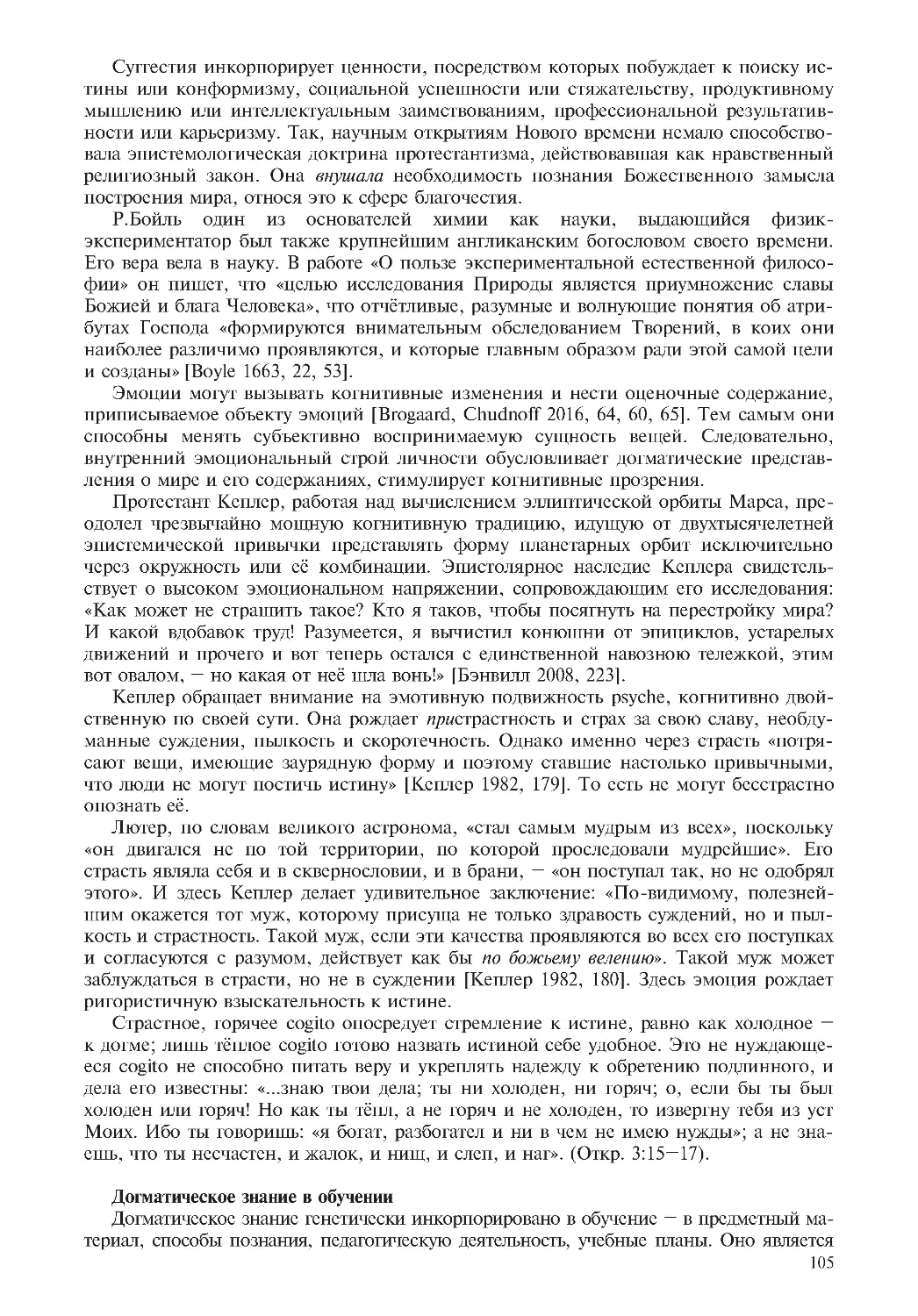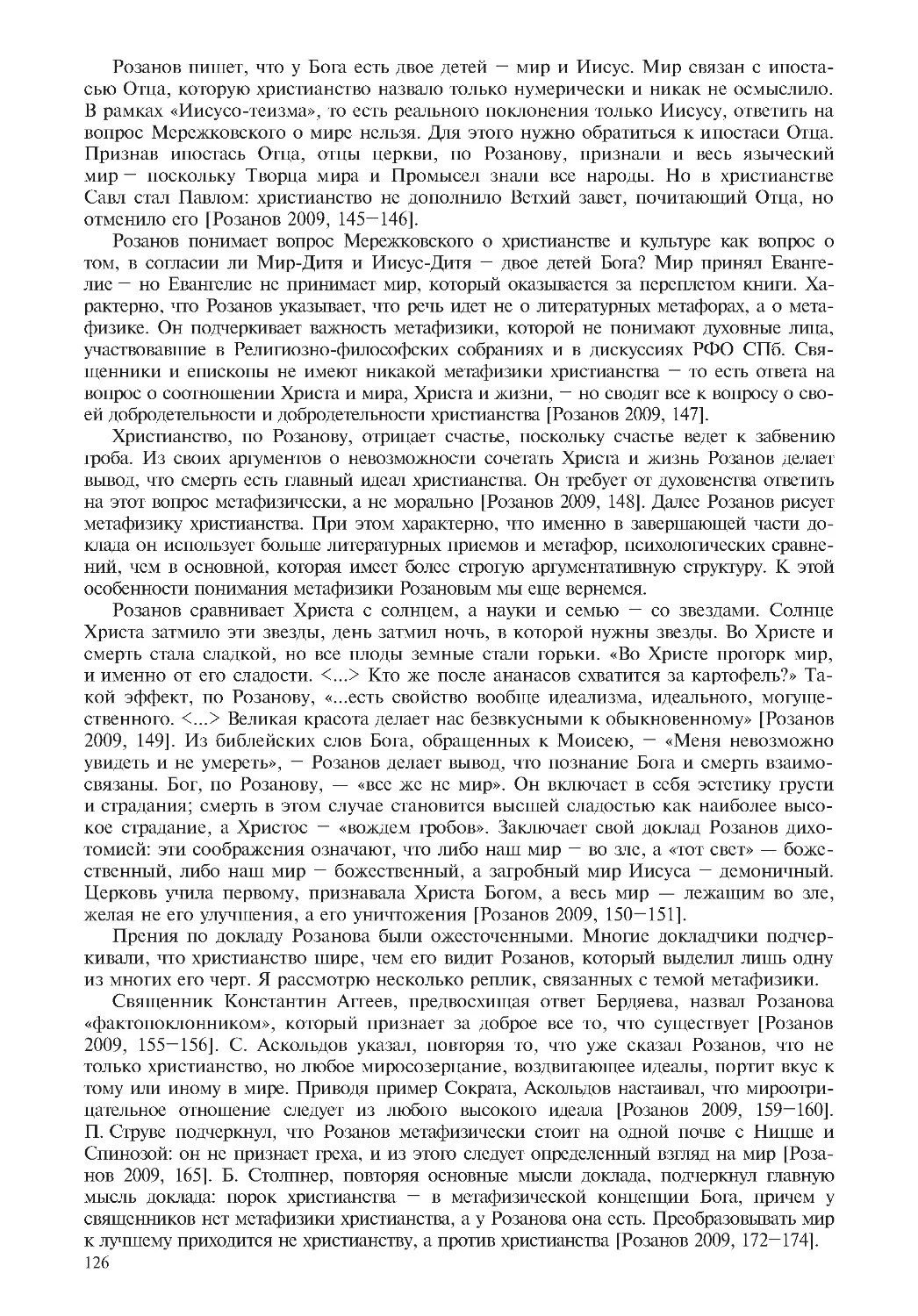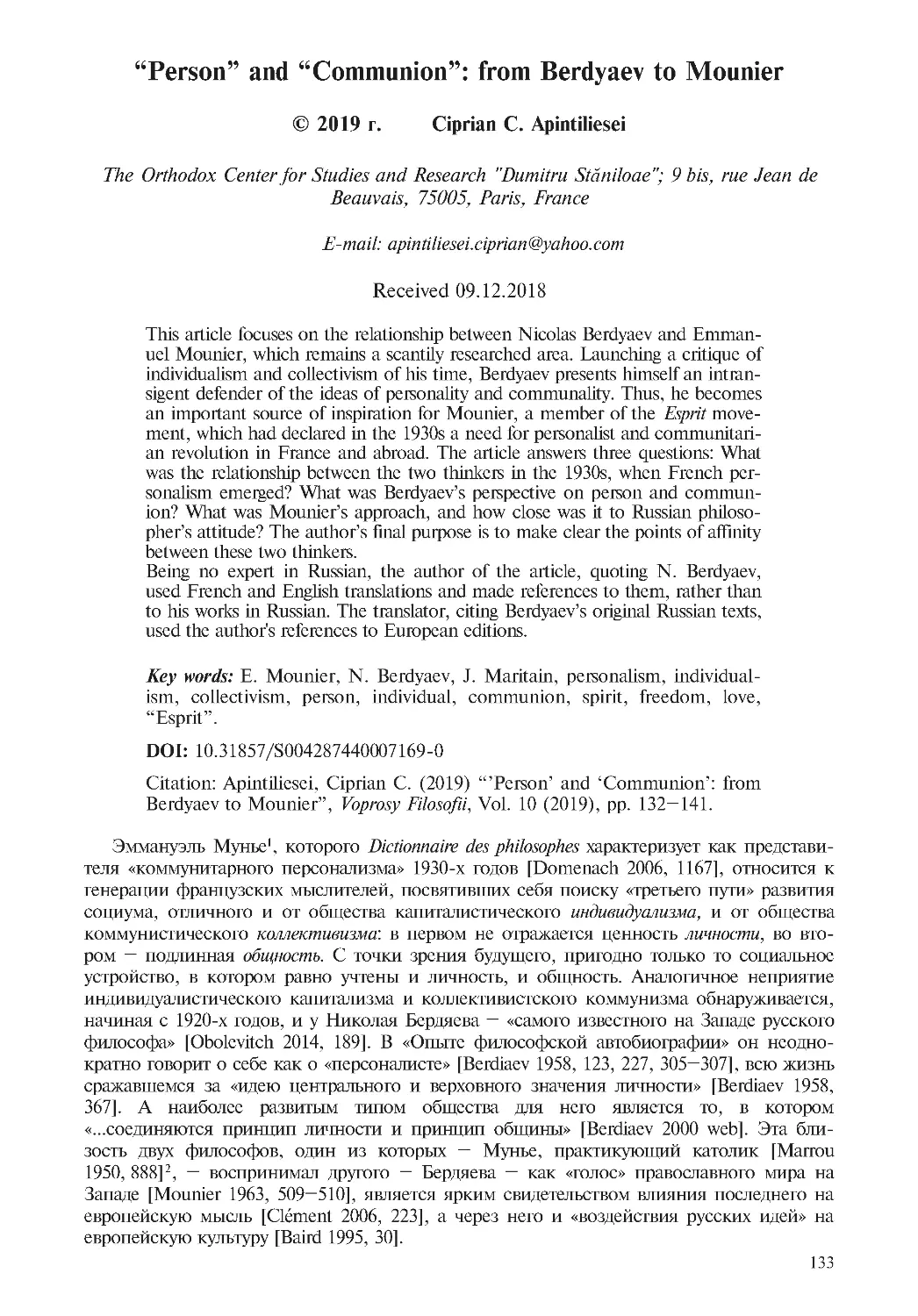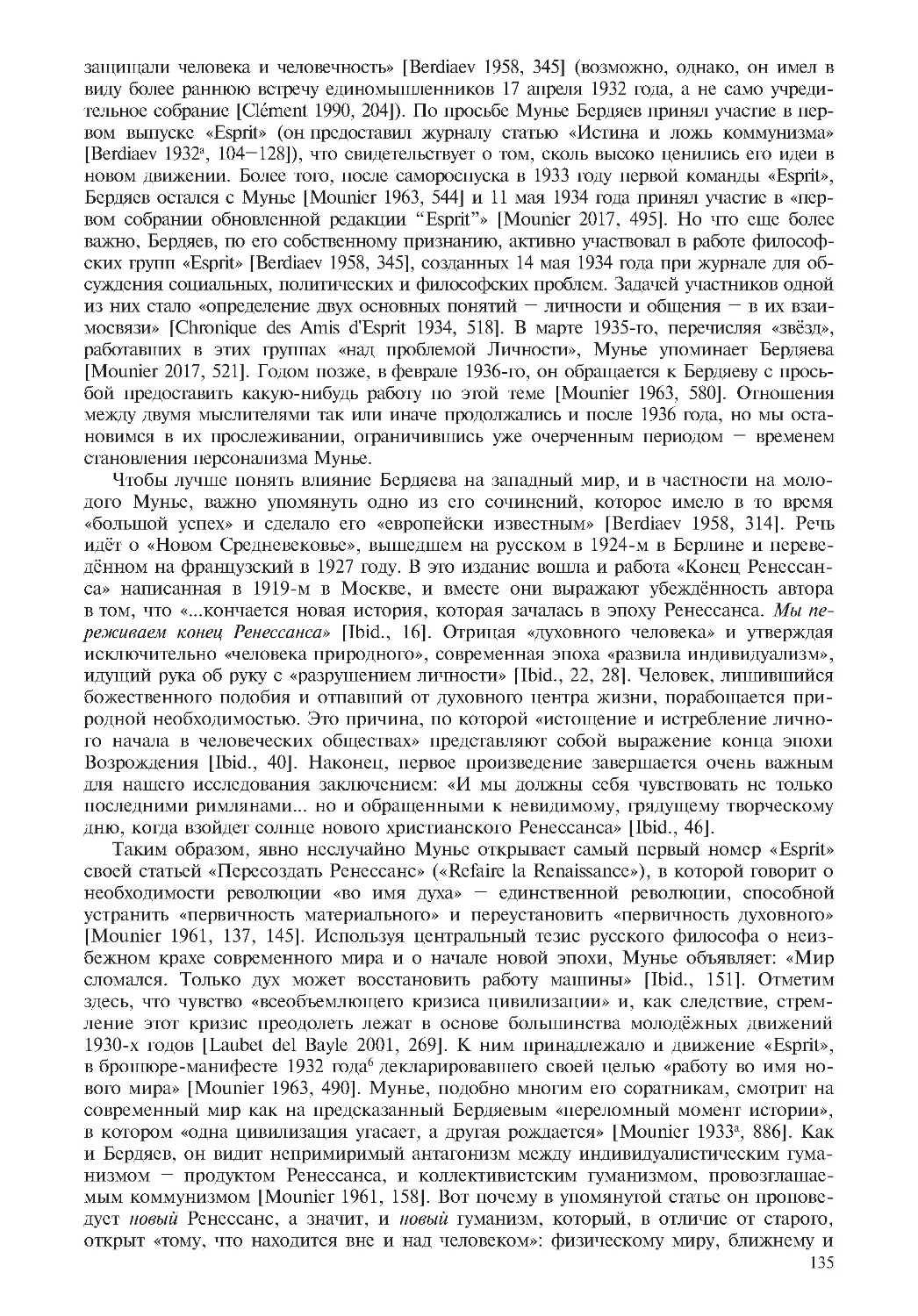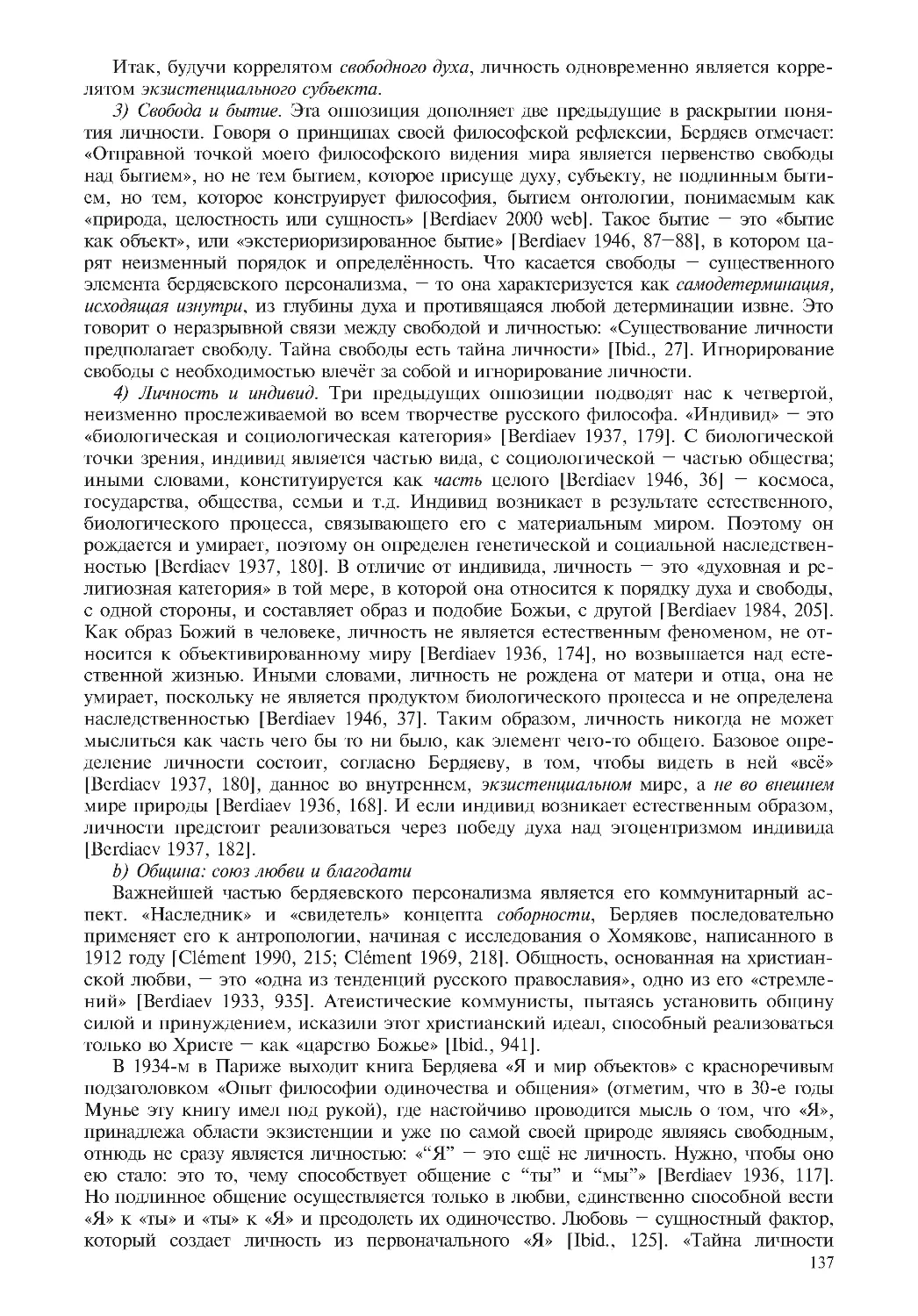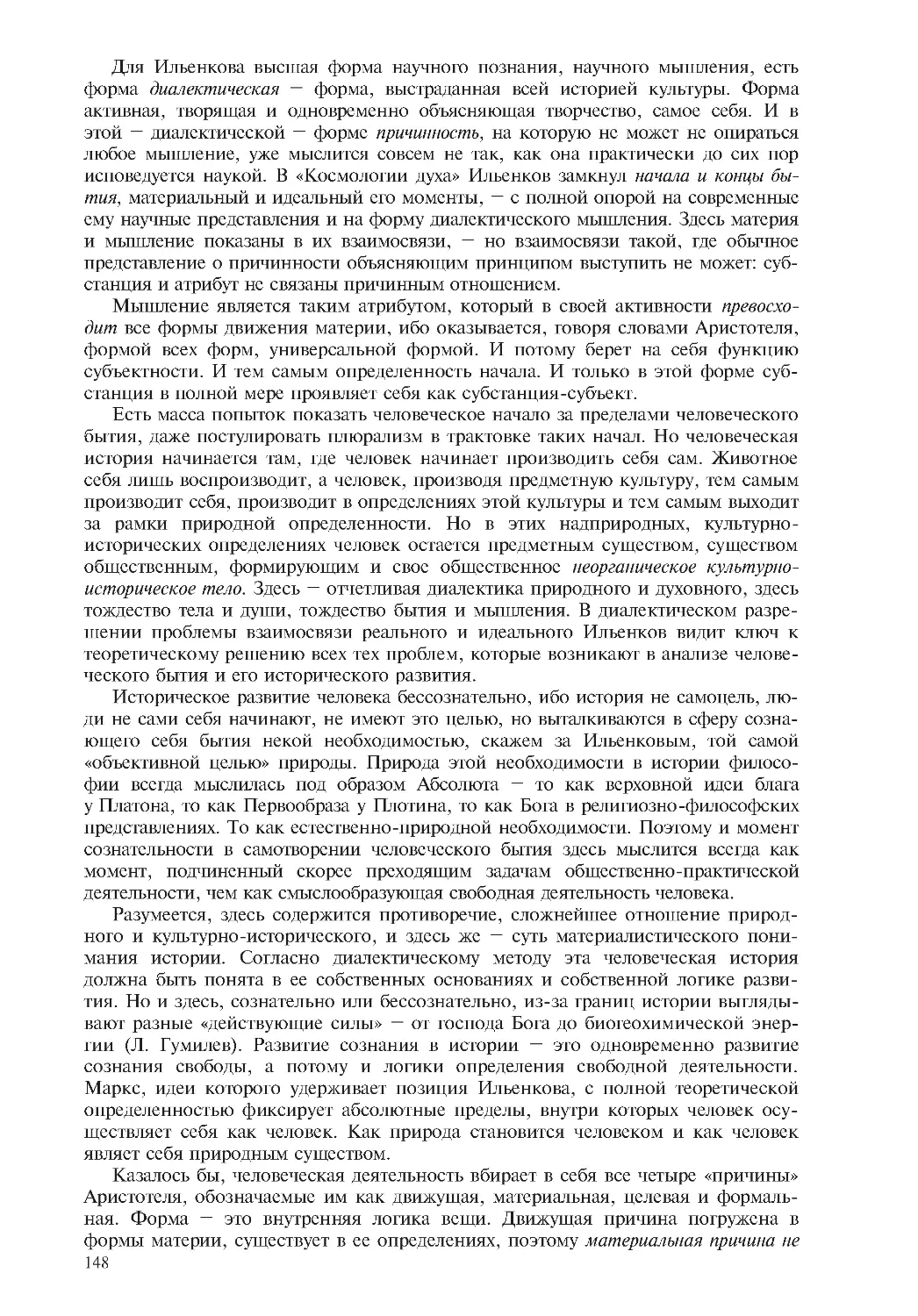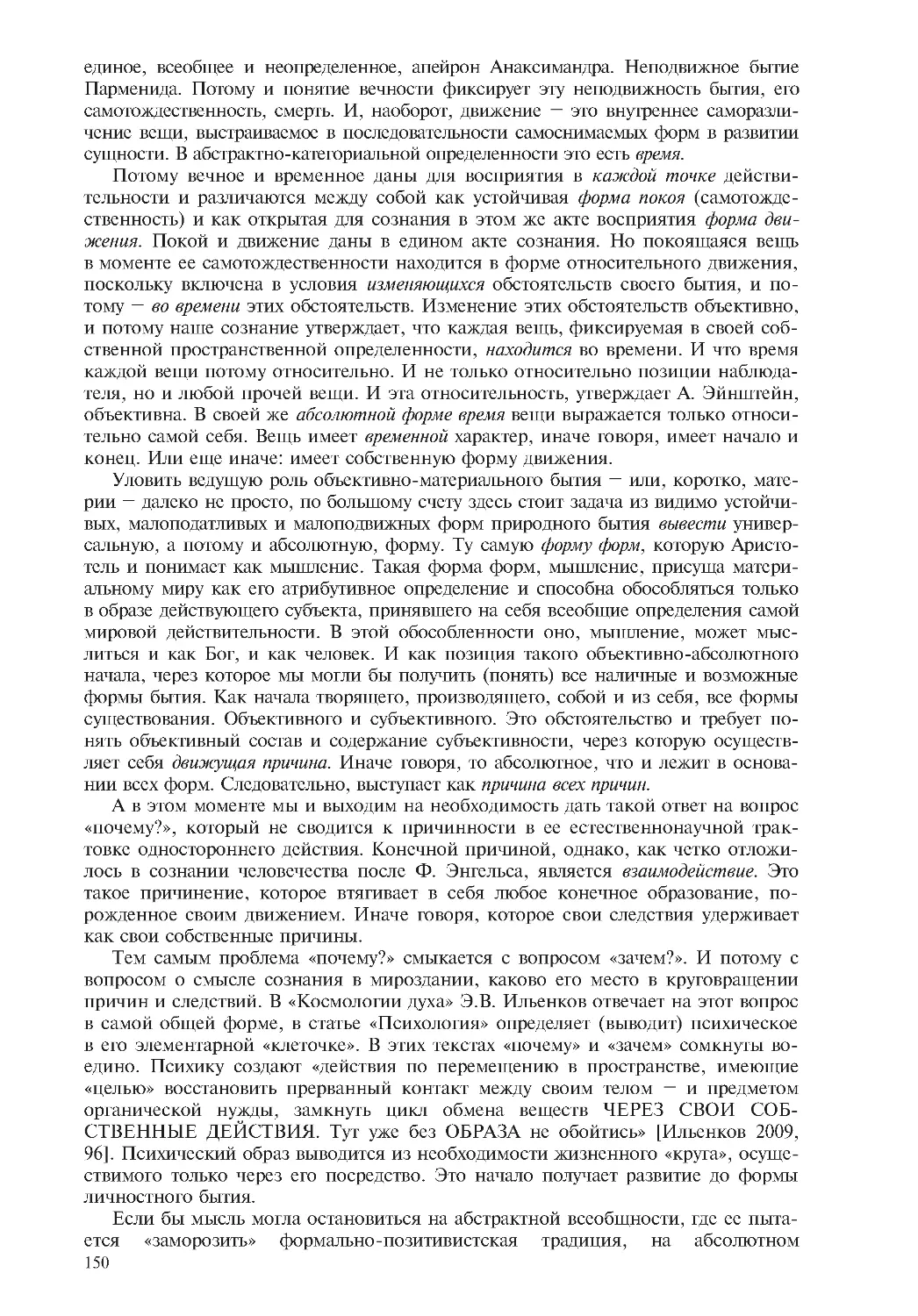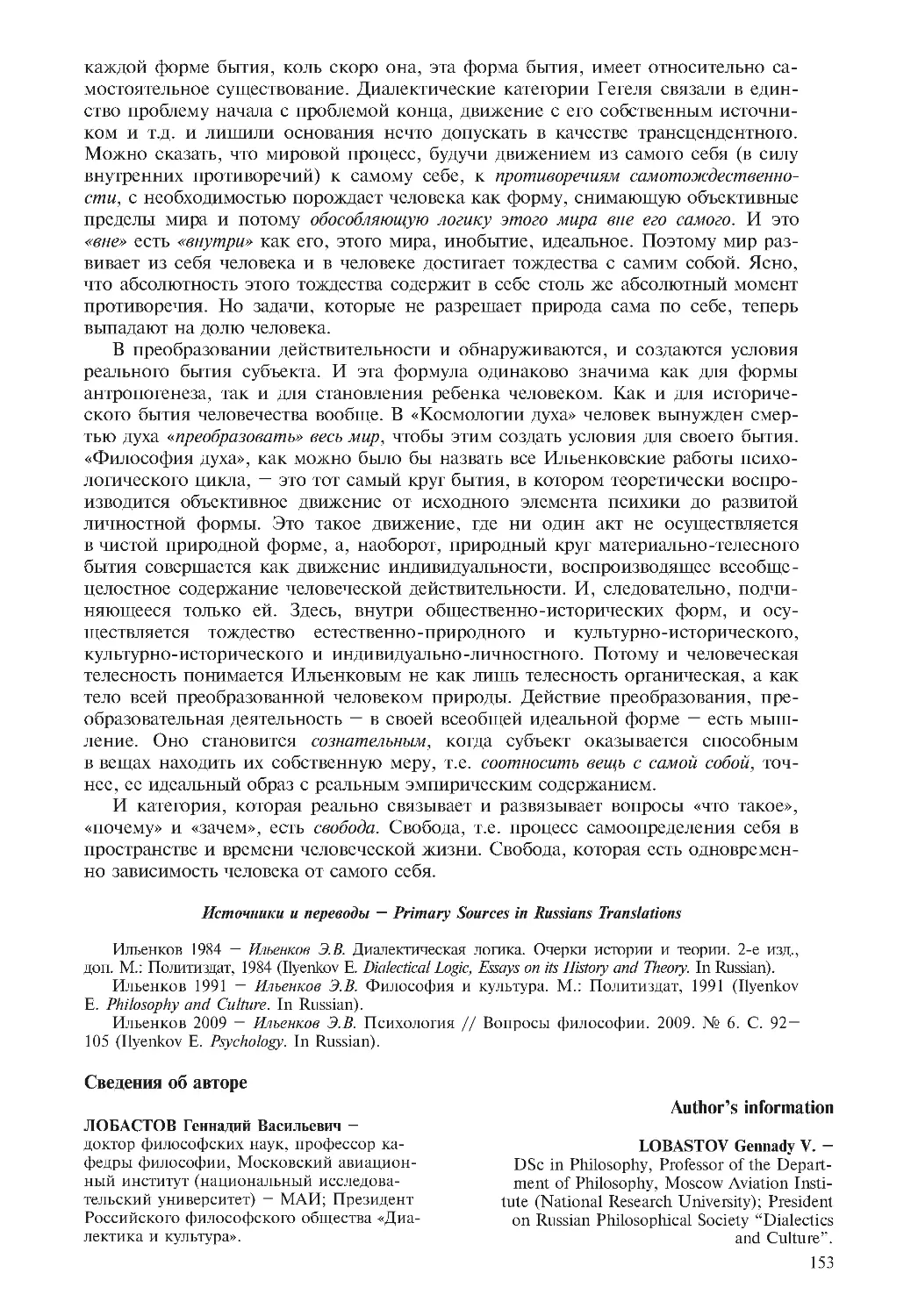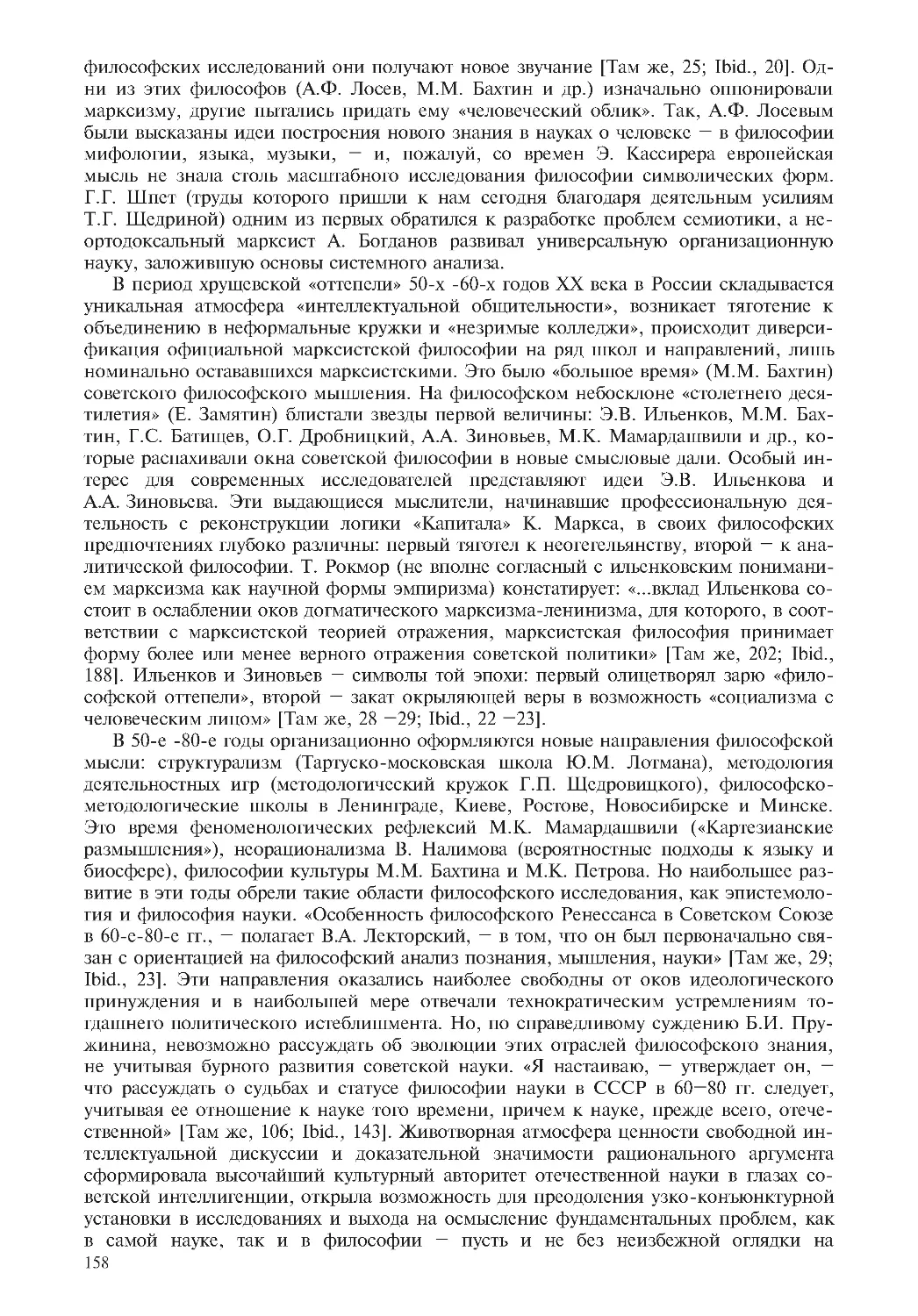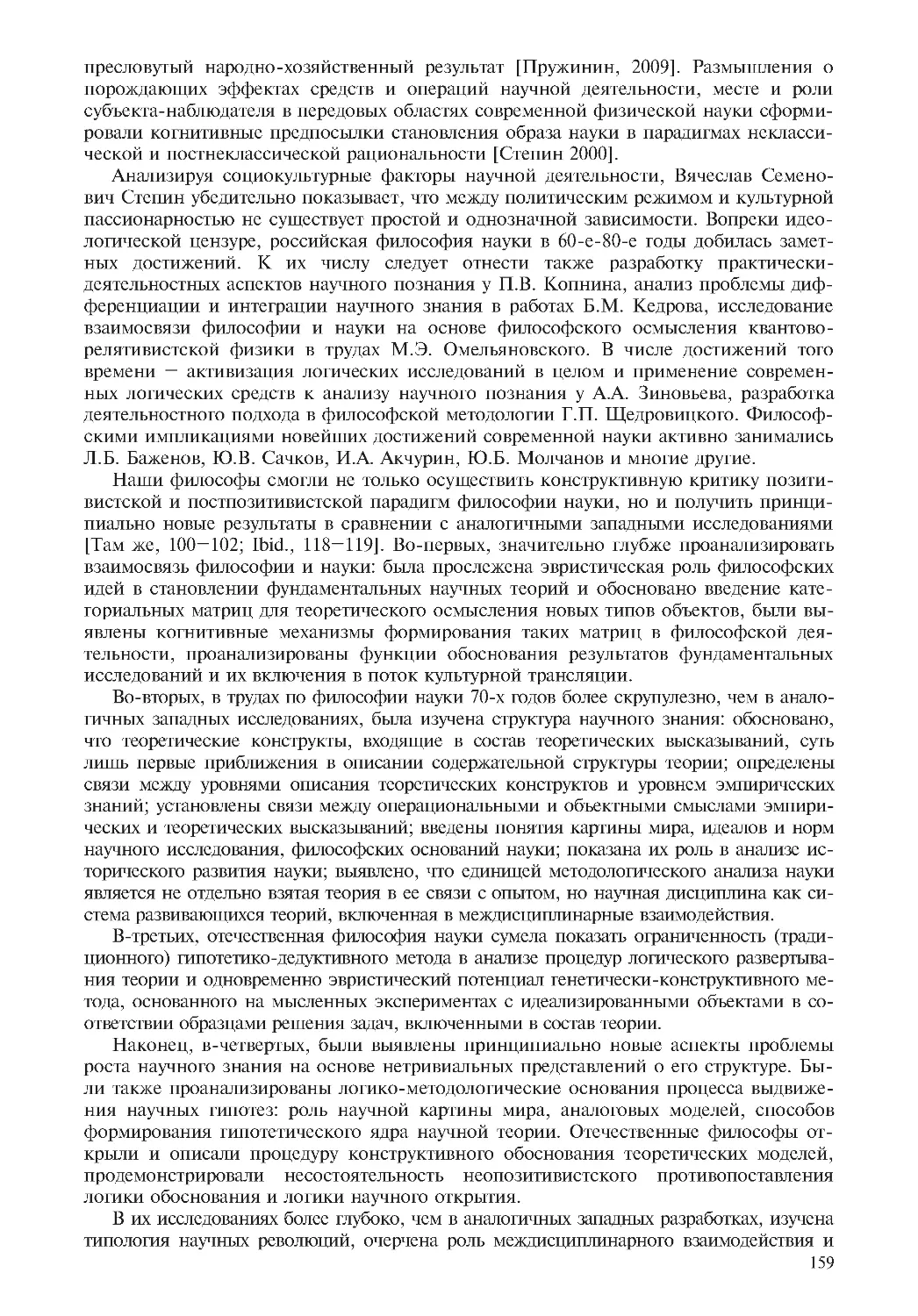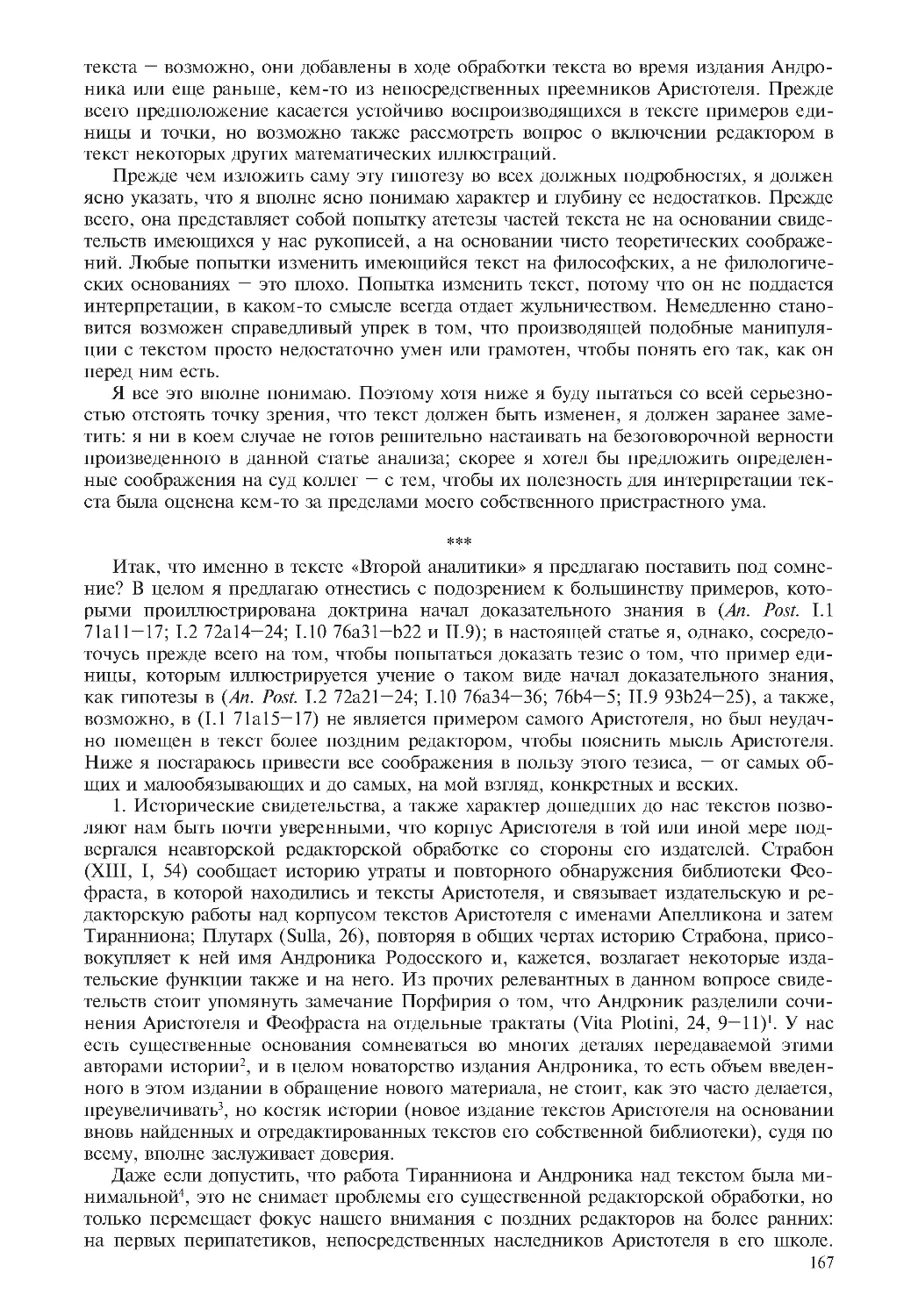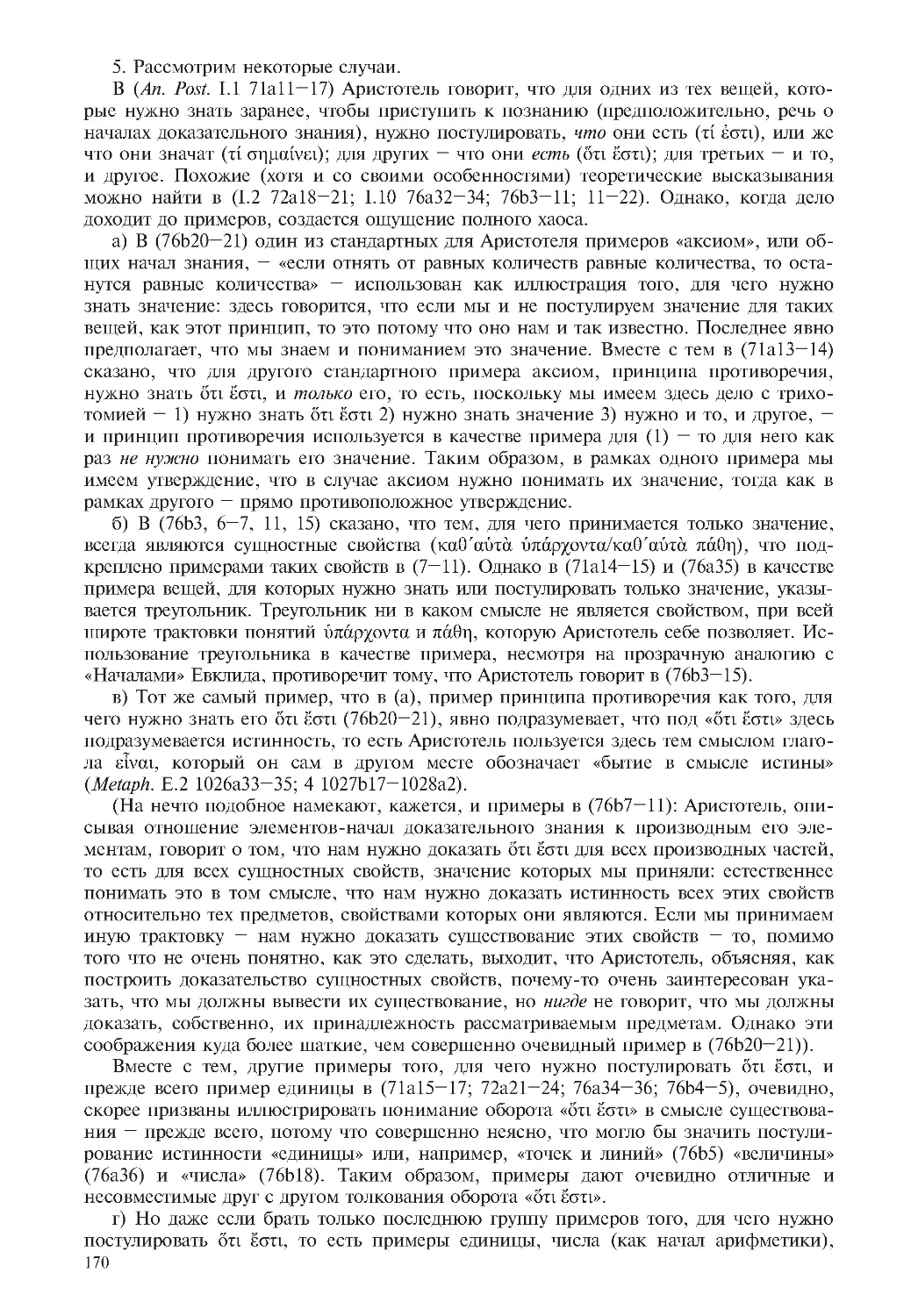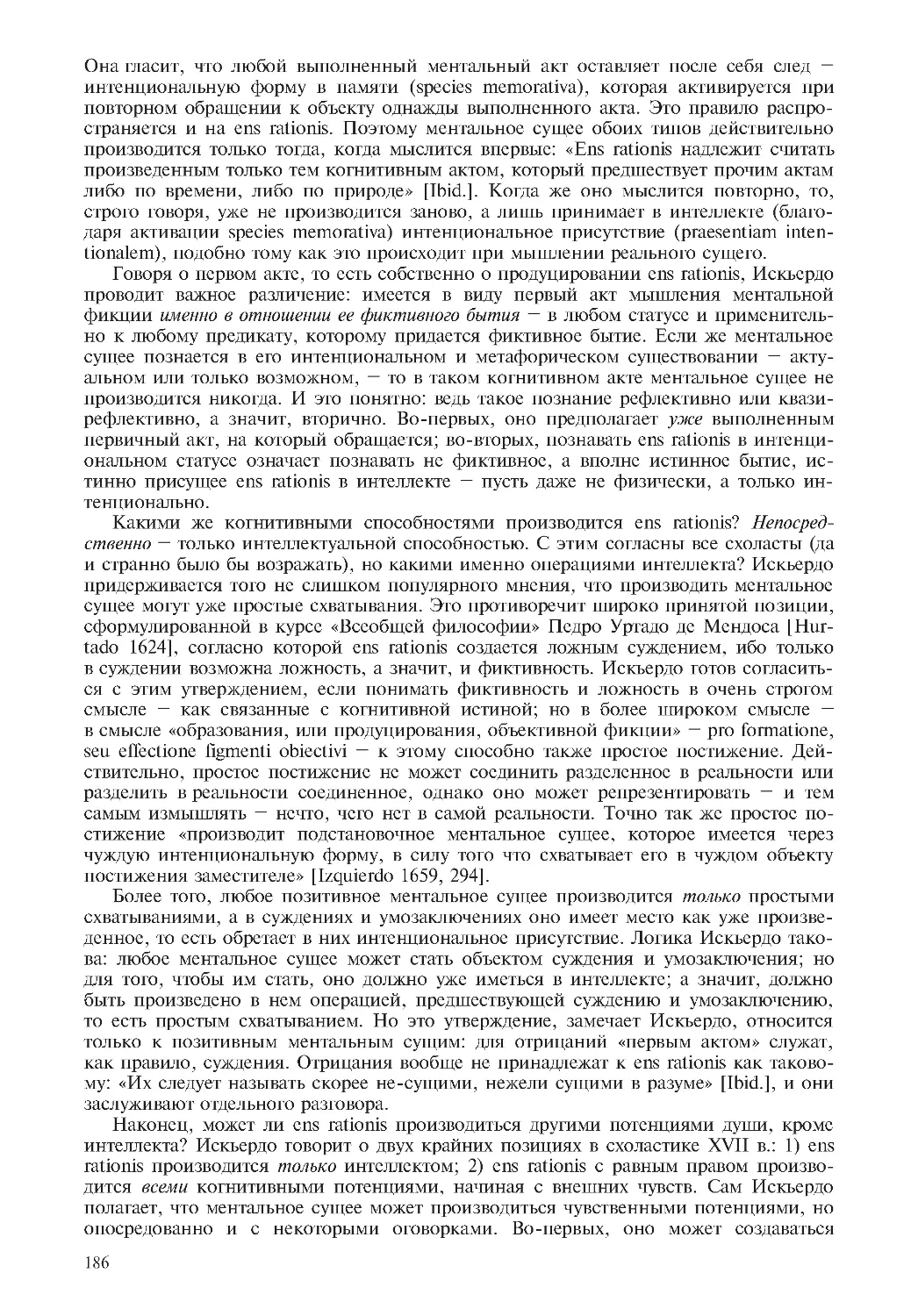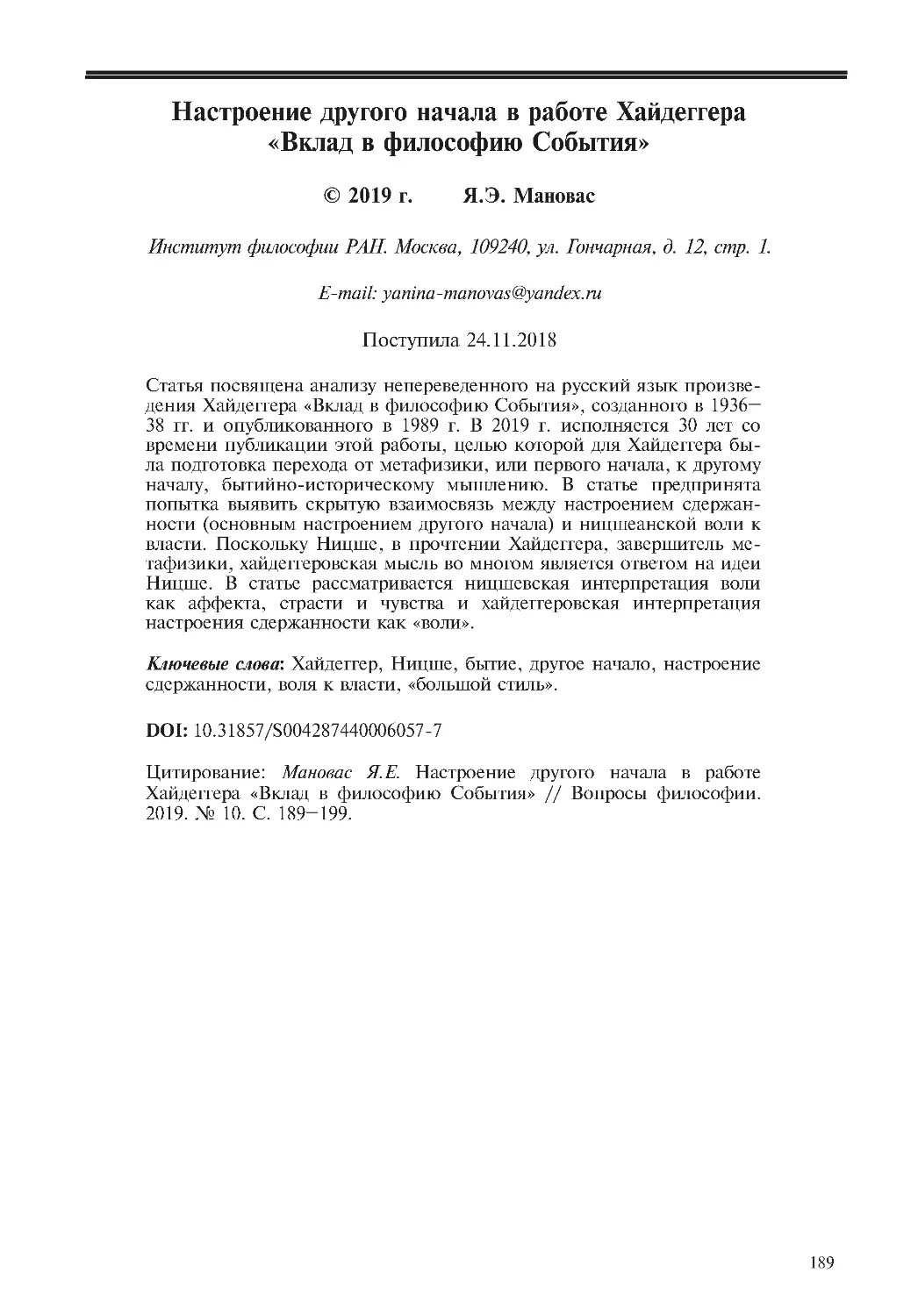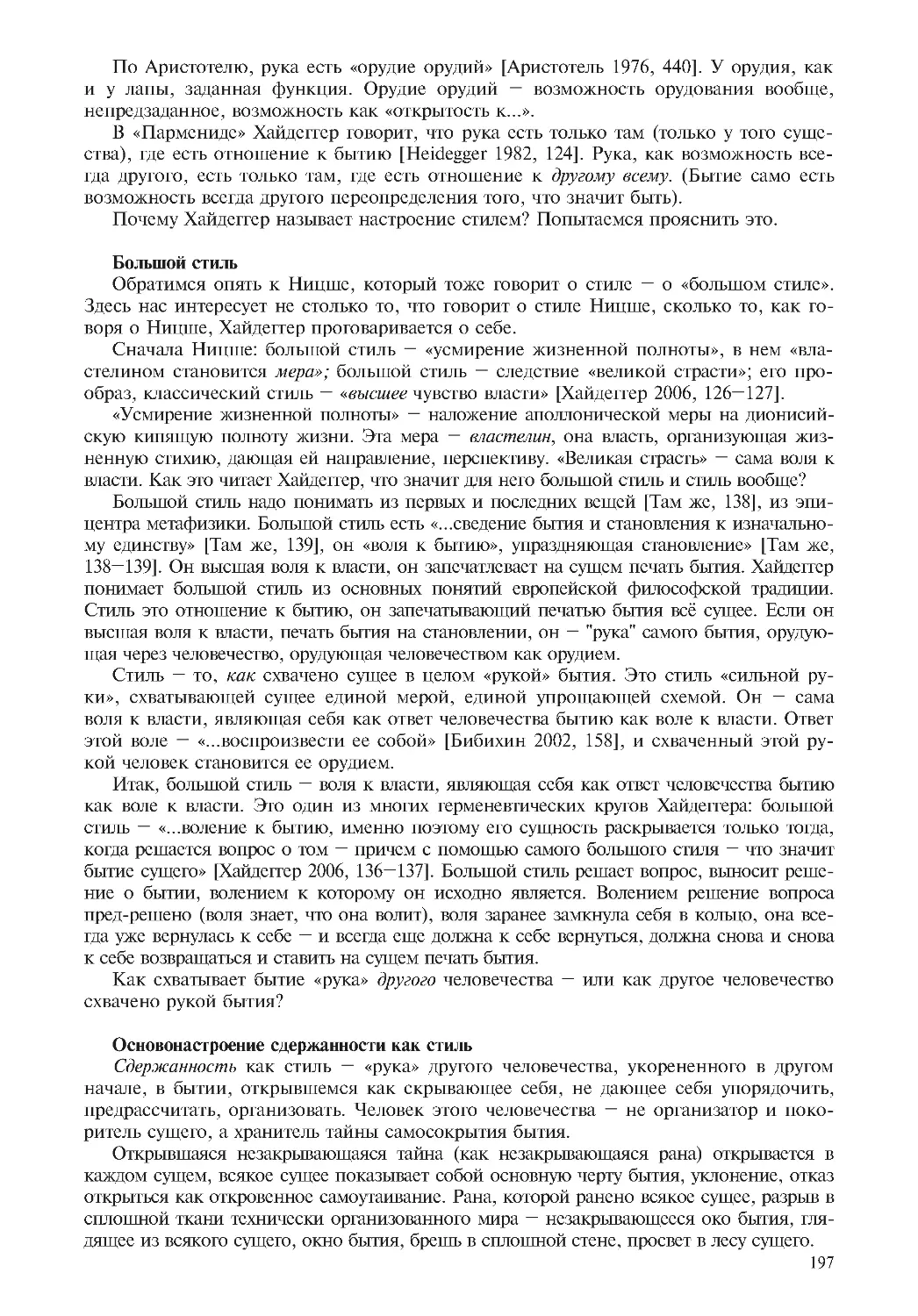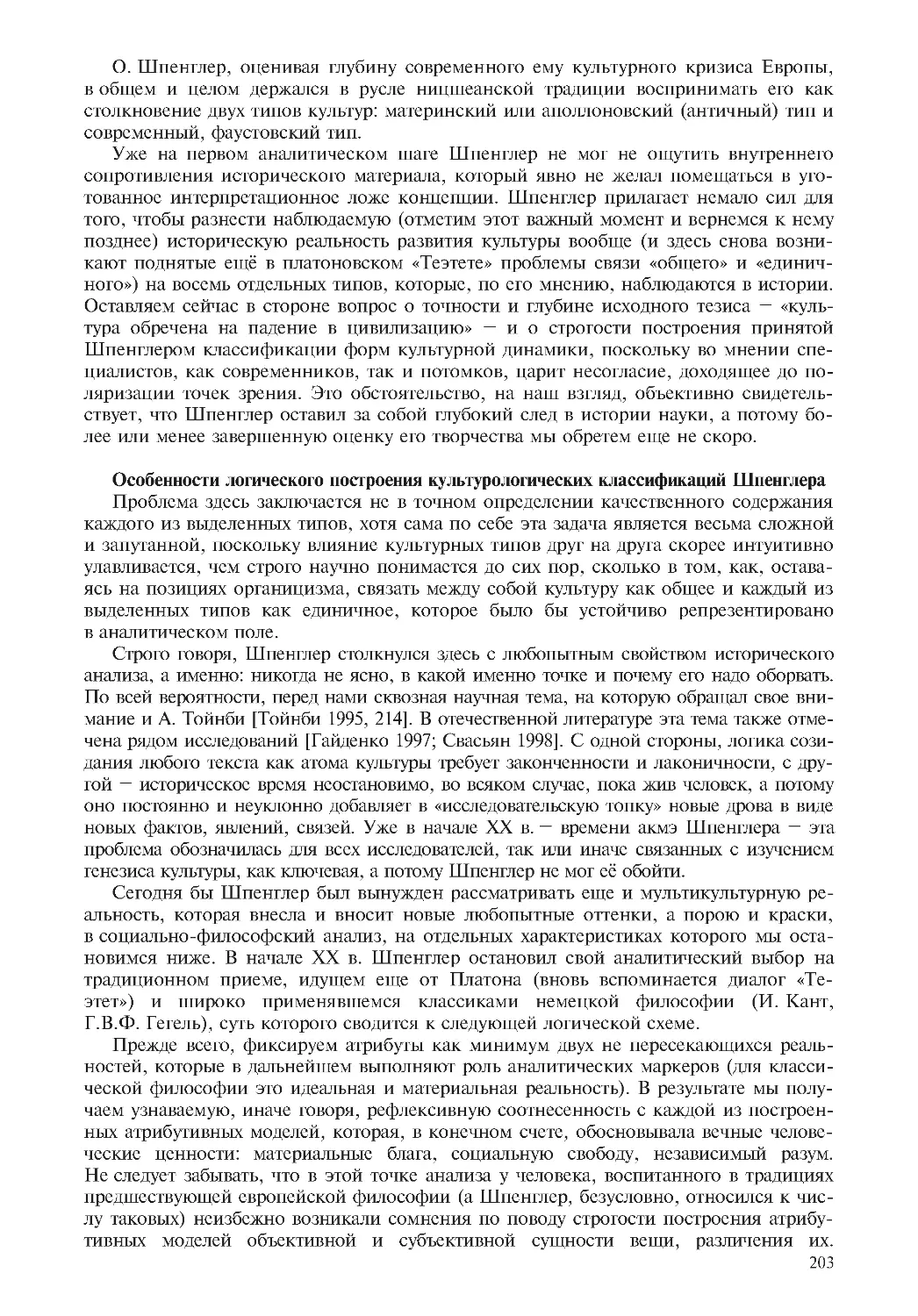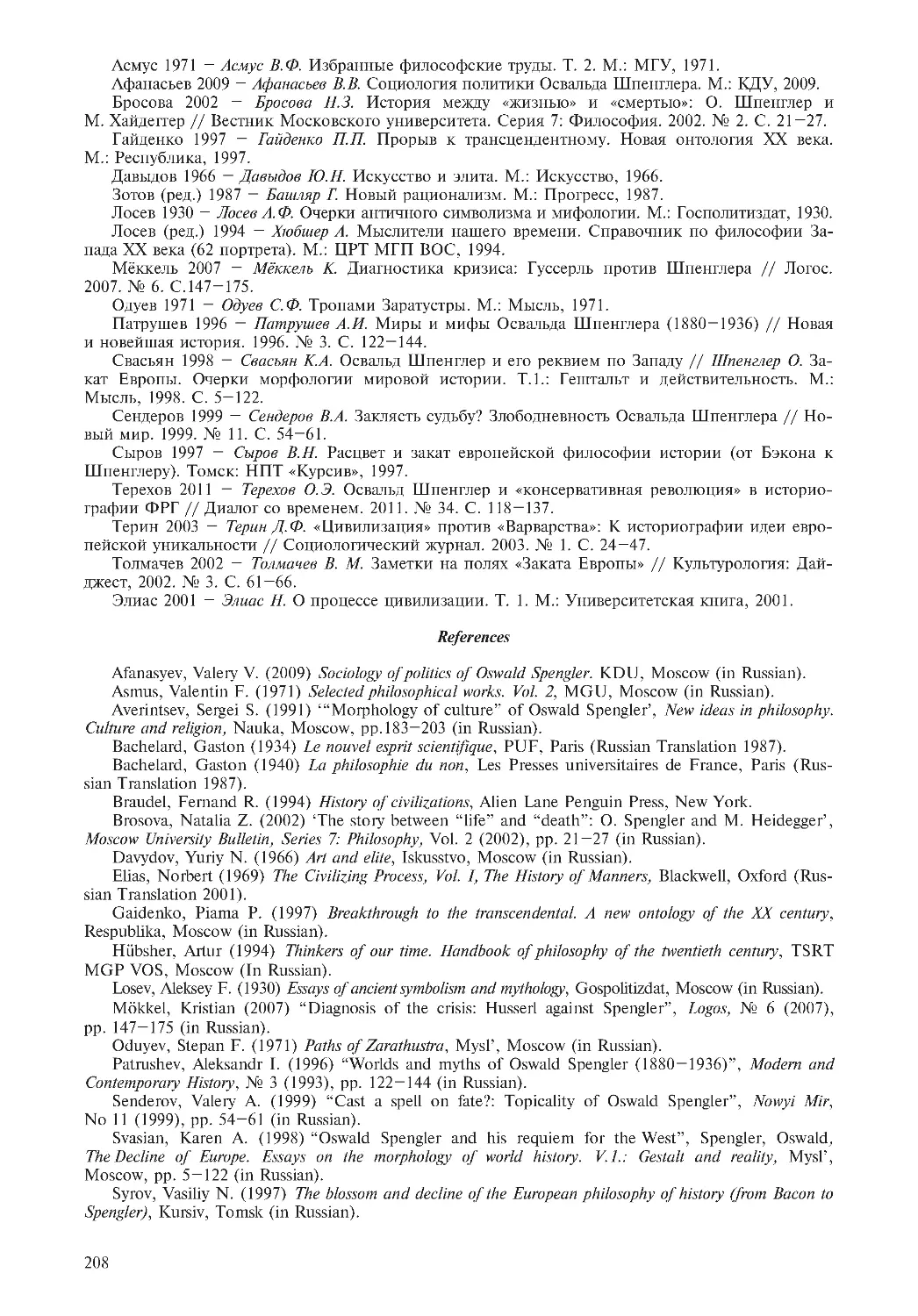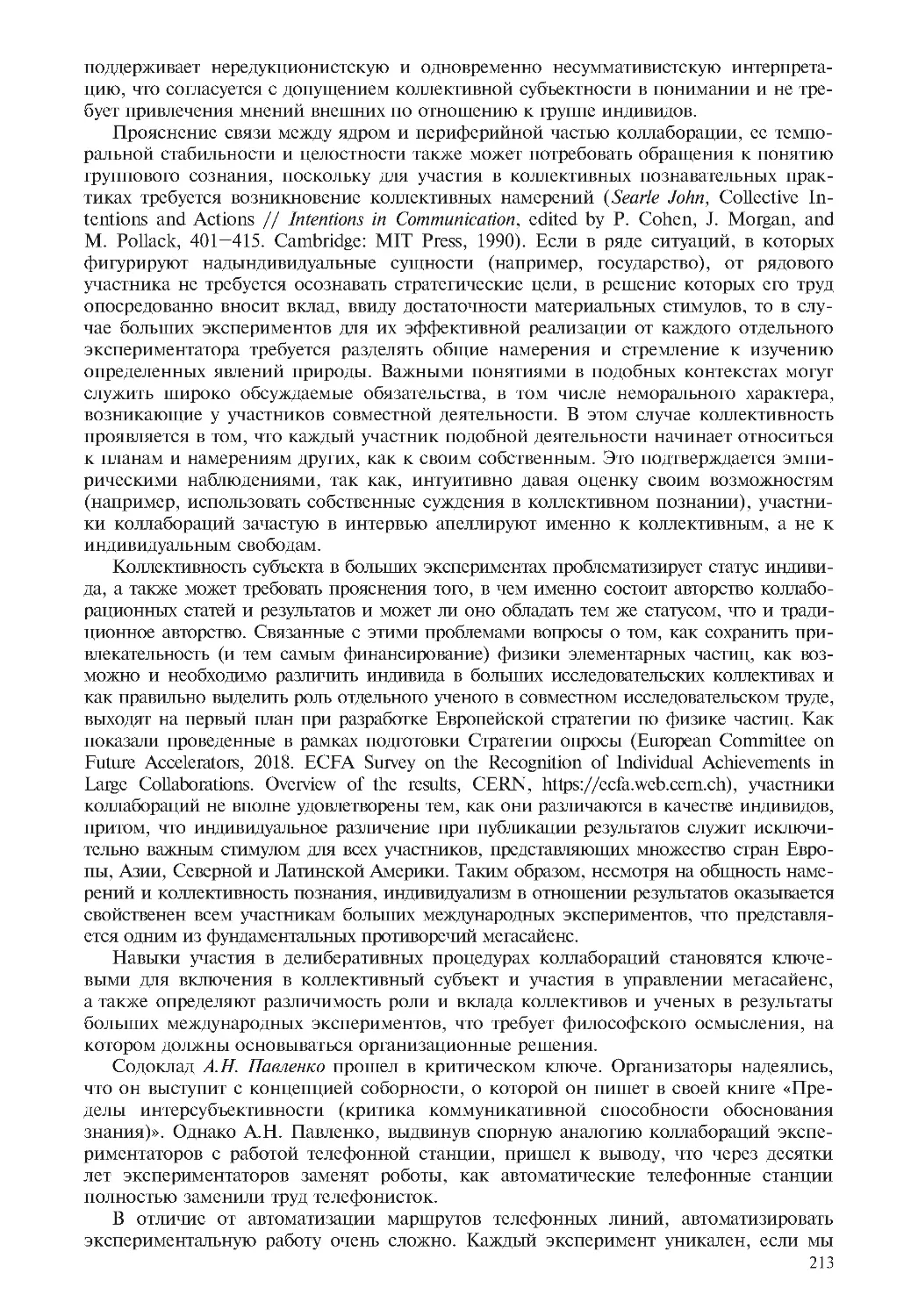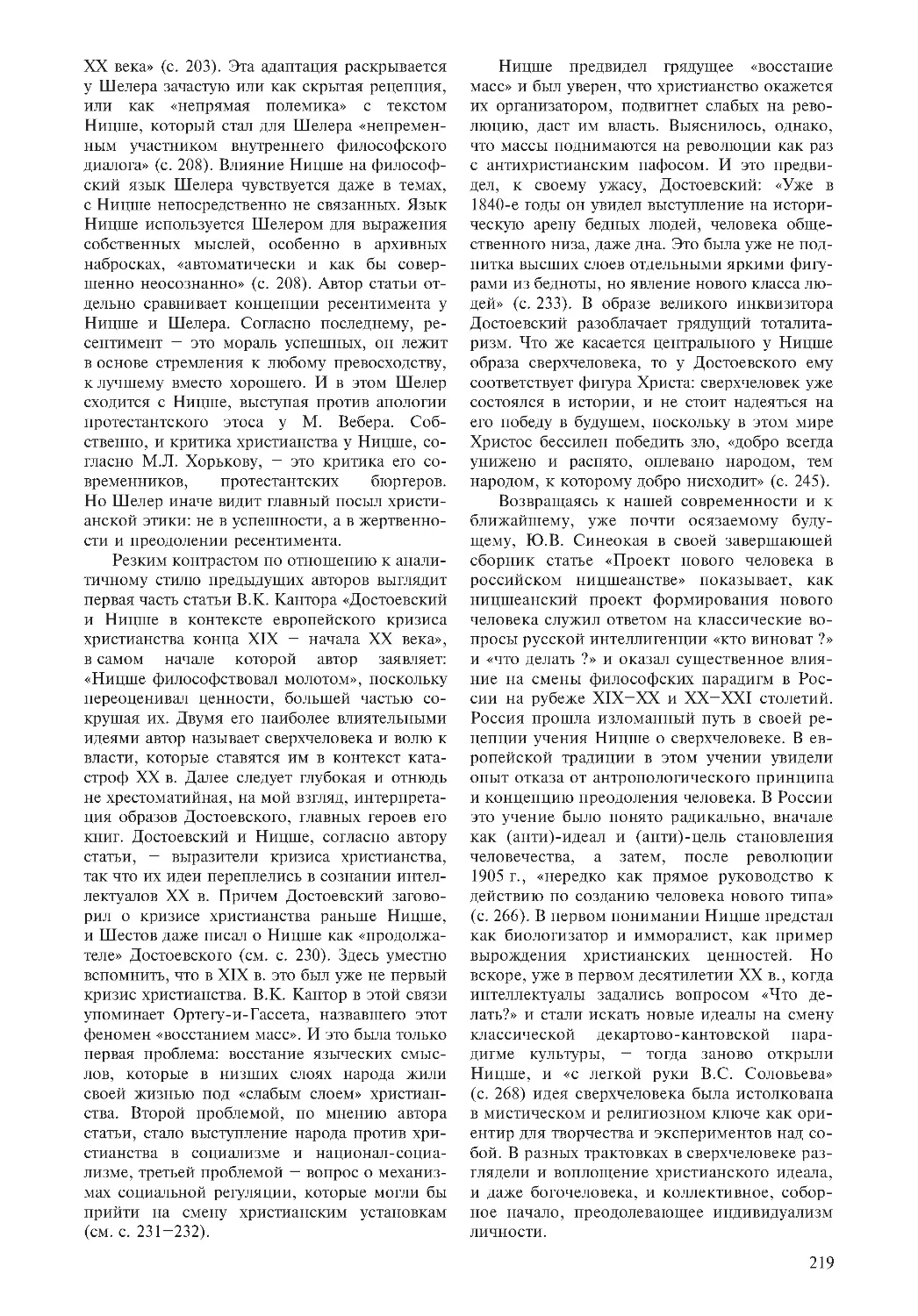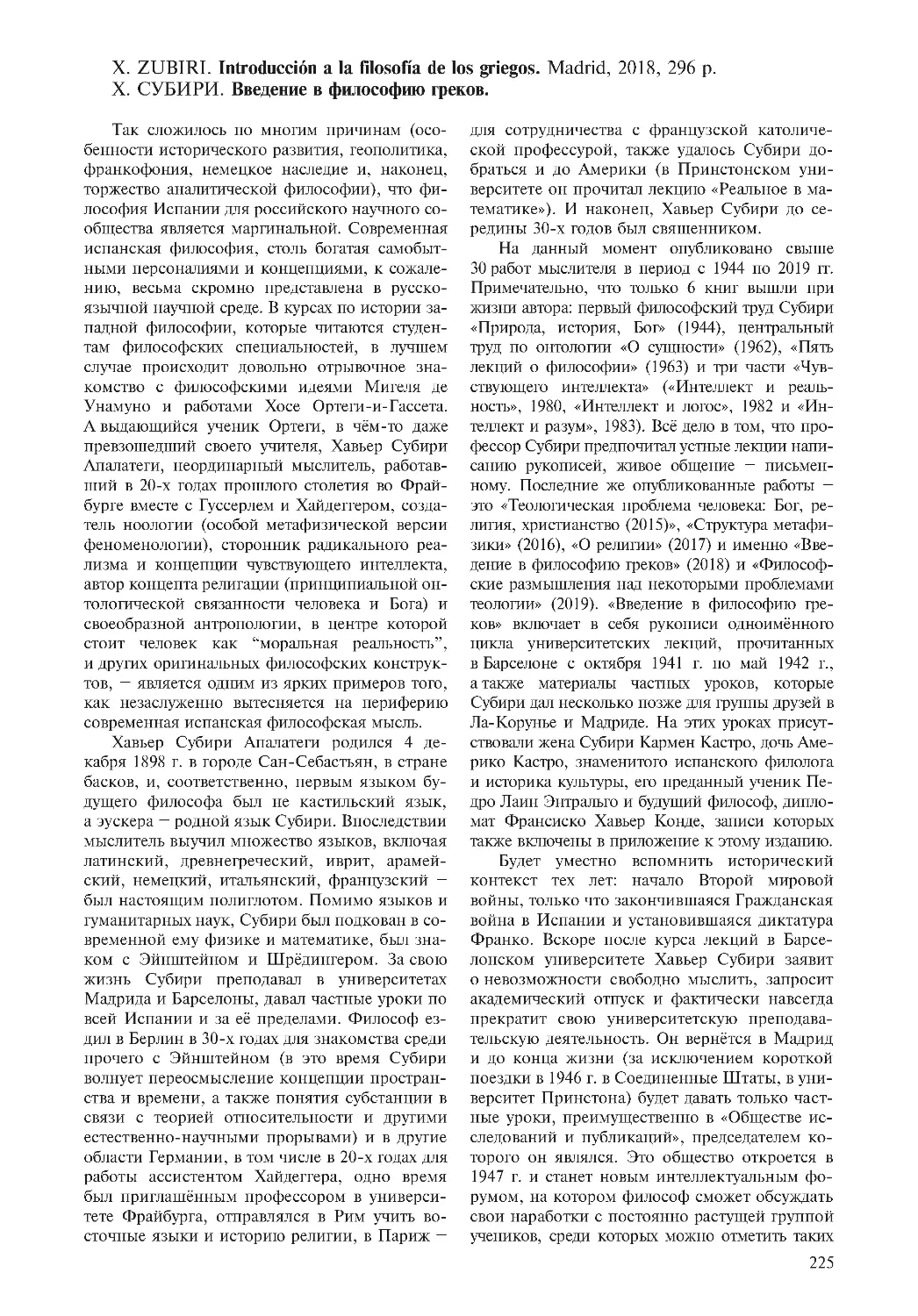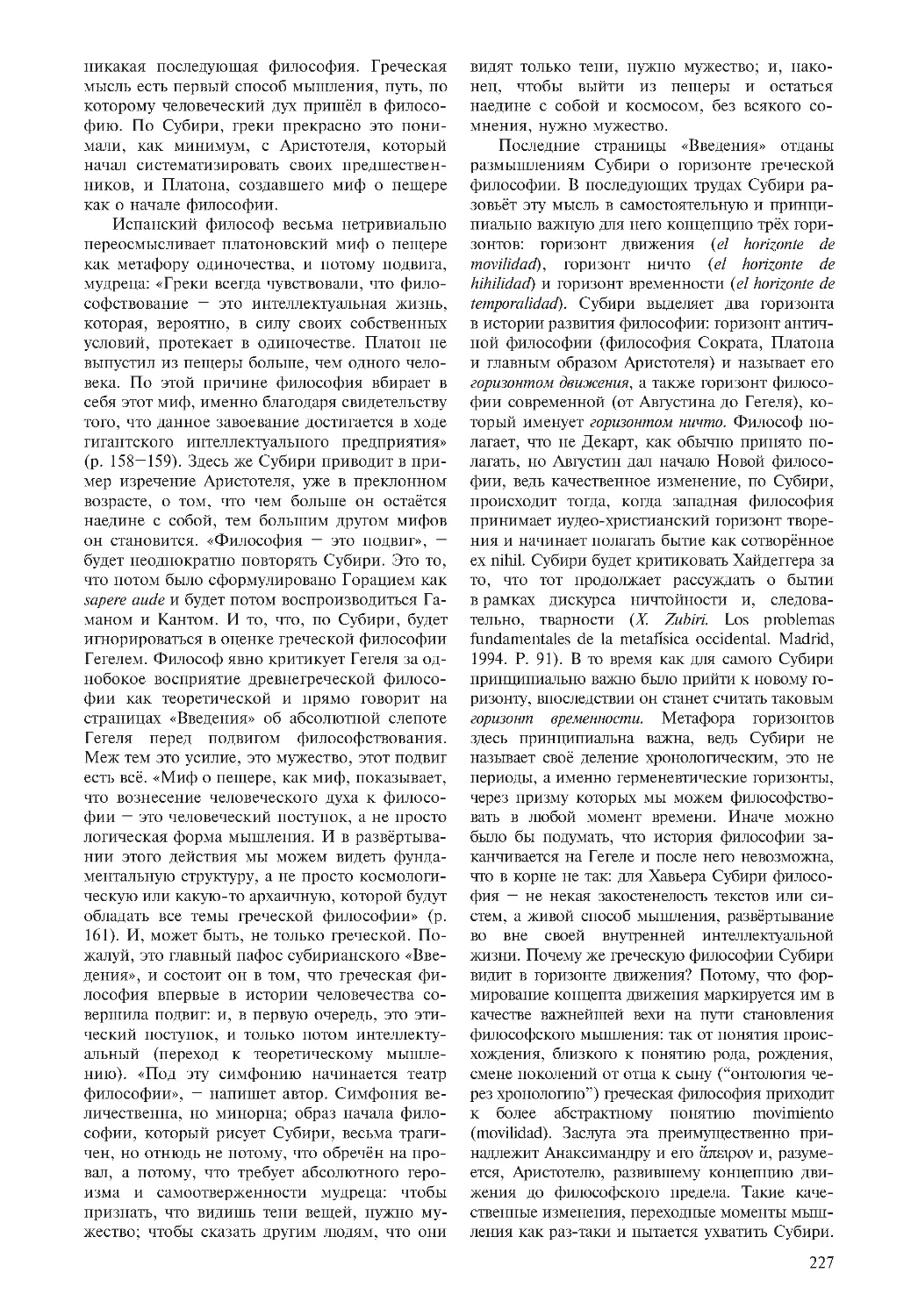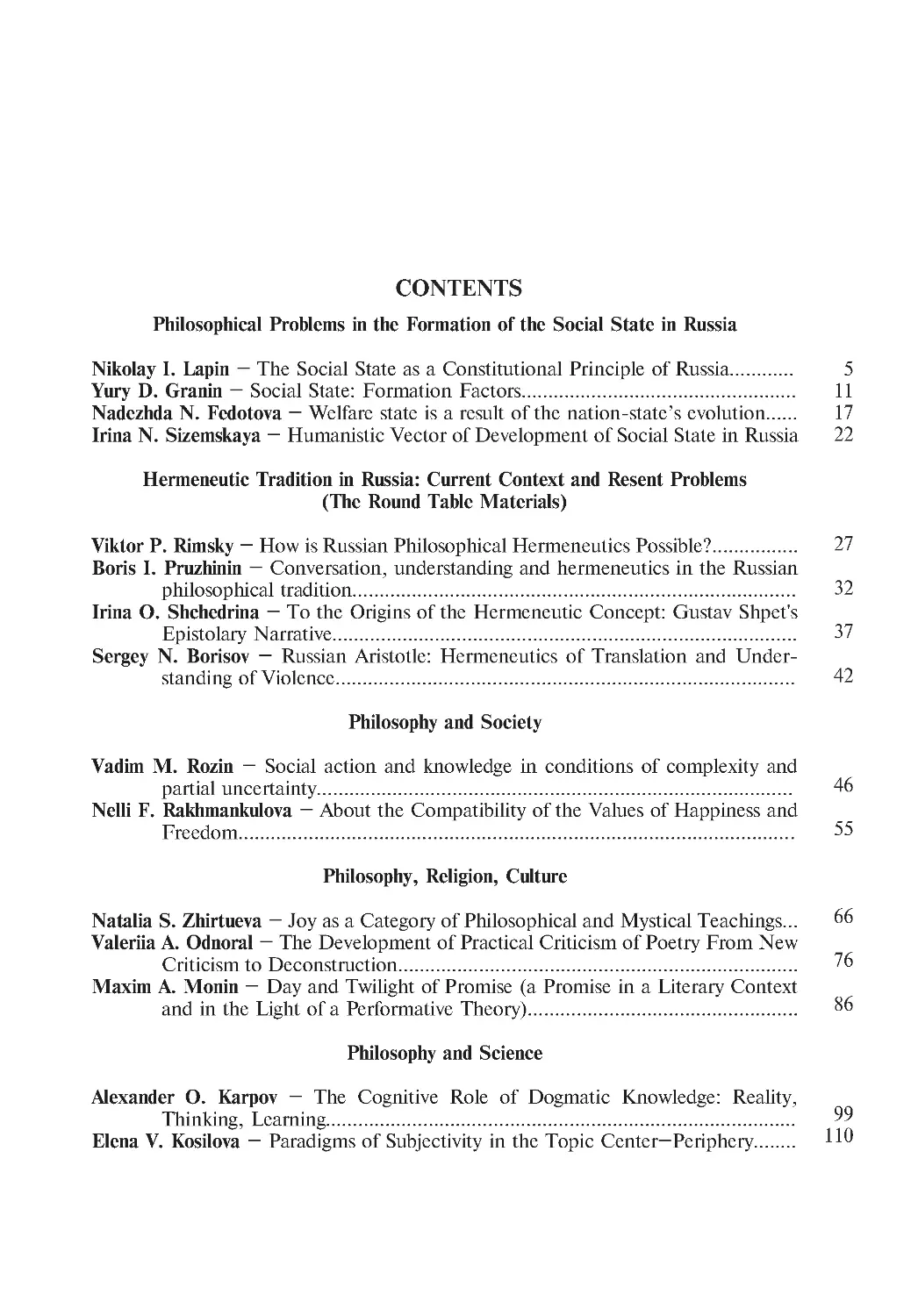Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
No10
МОСКВА
СОДЕРЖАНИЕ
Философские проблемы формирования социального государства в России
Н.И . Лапин – Социальное государство как конституционный принцип России
Ю.Д. Гранин – Социальное государство: факторы становления..........................
Н.Н . Федотова – Социальное государство – результат эволюции националь-
ного государства...........................................................................................
И.Н . Сиземская – О гуманистическом векторе развития социального государ-
ства в России................................................................................................
Герменевтическая традиция в России: актуальные контексты и современные
проблемы (материалы “круглого стола”)
В.П. Римский – Как возможна русская философская герменевтика?.................
Б.И . Пружинин – Общение, понимание и герменевтика в русской философ-
ской традиции..............................................................................................
И.О. Щедрина – К истокам герменевтической концепции: эпистолярный нар-
ратив Густава Шпета....................................................................................
С.Н . Борисов – Русский Аристотель: герменевтика перевода и понимание
насилия.........................................................................................................
Философия и общество
В.М . Розин – Социальное действие и знание в условиях сложности и частич-
ной неопределенности.................................................................................
Н.Ф . Рахманкулова – О совместимости ценностей счастья и свободы...............
© Российская академия наук, 2019 г.
© Редколлегия журнала “Вопросы философии” (составитель), 2019 г.
5
11
17
22
27
32
37
42
46
55
2019
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
Журнал издается под руководством
Президиума Российской академии наук
2
Философия, религия, культура
Н.С . Жиртуева – Радость как категория философско-мистических учений.........
В.А. Однорал – Развитие практической критики поэзии от Новой критики к
деконструкции..............................................................................................
М.А. Монин – День и сумерки обещания (обещание в литературном контексте
и в свете теории перформатива).................................................................
Философия и наука
А.О. Карпов – Когнитивная роль догматического знания: реальность, мышле-
ние, обучение................................................................................................
Е.В . Косилова – Парадигмы субъектности в топике Центр–Периферия............
Из истории отечественной философской мысли
И.И . Павлов – «Христос и мир»: метафизическая аргументация в полемике
В. Розанова и Н. Бердяева........................................................................
К.К . Апинтилиесей – «Личность» и «общение»: от Бердяева к Мунье.................
Г.В. Лобастов – От космологии духа до психологии сознания (начала и концы
философии Э.В. Ильенкова).......................................................................
Н.М. Смирнова – Философская мысль России второй половины XX века:
проблемы и дискуссии..............................................................................
История философии
А.Т. Юнусов – О возможной интерполяции некоторых математических при-
меров во «Второй аналитике» Аристотеля.................................................
Г.В. Вдовина – Ментальное сущее и его интенциональное продуцирование в
трактате Себастьяна Искьердо «Pharus scientiarum»..................................
Я.Э. Мановас – Настроение другого начала в работе Хайдеггера «Вклад в фи-
лософию События»......................................................................................
Из редакционной почты
А.П. Коркишко, А.А. Чемшит – Штрихи к портрету О. Шпенглера: мифолог
или социальный аналитик? ........................................................................
Научная жизнь
Пронских В.С., Коняев С.Н . – Естествознание как коллективный познаватель-
ный процесс: философские аспекты (о научном семинаре)....................
Критика и библиография
И.П. Давыдов – История и теория культуры: Альманах. Выпуск 2 (2018).........
А.С. Зильбер – Ницше сегодня. Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В . Синеокая......
Р.И. Соколова – Axel Honneth. Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Aktu-
alisierung. А. Хоннет. Идея социализма. Попытка актуализации.............
Я.И. Амелина – X. Zubiri. Introducción a la filosofía de los griegos. Х. Субири.
Введение в философию греков...................................................................
Contents....................................................................................................................
66
76
86
99
110
122
132
142
154
165
178
189
200
210
215
217
221
225
229
3
Редакционная коллегия
Пружинин Борис Исаевич – доктор философских наук, главный редактор
Анохин Констан тин Владимирович – доктор медицинских наук, член -корреспонден т РАН и
РАМН, руководитель отдела нейронаук НИЦ “Курчатовский инсти тут”
Бажанов Валентин А лександрович – доктор философских нау к, профессор, заслуженн ый де-
ятель науки РФ, заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного универ ситета
Гайденко Пиама Павловна – доктор философских наук, член -корреспондент РАН, главный
научный сотрудник Ин сти тута философии РАН
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, н аучный руководитель Ин сти тута фи-
лософии РАН
Кантор Владимир Карлович – доктор философских наук, ординарный профессор НИУ “Выс-
шая школа экономики”
Лекторский Владислав Александрович – акад емик РАН, заведующий сектором Институ та фи-
лософии РАН
Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор Центрально го экономико -матема-
тического институ та РАН
Миронов Владимир Васильевич – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, декан
философско го факуль тета МГУ им. М.В . Ломоносова
Паршин Алексей Николаевич – акад емик РАН, заведующий отделом алгебры и теории чисел
Математического института им. В .А . Стеклова РАН
Руденко Виктор Николаевич – доктор юридических наук, член -корреспондент РАН, директор
Институ та фило софии и права УрО РАН
Руткевич Алексей Михайлови ч – доктор философских наук, ординарный профессор, декан
факуль тета гумани тарн ых наук НИУ “Высшая школа экономики”
Смирнов Андрей Вадимович – доктор философских наук, акад емик РАН, директор Институ та
философии РАН
Трубникова Надежда Николаевна – доктор философских наук, замес титель главного редактора
Черниговская Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, доктор филологических
наук, профессор, заведующая кафедрой и лабораторией СПбГУ
Щедрина Татьян а Геннадьевна – доктор философских наук, отве тственный секретарь
Юревич Андрей Владиславо вич – доктор психологических наук, член -корреспондент РАН ,
заместитель директора Ин ститута пси хологии РАН
Международный редакционный совет
Лекторский Владислав Александрович – академик РАН, Пред седатель Совета
Агацци Эвандро – профессор университета г. Генуи, Италия
Ань Цинянь – профессор Народного универси тета Пекина, председатель общества по изуч е-
нию русской и советской философии, Китайская Н ародная Республика
Бэкхерст Дэвид – профессор Королевского универси тета Куинс, г. Кингстон, Кан ада
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, директор Институ та философии РАН
Данилов Александр Николаевич – доктор социологических н аук, профессор БГУ, член -кор-
респонден т НАН Беларуси
Зотов Анатолий Федорович – доктор философских наук, профессор философско го факультета
МГУ им. М.В . Ломоносова
Мамедз аде Ильхам – доктор философских наук, директор Института фило софии, со циологии
и права НАН Азербайджана
Мотрошилова Нелли Васильевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник
Институ та фило софии РАН
Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич – академик НАН Республики Казахстан
Погосян Геворк Арамович – доктор социологи ческих наук, профессор, академик НАН Рес-
публики Армения, директор Института философии, социологии и права НАН РА
Старобин ский Алексей Александрович – академик РАН, главн ый научный сотрудник Инсти-
тута теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН
Хабермас Юрген – профессор Франкфуртского универ ситета, Федеративная Республика Гер-
мания
Харре Ром – профессор Оксфордского универ ситета, Великобритания
4
Editorial board
Boris I. Pruzhinin – DSc in Philosophy, Chief Editor
Konstantin V. Anokhin – DSc in Medical Sciences, Corresponding Member of the Russian Acad emy
of Sciences, Correspondi ng Member of the Russian Academy of Medical Sciences, Head of Depart ment
of Neurosciences, Kurchatov Institut e (Moscow)
Valentin A. Bazhanov – DSc in Philosophy, Professor, Head of Depart ment, Ulyanovsk State Uni-
versity (Ulyanovsk)
Tatiana V. Chernigovsk aya – DSc in Linguistics and in Human Physiology, Professor, Head of De-
partment, St. Petersburg State University
Piama P. Gaidenko – DSc i n Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Chief Researcher, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Abdusalam A. Guseynov – P rofessor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Principal
Adviser for Acad emi c Affairs, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Vladimir K. K antor – DS c i n Philosophy, Professor, National Res earch University “Higher S chool
of Economi cs” (Moscow)
Vladislav A. Lecto rsky – Full Member of the Russian A cademy of Sciences (Moscow)
Valery L. Makarov – Full Memb er of the Russian Acad emy of Sciences, Directo r, Central Eco nomi c
Mathematical Institute RAS (Moscow)
Vladimir V. Mi ronov – DSc in Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of
Sciences, Dean, Faculty of Philosophy, Lomo nosov Moscow Stat e University
Aleksei N. Parshin – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Head of Department of
Algeb ra and Nu mber Theory, Steklov Mathematical Institute RAS (Moscow)
Viktor N. Rudenko – DSc i n Physics and Mathematics, Corresponding Memb er of the Russian
Academy of Sciences, Directo r, Institute of Philosophy and Law, Ural branch of Russian A cademy of
Sciences (Ekaterinbu rg)
Alexey M. Rutkevich – DSc in Philosophy, Professor, Dean, Faculty of Humanities, National Re-
search U niversity “Higher School of Eco nomics ” (Moscow)
Andrey V. Smirnov – DSc in Philosophy, Full Member of the Russian Acad emy of Sciences, Direc-
tor, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Nadezhd a N. Trub nikova – DSc in Philosophy, Deputy Chief Editor (Moscow)
Tatiana G. Shchedri na – DS c in Philosophy, Executive Secretary (Moscow)
Andrei V. Yurevich – DSc in Psychology, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Deputy Directo r, Institute of Psychology RAS (Moscow)
International Editorial Council
Vladislav A. Lecto rsky – Full Member of the Russian A cade my of Sciences (Moscow)
Evandro Agazzi – Depart ment of Philosophy, University of Geno va, Italy
An Quinan – Professor, Renmin U niversity of China, China
David Backhurst – Professor, Queen’s University, Kingston, Canada
Alexander N. Danilov – Docto r of Sociology, Professor, Belarusian State U niversity, Correspondi ng
memb er of the National A cademy of Sciences of Belarus
Abdusalam A. Guseynov – Professor, Full Member of the Russian Acad emy of Sciences, Director,
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Jurgen Habermas – Professor, University of Frankfurt, Germany
Rom Harre – Professor, Oxford University, England
Ilham Ramiz oglu Mammadzada – DSc in Philosophy, Director, Institute of Philosophy, Sociology
and Law, Azerbaijan National Academy of S ciences (Baku)
Nelly V. Motroshilova – DSc in Philosophy, Professor, Chief Researcher, Institute of Philosophy,
Russian A cademy of Sciences
Abdumalik N. Nysanbaev – A cademici an of the National Academy of Sciences of Republic of K a-
zakhstan
Gevorg A. Poghosy an – DSc in Sociology, Professor, Full Memb er of National Academy of Sciences,
Republi c Armenia, Director of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA (Erevan)
Miroslav V. Popovich – Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine , Professor,
Directo r, Skovoroda Institute of Philosophy of the National A cademy of Sciences of Ukraine (Kiev)
Aleksei A. Starobi nsky – Full Member of the Russian A cademy of Sciences, Chief Researcher, Landau
Institute for Theoretical Physics RAS (Moscow)
Anatoly F. Zotov – DSc in Philosophy, Professor, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow Stat e
University
5
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
От редакции. В марте 2019 г. журнал «Вопросы философии» и Центр изучения со-
циокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН повели круглый
стол, посвященный обсуждению проблем формирования социального государства.
Релевантную тематику Центр разрабатывает с 2017 г. Ниже публикуется серия статей,
представляющая результаты проведенного обсуждения.
Социальное государство как конституционный принцип России
© 2019 г.
Н.И . Лапин
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: lapini31@mail.ru
Поступила: 4.04.2019
В статье анализируются проблемы формирования и реализации прин-
ципа социального государства. При этом автор акцентирует внимание
не на теоретическом концепте «социальное государство» как таковом,
а на противоречиях его реализации в современной России (между де-
кларируемыми нормами и их реальным наполнением). Цель исследо-
вания – найти пути гуманистического преодоления этих противоре-
чий и формирования сильного социального государства в России.
Анализ терминов «достойная жизнь» и «свободное развитие человека»
(статьи 7 Конституции РФ) позволил автору предложить новую ин-
терпретацию двух различных функций социального государства – за -
щита «слабых» и поддержание гуманистической роли государства.
Опираясь на эту интерпретацию, автор стремится уточнить, какую
роль выполняет концепт человеческого достоинства в реальной исто-
рии социального государства и каким образом соотносятся социаль-
ное и правовое государства. Поиск ответов на эти и другие подобные
вопросы побуждает апеллировать к принципам и нормам Конститу-
ции РФ: необходимо принять во внимание особый социально-
правовой статус конституционных положений и объективно-
субъективную природу такого феномена как социальное государство.
Автор полагает, что направленное таким образом исследование созда-
ет предпосылки для формирования нового научного направления –
«конституционной социальной философии».
Ключевые слова: социальное государство, правовое государство, кон-
ституционный принцип, достойная жизнь, свободное развитие чело-
века, человеческое достоинство, конституционная социальная фило-
софия.
DOI: 10.31857/S004287440007153-3
Цитирование: Лапин Н.И. Социальное государство как конституцион-
ный принцип России // Вопросы философии. 2019. No 10. С. 5–10.
6
The Social State as a Constitutional Principle of Russia
© 2019 г.
Nikolay I. Lapin
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: lapini31@mail.ru
Received 4.04.2019
The author emphasizes that the object of the research work under discussion is
not the theoretical concept of the social state itself, but a contradictory condi-
tion of the social state in Russia as a constitutional principle (contradiction be-
tween the declared norms and their actual content), problems of its formation
and implementation. The goal of the study is, based on criticism of the contra-
dictory reality, to find the ways of humanistic overcoming of these contradic-
tions and to form a strong social welfare state in Russia. The understanding of
the authentic meanings of the terms «worthy life» and «free development of
man» of article 7 of the Russian Constitution permits to offer a new, functional
interpretation of the correlation between the two parts of this article: as two dif-
ferent functions of the social state – protection of the vulnerable and active
humanism. How are these functions manifested in the real history of a social
state? What is the role of the concept of human dignity? Are they related to dif-
ferent stages of the historical evolution of society? How are a social and a legal
state correlated? Is the concept of a «social state» applicable to the USSR? The
search for answers to these and other questions leads to examination of the
principles and norms of the Constitution of the Russian Federation. The re-
searcher has to understand a special socio-legal status of the meanings of con-
stitutional provisions, the objective-subjective nature of such an object as a so-
cial state. Doesn’t it create prerequisites for a new scientific direction – «consti-
tutional social philosophy», or, in a wider perspective, «constitutional sociohu-
manitarian research»?
Key words: social state, law-governed state, constitutional principle, decent life,
free development of man, human dignity, constitutional social philosophy.
DOI: 10.31857/S004287440007153-3
Citation: Lapin, Nikolay I. (2019) ‘The Social State as a Constitutional
Principle of Russia’, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 5–10.
Для того, чтобы сосредоточить внимание на практически значимых аспектах фено-
мена социального государства и их теоретическом осмыслении, считаю необходимым,
прежде всего, сопоставить реальные воплощения социального государства с общими,
имеющими статус государственного закона принципами их реализации. С этой целью
я обратился к формулировке этих принципов в Конституции Российской Федерации,
где они предстают как институциональный факт, столь же реальный, как и Конститу-
ция в целом, имеющая нормативный статус Основного закона для всех членов обще-
ства. Такой исследовательский ход позволяет очень отчетливо продемонстрировать те
пункты реализации социального государства, которые далеки от конституционных
принципов осуществления во многих сферах самого государства, гражданского обще-
ства и в повседневной жизни его граждан. Таким образом, задачи исследования состо-
ят, прежде всего, в том, чтобы осмыслить содержание статьи 7 Конституции РФ и по-
стараться уяснить проблемы осуществления ее положений.
На мой взгляд, социальное государство выполняет функцию сохранения всего об-
щества, т.е. общественную функцию. И философская проблема состоит здесь в том,
7
чтобы адекватно ответить на вопрос: не очередная ли это утопия? Или, используя тер-
мин Хабермаса относительно концепции прав человека: социальное государство – реа-
лизуемая утопия? А чтобы ответить на этот вопрос адекватно, необходимо, на наш
взгляд, следовать установкам критического гуманизма, опираясь, при этом, на ту сис-
тему норм-принципов, которые составляют гуманистическую основу конституционного
строя России. Такая критика для нас – не самоцель. Мы должны на основе критики
противоречивых реалий найти гуманистические векторы и способы преодоления этих
противоречий формирования и развития социального государства в России.
Текст статьи 7 Конституции РФ состоит из двух частей. Обычно их последова-
тельность интерпретируется как чисто логическая: первая часть содержит общие по-
ложения, которые конкретизируются положениями второй части. Это приемлемая
интерпретация. Но проведенное нами изучение жизненных смыслов концепта «соци-
альное государство» дает основания предположить ее недостаточность. В самом деле,
если фиксированные во второй части статьи 7 социальные обязательства государства
в области охраны труда, здоровья и т.д. конкретизируют более общие положения
первой части, то достаточно ли выполнения этих обязательств для достойной жизни
и свободного развитии людей? В чем состоит жизненный смысл ключевых для пра-
вопонимания терминов «достойная жизнь» и «свободное развитие человека»? Пред-
седатель Конституционного суда Валерий Зорькин справедливо заметил, что эти об-
щие понятия «...еще не получили адекватного их значимости теоретического осмыс-
ления» [Зорькин 2018 web]. И вообще, нет ли оснований для иной, функциональной
интерпретации двух частей данной статьи: не характеризуют ли они две сопряжен-
ные, но разные функции социального государства, связанные с разными этапами
исторической эволюции общества?
Возможно, вторая часть рассматриваемой статьи Конституции представляет собой
локальную функцию защиты уязвимых слоев населения, а первая ее часть содержит
универсальную функцию гуманистически активного участия государства в создании
условий для достойной жизни и свободного развития всех членов общества? Не соот-
ветствует ли такая дифференциация функций двум историческим этапам эволюции
общества (индустриальному и постиндустриальному), а тем самым – и двум этапам
социального государства, которые означают, но в обратном порядке, два состояния его
развития: сначала защищающее, затем, на его основе – гуманистически активное?
Одну из наиболее известных и принятых на Западе типологий социального государ-
ства предложил датский экономист и социолог Г. Аспинг-Андерсен в книге «Три мира
капитализма благосостояния» [Esping-Andersen 1990]. Он показывает, что в большин-
стве западно-европейских стран социальное государство предстает преимущественно
как защищающее слабые слои, а в отдельных странах (Швеция, Финляндия) стало пе-
реходить в более высокий уровень – гуманистически активное. Но некоторые страны
(Англия, Франция) оказались не готовы к такому переходу. Господствующие в них
праволиберальные силы стали требовать смягчения и даже отказа от политики соци-
ального государства. Эту ситуацию обрисовал Томас Пикетти, предлагая реформиро-
вать политику социального государства, но не отказываться от нее [Пикетти 2014].
Обе функции социального государства исторически формируются, опираясь на
функции правового государства, которое ранее возникло в результате борьбы граждан
не только за права частной собственности, справедливой оплаты труда, политической
и духовной свободы, но, как показал Юрген Хабермас, прежде всего за свое челове-
ческое достоинство [Хабермас 2013]. Однако правовое государство, обеспечивая эко-
номическую, политическую и духовную свободу человека, оставляло его наедине с
самим собой в обеспечении материальных и социальных условий жизни. Предлага-
лись два способа решения этих жизненных проблем: пролетарски-революционный
(уничтожение частной собственности, обоснованное марксизмом) и реформистски-
эволюционный. В русле второго способа социал-демократы трансформировали марк-
сизм, а Лоренц фон Штейн обосновал идею социального государства, которое для
поддержания солидарности в обществе осуществляет защиту «слабых» слоев населе-
ния. К сильному, но преимущественно защищающему состоянию социального
8
государства более применим широко используемый на западе термин «государство
всеобщего благосостояния».
В Англии между двумя Мировыми войнами идеи социального реформаторства
получили активную поддержку в программах лейбористской партии. Один из ее
идеологов, Ричард Тоуни стал автором программы развития государственной системы
образования на основе принципа равенства всех людей по доступу к нему. Новым
действенным фактором развития социальной политики в Англии стала Вторая миро-
вая война, актуализировавшая проблему солидарности общества. Одним из самых
известных документов социальной политики стал доклад председателя комитета Бри-
танского парламента Уильяма Бевериджа «Социальное страхование и смежные служ-
бы» («Отчет Бевериджа»), в котором содержался план достижения «полной занято-
сти». Он был принят правительством У. Черчилля, поддержан лейбористской партией
и положил начало формированию сильной социальной политики государства, осу-
ществлявшейся до кризиса 1980-х гг., при активном участии таких социологов как
Т. Маршалл и Р. Титмасс [Сидорина 2013].
В постиндустриальном обществе социальное государство активизирует гуманисти-
ческую функцию – оно выдвигает принцип социального качества жизни, далеко вы-
ходящий за пределы социальной политики и означающий преодоление социального
отторжения человека, его включение в систему социальной безопасности общества
[Лукашева (ред.) 2013]. О том, как понимают признаки такого государства известные
западные специалисты, свидетельствуют их выводы о его состоянии в современной
Финляндии. По их оценке, в этой стране имеется «...сочетание информационного
общества и государства благоденствия. Финское государство благоденствия включает
совершенно бесплатное высококачественное государственное образование, начиная с
детского сада и заканчивая университетским образованием (при одном из самых вы-
соких в мире показателей приема в высшие учебные заведения), всеобщее медицин-
ское страхование (предоставляемое в качестве обусловленного гражданством права) и
систему щедрых социальных выплат со всеобщим страхованием по старости и на
случай потери работы» [Химанен, Кастельс 2002].
С 80–90-х гг. ХХ в., в западных странах усилилось противодействие развитию соци-
ального государства, тенденциям его активной гуманизации. Однако это противодей-
ствие, в свою очередь, сталкивается с институциональной укорененностью норм соци-
ального государства как новых норм цивилизации, их устойчивостью в повседневной
жизни гражданского общества, включая множество некоммерческих организаций. Ис-
следования реалий и потенциала социального государства показывают, что в индустри-
альном обществе преобладает экономически затратная и социально пассивная функция
защиты индивидов от негативных следствий общественного устройства, прежде всего
экономики. В постиндустриальном обществе формируется активная функция создания
условий для саморазвития индивидов, что создает новые конкурентные преимущества
экономики общества. Социальное государство перестает быть затратным, а все обще-
ство становится более привлекательным на мировой арене.
Перспективы социального государства – не только теоретический, но и экзистен-
циально значимый вопрос для десятков миллионов жителей России – как тех, значи-
тельная часть жизни которых прошла в СССР, так и для той части более молодых
граждан, которые в определенной мере разделяют родительские оценки опыта соци-
альной защищенности простых людей в советском государстве. При всех ныне хоро-
шо известных изъянах и пропагандистских мифах, ликвидация неграмотности, бес-
платное всеобщее начальное, затем среднее и высшее образование, бесплатное меди-
цинское обслуживание, гарантии труда и отдыха, пенсионное обеспечение и многие
другие социальные обязательства стали примером социальной политики, которую
демонстрировало социалистическое государство и в немалой степени стимулировало
утверждение социальных государств в развитых западных странах. Такой была реаль-
ность и она не должна замалчиваться или принижаться.
Но есть принципиальный вопрос иного рода: советское государство, начиная с
первой Конституции РСФСР 1918 г., которая открывалась Декларацией прав
9
трудящихся, не было правовым. Провозглашенный в Декларации принцип «не тру-
дящийся не ест» означал, что не трудящиеся не есть полноценные граждане: они ли-
шены избирательных прав, а все граждане лишены права частной собственности на
средства производства. Конституция СССР 1936 года уже предоставила избиратель-
ные права всем гражданам, но не право частной собственности. Это фундаменталь-
ное ограничение сохранилось и в последней редакции Конституции СССР (декабрь
1988 г.), как и статья 6, утверждавшая бесконтрольную власть КПСС. Это означает,
что советское государство не только не защищало некоторые фундаментальные права
человека, но конституционно запрещало их использование. Менее явно оно отчужда-
ло большинство населения от общенародной собственности, в том числе от права на
участие в доходах от ее использования.
Из сказанного можно сделать вывод: социальная политика – более широкое понятие,
чем социальное государство. Советское государство активно осуществляло социальную
политику. Но оно не было правовым. Это не позволяет считать его социальным государ-
ством. Вместе с тем, не любое правовое государство является социальным. Далеко не все,
кто считает Российскую Федерацию правовым государством, готовы признать его также
и социальным или делают это с большими оговорками. И в связи с этой констатацией
отмечу, что в недавно опубликованной монографии наших коллег из Вологодского науч-
ного центра РАН эта ситуация рассматривается как чреватая негативными социальными
следствиями. Зреет противоречие между гражданским обществом (ожиданиями боль-
шинства населения) и экономической политикой Правительства, т.е. гражданско-
государственное противоречие в обществе. «Будущее социальное государство в России, –
подытоживают авторы монографии, – останется под вопросом до тех пор, пока не про-
изойдет качественной трансформации морально-ценностных основ управленческих элит
и не будут сделаны реальные шаги по преодолению системы олигархического капита-
лизма» [Ильин, Морев, Поварова 2018, 208].
Я полагаю, что осмысление проблем социального государства побуждает нас обра-
щаться к принципам и нормам Конституции РФ, что создает предпосылки для нового
научного направления. Это направление можно определить как «конституционную соци-
альную философию», или, шире, как «конституционные социогуманитарные исследова-
ния». Экономисты и юристы уже двинулись по пути утверждения конституционной эко-
номики. Книга большой группы авторитетных в области экономики специалистов так и
называется: «Конституционная экономика». Ее первая глава начинается с определения:
«Конституционная экономика – это научное направление, изучающее принципы опти-
мального сочетания экономической целесообразности с достигнутым уровнем конститу-
ционного развития, отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих
экономическую и политическую деятельность в государстве» [Гаджиев (ред.) 2010, 11].
Предлагаю продумать некий эквивалент для определения конституционной социальной
философии. Задача не простая и для начала предлагаю несколько тезисов, чтобы понять,
насколько она реальна.
Конституционная социальная философия, на мой взгляд, это направление, изучаю-
щее социально-философские предпосылки формирования правовых принципов и норм
в качестве конституционных, состояние их осуществления и их влияние на развитие
человека, общества и его региональных сообществ в различных странах, включая Рос-
сию. А также выявляет специфику методов познания объектов, имеющих конституци-
онный статус. Опыт изучения проблем формирования и эволюции в России такого кон-
ституционного принципа как социальное государство свидетельствует о том, что данный
объект имеет специфическую, объективно-субъективную природу, включает разнород-
ные компоненты. Во-первых, это институциональный факт, реальный в такой же мере,
что и Конституция Российской Федерации в целом, или Общественный договор ее
граждан. Далее, важно констатировать меру осуществления социального государства как
конституционного принципа в жизни российского государства и гражданского обще-
ства, в их структурах и процессах, в повседневной жизнедеятельности населения – ин-
дивидов, их жизненных миров, страт и групп. Весьма значимо также выяснить, как
население России воспринимает эти принципы и состояния их осуществления.
10
Наконец, необходимо осмыслить, как исследователи социального государства включены
в изучаемый объект и по-своему воспринимают его. Одно дело – смыслы частных вы-
сказываний отдельных интеллектуалов, определяемые их индивидуальной волей и зна-
чимые лишь в собственных границах этих смыслов. Другое, восприятие смыслов кон-
ституционных принципов и норм, легитимированных всенародным референдумом –
в них индивидуальная воля авторов трансформировалась в общую волю народа и обрела
статус высшей нормативности по отношению к поведению каждого гражданина данного
государства, включая самих интеллектуалов.
И наконец, подводя предварительный итог приведенным выше аргументам о
необходимости разработки нового научно направления – конституционной социаль-
ной философии считаю важным добавить: имея в виду синергийную сложность объ-
екта исследования, необходимо ориентироваться на сочетание социально -
философской методологии с методами социологии, политологии и других социогу-
манитарных наук.
Ссылки – References in Russian
Гаджиев (ред.) 2010 – Гаджиев Г.А ., Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., Мау В.А ., Захаров А.В.,
Мазаев В.Д., Кравченко Д.В., Сыру нина Т.М. Консти туционная экономика / Отв. ред . Г .А. Га-
джиев. М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2010.
Зорькин 2018 web – Зорькин В.Д. Буква и дух Конституции // Российская газета. No 7689
(226). 09.10.2018 // https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochech-
nymi-izmeneniiami.html
Ильин, Морев, Поварова 2018 – Ильин В.А ., Морев М.В., Поварова А.И. Социальное го судар-
ство в России: проблемы и перспективы. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018.
Пикетти 2014 – Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М. : Ад Маргинем Пресс, 2014.
Лукашева (ред.) 2013 – Права человека и правовое соци аль ное государ ство в Ро ссии. Отв.
ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
Сидорина 2013 – Сидорина Т.Ю . Государство всеобщего благо состояния: от утопии к кризи-
су. М.: РГТУ, 2013.
Хабермас 2013 – Хабермас Ю. Концепт чело веческо го достоинства и реалистическая утопи я
прав чело века // Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы. М.: Весь мир, 2013. С . 14 –34 .
Химанен, Кастель с 2002 – Химанен П., Кастель с М. Информационное общество и государ-
ство благо состояния. Финская модель. М.: Логос, 2002. С . 20 –21.
References
Castells, Manuel, Himanen, Pekka (2002) The Information Society and Welfare State: The Finnish
Model, SITRA, Oxford University Press (Russian Translation, 2002) .
Esping-A nders en, Gøst a (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism , Polity Press, Camb ridge.
Gadzhiev, Gadis (ed.) (2010) Constitutional economics, YUSTI TSI NFORM, Mos cow (In Russian).
Habermas, Jürgen (2011) Zur Verfassung Europas. Ein Essay, Suhrkamp, Berlin (Russian Transla-
tion, 2013).
Ilyin Vladimi r A., Morev Mikhail V., Povarova A nna I. (2018) The Social State in Russia: Problem s
and Perspectives, VolNTs RAS, Vologda (In Russian).
Piketty, Thomas (2014) Le Capital au XXIe siècle, Éditions du Seuil, Paris (Russian Translation, 2014).
Lukasheva, Elena A. (ed.) (2013) Human rights and the legal social state in Russia, Norma: NITS
INFRA-M, Mos cow (In Russian).
Sidorina, Tatyana Yu. (2013) The Welfare State: from Utopia to Crisis, RGTU, Moscow (In Russian).
Zor’kin, Valeriy D. (2018) web – ‘The lett er and spirit of the Constitution’, Rossiyskaya gazeta,
Federal issue 7689 (226), 09.10 .2018 // https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-
mozhno-ust ranit-tochechnymi-izmeneniiami.html
Сведения об авторе
ЛАПИН Николай Иванович –
член-корреспонден т РАН, доктор фило-
софских наук, главный н аучный со трудник,
руководитель Цен тра социокультурных
изменений Института фило софии РАН .
Author’s information
LAPIN Nikolay I. –
corresponding member of the Russian A cade-
my of Sciences, DSc in philosophy, chief re-
search fellow, head of the Cent re for Study of
Social and Cultural Change, Institute of Phi-
losophy of the Russian Academy of Sciences
11
Социальное государство: факторы становления
© 2019 г.
Ю.Д. Гранин
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: maily-granin@mail.ru
Поступила: 4.04.2019
В статье рассматриваются социальные и мировоззренческие предпо-
сылки формирования феномена социальное государство в западноев-
ропейской цивилизации XVIII–XIX столетия. Его становление было
связано с переосмыслением представления об «общественном благе»,
за пределами которого оказывались бедность и социальное неравен-
ство. Эта тенденция игнорирования бедности и социального неравен-
ства поддерживалась верой во всесилие рационально устроенного госу-
дарства. Последнее на протяжении двух столетий решало проблему
бедности мерами изоляции, морального осуждения и дисциплинарного
насилия. Постепенно, однако, вместе с разрушением наивного рацио-
нализма и механистической картины мира, а также в связи с развити-
ем национальных систем образования растет недовольство по отно-
шению к «разумно устроенной» общественной системе и закрепляю-
щему ее государству. Вырабатывается новое представление о государ-
стве. Теперь оно включает в сферу своей ответственности помимо по-
литических прав человека и гражданина его социальные права. Веду-
щая роль в этом процессе во второй половине XIX – первой трети XX
столетия принадлежит социалистической мысли, оказавшей значи-
тельное влияние на внутреннюю политику многих стран Европы и
США. Поэтому первый этап становления социального государства
можно охарактеризовать как социалистический.
Ключевые слова: бедность, государство, права человека, социальное
государство, социальная политика.
DOI: 10.31857/S004287440007154-4
Цитирование: Гранин Ю.Д . Социальное государство: факторы станов-
ления // Вопросы философии. 2019. No 10. С. 11 –16.
12
Social State: Formation Factors
© 2019 г.
Yury D. Granin
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: maily-granin@mail.ru
Received 4.04.2019
The article discusses the social and worldview background for the formation of
the phenomenon of the social state in the Western European civilization of the
18th‒19th centuries. Its formation was connected with reconsideration of idea
of «the public benefit» outside which there were a poverty and a social inequali-
ty. This tendency to ignore poverty and social inequality was maintained by
faith in the omnipotence of a rationally organized state. The latter for two cen-
turies solved the problem of poverty with measures of isolation, moral condem-
nation and disciplinary violence. Gradually together with destruction of former
rationalism and a mechanistic picture of the world, development of national
education systems there is a suspicion to «reasonably arranged» public system
and the state crowning it. New idea of the state is developed. Now it includes
in the sphere of the responsibility besides the political rights of the person and
citizen his social rights. The leading role in this process in the second half of
the 19th – the first third of the 20th century belongs to the socialist thought
which had considerable impact on domestic policy of many countries of Eu-
rope and USA. Therefore the first stage of formation of the social state can be
characterized as socialist.
Key words: poverty, state, human rights, social state, social policy.
DOI: 10.31857/S004287440007154-4
Citation: Granin, Yury D. (2019) ‘Social State: Formation Factors’,
Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 11 –16.
В современном научном дискурсе существуют десятки экономических, политиче-
ских, правовых и иных дисциплинарных трактовок концепта «социальное государство»
и, как минимум, три междисциплинарных подхода к анализу социального государства:
атрибутивный, ценностно-нормативный и структурно-функциональный. Между тем
проблема возникновения социального государства, его взаимосвязи с государством
правовым все еще не имеет однозначного решения. Общепринятым является утвер-
ждение, что социальное государство – это демократическое правовое государство, ис-
полняющее социальные обязательства. Но может ли быть так, что правовое государство
наличествует, и, тем не менее, не является «социальным»? Ответ на этот вопрос следу-
ет искать в цивилизационных особенностях становления и развития государств Запад-
ной Европы в XVII–XIX вв. Остановимся подробнее на этом моменте.
Опуская исторические детали, можно утверждать, что последовавшее за эпохой евро-
пейского Возрождения Новое время – это период, с одной стороны, внутренней транс-
формации западноевропейской цивилизации, а с другой – ее территориальной экспан-
сии на другие континенты. Внутренние изменения Западной Европы выразились в пере-
ходе ее государств от феодальной организации к абсолютистской форме правления,
а затем – к суверенным национальным правовым государствам. Этот переход был осу-
ществлен в череде европейских социальных революций (Нидерланды, Англия, Франция),
базовой предпосылкой которых было развитие нового – капиталистического способа
13
производства с сопутствующим ему ростом городов, региональной и межконтиненталь-
ной торговли, миграции, ростом социальной мобильности населения и появлением но-
вых социальных групп. Помимо этого данный переход был ознаменован революциями в
сфере научной мысли и промышленного производства, определившими вступление Ев-
ропы в эпоху индустриализма.
Так уже в XVII в. формируется modernity – наилучшая («современная») хозяй-
ственная система и, одновременно, передовые типы общественного (экономического,
социального и политического) развития, а также тип общества, выступающий для
государств и народов иной цивилизационной принадлежности в качестве модели и
образца существования. Характерными чертами этой модели были: 1) появление си-
стемы массовых (печатных) коммуникаций; 2) преобладание инновации над традици-
ей; 3) развитие под определяющим влиянием достижений науки и техники, «про-
странством» распространения которых, в свою очередь, стала система массового
светского образования как фактора формирования общего языка и общей (нацио-
нальной) культуры многоязыкого и мультикультурного населения западноевропей-
ских государств (подробнее см.: [Гранин 2006, Гранин 2014]).
Разумеется, эволюция этой модели развития в каждой стране имела свои особенно-
сти. Но, так или иначе, во всех европейских странах трансформация «сословного госу-
дарства» в национальное правовое, а затем в «социальное государство» была связана со
становлением и развитием гражданского общества и европейского капитализма XVII–
XIX столетий. После 1648 г. («Вестфальский мир») сложилась система международного
права, закрепившая употребление понятий «внутреннего» и «внешнего» политического
суверенитета, постепенная замена «суверенитета государя» понятием «народного сувере-
нитета», с одной стороны, и отделение государства от «гражданского общества»
(т.е. функциональное обособление государственного аппарата), с другой. Именно эти
процессы, по мнению Хабермаса, составили правовую основу появления в Европе нацио-
нальных государств и сопутствующих им «наций». «Вне зависимости от того, – пишет
он – была ли сама государственная власть уже приручена в государственно-правовом
смысле и стала ли корона «подзаконной», государство не может пользоваться правовой
средой, не организуя сообщение в отличной от него сфере гражданского общества таким
образом, чтобы частные лица пользовались субъективными свободами (распределенными
сначала не поровну). С отделением частного права от публичного отдельный гражданин
в роли «подданного» достигает, как выражался еще Кант, самой сути частной автоно-
мии» [Хабермас 2001, 271].
Под давлением капиталистических (товарно-денежных) отношений из разлагающихся
«сословий» формировалась новая социальная структура, важнейшими элементами кото-
рой становились аграрный и промышленный пролетариат, буржуазия и «люди свободных
профессий». Из числа последних (разоряющихся дворян, ремесленников, студентов, пре-
подавателей, врачей, юристов и т.д.) формировался социальный слой «интеллектуалов» –
мыслителей и ученых, впоследствии названный «интеллигенцией» [Гранин 1994]. Важно
иметь в виду, что в XVII–XVIII столетиях эти новые социальные слои обеспечивали ра-
циональный характер организации и осуществления государственной власти, единооб-
разного и рационального регулирования общества, принципиально отличавший государ-
ства Западной Европы от современных им восточных империй. Это выразилось в появ-
лении феномена камерализма (Kammer – по-немецки «палата», но также «кладовая») –
идеологии и практики производства дискурсов в трех основных областях: в организации
государственных финансов, в системе хозяйствования (Oeconomie) и упорядочивании
общества (Polizei). Наиболее известными продуктами камералистской идеологии были:
экономическая доктрина меркантилизма и теория административного устройства gute
Polizei – правильно управляемого государства.
Как демонстрируют современные исследования, «...камерализм (Kameralwissenschaft)
представлял собой колоссальных масштабов риторический механизм, основным резуль-
татом которого было не точное экономическое или социальное знание и не инноваци-
онные практические советы производственного и административного характера,
а создание и продвижение самого представления о государстве как едином рационально
14
устроенном механизме, обслуживаемом лояльными и квалифицированными чиновни-
ками. Абстрактная идея “государства” внедрялась в умы подданных и правителей –
формировалось представление о чиновнике как служащем этому государству не в силу
вассального подчинения сюзерену, и не ради корыстного злоупотребления должностью
(“кормления”), а с целью внести вклад в общественное благо» [Глебов, Могильнер,
Семенов 2015, 328–329]. Путь к этому государству осмысливался как движение от со-
словного к политическому обществу («нации») в категориях частной выгоды и универ-
сальной законности.
Специфика и горизонты этого осмысления определялись трансформацией мировоз-
зрения, характерной чертой которого стали антропоцентризм и механицизм. Одно-
временно развитие философии и успехи естественных наук формируют убеждение о
рациональном устройстве природы и общества и «всесильности» человеческого Разу-
ма: «Все действительное разумно, все разумное действительно» – эта интуиция (поз-
же концептуализированная Гегелем) стимулировала интеллектуалов к поиску рацио-
нальных моделей общественного устройства в течение всего XVIII в.
Этот «долгий XVIII век» (продлившийся до середины XIX столетия) на самом де-
ле представлял собой клубок социально-экономических противоречий. И если наво-
дил на мысли о чем-либо, то уж точно не о разумном устройстве или нравственной
цели, о которых писали Руссо, Дидро, Смит и Риккардо. В работах последних соци-
альное неравенство и сопутствующая ему повсеместная бедность объявлялись не-
устранимыми, так как будто бы постоянно провоцировались «неутолимой жаждой
размножения» низших слоев, которая, якобы, будет только увеличиваться по мере
повышения им заработной платы и перераспределения общественного богатства в их
пользу. Помимо экономических соображений, основанных на понимании «диалекти-
ки» труда и капитала в качестве необходимого следствия «естественных» для обще-
ства экономических законов рынка, эта тенденция игнорирования бедности и соци-
ального неравенства поддерживалась верой во всесилие рационально устроенного
государства. А оно совместно с церковью, как показал Мишель Фуко, повсюду ис-
пользует практику «изоляции» бедности. По всей Западной Европе создаются «госпи-
тали» и «работные дома», в которых насильно помещают душевнобольных, бродяг,
бездомных и нищих, квалифицируя их как «неразумных»в и заставляя работать по
строго разработанным планам [Фуко 1997]. Подобная практика вполне рациональна:
так как «бедность» выводится за пределы разума и записывается по ведомству «нера-
зумия», вполне разумно применять к ней меры изоляции, морального осуждения и
дисциплинарного насилия. И такая «социальная политика» осуществлялась более
двух столетий: практика обязательного труда в условиях изоляции, имеющая цель
снять социальное напряжение в периоды экономических кризисов, сохра няется
вплоть до середины XIX в.
Промышленная революция принципиально ничего не изменила. Не надеясь на
государство, рабочие создавали «общества взаимопомощи» и профессиональные сою-
зы, открытие и деятельность которых находились под бдительным контролем вла-
стей, опасавшихся, что такие структуры представляют угрозу для существующего об-
щественного устройства. И в промышленных центрах Англии, как грибы после до-
ждя, росли рабочие поселки (своего рода новые «центры изоляции»), жизнь в кото-
рых, как показал Энгельс, представляла собой разительный контраст с жизнью со-
стоятельных классов. Поэтому рабочие волнения, порожденные ужасными условиями
труда и быта нередко сопровождались убийствами фабрикантов и членов их семей.
Государство на это отвечало репрессиями, но принципиально менять социальную
политику не намеревалось.
В значительной мере это было связано с унаследованным из прошлого представле-
нием о том, что основная причина бедности, социального недовольства и социальных
протестов связывалась с вредными привычками и ущербной моралью тех людей, кото-
рые, собственно, и составляли пласт «трудящихся». Но постепенно вместе с разруше-
нием прежних рационалистических установок в центре критики оказывается гегелев-
ское представление о государстве как «шествии Бога в мире», как «земнобожественном
15
существе». И философская максима «Все действительное разумно, все разумное действи-
тельно» подвергается пересмотру почти одновременно и параллельно в рамках либераль-
ной, анархистской, коммунистической и консервативной мысли середины XIX в.
Хотя появление термина «социальное государство» мы действительно находим в
трудах консерватора Лоренца фон Штейна, дальнейшее и наиболее плодотворное раз-
витие этой идеи осуществлялось в лоне социалистической мысли и практики во второй
половине XIX – первой трети XX столетия. Именно под их влиянием к 1880-х гг. в
Великобритании, Франции, Германии произошла переориентация социальной полити-
ки от абстрактной идеи социальной справедливости в сторону ее практической реали-
зации. На волне политики государственного национализма О. фон Бисмарка в 1871 г.
Германия впервые в истории вводит государственное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве, в 1880 г. она же начинает финансировать меди-
цинскую помощь, в 1883 г. вводит пособие по болезни.
Постепенно опыт Германии был воспринят и в ряде других стран. Этому способ-
ствовал экономический кризис конца XIX столетия, поразивший Великобританию и
США, и вызвавший рост безработицы и забастовок. Как отмечал Т.Х . Маршалл, пе-
риод 1865–1900 гг. можно назвать «периодом коллективизма» – временем, когда
идеи социализма интерпретировались большинством как требования вмешательства
государства для обеспечения благосостояния всех людей без исключения. И по сути
этой же точки зрения, несмотря на различие идеологических позиций, придерживались
правительства многих европейских стран, где государственное социальное страхование
граждан начинает активно применяться со второй половины 1880-х гг. и, в частности,
получает правовое закрепление в Конституции Веймарской республики 1919 г.
и Конституции Чехословакии 1920 г.
А в советской России уже в ноябре 1917 г. издаются декреты о страховании от безра-
ботицы, о бесплатной медицинской помощи, о пособиях по случаю болезни, родов и
смерти. Позже социальная политика СССР (во многом благодаря массированной офици-
альной пропаганде) получила такой резонанс, что оказала серьезное влияние на прави-
тельства и социал-демократические партии Европы. Поэтому первый этап становления
социального государства в Европе и США, датируемый с 1870-х гг. до 1930-х гг., можно
охарактеризовать как социалистический. А само государство этого периода – как соци-
ально защищающее государство, которое, в рамках своих обязательств, обеспечивает
приемлемый уровень жизни уязвимых слоев населения.
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian Tran slation
Фуко 1997 – Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Пер. с франц. И .К . Стафа.
СПб.: Универси тетская кни га, 1997 [Foucault, Michel Histoire de la folie а I'аgе cla ssique (Russian
translation)].
Ссылки– References in Russian
Глебов, Могильнер, Семенов 2015 – Глебов С., Могиль нер М., Семенов А . Долгий XVIII век и
становление модернизационной империи. Часть I // Ab Imperi o. 2015 . No 1. С. 323 –407 .
Гранин 1994 – Гранин Ю.Д. Власть и экологическое сознание // Свободная мысль. 1994. No 2–3.
С. 32 –39.
Гранин 2006 – Гранин Ю.Д. Глобализация и национализм // Философские науки. 2006. No 7. С. 5–23 .
Гранин 2014 – Гранин Ю.Д. Национальное го сударство. Прошлое. Настоящее. Будущее.
СПб.: Проектные решения, 2014.
Хабермас 2001 – Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / Пер. с
нем. Ю.С . Медведева. СПб.: Наука, 2001.
References:
Glebov, Sergey V., Mogilner, Mary na B., Semenov, Alexander M. (2015) ‘Long XVIII centu ry and
formation of the modernization empire. Part I’, Ab Imperio, 1, pp. 323 –407 (In Russian).
Grani n, Yury D. (1994) ‘Power and ecological cons ciousness’, Svobodnaya mysl’, 2–3, pp. 32 –39
(In Russian).
Granin, Yury D. (2006) ‘Globalization and nationalism’, Fylosofskye nauki, 7, pp. 5–23 (In Russian).
16
Grani n, Yury D. (2014) National state. Past. Present. Future, Proektnye reshenya, Saint-P etersbu rg
(In Russian).
Habermas, Juergen (1996) Die Einb eziehung Des A nderen Studien Z ur Politischen Theo rie, Suhrkamp,
Frankfurt аm Main (Russian t ranslation, 2001).
Сведения об авторе
ГРАНИН Юрий Дмитриевич –
доктор философских наук, профессор,
ведущий научный со трудник Ин сти тута
философии РАН
Author’s information
GRANIN Yury D. –
DSc in Philosophy, professor, leading
researcher of Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences.
17
Социальное государство – результат эволюции
национального государства
© 2019 г.
Н.Н . Федотова
Московский государственный институт международных отношений, Москва,
119454, пр. Вернадского, д. 76.
E-mail: nnfedotova@rambler.ru
Поступила: 4.04.2019
В данной статье рассмотрены отношения национального государства,
идентичности и социального государства на разных исторических этапах.
Национальное государство и соответствующая ему коллективная иден-
тичность являются продуктами модерна. Показано, что национальное
государство эволюционировало во многих развитых странах в социальное
государство. Коллективная идентичность и национальное государство
получают свое наивысшее воплощение в социальном государстве. Соци-
альное государство является одним из важнейших элементов повышения
внутренней связности национального государства, во многом основой
его коллективной идентичности. В середине XX века в СССР, Европе и
США сложились достаточно сильные социальные государства на базе
национальных государств. С 1980-х годов в результате перехода к поли-
тике неолиберализма, а также в связи с процессами глобализации нарас-
тают кризисные явления в социальном государстве, которые могут при-
водить к кризису национальной идентичности и осложнять функциони-
рование национального государства. На примере Великобритании и
Швеции показаны дискуссии о связи коллективной идентичности и со-
циального государства. Автор полагает, что несмотря на трудности, кото-
рые испытывают социальные государства сегодня, определить себя соци-
альным государством – популярная политическая цель, фактор повыше-
ния престижа страны и ее мягкой силы. В связи с этим автор приходит к
выводу, что сегодня может быть обнаружена тенденция к универсализа-
ции социального государства в качестве модели успешного государства,
точно так же как это происходило ранее с моделью национального госу-
дарства, сложившейся в Европе и распространившейся на другие страны.
Ключевые слова: национальное государство, социальное государство,
кризис социального государства, идентичность.
DOI: 10.31857/S004287440007155-5
Цитирование: Федотова Н.Н . Социальное государство – результат
эволюции национального государства // Вопросы философии. 2019.
No 10. С. 17–21.
18
Welfare state is a result of the nation-state’s evolution
© 2019 г.
Nadezhda N. Fedotova
MGIMO University, 76, Vernadskogo ave., Moscow, 119454, Russian Federation.
E-mail: nnfedotova@rambler.ru
Received 4.04.2019
This paper focuses on the relationship between the nation-state, identity and
welfare state at different historical stages. The nation-state and collective identi-
ty are products of modernity. It is argued that the nation-state has evolved in
many developed countries into a welfare state. The author argues that collective
identity and the nation-state receive their highest incarnation in the welfare
state. Welfare state is considered as one of the most significant elements of the
nation-state’s internal coherence. Since the 1980s (as a result of embracing ne-
oliberalism) crisis phenomena in the welfare state systems have been increasing,
which can lead to a crisis of national identity and complicate adequate func-
tioning of the nation-state. The paper outlines British and Swedish recent dis-
cussions on the relationship between collective identity and the welfare state.
The author believes that in spite of the difficulties welfare states experience to-
day, defining themselves as welfare state is a popular nation-state’s political goal,
and a factor in increasing one country's prestige and soft power. The author ar-
rives to the conclusion that there is a tendency today for the welfare state to be-
come universalized as a model of successful state, as it happened earlier with
the model of the nation-state that has been originated in Europe and exported
to the other parts of the world.
Key words: welfare state, the nation-state, identity, crisis of the welfare state.
DOI: 10.31857/S004287440007155-5
Citation: Fedotova, Nadezhda N. (2019) ‘Welfare state is a result of the na-
tion-state’s evolution’, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 17–21.
Вестфальский мир установил принципы территориальности и суверенитета и уни-
версализировал в качестве субъекта действия национальное государство как внутри
его собственной территории, так и за ее пределами. Понятие национального государ-
ства подразумевает использование терминов «государство» и «нация» как синонимов.
Национальное государство формировало и обеспечивало общую национальную иден-
тичность его граждан, выражавшуюся в самом большом чувстве «мы» населяющих
его людей. Развитие национального государства уменьшало различия внутри каждой
страны за счет растущего национального самосознания и ощущения принадлежности
к ней при увеличении различий между отдельными странами.
Наибольшее воплощение национальное государство получило в конце XIX – начале
XX вв. При этом, оно, по мнению известного австралийского социолога М. Уотерса,
прошло в своем развитии две исторические фазы. Первую – либеральную фазу в XIX в.,
когда внешняя роль государства сводилась к защите собственного суверенитета от других
государств, к дипломатии, торговле и обеспечению ввоза рабочей силы, а внутренняя
была связана с созданием правовой системы, защищающей частную собственность и
поддерживающей порядок в рабочей среде [Waters 1995]. Как отмечает Э. Тирикьян,
«в “долгом” девятнадцатом веке, совпадающем с подъемом национального государства...
главный внутренний вызов для государства заключался в необходимости вовлечения город-
ского рабочего класса (который одно время ассоциировался с “опасным классом”)
в институциональное устройство социального порядка эпохи модерна» [Tiryakian 2003, 21].
Таким образом, формирование социального государства было результатом эволюции
функций национального государства.
19
Если национальное государство обеспечивало общую идентичность – коллективное
«мы» обществ-государств по отношению к другим государствам, то внутри каждого госу-
дарства эта общая идентичность раскалывалась пополам разделением на богатые и бед-
ные слои, которые при капитализме четко разделялись на предпринимателей и нанятых
рабочих, на буржуазию и пролетариат. Национальные государства XX в. ответили на этот
вызов. Социальное государство фактически было новым этапом формирования коллек-
тивного «мы». Эту вторую фазу формирования национального государства М. Уотерс
назвал «корпоративной». Она адекватна XX в., который отличали две мировые войны,
великая депрессия, фашизм. Либеральные государства не могли препятствовать этим
изменениям, т.к. в новых условиях они не были в состоянии мобилизовать отличающие-
ся друг от друга группы для решения национальных проблем. Поэтому государство было
реорганизовано так, чтобы не только обеспечивать безопасность, но и способствовать
экономическому благосостоянию. Его главной стратегией стало поддержание инвестиций
и промышленного развития в целях достижения высокой экономической активности.
По форме оно стало корпоративным, его основной особенностью было взращивание мас-
совой поддержки. Теперь у государства появились две новые обязанности – вмешиваться
в экономику (центральное планирование, экономический и налоговый менеджмент) и уси-
лить возникшее в XIX в. посредничество между различными социальными группами, осо-
бенно между нанимателями и наемными работниками [Waters 1995, 127–131].
Особую роль в этом процессе эволюции национального государства сыграло пере-
осмысление его роли в поддержании социальной солидарности и коллективной иден-
тичности, что и было достигнуто путем его трансформации в социальное государство.
Как показал английский социолог Т. Маршалл: «Уравнивание происходит не столько
между классами, сколько между индивидами, которые теперь рассматриваются так, как
если бы они составляли один класс» [Маршалл 2011, 197]. Реформы Бисмарка в Гер-
мании в 1870-х гг. начали этот процесс. Он был продолжен Советским Союзом, Новым
курсом Рузвельта в США, реформами У. Бевериджа во время Второй мировой войны
в Великобритании и другими странами в послевоенный период. Материальные пре-
имущества от экономического роста и международной стабильности перераспределя-
лись населению посредством прогрессивного налога, поддержки здравоохранения, об-
разования, пенсионного обеспечения. Современный британский исследователь отмеча-
ет, что «максимальной широты... британская идентичность достигла после Второй ми-
ровой войны. В тот период к победе во второй подряд войне с Германией прибавились
достижения НСЗ (национальной системы здравоохранения. – Н .Ф.), а также успешная
национализация промышленности и создание социального государства. Беспрецедент-
ное благополучие, распространившееся на множество разных социальных слоев, заста-
вило людей поверить в британскую идентичность, основой которой служила забота
государства о каждом гражданине» [Johnson web]. Иными словами, укрепившаяся вера
в «британскую идентичность» являлась следствием эволюции национального государ-
ства в социальное.
В процессе подобной эволюции социальное государство получило не только поли-
тическое, но и правовое воплощение. Формула «собственность обязывает», характери-
зующая социальную функцию собственности и ее направленность на общее благо,
с середины XX в. обрела статус конституционного принципа в ряде западных стран.
Анализируя эту ситуацию, Т. Маршалл выделял три составляющих гражданства в соци-
альном государстве – гражданско-правовое, политическое и социальное. Гражданско-
правовая сторона связана с правами личной свободы. Политический аспект – с изби-
рательным правом и правом выдвигаться в органы власти. Социальная составляющая
определена им максимально широко и включает «весь спектр прав – от права на опре-
деленное экономическое благосостояние и безопасность до права на приобщение к
культурному наследию и права жить цивилизованной жизнью в соответствии с суще-
ствующими в обществе стандартами» [Маршалл 2011, 154]. Т. Маршалл подчеркивал
последовательность этапов формирования этих прав: гражданские права в XVIII в.,
политические – в XIX в., социальные – в XX в, хотя он и делал оговорку, что иногда
процессы формирования политических и социальных прав накладывались друг на
20
друга. На наш взгляд, такая периодизация применима только к западным странам.
В отношении незападных стран, к которым относится и Россия, вряд ли можно гово-
рить о четкой линии перехода от гражданско-правового элемента гражданства к поли-
тическому и социальному. Эти аспекты могут быть представлены в виде комплекса,
элементы которого могут быть выбраны и реализованы в произвольной последователь-
ности. Советский Союз, как нам кажется, выбрал для реализации только социальные
права, проигнорировав в значительной степени два других правовых аспекта социаль-
ного государства.
Начиная с 1970-х гг. в западных странах администрирование социального государства
требовало все больше и больше средств, между тем как конкурентоспособность западной
экономики к этому времени ужу не являлась абсолютной; государственное вмешатель-
ство в экономику все более обвинялось в неэффекивности; в результате процессов глоба-
лизации выросло значение мирового рынка. Государства стали уходить из экономики,
завершилась эпоха кейнсианского контролируемого капитализма. Уже цитировавшийся
выше британский исследователь Джонсон отмечает: неолиберальные реформы, начатые
в ответ на предшествующую социальную политику, создали в Великобритании условия
для кризиса идентичности, и люди стали чаще сомневаться в том, что они должны хра-
нить верность британскому государству, которое постоянно уменьшает количество услуг.
«Промышленность и ресурсы были приватизированы, социальное государство демонти-
ровано, НСЗ урезана. Непредусмотренным результатом этого политического курса стало
исчезновение общественных институтов, на которые опиралась британская идентичность
послевоенного времени. Исчезли концепции, в которые люди верили и которые в свое
время многое дали поколению бэби-бума, поддержавшему позднее неолиберальные ре-
формы. Крах британского коллективизма и появление “ночного сторожа” создали наци-
ональную идентичность, активизирующуюся исключительно в трудные периоды – кол-
лективизм, который проявляется только перед лицом внешних угроз» [Johnson web].
Джонсон делает вывод, что Великобритания исторически представляла собой лишь ряд
относительно удачных проектов по созданию идентичности, осуществляемой разными
государственными аппаратами. «А так как государственный аппарат сократился сильнее,
чем раньше, локальные идентичности снова подняли головы. Части страны, которые
некогда удерживались вместе благодаря таким общим достижениям, как Национальная
система здравоохранения (НСЗ), национализированная промышленность и социальное
государство, постепенно расходятся... Британская и ... английская идентичность оказа-
лись под вопросом» [Johnson web]. Эти процессы касались не только Великобритании.
По существу они демонстрируют, каким образом ослабление социального государства
подвергает опасности саму целостность национального государства.
В России в силу ряда исторических причин национальное государство и соответ-
ствующая ему политическая нация пока окончательно не сложились. После распада
Советского Союза формирование новой российской идентичности затруднялось тем,
что Россия никогда не существовала в территориальных пределах, которые она при-
обрела после 1991 г. Кроме того, в советское время идентификация граждан с Рос-
сийской Федерацией практически отсутствовала, поэтому российскую идентичность
в постсоветское время надо было строить практически заново. На наш взгляд, не в
последнюю очередь, формирование российской идентичности и национального госу-
дарства затрудняется слабостью российского социального государства.
Интересный случай взаимосвязи национального государства, идентичности и со-
циального государства представляет собой Швеция. Эта страна известна в опреде-
ленной степени как эталон социального государства, которое, по мнению Эспинг-
Андерсена, прошло эволюцию от равенства на «низком уровне», то есть равенства
для бедных, до «равенства на максимальном уровне» конца XX в. Однако, он обра-
щает внимание на «постепенную эрозию» традиционной шведской солидарности
[Эспинг-Андерсен 2001, 107], а, значит и на угрозу национальной идентичности.
В XXI в. в Швеции усилена роль рынка, уменьшена степень декоммодификации, вырос-
ло неравенство. Сегодня активно обсуждается судьба шведского социального проекта и
устойчивость системы заботы «от колыбели до могилы». Согласно прессе, недовольство
21
шведов связано в первую очередь с неолиберальными тенденциями в здравоохранении:
за последние годы людей, ожидающих операции или визита к специализированному вра-
чу более, чем 90 дней, выросло в три раза, закрыты родильные отделения в некоторых
региональных госпиталях. В результате шведы стали чаще обращаться к частной платной
системе здравоохранения, покупать медицинские страховки. Пенсионная система стала
менее щедрой, в связи с чем возникает необходимость оформлять дополнительное пен-
сионное обеспечение через работодателя. Однако в теоретических социально-
гуманитарных публикациях авторы зачастую пытаются характеризовать современное со-
стояние социального государства Швеции как определенный успех в плане равного рас-
пределения доходов в сравнении с другими развитыми странами. Вместе с тем, как отме-
чают шведские исследователи, главный вызов шведскому социальному государству в
XXI в. состоит в том, чтобы осуществить переход от государства благосостояния XX в.,
соответствующего массовому индустриальному производству, к государству благосостоя-
ния для новой цифровой экономики без потери солидарности и культурных ценностей
[Witoszek, Midttun 2018].
Социальное государство, пишет немецкий социолог У. Бек, проигрывает в условиях
глобализации в связи с тем, что экономика уходит из-под его контроля, а негативные
социальные последствия этого процесса, вызванные сокращением социальных гарантий,
накапливаются в пределах национально-государственных границ. Можно ли, однако,
предполагать, что проект социального государства сегодня из-за испытываемых им труд-
ностей лишается своей привлекательности? Мы полагаем, что это не так. Несмотря на
трудности, стать социальным государством – популярная цель. Эта цель наполняется
разным содержанием в зависимости от социокультурной специфики и уровня социаль-
ного, экономического и политического развития стран. Например, Китай сегодня офи-
циально стремится к построению «среднезажиточного» общества. Многие страны в
настоящее время хотели бы построить социальные государства. Мы можем предполо-
жить, что социальное государство универсализируется в качестве модели успешного гос-
ударства, как это происходило ранее с моделью национального государства.
Ссылки – References in Russian
Маршалл 2011 – Маршалл Т.Х . Гражданство и социальный класс // Капустин Б.Г . Граждан-
ство и граждан ское общество. М.: Высшая шко ла экономики, 2011. С . 145 –223 .
Эспинг-Анд ерсен 2001 – Эспинг-А ндерсен Е. Создание социал-демократическо го го сударства
благосостояния // Создавая социальную демократию. Сто лет Социал-демократической рабочей
партии Швеции / Под ред. Мисгельд К., Мулин К., Омарк К. М.: Весь мир, 2001. С . 71 –110 .
References
Esping-A nders en, Gøsta (1993) ‘The Making of a Social Demo cratic Welfare State’, Creating Social
Democracy. A Century of the Social Democratic Labor Pa rty in Sweden, Penn Stat e University Press,
University Park, Pennsylvani a (Russian Translation, 2001).
Johnson, Matthew (2015) web – Empire at Sunset. British Identity Crumbles // Foreign Affairs //
https://www.foreignaffai rs.com/articles/united -kingdom/2015-04-24/empire-su nset
Marshall, Tho mas H. (1950) Citizenship and social cla ss, U niversity of Cambridge Press, Cambridge
(Russian t ranslation, 2011).
Tiryakian, Edward A. (2003) ‘Assessing Multiculturalism Theo retically: E Pluribus Unu m, Sic et
Non’, International Journal on Multicultural Societies, 5, 1, pp. 20 –39.
Wat ers, Malcolm (1995) Globalization, Routledge, Londo n.
Witoszek, Nina, Midttun, Atle (eds) (2018) – Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond,
Routledge: Abingdon, N.Y .
Сведения об авторе
ФЕДОТОВА Надежда Николаевна –
доктор социологических наук, профессор ка-
федры социологии Московского государствен-
ного института международных отношений
Министерства иностранных дел России.
Author’s information
FEDOTOVA Nadezhda N. –
DSc in Sociology, Professor, Dep art ment of
Sociology, Moscow State Institute of Interna-
tional Relations (MGIMO University)
22
О гуманистическом векторе развития социального
государства в России
© 2019 г.
И.Н . Сиземская
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: sizemskaya@mail.ru
Поступила: 20.04.2019
В центре внимания данной статьи практика социального моделирова-
ния отношений между государством, властью и гражданским обще-
ством. Автор анализирует патернализм, утвердившийся в последнее
время в России как модель социальной политики, демонстрирует его
неоднозначное влияние на процесс развития социального государства
и гражданского общества, и утверждает, что патерналистская практи-
ка в ее сегодняшнем виде, во-первых, противоречит закрепленной
российским законодательством равноправности государства и гражда-
нина, во-вторых, создает ограничения для свободного и достойного
волеизъявления граждан в публичном пространстве. Разрешение этого
противоречия, по мнению автора, требует не только конкретных за-
конодательных, экономических и социально-культурных мер со сто-
роны власти, но и гуманистического осмысления проблемы в целом
специалистами разного профиля. Исходным концептом такого
осмысления должно стать «право человека на достойное существова-
ние», а главным вопросом – существующее расхождение между этим
правом, закрепленным Конституцией РФ, и реальными условиями
жизни людей. В статье обращается внимание на расширяющуюся се-
годня сферу манипуляций во всех областях жизни современного об-
щества, что акцентирует новый аспект феномена гражданства – как
подданства и как реального участия в жизнедеятельности страны. Со-
ответственно, новое звучание приобретает проблема осуществления
права на достойное существование и осмысление роли социального
государства в обеспечении последнего.
Ключевые слова: Социальное государство, право, социальная политика,
верховная власть, патернализм, гражданское общество, гражданство,
достойное существование, философия права, гуманизм, правосозна-
ние, культура.
DOI: 10.31857/S004287440007156-6
Цитирование: Сиземская И.Н . О гуманистическом векторе развития
социального государства в России // Вопросы философии. 2019.
No 10. С. 22–26.
23
Humanistic Vector of Development of Social State in Russia
© 2019 г.
Irina N. Sizemskaya
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: sizemskaya@mail.ru
Received 20.04.2019
The object of the author's consideration is the practice of social modeling of re-
lations between the state, government and civil society in the past and present
experience of Russia. In this context, the author considers paternalism, recently
established as a model of social policy, speaks about its ambiguous impact on
the development of the social state and civil society, believes that paternalistic
practice in its current form, firstly, contradicts the equality of the state and the
human citizen enshrined in Russian legislation, and secondly, puts artificial re-
strictions on the free and decent expression of the will of citizens in the public
space. Resolution of this contradiction, according to the author, requires not
only specific legislative, economic and socio-cultural measures on the part of
the authorities, but also the development of a common approach at the level
of constructive and humanistic understanding of the problem. The basic con-
cept of this approach should be the «human right to a decent existence», and
the main issue – the existing discrepancy between this right, enshrined in the
Constitution of the Russian Federation, and the real conditions of life. The ar-
ticle draws attention to the fact that today the sphere of manipulative relations
in all spheres of modern society is expanding, which fixes a new aspect of the
phenomenon of citizenship – as a citizenship and as a real participation in the
life of the country. This gives new meaning to the problem of the human right
to a decent existence and the role of the social state in ensuring the latter.
Key words: Social state, law, social policy, Supreme power, paternalism,
civil society, citizenship, decent existence, philosophy of law, humanism,
legal consciousness, culture.
DOI: 10.31857/S004287440007156-6
Citation: Sizemskaya, Irina N. (2019) ‘Humanistic Vector of Development
of Social State in Russia’, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 22 –26.
В обсуждении состояния и эволюции социального государства в России важно обратить
внимание на следующие вопросы: через какие правовые и социально-культурные механиз-
мы осуществляются защитные функции государства и какие формы может (и должен)
принимать диалог власти с широкими слоями населения? Интерес к этим вопросам возни-
кает в связи с тем, что в последнее время утверждается, получая поддержку в обществен-
ном и индивидуальном сознании, практика тотального патронажа со стороны верховной
власти над деятельностью государственных и гражданских структур. Такая практика замет-
но сдерживает развитие социального государства по гуманистическому вектору.
В России патернализм имеет историческую традицию, связанную с долгим существо-
ванием самодержавия, и этот факт во многом объясняет сегодняшний интерес к нему на
всех уровнях государственного управления. Но историческая традиция, даже если она
открыта для прагматических веяний времени, не может служить оправданием ее сохра-
нения (в нашем случае того верховенства власти во всех сферах общественной жизнедея-
тельности, которое сложилось в последнее время). И потому, что она не вписывается
в правовой и социально-культурный контекст жизни современного общества, и потому,
что она негативно влияет на духовное состояние граждан. В свое время Б.Н. Чичерин в
статье «Конституционный вопрос в России», говоря о жестком контроле царской власти
над реформами по демократизации российского общества, предупреждал: «политика
24
“демократического цезаризма” даже при видимом успехе ведет к упадку, а не возвышению
общественного духа» [Чичерин 1997, 67]. Показателем «возвышения общественного духа»
Чичерин считал способность и готовность граждан жить в правовом государстве.
К сожалению, сегодняшний уровень общественного духа не соответствует этому модусу
гражданского поведения. Причиной этого является в том числе (а может, прежде всего)
осуществляемая на всех уровнях государственного управления патерналистская политика,
инициирующая в качестве свободного волеизъявления граждан разнообразные просьбы
«взять под свой контроль», обращенные к представителям власти и лично к президенту.
Но просьба («прошение», «челобитная») во все времена и во всех ситуациях, с одной сто-
роны, закрепляла за человеком статус «просителя», минимизируя отношение к нему как к
субъекту, с другой стороны, рождала в качестве эпифеномена демократии «вождизм», тот
«демократический цезаризм», о котором писал Чичерин. Как свидетельствует исторический
опыт, совершенно неважно, что делает того или иного лидера вождем (личная харизма,
стечение обстоятельств, насущность решения социальных проблем), важно, что вождь ока-
зывается нужным массам: он предлагает желаемую и ожидаемую форму личностного обще-
ния и консолидации с властью. В условиях тотального отчуждения и социального разобще-
ния это желание может принимать форму своеобразного ответа на вызов времени. Именно
так уже не раз случалось в истории человечества, следствием чего становилось признание
на уровне социальной политики легитимности «своеволия» как принципа не только обще-
ственной жизни, но и индивидуального поведения.
В наши дни патерналистская практика противоречит российскому законодательству,
утверждающему равноправность государства и гражданина. Она возвращает общество к
модели взаимодействия власти и человека, сложившейся в иных исторических и полити-
ческих условиях. И несмотря на это модель, как свидетельствуют данные социологиче-
ских опросов, получила новые стимулы и черты привлекательности в сознании масс [Ла-
пин 2008]. Значительная часть населения страны не возражает, чтобы федеральная
власть, а еще лучше сам президент, включались в решение местных ситуационных задач.
Такая ситуация предупреждает об опасной для здоровья нации «болевой точке»: обще-
ственное сознание и отечественная культура не выработали противоядия от правового
нигилизма, а демократические принципы еще не стали нормой гражданской жизни в
стране. В этой связи приведу вызывающие тревогу данные международной организации
«Сivicus», согласно которым Россия по характеру давления государства на жизнь граж-
данского общества находится в одной группе («Repressed») с Турцией, Алжиром, Мекси-
кой, Венесуэлой и Анголой [Волгин 2018, 128]. Данные, если и не ставят под сомнение
существование в стране социального государства и гражданского общества, то заставляют
согласиться с мнением, что в отношении последних речь следует вести не столько о том,
«что они выражают, сколько о том, что они скрывают» (А. Гусейнов). Напрашивается
неутешительный вывод: развитие российского общества по пути демократических транс-
формаций не отсекает как невозвратные возможности авторитаризма.
Развитие социального государства в России остро ставит вопрос о способах преодоле-
ния существующего расхождения между закрепленным Конституцией РФ правом каждо-
го на достойное существование и реальными условиями жизни людей. Конкретные пер-
востепенно важные способы преодоления этого противоречия очевидны – ликвидация
бедности на уровне нищеты огромной части населения, повышение прожиточного ми-
нимума и пенсионного обеспечения, совершенствование системы здравоохранения и
социального страхования, сокращение разрыва в уровне доходов граждан и решение ряда
других, значимых для жизни отдельного человека и всей страны задач. Решение их тре-
бует методологической ясности в определении общих принципов социальной политики,
учета рекомендаций, предлагаемых (и предлагавшихся) специалистами разного профи-
ля – политологами, социологами, правоведами, философами.
В этой связи представляется продуктивным обращение к идеям о правовом государстве
отечественных философов-правоведов (П.И. Новгородцев, С.И. Гессен, Б.А. Кистяков-
ский, Л.И. Петражицкий, С.А . Котляревский), предложивших в свое время концептуально
обоснованную модель социальной политики, в центре которой была правовая, т.е. свобод-
ная от идеологических и классовых предвзятостей защита гуманистических смыслов и
25
социально-демократических принципов общежития. Конструктивная направленность
этих идей определялась сопряженностью политических и гражданских свобод с их духов-
но-культурным содержанием, включением в предложенную ими модель социализации
государства концепта «право человека на достойное существование» [Новикова, Сиземская
2004; Прибыткова (ред.) 2018]. Общий смысл концепта и процесса социализации рас-
крывался через обоснование двух идей: 1) обеспечение условий достойного существова-
ния является правовой обязанностью и нравственным долгом государства; 2) целью реа-
лизации права на достойное существование является создание общества, граждане кото-
рого имеют статус полноценных членов вне зависимости от их материального положения
[Гессен 2010; Кистяковский 2010]. Это вносило новый дополнительный смысл в рас-
смотрение проблемы: за правом утверждалась функция, связанная с обеспечением ду-
ховной индивидуальной свободы, что расширяло границы социализации за пределы ее
социально-экономического и политико-правового содержания. Такая интерпретация
дополнялась учением о «праве-притязании», легитимирующем «равновесность» правовых
обязанностей государства и человека по отношению друг к другу, но главное – сопря-
женность политических и гражданских свобод с общечеловеческими духовными ценно-
стями. Концепт «право-притязание» утверждал право человека на свободную жизнь в
публичном пространстве, на его субъектное включение в экономическую, политическую
и культурную жизнь общества. Содержание индивидуальной свободы «от» дополнялось
свободой «для», понимаемой в широком смысле, а именно – как свободы во имя общего
блага, исключающей превращение человека в орудие чужой воли, в средство достижения
чуждых ему целей [Гессен 2010]. Никто сам по себе не является выразителем общей во-
ли. За идеей социализации, таким образом, четко просматривалась защита права против
права силы, увязывающая развитие правового государства с устремлениями людей к со-
циальной справедливости и общему благополучию.
Сегодня идеи социализации и права человека на достойное существование включают-
ся исследователями и в другие проблемные поля (Т. Маршалл, Ю. Хабермас, П. Розан-
валлон, Б. Капустин, В. Малахов). В философском смысловом контексте актуализируется
проблема гражданства, как подданства и как субъектного включения в жизнь общества
[Капустин 2011]. Внимание фиксируется на природной «двуликости» права, которое по
своему назначению одновременно и защищает и контролирует достигнутые свободы. Это
касается как политических прав (political rights), страхующих от властного произвола, так
и социальных прав (civil rights), утверждающих равенство в труде, в получении образова-
ния, в праве на свободное время, формы его проведения и т.д. Обращается внимание на
тот факт, что сопутствующим результатом и тех и других прав становится усиление кон-
троля со стороны государственной бюрократии, которая становится «партнером и анта-
гонистом» (Макинтайр) гражданского общества.
В контексте сегодняшних реалий ужесточается, в свою очередь, контролирующая
функция гражданских объединений, через которые человек включается в политическую,
экономическую, культурную жизнь общества. Выявляется, что они не только защищают
полученную/завоеванную свободу на индивидуальное волеизъявление, но и заключают ее
порой в жесткие границы, налагаемые со стороны своих организационных форм, мо-
ральных норм, дисциплинарных требований и т.д. А если говорить о массовых движени-
ях, то они выявляют тенденцию подчинения индивидуального поведения и сознания
законам толпы, главной чертой которой является утрата человеком личной социально-
культурной идентичности, легкая восприимчивость провозглашаемых лидерами лозунгов,
односторонность в толковании происходящих событий [Московичи 1998; Хевиши 2001].
Массовые движения требуют конформизма, порой «усредняющего» индивидуальные ра-
зум и чувство до уровня посредственности, выявляя свою способность «все перемеши-
вать и обезличивать» (Лебон). В условиях укоренения стандартов массовой культуры и
усиливающейся бюрократизации государственных институций «перемешивание и обез-
личивание» проявляет себя на уровне как управленческих структур, так и индивидуаль-
ного поведения. Сегодня на такую ситуацию «работают» средства массовой информации,
масштабная миграция населения, механизмы товарного рынка. Это ставит перед челове-
чеством вопрос: при каких условиях и в какой мере реализация права на достойное
26
существование возможна (начинается) как ответ на глобальное требование цивилизаци-
онного развития? Современная практика человечества подтверждает истинность старого
ответа: общий путь решения проблемы связан с культурой. Только при условии, что
культура становится ценностным вектором социальной политики государства и обще-
признанным индикатором состояния гражданского общества, право на человеческое до-
стоинство и свободное самоопределение личности обретает реальную почву для практи-
ческой реализации.
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian
Гессен 2010 – Гессен С.И. Правовое государство и социализм // Гессен С.И. Избранное. М .:
РОССПЭН, 2010. С . 43 –120 [Gessen, Sergey I. The Rule-of-Law and Socialism (in Russian)].
Кистяковский 2010 – Кистяковский Б.А . Права человека и гражданина // Кистяковский Б.А .
Избранное. М.: РОССПЭН, 2010. С . 454 –518 . [Kistyakovskij, Bogdan A. The Rights of Man and of
the Citizen (in Russian)].
Чичерин 1997 – Чичерин Б.Н . Конституционный вопрос в Р оссии // Опыт русско го либера-
лизма. Антоло гия / Отв. ред. М.А . Абрамов. М.: КАНОН+, 1997. С. 38 –52. [Chicherin, Boris N.
Constitutional Issue in Russia (in Russian)].
Ссылки – References in Russian
Волгин 2018 – Волгин О.С. Еще раз о понятии «гражданско е общество»: философский ас-
пект // Философские науки. 2018 . No 10. С . 114 –129.
Капустин 2011 – Капустин Б.Г . Граждан ское общество и граждан ство. М.: Высшая школа
экономики, 2011.
Лапин 2008 – Лапин Н.И. Ценностный дискурс как предпосылка гражданского общества в Рос-
сии // Человек и культура в становлении гражданского общества в России. Материалы 2-й Всерос-
сийской конференции 21‒23 мая 2007 года / Отв. ред. С.А. Никольский. М.: ИФ РАН, 2008.
Московичи 1996 – Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психо логии масс / Пер.
Т. Емельяновой. М.: Центр психологии и психотерапии, 1996.
Новикова, Сиземская 2004 – Новикова Л.И., Сиземская И.Н . Российски е ритмы социальной
истории. М.: ИФРАН, 2004.
Розанваллон 2014 – Розанваллон П. Новый социальн ый вопрос: переосмысливая го сударство
всео бщего благосостояния. М.: Московская школа граждан ского просвещения, 2014.
Прибыткова (ред.) 2018 – Философия права: П.И. Новгородцев, Л.И. Петр ажицкий,
Б.А . Кистяковский / Под ред. Е.А . Прибытковой. М.: РОССПЭН, 2018.
Хабермас 2013 – Хабермас Ю. Концепт человеческо го досто инства // Хабермас Ю. Эссе к
конституции Европы / Пер. Б.М. Скуратов. М.: Весь мир, 2013. С . 14 –41 .
Хевиши 2001 – Хевиши М.А . Толпа. Массы. Политика. Историко -философский очерк. М.:
ИФ РАН, 2001.
References:
Habermas, Jürgen (2011) Zur Verfassung Europas. Ein Essay, Suhrkamp, Berlin (Russian Translation, 2013).
Kapustin, Boris G. (2011) Civil Society and Citizenship, Higher School of Economics, Moscow (in Russian).
Khevisi, Marya A. (2001) Crowd. Masses. Policy. Historic al and Philosophical Essay, IF RAN, Mos-
cow (in Russian).
Lapin, Nikolay I. (2008) ‘Value Discou rse as a P rerequisite for Civil Society in Russia’, Man and
Culture in the Development of Civil Society in Russia. Materials of the 2nd All -Russian Conferenc e May
21–23, 2007, IF RAN, Moscow (in Russian).
Moscovici, Serge (1981) L'age des Foules, La Librarie Artheme Fayard, Paris (Russian Translation, 1996).
Novikova, Ludmila I., Sizemskaya, Irina N. (2004) Russian Rhythms of Social History , IF RAN,
Moscow (in Russian).
Pribytkova, Elena A. (ed.) (2018) Philosophy of Law: P.I . Novgorodtsev, L.I . Petrazhitsky, B.A . Kisty-
akovsky, ROSSPEN, Mosco w (in Russian).
Rosanvallón, Pierre (1995) La Nouvelle Question Sociale, Seuil, Paris (Russian Translation, 2014).
Volgin, Oleg S. (2018) ‘Once Again on the Concept of Civil Society: Philosophical Aspect’, Filosof-
skie nauki, 10, pp. 114 –129 (in Russian).
Сведения об авторе
СИЗЕМСКАЯ Ирина Николаевна –
доктор философских наук, главный науч-
ный сотрудник Ин сти тута философии РАН
Author’s information
SIZEMSKAYA Irina N. –
DSc in Philosophy, chief researcher of the
Institute of philosophy RAS
27
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Как возможна русская философская герменевтика?
© 2019 г.
В.П . Римский
Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгород, 308007,
ул. Королева, д. 7.
E-mail: rimskiy@bsu.edu.ru
Поступила 21.03.2019
В статье отмечается отсутствие адекватной идентификации как истории
русской философии и ее виднейших представителей, так и самих себя в
философии – и как таковой, и в контексте «мировой философии».
Мы пребываем в плену то старых, то новых идеологических схем интер-
претации и понимания отечественной философии и культуры. Пытаемся
вывести некий «специфический признак» русской философии, находя
его либо в «теоцентричности» русской мысли, либо в ее «этикоцентрич-
ности», либо в «литературоцентричности», либо в какой-то особой «рус-
ской проблематике» (поиск «русской идеи» или «особого пути России»,
будто бы немецкая философия в свое время не искала таковую особен-
ность Германии). Можно говорить об особой «национальной» филосо-
фии, но только в том случае, если мы ее рассматриваем как «форму зна-
ния», отличную и от богословия, и от литературы, и от науки. А форма
всегда схватывается в языке и стиле национальной философии. По мне-
нию автора, всякая истинная философия – содержательно универсальна
и отличается не столько по содержанию (все философские темы и про-
блемы «вечны» и универсальны), сколько по форме. А форма по пре-
имуществу имеет языковое и стилистическое отличие, связанное с само-
пониманием и пониманием других культур и философий, то есть любая
состоявшаяся национальная философия изначально герменевтична как
бытие в Слове.
Ключевые слова: герменевтика, понимание, философское знание, рус-
ская философия, Г.Г . Шпет.
DOI: 10.31857/S004287440007157-7
Цитирование: Римский В.П . Как возможна русская философская гер-
меневтика? // Вопросы философии. 2019. No 10. С. 27–31.
28
How is Russian Philosophical Hermeneutics Possible?
© 2019 г.
Viktor P. Rimsky
Belgorod State Institute of arts and culture, 7, Korolev str., Belgorod, 308007, Russian
Federation.
E-mail: rimskiy@bsu.edu.ru
Received 21.03.2019
The article notes the lack of adequate identification of the history of Russian
philosophy and its most prominent representatives, as well as themselves in phi-
losophy – both as such, and in the context of «world philosophy». We are in
thrall to old or new ideological patterns of interpretation and understanding of
Russian philosophy and culture. For example, we try to deduce a «specific fea-
ture» of Russian philosophy, which is found in its «theocentricity», in «ethics-
centricity», in «literary-centricity», or in some special «Russian problems»
(the search for «Russian idea» or «a different way of Russia», as if the German
philosophy at the time did not look for the same peculiarity of Germany). This
is the case if we consider philosophy as a «form of knowledge», which is differ-
ent both from theology, and from literature, and from the scientific form of
knowledge. And the form is always grasped in the language and style of national
philosophy. Every true philosophy is substantially universal and differs not so
much in content (all philosophical themes and problems are «eternal» and uni-
versal), but in form. And the form has mainly linguistic and stylistic difference
associated with self-understanding and understanding of other cultures and phi-
losophies; it means that any established national philosophy is initially herme-
neutical as a being in the Word.
Key words: hermeneutics, understanding, philosophical knowledge, Russian
philosophy, G.G . Shpet.
DOI: 10.31857/S004287440007157-7
Citation: Rimsky, Viktor P. (2019) ‘How is Russian Philosophical Herme-
neutics Possible?’, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 27–31.
Однажды я получил на экспертизу текст о герменевтической традиции в России,
в котором «русская герменевтика» рассматривалась и как специфическое философ-
ское мышление или вообще русский ментальный стиль, и как форма русской культу-
ры и философии, одним словом, весьма эклектично и сумбурно. В письме автору я
высказал парадоксальную мысль: может быть, какой-то особой «русской филосо-
фии», о которой пишут, вообще нет? Может, это идеологический или в лучшем слу-
чае квазинаучный конструкт? Есть Россия, русские люди (живые, конкретно-
исторические), в том числе и философы, есть их история и реальная, живая жизнь,
в ходе которой они создавали и развивали культуру и философию. А культура и фи-
лософия – они или есть, или их нет. Независимо от «национальной формы»... Жела-
тельно прояснить положение о том, что о «русской философии» можно говорить
лишь в той мере, если она состоялась как таковая, «чистая философия» (в этом по-
нимании сходны, например, и Г.Г. Шпет, и И.А . Ильин), как часть мировой, универ-
сальной философской традиции.
Так может специфика русской философии и заключается в ее герменевтичности?
Существует мнение, что герменевтика – это мыслительная процедура толкования,
интерпретации. Однако такое технологическое отношение к герменевтике уводит нас
29
в узкие филологические, текстологические или семиотические процедуры мышления.
Если речь вести о философской герменевтике, то основная тематика в ней – понима -
ние, так что «понимание» и «герменевтика» – это далеко не одно и то же. Часто та-
кое разведение производится, но оно бывает и не изначально, и не концептуально.
«Понимание» – феномен и онтологический, и культурный, и антропологический,
и эпистемологический, и герменевтический, если под герменевтикой разуметь проце-
дуру профессионального гуманитарного мышления (в том числе и философского).
Понимание – это не просто перевод и истолкование философских текстов, но
всегда такое схватывание «всей полноты мыслимого мыслителем» [Хайдеггер 2009,
30], когда интерпретация вечных философских проблем, всеобщих идеальных предме-
тов исходит из полноты феноменологического проникновения в эти предметы, в их
значения и смыслы, а не только в концептуальное бытие текстов, выражающих фи-
лософское мышление, в глубины контекстов, филологических и экзистенциальных.
Например, сам Хайдеггер фактически онтологизировал «герменевтику», пытаясь ее
противопоставить феноменологии Гуссерля. Но мы не истолкуем до конца его «Бы-
тие и время», если не поймем этот текст с учетом такого события, как Хайдеггерово
прочтение под влиянием Х. Арендт романа Т. Манна «Волшебная гора» [Сафрански
2005, 258–259], романа о времени в смерти и бытии к смерти. Здесь собственно и
возникает проблемная дихотомия «понимание – герменевтика», которая от нас тре-
бует через историко-философские и историко-культурные интерпретации прийти к
собственному пониманию проблемы «понимания в философской герменевтике» как
итогу и одновременно задаче.
Сразу же возникает и проблема «феноменологии», которая, на мой взгляд, не сво-
дится только к «феноменологии Гуссерля», но затрагивает и «феноменологию» Геге-
ля. Вообще, на мой взгляд, русская философия в глубине остается ближайшим раз-
витием немецкой классики и диалогом с ней. Именно в этом направлении, напри-
мер, лежит уразумение того, что И.А. Ильин и Г.Г . Шпет (у них собственное видение
и проблемы понимания, и феноменологии, и герменевтики) «занимались Гегелем»
уже после знакомства (или в процессе знакомства) с Гуссерлем. Первый дал непре-
взойденное «герменевтически понимающее» прочтение гегелевской философии
[Ильин 2002], что у многих историков философии как-то пролетает мимо, а второй
оставил нам перевод «Феноменологии духа» ([Гегель 1959], см. также: [Щедрина
2019]), поэтому «диалектику» всегда надо искать в контексте интерпретации почти
всех шпетовских текстов, ранних и поздних. И если обратиться к историко-
философскому изложению проблемы «понимание – феноменология – герменевти-
ка», мы увидим, что русские философы, идя от мировой традиции, на рубеже XIX–
XX вв. во многом критически осмысливают Гегеля, неокантианство, «философию
жизни» и феноменологию и в чем-то их опережают. Если опережают, то в чем?
Как возможна русская герменевтическая традиция?
Концептуализация «понимания» у романтиков и Шеллинга (не только у Шлейер-
махера, который свел его к герменевтике) очевидным образом повлияли на концепт
«живого знания» славянофилов и «цельного знания» В.С. Соловьева (хотя последний
не увидел оригинальности славянофилов в обращении к восточной патристике,
к христианской «понимающей герменевтике», «герменевтической мистике», «герме-
невтической онтологии» в духе Дионисия Ареопагита или Григория Паламы). И сла-
вянофилы, и В.С. Соловьев, каждый по-своему, развили интерпретацию феномена
«понимание» в противовес рационалистическим версиям Гоббса, Локка, Юма, Канта.
Нельзя обойти и вопрос о влиянии славянофилов и В.С. Соловьева на В.В . Розанова.
Например, во время написания им работы «Понимание» [Розанов 1994] – этот текст
В.В. Розанова до сих пор адекватно не исследован, не объяснен и не интерпретиро-
ван. Столь же актуально рассмотреть, как на В.В. Розанова влияла античная тради-
ция философского понимания. Ведь он явно ссылается в книге о понимании на Ари-
стотеля, определяя разум как «потенцию понимания» и противопоставляя его ново-
европейскому рационализму (и одновременно занимаясь новаторским переводом
аристотелевской «Метафизики»).
30
Столь же оригинален в своем понимании понимания А.Ф. Лосев, когда в работах
20-х годов идет дальше всех в синтезе Шеллинга, Вл. Соловьева, Гуссерля и восточ-
ной патристики. Но как рассматривать А.Ф. Лосева без Павла Флоренского и без
имяславия? Мы раньше, чем на Западе, откопали собственную философскую глубину
в восточной патристике, а Запад ее только открывает для себя, в том числе Паламу и
исихазм. У раннего Лосева мы имеем религиозно-философский онтологизм в «фено-
мене понимания», причем, вполне более оригинальный и глубокий, чем тот, который
в это же время пытается «высветить» в истине бытия Хайдеггер. Здесь есть и точки
пересечения с И.А . Ильиным: как с его диссертацией, так и с поздними работами,
вплоть до «Аксиом религиозного опыта». Полагаю, что и А.Ф. Лосев, и И.А . Ильин в
начале ХХ в. далеко опережали по глубине и ясности мыслителей Запад (я не умаляю
их заслуг перед философией, Хайдеггер велик, как и вся немецкая мысль).
Отдельная тема – концепция феноменологии, герменевтики и русской филосо-
фии Г.Г . Шпета, которая стоит особняком: в прямом смысле «отдельно», как дей-
ствительно капитальное «строение» и «здание» русской философии, и в переносном,
как особый философский проект и «задание» будущим поколениям. Сразу же отмечу,
что вряд ли стоит относить к критической и всецело негативистской по зиции
в оценке русской философии историко-философское исследование Г.Г . Шпета,
предпринятое им в «Очерке развития русской философии» [Шпет 2008; Шпет 2009].
Данная работа, как и другие его труды, скорее представляет попытку демифологиза-
ции и преодоления схем и стереотипов в истории философии, как русской, так и
западной, стремится диалектически снять дилемму «заимствования» и «самобытно-
сти» той или иной «национальной философии» путем изучения ее в пространстве
конкретно-исторической действительности культуры. Вся концепция истории рус-
ской философии у Г.Г. Шпета строится на понимании специфики философии в ка-
честве «чистого знания». Он различает философию как «мировоззрение», как «науч-
ную философию» и как «чистое знание» («чистое» в его понимании – незаинтересо-
ванное, не прагматичное знание, не связанное с «мировоззрением», моралистической
нормативностью, научными или социальными проектами).
Но и здесь возникает вопрос: почему же в исследовании генеалогии русской фи-
лософии он ставит ей в вину именно «прагматизм», как политический и этатистский,
так и моралистический, будто где-то существовала в те времена (как и во все време-
на) некая «чистая философия», философия как «чистое знание»? Разумеется, таковую
он и не мог найти не только в XIX в., но и вокруг себя при жизни. Такой философии
никогда не было, нет и не будет... Разве что «профессорская философия» претендо-
вала и претендует до сих пор на этот статус. Но ей, чтобы получать свой хлеб, все
время приходится доказывать свою «научность», что нарушает ее первородную чисто-
ту за похлебку из грантов и стимулирующих доплат к окладу.
На Западе нас не «понимали» и не «понимают». Мы и сами до сих пор неадекват-
но интерпретируем и оцениваем то, что входит в понимание «понимания»: герменев-
тика, оценка, исследование, аналитика, объяснение и т.д. никак не устранимы из
«адекватного понимания», «целостного понимания». Понимание всегда целостно, это
именно «целостное понимание», которое восходит к античной theoria – «размышле-
нию», «рассмотрению», «умозрению», «истолкованию», «учению», но и «зрелищу»,
и «созерцательной жизни».
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian and Russian T ranslation
Гегель 1959 – Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Перевод Г. Шпета. М .: ИФ АН СССР,
1959 [Hegel, Geo rg W.F . Die Phänomenologie des Geistes (Russian Translation)].
Ильин 2002 – Ильин И.А . Философия Гегеля как учение о конкретно сти Бо га и человека /
Сост. и коммент. Ю . Т. Лисицы. Т. 1 –2. М.: Русская книга, 2002 [Ilyin, I.A . Hegel's Philosophy as
a doctrine of the specificity of God and man (in Russian)].
Розанов 1994 – Розанов В.В. О понимании. СПб .: Наука, 1994 [Rozanov, Vasiliy V. About un-
derstanding (in Russian)].
31
Хайдеггер 2009 – Хайдеггер М. Парменид. СПб.: Владимир Даль, 2009 [Heidegger, Martin
Parmenides (Russian Translation)].
Шпет 2008 – Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии . I / отв. ред. - со ст., коммент.,
археограф. работа Т.Г . Щедрина. М .: РОССПЭН, 2008 [Shpet, Gustav G. Outline of Russian philos-
ophy development. I . (in Russian)].
Шпет 2009 – Шпет Г.Г. О черк раз вития русской философи и. II . Реконструкция Татьян ы
Щедриной. М.: РОССПЭН, 2009 [Shpet, Gustav G. Outline of Russia n philosophy development. II .
Reconstruction of Tatiana Shched rina (in Russian)].
Ссылки – References in Russian
Сафрански 2005 – Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер и его время. М.: Молодая
гвардия, 2005.
Щедрина 2019 – Щедрина Т.Г. Судьба шпетовского перевода «Феноменологии духа» (мето-
дологические заметки) // Вопросы философии. 2019. No 4. С. 79–93.
References
Safransky, Rüdiger (2005). Heidegger. German master and his time, Young guard, Moscow (In Russian).
Shchedri na, Tatiana G. (2019) ‘The Fate of Gustav Shpet’s t ranslation of The Phenomenology of
Spirit (Methodological Remarks)’, Voprosy Filosofii, Vol. 4 (2019), pp. 79–93.
Сведения об авторе
РИМСКИЙ Виктор Павло вич –
доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии, культуроло-
гии, науковедения Белгородского государ-
ственного института искусств и культуры.
Author’s information
RIMSKY Viktor P. –
DSc in Philosophy, Professor, Professor head
of the Depart ment of philosophy, cultural
studies, science of the Belgorod Stat e Institute
of Arts and Culture.
32
Общение, понимание и герменевтика в русской философской
традиции*
© 2019 г.
Б.И . Пружинин
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1;
журнал «Вопросы философии», Москва, 117418, Нахимовский пр., д. 47.
E-mail: prubor@mail.ru
Поступила 20.04.2019
Автор разделяет точку зрения В.Г . Кузнецова, согласно которой чрез-
вычайно большое влияние на процессы формирования философской
герменевтической традиции в России оказал Густав Густавович Шпет
[Кузнецов 2019]. Он рассматривал историю как методологическое ос-
нование научного познания, что и позволило ему выйти к феномено-
логическим проблемам герменевтики и тем самым усилить ее методо-
логическое звучание. Фактически, Шпет наметил направления разра-
ботки герменевтики как метода социально-гуманитарного познания.
В основании этой проблематики лежал, по мнению автора статьи, ха-
рактерный для всей русской философии того периода интерес к фе-
номену общения (не информационной коммуникации, но именно
взаимопонимающего общения) как фундаментальной культурной
ценности. Этот интерес идейно тонировал практически всю рассмат-
риваемую русскими философами тематику и составлял ядро их тема-
тического единства (к такому выводу автора подводит осмысление со-
держания 28 томов серии «Философия России первой половины
ХХ века»). Демонстрируя роль этого интереса в становлении герме-
невтики, автор обращается к творчеству Павла Александровича Фло-
ренского, философа, существенно отличавшегося по своим общефи-
лософским взглядам от Шпета, но, тем не менее, опиравшегося, как и
Шпет, на связанную с практикой общения знаково-символическую
трактовку оснований научной терминологии. Анализируя формы вы-
ражения научного знания, Флоренский обратился к семиотике и се-
годня его интеллектуальный ход также актуален для разработки гер-
меневтики как основополагающего метода наук.
Ключевые слова: русская философская традиция, общение, понимание,
герменевтика, семиотика.
DOI: 10.31857/S004287440007158-8
Цитирование: Пружинин Б.И. Общение, понимание и герменевтика в
русской философской традиции // Вопросы философии. 2019. No 10.
С. 32 –36.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект No 18 -011 -01252 «Ис-
торическая память и историческое понимание: эпистемологические риски обращения к
нарративу».
33
Conversation, understanding and hermeneutics in the Russian
philosophical tradition*
© 2019 г.
Boris I. Pruzhinin
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation; Journal ‘Voprosy Filosofii’, 47, Nakhimovsky prospect,
Moscow, 117418, Russian Federation.
E-mail: lapini31@mail.ru
Received 20.04.2019
The author shares the point of view of V.G. Kuznetsov, according to which
Gustav Gustavovich Shpet exert an extremely large influence on the formation
of a philosophical hermeneutical tradition in Russia [Kuznetsov 2019]. He con-
sidered history as the methodological basis of scientific knowledge, which al-
lowed him to come to the phenomenological problems of hermeneutics and
thereby strengthen its methodological sound. In fact, Shpet outlined the direc-
tions for the development of hermeneutics as a method of social-humanitarian
knowledge. The basis of this problem is, in the opinion of the author of the ar-
ticle, the interest in the phenomenon of communication (not information
communication, but just understanding conversation) as a fundamental cultural
value, characteristic of all Russian philosophy of that period. This interest ideo-
logically tinted almost all the topics considered by Russian philosophers and
constituted the core of their thematic unity (this conclusion of the author leads
to a comprehension of the contents of 28 volumes of the series «Russian Phi-
losophy of the First Half of the XXth Century»). Demonstrating the role of this
interest in the formation of hermeneutics, the author turns to the work of Pavel
Alexandrovich Florensky, a philosopher who significantly differed in his general
philosophical views from Shpet, but nevertheless relied, like Shpet, on the sign-
symbolic interpretation of the foundations of scientific terminology. Analyzing
the forms of expression of scientific knowledge, Florensky turned to semiotics
and today his intellectual course is also relevant for the development of herme-
neutics as a fundamental method of science.
Key words: Russian philosophical tradition, conversation, understanding,
hermeneutics, semiotics.
DOI: 10.31857/S004287440007158-8
Citation: Pruzhinin, Boris I. (2019) ‘Conversation, understanding and her-
meneutics in the Russian philosophical tradition’, Voprosy Filosofii, Vol. 10
(2019), pp. 32 –36.
Несмотря на все многообразие позиций, концепций, точек зрения и интересов,
русская философия XIX–XX вв. представляла собой целостный феномен, кореня-
щийся в особенностях истории и культуры России. К этому выводу подводит опыт
издания многотомной (на сегодня издано 28 томов) серии книг о русских философах
первой половины ХХ в. Анализ их трудов, выполненный ведущими специалистами
по русской философии в рамках серии, убедительно, на мой взгляд, демонстрирует
наличие таких ракурсов обсуждения философской тематики, которые, придают рус-
ской интеллектуальной традиции своеобразную идейную цельность.
В связи со сказанным позволю себе одно полемическое замечание по поводу уточня-
ющего прилагательного «русская» в выражении «русская философия». В данном случае
*
The research is carried out at expense of RFBR, project No 18 -011 -01252 «Historical
memory and historical understanding: epistemological risks of appeal to narrative».
34
это прилагательное, прежде всего, уточняет национальный язык, на котором формули-
руются философские размышления и через который раскрываются особенности культу-
ры и истории региона. Подобным же образом на собственный язык и на соответствую-
щие культурные особенности опирались, к примеру, шотландская философия, француз-
ская философия, немецкая философия XIX в., французский и немецкий экзистенциа-
лизм в XX в., англо-американская аналитическая философия и т.д. Именно своим ори-
гинальным вкладом, так называемые региональные философии во все времена обогаща-
ли мировую философию. (И кстати, еще замечу: как свидетельствует опыт всемирных
философских конгрессов, именно к этому тренду разработки современной философской
проблематики нарастает интерес в нашу «эпоху глобализации».)
Тема общения связывает таких разных по свои устремлениям и интересам русских
философов, как Павел Александрович Флоренский и Густав Густавович Шпет
(см.: [Щедрина 2006]). То, каким образом эпистемологический ракурс идеи понимающе-
го общения реализовался в творчестве Г.Г. Шпета, представил в своих работах В.Г. Куз-
нецов. «Понимание как синтетическая функция разума, – пояснял он логику разверты-
вания герменевтических взглядов Шпета, – обеспечивается истолкованием и интерпре-
тацией. Именно так, через понимание и интерпретацию, герменевтическая проблематика
(разумеется, в новом рационализированном виде) вливается в феноменологию. Герме-
невтика (с ее функцией осмысления и интерпретации), логика (функция выражения
смысла), прагматическая телеология (функция разумной мотивации), феноменология
(функция обнаружения смысла в разнообразных его положениях) сплетены в деятельно-
сти разума в единый метод, определяющийся своеобразием эйдетического мира как «зер-
кала» осуществленных на уровне явлений объективации деятельности человеческого ду-
ха» [Кузнецов 2014, 188]. В центре внимания Флоренского также оказывается связанная
с целями научного познания проблематика взаимопонимания. При этом и Флоренский
и Шпет приходят к знаково-символической трактовке научных текстов и именно через
этот, учитывающий символический аспект знания ракурс, осмысливают условия об-
щезначимости и точности языка науки.
Очень демонстративно эта философско-методологическая перспектива осмысле-
ния научного познания представлена в заметках Флоренского «У водоразделов мыс-
ли» (особенно в главе «Термин»). Символическая составляющая внутринаучного об-
щения связана у него со способностью мысли к «саморазмежеванию», со стремлени-
ем мысли своим внутренним усилием положить самой себе символический предел,
т.е . определить предназначенный для общения смысл знания. «Нет ничего легче, –
отмечает Флоренский, – как нарушить эти границы и сместить межевые камни. Фи-
зически это – легчайшее. Но для посвященного они табу для нашей мысли, ибо ею
же в этом значении и установлены, и мысль знает в них хранителя ее естественного
достояния и страшится нарушить их, как залоги и условия собственного сознания.
Чем определеннее, чем тверже мыслию же поставленная препона мысли, тем ярче и
тем синтетичнее сознание» [Флоренский 1990, 225]. А сознание, в данном случае,
методологическое сознание ученого, четко фиксирующее требования к определению
смыслов познанного, есть необходимое условие научности его познавательной дея-
тельности. Ведь только благодаря такому сознанию становится возможной коллек-
тивная познавательная деятельность, в процессе которой и устанавливаются воспро-
изводимые для всего научного сообщества «межевые камни» мысли.
И не внешние, по своей природе, общесоциальные, факторы оказываются опре-
деляющими в процессе достижения общезначимости и точности научных утвержде-
ний, но присущая динамике мысли имманентная установка на общение. Именно эта
установка и обеспечивает, как настаивал Флоренский, «законную, т.е . внутренне-
обязательную» связь «внешнего выражения и внутреннего содержания» [Флоренский
1990, 221]. При этом, рассматривая, каким образом в научной работе осуществляется
методологическая роль культурно-символической установки ученого, Флоренский
утверждает, что точность термина является проявлением в языке глубинной связи
содержания знания и способов его выражения. И, приведя слова Пуанкаре, о том,
что деятельность ученого сводится к речи, с помощью которой он выражает факт,
35
Флоренский поясняет: «Научная речь, выкованное из повседневного языка орудие,
при помощи которого овладеваем мы предметом познания. Суть науки – в построе-
нии или, точнее, в устроении терминологии. <...> Поэтому жизнь терминов – и есть
история науки, все равно какой, естествознания ли, юриспруденции или математики.
Изучать историю науки это значит изучать историю терминологии, т.е . историю
овладения умом предлежащего ему предмета знания. < ...> Вас, может быть, – заме-
чает Флоренский, – смущает постановка вопроса: неужели история всякой науки
сводится к истории слов? Неужели все споры науки суть “споры о словах?” Да, да и
да» [Флоренский 1990, 229].
Таким образом, определяя нормативные (по сути, методологические) параметры
деятельности ученых, коллективно вырабатывающих общий взгляд на мир, Флорен-
ский акцентирует не сами по себе процедуры, которые выполняет формирующий
знание индивид, но апеллирует к нормативной структуре научного общения, где, по
его мнению, самоопределяется мысль и осмысливается реальность. Общение в науке,
стало быть, предстает у него как ценностный, символический, по своей природе,
вектор самоопределения мысли, имманентный познавательной деятельности ученого.
Аналогичный ход рассуждений мы обнаруживаем у Шпета (Анализ методологическо-
го подхода Г.Г . Шпета см.: [Пружинин 2006]). Определяя область исследовательской
работы, где ученый, используя принятые в науке методы, собственно, и творит науч-
ное знание, Шпет также указывает на сферу выражения знания, обращенную к Дру-
гому. Именно эта сфера, по его мнению, и должна находиться в центре внимания
методологии наук. Соответственно, философско-методологическое осмысление
науки, согласно Шпету, должно концентрироваться, прежде всего, на средстве обще-
ния, на языке и его нормах, на Слове. И хотя дальнейшие движения мысли Шпета и
Флоренского расходятся, эта, общая, заданная установкой всей русской философии,
интенция эпистемологических изысканий, остается в основании их воззрений.
Флоренский, проясняя культурно-символическую природу знака, обращается, прежде
всего, к семиотике. С ее помощью он пытается раскрыть те специфические условия, при
которых мысль самоопределяется и вырабатывается общезначимая научная терминоло-
гия, т.е. необходимое, по своей сути, научное знание. (Особо отмечу размышления на
этот счет А. В. Михайлова и исследование С.С. Хоружего, поставившего вопрос о воз-
можности сравнительного анализа концепции конкретной метафизики Флоренского и
структурализма с семиотикой [Михайлов 2000, Хоружий 1996].) Шпет, исходя из той же
установки, погружает знаково-символическую трактовку знания в историко-культурное
измерение деятельности ученого и, благодаря этому, прямо выходит к проблематике гер-
меневтики. При этом, идея самоценности общения, соотнесенная Шпетом с идеей
принципиальной историчности науки, приводит его к трактовке герменевтики как осно-
вополагающего метода научного познания.
Философско-методологическая значимость этого концептуального хода Шпета
обретает сегодня предельную актуальность на фоне популярного в современной методоло-
гии науки релятивизма. Принимая самоценность общения в качестве исходного пункта
своих философско-методологических размышлений о познании, Шпет погружал проблему
выражения знания в историю науки, придавая, тем самым, феномену научного общения
историческое измерение. Фактически, Шпет конкретизировал культурно-символическую
составляющую научно-познавательной деятельности, представляя ее как экзистенциально
переживаемое ученым общение, взятое также и в его историческом измерении. В результа-
те этого мыслительного хода, понимающая составляющая познания приобретает статус
универсальной характеристики науки, осмысленной и в ее исторической преемственности,
и в ее синхронической структуре. И поскольку для Шпета история есть идеал чистого по-
знания, именно ей «принадлежит руководящая роль среди всех эмпирических наук, так как
она являет собой образец наиболее совершенного познания конкретного в его неограни-
ченной полноте» [Шпет 2005, 223]. И вместе с историей на передний план выходят методы
интерпретации как ведущие методы научного познания мира вещей как они есть.
Представленный анализ рассуждений Шпета и Флоренского демонстрирует, что в ос-
новании тематического единства русской философии присутствует интерес к феномену
36
общения как стержневой культурно-исторической ценности. В более или менее явном
виде эта проблематика присутствовала и в трудах религиозных мыслителей (П.А. Фло-
ренский, С.Н. Булгаков и др.), и в работах философов, ориентированных на научную
методологию (Г. Шпет, Б. Яковенко и др.). В собственно философских разработках эта
тема становилась предметом специальных исследований с акцентом на ее языковых ас-
пектах. В эпистемологическом ракурсе она предстает как идея культурно-исторического
предназначения научно-познавательной деятельности: культурной целью научного по-
знания является, с этой точки зрения, разработка языка, способного обеспечить об-
щезначимость знания о реальности, что, в свою очередь, предполагает знаково-
символическую трактовку языка науки, позволяющую сформулировать методологические
условия общезначимого понимания научных утверждений.
Источники–Prima ry Sources in Russian
Флоренский 1990 – Флоренский П.А . У водоразделов мысли. В 2 тт. Т.2 . М.: Правда, 1990
[Florenskiy, Pavel A. In Wat ershed of Thought (In Russian)]
Шпет 2005 – Шпет Г.Г. История как предмет ло гики // Шпет Г.Г. Мысль и Слово. Избран-
ные труды / Отв. ред. - со ст. Т.Г . Щедрина. М.: РОССПЭН, 2005 [Shpet, Gustav G. History as a
Subject-Matt er of Logic (In Russian)].
Ссылки – References in Russian
Кузнецов 2014 – Кузнецов В.Г. Герменевтическая феноменология и положительная филосо-
фия Густава Густавовича Шпета // Густав Густавович Шпет / Под ред. Т.Г . Щедриной. М.: По -
литическая энциклопедия, 2014 . C . 166–195.
Кузнецов 2019 – Кузнецов В.Г. Роль Г.Г . Шпета в формировании герменевти ческой тради-
ции в России // Вопросы философии. 2019. No 9. С. 18 –22 .
Михайлов 2000 – Михайлов А. В. О. Павел Флорен ский как философ границы // Михайло в
А.В . Обратный перевод . М.: Языки славянской культуры, 2000. С . 444 –484 .
Пружинин 2006 – Пружинин Б.И. Между контекстом открытия и контекстом обо снования:
философия науки Густава Шп ета // Густав Шпет и современная философия гуманитарно го
знания / Под ред. Т.Г . Щедриной . М.: Языки славян ской культуры, 2006. С . 135 –145 .
Хоружий 1996 – Хоружий С.С. Фило софский символизм П.А . Флоренско го и его жизненн ые
истоки // П.А . Флоренский: pro et cont ra. СПб.: РХГИ, 1996. С . 525 –557.
Щедрина 2006 – Щедрина Т.Г. Павел Флоренский и Густав Шпет: тематические линии рус-
ской философии // На пути к син тети ческому единству европейской культуры. Филосфско -
богословское наследие П.А . Флоренского и современность / Под ред. Вл. Поруса. М.: ББИ,
2006. С . 156–163.
References
Khoruzhiy, Sergey S. (1996) ‘Philosophical Symbolis m P.A . Flo rensky and his life sources ’,
P.A . Florensky: pro et contra , RKHGI, St. Petersburg, pp. 525 –557 (in Russian).
Kuznetsov, Valery G. (2014) ‘Hermeneutic Phenomenology and Positive Philosophy of Gustav Gustavo-
vich Shpet’, Gustav Gustavovich Shpet, Politicheskaya Encyclopedia, Moscow, pp. 166‒195 (in Russian).
Kuznetsov, Valery G. (2019) ‘The Role of G.G. Shpet in the Formation of the Hermeneutical Tra-
dition in Russia’, Voprosy Filosofii, Vol. 9 (2019), pp. 18 –22 (in Russian).
Mikhailov, Alexander V. (2000) ‘Pavel Florensky as a philosopher of the border’, Reverse transla-
tion, Yazyky Slavyanskoy Kultury, Moscow, pp. 444 –484 (in Russian).
Pruzhini n, Boris I. (2006) ‘Between the Cont ext of Discovery and the Context of Justification: the
Philosophy of Science by Gustav Shpet’, Gustav Shpet and the Modern Philosophy of Humanitaria n
Knowledge, Yazyky Slavyanskoy Kultury, Moscow, pp. 135 –145 (in Russian).
Shchedri na, Tatyana G. (2006) ‘Pavel Florensky and Gust av Shpet : Thematic Lines of Russian Phi-
losophy’, On the Way to the Synthetic Unity of Europea n Culture. Philosophical and Theological Heritage
of P.A. Florensky and Modernity, BBI, Moscow, pp. 156–163 (in Russian).
Сведения об авторе
ПРУЖИНИН Борис Исаевич –
доктор философских наук, главный науч-
ный сотрудник, руководитель сектора Фи-
лософии естествен ных наук ИФ РАН,
главный редактор журнала
«Вопросы философии».
Author’s information
PRUZHININ Boris I. –
DSc in philosophy, mai n research fello w, head
of the Depart ment of Philosophy of Natural
Science, Institut e of Philosophy of the Russian
Academy of Sciences, editor-in- сhef, journal
Voprosy Filosofii.
37
К истокам герменевтической концепции:
эпистолярный нарратив Густава Шпета*
© 2019 г.
И.О . Щедрина
Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, 119049,
Мароновский пер., д. 26.
E-mail: echiscar@yandex.ru
Поступила 21.03.2019
Расширение методологического поля, изменчивость и многообразие
научных подходов в XX–XXI вв. приводит к тому, что в настоящее
время все большее число исследователей-гуманитариев в поисках не-
которой предметной константы обращается к архивным материалам
(заметкам, черновикам, эпистолярному наследию). В этих источниках,
как правило, содержатся экзистенциальные нарративы, позволяющие
прояснять истоки концептуальных конструкций. В статье эпистоляр-
ный нарратив рассматривается как своего рода «сфера разговора»
(понятие А. Бэна), особый тип общения, т.е . как поле для анализа
герменевтической концепции Г.Г . Шпета и выявления ее интеллекту-
альных и экзистенциальных истоков. Показано, что письмо-сказка
«Девочка-Цветолюбочка» (как пример эпистолярного нарратива), ко-
торую Шпет написал для дочери Маргариты в 1914 г., и его более
поздние рассуждения о специфике разных видов понимания, приве-
денные им в докладе «Искусство как вид знания» (1927), содержа-
тельно пересекаются. Проблема уразумения смысла, поставленная
Шпетом в седьмой главе книги «Явление и смысл» (1914 г.), симво-
лически преобразуется (предстает в поэтических формах слова) в нар-
ративе (сказке). Это «перетекание смысла» из одной внешней формы
в другую (при сохранении внутренней формы) Шпет затем концепту-
ализирует в книге «Внутренняя форма слова» (1927 г.) . При этом,
конкретные герменевтические приемы, используемые Шпетом в эпи-
столярном нарративе, автор сопоставляет с методологическими идея-
ми Ф. Шлейермахера и Г. -Г . Гадамера.
Ключевые слова: Г.Г. Шпет, герменевтика, эпистолярный нарратив,
смысл, понимание, разговор.
DOI: 10.31857/S004287440007159-9
Цитирование: Щедрина И.О. К истокам герменевтической концепции:
эпистолярный нарратив Густава Шпета // Вопросы философии. 2019.
No 10. С. 37–41.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект No 18 -011 -01252
«Историческая память и историческое понимание: эпистемологичес кие риски обра-
щения к нарративу».
38
To the Origins of the Hermeneutic Concept: Gustav Shpet's
Epistolary Narrative*
© 2019 г.
Irina O. Shchedrina
State Academic University for the Humanities, 26, Maronovskiy lane, Moscow, 119049,
Russian Federation.
E-mail: echiscar@yandex.ru
Received 21.03.2019
The expansion of the methodological field, the variability and diversity of scien-
tific approaches in the 20-21th centuries leads to the fact that at present an in-
creasing number of humanities scholars, in search of a certain subject constant,
turns to archival materials (notes, drafts, epistolary heritage). These sources,
as a rule, contain existential narratives that make it possible to clarify the origins
of conceptual constructions. In the article, the epistolary narrative is considered
as a kind of “sphere of conversation” (the concept of A. Ben), a special type
of communication, i.e. as a field for the analysis of the hermeneutical concept
of G.G. Shpet and revealing its intellectual and existential sources. It is shown
that the fairy tale letter “Little Girl Tsvetolubochka” (as an example of an epis-
tolary narrative), which Shpet wrote for his daughter Marguerite in 1914, and
his later discussions about the specifics of different types of understanding, given
by him in the report “Art as a kind of knowledge” (1927), meaningfully inter-
sect. The problem of understanding the meaning posed by Shpet in the 7th
chapter of the book “Phenomenon and Meaning” (1914) is symbolically trans-
formed (appears in poetic forms of the word) into a narrative (fairy tale). This
“flow of meaning” from one external form to another (while maintaining the
internal form) is then conceptualized by Shpet in the book “The Internal Form
of the Word” (1927). At the same time, the author compares the specific her-
meneutic techniques used by Shpet in an epistolary narrative with methodologi-
cal ideas of F. Schleiermacher and H.-G. Gadamer.
Key words: G.G . Shpet, hermeneutics, epistolary narrative, meaning, under-
standing, conversation.
DOI: 10.31857/S004287440007159-9
Citation: Shchedrina, Irina O. (2019) ‘To the Origins of the Hermeneutic
Concept: Gustav Shpet's Epistolary Narrative’, Voprosy Filosofii, Vol. 10
(2019), pp. 37–41.
В седьмой главе книги «Явление и смысл» Шпет рассуждает о формах выражения
смысла: «“Выражение” (понятие) как бы распадается на две части: и рядом с чисто
логической, рассудочной, формой “охвата” и “обнимания” мы замечаем другой, ра-
зумный момент “ocмыcлeния” и “ypaзyмeния”. Бытие разума состоит в герменевти-
ческих функциях, устанавливающих разумную мотивацию, исходящую от энтелехии,
как “носителя” предметного бытия, как “духа предмета”. Последний находит свою
характеристику в логосе, – “выражении”, – проникающим предмет и составляющим
явление, “обнаружение”, “воплощение” духа. Его “объективирование”, будучи ра-
зумным, мотивированным, есть организующая направленность различных форм духа
в их социальной сути: язык, культ, искусство, техника, право» [Шпет 2005, 174].
В этом рассуждении отчетливо проступают контуры его концепции «внутренней
*
The research is carried out at expense of RFBR, project No 18 -011 -01252 «Historical
memory and historical understanding: epistemological risks of appeal to narrative».
39
формы слова», в основании которой лежит герменевтическая методология. В это же
время он пишет сказку «Девочка-Цветолюбочка», в которой воплощаются его теоре-
тические установки. Эта сказка может сегодня рассматриваться как эпистолярный
нарратив и фактически выступает в качестве «со -мысли» Шпета о жизненном, экзи-
стенциальном потенциале герменевтики (Подробнее о роли нарратива в гуманитар-
ных исследованиях см.: [Herman, 1997; Hogan, 2013; Baroni, Revaz, 2016; Тюпа web]).
Шпет сочинил эту сказку для дочери Маргариты, когда та болела дифтерией, об
этом событии упоминается в его письмах к Н.К . Шпет, а также в письме Л.И . Ше-
стова [Щедрина (ред.) 2005, 197, 333]. При всех жанровых особенностях сказки Шпет
в игровой форме рассказывает маленькой девочке о важности понимания смыслов,
знания разных языков и о значимости общения. Игру словами и смыслами Шпет
начинает с посвящения и в первой же фразе разъясняет: «Цветолюбочка, – так уже
все называли эту девочку, хотя ее настоящее имя обозначало только один простень-
кий цветочек, скромную маргариточку» [Щедрина (ред.) 2005, 297]. Сюжет сказки
прост. Девочка отправилась в Царство нарциссов, а ее подстерегал маленький враг
«микроб» (палочка дифтерии, которую разглядел ученый Лёффлер [Щедрина (ред.)
2005, 298]). Этот микроб увлек девочку за собой, и она заблудилась. И не у кого до-
рогу спросить домой, так как Цветолюбочка не знала языка цветов. Затем она встре-
тила Бабу-Ягу, которая попыталась преградить ей дорогу домой. Но Нарцисс-
повелитель, который попал в букет, помог Цветолюбочке справиться с чарами Бабы-
Яги и передал свою волшебную силу другому нарциссу (его Цветолюбочка специаль-
но отложила для папы), а потом папа, который дружил с фонариками, помог ей вер-
нуться домой.
Конечно, сразу видно, что сказку эту придумал философ, который не просто описы-
вает реальность и переводит ее на язык образов. Текст пронизан рассуждениями. К при-
меру, вот как он объясняет дочери происхождение добра и зла: «Ведь самого Горя и са-
мой Радости не существует отдельно от людей, они так и не существовали никогда.
А появляются они у нас от того, что человек сам сделает так, чтобы другим было хоро-
шо, тогда у него появляется радость, или плохо, тогда у него горе. Ну, значит, так он сам
себе их причиняет, но так же получает он их от других. Но только с тех пор, как человек
начал всюду вмешиваться, и разные вещи стали причинять горе или радость. И все рав-
но, как бывают люди, которые только и делают, что причиняют другим радость, а дру-
гие – горе, так завелось и у всех вещей и существ на свете. Ну и это еще не все. Все
знают, что есть люди великие и люди мелкие. И вот, великие люди все больше приносят
радость, и чем они сами больше, тем и радость от них больше, а у мелких так, что чем
они меньше, тем и горе от них больше, то же завели и все существа и вещи. Вот сколько
разного нужно было рассказать, чтоб всем было ясно, откуда и у девочки Цветолюбочки
появились враги» [Щедрина (ред.) 2005, 297–298]
В этом рассуждении проступают контуры шпетовской этической концепции, ее
смысл. (Замечу, кстати, ни в одном шпетовском опубликованном произведении эта
концепция не выражена яснее, чем в этой сказке.) Специфика ее в том, что человек
видит мир таким, каким он его способен истолковать. Этот пример очень показате-
лен для герменевтического исследования, когда читатель интерпретирует, а тем са-
мым понимает стоящую за словом реальность. То самое движение по кругу, о кото-
ром писали Шлейермахер, Гадамер и др. «Неизбежное движение по кругу именно в
том и состоит, что за попыткой прочесть и намерением понять нечто “вот тут” напи-
санное “стоят” собственные наши глаза (и собственные наши мысли), коими мы это
“вот” видим [Гадамер 1991, 18].
Еще один важный момент, касающийся герменевтики напрямую – тема разговора
и языка. В сказке Шпет несколько раз ставит акценты на этом. Необходимо отметить
специфику воспитания детей в семье Шпета: с самых ранних лет они учили языки,
писали домашние диктанты и читали множество книг. Зная этот контекст, зная эле-
менты биографии и Шпета и его домашних, читатель начинает понимать, откуда зна-
ет много языков Маргариточка: «Но старуха ничего не могла ответить, потому что не
понимала того языка, на котором спросила Цветолюбочка <...> Не важно, что она
40
еще малютка, она уже много стран видела, и она сразу поняла, на каком языке ей
ответила старуха.
–
Я спрашиваю, бабушка, – сказала она уже на языке старухи, –
где дворец вот этих цветов?» [Щедрина (ред.) 2005, 299]. Точно так же можно понять,
почему в сказке Шпет описывает папу Цветолюбочки как человека, который
«...давно и много учился всему по разным книгам, а потому совсем не умел разгова-
ривать с живыми вещами и существами. Только книги рассказывали ему, все, что
ему нужно» [Щедрина (ред.) 2005, 304]. Поэтому и помощь он получил от фонариков
(символ света знания и проблесков понимания): «Ведь фонарики, как только их за-
жгут, тотчас вступают в беседу друг с другом, и каждый рассказывает другому, что
наблюдал за весь день, и что ему видно ночью. Теперь не забудьте, что фонарики
есть на всем свете, – хотя и разные везде, – где только есть люди и жилье человече-
ское. Значит, как только заговорят между собою, им легко узнать все, что только де-
лается на белом свете, потому что ведь все они находятся в общении, и весть от од-
ного к другому передается моментально. Всем известно, что свет распространяется
скорее всего на свете! Даже океан самый широкий не мешает фонарикам сообщаться
друг с другом, потому что по океану всегда бегают пароходы с фонариками, а на бе-
регах стоят огромные фонари – маяки» [Щедрина (ред.) 2005, 304]. В данном случае
раскрывается тот самый герменевтический принцип соотношения понимания частей
и целого, о котором говорил Шлейермахер: «...все отдельное может быть понято при
посредстве целого, и что каждое объяснение отдельного уже предполагает понимание
целого» [Шлейермахер web].
Однако разговор, пусть и с предметами (книги, фонари, даже цветы), играет важную
роль в сказке Шпета, поскольку именно общение, взаимодействие, разговор – смысло-
образующий момент для философа. Здесь можно увидеть также корни его дальнейших
рассуждений о понимании. Так, в 1927 г. в работе «Искусство как вид знания» он пишет
о симпатическом понимании: «...приходится говорить, если о понимании все-таки, то
понимании особого рода, не интеллектуальном, а любовном или ненавидящем. Чтобы
подчеркнуть имеющую здесь место непосредственность переживания у воспринимающе-
го как ответ на переживание N, здесь уместно говорить о симпатическом понимании. Сло-
во “симпатия” оттеняет и эмоциональный по преимуществу способ восприятия пережи-
ваний N, и его непосредственность, основанную на прямом “подражании”, “сопережи-
вании”, “вчувствовании” и т.п.» [Шпет 2007, 248].
Без этой непосредственности понимания, без Другого невозможно поддержание
«сферы разговора» – и этим Шпет делится в сказке с дочерью. Неслучайно, когда девоч-
ка по сюжету попадает в беду, она оказывается вначале в ситуации непонимания
(«Нарциссики качаются, головками кивают, показывают, куда идти, что-то шепчут так
тихонько между собою, но ведь Цветолюбочка еще не понимала их языка» [Щедрина
(ред.) 2005, 298]), а затем и вовсе в изоляции от других людей. И спасает ее именно язы-
ковое свидетельство фонарика. «Может, – обращается она к фонарику, – кто-нибудь тут
пройдет после меня и найдет тебя, и ты расскажи обо мне!» [Щедрина (ред.) 2005, 305].
Таким образом, эта сказка – творческая лаборатория, которую нам раскрывает
архив Шпета. Здесь отчетливо проступает его движение к «внутренней форме слова»,
как основе понимания действительности. И легко видно, на каком материале эта
концепция рождалась: нарратив в поэтической форме представляет нам его логику
смысла (то, что позднее Шпет определит как внутреннюю форму слова). Приведу
цитату из книги, написанной Шпетом через 13 лет: «То, что до сих пор излагают как
“историю значений”, в значительной части есть история самих вещей, перемены в
способах употребления их, вообще быта, но не “история” смыслов как идеальных
констелляций мысли. Поэтому-то, в действительности, до сих пор у нас нет не толь-
ко “истории значений” (собственно словообразования или словопроизводства –
из этимон), – но нет даже принципов классификации возможных изменений значе-
ний. Опыты Пауля, Бреаля, Вундта – решительно неудачны. Не говоря уже о смеше-
нии названия со “словом”, вещи и представления со смыслом, в них смешиваются в
качестве принципиальных формы логические с поэтическими. Между тем смысл раз-
ливается и по тем и по другим, т.е . от рода к виду, и обратно, от части к целому,
41
от признака к вещи, от состояния к действию и т.п., но также от несущественного логи-
чески, но характерного поэтически к вещи и т.п. “Однорукий”, как название “слона”,
не меняет логической формы, но на ней водружает новую форму. “Земля в снегу”, “под
снежным покровом”, “под снежной пеленой”, “в снежной ризе” и т.п. –
все эти слова
могут рассматриваться как одна логическая форма, но здесь не одна внутренняя форма
поэтическая» [Шпет 2007, 241].
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian
Гадамер 1991 – Гадамер Г. - Г . Философские основания 20 века // Гадамер Г. - Г . Актуальность
прекрасного. М .: Искусство, 1991. C. 16–26. [Gadamer, H ans- Georg Die philosophischen G rundlagen
des zwanzigsten Jahrhund erts (Russian Translation, 1991)].
Шлейермахер web – Шлейермахер Ф.Д. Академические речи 1829 года // http://sbiblio.com/ bib-
lio/archive/shleyermaher_ak/ [Schleiermacher, Friedrich D.E. Hermeneutik (Russian Translation, 1991)].
Шпет 2005 – Шпет Г.Г. Мысль и Слово. Избранные труды / Отв. ред. - со ст. Т.Г . Щедрина.
М.: РОССПЭН, 2005 [Shpet, Gustav G. Thought and Wo rd. Selected Wo rks (in Russian)].
Шпет 2007 – Шпет Г.Г. Иску сство как вид знания. Избранные труды по философии культу-
ры / Отв. ред. - со с т. Т.Г . Щедрина. М.: РОССПЭН, 2007 [Shpet, Gustav G. Art as a Ki nd of
Knowledge. Select ed Works on the Philosophy of Culture (in Russian)].
Щедрина (ред.) 2005 – Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред. -
сост. Т.Г . Щедрина. М.: РОССПЭН, 2005 [Shchedri na Tatiana (ed.) Gustav Shpet: Life in Lett ers.
Epistolary Heritage (in Russian)].
Ссылки – References in Russian
Тюпа web – Тюпа В.И. Логос наррации: к проекту исторической нарратоло гии // Narrato-
rum. 2015 . No1 (8) // http://narrato rium.rggu.ru/article.html?id=2634327
References
Baroni, Raphaёl, Revaz, Françoise (2016) Narrative Sequence in Contempora ry Narratology , The
Ohio State University Press, Columbus.
Herman, David (1997) ‘Scripts, Sequences, and Stories: Element s of a Postclassical Narratology’,
PMLA: Publications of the Modern La nguage Association of America , 112, pp. 1046–1059.
Hogan, Patrick C. (2013) Narrative Discourse: Authors and Narrators in Literature, Film, and Art ,
The Ohio Stat e University Press, Columbus.
Tyupa, Valery I. (web) ‘The Logos of Narration: Towards a Project of Historical Narratology’, Nar-
ratorum, 1(8) // http://narratoriu m.rggu.ru/article.html?id=2634327 (in Russian)
Сведения об авторе
ЩЕДРИНА Ирина Олеговна –
кандидат философских наук, старший пре-
подаватель Государ ственно го акад емиче-
ского универ ситета гуманитарных наук
Author’s information
SHCHEDRINA Irina O. –
CSc in Philosophy, Assistant professor, State
Academic U niversity for the Humanities.
42
Русский Аристотель: герменевтика перевода
и понимание насилия
© 2019 г.
С.Н . Борисов
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, 308015, ул. Победы, д. 85.
E-mail: borisov_sn@bsu.edu.ru
Поступила 21.03.2019
Статья посвящена трактовке «силы» и «насилия» в контексте русской
традиции перевода и интерпретации Аристотеля. Русское прочтение
Аристотеля, в которое внес свой вклад В.В. Розанов после издания
«О понимании», до сих пор не оценено по достоинству. Автор статьи
стремится восстановить традицию. Концепт «насилие» странно вписы-
вался и вписывается в общефилософский категориальный ряд. Проблема
разрешается в обращении к понятию «сила», которое оказывается поте-
рянным в современной философии. Исключение составляют работы,
в которых мы находим «следы» этого понятия. Среди них оказываются
работы Аристотеля, которые нуждаются в освобождении от модерниза-
торских толкований. Однако в переводах Аристотеля греческое δύναμις,
используемое для традиционной передачи категории возможность, утра-
тило коннотации силы (движения, способности, функции); в свою оче-
редь, «сила» потеряла связь с «насилием» (βία) и «необходимостью».
Насилие понимается как такого рода необходимость, которая связана с
подавлением «собственного решения», свободы, нечто «препятствующее
желанию» и противоречащее «здравому размышлению», а также отсут-
ствие «блага». Насилие предстает не только в онтологическом смысле, но
также экзистенциально, как обратное «благу» и собственному «желанию».
Сила остается в тени «необходимости» как «возможности», «потенциаль-
ной энергии» и «движения», а насилие теряет возникшую оппозицию
в онтологическом модусе.
Ключевые слова: герменевтика, возможность, сила, мощь, действие,
насилие, Аристотель, В.В. Розанов.
DOI: 10.31857/S004287440007160-1
Цитирование: Борисов С.Н. Русский Аристотель: герменевтика перевода
и понимание насилия // Вопросы философии. 2019. No 10. С. 42 –45.
43
Russian Aristotle: Hermeneutics of Translation
and Understanding of Violence
© 2019 г.
Sergey N. Borisov
Belgorod State National Research University, 85, Pobedy str., Belgorod, 308015,
Russian Federation.
E-mail: borisov_sn@bsu.edu.ru
Received 21.03.2019
The philosophical definition of violence today is «incomplete» and leaves a
«gap» between the phenomenon and the concept. This is due to the fact that
the concept of «violence» was/is strangely included in the general philosophical
categorial line. In domestic and Western discourse, the problem field of vio-
lence contains, above all, political and ethical meanings. The problem is intui-
tively resolved in its appeal to the concept of «power», which turns out to be
philosophically lost in modern philosophy. The exceptions are the works in
which we find «traces» of this concept. Among them, there are the works of Ar-
istotle which need to be freed from modern distorting interpretations. Thus, in
the translations of Aristotle, the Greek δύναμις, used for the traditional trans-
ferring the category of possibility, lost its meaning of force (movement, ability,
function); in its turn, «force» lost relation to «violence» (βία) and «necessity».
Violence is understood as such a kind of necessity, which is associated with the
suppression of the «own decision», freedom, something that «prevents desire»
and contrary to «common thinking», as well as the absence of «good». Violence
is presented not only in an ontological sense, but also existentially, as the oppo-
site of «good» and of one’s own «desire». The force remains in the shadow of
«necessity» as «possibility», «potential energy» and «movement», and violence
loses the opposition that has arisen in an ontological mode.
Key words: hermeneutics, possibility, force, power, action, violence, Aristo-
tle, V.V. Rozanov.
DOI: 10.31857/S004287440007160-1
Citation: Borisov, Sergey N. (2019) ‘Russian Aristotle: Hermeneutics of
Translation and Understanding of Violence’, Voprosy Filosofii, Vol. 10
(2019), pp. 42 –45.
В письме к Н.Н. Страхову от 15 февраля 1988 г. В.В. Розанов пишет: «Вот уже года 2,
присматриваясь к разным сочинениям <...> я все больше и больше приходил к убежде-
нию, пожалуй, к догадке, что корень дела, ключ к разрешению множества вопросов, ко-
торые для меня – или разрешить, или не жить, лежит у Аристотеля» [Розанов 2001, 153].
Н.Н. Страхов в переписке несколько скептически отнесся к русской актуальности и зло-
бодневности Аристотеля, хотя розановский перевод воспринял в качестве некоторого
культурного акта, пытаясь оказать помощь в его публикации. И, тем не менее, уже в
примечании 1913 г. к письму Н.Н. Страхова, как бы продолжая спор, В.В. Розанов отме-
чает: «И до сих пор я думаю, что Аристотель – никем не заменим» [Розанов 2001, 9].
Здесь же содержится весьма примечательное мнение В.В. Розанова о месте «дина-
мис» и «энергия» в категориальном ряду Аристотеля: «...понятия δύναμις и ἐνέργεια
в своих латинских терминах potentia и actus (я только actus не очень понимаю; в сво-
ем сочинении я всегда говорил о потенц. и действительности; верно он соответствует
у меня “образующемуся существованию”, но мы до этого в “Мет.” не дошли) служат
ключом к пониманию самых сложных и глубоких систем философии. В них, как в
таинственных символах, выражена целая система мысли и стало понятно то-то и то-
то (главное – изменение)...» [Розанов 2001, 154]. И в следующем письме о переводе и
44
интерпретации Аристотеля продолжает свою мысль: «Я хочу ознакомиться с ним для
того, чтобы ознакомиться с его понятиями о потенциальности (это самое главное),
которые он первый ввел в философию и уже, вероятно, хорошо разработал» [Розанов
2001, 160]. Никто до сих пор по-настоящему не оценил эту розановскую «герменев-
тику» «Метафизики» Аристотеля, хотя она очень важна, в том числе, для понимания
античных смыслов феномена насилия.
Обращение к категоризации насилия у Аристотеля, на мой взгляд, следует начинать с
прочтения работ «Физика» [Аристотель 1981в], «О небе» [Аристотель, 1981б] и «Метафи-
зика» [Аристотель, 1981а], которые в таком ракурсе почти никем не прочитывались [Бо-
рисов, Римский 2015]. Новые переводы Аристотеля сводят флективность древнегреческо-
го языка к модернизаторской аналитичности [Аристотель 2018]. Так, к примеру,
А.В. Марков сознательно ограничивает смыслы аристотелевских δύναμις и ενεργεια, как и
других категорий [Марков 2018, 8]. Между тем, греческое δύναμις (dynamis), используе-
мое для традиционной передачи аристотелевской трактовки категории возможность,
также содержит и коннотации силы (движения, способности, функции); в свою очередь,
«сила» как «насилие» (bia) связана с категорией необходимости.
В «Физике» находим такую первичную категориальную диспозицию и связь
δύναμις как силы с движением [Аристотель 1981в
, 123–124, 219–220, и др.]. Обращение
к трактатам «О небе» и «Метафизика» позволяет расширить аристотелевские конно-
тации δύναμις не только как «возможности», но и как «силы», а в интерпретации
ἐνέργεια уйти от ее понимания как «действительности», связав и с «действием», и с
«необходимостью», и с «насилием». В трактате «О небе» Аристотель, критикуя пифа-
горейскую «струнную теорию», делает вывод, что ни одна из «звезд» «не движется ни
как животное, ни насильственно, “по принуждению” (выделено нами – авт .)» [Ари-
стотель 1981б, II, 9, 291a, 2–7; II, 14, 296 b, 25–30]. Сила и насилие здесь проговари-
ваются в неразрывной связи с «природностью» или, по-русски, «естественностью»,
а также «необходимостью».
Но какие значения Аристотель вкладывает в «насилие» и «насильственное движе-
ние»? Движение «как животное», очевидно, предполагает некую «органичность», «само-
движение», а вот «насильственность» – «противоестественность» и «принуждение» [Ари-
стотель 1981б, II, 14, 300а, 20–30; 300b, 5–7]. Русское «естественное» несет смыслы «су-
ществования», «бытия», «того, что есть», соответственно, «противоестественное» обрат-
ное – «то, что не-есть», не-существующее, что явно выводит нас на негативные атрибуты
насилия, на его принадлежность не-сущему, небытию, уничтожению.
В этом смысле противоестественность снова связывается с действием, смысл которого
раскрывается при интерпретации [Аристотель 1981a
, V, 5, 1015a, 20–34; 1015b, 1–8]. Наси-
лие понимается здесь как такого рода необходимость, которая связана с подавлением сво-
боды, как нечто «препятствующее желанию» и противоречащее «здравому размышлению»,
а также – связанное с отсутствием «блага». Насилие предстает не только как «необходи-
мость» в онтологическом смысле, но также экзистенциально – «необходимость» выступает
как роковое и неотвратимое, как богиня Судьбы или сама Судьба. Далее Аристотель рас-
сматривает «претерпевание» в связи со «способностью» или «возможностью» (dynamis), как
«нехватку», «лишенность» и отсутствие «способности». Непонятно, почему здесь перевод-
чик предпочел перевести dynamis как «возможность», а не как «сила»? Сила остается в тени
«необходимости» как «возможности», «потенциальной энергии» и «движения», а насилие
теряет возникшую оппозицию в модусе онтологическом.
Если мы обратимся к «Метафизике» в переводе П.Д. Первова и В.В. Розанова
[Аристотель 2006] и сравним, то и здесь мы увидим продолжение уже выявленного
нами ранее [Аристотель 1981a
, V, 12, 1019 b, 5–20]: употребляемые концепты «разру-
шительная сила», «лишенность способности», «отрицание» снова оказываются близ-
кими с «насилием» как тем, что несет не/сущее, небытие и гибель. Снова есть некое
«не-бытие», бытие минус нечто, но нет силы как характеристики бытия, необходимо-
го даже не второго, а первого в этой категориальной паре силы – насилия.
Эти смыслы и необходимость «силы» при переходе от «возможности» к «действитель-
ности» возникают далее [Аристотель 1981a
, IX, глава 1]. Сам Аристотель отсылает к ним
45
[Аристотель 1981a
, V, 12], но переводчик (А.В. Кубицкий) опять не употребляет слово
«сила», хотя Стагирит пишет: «В другом месте мы уже разбирали, что “возможность”,
или “способность”, и “мочь” имеет различные значения» [Аристотель 1981a
, IX, 1, 1046
а, 5]. А в переводе А.В. Маркова исчезает и слово «мочь», категория возможности остает-
ся «сама с собой», или возвращается к себе как «понятие о возможном» [Аристотель
2018, IX, 1, 1046 а]. Тогда как «мочь» («мощь») по-русски и есть «сила». При таком под-
разумевании под мощью более «сильной» категории силы, становится очевидна диалек-
тика силы и насилия, раскрывающаяся через оппозиции не/способности – способности;
не/силия – силы – на/силия.
В комментарии перевода П.Д. Первова и В.В. Розанова мы находим достаточно явную
отсылку к насилию через силу: «Нижеследующие значения слова “причина”, к которым
Аристотель возвращается так часто и которые в схоластической философии так прекрасно
были характеризованы в названиях: causa materialis, с. formalis, с. efficiens, causa finalis, –
могут быть названы общими условиями всякого бытия, необходимыми элементами каждой
вещи: из чего-нибудь, как-нибудь, силою чего-нибудь и для чего-нибудь все в природе
произошло, в духе или в истории совершилось. Из этих четырех условий бытия только за
третьим, за causa efficiens, “началом перемены”, каковым в природе является сила физиче-
ская и в истории – способность духа человеческого, нами сохранено наименование “при-
чины”» Аристотель 2006, 158. Остается один шаг к «обратной» стороне силы и категории
«причины» также, не возникновению, а уничтожению, не бытию, а небытию. Причем усе-
чение этих смыслов происходит двойным движением, первым из которых является усече-
ние по линии «онтологического» смещения при переводе аристотелевой теории возникно-
вения, а второе касается самой категории силы, которая также вытесняется на периферию
смыслового поля уже в более современных переводах.
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian and Russian T ranslations
Аристотель 1981a
–
Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. А.В. Кубицкого // Аристотель. Со-
чинения. В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1981 [Aristotle Metaphysica (Russian Translation)].
Аристотель 1981б – Аристотель. О небе / Пер. А .В. Лебедева // Аристотель. Сочинения. В 4 т.
Т. 3. М.: Мысль, 1981 (Aristotle, Peri oyranoy (Russian Translation)].
Аристотель 1981в
–
Аристотель. Физика / Пер. В.П. Карпова // Аристотель. Сочинения. В 4-х
т. Т. 3. М.: Мысль, 1981 (Aristotle, Physike akroasis (Russian Translation)].
Аристотель 2006 – Аристотель. Метафизика. Пер. с греч. П.Д . Первова и В.В. Розанова. Комм.
В.В. Розанова. М.: Республика, 2006 (Aristotle, Metaphysica (Russian Translation)].
Аристотель 2018 – Аристотель. Метафизика. Пер. с древнегр., вступит, ст. и комм . А.В . Мар-
кова. М.: РИПОЛ классик, 2018 (Aristotle, Metaphysica (Russian Translation)].
Розанов 2001 – Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: H.Н. Страхов.
К.Н. Леонтьев. М.: Республика, 2001 [Rozanov, Vasiliy V., Collected Works. Literary exiles:
N.N. Strakhov. K.N. Leontyev (in Russian)].
Ссылки – References in Russian
Борисов, Римский 2015 – Борисов С.Н ., Римский В.П. Философское понимание насилия:
смыслы и коннотации // Дискурсы власти. Орел: Горизонт, 2015.
Марков 2018 – Марков А.В. Предисловие // Аристотель. Метафизика. Пер. с древнегр.,
вступит, ст. и комм . А .В. Маркова. М.: РИПОЛ классик, 2018.
References
Borisov, Sergey N., Rimskiy, Viktor P. (2015) ‘Philosophical understanding of violence: meani ngs
and co nnotations ’, Discourses of power, Go rizont, Orel (in Russian) .
Markov, A leksandr V. (2018) ‘Foreword’, Metaphysic s, RYPO L classic, Moscow (in Russian).
Сведения об авторе
БОРИСОВ Сергей Николаевич –
доктор философских наук, профессор ка-
федры фило софии и теологии инсти тута
общественных наук и массовых коммуни-
каций Белгородско го национально го ис-
следо ватель ского универ ситета
Author’s information
BORISOV Sergey Nikolaevich –
DSc in Philosophy, Professor at the Department
of Philosophy and Theology of the Institute of
Social Sciences and Mass Communications of the
Belgorod National Research University.
46
ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО
Социальное действие и знание в условиях сложности
и частичной неопределенности
© 2019 г.
В.М . Розин
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: Rozinvm@gmail.com
Поступила 11.05.2018
В статье рассматриваются особенности кризиса в современной социо-
логии и социальных науках, некоторые направления его преодоления,
значение в современной науке и практике трансдисциплинарных ис-
следований и методологических разработок. Автор показывает, что
данный кризис был обусловлен переходом в социальных науках от
установок и проектов реализации естественнонаучного и гуманитар-
ного подходов к междисциплинарным и трансдисциплинарным ис-
следованиям и разработкам. Что привело к размыванию предмета и
объекта социальных наук, появлению проблемы сложности и частич-
ной неопределенности социальной реальности, серьезному противо-
стоянию социологии с другими социальными науками. Рассматрива-
ются несколько стратегий разрешения сложности и неопределенности,
каждая из которых имеет существенные недостатки: в обход этой
проблемы, что, по сути, представляет собой возвращение к методу
проб и ошибок, стратегии гибкого управления и «форсайта», переход
от анализа природы социальных явлений к их истолкованию. Более
подробно, как выглядящую эффективной, анализируется концепция
социогуманитарного проектирования, в которую вошли разработки
отечественной методологии, социального проектирования и социаль-
ного управления. Эту концепцию автор иллюстрирует на материале
проекта «Донор», который был не только очень удачным (россияне
пошли сдавать кровь и система донорства в России восстановилась),
но и предоставил богатый материал для анализа социогуманитарного
проектирования и социогуманитарных исследований, а также вклада в
эти деятельности и практики со стороны философии и методологии.
Ключевые слова: стратегия, социальность, социальная реальность, со-
циальное действие, эффективность, социология, социальная наука,
практика, теория, знание, истолкование, человек.
DOI: 10.31857/S004287440007161-2
Цитирование: Розин В.М . Социальное действие и знание в условиях
сложности и частичной неопределенности // Вопросы философии.
2019. No 10. С. 46–54.
47
Social action and knowledge in conditions of complexity
and partial uncertainty
© 2019 г.
Vadim M. Rozin
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str.,
Moscow, 109240, Russian Federation.
E-mail: Rozinvm@gmail.com
Received 11.05.2019
The article discusses the features of the crisis in modern sociology and social
sciences, some ways to overcome it, the importance of transdisciplinary re-
search and methodological development in modern science and practice.
The author shows that this crisis was due to the transition in the social sciences
from the attitudes and projects of the implementation of natural science and
humanitarian approaches to interdisciplinary and transdisciplinary research and
development. What led to the erosion of the subject and object of social scienc-
es, the emergence of the problem of complexity and partial uncertainty of social
reality, a serious opposition of sociology with other social sciences. Several
strategies for resolving complexity and uncertainty are considered, each of
which has significant drawbacks: bypassing this problem, which, in essence, is a
return to trial and error, flexible management strategies and foresight, a transi-
tion from analyzing the nature of social phenomena to their interpretation.
In more detail, the concept of socio-humanitarian design, which includes the
development of national methodology, social design and social management, is
analyzed as effective looking. The author illustrates this concept on the material
of the Donor project (Project “Development of Mass Free Blood Donation”
(V. Rozin, S. Malyavina, Y. Gryaznova, 2010), which was not only very suc-
cessful (the Russians went to donate blood and donation system in Russia has
recovered), but also provided a wealth of material for analyzing socio-
humanitarian design and socio-humanitarian studies, as well as input to these
activities and practices from philosophy and methodology.
Key words: strategy, sociality, social reality, social action, efficiency, sociol-
ogy, social science, practice, theory, knowledge, interpretation, man.
DOI: 10.31857/S004287440007161-2
Citation: Rozin, Vadim M. ‘Social action and knowledge in conditions of com-
plexity and partial uncertainty’, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 46–54.
Важнейшей установкой социального ученого является желание улучшить жизнь чело-
века. Правда, в способах улучшения ведущие представители социального цеха карди-
нально расходятся. Революционные преобразования (К. Маркс), реформы (Э. Дюркгейм,
М. Вебер), правильная интерпретация социальной реальности (Б. Латур, З. Бауман) – вот
крайние позиции среди многих других. Если сравнивать эти разные способы улучшения
социальной жизни, можно заметить, что каждая из них обусловливает и свой способ
представления социальной реальности (социальности), с эпистемологической же точки
зрения – и свой специфический тип социального знания. Более очевидна эта законо-
мерность была для первых двух этапов развития социальных теорий и социального зна-
ния. З. Бауман, имея в виду главным образом социологию, отмечает, что если для перво-
го этапа было характерно желание реализовать естественнонаучный подход («Рожденная
в суровые времена, – пишет Б. Латур, – социология пыталась подражать естественным
наукам в уровне сциентизма» [Латур 2014, 344]), то для второго – как реакция на этот
48
подход и теорию К.Маркса попытка реализовать в социальных науках гуманитарный под-
ход. «Мысль о том, что существует один, и только один, способ “быть наукой”, – пишет
Бауман, – и что поэтому социология должна самоотверженно подражать естественным
наукам, Вебер категорически отвергает... объяснить человеческое действие – значит понять
его: уловить смысл, которым действующий субъект наделяет его» [Бауман 1996, 12–14].
В рамках естественнонаучного подхода социальные процессы описывались как
линейные, детерминированные однозначными причинами, и искались социальные
механизмы (что предполагало возможность рассчитывать и управлять социальными
явлениями, этот момент отмечал М.Хайдеггер). А реализация гуманитарного подхода
(например, в работе «Протестантская этика и дух капитализма») приводит к необхо-
димости включать в социальные процессы деятельность человека, его идеи и другие
факторы сознания (вмененности, ценности, мировоззрение и т.п .); они не просто
нелинейные, но лежат в другой социальной реальности (культуры, истории, поли-
тии), в которой не действуют законы первой природы.
Третий этап Бауман связывает с ситуацией, когда во главу угла была поставлена
не теория, а практика. Но я бы его охарактеризовал иначе: социологи перешли к
междисциплинарным и трансдисциплинарным исследованиям; они стали активно
использовать методы и понятия других социальных наук – истории, культурологии,
экономики, психологии, антропологии, теории права, географии и некоторых других
дисциплин. То же самое происходило и в других социальных науках: они переходят к
междисциплинарным и трансдисциплинарным исследованиям. В данном случае
трансдисциплинарными исследованиями я называю два научных дискурса: в первом
логика привлечения и работы с разными методами и понятиями из других дисцип -
лин задается принципами философии и методологии, во втором – такую логику вы-
рабатывают эксперты сообществ, использующих социальные знания в практических
целях (более подробно о трансдисциплинарном подходе см. книгу «Трансдисципли-
нарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы», а также нашу
статью в ВФ [Розин 2016]).
Примером подобного трансдисциплинарного исследования является работа Баумана
«Актуальность холокоста». Бауман позиционирует себя как социолога, но, изучая холо-
кост, он обращается также к истории (еврейского и немецкого народов), культурологии
и философии (анализируя мистические и проективные идеи, на основе которых сло-
жилось, как говорит Бауман идеология «дизайн-проектов» по переделке человека),
к философии техники (описывая нацистскую технологию лишения немецких евреев
имущества, прав, самой жизни), к институциональному анализу и социальной психо-
логии (пытаясь объяснить происходившую в Рейхе катастрофическую трансформацию
сознания разных слоев населения). Логика работы с понятиями и методами этих дис-
циплин задается у Баумана, с одной стороны, принципами методологии (историзма,
системного подхода, проблематизациии, распредмечивания), с другой – апелляцией к
общественности, которая, по мнению Баумана, пытается сделать из холокоста случай-
ное событие или необъяснимое уклонение от нормы. «Современная эпоха, – отмечает
Бауман, – это время искусственного порядка и грандиозных социальных “дизайн-
проектов”, время плановиков, визионеров и – в более общем плане – культивирующих
нечто “садовников”, воспринимающих общество как целинную землю, которая должна
культивироваться в соответствии с их планами». «Два самых известных и страшных
случая современного геноцида (фашизм и коммунизм) не изменили духу современно-
сти... Они породили огромный и мощный арсенал технологий и организаторского ис-
кусства. Они произвели на свет институты, которые служат одной-единственной це-
ли – смоделировать поведение человека до такой степени, что он будет продуктивно и
энергично преследовать любую цель, причем независимо от того, получил ли он идео-
логическое обоснование или моральное одобрение со стороны тех, кто поставил перед
ним эту цель. Эти мечты и усилия узаконивают монополию правителей на конечные
результаты, а управляемым отводят роль средства. Они определяют большинство дей-
ствий как средства, а средства должны подчиняться конечной цели – тем, кто ее по-
ставил, высшей воле, высшему знанию» [Бауман 2010, 140, 117].
49
Бауман пишет, что «холокост был не просто еврейской проблемой и не просто
одним из событий одной лишь еврейской истории. Холокост возник и случился в
нашем современном обществе, на высшей стадии нашей цивилизации, на пике куль-
турных достижений человечества, и по этой причине это проблема общества, циви-
лизации и культуры. Самозаживление исторической памяти, которое происходит в
сознании современного общества, по этой самой причине гораздо больше, чем про-
сто оскорбление жертв геноцида. Это еще и знак опасной и самоубийственной сле-
поты... Мыслительные процессы, которые по своей собственной внутренней логике
могут привести к проектам геноцида, и технические ресурсы, позволяющие осу-
ществление таких проектов, как оказалось, не только полностью совместимы с со-
временной цивилизацией, но также обусловлены, созданы и обеспечены ею. Холо-
кост не просто не избежал столкновения с социальными нормами и институтами
современности. Именно эти нормы и институты сделали холокост реальным. Без со-
временной цивилизации и ее важнейших ключевых достижений не было бы холоко-
ста» [Бауман 2010, 10, 111].
Переход к междисциплинарным и трансдисциплинарным исследованиям имел для
социальных наук очень серьезные последствия. Во-первых, обострилось противосто-
яние социологии и социальных наук. Дело в том, что многие социологи пытаются
сохранить обособление своей дисциплины от социальных наук, сохранить за социо-
логией специфический предмет изучения (например, общество или социальные ин-
ституты), они предлагают придерживаться в социологии стратегии построения гомо-
генной онтологии, напоминающей онтологию в естественных науках. В этой связи
характерна полемика с вашим покорным слугой известного российского социолога
А.В. Тихонова. «Есть у меня, – пишет он, – критическое замечание и в адрес пони-
мания социологии со стороны В.М. Розина. Он, например, и в споре с Давыдовым, и
в своей последней монографии говорит о социальных теориях как о синониме со-
циологических теорий. На мой взгляд, это чисто философски-методологическая аб-
берация сознания относительно сущности социального и социологического знания.
В социологии мы видим, что это две большие разницы, но для философов это не так.
Мы, например, объясняем студентам на первом курсе социологического факультета,
что такое “социологическое воображение” по Р. Миллсу, как визуально, в быту со-
циологические факты отделяются от социальных, а заодно и то, что ряд так называе-
мых социологических теорий (экзогетических, типа “Структура социального действия”
Т.Парсонса, “Капитализм и современная социологическая теория” Э. Гидденса, “Объ-
ект и социальна теория” Н. Смелзера, а также знаменитая четырехтомная “Теоретиче-
ская логика и социология” Дж. Александра не относится у нас к социологическим ра-
ботам. “Они, – как пишет П. Штомпка, – оставаясь без политических и обществен-
ных обязательств, становятся или рискуют стать экзотерическим, элитным и эксцен-
трическим интересом маргинальных ученых. Я бы не рекомендовал их студентам”»
[Тихонов 2017, 245]. Другими словами, Тихонов отлучает от социологии не только
социальных философов, но и социальных ученых, работающих в рамках транс-
дисциплинарного подхода. Правда, когда я читал интересную книгу Тихонова «Со-
циология управления» (М., 2007), то воспринимал его самого не как социолога, а как
социального ученого и методолога в социологии.
Во-вторых, указанный переход привел к размыванию (если не потере) предмета
социологии. Очень точно об этом говорит З. Бауман. В книге «Мыслить социологи-
чески» он, анализируя, что изучают другие социальные науки, т.е . их «компетенции»,
приходит к выводу, что «социология является остаточной дисциплиной, пробавляю-
щейся тем, что остается вне поля зрения других социальных дисциплин» [Бауман
1996, 10]. В целом развитие социальных наук привело к такому пониманию социаль-
ной реальности, которое в настоящее время характеризуется категориями сложности
и частичной неопределенности. Возьмем для примера работы Ф. Броделя, И. Валлер-
стайна, Й. Шумпетера, Дж. Ритцера. Они показывают, что социальность включает в
себя самые разные процессы и планы – экономические, институциональные, поли-
тические, психологические, антропологические, географические, наконец, собственно
50
социологические, причем я перечислил только главные аспекты рассматриваемой
этими авторами социальной реальности. С одной стороны, становится трудно, прак-
тически невозможно понять, как устроена социальность, настолько она выглядит
сложной, с другой – социальная реальность, как в каледоскопе все время поворачи-
вается своими разными сторонами и узорами, причем, сообразить, каким образом
они между собой связаны (и связаны ли вообще), практически невозможно.
В-третьих, переход в социальных науках к междисциплинарным и трансдисци-
плинарным исследованиям привел к разрыву отношения «наука – практика». Спра-
шивается, какой тип практики соответствует трансдисциплинарным исследованиям,
где понадобятся полученные в них знания и схемы: в социальной инженерии, гума-
нитарных практиках, в современной технологии, и там и там? Если, например,
Маркс не скрывал, какой тип практики приведет к приходу социализма (это револю-
ция и революционные преобразования как варианты социальной инженерии), то со-
временные социальные мыслители предпочитают вопрос о типе и характере социаль-
ного действия обходить стороной. И вовсе не потому, что они что-то скрывают,
а потому, что не знают, каким образом можно управлять столь сложными социаль-
ными явлениями, на многие процессы и механизмы которых человек принципиально
не может воздействовать.
Например, в работе «Актуальность холокоста» Бауман ставит своей задачей выявить
уроки холокоста, очевидно, чтобы сделать невозможным его повторение. К числу уроков
холокоста у Баумана относятся: слабость демократии; сосредоточение власти в руках од-
ного человека или узкой элиты; контроль за обществом со стороны государства; опас-
ность утопических, разделяемых элитой или обществом картин и концепций; создание
эффективной социальной машины и институтов подавления и уничтожения евреев и
других нежелательных элементов; перерождение в перечисленных условиях нравственно-
сти граждан и ряд других моментов. Спрашивается теперь, что с этим можно сделать, что
Бауман предлагает? Может быть, развитие демократии, блокирование утопических кар-
тин, контроль за государством, подавление элит, преследующих опасные для общества и
человека цели, создание новых альтернативных социальных институтов, не допускающих
все указанные реалии? Как реалист Бауман понимает, что у общества в настоящее время
нет средств и социальных технологий, чтобы изменить все перечисленное, что он описал
нормальные социальные процессы и структуры, которые постоянно воспроизводятся,
причем иногда даже в таких предельных формах, которые приводят к холокосту или
сходным с ним явлениям.
Рассмотрим теперь, каким образом рассмотренная здесь ситуация повлияла на
концепции и стратегии социального действия. Первое решение представляет собой
концепцию прямого отказа от социальных преобразований в пользу даже не реформ,
а всего лишь правильного описания и истолкования социальной реальности. Яркий
пример – концепция З. Баумана, слабее эта позиция выражена в теории Латура.
С точки зрения Латура, социолог должен своими хорошими отчетами способствовать,
помогать рождению коллектива (а становится коллектив сам). «Мы, – пишет Ла-
тур, – хотим быть более беспристрастными, чем это возможно в рамках проекта со-
циальной инженерии традиционной социологии, так как заходим гораздо дальше в
исследовании разногласий (речь идет, как бы сказал М. Бахтин, о предоставлении
голоса самим акторам.
–
В.Р.) . Но мы хотим и большего участия... благодаря которо-
му можно помогать по частям собирать коллектив, предоставляя ему арену, форум,
пространство, представление благодаря скромнейшему посредничеству рискованного
отчета – обычно это хрупкое вмешательство, состоящее только в тексте... Хорошая
социология должна быть хорошо написана; если нет, то через нее не откроется соци-
альное» [Латур 2014, 175, 352].
А вот четкие положения Баумана. «Социология, – пишет он, – это расширенный
комментарий опыта обыденной жизни, интерпретация, основывающаяся на других
интерпретациях и, в свою очередь, питающая их. Она не конкурирует, но соединяет
свои силы с другими частными дисциплинами, занимающимися интерпретацией че-
ловеческого опыта (литература, искусство, философия). Социологическое мышление,
51
по меньшей мере, подрывает веру в исключительность и полноту какой бы то ни бы-
ло интерпретации. Оно привлекает внимание к множественности опытов и форм
жизни, показывает каждую из них как целостность саму по себе, как мир со своей
собственной логикой и в то же время разоблачает всю фальшь ее самодовольства и
якобы явной самодостаточности. Социологическое мышление не затрудняет, а спо-
собствует потоку переживаний и их обмену. И если говорить прямо, она прибавляет
неопределенности, поскольку подрывает усилия “заморозить поток” и захлопнуть все
входы и выходы. С точки зрения власти, озабоченной устано вленным ею порядком,
социология является частью хаотичного мира, скорее проблемой, чем решением.
Наилучшая служба, которую социология может сослужить людям в их повседневной
жизни и сосуществовании, – это стимулирование взаимного понимания и терпимо-
сти как постоянных условий общей свободы... Социологическое мышление помогает
делу свободы» [Бауман, 1996, 240–242].
Мы видим, что, по Бауману, хорошая интерпретация социальной реальности –
это создание условий для расширения свободы. Но ведь понятно, что саму свободу
можно понимать и истолковать по-разному, свобода свободе рознь. Кроме того, на
человека в современном мире, где созданы мощные СМИ, оказывают влияние самые
разные истолкования социальной реальности, среди которых интерпретации, работа-
ющие на свободу, часто выглядят не очень убедительными.
Другой вариант концепции социального действия, реагирующей на ситуацию слож-
ности и частичной неопределенности, представляет собой разработки – организацион-
ного шаблона (Scrum) для реализации проектов в соответствии с ценностями и прин-
ципами гибкого управления в области IT. «Scrum, – разъясняет М.Цепков, – позволяет
достичь успеха в разработке даже не слишком квалифицированной команде за счет
внутренней самоорганизации и коммуникации. Или, как минимум, узнать о суще-
ственных проблемах проекта на ранних стадиях, а не ближе к завершению... признано,
что тщательное планирование результата и проектирование путей его достижения не-
возможно. Традиционный путь проекта был заменен короткими (1–4 недели) итераци-
ями, в каждой из которых создается законченный продукт. Этот продукт демонстриру-
ется разработчиками и оценивается пользователями и заказчиками проекта, что позво-
ляет скорректировать траекторию движения, направить его в нужном направлении,
быстро устранить ошибки проектирования. Ошибок нельзя избежать: опыт показывает,
что все проекты являются лишь гипотезами, которые следует проверить как можно
быстрее... Scrum решил проблему невозможности организации процесса, нормирован-
ного регламентами в условиях сильно вариативных проектов и задач, а также проблему
недостатка компетентных специалистов при быстром развития технологий. Решение –
объединение всех ключевых специалистов в одну кроссфункциональную команду, которая
обладает достаточными компетенциями для выполнения всех необходимых работ, а если
этих компетенций оказывается недостаточно – члены команды коллективно ищут ре-
шения проблем и обычно находят» [Цепков 2018].
Идея объединения специалистов в одну кроссфункциональную команду несколь-
ко напоминает концепцию построения будущего на основе социальной технологии
«форсайт». Разработка этой технологии основывается на двух предположениях. Во -
первых, ее последователи считают, что можно создать экспертное сообщество, кото-
рое может выработать согласованное представление о будущем. Во-вторых, они
предполагают, что если члены этого сообщества, да и все остальные участники, будут
жить и действовать, под влиянием выработанного образа будущего, то последнее
именно такое и возникнет. Однако оказалось, что в России практически невозможно
сформировать экспертное сообщество, которое бы выработало согласованное реше-
ние о будущем. «В России, – честно констатируют авторы одного из интересных ан-
тропологических проектов форсайт,
–
проблема экспертного сообщества по-
прежнему остается нерешенной, хотя и в нашей стране проект долгосрочного прог-
нозирования уже развивается на протяжении 5 лет. Для российского экспертного
сообщества характерно принятие решений в рамках узких групп влияния, а не в про-
странстве широкой коммуникативной платформы, количество устойчивых площадок,
52
центров прогнозирования явно недостаточно. Причины этого можно найти и в мен-
тальности российского экспертного сообщества и в низком уровне инновационной
активности российских компаний, однако кажется справедливым предположить, что
в России принципиально по-иному выстроены взаимоотношения между научно-
технологическим, государственным и бизнес-секторами. Россия в силу своей нацио-
нальной, государственной, политической экономической специфики не является
столь гомогенным обществом с высоким кредитом доверия государству, как Япония,
кардинально отличается от Британии, где малый бизнес не так далек от государства,
как в нашей стране, и не интегрирована в масштабное единство Европейского про-
странства, как Германия. Инициатива государства в деле долгосрочного прогнозиро-
вания – это то, с чего начинала каждая из этих стран, однако в дальнейшем каждая
из них избрала свое направление инновационной деятельности, и логично предпола-
гать, что российский форсайт также должен быть методологически и организационно
адаптирован под российский контекст. В противном случае разрыв между теорией и
практикой, “верхами” и “низами”, где, по сути, и реализуются рекомендации – ре-
зультаты форсайта, аннулирует многолетнюю работу и финансовые инвестиции
в сбор, анализ и описание возможных сценариев будущего нашей страны» [Новые
идентичности человека 2013, 79]. Кроме того, по мере движения к будущему много
чего может произойти, что не будет укладываться в выработанную картину будущего.
Но все же есть решение, на мой взгляд, вселяющее надежду. Речь идет о социальном
действии, которое опирается, с одной стороны, на разработки отечественной методоло-
гии, с другой – на социальное проектирование, с третьей стороны, на идеи социального
управления [Голубкова, Розин 2010]. Я буду это решение иллюстрировать материалом
проекта «Донор» (Проект «Развитие массового безвозмездного донорства крови» [Розин,
Малявина, Грязнова, 2010]), который довольно подробно анализировал.
Начинаются работы в рамках данного типа социального действия (будем условно
называть его «социогуманитарным проектированием») именно в поле частичной неопре-
деленности и сложности в плане понимания социальной реальности. Действительно,
в нашей стране в самом конце прошлого века сокращалось число доноров (дойдя к
2007 году до 11 человек на 1000 донороспособного населения, в то время как в Европе –
40 ч., а в США – 60 ч. на 1000). Была сформулирована задача реформировании службы
крови, причем в ее решении были заинтересованы самые разные субъекты – врачи, ми-
нистерство здравоохранения, правительство, НКО, общественность. Необходимым усло-
вием решения этой задачи выступают знания особенностей явления (донорства), которое
должно было подлежать реформированию. Но что такое донорство, не просто как добро-
вольная сдача крови, а как предмет реформирования? Не входит ли сюда страх доноров
заразиться чем-нибудь на старом оборудовании станций переливания крови, или забве-
ния донором смысла того, что он делает, как спасения других людей. Однако для замены
устаревшего оборудования нужны большие финансовые вложения; для возобновления
высокого смысла и понимания донорства, нужно, во-первых, преодолеть существующее
отрицательное отношение к донорству, во-вторых – представить его для потенциальных
доноров в привлекательном виде. Но для решения этих задач, необходим ряд действий,
а те, в свою очередь, требуют свои. Таким образом, для решения исходной проблемы
необходимо выделить и проанализировать целый ряд социальных явлений и процессов,
которые затем нужно сорганизовать и реализовать в социальной действительности.
В плане социогуманитарного проектирования речь идет о том, что нужно было определить
основные процессы, подлежащие формированию. Эти процессы образовывали довольно
сложную социальную реальность, причем многие из них были не исследованы.
Решение подобных задач в социогуманитарном проектировании осуществляются на
трех этапах. На первом сложность и неопределенность социальной реальности преодо-
левается за счет проблематизации, ситуационного анализа, использования системного
и синергетического подходов, построения методологами и исследователями схем, зада-
ющих объект проектирования. Задача этого этапа и состоит именно в построении
схемы объекта социогуманитарного проектирования. Конкретно в проекте «Донор» про-
блематизация и ситуационный анализ позволили выйти на гипотезу, что в данном случае
53
объектом проектирования выступает новый социальный институт, который необходимо
рассматривать трояко: в плане становления, как институт среди других институтов,
а также как социальный порядок, включающий такие элементы как миссия, процедуры,
материальные и духовные опоры. Кроме того, была построена схема донорства как ново-
го социального института, на основе которой проводились социогуманитарные исследо-
вания и разворачивалось социогуманитарное проектирование.
В плане преодоления сложности и частичной неопределенности особо стоит отме-
тить роль постановки проблем. Проблемы – это не только затруднения в мысли, тре-
бующие решения, причем нам неизвестны методы решения. Проблема – это также и
особое представление ситуации познания (как правило, проблемы формулируются
в коммуникации как ответ на решения, с которыми исследователь не согласен),
и установка на новую мысль, и личностное истолкование как этой ситуации, так и ее
разрешения. Все эти характеристики проблемы работают как эффективное средство
выбора в сложном материале, как первые шаги расколдовывания интересующего ис-
следователя и проектировщика феномена.
На втором этапе сложность и неопределенность социальных явлений, заданных
схемой объекта проектирования, преодолевается за счет социогуманитарного иссле-
довании и практического формирования основных единиц проектируемого объекта и
связей между ними. Если иметь в виду наш кейс, то сравнение схемы института до-
норства с реальным положением дел в этой области показало, что многие элементы,
заданные схемой нового института, или отсутствуют, или не удовлетворяют проект-
ным требованиям. Действительно, нужно было создавать новый институт. При этом,
как удалось понять в дальнейшем, процесс институционализации включал в себя соб-
ственно построение социального института и процессы самоорганизации субъектов и
акторов нового института.
Схему института донорства еще нужно было наполнить содержанием, причем со-
держанием реальным, которое можно было реализовать в поведении людей.
Как известно, управление – это работа, связанная не только с организацией рабочего
процесса (производства в широком понимании), но и с людьми. В последнем случае она
в значительной степени сводится к организации, обучению и нужной управленцу настрой-
ке сознания специалистов и пользователей. Все эти три вида управленческих воздействий
после соответствующих исследований и были реализованы в проекте «Донор». Напри-
мер, прошли переподготовку и обучение работники станций переливания крови и кли-
ник, существенная работа была проведена с чиновниками органов власти, чтобы сфор-
мировать у них правильное отношение к донорству.
Два слова о процессах самоорганизации – второго звена процесса институциона-
лизации. Их можно определить, как встречную деятельность субъектов и акторов,
происходящую в ответ на построение социального института. Это, во -первых, под-
ключение к процессу становления донорства других институтов (они начали активно
поставлять новых доноров) и развертывание активности групп и сообществ самих до-
норов. Выяснилось, что многие россияне стремятся к осмысленной социальной дея-
тельности, готовы к социальному служению. Именно этим, например, можно объяс-
нить широкое участие в становлении донорства волонтеров. Многие из них по раз-
ным причинам сами не могли стать донорами, но, тем не менее, помогали пропаган-
дировать и организовывать сдачу крови.
Третий этап социогуманитарного проектирования представляет реализацию зна-
ний и проектных разработок, созданных на предыдущем этапе. Социальная жизнь в
одном из своих сущностных горизонтов – это, по Канту, вещь в себе; простой или
сложной она выглядит только в наших схемах и теориях. Может возникнуть вопрос,
почему для подтверждения особенностей социогуманитарного проектирования я взял
проект «Донор». Во-первых, потому, что он был успешным: люди пошли сдавать
кровь, показатели добровольного отбора крови приблизились к мировым. Во-вторых,
и это, пожалуй, даже более важно, проект «Донор» был выполнен с использованием
самых передовых социальных технологий, включая, как мы отмечали, разработк и
отечественной методологии (школы Московского методологического кружка).
54
Анализируя этот проект, я отмечал, что он был успешным еще и потому, что на его
разработку были отпущены хорошие средства, что этот проект поддерживал лично Ми-
нистр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова (министр с
2007 по 2012 гг.), что удалось собрать квалифицированную команду социальных проек-
тировщиков. Понятно, что перечисленные условия были не стандартными. Однако не
должны ли подобные большие проекты всегда обеспечиваться именно такими условия-
ми, и тогда, возможно, проблема сложности и неопределенности нашей социальной ре-
альности во многом перестанет быть столь сложной и неразрешимой.
А в плане познания сложность социальных явлений уменьшилась бы на порядок в
том случае, если бы авторы социальных знаний отдавали себе отчет и демонстриро-
вали, на какие вызовы времени и проблемы они отвечали, создавая свои теории,
а также какой тип социального действия они имели в виду, желая улучшить жизнь
современного человека.
Ссылки – References in Russian
Бауман 1996 – Бауман З. Мыслить социологически / Пер. с англ. под ред. А . Ф . Филиппова.
М.: Аспект-Пресс, 1996.
Бауман 2010 – Бауман З. Актуальность холокоста. М.: Европа, 2010.
Голубкова, Розин 2010 – Голубкова Л.Г., Розин В.М. Философия управления. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2010.
Латур 2014 – Латур Б. Пересборка социального: введ ение в акторно -сетевую теорию. Пер. с
англ. И. По лонской. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
Новые идентичности человека, 2013 – Новые идентичности человека. / Под ред. С.А. Смирнова.
Новосибирск: НГУЭУ, 2013. С. 216–241.
Розин, Малявин а, Грязнова 2010 – Розин В.М., Малявина С.А ., Грязнова Ю.Б . Социальный
проект как один из инструменто в управления социальными процессами (на материале проек та
«Донор») // Философия управления: проблемы и стратегии. М.: ИФРАН, 2010. C . 169–195.
Розин 2016 – Розин В.М. Обсуждение феномен а тран сдисци плинарности – событие новой
научной революции // Вопросы философии. 2016. No 5. С. 106–117 .
Тихонов 2017 – Тихонов А.В. Зачем спор, если он не ведет к и стине? // Давыдов А.П ., Розин
В.М. Спор о медитации: Раскол в Ро ссии и медитация как стратегия его преодоления. М.: ЛЕ-
НАНД, 2017. С . 235 –246.
Цепков 2018 web – Цепков М. Agile и бирюзовые организаци и – ответ мен еджмен та на вы-
зовы новой промышленной революции. Октябрь. 2018. http://mtsepkov.org/AgileTealO rg-PIRbook
References
Bauman, Zygmunt (1990) Thinking sociologically, Basil Blackwell, Oxford (Russian Translation 1996).
Bauman, Zygmunt (1989) Modernity and the Holocaust, Cornell University Press, N.Y. (Russian
Translation 2010).
Golubkova, Liudmila, Rozin, Vadim (2010) Managem ent philosophy, Perm State Techni cal Univer-
sity, Yoshkar-Ola (in Russian).
Latou r, Bruno (2005) Reassembling the Social: An Introduction to A ctor-Network Theo ry, Oxford Uni-
versity Press (Russian Translation) .
Novye identichnosti cheloveka (2013), ed. S.A. Smirnov, NSUEA, Novosibirsk, pp. 216–241 (in Russian)
Rozin, Vadim, Malyavi na, Sof'ya, Gry aznova, Yulya (2010) ‘ Social project as one of the tools for
managing social processes (on the materi al of the “Do nor” project)’, Management Philosophy: Problems
and Strategies, IFRAN, Moskow, pp.169–195 (in Russian).
Rozin, Vadim (2016) ‘Discussion of the phenomenon of transdisciplinarity – an event of a new sci-
entific revolution’, Voprosy Filosofii, 2016, N 5, pp. 106–117 (in Russian).
Tikhonov, Aleksandr (2017) ‘Why dispute if it does not lead to truth?’, Davydov A.P ., Rozin V.M.
The debate about meditation: Splitting in Russia and m editation as a strat egy to overcome it, LENAND,
Moskow, pp. 235 –246 (in Russian).
Tsepkov, Maksim (2018) web Agile and turquoise organizations are the management's response to the chal-
lenges of the new industrial revolution, October. 2018. http://mtsepkov.org/AgileTealOrg-PIRbook (in Russian).
Сведения об авторе
РОЗИН Вадим Маркович –
доктор философских наук, профессор,
главный нау чный со трудник Институ та
философии РАН
Author’s information
ROZIN Vadim M. –
DSc in Philosophy, Professor, Chief Res earch-
er of the Institute of Philosophy, the Russian
Academy of Sciences
55
О совместимости ценностей счастья и свободы
© 2019 г.
Н.Ф . Рахманкулова
Faculty of Philosophy, Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова, философский факультет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект,
д. 27, корп. 4.
E-mail: nrahmankul@gmail.com
Поступила 17.02.2019
Статья сосредоточена на проблематике совместимости свободы и счастья,
рассматриваемой с использованием аксиологически-персоналистского
подхода и с привлечением материалов истории философии, а также
проектов по глобальному изучению ценностей. Автор показывает, что
существенные расхождения в позициях по данному вопросу в значитель-
ной мере определяются степенью содержательной и ценностной значи-
мости каждой из этих идей для личности. Так, широко применяемая в
современных междисциплинарных исследованиях эвдемонистическая
трактовка счастья (в аристотелевской традиции) предполагает его гармо-
ничную сочетаемость с личной свободой. Анализ текстов Аристотеля,
Канта, Локка, Достоевского и ряда других мыслителей свидетельствует о
том, что, несмотря на концептуальные разногласия, все они, тем или
иным образом, признают наличие закономерной положительной корре-
ляции между уровнями свободы, счастья и личного достоинства. Эти три
идеи, развернутые в их ценностной и содержательной полноте, соединя-
ются и реализуются в таком состоянии жизни, когда человек доволен ее
общим течением, поскольку она, благодаря его собственным творческим
усилиям и под его руководством, направляется к целям его совершен-
ствования и блага других людей, максимально приближаясь к его идеалу
жизни.
Ключевые слова: счастье, свобода, личность, ценности, совместимость,
история философии, глобальные исследования, эвдемонизм, идеал
жизни.
DOI: 10.31857/S004287440007162-3
Цитирование: Рахманкулова Н.Ф . О совместимости ценностей счастья
и свободы // Вопросы философии. 2019. No 10. C. 55 –65.
56
About the Compatibility of the Values of Happiness and Freedom
© 2019 г.
Nelli F. Rakhmankulova
Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av. GSP-1, Moscow, 119991,
Russian Federation.
E-mail: nrahmankul@gmail.com
Received 17.02.2019
The article focuses on the issues of the compatibility of freedom and happiness,
which is considered using an axiological-personalistic approach and involving
materials from the history of philosophy and current projects on the global val-
ue survey. The author shows that the significant discrepancies of opinions on
the matter are, to a large extent, determined by the degree of content and value
of each of these ideas for the person. Thus, the eudemonistic interpretation of
happiness (according to the Aristotelian tradition) widely used in modern inter-
disciplinary studies implies its harmonious compatibility with personal freedom.
The analysis of the texts of Aristotle, Kant, Locke, Dostoevsky and a number of
other thinkers demonstrates that, despite the conceptual differences, they all
somehow recognize the natural positive correlation between levels of freedom,
happiness and personal dignity. These three ideas, their value and meaning po-
tential being unfolded, are joined together and realized in such a state of life,
when one is content with its overall flow, because it is directed by one’s creative
efforts and under one’s guidance to the objectives of one’s own perfection and
the good of others, getting as close as possible to one’s ideal of life. This kind of
understanding is confirmed and concretized in the course of modern long-term
research of the dynamics of value consciousness and factors of growth of well-
being in the world.
Key words: happiness, freedom, personality, values, compatibility, history of
philosophy, global research, eudemonism, ideal of life.
DOI: 10.31857/S004287440007162-3
Citation: Rakhmankulva Nelli F. (2019) ‘About the Compatibility of the Values
of Happiness and Freedom’, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 55 –65.
Совпадение линии жизни с линией идеала есть
счастье, ... усилие для этого совпадения есть дело жизни
Л.Н . Толстой
Вопросы о том, как связаны счастье и свобода, совместимы ли они, может ли
быть счастье без свободы, находятся в круге важнейших проблем чело веческого су-
ществования и его философского осмысления. Высокая значимость этих идей обу-
словлена, прежде всего, тем, что они, являясь мировоззренческими ориентирами,
имеют очень широкое, подвижное и весомое ценностно-смысловое содержание. Бо-
лее или менее полное понятийное выражение этого содержания остается сложной
задачей для теоретической мысли, решение которой имеет немалое практическое
значение. Люди определяют свои жизненные приоритеты и цели в зависимости от
восприятия и понимания того, что такое счастье, насколько оно значимо и достижи-
мо, как связано с ценностью личности и ее свободой.
В наше время эта проблематика становится особенно актуальной. Со второй по-
ловины XX века происходят существенные трансформации в образе жизни и в цен-
ностных предпочтениях большинства жителей планеты. Общая направленность этих
трансформаций, судя по результатам исследований, такова: ценности, отвечающие
57
потребностям в личностном развитии, полноценной самореализации, благополучии в
целом, выдвигаются в ряд приоритетных по мере роста уровня материальной обеспе-
ченности и безопасности. Процесс идет в сторону осуществления гуманистического
принципа «общество для человека и человек для общества» [Субботина 2018, 13].
В XXI веке он получает новый импульс, что находит выражение в резолюции Генас-
самблеи ООН (от 19.07.2011) «Счастье: целостный подход к развитию»
[Happiness...2011 web]. В ней международному сообществу предлагается рассматри-
вать рост счастья в качестве общей социально-политической цели, а его уровень –
в качестве интегративного критерия развитости народов. Данные положения продви-
гаются в рамках реализации программ ООН по достижению целей устойчивого раз-
вития, включающих в себя «преодоление бедности, защиту планеты и обеспечение
процветания всех» [Sustainable Development...2015 web].
В ответ на эти преобразования, в сфере социогуманитарного познания усиливает-
ся интерес к изучению ценностных мотиваций, а также факторов «положительной
направленности», подъему уже достигнутого уровня благополучия. Оно выступает
предметом междисциплинарных исследований, примером чему может служить Окс-
фордский справочник по вопросам государственной политики и благополучия
(см. [Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy 2016]). Влиятельным направле-
нием академической психологии за последние полвека стала позитивная психология,
сосредоточенная на вопросах счастья и процветания (см. [Селигман 2013]). В ее рус-
ле уже более 30 лет разрабатывается под руководством Э. Диси и Р. Райана фунда-
ментальная «Теория самодетерминации», согласно которой самодетерминация лич-
ности, ее автономия, предполагающая свободу выбора, является важнейшим факто-
ром психического благополучия (см. [Ryan, Deci 2017]).
Вместе с этим разворачивается изучение индивидуальных и общественных ценно-
стей в их динамике. Использование современного информационно-технологического
инструментария, синтезирующего достижения различных наук, а также имеющаяся
инфраструктура международного сотрудничества, предоставляют беспрецедентные
возможности для проведения долговременных глобальных исследований ценностных
ориентаций людей в связи с условиями их жизни. Наиболее показательными в этом
отношении мне представляются два действующий проекта – «Всемирный обзор цен-
ностей» – ВОЦ (с 1981 г.) и проект, в рамках которого готовятся ежегодные «Все-
мирные доклады о счастье» – ВДС (с 2011 г.). ВОЦ, как отмечено на официальном
сайте проекта [World Values Survey web], является глобальным исследованием, кото-
рое ведётся «волнами» (с 2017 г. идет 7-я волна), сейчас охватывает около 100 стран
мира с 90% населения Земли. Полученные данные широко используются учеными,
журналистами и политиками. В частности, они учитываются при реализации про-
граммы устойчивого развития ООН. Недавно вышел обобщающий труд одного из
основателей и руководителей проекта Р. Инглхарта [Инглхарт 2018]. ВДС – междис-
циплинарный мегапроект по глобальному исследованию счастья, координируемый
подразделением ООН «Сеть по решению проблем устойчивого развития». Всемирный
доклад о счастье 2018 охватывает материал по 156 странам мира [Helliwell, Layard,
Sachs (eds.) 2018 web]
Кратко рассмотрим, о чем, в самом общем виде, свидетельствуют большие данные
упомянутых выше проектов по вопросу соотношения ценностей счастья, свободы и
личности в мировоззрении современных людей. Отметим, что важнейший материал
для исследований по этим параметрам дают глобальные опросы, при подготовке и
обработке которых ученые опираются на философское понимание ценностей. В ходе
опросов выясняется, как респонденты воспринимают и оценивают свою жизнь:
насколько удовлетворены ее течением, чувствуют себя счастливыми, насколько их
жизнь соответствует идеалу – представлению о наилучшей жизни, насколько они
контролируют ход своей жизни и чувствуют себя свободными.
Ученые, ведущие ВОЦ, приходят к выводу, что на протяжении всего периода
наблюдений в мире доминирует следующая тенденция: растёт уровень счастья, во все
большей мере связанный с ростом свободы и ценности личностной самореализации.
58
Р. Инглхарт утверждает, что «основная причина, по которой изменения последних
30 лет привели к росту уровня счастья, заключается в расширении свободы выбора»
[Инглхарт 2018, 233]. Объясняется это тем, что, в ходе подъема постиндустриального
общества и становления общества знания, «экономическое развитие, демократизация
и распространение социальной толерантности достигли таких размеров, что люди
стали ощущать, что у них есть свободный выбор, а это, в свою очередь, привело к
повышению уровня счастья в мире» [World Values Survey web].
Согласно представленным на сайте проекта теоретическим выкладкам, в мире
происходит трансформация порядка ценностей: приоритетными становятся «постма-
териальные ценности самовыражения», а преобладавшие ранее «ценности выжива-
ния» отступают на второй план. Приверженность ценностям выживания характеризу-
ется тем, что безопасность ставится выше свободы, преобладают нетерпимость, воз-
держание от политической активности, недоверие чужим и слабое чувство счастья.
Ценности самовыражения предполагают противоположные позиции по всем этим
пунктам. Реализуя ценности самовыражения, люди делают свою жизнь более счаст-
ливой по сравнению с той, в которой главенствуют ценности выживания. Перемены
в ценностных ориентациях показывают, что по мере совершенствования социума
растет ценность развития личности и свободы как фактора счастья. В странах, до-
стигших определенного уровня материального благополучия и безопасности, где удо-
влетворены базовые потребности людей, увеличение дохода оказывает все менее
ощутимое влияние на рост счастья, а вот свобода выбора и самовыражение «играют
все большую роль в формировании их благополучия» [Инглхарт 2018, 233].
Материалы ВДС также демонстрируют отчетливую положительную корреляцию
между индикаторами счастья и свободы. Исследователи выделяют шесть ключевых
факторов, усиление которых ведет к устойчивому росту субъективного благополучия,
повышает оценку человеком своей жизни по шкале счастья. В их число, наряду с
ВВП на душу населения, социальной поддержкой, продолжительностью здоровой
жизни, щедростью и свободой от коррупции, входит свобода жизненного выбора,
являющаяся существенным компонентом свободы как таковой. Эти шесть перемен-
ных, в совокупности, «объясняют почти три четверти вариаций в национальных го-
довых средних показателях» уровня счастья в рейтинге по странам [Helliwell, Layard,
Sachs (eds.) 2018 web].
ВОЦ выявляет также сбои в продвижении гуманизации. Тенденция к обозначен-
ной выше смене ценностных предпочтений, хотя и представляет на большом отрезке
времени (с начала 1980-х гг. по настоящее время) общий вектор движения, но не
является единственной. Для многих стран и регионов ценности выживания остаются
влиятельными, что делает поворот к ценностям самовыражения затруднительным.
Больше того, в последнее десятилетие усиливается так называемый «культурный от-
кат», выразившийся в ослаблении позиций ценностей самовыражения, в том числе,
и свободы. Этот процесс затронул даже США и Западную Европу, где заметно ожив-
ление ксенофобии, авторитаризма и популизма. Главную причину отката Р. Инглхарт
усматривает в обострении социального неравенства, вызванного быстрым подъемом
экономики общества знания и переходом его на стадию общества искусственного
интеллекта. Люди традиционных профессий вытесняются с рынка труда, идет сверх-
концентрация ресурсов в руках лидеров экономики знаний. Все это усугубляется
массовым притоком мигрантов в благополучные страны. Как следствие, уменьшается
социальная защищенность больших групп населения и растет привлекательность
ценностей выживания. Объективно, возврат к этим ценностям противоречит интере-
сам подавляющего большинства людей, препятствует достижению целей развития и
процветания. Положительное решение Р. Инглхарт видит в том, чтобы общество,
с помощью своих политических институтов, занялось перераспределением ресурсов в
сторону достижения большего равенства и справедливости (благо, что эти ресурсы
небывало велики и продолжают расти), а также созданием новых, содействующих
улучшению качества жизни, рабочих мест [Инглхарт 2018, 240–294]. В более общем
плане, мне представляется, что речь идет о необходимости осознания очередного
59
вызова истории и направлении усилий на подчинение гуманистическим целям воз-
росшего цивилизационного потенциала, расширяющего возможности свободы.
Таким образом, большие данные по изучению ценностей в мире свидетельствуют
о наличии существенной положительной связи между счастьем, свободой и развити-
ем личности. Значимость того, что оценивается как счастье и свобода, а также их
значимость друг для друга варьируется в зависимости от уровня и качественного
своеобразия личного и социального развития. За время ведения глобальных регуляр-
ных исследований ценностей наблюдается преобладание тенденции к росту ценно-
стей счастья и свободы. Однако продолжают происходить, временами усиливаясь,
и процессы противоположной направленности, характеризующиеся снижением цен-
ностей свободы, личностного развития, уменьшением счастья. Такие «откаты» за-
трудняют продвижение человеческого сообщества по пути гуманизации и ставят пе-
ред ним новые задачи, в том числе и теоретические.
Определенный вклад в теоретическую разработку актуальной ценностной пробле-
матики способно, на мой взгляд, внести философское исследование взаимосвязи
идей свободы и счастья, проводимое с обращением к истории философии и приме-
нением аксиологически-персоналистского подхода. Он способствует раскрытию лич-
ностной и общественной значимости свободы и счастья, их ценностного и содержа-
тельного наполнения, направленности и факторов их динамики. Особенно важным
представляется выяснение оснований уязвимости ценности свободы, колебаний ее
ценностного уровня. В моих предыдущих работах ценности уже рассматривались
с помощью такого подхода (см., напр., [Рахманкулова 2016]). Взаимосвязь счастья и
свободы при этом имелась в виду, но не была главной темой. Насколько мне извест-
но, не существует философских работ, специально посвященных тому, чтобы объ-
единить проблематику счастья и свободы в данном ракурсе. Предлагаемое ниже ис-
следование, надеюсь, в какой-то мере поможет восполнить этот пробел.
Обсуждение проблем счастья и свободы идет с тех пор, как появилась классиче-
ская европейская философия. Чтобы вступить в поле рассмотрения в интересующем
нас ключе, надо сказать, что здесь имеется в виду под счастьем и свободой в самом
первом приближении. Счастье есть качество жизни человека, в которой он реализует
лучшие возможности, свои и условий своего существования, и доволен ее движением
в целом. Свобода – это состояние жизни человека, характеризующееся тем, что он
сам, собственными усилиями достигает того, что считает благом. Философы, соотно-
ся эти идеи, в зависимости от определения их содержания, либо представля ли их
в целом гармонично взаимосвязанными (как это делал Аристотель), либо обнаружи-
вали существенные расхождения между ними (как Кант).
Главная сложность состоит в том, что есть различные понимания счастья и свобо-
ды, порождающие разногласия по вопросу об их совместимости. Поскольку речь идет
об идеях мировоззрения, во многом определяющих ценностные ориентиры личности,
для выявления связи между счастьем и свободы считаю целесообразным сосредото-
читься на рассмотрении их видов по уровню содержательной и ценностной напол-
ненности, значимости для достоинства личности. Аксиологически-персоналистский
подход дает возможность рассматривать эти виды и как компоненты, и как стадии
развития счастья, свободы и самого человека – от низших, самых «лёгких», малосо-
держательных и малоценных видов счастья и свободы до высших, предельно ценных,
сложных и труднодостижимых.
Яркие и богатые смыслами образы двух противоположных, по отмеченным при-
знакам, способов жизни дала уже ранняя античная мысль в известном рассказе Про-
дика о юном Геракле на распутье (из «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта Афин-
ского). Герой выбирает между двумя дорогами жизни, на одну из которых зазывает
его Порочность, а по другой готова повести Добродетель. Первая сообщает, что дру-
зья зовут ее Счастьем, а ненавистники Порочностью. Она обещает лёгкое себялюби-
вое счастье, состоящее из жизни полной чувственных наслаждений, со свободой де-
лать что хочется, «не останавливаясь ни перед чем» [Ксенофонт 1993, 43]. Вторая
собеседница Геракла – Добродетель, напротив, обещает путь трудов, забот, опасностей и
60
подвигов, самоограничения и тяжелой ответственности. Но он приносит высокое «блажен-
ное» счастье, заслуженное разнообразными добрыми и славными деяниями. Люди, следу-
ющие Добродетели, будут испытывать радость от того, что достигли своими силами по-
хвальных целей и, благодаря достойно прожитой жизни, «любезны богам, дороги друзьям,
чтимы отечеством», а после смерти «не забытые и бесславные лежат они, а воспоминаемые
вечно цветут в песнях» [Ксенофонт 1993, 46].
Описанный в рассказе низший, порочный, вид счастья отмечен грубым гедониз-
мом, эгоизмом, потребительством, доходящим до асоциального паразитизма. Это
«легкое» счастье, состоящее из максимума чувственных удовольствий и минимума
страданий, сопрягается с низкой свободой и ответственностью: внешней отрицатель-
ной свободой – отсутствием препятствий к реализации телесных потребностей и вле-
чений индивида – и произволом. В этом случае содержательность и ценность счастья
и свободы наименьшие, достоинство личности крайне низкое, ее развитие ограниче-
но. Благо индивида, ведущего такую жизнь, достигается за счет уменьшения блага
других людей и социума в целом. Удовольствие от такой жизни неустойчивое и уз-
кое. Оно определяется возможностями удовлетворения запросов чувственности и
уязвлено общественным порицанием.
«Тяжелое» счастье, к которому склоняет Добродетель, есть качество жизни, мак-
симально приближенной к идеалу полноценного осуществления лучших человече-
ских возможностей. Такое счастье соединено со сложной внутренней и внешней по-
ложительной свободой предельно ответственного человека. Содержательность и цен-
ность счастья, свободы и личного достоинства здесь наибольшие. Счастье и свобода
одного человека благоприятны для счастья и свободы других. «Тяжелое» счастье тре-
бует добровольного самоограничения, принятия рисков, страданий и трудов ради
высоких смысложизненных целей, преодоления внутренних и внешних препятствий
к ним. Оно в полной мере недостижимо, поскольку направлено к идеалу совершен-
ства. Недаром его выбирает герой, совершивший легендарные подвиги и заслужив-
ший участь богов после смерти. Вместе с тем, чувство удовлетворенности такой жиз-
нью существенно богаче, насыщеннее положительными переживаниями. Они вклю-
чают в себя чувства собственного достоинства, исполненного долга перед со бой,
близкими людьми и сообществом, преодоления трудностей и благодеяния людям,
признания и уважения с их стороны, творческого совершенствования и другие радо-
сти, недоступные при «лёгком» счастье.
Когда две эти противоположные трактовки счастья сопоставляются с обыденным
представлением о нем, возникает вопрос, действительно ли они представляют сча-
стье. В первой оно слишком низкое и малоценное, во второй слишком трудное и
малодоступное, обремененное тяжёлой свободой. Понятно, что предъявленные выше
образы и смыслы «лёгкого» счастья и соответствующей свободы слишком одиозны,
чтобы быть общественно признанной позитивной жизненной стратегией. Они, ско-
рее, представляют гипотетические образцы наихудшего выбора, побуждающие к дви-
жению в противоположном направлении. Другое дело «тяжелое», «добродетельное»
счастье. Мысль о том, что оно является идеалом счастья, его совершенным выраже-
нием, проходит через историю европейской философии, утверждаясь уже в Аристо-
телевой этике эвдемонизма. Однако теоретическое, и тем более – практическое, при-
знание, в качестве наиболее ценного, такого счастья, необходимым образом сопря-
женного с полновесной свободой, встречается с немалыми препятствиями.
Действительно, сопоставление счастья и свободы обнаруживает не только бли-
зость, но и различие в их ценностно-целевой направленности, которое может приве-
сти к столкновению между ними. В мировоззрении (философском, религиозном,
художественном, житейском) высокая ценность счастья обычно представляется оче-
видной. Оно воспринимается как общая цель жизненных устремлений, а достижение
его – как лучшее состояние жизни человека, сопровождаемое переживанием устой-
чивой радости, удовлетворенностью общим течением жизни и собой, поскольку он
ведет ее в желаемом им направлении. Сложнее с оценкой свободы. Она несет не
только благо осуществления личных возможностей жизнетворчества, но и трудности
61
преодоления внутренних и внешних преград к этому, и, что особенно тяжело, бремя
личной ответственности за самоопределение и его последствия. Рост свободы расши-
ряет горизонты совершенствования, отдаляет его идеал, что для личности оборачива-
ется усилением переживаний своего несовершенства, вины за неисполненный долг,
недовольства собой.
Изучение истории идеи свободы показывает, что особенно трудной предстает сво-
бода у тех мыслителей, которые очень высоко ставят достоинство личности и, вместе
с тем, видят природу человека ценностно противоречивой, антиномичной, как это
делают Паскаль, Кант, Достоевский, Бердяев, Шелер, Ясперс, Сартр, Фромм. Для
них свобода осуществляется, прежде всего, в борьбе человека с недостатками соб-
ственной природы и продвигается в ходе самосовершенствования по направлению к
идеалу достойного человека существования. Почти все они, признавая за свободой
высокую ценность и содержательность, соединенную с достоинством личности, оста-
навливают внимание также на проблеме бремени свободы и феномене «бегства от
свободы». Они подходят к решению этих проблем исходя из того, что ценность сво-
боды выше ценности неотягощенного страданиями, борьбой и ответственностью сча-
стья. Мыслители, рассматривающие человеческую природу как преимущественно
благую, – Аристотель, Локк, Дидро, Руссо, Фейербах, Маркс, Татаркевич, Рикёр и
др.,
–
склонны представлять более гармоничными отношения между полноценной
свободой и столь же полноценным счастьем.
Аристотель, в соответствии с оптимистическим и гуманистическим духом своего
мировоззрения, не сомневается в глубинной сопряженности счастья-эвдемонии со
свободой, полагая, что по-настоящему счастливым может быть только свободный
человек. Свободен тот, кто может распоряжаться своей жизнью, делать осознанный и
ответственный выбор в пользу наиболее благих целей, намерений и поступков.
В «Никомаховой этике» проводится мысль о том, что эвдемония есть качество жизни
человека, приносящее ему чувство довольства от того, что он сам, свободно, в ходе
всей своей жизни развивает и реализует в общении с другими людьми лучшие свой-
ства собственной души (добродетели), выполняя индивидуально своеобразным спо-
собом предназначение человека. Осуществление его как разумного, общественного и
нравственного существа предполагает свободу индивида и является основой его сча-
стья [Аристотель 1984, 281, 64–69, 259]. Социально-политическая сторона жизни не-
обходимым образом входит в пространство его самореализации. Больше того, само
государство должно заботиться о том, чтобы граждане могли быть счастливы, ведь,
как утверждается в «Политике», оно существует «ради достижения благой жизни»
[Аристотель 1984, 378] Важно отметить, что классическая античная трактовка эвде-
монии носит культурно-элитаристский характер. Согласно Аристотелю, действитель-
но счастливыми могут быть только граждане свободного полиса, а высший род сча-
стья – блаженство созерцательной жизни – доступен только мудрецам-философам.
В Новое время одним из наиболее влиятельных продолжателей идеи Аристотеля
об имманентной связи счастья и свободы, встроивших ее в просветительскую пара-
дигму, был Джон Локк. В этой системе взглядов речь идет уже о счастье для всех
людей, поскольку на первый план выдвигается значение единства человеческой при-
роды, способностей и естественных прав человека. Локк утверждает: «Счастье в сво-
ем полном объеме есть наивысшее удовольствие, к которому мы способны, а несча-
стье – наивысшее страдание» [Локк 1985, 309]. Удовольствие мы получаем, достигая
желаемого блага. Будучи разумными существами, мы можем выбирать блага и делать
их предметом желания, устремляться к достижению наивысшего блага, приносящего
истинное и надежное счастье. Стремление к такому счастью – важнейшее дело жиз-
ни разумного существа. Ход рассуждений приводит Локка к чрезвычайно плодотвор-
ной идее, связывающей счастье и свободу: «Необходимость добиваться истинного сча-
стья есть основа всякой свободы». Он поясняет: «Чем крепче мы привязаны к неиз-
менным поискам счастья вообще, <...> тем свободнее мы от необходимости опреде-
лить свою волю к какому-нибудь отдельному действию и от необходимости уступать
своему желанию, направленному на какое-нибудь отдельное благо, которое кажется
62
предпочтительным в данный момент, пока мы должным образом не рассмотрели,
содействует ли оно или противоречит нашему истинному счастью» [Там же, 316].
Таким образом, Локк подходит к мысли о том, что стремление человека к счастью и
свобода взаимосвязаны по сути. Действительно, стремление к счастью усиливает ав-
тономию человека, его свободу, а рост свободы увеличивает шансы на достижение
счастья. Вместе они содействуют развитию и реализации собственно человеческой
способности к ценностно-целевой самодетерминации.
В философии Канта такое понимание получает дальнейшую разработку, хотя у
немецкого философа путь к союзу между свободой и счастьем, в их ценностной
и содержательной полноте, предстает драматичным и бесконечно долгим. Он ведет к
окончательному их соединению только в высшем божественном благе, в «потусто-
роннем царстве целей». Человек «смеет надеяться» на этот союз, приняв три «посту-
лата чистого практического разума»: бессмертия души, свободы и бытия Божьего
[Кант 1995, 234–235].
Человек, по Канту, двойственен: он и «homo phaenomenon» – «существо приро-
ды», и «homo noumenon» – «существо свободы»; достоинство первого относительно,
второго – безусловно [Там же, 293, 196]. Из такой ценностной и онтологической ан-
тиномичности человека следует дихотомия склонности, определяющей его стремле-
ние к счастью, и нравственного долга, определяющего его стремление к свободе.
«Счастье – это такое состояние разумного существа в мире, когда все в его суще-
ствовании происходит согласно его воле и желанию; следовательно, оно основывается
на соответствии природы со всей его целью и с главным определяющим основанием
его воли» [Там же, 228]. Свобода же осуществляется, главным образом, в исполнении
нравственного долга. Моральный закон, наивысший принцип которого выражен в
категорическом императиве, основывается на автономии «воли как свободной воли».
Свобода, как постулат чистого практического разума, вытекает «из необходимого до-
пущения независимости от чувственно воспринимаемого мира и из способности
определения своей воли по закону некоего умопостигаемого мира» [Там же, 234].
Долг призывает ставить конечной целью не собственное счастье, а «собственное со-
вершенство и чужое счастье», потому что стремиться к счастью человек склонен по
природе, долг же есть «принуждение к неохотно принятой цели» [Там же, 419].
В высшем благе, «величайшее счастье представляется связанным с величайшей
мерой нравственного (возможного для сотворенных существ) совершенства в самой
строгой пропорции» [Там же, 232]. Поэтому, поясняет Кант, мораль «есть учение не
о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать до-
стойными счастья» [Там же]. В целом, Кант выстраивает систему взглядов, соединя-
ющих идеи самоценности личности, свободы и счастья. Он утверждает, что человек
есть цель «сама по себе», «человечество в его лице должно быть для него святым» [Там
же, 196]. Обратим внимание на то, что по логике Канта, чем больше человек продви-
гается в исполнении нравственного долга, тем больше он реализуется как существо
свободы, тем больше содействует счастью других людей и сам становится более со-
вершенным и достойным счастья.
Выдвижение «собственного совершенства и чужого счастья» в качестве главной цели
и смысла жизни каждого человека, является, по моей оценке, точнейшим выражением
сущности гуманизма, задающим общий вектор его личностной, межличностной и соци-
альной направленности. В работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском
плане» (1784 г.) Кант представляет идеал всемирного общественного устройства – «все-
общее правовое гражданское состояние», дающее оптимальные условия для достижения
свободы, благополучия и реализации потенциала каждого человека, и намечает ведущий
к этому состоянию путь исторического прогресса [Кант 1994]. Его общий смысл можно
оценить как гуманизацию жизни. Философ признает способными к совершенствованию,
направленному к достижению полноценной свободы и счастья, всех людей, а не только
избранных «титанов духа». Он осознает, что в противном случае реальна узурпация сво-
боды, счастья и достоинства личности в руках псевдоэлиты, которая существенно огра-
ничит возможности реализации этих ценностей как таковых.
63
Доказательством этого «от обратного» стали отступления от данных гуманистиче-
ских идей в истории XIX века и особенно – века XX, вызванные действительными
трудностями, разочарованиями и неудачами в их осуществлении. Однако последствия
этих отступлений, приводящих к массовому «бегству от свободы» и тоталитаризму,
оказываются катастрофичными для целых народов.
Достоевский в главе «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы» рас-
крывает соблазны избавления от «тяжелой» свободы и ее необходимость для действи-
тельного счастья. Отказ от такой свободы не даст настоящего счастья никому. Он
будет отказом от совести и от собственной личности. Великий инквизитор, вождь
псевдоэлиты, утверждает, что для счастья миллионов людей надо забрать у них «му-
чительный дар свободы», избавив от личной ответственности за выбор жизненных
смыслов: «от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и сво-
бодного» [Достоевский 1991, 292]. Человек, разъясняет Инквизитор, «слаб и подл»,
он жаждет свободы, но не способен направить этот божественный дар на благие це-
ли, злоупотребляет им, истребляя себя, потому что «был устроен бунтовщиком». Нет
ничего «обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет и ничего му-
чительнее» [Там же, 287]. «Сильные», которых меньшинство, возьмут ответственность
за «слабых» и покорят их, успокоив ложным обещанием вечного спасения. Покорен-
ные будут счастливы, покорители – несчастны. Инквизитор говорит: «Будет тысячи
миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя прокля-
тие познания добра и зла» [Там же, 292]. Обманутые вождями, на дне рабства, будут
считать себя свободными, на краю гибели, спасенными. И, если даже поверить Ин-
квизитору, что он избавляет людей от свободы из любви к ним, то это снисходитель-
ная любовь к низшим, а не к равным. Таким образом, согласно Достоевскому, ценой
отказа от «тяжёлой» свободы будет «лёгкое», недолгое и обманчивое счастье слабо-
сильных и, в целом, малодостойных людей. Ориентация на это счастье есть псевдо-
гуманизм, закрывающий перспективы личностного и социального развития.
Возвращаясь в XVIII век, когда идеи о совпадении целей свободы и счастья во-
шли в просветительские социально-политические программы, определившие на нес-
колько столетий вперед перспективы «проекта Модерн», отметим, что это происхо-
дило с преимущественной опорой на линию Аристотеля-Локка в трактовке интере-
сующих нас идей. Мысли Локка о счастье и свободе, в свете его учения о государ-
ственном правлении, цель которого – реализация естественных прав человека, стали
частью идеологии Просвещения, поскольку отвечали гуманистическим устремлениям
эпохи, связанным с оптимистическим представлением о человеческой природе. По-
нимание того, что стремление человека к счастью является, наряду с жизнью и сво-
бодой, его неотъемлемым правом, которое должно признаваться и отстаиваться госу-
дарством, настолько проникло в политическое сознание, что воспринималось как
само собой разумеющееся авторами Декларации независимости США 1776 г. В ней
говорится: «Мы считаем самоочевидными истинами, что все люди созданы равными,
что они наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами, что среди
них – жизнь, свобода и стремление к счастью» [Declaration of Independence web].
Существенную роль в продвижении этих идей сыграли философы-просветители,
развивавшие традиции эвдемонизма, прежде всего – Локк. Историк-правовед
К.Н. Конклин приходит к выводу, что, в соответствии с юридическими представле-
ниями XVIII века, право на стремление к счастью означало провозглашение неотъ-
емлемого права на стремление к эвдемонии – к добродетельной, полноценной и бла-
гополучной жизни, к человеческому процветанию. Отсюда следовало «частное право
на стремление жить в соответствии с законами природы, и общественный долг пра-
вить в гармонии с этими законами» [Conklin 2015, 262].
С появлением этой Декларации стремление к счастью было впервые провозгла-
шено официально, в основополагающем для правовой системы государства докумен-
те, как неотъемлемое человеческое право, а поддержка его – как общественно-
политическая ценность и цель государственного правления. Правда, фиксация дан-
ного положения в документе такого уровня в эпоху Просвещения представлялось
64
слишком радикальным вызовом Нового Света. Даже революционная Франция, с ее
девизом «Свобода, Равенство, Братство», не решилась законодательно признать
стремление человека к счастью его неотъемлемым правом и взять конституционные
обязательства по его поддержке. Правда, в Преамбуле Декларации 1789 г., во фран-
цузском оригинале, говорится о ее направленности на содействие счастью всех – «au
bonheur de tous» [Déclaration des Droits...web]. Положения обоих документов, касаю-
щиеся прав и свобод, в том или ином виде нашли отражение в ныне действующих
конституциях многих стран, в том числе – России. Они получили развитие в приня-
той Генассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, задавшей
ценностные и правовые ориентиры современному международному порядку. Но вот
именно право на стремление к счастью долгое время казалось весьма проблематич-
ным для законодательного закрепления и вошло в ограниченное число конституций.
Лишь в XXI веке, как было сказано ранее, счастье официально провозглашается це-
лью и критерием развития народов в документах ООН.
Итак, обзор движения философской мысли в контексте истории, а также резуль-
таты текущих исследований ценностей, свидетельствует в пользу наличия сущност-
ной необходимой связи между счастьем, свободой и достоинством личности. В дина-
мике эта связь проявляется в том, что они взаимно обусловливают рост содержатель-
ности и ценности друг друга, способствуя совершенствованию личности, историче-
скому прогрессу, гуманизации жизни. Этот рост труден и рискован, особенно –
в деле расширения свободы, он требует увеличения целенаправленных усилий чело-
века, творческих ответов на новые вызовы. Здесь неизбежны неудачи, остановки
и грозящие глобальными конфликтами отступления, потому что, чем весомее счастье
и свобода, тем труднее они достигаются и сохраняются. Содействие преодолению
помех на этом пути могут оказать дальнейшие исследования ценностей и их динами-
ки в мире. Из области, близкой к теме данной статьи, наиболее перспективны, на
мой взгляд, задачи изучения противоречий в соотношении глобального, локального и
персонального, а также устойчивого и изменчивого, в содержании и ценностном ста-
тусе счастья, свободы и личного достоинства. Необходимо прояснения их соотноше-
ния с другими ценностями и факторами благополучия – справедливости, гуманно-
сти, солидарности, безопасности, материальной обеспеченности, доступности обра-
зования, знания и возможностей улучшения жизни, предоставляемых новейшими
достижениями общества знания.
Дальними ориентирами на пути гуманизации жизни могут служить философски
сконструированные образы совершенного состояния счастья, свободы и личности в их
единстве. В самом общем виде взаимосвязь идеалов счастья, свободы и личности, харак-
теризующихся предельной ценностной и содержательной развитостью, мне представляет-
ся следующей. Совершенное счастье есть состояние жизни, которое характеризуется тем,
что она усилиями человека максимально приближается к идеалу жизни, то есть к тому,
в чем он видит ее смысл. Поэтому человек доволен ее общей направленностью и собой
как реализующим свои лучшие возможности в расширении сферы блага для себя и дру-
гих людей. Неотъемлемым компонентом такого счастья является столь же развитая
в ценностном и содержательном отношении свобода. Суть ее в том, что личность сама,
по собственному выбору, строит свою жизнь, руководствуясь ее идеалом и следуя восхо-
дящему порядку ценностей, в соответствии с отмеченными Кантом целями собственного
совершенства и счастья других людей. Главный мировоззренческий смысл единства сча-
стья, свободы и личного совершенствования замечательно выражен в высказываниях
Л.Н. Толстого, отчасти приведенных в эпиграфе к данной статье. Он пишет в дневниках
1889 г.: «Совпадение линии жизни с линией идеала есть счастье, <...> усилие для этого
совпаден[ия] есть дело жизни. <...> Нужно одно: самому, каждому приближаться к идеа-
лу по мере света. О коли бы это начали делать. Что бы сталось со всем злом мира?!»
[Толстой 1952, 166, 72].
65
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian and Russian T ranslations
Аристотель 1984 – Аристотель. Никомахова этика. Политика // Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 4.
М.: Мысль, 1984 (Aristotle, Nicomachean Ethics. Politics. Russian translation).
Достоевский 1991 – Достоевский Ф.М. Братья Кар амазовы. Ч. 1 –3 . // Достоевский Ф. М.
Собрание сочинений в 15 томах. Т . 9 . Ленин град: Наука, 1991 (Dostoevsky F. The Brothers Kara-
mazov. In Russian)
Кант 1994 – Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно -граждан ском плане // Кант И.
Соч. в 8-ми т. Т. 8. М.: Чоро, 1994 (Kant I. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht. Russian translation).
Кант 1995 – Кант И. Критика практического разума. Метафизика нравов // Кант И. Кри-
тика практического разума. СПб .: Наука, 1995 (Kant, I. Kritik der praktischen Vernunft. Die Meta-
physik der Sitten. Russian translation).
Ксенофонт 1993 – Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993 (Xenophon. Memo-
rabilia. Russian translation).
Локк 1985 – Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения в 3 т. Т. 1 .
М.: Мысль, 1985 (Locke J ,An Essay Concerning Human Understanding. Russian t ranslation).
Толстой 1952 – Толстой Л.Н . Дневники и записные книж ки 1888 -1889 // Толстой Л.Н .
Полн. собр. соч. в 90 томах. Т. 50 . М.: Художественная литература, 1952 (Tolstoy L. Diaries and
Notes, 1888 –1889. In Russian).
Ссылки – References in Russian
Инглхарт 2018 – Инглхарт Р. Культурная эво люция: как изм еняются человеческие мотива-
ции и как это меняет мир. М.: Мысль, 2018.
Рахманкулова 2016 – Рахманкулова Н.Ф. О ценности свобод ы // Ценности и смыслы. 2016.
No3. С. 16–29.
Селигман 2013 – Селигма н, М. Путь к процветанию. Ново е понимание счастья и благополу-
чия. Пер. с англ. Е. Меж евич, С. Филина. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
Субботина 2018 – Субботина Н.Д. Идея гуманизма как фактор общественного разви тия //
Вопросы философии. 2018. No 8. С . 5 –15.
References
Conklin, Carli (2015) “The Origins of the Pursuit of Happiness”, Washington University Jurispru-
dence Review, 7 (195), pp. 195–262.
Déclaration des Droits...web – Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (web)
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
The Declaration of Independence: Full text (web) http://www.ushi story.org/declaration/document
Inglehart, Ro nald F. (2018) Cultural Evolution. How People’s Motivations are Changing and How this
is Changing the World, Cambridge University Press, New York and Cambridge. (Russian translation).
Happiness: towards a Holistic Approach to Development. 65/309 Resolution Adopted by the General As-
sembly on 19 July 2011 (web), https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/309.
Helliwell, John F., Layard, Richard, Sachs, Jeffrey D. (eds.) (2018 web) World Happiness Report
2018, https://s3.amazonaws .com/happiness - report/2018/WHR_web.pdf.
Oxford Handbook of Well-b eing and Public Poli cy (2016) Ed. by Matthew D. Adler and Marc
Fleurb aey, Oxford University Press, Oxford.
Rakhmankulova, Nelli (2016) “On the Value of Freedom”, Tsennosti i Smysly, Vol. 3 (2016),
pp. 16–29 (in Russian).
Ryan, Richard, Deci, Edward (2017) Self-Determination Theory: Basic Psyc hological Need s in Moti-
vation, Development, and Wellness, Guilford Press, New York.
Seligman, Martin (2011) Flourish: A Visionary New U nderstanding of Happiness and Well-Bei ng,
Free Press, New York (Russian translation).
Subbotina, Nadezhd a D. (2018) “The Idea of Humanism as a Factor of Social Development”, Vo-
prosy Filosofii, Vol. 8 (2018), pp. 5 –15 (in Russian).
Sustainable Develop ment Goals .
17 Goals to Transform Our World (web)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sust ainable-development-goals
World Values Survey (web) http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
Сведения об авторе
РАХМАНКУЛОВА Нэлли Фидаиевна –
кандидат философских наук, доцен т ка-
федры фило софии гуманитарных факульте-
тов фило софского факультета МГУ имени
М.В . Ломоносова.
Author’s information
RAKHMANKULOVA Nelli F. –
CSc in Philosophy, Associate Professor,
Faculty of Philosophy, Lomo nosov
Moscow Stat e University.
66
ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА
Радость как категория философско-мистических учений
© 2019 г.
Н.С. Жиртуева
Институт общественных наук и международных отношений Севастопольского
государственного университета, Севастополь, 299053, ул. Университетская, д. 33.
E-mail: zhr_nata@bk.ru
https:// zhirtueva.ru
Поступила 1.03.2019
Одним из важных следствий мистического опыта является пережива-
ние чувства радости и счастья. Этот опыт важен для современного че-
ловека, который часто находится в депрессивных состояниях и не
удовлетворен жизнью. Существуют различия между мистическими
традициями мира относительно понимания сущности радости и ос-
новных причин ее переживания. В имманентной мистике радость
рассматривается как атрибут Абсолютной реальности и результат про-
светленного состояния сознания. В трансцендентно-имманентной
мистике, сохраняющей дистанцию между Абсолютом-Творцом и че-
ловеком-творением, радость воспринимается как результат восстанов-
ления утраченного единства с Абсолютом. Возможно несколько путей
достижения радости: 1) единство с Абсолютом; 2) любовь к Абсолюту
и служение Абсолюту; 3) принятие всех страданий и испытаний;
4) обретение внутренней целостности; 5) празднование жизни во всех
ее проявлениях.
Ключевые слова: мистицизм, Абсолют, радость, единство, холизм,
внутренняя целостность, страдания, служение, празднование жизни.
DOI: 10.31857/S004287440007163-4
Цитирование: Жиртуева Н.С. Радость как категория философско-
мистических учений // Вопросы философии. 2019. No 10. С. 66 –75.
67
Joy as a Category of Philosophical and Mystical Teachings
© 2019 г.
Natalia S. Zhirtueva
Institute of Social Sciences and International Relations, Sevastopol State University, 33,
Universitetskaya str., Sevastopol, 299053, Russian Federation.
E-mail: zhr_nata@bk.ru
https:// zhirtueva.ru
Received 1.03.2019
Experiencing feelings of joy and happiness is one of the important consequenc-
es of mystical experience. This experience is important for a modern person
who is often depressed and is not satisfied with life. There are differences be-
tween the world mystical traditions regarding understanding of the essence of
joy and the main causes of its experience. The joy is seen as an attribute of the
Absolute reality and the result of enlightened state of consciousness in the im-
manent mysticism. The joy is perceived as a result of the restoration of the lost
unity with the Absolute in the transcendent and immanent mysticism, that
keeps the distance between the Absolute-Creator and the man- creation. Sever-
al ways to achieve joy are possible: 1) unity with the Absolute; 2) love for the
Absolute and serving to the Absolute; 3) acceptance of all sufferings and trials;
4) finding internal integrity; 5) celebration of life in all its manifestations.
Key words: mysticism, Absolute, joy, unity, internal integrity, holism, suffer-
ing, service, celebration of life.
DOI: 10.31857/S004287440007163-4
Citation: Zhirtueva, Natalia S. (2019) “Joy as a Category of Philosophical
and Mystical Teachings”, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 66 –75.
На современном этапе опыт мистических учений мира все больше привлекает к себе
внимание научного сообщества. Актуальность темы не вызывает сомнений: современный
человек, не удовлетворенный ценностями цивилизации потребления, испытывает духов-
ный голод и ищет выход из кризиса. Все более приходит понимание того, что невозмож-
но удовлетворить духовные потребности, живущие в каждом из нас, исключительно ма-
териальными ценностями. Мистические учения интересны и важны тем, что в них про-
веден анализ сущностных основ человеческого бытия и предложены пути реализации
нашего духовного потенциала.
Если обратиться к исследованиям феномена мистики, можно увидеть, что многие авто-
ры указывали на качественную трансформацию психического состояния всех тех, кто пе-
реживал мистический опыт. Важнейшими признаками этой трансформации являются чув-
ство радости, счастья, блаженства, глубокого и максимально полного удовлетворения жиз-
нью. Например, У. Стейс особенно выделяет среди «универсальных, общих характеристик
мистицизма во всех культурах, эпохах, религиях и цивилизациях» такую как «ощущение
блаженства, радости, счастья, удовольствия» [Stace 1961, 132]. Также и Ф. Стренг, характе-
ризуя мистический опыт, утверждал, что он приносит человеку чувство радости и блажен-
ства [Кимелев 1989, 126]. Э. Фромм, сравнивая психологические особенности «гуманисти-
ческой» и «авторитарной» религий, писал, что гуманистическая религия существует не во
имя абстрактных и далеких идеалов – «жизни после смерти» или «будущего человече-
ства» – но во имя реальной жизни «здесь и сейчас». «Цель человека в такой религии –
достижение величайшей силы, а не величайшего бессилия; добродетель – в самореализа-
ции, а не в послушании... Преобладающее настроение – радость, а не страдание и вина,
как в авторитарной религии» [Фромм 1989, 168, 175]. А.Г. Маслоу был убежден, что среди
качеств самоактуализированных личностей, к которым он также причислял всех тех, кто
68
пережил мистический опыт, относятся способность периодически испытывать радость и
счастье, а также обладание «философским чувством юмора». Описывая такого человека,
психолог подчеркивал, что «даже повседневность становится для него источником радости
и возбуждения, любое мгновение жизни может подарить ему восторг» [Маслоу 1999 web].
Бесспорно, существуют различия между мистическими учениями мира в понимании
природы и причин радости. Прежде всего, эти различия заметны между традициями им-
манентной и трансцендентно-имманентной мистики. Имманентная мистика, которая
лишена представлений о сверхъестественной абсолютной реальности, признает, что мис-
тик имеет с Абсолютом единую сущность. Трансцендентно-имманентная (антиномиче-
ская) мистика характерна для «религий откровения», которые, опираясь на идеи моноте-
изма и креационизма, утверждают разноприродность Бога-Абсолюта и мира. В каждом
типе мистики возникло большое разнообразие традиций в зависимости от решения во-
проса о соотношении материального и идеального бытия [Жиртуева 2018, 34–35].
Радость как категория имманентной мистики
В индуизме преобладают монистические мистические традиции. В учениях джняна-
йоги, бхакти-йоги и раджа-йоги Абсолют отождествляется с духовной реальностью,
а материальное начало воспринимается как неполноценное, искаженное или иллюзорное
[Жиртуева 2018, 44, 61, 67]. Исключением является интеграционная традиция тантра-
йоги, в которой материя приобретает статус полноценной реальности и рассматривается
как равноценная духовному началу. Бытие мыслится как результат творческого союза
духа и материи [Жиртуева 2018, 50].
Общим для различных традиций индуистской философии является наделение Абсолю-
та тремя атрибутами. Ими обладает как непроявленный и бескачественный Абсолют (нир-
гуна-брахман), так и проявленный Абсолют – Ишвара, творец и разрушитель мира, всемо-
гущий бог, наделенный многими качествами (сагуна-брахман). Три атрибута получили на
санскрите название сат-чит-ананда, «бытие, сознание, блаженство». Они рассматриваются
в тесном единстве, каждый атрибут тождествен двум другим, а их различение в человечес-
ком сознании вызвано иллюзией – майя. Поскольку ниргуна-брахман по сути своей лишен
каких бы то ни было свойств или атрибутов, сат-чит-ананда является не тремя разными
характеристиками, но его природой – Самостью. Однако в силу несовершенства и ограни-
ченности вербального знания нам приходится употреблять три разных слова, тогда как все
они метафорически описывают одну и ту же сущность. Согласно учению адвайта-веданты
Шанкары (джняна-йога), «только одно око мудрости (не око мнимой учености, мечтатель-
ности и фантазии) видит вседвижущую Троицу бытия-сознания-блаженства» (сат-чит-
ананда), Самость (Атмана)» [Стрельцов, Русских (сост.) 1994, 170].
Так атрибут ананда («блаженство») приобретает онтологический статус. И это имеет два
важных следствия. Во-первых, человек достигает радости и счастья только путем единения
с Абсолютом, а во-вторых, сознание человека обуславливает качество его бытия. Обладая
просветленным сознанием, человек способен внести радость и блаженство в каждое мгно-
вение своей жизни. Современный представитель учения адвайта-веданты Шри Рамана Ма-
харши говорил: «Продвинутый духовно, достигший успеха, начнет радоваться глубокому
блаженству независимо от того, работает он или нет. В то время как его руки заняты дея-
тельностью в миру, голова сохраняет спокойствие уединения» [Годман (сост.) 2002, 95].
Состояние глубокого умиротворения достигается с помощью созерцательной практи-
ки. Шанкара советовал: «Сидя в уединенном месте, бесстрастно, вполне владея силами
чувств, устреми всю свою душу на Самость и не допускай никакой другой мысли, как
только о Вечном» [Шанкара 1972 web]. Тому, кто созерцает, предлагается четко осозна-
вать, кто является источником мыслей – Атман или Я-Тело. И если мысли и чувства
порождаются не Атманом, рекомендуется не придавать им значения. «Когда ты познаешь
эту мудрость, то освободись от свойств, от всего, скрывающего твою истинную природу,
и вступи в действительность (истинное бытие), в (истинное) сознание, в (истинное) бла-
женство, подобно тому, как гусеница превращается в бабочку» [Там же].
Также и учение бхакти-йоги ориентирует бхакта («любящего», «преданного») на то,
что истинное блаженство надо искать только в мистическом единении с Абсолютом –
69
Вишну, личным Богом любви и милосердия, среди основных атрибутов которого выде-
ляют любовь и силу радости. Целью бхакта является состояние сахадж-самадхи, в кото-
ром исчезает любое различие между человеком и Богом, постепенно уходят все иные
привязанности, кроме привязанности к Богу. Великий Кабир сказал так: «Все говорят:
“сахадж”, “сахадж”, – [но] никто не понимает, [что такое] сахадж. Когда человек легко
отказывается от своих чувственных страстей и удовольствий, это и есть сахадж». «Обы-
денно [и] просто все ушли: сын, богатство, женщина, любовь. Теперь раб Кабир слился
воедино с Рамой» [Гафурова (ред.) 2004, 50].
Но если в учении джняна-йоги радость и блаженство переживаются неэмоционально,
спокойно и сдержанно, то бхакти-йога вносит в мистический опыт высокую степень
эмоциональности. «Единение» с Богом (према), преодолевающее различия между челове-
ческой и Божественной личностью, переживается как эмоциональный экстаз (према).
Одной из техник его достижения является джапа – сосредоточенное повторение имени
Любимого Бога (ишта-девата). Результатом джапы становится постоянное памятование
о Боге, что создает «любовное опьянение», сопровождающееся эмоциональным экстазом.
Поведение «опьяненного» может напоминать поведение сумасшедшего. Кабир писал, что
любовь к Богу вынуждает влюбленного потерять голову: «Волшебный напиток Рамы –
сок Любви; пьющий [его чувствует] безграничную сладость. Кабир: [но] напиток трудно
[получить, потому что] Калал просит [взамен] голову» [Гафурова (ред.) 2004, 55].
Коренным отличием интеграционного учения тантра-йоги от монистических
направлений индийской йоги стало полной и безусловное принятие материального мира,
его сакрализация. Дух и материя – Шива и Шакти – образуют парадоксальный священ-
ный союз, в котором особо подчеркивается роль Шакти: «Сам Шива имеет силу созидать
только в соединении с Шакти. Без нее он не может даже пошевелиться» [Стрельцов,
Русских (сост.) 1994, 124].
Если джняна-йога, бхакти-йога и раджа-йога высказывают глубокое убеждение, что
переживание блаженства и радости возможно только в случае единения с духовным Аб-
солютом, то представители тантра-йоги подчеркивают, что необходимо стремиться к
единению со всем миром. Священные тексты Тантры наполнены словами восхваления
Шакти: «О дочь снежных гор! [Даже] Брахма и другие боги [Вишну и Рудра] вряд ли
способны представить себе Твою запредельную красоту, медитацией над которой Боги
достигают того единства с Шивой, которого не достичь никаким аскетизмом». «Поисти-
не счастливы те, кто поклоняется Тебе, волне сознания и блаженства, чья обитель –
то ложе, на котором пребывает Парамашива» [Стрельцов, Русских (сост.) 1994, 125, 128].
Именно поэтому тантрический опыт предполагает тесную связь с чувственным опы-
том человека и сопровождающими его наслаждениями. Энергия желаний не подавляет-
ся, но активно используется и трансформируется с целью их превосхождения и освобож-
дения (мокша) [Жиртуева 2016, 29–30].
Представители современного тантризма рассматривают жизнь как акт радостного
празднования, проистекающего из благодарности за дар существования. Жизнь рассмат-
ривается как танец, как молитва, как медитация. «Это следует делать с потоком любви и
покоем ума... Легко, танцуя, веруя, успокаиваясь и текуче» [Смирнов (сост.) 1993, 296].
Для Ошо Раджниша радость является следствием принятия жизни во всех ее аспектах:
«Радоваться способен только целостный человек. Радость – это благоухание целостно-
сти... Подавленность всегда влечет за собой агрессивность. Если что-то подавляется, че-
ловек становится жестоким, он лишается мягкости» [Ошо 2001, 264–265]. По его мне-
нию, надо праздновать все: и радостное, и печальное, ведь, по сути, радость и печаль –
стороны одной медали. Сама жизнь – величайшее чудо, радость и счастье: «Это чудо –
что есть мы, что есть деревья, птицы. Это действительно чудо, потому что вся вселенная
мертва. Миллионы и миллионы звезд – мертвы, миллионы и миллионы солнечных си-
стем – мертвы. Только на этой Маленькой планете Земля, которая ничто, ведь если по-
думать о ее пропорциях, то она – просто частичка пыли – только на ней случилась
жизнь. Это самое счастливое место во всем мироздании. Птицы поют, деревья растут,
расцветая. Живут люди, любящие, поющие, танцующие. Случилось нечто просто неве-
роятное» [Раджниш Бхагаван б/г web].
70
Традиции буддистской махаяны развиваются в рамках холистического учения, утвер-
ждающего принцип целостности бытия. Если тхеравада утверждает, что бытие разделено
на обусловленное и необусловленное, но является реальным в обоих случаях, то махаяна
ни одну из частей бытия не рассматривает как окончательную реальность, а возводит их
к Высшему Единству. В тхераваде любая целостность считается иллюзией, и только от-
дельные элементы, дхармы, признаются реальными. В махаяне все части являются нере-
альными, и только «целое целого» провозглашается реальностью.
Изменение представлений о сущности Абсолюта повлекло за собой новое решение
вопроса о соотношении идеального и материального. Махаяна уничтожила различие
между абсолютным и феноменальным, утверждая тождественность нирваны и сансары,
непроявленного и проявленного бытия. Она утверждает, что ничто во Вселенной не су-
ществует обособленно и в своей совокупности образует единое Целое – Дхармовое Тело
Будды – дхармакая («абсолютное и чистое тело»).
А следовательно, пробужденное состояние сознания (бодхи) достигается путем осо-
знания того, что Будда не имеет отдельной реальности, также как Вселенная не имеет
реальности вне Будды: Абсолют, Нирвана и Будда тождественны. Восприятие мира как
Целого способствует пониманию тесной взаимосвязи всех явлений, а также обретению
внутренней целостности. Путь бодхисаттвы предполагает последовательное прохождение
десяти ступеней (бхуми). Первая из них – ступень радости, характеризуемая мыслью о
бодхи. «Абхидхармакоша» отмечает, что бодхисаттвы принадлежат к категории индиви-
дов, «природа которых реализуется в том, что они страдают от страдания других и раду-
ются радости других; их не [затрагивает то, что касается] их самих». «Низший всеми спо-
собами стремится к собственному счастью; средний – только к освобождению от страда-
ний, но не к счастью, ибо оно – опора страдания. Высший же через собственные стра-
дания стремится к счастью других и к окончательному избавлению их от страдания, ибо
он страдает от страдания других» [Островская, Рудой (ред.) 1994, 187].
Также и в палийском трактате «Вишуддхимагга» («Путь очищения»), написанном
крупным тхеравадинским мыслителем Буддагхошей, отмечается, что существуют четыре
возвышенных состояния: любовь и доброта; сострадание; радость от того, что счастливы
другие; самообладание.
Среди особенностей дзэн-буддизма исследователи отмечают особую роль смеха, который
стал полноправным членом мистической практики. Еще Д.Т. Судзуки писал, что дзэн –
единственное учение, в котором нашлось место смеху [Suzuki 1971, 35]. Но это не обычный
смех. «Тонкая улыбка Касьяпы, постигшего истину Будды, сменив отечество, в китайской
и японской традициях перерастает в животный, плотский, громоподобный хохот, от кото-
рого сотрясаются монастырский стены» [Сафронова 1980, 68]. Это животный смех идет от
самого живота (хара). По мнению Е.С. Сафроновой здесь имеет место акцент на нижнем
энергетическом центре человека как плодородном и рождающем начале.
Дзэн допускает даже насмешки над буддами и поношение патриархов. В этом пере-
плетаются «и богоборческие мотивы, отказ от любых авторитетов и снятие оппозиций
между двумя полюсами: святым и обыденным, где акцент, однако, смещен в сторону
рождающего и поглощающего низа» [Там же, 71]. И в этом, как отмечает Е.С. Сафроно-
ва, отражается влияние архаического земледельческого культа и народной культуры. Та-
ким образом, стираются границы между «высшим» и «низшим», происходит освящение
профанического и профанация священного.
Тенденция к сближению полюсов «священное – мирское» характерна также для массо-
вой культуры эпохи постмодерна. По мнению М.В. Федоровой, смех может играть как
роль религиозного символа («иерофании», по М. Элиаде), так и выступать орудием деса-
крализации, смещая границы священного и мирского [Федорова 2017, 132–133]. Неслу-
чайно возрождение смеховой культуры мы наблюдаем в современных имманентных ми-
стических учениях. Ошо Раджниш был убежден, что радостное празднование жизни не-
возможно без смеха и юмора. Мистик рассматривал серьезность как болезнь и говорил:
«На мой взгляд, чувство юмора должно быть краеугольным камнем будущей религиозности
человека» [Раджниш Бхагаван б/г web]. Однако для Ошо смех выступает не орудием деса-
крализации. Напротив, современный тантризм сакрализует весь мир, а смех выполняет
71
роль религиозного символа. Смех также рассматривается как один из видов медитатив-
ного созерцания, как метод достижения просветленного состояния сознания [Свами Вит
Праяс 2000 (ред.), 63].
Радость как категория трансцендентно-имманентной мистики
В трансцендентно-имманентной мистике возможно формирование двух типов тради-
ций – интеграционных и монистических [Жиртуева 2018, 36–37].
С самого начала христианство заявило себя как религия радости. В Священном Пи-
сании Иисус многократно повторяет ученикам: «Возрадуйтесь, возрадуйтесь!». В посла-
нии к Галатам апостол Павел говорит о радости как о плоде духа Бога (Гл. 5:22), а в по-
слании к Филиппийцам призывает: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуй-
тесь» (Флп. 4:4). Таким образом, в христианстве радость наделяется божественной при-
родой как завещанная Богом.
В дальнейшем в христианской мистике сформировалось несколько традиций пони-
мания радости. Основоположник монашеского аскетизма святой Антоний Великий гово-
рил: «Любите Бога всею душою вашею, всем сердцем вашим и всем умом вашим и Ему
единому работайте. Тогда Бог даст вам силу великую и радость. Все дела Божии станут
для вас сладки, как мед, все труды телесные, умные занятия и бдения и все вообще иго
Божие будет для вас легко и сладко» [Антоний 1998, 75–76]. Радость, прежде всего, явля-
ется результатом служения Богу и любви к Богу, которая преобладает над всеми иными
формами любви. Именно поэтому христианский аскетизм тяготеет к монизму, рассмат-
ривая материальное как ущербное и всеми силами стремясь избегать его.
Позднее на основе аскетической традиции сформировался православный исихазм, ко-
торый разработал учение о возможности мистического единения с трансцендентным Аб-
солютом. Это учение приобретает интеграционный характер, так как направлено на еди-
нение «тварного» и «нетварного», человеческого и божественного. Главным результатом
мистической практики исихазма был провозглашен теозис («обожение плоти») [Жиртуе-
ва 2018, 112–113]. Теозис выводит человека на новый онтологический уровень бытия, где
он переживает всеохватывающую радость и блаженство от соприкосновения с Богом.
Важнейшей причиной этой радости является обретение внутренней целостности. Григо-
рий Палама говорит о «соучастии тела в духовной жизни, о его способности к просвет-
лению и единению с Божеством в едином молитвенном делании, охватывающем собою
всего человека» [Климков 2008, 40].
Особую роль категория радости играет в учении Симеона Нового Богослова. Говоря о
красоте благодатного света, мистик подчеркивает, что он является «неизглаголанной ра-
достью, миром, превосходящим всякий ум, наслаждением и удовольствием и веселием в
ненасытной сытости» [Бычков 1991, 276]. Описывая искусство «умно-сердечной молит-
вы» как вершины мистической практики, мистик подчеркивает, что «сначала ты встре-
тишь там тьму и жесткость; но потом, если будешь продолжать это дело внимания день и
ночь, найдешь там непрестанное веселие» [Иисусова молитва б/г, 76–77]. В исихазме
также возникло учение о «радостотворном плаче». Эти слезы приносят радость и утеше-
ние молящемуся, очищая его сердце и подготавливая к теозису.
В католической мистике сформировались две традиции. Первая из них – католиче-
ская мистика любви – характеризуется самыми высокими эмоциональными состояния-
ми. В ней нашлось место и радости, и даже смеху. Святой Франциск Ассизский, осново-
положник этой традиции, в проповедях многократно говорит о радости: «Блажен тот
монах, у которого нет другой отрады и радости, кроме пресвятых слов и дел Господних,
и ими он влечет людей к Божией любви с радостью и весельем». Но особенность радости
этого святого выражается в том, что он ее переживает даже в моменты поругания и стра-
даний: «И будем твердо помнить, что нас не касается ничто, кроме греха и порока; и
более всего мы должны радоваться, когда подвергаемся различным испытаниям и сно-
сим угнетение души или тела или какие-нибудь превратности века сего ради жизни веч-
ной». «И братья должны радоваться, общаясь с людьми ничтожными и презренными, с
нищими и калеками, больными, прокаженными и уличными попрошайками» [Вичини,
Ян (ред.) 1996, 52, 59, 98].
72
Л.Б. Смит ставит в один смысловой ряд шутов, мучеников и святых [Smith 1997,
433]. По мнению А.В. Голозубова, в образе святого мученика всегда есть элемент про-
вокации и шутовства, религиозный шут провокационен и в мученичестве, и в святости
[Голозубов 2009, 326].
За Франциском Ассизским прочно закрепился титул «Шута Господнего». Однако свя-
той Франциск не столько провоцирует социум асоциальным поведением, сколько проявля-
ет ярко выраженный христоцентризм – стремление точно воспроизвести жизнь Иисуса.
С самого начала Франциск увидел смысл своей жизни в уподоблении Христу, которое
имело много форм выражения. Но он привнес в традицию религиозного шутовства не
только христоцентризм, миссионерский и апостольский дух, но также утверждение духа
радости. Для «всей францисканской традиции христоцентризм оказался неразрывно свя-
занным с радостью в страдании». «Для св. Франциска, само страдание стало пониматься не
просто как свидетельство веры и религиозный опыт, а как средство достижения и форма
проявления радости, тем самым сама радость стала религиозным опытом, а осмеивание и
истязание сладостной мукой, переживаемой с экстазом и наслаждением [Голозубов 2009,
339, 346–347]. Францисканцы не боялись быть гонимыми и осмеянными, так как сам
Христос подавал им пример стойкости, не раз гонимый и осмеянный толпой.
Важно упомянуть размышления святой Анджелы, одной из последовательниц Фран-
циска Ассизского. Она также была уверена, что святость выражается в готовности при-
нять страдания, глубоко смиряясь перед Богом. Но, с другой стороны, если человек
стремится только к страданиям – это свидетельствует о его духовной гордыне. И только
Бог решает, какие именно страдания следует послать человеку: «Ибо небесный врач
лучше, чем сам немощный и несмышленый человек, знает, каких страданий и неприят-
ностей искать для очищения, наставления и совершенствования души. Ведь иногда стра-
дания и покаяния, придуманные и принятые на себя по желанию, очень служат тщесла-
вию» [Еремеев (ред.) 1996, 150].
В целом в католицизме произошла эстетизация страданий. Мейстер Экхарт, как
представитель католической созерцательной мистики, рассматривал страдания как при-
знак любви Бога к человеку. Он писал: «Мы должны питать большую любовь к страда-
нию, ибо Бог ничего иного и не делал, пока был на земле» [Хаксли 1997, 250]. Однако,
в отличие от Франциска и мистиков любви, Мейстер Экхарт полагал, что целью практи-
ки является вовсе не повторение жизненного пути Христа. Он стремился к слиянию с
трансцендентным началом бытия – Божеством, Чистым Духом, который не принимает
никакого участия в творении мира. Учение Экхарта в итоге приобретает монистический
характер, а основным методом практики мистик выбирает «отрешенность», которая пре-
одолевает психические состояния. Состояние отрешенности характеризуется тем, что
«дух неподвижно стоит среди всех треволнений радости и печали, чести, бесчестья и по-
ругания, – как могучая гора в легком ветре. Сия неподвижная отрешенность ведет чело-
века к совершенному уподоблению Богу» [Реутин (ред.) 2001, 211, 213].
Заметим, что в христианской мистике традиция религиозного шутовства более харак-
терна для западного христианства. «На православном Востоке религиозный шут, или
юродивый, играет в смертельно опасную игру». Именно поэтому юродство достаточно
быстро пришло в упадок [Голозубов 2009, 339].
Мистическое учение ислама, суфизм, предполагает интеграционное решение пробле-
мы соотношения духовного и материального бытия [Жиртуева 2018, 143]. Свою задачу
суфии видели «в единении с Богом и с миром, в обретении мирового всеединства в се-
бе». Свой выбор они объясняли тем, что «мир – это сокровищница Господа, что нена-
вистно Богу, не может быть частью того мира, который он создал. Ведь каждый камень,
ком глины и дерево славят Господа» [Андре 2003, 7, 124]. «Доктрина любви», лежащая в
основе учения суфизма, объединяет весь мир в таинстве единения. Любящее сердце су-
фия полно радостью общения с Творцом. Мухасиби говорил: «Божественная любовь по
своей сути есть не что иное, как озарение сердца радостью из-за его близости к Возлюб-
ленному. Любовь, пребывая в одиночестве, шествует победоносно, и сердцем влюблен-
ного овладевает ощущение содружества с Ним. Когда тайная связь с Возлюбленным
происходит в одиночестве, радость этой связи завладевает умом, так что он перестает
73
беспокоиться о чем-либо в этом мире» [Тираспольский (сост.) 2004, 104]. Шейх Музаффер
был уверен: «Служить Господу – какое занятие может быть прекрасней этого! Единствен-
ная настоящая радость – быть слугой Божьим, а это означает сохранять пробужденность
каждое мгновение, чтобы осознавать нужду каждого мгновения [Там же, 82–83].
Радость от близости с Творцом суфий передает всем окружающим. Абу Са'ид расска-
зывал такую притчу: «Однажды некий человек спросил у шейха, как ему достичь Бога.
«Путей к Господу, – отвечал шейх, – столько же, сколько на свете сотворенных существ.
Но самый короткий и легкий заключается в том, чтобы служить людям, не обижать их и
доставлять им радость» [Там же, 125]. Шихаб ад-дин б. бинт амир Хамза советовал:
«Будь, как Иса, веселым и улыбающимся, потому что осёл бывает хмурым и мрачным.
Ибо из-за хорошего нрава человек, особенно человек идущий по пути к Истине, любой
цели и любого чаяния достигает». Мистик ссылается на слова Корана «И одежды свои
очисти» (Коран 71:4), которые трактует как пожелание пророка «иметь хороший нрав,
ведь для человека нет ничего лучше, чем хороший нрав» [Мудрость суфиев 2001, 78–79].
Жизнь суфиев превращается в радостное празднование существования. Они много
говорят о благодарности Богу. Махдум-и А’зам призывал: «Где бы ты ни был, не забывай
о благодарности. Тому, кто взялся благодарить Бога, надо знать, что нет предела благо-
дарности Богу» [Там же, 427–428]. При этом суфий выражает радостное согласие с Бо-
гом за все посланное в его жизни, потому что праведник знает, что Господь его всегда
наставляет к лучшему и выбирает для него полезное. Абу Макки был уверен: «Человек
должен равно радоваться страданию и благодати» [Тираспольский (сост.) 2004, 79]. Толь-
ко в этом случае душа суфия достигает пятой стадии, на которой она называется «удов-
летворенной» (радийа).
Важно подчеркнуть, что в суфизме был разработан метод, подобный практике
францисканцев, добровольно и радостно переносящих хулу и порицания. Это метод
движения маламати, все усилия которых были направлены на то, чтобы не стать почи-
таемыми в народе, не превратиться в объект культа. Они обосновывали свой метод
традицией Пророка. Мухаммад так же, как Иисус, был первоначально окружен стеной
непонимания. По мнению маламати, Аллах не случайно окружает своих избранников
хулящими и слепцами, не видящими, что стоит за делами богоизбранных. Таким обра-
зом он спасает их от гордыни и самодовольства – величайших из завес на пути к Богу
[Хисматулин 2003, 109].
Существует еще одна мистическая традиция, в которой радости отводится очень
важная роль. Она сформировалась в иудаизме и получила название хасидизм. Хасиды
полагали, что радость способна вызывать в душе человека дух святости. Известный
мистик Баал Шем Тов был уверен, что человек создан Богом для счастья. Поэтому
служить Творцу он советовал не печалью, а радостью, победив в себе телесные жела-
ния и заменяя их духовными: «Божественное Присутствие не нисходит на того, кто
печалится в заповедях; оно нисходит на того, кто в заповедях радуется» [Гуревич, Ле-
вит (ред.) 1997, 72]. Мистик каждую молитву советовал завершать благодарностью Богу
за великий дар жизни.
Рассказывали, что равви Зуся как-то был гостем в доме Несхижского равви. «Около
полуночи хозяин вдруг услышал странные звуки, доносившиеся из комнаты гостя. Он
подошел к двери и прислушался. Зуся бегал по комнате и бормотал: “Владыка мира! Я
люблю Тебя! Но что я могу сделать для Тебя? Я ничего не умею”. Он еще долго так бегал
и бормотал, покуда неожиданно не остановился и не воскликнул: “Я умею свистеть! По-
свищу-ка я для Тебя”. И как только Зуся начал свистеть, Несхижского равви объял
сильный страх» [Гуревич, Левит (ред.) 1997, 228].
Баал Шем Тов подчеркивал, что бодрое и радостное настроение должно наполнять
каждое мгновение жизни: «Когда человек занимается своим обычным делом, он не дол-
жен забывать святое писание, Бога, его заветы. Некоторые думают, что Богу можно слу-
жить чтением Торы и молитвой. Это неверно. Богу можно служить праведными поступ-
ками, добрыми делами, обыкновенным потреблением пищи, постоянным трудом, подня-
тием роли обыкновенного труда до труда божественного» [Хонигсман, Найман 1992, 59].
74
Для выражения радости во время молитвы хасиды допускали использование психо-
соматических упражнений – разнообразные движения тела, танцы, песни, раскачивания,
чем напоминают традицию суфизма [Жиртуева 2018, 152,171].
Подводя итог исследования, хотелось бы отметить, что в мистических традициях мира
при всем разнообразии понимания сущности Абсолютной реальности, можно выделить
несколько путей достижения радости: 1) единство с Абсолютом; 2) любовь к Абсолюту и
служение Абсолюту; 3) принятие всех страданий и испытаний; 4) обретение внутренней
целостности; 5) празднование жизни во всех ее проявлениях
.
Источники и переводы – Prima ry Sources and Russian Translations
Антоний 1998 – Антоний Великий. Духовные наставления. М. : Сретенский монастырь, 1998
(St. Anthony, Spiritual Teachings).
Вичини, Ян (ред.) 1996 – Истоки францискан ства. Святой Франци ск Ассиз ский: писания и
биография. Святая Клара Ассизская: писания и биография. Ред. А . Вичини, Я. Ан. Assisi, Italia:
«Movimento Francescano», 1996 (The Origins of Franciscanism. Saint Francis of Assisi: scriptures and
biography. Saint Clara of Assisi: scriptures and biography).
Гафурова (ред.) 2004 – Кабир. Золотые строфы. М.: Наталис; Рипол Классик, 2004 (Kabir, Golden
stanzas).
Годман (сост.) 2002 – Будь тем, кто ты есть! Наставления Шри Раманы Махарши. Сост.
Д. Годман. М. – Тируваннамалай: Изд -во К. Кравчука – Шри Раманашрам, 2002 (Be As You Are.
The Teachings of Sri Ramana Maharsi. Edited by David Godman. Arkana , 1992).
Гуревич, Левит 1997 – Бубер М. Хасидские предания. Первые нас тавники. Ред. П . С . Гуре-
вич, С.Я. Левит. М.: Республика, 1997 (Buber, Martin, Ha sidic Tales, The First Mentors).
Еремеев (ред.) 1996 – Откровения блажен ной Анджелы. Cост. и ред. С . Еремеев. Киев:
УЦИММ-ПРЕСС, 1996 (Memorial of the Blessed Angela, Edited by S. Eremeev).
Иисусо ва молитва б/г – Что такое молитва Иисусова по преданию православной церкви.
Б.м ., Б.г. (What is the Jesus Prayer acco rding to the tradition of the Orthodox Church).
Мудрость суфиев 2001 – Мудрость суфиев. СПб.: Азбука; Петербургское востоковедение,
2001 (The Wisdom of the Sufis).
Островская, Рудой (ред.) 1994 – Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Раз-
дел третий. Учение о мире. Ред. Е.П. Островская, В.И. Рудой. СПб.: Андреев и сыновья, 1994
(Vasubandhu, Abhidharmakosha (Encyclopedia of Abhidharma). Section Three. Doctrine of the world).
Ошо 2001 – Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. Киев: София; М.:
Гелиос, 2001 (The Autobiography of a spiritually incorrect mystic).
Раджниш Бхагаван б/г web – Рад жниш Бха гава н. Жизнь. Любовь. Смех. б/г ( Rajneesh Bha-
gvan, Life. Love. Laugh). https://royallib.com/book/radgnish_bhagavan/gizn_lyubov_s meh.html
Реутин (ред.) 2001 – Экхарт. Об о трешенности. Ред. и пер. М. Реутин. М.; СПб: Универ си-
тетская книга, 2001 (Eckhart, Meister. About estrangement).
Свами Вит Праяс 2000 (ред.)
–
Ошо. Медитация: первая и последн яя свобода. М .: Нирвана,
2000 (Osho, Meditation: the first and la st freedom).
Смирнов (сост.) 1993 – Лилли Дж. Центр Циклона. Ра м Дасс. Зерно на мельницу. Сост.
Ю. Смирнов. Киев: София, 1993 (Lilly, John, The Center of the Cyclone, Ram D ass, Grist for the
Mill, Ed. by Yu. Smirnov).
Стрельцо в, Русских (сост.) 1994 – Путь Шивы: ан толо гия древнеиндийских классических
тексто в. Сост. К .Г . Стрельцов, Н.П . Русских. Киев: Экслибрис, 1994 (Shiva’s Way: An Anthology of
Ancient Indian Classical Texts, Ed. by K. Streltsov, N. Russkikh).
Тираспольский (сост.) 2004 – Из реки речений: Высказывания суфийских наставников. Сост. и
пер. Л. Тираспольский. М.: Амрита-Русь, 2004 (Sayings of Sufi teachers, Ed. by L. Tiraspolskiy).
Шанкара 1972 web – Шанкара. Незаочное постижение // Вопросы философии. 1972. No 5. С. 216–
129. (Shankaraсrya. Prakarana-panсka. Aparoksha-anubhuti. Varanasi, 1934). http://www.psylib.org.ua/
books/zilbd01/000/con11.htm
Ссылки – References in Russian
Андре 2003 – Андре Т. Исламские мистики. СПб .: Евразия, 2003.
Бычков 1991 – Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев: Путь к истине, 1991.
Голозубов 2009 – Голозубов А.В. Теология смеха как феномен западной культуры. Харьков:
ТО «Эксклюзи в», 2009.
Жиртуева 2018 – Жиртуев а Н.С. Философско-мистические традиции мира. М.: Вузовский
учебник, ИНФРА -М, 2018.
Жиртуева 2016 – Жиртуева Н.С. Тантризм в контексте компаративного анализа философско-
мистических традиций мира // Парадигмы истории и общественного развития. 2016. No 4. С. 26–36.
75
Кимелев 1985 – Кимелев Ю.А . Современн ая буржуазная фило софско - религиозн ая антропо-
логия. М.: Мысль, 1985.
Климков 2008 – Климков О.С. Паламизм как теоретическое о смысление восточно -
христианской исихастской традиции // Известия российско го государственного педагоги ческого
университета им. А .И. Герцена. 2008 . No 81. С. 30 –40 .
Маслоу 1999 web – Маслоу А.Г. Мотивация и личн ость. СПб.: Евразия, 1999.
http://psylib.org.ua/books/masla01/index.htm
Сафронова 1980 – Сафронова Е.С. Дзэнский смех как о тражение архаического земледель че-
ского праздника // Символика культов и ритуало в народов зарубежной Азии. М.: Главная ре-
дакция во сточной литер атуры, 1980. С. 68–78 .
Федорова 2017 – Федорова М.В. Смех как религиозный феномен // Философия и культура.
2017. No 2. С . 123 –135 . DOI: 10.7256/2454-0757.2017 .2.21966.
Фромм 1989 – Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 143–221.
Хаксли 1997 – Хаксли О. Вечная фило софия. М. – Киев: Ваклер; Рефл-бук, 1997.
Хисмату лин 2003 – Хисматулин А.А . Суфизм. СПб: Азбука-классика; Петербургское Восто-
коведение, 2003.
Хонигсман, Найман 1992 – Хонигс ман Я.С., Найма н А.Я . Евреи Украины. Краткий очерк ис-
тории. В 2 ч. Ч.1 . Киев: Укр аинско-фин ский инсти тутт менед жмента и бизнеса, 1992.
References
Andrae, Tor (1960) Islamishe Mystiker, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart (Russian Translation 2003).
Bychkov, Victo r V. (1991) Small History of Byzantine aesthetics, Pyt’ k istine, Кiev (in Russian).
Fedorova, Marina V. (2017) “Laughter as a religious phenomenon”, Philosophy and Culture, Vol. 2
(2017), pp. 123 –135 . DOI: 10.7256/2454-0757.2017 .2 .21966. (in Russian).
Fromm, Erich S. (1989) “Psychoanalysis and Religion”, Twilight of the Gods, Politizdat, Мoscow,
1989, pp. 143 –221 (in Russian).
Golozubov, Aleksandr V. (2009) Theology of laughter as a phenomenon of Western culture, Exclusive,
Kharkov (in Russian).
Hismatulin, Aleksei A. (2003) Sufism, Azbuka-classica, Peterburgskoe vostokovedenie, St. Petersburg.
Honigsman, Jacob S., Naiman, A natoly Ya. (1992) Jews of Ukraine. A brief history essay, Part 1,
Ukrainsko-finskiy institut menedzhment a i biznesa, Kiev (in Russian).
Huxley, Aldous (1944) The Perennial Philosophy, Chatto & Windus, London (Russian Translation 1997).
Kimelev, Yurii А. (1985) Modern Bourgeois Philosophical a nd Religious Anthropology , Mysl’, Mosco w
(in Russian).
Klimkov, Oleg S. (2008) “Palamism as theoretical comprehension of the east-christian hesychastic tradi-
tion”, Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science, Vol. 81 (2008), pp. 30–40 (in Russian).
Maslo w, Abraham H. (1970) Motivation and Personality, Harper & Row, New York (Russian Trans-
lation 1999).
Safronova, Ekaterina S. (1980) “Zen laughter as a reflection of an archaic agricultural holiday”,
Symbolism of cults and rituals of the peoples of foreign Asia , Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury ,
Moscow, pp. 68–78 (in Russian).
Smith, Lacely B. (1997) Fools, martyrs, traitors. The story of martyrdom in the western wo rld, No rth-
western U niversity Press.
Stace, Walter T. (1961) Mysticism and Philosophy, Macmillan, London.
Suzuki, Daisetsu T. (1970) Zen and Japanese Culture, Princeto n, New York.
Zhirtueva, Natalia S. (2018) Philosophical and mystical traditions of the world, Vuzovskii ucheb nik,
INFRA-M, Mos cow (in Russian).
Zhirtueva, Natalia S. (2016) “Tantris m in the context of co mparative analysis of philosophical and
mystical traditions of the world”, Paradigms of History and Social Developm ent, Vol. 4 (2016), pp. 26–36
(in Russian).
Сведения об авторе
ЖИРТУЕВА Наталь я Сергеевна –
доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры «Полито логия и междуна-
родные отношения» Ин ститу та обществен-
ных наук и международных отношений
Севастопольского государственно го уни-
верситета
Author’s information
ZHIRTUEVA Natalia S. –
DSc in Philosophy, Associate P rofessor,
Professor, Depart ment «Political Science and
International Relations», Institute of Social
Sciences and Int ernational Relations,
Sevastopol Stat e University.
76
Развитие практической критики поэзии от
Новой критики к деконструкции
© 2019 г.
В.А . Однорал
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4.
E-mail: : odnoral.valeria@yandex.ru
Поступила 31.01.2019
В статье делается попытка рассмотреть практическую критику в качес-
тве отправной точки критического англо-американского литературове-
дения XX века. Наиболее важным результатом развития практической
критики было создание внятной и четкой методологии чтения поэзии в
рамках школы Новой критики. Новая критика стала началом практи-
ческой критики, основанной на близком и тщательном прочтении
текста, которая оказалась во многом сходной с методикой анализа
текстов Ж. Деррида. Если говорить о литературной критике, то де-
конструктивизм в определенной мере можно считать переходным эта-
пом между исчерпавшим себя формализмом и сменившими его
направлениями, перешедшими к более широкой социальной и куль-
турной критике. C приходом деконструктивизма в США и появлени-
ем Йельской школы деконструктивистской критики в 1970-х гг.
начался последовательный отказ американских критиков от теорети-
ческих положений «Новой критики». Врéменная победа формы над
содержаниемш в вопросах изучения поэзии навсегда изменила поэти-
ческую критику. Подобный метод работы с текстом был общим ме-
стом критики XX века, поэтому панорамный взгляд на практическую
критику сквозь призму взаимосменяемых критических направлений
от Новой критики к деконструкции является плодотворным в вопросе
определения её преимуществ и недостатков.
Ключевые слова: поэзия, критика, практическая критика, close reading,
Новая критика, структурализм, постструктурализм, деконструктивизм.
DOI: 10.31857/S004287440007164-5
Цитирование: Однорал В.А. Развитие практической критики поэзии от
Новой критики к деконструкции // Вопросы философии. 2019. No 10.
С. 76–86.
77
The Development of Practical Criticism of Poetry From New
Criticism to Deconstruction
© 2019 г.
Valeriia A. Odnoral
Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av.
GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.
E-mail: odnoral.valeria@yandex.ru
Received 31.01.2019
The article deals with «practical criticism» as a starting point of Anglo-
American critical literary studies of 20th century. New Critics created a con-
sistent and understandable method of reading poetry what they called «close
reading». New Criticism has given rise to a practical criticism based on close
and careful reading similar to the method of textual analysis J. Derrida. When it
comes to literature criticism, Deconstruction can be considered a transitional
phase between exhausted itself formalism and its predecessors, the movements
transferred to a broader social and cultural criticism. The American critics’ con-
sistent denial of New Criticism theoretical foundations began with the arrival of
Deconstruction to USA and with the emergence of Yale school. Short-lived
victory of form over content has forever changed poetry criticism. The method
was a common vision of criticism from New Criticism to Deconstruction.
Therefore an examination of broader perspective of history of literary criticism
of 20th century is the productive approach to underline the strengths and
weaknesses of «practical criticism».
Key words: poetry, criticism, practical criticism, close reading, New Criti-
cism, structuralism, post-structuralism, Deconstruction.
DOI: 10.31857/S004287440007164-5
Citation: Odnoral, Valeriia A. (2019) “The Development of Practical Criti-
cism of Poetry From New Criticism to Deconstruction”, Voprosy Filosofii,
Vol. 10 (2019), pp. 76–86.
XX век был временем расцвета литературной критики. В 1920-е годы Новая крити-
ка – англо-американский вариант формализма – стала наиболее авторитетным профес-
сиональным литературно-критическим направлением, представившим не только теорию,
но практику чтения и понимания поэзии. Это заслуживает внимания, потому что до
XX в. мы почти не сталкиваемся с подробной критикой ни поэзии, ни литературы в це-
лом. Более того, история критики до начала XIX в. является историей эстетики, а не
критической практики, и даже эсcе, посвященные конкретным авторам, довольно редки.
Хотя нет причины считать, что в предыдущие века люди читали более поверхностно,
до появления критики, за некоторыми исключениями, действительно не было критериев
и рациональных оснований для детальной интерпретации и анализа. Исключения со-
ставляют примеры, которые, как правило, создавались с целью, отличной от собственно
критической. К ним можно отнести пособия по риторике от античности до Ренессанса;
биографии художников, скульпторов и архитекторов или более поздние биографии по-
этов, давшие толчок развитию практической критики в Англии; комментарии на литера-
турные произведения и ранние юридические комментарии; религиозная герменевтика и
комментирование Библии, которые стали моделями как для литературного образования,
так и для критической интерпретации.
В период романтизма критические обзоры стали медиатором между все более слож-
ной литературой и все более разнообразной аудиторией, а рецензенту предлагалось
в некотором роде противостоять авторскому произведению, чего эстетики не делали.
78
В 1802 г. в Англии появляется журнал «Эдинбургское обозрение», в котором противники
романтизма совершают утонченные критические нападки на Вордсворта, Шелли, Байро-
на и Китса. Но, несмотря на то что встреча поэтической индивидуальности автора,
транслируемой через его произведения, с персональными установками критика все-таки
происходит, результаты критики все еще не могут претендовать на научность. Критиче-
ское суждение об искусстве во многом обусловлено понятиями классического стандарта
литературного «приличия», традицией и даже происхождением его непосредственных
участников. Преодолеть опосредованность и субъективизм удалось с открытием техники
близкого чтения (close reading) в рамках Новой критики, которое, однако, совпало с по-
терей способности читать «с чувством» [Dickstein 1996, 44].
Именно Новая критика дала толчок для становления и развития современной литера-
турной критики в университетах. «Практическая критика» (Practical Criticism) Айвора
Армстронга Ричардса в 1929 г. дала начало традиции, способной, как отмечают совре-
менники, научить студентов читать поэзию «разумно, вдумчиво, с пользой и с макси-
мальным удовольствием» [Brown 2012, 43]. В данной работе Ричардс запротоколировал
комментарии, которые давали его студенты на представленные анонимными простые и
лаконичные стихотворения различных авторов. Картина получилась исчерпывающей:
«Практическая критика» впервые за все время существования критики представила пол-
ностью задокументированный процесс коллективного близкого чтения поэзии.
Ричардс и новые критики оказали большое влияние не только на становление
и развитие критики как академической дисциплины в университетах, но и на содер-
жательную составляющую критики второй половины XX в. «Практическая критика»
идеей нескольких смыслов стихотворения и возможностью различных прочтений под-
рывает господствовавший тогда формализм и предполагает, возможно, некоторые со-
бытия последующей критики. Ведь эксперимент с анонимным прочтением – это ис-
следование вполне в духе постструктурализма, речь ведется о литературе без авторов,
освободившейся от идеализации личности поэта и находящейся вместо этого в про-
странстве семантических кодов и потенциальных значений. Новые критики, в частно-
сти, Уильям Эмпсон и Клинт Брукс, развили взятое у Ричардса понятие двусмыслен-
ности, присущей самому тексту-объекту, а не различным способам его прочтения.
В «Практической критике» Ричардс использует поэзию как будто бы для эмпириче-
ских целей: отрывая тринадцать стихотворений от их автора и контекста создания и
трансляции, он записывает интерпретацию своих студентов-читателей, чтобы впослед-
ствии выявить таким образом «главные трудности критики» [Richards 1956, 12]. Наиболее
распространенные критические ошибки он классифицировал и описал от простейших к
самым сложным. Так, Ричардс настаивает на влиянии самого стихотворения на ход кри-
тической работы. Он пишет, что мы «должны уважать свободу и автономность стихотво-
рения» [Richards 1956, 227], ведь само стихотворение, не отягощенное информацией об
авторе и контексте, является основополагающим актом литературного анализа. Автоном-
ное в этом смысле стихотворение становится необходимым данным для критики.
Смысл проделанной работы состоял также и в том, чтобы представить удивительное
многообразие человеческих реакций на столько различных типов поэзии, сколько могла бы
вместить книга такого размера (первое издание «Практической критики» Ричардса включа-
ет в себя чуть более 400 страниц). Сам Ричардс, проводя свой образовательный экспери-
мент, принципиально новый в литературной критике, преследовал три главные цели.
Во-первых, «представить новый вид документирования для тех, кто интересуется совре-
менным состоянием культуры, будь то критики, философы, преподаватели, психологи или
даже просто любознательные люди». Во-вторых, «предоставить новую технику тем, кто
хочет узнать для себя, что они думают или чувствуют по поводу поэзии и почему она долж-
на нравиться или не нравиться им». А в-третьих, «попытаться подготовить более эффектив-
ные методы обучения пониманию того, что мы слышим или читаем» [Richards 1956, 3].
Для достижения первой цели Ричардс выбрал тринадцать стихотворений из англо-
американской литературы от Шекспира и Джона Донна до Д.Г. Лоуренса и Дж. М. Хоп-
кинса, Эллы Уилер Уилкокс и Эдны Сент-Винсент Миллей. Пять стихотворений из всех
были для Ричардса очевидно хорошими, пять – очевидно плохими, а оставшиеся три –
79
явно проблематичными. Он предлагал студентам, специализирующимся в основном на
английской литературе, записать критические замечания к предложенным стихотворени-
ям, авторство которых за редким исключением так и не было выявлено. Анонимность
стихотворений помогала студентам выносить относительно независимое от литературных
норм и общественного вкуса критическое суждение. Комментарии студентов были также
выстроены Ричардсом в группы, демонстрирующие те широко распространенные виды
критики, на которые, по его мнению, обычно способны читатели. Исследующий не
столько теорию, сколько практику чтения, большое внимание Ричардс также уделял то-
му, какое количество «прочтений» потребовалось студентам, чтобы дать окончательный
ответ. Методологически интересно, что те прочтения, которые вызывали в умах студен-
тов один-единственный всевозрастающий отклик на стихотворение, в аналитической
системе Ричардса представляли собой одно «чтение».
Результаты эксперимента Ричардс называет «записью фрагмента полевой работы по
сравнительной идеологии» [Richards 1956, 102]. Хотя он вряд ли вкладывал в эти слова
тот же смысл, что вкладывают в него исследователи, связанные с критикой в духе исто-
ризма и контекстуализма [North 2017, 34], Ричардс не признавал независимости критики.
Все детали обретали связь со ссылкой на конкретный результат. Чтение поэзии для
Ричардса – процесс непрерывного и усердного поиска, для описания которого оказались
непригодны как старая форма эстетического эссе, так и форма газетных обзоров.
Но несмотря на стремление сделать критику не только более научной, но также более
простой, понятной и осуществимой, Ричардс в «Практической критике» предостерегает
от механического применения провозглашаемых им принципов: «Вряд ли когда-нибудь
существовало критическое правило, принцип или максима, которое не было бы для муд-
рых людей полезным руководством, а для дураков – заговором» [Richards 1956, 12]. Вы-
сказанное в самом начале работы, это замечание оказалось весьма дальновидным.
Больше полувека «Практическая критика» считалась одним из ориентиров совре-
менной критики, однако, как это часто бывает с классиками, эта история является
намного более историей об авторитете, нежели о реальном чтении поэзии. Студенты
Ричардса были прекрасно подготовлены в области теории поэзии, знали почти все о
рифме, метре и стихотворных формах – однако, получилось, что, прочитывая стихо-
творение, несмотря на анонимность, они на деле всего лишь проверяли его на соответ-
ствие общепризнанным тогда нормам «высокой» поэзии романтиков конца XIX в.,
которую изучали. «Практическая критика» Ричардса в этом плане как бы отрезала себя
от форм современной поэзии, к созданию которой в Англии были в разное время при-
частны и Д.М. Хопкинс, и Д.Г . Лоуренс, и У.Х . Оден. Оторванные от культурного, ли-
тературного и собственно поэтического контекста эпохи, в самых восхитительных сти-
хотворениях Хопкинса практические критики видели лишь «плохие» стихотворения,
предложенные Ричардсом: бессмысленное скопление слов, не связанных между собой
ритмом и рифмой [North 2017, 69].
Смысл «Практической критики» состоял в рассмотрении произведения в его авто-
номности и чистоте. Однако главная слабость самого этого направления, по мнению
М. Дикштейна [North 2017, 69], была в рассмотрении стихотворения с точки зрения го-
товых штампов, выработанных в рамках постоянной практики и преподавания. Чем
дольше существовала Новая критика, тем дальше ее представители уходили от того, что
реально должно было представать перед ними в процессе чтения [Dickstein 1996, 45].
Новая критика стала частью растущей критической тенденции XX в. к пониманию
литературного (в случае Новой критики – поэтического) как органически объединен-
ного и самодостаточного объекта, из интерпретации которого должны быть исключены
все ссылки на внешний мир и намерения автора. Большим преимуществом Новой
критики было то, что ее представители настаивали на высоко дисциплинированном
внимании к стихотворению самому по себе. Выбор поэзии в качестве объекта исследо-
вания не был случайным: по мнению новых критиков, стихотворение представляет
собой сложное взаимообусловленное единство коннотаций и формальных эффектов.
Однако впоследствии вся научная и преподавательская деятельность последователей
Ричардса была сосредоточена лишь на том, чтобы оставаться в границах определенного
80
теоретического поля. Существующая литература как цельная дисциплина, обеспечива-
ющая собственное продвижение и распространение, уже не была живым порождением
творческого гения. Новая критика монополизировала право на критическое суждение о
поэзии, которое стало возможным в результате проведения одних и тех же автоматизи-
рованных действий в соответствии с методологией направления. Но несмотря на то что
формально новые взгляды поощрялись, различие мнений было так незначительно, что,
получая академическое признание, они тоже становились частью общей консерватив-
ной инерции. В самой предметной области поэтической критики, где все комментиру-
ется, для Новой критики и вовсе не требовалось новых взглядов: для нее существовали
только тексты, которые могли быть «прочитаны» и «пере-прочитаны», обязательно
с успехом. Тем более что некоторые формы близкого чтения не имели никакого отно-
шения к тому, как кто-либо действительно читает. Новая критика обеспечивала выда-
ющиеся инструменты для преподавания, но в то же время уходила все дальше от пер-
воначальной свободной игры ума, которая, как нам кажется, придает ценность интел-
лектуальной жизни.
Несмотря на триумф практической критики, Новая критика прекратила суще-
ствование, когда ее метод был полностью ассимилирован: техника близкого чтения и
видение формального сопряжения всего со всем в тексте стали частью работы почти
каждого преподавателя или критика, и в результате – частью профессиональной под-
готовки редакторов, журналистов, книжных обозревателей и даже авторов.
Но в конце 1950-х и в 1860-х гг. «анатомический» подход к литературе в США
был подвергнут сомнению вследствие его недостаточности, а интеллектуальные вея-
ния континентальной Европы, казалось, могли спасти положение. Однако ни струк-
турализм, ни постструктурализм и деконструктивизм, вооруженные методами прак-
тической критики, не смогли окончательно вернуть литературному тексту контексту-
альные связи, благодаря которым текст не является автономным объектом, определя-
емым с точки зрения наших представлений об искусстве и критике.
Арт Берман в работе «От Новой критики к деконструкции: рецепция структурализма
и постструктурализма» [Berman 1988] уделяет большое внимание месту и возможности
встречи исчерпавшей себя англо-американской традиции с европейской, являющейся
основным источником критики в 1960-е гг. Он утверждает, что английские и американ-
ские критики, несмотря на очевидное сходство Новой критики с некоторыми положени-
ями структурализма, особенно с представлением об органической взаимосвязанности
элементов стихотворения, долгое время двигались прямо противоположно европейской
мысли. Как минимум потому, что Новая критика полагала независимость поэтического
текста, не использовала ни в каком виде теорию языка (напомним, что фундаментом и
образцом для методологии структурализма была структурная лингвистика), а ее теорети-
ческий словарь был в основном ограничен понятиями «парадокс», «ирония», «двусмыс-
ленность» и «символизм». Однако на подготовленной увядающей Новой критикой аме-
риканской почве структурализм, постструктурализм и деконструктивизм быстро превра-
тились в теорию чтения и письма. Американцы, по мнению Бермана, были не заинтере-
сованы в континентальной философии, в итоге сократив всю работу Барта и Деррида до
практической техники. Деконструкция метафизики от Канта до Хайдеггера позволила
американской критике все так же держать философию как бы на расстоянии, используя
такую симпатичную им методологию практической критики с выгодной для них сторо-
ны – представления критики как персонализированного акта.
С середины XIX в. процессы развития французской и американской литературной
критики шли параллельно друг другу, почти не имея точек соприкосновения. У исто-
ков французской критики стоял основатель структурной лингвистики Фердинанд де
Соссюр, а у английской – поэт, литературовед и теоретик культуры Мэтью Арнольд
[McConnell 1990, 101]. Арнольд видел в критике выход из религиозного кризиса свое-
го времени; критика, по его мнению, заключалась в бескорыстном стремлении изу-
чать и распространять «лучшее из того, что было помыслено и сказано», – культуру
[Arnold 1865, 38]. Критика была уделом привилегированной части общества , а Окс-
форд был для него оплотом цивилизации и культуры. Новая критика как следующий
81
этап развития англо-американской критики переключила внимание с постоянного
подтверждения и пере-подтверждения культурных канонов на анализ.
Новая критика привнесла два принципиально новых момента, которые позволили
национальной традиции Англии и Америки включиться в передовое течение франко-
говорящей литературной критики. Новые критики смягчили требования к толкованию
текстов, и за этим также последовала демократизация профессии и культуры в целом.
Это случилось после Второй мировой войны, когда теоретическая популярность Новой
критики совпала с появлением «Закона о реабилитации военнослужащих 1944 года»
(G.I. Bill), предоставившего целому поколению молодых людей шанс освоить профес-
сию, которая прежде не соответствовала их экономическим возможностям. Ведь прак-
тическая критика не требовала от читателей поэзии соответствия высшему классу, как
этого требовала критика времен Арнольда. Но уже в 1957 г. канадский критик Нортроп
Фрай опубликовал «Анатомию критики» (Anatomy of Criticism), которая, как казалось,
бросила радикальный вызов Новой критике. Однако этот вызов заключался не в пря-
мом противопоставлении идей Фрая и Новой критики, а в попытке первого обобщить
литературную теорию и придать ей научный характер, упорядоченность, которой не
хватало новым критикам. Фрай пытается сделать это на основе идей структурализма.
Он рассматривает произведение как воплощение элементарных мифических структур,
а саму литературу уже не как «...способ познания реальности, а род коллективных уто-
пических мечтаний на протяжении всей истории <...> она берёт своё начало в коллек-
тивном субъекте человечества, который воплощается в “архетипах” – фигурах универ-
сального знания» [Иглтон 2010, 122]. Однако сейчас нам кажется, несмотря на проти-
воречия, что структурализм Фрая не выбивается из англо-американской критической
генеалогии: до сих пор в центре внимания находится текст, есть способ близкого чте-
ния и практические критические методы.
Что касается постструктурализма и деконструкции, то деконструкция текста была
одним из этапов французской интеллектуальной критики в рамках длительной тра-
диции «экспликации текста» (explication de texte), в отличие от англо-американской
эмпирической традиции. Если главным препятствием жизнеспособности Новой кри-
тики было объективирование текста, в отношении которого возможно всеобщее со-
гласие, то деконструктивисты, напротив, выставляли напоказ свою изобретатель-
ность, теряя текст в бесконечном множестве правильных и неправильных прочтений.
Деконструкция предоставила возможность одной и той же книге быть совершенно
разной для любого числа читателей, что, конечно, вступало в противоречие с «об-
щинной» основой Новой критики. Деконструктивистский критик, который может
манипулировать текстом по своей воле, создает почти непроницаемый барьер –
собственный стиль, который выступает отвержением любой унификации.
1967 год был отмечен возникновением деконструктивизма во Франции, связан-
ным с публикацией работ Жака Деррида «О грамматологии» и «Голос и феномен».
Влияние Деррида в США проявилось в развитии его идей сначала в Университете
Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд), а затем в Йельском университете.
Наиболее влиятельной в США была Йельская школа деконструктивизма. В числе ее
представителей были Пол де Ман, Дж. Хиллис Миллер, Дж. Хартман и Х. Блум, ко-
торые в основном разделяли идеи Деррида. В отличие от Новой критики, постструк-
турализм и деконструкция были гораздо более философией, чем литературной теори-
ей. И даже там, где мы сталкиваемся с применением их методологии к литературным
текстам, мы не испытываем необходимости отделить поэтический текст от совокуп-
ности не-поэтических текстов, ведь «внетекстовой реальности вообще не существует»
(Il n'y a pas de hors-texte) [Деррида 2000, 313]. Но деконструкция уходит еще дальше от
литературы, ведь литературная деконструкция используется в основном в спорах тео-
ретиков о ценности их собственных теорий, а не о ценности обсуждаемых текстов.
Таким образом, механика производимых манипуляций и сохранение п редставле-
ния об автономности текста, объединенные понятием практической критики,
представляются нам нитью, связывающей Новую критику со структурализмом, пост-
структурализмом и деконструкцией.
82
Несмотря на это, практический принцип прочтения в поздней работе Ролана Бар-
та «S/Z» (1970 г.), посвященной построчному разбору новеллы Оноре Бальзака «Сар-
разин», имеет много общего с «Практической критикой» Ричардса, между формализ-
мом, примером которого являлась Новая критика, и структурализмом (и постструк-
турализмом) существует ряд различий. В то время как Новая критика ищет в тексте
иронию или парадокс, которые уникальны для этого конкретного текста, структура-
лизм не всегда остается в пределах одного данного текста в попытке найти общие
точки и структуры, которые могут иметь интертекстуальные корреляции с совокуп-
ностью других текстов. Поэтому структурализм сосредоточен не на поиске смысла
одного текста, а на выявлении общих структур литературы и общества в целом, кото-
рые отвечают за их появление. Это как раз и называется структуралистской поэтикой
[Тодоров 1975, 41], а сам этот принцип функционирует во всем поле существования
значений и подразумевает собственно поэтическое как частное проявление текста.
Разрыв между постулатами формализма и структурализма был еще более углублен
постструктурализмом, окончательно отказавшимся от поиска смысла текста и тракто-
вавшего текст уже не настолько автономным и закрытым объектом исследования
и интерпретации. В связи с этим, на наш взгляд, структурализм и постструктурализм
дают сравнительно мало поводов для размышлений о поэтическом, часто игнорируя
собственно поэтические проявления и признаки и теряя их в общем потоке текстов.
К такому выводу приходит и Джонатан Каллер в работе 1975 г. «Структуралистская
поэтика: структурализм, лингвистика и изучение литературы» [Culler, 2002], отмечая,
что чтение поэзии – это управляемый процесс создания значений, ведь стихотворе-
ние предполагает структуру, которая должна быть наполнена в соответствии с опре-
деленным набором формальных правил, вытекающих из предыдущего опыта чтения
и интерпретации поэзии, который и делает возможным читательское изобретение,
и накладывает на него определенные ограничения [Culler 2002, 22].
Практическая критика – это одновременно и успех, и провал литературной кри-
тики в целом: с одной стороны, это действительно приближение к тексту в процессе
суждения и понимания, а с другой – всего лишь механика и одержимость техникой.
Ведь если чешский структуралист Ян Мукаржовский в 1940 г., говоря о поэтическом
языке вообще, всё еще сохраняет контекстуальные связи (например, с национальным
литературным языком) [Мукаржовский 1996], то Ролан Барт в работе «Существует ли
поэтическое письмо?» (1953 г.) проводит различие между классической и современ-
ной поэзией на основании изменения в понимании природы той или иной эпохи и
невозможности внешних вторжений в современную ему поэзию. Барт показывает,
как меняются сущность и функции поэзии. По его мнению, рассматривая поэзию
в классическом смысле, как одну из форм коммуникации, можно упустить из вида,
что в современную эпоху коммуникация при помощи поэзии затруднительна. Осво-
божденное от власти Автора во второй половине XX в., поэтическое Слово уже не
единозначно. Оно несет в себе бесчисленное количество смыслов, прямо уводя чита-
теля от целей коммуникации. В современном поэтическом Слове, по Барту, нет кон-
текста, но есть память обо всех породивших его корнях, а не о выборочных значени-
ях. Слово уже не задано социализированным дискурсом: оно содержит все свои зна-
чения разом. Такая поэзия непредсказуема и противостоит социальной функции
языка [Барт 1983].
Теоретики структурализма и постструктурализма были одержимы языком, а сле-
довательно, также придавали литературе самореферентный характер. Мы можем
назвать это очередным этапом развития практической критики – более теоретизиро-
ванным на основе структурной лингвистики – а значит, сохранением представления
об автономности поэзии, но уже не вследствие ее «органичности», как у Новой кри-
тики, а вследствие существования ее как части литературного корпуса текстов. Это пред-
ставляется нам еще одним витком в самосознании модерна, и возможно, в какой-то сте-
пени хождением кругами, в то время как с приходом деконструктивизма перевес в пользу
теории, а не метода, становится всё сильнее: теория критики усложняется настолько, что
любое практическое её воплощение становится неубедительным.
83
Связь и преемственность между Новой критикой и деконструктивизмом, в част-
ности, его американской версией, по-разному оценивается исследователями. В рабо-
тах зарубежных авторов мнения о характере деконструктивистской критики в Амери-
ке разнятся от деконструкции как «декадентской версии формализма» [Leitch 1982]
или даже формализма, онтологически нагруженного [Lentricchia 1980], до утвержде-
ния независимости направления, полностью порвавшего с Новой критикой.
На наш взгляд, рассмотренные диахронически, Новая критика и деконструкция в
США являются последовательными процессами, а деконструктивизм – необходимой
конкретизацией Новой критики. В этом довольно ограниченном историческом кон-
тексте деконструкция не просто следовала за Новой критикой, но в то же время и
наступала на пятки структурализму. Однако прогрессивный порядок: Новая крити-
ка – структурализм – постструктурализм/деконструктивизм – представляется нам
ошибочным, так как структуралистское влияние в американской академической сре-
де никогда не было так широко распространено, как Новая критика, и, следователь-
но, оказало гораздо меньшее влияние на критиков, ставших последователями Дерри-
да [Barzilai, Bloomfield 1986]. К тому же, французская деконструкция имела свои
корни в континентальной философии (работы Ф. Ницше и М. Хайдеггера), в тради-
цию которой американские формалисты не были включены. Вопросы природы бы-
тия, его присутствия и отсутствия, а также отношения с языком, поднятые Деррида,
не имели отношения к интересам Новой критики.
Реальная оценка деятельности первых деконструктивистских критиков в США
осложняется тем, что почти все они являлись наследниками традиций Новой крити-
ки и сохранили некоторую приверженность ее идеям, даже выходя в работе над тек-
стом за пределы тупика «апорий» – противоречий, обозначенных Деррида. По этой
причине аналитические методы, применяемые некоторыми деконструктивистскими
критиками, часто имеют сходство с методологией новых критиков. Формальный ана-
лиз и близкое чтение – практические завоевания деконструкции, отточенные пред-
шественниками в рамках Новой критики, но дополнительно осложненные и видоиз-
мененные почти до неузнаваемости. Ведь Деррида в ранние годы находился под вли-
янием уже упомянутой французской традиции explication de texte, пристально иссле-
дующей текст во всей его сложности, поэтому часто следовал ей и укреплял подоб-
ный метод [Деррида 2000, 158]. Однако признание и уважение практической критики
самим Деррида было возможно лишь в условиях сохранения принципиальных разли-
чий. Близкое чтение уже применяется не только (или не столько) к анализу поэтиче-
ских произведений, но также и к прозе. Формалистские практики в деконструкти-
вистском анализе составляют лишь половину операций, предписанных Деррида. Ин-
струменты традиционной критики необходимы ему, чтобы, напротив, подвергать со-
мнению автономность и закрытость текстов, наличие истинной интерпретации и раз
и навсегда определенной этим смысловой системы. А Новая критика использует эти
практики для того, чтобы прийти в итоге к окончательным высказываниям о поэти-
ческом тексте, которые необходимо следуют из его формальной структуры. Для де-
конструктивистского критика текст полон неразрешимых сложностей и двусмыслен-
ностей. Терри Иглтон пишет, что деконструкция направлена на утверждение комму-
никативного провала литературы, в то время как в Новой критике коммуникация
остается успешной – значение может быть схвачено в пределах двух разных, но точ-
но определенных значений [Иглтон 2010, 224]. В деконструкции двусмысленность
неразрешима: по мнению Деррида, необходимо анализировать текст, используя в
работе особые знаки, которые не включены в неразрешимые философские бинарные
оппозиции, необходимо присутствующие в тексте.
Деконструктивизм ставит на место абсолютной «читаемости» Новой критики ра-
дикальную «нечитаемость». Американский деконструктивист Дж. Хиллис Миллер
пишет, что двусмысленность и ирония в Новой критике выходят за рамки множе-
ственности значений, но подобные идеи, как правило, существуют в рамках понятия
об органическом единстве произведения, которое имеет подавляющую значимость.
А понятие «нечитаемость» предполагает в тексте наличие двух или более
84
противоречивых значений, которые подразумеваются друг другом, но никоим обра-
зом не могут быть совокупным единством [Hillis Miller 1977, 248].
Вера в то, что текст является автономной и органической сущностью, а также са-
модостаточным единством, имеющим цель в самом себе, – фундаментальная и окон-
чательная доктрина Новой критики. Деконструкция выступает против концепции
стихотворения Новой критики как своего рода эстетической монады и предлагает
принцип интертекстуальности. На это движение от структурализма к деконструкции,
углубляющее разрыв с теорией Новой критики, указывает Барт в упомянутой уже
работе «S/Z», написанной в духе постструктурализма. Барт пишет, что все в тексте
бесконечно и неоднократно, и никогда не включается в конечную структуру. Ведь ни
один текст не предоставляет доступ к Модели, но является входом в сеть с тысячей
различных входов, принимая который, мы получаем доступ не к конкретному по-
вествовательному и поэтическому Закону, а к перспективе. Все тексты пронизаны
множеством прошлых текстов и не являются самодостаточными. Каждый текст пред-
ставляет собой интертекст – набор отношений, сформированный другими текстами
[Barzilai, Bloomfield 1986, 160]. Понятие автономии, подобно понятию абсолютной
истины, является иллюзией. Подобные рассуждения о возможности автономности
поэтического, применяемые Новой критикой по отношению исключительно (или
почти исключительно) к поэзии, здесь имеют непосредственное отношение ко всем
текстам, и к поэтическому тексту в том числе.
Среди Йельских критиков Харольд Блум наиболее очевидно преодолел убеждение
Новой критики в автономности стихотворения, напоминая о центральном значении
истории для изучения литературы. По мнению Блума, поэт обречен осознать свои глу-
бочайшие устремления посредством осознания других «я» и навсегда потерять интерес
к автономии; вот почему литературная критика должна учиться не языку как критике,
а языку взаимовлияния, который управляет отношениями поэтов как поэтов. В этом
контексте Блум так пишет о поэзии: «Каждое стихотворение — это неверное толкова-
ние родительского стихотворения. Стихотворение – это не преодоление страха, но сам
этот страх. Поэтические неверные толкования (то есть стихотворения) решительнее
критических неверных толкований (то есть критики), но это различие не по сути,
а только по степени. Нет истолкований, кроме неверных толкований; и потому вся
критика — прозаическая поэзия. <...> Ибо критик, точно так же, как поэт, должен
стать найденышем поэта-предшественника. Различие в том, что у критика больше ро-
дителей» [Блум 1998, 94]. Там, где Новая критика совершенно не озабочена прошлым,
озабоченность деконструктивистских критиков можно назвать чрезмерной.
Последний гвоздь в крышку гроба Новой критики деконструктивизм заколачивает,
преодолевая различие между первичным и вторичным текстом, творческой и критиче-
ской деятельностью, литературой и критикой. Пол де Ман, вслед за Деррида, называет
литературу и критику, различия между которыми иллюзорны, самым строгим и одновре-
менно ненадежным языком, в терминах которого человек называет и трансформирует
самого себя [Де Ман 1999, 57]. К догмату, что нет никакого внешнего текста, а весь язык
с необходимостью является фигуральным (а не буквальным), Пол де Ман добавляет ме-
тафору взаимодействия слепоты и прозрения. Он диагностирует несоответствие между
самим высказыванием и его смыслом, потому что мы не можем утверждать о них ничего
истинного ни одновременно, ни однозначно. Ведь все формы литературных усилий –
творческих или критических – порождают моменты слепоты, неотделимые от моментов
прозрения [Де Ман 2002]. Расстояние, которое когда-то разделяло автора и читателя,
теперь преодолено. В этом смысле усилия, совершаемые в рамках практической крити-
ки, не имеют никакого глобального смысла в силу своей потенциальной ошибочности.
В итоге получается, что практическая критика поэзии, несмотря на плодотворность
результатов первых экспериментов, изначально была, как кажется, для поэзии немного
«не по размеру». С одной стороны, мы имеем традиционно музыкальное искусство звука,
представляющее собой артикулированный в речи поток чувств очень яркой и вырази-
тельной природы, создаваемый, существующий и транслируемый в определенной куль-
турной среде, а с другой — строгую и достаточно формализованную методологию,
85
предназначенную для успешного чтения стихотворений такими, какие они есть сами по
себе. Но самое интересное в этом исходном несоответствии то, что практическая крити-
ка, в этом смысле изначально обреченная по отношению к поэзии на провал, проделала
вместе с ней большой путь, затронув как минимум три ключевых критических направле-
ния, от радикальной убежденности в возможности прочитать любое стихотворение на
свете к полному отрицанию возможности прочитать таким образом хоть что-либо. Цен-
ность такого фиаско мы находим в наступившем после деконструкции новом историче-
ском повороте, вернувшем в поэзию сразу всё, что она потеряла на пути от Новой кри-
тики к деконструктивизму: и автора, и читателя, и контекст.
Источники и переводы – Prima ry Sources and Tran slations
Arnold, Matt hew (1865) Essays in Criticism, Macmillan, New York.
Hillis Miller, Joseph (1977) The Critic as Ho st. Critical Inqui ry. Vol. 3, No. 3 . The University of
Chicago Press, Chicago.
Leitch, Vincent (1982) Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction. Columbia University
Press, New York.
Lentri cchia, Frank (1980) After the New Criticism. University of Chicago Press, Chicago.
Richards, Ivor Armstrong (1956) Practical Criticism: A Study Of Literary Judgment. Harvest Books, New York.
Барт 1983 – Барт P. Существует ли поэтическое письмо? // М.: Семиотика, 1983 (Barthes,
Roland (1953) Le Degré zéro de l'écriture, Éditions du Seuil, Paris, Russian Translation 1983).
Блум 1998 – Блум Х. Страх влияния. Теория поэзии; Карта п еречитывания. Екб.: Издатель-
ство Уральского университета, 1998 (Bloom, Harold (1973) The Anxiety of Influence: А Theory of
Poetry, Oxford University Press, New York, Russian Translation 1998).
Де Ман 1999 – Де Ман П. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и
Пруста. Екб.: Издательство Уральского университета, 1999 (De Man, P aul (1979) Allegories of
Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust, Yale University Press, New Haven
and Lo ndon, Russian Translation 1999).
Де Ман 2002 – Де Ман П. Слепота и прозрение: Статьи о риторике современной критики.
Спб.: Гуманитарная академия, 2002 (De Man, Paul (1983) Blindness and Insight: Essay s in the Rhet o-
ric of Contemporary Criticism , University of Minnesota Press, Mi nneapolis, Russian Translation 2002).
Деррида 2000 – Деррида Ж. О грамматологии. М .: Ad Marginem, 2000 (Derrida, Jacques (1967)
De la gram matologie Les Éditions de Minuit, Paris, Russian Tra nslation 2000).
Иглтон 2010 – Иглтон Т. Теория литературы. Введение. М.: Территория будущего, 2010 (Eagleton,
Terry (1963) Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota, Minneapolis, Russian Translation 2010).
Мукаржовский 1996 — Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. М.: Школа «Языки русской
культуры», 1996 (Mukařovský, Jan (1948) Kapitoly z české poetiky, Svoboda, Praha, Russian Translation 1996).
Тодоров 1975 – Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм «за» и «против». М .: Прогресс, 1975
(Todorov Tzvetan (1973) Poétique, Éditions du Seuil, Paris (Russian Translation 1975).
References
Barzilai, Shuli; Bloomfield, Morton (1986) New Criticism and Deconstructive Criticism, or What's
New? New Literary History, Vol. 18, No. 1, Studies in Historical C hange. The Johns Hopkins Universi-
ty Press, Baltimore.
Berman, A rt (1988) From the New Criticism to Deconstruction: The Reception of Structuralism and
Post-Structuralism, University of Illinois Press, Chicago.
Brown, Jane Ellen (2012) “New Criticism” and the study of poetry. Theses, Dissertations, P rofession-
al Paper. Paper 1435., ProQuest LLC, 2012.
Culler, Jonathan (2002) Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature .
Routledge, Abingdon.
Dickstein, Morris (1996) The Rise and Fall of 'Practical' Criticism: From I. A . Richard s to Barthes and
Derrida. Theo ry's Empire: An A nthology of Dissent, Columbia U niversity Press, New York.
McConnell, Frank (1990) Will Deconstruction Be the Death of literature? The Wilso n Quarterly,
Vol. 14, No. 1 . Wilson Quart erly, Washington.
North, Joseph (2017) Literary Criticism: A Concise Political History, Harvard University Press, Cambridge.
Сведения об авторе
ОДНОРАЛ Валерия Александровна –
аспиран тка кафедры Истории и теории
мировой культуры Философского факуль-
тета Мо сковского го судар ственно го уни-
верситета имени М.В . Ломоносова.
Author’s information
ODNORAL Valeriia A. –
Рostgraduate, Department of History and The-
ory of World Culture, Faculty of Philosophy,
Lomonosov Moscow Stat e University.
86
День и сумерки обещания
(обещание в литературном контексте и в свете теории
перформатива)
© 2019 г.
М.А . Монин
Первый Московский государственный медицинский университет, Москва, 119991,
ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2.
E-mail: monin.maxim@gmail.com
Поступила 19.05.2019
В статье рассматривается феномен обещания в его философском,
лингвистическом и социальном контексте. Автор анализирует теории
перформативных речевых актов Дж. Остина и Дж. Сёрля, полемику
Сёрля и Ж. Деррида; упоминает также роль концепта «обещание»
в философии Ф. Ницше и П. Рикёра. Тема обещания осмысливается
в ее отношении к таким разным областям философских исследований,
как проблема идентичности субъекта, проблема общества как системы
межличностных взаимодействий, проблема перформативных сужде-
ний, проблема темпоральности в ее экзистенциальном аспекте. Автор
стремится показать, что чем более онтологически значимые аспекты
обещания оказываются предметом внимания, тем больше обнаружи-
вается относительно них разногласий среди философов и лингвистов.
Своего рода литературным аналогом теоретическим размышлениям на
тему обещания в статье выступает литературное произведение (роман
Р. Гари «Обещание на рассвете»), что позволяет взглянуть на тему
обещания в плане его отношения к жизни как экзистенциальному
проекту и одновременно – как на сюжетообразующий элемент авто-
биографического произведения.
Ключевые слова: обещание, перформатив, констатив, иллокуция, пер-
локуция, комиссивы, обязательство, свидетельство.
DOI: 10.31857/S004287440007165-6
Цитирование: Монин М.А. День и сумерки обещания (обещание в ли-
тературном контексте и в свете теории перформатива) // Вопросы
философии. 2019. No 10. С. 86–98.
87
Day and Twilight of Promise
(a Promise in a Literary Context and in the Light
of a Performative Theory)
© 2019 г.
Maxim A. Monin
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 8–2,
Trubetskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation.
E-mail: monin.maxim@gmail.com
Received 19.05.2019
This article discusses the phenomenon of promise - in its philosophical, linguis-
tic, and social contexts. The author analyzes the theory of performative speech
acts of J. Austin and J. Searle, the controversy of Searle and J. Derrida; while
mentioning also the role of the concept of “promise” in the philosophy of
F. Nietzsche and P. Ricoeur. The theme of the promise is comprehended in its
relation to such different areas of philosophical research as the problem of sub-
ject identity, the problem of society as a system of interpersonal interactions,
the problem of performative judgments, problem of temporality in its existential
aspect. The author seeks to show that the more ontologically significant aspects
of the promise are the subject of attention, the more there is disagreement
about them among philosophers and linguists. As some kind of literature ana-
logue of theoretical reflections on subject, the article advocates a literary work
that allows you to look at the promise in terms of its relationship with the life
project and – at the same time – as a plot-forming element of the autobio-
graphical work.
Key words: promise, performative, constants, illocution, perlocution, com-
missioners, commitment, testimony.
DOI: 10.31857/S004287440007165-6
Citation: Monin, Maxim A. (2019) “Day and Twilight of Promise (a Prom-
ise in a Literary Context and in the Light of a Performative Theory)”,
Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 86–98.
«Вместе с материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое
жизнь никогда не выполняет», – этой фразой Ромэн Гари предваряет свое жизнеописа-
ние в романе «Обещание на рассвете». В нем обещания были даны еще совсем юному
герою – и будущему автору – его одинокой матерью, вынужденной наниматься на лю-
бую работу, лишь бы только сын не чувствовал себя ущемленным, в подчеркнуто катего-
ричной и оттого почти комической форме: «Ты станешь Д’Аннуцио! Виктором Гюго,
лауреатом Нобелевской премии!... Ее взгляд устремился в пространство, а на губах блуж-
дала одновременно наивная и счастливая улыбка». Фанатичная вера матери в будущее
сына, не отличавшая блестящее будущее от безрадостного настоящего (мать с сыном,
«затерявшиеся в захолустье Восточной Польши» едва ли не бедствовали, а сын не пода-
вал никаких надежд), приобретала иногда форму настоящего помешательства, когда
мать, ругаясь с соседями по многоквартирному дому (этот эпизод у Гари напоминает
сцены из романов Достоевского), кричала, выставляя вперед семилетнего сына: «“Гряз-
ные буржуазные твари! Вы не знаете, с кем имеете честь! Мой сын станет французским
посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актером драмы, Ибсеном,
Габриеле Д’ Аннуцио! Он...”... Громкий смех “буржуазных тварей” до сих пор стоит у
меня в ушах...». Эта вопиющая глупость и беспардонное манипулирование безответным
88
ребенком оказались, тем не менее, чрезвычайно эффективным педагогическим приемом,
все значение которого открывается лишь ретроспективному взгляду: «Сегодня я Гене-
ральный консул Франции, участник движения Сопротивления, кавалер ордена Почетно-
го легиона, и если я и не стал ни Ибсеном, ни Д’ Аннуцио, то все же не грех было по-
пробовать... Думаю, никакое событие не сыграло такой решающей роли в моей жизни,
как этот раскат смеха на лестнице старого виленского дома номер 16 по улице Большая
Погулянка. Всем, чего я достиг, я обязан ему как в хорошем, так и в плохом; этот смех
стал частицей меня самого. Прижав меня к себе, мать стояла посреди этого гвалта с вы-
соко поднятой головой, не испытывая ни неловкости, ни унижения. Она знала».
Если обещание, данное герою-автору-рассказчику романа (он не упоминает, что
стал, в добавление к прочему, значительным писателем) и осталось невыполненным,
то совсем в ином смысле (к его рассмотрению мы обратимся позже); вопрос же, ко-
торый следует обсудить сейчас, заключается в том, способен ли роман, уже в загла-
вии которого присутствует слово «обещание», помочь нам в понимании того, что
такое «обещание»? Прежде всего – чем в грамматическом и смысловом отношении
является фраза, сказанная матерью сыну: «Ты станешь великим»? Это не констата-
ция, но это и не пророчество. Эта фраза не эквивалентна ни «Я обещаю, что ты ста-
нешь великим», ни «Пообещай мне, что ты станешь великим». Сам герой/автор
определенно считает, что дал такое обещание («Я не принадлежал себе. Мне необхо-
димо было выполнить свое обещание и, одержав сто великих побед, вернуться до-
мой, увенчанным славой; написать “Войну и мир”; стать французским посланни-
ком – короче, дать раскрыться таланту своей матери»). Но если и так, то это не было
обещанием в смысле сделанного утверждения – его никто и не требовал. При этом
трудно не согласиться с тем, что речь в романе идет именно об обещании – причем
об обещании в его высшем смысле, ускользающем, однако, от точного определения.
Но можно ли достичь такого рода определения или хотя бы большей ясности,
привлекая работы, рассматривающие обещание в более отстраненном и более теоре-
тическом аспекте? А.И . Мелден, автор, вероятно, одной из первых работ, специально
посвященной проблеме обещания (1956 г.), рассуждает преимущественно в коммуни-
кативном и этическом аспектах, полагая, что обещание так же не может быть обле-
чено строгой дефиницией, как слово «аут», используемое в различных играх, – ввиду
слишком большого разнообразия возможных контекстов [Melden 1956, 56]. Однако
во всех этих контекстах, полагает Мелден, обещание сохраняет присущую ему уни-
кальную черту – соединения прошлого и будущего посредством постоянства намере-
ния дающего обещание, который не просто утверждает свое намерение сделать что-
то в будущем, но и настаивает, что таковое намерение у него сохранится к моменту
выполнения обещанного [Ibid., 60], Подобное постоянство делает меня агентом мо-
рального действия, заслуживающего – выполнением своих обещаний – доверия к
себе. Хотя обещание предполагает взятие на себя определенных обязательств, Мел-
ден все же не считает, что обязательство и обещание – одно то же (иначе фраза «я
обязан, потому что обещал» была бы тавтологией [Ibid., 51]); кроме того, обязатель-
ства могут иметь более безличный характер. Также Мелден не отождествляет обеща-
ние с заключением контрактов и подобными формами «социальной кооперации»
ввиду взаимного характера последних [Ibid., 56]. Наконец, настаивая на безусловном
выполнении данных обещаний, Мелден, тем не менее, не исключает возможности их
изменения в случае необходимости [Ibid., 58].
П.С. Ардал в статье на тему обещания [Árdal 1968] отчасти продолжает идеи Мел-
дена, отчасти спорит с ними. Он утверждает, что 1) обещания выражают собой ин-
тенцию, но определенного рода, «положительного для получателя», что позволяет
отделить их, например, от угроз; 2) речевая форма «я обещаю» не является необхо-
димой для подобного рода актов; 3) обязательства характеризуются не столько обяза-
тельством обещающего, сколько ожиданиями того, кому адресовано обещание [Ibid.,
225]. Последний пункт непосредственно полемичен по отношению к позиции Мел-
дена: Ардал утверждает, что обещание теряет силу, когда его выполнение становится
для «получателя обещания» безразличным [Ibid., 235]. Мелден считал, что обещание
89
следует выполнять и в этом случае; другие авторы согласились с этой точкой зрения,
полагая, что мнение получателя всегда может измениться [Stoljar 1988, 200]. В целом
в отношении выполнения обещаний позиция Ардала выглядит более гибкой: хотя он,
как и Мелден, считает обещания (и их выполнение) необходимой частью нормаль-
ной социальной жизни [Árdal 1968, 236], он все же склонен относиться к человеку,
скрупулезно выполняющему все свои обещания, как к фанатику, либо как к человеку
морально незрелому (отчасти присоединяясь, таким образом, к точке зрения Ницше,
о которой будет сказано ниже).
Несколько раньше по отношению к статье Ардала, в начале 1960-х гг., получил
распространение принципиально иной – лингвистический – подход к теме обеща-
ния, в рамках которого обещание в качестве суждения рассматривалось в широком
контексте аналогичных ему речевых актов, обозначенных основоположником данно-
го подхода Дж. Остином как перформативы. В противоположность констативам,
то есть высказываниям – сообщениям, которые можно оценить по обычной для вы-
сказываний оппозиции «истина / ложь», перформативы в классификации Остина
соответствуют речевым действиям, и рассматривать их можно по критериям дей-
ствия, то есть как удачные или неудачные. Например, высказывание: «объявляю, что
заседание состоится завтра в 18.00», сообщает некую информацию, истинную или
ложную, и соответственно, является констативом; но высказывание: «объявляю засе-
дание открытым» – представляет собой перформатив, поскольку является речевым
действием, создающим некое новое положение дел. При этом перформативное вы-
сказывание должно соответствовать определенной грамматической форме (преиму-
щественная форма такого высказывания – первое лицо настоящего времени, напри-
мер: «я обещаю, что..», в то время как «он обещает, что...» означает констативную
форму высказывания), а также определенному социальному контексту (например,
фраза, открывающая заседание, должна быть произнесена именно на заседании и
тем, кто уполномочен его открывать).
Обратившись к исследованию речевых действий, Остин хорошо понимал, что он,
можно сказать, открыл для науки целый континент ускользавших ранее от рассмотрения
речевых форм, но в то же время отдавал себе отчет, насколько сложным делом является
обозначить хотя бы примерные очертания этого континента и описать его рельеф. Преж-
де всего, информация, которую сообщают констативы, очень часто, если не всегда, так-
же означает некое новое положение дел; то есть констативы не отделены от перформати-
вов непереходимой пропастью. Во-вторых, обозначенное перформативом действие может
иметь различное отношение к самому высказыванию. В этом нетрудно убедиться, срав-
нивая такие, например, высказывания как: «называю этот корабль “Королева Викто-
рия”», «приказываю всем освободить помещение», «я утверждаю, что видел его здесь
вчера». В этих высказываниях (Остин относил их все к перформативам) действие либо
совпадает с высказыванием, либо предполагается им, либо предшествует ему. В-третьих,
выполняемое перформативом действие может не содержаться в самом речевом акте:
например, можно сказать (в процессе перформативной речи) «я обещаю», «я называю»,
«я прошу», «я приказываю» и т.д., но, как правило, в перформативном смысле не ис-
пользуются формы «я угрожаю», «я оскорбляю», «я льщу» и т.д., хотя само действие по-
добных речей именно в том, что они угрожающие, оскорбительные, льстивые и т.д.
Для преодоления этих трудностей Остин ввел разделение перформативов по степени,
введя понятия явных (эксплицитных) и неявных (имплицитных) перформативов; вторую
проблему он постарался решить при помощи достаточно сложной классификации пер-
формативных суждений. Что же касается речевых действий, которые «отказываются
называть себя», то Остин, в дополнение к разделению всех высказываний на два класса,
констативов и перформативов, ввел также разделение на три класса: «локуции» (соответ-
ствующие констативам), «иллокуции» (речевые действия, которые сами себя определяют)
и «перлокуции» (соответствующие ситуациям убеждения, угрозы и другим, которые
Остин охарактеризовал общим понятием «пытаться»).
Какое же место занимают обещания в теории Остина и что эта теория дает для
понимания обещания? Рассмотрим тему обещания применительно к каждому из трех
90
указанных выше аспектов (отношение к явному/неявному видам перформативов,
положение в общей классификации речевых суждений, отношение к делению на ил-
локуции и перлокуции).
Остин безусловно относил «внушающий благоговение» (awe-inspiring) [Austin 1962, 9]
перформатив «я обещаю» к так называемым «эксплицитным перформативам», то есть
перформативам, включающим в себя «высокозначимое и недвусмысленное выражение»
[Остин 1999, 39]. Однако обещание, согласно Остину, может содержаться в более или
менее неявном виде в имплицитном, или, как это Остин иногда называет, «первич-
ном перформативе». Отличие последнего от ясного и недвусмысленного обещания
Остин объясняет так: «В качестве примера напишем следующее: (1) первичный пер-
форматив: “Я там буду”; (2) эксплицитный перформатив: “Обещаю, что буду там”...
Если кто-то говорит: “Я там буду”, мы можем спросить: “Это что – обещание?”. Мы
можем получить ответ: “Да” или “Да, я обещаю это”, в то время как ответ может
быть и иным: “Нет, но я собираюсь быть там” (выражающий или объявляющий о
намерении) или же “Нет, но я могу предвидеть, зная свою слабость, что я (возмож-
но) там буду”» [Остин 1999, 64–65].
Итак, фраза «я там буду» может быть, согласно Остину, проинтерпретирована и как
обещание, и как сообщение о намерении («я собираюсь»), которое Остин также отно-
сил к перформативам. Однако Дж. Сёрль, чья теория речевых актов развивает и отча-
сти формализует теорию Остина, утверждает, что сообщения о намерении относится к
констативам, поскольку говорят не о будущем событии, а о настоящем положении дел
(например, о существующем у меня сейчас намерении прийти туда-то), и могут быть
истинными или ложными [Searle 1989, 536]. Но могут ли быть аналогичным образом
ложными обещания (те, которые я, дающий их, не собираюсь выполнять)? Очевидно,
что ложные обещания отличаются от истинных, но очевидно также и то, что ложность
их каким-то образом проецирована на будущее. Обещания определенно предполагают
намерения, но не наоборот; являются ли они «намерениями за границами намере-
ния» – это остается пока неясным.
Но является ли перформатив «я обещаю прийти» действительно ясным и недву-
смысленным? По-видимому, Остин не видел оснований сомневаться в этом, добав-
ляя к грамматической форме обещания лишь требование, чтобы соответствующее
высказывание было услышано и понято [Остин 1999, 31]. Сёрль в своей теории рече-
вых актов ставит вопрос несколько иначе: что такое не просто «ясное», но «успеш-
ное» обещание. Он называет девять таких условий: высказывание «я обещаю прийти»
1) должно быть ясно сказано и ясно понято (условие «входа и выхода»); 2) должно
содержать определенную мысль; 3) должно говорить о каком-то действии в будущем;
4) должно содержать действие, желательное для получателя; 5) это действие не со-
вершится «само собой», то есть при нормальном течении событий; 6) должно содер-
жать искреннее намерение говорящего; 7) должно содержать обязательство говоряще-
го исполнить намерение; 8) должно быть опознано получателем именно как обеща-
ние; 9) должно соответствовать семантическим правилам данного языка, позволяя
опознать сказанное как обещание [Сёрль 1986а].
Несмотря на то что Сёрль распространял свои правила только на «нормальные»
ситуации обещания, соглашаясь, что всегда можно найти какие-то экзотические слу-
чаи и использовать их как контрпримеры, его теория «правильного обещания» кри-
тиковалась как отвлеченная от реального речевого взаимодействия, где обещание
может быть выражено простым «да» или «конечно» [Bach, Harnish 1992, 96]. Крити-
ковали теорию Сёрля также и за то, что она не учитывает сам коммуникативный
контекст, в котором возникает обещание [Barker 1972], см. ниже.
Наконец, Сёрль сохранил тезис Остина о том, что формулировка «я обещаю» в об-
щем случае усиливает перформативную силу высказывания, хотя Сёрль и соглашается с
тем, что в некоторых высказываниях выражение «я обещаю» может не быть перформа-
тивным (например: «я обещаю многое многим людям» [Searle 1989, 537]). Этот очевид-
ный, казалось бы, тезис, вызвал многочисленные возражения. С точки зрения Баха и
Харниша, высказывания типа «я обещаю, что я...» – это вид косвенной речи, когда одно
91
коммуникативное намерение идентифицируется аудиторией посредством другого [Bach,
Harnish 1992, 103]. В подобной интерпретации высказывание «я обещаю, что...» фактиче-
ски отождествляется с таким высказыванием, как, например, «я говорю, что...»; при этом
исключительность «здесь и теперь» обещания неизбежно теряется. Некоторые авторы
полагают, что смысловая приставка «я обещаю» обозначает не столько усиление, сколько
рефлексивную автохарактеристику высказывания, рассматривая «я обещаю» в качестве
своего рода аналога «я мыслю» [Corredor 2009, 294]. Соответственно, «рефлексивные
обещания» и – шире – эксплицитные перформативы могут рассматриваться не как пер-
формативы по преимуществу, но как такие перформативы, в которых говорящий дает
понять слушателям, что он осознает то, что он делает [Johansson 2003, 690].
Проблема ясности и недвусмысленности перформативного высказывания, оче-
видно, заключается в том, что имеются различные виды ясности: есть ясность сужде-
ния (ее в первую очередь имел в виду Остин); есть ясность коммуникации (то, что
Бах и Харниш называют «успехом коммуникации»). Есть, наконец, ясность в смысле
успешности самого перформативного действия (в данном случае обещания), и пос -
ледняя наименее понятна – даже не в силу того, что намерения обещающего никогда
не могут быть совершенно ясны, в том числе и для него самого, но и потому, что
события «совершения» обещания как речевого акта и его последующее исполнение
могут быть включены в совершено различные ситуационные контексты, быть в бук-
вальном смысле несравнимы друг с другом.
Но вернемся к теории Остина в аспекте места обещания в его классификационной
системе перформативных актов. Остин относит обещания к так называемым «комисси-
вам», то есть суждениям, главное свойство которых «обязать говорящего к определенной
линии поведения» [Остин 1999, 130]. В этот класс Остин отнес довольно большую группу
перформативных глаголов, часть из которых можно отнести к «намерениям» (планиро-
вать, намереваться, иметь целью (purpose) и др.), а часть – к «обязательствам» (давать
обет (vow), клясться, заключать договор (contract), гарантировать, обязаться, посвятить
себя (dedicate myself to) и др.). Поскольку предложенная классификация перформативов
не является строгой, комиссивы, пишет Остин, частично пересекаются со всеми осталь-
ными классами перформативных суждений, в первую очередь с классом «экспозитивов»
(представление точки зрения, изложение аргументов, а также прояснение употреблений
и референций) [Там же, 132], «экзерситивов» (принятие решения в пользу или против
определенного образа действий) [Там же, 128], отчасти с классом «вердиктивов» (офици-
альное или неофициальное сообщение, или размышление, или суждение об оценке фак-
тов) [Там же, 127], и, в меньшей степени, «бехавитивов» (реакция на поведение и уста-
новки других людей; крайне разнородный, по признанию самого Остина, класс).
Класс комиссивов с входящим в него обещанием сохраняется также в классификации
речевых актов Дж. Сёрля [Сёрль 1986б], но из этой группы исключаются глаголы наме-
рения и долженствования, которые были «близкими родственниками» обещанию в моде-
ли Остина. Вместе с тем обещания сближаются в интерпретации Сёрля прежде всего с
просьбами, которые он включает в предложенную им группу «директивов» (в остинов-
ской классификации просьбы входили в экзерситивы), поскольку и директивы, и комис-
сивы в классификации Сёрля определяются одним и тем же «направлением приспособ-
ления» высказывания – «от реальности к словам». В итоге Сёрль задается вопросом, не
являются ли обещания просьбами, обращенными к самому себе? Впрочем, отождествле-
ния тех и других он все же не проводит.
Сохраняется класс комиссивов с включенным в него обещанием в и таксономии
речевых актов К. Баха и Р.М. Харниша [Bach, Harnish 1979, 50], но теперь «обеща-
ния» оказываются в наибольшей семантической близости к «предложениям» (offers).
Оба эти речевых акта и составляют, согласно Баху и Харнишу, класс комиссивов.
При этом обещания являются своего рода обобщающим понятием по отношению к
нескольким речевым актам, таким как заключение контракта (contracting) и просьбы
(betting). Кроме того, к обещаниям в классификации Баха и Харниша, принадлежит
несколько «гибридных актов», таких как клятвы (swearing), предоставление гарантий
(guaranteeing), отказ от дальнейшей борьбы (surrendering), представляющих собой
92
«гибрид» комиссивов и констативов. Последние не следует путать с «констативами»
Остина: Бах и Харниш (как до них Сёрль) полагали что некоторые перформативные
акты могут быть оценены как истинные или ложные; констативы в данном смысле
выражают уверенность говорящего в том или ином положении дел и (как правило)
его намерение передать свою уверенность слушателю [Ibid., 41]. Еще одним гибрид-
ным подвидом обещания является, согласно Баху и Харнишу, «приглашение»
(inviting); в данном случае речь идет о гибриде комиссива и директива (последняя
категория, заимствованная Бахом и Харнишем у Сёрля определяется ими как попыт-
ка говорящего вызвать определенное действие со стороны слушателя [Ibid., 47]).
Итак, перед нами довольно пестрая картина частично уточняющих друг друга, ча-
стично противоречащих друг другу классификаций, из которой можно все же извлечь
некоторые соображения относительно границ обещания, отделяющих его от иных ре-
чевых актов. О сходствах и различиях обещания и суждений намерения было сказано
выше; обязательства (в общем смысле) отличаются от обещания тем, что часто предпо-
лагают безличный характер, тогда как обещания обычно кому-то адресованы; обеты,
клятвы, посвящения себя также предполагают обычно некую принимающую институ-
цию, и также изменение статуса дающего обет или клятву. Но все эти формы речевого
действия остаются, бесспорно, близки обещанию. Просьбы, как и обещания, имеют
отправителя и адресата, но, очевидно, меняют их местами, налагая обязательства на
получателя. В своей категоричности обещания могут быть уподоблены вердиктам, но
обещающий обычно не наделен особым статусом, позволяющим ему совершать соот-
ветствующие речевые действия. Различного рода утверждения (которые Остин относил
к типу экспозитивов) можно сравнить с обещаниями, особенно в том случае, когда
утверждения принимают форму свидетельства: семантическое сближение обещания и
свидетельства характерно, как увидим ниже, для позиции П. Рикёра [Рикёр 2010, 125].
Однако свидетельства обычно делаются о ком-то другом, тогда как обещание – о са-
мом обещающем. Кроме того – и, пожалуй, это более важно – различные виды утвер-
ждений, а также различные виды распоряжений опираются обычно не на личность
высказывающего суждение, а на некое положение дел: я что-то утверждаю, потому что
это «объективно» правильно, я кого-то штрафую, увольняю и т.п ., потому что это со-
ответствует тем или иным правилам или инструкциям. Соответственно, я по возмож-
ности устраняю свою личность из соответствующего высказывания. То же самое, как
полагает Остин, говорящий делает и в случае бехавитива, то есть суждения 1) ситуаци-
онного; 2) эмоционально окрашенного, например: «вы обворожительны!», «да пошел
ты!», «извините меня». Но в данном случае «умаление себя», по мнению Остина, про-
исходит «в сторону субъективности»: я либо произношу что-то под влиянием момента,
либо – в случае извинения – указываю на непроизвольность совершенных мною дей-
ствий, то есть сожалею о них, как бы отказываясь считать их своими.
Очевидно, что обещания находятся каким-то не вполне понятным образом между
«объективирующими» и «субъективирующими» перформативами.
Наконец, рассмотрим отношение обещания к высказываниям, которые Остин
называет «перлокутивными». Казалось бы, именно от подобного типа речевого дей-
ствия высказывания, содержащие обещания, должны быть наиболее далеки, по-
скольку перлокутивное речевое действие, напомним, не обозначает себя в качестве
такового: речь может быть оскорбительной, убеждающей и т.п ., но говорящий избе-
гает автореференции («я оскорбляю», «я убеждаю» и т.п .). Некоторые авторы, впро-
чем, полагают, что Остин наделяет обещания несомненным перлокутивным эффек-
том, особенно в тех местах, где акцентирует внимание на связи с другими, которая
создается актом обещания, связи, позволяющей говорить о создаваемой обещанием
дискурсивной ответственности и, соответственно, вывести обещание за пределы «ил-
локутивной изоляции» [Munro 2013, 36]. Действительно, успешность перлокуции
определяется не намерениями или искренностью говорящего, например, его соб-
ственным убеждением в том, в чем он старается убедить других, но исключительно
степенью воздействия его речи на слушателей. Подобная трактовка обещания позво-
ляет рассматривать его коммуникативное действие как процесс сложной игры
93
прямых и обратных связей (от отправителя к получателю и обратно), когда, например,
говорящим могут приниматься в расчет «не просто намерение вызвать определенную
реакцию у слушающего, но намерение вызвать эту реакцию посредством распознава-
ния со стороны слушающего намерения вызвать эту реакцию» [Стросон 1986, 142].
Инициированные обещанием ожидания лежат в основе юридической интерпрета-
ции обещания у С. Стольяра, который подчеркивает, что дающий обещание не про-
сто, «открывает, по словам Шекспира, глаза ожиданиям» [Stoljar 1988, 193], но делает
это намеренно, то есть ответная реакция получателя включена в интенцию обещаю-
щего [Ibid., 203]. По причине активного вовлечения получателя в даваемое ему обе-
щание Стольяр вовсе отказывается рассматривать обещание как перформатив, что
едва ли правильно, даже согласно его собственной логике: это все же речевое дей-
ствие, но имеющее выраженный возвратный характер. Вместе с тем, говорит Столь-
яр, «обещания и ожидания логически различны» [Ibid., 194]: ожидания могут быть
вызваны одними словами о намерении, и, с другой стороны, «пустые обещания» мо-
гут не вызвать никаких ожиданий. Стольяр выдвигает несколько правил для «серьез-
ных» обещаний и обещаний, имеющих юридически обязывающую силу: обещание
должно соответствовать возможностям обещающего; невыполнение обещания, кото-
рое напрямую не зависело от личных сил обещающего, все равно влечет его ответ-
ственность (невыполнение нанятыми им рабочими контракта и т.п .); обещание
должно относиться к будущему, но не отдаленному; обещание должно быть жела-
тельно для получателя. Последнему пункту, который имеется и у Сёрля, Стольяр
придает особое значение, поскольку благодаря ему «обещание означает больше, чем
сообщение о действии, которое намереваются предпринять: оно становится по суще-
ству выполнением намерения получателя обещания, выполнением его ожиданий»
[Ibid., 198]. П. Ардал в упомянутой выше статье утверждает даже, что ожидания спо-
собны «создать обещание», когда, например, перед отъездом во Францию некто го-
ворит другу: «Я привезу тебе бутылку ликера», не рассматривая это как обещание и
забывая о своих словах. Однако по возвращении, когда друг спрашивает: «Где же моя
бутылка ликера?» – он «задним числом» превращает произнесенные слова в обеща-
ние [Árdal 1968, 233].
Некоторые авторы идут еще дальше, рассматривая само принесение обещания как
по преимуществу вынужденное, а именно, как обещание что-то сделать для получа-
теля в ответ на ожидаемую от того услугу. Д. Баркер приводит условный пример та-
кого обещания: «дикарь» просит прохожего вытащить его из болота, обещая за это
быть его слугой в течение года. Подобные обещания Баркер называет «гипотетиче-
скими», противопоставляя их односторонним, или «категорическим» обещаниям
Сёрля, называя последние ««странным отклонением» от гипотетических, поскольку
они не дают основания для появления ожиданий у получателя» [Barker 1972, 27],
приближаясь в этом отношении к необъяснимому с точки зрения предыдущих собы-
тий дару. Если понимать обещание, основываясь на его категорической форме, пола-
гает Баркер, то остается непонятным, почему невыполнение обещания – это зло,
в то время как гипотетическая интерпретация обещания объясняет зло невыполнения
обманутым доверием.
Несомненно, в интерпретации Стольяра и Баркера обещание в большей степени
сохраняет характер коммуникативного взаимодействия, чем, например, приказ, од-
нонаправленный характер действия которого гораздо более выражен. Именно по
причине своей двунаправленности, «двухчастной природы» (their bipartite nature)
[Stoljar 1988, 202] обещания, оказываются в основании самой социальности, посколь-
ку «трудно представить “до-обещающее” или не-обещающее общество»... [Ibid., 204].
При этом социальность порождается не самим по себе коммуникативным взаимодей-
ствием, но главным образом тем, что обещание погружает его в этический контекст,
наделяя отправителя и получателя обещания ролью «моральных агентов, понимаю-
щих роль, которую подобные суждения играют в их жизни» [Melden 1956, 65].
Однако акцент на активной роли получателя обещания, который по существу ока-
зывается его соавтором, не несущим, однако обязательств обещающего, неизбежно
94
ставит нас перед проблемой вынужденных обещаний – не будут ли такие обещания
гораздо более односторонними, чем приказ? Куда будет направлена их перформатив-
ная сила и сохранят ли они свой этический смысл? Остин мимоходом упоминает
случай подобного обещания, не вдаваясь в его подробное рассмотрение: «Заботливый
родитель мальчика, слегка подтолкнув его локтем, говорит: “Конечно же он обещает,
не правда ли, Уил?”, ребенок же покорно стоит рядом, не говоря ничего. Смысл
здесь в том, что он должен дать обещание сам, произнося “я обещаю”, а его отец
слишком торопит события» [Остин 2006, 271].
Конечно, ребенок не способен в данной ситуации отказаться от обещания, и сле-
довательно, он не должен обещать. Вместе с тем, едва ли не для каждого это и есть
первичный опыт обещания, и вполне уместными для его иллюстрации оказываются
слова Ницше, сказанные, впрочем, несколько по другому поводу – у Ницше речь
идет о юности человечества, а не человека: «Именно здесь дается обещание; именно
здесь речь идет о том, чтобы внушить память тому, кто обещает; именно здесь –
можно предположить недоброе – находится месторождение всего жесткого, жестоко-
го, мучительного» [Ницше 1990 II, 444]. Трактовку человека как «великого обеща-
ния» у Ницше следует, очевидно, истолковать в смысле «великого обязательства»,
и тогда прилагательное «многообещающий» способно повернуться к человеку, кото-
рого так называют, своей угрожающей стороной. Итак, должны ли мы исполнять
наши обещания? Ответ Ницше вполне категоричен: «Нет, не существует никакого
закона, никакого обязательства такого рода; мы должны становиться изменниками,
нарушать верность, вечно предавать наши идеалы» [Ницше 1990 I, 483]. Но почему
обещание – даже вынужденное и являющееся ответом на определенного рода наси-
лие – так уж плохо? Потому, отвечает Ницше, что его нельзя выполнить: будущее
неизбежно изменит все – получателя обещания, обещающего, обещанное; утвержда-
емая обещанием тождественность настоящего и будущего не принесет обещающему
ничего, кроме страданий и чувства вины. Поэтому мы должны спросить себя, «необ-
ходимы ли эти страдания при перемене убеждений и не зависят ли они от ошибоч-
ной оценки, от ошибочного мнения... человек убеждения не есть человек научного
мышления; он стоит перед нами в возрасте теоретической невинности и есть ребе-
нок, сколь бы взрослым он ни был»? [Там же].
Критика Ницше производит деструкцию обещания, соотнося его предполагаемое
постоянство со всеизменяющим действием времени. В свою очередь ответ на эту
критику, который предпринимает Поль Рикёр, стремясь «восславить величие обеща-
ния» [Рикёр 2010, 124], также соотносит обещание с категориями человеческого вре-
мени, ставя его в один ряд с памятью, свидетельством и прощением и только по-
том – с коммуникацией или перформативностью как таковой. В «векторном» смысле
обещание и память, по мысли Рикёра, противонаправлены, но в смысле отношения
к иному во времени они скорее аналогичны. Память – это не область нашего «я», где
хранится прошлое; точнее будет сказать, что это наша способность сохранять вер-
ность прошлому. Эта способность всегда находится перед лицом собственной нега-
тивности, причем двух, отчасти противоположных, ее видов – угрозы забвения
и угрозы травмирующих воспоминаний. Наша самотождественность, полагает Рикер,
как раз и формируется через противостояние этой негативности и в то же время
включение ее в себя. Обещание, согласно Рикёру, это своего рода память, направ-
ленная в будущее: если «в случае памяти главный акцент делается на самотожде-
ственности... в случае обещания преобладание самости так сильно, что об обещании
часто говорят как о парадигме самости» [Там же, 106]. Свидетельство, продолжает
Рикёр, также выступает гарантом самотождественности; оно является своего рода
социально ориентированным аналогом обещания: свидетель выступает перед другими
своего рода представителем какого-то события в прошлом, и в то же время «свиде-
тель — это тот, кто обещает свидетельствовать вновь» [Там же, 125]. Наконец, про-
щение – это направленное в будущее обещание не помнить; «освобождая от уз», пи-
шет Рикёр, оно «противостоит необратимости» [Там же]. Что объединяет память,
свидетельство и прощение – элементы смыслового ряда, в который Рикёр помещает
95
и обещание? Это не столько действия (поведенческие или речевые), сколько пози-
ции, линии координат, задающие положение в онтологическом и в то же время ак-
сиологическом универсуме. И возможно, это и есть тот контекст, который – избегая
определений и классификаций – наделяет неуловимый для теоретического мышле-
ния концепт обещания смысловой значимостью.
Однако, акцентируя в обещании утверждаемую им самотождественность обещаю-
щего и также (возможно) получателя обещания, не упускаем ли мы вновь его комму-
никативное измерение? В романе Гари обещание, под знаком которого развивается
действие, определенно придавало самотождественность его главным героям, однако
оно также определяло тип их взаимоотношений. Хотя, с другой стороны, приведен-
ные выше интерпретации обещания как способа социального взаимодействия неза-
висимых и равных друг другу «моральных агентов» также очень мало соответствуют
взаимоотношениям героев романа, особенно если принять во внимание способ ис-
полнения обещания, являющегося предметом повествования. Своим непосредствен-
ным влиянием мать могла создавать только предварительные условия для исполне-
ния обещанного (переехать во Францию, устроить сына в приличную школу),
но первый же серьезный шаг – получение высшего образования – означал разлуку с
матерью. Начавшаяся вскоре мировая война сделала эту разлуку, можно сказать,
окончательной. Однако ничего еще не было выполнено – всему обещанному для
сына только предстояло случиться. У матери оставался лишь один способ воздей-
ствия на ситуацию – письма сыну: «Вскоре после прибытия в Англию я получил
первые ее письма. Они тайно переправлялись в Швейцарию, откуда мне регулярно
пересылала их подруга моей матери. Ни одно из них не было датировано. Вплоть до
моего возвращения в Ниццу спустя три с половиной года, вплоть до моего возвраще-
ния домой, эти письма без даты, без времени, повсюду верно следовали за мной. Це-
лых три с половиной года меня поддерживали более сильный дух и воля, и через пу-
повину моей крови передавалось мужество более закаленного сердца, чем мое соб-
ственное». Обещания, как говорит нам роман, оказались в конечном итоге выпол-
ненными именно посредством этих писем.
Но что дает соединение темы обещания и темы письма, по видимости совершен-
но разнородных, и лишь случайно сложившиеся друг с другом с тексте романа Гари?
Думается, неслучайно обе эти темы оказались соединены в одной из самых острых
дискуссий относительно перформатива вообще и обещаний в частности, развернув-
шейся между Дж. Сёрлем и Ж. Деррида.
Здесь важно подчеркнуть, что упомянутая выше ницшевская идея временнόго
разрыва, создающая невозможность обещания, – это как раз та мысль, которая нахо-
дится «на острие» критики Жаком Деррида теории перформативов Остина, критики,
вызвавшей критический – уже по отношению к Деррида – ответ Сёрля, который,
в свою очередь, вызвал вторичный полемический выпад со стороны Деррида [Derrida
1977; Searle 1977; Derrida 1978]; см.: [Деррида 1996].
Как пишет Деррида, остиновская концепция перформативных актов «относитель-
но нова» (relatively new) [Derrida 1988, 13], поскольку связывает успешность подоб-
ных актов не с переносом смысла («у перформатива нет своего референта»), а тем,
что Деррида называет «сообщить силу импульсом следа». Подобная трактовка, пред-
полагающая непосредственное присутствие участников перформативной коммуника-
ции, а также их вовлеченность в ситуацию коммуникативного акта (искренность,
серьезность намерений, понимание происходящего), постоянно ставит Остина перед
проблемой отделения подлинных перформативных коммуникаций от мнимых. Задача
эта, по мнению Деррида, заведомо нерешаемая, поскольку строгих критериев, отде-
ляющих искренность от неискренности, серьезность от несерьезности, понимания от
непонимания и т.д. нет и не может быть. Причиной здесь является содержащийся в
любой коммуникации «разрыв присутствия» [Ibid., 6], делающий участников комму-
никации непрозрачными друг для друга.
Наиболее очевидным примером такого разрыва является письмо – в его обиход-
ном смысле, как письмо от кого-то кому-то. В качестве средства коммуникации
96
письмо, говорит Деррида, имеет два различных, даже противоположных свойства:
1) оно сохраняется, несмотря даже на смерть отправителя и адресата, сохраняется в
качестве письма, то есть продолжает оставаться читабельным; 2) оно отделяется от
своего контекста, в частности, от намерений написавшего, который умирает в бук-
вальном смысле в ходе написания письма.
Однако письмо, настаивает Деррида, продолжает оставаться структурно читае-
мым, воспроизводя определенные правила, или коды, то есть являясь в широком
смысле слова цитатой. Это свойство сохраняемости содержащегося в письме сообще-
ния Деррида называет «итерабильностью». Отвечая на критику Сёрля, по мысли ко-
торого у Деррида имеет место простая путаница итерабельности с постоянством
написанного [Searle 1977, 201], Деррида говорит, что итерабильность – не просто
повторяемость, но «инаковость этого же самого» [Derrida 1988, 119].
Оба свойства письма – итерабильность и разрыв – являющиеся по сути одним и
тем же, поскольку первое обозначает возможность для сообщения существовать вне
любого контекста, а второе – возможность отделиться от исходного контекста, рас-
пространяются, по мысли Деррида, в том числе и на практику разговорной речи,
делая ее в своей основе «графематичной». В ответ на критику Сёрля, согласно кото-
рой Деррида имеет в виду какую-то «внутреннюю» интенцию автора, в то время как
его письмо или устное сообщение как раз и выражают его, автора, намерение («речи,
так сказать, заменяют собой интенции» [Searle 1977, 202] и могут быть поняты вся-
ким знающим язык, который использовал отправитель), Деррида дает «обещание»
(искренне или иронически) быть «серьезным» в своем анализе аргументов Сёрля и в
конце своего длинного текста, на протяжении которого неоднократно призывает себя
«быть серьезным», подводит итог: «Я обещал (очень) искренне быть серьезным.
Сдержал ли я обещание? ... Я не знаю и не знаю, должен ли был» [Derrida 1988, 107].
Нетрудно заметить, что у Деррида критика теории перформатива предполагает как
«сильную», так и «слабую» интерпретации. Согласно «слабой», никогда нельзя с до-
статочной уверенностью определить иллокутивную силу конкретного перформатива,
то есть определить степень его «подлинности». В соответствии с «сильной» интерпре-
тацией, намерения автора всегда скрываются в самом акте написания, который,
напомним, имеет для Деррида парадигматический смысл по отношению к любой
форме сообщения. Мое бытие в качестве автора – утверждает Деррида – означает
«мое крайне скорое исчезновение, мое в принципе не-присутствие, к примеру, не-
присутствие моего значения, моей интенции-означивания (mon vouloir-dire, mon
intention-de-signification), моего желания-сообщить-вот-это в отправлении и производ-
стве следа» [Derrida 1988, 6]. Это само-исчезновение автора (не просто неясность его
намерений для адресата или случайного читателя, но также их неясность для него
самого) в последующий момент времени; то есть речь идет не столько о коммуника-
тивном, сколько о временнόм разрыве.
Сёрль, конечно, не мог всерьез воспринять подобную логику: для него автор оста-
ется живым в своем сообщении, даже несмотря на свою «эмпирическую смерть»:
понимая язык отправителя, мы вполне понимаем, то, что он хотел сообщить (не
важно, нам или непосредственному получателю сообщения). Вопрос, однако, в том,
не является ли сообщение «силы импульсом следа» в какой-то степени сообщением о
смерти отправителя? Это не означает правоты Деррида, где смерть/исчезновение от-
правителя –это его трансцендентность по отношению к написанному, но не означает
и правоты Сёрля, согласно которому сама смерть трансцендента акту коммуникации.
Вернемся к письмам из романа «Обещание на рассвете», которые мать, оставшись
в оккупированной нацистами Франции, писала сыну, воевавшему в британской
авиации: «“Мой прославленный и любимый сын, – писала она, – мы с восхищением
и гордостью читаем в газетах о твоих героических подвигах. В небе Кельна, Бремена,
Гамбурга твои расправленные крылья вселяют ужас в сердца врагов”. Хорошо ее
зная, я прекрасно понимал, что она хотела сказать. Для нее всякий раз, когда само-
лет Королевских ВВС бомбил цель, я был на его борту... Это ничуть не удивляло ее.
Как раз этого она и ждала от меня. Она всегда это знала». Затем «письма от матери
97
стали короче... Она хорошо себя чувствует. Инсулина у нее достаточно. “Славный мой
сын, я горжусь тобой... Да здравствует Франция!”». Затем сын долго болел и был на
волосок от смерти, однако тяготеющее над ним «обещание» не давало ему умереть
(«Я отказывался признать себя побежденным»), но когда он наконец написал матери,
беспокоясь, что она волнуется по причине трех месяцев его молчания, оказалось, что
«похоже, она этого не заметила... И все же теперь в ее письмах проскальзывала какая-
то грусть. Впервые я почувствовал в них странную нотку, что-то недосказанное и тре-
вожное... Что-то не так, что-то в этом письме скрывалось от меня». И все же обещание
постепенно выполнялось: сын получал боевые награды, написанный им первый роман
принес ему известность, его даже пригласили на дипломатическую службу. «Близилось
время высадки союзников и окончания войны, и в письмах из Ниццы чувствовались
радость и спокойствие, как будто бы мама знала, что конец близок. В них даже скво-
зил тонкий юмор, который я не совсем понимал». Близится также и окончание рома-
на, и читатель подводится к итогу, о котором, вероятно, он уже догадался и сам: «Моя
мать умерла три с половиной года назад, через несколько месяцев после моего отъезда
в Англию. Но хорошо зная, что я не выстою без ее поддержки, она приняла меры.
За несколько дней до смерти она написала около двухсот пятидесяти писем и пересла-
ла их своей подруге в Швейцарию». Несмотря на то, что роман Гари позиционируется
как автобиографический, и следовательно, достоверный, во всяком случае, в важней-
ших деталях (и какой автор решился бы спрятать образ своей реальной матери за ка-
кой-то литературной фикцией!), читатель, который ищет соответствие повествования
критериям «реальной жизни», имеет полное право воскликнуть: «Этого не может быть!
Как можно в течение нескольких лет находиться в переписке, так, чтобы адресат не
догадался о смерти отправителя писем, ведь письма предполагают реакцию на письма
самого адресата, реакцию на внешние события и т. д.». Однако получающий письма
сын мог действительно ни о чем не догадываться, поскольку его мать никогда не обра-
щала внимания ни на что другое, помимо того, что входило в ее «проект обещания»,
обещания, которого она, в качестве перформативного акта, вероятно, никогда не дава-
ла и никогда не требовала, но которым она сама стала. И это действительно означало
ее смерть, смерть как процесс постепенного исчезновения в ее обещании. В итоге это-
го процесса она оказалась не по ту сторону письма, в соответствии с мыслью Дерри-
да, – наоборот, ее не было нигде, помимо письма.
Обещать – значит стать обещанием. Можно ли сказать, что подобная интерпрета-
ция вступает в противоречие с трактовкой обещания как речевого действия или фор-
мы коммуникативной взаимосвязи? Или, напротив, следует совместить то и другое,
прибегнув к неким ожидаемым формулировкам, назвав обещание в первом смысле
предельным значением или онтологическим фундаментом по отношению ко второму
смыслу? Едва ли это на самом деле так, ведь обещание в первом смысле просто нель-
зя выполнить – просто потому, что выполненное, оно остается в одиночестве, у него
не оказывается «другого», для которого все и делается. Эту неразличимость представ-
ляется более правильным метафорически назвать «сумерками обещания», в то время
как пространство взаимодействий независимых агентов – его «днем». Днем слово
соотносится с предметом – его наличием или отсутствием. В сумерках, когда предме-
ты видны плохо, но слово – так же отчетливо, как и всегда, оно, будучи произнесен-
ным, создает предмет. Эта специфическая перформативность языка встречает нас,
когда мы приходим в жизнь. Затем, когда мир приобретает ясность и отчетливость,
она как будто бы отступает, но ждет только подходящего случая, чтобы вернуться.
И не является ли само письмо в его максимально широком значении способом су-
меркам еще раз напомнить о себе? А также еще раз напомнить, что наше обещание
продолжает выполняться.
Источники и переводы – Prima ry Sources and Russian Translations
Гари 2001 – Гари М. Обещание н а рассвете. Пер . Е. Погожевой. М. 2001 (Gary, Romain, La
promesse de l’aub e, Russian Translation).
98
Деррида 1996 – Деррида Ж. Подпись, событие, контекст // Дискурс. 1996. No 1. С . 39–55
(Derrid a, Jaques (1977) “Signatu re Event Context”, Glyph 1, Johns Hopkins University Press, Balti-
more, MD, рр. 172 –197).
Ницше 1990 – Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М. 1990 (Nietzsche, Friedri ch, Works, Russian
Translation).
Остин 1999 – Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов // Остин Дж. Избран-
ное. М.: Идея-Пресс, 1999. С.13 –135 (Austin, John L. (1962) How to do Things with Word s, Claren-
don Press, Oxford).
Остин 2006 – Остин Дж. Перформати вные высказывания // Остин Дж. Три способа про-
лить чернила. Философские рабо ты. СПб .: Алетейя, 2006. С . 262–282 (Austin, John L. (1961)
“Performative Utterances”, Philosophical Papers, Oxford University Press, Oxford, pp. 220 –241).
Рикёр 2010 – Рикёр П. Путь признания. М .: РОССПЭН, 2010 (Ricoeur, Paul (2004) Parcours
de la reconnaissanc e, Gallimard, Paris).
Сёрль 1986а
–
Сёрль Дж. Что тако е речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. 1986.
Вып. 17 . Теория речевых акто в. С . 151 –170 (Searle, John R. (1965) “What is a speech act? “, Phi-
losophy in Am erica , ed. Max Black, Allen and Unwi n, Londo n, pp. 221 –239).
Сёрль 1986б – Сёрль Дж. Классификация иллокути вных акто в // Новое в зарубежной линг-
вистике. 1986. Выпуск 17. Теория речевых акто в. С . 170 –195 (Searle, John R. (1976) “A classifica-
tion of illocutionary acts”, Language in Society, Vol. 5, pp. 1 –23).
Стросон 1986 – Стросон П.Ф. Намерения и конвенция в речевых актах // Новое в зарубеж-
ной лингвистике. 1986. Вып. 17. Теория речевых акто в. С .131–151 (Strawson, Paul F. (1964) “In-
tention and co nvention in speech acts”, The Philosophical Review, vol. LXXIII, No 4, pp. 439–460).
Árdal, Páll S. (1968) “And That's a Promise”, The Philosophical Quarterly, Vol. 18, No. 72, pp. 225–237 .
Austin, John L. (1962) How to do Things with Words, Clarendon P ress, Oxford.
Barker, Do nald R. (1972) “Hypothetical P romising and John R-Searle”, The Southwestern Journal
of Philosophy, Vol. 3, No. 3, pp. 21 –34 .
Derrid a, Jaques (1978) “Limited Inc”, Glyph 2, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD ,
рр. 162–254 .
Derrid a, Jaques (1988) Limited Inc, No rthwestern U niversity Press, Evanston, I L.
Melden, Abraham I. (1956) “On Promising”, Mind, Vol. 65, No. 257, pp. 49–66 .
Searle, John R. (1977) Reiterating the Différences: A Reply to D errida // Glyph 1, Johns Hopkins
University Press, Baltimore, MD, рр. 198–208 .
Searle, John R. (1989) “How Performatives Work”, Linguistics and Philosophy, Vol. 12, No. 5, pp. 535–558.
References
Bach, Kent, Harnish, Robert M. (1992) “How Performatives Really Work: A Reply to Searle”, Lin-
guistics and Philosophy, Vol. 15, No. 1, pp. 93–110 .
Bach, Kent, Harnish, Robert M. (1979) Linguistic Communication and Speech Acts, The MIT Press,
Cambridge, Mass., and London.
Corredor, Cristina (2009) “The Reflexivity of Explicit Performatives”, Theoria: An International
Journal for Theory, History and Foundations of Science, Vol. 24, No. 3(66), pp. 283 –299.
Johansson, Ingvar (2003) “Performatives and Antiperformatives”, Linguistics and Philosophy, Vol. 26,
No. 6, pp. 661–702.
Munro, Andrew (2013) “Reading Austin Rhetorically”, Philosophy & Rhetoric, Vol. 46, No. 1, pp. 22–43.
Stoljar, Samuel (1988) “Promise, Expectation and Agreement”, The Cambridge Law Journal, Vol. 47,
No. 2, pp. 193–212 .
Сведения об авторе
МОНИН Максим Александрович –
кандидат философских наук, преподаватель
кафедры гуманитарных наук П ервого
Московского государ ствен ного медицин-
ского универ ситета.
Author’s information
MONIN Maxi m A. –
CSc in Philosophy, Department of Humani-
ties, Sechenov First Moscow State Medical
University (Sechenov U niversity).
99
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Когнитивная роль догматического знания: реальность,
мышление, обучение
© 2019 г.
А.О . Карпов
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
Москва, 105005, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1
E-mail: a.o.karpov@gmail.com
Поступила 30.04.2019
Разработка эпистемологии догматического знания, отделяющей его от
догматизма, способна пролить свет на сложные вопросы, касающиеся
продвижения социальных новшеств, формирования мышления высо-
кого уровня, создания познавательно активных форм обучения, в том
числе для образования одарённых. В статье даётся эпистемологически
панорамная экспликация проблематики догматического знания под
углом зрения идентификации его когнитивно-активного статуса. По-
казано, что догматическое знание, как таковое, не является эпифено-
меном догматизма и обуславливает познавательно ключевые функции
интерпретации реальности, работы мышления, процесса обучения.
Дана характеристика догматического знания в качестве знания-
основы, обеспечивающего устойчивость когнитивным процессам.
Определены три формы когнитивной активности догматического зна-
ния – рационально-процессуальная, сублимативная, эмотивно-суггес-
тивная и рассмотрены их проявления в обучении. Выявлена фунда-
ментальная роль догматического знания в процессах мышления, со-
здающего новое. Сделан вывод о том, что догматическое знание, как
таковое, – не эпифеномен догматизма. Оно составляет необходимую
часть обучения, социальной жизни и личного существования.
Ключевые слова: догматическое знание, общество, мышление, обуче-
ние, познание, когнитивная активность, сублимация, бессознательное,
эмоция, суггестия.
DOI: 10.31857/S004287440007166-7
Цитирование: Карпов, А.О. Когнитивная роль догматического знания:
реальность, мышление, обучение // Вопросы философии. 2019. No 10.
С. 99 –109.
100
The Cognitive Role of Dogmatic Knowledge:
Reality, Thinking, Learning
© 2019 г.
Alexander O. Karpov
Bauman Moscow State Technical University, 5/1, Baumanskaya 2-ya str., Moscow,
105005, Russian Federation.
E-mail: a.o.karpov@gmail.com
Received 30.04.2019
The development of dogmatic knowledge epistemology that separates it from
dogmatism can shed light on challenging issues concerning the promotion of
social innovations, the formation of higher-level thinking, the creation of cogni-
tively-active forms of education, including of gifted education. The work gives
epistemologically panoramic explication of the dogmatic knowledge problemat-
ics from the standpoint of identifying its cognitive-active status. It is shown that
dogmatic knowledge, as it is, is not an epiphenomenon of dogmatism and de-
termines cognitively key functions of interpretation of reality, thinking, and
learning process. Characteristic of dogmatic knowledge are given as a
knowledge-basis ensuring the stability for cognitive processes. Three forms of
cognitive activity of dogmatic knowledge are defined – rational-processual, sub-
limative, emotive-suggestive, and their manifestations in learning are studied.
The fundamental role of dogmatic knowledge in the processes of thinking creat-
ing a new one is identified. It is concluded that dogmatic knowledge, in itself, is
not an epiphenomenon of dogmatism. It is a necessary part of learning, social
life and personal existence.
Key words: dogmatic knowledge, society, thinking, learning, cognition, cog-
nitive activity, sublimation, unconscious mind, emotion, suggestion.
DOI: 10.31857/S004287440007166-7
Citation: Karpov, Aleksander O. (2019) “The Cognitive Role of Dogmatic
Knowledge: Reality, Thinking, Learning”, Voprosy Philosofii, Vol. 10
(2019), pp. 99 –109.
«Борьба разума состоит в том,
чтобы преодолеть то, что фиксировано рассудком»
Гегель
Введение
Догматические феномены традиционно связывают с негативным социальным
опытом – закрытыми обществами, фундаментализмом, научной аристократией, ин-
квизицией, etc. Психологически догматизм опирается на веру и убеждения, эписте-
мологически – на догматическое знание. Догматическое знание в познавательной
структуре личности есть знание, имеющее статус устойчивой истины; оно защищено
от внутренней критики и сомнения на внерациональном уровне. К категории догма-
тического знания относятся, например, содержания убеждений, допускающие внеш-
нее критическое отношение, и религиозные догматы, исключающие его.
Религиозный догмат представляет собой свидетельство мысли о неизменной истине,
которое выражено в понятиях и определениях. Будучи прежде всего изречённой истиной,
«догматы не развиваются и не изменяются; <...> раз установленный догмат есть вечное и
уже неприкосновенное “правило веры”» [Флоровский 1931 12, 13]. Здесь пролегает гра-
ница между наукой и теологией. Здесь наступают «сумерки любой идеи, стремящейся
превратить науку во что-то близкое религии» [Meyerson 2012, 226].
101
Догматическое знание есть фундаментальный эпистемический феномен, связую-
щий реальность, мышление и обучение. Оно схватывает их в консервативной ловуш-
ке, делая взаимной добычей. Реальность, канонизируя устоявшиеся формы жизни,
навязывает образцы мышлению и включает их в обучение. Мышление, следуя когни-
тивным предубеждениям, конструирует по ним реальность и стандартизирует обуче-
ние. Обучение инкорпорирует догматы в реальность и мышление, выстраивая мир,
действующий и думающий по их лекалам. Вместе с тем отношение догматического
знания к реальности, мышлению, обучению выходит далеко за пределы консерватив-
ной схемы. Мир хочет чего-то большего, чем просто сохранения. Цель данной ста-
тьи – проявить когнитивно-активную роль догматического знания.
Догматическое знание как застывшее знание
Как всякое знание, догматическое знание формируется в процессе вырастания в
индивидуальной психике [Карпов 2017, 26–29]. Оно берёт начало из устойчивых
данных практической деятельности, мнений авторитетов, обычаев, общепринятых
представлений и предрассудков. Представляясь абсолютно надёжным, оно становится
само собой разумеющимся, бесспорным, не требующим подтверждения и в конечном
счёте тем, во что следует верить или чему следовать, т.е . непогрешимым и безуслов-
ным. Ставши таковым, оно используется как имя, как этикетка, отсылающие к сосу-
ду с запечатанным содержанием.
Догматическое знание находится за пределами критического восприятия, однако
это не значит, что оно всегда обретается в результате некритического отношения.
Так, поведенческие установки – это не только предмет воспитания, но и результат
осмысления повседневной практики и судьбоносных событий, который становится
непреложным правилом. Социальная теория, ставшая политической доктриной, ис-
пользует критику негативной реальности для утверждения своих идеологем. В догмы
их превращают пропаганда и манипуляции массовым сознанием, подменяющие ре-
альность и тем самым выводящие их за пределы критического мышления.
Догматические по сути парадигмы жизни социальных групп – это то, что обуславли-
вает их наличие. Общество живёт в сделанной реальности. Однако, когда реальность де-
лают за него, в ход идёт догматизация знания и познания, устанавливаемая доктриной
избранных. В доктринальной не-реальности человек воспринимается по его отношению к
догмам. Она исключает тех, кто не вписывается в рамки догматических рационализаций.
Они репрессируются, игнорируются, вытесняются из легитимной социальности, тем са-
мым переводятся в категорию не-существующего. Политика и экономика низводят не-
существующих к состоянию разрушаемой вещи, а само общество к духовной аномии.
Последняя трансформирует их социальные роли так, что те учат, не уча, исследуют,
не создавая нового, или живут, «под собою не чуя страны» (О. Мандельштам). В лучшем
случае им достаётся «нищее величье и задёрганная честь» (А. Тарковский).
Обучение, а тем более воспитание, являясь инструментом социального управления,
опирается на постулируемые представления и суггестивные восприятия. Поведенческие
стандарты, ценности, интерпретации транслируют и навязывают личности те, кто учит,
те, кого учат, институциональные системы, посредством, которых учат, и всё то внешнее,
что определяет политический, профессиональный и социальный заказ к образованию.
Последнее, в частности, включает культурную продукцию – литературу, искусство, зре-
лища, коммуникации, etc. Теория эволюции, физические модели, историческое прошлое
и социальное настоящее, как правило, не проблематизируются в обучении и выводятся
за пределы учебной дискуссии. Тем самым система образования культивирует догматиче-
ское знание и внушает то, что должно казаться истиной.
Инкорпорированные догматы обучения и воспитания использует социализация
с тем, чтобы личность, исходя из внедрённого очевидного, рационализировала соци-
альные стратегии и рамки. Социализация в период взросления есть процесс овладе-
ния социальной ролью (или их набором) посредством участия в практиках социаль-
ных групп. В отличие от воспитания как такового, которое есть продукт гетерогенной
совокупности влияний (семьи, улицы, обучения, этничности, искусства, СМИ, etc.),
102
социализация протекает в рамках конкретной институциональной системы – в обра-
зовательных учреждениях, профессиональных коллективах, общественных движени-
ях, политических организациях, криминальных структурах, etc. Онтологический фун-
дамент социальной группы составляет система догматических знаний относительно
ценностей, установок, традиций, организации деятельности, стандартов поведения и
рационализации. Они внедряются в личность посредством инструментов социализа-
ции – социального обучения и группового воспитания.
Говоря об интеллектуальном взрослении человека, Ф. Бэкон замечал, – если уча-
щийся и должен верить, то выучившийся должен руководствоваться собственным
мнением [Бэкон 1977, 111]. Эта проблема подводит к вопросу о степени причастно-
сти догматического знания к когнитивно-активной деятельности мышления.
Догматическое знание в отношении когнитивной активности
Догматическое знание лежит в основе убеждения и веры, которые суть разное, по-
скольку убеждение рационализируемо, вера – нет. Как остроумно заметил А. Пуанкаре,
«вера» учёного скорее подобна беспокойной вере еретика, нежели религиозной вере
[Meyerson 2012, 226]. Системы эпистемических аксиом, свойственных научному знанию,
являются предметом рационального допущения, а не объектом веры. Так, «вряд ли мож-
но назвать догмами положения арифметики и геометрии» [Кант 1994, 543].
Вместе с тем догматическое знание является общей когнитивной зоной для веры и
рациональной мысли, для мистических, теистических и научных знаний, взаимодействие
которых социально и культурно обусловлены. С верой и христианской теологией тесно
связано становление научной мысли Нового времени [Карпов 2016, 935–939]. Европей-
ское научное Возрождение отдало свою дань астрологии, магии, теософии и каббалисти-
ке. К этим суевериям обращалась мысль Парацельса и Кардано, Бруно и Кеплера. Нью-
тон ставил на пороге XVIII в. алхимические опыты и писал алхимические трактаты
(алхимия несла в себе идеи оперативного пути к бессмертию и спасению).
Мышление в своей существенной части функционирует как порождающая систе-
ма знаний, которая запускает и поддерживает действия, формирует образы и сужде-
ния, оправдывает поступки, намечает цели, находит решения и, в конечном счёте,
экстрагирует из своей активности новые знания. Эпистемические новшества есть
результат не только творчества мысли, но и особого содержания познавательной
структуры личности. Генеративность мышления опирается как на знание, способное
производить новое знание, так и на укоренённое, ригидное к изменениям знание,
т.е . догматическое знание.
Догматическое знание представляет собой фундамент устойчивой когнитивной
структуры личности и когнитивную опору в процессах освоения реальности. С точки
зрения попперовской эволюционной эпистемологии, «многие из наших практических
убеждений скорее всего истинны, раз уж мы до сих пор выжили. Они образуют более
догматическую часть здравого смысла, которая – хоть она ни в коем случае не явля-
ется надёжной, истинной или несомненной – всегда может служить хорошим исход-
ным пунктом». В этом ключе К. Поппер говорит о значении догматического подхода
к научным теориям: «кто-то должен защищать теорию от критики, иначе она слиш-
ком быстро рухнет, не успев внести свой вклад в развитие науки» [Поппер 2002, 74,
39]. Так, «догматизм Ньютона или Гейзенберга не убил науку» [Agassi 2012, 167].
Догматическое знание формирует стабильную часть картины мира, а в ней систе-
му эпистемических рамок (ограничений) и координат для познающего мышления,
т.е . позиционирует и ориентирует его активность. В то же время критика, в том чис-
ле научная, не может выполнять свою эпистемологическую роль в условиях абсолют-
ной релятивизации знания. Должна существовать познавательная основа в виде зна-
ния принятого, исходя из которого могут обсуждаться эпистемические новшества,
претендующие на роль приращённого знания. В теории научных революций Т. Куна
познавательная «аномалия появляется только на фоне парадигмы» [Кун 1977, 250].
Знание-основа, или по Попперу – фоновое знание (background knowledge), ведёт себя
как знание догматическое, даже если оно ранее было пропущено через критическое
103
обсуждение. Фон или фоновое знание – это знание, которое принимается без обсужде-
ния, которое в данный момент принимается как данное. Оно состоит из теорий, которые
считаются непроблематичными; сюда входит язык с его теоретическими импликациями
и допущениями, не поставленными – до поры до времени – под сомнение. Всякое «зна-
ние никогда не начинается с ничего, но всегда с какого-то фонового знания» [Поппер
2002, 56, 75, 338, 164].
В содержание понятия «фон», которое использует М. Полани, входят «перифери-
ческое сознание», «чувство контекста», «неизреченный интеллект», «артикулирован-
ные схемы истолкования», «невербальное обучение», etc. То есть все то, что выступа-
ет в феноменальном ряду неявного знания как фон для сознания, сфокусированного
на внешних объектах. «Ведь всякий воспринимаемый нами объект мы инстинктивно
рассматриваем на фоне». Личностное знание есть фон, в котором мы живём «как в
одеянии из собственной кожи» [Полани 1998, 96, 32, 150, 105]. Такого рода фон об-
разуют имплант-понятия, которые «суть устойчивый семантический конструкт, обо-
гащающий своё общезначимое понятие-ядро во всех процедурах подстановки в объ-
яснительные схемы» [Карпов 2008, 77].
Догматическое знание обладает собственной когнитивной генеративностью. То есть
оно способно участвовать в проблематизации теорий и фактов и функционировать как
самостоятельный психокультурный объект, выводящий проблемы на уровень инновации.
Догматическое знание функционирует в когнитивно-активных формах, когда ситуация –
внутренняя или внешняя – выводит за пределы ментального рефлекса.
Индикатором когнитивной активности догматического знания является сгущение
познавательных практик, стимулирующее напряжённый интерес, понятийные изме-
нения, разрушение конвенций, идентичности и условий групповой жизни. Оно фор-
мирует эпистемически нестабильный регион догматического знания, который прово-
цирует появление интеллектуальных новшеств [Карпов 2012, 82].
Формы когнитивной активности догматического знания
Можно выделить три формы когнитивной активности догматического знания –
рационально-процессуальную, сублимативную и эмотивно-суггестивную. Первая есть
в большей степени выражение рационального движения мысли, вторая – познава-
тельного напряжения, интенсифицирующего познавательные практики и выводящего
в инсайт, третья – чувственной активности человеческой психики, генетически
включённой в познавательное действие.
Рационально-процессуальная форма когнитивной активности реализуется через «ме-
ханику» мысли, конструирующую комбинаторные схемы, классификации, типологии,
композиции, формирующую дедукции и концептуализации. Мышление, находящееся
в рамках известного и устоявшегося познавательного материала, тем самым подходит
к его границам, ставит их под вопрос, нащупывает эпистемические лакуны и в случае
обладания генеративным потенциалом способно приводить к оригинальным решени-
ям. Типичными схемами рационально-процессуальной активности догматического
знания, выводящей в инновации, являются переносы идеи, принципа и модели на
концептуально новый материал. Приведём примеры.
Представление Ньютона о притяжении тел через пространство, т. е. о взаимодействии
без непосредственного контакта, воспроизводило астрологическую идею взаимного вли-
яния небесных светил на земной мир и человека. Как замечает Поппер, идея о притяже-
нии, а вместе с нею и понятие силы, на этом основании «казались оккультными самым
просвещённым людям того времени, таким, как Беркли. Они казались оккультными да-
же самому Ньютону». Под этим углом зрения интеллектуальное новшество Ньютона
представлялось необоснованным и антинаучным; по сути дела, оно санкционировало
включение астрологической гипотезы в систему научных объяснений, причём астрология
по существу отождествляла планеты с богами [Поппер 2002, 171].
В своём труде «О вращении небесных сфер» (1543) Коперник оперирует принципами
теологической космологии. Он устанавливает Солнце в центр мира как лучшее место в
божественном храме; а тяготение объясняет как природное стремление, замысленное
104
Творцом. Его кинематика использует такие схоластические понятия, как «природное
место тел» и «естественное и насильственное движение» [Коперник 2009, 26, 22, 24, 36,
42, 35]. Следуя религиозному канону, Коперник переносит в свою гелиоцентрическую
теорию модель кругового движения планет Птолемея. Идею божественности кругового
движения античность восприняла из ориентальных религиозных мифов. Этой идее сле-
дует метафизический конструктивизм Анаксимандра; она являлась теистическим прин-
ципом у пифагорейской школы, Гераклита, Анаксагора, Платона, Евдокса, Аристотеля,
Гиппарха и стала архетипом средневековой космографии.
Сублимативная форма когнитивной активности догматического знания представляет
собой психическую трансформацию внутренних бессознательных процессов – познава-
тельного интереса, интуитивной работы мысли, игры образов и озарений, во внешнюю
активность мышления или физического действия. Догматическое знание в условиях про-
блемных ситуаций играет роль не только поставщика материала для рефлектирующего
мышления. Оно является индикатором его дефицита, высвечивая эпистемическую лаку-
ну, т.е. область познавательной недостаточности. Подобно экстатическому созерцанию,
разум всматривается в эпистемическую лакуну, создавая вокруг неё сгущения познава-
тельных практик. Это всматривание «механика» рассудка, в свою очередь, насыщает ло-
кальной теоретической структурой – каркасом из догматического материала. В какой-то
момент и то, и другое позволяет увидеть эпистемическую лакуну как проблему внутри
непроблематичного фона, как вопрос, размещённый в каркасе «притянутых» ею теорий,
идей и представлений. Интенсификация мышления на границах эпистемической лакуны
формирует область познавательной напряжённости, которая запускает интуитивную
функцию psyche.
Кеплер выводил свои знаменитые законы в поисках божественной гармонии ми-
ра. Интенсификация мышления над массивом средневекового космологического
знания, позволила интуитивно выделить космическую кинематику в качестве ключе-
вой эпистемической лакуны. Конечно, гравитация как и магнитный эффект у Кепле-
ра или взаимодействие масс у Ньютона формально оставались все тем же «скрытым
качеством», подобным астрологическому влиянию планет. Однако, понимание сущ-
ности феноменов, исходя из их природного устроения, стимулировало поиск есте-
ственно-научных объяснений [Карпов 2016, 936].
Возникновение химии из алхимии связано с внутренней трансформацией познава-
тельного интереса в двух её течениях – экспериментально-магическом и фальсификатор-
ском. Участники последнего занимались подделкой металла и презрительно именовались
«souflers» – раздуватели горна, или «chemists» – химики. Несмотря на то, что и те, и дру-
гие имели разные виды на Lapis, превращающий металлы в золото, и на Эликсир Жиз-
ни, дарующий бессмертие или долголетие, интуитивное мышление привело часть их
поздних последователей в практические сферы нововременной химии. Она унаследовала
от алхимии лабораторный инструментарий и технологии, в частности, получения спла-
вов, растительных красок, эмалей, стекла, кислот, щелочей, солей.
Эмотивно-суггестивная форма когнитивной активности догматического знания осу-
ществляется посредством чувственной части психики – внутренних восприятий, пережи-
ваний, сомнений, вызванных эпистемической нестабильностью его региона, и внуше-
ний, позволяющих их осмыслить и преодолеть. Она сопровождает рационально-
процессуальную и сублимативную формы и участвует в них. Она опирается на глубин-
ные слои подсознания, которые содержат программы отклика на ситуацию или действие.
Такие программы представляют собой «надстроенное» догматическое знание эмотивного
и суггестивного типов, которое предопределяет чувственную и интеллектуальную реак-
ции. Следовательно, можно говорить о том, что в процессе познания догматическое зна-
ние обращается на себя своей эмотивно-суггестивной частью.
Эмотивные и суггестивные воздействия есть инструмент социального программиро-
вания, которое осуществляется посредством институтов религии, политики, образова-
ния, семьи, профессиональных и культурных сообществ, массовых коммуникаций, etc.
Суггестия когнитивно амбивалентна в социальном плане, тогда как эмоция – в инди-
видуальном.
105
Суггестия инкорпорирует ценности, посредством которых побуждает к поиску ис-
тины или конформизму, социальной успешности или стяжательству, продуктивному
мышлению или интеллектуальным заимствованиям, профессиональной результатив-
ности или карьеризму. Так, научным открытиям Нового времени немало способство-
вала эпистемологическая доктрина протестантизма, действовавшая как нравственный
религиозный закон. Она внушала необходимость познания Божественного замысла
построения мира, относя это к сфере благочестия.
Р.Бойль один из основателей химии как науки, выдающийся физик-
экспериментатор был также крупнейшим англиканским богословом своего времени.
Его вера вела в науку. В работе «О пользе экспериментальной естественной филосо-
фии» он пишет, что «целью исследования Природы является приумножение славы
Божией и блага Человека», что отчётливые, разумные и волнующие понятия об атри-
бутах Господа «формируются внимательным обследованием Творений, в коих они
наиболее различимо проявляются, и которые главным образом ради этой самой цели
и созданы» [Boyle 1663, 22, 53].
Эмоции могут вызывать когнитивные изменения и нести оценочные содержание,
приписываемое объекту эмоций [Brogaard, Chudnoff 2016, 64, 60, 65]. Тем самым они
способны менять субъективно воспринимаемую сущность вещей. Следовательно,
внутренний эмоциональный строй личности обусловливает догматические представ-
ления о мире и его содержаниях, стимулирует когнитивные прозрения.
Протестант Кеплер, работая над вычислением эллиптической орбиты Марса, пре-
одолел чрезвычайно мощную когнитивную традицию, идущую от двухтысячелетней
эпистемической привычки представлять форму планетарных орбит исключительно
через окружность или её комбинации. Эпистолярное наследие Кеплера свидетель-
ствует о высоком эмоциональном напряжении, сопровождающим его исследования:
«Как может не страшить такое? Кто я таков, чтобы посягнуть на перестройку мира?
И какой вдобавок труд! Разумеется, я вычистил конюшни от эпициклов, устарелых
движений и прочего и вот теперь остался с единственной навозною тележкой, этим
вот овалом, – но какая от неё шла вонь!» [Бэнвилл 2008, 223].
Кеплер обращает внимание на эмотивную подвижность psyche, когнитивно двой-
ственную по своей сути. Она рождает пристрастность и страх за свою славу, необду-
манные суждения, пылкость и скоротечность. Однако именно через страсть «потря-
сают вещи, имеющие заурядную форму и поэтому ставшие настолько привычными,
что люди не могут постичь истину» [Кеплер 1982, 179]. То есть не мо гут бесстрастно
опознать её.
Лютер, по словам великого астронома, «стал самым мудрым из всех», поскольку
«он двигался не по той территории, по которой проследовали мудрейшие». Его
страсть являла себя и в сквернословии, и в брани, – «он поступал так, но не одобрял
этого». И здесь Кеплер делает удивительное заключение: «По-видимому, полезней-
шим окажется тот муж, которому присуща не только здравость суждений, но и пыл-
кость и страстность. Такой муж, если эти качества проявляются во всех его поступках
и согласуются с разумом, действует как бы по божьему велению». Такой муж может
заблуждаться в страсти, но не в суждении [Кеплер 1982, 180]. Здесь эмоция рождает
ригористичную взыскательность к истине.
Страстное, горячее cogito опосредует стремление к истине, равно как холодное –
к догме; лишь тёплое cogito готово назвать истиной себе удобное. Это не нуждающе-
еся cogito не способно питать веру и укреплять надежду к обретению подлинного, и
дела его известны: «...знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не зна-
ешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». (Откр. 3:15–17).
Догматическое знание в обучении
Догматическое знание генетически инкорпорировано в обучение – в предметный ма-
териал, способы познания, педагогическую деятельность, учебные планы. Оно является
106
инструментом программирования личности со стороны власти, политики, общества.
Догматическое знание формирует шаблоны понимания, делает образование предустанов-
ленным и уязвимым к доктринальным формам управления, которые измышляют образо-
вательные стандарты, воспитательные ритуалы, проверочные процедуры, документы от-
чётности, etc.
Учебное познание начинается с усвоения знания, которое выступает в роли не-
преложной истины. Оно может остаться таковым и далее, либо использовать крити-
ческое обсуждение, изучение альтернатив, поисковые методы познания, выводящие
за пределы догматического знания. Тем не менее, даже в последнем случае необхо-
димо изучить то, что будет ставиться под вопрос. Следовательно, для недогматиче-
ского обучения требуется иметь знание-основу, включающее декларативные и опера-
ционные содержания, которые выращены в индивиде как несомненная данность, т.е .
догматические по сути. Такой несомненной данностью являются, например, язык,
начала математики и естествознания, социальные и моральные установки общества.
На догматизацию знания оказывают влияние встроенные в обучение нормативные
структуры, которые определяют степени его свободы, иначе говоря жёсткость или
трансформативные рамки. Понятие жёсткости учебной программы как совокупности
ограничений было введено У.Е . Доллом. Он рассматривал современную учебную
программу как процесс, удовлетворяющий постмодернистскому принципу четырёх
«R», т.е . характеризующийся наряду с жёсткостью (rigorous) также насыщенностью
(rich), рекурсивностью (recursive), реляционностью (relational) [Doll 1993, 156]. Мною
были определены три типа трансформативных рамок (жёсткости) обучения – дидак-
тический, эпистемический и онтологический (средовой). Первые накладывают огра-
ничения на содержание обучения, вторые – на модели мышления, которые в нём
культивируются, третьи – на связь обучения с реальностью [Карпов 2011, 28, 29].
Педагогические концепции выстраиваются на положениях, которые играют роль
непреложных истин, т.е . являются догматическими по своей сути. В начале ХХ века
получила широкое распространение «пищевая» (nutritionist) модель образования. В её
основе лежит педагогическая концепция, рассматривающая знание как вид духовной
пищи, которую нужно «съесть» и «переварить». П. Фрейре связывает возникновение
этой концепции с экспансионистскими интересами к Третьему миру, которому навя-
зывали таким образом «культуру молчания», исключающую свободное мышление и
возможность говорить [Freire 1985, 45, 57, 50, 60]. В 1960–70-х гг. на Западе «пище-
вая» модель образования вбирает в себя в качестве педагогической догмы рыночную
концепцию: знание трактуется как товар, обучающийся – как потребитель, образова-
ние – как сфера услуг. В наши дни «пищевые» педагогические концепции культиви-
руются в рамках стандартизованного обучения. Оно регламентирует познавательное
поведение, исключая ментальные модели, знания и навыки, выходящие за е го преде-
лы, и насаждает тем самым современные формы «культуры молчания».
Сциентизм, формально усвоенный педагогическими концепциями, привил совре-
менной системе образования особый – «научный» вид познавательного догматизма,
поставивший во главу угла эмпирическую проверяемость знания, веру в непогреши-
мость научного метода, исключение «не научных» фактов из сферы познавательного
действия. Тем не менее, он оказался не в состоянии разработать такой учебный метод,
который позволил бы сформировать научную картину мира на практическом уровне в
«сциентированном» обществе [Карпов 2018, 118].
Способность личности к познавательным инновациям зависит не только от объё-
ма усвоенного догматического знания, но в большей степени от мышления, которое
делает его когнитивно-активным. Для этого мышление должно подойти к пределу
догматически усвоенного, расшатать его и задействовать ресурсы догматики для об-
ретения нового. Оно должно стать оппозиционным мышлением, организующим поиск
иных пониманий, интерпретаций, объяснений для объектов теории и опыта. Но даже
будучи таковым, оно реализует свои инсургентные свойства в работе над догматиче-
ским материалом. Кратко рассмотрим проявление форм когнитивной активности
догматического знания в обучении.
107
а) Рационально-процессуальная форма когнитивной активности догматического
знания в обучении есть первый шаг работы мышления, выводящий к границам дог-
матического материала: предметного содержания, познавательных методов, представ-
лений о реальности. Здесь намечается преодоление директивно установленной жёст-
кости обучения, т.е . учащийся настраивается на вскрытие его трансформативных ра-
мок. На этом пути должны быть проявлены ограничения, накладываемые познава-
тельным стандартом на социо-когнитивный и духовный рост личности. Учащийся
может обнаружить их в дефиците учебного знания, посредством которого описывает-
ся реальность (дидактические рамки); в нехватке инструментов познания, позволяю-
щих проникать в реальность (эпистемические рамки); через слабость мышления к
пониманию реальности и себя в ней (онтологические рамки).
Обучение, построенное на догматическом знании, тем не менее может использо-
вать критический интеракционизм, познавательные альтернативы, проблемные ситу-
ации, генеративную среду, перевёрнутый (flipped) класс, технологии виртуальной ре-
альности, другие средства, создающие зоны эпистемической нестабильности. По-
средством них мышление направляется в глубь догматического знания (как это про-
исходит в схоластике и формальной школе), и выходит к его пределам. Под действи-
ем вопросов, пробелов в объяснении, найденных противоречий, сомнений, собствен-
ных находок происходит когнитивное «расшатывание» догматического знания. Оно
делает явными познавательные границы, инкорпорируемые в личность обучением,
и внутренне идентифицирует наличие внешнего, которое те исключают.
б) Сублимативная форма когнитивной активности догматического знания проявляется
в обучении при выполнении задач или заданий, требующих выхода за пределы механиче-
ского логицизма: прямого использования формул, зависимостей, фактов, законов или
усвоенных схем их преобразования. Рассматривая неочевидное, мышление погружается в
себя, интенсивно рефлектирует, переходит в бессознательное. В обычной ситуации пси-
хическая активность способна «вознести», иначе говоря сублимировать, внутреннее
напряжение к иным внешним содержаниям или деятельности. Тогда задача откладывает-
ся или отбрасывается.
Однако в условиях обучения действуют жёсткие силы внешнего принуждения и внут-
реннего самопобуждения, которые способны (хотя и не всегда) удерживать состояние
глубокого размышления над задачей, активизировать неявную, транслогическую функ-
цию интеллекта [Карпов 2013, 62–64]. Под напором мотивирующих структур в бессозна-
тельном идёт работа над материалом, включающим неочевидное в нем. Это глубинное
мышление питается содержаниями рационального и внерационального опыта, релевант-
ными задаче, в том числе догматического типа. Оно разрушает догматическую схвачен-
ность устоявшегося знания, ментальные схемы, работающие с ним, вызывая нечто похо-
жее на когнитивный диссонанс. Оно ведёт к внутреннему созреванию неочевидного,
направляя сублимацию к разрешению. Результатом может стать понимание, проникно-
вение в суть задачи, интуиция или озарение, ведущие к решению.
В общем случае процесс когнитивной сублимации приводит к следующим воз-
можным исходам: создание объективно нового знания (в том числе в обучении), по-
лучение субъективно нового знания, замещение неудовлетворённой потребности,
распад сублимативной активности.
в) Эмотивно-суггестивная форма когнитивной активности. Процесс познания
эмоционален и суггестивен. Обучение использует чувство и внушение, когда выращи-
вает знание в ученике. Вместе с тем, оно наращивает эмотивно-суггестивное знание,
которое тот генетически наследовал и впитал из окружения. Тогда следует говорить о
двух видах эмотивно-суггестивной активности знания. В активность первого вида
погружён процесс овладения учебным материалом; она сопровождает его и участвует
в нём. Активность второго вида представляет собой трансформацию эмотивно -
суггестивного базиса личности учащегося.
С первым видом эмотивно-суггестивной активности связано преодоление когни-
тивных порогов, которые содержит процесс обучения. Для рационально-
процессуальной формы когнитивным порогом является момент идентификации
108
эпистемических лакун, чувственно воспринимаемых как познавательная преграда.
Суггестивное противодействие со стороны устоявшегося знания вызывает «холостой
ход» мышления и рост психического напряжения, для преодоления которых требует-
ся задействовать эмотивный ресурс. Эмоциональная мобилизация позволяет, как го-
вориться, «собраться с мыслями».
При сублимативной форме когнитивные пороги возникают на этапах перехода
познавательного процесса на уровень бессознательного и зарождения продукта суб-
лимации. Бесплодность попыток решения вызывает беспокойство, тревогу, смятение,
которые нагнетаются под действием установки, ограничивающей его время. Озабо-
ченность собственным бессилием порождает фрустрацию по поводу траты себя во
времени. Желая преодолеть её, мышление устремляется в место, где время не исчис-
ляется, тем самым теряя его о-сознание, а вместе с ним сознание. Находясь в бессо-
знательном и нащупывая решение, мышление переживает волнение, воодушевление,
трепет, переходящие в сублимативный катарсис. Найденное решение вызывает лико-
вание и восторг, подобные архимедовой «Эврика!» и пушкинскому «Ай да сукин
сын!». Здесь эмоцией движет суггестия, требующая, чтобы решение было получено.
Второй вид эмотивно-суггестивной активности догматического знания характерен
для воспитания, которое производит обогащение, коррекцию или изменение эмотив-
ного знания и установок личности учащегося.
***
Догматическое знание, как таковое, – не эпифеномен догматизма. Оно составляет
необходимую часть социальной жизни и личного существования. Догматическое зна-
ние входит в восприятие социальной реальности и проекты её трансформации, обра-
зование и воспитание, культуру и этничность, познание и производство знаний, воз-
можности и механизмы мышления как такового. Только в комплексе своих функций
догматическое знание может быть включено в аналитические и конструктивные схе-
мы познания, дающие объяснения феноменам реальности, мышления, обучения и
проектирующие их будущее. Чтобы изменяться, человеку, институтам и обществу
надо прежде всего знать то, что не даёт меняться.
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian Tran slation
Бэкон 1977 – Бэко н Ф. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Сочинения в д вух
томах. Том 1. М.: «Мысль», 1977. С . 81 –523 (Bacon F. De dignitate et augmentum Scientiarum. Rus-
sian translation).
Бэнвилл 2008 – Бэнвилл Дж. Кеплер. М.: Текст, 2008 (Banville J. Kepler. Russian translation).
Кеплер 1982 – Кеплер И. О себе // И. Кеплер О шестиуго льных снежинках. М .: Наука, 1982.
С. 170 –187 (Kepler J. De nive sexangula. Russian translation).
Кант 1994 – Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. Сочинения в 8-ми томах . Т. 3 . М.:
Чоро, 1994 (Kant I. Kritik der Reinen Fernunft. Russian translation).
Коперник 2009 – Коперник Н. О вращении небесных сфер. СПб.: Амфора, 2009 (Copernicus
N. De revolutionibus orbium coelestium. Russian translation).
Кун 1977 – Кун Т.С. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977 (Kuhn Th. The Struc-
ture of Scientific Revolutions. Russian translation).
Полани 1998 – Полани М. Личностно е знание. На пути к посткритической философии. Бла-
говещен ск: Благовещенский гуманитарный колледж им. И.А . Бодуэна де Куртенэ, 1998 ( Polanyi
M. Personal Knowledge: Towards a Po st-Critical Philosophy. Russian translation).
Поппер 2002 – Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюци онный подход. М .: Эдиториал
УРСС, 2002 (Popper K. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Russian translation).
Флоровский 1931 – Флоровский Г.В. Богословские отрывки // Путь. Париж, 1931. С . 3 –29
(Florovsky G. Revelation, Philosophy and Theology. in Russian)
Ссылки – Prima ry Sources in English
Agassi, Joseph (2012) Science in Flux, Springer Sci ence & Busines s Media, N.Y .
Boyle, Robert (1663) Considerations Tou chi ng the Usefulness of Experimental Natural Philosophy.
Oxford: Printed by H. Hall, for R. Davis .
Brogaard, Berit, Chud noff, Elijah (2016) “Agai nst Emotional D ogmatism”, Philosophical Issues,
Vol. 26 (1), pp. 59–77 .
109
Freire, Paulo (1985) The Рolitics of Еducation: Сulture, Рower, and Liberation, Bergin & Garvey, N.Y.
Meyerson, Emile, (2012) The Relativistic Deduction: Epistemological Implications of the Theory of Relativity
With a Review by Albert Einstein and an Introduction, Springer Science & Business Media, N.Y.
Ссылки – References in Russian
Карпов 2008 – Карпов А.О. Дискурс: классификация кон тексто в // Вопросы фило софии.
2008. No 2. С. 74–87.
Карпов 2011 – Карпов А.О. Исследовательско е образование: ключевые концеп ты // Педаго-
гика. 2011. No 3. С. 20–30.
Карпов 2012 – Карпов А.О. Эпистемическая вещь и психокультур ное понимание // Вопросы
философии. 2012 . No 4. С . 75 –86.
Карпов 2013 – Карпов А.О. Транслогическое мышление // Философские науки. 2013 . No 11.
С. 53–66.
Карпов 2016 – Карпов А.О. Влияние христиан ства на стан о вление матези са Но вого вр еме-
ни // Вестник Россий ской академии наук. 2016. No 10. С . 933–940.
Карпов 2017 – Карпов А.О. Общество знаний: знание vs информация // Философские науки.
2017. No 12. С . 19–36.
Карпов 2018 – Карпов А.О. Будущее образования // Общественные науки и современно сть.
2018. No 5. С. 115–124.
References
Doll, Willi am E. (1993) A Post-modern Perspective on Curriculum.: Teacher College Press, Columbi a
University, N.Y . and London.
Karpov, Alexander O. (2008) “Discourse: Classification of Contexts”, Vopro sy Filosofii, Vol. 2
(2008), pp. 74 –87 . In Russian.
Karpov, Alexander O. (2011) “Recearch Edu cation: Key Concepts”, Pedagogika, Vol. 3 (2011),
pp. 20 –30. In Russian.
Karpov, Alexander O. (2012) “Epistemic Object and the Psycho - cultural Comprehension”, Vopro sy
Filosofii, Vol. 4 (2012), pp. 75 –86. In Russian.
Karpov, Alexander O. (2013) “Translogical Thi nking”, Philosophical Scienc es, Vol. 11 (2013),
pp. 53 –66. In Russian.
Karpov, A lexander O. (2016) “The I nfluence of Christianity on the Formation of the New Time
Mathesis”, Herald of the Russian Academy of Sciences, Vol. 10 (2016), pp. 933–940. In Russian.
Karpov, Alexander O. (2017) “The K nowledge Society: 'Knowledge' vs 'Information' ”, Philosophical
Sciences, Vol 12 (2017), pp. 19–36. In Russian.
Karpov, Alexander O. (2018) “Education in the Fut ure”, Obshchestvenny e Nauki I Sovremennost ,
Vol. 5 (2018), pp. 115 –124 . In Russian.
Сведения об авторе
КАРПОВ Александр Олего вич –
доктор философских наук, кандидат физи-
ко-матем атических наук, начальник отдела
МГТУ им. Н .Э. Баумана
Author’s information
KARPOV Alexander О. –
DSc in Philosophy, Csc in Рhysics and Math-
ematics, Head of the Department at Bauman
Moscow Stat e Technical U niversity
110
Парадигмы субъектности в топике Центр–Периферия
© 2019 г.
Е.В. Косилова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4.
E-mail: implicatio@yandex.ru
Поступила 08.03.2019
В статье вводится в рассмотрение топика Центр–Периферия в учени-
ях о субъектности. Рассмотрены парадигмы: картезианская, трансцен-
дентальная (Кант и Гуссерль), логический бихевиоризм, психоанализ,
аналитическая философия сознания. Показано, что в картезианской
парадигме имеется центр субъектности, не совпадающий с «мысля-
щей вещью» Декарта. В трансцендентальной парадигме Канта цен-
тром является трансцендентальное единство апперцепции, а у Гуссер-
ля – трансцендентальное Эго, окруженное горизонтом. Выделены два
уровня рефлексивного Я в парадигме Канта: минимальное Я, строя-
щееся вокруг трансцендентального единства апперцепции, и рефлек-
сивное Я эмпирического субъекта, или Я-концепция. В парадигме ло-
гического бихевиоризма отсутствует центр, однако продемонстриро-
вано, что аргументация об отсутствии центра (наделения его статусом
категориальной ошибки) не работает. В парадигме психоанализа у
Фрейда центром является сознательное Я, а у Лакана центр отсутству-
ет, субъект заменен переплетением векторов безобъектного желания и
набора означающих. Лакановская модель субъекта без центра про-
должается также в постмодерне. В философии сознания имеются как
модели с центром, например, трехслойная модель Поппера, неожи-
данно напоминающая фрейдовскую, так и модели без центра, из ко-
торых подробно рассмотрена модель Деннета о сознании как наборе
«драфтов». В заключение рассмотрено состояние сознания при таких
патологиях, как шизофрения, и показано, что отсутствует трансцен-
дентальное единство апперцепции, в результате чего пропадает ощу-
щение самостоятельности мышления и возникает хаотичность, иллю-
стрирующая модель без центра.
Ключевые слова: парадигмы субъектности, топика центр–Периферия,
картезианская парадигма, трансцендентальная парадигма, психоана-
лиз Лакана, драфты, шизофрения.
DOI: 10.31857/S004287440007167-8
Цитирование: Косилова Е.В. Парадигмы субъектности в топике
Центр–Периферия // Вопросы философии. 2019. No 10. С. 110 –121 .
111
Paradigms of Subjectivity in the Topic Center–Periphery
© 2019 г.
Elena V. Kosilova
Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av.,
GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.
E-mail: implicatio@yandex.ru
Received 08.03.2019
The article introduces the topic Center-Periphery in the paradigms of subjec-
tivity. The following paradigms are considered: Cartesian, transcendental (Kant
and Husserl), logical behaviorism, psychoanalysis, analytical philosophy of mind.
It is shown that the Cartesian paradigm has a center of subjectivity that does
not coincide with Descartes' "res cogitans". In Kant's transcendental paradigm
the center is transcendental unity of apperception, and Husserl's center is tran-
scendental Ego surrounded by the horizon. There are two levels of the reflexive
Self in Kant's paradigm: the minimal Self, which is built around the transcen-
dental unity of the apperception, and the reflexive Self of the empirical subject,
or the self-concept. The paradigm of logical behaviorism lacks a center, but it is
demonstrated that the argument about the absence of a center (giving it the sta-
tus of a categorical error) does not work. In Freud's paradigm of psychoanalysis,
the center is Ego, while in the Lacan's one the center is absent, and the subject
is replaced by the interweaving vectors of objectless desire and a set of meanings.
Lacan's model of the subject without the center also continues in postmodernity.
In the philosophy of mind, there are both models with the center, for example,
the three-layer Popper’s model, which suddenly resembles the Freudian one,
and models without the center, of which the Dennett’s one is considered in de-
tail. It regards the mind as a set of "drafts". In conclusion, the state of con-
sciousness in such pathologies as schizophrenia is considered, and it is shown
that there is no transcendental unity of apperception, which results in the loss
of the sense of independence of thinking, and the chaos emerges, illustrating
the model without the center.
Key words: paradigms of subjectivity, topic Center-Periphery, Cartesian par-
adigm, transcendental paradigm, Lacan’s psychoanalysis, drafts, schizo-
phrenia.
DOI: 10.31857/S004287440007167-8
Citation: Kosilova, Elena V. (2019) “Paradigms of Subjectivity in the Topic
Center–Periphery” Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 110 –121 .
Под топикой Центр–Периферия мы будем понимать наличие или отсутствие
в каждом данном учении идеи о том, что сознание имеет в себе центр или само явля-
ется центром для психики. Некоторые авторы могут специально не указывать на это,
но как бы подразумевать, считать это соответствующим здравому смыслу. Например,
Декарт ничего не говорит про это, однако по всей системе его философии очевидно,
что он, как сознающий субъект, находится в «центре» собственных мыслей, которы-
ми управляет. И можно предполагать, что вообще идея Я как центра является есте-
ственной для наивного здравого смысла.
Данная проблема стала злободневной в учениях о субъекте и о сознании с сере-
дины ХХ в. Именно тогда появляется первая теория, в которой нет никакого центра
Я – это теория Г. Райла о сознании как о категориальной ошибке (1953 г.). Почти в
то же время в континентальной философии появляется учение Ж. Лакана о субъекте
как конструкции взаимных зависимостей желания и речи без центра и практически
112
без сознания. Аналогично мыслит субъекта постмодерн. В современной аналитиче-
ской философии сознания подобная же теория принадлежит Д. Деннету. Мы также
увидим, что есть патологии субъекта, которые можно описать при помощи терминов
центральных инстанций – как нарушения центральных механизмов субъектности.
Картезианская парадигма
В картезианской парадигме сам субъект был «мыслящей вещью».
Кратко основные положения картезианской парадигмы можно сформулировать таким
образом [Декарт 2000; Колесников, Ставцев 2000; Васильев 2009; Соколов 1999].
1. Тело и душа – это две разные субстанции. У них различные свойства.
2. Тело – это машина, управляемая рефлексами.
3. Сознание тождественно мышлению.
4. Сознающий субъект имеет непосредственный доступ к своему сознанию.
Он может свободно управлять своим мышлением.
5. Он также управляет своим телом. Для этого постулируется некое таинственное
место, в котором происходит взаимодействие субстанций.
6. Существуют врожденные идеи, вложенные Богом
7. Субъект един, его сознание цельно и неделимо.
Как можно понять «Я вещь мыслящая» и «Я мыслю»? Это не одно и то же, потому
что в первом случае, если Я не мыслит, то оно перестает существовать, во-втором случае
это две самостоятельные вещи, Я может мыслить так, может иначе, а может и не мыс-
лить вообще. Считается, что в учении Декарта реализуется первый вариант. Если я не
мыслю, меня нет вообще (весьма возможно, что если у меня прекратится всякая мысль,
я сию же минуту полностью уйду в небытие). Но в таком случае получается полное упо-
добление субъекта его мыслям, и например, если я вчера мыслил одно, а сегодня дру-
гое – то я сегодня не тот, что был вчера. Справедливо ли это? Декарт часто пишет есте-
ственным образом: «Мысль моя радуется возможности уйти в сторону, и она не терпит,
когда ее ограничивают пределами истины. Пусть будет так: ослабим пока как можно
больше поводья, дабы несколько позже вовремя их натянуть и тем самым легче привести
свою мысль к повиновению...», «...когда я возвращаюсь мыслью к себе самому...»,
«...я пожелаю помыслить первичное и высшее бытие...» [Декарт, 2000]. Мы видим, что на
самом деле, хотя он вроде бы проводит знак тождества между Я и мышлением, но на
самом деле Я – это некий управляющий центр, дирижирующий мыслями, управляющий
ими. Это напоминает картину Платона с двумя конями и возницей.
По вопросу о центре явным образом отрицательно высказывался Юм.
Д. Деннет, сторонник отсутствия центра, замечает: «Юм хотел, чтобы идеи сами
себя думали» [Деннет 2004]. Но могут ли идеи думать себя? Идея ведь не является
субъектом, чем-то действующим. Идеи, как это было у Юма, могут связываться це-
пями ассоциаций. Это Декарт называл «ослабить поводья», дать идеям возможность
течь свободно. Однако весьма часто мы чувствуем, что заставляем себя думать о чем-
то. Кто это заставляет, кто планирует мышление – другие идеи, или, может быть,
потребности, эмоции, страсти? Ответ на эти вопросы далеко не очевиден. Во всяком
случае, мы видим, что у Декарта субъект и мышление не абсолютно тождественны.
Другие представители картезианской парадигмы, такие как Спиноза и Лейбниц,
не высказывались так ярко относительно субъекта мышления. У Спинозы он вообще
растворен в субстанции, так что даже неясно, может ли у него быть свобода мыс-
лить – иногда Спиноза пишет, что никакой свободы нет, иногда рассуждает так, как
будто нет свободы только действия, а свобода мысли имеется. Лейбниц в Монадоло-
гии считает, что Бог вложил в каждую монаду стремления, вследствие которых она
движется, способности восприятия (правда, это восприятия только того, что заложе-
но в ней же самой), так что монады не похожи на субъектов, сами они не принима-
ют никаких решений. Ничего подобного внутренней структуре субъекта с наличием в
самом субъекте управляющего центра мы не находим.
Тем более мы не находим этого у эмпириков, особенно у Юма, который, как из-
вестно, отрицал специальный орган Я, говоря, что мысли движутся исключительно
113
по законам ассоциаций. Нет никакого центра, все происходит само собой и даже
почти по физическим законам.
Трансцендентальная парадигма
Кант
Она начинается с учения Канта о познавательных способностях и далее существу-
ет в двух видах: кантианской и феноменологической. Общие черты трансценденталь-
ной парадигмы, имеющие отношение к философии субъекта, таковы [Кант 1965].
1. Настоящая реальность есть вещь-в-себе и непознаваема; данная нам реальность,
или феноменальный мир, состоит из явлений, которые создаются нашими познаватель-
ными способностями под действием вещи в себе. Совокупность общих познавательных
способностей человека можно назвать трансцендентальной субъектностью.
2. Познавательные способности разделяются на три отдела: чувственность, рассудок,
разум. Каждый отдел имеет собственное устройство, которое слагается из соответствую-
щих априорных форм. Априорные формы чувственности – пространство и время.
3. Рассудок выносит суждения об опыте, основываясь на данных чувственности и
на своих априорных формах – двенадцати категориях. Эти суждения являются осно-
вой эмпирической науки. Чтобы суждения рассудка были корректными, они не
должны выходить за пределы возможного опыта.
4. Если суждения не основываются на данных чувственности, но лишь на самих
априорных формах трансцендентальной субъектности, тогда суждения носят всеоб-
щий, или априорный, характер. Эти суждения являются основой математики и чи-
стого естествознания.
5. Рассудок не выносит суждений долженствования, последние не вытекают из
опыта. Эти суждения выносятся практическим разумом. В действии, сообразном с
законами разума, человек полагает себя свободным.
6. Разум не выносит суждений о существовании (хотя может выходить за пределы
возможного опыта). Чистый разум полагает принципы, конструирует идеи; практиче-
ский разум – ставит цели и дает законы действия. Основную ошибку предшествую-
щей метафизики Кант видит в смешении функций рассудка и разума: о предметах,
выходящих за пределы возможного опыта (область разума) выносились суждения
существования (прерогатива рассудка), в то время как мы можем или выходить за
пределы возможного опыта (разум), или выносить суждения о существовании (рассу-
док), но не то и другое вместе.
7. Единство субъекта обеспечивается специальной инстанцией: трансценденталь-
ным единством апперцепции (ТЕА).
У Канта нет «субъекта как диспетчера личности», нет центрального процессора, ка-
кого-то отдельного от мыслей существа, которое управляет процессом мышления.
В центре мыслящего субъекта находится трансцендентальное единство апперцепции,
на которое как бы наматываются все мысли. Или, можно сказать, оно поддерживает
собой все мысли, является их основой. Новые мысли приходят благодаря спонтанно-
сти воображения, но ТЕА тотчас улавливает их и делает их «своими». Именно благода-
ря ему мы ощущаем, что все, что мы мыслим, принадлежит именно нам. На первый
взгляд это кажется тавтологией. Кому еще может принадлежать то, что МЫ мыслим?
Однако, вспоминая модель Юма с мыслями-ассоциациями, мы можем представить
себе, что они не принадлежат никому, они текут сами по себе. Наше присваивание
наших мыслей можно объявить ошибкой, до тех пор, пока оно кажется нам тавтологи-
ей: «Я мыслю, следовательно, мои мысли принадлежат мне». Нам кажется, что это вы-
сказывание ни о чем, что тут не сказано ничего позитивного. Только в особых состоя-
ниях сознания, а именно при шизофрении, возникает ослабление ТЕА, и мысли пере-
стают ощущаться как свои. Удивительно, что Кант, который, по всей видимости,
не знал о психиатрических феноменах, догадался вычленить механизм ТЕА.
Понятно, что ТЕА у Канта является также механизмом рефлексии, что мы как бы
обращаемся к нему, когда задаем себе вопрос о себе. Однако надо сразу сказать, что
апперцепция, рефлексия по Локку и рефлексия в том смысле, в котором это слово
114
употребляется сейчас – разные вещи. Локк вводит понятие «рефлексия» как воспри-
ятие внутреннего чувства, как непосредственное знание о том, какие действия про-
изводит разум. У Локка рефлексия принципиально не отличалась от абстракции, она
была чем-то вроде абстракции высшего порядка, примененной не к предметам опы-
та, а к простым идеям разума, которые из них получались. Чем-то похожим на такую
локковскую рефлексию является и апперцепция Канта. Это способность разума опо-
знавать свои идеи как свои – тоже, практически, восприятие внутреннего чувства.
Совсем другое понимается под рефлексией в современной речи. Мы считаем рефлек-
сию многократно опосредованной, мы считаем, что наблюдает за самим собой ум,
который уже сильно отстоит от непосредственных актов сознания, который часто
опосредован речью, социальными навыками, культурной оптикой и другими вещами.
Результат той и другой рефлексии – концепт Я. Поэтому мы сразу сталкиваемся с
тем, что концепты Я бывают по меньшей мере двух уровней. Первое Я – продукт
кантовской апперцепции, то есть самое непосредственное Я, может быть, даже то
самое продуктивное воображение, которое является автором многих наших мыслей.
Эта апперцепция, или рефлексия самого низкого уровня, дает нам только ощущение
цельности себя, ту уверенность, что мы являемся авторами собственных мыслей и
действий. Совсем другое Я – продукт высокоуровневой рефлексии. Это Я имеет ха-
рактер устойчивой эмпирической субъектности. В него входит характер, биография,
история, ценности, проекты, мировоззрение – одним словом то, что называется
Я-концепция. В современной феноменологической литературе первое Я получило
название «минимальное Я», а второе – «рефлексивное Я» [Zahavi 2009; Nelson, Parnas,
Sass, 2014; Sass, Whiting, Parnas, 2000].
Ни одно из них не является полноценным субъектом, то есть собственно автором
мыслей и действий. Но если искать в парадигме, близкой кантианской, центр субъ-
ектности, то это будет трансцендентальное единство апперцепции.
Феноменология
Учение Гуссерля строилось как развитие мысли Декарта, однако существенные
черты роднят его с трансцендентальной, а не картезианской парадигмой. Прежде
всего, это учение о познавательной деятельности субъекта. Оно имеет очень субъек-
тивистский характер: фактически Гуссерль рассматривает познание как конституиро-
вание, создание субъектом объекта для себя.
Важнейшие черты феноменологии, имеющие отношение к философии субъекта,
таковы [Гуссерль 2006].
1. Сознание всегда имеет предмет (оно интенционально). Чистое сознание –
это форма, которая конституирует то, каким образом дан нам этот предмет.
2. Трансцендентальное Эго, или собственно сознание, – это инстанция, сопряга-
ющая феномены с их смыслом. Эта деятельность сознания носит характер синтеза.
Только после конституирования смысла мы распознаем феномен.
3. Сознание способно усматривать необходимую истинность, в том числе сущ-
ность собственных интенциональных актов.
4. Сознание имеет временной горизонт: помимо (исчезающей) точки «теперь», оно
удерживает в своем активном поле некий интервал прошлого (ретенция) и, в некото-
ром смысле, будущего (протенция).
5. Каждый акт сознания (восприятие, суждение, оценка и т.п.) совершается в субъек-
тивном горизонте опыта. Каждый предмет, становясь феноменом, также обретает свой
горизонт, который сознание конституирует из смысловых связей (прошлое знакомство с
данным предметом, знание о нем, связанное с ним ожидание, ассоциации т.п.). Консти-
туирование смысла происходит не до и не после, а одновременно с «восприятием» пред-
мета (последнее рассматривается не как безусловное восприятие, а как акт конституиро-
вания феномена «в модусе очевидности»).
Центр субъектности в гуссерлевской феноменологии обозначен очень четко – это
трансцендентальное Эго. Оно находится именно в центре, что подчеркивается мета-
форой горизонта, который всегда располагается вокруг какого-то центра. Субъект
115
у Гуссерля носит очень отстраненный от практики, чисто познавательный характер.
На философии Гуссерля базировалась, например, гештальт-психология, которая изу-
чала распознавание образов. Гуссерлевский субъект именно что в первую очередь
распознавал образы. Философия Гуссерля – «мысль о мысли». Но у Гуссерля нет
теории действия, практически, можно сказать, нет учения о реальной жизни. Совсем
не так у Канта, который посвятил этому «Критику практического разума», и даже у
Декарта, который по крайней мере давал «Правила для руководства ума». Поэтому
ставить в философии Гуссерля вопрос, свободен или нет субъект в своих действиях
и даже мыслях, почти бессмысленно.
Как представляется, именно это несогласие прежде всего двигало Хайдеггером,
когда он описывал экзистенцию Dasein прежде всего с точки зрения бытия в мире,
заботы вместо интенциональности, проекта вместо горизонта. Dasein у Хайдеггера
демонстративно не имеет того центрального характера, который имеет трансценден-
тальное Эго у Гуссерля. Иногда складывается впечатление, что самосознание и ре-
флексия – далеко не главные его достояния. Это какое-то онтологическое место
непосредственного перетекания заботы в проект, или, в ином случае, в отпаде ние
или другой неподлинный модус бытия. В философию Хайдеггера, мне кажется, очень
трудно вписать кантовское единство апперцепции или двойственного субъекта Де-
карта, отстраненно наблюдающего за собственными мыслями. Если у Гуссерля пре-
валировало теоретическое мышление, то у Хайдеггера превалирует действие. Думает-
ся, именно поэтому попытки построить теорию шизофрении на философии Хайдег-
гера, которые были предприняты многими энтузиастами начиная с Л. Бинсвангера,
не привели к заметному успеху.
На этом мы закончим о трансцендентальной парадигме.
Логический бихевиоризм
Достойна специального рассмотрения теория так называемого логического бихе-
виоризма, особенно в версии Г. Райла [Райл 2000], потому что в ней отсутствие цен-
тра заявлено очень прямо. Логический бихевиоризм существовал в двух формах –
мягкой, которая являлась методологическим учением по отношению к бихевиоризму
в психологии (К. Халл, К. Спенс), и сильной, которая являлась онтологическим уче-
нием, имеющим к бихевиоризму лишь косвенное отношение. Бихевиоризм в психо-
логии, как известно, отказался от намерений изучать внутренние психические про-
цессы и сосредоточился на регистрации исключительно внешне наблюдаемого пове-
дения. У методологического логического бихевиоризма задача была несложна: следо-
вало лишь показать, что внутренние психические процессы наблюдать не следует,
прежде всего из-за трудностей регистрации. Что касается онтологического логическо-
го бихевиоризма, то он поставил перед собой нетривиальную задачу показать, что
внутренних процессов нет вообще. В частности, «деконструкции», говоря современ-
ным языком, подверглось понятие сознания.
Для критики этого «простонародного» (folk) понятия Райл вводит идею категори-
альной ошибки. Вот какими примерами иллюстрирует он категориальные ошибки.
1. Турист просит показать ему университет, ему показывают по очереди несколько
факультетов, турист просит: а теперь покажите мне университет. Турист не понимает,
что университет и есть совокупность факультетов. 2. Мальчик смотрит парад по теле-
визору, ему говорят, что идет дивизия, но он видит, как один за одним идут батальо-
ны, и спрашивает: а когда же пойдет дивизия? Он не понимает, что дивизия и есть
совокупность батальонов. У Райла это метафоры, в которых на место частей нужно
поставить отдельные акты поведения и диспозиции к ним, а из них будет собираться
сознание как совокупность таких актов и диспозиций.
Метафору Райла очень легко оспорить, повернув ее против самого его доказательства.
Университет не сводится к совокупности факультетов, у университета, помимо факульте-
тов, есть еще центр – ректорат. Именно наличие центра делает университет университе-
том, а не совокупностью факультетов. Так же и дивизия не сводится к совокупности ба-
тальонов. Батальонами командуют лейтенанты, а у дивизии есть генерал. Именно
116
наличие центрального командования, генерального штаба дивизии, делает ее дивизией,
а не совокупностью батальонов. И именно в согласии с этой метафорой сознание не сво-
дится к совокупности актов, у него есть управляющий центр. Именно наличие этого
центра делает сознание сознанием, а не совокупностью актов.
Поэтому можно сказать, что логический бихевиоризм как учение о том, что у
субъекта нет центра, опроверг сам себя и показал, что центр есть (должен быть).
Материалистические парадигмы сознания я пропущу, поскольку в них не может
быть субъекта. Субъект в них детерминирован, не свободен, а это означает, что он
вообще не субъект. Интересно рассмотреть две концепции психоанализа: классиче-
скую и лакановскую.
Психоанализ
Фрейд значительно облегчил задачу анализа своего учения, сам предложив так
называемые топики – условные схемы того, как расположены относительно друг
друга различные области психического аппарата. Нас будет интересовать так называ-
емая вторая топика – развитое им во второй половине творческого пути учение
о том, что существуют три области психического аппарата: Оно, Я и Сверх -Я [Фрейд
1988, Лапланш, Понталис 1996]. И Оно, и Сверх-Я являются бессознательными. Они
энергетически заряжены и давят на находящееся между ними Я, сознательную и ли-
шенную энергии область. Тут ясно уже у самого Фрейда, что он мыслил сознатель-
ную часть как центр. Я было у него управляющим центром, который выступал, так
сказать, менеджером энергетических сил бессознательных инстанций. Доступна была
этому Я и рефлексия, во-первых, как познание собственных его действий, во-вторых,
как психоаналитическое познание бессознательных инстанций в процессе работы с
аналитиком, а при большом навыке – и самостоятельно.
Мы можем констатировать, что к началу – середине XX в. схема психического аппа-
рата с управляющим центром была общепринятой. И вот в 1950-х гг. в недрах психоана-
лиза появляется вторая после Райла попытка создать учение о психике без центра.
Согласно мысли Лакана [Лакан 1997], субъекта как такового вообще нет, есть две
вещи: язык (он называет его цепью или сокровищницей означающих) и желание,
безобъектное и бессмысленное. Это как бы два вектора, которые могут пересекаться,
и в точке их пересечения желание обретает объект: данное означающее. Лакан не
проводит резкого различия между сознательным и бессознательным, как то было у
Фрейда. У Фрейда они были разделены специальной инстанцией – цензурой. У Ла-
кана различие между ними в отношении у языку. Сознательное человека отчасти
может подчинить язык принципу реальности, то есть, другими словами, сказать не-
что адекватное внешним обстоятельствам. Язык здесь как бы подчиняется внешней
необходимости. В бессознательном язык полностью господствует, ничему не подчи-
няется и говорит только то, что считает нужным сам. Лакан вводит нечто вро де язы-
ковой причинности, называя ее термином «дискурс». Дискурс у Лакана – это, можно
считать, совокупность законов, по которым слова связаны друг с другом, одни тянут
за собой другие. Психоз Лакан трактует как утрату сознательной власти над языком и
попадание в полную зависимость от языковой стихии [Лакан 2000].
Мы видим, что, в отличие даже от учения Фрейда, центр субъектности у Лакана
как бы распылен по языку, или по дискурсу. Лакан не пишет о принятии решений,
но мы можем предполагать, что дискурс властвует и здесь. Именно так будет интер-
претировать Лакана постмодерн: человек – это машина желания, желание это само
возобновляется из невозможности удовлетворения, а объекты (каждый раз ложные)
подбрасывает ему дискурс, господствующий в обществе.
Аналитическая философия сознания
Здесь имеется большой спектр парадигм, от материализма до дуализма различных
видов [Прист 2001]. В плане топики сознательных процессов все учения аналитиче-
ской философии также разные. Среди материалистов есть такие, которые утвержда ют
наличие центральных механизмов в мозге и даже пытаются найти их мозговую
117
локализацию (исследования далеки от завершения, но уже в течение многих десяти-
летий вращаются вокруг префронтальной коры [Farrar et al. 2018; Bhanji, Beer, Bunge
2010; Lawrence et al. 2009]).
Среди дуалистов нужно назвать К. Поппера, который напрямую не принадлежит
к аналитической философии (и критиковал ее за излишнее увлечение анализом язы-
ка), но его философия сознания во многом является предтечей американской фило-
софии сознания. В совместной с Дж. Экклзом книге Self and its Brain [Popper, Eccles
1977] Поппер пишет, что Я – это некая особая сущность, не тождественная ни мозгу
(первый мир), ни культуре (третий мир), а являющаяся как бы посредником между
ними (второй мир). Опять, как и в случае Фрейда, мы имеем трехэтажную конструк-
цию с Я на втором этаже. И конечно, в этой конструкции Я занимает центральное
место. Оно является центром и мышления, и принятия решений. А вот содержание
мышления оно во многом берет из третьего мира. Мозг же является той машиной,
которую оно использует для этой работы.
Совсем иная модель взаимодействия сознания и мозга принадлежит Д. Деннету
[Деннет 2004]. На сегодняшний день она, вероятно, является наиболее респектабель-
ной теорией сознания без центра. Деннет считает, что сознание человека не едино, а
представляет собой некое множество постоянно текущих и конкурирующих между
собой мысленных процессов (он называет это «Модель множественных набросков»).
Эта идея была позаимствована у Дж. Фодора, который ввел понятие когнитивного
модуля. Однако Деннет отвергает фодоровское членение когнитивной системы на
модули и центральный процессор, в его схеме остаются только модули. В каждый
момент любой из них может захватить лидирующее положение, этот модуль и будет
претендовать на то, чтобы быть точкой Я. Идея конкуренции модулей близка к идее,
развиваемой нейрофизиологом Дж. Эдельманом [Edelman 1987] – о конкурентных
отношениях между группами нейронов. Обратную связь, которая необходима для
закрепления успешно действующего модуля, Деннет иллюстрирует схемами управле-
ния движущимися автоматами. Я он считает чем-то вроде грамматической иллюзии,
«центром нарративной гравитации». Человек начинает с рассказа другим о себе и
заканчивает тем, что сам начинает этому верить. То есть центр самости, Self у Денне-
та чисто иллюзорный, он построен на необходимости говорить о себе.
Проиллюстрировать отношение к себе у Деннета можно и его теорией интенцио-
нальной установки [Dennett 1987]. Интенциональная установка – интерпретативная.
По отношению ко всем предметам мира мы принимаем одну из трех установок: меха-
ническую, дизайнерскую или интенциональную. Механическая установка – это отно-
шение к машине типа автомобиль. Его движения мы объясняем через его устройство.
Дизайнерская установка – отношение к машине типа будильник. Его звонок мы объ-
ясняем замыслом его конструктора. Наконец, интенциональная установка – отноше-
ние к машине типа «живое существо». Ее движение мы объясняем намерениями.
Это не значит, что у живого существа действительно есть намерения. Это означает,
что предполагая «намерения», легче всего объяснить его действия. Наконец, к самим
себе мы, машины без сознания, также относимся согласно интенциональной установ-
ке – нам легче всего объяснить себе собственные действия, предполагая о самих себе,
что у нас есть намерения. Так мы впадаем в еще одну очередную иллюзию о том,
что сознание у нас есть.
Впрочем, я несколько заостряю теорию Деннета, доводя ее, так сказать, до логи-
ческого конца. Сам Деннет не отрицает некоторых проблесков сознания, связанных
с мельканием драфтов, он только протестует против центра управления. Подлинность
бытия у нас намерений он тоже не отрицает, хотя должен был бы. Ведь какой бы то
ни было темпоральный горизонт прекрасно укладывается в такие схемы сознания,
как были у Гуссерля или его предшественника Бергсона («Материя и память»), наме-
рения прекрасно проанализировал Хайдеггер в теории «проектов», но какие могут
быть темпоральные выходы за пределы настоящего в материалистических учениях?
Нейроны отвечают на уже состоявшиеся стимулы, для намерений нужна некая внут-
ренняя активность психического аппарата, которая не постулируется у Деннета и
118
других материалистов. Возможно, они могли бы ее постулировать, но тогда им бы
пришлось иметь дело с мозгом, который хаотичен не только в ответ на внешние сти-
мулы (порождает драфты), но хаотичен также и в ответ на внутреннюю активность
(порождает какие-то внутренние драфты, некоторые из которых являются интенция-
ми), и этот дважды хаотичный мозг им было бы уже совсем нелегко сопоставить здо-
ровому человеку, который большую часть времени ведет себя вполне упорядоченно.
Таким образом, мы видели, что первые, классические парадигмы субъектности –
картезианская и трансцендентальная – не ставили вопрос о центральном Я под со-
мнение. Однако в XX в. появились два течения, в которых центральное Я не присут-
ствует. В аналитической философии это в начале века логический бихевиоризм и в
конце века теория Деннета. В континентальной философии это теория Лакана и не-
которые инспирированные ею постмодернистские теории.
По-видимому, в обоих случаях преследуемая авторами цель – это материалисти-
ческое требование избавиться от догмы «призрака в машине», то есть души. И у Ла-
кана, и у Деннета, при всей непохожести их положений и аргументации, одинаковые
модели: единичная инстанция выбора, по необходимости свободная, заменяется на
структуру, работающую по определенным внешним законам, будь то законы услов-
ных рефлексов или дискурса.
Вопрос о центральных инстанциях – один из самых дискутируемых вопросов
в современной аналитической философии и в современной когнитивной науке. Рас-
смотрим проблему так называемого центрального согласования [Frith, Happé 1994].
Речь идет о согласовании, например, сенсорных потоков с различных каналов и по-
строения связной картины «того, что происходит». Для этого требуется согласовывать
текущий опыт также с памятью, строить перцептивные и интерпретативные гипоте-
зы, осуществлять интенсивную работу конструирования [Цоколов 2000], необходи-
мую для осмысленного восприятия информации о текущем положении дел в мире.
Без центрального согласования когнитивные функции вроде бы представить трудно.
Конечно, центральное согласование – это еще не субъект. Как представляется,
должно быть также и центральное управление, то есть должен существоват ь некото-
рый центр передачи одних мыслей на другие мысли, и этот центр должен быть тесно
связан с принятием решений. Подобного же мнения придерживается Е.А . Сергиенко:
«Контроль поведения является интегративной характеристикой, включающей когни-
тивный контроль, эмоциональную регуляцию и контроль действий (произвольность).
В отличие от саморегуляции контроль поведения обладает спонтанностью и само-
произвольностью» [Сергиенко, Лебедева, Прусакова 2009]. Близкие к идеи развивает
О.И . Мотков в работе «Субъект как диспетчер личности» [Мотков web].
Мы, вероятно, не можем на сегодняшнем уровне решить вопрос о существовании
и природе центрального управления. Но о такой центральной инстанции, как транс-
цендентальное единство апперцепции, мы можем судить с достаточно неожиданной
стороны – с позиции анализа психопатологии. Рассмотрим одно из типичных рас-
стройств при шизофрении: синдром психического автоматизма (раньше назывался
синдромом Кандинского-Клерамбо), при котором у больного возникает переживание
чуждости собственного мышления: «мысли открыты для других, известны окружаю-
щим», «люди похищают идеи», «вкладывают свои мысли» [Минутко 2009]. Человек
не теряет способности думать, но ему начинает казаться, что его мысли не принад-
лежат ему, что они либо текут сами по себе, либо их вкладывают ему в голову другие
люди или еще какие-то силы. Другими словами, к каждой мысли не прибавляется
тавтологичная мысль «это мыслю я». Но именно таково, по Канту, было действие
трансцендентального единства апперцепции: прибавлять к каждой мысли ощущение
ее принадлежности Я. Поэтому можно чисто формально переформулировать шизо-
френический синдром психического автоматизма как «синдром отсутствия ТЕА».
Поскольку не вызывает сомнений, что состояние психического автоматизма – это
болезненное искажение работы мозга, по-видимому, мы должны заключить, что
ТЕА – это вполне материальная инстанция мозга, имеющая там свое представитель-
ство (на сегодняшний день не локализованное). Как она может быть организована?
119
Этот вопрос должны решать совместно психиатры, психофизиологи и философы.
Впрочем, философию этот вопрос не очень интересует. Нам достаточно указать, что
имеются свидетельства, что при определенных состояниях работа центральных ин-
станций субъектности нарушается, и это болезненные состояния – следовательно,
в здоровом состоянии центральные инстанции есть и работают бесперебойно.
Шизофрения вообще дает богатый материал для анализа работы механизмов субъект-
ности, поскольку они в значительной мере ослабляются при выраженных шизофрениче-
ских состояниях [Mishara 2007; Mundt 2005; Parnas, Zandersen 2018; Pienkos, Sass 2017].
Часто больные находятся в так называемом спутанном состоянии сознания, когда не
удается уловить а) связь их речи и действий с видимыми причинами во внешней среде;
б) связь высказываний и действий между собой. Представляется, что именно так и
должны вести себя субъекты, организованные по деннетовскому принципу драфтов:
хаотически и без субъектного стержня. Деннет предполагает всю тяжесть субъектной
когерентности, согласованности, непротиворечивости взвалить на одну лишь инстан-
цию – на нарратив человека о самом себе. Предполагается, что социум ожидает от
субъекта непротиворечивого нарратива, поэтому нарратив делается непротиворечивым,
и лишь поэтому непротиворечивыми делаются остальные слова человека и даже все его
действия. Но у больных шизофренией присутствует нарратив о себе, и он является
точно таким же хаотическим, как любые другие их высказывания. Следовательно, од-
ного лишь его наличия мало, чтобы сделать субъекта когерентным, и мало одного
лишь социального ожидания от субъекта, чтобы сделать его соответствующим этому
ожиданию. Никакое социальное ожидание не делает когерентным больного шизофре-
нией. Условие самосогласованности субъекта должно лежать внутри этого субъекта,
как представляется, на уровне центрального согласования. По всей видимости, мы мо-
жем предполагать, что центральное согласование несет некую рефлексивную нагрузку,
согласовывая не только внешние данные о мире, но и представления человека о самом
себе. Выше, в пункте о трансцендентальной парадигме, мы говорили, что существует
два рефлексивных Я, одно близкое к Я трансцендентального единства апперцепции,
низкоуровневое, занятое тем, что осознает собственные мысли и чувства. Второе –
высокоуровневое, Я-концепция, Я эмпирического субъекта. Которое из них ответ-
ственно за самосогласованность субъекта, за единство его потока мыслей во времени?
Хочется сказать, что второе, однако все же данный вопрос требует более глубокой про-
работки с привлечением материала из психиатрии.
Заключение
Рассмотрение различных парадигм субъектности в топике Центр–Периферия поз-
воляет, во-первых, лучше понять многих авторов, восстановив их презумпции в этом
аспекте, что они сами не всегда проговаривали. Во-вторых, проанализировать имею-
щиеся гипотезы относительно того, как устроены центральные инстанции субъектно-
сти. Пока удалось увидеть, что на эти инстанции в основном ложится нагрузка ап-
перцепции-рефлексии, однако в будущем следует проанализировать устройство и
инстанций, принимающих решения о действии. В-третьих, было показано, что мате-
риал психопатологии позволяет подкрепить определенные модели (в которых цен-
тральные инстанции есть) и отвергнуть другие (модели без центральных инстанций).
Здесь в будущем открывается богатое поле для исследования со взаимодействием
философов, психиатров и психологов.
Источники и переводы – Prima ry Sources and Tran slations
Гуссерль 2006 – Гуссерль Э. Кар тезианские р азмышления. СПб: Наука, 2006 (Husserl, Ed-
mund, Ca rtesianische Meditationen, Russian Translation).
Декарт 2000 – Декарт Р. Размышления о первой философии. СПб .: Азбука, 2000 (Descartes,
René, Meditationes de prima philosophia, Russian Translation).
Деннет 2004 – Деннет, Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М.: Идея-Пресс, 2004
(Dennett, Daniel, Kinds of Minds. Toward An Understanding Of Consciousness, Russian Translation).
Кант 1965 – Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. В 6 т. Т 3 . М.: Мысль, 1965
(Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, Russian Translation).
120
Лакан 2000 – Лака н Ж. О бессм ыслице и структуре бога / Лакан Ж. Метафизические и ссле-
дования. Вып. 14 . Стату с иного. СПб.: Изд-во СПбФО, Алетейя, 2000 . С. 218 –231 (Lacan,
Jacqu es, Du non-sens, et de la structure de Dieu, Russian Translation).
Лакан, 1997 – Лака н Ж. Ин станция буквы в бессозн атель ном или судьба разум а после
Фрейда. М .: Русское феноменологическо е общество, 1997 (Lacan, Jacques, L'instance de la lettre
dans l'inconscient, Russian Translation).
Райл 2000 – Райл Г. Понятие созн ания. М.: Идея-пресс; ДИК, 2000 (Ryle, Gilbert, The Con-
cept of Mind, Russian Translation).
Фрейд, 1988 – Фрейд З. По ту сторону принципа наслажден ия. СПб, Алетейя, 1998 (Freud,
Sigmund, Jenseits des Lustprinzips, Russian Translation).
Фрейд, 1989 – Фрейд З. Разделение психической лично сти // Фрейд З. Введение в психоана-
лиз: Лекции. М .: Наука, 1989 (Freud, Sigmund, Die Zerlegung des psychishen Persönlichkeit, Russian
Translation).
Dennett, Daniel (1987) The Intentional Stance, MIT P ress, Camb ridge, MA.
Popper Karl, Eccles John (1977) Self and its Brain, Springer, Berli n etc.
Ссылки – References in Russian
Васильев 2003 – Васильев В.В. История философской психологии: Западная Европа –
XVIII в. Калининград: Stoa Kantiana, 2003.
Васильев 2009 – Васильев В.В. Трудная проблем а сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2009.
Колесников, Ставцев 2000 – Колесников А.С., Ст авцев С.Н . Формы субъективности в фи ло-
софской культуре XX века. СПб.: Санкт-П етербургское философское общество, 2000.
http://anthropology.ru/ru/edition/formy -subektivnosti-v-filosofskoy-kulture-xx -veka.
Лапланш, Понталис 1996 – Лапланш Ж., Понталис Ж. - Б . Словарь по психоанализу. М.:
Высшая школа, 1996.
Минутко 2009 – Минутко В.Л. Шизофрения. Курск: ОАО «ИПП Курск», 2009.
Мотков web – Мотков О.И. Субъект как диспетчер личности. http://www.psychology -
onli ne.net/articles/doc-846.html.
Прист 2001 – Прист С. Теории сознания. М.: Идея-пресс; ДИК, 2001.
Сергиенко, Лебедева, Прусакова 2009 – Сергиенко Е.А ., Лебедева Е.И., Прусакова О.А . Мо-
дель психического в онтогенезе человека. М.: Институ т психологии РАН, 2009.
Соколов 1999 – Соколов В.В. Введение в классическую фило софию. М.: МГУ, 1999.
Цоколов 2000 – Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизм а
в современ ной философии и теории познания. Мюнхен : PHREN, 2000.
References
Bhanji, Jamil P., Beer, Jennifer S., Bunge, Silvia A. (2010) “Taking a gamble or playing by the
rules: dissociable prefro ntal systems implicat ed in probabilistic versus deterministic rule -based decisions ”,
Neuroimage, Vol. 49 (2), pp. 1810 –1819.
Edelman, Gerald M. (1987) Neural Da rwinism. The theory of neuronal group selection, Basic books,
New York.
Farrar, D anielle C., Mian, Asi m, Budson, Andrew E., Moss, Mark B., Killiany, Ro nald J. (2018)
“Functional brain networks involved i n decision-making u nder certain and u ncert ain conditions ”, Neu-
roradiology, Vol. 60 (1), pp. 61–69.
Frith, Uta, Happé, Frances ca (1994) “Language and commu ni cation in autistic disorders”, Philo-
sophical Transactions: Biological Sciences, Vol. 346, No. 1315, pp. 97–104 .
Kolesnikow, Anatoliy S., Stavt sev, Sergey N. (2000) Forms of Subjectivity in the Philosophical Culture
of XX, Sankt-peterbu rgskor filosofskoe obshchestvo, Saint -Petersburg, http://anthropology.ru/ru/ edi-
tion/formy-subektivnosti-v-filosofskoy-kulture-xx -veka (in Russian) .
Laplanche Jean, Pontalis Jean-Bertrand (1967) Le Vocabulaire de la psycha nalyse, PUF, Paris (Rus-
sian Translation 1996).
Lawrence, Natalia S., Jollant, Fabrice, O'Daly, Owen, Zelaya, Fernando, Phillips, Mary L. (2009) “Distinct
roles of prefrontal cortical subregions in the Iowa Gambling Task”, Cereb Cortex, Vol. 19 (5), pp. 1134–1143.
Minutko, Vitaliy L. (2009) Schizophrenia, IPP Kursk, Kursk (in Ru ssian).
Mishara, Aaron L. (2007) “Is minimal self preserved in schizophrenia? A sub compo nents view”,
Consciousness and Cognition, Vol. 16, pp. 715 –721 .
Motkov, Oleg I. (2019) Subject as a Manager of the Person http://www.psychology-
onli ne.net/articles/doc-846.html (in Russian).
Mundt, Christoph (2005) “Anomalous Self -Experience: A Plea for Phenomenology”, Psychopatholo-
gy, Vol. 38, pp. 231 –235 .
Nelso n, Barnaby, Parnas, Josef, Sass, Louis A. (2014) “Disturbance of Mini mal Self (ipseity) in
Schizophrenia: Clarification and Current Status”, Schizophrenia Bulletin, Vol. 40 (3), pp. 479–482 .
121
Parnas, Josef, Zandersen, Maja (2018) “Self and schizophrenia: cu rrent status and diagnostic impli-
cations”, World Psychiatry, Vol. 17 (2), pp. 221 –222 .
Pienkos, Elizab eth S., Sass, Louis (2017) “Existential Ori ent ation: On the Phenomenology of Val-
ues, Attitudes, and Worldviews in Schizophrenia”, Psychopathology, Vol. 50, pp. 98–104
Priest, Stephen (1991) Theories of the Mind, Houghton Mifflin, Boston, MA (Russian Translation 2001).
Sass Loius, Whiting Jennifer, Parnas Josef (2000) “Mind, Self and Psychopathology”, Theory And
Psychology, Vol. 10 (1), pp. 87 –98.
Sergienko, Elena A., Leb edeva, Evgeni a I., Prusakova, O lga A. (2009) The Theory of Mind in the
Ontogenesis of Human, Institute of Psychology RAS, Mosco w (in Russian).
Sokolov, Vasiliy V. (1999) Introduction into the Classical Philosophy , MGU, Moscow (in Russian).
Tsokolov, Sergey (2000) The Discourse of the Radical Constructivism , PHREN, Mu nich (in Russian).
Vasili ev, Vadi m V. (2003) History of philosophical psychology: Western Europe – 18th C., Stoa Kanti-
ana, Kali ningrad (in Russian).
Vasiliev, Vadim V. (2009) The Hard Problem of Consciousness, Progress-Traditsia Moscow (in Russian).
Zahavi, Dan (2009) “Is the Self a Social Constru ct?”, Inq uiry, Vol. 52 (6), pp. 551 –573.
Сведения об авторе
КОСИЛОВА Елена Владимировна –
кандидат философских наук, доцен т ка-
федры онтологии и теории познания фило-
софского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Author’s information
KOSILOVA Elena V. –
СSc in Philosophy, assistant professor, de-
partment of ontology and theory of knowledge,
philosophical faculty, Lomo nosov Moscow
State University.
122
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
«Христос и мир»: метафизическая аргументация в полемике
В. Розанова и Н. Бердяева
© 2019 г.
И.И . Павлов
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва,
101000, ул Мясницкая, д. 20.
E-mail: elijahpavloff@yandex.ru
Поступила 13.03.2019
В статье рассматривается полемика Василия Розанова и Николая Бер-
дяева о соотношении Христа и мира, имевшая место на заседаниях
Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге. Автор по-
мещает эту полемику в современный контекст дискуссий о роли ме-
тафизики в спорах о религии, связанных с постсекулярной ситуацией.
Реплика Розанова и ответ Бердяева анализируются не как образец
«экзотичной» русской религиозной философии, построенной на лите-
ратурности и лишенной строгой аргументации, а как выступления с
вполне определенными метафизическими аргументативными страте-
гиями. Автор подробно реконструирует позицию рассматриваемых
философов. Розанов строит свое рассуждение на противопоставлении
Христа и мира: показывая несовместимость христианства с мирскими
радостями, Розанов делает вывод о противоположности любви ко
Христу и любви к миру. Автор подчеркивает, что, используя в своем
выступлении стилистические и психологические приемы, Розанов,
тем не менее, называет свое выступление метафизикой и заявляет,
что у представителей церкви нет метафизики. Рассматривая прения,
разгоревшиеся после выступления Розанова, автор анализирует те
реплики, которые связаны с метафизикой. Бердяев же строит свой
ответ Розанову на аргументе-вопросе: что такое мир? Является ли мир
только наличным бытием, или же это ценностная категория? Автор
трактует этот аргумент как, на первый взгляд, разрушающий позицию
Розанова: если мир лишен ценностного измерения, то ценности мира
и Христа не могут быть противопоставлены друг другу. В заключении
автор подчеркивает, что главная проблема полемики заключается в
различном понимании метафизики у Розанова и Бердяева и подчер-
кивает актуальность ответа на вопрос о том, что такое метафизика,
для современных дискуссий о религии.
Ключевые слова: метафизика, русская религиозная философия, Роза-
нов, Бердяев, постсекулярное.
DOI: 10.31857/S004287440007168-9
Цитирование: Павлов И.И. «Христос и мир»: метафизическая аргумен-
тация в полемике В. Розанова и Н. Бердяева // Вопросы философии.
2019. No 10. С. 122–131 .
Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы фунда-
ментальных исследований Национального исследовательского университета «Высша я
школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государ-
ственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5 -100".
123
Christ and the World: Metaphysical Argumentation
in the Polemics of Rozanov and Berdyaev
© 2019 г.
Ilia I. Pavlov
National Research University “Higher School of Economics”, 20, Myasnitskaja str.,
Moscow, 101000, Russian Federation.
E-mail: elijahpavloff@yandex.ru
Received 13.03. 2019
The paper deals with the polemics of Vasily Rozanov and Nikolay Berdyaev on
the metaphysical relation between Christ and the World. The polemics took
place in the meetings of Religious-philosophical society in Saint Petersburg.
The author inserts this polemics in the context of current debates on the role of
metaphysics in post-secular discussions on religion. Rozanov’s reasoning and
Berdyaev’s answer are considered not to be an example of ‘exotic’ Russian reli-
gious philosophy based on literature and devoid of strict argumentation but ra-
ther reflections with certain metaphysical argumentative strategies. The author
reconstructs the viewpoints of the philosophers. Rozanov’s report is grounded
on the opposition of Christ and the World. Rozanov discovers the contrast be-
tween love to Christ and love to the World by demonstrating incompatibility of
the Christianity and secular pleasures. Although Rozanov uses stylistic and psy-
chological techniques, he presents his point as the metaphysical one. Therefore,
the answer Berdyaev works out is based on metaphysical question. What is the
world? Is the world only the actual being, or it is an axiological category? The
author examines this argument as the refutation of Rozanov’s point, because
the values of the world and Christ cannot be opposed if the category of the
world does not content an axiological dimension. In conclusion, the author
claims that the main trouble of the polemics is the difference in Rozanov’s and
Berdyaev’s interpretation of metaphysics. That is why it is significant to answer
what is metaphysics for current debates on religion.
Key words: metaphysics, Russian religious philosophy, Rozanov, Berdyaev,
the postsecular.
DOI: 10.31857/S004287440007168-9
Citation: Pavlov, Ilia I. (2019) ‘Christ and the World: Metaphysical Argu-
mentation in the Polemics of Rozanov and Berdyaev’, Voprosy filosofii,
Vol. 10 (2019), pp. 122–131 .
В современной постсекулярной ситуации, в которой вновь, после, казалось бы, пол-
ной победы секуляризма, растет значение религиозных факторов, с особой остротой
встает вопрос о возможности рационального диалога между верующими и неверующими.
Как подчеркивает К. Мейясу, для такого диалога значимую роль играет метафизика. Раз-
венчивая расхожее представление о том, что критика метафизики с необходимостью
имеет своим результатом критику религии, Мейясу указывает, что, лишая иудео-
христианскую религию возможности использовать псевдо-рациональную аргументацию,
критика метафизики открывает дорогу другим, фидеистическим формам религиозности,
делая мир еще более религиозным [Мейясу 2015, 61–96]. Следуя аргументации Мейясу,
исследователь постсекулярного Д. Узланер критикует антиметафизическое разделение
разума и веры у Хабермаса [Узланер 2011, 5–7], традиционно считающегося основным
теоретиком постсекулярного диалога. Все эти соображения указывают на актуальность
обращения к метафизическим стратегиям диалога о религиозных вопросах1.
The article was prepared within the framework of the HSE University Basic Research Pro-
gram and funded by the Russian Academic Excellence Project '5 -100'
124
В истории мысли и современной философии мы находим множество различных
традиций философских дискуссий о вере — начиная с платонизма и схоластики и
заканчивая аналитической теологией и теологическим поворотом в современной фе-
номенологии. На мой взгляд, русская религиозная философия выступает одной из
таких традиций. И я предлагаю обратиться к ней, чтобы выявить, какие метафизи -
ческие интеллектуальные практики использовались в ней для разговора о религии.
О значении русской религиозной философии для современного постсекулярного диа-
лога говорят несколько факторов, которые выявляет американский русист К. Струп.
Он указывает, что в последние годы существования Российской империи «...публичная
сфера <...> была насыщена дискуссиями о модернизации, секуляризации и отношениях
между религией, государством и народом», причем «...русская религиозная философия,
которая не настолько экзотична, как ее порой изображают, была глубоко вовлечена в эти
дискуссии», проходящие в постоянной связи с европейской интеллектуальной жизнью
[Струп 2014, 22]. Исследователь подчеркивает, что многие антисекулярные аргументы,
в том числе используемые в США, родились в русской религиозной философии предре-
волюционной эпохи [Струп 2014, 18–28]. Сходство с идеями русских религиозных фило-
софов Струп обнаруживает и в позиции Узланера [Струп 2014, 31].
Более того, обращаясь к русской философии в контексте вопроса о роли метафизики в
дискуссиях о религии, мы тем самым получаем новую оптику, которая обогащает наши
способы работы с историей русской мысли. Традиционно в истории русской философии
исследователи, в духе фундаментальных трудов Лосского [Лосский 1991] и Зеньковского
[Зеньковский 2001], обращаются к систематическому изложению взглядов отдельных мыс-
лителей. Однако обращение к дискуссиям как каналу производства философского знания
позволяет увидеть зарождение новых идей, которые уже потом входят в систематические
труды философов. Внимание к дискуссиям позволяет также исследовать их институцио-
нальный контекст — работу тех обществ, в которых велись споры, и журналов, на страни-
цах которых разгоралась полемика. При этом такой подход вовсе не предполагает обесце-
нивающего отношения к наследию русских религиозных философов, которым иной раз
сопровождаются новые программы изучения истории русской мысли с применением мето-
дологии социологии знания2.
При этом, что более важно, анализ конкретных дискуссий позволит увидеть, каким
образом участниками этих дискуссий понималась роль метафизики среди других интел-
лектуальных практик и в контексте окружающих их общественной реальности. Начиная
с Аристотеля метафизику традиционно считают той областью философии, которая
наиболее чиста от всякого практического интереса и никак не связана с общественной
жизнью. Такое представление ложится в основу классических изложений истории фило-
софии, включая историю русской мысли, в которых в качестве метафизики рассматри-
ваются учения отдельных философов о бытии, личности или Боге3. В таких работах, как
правило, наиболее высоко оцениваются онтология и гносеология мыслителей, в то время
как их философская публицистика опускается. На мой взгляд, именно этот факт привел
к той недооценке роли движения «нового религиозного сознания» в истории русской
мысли, о которой говорит А. Черняев [Черняев 2014, 79].
Я намерен показать, что, не пытаясь реконструировать метафизику философа
в целом, а обращаясь к частным случаям философствования, мы можем лучше увидеть
отношения метафизики с другими практиками — религиозными, политическими, лите-
ратурными. И, что самое главное, мы можем выявить, каким именно образом в этих
частных случаях понимались задачи метафизики и что сами философы понимали под
метафизикой. Это позволит нам не располагать учения философов в нашем заранее гото-
вом представлении о том, что такое метафизика, но обратиться к тому, какие метафизи-
ческие стратегии философы использовали в том или ином случае.
В своей статье я обращусь к одной достаточно известной полемике — выступлению
Розанова о «сладчайшем Иисусе» и ответу Н. Бердяева. Этот спор является частным слу-
чаем более пространной дискуссии о «новом религиозном сознании», разгоревшейся в
России в начале XX века под влиянием идей Д. Мережковского о христианстве «Треть-
его завета»4, и той ее части, которая проходила в Религиозно-философском обществе
125
в Санкт-Петербурге5. В этих дискуссиях под «новым религиозным сознанием» понимались
попытки модернизации исторического христианства (в российском контексте — Право-
славной церкви). При этом, по замечанию С. Аскольдова, сделанному им в первом докладе
РФО СПб, такого рода попытки можно было разделить на два типа: если первый тип про-
сто видел недостатки исторической церкви и желал преодолеть их возвратом к евангель-
скому христианству, — Аскольдов отнес этот тип к «старому» религиозному сознанию, —
то второй, в духе Мережковского, желал преобразовать само евангельское христианство,
его теоретическое содержание [Аскольдов 2009, 36–38].
В своем докладе Розанов выступал именно как представитель радикальной точки зре-
ния, критикуя не только евангельское христианство, но и самого Христа. При этом, как
следует из названия его предыдущего доклада «О нужде и неизбежности нового религи-
озного сознания», свою позицию Розанов понимал именно как «новое религиозное со-
знание». Тем не менее, Розанов отличал свои взгляды от учения Мережковского: с кри-
тики надежд Мережковского на синтез христианства и культуры начинается интересую-
щий нас доклад «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» [Розанов 2009, 139–140],
позднее опубликованный Розановым в составе книги «В темных религиозных лучах» [Ро-
занов 1994: 417–426], уничтоженной царской цензурой.
Доклад Розанова «О сладчайшем Иисусе» был зачитан 21 ноября 1907 г. как ответ
на доклад Мережковского «Гоголь и отец Матвей», прозвучавший 18 апреля 1903 г.
на заседании Религиозно-философских собраний. Если Мережковский проповедовал
новую религиозность как соединение христианства и культуры, то Розанов был
намерен показать их полную несовместимость. Своим докладом он стремился дока-
зать, что «новое религиозное сознание» должно или вовсе преодолеть христианство,
или найти такую трактовку христианства, которая была бы отлична от евангельского
учения Христа. При этом Розанов осознает, что надежды договориться с церковью,
питавшие Религиозно-философские собрания 1901–1903 гг., исчезли [Розанов 2009,
139–140], что также отличает атмосферу дискуссии 1907 г.
—
после запрета собраний
К.П . Победоносцевым и событий первой русской революции — от времени собра-
ний, на которых был сделан доклад Мережковского.
Эти обстоятельства позволяют мне не согласиться с мнением исследовательницы «но-
вого религиозного сознания» И. Воронцовой, которая, анализируя дискуссии в РФО
СПб, игнорирует реплику Розанова, воспринимая ее как «литературную интерпретацию»
тезиса «нового религиозного сознания» об отвержении христианством «плоти» [Воронцо-
ва 2017, 315]. Такая интерпретация представляется мне не просто некорректной, но по-
чти полностью противоречащей сути дела: Розанов не только начинает доклад с критики
Мережковского, но, что также важно, представляет свой доклад как строго философский
и метафизический – и именно так он был воспринят Бердяевым.
Каким же образом Розанов спорит с Мережковским? Он предлагает проделать мыслен-
ный эксперимент – вставить фрагмент из Гоголя в Евангелие. Это стилистически невоз-
можно – а значит, Евангелие самой своей стилистикой не допускает синтеза с культурой.
Из действий персонажей Нового завета, которые не бывали влюблены и любили только
Иисуса, становится видно, что с христианством несовместимы не только Гоголь, но и вся
литература, любая шалость и игра — и весь мир [Розанов 2009, 140–142]. Так Розанов под-
готавливает свой главный аргумент против евангельского христианства и задает вопрос:
можно ли добавить что-то ко Христу? Христианство это запрещает. Если мирские радости
и входят в жизнь христианина, то контрабандой. Христианство может «простить» увлече-
ние миром, но призывает оно лишь к одному – любви ко Христу. Поэтому, по Розанову,
в христианстве все есть лишь смерть и гроб [Розанов 2009, 143–144].
Далее Розанов переходит к своему пониманию Троицы, которое также отличается от
идей Мережковского. Если для Мережковского характерна вера в новое откровение,
которое откроет новую эпоху — Третий завет с ипостасью Святого Духа [Мережковский
2000, 24], то Розанов указывает на значение ипостаси Отца. Это важнейшее различие еще
раз демонстрирует, что доклад Розанова не может быть рассмотрен как простая
«иллюстрация» идей «нового религиозного сознания»: скорее Розанов разрабатывает аль-
тернативную по отношению к учению Мережковского концепцию.
126
Розанов пишет, что у Бога есть двое детей – мир и Иисус. Мир связан с ипоста-
сью Отца, которую христианство назвало только нумерически и никак не осмыслило.
В рамках «Иисусо-теизма», то есть реального поклонения только Иисусу, ответить на
вопрос Мережковского о мире нельзя. Для этого нужно обратиться к и постаси Отца.
Признав ипостась Отца, отцы церкви, по Розанову, признали и весь языческий
мир – поскольку Творца мира и Промысел знали все народы. Но в христианстве
Савл стал Павлом: христианство не дополнило Ветхий завет, почитающий Отца, но
отменило его [Розанов 2009, 145–146].
Розанов понимает вопрос Мережковского о христианстве и культуре как вопрос о
том, в согласии ли Мир-Дитя и Иисус-Дитя – двое детей Бога? Мир принял Еванге-
лие – но Евангелие не принимает мир, который оказывается за переплетом книги. Ха-
рактерно, что Розанов указывает, что речь идет не о литературных метафорах, а о мета-
физике. Он подчеркивает важность метафизики, которой не понимают духовные лица,
участвовавшие в Религиозно-философских собраниях и в дискуссиях РФО СПб. Свя-
щенники и епископы не имеют никакой метафизики христианства – то есть ответа на
вопрос о соотношении Христа и мира, Христа и жизни, – но сводят все к вопросу о сво-
ей добродетельности и добродетельности христианства [Розанов 2009, 147].
Христианство, по Розанову, отрицает счастье, поскольку счастье ведет к забвению
гроба. Из своих аргументов о невозможности сочетать Христа и жизнь Розанов делает
вывод, что смерть есть главный идеал христианства. Он требует от духовенства ответить
на этот вопрос метафизически, а не морально [Розанов 2009, 148]. Далее Розанов рисует
метафизику христианства. При этом характерно, что именно в завершающей части до-
клада он использует больше литературных приемов и метафор, психологических сравне-
ний, чем в основной, которая имеет более строгую аргументативную структуру. К этой
особенности понимания метафизики Розановым мы еще вернемся.
Розанов сравнивает Христа с солнцем, а науки и семью – со звездами. Солнце
Христа затмило эти звезды, день затмил ночь, в которой нужны звезды. Во Христе и
смерть стала сладкой, но все плоды земные стали горьки. «Во Христе прогорк мир,
и именно от его сладости. < ...> Кто же после ананасов схватится за картофель?» Та-
кой эффект, по Розанову, «...есть свойство вообще идеализма, идеального, могуще-
ственного. <...> Великая красота делает нас безвкусными к обыкновенному» [Розанов
2009, 149]. Из библейских слов Бога, обращенных к Моисею, – «Меня невозможно
увидеть и не умереть», – Розанов делает вывод, что познание Бога и смерть взаимо-
связаны. Бог, по Розанову, — «все же не мир». Он включает в себя эстетику грусти
и страдания; смерть в этом случае становится высшей сладостью как наиболее высо-
кое страдание, а Христос – «вождем гробов». Заключает свой доклад Розанов дихо-
томией: эти соображения означают, что либо наш мир – во зле, а «тот свет» — боже-
ственный, либо наш мир – божественный, а загробный мир Иисуса – демоничный.
Церковь учила первому, признавала Христа Богом, а весь мир — лежащим во зле,
желая не его улучшения, а его уничтожения [Розанов 2009, 150–151].
Прения по докладу Розанова были ожесточенными. Многие докладчики подчер-
кивали, что христианство шире, чем его видит Розанов, который выделил лишь одну
из многих его черт. Я рассмотрю несколько реплик, связанных с темой метафизики.
Священник Константин Аггеев, предвосхищая ответ Бердяева, назвал Розанова
«фактопоклонником», который признает за доброе все то, что существует [Розанов
2009, 155–156]. С. Аскольдов указал, повторяя то, что уже сказал Розанов, что не
только христианство, но любое миросозерцание, воздвигающее идеалы, портит вкус к
тому или иному в мире. Приводя пример Сократа, Аскольдов настаивал, что мироотри-
цательное отношение следует из любого высокого идеала [Розанов 2009, 159–160].
П. Струве подчеркнул, что Розанов метафизически стоит на одной почве с Ницше и
Спинозой: он не признает греха, и из этого следует определенный взгляд на мир [Роза-
нов 2009, 165]. Б. Столпнер, повторяя основные мысли доклада, подчеркнул главную
мысль доклада: порок христианства – в метафизической концепции Бога, причем у
священников нет метафизики христианства, а у Розанова она есть. Преобразовывать мир
к лучшему приходится не христианству, а против христианства [Розанов 2009, 172–174].
127
На главный аргумент Розанова – об отсутствии у священников метафизики христи-
анства – ответил только К. Жаков. Вслед за Аскольдовым подчеркнув, что доклад Роза-
нова ставит традиционный вопрос о соотношении моральных ценностей и ценностей
мира, Жаков воспроизводит метафизику христианства – учение о Люцифере, Совете
превечном, на котором Сын согласился пострадать за свободу человека, грехопадении и
жертве Христа: «Отец создал свободу и страдает за свободу в лице Своего Сына» [Роза-
нов 2009, 177]. Жаков утверждает: «Христианство не только не уничтожает существующе-
го мира, но делает возможным самое высшее в этом мире: свободу личности, свободу
духа» [Розанов 2009, 177–178]. Ценности христианства «не от мира сего» – точка опоры,
с помощью которой мы можем двинуть весь мир к божественному. «...мы хотим быть
богами. Это естественное стремление всей природы к высшему. Это не насилие над
нами. Человек есть созидающийся бог. Это несомненная истина» [Розанов 2009, 178].
Идеи Жакова также оказываются созвучными докладу Бердяева.
Сходные мысли высказал С. Адрианов: он предложил разделить аскетизм, воз-
никший от слепоты и бессилия, и идеализм. Есть два вида идеализма – аскетический
и творящий; последний, связанный с достижением рая земного, через который хри-
стианство должно идти к раю небесному, помнит, о чем забыла историческая цер-
ковь, держащаяся за аскетизм: «Бог на земле ходил и оставил заповедь: “все будете
богами”» [Розанов 2009, 179–182].
На следующем заседании, прошедшем 12 декабря 1907 г., было зачитано присланное
возражение Бердяева – сам он не присутствовал на заседании. Текст Бердяева, как и
доклад Розанова, вошел в состав книги – Бердяев опубликовал его в сборнике статей
«Духовный кризис интеллигенции» [Бердяев 2009а
, 230–247].
Бердяев начал свой доклад с достаточно точного пересказа главной мысли Розанова –
о двух детях Бога и «прогоркшем» во Христе мире. Однако сразу же Бердяев заявляет,
что весь пафос Розанова строится на «путанице», которую без труда может вскрыть «яс-
ное философское и религиозное сознание» [Бердяев 2009б, 183]. Бердяев признает силу
розановского высказывания, на фоне которого слова официального христианства пре-
вращаются в лепет. Тем не менее, защиту мира и его ценностей Бердяев считает харак-
терным для обывательского мировоззрения, свойственного и официальной церкви,
а Розанова называет «гениальным обывателем» [Бердяев 2009б, 185–186].
Далее Бердяев формулирует свой главный аргумент, он задает вопрос, что же такое
мир, о каком мире идет речь? Какое содержание вкладывает Розанов в слово мир, есть
ли мир совокупность эмпирических явлений или положительная полнота бытия? Есть ли
мир все данное, смесь подлинного с призрачным, доброго с злым, или только подлин-
ное, доброе? [Бердяев 2009б, 186].
Этот вопрос становится ключевым для ответа Бердяева. Мы видим структуру аргу-
мента Бердяева: он вводит различение призрачного и подлинного в мире, после чего мы
можем задать вопрос о том, что понимается под миром. Однако этот аргумент, как и
слова К. Аггеева, бьют мимо цели. Розанов вовсе не отрицает любые ценности, посколь-
ку посюсторонние ценности так же являются ценностями: если бы все ценности были
равными, то не было бы никакой проблемы в отказе от ценности жизни ради смерти в
«Иисусе сладчайшем». На первый взгляд, это соображение подрывает критику идеализма
в розановском выступлении. Но к этому вопросу мы еще вернемся.
В этом же духе размышляет и Бердяев. Он задает вопрос: согласится ли Розанов при-
знать смерть частью того мира, который он защищает от «Иисуса сладчайшего»? Если
нет, то он должен признать, что мир лежит во зле, поскольку в нем царит «рабская необ-
ходимость» и «закон тления» [Бердяев 2009б, 186–187]. Здесь мы видим зарождение тех
тем, которые станут ключевыми в позднейшей метафизике Бердяева6.
Если мы признаем разделение подлинного от неподлинного в мире, божественное от
дьявольского, то мы видим, что мировая фактичность – смесь двух миров, разделить
которые помогает именно Христос. Розанов ощущает божественную сторону творения.
Однако он глух и слеп к трагедии мира, поскольку у Розанова нет чувства личности.
Розанов, по Бердяеву, утешается от смерти деторождением7. Но «личность не от мира се-
го», и все творчество в истории – томление по трансцендентному [Бердяев 2009б, 187–190].
128
Отвечая на слова Розанова о «двух детях» Божиих, Бердяев, в духе традиционной
христианской метафизики, подчеркивает, что Бог сотворил мир через Христа, а зна-
чит, Христос – «Бого-Мир». Более в согласии с Мережковским, чем Розанов, а также
следуя идеям Вл. Соловьева, Бердяев пишет, что оправдание плоти и соединение Бо-
га с миром окончательно завершается лишь «в божественной диалектике» троично-
сти, в Святом Духе, который явит собой Богочеловечество, как Христос явил собой
Богочеловека [Бердяев 2009б, 198]. После чего Бердяев заявляет о своей привержен-
ности идее «нового религиозного сознания»8: Для нового религиозного настроения и
сознания, пережившего весь опыт новой истории, всю глубину сомнений и отрица-
ний, вопрос о церкви ставится иначе, чем для обветшалого сознания. Мы ищем Цер-
ковь, в которую вошла бы вся полнота жизни, весь мировой опыт, все ценное в ми-
ру, все, что было подлинным бытием в истории. За стенами Церкви ничего не долж-
но остаться, кроме небытия. Церковь есть <...> божественный мир, непогибающая
связь между Богом и миром. Вхождение в Церковь и есть вхождение в подлинный
мир, а не выхождение из мира [Бердяев 2009б, 199].
В заключении Бердяев заявляет, что ни одна из исторических церквей не есть
вселенская церковь, но мир идет к вселенской церкви. В отличие от Мережковского
Бердяев признает, однако, что путь к ней лежит через таинства исторических церк-
вей. Дилемму же, встающую перед «новым религиозным сознанием», Бердяев считает
выбором не между Богом и миром, а между официально-казенным христианством и
Христом [Бердяев 2009б, 200].
На прениях после доклада Бердяева также звучала тема метафизики. Чиновник
Синода В. Тернавцев заявил, что христианство – не оптимизм и не пессимизм, оно
предельно ясно видит зло, но это видение было бы невозможно без предчувствия
победы над ним. Тем не менее, радость спасения отличается от животного самодо-
вольства. Конечно, в христианстве о скорбях говорится больше, чем о радости, по-
скольку радость спасения хранится в священном молчании. Именно этой радостью
побеждает христианство — а вовсе не догматической метафизикой, не красотой бого-
служения, не ответами на все вопросы жизни. Сам Тернавцев уточнил, что считает
путь к этой радости лежащим через таинства церкви [Бердяев 2009б, 206–212].
Протоиерей Сергий Соллертинский указал, что аргумент ко злу в полемике с пан-
теизмом не работает после того, как пантеизм усвоил идею эволюции: в системе Ге-
геля вполне можно говорить о «Боге-мире». Вопрос, по его мнению, заключается в
другом: почему происходит перерождение мира из плохого в хороший? Вместе с Бер-
дяевым протоиерей исповедует: через Христа [Бердяев 2009б, 218–219].
Завершая заседание, Аскольдов вновь подчеркнул, что вопрос об аскетизме нельзя
изолировать от метафизики. Он призвал участников общества остановиться на ко-
ренных метафизических вопросах. Если мы, говорил он, признаем законы, открыва-
емые естествознанием, абсолютными и всеобщими, то невозможна христианская ме-
тафизика, а значит, все остальные вопросы отпадают сами собой. Если есть нечто
кроме этих законов, например, человеческое «я», то религиозное мировоззрение воз-
можно, а аскетизм получает свое оправдание как освобождение мира от закона смер-
ти [Бердяев 2009б, 221–222].
Итак, о чем говорит нам опыт этой полемики? Может ли он быть перенесен на
современные дискуссии о религии? Но прежде, чем дать ответы на эти вопросы, мы
должны понять, возразил ли Бердяев Розанову. Сработала ли его аргументация в ме-
тафизической дискуссии о религии?
С одной стороны, Розанов не ответил Бердяеву — в этом смысле Бердяев вышел по-
бедителем из дискуссии. С другой, при внимательном рассмотрении, мы видим, что Ро-
занов и Бердяев понимают метафизику по-разному. Предположу, что метафизику Роза-
нова, к которой он относит свои метафорические размышления о затмившем звезды ми-
ра солнце Христа, следует классифицировать как экзистенциальную метафизику в том
смысле, в каком она была заявлена Хайдеггером, связавшим метафизический вопрос о
бытии и ничто с переживанием ужаса [Хайдеггер 1993]. В этом случае мы видим, что в
позиции Розанова нет той непоследовательности, о которой говорит Бердяев. Размышляя
129
о мире, Розанов понимает его и не как все фактичное (в этом случае он должен был бы
защищать и религию «сладчайшего Иисуса» как исторически наличную), и не как аб-
страктную ценность, но рисует с помощью психологических описаний и литературных
метафор непосредственное настроение любви к мирскому, не церковному, светскому.
Именно в этом смысле Розанов говорил, что у духовенства нет метафизики: конечно,
церковная доктрина насквозь метафизична в традиционном смысле этого слова, однако,
по Розанову, современные ему христиане не отдают себе отчета в том, каково экзистен-
циальное содержание их веры.
У Бердяева же и у тех, кто возражал Розанову в прениях, мы обнаруживаем другие
варианты метафизики. Наиболее традиционно метафизику понимает Аскольдов, который
говорит о необходимости рассмотреть вопрос о возможности существования иного плана
бытия, чем естественнонаучные законы. Религиозную метафизику, которую сейчас мы
бы назвали «большим нарративом», воспроизводит К. Жаков. У Бердяева же мы сталки-
ваемся со смесью метафизик: исповедуя веру во Христа и признавая психологическую
точность критики Розановым исторического христианства; он, однако, использует тради-
ционные способы метафизической аргументации, когда задает Розанову вопрос о том,
что же такое мир – наличная фактичность или идеальное бытие.
На мой взгляд, эта ситуация показывает, что одна из основных проблем русской ре-
лигиозной философии названного периода – не отсутствие аргументации и не «литера-
турность», а разные понимания того, что же такое метафизика. Именно из-за этого, об-
ращаясь к русской религиозной мысли, мы встречаем отдельных ярких философов со
своим индивидуальным стилем, но не сложившуюся традицию вроде феноменологии
или аналитической философии. Несмотря на это, благодаря дискуссиям протекала жизнь
научных обществ, работали научные журналы – появлялись каналы для передачи ин-
формации и проведения философской полемики. Возможно, этот опыт актуален и для
современной постсекулярной ситуации, и нам следует в первую очередь обратить внима-
ние на поиск институциональных площадок для разговора о религии, а не надеяться на
строгую рациональную аргументацию, будто бы парящую в вакууме и никак не связан-
ную с локализацией философии в конкретных социальных практиках. При этом важно,
чтобы такие дискуссии не протекали в философской «башне из слоновой кости», но
имели выход на институциональные религиозные структуры, с которыми связаны реаль-
ные, а не воображаемые верующие.
В заключение следует отметить еще одну особенность дискуссий о «новом религиоз-
ном сознании», частным случаем которой выступает полемика Розанова и Бердяева. Не-
смотря на разные понимания метафизики и задач «нового религиозного сознания» у раз-
ных его представителей, им, тем не менее, удалось осуществить свою задачу – повлиять
на институт церкви. Хотя Религиозно-философские собрания 1901–1903 гг. были запре-
щены Победоносцевым, впоследствии аргументы «нового религиозного сознания» были
восприняты движением церковного обновленчества [Воронцова 2008]. Несмотря на дис-
кредитацию движения союзом с советской властью и его последующим схождением на
нет, оно представляет собой важную веху в истории православной церкви в XX веке.
Таким образом, мы видим, что даже при разных пониманиях метафизики возможна
организация площадок, которая не рациональной аргументацией, а самим диалогом и
самой институционализацией этого диалога может повлиять на ситуацию столкновения
мира модерна и религиозных сообществ. Тем не менее, если мы желаем достичь взаим-
ного понимания, мы не должны повторять ошибок прошлого. Из дискуссии Розанова и
Бердяева можно извлечь ценный урок: прежде чем говорить о метафизике, мы должны
договориться с теми, с кем ведем диалог, что же такое метафизика. Имеем ли мы в виду
метафизику в традиционном смысле, как рассмотрение онтологических и аксиологиче-
ских вопросов? Говорим ли мы об экзистенциальной метафизике в духе Хайдеггера? Или
же нас интересует метафизика как «большой нарратив», характерный для мировоззрения
верующих? И только в случае ответа на этот вопрос обращение к метафизике в
постсекулярной ситуации может привести к более плодотворной дискуссии, чем дебаты в
российских религиозно-философских обществах.
130
Примечания
1 Возрастание роли религии отчетливо прослеживается как в международном контексте, в первую
очередь, в связи с мусульманскими странами, так и в России, где вмешательство церкви в политику
становятся все более частым. О постсекулярном подробнее см.: [Узланер 2013].
2 См. характерную статью А. Бикбова. В ней, наряду с ценными замечаниями о методологии
истории русской мысли, основные течения русской философии связываются со сти лями жизни,
которые тр актуются как «...мягко говоря, несовремен ные» [Бикбов 2015, 64].
3 В качестве примера такой работы, кроме уже названных книг Зеньковского и Лосского, можно
привести исследование русской метафизики, проделанное И. Евлампиевым [Евлампиев 2000].
4 Подробное исследование диску ссий о «но вом религи озном сознании» проделано
И. Воронцовой [Воронцова 2008].
5 Анализ деятельности РФО СПб предложен во вступительной статье к публикации
материалов общества [Ермишин, Коростелев 2009].
6 Характерно замечание Розанова, считающего, что Бердяев «...остановился и застыл
в духовной фазе именно религиозно-фи лософских собраний,
—
и даже его громадный
философский труд, появившийся в этом году, “Философия творчества”, <...> можно
рассмотреть как завещания отчасти и отчасти как результат, как зрелый, обдуманный и
систематический результат, именно этих тогдашних петроград ских собраний. Он пришел на них
поздно и мало в них участво вал. Но именно он зрело и окончательно их обдумал, — именно он
ими оказался сильней шим образом возбужден; и дал кое-что “лу чшее”, именно более
закругленное и окончательное, нежели что было в этих собраниях, в своей громадной
философской рабо те» [Розанов 2004, 355 –356].
7 Эту свою мысль Бердяев воспроизводит и в тр актате «Новое религиозное сознание и
общественность», вышед шем в том же 1907 г. [Бердяев 1999, 52].
8 В трактате «Но вое религиозное созн ание и общественность» Бердяев открыто выступает в
качестве сторонника «нового религиозно го сознания» [Бердяев 1999]. Однако в дальнейшем он
расходится с Мережковским и критикует его кружок [Бердяев 2004, 196 –223].
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian
Аскольдов 2009 – Аскольдов С.А . О старом и новом религиозном сознании // Религиозно-
философское общество в Сан кт-П етербурге (Петрограде): история в материалах и документах.
В 3 т. Т. 1 . 1907–1909. М.: Русский путь. 2009. 33 –72 [Askol'dov, Sergey A. (2009) About Old and
New Religious Conscious ness (in Russian)].
Бердяев 1999 – Бердяев Н.А . Новое религиозное сознание и общественность. М .: Канон+,
1999 [Berdyaev, Nikolay A. New Religious Consciousness and Soci ety (in Russian)].
Бердяев 2004 – Бердяев Н.А . Мутные лики. М.: Канон+, 2004 [Berdyaev, Nikolay A. (2004)
The Dim Faces (in Russian)].
Бердяев 2009а
–
Бердяев Н.А . Духовный кризис интеллигенци и. М .: Канон+, 2009 [Berdyaev,
Nikolay A. Spiritual Crisis of Intelligentsi a (in Russian)].
Бердяев 2009б – Бердяев Н.А . Христос и мир // Религиозно -философское общество в Сан кт-
Петербурге (Петрограде): история в материалах и документах . В 3 т. Т. 1 . 1907–1909. М.: Рус-
ский путь. 2009 С. 183 –222. [Berdyaev, Nikolay A. (2009) Christ and the World (in Russia n)].
Мережко вский 2000 – Мережковский Д. С. Не мир, но меч. Харьков: Фолио, М.: АСТ, 2000
[Merezhkovsky, Dmitry S. Not Peace, but a Sword. (in Russian)].
Розанов 1994 – Розанов В.В . В темн ых религиозных лучах. М .: Республика, 1994 [Rozanov,
Vasily V. In Dark Religious Light (in Russian)].
Розанов 2004 – Розанов В.В. О типах рели гиозной мысли в Р оссии // Бердяев Н. А . Мутные
лики. М.: Канон+, 2004. С . 352 –358 [Rozanov, Vasily V. (2004) On the Types of Religious Thought
in Russia (in Russian)].
Розанов 2009 – Розанов В.В. О сладчайшем Ии сусе и горьких плодах мира (по поводу статьи
Д. С . Мережковского «Гоголь и о. Матвей») // Религиозно -философское общество в Санкт-
Петербурге (Петрограде): история в материалах и документах . В 3 т. Т. 1 . 1907–1909. М.: Рус-
ский путь. 2009. С. 139–182 [Rozanov, Vasily V. (2009) On the Sweetest Jesus and Bitter Fruits of the
World (in Russian)].
Хайдеггер 1993 – Хайдеггер М. Ч то такое м етафизика? // Время и быти е: статьи и выступле-
ния. М.: Республика, 1993. С . 16–27 [Heidegger, Martin (1949). Was ist met aphysik? (Russian trans-
lation 1993)].
Ссылки –References in Russian
Бикбов 2015 – Бикбов А.Т . Как нужно изучать российску ю и советскую фило софию, чтобы
не умереть от скуки? // Финиковый компот. 2015 . No 9. С . 63–65.
131
Воронцова 2017 – Воро нцова И.В. Но вое рели гиозное созн ание и «неохристиан ство» (дис-
куссия в П етербургском религиозно -философском обществе в 1907–1909 гг.) // Христианское
чтение. 2017. No 2. С . 307 –324 .
Воронцова 2008 – Воронцова И.В . Русская религиозно-фило софская мысль в н ачале XX века.
М.: ПСТГУ, 2008.
Евлампиев 2000 – Евлампиев И.И . История русской метафиз ики в XIX–XX веках. В 2 ча-
стях. СПб.: Алетейя, 2000.
Ермишин, Коростелев 2009 – Ермишин ОТ., Коростелев О.А . Религиозно-философское об-
щество в С анкт-Петербурге (Петрогр аде): вехи истории, тематика заседаний, диску ссии // Рели-
гиозно-философское общество в С анкт-Петербурге (Петрограде): история в материалах и доку-
ментах. В 3 т. Т. 1 . 1907–1909. М.: Русский путь. 2009. С. 6 –26.
Зеньковский 2001 — Зеньковский В.В . История русской философии. Харьков: Фолио;
М.: Эксмо-пресс, 2001.
Лосский 1991 – Лосский Н.О . История русской философии. М.: Советский писатель, 1991.
Мейясу 2015 – Мейясу К. После конечности: эссе о необходимости контин ген тности. Екате-
ринбург, М.: Кабинетный ученый , 2015.
Струп 2014 – Струп К. Российские истоки так называемого «постсекулярно го момента».
Некоторые предвари тельные наблюдения // Государство, религия, церковь в России и за рубе-
жом. 2014. No 1 (32). С. 9–39.
Узланер 2011 – Узланер Д.А . Введение в постсекулярную философию // Логос. 2011. No 3 (82).
С. 3–32 .
Узланер 2013 – Узланер Д.А . Карто графия постсекулярного // Отечественные записки. 2013 .
No1 (52). С . 175 –192.
Черняев 2014 – Черняев А.В . Николай Бердяев. Реформатор без Реформации // Вопросы фи-
лософии. 2014. No 11. С . 79–87 .
References.
Bikbov, Alexander T. (2015) ‘How to Study Russian and Soviet Philosophy in Order not to Die of
Boredom?’, Date compote, vol. 9, pp. 63–65 (in Russian).
Chernyaev, Anatoly V. (2014) ‘Nikolai Berdyaev. Reformer without the Reformation’, Vopro sy
filosofii, vol. 11, pp 79–87 (in Russian).
Evlampiev, Igor I. (2000) History of Russian Metaphysic s in 19th–20th Centuries. In 2 vols. Aletey a,
Saint Petersburg (in Russian).
Ermishin, Oleg T., Korostelev, Oleg A. (2009) ‘Religious -Philosophical Society in Saint -Petersburg:
The Landmarks of History, the Themes of Meetings, Discussions’, Religious- Philosophical Society in
Saint-Petersb urg: History in Materials and Documents. In 3 vols. Vol. 1 . 1907–1909. Russkij put’, Mos-
cow, pp. 6 –26 (in Russian).
Losskij, Nikolay O. (1991) History of Russia n Philosophy. Sovetskij pisatel', Moscow (in Russian).
Meillassoux, Quentin (2006) Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence. Seuil, Paris
(Russian Translation 2015).
Stroop, Christopher (2014) ‘The Russian Origins of the So-Called Post-Secular Moment: Some Prelimi-
nary Observations’, Gosudarstvo, religiya, cerkov' v Rossii i za rubezhom, vol.1 (32), pp. 9–39 (in Russian).
Uzlaner, Dmitry A. (2013) ‘The Cartography of the Postsecular’, Otechestvennye zapiski, vol. 1 (52),
pp. 175 –192 (in Russian).
Uzlaner, Dmitry. A . (2011) ‘Introduction to the Postsecular Philosophy’, Logos, vol. 3 (82), pp. 3 –
32 (in Russian).
Voroncova, Irina V (2017). ‘New Religious Consciousness and “Neochristianity” (Discussion in Re-
ligious-Philosophical Society in 1907–1909), Christian Reading, vol. 2, pp. 307 –324 (in Russian).
Voroncova, Iri na V. (2008) Russia n Religious- Philosophical Thought in the Beginning of Twentieth
Century. PSTGU, Mos cow (in Russian).
Zen'kovskij, Vasily V. (2001) History of Russia n Philosophy. Folio, EHksmo-press, Har’kov, Moscow
(in Russian).
Сведения об авторе
ПАВЛОВ Илья Ильич —
аспиран т Школы фи лософии,
стажер-исследователь Лабор атории иссле-
дований русско -европейского ин теллекту-
ального диало га, Н ацион ального исследо-
ватель ского универси тета «Высшая школа
экономики», Москва.
Author’s information
PAVLOV Ilia I. —
PhD Student, School of Philosophy; Research
Assistant, International Laborato ry for the
Study of Russian and European I ntellectu al
Dialogue, National Research University High-
er School of Eco nomics, Russian Federation.
132
«Личность» и «общение»: от Бердяева к Мунье
© 2019 г.
К.К. Апинтилиесей
Православный учебно-исследовательский центр «Думитру Станилое», Париж, Франция
(9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005, Paris, France)
E-mail: apintiliesei.ciprian@yahoo.com
Поступила 09.12.2018
Статья посвящена до сих пор недостаточно изученным отношениям
Николая Бердяева – неустанного критика индивидуализма и комму-
нистического коллективизма, сторонника идей личности и общинно-
сти – и французского философа Эммануэля Мунье – представителя
движения Esprit, в 1930-е годы провозгласившего своей целью осу-
ществление персоналистской и коммунитарной революции во Фран-
ции и за ее пределами. Концепция Н. Бердяева рассматривается авто-
ром как один из важных идейных источников Э. Мунье. Исходя из
этого, автор выстраивает статью вокруг обсуждения трех следующих
вопросов: какие отношения связывали обоих мыслителей в 1930-е го-
ды, т.е . в период становления французского персонализма; каковы
были взгляды Бердяева относительно личности и общения (общины);
каким был подход Мунье к этим же темам и чем он близок подходу
русского философа? Конечной целью данного исследования было вы-
явить точки соприкосновения в позициях двух мыслителей.
Автор статьи, не являющийся специалистом по русской философии,
цитируя Н. Бердяева, использовал французские и английские перево-
ды его работ и отсылал именно к ним, а не к русским изданиям. Пе-
реводчик статьи, приводя цитаты из Бердяева по оригинальному, рус-
скому тексту, сохранил при этом исходные авторские ссылки на ев-
ропейские издания.
Ключевые слова: Э. Мунье, Н. Бердяев, Ж. Маритен, персонализм,
индивидуализм, коллективизм, личность, индивид, общение, общин-
ность, дух, свобода, любовь, “Esprit”.
DOI: 10.31857/S004287440007169-0
Цитирование: Апинтилиесей К. К. «Личность» и «общение»: от Бердяе-
ва к Мунье // Вопросы философии. 2019. No 10. С. 132–141 .
133
“Person” and “Communion”: from Berdyaev to Mounier
© 2019 г.
Ciprian C. Apintiliesei
The Orthodox Center for Studies and Research "Dumitru Stăniloae"; 9 bis, rue Jean de
Beauvais, 75005, Paris, France
E-mail: apintiliesei.ciprian@yahoo.com
Received 09.12.2018
This article focuses on the relationship between Nicolas Berdyaev and Emman-
uel Mounier, which remains a scantily researched area. Launching a critique of
individualism and collectivism of his time, Berdyaev presents himself an intran-
sigent defender of the ideas of personality and communality. Thus, he becomes
an important source of inspiration for Mounier, a member of the Esprit move-
ment, which had declared in the 1930s a need for personalist and communitari-
an revolution in France and abroad. The article answers three questions: What
was the relationship between the two thinkers in the 1930s, when French per-
sonalism emerged? What was Berdyaev’s perspective on person and commun-
ion? What was Mounier’s approach, and how close was it to Russian philoso-
pher’s attitude? The author’s final purpose is to make clear the points of affinity
between these two thinkers.
Being no expert in Russian, the author of the article, quoting N. Berdyaev,
used French and English translations and made references to them, rather than
to his works in Russian. The translator, citing Berdyaev’s original Russian texts,
used the author's references to European editions.
Key words: E. Mounier, N. Berdyaev, J. Maritain, personalism, individual-
ism, collectivism, person, individual, communion, spirit, freedom, love,
“Esprit”.
DOI: 10.31857/S004287440007169-0
Citation: Apintiliesei, Ciprian C. (2019) “’Person’ and ‘Communion’: from
Berdyaev to Mounier”, Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 132 –141 .
Эммануэль Мунье1, которого Dictionnaire des philosophes характеризует как представи-
теля «коммунитарного персонализма» 1930-х годов [Domenach 2006, 1167], относится к
генерации французских мыслителей, посвятивших себя поиску «третьего пути» развития
социума, отличного и от общества капиталистического индивидуализма, и от общества
коммунистического коллективизма: в первом не отражается ценность личности, во вто-
ром – подлинная общность. С точки зрения будущего, пригодно только то социальное
устройство, в котором равно учтены и личность, и общность. Аналогичное неприятие
индивидуалистического капитализма и коллективистского коммунизма обнаруживается,
начиная с 1920-х годов, и у Николая Бердяева – «самого известного на Западе русского
философа» [Obolevitch 2014, 189]. В «Опыте философской автобиографии» он неодно-
кратно говорит о себе как о «персоналисте» [Berdiaev 1958, 123, 227, 305–307], всю жизнь
сражавшемся за «идею центрального и верховного значения личности» [Berdiaev 1958,
367]. А наиболее развитым типом общества для него является то, в котором
«...соединяются принцип личности и принцип общины» [Berdiaev 2000 web]. Эта бли-
зость двух философов, один из которых – Мунье, практикующий католик [Marrou
1950, 888] 2 , – воспринимал другого – Бердяева – как «голос» православного мира на
Западе [Mounier 1963, 509–510], является ярким свидетельством влияния последнего на
европейскую мысль [Clément 2006, 223], а через него и «воздействия русских идей» на
европейскую культуру [Baird 1995, 30].
134
Цель данной статьи и заключается, собственно, в том, чтобы выявить вклад Бер-
дяева в формирование муньерианского персонализма, для чего мы сосредоточимся
на трёх вопросах: какие отношения существовали между Бердяевым и Мунье в 30-е
годы (особенно между 1932 и 1934 годами, т.е . в период формирования французского
персонализма, так называемый «доктринальный период» журнала Esprit 3 [Mounier
1967, 13]); каковы на этот момент были воззрения Бердяева на личность и общество;
в чем коммунитарный персонализм Мунье был близок взглядам русского мыслителя?
Бердяев и Мунье: из истории отношений
Вспоминая в своей автобиографии о журнале «Esprit», основателем и руководите-
лем которого был Мунье, Бердяев пишет: «Что это течение среди французской моло-
дежи многим было обязано мне, это не раз заявляли его представители. < ...> Моло-
дежь «Esprit» имела симпатию к персоналистической философии, которой я был са-
мым радикальным представителем, защищая социальную проекцию персонализма,
близкого к социализму не марксистского, а прудоновского типа. Эту точку зрения
назвали коммюнотарным персонализмом» [Berdiaev 1958, 345]. Другими словами,
идейным истоком программы журнала «Esprit», пропагандировавшего ценности как
личности, так и общинности, был бердяевский подход в решении этих вопросов. Ни-
колай Александрович вспоминал, что молодые сотрудники журнала, как и представи-
тели других персоналистических движений во Франции, называли его «своим учите-
лем» [Berdiaev 1958, 324]. В 1948-м, за два года до смерти, Мунье подтвердил эти сло-
ва Бердяева: «...персоналисты... признавали его идеи одним из истоков своих воззре-
ний» [Mounier 1969, 19]. Необходимо привести еще одно, датируемое тем же годом,
свидетельство (Мунье вспоминает о времени, когда формировалась программа жур-
нала «Esprit»): «Мы стремились занять такую позицию, которая позволяла бы нам
находиться где-то между Бергсоном и Пеги, Маритеном и Бердяевым, Прудоном и де
Маном» [Mounier 1948, 681]. При этом и Маритен, и Бердяев входили в непосред-
ственное окружение молодого Мунье и участвовали в подготовке первого номера
«Esprit» (1932). Как отмечает Катрин Бэрд, влияние на Мунье Маритена весьма по-
дробно исследовано, в силу значимости этого мыслителя для французского католи-
цизма XX века4; что же касается Бердяева, то его роль в идейном формировании фи-
лософов группы «Esprit» еще мало изучена [Baird 1995, 31–32]. В то же время, если
верить Люролю, «...влияние Бердяева на Мунье было столь же значимым, как и вли-
яние Маритена» [Lurol 2000, 72].
Обустроившись в пригороде Парижа Кламаре, Бердяев в 1926 году организовал
экуменический кружок (Cercles Œcuméniques), заседания которого проходили по чет-
вергам раз в месяц. Маритен, который представлял в кружке католиков, предложил
затем проводить – то у него, то у Бердяева, – параллельные двусторонние встречи
между православными и католиками, собиравшие участников еще два года после то-
го, как в 1930-м распался экуменический кружок. Именно во время первой двусто-
ронней встречи, состоявшейся 17 декабря 1928 года у Маритена, молодой Мунье,
представленный хозяином, знакомится с Бердяевым [Mounier 2017, 87]. С тех пор
они видятся раз в месяц у Маритена. Плюс к тому нам известно, как минимум,
о восьми заседаниях с участием Мунье, проходивших у Бердяева. Кроме того, они
неоднократно пересекались в «Союзе ради истины» (Union pour la Vérité), на одном из
заседаний которого состоялась презентация книги Бердяева «Судьба человека в со-
временном мире» [Lurol 2006, 140].
Роль Бердяева в истории «Esprit» также немаловажна. Согласно сохранившимся
заметкам Мунье, решение создать журнал было принято 7 декабря 1930 года после
встречи у Бердяева [Mounier 1963, 477]. Переговорив тем же вечером с Жоржем Иза-
ром, Мунье принял решение участвовать в проекте5. И хотя в его заметках ничего не
говорится об участии Бердяева в собрании, проходившем с 15 по 22 августа 1932 го-
да, на котором был учрежден журнал [Mounier 2017, 381–388], сам Бердяев так пишет
об этом событии: «Я был на первом собрании, на котором был основан журнал
“Esprit”. <.. .> Меня приятно поразило... что молодежь требовала, чтобы в журнале
135
защищали человека и человечность» [Berdiaev 1958, 345] (возможно, однако, он имел в
виду более раннюю встречу единомышленников 17 апреля 1932 года, а не само учреди-
тельное собрание [Clément 1990, 204]). По просьбе Мунье Бердяев принял участие в пер-
вом выпуске «Esprit» (он предоставил журналу статью «Истина и ложь коммунизма»
[Berdiaev 1932а
, 104–128]), что свидетельствует о том, сколь высоко ценились его идеи в
новом движении. Более того, после самороспуска в 1933 году первой команды «Esprit»,
Бердяев остался с Мунье [Mounier 1963, 544] и 11 мая 1934 года принял участие в «пер-
вом собрании обновленной редакции “Esprit”» [Mounier 2017, 495]. Но что еще более
важно, Бердяев, по его собственному признанию, активно участвовал в работе философ-
ских групп «Esprit» [Berdiaev 1958, 345], созданных 14 мая 1934 года при журнале для об-
суждения социальных, политических и философских проблем. Задачей участников одной
из них стало «определение двух основных понятий – личности и общения – в их взаи-
мосвязи» [Chronique des Amis d'Esprit 1934, 518]. В марте 1935-го, перечисляя «звёзд»,
работавших в этих группах «над проблемой Личности», Мунье упоминает Бердяева
[Mounier 2017, 521]. Годом позже, в феврале 1936-го, он обращается к Бердяеву с прось-
бой предоставить какую-нибудь работу по этой теме [Mounier 1963, 580]. Отношения
между двумя мыслителями так или иначе продолжались и после 1936 года, но мы оста-
новимся в их прослеживании, ограничившись уже очерченным периодом – временем
становления персонализма Мунье.
Чтобы лучше понять влияние Бердяева на западный мир, и в частности на моло-
дого Мунье, важно упомянуть одно из его сочинений, которое имело в то время
«большой успех» и сделало его «европейски известным» [Berdiaev 1958, 314]. Речь
идёт о «Новом Средневековье», вышедшем на русском в 1924-м в Берлине и переве-
дённом на французский в 1927 году. В это издание вошла и работа «Конец Ренессан-
са» написанная в 1919-м в Москве, и вместе они выражают убеждённость автора
в том, что «...кончается новая история, которая зачалась в эпоху Ренессанса. Мы пе-
реживаем конец Ренессанса» [Ibid., 16]. Отрицая «духовного человека» и утверждая
исключительно «человека природного», современная эпоха «развила индивидуализм»,
идущий рука об руку с «разрушением личности» [Ibid., 22, 28]. Человек, лишившийся
божественного подобия и отпавший от духовного центра жизни, порабощается при-
родной необходимостью. Это причина, по которой «истощение и истребление лично-
го начала в человеческих обществах» представляют собой выражение конца эпохи
Возрождения [Ibid., 40]. Наконец, первое произведение завершается очень важным
для нашего исследования заключением: «И мы должны себя чувствовать не только
последними римлянами... но и обращенными к невидимому, грядущему творческому
дню, когда взойдет солнце нового христианского Ренессанса» [Ibid., 46].
Таким образом, явно неслучайно Мунье открывает самый первый номер «Esprit»
своей статьей «Пересоздать Ренессанс» («Refaire la Renaissance»), в которой говорит о
необходимости революции «во имя духа» – единственной революции, способной
устранить «первичность материального» и переустановить «первичность духовного»
[Mounier 1961, 137, 145]. Используя центральный тезис русского философа о неиз-
бежном крахе современного мира и о начале новой эпохи, Мунье объявляет: «Мир
сломался. Только дух может восстановить работу машины» [Ibid., 151]. Отметим
здесь, что чувство «всеобъемлющего кризиса цивилизации» и, как следствие, стрем-
ление этот кризис преодолеть лежат в основе большинства молодёжных движений
1930-х годов [Laubet del Bayle 2001, 269]. К ним принадлежало и движение «Esprit»,
в брошюре-манифесте 1932 года6 декларировавшего своей целью «работу во имя но-
вого мира» [Mounier 1963, 490]. Мунье, подобно многим его соратникам, смотрит на
современный мир как на предсказанный Бердяевым «переломный момент истории»,
в котором «одна цивилизация угасает, а другая рождается» [Mounier 1933a
, 886]. Как
и Бердяев, он видит непримиримый антагонизм между индивидуалистическим гума-
низмом – продуктом Ренессанса, и коллективистским гуманизмом, провозглашае-
мым коммунизмом [Mounier 1961, 158]. Вот почему в упомянутой статье он пропове-
дует новый Ренессанс, а значит, и новый гуманизм, который, в отличие от старого,
открыт «тому, что находится вне и над человеком»: физическому миру, ближнему и
136
духу [Ibid., 153]. Этот новый гуманизм есть гуманизм относительный (humanisme
relationel) [Toso 2005, 35–65], и его фундаментальной предпосылкой является «главен-
ство духовного». Эта предпосылка определяла метафизическое направление журнала
и его философию: требование духовного возрождения становится вскоре коррелятом
«возрождения личности и общности на основе солидарности» [Nos positions 1934, 6].
«Личность» и «общение» по Бердяеву
а) Личность: реальность, относящаяся к порядку духа и свободы
Заявляя о себе как о персоналисте, в первую очередь перед лицом тех недоброже-
лателей, которые обвиняли его в преклонении перед немецким идеализмом, Бердяев
обозначает стоящую перед ним задачу осмысления и проповеди достоинства лично-
сти, не сводимой к массам и коллективам: «...я крайний персоналист, когда эпоха
коллективистична и отрицает достоинство и ценность личности» [Berdiaev 1958, 324].
Примат личности – вот credo его философии: «От начала и до конца мысль Николая
Бердяева – это мысль о личности» [Clément 1989, 305]. Чтобы лучше понять особен-
ности его видения личности, мы перейдём к серии оппозиций, конституирующих его
персонализм. Речь идёт о «дуализме духа и природы, свободы и детерминизма, лич-
ности и “общего”» [Berdiaev 2000 web].
1) Дух и природа. Философская система Бердяева базируется на «первичной» анти-
тезе между духом и природой. Эту антитезу не следует смешивать с оппозицией души
и материи [Berdiaev 1984, 29–30]. Бердяев видит в первенстве духа над природой
фундаментальную метафизическую идею и, не колеблясь, определяет свою концеп-
цию как «философию духа» [Berdiaev 1958, 126, 365]. Дух не имеет ничего общего с
душой (психическим), он относится к совершенно иному – трансцендентному поряд-
ку, «принадлежит другой реальности» [Berdiaev 1984, 31], является «бесконечно
большей реальностью», чем реальность физического и психического мира [Ibid., 33].
Главными признаками духа, согласно Бердяеву, «...являются – свобода, смысл, твор-
ческая активность, целостность, любовь, ценность, обращение к высшему боже-
ственному миру и единение с ним» [Berdiaev 1943, 41]. Дух, таким образом, не имеет
онтологической структуры, не принадлежит бытию как рациональная категория, он
не рационален, но внерационален. С точки зрения перечисленных характеристик он,
скорее, предполагает аксиологическую структуру: «...дух имеет аксиологический харак-
тер, он связан с оценкой... Дух дает смысл действительности, а не есть другая дей-
ствительность... дух есть не природа, хотя бы и душевная природа, а истина, красота,
добро, смысл, свобода» [Ibid., 49–50]. Различение духовного и естественного поряд-
ков применительно к человеку не подразумевает отказа от естественного (души и
тела) в пользу духовного: «Духовное начало никоим образом не противопоставляется
человеческому телу, естественной физической субстанции человека, которая связыва-
ет его с жизнью природного мира» [Berdiaev 1937, 198]. Не отгораживаясь от природ-
ного, дух заключает в себя и душу, и тело, оживляя их, переводя их в другой порядок
существования. Что до личности, то она принадлежит духовному порядку, будучи
«категорией духа», а не природы.
2) Субъект и объект. Эта оппозиция позволяет прояснить бердяевское понимание
личности в связи с категориями немецкой философии [Mounier 1969, 19]. Бердяев
разделяет интерес последней к субъекту, к «Я» [Berdiaev 1936, 16] и связывает его с
духом. Дух раскрывается в самом сердце субъекта [Berdiaev 1943, 19–20], никогда –
в объекте, поэтому субъект обладает внутренней жизнью, свободной и творческой,
избегая, таким образом, детерминированности объекта [Mounier 1969, 19]. Только,
следовательно, субъект является «экзистенциальным», только он заключает в себе
«экзистенциальный центр» [Berdiaev 1946, 43], что сообщает ему качество подлинной
реальности [Berdiaev 1943, 67, 73]. Иными словами, мир объектов, называемый также
«объективностью», не конституирует реальный подлинный мир, поскольку реаль-
ность относится лишь к субъективному порядку. «Личность есть субъект, а не объект
среди объектов, и она вкоренена во внутреннем плане существования, т.е . в мире
духовном, в мире свободы» [Berdiaev 1946, 26].
137
Итак, будучи коррелятом свободного духа, личность одновременно является корре-
лятом экзистенциального субъекта.
3) Свобода и бытие. Эта оппозиция дополняет две предыдущие в раскрытии поня-
тия личности. Говоря о принципах своей философской рефлексии, Бердяев отмечает:
«Отправной точкой моего философского видения мира является первенство свободы
над бытием», но не тем бытием, которое присуще духу, субъекту, не подлинным быти-
ем, но тем, которое конструирует философия, бытием онтологии, понимаемым как
«природа, целостность или сущность» [Berdiaev 2000 web]. Такое бытие – это «бытие
как объект», или «экстериоризированное бытие» [Berdiaev 1946, 87–88], в котором ца-
рят неизменный порядок и определённость. Что касается свободы – существенного
элемента бердяевского персонализма, – то она характеризуется как самодетерминация,
исходящая изнутри, из глубины духа и противящаяся любой детерминации извне. Это
говорит о неразрывной связи между свободой и личностью: «Существование личности
предполагает свободу. Тайна свободы есть тайна личности» [Ibid., 27]. Игнорирование
свободы с необходимостью влечёт за собой и игнорирование личности.
4) Личность и индивид. Три предыдущих оппозиции подводят нас к четвертой,
неизменно прослеживаемой во всем творчестве русского философа. «Индивид» – это
«биологическая и социологическая категория» [Berdiaev 1937, 179]. С биологической
точки зрения, индивид является частью вида, с социологической – частью общества;
иными словами, конституируется как часть целого [Berdiaev 1946, 36] – космоса,
государства, общества, семьи и т.д. Индивид возникает в результате естественного,
биологического процесса, связывающего его с материальным миром. Поэтому он
рождается и умирает, поэтому он определен генетической и социальной наследствен-
ностью [Berdiaev 1937, 180]. В отличие от индивида, личность – это «духовная и ре-
лигиозная категория» в той мере, в которой она относится к порядку духа и свободы,
с одной стороны, и составляет образ и подобие Божьи, с другой [Berdiaev 1984, 205].
Как образ Божий в человеке, личность не является естественным феноменом, не от-
носится к объективированному миру [Berdiaev 1936, 174], но возвышается над есте-
ственной жизнью. Иными словами, личность не рождена от матери и отца, она не
умирает, поскольку не является продуктом биологического процесса и не определена
наследственностью [Berdiaev 1946, 37]. Таким образом, личность никогда не может
мыслиться как часть чего бы то ни было, как элемент чего-то общего. Базовое опре-
деление личности состоит, согласно Бердяеву, в том, чтобы видеть в ней «всё»
[Berdiaev 1937, 180], данное во внутреннем, экзистенциальном мире, а не во внешнем
мире природы [Berdiaev 1936, 168]. И если индивид возникает естественным образом,
личности предстоит реализоваться через победу духа над эгоцентризмом индивида
[Berdiaev 1937, 182].
b) Община: союз любви и благодати
Важнейшей частью бердяевского персонализма является его коммунитарный ас-
пект. «Наследник» и «свидетель» концепта соборности, Бердяев последовательно
применяет его к антропологии, начиная с исследования о Хомякове, написанного в
1912 году [Clément 1990, 215; Clément 1969, 218]. Общность, основанная на христиан-
ской любви, – это «одна из тенденций русского православия», одно из его «стремле-
ний» [Berdiaev 1933, 935]. Атеистические коммунисты, пытаясь установить общину
силой и принуждением, исказили этот христианский идеал, способный реализоваться
только во Христе – как «царство Божье» [Ibid., 941].
В 1934-м в Париже выходит книга Бердяева «Я и мир объектов» с красноречивым
подзаголовком «Опыт философии одиночества и общения» (отметим, что в 30-е годы
Мунье эту книгу имел под рукой), где настойчиво проводится мысль о том, что «Я»,
принадлежа области экзистенции и уже по самой своей природе являясь свободным,
отнюдь не сразу является личностью: «“Я” – это ещё не личность. Нужно, чтобы оно
ею стало: это то, чему способствует общение с “ты” и “мы”» [Berdiaev 1936, 117].
Но подлинное общение осуществляется только в любви, единственно способной вести
«Я» к «ты» и «ты» к «Я» и преодолеть их одиночество. Любовь – сущностный фактор,
который создает личность из первоначального «Я» [Ibid., 125]. «Тайна личности
138
связана с тайной свободы и любви» [Berdiaev 1943, 187]. Подлинная колыбель лично-
сти – общение – покоится только на свободной любви и Божественной благодати.
Опираясь на антитезу «природа – дух», Бердяев проводит различие между обществом,
принадлежащим объективной природе, и общением, исходящей от духа: «Мир духа – это
мир общения (соборности)» [Berdiaev 1984, 89]. Общение является частью «царства духа»
[Berdiaev 1936, 73], подлинного существования, оно – «...собор подлинный и авторитет-
ный, в котором есть действия Духа Святого» [Berdiaev 1984, 89], что неразрывно соединя-
ет его со свободой и любовью, тогда как общество, связанное с одиночеством [Berdiaev
1936, 100], является частью царства природы, «царства Кесаря». Отметим яркое высказы-
вание Бердяева: «Необходимо проводить различие между общением и обществом. Обще-
ние всегда персоналистично, оно всегда является встречей человека с человеком, «я» с
«ты» в «мы». В подлинном общении нет объектов, поскольку личность никогда не явля-
ется объектом для другой личности, но всегда «ты». Общество – это абстракция, объек-
тивация, и в нём личность исчезает...» [Berdiaev 2000 web].
Личность не может существовать как личность вне связи с другими личностями. Она
по самой свое сути есть трансценденденция – в направлении других личностей, в любви
и общении. Именно в этой коммунитарной структуре открывается образ Божий человече-
ской личности: «Царство любви в свободе – это царство Троицы» [Berdiaev 1984, 142].
Так персоналистическая метафизика черпает силу в христианском учении о Троице.
«Личность» и «общение» у Мунье
В 1933 году в статье для журнала «Esprit» Мунье заявил, что «единая философия
Личности и Общины» формирует «социальную метафизику» журнала [Mounier 1933b,
55]. Три месяца спустя, он определил «возрождение личностности и человеческого
общения» как «конечную цель» журнала [Mounier 1934 (16), 6]. Мы не утверждаем,
что Бердяев являлся единственным источником данной программы. Маритен также
справедливо считается отцом выражения «персоналисткий и коммунитарный», кото-
рое Мунье мог позаимствовать из его сочинений этого периода [Maritain 1992, 736]
(впрочем, в ту пору и сам Маритен вдохновлялся идеями Бердяева, учитывая их
близкие отношения [Clément 1990, 288]). Все же, исходя из сформулированной нами
задачи, мы сосредоточимся на тех трех аспектах муньерианской мысли, которые,
с нашей точки зрения, отражают влияние Бердяева.
a) Дух и личность
Первая статья Мунье в журнале «Esprit» начинается со слов: «Мы говорим: духов-
ное первично» [Mounier 1932, 5]. Перед лицом «духовного беспорядка» порождённого
капиталистическим материализмом автор выступает здесь за «духовное развитие че-
ловека», понимая под «духом» «...не некий оправдывающий биологический рефлекс,
не какую-то структурную гипотезу, не “все-вот-так-происходит”, а реальность, кото-
рой мы полностью отдаемся, которая превосходит нас, проникает в нас, вбирает нас
целиком, выводя за пределы нас самих» [Mounier 1932, 16]. Избегая каких-либо ор-
тодоксально-доктринальных ассоциаций, автор добавляет к сказанному очень важ-
ную фразу (которую он воспроизводит и в книге 1935 года): «Мы, едва заметно,
нарисовали на духе лицо Личности», с которой человек входит в «живое общение»
[Mounier 1961, 174].
Кроме того, 20-й номер журнала, посвященный разъяснению метафизического
направления «Esprit», также затрагивает понятие духа. Мунье начинает с разъяснения
того, чем дух не является: он не сводится к «буйству жизненных энергий», таких как
раса, сила, дисциплина, молодежь, национальное напряжение и т.д.; не сводится к
«культуре»; а также не сводится к «свободе». Далее идет перечень того, чем дух явля-
ется: он – «шкала ценностей», материальных, витальных, культурных и, выше всех
остальных, «ценностей любви, доброты и Милосердия» (всё это напоминает аксиоло-
гическую структуру духа у Бердяева). Аналогично русскому философу Мунье объяв-
ляет, что «...эти ценности воплощены в личностях, предназначение которых – жить в
абсолютном общении» [Mounier 1961, 215–216]. Ввиду сказанного «Esprit» ставит за-
дачу раскрытия личности и общения, и значит, установления персоналистического,
139
коммунитарного режима. Двигаясь в логике этого проекта, авторы посвятили 27-й
номер журнала теме персоналистской революции, а 28-й
–
революции коммунитар-
ной, и именно здесь, в этом контексте, Мунье впервые дает определение личности.
Наше внимание привлекает, в частности, вводное утверждение, где мы можем ясно
видеть след бердяевской мысли: «Нет безличностного духа... Безличностна материя...
Духовный = личностный» [Ibid., 175].
b) Абсолютный характер личности
Упоминание «духа» в контексте определения личности подводит к еще одной точ-
ке соприкосновения между двумя авторами. Согласно Бердяеву, личность, принадле-
жа «духовному миру и вечности», обладает «абсолютной ценностью» [Berdiaev 1932,
80–81] в том смысле, что она стоит выше государства, нации, человеческого рода,
природы. В качестве образа Божия в человеке личность представляет собой реаль-
ность, возвышающуюся над естественной жизнью, что придаёт ей апофатический
характер. В отличие от индивида, принадлежащего миру в качестве части целого,
личность сама по себе уже есть всё – микрокосмос, – отчего схватить ее концепту-
ально, познать и определить, невозможно. Как замечает Клеман, этот абсолютный
характер личности эхом отзывается у Мунье [Clément 1969, 218]. Процитируем две
формулировки из статьи Мунье, опубликованной в том же 27-м номере «Esprit»: «Ко-
гда мы говорим, что личность есть в некотором роде абсолют, мы не говорим, что
она есть Абсолют» [Mounier 1934, 357]; «Верующий скажет, что личность – это бес-
конечность или, по крайней мере, трансконечность (un transfini), созданная по образу
Божию» [Ibid., 364]. Этот аспект, касающийся «абсолютной ценности человеческой
личности», будет в дальнейшем прояснен в книге 1936 года, где сближение с Бердяе-
вым еще более очевидно: «Мы хотим сказать, что личность, как мы ее обозначили,
является абсолютом в отношении любой другой материальной или социальной ре-
альности и любой другой человеческой личности. Никогда нельзя считать ее частью
целого: семьи, класса, государства, нации, человечества» [Mounier 1961, 524].
c) Личность и общение
Третий аспект, подтверждающий влияние Бердяева на Мунье, находится в точке со-
пряжения «личности» и «общения». Хотя тема личности, реализующейся в отношениях,
будет широко представлена в мысли 1930-х годов (Марсель, Пеги, Бубер, Эбнер и др.),
нам кажется, что в данном случае можно говорить именно о влиянии Бердяева. Послед-
ний сам в 1935-м отмечал, насколько концепция Мунье близка его собственным воззре-
ниям: «Мунье так тесно связывает человека и общение, что имеет в виду не "Я ", но "мы".
Так он очень близок к концепции соборности в православной мысли» (цит. по: [Clément
1969, 216]). Действительно, начиная с самой первой статьи в «Esprit», Мунье объявляет,
что он «против философии "Я" и за философию "мы"» [Mounier 1932, 41], а после 1934
года, под влиянием в первую очередь дискуссий, проходивших в уже упомянутой фило-
софской группе, он помечает «общение» как одно из «трех центральных измерений»
личности [Mounier 1934, 361]: «...личность реализуется исключительно в общении: но это
не значит, что она может сделать это, растворяясь в “мы”. Нет иной подлинной общи-
ны, кроме как общины личностей» [Mounier 1934, 366]. Отличаясь от коллективов или
анонимных групп индивидов, только община способна стимулировать и поддерживать
развитие человеческой личности. Личность и общение представляют собой два столпа
коммунитарного персонализма.
Также, как и Бердяев, Мунье различает общество, принадлежащее индивидам, и
общину, принадлежащую личностям: «Индивиды собраны в более или менее жизне-
способные общества – профессиональные, семейные, родственные и т.д.,
–
в кото-
рых они предстают как отдельные лица, части целого... Эти общества никогда не
смогут считаться общинами истинных личностей» [Mounier 1961, 198]. В отличие от
всех явлений, имеющих место в обществе, только общение зиждется не на принуж-
дении, житейском или экономическом интересе, а на любви: «Любовь есть единство
общины» [Mounier 1961, 193]. «Таким образом, общение – это то, что вложено в сердце
человека, что неотделимо от самого его существования» [Ibid., 535].
140
***
Вовлечённый в богословские и философские дебаты 1920-х и 1930-х годов, Нико-
лай Бердяев стал наиболее авторитетным восточноевропейским мыслителем для фран-
цузских интеллектуалов той эпохи. Известный критическим отношением к коммуни-
стическому коллективизму, установившемуся в России, и одновременно к индивидуа-
лизму европейских обществ, Бердяев стал источником вдохновения для части француз-
ской молодёжи, пытавшейся открыть «третий путь» для общества будущего. Один из ее
ярких представителей, Эммануэль Мунье, несомненно находился под большим влия-
нием бердяевского персонализма, как напрямую, так и через своего друга Жака Мари-
тена. Усвоив ряд идей русского философа и выстроив собственную систему как мета-
физику личности и общения, Мунье оказался весьма близок концепции соборности.
Речь, разумеется, не идет о полном совпадении взглядов. Так, например, Мунье в ка-
честве центрального измерения личности выделял, наряду с общением, еще и воплоще-
ние. Однако детальное исследование муньерианского коммунитарного персонализма не
входит в задачу данного исследования, цель которого, в конечном счете, состояла
в том, чтобы, выявив идейную связь между мыслителями двух христианских конфес-
сий, внести свой небольшой вклад в диалог православных и католиков.
(Перевод с французского И. Ильина)
Примечани я
1 Детали биогр афии Э. Мунье см. в [Moix 1960, 9–53; Bombaci 1999].
2 Католическая теоло ги я, и в первую очер едь учение А вгустина, занимает важно е место в
формировании персонализма Мунье [Petit 2006, 231–239].
3 Основанный в 1932 году группой молодых людей, этот журнал становится главным рупо-
ром французского персонализма [Comte 2005, 109–125].
4 На эту тему см. [Amato 1957].
5 Замысел журнала принадлеж ал Ж. Из ару, A. Делеажу и Л. - Э. Галею, а во время перегово-
ров 7 декабря Изар предложил Мунье возглавить журнал [Laubet del Bayle 2001, 133–138].
6 Речь идёт о брошюре, предварявшей публикацию перво го номера Esprit. В ней были указа-
ны цели и задачи нового издания, описывалась фило софия журнала .
Источники – Pri mary Sources
Berdiaev, Nicolas A. (1932)а
”Vérité et mensonge du communisme”, Esprit, Vol. 1 (1932), pp. 104–128.
Berdiaev, Nicolas A. (1932)b Le christianisme et la lutte des classes, Éditions Demain, Paris.
Berdiaev, Ni colas A. (1933) ”Le christianisme russe et le monde bourgeois”, Esprit, Vol. 6 (1933),
pp. 933–941.
Berdiaev, Ni colas A. (1936) 5 méditations sur l' existence: solitude, société et communauté, trad. par
I. Vildé-Lot, Mo ntaigne, Paris.
Berdiaev, Nicolas A. (1937) ”Personne hu mai ne et marxisme”, Le communism e et les chrétiens,
Plon, Paris, pp. 178 –202 .
Berdiaev, Ni colas A. (1943) Esprit et réalité, Montaigne, Paris.
Berdiaev, Ni colas A. (1946) De l’esclavage et de la liberté de l’homme, trad. par S. Jankelevitch,
Aubier, Paris.
Berdiaev, Nicolas A. (1958) Essai d’autobiographie spirituelle, trad. par E. Belenson, Chastel Corrêa, Paris.
Berdiaev, Ni colas A. (1984) Esprit et liberté, trad. revue par O. Clément, Desclée de Brouwer, Paris.
Berdiaev, Ni colas A. (1985) Le nouveau Moyen Âge, trad. par J. - C . Marcadé et S. Siger, L’Вge
d’Homme, Lausanne.
Berdyaev Nikolai A. (2000) web, „My philosophic World-outlook”, http://www.berdyaev.co m/ ber-
diaev/berd_lib/1952_476.html
Chronique des Amis d'Esprit (1934), Esprit, vol. 21, pp. 518 –521.
Maritain, Jacques (1992) ”Le paysan de la Garo nne”, Œuvres complètes, vol. 12, Saint-Paul, Paris.
Marrou, Henri -Iré née (1950) ”Un ho mme dans l’Église”, Esprit, vol. 174 (1950), pp. 888 –904.
Mounier, Emmanuel (1932) ”Refaire la Renaissance”, Esprit, vol. 1 (1932), pp. 5 –51 .
Mounier, Emmanuel (1933)a
“Confession pour nous autres chrétiens”, Esprit, vol. 6 (1933), pp. 873–896.
Mounier, Emmanuel (1933)b ”Argent et vie privée”, Esprit, vol. 13 (1933), pp. 55 –67.
Mounier, Emmanuel (1934) ”Qu’est-ce que le personnalisme?”, Esprit, vol. 27 (1934), pp. 357–367.
Mounier, Emmanuel (1948) ”Plaidoyer pour l’enfance d’un siиcle”, Esprit, vol. 160 (1948), pp. 74–85.
141
Mounier, Emmanuel (1961) Œuvres, t. 1, Seuil, Paris.
Mounier, Emmanuel (1963) Œuvres, t. 4, Seuil, Paris.
Mounier, Emmanu el (1969) ”Nicolas Berdiaeff, premier humaniste de l’Europe nouvelle”, Bulletin
des Amis d’Emmanuel Mounier, 33 (1969), pp. 18 –20 .
Mounier, Emmanuel (2017) Entretiens:1926–1944, Presses universitaires de Rennes, Rennes.
Nos positions (1934), Esprit, vol. 16 (1934), p. 5 –7 .
References
Amato, Joseph A. (1975) Mounier and Maritain: a French Catholic Und erstanding of the Modern
World, The U niversity of Alab ama Press, Alabama.
Baird, Catheri ne (1995) ”Religious Communism? Nicolai Berdyaev’s Contribution to Esprit’s
Interp ret ation of Communism”, Canadian Journal of History/Annales canadiennes d’histoire, vol. 30
(1995), pp. 29–47.
Bombaci, Nu nzio (1999) Una vita, una testimonianza: Emm anuel Mounier, Armando Siciliano,
Messina.
Clément, Olivier (1969) ”Nicolas Berdiaeff et le personnalisme français”, Contacts, vol. 21 (1969),
pp. 205 –228 .
Clément, Olivier (1989) ”Aperçus sur la théologie de la perso nne dans la ‘diaspora’ russe en
France”, Mille ans d e christianisme russe: 988–1988. Actes du colloque international de l'Université Paris
X-Nanterre, 20–23 janvier 1988, YMCA-Press, Paris, pp. 303 –309.
Clément, Olivier (1990) ”Berdiaev et la pensée française”, Contacts, NS, vol. 32 (1990), pp. 197–
219 et 280–298.
Clément, Olivier (2006) ”Berdiaev Nicolas (1874–1948)”, Dictionnaire des philosophes. Nouvelle
édition augmentée, Encyclopædia Universalis et Albin Michel, Paris , pp. 223 –225 .
Comte, Bernard (2005) “Esprit (1932–1950), le combat pour la révolution personnaliste”,
Emmanuel Mounier. Persona e uma nesimo relazionale. Mounier e oltre, vol. 2, Atti del Convegno di
Roma – UPS, 12–14 gennaio 2005 , Toso, Mario et alii (éds.), LAS, Roma, pp. 109–125 .
Domenach, Jean-Marie (2006) “Mounier Emmanuel (1905–1950)”, Dictionnaire des philosophes.
Nouvelle édition aug mentée, Encyclopædia universalis et Albin Mi chel, Paris, p. 1167–1170 .
Laubet del Bayle, Jean-Louis (2001) Les non-conformistes des années 30. Une tentative de
renouvellement de la pensée politique fra nçaise, Seuil, Paris.
Lurol, Gérard (2000) Emmanuel Mounier. Le lieu de la personne, vo l. 2, L’Harmatt an, Paris.
Lurol, Gérard (2006) ”Mounier et Berdiaeff”, Emmanuel Mounier: l'actualité d'un grand témoin. Tome II:
actes du colloque tenu à l'Unesco, Paris, 5 et 6 octobre 2000, Coq, Guy (eds.), Parole et Silence, Paris.
Moix, Candide (1960) La pensée d’Emmanuel Mounier, Seuil, Paris , 1960.
Obolevitch, Teresa (2014) La philosophie religieuse russe, trad. par Gawron-Z aborska, Cerf, Paris.
Petit, Jean-François (2006) Philosophie et théologie dans la formation du personnalisme d’Emmanuel
Mounier, Cerf, Paris.
Toso, Mario (2005) “Il co raggio di un nuovo umanesimo relazionale: l’ ereditа di Emmanuel
Mounier”, Emmanuel Mounier. Persona e umanesimo relazionale. Mounier e oltre, vol. 2, Atti del
Convegno di Roma – UPS, 12–14 gennaio 2005, Toso, Mario et alii (éds), LAS, Roma, pp. 35 –65.
Сведения об авторе
АПИНТИЛИЕСЕЙ Киприан К. –
Доктор богословия, со трудник Православ-
ного учебно-и сследовательского центра
«Думитру Станилое»
Author’s information
APINTILIESEI Ciprian C. –
Doctor in theology, worcking for the Orthodox
Center for Studies and Res earch “Dumitru
Stăniloae”
142
От космологии духа до психологии сознания
(начала и концы философии Э.В. Ильенкова)
© 2019 г.
Г.В. Лобастов
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) –
МАИ, Москва, 125993, Волоколамское шоссе, д. 4.
E-mail: lobastov.g .v@yandex.ru
Поступила 16.02.2019
В статье на фоне «Космологии духа» Э.В. Ильенкова всесторонне рас-
сматривается диалектический принцип мышления, позволяющий свя-
зать в единство философско-мировоззренческие представления Иль-
енкова, – принцип, который используется и исследуется в рамках
всего творчества философа. Тем самым как бы обозначаются начала и
концы бытия вообще и конкретно-эмпирических его форм. Анализи-
руется обоснованность представлений Э.В. Ильенкова относительно
объективной роли мышления в мироздании, в предметно-
преобразовательной и субъективно-психологической сфере. Дан ана-
лиз проблемы начала и вытекающих из нее следствий. Обозначаются
логические пределы бытия и их осмысление в науке и философии.
Показана необходимость диалектического мышления, связанная с
проблемой временных определений, и обособления его в материале
объективной действительности и в науке логики.
Ключевые слова: целое, начало, бытие, небытие, конечное, бесконеч-
ное, абсолютное, субстанция, атрибут, деятельность, время, вечность,
тождество, противоречие, движение, мышление, логическое.
DOI: 10.31857/S004287440007170-2
Цитирование: Лобастов Г.В. От космологии духа до психологии со-
знания (начала и концы философии Э.В. Ильенкова) // Вопросы фи-
лософии. 2019. No 10. С. 142 –153.
143
From Сosmology of Spirit to Psychology of Consciousness
(Beginnings and Ends of the Philosophy of E. V. Ilyenkov)
© 2019 г.
Gennady V. Lobastov
Moscow Aviation Institute (National Research University), 4, Volokolamskoye Shosse,
Moscow,125993, Russian Federation.
E-mail: lobastov.g .v@yandex.ru
Received 16.02.2019
In the article on the background of the E. Ilyenkov's “Cosmology of the Spirit”
comprehensively examines the dialectical principle of thinking, which makes it
possible to link philosophical and ideological Ilyenkov's views into unity,– prin-
ciple that is used and explored throughout the work of the philosopher. Thus,
as it were, the beginnings and ends of being in general and specifically its em-
pirical forms are designated. Analized the validity of Ilyenkov's views regarding
the objective role of thinking in the universe, in the subject-transforming and
subjective-psychological sphere. The analysis of the problem of the beginning
and the consequences resulting from it is given. The logical limits of being and
their understanding in science and philosophy are denoted. The necessity of di-
alectic thinking, associated with the problem of temporal definitions, and its
isolation in the material of objective reality and in the science of logic is shown.
Key words: whole, beginning, being, non-being, finite, infinite, absolute,
substance, attribute, activity,time,eternity,identity, contradiction, movement,
thinking,logical.
DOI: 10.31857/S004287440007170-2
Citation: Lobastov, Gennady V. (2019) “From Cosmology of Spirit to Psy-
chology of Consciousness (Beginnings and Ends of the Philosophy of
E.V. Ilyenkov)”, Voprosy Filosofii. Vol. 10 (2019), pp. 142 –153.
Мыслящее сознание, с чего бы оно ни начиналось, пытается постичь и свое
собственное начало (начало мышления) и начало той действительности, внутри
которой и с которой оно имеет дело. И, разумеется, концы. Ибо все, что начина-
ется, заканчивается. Назовете ли вы это делом создания картины мира, имеющей
отвлеченно-отчужденный характер, или делом формирования мировоззрения,
замкнутого на личностную позицию человека, – везде это дело с чего-то начина-
ется и чем-то заканчивается.
Всеобщность этой схемы настолько глубока, что любой фрагмент действитель-
ности, любое восприятие бессознательно разворачивается именно по ее определе-
ниям. На этом же, собственно, основании строится и столь загадочная для нас ин-
туиция, когда мы через спрятанные в нас начала и концы по практической необ-
ходимости системно-упорядоченного взгляда на мир по части восстанавливаем
целое. Или, наоборот, когда целое, полубессознательно выстроенное нами как не-
кое предчувствие, как гипотеза, как непроявленный умом образ действительности,
становится руководящим принципом нашей систематической исследовательской
деятельности. Деятельности проявления сущностных определений вещи.
Да, любая вещь человеческим сознанием раздвигается во времени. Животное
господствует в пространстве, говорит Аристотель. Но человек – «бог времени»:
любая вещь его сознанием разворачивается в своих последовательных формооб-
разованиях, раздвигается мыслью от «точки» наличного бытия к ее началу и ее
144
концу. Эта стихийно складывающаяся форма образования понятия вырастает из
предметно-преобразовательной деятельности, где каждая вещь подчинена дина-
мике и смыслу последней. Где понимающей способности даны не только прояв-
ленные свойства вещей, но и их потенции, восприятию не данные. Здесь как
будто даже и в Канта вчитываться не обязательно. Человеческое восприятие,
осуществляющееся одномоментно, воспринимает далеко не только то, что дано
чувствам – здесь и теперь. Иначе говоря, оно предполагает и включает в себя
категорию времени.
Человеческая предметно-преобразовательная деятельность определяет начала и
концы любого втянутого в ее контекст материала. В идее дела вещи подвижны
и подчинены этой идее, которая конкретизируется целью, определяющей меру
включенности любого необходимого элемента в процесс реального преобразования
всех условий и обстоятельств в результат: зачем, из чего, кто и как.
Но любое определенное начало любой определенной вещи как бы «отодвига-
ет» в сторону вопрос об абсолютных основаниях, которые таят в себе объектив-
ные возможности этих преходящих начал. Ибо очевидно, что сами начала с чего-
то начинаются, есть некие следствия непроявленных, но входящих в мою чув-
ственно-реальную практику определений. За любым конкретным началом любой
конкретной вещи, имеющей преходящий характер, лежит некая более широкая и
глубокая действительность. И логика нашего мышления, конечно же, даже бессо-
знательно, ставит вопрос о последней причине или, иначе говоря, проблему
начала всех начал. И элементарно критичная мысль, желая избежать «дурной бес-
конечности» регресса, пытается понять, как может быть безначальным само
начало. Начало в его абсолютной форме.
Философия в этой проблеме всегда видела свое дело. И пыталась мышлением,
логикой, снять все те ходы, которые порождались в стихии исторических пред-
ставлений. В этих трудах она выявляла (даже бессознательно) начала своего
мышления и эти же начала обосновывала. Формировалась культура мышления,
чувствующая и удерживающая собой свои пределы. Этим логика всегда противо-
стояла многообразию эмпирической действительности и вынуждала любой
«факт» разворачивать в его внутренней логике – от начала до конца.
Конечно, сознание возникает не как осознание неких абсолютных начал,
а как способность отражения ближайших обстоятельств деятельности субъекта и
как способность рефлексии самой этой деятельности. И обнаруженное в мире
сознание принципиально меняло взгляд на мир, лишая его чисто натуралистиче-
ских представлений и ставя перед человеком сугубо метафизические проблемы.
Отвечая на письмо Саши Суворова, Э.В. Ильенков говорит, что сознание –
это не только чудо из чудес, но и крест. И многие «всерьез полагают, что без это-
го «проклятого» дара божьего человек был бы счастливее и что вся боль мира
существует, собственно, только в сознании» [Ильенков 1991, 447]. «По существу,
ведь речь идет о том, зачем человечество вообще вышло из животного состояния
и обрело себе такую хлопотную способность, как сознание. Зачем? Я искренне
думаю, что на этот вопрос («зачем?») ответа нет» [Ильенков 1991, 446].
Это Ильенков говорит в 1974 г., спустя более двадцати лет после написания
«Космологии духа», раннего трактата, ставшего популярным сразу после смерти
автора (1979). В котором, как мы знаем, ответ на вопрос, поставленный А.В . Су-
воровым, дан. Правда, в гипотетической форме, «как попытка установить в об-
щих чертах объективную роль мыслящей материи в системе мирового взаимодей-
ствия» [Ильенков 1991, 415], как «фантасмагория, опирающаяся на принципы
диалектического материализма» [Ильенков 1991, 415].
Что это – непоследовательность Ильенкова или отказ от представлений более
двадцатилетней давности? Допустить, что это суждение просто соразмерно особой
ситуации взаимоотношений Ильенкова и Суворова, к которому он относился с оте-
ческой любовью, никак нельзя. Потому что истина для Ильенкова оставалась не
только принципом познания, но и принципом отношения человека к человеку. Тем
145
более к человеку, находящемуся в условиях слепоглухоты. Кстати следует заметить,
что Ильенков к своей «Космологии духа», работе аспирантских лет (1952), относился
с улыбкой и даже не пытался когда-либо ее публиковать. Но и никогда не отказы-
вался от нее. И здесь ничего удивительного нет, потому как проблема мышления,
объективности идеального теоретически значима только потому, что она значима и
сугубо практически, и место мышления в жизни человека Ильенковым доведено до
«вселенского масштаба». Здесь связаны все начала и концы мира, связаны единым
принципом, и этот принцип, это начало, принадлежит самому миру – как внутрен-
нее его определение. Ильенков последователен даже там, где поверхностное созна-
ние может усмотреть у него разрывы и нестыковки.
Рефлексия сознания расщепляет мир на мир материальный и мир духовный.
Что эта рефлексия являет собой вторичную форму, имеющую своим основанием
(началом) разделение труда, – факт для серьезной философии истории прозрач-
но-понятный. И потому исследование природы сознания начинается не с гипоте-
тических представлений о движении мировой материи, а из движения предмет-
но-преобразовательной трудовой деятельности человека. «...Сознание вообще
есть там, – пишет Э.В. Ильенков, – где есть расхождение заранее заданной схе-
мы действия и реально осуществляемой схемы, и где эта последняя тоже дана
субъекту как схема внешней ситуации, с коей надо согласовывать заранее задан-
ную» [Ильенков 1991, 110]. Этот сюжет будет Ильенковым многообразно развер-
нут – и в той же самой схеме-парадигме: от начала, от первого «исходного» эле-
мента психики (статья «Психология») до развитой формы личностного бытия
(«Что же такое личность?»).
Сознание как атрибутивное определение предметно-преобразовательной дея-
тельности схватывает и удерживает в первую очередь деятельные силы бытия.
То есть те определения действительности, которые имеют непосредственное значе-
ние для жизнедеятельности человека. Но не те внешне-чувственные характеристи-
ки вещей, которые будто бы первичны в восприятии. Конечно, пространственное
определение образа бессознательно первично. Но объективно-принудительная сила
любой пространственной конфигурации вещи выступает в предметно-
преобразовательной деятельности категориальным определением, – как и катего-
рии мышления, в которых как раз деятельные силы бытия и представлены. И прак-
тика, и познание опираются на эти силы и их разворачивают в сознательных дей-
ствиях и образах исторического человеческого знания. Сила знания – это сила
самой действительности, ставшая действующей способностью человека. Иначе го-
воря, субстанция во всех своих атрибуциях предстает в мышлении и идеально
удваивает себя в движении человеческой деятельности.
Выявляя в «Космологии духа» объективный смысл и значение мыслящего ду-
ха, Ильенков, однако, не делает более того, что в исторической философской
классике уже сделано. Ведь и Платон и Плотин, Ансельм и Фома, и Николай из
Кузы и многие другие, все, кто серьезно входит в попытку понять мысль и чело-
века, эту мысль несущего, пытались связать в единый узел начала и концы бы-
тия, независимо оттого, в каком образе они их представляли. Ведь и ильенков-
ские представления, выраженные в «Космологии», имеют вполне особый образ,
соотносимый с содержанием современных ему общественно-научных представ-
лений. Действительная же проблема, которую Ильенков тут намечает, менее все-
го касается сути физических и астрофизических представлений, а целиком по-
гружена в философское содержание диалектического метода. В проблему отно-
шения мышления к бытию. И нравственно-волевого отношения человека к дей-
ствительности.
Конечные вещи как будто легко объясняются и в их возникновении, и в их
прехождении. Но попытка выйти на круг бесконечного бытия, на абсолютные
формы, абсолютные пределы, – такая попытка всегда оборачивается сложней-
шими логическими проблемами, в рамках какого бы фактического содержания
они, эти проблемы, ни выстраивались. А не разрешив их, сам фактический
146
материал начинает обволакиваться иллюзиями и мифами. То есть теми «способ-
ностями» человеческой субъективности, которые не умеют и не считают нужным
определяться с проблемой истины.
В «Космологии духа» бытие Вселенной задано двумя противоположными мо-
ментами: предельной простотой материи, мертвого недифференцированного бы-
тия ее, как бы физически ее ни интерпретировать, – и столь же предельно разви-
тым сознанием, знающим не только бытие этого мира во всей полноте его потен-
ций и актуальных форм, но и свою нравственную ответственность перед этим
миром. Сознание в своем пределе достигает абсолютного знания и способно ак-
туально взять на себя всю полноту субъектности – свободно-сознательно воссо-
здать мир в его актуальном живом бытии.
Это – «божественная» функция. С одним только отличием: мир не создается в
прямом смысле слова, а воссоздается, мыслящее сознание остается в определении
атрибута, которое идеально представляет собой субстанцию, но никогда не есть эта
субстанция. Ильенков ставит вопрос, зачем Вселенной мышление, и дает ответ: что-
бы Вселенная могла себя возрождать через смерть как творческий акт мышления.
«В отношении материи и мышления появляется действительная диалектика – вза-
имная обусловленность, внутри которой материя хотя и остается первичным и опре-
деляющим (первым по природе), тем не менее оказывается обусловленной обратным
активным воздействием со стороны мышления» [Ильенков 1991, 435].
Именно эта способность в определенном моменте мирового движения берет
на себя всю полноту субъектности. Стоит только ее отделить от субстнциального
бытия, и вы получите образ Абсолюта, вашей абстракцией отделенный от мате-
рии и положенный в основании этого мира – до бытия мира. Созданный такой
абстракцией образ мирового начала занимает исторический ум с момента осо-
знания им самого себя. Однако возникающее здесь понятие небытия, как бы ле-
жащего за бытием, не может быть осмыслено как первоначало не только потому,
что из ничего ничего не возникает, – а потому что это есть ложная абстракция.
Что, кстати, было показано уже Парменидом. Небытие есть небытие бытия, есть
отрицание. И если отрицание не понимается в его диалектической форме как
снятие, то небытие бытия есть уничтожение (мыслью) мира. А, следовательно,
и самого мышления, поскольку исключается его предмет, то, что мыслится.
Небытие есть момент в движении, изменении бытия. Гегель, великий диалек-
тик, фиксирует любое мыслимое начало как единство бытия и небытия и отно-
шение этих определений в их возникновении и прехождении – как становление.
Это всеобщая форма логического начала, и им мышление определяет любое кон-
кретное начало любой эмпирической вещи.
Удержание абстракции мышлением в устойчивой самостоятельной определенно-
сти, лишенной движения, порождает внутри мышления совершенно разные картины
действительности в зависимости от того, какая абстракция положена в основание –
положена как начало. Такое абстрактное неподвижное начало, если оно, повторю,
сохраняет устойчивость в сознании, приводится в движение только силой субъектив-
ного мышления. Здесь двойная иллюзия: создается ложная односторонняя абстрак-
ция и эта же абстракция онтологизируется и ей приписывается сила начала. Такое
мышление, в свою очередь, вынуждено искать и силу своим абстрактным определе-
ниям. И искать вынуждено, естественно, опять же в некоем начале, – как начало
своей силы. Даже если таким началом оно, мышление, мыслит само себя. Гипотеза
Ильенкова «проясняет ту самую «высшую» и «конечную» цель существования мыс-
лящего духа в системе мироздания, на которой всегда спекулировали все и всяческие
религии» [Ильенков 1991, 434]. «И эта – объективно выведенная – «цель» бесконеч-
но грандиознее, чем все те жалкие фантазии, которые выдумали религии и связан-
ные с ними философские системы» [Ильенков 1991, 434].
Нетрудно заметить, что Ильенковская «Космология духа» внутренне смыкается
с исходной позицией материалистического понимания истории, с ее объективным
началом, которое усматривается Марксом (а, по существу, и Гегелем) в труде и его
147
разделении. Для Ильенкова предметно-преобразовательная деятельность – дей-
ствительный исходный пункт для понимания всех феноменов бытия, как они даны
сознанию и всем реально действующим способностям человека.
Но действительным началом и концом тут является сам человек, в труде
начинающий себя и ради своего человеческого бытия трудом занимающийся.
Он и есть та самая «мыслящая материя», которая в «большом круге» мировой
материи делает то же самое, что сознающий себя человек в своем предметно-
преобразующем бытии. Этот круг воспроизводит и человеческая история. «Исто-
рия человечества предстала теперь как необходимый процесс саморазвития, дви-
жущие причины которого находятся в ней самой, во внутренних противоречиях
его развития, и которое не нуждается ни в каких трансцендентных или трансцен-
дентальных целях для своего объяснения» [Ильенков 1991, 422].
Материя, «растворенная» тепловой смертью, лишь таит в себе энергию бытия,
вполне мыслимой по формуле А. Эйнштейна, но ни один другой ее атрибут, да-
же такой, как протяжение, не способен быть началом, не способен потенцию
мира актуализировать в живое бытие Вселенной. Современное научное мышле-
ние, далекое от диалектической рефлексии своего способа движения, сжимает
атрибут пространства до «точки» и, бессильное понять активную силу так поня-
того начала Вселенной, ссылается на спонтанность. То есть оставляет ее, актив-
ную силу начала, не объясненной.
Потому метафизика контрабандой проникает в мышление науки, и абстраги-
рующая деятельность «расщепляет» Вселенную. И здесь начала и концы бытия
приобретают более сложную конфигурацию, нежели в мышлении любой конеч-
ной вещи. В ильенковской гипотезе «в какой-то, очень высокой, точке своего
развития мыслящие существа, исполняя свой космический долг и жертвуя собой,
производят сознательную космическую катастрофу – вызывая процесс, обратный
«тепловому умиранию» космической материи...» [Ильенков 1991, 433]. И спон-
танность снимается как ничего разумного не значащее представление.
Историческая «деятельность человека одухотворена не только пафосом «ко-
нечных» человеческих целей, но имеет, кроме того, и всемирно-исторический
смысл, осуществляет бесконечную цель, обусловленную со стороны всей системы
мирового взаимодействия» [Ильенков 1991, 436]. «Бесконечная цель», конечно,
воспроизводит круг, и он воспроизводится не только в бытии, но и в мышлении.
Ибо круг выражает собой абсолютное, свободное, самоопределяющееся бытие.
Потому «цель» в природе вообще мыслима лишь как момент отношения целого
к самому себе, как абсолютно бессознательная необходимость самосохранения,
как замкнутость бытия на самого себя. Но в этом еще нет никакого намека на
сознание, на сознательное выражение этой необходимости, в котором эта необ-
ходимость и предстает как цель, как сознательный образ результата.
Сознание, познающая способность возникают только тогда, когда вне момен-
та идеально-функциональной связи бытие оказывается неосуществимо. Впервые это,
разумеется, обнаруживается в человеческой действительности, и попытки понять
пределы этой связи, этого отношения, показывают необходимость идеальной фор-
мы как существенного момента самого объективного бытия. Отчетливо это впер-
вые выразил Платон. Согласно «Космологии духа» вне идеального момента,
представленного мышлением реально действующего человека, неосуществимым
оказывается бытие Вселенной вообще.
«Я искренне думаю, что на этот вопрос («зачем?») ответа нет» – это убеждение
Ильенкова связано с его общемировоззренческой позицией, не допускающей в ми-
роздании наличие цели раньше бытия. Цель может быть выведена только из бытия,
из материи. Материя есть единственная субстанция, которой принадлежит все, что
мы находим как бытующее. Даже мышление, которое – в чем Ильенков полностью
соглашается со Спинозой – есть атрибут субстанции. «Мышление имеет своей необ-
ходимой предпосылкой и непременным условием (sine qua non) всю природу в целом»
[Ильенков 1984, 54].
148
Для Ильенкова высшая форма научного познания, научного мышления, есть
форма диалектическая – форма, выстраданная всей историей культуры. Форма
активная, творящая и одновременно объясняющая творчество, самое себя. И в
этой – диалектической – форме причинность, на которую не может не опираться
любое мышление, уже мыслится совсем не так, как она практически до сих пор
исповедуется наукой. В «Космологии духа» Ильенков замкнул начала и концы бы-
тия, материальный и идеальный его моменты, – с полной опорой на современные
ему научные представления и на форму диалектического мышления. Здесь материя
и мышление показаны в их взаимосвязи, – но взаимосвязи такой, где обычное
представление о причинности объясняющим принципом выступить не может: суб-
станция и атрибут не связаны причинным отношением.
Мышление является таким атрибутом, который в своей активности превосхо-
дит все формы движения материи, ибо оказывается, говоря словами Аристотеля,
формой всех форм, универсальной формой. И потому берет на себя функцию
субъектности. И тем самым определенность начала. И только в этой форме суб-
станция в полной мере проявляет себя как субстанция-субъект.
Есть масса попыток показать человеческое начало за пределами человеческого
бытия, даже постулировать плюрализм в трактовке таких начал. Но человеческая
история начинается там, где человек начинает производить себя сам. Животное
себя лишь воспроизводит, а человек, производя предметную культуру, тем самым
производит себя, производит в определениях этой культуры и тем самым выходит
за рамки природной определенности. Но в этих надприродных, культурно-
исторических определениях человек остается предметным существом, существом
общественным, формирующим и свое общественное неорганическое культурно-
историческое тело. Здесь – отчетливая диалектика природного и духовного, здесь
тождество тела и души, тождество бытия и мышления. В диалектическом разре-
шении проблемы взаимосвязи реального и идеального Ильенков видит ключ к
теоретическому решению всех тех проблем, которые возникают в анализе челове-
ческого бытия и его исторического развития.
Историческое развитие человека бессознательно, ибо история не самоцель, лю-
ди не сами себя начинают, не имеют это целью, но выталкиваются в сферу созна-
ющего себя бытия некой необходимостью, скажем за Ильенковым, той самой
«объективной целью» природы. Природа этой необходимости в истории филосо-
фии всегда мыслилась под образом Абсолюта – то как верховной идеи блага
у Платона, то как Первообраза у Плотина, то как Бога в религиозно-философских
представлениях. То как естественно-природной необходимости. Поэтому и момент
сознательности в самотворении человеческого бытия здесь мыслится всегда как
момент, подчиненный скорее преходящим задачам общественно-практической
деятельности, чем как смыслообразующая свободная деятельность человека.
Разумеется, здесь содержится противоречие, сложнейшее отношение природ-
ного и культурно-исторического, и здесь же – суть материалистического пони-
мания истории. Согласно диалектическому методу эта человеческая история
должна быть понята в ее собственных основаниях и собственной логике разви-
тия. Но и здесь, сознательно или бессознательно, из-за границ истории выгляды-
вают разные «действующие силы» – от господа Бога до биогеохимической энер-
гии (Л. Гумилев). Развитие сознания в истории – это одновременно развитие
сознания свободы, а потому и логики определения свободной деятельности.
Маркс, идеи которого удерживает позиция Ильенкова, с полной теоретической
определенностью фиксирует абсолютные пределы, внутри которых человек осу-
ществляет себя как человек. Как природа становится человеком и как человек
являет себя природным существом.
Казалось бы, человеческая деятельность вбирает в себя все четыре «причины»
Аристотеля, обозначаемые им как движущая, материальная, целевая и формаль-
ная. Форма – это внутренняя логика вещи. Движущая причина погружена в
формы материи, существует в ее определениях, поэтому материальная причина не
149
отделена от движущей, разделяются они лишь самой деятельностью, и в формах
этой деятельности сознанием удерживаются как обособленные и связанные логи-
кой деятельности, ее интегральным образом в сознании. Именно в таком виде
Аристотель воссоздается в историческом мышлении, которое пытается прощу-
пать свои собственные основания.
Цель как причинное отношение выражает суть целого. Поэтому объективная
цель – это внутренняя необходимость удержания целого, самовоспроизведение
себя. Вселенная сохраняет себя смертью духа. Духа, который есть отражение дей-
ствительности в самой себе, знание ею самой себя. Можно было бы сказать: са-
мосознание Вселенной. Ибо сознание в пределе есть не что иное, как знание
Вселенной полноты своего собственного содержания, как идеальное удвоение
себя в самой себе. В человеке природа мыслит самое себя. И человек в природе
ежемоментно воссоздает в себе человека – во всех формах своей материальной и
духовной деятельности. И в своем личностном бытии. Перманентность этого
процесса одновременно означает актуализацию всех потенциальных форм и
наличие всех потенций в актуальных формах действительности.
Мышление снимает себя (иначе говоря, предстает в чувственных формах бы-
тия, исчезая в своей собственной идеальной форме) так же, как исчезает, скажем, в
определенных условиях сила тяжести (сохраняющая себя, однако, как безусловное
всеобщее атрибутивное определение бытия). В предметно-преобразующей деятель-
ности снятие мышления, его «смерть», есть воссоздание и творение форм реаль-
ного бытия. Творение мыслящим субъектом действительности – это не только
конструктивная деятельность на основе и в формах актуально развернутой дей-
ствительности, но и «перевод» в актуальное бытие таких потенций природы, ко-
торые она сама собой, силами, содержащимися в ней, не способна п ревратить в
актуальные формы. Своей активной деятельностью мышление их находит, и
субъект этого мышления как практически действующий превращает их в акту-
альную действительность.
Иначе говоря, речь идет о таких потенциях бытия, которые вне мыслящего
деятельного субъекта вообще не проявляются. Здесь человек и в самом деле
сравнивается с Богом, ибо творит не только свои непосредственные условия, но
и самый объективный мир, актуализируя его сами по себе не проявляющиеся
потенции. Иначе говоря, Вселенная – это не просто пространство, пустое усло-
вие творчества субъекта, а природа ее содержит в себе то, что становится акту-
альным (действительным) только при наличии деятельного мыслящего субъекта.
В «Космологии духа» Ильенковым решается только одна конкретная проблема –
проблема необходимости и объективной роли мышления, проблема тех пределов,
в которые замкнут бесконечный мир Вселенной. Мир как материальное движущееся
бытие всегда равен сам себе, он самотождественен, и потому существует вне време-
ни. Время возникает, когда вещь выходит из формы тождества, равенства себе, из
состояния покоя, – иначе говоря, время возникает вместе с возникновением движе-
ния, как внутреннего саморазличения вещи. И этим же различением создается про-
странственная форма, – как координированное своей сущностью взаимоотношение
своих различенных явлений. Движение есть отрицание самотождественности вещи,
ее выход за свои собственные пределы. И это самоотрицание тождества осуществля-
ется не некой неопределенной спонтанностью (скажем, в космологии Большим
взрывом, в механике Ньютона – божественным первотолчком), а только формой
противоречия, заключенного в нем, в тождестве. Иначе логически вы не выразите
движение и не найдете начало его. Спонтанность, на которую любят ссылаться, –
это способ обойти проблему. Противоречие же – это универсальное начало любой
формы движения – воссоздает себя в той же мере, в какой и разрешается. Понять,
как и почему этот круг разрывается, – это понять диалектику развития. И здесь Иль-
енков нас отправляет к Гегелю.
Тождество снимает движение, есть синоним покоя, смерти. Тепловая смерть Все-
ленной – это тождество всех видов энергии, отсутствие какого-либо различия,
150
единое, всеобщее и неопределенное, апейрон Анаксимандра. Неподвижное бытие
Парменида. Потому и понятие вечности фиксирует эту неподвижность бытия, его
самотождественность, смерть. И, наоборот, движение – это внутреннее саморазли-
чение вещи, выстраиваемое в последовательности самоснимаемых форм в развитии
сущности. В абстрактно-категориальной определенности это есть время.
Потому вечное и временное даны для восприятия в каждой точке действи-
тельности и различаются между собой как устойчивая форма покоя (самотожде-
ственность) и как открытая для сознания в этом же акте восприятия форма дви-
жения. Покой и движение даны в едином акте сознания. Но покоящаяся вещь
в моменте ее самотождественности находится в форме относительного движения,
поскольку включена в условия изменяющихся обстоятельств своего бытия, и по-
тому – во времени этих обстоятельств. Изменение этих обстоятельств объективно,
и потому наше сознание утверждает, что каждая вещь, фиксируемая в своей соб-
ственной пространственной определенности, находится во времени. И что время
каждой вещи потому относительно. И не только относительно позиции наблюда-
теля, но и любой прочей вещи. И эта относительность, утверждает А. Эйнштейн,
объективна. В своей же абсолютной форме время вещи выражается только относи-
тельно самой себя. Вещь имеет временной характер, иначе говоря, имеет начало и
конец. Или еще иначе: имеет собственную форму движения.
Уловить ведущую роль объективно-материального бытия – или, коротко, мате-
рии – далеко не просто, по большому счету здесь стоит задача из видимо устойчи-
вых, малоподатливых и малоподвижных форм природного бытия вывести универ-
сальную, а потому и абсолютную, форму. Ту самую форму форм, которую Аристо-
тель и понимает как мышление. Такая форма форм, мышление, присуща матери-
альному миру как его атрибутивное определение и способна обособляться только
в образе действующего субъекта, принявшего на себя всеобщие определения самой
мировой действительности. В этой обособленности оно, мышление, может мыс-
литься и как Бог, и как человек. И как позиция такого объективно-абсолютного
начала, через которое мы могли бы получить (понять) все наличные и возможные
формы бытия. Как начала творящего, производящего, собой и из себя, все формы
существования. Объективного и субъективного. Это обстоятельство и требует по-
нять объективный состав и содержание субъективности, через которую осуществ-
ляет себя движущая причина. Иначе говоря, то абсолютное, что и лежит в основа-
нии всех форм. Следовательно, выступает как причина всех причин.
А в этом моменте мы и выходим на необходимость дать такой ответ на вопрос
«почему?», который не сводится к причинности в ее естественнонаучной тра к-
товке одностороннего действия. Конечной причиной, однако, как четко отложи-
лось в сознании человечества после Ф. Энгельса, является взаимодействие. Это
такое причинение, которое втягивает в себя любое конечное образование, по-
рожденное своим движением. Иначе говоря, которое свои следствия удерживает
как свои собственные причины.
Тем самым проблема «почему?» смыкается с вопросом «зачем?». И потому с
вопросом о смысле сознания в мироздании, каково его место в круговращении
причин и следствий. В «Космологии духа» Э.В. Ильенков отвечает на этот вопрос
в самой общей форме, в статье «Психология» определяет (выводит) психическое
в его элементарной «клеточке». В этих текстах «почему» и «зачем» сомкнуты во-
едино. Психику создают «действия по перемещению в пространстве, имеющие
«целью» восстановить прерванный контакт между своим телом – и предметом
органической нужды, замкнуть цикл обмена веществ ЧЕРЕЗ СВОИ СОБ-
СТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Тут уже без ОБРАЗА не обойтись» [Ильенков 2009,
96]. Психический образ выводится из необходимости жизненного «круга», осуще-
ствимого только через его посредство. Это начало получает развитие до формы
личностного бытия.
Если бы мысль могла остановиться на абстрактной всеобщности, где ее пыта-
ется «заморозить» формально-позитивистская традиция, на абсолютном
151
тождестве вещи самой себе, она бы и не была мыслью, выражающей действитель-
ность. Ибо действительность не сводится к самотождественности, ей присуще раз-
личие и, более того, различающая сила. Точно так же как и сила отождествления.
Именно эту полноту втягивает в себя знание – даже если методологически оно на
это не ориентировано. Потому-то позитивизм и не дает полного адекватного зна-
ния. Момент изменения, принадлежащий бытию, требует видеть вещь в ее отно-
шении к самой себе. Но это есть отношение временнóе, растянутое внутри соб-
ственных формообразований. Которые и соотнесены с их объективным началом,
с сутью самой этой вещи, с моментом абсолютного в составе ее.
Но это абсолютное – в категориальном определении – не сводимо к тожде-
ству, в таком случае оно было бы ничто, абсолютный покой, который не имеет
отрицательного отношения к себе, остается вне движения, следовательно, не
имеет времени, а потому и определенного пространственного бытия. Ибо неиз-
меняющаяся вещь не может иметь какого-либо отношения к другим вещам, ко-
ординировать свое бытие с ними. Потому это явно ложная абстракция. «Матери-
альная точка», выстроенная мышлением современной космологии, остается
именно такой чистой абстракцией мышления, онтологизируемой этим мышлени-
ем в качестве исходного начала Вселенной. Принципиально логически ничем не
отличается и «духовная точка», мыслимая религией в образе Бога. Потому и ста-
вятся бессмысленные вопросы о «мотивах» творения мира Богом и почему ис-
ходная точка мира вдруг взорвалась Большим взрывом, создавая пространство и
время, т.е. движение. Ибо эти абстракции пусты, бессильны, любые потенции им
приписываются только со стороны мышления, их, эти абстракции, породившего.
Но сами в себе они никакой силы не имеют. Истинная научная абстракция (по-
нятие) всегда содержит в себе теоретическое противоречие.
Но такие, достаточно наивные по своей логике, представления в чистом виде бы-
ли выявлены уже Парменидом, сведшим мир к самотождественному единому непо-
движному бытию. Это – логическая позиция, в отличие от космологической и рели-
гиозной. Но глубочайшая логика бытия (действительности) была выражена у Герак-
лита, который отчетливо указывает на вечность движения и мыслит его как исход-
ный пункт в миропонимании. Покоящийся момент этого гераклитовского мира не
есть само по себе некое устойчивое вещественное бытие, а сама форма этого движе-
ния, логос, внутренняя логика движущегося бытия. Наука с момента ее возникнове-
ния и по сей день ищет устойчивые формы бытия, именно те самые всеобщие уни-
версальные связи и взаимосвязи, которые определяют внутреннюю форму и внеш-
ние соотношения вещей – как проявления гераклитовского логоса. Гераклит велик в
том, что указал и логическое начало внутри этого вечно изменяющегося мира, –
как имманентное этому движению противоречие.
Иначе говоря, противоречие присуще самому логосу – как устойчивой форме
изменяющейся вещи. Вещь, лишенная логоса, теряет свою определенность. Вещь
определяется только через движение, через свое собственное противоречие. От-
сутствие противоречия лишает ее самобытия, она становится инертной и неопре-
деленной. Определяться она в таком случае может только через внешнее причи-
нение. И если такового нет, она «сохраняет состояние покоя или равномерного
прямолинейного движения» (Ньютон). Покой – форма, противоречие которой
сведено в тождество. В тождество противоположностей.
В этом тождестве противоположностей и лежит объясняющая движение сила,
и логически оно мыслится как начало – начало движения, начало бытия, как ло-
гическое начало вообще. Противоречие, задающее необходимость изменения и
одновременно задающее необходимость снятия его, восстановления тождества.
Ибо и элементарное суждение – как исходная форма сознания – вырастает из
противоречия и несет в себе противоречие. А потому и содержит в себе логиче-
ский импульс движения, отрицательного отношения к самому себе, снятие себя.
Любая наука (любое строгое мышление) здесь фиксирует проблему и нацелена
средствами своих мыслительных форм ее разрешить.
152
В этом-то движении и развивается содержание вещи, материя как пассивно-
независимое бытие начинает активно втягиваться в «колесо», в круг деятельности и
здесь обнаруживать свои активные силы. И своей неподатливостью определять его
вращение. Тут – необходимая связь формы деятельности и формы материи.
В форме же материи представлена ее особая «самость», ее сила, которая и присва-
ивается мышлением уже в качестве своей способности. Мышление, чтобы быть
формой форм, обязано втянуть в себя и опереться на эту материальную форму.
Этим и порождается и объясняется философско-материалистическая позиция.
Материя объективно несет в себе форму (и в любом своем образовании она
есть материя оформленная), и любая форма представлена в материи. Но это всегда
тождество различного, и только в общественно-исторической действительности
возникают условия объективного отделения формы от материи. Именно эта фор-
ма в человеческой деятельности и обретает идеальный образ, образ самого бытия,
образ его реального движения. Более того, обособляясь в культуре, идеальное
принимает образ логики, логической способности – как объективно-всеобщей
формы мышления.
В человеческой деятельности внутренние моменты действительности различа-
ются и обособляются: форма отличается от содержания, цель от причины и т.д.
Цель – как внутренняя необходимость удержания целостности бытия – обособля-
ется в образе сознания и становится формой, определяющей деятельность субъекта.
Она вырастает из состава всех определений конкретной формы бытия, которые и
определяются как ее, цели, основание – связь причины и цели выражается необ-
ходимостью, причина выражает субстанциальное бытие. Субстанция проявляется
во всех ее различенных моментах. В ее движении, воссоздающем ее собственное
содержание, представлены все ее внутренние отношения, которые выглядят
внешними только для сознания, сознающего себя противоположным бытию.
Человеческая деятельность объективно различает эти субстанциальные отноше-
ния и удерживает их в различенном виде в предметных формах культуры, и тем са-
мым в сознании (как субъективном образе бытия). И в этом, человеческом, бытии
противополагаются причина и цель («почему» и «зачем»), разводятся их векторы.
Но – и Ильенков тут абсолютно прав, когда отказывается отвечать на вопрос «за-
чем» – цель мы можем вывести из противоречащих определений основания, но при-
чину из цели вывести нельзя, не допустив онтологизированную абстракцию духа –
как деятельного субъекта этой цели. Поэтому спинозовское решение этой проблемы,
где субстанция есть субъект всех своих определений, причина самой себя и сама себе
цель, – есть общетеоретическое, логическое решение, представляющее собой исход-
ный методологический пункт в осмыслении действительности.
Субъективная логика, логика мыслительной деятельности субъекта, имеет
свою собственную логику возникновения, становления и развития. Иначе говоря,
и начало и конец. Она вполне объективна. Она совпадает с формированием и
развитием человеческой действительности, общественных отношений в системе
разделенных форм человеческого труда. Именно здесь вырабатываются и культу-
рой удерживаются практические и теоретические абстракции, через синтез кото-
рых в производящей деятельности формируются понятия, выражающие суть яв-
лений действительности. Поэтому мыслящую деятельность индивидуального со-
знания и нельзя понять никак иначе, как только в образе движения всеобщих
форм культурно-исторической деятельности человека. Становление человеческой
субъективности потому и может быть понято только как снятие этих всеобщих
культурно-исторических форм, психологический и педагогический механизм ко-
торого (снятия) проясняется в понятии совместно-разделенной предметной дея-
тельности. Вне этой формы индивидуальное человеческое бытие неосуществимо.
С точки зрения и Гегеля, и Маркса, и Ильенкова категориальные определе-
ния мышления имманентны самому миру, даны в практике и познании челове-
чества. И любая категория (предельное определение объективной реальности,
представшее в истории как всеобщая форма деятельности) имманентна любой и
153
каждой форме бытия, коль скоро она, эта форма бытия, имеет относительно са-
мостоятельное существование. Диалектические категории Гегеля связали в един-
ство проблему начала с проблемой конца, движение с его собственным источни-
ком и т.д . и лишили основания нечто допускать в качестве трансцендентного.
Можно сказать, что мировой процесс, будучи движением из самого себя (в силу
внутренних противоречий) к самому себе, к противоречиям самотождественно-
сти, с необходимостью порождает человека как форму, снимающую объективные
пределы мира и потому обособляющую логику этого мира вне его самого. И это
«вне» есть «внутри» как его, этого мира, инобытие, идеальное. Поэтому мир раз-
вивает из себя человека и в человеке достигает тождества с самим собой. Ясно,
что абсолютность этого тождества содержит в себе столь же абсолютный момент
противоречия. Но задачи, которые не разрешает природа сама по себе, теперь
выпадают на долю человека.
В преобразовании действительности и обнаруживаются, и создаются условия
реального бытия субъекта. И эта формула одинаково значима как для формы
антропогенеза, так и для становления ребенка человеком. Как и для историче-
ского бытия человечества вообще. В «Космологии духа» человек вынужден смер-
тью духа «преобразовать» весь мир, чтобы этим создать условия для своего бытия.
«Философия духа», как можно было бы назвать все Ильенковские работы психо-
логического цикла, – это тот самый круг бытия, в котором теоретически воспро-
изводится объективное движение от исходного элемента психики до развитой
личностной формы. Это такое движение, где ни один акт не осуществляется
в чистой природной форме, а, наоборот, природный круг материально-телесного
бытия совершается как движение индивидуальности, воспроизводящее всеобще -
целостное содержание человеческой действительности. И, следовательно, подчи-
няющееся только ей. Здесь, внутри общественно-исторических форм, и осу-
ществляется тождество естественно-природного и культурно-исторического,
культурно-исторического и индивидуально-личностного. Потому и человеческая
телесность понимается Ильенковым не как лишь телесность органическая, а как
тело всей преобразованной человеком природы. Действие преобразования, п ре-
образовательная деятельность – в своей всеобщей идеальной форме – есть мыш-
ление. Оно становится сознательным, когда субъект оказывается способным
в вещах находить их собственную меру, т.е. соотносить вещь с самой собой, точ-
нее, ее идеальный образ с реальным эмпирическим содержанием.
И категория, которая реально связывает и развязывает вопросы «что такое»,
«почему» и «зачем», есть свобода. Свобода, т.е . процесс самоопределения себя в
пространстве и времени человеческой жизни. Свобода, которая есть одновре мен-
но зависимость человека от самого себя.
Источники и переводы – Prima ry Sources in Russians Tran slations
Ильенков 1984 – Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. 2-е изд.,
доп. М.: Политиздат, 1984 (Ilyenkov E. Dialectical Logic, Essays on its History and Theory. In Russian).
Ильенков 1991 – Ильенков Э.В. Философия и куль тура. М.: Политиздат, 1991 (Ilyenkov
E. Philosophy and Culture. In Russian).
Ильенков 2009 – Ильенков Э.В. П сихология // Вопросы философии. 2009. No 6 . С. 92–
105 (Ilyenkov E. Psychology. In Russian).
Сведения об авторе
ЛОБАСТОВ Геннадий Васильевич –
доктор философских наук, профессор ка-
федры фило софии, Московский ави ацион-
ный институ т (национальный исследова-
тель ский университет) – МАИ; Президен т
Российско го философского общества «Диа-
лектика и культура».
Author’s information
LOBASTOV Gennady V. –
DSc in Philosophy, Professor of the Depart-
ment of Philosophy, Moscow Aviation I nsti-
tute (National Research U niversity); President
on Russian Philosophical Soci ety “Dialectics
and Culture”.
154
Философская мысль России второй половины XX века:
проблемы и дискуссии
© 2019 г.
Н.М . Смирнова
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: nsmirnova17@gmail.com
Поступила 05.05.2019
В статье рассмотрены проблемы историко-философского анализа оте-
чественной философии второй половины ХХ века. Показано, что не-
преходящий вклад в ее изучение внесло фундаментальное 21-томное
издание «Философия России второй половины ХХ века» (М.: РОС-
СПЭН, 2009-2011), а также расширенное и дополненное англоязыч-
ное издание его завершающего тома «Проблемы и дискуссии в фило-
софии России второй половины XX века: современный взгляд»
(Bloomsbury Academic, 2019). В развитии отечественной философии
второй половины ХХ в. отчетливо прослеживаются несколько перио-
дов, соответствующих историческим этапам развития советского об-
щества. В каждом из них основополагающие философские проблемы
эпистемологии и философии науки, истории (в том числе, марксист-
ской) философии, системные и деятельностные подходы, проблемы
диалога, коммуникации, философской антропологии и философии
культуры по-разному соотнесены с господствовавшей идеологией
официального марксизма. Показано, что, вопреки суждениям запад-
ной советологии о доминирующем влиянии марксизма, многие до-
стижения советской философии 1960–1980-х годов могут быть изъяты
из их изначального социокультурного контекста и успешно встроены
в корпус современных философских исследований. Показано, что в
эпистемологии и философии науки, а также и в реализации деятель-
ностных подходов и т.п . отечественные философские разработки не
только не уступали лучшим западным образцам, но и, невзирая на
жесткие идеологические рамки советской философии, превосходили
аналогичные философские исследования мирового уровня.
Ключевые слова: советская философия, марксизм, марксизм-ленинизм,
творческое, догматическое, идеология, наука, философия науки, дея-
тельность, история философии.
DOI: 10.31857/S004287440007171-3
Цитирование: Смирнова Н.М. Философская мысль России второй по-
ловины XX века: проблемы и дискуссии // Вопросы философии. 2019.
No 10. С. 154–164.
155
Philosophical Thought in Russia in the Second Half
of the XXth Century: Problems and Discussions
© 2019 г.
Natalia M. Smirnova
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnnnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: nsmirnova17@gmail.com
Received 05.05.2019
Some basic problems, concerning historical and philosophical analysis of do-
mestic philosophy’s development of the second half of the XXth century have
been clearly observed in this paper. Substantiated, that fundamental
21-volums’edition “Philosophy in Russia in the Second Half of the XXth Cen-
tury” (Moscow, 2009-2011) and widened and supplemented English edition of
its final volume “Philosophical Thought in Russia in the Second Half of the
XXth Century. A Contemporary View from Russia and Abroad” (Bloomsbury
Academic, 2019), greatly contributed to its study. It has been made perfectly
clear, that in the domestic philosophy of the second half of the XXth century’s
development we could single out a few distinct periods, correlated with the def-
inite historical stages of Soviet society’s evolution. Within the framework of
them some basic philosophical problems of epistemology and philosophy of sci-
ence, history of philosophy (including Marxist), system’s and activity’s ap-
proaches, the problems of dialogue, communication, philosophical anthropolo-
gy and philosophy of culture correlated with Marxist official ideology in differ-
ent ways. It has been clearly demonstrated, that many 60-80 -years’ Soviet phi-
losophy achievements could be withdrawn from their initial philosophical and
cultural contexts and acquired fresh interpretation in the light of contemporary
philosophical investigations. It has been proved, that in epistemology and phi-
losophy of science as well as in activity approaches’ implementation, etc. our
domestic philosophical elaborations, in spite of severe ideological restrictions,
not only had been compatible, but also exceeded analogous high level world’s
standard philosophical investigations.
Key words: Soviet philosophy, Marxism, Marxism-Leninism, creative, dogmat-
ic, ideology, science, philosophy of science, activity, history of philosophy.
DOI: 10.31857/S004287440007171-3
Citation: Smirnova, Natalia M. (2019) “Philosophical Thought in Russia in
the Second Half of the XXth Century: Problems and Discussions”, Voprosy
Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 154–164.
Чем далее отходит в прошлое ХХ век, тем более ощутимы его духовные проекции
в настоящем. Культурная миссия настоящего – осмыслить богатейшее наследие
прошлого во имя будущего. В подобном вопрошании, осознанной потребности ис-
просить будущее у прошлого – непреходящая культурная значимость масштабных
философских рефлексий. Для нас они особо значимы в отношении профессиональ-
ных достижениях отечественной философии второй половины ХХ века. Ибо именно
в 1950-е годы она пережила рубежный период, отмеченный «прерывом постепенно-
сти» ее развития. Этот «перелом» (В.А . Лекторский), «разрыв» (А.А . Гусейнов), «тре-
тье философское пробуждение» (М.Н. Эпштейн) – важнейшая составляющая чрез-
вычайно сложного процесса возвращения отечественной философии к творческой
разработке собственной проблематики.
Книжная серия «Философия России второй половины ХХ в.», совместно издан-
ная Институтом философии РАН и Некоммерческим научным фондом «Институт
156
развития им. Г .П. Щедровицкого», внесла выдающийся вклад в осмысление нашего
философского наследия. Редакционный совет серии, возглавляемый академиком
РАН В.С. Степиным, составили В.А . Лекторский (гл. редактор серии), А.А . Гусейнов,
А.К . Сорокин, В.И . Толстых и П.Г. Щедровицкий. Отдельные издания 21-томной
серии, вышедшие в 2009 г. и посвященные философскому творчеству Г.С. Батищева,
В.С. Библера, А.А . Зиновьева, Э.В. Ильенкова, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана,
М.К . Мамардашвили, внесли огромный вклад в осмысление их наследия и включе-
ния его в поток культурной трансляции. В 2010 г. появились книги, повествующие
о творчестве В.Ф . Асмуса, М.М. Бахтина, Б.М. Кедрова, П.В. Копнина, М.А . Лиф-
шица, Л.Н. Митрохина, М.К . Петрова, С.Л . Рубинштейна, В.А . Смирнова, И.Т. Фро-
лова, Г.П. Щедровицкого и Э.Г . Юдина. Отдельное издание «Российская философия
продолжается» (под ред. Б .И . Пружинина) посвящено творчеству наших выдающихся
современников: академиков В.С. Степина, Т.И . Ойзермана, А.А . Гусейнова и
В.А . Лекторского. Опубликовано и специальное издание «Как это было: воспомина-
ния и размышления» (под ред. В.А . Лекторского) – реконструкция социально-
культурного контекста, в котором сформировались идеи выдающихся философов
России второй половины XX века (рец. на эту книгу см. [Щедрина 2011]).
Опубликованный в 2014 г. завершающий том серии – фундаментальный коллек-
тивный труд «Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX ве-
ка: современный взгляд» [Лекторский (ред.) 2014] занимает особое место в много-
томной серии «Философия России второй половины ХХ века». Он сфокусирован не
на отдельных – пусть и высоко значимых – достижениях наших выдающихся сооте-
чественников, но на остро дискуссионных проблемах, занимавших умы многих пред-
ставителей философского сообщества. В их содержательной дискуссии – подлинной
битве идей – победил каждый, кто в ней участвовал, но в первую очередь – наша
отечественная философия.
Срединный излом прошлого века знаменует собой рубежный период «отрицания»
отечественной философией того периода ее развития, когда систему философских
координат задавало идеологически препарированное учение классиков марксизма -
ленинизма. Он отмечен не только преодолением наследия догматизи рованного марк-
сизма 30–40 -х гг., но и романтическим порывом обновленного прочтения марксизма
и придания ему гуманистического облика. Но за общностью обновленческих устрем-
лений скрывается богатейшая палитра разнообразных точек зрений и философских
позиций, которые необходимо исследовать во всем их идейно-теоретическом много-
образии. И фундаментальный труд «Проблемы и дискуссии в философии России
второй половины XX века: современный взгляд» представляет собой высокопрофес-
сиональный анализ узловых проблем развития отечественной философии второй по-
ловины ХХ века и вносит достойный вклад в их «освоение». Эта книга – вдумчивое
рассуждение об ушедшем времени, философский анализ «за -текста» нашего истори-
ческого опыта, отмеченного напряженным усилием быть философом, подчас вопреки
драматическим обстоятельствам своего времени. И если России в прошлом не суж-
дено было сыграть особой, значительной роли в мировой философии, то философии
(а именно, марксизму) суждено было сыграть особую роль в ее истории. И потому на
излете второго десятилетия XXI века важно извлечь уроки из нашего исторического
опыта «обмирщения философии» (К. Маркс) (см.: [Миронов 2018]).
«Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX века: совре-
менный взгляд» – это углубленный анализ творческих взлетов отечественной фило-
софской мысли, в середине прошлого века обретшей относительную свободу от оков
догматической идеологии, стягивание в концептуальные узлы и реинтерпретация ее
несвоевременных («блуждающих») откровений. Книга позволяет очертить силовые
линии проблемного поля тогдашних философских дискуссий, выявить их концепту-
ально-смысловые напряжения, высветлить вынужденно «затемненные» в условиях
идеологической цензуры смысловые пространства отечественной философии. Это
дает возможность по достоинству оценить выдающийся вклад наших предшественни-
ков-учителей во многие области профессионального философского исследования.
157
Помимо отечественных ученых, свой вклад в книгу внесли коллеги из университетов
Франции, Финляндии, Италии, США и Канады, наши соотечественники, работаю-
щие в Германии, Швейцарии и США, а также те, кто ныне продолжает развивать
философскую мысль на постсоветском культурном пространстве (Украина, Казах-
стан). Их взгляды различны, но всех их объединила общая задача – «извлечь на свет
будущее нашего прошлого» (П. Рикёр) во имя нашего философского настоящего.
Англоязычный вариант книги – «Philosophical Thought in Russia in the Second Half
of the XXth Century. A Contemporary View from Russia and Abroad» (Vladislav
A. Lektorsky and Marina F. Bykova – eds. Bloomsbury Academic, 2019) – великолепный
подарок ее редакторов не только отечественному, но и мировому философскому со-
обществу к 90-летнему юбилею Института философии РАН. Вышедшая в престиж-
ном издательстве Bloomsbury Academic, книга уже обрела благоприятные отзывы со
стороны ведущих западных специалистов. Так, Филип Грир в аннотации на обороте
книги отмечает, что «...этот том проливает свет на центральные темы важнейших фи-
лософских дискуссий позднесоветского периода, которые до сих пор не были оцене-
ны по достоинству. Следует поблагодарить редакторов за их энергичные усилия по-
править ситуацию».
В лучших традициях западных академических изданий книга снабжена не только
великолепным справочным аппаратом, включающим именной и предметный указа-
тели, но и хронологией основных философских событий с марта 1953 (смерть
И.В. Сталина) до декабря 1991 года (распад Советского Союза) [Lektorsky, Bykova
(eds.) 2019, 385–397]. В ней представлена и библиография наиболее интересных фи-
лософских изданий 1953–1991 гг.
–
перечень важнейших профессиональных дости-
жений советских философов [Ibid., 398–413]. Английское издание отличается от рус-
ского рядом важных параметров: несколько изменены как общая структура издания,
так и расстановка отдельных статей в ранее выделенных разделах, даны новые редак-
ции прежних текстов. Издание обогатилось статьей Д. Бэкхерста «Панки против зом-
би: Эвальд Ильенков и битва за советскую философию», представляющей собою ана-
лиз тезисов Ильенкова и Коровикова о предмете философии 1954 г., историю их об-
суждения на философском факультете МГУ вкупе с публикацией английского пере-
вода самих Тезисов [Ibid., 66–75]. Англоязычный вариант книги украсила также но-
вая статья А.А . Гусейнова «Учение о жизни Александра Зиновьева» [Ibid., 91–101].
В целом публикация призвана опровергнуть распространенное мнение известных
западных советологов, например, Ю. Бохеньского или Г. Веттера, что вся советская
философия пребывала под доминирующим влиянием догматизированного марксиз-
ма, – мнение, в возникновении которого свою роль сыграло и то, что марксизм как
детище и радикальный вариант рационального дискурса западноевропейского Просве-
щения был для зарубежных коллег гораздо более заметным и узнаваемым элементом
советской философии, чем идеи и учения, развивавшиеся на русской почве (религиоз-
но-православная философия, русский космизм и т.п.) . И хотя сегодня пелена предрас-
судков в отношении советской философии мало-помалу рассеивается, западные интел-
лектуалы и по сей день пребывают в плену старых догм относительно реальных дости-
жений советской философии второй половины ХХ в. Эвристически ценным, с этой
точки зрения, является выделение в ней творческого и догматического уровней, предло-
женное А.А. Гусейновым [Лекторский (ред.) 2014, 8; Lektorsky, Bykova (eds.) 2019, 91].
История соотношения «догматического» и «творческого» непроста и драматична. Твор-
ческое не надстраивалось над догматическим как своим основанием («базисом»), но
прорастало сквозь него, подобно тому, как пробивает асфальт молодая зеленая поросль.
Англоязычное издание книги позволяет западным интеллектуалам воочию убе-
диться в том, что и в советский период в нашей философии пульсировала живая
мысль. В.А . Лекторский убедительно показывает, что, помимо официальной филосо-
фии в лице М.Б . Митина, П.Ф. Юдина и Ф.В. Константинова, было и то, чего, каза-
лось бы, не должно было быть в чрезвычайно идеологизированном философском
сообществе: в нем творили яркие личности, идеи которых до сих пор не потеряли
своего значения – в нынешнем культурном контексте, в свете современных
158
философских исследований они получают новое звучание [Там же, 25; Ibid., 20]. Од-
ни из этих философов (А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин и др.) изначально оппонировали
марксизму, другие пытались придать ему «человеческий облик». Так, А.Ф. Лосевым
были высказаны идеи построения нового знания в науках о человеке – в философии
мифологии, языка, музыки, – и, пожалуй, со времен Э. Кассирера европейская
мысль не знала столь масштабного исследования философии символических форм.
Г.Г. Шпет (труды которого пришли к нам сегодня благодаря деятельным усилиям
Т.Г. Щедриной) одним из первых обратился к разработке проблем семиотики, а не-
ортодоксальный марксист А. Богданов развивал универсальную организационную
науку, заложившую основы системного анализа.
В период хрущевской «оттепели» 50-х
-60-х годов ХХ века в России складывается
уникальная атмосфера «интеллектуальной общительности», возникает тяготение к
объединению в неформальные кружки и «незримые колледжи», происходит диверси-
фикация официальной марксистской философии на ряд школ и направлений, лишь
номинально остававшихся марксистскими. Это было «большое время» (М.М. Бахтин)
советского философского мышления. На философском небосклоне «столетнего деся-
тилетия» (Е. Замятин) блистали звезды первой величины: Э.В . Ильенков, М.М. Бах-
тин, Г.С. Батищев, О.Г. Дробницкий, А.А . Зиновьев, М.К . Мамардашвили и др., ко-
торые распахивали окна советской философии в новые смысловые дали. Особый ин-
терес для современных исследователей представляют идеи Э.В . Ильенкова и
А.А . Зиновьева. Эти выдающиеся мыслители, начинавшие профессиональную дея-
тельность с реконструкции логики «Капитала» К. Маркса, в своих философских
предпочтениях глубоко различны: первый тяготел к неогегельянству, второй – к ана-
литической философии. Т . Рокмор (не вполне согласный с ильенковским понимани-
ем марксизма как научной формы эмпиризма) констатирует: «...вклад Ильенкова со-
стоит в ослаблении оков догматического марксизма-ленинизма, для которого, в соот-
ветствии с марксистской теорией отражения, марксистская философия принимает
форму более или менее верного отражения советской политики» [Там же, 202; Ibid.,
188]. Ильенков и Зиновьев – символы той эпохи: первый олицетворял зарю «фило-
софской оттепели», второй – закат окрыляющей веры в возможность «социализма с
человеческим лицом» [Там же, 28 –29; Ibid., 22 –23].
В 50-е
-8 0 -е годы организационно оформляются новые направления философской
мысли: структурализм (Тартуско-московская школа Ю.М. Лотмана), методология
деятельностных игр (методологический кружок Г.П. Щедровицкого), философско-
методологические школы в Ленинграде, Киеве, Ростове, Новосибирске и Минске.
Это время феноменологических рефлексий М.К . Мамардашвили («Картезианские
размышления»), неорационализма В. Налимова (вероятностные подходы к языку и
биосфере), философии культуры М.М. Бахтина и М.К . Петрова. Но наибольшее раз-
витие в эти годы обрели такие области философского исследования, как эпистемоло-
гия и философия науки. «Особенность философского Ренессанса в Советском Союзе
в 60-е-80 -е гг.,
–
полагает В.А . Лекторский, – в том, что он был первоначально свя-
зан с ориентацией на философский анализ познания, мышления, науки» [Там же, 29;
Ibid., 23]. Эти направления оказались наиболее свободны от оков идеологического
принуждения и в наибольшей мере отвечали технократическим устремлениям то-
гдашнего политического истеблишмента. Но, по справедливому суждению Б.И . Пру-
жинина, невозможно рассуждать об эволюции этих отраслей философского знания,
не учитывая бурного развития советской науки. «Я настаиваю, – утверждает он, –
что рассуждать о судьбах и статусе философии науки в СССР в 60–80 гг. следует,
учитывая ее отношение к науке того времени, причем к науке, прежде всего, отече-
ственной» [Там же, 106; Ibid., 143]. Животворная атмосфера ценности свободной ин-
теллектуальной дискуссии и доказательной значимости рационального аргумента
сформировала высочайший культурный авторитет отечественной науки в глазах со-
ветской интеллигенции, открыла возможность для преодоления узко-конъюнктурной
установки в исследованиях и выхода на осмысление фундаментальных проблем, как
в самой науке, так и в философии – пусть и не без неизбежной оглядки на
159
пресловутый народно-хозяйственный результат [Пружинин, 2009]. Размышления о
порождающих эффектах средств и операций научной деятельности, месте и роли
субъекта-наблюдателя в передовых областях современной физической науки сформи-
ровали когнитивные предпосылки становления образа науки в парадигмах некласси-
ческой и постнеклассической рациональности [Степин 2000].
Анализируя социокультурные факторы научной деятельности, Вячеслав Семено-
вич Степин убедительно показывает, что между политическим режимом и культурной
пассионарностью не существует простой и однозначной зависимости. Вопреки идео-
логической цензуре, российская философия науки в 60-е -80 -е годы добилась замет-
ных достижений. К их числу следует отнести также разработку практически-
деятельностных аспектов научного познания у П.В. Копнина, анализ проблемы диф-
ференциации и интеграции научного знания в работах Б.М. Кедрова, исследование
взаимосвязи философии и науки на основе философского осмысления квантово-
релятивистской физики в трудах М.Э. Омельяновского. В числе достижений того
времени – активизация логических исследований в целом и применение современ-
ных логических средств к анализу научного познания у А.А . Зиновьева, разработка
деятельностного подхода в философской методологии Г.П. Щедровицкого. Философ-
скими импликациями новейших достижений современной науки активно занимались
Л.Б. Баженов, Ю.В . Сачков, И.А. Акчурин, Ю.Б . Молчанов и многие другие.
Наши философы смогли не только осуществить конструктивную критику позити-
вистской и постпозитивистской парадигм философии науки, но и получить принци-
пиально новые результаты в сравнении с аналогичными западными исследованиями
[Там же, 100–102; Ibid., 118–119]. Во-первых, значительно глубже проанализировать
взаимосвязь философии и науки: была прослежена эвристическая роль философских
идей в становлении фундаментальных научных теорий и обосновано введение кате-
гориальных матриц для теоретического осмысления новых типов объект ов, были вы-
явлены когнитивные механизмы формирования таких матриц в философской дея-
тельности, проанализированы функции обоснования результатов фундаментальных
исследований и их включения в поток культурной трансляции.
Во-вторых, в трудах по философии науки 70-х годов более скрупулезно, чем в анало-
гичных западных исследованиях, была изучена структура научного знания: обосновано,
что теоретические конструкты, входящие в состав теоретических высказываний, суть
лишь первые приближения в описании содержательной структуры теории; определены
связи между уровнями описания теоретических конструктов и уровнем эмпирических
знаний; установлены связи между операциональными и объектными смыслами эмпири-
ческих и теоретических высказываний; введены понятия картины мира, идеалов и норм
научного исследования, философских оснований науки; показана их роль в анализе ис-
торического развития науки; выявлено, что единицей методологического анализа науки
является не отдельно взятая теория в ее связи с опытом, но научная дисциплина как си-
стема развивающихся теорий, включенная в междисциплинарные взаимодействия.
В-третьих, отечественная философия науки сумела показать ограниченность (тради-
ционного) гипотетико-дедуктивного метода в анализе процедур логического развертыва-
ния теории и одновременно эвристический потенциал генетически-конструктивного ме-
тода, основанного на мысленных экспериментах с идеализированными объектами в со-
ответствии образцами решения задач, включенными в состав теории.
Наконец, в -четвертых, были выявлены принципиально новые аспекты проблемы
роста научного знания на основе нетривиальных представлений о его структуре. Бы-
ли также проанализированы логико-методологические основания процесса выдвиже-
ния научных гипотез: роль научной картины мира, аналоговых моделей, способов
формирования гипотетического ядра научной теории. Отечественные философы от-
крыли и описали процедуру конструктивного обоснования теоретических моделей,
продемонстрировали несостоятельность неопозитивистского противопоставления
логики обоснования и логики научного открытия.
В их исследованиях более глубоко, чем в аналогичных западных разработках, изучена
типология научных революций, очерчена роль междисциплинарного взаимодействия и
160
социокультурных факторов в их генезисе, проанализирована их связь с изменением ис-
торических типов рациональности, выявлены и описаны три основных исторических
типа научной рациональности: классическая, неклассическая и постнеклассическая. По-
казано, что каждый новый тип рациональности «не отменяет» предыдущего, но полагает
когнитивный предел его применимости [Там же, 103–104; Ibid., 122–125].
Среди областей философского знания, наиболее активно развивавшихся в те го-
ды, следует упомянуть и различные варианты деятельностных и конструктивистских
подходов в философской методологии и науках о человеке, философской антрополо-
гии и философии культуры. Общие принципы деятельностного подхода в отече-
ственной философии были разработаны Г.С. Батищевым, В.А. Лекторским,
В.С. Швыревым и др., а наиболее законченную форму он обрел в «Общей тео рии
деятельности» Г.П. Щедровицкого и в ее различных практических разверстках.
Поучительны философские метаморфозы деятельностного подхода на отечественной
почве. Поначалу воспринятый как выражение глубинной сущности марксистской диа-
лектики, как принцип философского опосредования «субъективного» и «объективно-
го» – оппозиции, свойственной европейской философии со времен Декарта, – он про-
шел долгий путь эволюции от восторженного почитания до почти полного отрицания,
в том числе и его бывшими адептами. Одни подчеркивали важнейшую роль созерцания
в жизни человека, обособляя его от деятельности (С.Л. Рубинштейн: «величие человека
не только в деянии, но и в созерцании»), другие – значимость общения (как субъект-
субъектного отношения) и его несводимость к предметной деятельности (Г.С. Батищев)
[Там же, 247–312; Ibid., 209–255]. Сегодня чрезвычайно важно оценить эвристический
потенциал развитых в то время деятельностных подходов в философии и науках о чело-
веке в контексте когнитивных вызовов со стороны современных телесно-
ориентированных и радикально конструктивистских установок.
Представление о постнеклассической научной рациональности В.С. Степина су-
щественно расширило методологическую проблематику философии, обогатив ее про-
блемами аксиологии и научной этики. Так философия науки «наводила мосты» к
философии человека – главного объекта философского исследования на все времена.
В противовес теоретической «дальнозоркости» исторического материализма, воз-
рос интерес к личностным характеристикам человеческого бытия. Он воплотился
в серьезных разработках проблем этики (О.Г . Дробницкий, А.А. Гусейнов и др.) и
«логической социологии» А.А . Зиновьева. Огромную роль в развитии гуманитарного
знания сыграли взгляды двух корифеев отечественной мысли: М.М. Бахтина
и Ю.М. Лотмана. Философия поступка была разработана М.М. Бахтиным в первой
половине 20-х годов, но достоянием философской общественности стала лишь после
публикации текста «К философии поступка» в 1986 году, и по факту вхождения
в пространство философского знания принадлежит рассматриваемому периоду разви-
тия отечественной философии. Н.С. Автономова снимает (в гегелевском смысле) два
уровня мифологических напластований относительно концептуальных расхождений
в философских позициях Бахтина и Лотмана. С одной стороны, это упрощенное
представление о едва ли не «линейной» преемственности взглядов обоих мыслителей:
«один начал, другой продолжил» – подобную точку зрения она обнаруживает в из-
вестной работе И.Т . Касавина «Текст. Дискурс. Контекст» [Касавин 2008], с другой –
это абсолютное противопоставление их позиций: М.М. Бахтин – певец речевой сти-
хии, диалога, недосказанности, тогда как Ю.М. Лотман – творец жесткой, структура-
листской систематизации семиосферы по образцу естественнонаучной классифика-
ции. Скрупулезно (на материале в том числе писем, заметок и черновых записей)
сопоставляя взгляды обоих мыслителей, Н.С. Автономова убедительно показывает,
сколь важное значение придавал М.М. Бахтин внедиалогическим формам мышления,
а Ю.М. Лотман – историческим параметрам социокультурного кодирования.
Непубличная полемика двух корифеев советской философско-гуманитарной мысли
оказала огромное влияние не только на развитие философии языка, но и на культуру
в целом, включая философию как рефлексию над ее предельными основаниями.
М.М. Бахтину посвящена как отдельная книга в рамках всей серии, так и многочисленные
161
статьи на страницах англоязычного издания ее последнего тома, переоткрывающие его
наследие для современного читателя. В рамках советской философии профессиональ-
ный диалог с Бахтиным был затруднителен в силу советски-марксистской «экстеррито-
риальности» (по выражению М.К. Мамардашвили) последнего. Он, как «беззаконная
комета в кругу расчисленном светил», более полувека озарял небосклон отечественной
философии, раздвинув ее горизонт в новые смысловые дали, выходившие далеко за
пределы ортодоксального марксизма и исподволь его подрывавшие. Во-первых, тем,
что его философия диалога утверждала жесткий запрет на монологичность и признание
одной-единственной истины; во-вторых, тем, что переосмысливала место человека
в мире, связывая его бытие со сферой поступка («я поступаю мыслью»). Бахтинская
«философия поступка» акцентировала роль личности в истории и противостояла дог-
матически-марксистскому фатализму объективно-исторических законов. Наконец,
в-третьих: артикуляция диалогической коммуникации имплицитно содержала идею
плюрализма способов бытия человека как субъекта свободного выбора. Несвоевремен-
ность идей М.М. Бахтина обернулась тем, что все мы – опоздавшие (на целую эпоху)
собеседники М.М. Бахтина, «разновременники» его современности.
Тем не менее, вопреки своей идеологической несвоевременности, идеи М.М. Бах-
тина глубоко проросли на почве отечественной философии второй половины XX века
в трудах В.С. Библера, Г.С. Батищева, Ю.М. Лотмана и др. Интеллектуальные диалоги
этих глубоко индивидуальных мыслителей с М.М. Бахтиным разворачивались по
сложной траектории притяжения – отталкивания. По справедливому замечанию
М.Е. Соболевой, они думают вместе с Бахтиным, но вопреки ему [Там же, 352; Ibid.,
289]. Так, В.С. Библер и Г.С. Батищев отличались особой приверженностью к диалек-
тике, тогда как бахтинский полифонизм глубоко антидиалектичен. Но именно поэтому
он и более последователен – у Гегеля, как известно, противоречия примиряются в ос-
новании, т.е. на более глубоком уровне синтеза, не оставляя места для подлинного
многоголосия и полифонии смысловых центров. Структуралистская же кодификация
семиосферы Ю.М. Лотмана концептуально противостояла лексической стихии бахтин-
ского «карнавала». Благодаря усилиям Ю.М. Лотмана и Вяч. Иванова, М.М. Бахтин
навсегда войдет в историю семиотики несмотря на то, что был ее противником.
Творческий диалог отечественных мыслителей с М.М. Бахтиным стимулировал
профессиональный интерес не только к философским проблемам языка и общей
теории культуры, но и к культурно-антропологическим проблемам. Сравнив бахтин-
ский «поступок» с аналогичными определениями, например, в немецкой «понимаю-
щей» социологии, увидим, что М.М. Бахтин существенно расширяет содержание это-
го понятия, вводя в него экзистенциально-личностную составляющую. Каждая со-
держательная мысль, по Бахтину, уже есть ответственный поступок – из них слагает-
ся жизнь-поступок. Поступок более чем рационален – он ответственен; рациональ-
ность – лишь момент ответственности, ответственного отношения к Другому.
Полагаю, что мы вправе считать М.М. Бахтина и со-основоположником концеп-
ции интерсубъективности, трансцендентальные основания которой, как известно,
заложены Э. Гуссерлем. Но, в отличие от своего великого немецкого коллеги ,
М.М. Бахтин акцентирует онтологически-событийную значимость встречи двух со-
знаний как соучастников в определении смыслов. Там, где отец-основатель феноме-
нологии видит лишь различие в модусах пространственной данности (hic – illic),
М.М. Бахтин усматривает отношение напряженной вненаходимости, а апперцептивно
улавливаемое сходство кинестетических движений двух тел (Гуссерль) М.М. Бахтин
обращает в различие миров в зрачках глаз.
Касаясь вклада отечественных философов в философскую антропологию, нельзя
снова не упомянуть Э.В. Ильенкова и Г.С. Батищева. Оба они решительно выступали
против социально-биологического дуализма в понимании сущности человека. Острие
их критики, как показывает А.А . Хамидов, направлено против представления о био-
социальной природе человека как «неизбежно дуалистического». Сущность человека,
утверждает Э.В . Ильенков, следуя Марксову определению сущности человека как
ансамбля социальных отношений, носит исключительно социальный характер.
162
Будучи проведен последовательно, биосоциальный дуализм ведет к дурной бесконеч-
ности («социо-био-химический-электрофизический-микро и квантово-физический
и т.д.»). По Г.С. Батищеву, не организм – носитель человеческого – биологическое со-
ставляет лишь предпосылку последнего, хотя и важнейшую, и не в состоянии со-
конституировать сущность человека. Человек – существо трансцендирующее, и спосо-
бом его бытия в мире является творчество [Там же, 405; Ibid., 327]. Г.С. Батищев
усматривает мировоззренческое основание биосоциального редукционизма в абсолюти-
зации роли и статуса потребностей и интересов в жизнедеятельности человека и обще-
ства – подмене «потребностями» высших ценностно-смысловых содержаний человече-
ского бытия. «Потребностная» точка зрения, по Г.С. Батищеву, составила основу для
многих видов натурализации и биологизации человека. В свою очередь, С.Л . Рубин-
штейн, а впоследствии и Г.С. Батищев, осознают необходимость не ограничиваться
в истолковании человеческой сущности ее социальным измерением. Сущность и спо-
соб бытия человека – глубоко онтологический феномен. Появление человека в мире
онтологически меняет его характеристики. Вселенная с появлением человека – это уже
осмысленная Вселенная, подверженная изменениям разумными действиями человека.
Немалый вклад внесли отечественные исследователи и в развитие мировой исто-
рико-философской мысли, в том числе, в философскую интерпретацию учений Геге-
ля и Маркса. Уникальность нашей философской истории философии М.Ф. Быкова
усматривает в том, что, будучи относительно удалена от идеологических и политиче-
ских влияний своего времени, история философии оказалась подлинным идейным
прибежищем для оригинально мыслящих советских философов. Правда, и историко-
философской науке не удалось в полной мере избежать идеологического принужде-
ния. Оно выражалось, с одной стороны, в попытке дать интерпретацию всей предше-
ствующей истории философии как предыстории марксистско-ленинской теории (со-
ветского варианта марксизма), а с другой – в стремлении «углубить и всесторонне
развить» ленинскую критику так называемой «буржуазной философии» [Там же, 177;
Ibid., 168]. Но, вопреки этому, «...историко-философские исследования оставались
образцами взвешенного критического историко-философского анализа, соответство-
вавшего, и даже в чем-то превосходившего, лучшие стандарты мировой историко-
философской практики» [Там же, 177; Ibid., 169].
Рецепция учения К. Маркса в России в ХХ в. демонстрирует удивительные мета-
морфозы: от восприятия марксизма как универсальной матрицы философского мыш-
ления, до практически полного отрицания его философской значимости как ответ-
ственного за наше тоталитарное прошлое. Все советские философы означенного вре-
мени, так или иначе, соотносили свои концептуальные построения с марксизмом:
будь то вера в возможность «марксизма с человеческим лицом» (Э.В. Ильенков) или
попытки его усовершенствования на базе современных научно-философских изыска-
ний («субъективный материализм» И.С. Алексеева).
Как это ни парадоксально, официально-идеологический статус марксизма в каче-
стве легитимирующего философского дискурса – «истины в последней инстанции»,
обязательной к цитированию, – открывал непризрачную возможность скрыть за ча-
стоколом ритуальных цитат из трудов основоположников живую философскую
мысль. Да, необходимость лукавить – мол, мысль отнюдь не твоя, и ты лишь указал
на доселе сокрытые глубины марксистской теории, – конечно же, «подрезала кры-
лья». Но доскональное знание текстов основоположников, умение подобрать темати-
чески подходящую цитату позволяли смело нести свежие идеи на суд искушенного
в подобных уловках читателя.
Сегодня как никогда остро стоит задача очистить учение К. Маркса от огульной
критики поверхностного журнализма и политического популизма, осуществить кор-
ректную историко-философскую реконструкцию его учения, дабы вписать его в об-
щий контекст истории новоевропейской философии. Начало этой работы было по-
ложено именно во второй половине ХХ в. высоко профессиональными исследовани-
ями истории формирования марксизма Т.И . Ойзермана, реконструкцией взглядов
молодого Маркса Н.И . Лапина, углубленным анализом логики «Капитала» К. Маркса
163
в трудах А.А. Зиновьева, Э.В. Ильенкова и В.А. Вазюлина. Их философско-
методологические реконструкции убеждали современников в том, что марксизм, как и
всякое подлинно глубокое философское учение, еще не сказал своего последнего слова.
По сей день не получил должного признания вклад отечественных философов
второй половины XX века в содержательный анализ истории западной философии,
особенно философии ХХ в. Ведь история современной западной философии в то
время неизменно подавалась как «критика» – и отнюдь не в кантовском смысле это-
го слова. Тем не менее под камуфляжем идеологически-оценочных ярлыков («буржу-
азная», «империалистическая» и т.п .) скрывался глубокий анализ и скрупулезное
распутывание тончайших концептуальных узелков философских построений ведущих
западных философов, вопреки «железному занавесу» хорошо известных нашим оте-
чественным исследователям. Огромный вклад в анализ западной философии и разви-
тие профессионального философского образования внесли А.С. Богомолов,
И.С. Вдовина, Б.Т. Григорян, А.Ф. Грязнов, Т.Б . Длугач, А.Ф. Зотов, Ю.К . Мель-
виль, Н.В. Мотрошилова, Э.Ю. Соловьев, В.В. Соколов, Н.С. Юлина и многие дру-
гие. Не получили должного освещения и труды наших крупнейших историков во-
сточной философии. Их выдающийся вклад в отечественную историографию фило-
софии второй половины ХХ века, я уверена, еще ждет своих исследователей.
Завершая далеко не полный обзор философских взглядов и дискуссий второй поло-
вины ХХ века, отмечу и важные содержательно-оценочные «растождествления». Пола-
гаю, что вдумчивый анализ судьбы отечественной философии, мучительных усилий по
преодолению узких рамок догматизированного марксизма и ее последующий выход на
широкие просторы европейского культурного ландшафта не оставляют шанса на жизнь
упрощенно-уничижительным взглядам на ее развитие по траектории «от нелепого к бо-
лее нелепому». Представленный в серии «Философия России второй половины ХХ века»
концептуальный анализ развития отечественной философии этого периода никак не со-
ответствует утверждению К.А. Свясьяна, что эволюция советской философии проходила
стадии «брожения, стагнации и распада» [Там же, 64; Ibid., 82].
Впрочем, неудивительно, что оценки профессиональных достижений философии
России второй половины XX века, равно как и ее совокупного вклада в культуру это-
го периода, различны – такова уж сложность этого предмета. Но я уверена, что его
исследования только начинаются. Ведь это наша «эпоха, схваченная в мыслях», и мы
должны ее знать. И серия трудов «Философии России второй половины XX века»
вносит выдающийся вклад в это важнейшее философское предприятие.
Ссылки – References in Russian
Касавин 2008 – Касавин И.Т. Текст, дискур с, контекст. Введение в социальную эпистемоло-
гию языка. М.: Канон+, 2008.
Лекторский (ред.) 2014 – Проблемы и дискуссии в философии Росси и второй половины
XX века: соврем енный вз гляд /Под ред. В .А . Лекторского. М.: РОССПЭН, 2014.
Миронов 2018 – Миронов В.В. Маркс и Россия: сложности взаимного восприятия // Вопро-
сы философии. 2018. No 7. С . 119–130 .
Пружинин 2009 – Пружинин Б.И. Ratio serviens? Кон туры социально-исторической эписте-
мологии. М.: РОССПЭН, 2009.
Степин 2000 – Степин В.С. Теоретическо е знание (структура, историческая эволюция). М.:
Прогресс-Традиция, 2000.
Щедрина 2011 – Щедрина Т.Г. Архив эпохи: страницы истори и философии в России второй
половины ХХ века // Вопросы философии. 2011 . No 6 . С. 123–132 .
References
Kasavi n, Ilya T. (2008) Text, discourse, context. Introduction to the social epistemology of language ,
Kanon+, Moscow (In Russian).
Lektorsky, Vladislav A., Bykova, Marina F., eds. (2019) Philosophical thought in Russia in the second
half of the XXth century . A contemporary view from Russia and ab road , Bloomsbury Acad emi c, Londo n.
Lektorsky, Vladislav A., ed. (2014) Problems and discussions in the philosophy of Russia in the second
half of the XXth century. A contemporary view, ROSSP EN, Mos cow (In Russian).
164
Mironov, Vladi mir V. (2018) ‘Marx and Russia: the Difficulties of Mutual Perception’, Voprosy
Filosofii, Vol. 7 (2018), pp. 119–130 (In Russian).
Pruzhini n, Boris I. (2009) Ratio serviens? Contours of socio-historic al epistemology, ROSSPEN, Mos-
cow (In Russian).
Shchedri na, Tatiana G. (2011) ‘Archive of the Epoch: Pages of the History of Philosophy in Russia
of the Second Half of the 20th Century’, Voprosy Filosofii, Vol. 6 (2011), pp. 123 –132 (In Russian).
Stepin, Vladislav S. (2000) Theoretical knowledge (structure, historical evolution) , Progress-Traditsiia,
Moscow (In Russian).
Сведения об авторе
СМИРНОВА Наталия Михайловна –
доктор философских наук, профессор,
главный нау чный со трудник, руководитель
сектора фило софских проблем творчества
Институ та фило софии РАН
Author’s information
SMIRNOVA Natalia M. –
DSc in Philosophy, Professor, Pri ncipal Re-
searcher, Head of the sector of philosophical
problems of creativity of the Institute of Phi-
losophy RAS
165
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
О возможной интерполяции некоторых математических
примеров во «Второй аналитике» Аристотеля
© 2019 г.
А.Т . Юнусов
Институт Философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12 стр.1.
E-mail: forty-two@mail.ru
Поступила 20.08.2018
В настоящей статье я хотел бы осторожно предложить гипотезу,
направленную на решение ряда проблем интерпретации «Второй ана-
литики» Аристотеля. Эта гипотеза заключается в том, что некоторые
примеры (прежде всего – пример единицы), которыми во «Второй
аналитике» иллюстрируется концепция начал доказательного знания,
являются интерполяциями позднего по сравнению с Аристотелем ре-
дактора текста. Мои аргументы таковы. Нам известно, что неавтор-
ская редактура текстов Аристотеля вероятна. В случае «Второй анали-
тики» она вероятнее, чем в случае других трактатов. Примеры – как
раз сфера, где следует ожидать редактуры. Примеры, которыми иллю-
стрируется доктрина начал, явно противоречат друг другу. В случае
самого частого из этих примеров – примера единицы – мы имеем по
крайней мере одно место (93b24–25), относительно которого мы мо-
жем быть почти уверены в интерполяции, что дает нам дополнитель-
ное основание заподозрить и другие случаи его употребления.
Мы можем также предположить, откуда был взят пример единицы
предполагаемым редактором (88a33) и почему он так упорно им ис-
пользовался. Высказанные предположения позволяют объяснить
наличие сразу нескольких фундаментальных противоречий в имею-
щемся тексте «Второй аналитики».
Ключевые слова: античная философия, Аристотель, «Вторая аналити-
ка», первые начала, примеры, единица.
DOI: 10.31857/S004287440006055-5
Цитирование: Юнусов А.Т . О возможной интерполяции некоторых ма-
тематических примеров во «Второй аналитике» Аристотеля // Вопро-
сы философии. 2019. No 10. С. 165–177.
166
On Possible Interpolation of Certain Mathematical Examples in
Aristotle’s Posterior Analytics
© 2019 г.
Artem T. Iunusov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: forty-two@mail.ru
Received 20.08.2019
In the following article I cautiously propose a hypothesis aimed towards resolv-
ing several problems of the text of Aristotle’s Posterior Analytics. The hypothesis
is that some of the examples that are used in Posterior Analytics to illustrate its
doctrine of the first principles of demonstrative knowledge (most importantly –
the example of unit), are in fact interpolations of a later editor of the text.
My argument is the following one. We know, that in case of Aristotle’ texts
some kind of editorial work by one or several later editors is most probable.
In case of Posterior Analytics it is more probable, than in case of other texts –
if only for the fact of its exceptional convolution and proneness to contradict it-
self. Examples are exactly where we are to anticipate editorial work to be found.
The examples, with which the doctrine of the first principles are illustrated con-
tradict each other more often than not. In case of the most frequent of those
example – the example of the unit – there is at least one place (93b24-25)
of which we can be fairly sure that it was interpolated (as it both does not illus-
trate the thesis it is supposed to illustrate and breaks the continuity of the text).
This gives us additional grounds to suspect other instances of the same example.
We can also suggest from where the example of the unit was drawn by a hypo-
thetical editor and why was it used by him so stubbornly. The proposed sugges-
tions would help to explain several of the major contradictions extant in the text
of Posterior Analytics as we have it.
Key words: ancient philosophy, Aristotle, Posterior Analytics, first principles,
examples, unit.
DOI: 10.31857/S004287440006055-5
Citation: Iunusov, Artem T. (2019) “On Possible Interpolation of Certain
Mathematical Examples in Aristotle’s Posterior Analytics”, Voprosy Filosofii,
Vol. 10 (2019), pp. 165–177.
В настоящей работе я хотел бы предложить гипотезу, которая должна облегчить
чтение одного из самых запутанных произведений Аристотеля – «Второй аналитики»,
позволить взглянуть на него как на трактат, содержащий если не связную доктрину,
то по крайней мере ее зародыш. Я должен сразу заметить, что это будет в целом пло-
хая гипотеза – однако достойной рассмотрения ее делает то, что она хоть как-то пы-
тается объяснить имеющиеся в тексте противоречия, тогда как прочие подходы к
тексту «Аналитики» зачастую эти противоречия просто игнорируют. Я не могу ска-
зать, что я полностью убежден в правильности этой гипотезы: предполагаемый ею
способ обращения с текстом Аристотеля смущает и меня самого. Однако когда
остальные подходы ко «Второй аналитике» уже испробованы и прине сли мало поль-
зы, настает время и для плохих гипотез.
Суть предлагаемой гипотезы заключается в следующем: некоторые примеры, ко-
торыми во «Второй аналитике» иллюстрируется концепция начал доказательного
знания, являются интерполяциями позднего по сравнению с Аристотелем редактора
167
текста – возможно, они добавлены в ходе обработки текста во время издания Андро-
ника или еще раньше, кем-то из непосредственных преемников Аристотеля. Прежде
всего предположение касается устойчиво воспроизводящихся в тексте примеров е ди-
ницы и точки, но возможно также рассмотреть вопрос о включении редактором в
текст некоторых других математических иллюстраций.
Прежде чем изложить саму эту гипотезу во всех должных подробностях, я должен
ясно указать, что я вполне ясно понимаю характер и глубину ее недостатков. Прежде
всего, она представляет собой попытку атетезы частей текста не на основании свиде-
тельств имеющихся у нас рукописей, а на основании чисто теоретических соображе-
ний. Любые попытки изменить имеющийся текст на философских, а не филологиче-
ских основаниях – это плохо. Попытка изменить текст, потому что он не поддается
интерпретации, в каком-то смысле всегда отдает жульничеством. Немедленно стано-
вится возможен справедливый упрек в том, что производящей подобные манипуля-
ции с текстом просто недостаточно умен или грамотен, чтобы понять его так, как он
перед ним есть.
Я все это вполне понимаю. Поэтому хотя ниже я буду пытаться со всей серьезно-
стью отстоять точку зрения, что текст должен быть изменен, я должен заранее заме-
тить: я ни в коем случае не готов решительно настаивать на безоговорочной верности
произведенного в данной статье анализа; скорее я хотел бы предложить определен-
ные соображения на суд коллег – с тем, чтобы их полезность для интерпретации тек-
ста была оценена кем-то за пределами моего собственного пристрастного ума.
***
Итак, что именно в тексте «Второй аналитики» я предлагаю поставить под сомне-
ние? В целом я предлагаю отнестись с подозрением к большинству примеров, кото-
рыми проиллюстрирована доктрина начал доказательного знания в (An. Post. I .1
71a11–17; I.2 72a14–24; I.10 76a31–b22 и II.9); в настоящей статье я, однако, сосредо-
точусь прежде всего на том, чтобы попытаться доказать тезис о том, что пример еди-
ницы, которым иллюстрируется учение о таком виде начал доказательного знания,
как гипотезы в (An. Post. I .2 72a21–24; I.10 76a34–36; 76b4–5; II.9 93b24–25), а также,
возможно, в (I.1 71a15–17) не является примером самого Аристотеля, но был неудач-
но помещен в текст более поздним редактором, чтобы пояснить мысль Аристотеля.
Ниже я постараюсь привести все соображения в пользу этого тезиса, – от самых об-
щих и малообязывающих и до самых, на мой взгляд, конкретных и веских.
1. Исторические свидетельства, а также характер дошедших до нас текстов позво-
ляют нам быть почти уверенными, что корпус Аристотеля в той или иной мере под-
вергался неавторской редакторской обработке со стороны его издателей. Страбон
(XIII, I, 54) сообщает историю утраты и повторного обнаружения библиотеки Фео-
фраста, в которой находились и тексты Аристотеля, и связывает издательскую и ре-
дакторскую работы над корпусом текстов Аристотеля с именами Апелликона и затем
Тиранниона; Плутарх (Sulla, 26), повторяя в общих чертах историю Страбона, присо-
вокупляет к ней имя Андроника Родосского и, кажется, возлагает некоторые изда-
тельские функции также и на него. Из прочих релевантных в данном вопросе свиде-
тельств стоит упомянуть замечание Порфирия о том, что Андроник разделили сочи-
нения Аристотеля и Феофраста на отдельные трактаты (Vita Plotini, 24, 9–11)1. У нас
есть существенные основания сомневаться во многих деталях передаваемой этими
авторами истории2, и в целом новаторство издания Андроника, то есть объем введен-
ного в этом издании в обращение нового материала, не стоит, как это часто делается,
преувеличивать3, но костяк истории (новое издание текстов Аристотеля на основании
вновь найденных и отредактированных текстов его собственной библиотеки), судя по
всему, вполне заслуживает доверия.
Даже если допустить, что работа Тиранниона и Андроника над текстом была ми-
нимальной4, это не снимает проблемы его существенной редакторской обработки, но
только перемещает фокус нашего внимания с поздних редакторов на более ранних:
на первых перипатетиков, непосредственных наследников Аристотеля в его школе.
168
Многие исследователи указывают на существенную роль ранней перипатетической
традиции в формировании известных нам текстов Аристотеля. Я не готов согласиться
с экстремальными тезисами Цюрхера [Zürcher 1952], который считает, что весь до-
шедший до нас аристотелевский корпус принадлежит Феофрасту, а философию Ари-
стотеля следует искать в его утраченных диалогах. И даже, например, выводы
Грэйффа [Grayeff 1956, 110–120; Grayeff 1974, 77–85], предполагающего, что в любом
произведении корпуса мы можем обнаружить и различить наряду с рукой Аристотеля
три-четыре слоя перипатетических дискуссий по поводу тезисов изначального текста,
кажутся мне слишком сильными. Скорее, я хотел бы твердо, но осторожно констати-
ровать роль раннего Ликея в редакторской обработке записей учителя. Симпликий
сообщает нам о корреспонденции между Евдемом и Феофрастом, касающейся во-
проса о правильном варианте текста определенного отрывка из «Физики» Аристотеля
(In. Phys. 923.7–16): обсуждение этого вопроса вполне можно расценивать как кос-
венное свидетельство того, что оба ученика Аристотеля были вовлечены в процедуру
редакторского διόρθωσις’а текстов учителя. Относительно Евдема у нас также есть
свидетельство традиции, связывающей с его именем редактирование текста «Метафи-
зики»: псевдо-Александр5, комментируя Z «Метафизики», замечает, что ему кажется,
что два определенных пассажа разделил в ходе свой редактуры текста Евдем (In Me-
taph. 515.19–22). Асклепий в куда более сомнительном сообщении о судьбе текста
«Метафизики» (In Metaph. 4.9) тем не менее также связывает его историю с именем
Евдема6. Некоторые исследователи7 прямо приписывают последнему редакцию «Ме-
тафизики» в X книгах, упоминание которой встречается в каталогах сочинений Ари-
стотеля. Название «Евдемова этика» также может отсылать к редакторской роли Ев-
дема в обработке этого текста.
Все указанное относится к свидетельствам доксографической и комментаторской
традиции. Однако в нашем распоряжении есть и более сильные свидетельства в
пользу тезиса о неавторском редактировании текстов Аристотеля – свидетельства
рукописной традиции. Самым серьезным и хорошо исследованным является, конеч-
но, случай «Метафизики», где две имеющиеся у нас ветви традиции (обозначаемые
вслед за Харлфингером [Harlfinger 1979, 7] как α-традиция β-традиция), вне всякого
сомнения представляют собой именно две разные редакции текста8. В случае «Анали-
тик» имеющаяся в нашем распоряжении рукописная традиция, насколько мне из-
вестно, не знает подобного разделения 9 . Однако случая «Метафизики» достаточно
для того, чтобы показать принципиальную возможность достаточно значительного
редакторского вмешательства в текст Аристотеля.
В целом мы не можем быть вполне уверены, когда и при каких обстоятельствах «Вто-
рая аналитика» стала тем текстом, который мы сегодня имеем перед собой. Логические
трактаты Аристотеля могли принять вид, подобный сегодняшнему, уже в руках непо-
средственных наследников Аристотеля10 – Евдема, Феофраста или, например, Нелея11, –
могли быть изданы в нынешнем виде Тираннионом и Андроником, а могли подверг-
нуться и еще более поздней редакторской обработке12. Но и в первом, и во втором случае
сомневаться в некоторой редакторской обработке текста, вообще-то едва ли предназна-
чавшегося изначально для широкой публикации, приходится едва ли.
2. Учитывая, что «Вторая аналитика», по общему признаю, является одним из са-
мых запутанных и противоречивых текстов корпуса, разумно предположить, что по
крайней мере часть вины здесь лежит именно на издателе, подобравшем фрагменты,
составляющие в настоящее время ее текст, скомпоновавшем их друг с другом, и воз-
можно, дополнившем их в меру своего разумения. Все это далеко от достоверного,
и само по себе, в отдельности от других, это соображение не обладает равным счетом
никакой реальной силой. Но все же это возможно, и в совокупности с другими аргу-
ментами эта возможность должна быть со всей серьезностью учтена.
3. Если дополнения текста действительно происходили, то примеры являются од-
ним из тех элементов текста, в случае которых их естественнее всего ожидать: в кон-
це концов, пример для редактора – один из самых одновременно удобных и безопас-
ных способов улучшить текст. Иллюстрация теоретического тезиса примером менее
169
всего искажает текст. Пример легче всего вставить в уже имеющееся рассуждение без
нарушения его целостности. Вместе с тем пример может естественным образом казать-
ся чрезвычайно нужным при отсутствии для читателя полной ясности, о чем идет речь
в конкретном месте. При этом, дополняя текст примером, редактор может не опасаться
искажения мысли изначального текста в случае, если он хорошо понимает то место,
для которого он предлагает пример; одновременно нетрудно представить себе ситуа-
цию, в которой редактор дополняет текст примером, поскольку ему кажется, что он
хорошо его понимает, тогда как в действительности это не так – что приводит к фор-
мированию противоречий в тексте, получившимся в итоге подобной интерполяции
примера. Нечто подобное, я полагаю, действительно может иметь место в случае ис-
пользования единицы в качестве примера в указанных местах «Второй аналитики».
Нам даже известны случаи подобной интерполяции примеров в текст Аристотеля –
так, в «Метафизике» (Metaph. 981а11–12) медицинские примеры, имеющиеся в других
кодексах, отсутствуют в кодексе Ab (редакция β) – Йегер прямо говорит об интерполя-
ции в тексте иной редакции, хотя и предполагает, что это могла быть поздняя вставка
самого Аристотеля [Jaeger 1957, X–XI]13.
4. Время перейти от общих соображений к доводам, связанным с текстом и уче-
нием именно «Второй аналитики». Здесь я снова пойду от более общих и умозри-
тельных аргументов к более конкретным и текстуально подкрепленным.
Наиболее теоретический и умозрительный из аргументов, который следует рас-
сматривать как рамку для остальных доводов, заключается в том, что атетеза приме-
ров с единицей может позволить нам решить одну из самых серьезных проблем ин-
терпретации «Второй аналитики» – проблему природы такого вида начал доказатель-
ного знания, как «гипотезы».
У меня нет в рамках данной статьи возможности обсуждать эту проблему подроб-
но. Однако кратко можно сказать следующее. Одним из основных тезисов первой
книги «Второй аналитики» является утверждение, что всякое умозаключение, которое
можно в точном смысле назвать доказательством, исходит из так называемых «начал»
(ἀρχαί), то есть посылок, которые в свою очередь не могут быть доказаны и должны
быть постулированы (AnPost I.2 71b 16ff.) . Аристотель выделяет несколько типов та-
ких начал: акисомы, или общие для нескольких наук начала; начала, постулирующие
τί ἐστι, то есть что нечто есть (или определения); начала, постулирующие ὅτι ἔστι, что
нечто есть (или гипотезы) (I.2 72a 14ff.) . С последними и связана наша проблема.
Коротко говоря, она заключается в том, что существует две несовместимые друг с
другом интерпретации той функции, которую этот вид начал выполняет в том рецеп-
те построения доказательного знания, который предлагает Аристотель. Согласно од-
ной интерпретации, гипотезы имеют экзистенциальную природу – то есть являются
пропозициями, которые постулируют существование некоторых вещей (например,
«единица существует»). Согласно другой, их природа предикативна – то есть они
являются пропозициями, приписывающими предметам свойства (допустим, «единица
равна любой другой единице»). Во «Второй аналитике» можно найти свидетельства в
пользу и той, и другой интерпретации, однако они не могут быть верными вместе.
В других своих работах (прежде всего [Юнусов 2018]), я показал, что вопреки види-
мости, подавляющее большинство свидетельств на стороне пропозициональной интер-
претации. В действительности, насколько я могу судить, единственным серьезным сви-
детельством в пользу экзистенциальной интерпретации гипотез являются те примеры,
которые приводятся для иллюстрации гипотез во «Второй аналитике» (An. Post. I .1
71a15–17; I.2 72a21–24; I.10 76a34–36; 76b4–5; II.9 93b24–25). И все говорит о том, что
это очень серьезное свидетельство – в конце концов, откуда, ежели не из примеров,
мы должны понимать, что имеет в виду под тем или иным понятием автор. Однако
если внимательно присмотреться к этим примерам, то можно заметить одну их важную
особенность: почти каждый из них противоречит в чем-то почти каждому другому;
теоретическая часть того, что должны иллюстрировать примеры, при этом зачастую
совпадает. Это дает возможность предположить, что на изначальный костяк теоретиче-
ских высказываний были неудачно нанизаны более поздние примеры.
170
5. Рассмотрим некоторые случаи.
В (An. Post. I .1 71a11–17) Аристотель говорит, что для одних из тех вещей, кото-
рые нужно знать заранее, чтобы приступить к познанию (предположительно, речь о
началах доказательного знания), нужно постулировать, что они есть (τί ἐστι), или же
что они значат (τί σημαίνει); для других – что они есть (ὅτι ἔστι); для третьих – и то,
и другое. Похожие (хотя и со своими особенностями) теоретические высказывания
можно найти в (I.2 72a18–21; I.10 76a32–34; 76b3–11; 11–22). Однако, когда дело
доходит до примеров, создается ощущение полного хаоса.
а) В (76b20–21) один из стандартных для Аристотеля примеров «аксиом», или об-
щих начал знания, – «если отнять от равных количеств равные количества, то оста-
нутся равные количества» – использован как иллюстрация того, для чего нужно
знать значение: здесь говорится, что если мы и не постулируем значение для таких
вещей, как этот принцип, то это потому что оно нам и так известно. Последнее явно
предполагает, что мы знаем и пониманием это значение. Вместе с тем в (71a13–14)
сказано, что для другого стандартного примера аксиом, принципа противоречия,
нужно знать ὅτι ἔστι, и только его, то есть, поскольку мы имеем здесь дело с трихо-
томией – 1) нужно знать ὅτι ἔστι 2) нужно знать значение 3) нужно и то, и другое, –
и принцип противоречия используется в качестве примера для (1) – то для него как
раз не нужно понимать его значение. Таким образом, в рамках одного примера мы
имеем утверждение, что в случае аксиом нужно понимать их значение, тогда как в
рамках другого – прямо противоположное утверждение.
б) В (76b3, 6–7, 11, 15) сказано, что тем, для чего принимается только значение,
всегда являются сущностные свойства (καθ́αὑτὰ ὑπάρχοντα/καθ́αὑτὰ πάθη), что под-
креплено примерами таких свойств в (7–11). Однако в (71a14–15) и (76a35) в качестве
примера вещей, для которых нужно знать или постулировать только значение, указы-
вается треугольник. Треугольник ни в каком смысле не является свойством, при всей
широте трактовки понятий ὑπάρχοντα и πάθη, которую Аристотель себе позволяет. Ис-
пользование треугольника в качестве примера, несмотря на прозрачную аналогию с
«Началами» Евклида, противоречит тому, что Аристотель говорит в (76b3–15).
в) Тот же самый пример, что в (а), пример принципа противоречия как того, для
чего нужно знать его ὅτι ἔστι (76b20–21), явно подразумевает, что под «ὅτι ἔστι» здесь
подразумевается истинность, то есть Аристотель пользуется здесь тем смыслом глаго-
ла εἶναι, который он сам в другом месте обозначает «бытие в смысле истины»
(Metaph. E .2 1026a33–35; 4 1027b17–1028a2).
(На нечто подобное намекают, кажется, и примеры в (76b7–11): Аристотель, опи-
сывая отношение элементов-начал доказательного знания к производным его эле-
ментам, говорит о том, что нам нужно доказать ὅτι ἔστι для всех производных частей,
то есть для всех сущностных свойств, значение которых мы приняли: естественнее
понимать это в том смысле, что нам нужно доказать истинность всех этих свойств
относительно тех предметов, свойствами которых они являются. Если мы принимаем
иную трактовку – нам нужно доказать существование этих свойств – то, помимо
того что не очень понятно, как это сделать, выходит, что Аристотель, объясняя, как
построить доказательство сущностных свойств, почему-то очень заинтересован ука-
зать, что мы должны вывести их существование, но нигде не говорит, что мы должны
доказать, собственно, их принадлежность рассматриваемым предметам. Однако эти
соображения куда более шаткие, чем совершенно очевидный пример в (76b20–21)).
Вместе с тем, другие примеры того, для чего нужно постулировать ὅτι ἔστι, и
прежде всего пример единицы в (71a15–17; 72a21–24; 76a34–36; 76b4–5), очевидно,
скорее призваны иллюстрировать понимание оборота «ὅτι ἔστι» в смысле существова-
ния – прежде всего, потому что совершенно неясно, что могло бы значить постули-
рование истинности «единицы» или, например, «точек и линий» (76b5) «величины»
(76a36) и «числа» (76b18). Таким образом, примеры дают очевидно отличные и
несовместимые друг с другом толкования оборота «ὅτι ἔστι».
г) Но даже если брать только последнюю группу примеров того, для чего нужно
постулировать ὅτι ἔστι, то есть примеры единицы, числа (как начал арифметики),
171
точки, линии и величины (как начал геометрии) то они очень плохо уживаются друг
с другом.
В (76a34–36) буквально сказано, что началами, для которых нужно постулировать
ὅτι ἔστι, являются единица и величина (вероятно, первая – для арифметики, вторая –
для геометрии), а для всего остального его нужно доказывать. А это исключает нали-
чие каких бы то ни было других начал – в том числе упоминающийся ниже точек,
линий и т.д .
Впрочем, эту проблему вполне можно списать на неаккуратность выражения Ари-
стотеля. Труднее это сделать с другой нестыковкой – с тем фактом, что среди перечис-
ленных примеров начал выделяются две разнородные группы: с одной стороны, наибо-
лее универсальные родовые понятия (число, величина), и с другой, наиболее партику-
лярные виды: точки, линии, единицы. Так что же из этого является тем видом начал,
о которых идет речь? Дело усугубляется тем, что в 76b11–22 прямо несколько раз ска-
зано, что ὅτι ἔστι постулируется только о роде того знания, доказательство которого
будет строится (в качестве примера там приводится число для арифметики), что явно
исключает все приводившиеся до сих пор примеры единиц, точек и линий.
Это основные несоответствия, которые мы можем наблюдать, если внимательно
изучим те примеры, которыми доктрина начал иллюстрируется в I книге «Второй
аналитики». Я полагаю, что в совокупности эти несоответствия дают основание для
того, чтобы серьезно заподозрить указанные примеры.
6. Следует заметить, что не все указанные в предыдущем разделе противоречия
непосредственно касаются именно примера единицы, который является мой основ-
ной мишенью в рамках данной работы. Так почему же я концентрируюсь именно на
нем? Это связано с тем, что для него, я полагаю, у нас есть дополнительные, и куда
более существенные, чем в случае любого другого примера, основания, чтобы запо-
дозрить его неподлинность. А именно, в случае по крайней мере одного из употреб-
лений единицы в качестве примера, иллюстрирующего доктрину начал, я практиче-
ски абсолютно уверен, что мы имеем дело с интерполяцией – поскольку этот пример
вопиюще не соответствует тому тезису, который он должен иллюстрировать. Речь
идет о 9 главе II книги «Второй аналитики», которая занимает всего семь строк и
которую поэтому можно разобрать вполне подробно, предварительно приведя ее
здесь целиком (An. Post. II .9 93b21–28):
У одних вещей имеется некая отличная <от них самих> причина, а у
других – нет. Таким образом, ясно, что и в случае «что-такое?» <то есть
определений вещей> – одни из них являются неопосредованными и пред-
ставляют собой начала, для которых нужно постулировать (либо сделать
ясным иным способом) и что они есть, и что они есть (именно так делает
арифметик: ведь он постулирует и что есть единица, и что она есть), тогда
как в случае тех <из определений>, у которых имеется средний термин и у
которых есть некоторая отличная <от них самих> причина их сущности –
их можно, как мы <только что> сказали, продемонстрировать через доказа-
тельство, не доказывая, однако, <их> “что-такое?"»14.
Для понимания того, о чем здесь идет речь, нужно кратко сказать следующее. Как
уже было сказано, одним из основных тезисов первой книги «Второй аналитики»
является утверждение, что всякое умозаключение, которое можно в точном смысле
назвать доказательством, исходит из «начал», посылок, которые в свою очередь не
могут быть доказаны и должны быть постулированы (An Post. I .2 71b 16ff.) . Учение об
указанных видах начал пронизывает собой всю первую книгу «Второй аналитики» и
к началу второй книги уже является твердо установленным. Первая половина второй
книги «Второй аналитики» (главы 1–10) задается странным в контексте указанной
доктрины начал вопросом: возможно ли некоторое доказательство одного из указан-
ных видов начал – а именно определений 15? Опустим за неимением места вопрос
о том, почему Аристотель вообще решает заняться подобной проблемой. Важно, что
после апорематического обсуждения вопроса о возможности некоего доказательства
определения (главы 3–7) Аристотель дает в главе 8 (и повторяет в главе 10) частично
172
положительный ответ на изначальный вопрос: для некоторых определений возможно
нечто вроде их доказательства – их как бы доказательство (οἷον ἀπόδειξις – II .10 94a 1–
2), не являющееся доказательством в строгом смысле, однако обладающее некоторыми
чертами доказательства – в частности, организованное наподобие силлогизма (являю-
щееся «как бы» силлогизмом, II.8 93a15), то есть имеющее посылки, заключение, три
термина, «доказывающееся» через средний термин и т.д. После главы, в которой изла-
гается это странное, запутанное в деталях, и все же, на мой взгляд, достаточно ясное в
общих чертах решение, и следует приведенный выше текст главы 9.
Доктрина, излагаемая в данной главе, сама по себе является достаточно странной,
однако полностью согласуется с тем, что Аристотель говорил непосредственно выше,
в ΙΙ.8. Общий смысл этой главы, очевидно, таков: если уж мы решили, что одни опре-
деления можно «доказывать» (поскольку у них есть отличная от них самих причина –
то есть средний термин, ср. ΙΙ .8 93a3–9), а другие нельзя, то тогда те, которые невоз-
можно доказывать, должны быть в свою очередь в некотором смысле «началами»
нашего «как бы доказательства» для тех, которые «доказывать» можно (тогда как по-
следние будут его заключениями, II.10 94a7–9) – а значит, мы, вероятно, должны про-
извести в их отношении те действия, которые мы производим в отношении начал до-
казательства в собственном смысле: а именно, постулировать что они есть и что они
есть. Здесь есть как минимум два очень странных момента. Во-первых, весьма причуд-
ливым для учения «Второй аналитики» является тезис, что какие-то определения мож-
но доказывать. Во-вторых, следуя за мыслью Аристотеля, мы приходим к тому, что он
предлагает постулировать определения для некоторых определений, или точнее, «что-
есть?» для некоторых «что-есть?» (тех, которые нельзя «как бы» доказывать) – при
этом неясно ни что под этим подразумевается, ни как это должно выглядеть. Однако
обе указанные странности весьма надежно вытекают из самой логики текста. Тезис о
«доказуемости» некоторых определений – это именно то, что Аристотель отстаивал
непосредственно выше, и его появление здесь абсолютно ожидаемо. Утверждение о
необходимости постулировать определения для некоторых определений, вне всякого
сомнения, малопонятно, но опять же абсолютно ясна логика, в соответствии с которой
Аристотель к нему приходит: если у нас есть «как бы» доказательство одного из видов
начал (определений), то у этого «как бы» доказательства должны быть, в свою очередь
свои «как бы» начала; далее, если мы строим наше «как бы» доказательство по анало-
гии с доказательством в собственном смысле, то и его «как бы» начала мы должны
себе представлять по аналогии с началами в собственном смысле – а значит, мы долж-
ны постулировать для этих начал, которые сами являются указаниями на «что-есть?»,
именно то, что мы постулируем в случае начал в прямом смысле (I.2 72a 14ff.): и что
они есть, и что они есть (как бы это ни выглядело).
Возможно, именно странность теории, описываемой в данной главе, вкупе с чрез-
вычайной краткостью является причиной, по которой она почти полностью обойдена
вниманием комментаторов. Мне не известно ни одного ее толкового обсуждения:
исследователи либо вовсе ее не комментируют, либо ограничиваются поверхностным
комментарием, либо – чаще всего – ассимилируют высказанные в ней тезисы с
обычными для учения «Второй аналитики», полностью игнорируя весьма серьезную
проблему. Эта проблема заключается в том, что приводимый пример не иллюстриру-
ет тот тезис, который он должен иллюстрировать, и только запутывает ход мысли
Аристотеля в этом пассаже. В самом деле, Аристотель говорит, что мы должны по-
стулировать καὶ εἶναι καὶ τί ἐστιν (т.е . что они есть и что они есть) для определений,
тогда как в приводимом далее примере εἶναι καὶ τί ἐστιν постулируется для единицы,
которая, разумеется, сама по себе ни в каком виде не является определением. Я пола-
гаю, что это указывает на то, что автор, поместивший в текст данный пример, плохо
понимал тезис, который он пытался проиллюстрировать, – что указывает на то,
что этим автором не был сам Аристотель.
Рассмотрим сам этот пример подробнее. Во-первых, едва ли можно сомневаться в
том, что имеющийся текст предлагает этот пример не как иллюстрацию того, как для
чего-то постулируется εἶναι καὶ τί ἐστιν в принципе (что в какой-то мере отводило бы
173
от него подозрения), но именно как прямую иллюстрацию предшествующего тези-
са – на это прежде всего надежно указывают слова, что арифметик поступает «именно
так» (ὅπερ); кроме того, общая иллюстрация тезиса о том, что именно постулируется
для начал, была бы просто неуместна в данном контексте. Во-вторых, следует обра-
тить внимание на то, что текст этого примера грамматически никак не связан с
окружающим его текстом – Беккер и Вайц [Waitz 1846, ΙΙ, 60] даже помещают его в
своих изданиях в отдельный период, тогда как Росс [Ross 1949] выносит его в скобки.
В-третьих, текст этого примера не просто не связан с окружающим текстом, но пря-
мо разрывает относительно связный период, будучи помещен в его середину – осо -
бенно это заметно опять же в изданиях Беккера и Вайца (последний даже особо от-
мечает [Waitz 1846, ΙΙ, 397] грамматическую неуклюжесть периода), где «τῶν τί ἐστι τὰ
μὲν ἄμεσα...» просто подвисает в воздухе, будучи прервано периодом с этим примером
и не найдя логического завершения ни в каком подобии «τὰ δ’ ἔχοντα μέσα...» вплоть
до следующего периода. Все это вкупе с тем принципиальным фактом, что этот при-
мер не является примером того, что он должен иллюстрировать, я полагаю, выдает в
нем интерполяцию. Если же это так, это увеличивает вероятность и того, что в дру-
гих местах, где мы встречаем этот пример для иллюстрации схожих доктрин, он яв-
ляется интерполяцией (хотя и не гарантирует этого полностью).
7. Полноценное объяснение проблем, которые текст «Второй аналитики» демон-
стрирует в области примеров, иллюстрирующих доктрину начал доказательного зна-
ния, потребовало бы, во-первых, не ограничиваться только примером единицы (раз
уж я утверждаю, что проблема не только в нем), а во-вторых, объяснить мотивы ре-
дактора, поместившего эти примеры на те места, на которых они обнаруживаются.
К сожалению, для всего этого у меня просто не остается места. Однако некоторые
предположения здесь я все же могу высказать – начиная с предположения о том,
почему предполагаемый интерполятор решил использовать с таким упорством имен-
но пример единицы, который встречается при объяснении учения о началах чаще,
чем какая-либо иная иллюстрация.
Я могу предположить, что причиной тому то, что этот пример употребляется в
контексте связанного с началами обсуждения в 32 главе Ι книги (88a30–34). В этой
главе Аристотель пытается показать, что одни и те же начала не могут использовать-
ся для всех наук, и в каждой из наук должны быть в том числе и свои уникальные
начала. Один из аргументов здесь заключается в том, что некоторые начала принад-
лежат к разным родам и одни из них «не подходят» (οὐκ ἐφαρμόττουσιν) к другим,
подобно тому так единицы не подходят к точкам, потому что у первых нет простран-
ственного положения, а у вторых оно есть. Это замечание могло быть расценено как
предлагающее именно пример начал доказательного знания, точнее, даже два приме-
ра – единицы и точки (именно эти два примера обнаруживаются в (76b4–5); здесь к
ним также прибавлен пример линии, что вполне разумно, учитывая общеантичный
взгляд, что линии не составляются из точек); если допустить, что у нашего гипотети-
ческого редактора не было других примеров начал, от которых он мог отталкиваться
(за исключением, может быть, 76b18), то неудивительно, что во всех прочих местах,
где иллюстрируется доктрина начал доказательного знания, мы встречаем именно
пример единицы – повсеместно использовать засвидетельствованный в тексте и, та-
ким образом, надежный, пример начала и отталкиваться далее уже от него в таком
случае было бы по-своему вполне разумно.
Вместе с тем, я полагаю, что указанный пример вовсе не является примером в
собственном смысле начал: Аристотель говорит, что начала в разных родах «не под-
ходят», или точнее, «не могут быть присоединены» (οὐκ ἐφαρμόττουσιν) друг к другу,
«подобно тому как единицы не могут быть присоединены к точкам» ( οἷον αἱ μονάδες
ταῖς στιγμαῖς οὐκ ἐφαρμόττουσιν) – вполне вероятно, что это вообще не пример того,
как одни начала не могут быть присоединены к другим, но в целом иллюстрация
того, как одни вещи не могут присоединяться к другим – то есть мы имеем здесь
дело не с примером (единицы и точки – это не подходящие друг к другу начала),
174
а с аналогией (некоторые начала не могут соприкасаться так же, как не могут сопри-
касаться единицы и точки).
Если все действительно так – то есть наш гипотетический редактор использовал
пример единицы как начала доказательного знания, поскольку обнаружил этот при-
мер в I.32; при этом в действительности в I.32 единицы и точки приводятся не в ка-
честве примера, а в качестве аналогии – то это дает возможность частично разрешить
еще одну старую проблему «Второй аналитики». Дело в том, что в тексте этого трак-
тата «началами» доказательства называются то посылки, то термины – самым ярким
примером последнего является как раз уже обсуждавшаяся глава I.10. Возможно,
именно в упоминании единиц и точек в I.32, не предполагавшемся в качестве при-
мера начал, но понятом так редактором, следует искать причину этого расхождения.
Если из I.32 был сделан вывод, что единица и точка – это начала, то из этого вывода
следует, что начала – это термины. Если далее примеры, иллюстрирующие доктрину
начал, прилагались редактором на основании этого представления, то неудивительно,
что они имеют такой характер. Характерно, что понимание начал как терминов мож-
но в основном почерпнуть именно из примеров. В 71a11–17 и в 76b 2–22 не говорит-
ся прямо, что тем, о чем идет речь, являются именно начала. 76a31–36, где прямо
говорится, что речь о началах, представление о том, что речь идет о началах -
терминах, следует исключительно из примеров; если мы предположим, что все, что
следует после «οἷον» в b34 (то есть весь пример) является интерполяцией, то имею-
щийся текст не просто совместим с пониманием начал как посылок, но даже пред-
полагает скорее именно такое понимание: здесь говорится, что значение – как начал,
так и того, что из них следует, – нужно постулировать; а «ὅτι ἔστι» (который в этом
случае легко интерпретировать как «факт истинности») для начал – постулировать,
а для остального – доказать. 72a14–24, в свою очередь, прямо предполагает понима-
ние начал как посылок.
***
Итак, вот мои аргументы. Нам известно, что неавторская редактура текстов Ари-
стотеля вероятна. В случае «Второй аналитики» она вероятнее, чем в случае других
трактатов. Примеры – как раз сфера, где следует ожидать редактуры. Примеры, ко-
торыми иллюстрируется доктрина начал, явно противоречат друг другу. В случае са-
мого частого из этих примеров – примера единицы – мы имеем по крайней мере
одно место, в случае которого можем быть почти уверены в интерполяции, что дает
нам дополнительное основание заподозрить и другие случаи его употребления. Мы
можем также предположить, откуда был взят пример единицы предполагаемым ре-
дактором и почему он так упорно им использовался.
Это рассуждение далеко от идеального. Помимо того, что оно слишком легко-
мысленно обходится с целостностью текста, оно не объясняет некоторые вещи: отку-
да взялись примеры «числа» и «величины» как того, для чего нужно постулировать
существование? Если в (76b3–22) речь идет не о началах, то о чем? В целом какие из
примеров в разбиравшихся местах следует считать подлинными, а какие нет и поче-
му? В часть из этих вопросов я не имею возможности вдаваться за отсутствием места,
часть из них я не решил их для себя пока и сам. Но общий подход кажется мне за-
служивающим внимания и в имеющихся чертах.
Примечани я
1 Собрание большин ства релеван тных свидетель ств в ан глийском переводе см.: [Sharples
2010, 24 –28].
2 Еще Целлер [Zeller 1879, 146–153] достаточно убедительно показал доступность как мини-
мум философам Перипата большинства трудов Аристотеля еще в конце I II века до н.э., то есть
задолго до издания Андроника. Насчет их доступности стоикам и эпикурейцам см. перечисле-
ние античных исто чников и рабо т второй половины XX в.: [Lord 1986, 140]; наиболее свежую,
хотя и очень краткую формулировку этой позиции с перечислением новейших источнико в
можно найти в работе [Lefebvre 2016, 44]. Ко второй половине XX в. уже не было ни одного
исследователя, который бы полностью или даже по большей части верил в историю полной
175
утраты и последующего чудесного обретения акроам ати ческих текстов Аристотеля. Вопрос
только в степени недоверия, которая варьируется от утверждений, что в указанных сообщениях
(прежде всего, у Страбона) в той или иной мере преувеличен на значимость найденных у потом-
ков Нелея в Скепсисе книг (например: [Grayeff 1956, 105 –110; Tarán 1981, 723–731]) до утвер-
ждения, что вся и стория с путешествиями библиотеки – целиком выдумка Апелликона, у кото-
рого, согласно нашим скудным свед ениям о нем, действительно имелась определенная склон-
ность к аван тюр ам и подлогу [Gottschalk 1972, 337 –341]. Новые аргументы в пользу аутентично-
сти истории об утрате (по крайней мере, частичной) и обретении библиотеки Аристотеля см.:
[Primavesi 2007]; впрочем, даже если Примавези прав насчет того, что некоторые книги Аристо-
теля не н аходились в обращении в эллини стический период (а его тезис основывается на мно-
жестве предположений, которые раскритиковал Барнс и которые сам Примавези никак не под-
крепляет: что каталог Диогена – это опись собрания Александрийской библиотеки; что мы мо-
жем быть уверены в том, что «римское издание» I в. до н.э. имело место и пр.), то, по его соб-
ственному мнению, это верно то лько в случае тех книг, ко торые отсутствуют в каталоге Диоген а
Лаэр тско го, тогд а как «Ан алитики», которые будут интересо вать нас зд есь в пер вую очередь,
к таковым не отно сятся – см . прим. 10.
3 Аргументы в пользу скептической оцен ки роли Андроника в транс ляции текста корпуса
Аристотеля см., прежде всего, в работе [Barnes 1997, 21 –66].
4 Имеющийся перед н ами текст, как о тмечал еще Целлер [Zeller 1879, 138–141], совсем н е
вяжется со свидетель ством Страбона о си льно поеденных червями книгах, в ко торых Апеллико н
произвольно заполнял лакуны.
5 Скорее всего, Михаил Эфесский.
6 Впрочем, не все согласны с надежностью и даже автор итетно стью этой информации;
см.: [Menn 1995].
7 Прежде всего, Йегер [Jaeger 1912, 174, 180; Jaeger 1957, 1].
8 См.: [Primavesi 2012, 409 ff.] . Главные представители традици и α – кодексы E и J; традиции
β – кодекс Ab.
9 Я ориентируюсь прежде всего на и сследование [Williams 1984].
10 В пользу этого указывает, что уже в каталоге Диоген а Лаэр тско го, который Моро, на мой
взгляд, весьма убедительно воз водит к раннему Ликею [Moraux 1951, 237–247], присутствуют
бок о бок «Первая ан алитика» и «Бо льшая вторая аналитика»; несмо тря на различие в ко личе-
стве кни г в случае первой и в деталях заголо вка в случае второй мы можем быть почти полно-
стью уверен ы, что это именно наши «Аналитики» ([Moraux 1951, 87–88], pace [Barnes 1997, 42–
43], который, утвержд ая, что наша An. Pr. не могла бы быть р азделена н а девять кни г, не приво-
дит для подкрепления этого тезиса никаких доводов, и приводит весьма слабый довод в поль зу
отличия произведения в спи ске Диогена о т нашей An. Po st.) . Дополнительными свидетельствами
в пользу раннего происхождения «Ан алитик» как текста является очевидное зн акомство элли-
нистических школ с логической доктриной Перипата [Barnes 1997, 14 –15; Frede 2000, 774 –776;
Bénatouïl 2016, 63–66; Verde 2016, 41 –43] и в особенности прямое упоминание «Анали тик», судя
по всему, самим Эпикуром (либо эпикурейцами первого поколения) в одном из писем, сохра-
ненных для н ас Филодемом в своей книге «О тех, кто называет себя зн атоками книг» [PHerc.
1005/862 = Arrighetti 1973 fr. 127].
Следует заметить, однако, что даже если «Ан али тики» были в целом и звестн ы и читали сь в
античности задолго до издания Андроника (если мы все же признаем, что родосцу можно при-
писывать некое о тдельное издание), ничто не гаран тирует, что перед эллинистическими читате-
лями был в точности тот ж е текст, что вошел в издание А ндроника: вместе с иным делением н а
книги издатель мог привнести определенные изменения и в сам текст. В тех же случаях, кото-
рые я обсуждаю в д анной статье, речь идет о кр айне незначительн ых с точки зрения объем а
текста, но имеющих весьма далеко идущие теоретические последствия интерполяциях.
11 Готтшальк [Gotts chalk 1972, 335 –337], анализируя завещания первых четырех схолархов
Перипата, высказывает предположение, что Феофраст оставил свою библиотеку (в которую, по
общему свидетельству всех античных источников, входила и приобретенная им от Никомаха
библио тека Аристотеля) Нелею именно потому, что тот, будучи последним из живых перипате-
тиков, учившим ся еще непоср едственно у Аристотеля, оказ ался един ственн ым, кто был в состо-
янии разобрать архив и отдели ть рабо ты Аристотеля от рабо т самого Феофраста – предположи-
тельно с целью их последующего издания. Готтшальк, впрочем, полагает, что Нелей умер преж-
де, чем успел завершить эту работу.
12 [Pri mavesi 2012] считает, что β-редакция « Метафизики» составлялась с использованием
комментария Александра Афродисийкого, и таким образом, не могла появиться ранее III в. н .э.
Если он прав, то весьма активное ред актирование т екстов Аристотеля продолжалось в том чи сле
спустя несколько веко в после издания Андроника (опять же, если таково е вообще имело место).
13 [Primavesi 2012, 436–437] считает, что здесь мы имеем дело не с интерполяцией со сторо-
ны α-версии, но, напротив, удалением части текста редактором β-версии. В данном случае
(в отличие от бо льшинств а прочих) его аргументы, однако, кажутся мн е весьма слабыми.
176
А именно, Примавези считает, что редактор β-текста правил его, основываясь н а тексте ком-
ментария Александра (и подтверждает это многочисленными примерами); в парафразе же Алек-
сандра на это место этот пример опущен – что вкупе с небольшой грамматической ошибкой,
делающей пример в том виде, в каком он дошел до нас в α-версии текста, трудночитаемым,
и заставило β-редактора его исключить. Однако, во -первых, грамматическая н еловко сть, содер-
жащаяся в этом месте текста, легко устр аняется простым исключением частицы ἤ (что сам
Примавези и делает), и слож но представить себе редактора, который предложил бы в этом ме-
сте таку ю радикальную правку, как исключение целой фразы, там, где достаточно исключени я
одной буквы; а во-вторых, сам же Примавези указывает, что, хотя Александр не обсужд ает
в своем парафразе указан ного примера, он явно го ворит, что Аристотель приводит пример – так
что было бы стран но ожидать от β-редактора атетировать этот пример, если он действительн о
основывался в сво ей редакции на свидетель ствах коммен тари я Александра (Примавези предпо-
лагает, что β-ред актор не з аметил этого свидетель ства Александра – и указывает что ту же
ошибку совершил даж е сам Йегер, однако эта ссылка на авторитет д ает ему очень мало –
в кон це концо в, Йегер – в отличие, по мысли Примавези, от β-редактор а – не брал текст А лек-
сандра за основу своей ред акции «Метафизики»). Кроме того, интерполяция примера в текст
при прочих равных всегд а более вероятна, чем его исключени е их текста.
14 Ἔστι δὲ τῶν μὲν ἕτερόν τι αἴτιον, τῶν δ̓ οὐκ ἔστιν. ὥστε δῆλον ὅτι καὶ τῶν τί ἐστι τὰ μὲν ἄμεσα
καὶ ἀρχαί εἰσιν,
ἃ καὶ εἶναι καὶ τί ἐστιν ὑποθέσθαι δεῖ ἢ ἄλλον τρόπον φανερὰ ποιῆσαι (ὅπερ ὁ ἀριθμητικὸς ποιεῖ· καὶ
γὰρ τί ἐστι τὴν μονάδα ὑποτίθεται, καὶ ὅτι ἔστιν)· τῶν δ̓ ἐχόντων μέσον, καὶ ὧν ἔστι τι ἕτερον αἴτιον τῆς
οὐσίας, ἔστι δἰ
ἀποδείξεως, ὥσπερ εἴπομεν, δηλῶσαι, μὴ τὸ τί ἐστιν ἀποδεικνύντας (здесь и далее перевод мой).
15 Строго говоря, основной вопрос состоит в том, можно ли в каком -то см ысле доказ ать
«что-такое?» (τί ἐστι) вещи (An Post II.3 90a35-38); однако, учитывая, что определение – это ука-
зание на «что- такое?» вещи (II.10 93b29), а также то, что Аристотель сам неоднокр атно уравни-
вает в ходе своего обсуждение τί ἐστι и ὁρισμὸς, выбранная мной формулировка является, я по-
лагаю, бо лее, чем допустимой.
Источники и переводы – Prima ry Sources and Tran slations
Arrighetti, Graziano, ed. (1973) Opere: Epicuro, Einaudi, Turi n.
Jaeger, Werner Wilhelm, ed. (1957) Aristotlis Metaphysica, e typographeo Clarendoni ano, Oxonii.
Primavesi, Oliver (2012) “Metaphysics A: A New Critical edition with Int roduction”, Aristotle’s
Metaphysics Alpha: Sympo sium Aristotelicum , ed. by Carlos Steel, Oxford University Press, Oxford,
pp. 385 –516.
Ross, William David, ed. (1949) Aristotle’s Prior and Posterior Analytics: a Revised Text with Intro-
duction and Commentary , Clarendon P ress, Oxford.
Waitz, Theodor, ed. (1846) Aristotelis Organon g raece, Vol. ΙΙ, Sumtibus Hahniansis, Lipsiae.
Ссылки – References in Russian
Юнусо в 2018 – Юнусов А.Т. Гипотезы как предикативн ые начала доказательного знания во
«Второй аналитике» Аристотеля // Историко -философский альманах. 2018. Т. 6. С. 81 –97.
References
Barnes, Jonathan (1997) “Roman A ristotle”, Philosophia Togata II: Plato and Aristotle at Rome: Pla-
to and Aristotle at Rome, ed. by Jonathan Barnes, Oxford University Press, Oxford, pp. 1 –69.
Bénatouïl, Tho mas (2016) “A ristotle and the Stoa”, Brill’ s Compa nion to the Reception of Aristotle in
Antiquity, ed. by Andrea Falco n, Brill, Leiden & Boston, pp. 56–75 .
Frede, Michael (2000) “Epilogue,” The Ca mbridge History of Hellenistic Philosophy, ed. by Keimpe
Algra, Jonathan Barnes, J aap Mansfeld, Malcolm S chofield, C ambridge University Press, Camb ridge,
pp. 771 –797.
Gottschalk, Hans B. (1972) “Notes on the Wills of the Peripatetic Scholarchs,” Hermes, Vol. 100 (3),
pp. 314 –342 .
Grayeff, Felix (1956) “The Problem of the Genesis of Aristotle’s Text,” Phronesis, Vol. 1 (2) (1956),
pp. 105 –122 .
Grayeff, Felix (1974) Aristotle and His School: An Inq uiry into the History of the Peripatos, Barnes &
Noble, New York.
Harlfinger, Dieter (1979) “Zür Überlieferu ngsges chi chte der Met aphysik”, Études sur la Métaphy-
sique d’A ristote, éd. by Pierre Aubenque, Vrin, Paris, pp. 7 –36.
177
Iunusov, Artem T. (2018) “Hypotheses as Predicative Principles of Demonstrative Knowledge i n
Aristotle’s Po sterio r Analytics”, Istoriko-filosofskii almanakh, 2018, Vol. 6, pp. 81 –97 (in Russian).
Jaeger, Werner Wilhelm (1912) Studien zur Ent stehung sgeschichte der Metaphysik des A ristoteles ,
Weidmanns che Buchhandlung, Berlin.
Lefebvre, David (2016) “Aristotle and the Hellenistic Peripatos: From Theophrastus to Critolaus”,
Brill’ s Companion to the Reception of Aristotle in Antiquity, ed. by Andrea Falco n, Brill, Leiden & Bos-
ton, pp. 13 –34 .
Lord, Carnes (1986) “On the Early History of the A ristotelian C orpus”, The American Journal of
Philology, Vol. 107 (2), pp. 137 –161.
Menn, Stephen (1995) “The Editors of the Metaphysics”, Phronesis, Vol. 40 (2), pp. 202 –208 .
Moraux, Paul (1951) Les listes anciennes des ouvrages d’Aristote, Éditions universitaires de Louvain,
Louvain.
Primavesi, Oliver (2007) “Ei n Bli ck in den Stollen vo n Skepsis: Vier Kapitel zur f rühen Uberli efe-
rung des Corpus Aristotelicum”, Philologus, Vol. 151 (1), pp. 51 –77 .
Sharples, Robert W. (2010) Peripatetic Philosophy, 200 BC to AD 200: An Introduction and Collection
of Sources in Translation, Camb ridge U niversity Press, Cambridge.
Tarán, Leo nardo (1981) “Review of Der Aristotelismus bei den Griechen von Andro nikos bis Ale-
xander von Aphrodisias. 1 . Band: Die Renaissance des Aristotelismus im 1. Jh. v. Chr”, Gnomon,
Vol. 53 (8), pp. 721 –750 .
Verde, Francesco (2016) “Aristotle and the Garden”, Brill’ s Companion to the Reception of Aristotle
in Antiquity, ed. by Andrea Falcon, Brill, Leiden & Boston, pp. 35 –55 .
Williams, Mark F. (1984) Studies in the Manuscript Tradition of Aristotles Analytica, Hain, Königstein/Ts.
Zeller, Eduard (18793) Die Philosophie d er G riechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Aristoteles
und die alten Paripatetiker, O.R. Reisland, Leipzig.
Zürcher, Josef (1952) Aristoteles’ Werk und Geist, Verlang Ferdi nand Schöning, Paderborn.
Сведения об авторе
ЮНУСОВ Артем Тимурович –
научный сотрудник сектора истории запад-
ной философии Институ та Фило софии
РАН.
Author’s information
IUNUSOV Artem T. –
Research fellow. Institute of Philosophy RAS.
178
Ментальное сущее и его интенциональное продуцирование
в трактате Себастьяна Искьердо «Pharus scientiarum»
*
© 2019 г.
Г.В. Вдовина
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: galvd1@yandex.ru
https://iphras.ru/vdovina.htm
Поступила 02.04.2019
Статья посвящена концепции ментального сущего (ens rationis) у Се-
бастьяна Искьердо – одного из самых оригинальных философов Об-
щества Иисуса, автора монументального философского трактата «Pha-
rus Scientiarum» (опубликован в 1659 г.) . Номинально ens rationis
определяется как то, что существует только в интеллекте в качестве
объекта мышления. Искьердо различает две разновидности менталь-
ного сущего: фиктивное сущее, производимое через мысленное со-
единение частей, несовместимых в реальности, и подстановочное су-
щее, то есть те образы и понятия, которые замещают собой нечув-
ственные объекты и тем самым дают нам возможность их мыслить.
Нетривиальный характер концепции Искьердо состоит в том, что со-
держательный критерий ментального сущего опирается у него на тео-
рию объективной истины и статусов сущего. Объективная истина ве-
щей, как ее понимает Искьердо, не зависит не только от их актуаль-
ного мышления человеческим интеллектом, но даже от их мышления
Богом: вещи в чтойностном статусе вечны и неуничтожимы. Теории
истины и статусов кратко рассматриваются в их приложении к ens ra-
tionis. Далее в статье анализируются предпосылки образования мен-
тального сущего. Согласно Искьердо, ментальное сущее производится
только тогда, когда вещь мыслится не такой, какова ее фундамен-
тальная истина. Завершающая часть статьи посвящена тем когнитив-
ным актам, в которых производится ментальное сущее. В противопо-
ложность большинству современников-схоластов, Искьердо считал,
что ens rationis может продуцироваться не только интеллектом, но и
актами чувственных способностей – правда, ограниченно и в несоб-
ственном смысле.
Ключевые слова: схоластика XVII в., ментальное сущее, Искьердо,
фиктивное сущее, подстановочное сущее, объективная истина, экзи-
стенциальный статус, чтойностный статус.
DOI: 10.31857/S004287440006331-9
Цитирование: Вдовина Г.В. Ментальное сущее и его интенциональное
продуцирование в трактате Себастьяна Искьердо «Pharus scientiarum» //
Вопросы философии. 2019. No 10. С. 178–188.
*
Статья написана при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект No 18-011 -00162: «Ens rationis: несуществующие объекты, ментальные фикции и
отрицания в логико-метафизическом дискурсе схоластики XVII в.» .
179
The Mental Being and its Intentional Production in Sebastian
Izquierdo's Treatise Pharus Scientiarum*
© 2019 г.
Galina V. Vdovina
Institute of Philosophy Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: apintiliesei.ciprian@yahoo.com
Received 02.04.2019
The article is devoted to the concept of the mental being (ens rationis) of Se-
bastian Isquierdo – one of the most original philosophers of the Jesus Society,
the author of the monumental philosophical treatise Pharus Scientiarum (pub-
lished in 1659). Nominally ens rationis is defined as something that exists only
in the intellect as an object of thought. Izquierdo distinguishes between two
kinds of mental being: a fictional being which is produced through the mental
connection of parts that are incompatible in reality, and a substitutional being,
i.e. those images and notions that replace insensible objects and thus give us the
possibility for their thought. The non-trivial character of Isquierdo's conception
lies in the fact that he bases the substantial criterion of mental existence on the
theory of objective truth and statuses of being. The objective truth of things, as
it is understood by Isquierdo, does not depend not only on their actual thinking
by the human intellect, but even on their thinking by God: things are eternal
and indestructible in their essences. Truth and status theories are briefly dis-
cussed in their application to ens rationis. Further in the article the precondi-
tions of formation of mental being are analyzed. According to Izquierdo, the
mental being is produced only when the thing is not thought of as it is in its
fundamental truth. The final part of the article is devoted to those cognitive acts
in which the mental being is produced. Contrary to most of his contemporaries,
Izquierdo believed that ens rationis can be produced not only by intellect, but
also by acts of sensual ability – albeit in a limited and non proper sense.
Key words: 17th century scholasticism, mental being, Isquierdo, fictional be-
ing, substitutional being, objective truth, existential status, the existential
status, the quiddical status.
DOI: 10.31857/S004287440006331-9
Citation: Vdovina, Galina V. (2019) “The Mental Being and its Intentional
Production in Sebastian Izquierdo's Treatise Pharus Scientiarum”, Voprosy
Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 178–188.
Введение
В истории европейской философии – казалось бы, неплохо изученной в ее значи-
тельных проявлениях – существуют, тем не менее, большие темы, о которых мы
имеем самое смутное представление. Тема ментального сущего (ens rationis, ens men-
tale) – одна из них. Высокая схоластика (XIII в.) разделяла все сущее на сущее в ду-
ше (ens in anima, ens rationis), к которому относили любые объекты мышления,
и сущее вне души, или реальное сущее [Paulus 1938, 83]. В XIV в. сущее в душе,
в свою очередь, дополнительно разделяли на то, что обладает только мыслимым
(объективным) бытием в интеллекте (quod tantum habet esse obiectivum in intellectu),
и то, которое помимо и прежде объективного бытия обладает или может обладать
*
The article was written with the support of the Russian Foundation for Basic Research, pro-
ject No 18-011 -00162: “Ens rationis: non-existent objects, mental fictions and negations in the
logical and metaphysical discourse of the XVIIth century scholasticism”.
180
натуральным бытием вне души. Но хотя в XIV–XV вв. тема ens rationis часто затраги-
валась при обсуждении реального и возможного сущего, служила источником приме-
ров и аргументов, она вплоть до середины XVI в. оставалась маргинальной и не вы-
зывала специального интереса сама по себе.
Систематически и подробно ens rationis стало рассматриваться в схоластике очень
поздно: лишь у Ф. Суареса (конец XVI в.) [Suárez 1614, 644–661] и авторов XVII в.
[Doyle 1995; Doyle 2004; Doyle 2011; Doyle 2012; Novotny 2006; Novotny 2013]. Этому
весьма способствовало то обстоятельство, что в схоластической метафизике XVII–
XVIII вв. постепенно совершался разворот в сторону ноэтики и эпистемологии, вы-
разившийся, в частности, в том, что в адекватный предмет метафизики в се большее
число схоластов включали не только реальное сущее, но и сущее чисто мыслимое.
Будучи вознесено в этом качестве на прежде недосягаемую высоту, ens rationis впер-
вые оказалось в центре внимания схоластических философов, наконец занявшихся
вплотную его исследованием и анализом. И выяснилось, что простая по видимости
дихотомия реального/ментального сущего скрывает в себе множество внутренних
возможностей и развилок. Они вели к самым разным трактовкам ментального суще-
го, влекли за собой разные следствия и высвечивали разные аспекты ментального
бытия и ментального конституирования вообще. В итоге схоластика XVII в. развер-
тывает перед нами обширное проблемное поле, которое нельзя обозреть сразу и це-
ликом. Мы вынуждены знакомиться с ним постепенно, продвигаясь от одной автор-
ской концепции к другой, и только накопив достаточный опыт знакомства с ними,
сможем приступить к выстраиванию общей картины. Эта статья посвящена автор-
ской концепции Себастьяна Искьердо, автора изданного в 1659 г. обширного тракта-
та под названием «Pharus scientiarum» («Маяк наук»).
I.
Согласно приведенному номинальному определению ens rationis как того, что об-
ладает или может обладать только объективным бытием в интеллекте – определе-
нию, с которым Искьердо не спорит, – нужно в первую очередь и в самом общем
виде разграничить области реального и ментального сущего. То и другое равно ре-
презентированы когнитивным актом в уме познающего и в этом качестве они равно
«называются пребывающими объективно, или существующими не физическим, ре-
альным и собственным существованием, но существованием объективным, интенци-
ональным и метафорическим» [Izquierdo 1659, 292]. В объективном бытии реальное и
ментальное сущее совпадают; различаются они тем, что реальное сущее, помимо объ-
ективного бытия, обладает другим, истинным реальным бытием, тогда как ens rationis
другого бытия, кроме ментального, не имеет. Поэтому, говоря более строго, реальное
сущее, взятое в качестве объекта познания, принимает в уме не столько существова-
ние, сколько интенциональное присутствие, тогда как ментальное сущее не просто
репрезентируется, но впервые создается когнитивным актом и, следовательно, впер-
вые начинает в нем существовать.
Далее, необходимо провести различение между разными видами собственно мен-
тального сущего. В посттридентской схоластике эта процедура не была стандартизи-
рована, и каждый философ проводил такое различение сообразно своим общефило-
софским представлениям. Искьердо различает в ментальном сущем две разновидно-
сти: первая – фиктивное, вымышленное сущее (ens rationis fictum), вторая – сущее
подстановочное (supposititium): «Фиктивное – то, которое не имеет в себе «экзистен-
циального или чтойностного бытия», однако «постигается как существующее, хотя не
существует, или как нечто, хотя оно не есть это нечто» [Ibid.]. Подстановочное мен-
тальное сущее – то, которое «в уме, объективно, обладает другим бытием, нежели то,
которым оно обладает в себе, поскольку либо экзистенциальное, либо чтойностное
бытие, которым обладает сама по себе подлежащая познанию вещь, постигается не в
ней, а в чуждом заместителе1 и потому является познающему иначе, нежели она есть
в себе» [Ibid.]. Примером первого вида ens rationis служит постижение любой несуще-
ствующей вещи, второго – ангел, схватываемый под видом юноши.
Отложим ненадолго разговор о том, что имеется в виду под экзистенциальным и
чтойностным бытием: очень скоро мы вернемся к этому вопросу. Пока же вглядимся в
181
предлагаемый Искьердо критерий различения реального и ментального. Уже на этом
начальном этапе концепция Искьердо не вполне типична. Согласно усредненной ин-
терпретации определения ens rationis как существующего только в интеллекте, оно по-
тому не существует в реальности, что заключает в себе внутреннее противоречие. Сле-
довательно, в таком подходе внутренняя противоречивость тождественна метафизиче-
ской невозможности и служит главным, если не единственным, критерием ens rationis.
Но Искьердо видит критерий ментального сущего не в его метафизической невозмож-
ности, а в том, что оно мыслится не таким, каково в реальности. Фокус внимания
в этой позиции перемещается от собственных метафизических характеристик объекта
мышления к отношению между этим объектом и его мысленной репрезентацией, ина-
че говоря, перемещается в ту область, где господствует понятие истины. Стало быть,
Искьердо принимает, на первый взгляд, чисто эпистемологический критерий ens ra-
tionis, в противоположность преобладающему у большинства его современников-
схоластов онтологическому критерию. Но что стоит за таким различением реального и
чисто ментального? Ответ на этот вопрос требует от нас внимательнее всмотреться в
понятия истины и ложности в философской системе Себастьяна Искьердо.
II.
В начале диспутации об истине [Izquierdo 1659, 110] Искьердо различает три вида
истины: в обозначении (слова, письмена и так называемые не-предельные понятия),
в познании (в интеллекте, познающем вещь) и в самих вещах, которые от нее име-
нуются истинными. Первая истина состоит в сообразности между означающей про-
позицией и означаемой вещью/положением вещей, вторая – в адекватности между
интеллектом и вещью; третий вид истины – истина трансцендентальная, атрибут су-
щего как такового, которая, согласно стандартному схоластическому учению, заклю-
чается в адекватности тварной вещи идее этой вещи в божественном интеллекте. Ис-
тина обозначения вторична для метафизики и в данном случае выводится за скобки;
истину в познании Искьердо определяет как сообразность между формальным поня-
тием (самим когнитивным актом) и вещью: это когнитивная истина в собственном
смысле. А связующим звеном между когнитивной и трансцендентальной истиной,
в интерпретации Искьердо, служит «сообразность между объективным понятием и
репрезентированной вещью; такая сообразность состоит в том, что какова вещь
в познании, такова она в самой себе» [Izquierdo 1659, 111].
В связи с этим встают два вопроса. 1) Что представляет собой трансцендентальная
истина у Искьердо? Принимает ли он традиционную интерпретацию этой истины
как сообразности божественной идее или подразумевает под трансцендентальной
истиной нечто иное? 2) Как понимается в его системе названная связь между объек-
тивным понятием и репрезентированной вещью?
Ответ Искьердо на первый вопрос далеко не тривиален. Испанский иезуит пола-
гает, что собственная истина вещи, которую он чаще называет не трансценденталь-
ной, а объективной (хотя отмечает, что это одно и то же), не зависит ни от какого
интеллекта – ни от тварного, ни даже от нетварного; следовательно, она не сводится
к адекватности божественной идее. Не имея возможности анализировать здесь уче-
ние Искьердо об истине сколько-нибудь подробно, ограничимся тезисным представ-
лением его позиции.
Тезис первый: «Объективная истина вещей, взятая фундаментально, или матери-
ально, ничем не отличается от бытия или небытия, каким они сами по себе обладают
или не обладают в самой реальности» [Izquierdo 1659, 127]. Это бытие или небытие
служит основанием (фундаментом), на котором суждение о вещи будет сообразным
ей самой, то есть истинным, вне зависимости от того, будет ли это суждение «не-
тварного или тварного интеллекта» [Ibid.]. При этом в одной и той же вещи могут
сосредоточиваться несколько объективных истин, определяемых способом бытия ве-
щи и подлежащих разным суждениям: истина существования вещи (экзистенциаль-
ная истина), причем применительно к прошлому, настоящему или будущему; истина
сущности, или чтойностная истина; истина абсолютная или обусловленная («если...
то...»), определенная или дизъюнктивная, позитивная или негативная. Но каков бы
ни был этот пучок объективных истин одной вещи, вещь сама заключает в себе
182
основание для них всех и фундаментально истинна прежде любого именования,
идущего от когнитивного акта любого – возможного или актуального – интеллекта.
Тезис второй: «Объективная ложность, взятая фундаментально, или материально,
ничем не отличается от объекта ложного суждения, то есть ложной пропозиции, ко-
торая рассматривается абстрактно и сама по себе» [Ibid., 128]. Объект ложного суж-
дения, уточняет Искьердо, ложен не только потому, что ложно суждение о нем, но
сам по себе, независимо от суждения; стало быть, он обладает фундаментальной, или
материальной, объективной ложностью. Она совпадает с фундаментальной объектив-
ной истиной в том, что точно так же независима от какого бы то ни было познания.
А различаются они тем, что объективная и фундаментальная истина в самой реаль-
ности обладает реальным бытием, когда она позитивна, и реальным небытием, когда
негативна, тогда как фундаментальная объективная ложность не реально, а фиктивно
обладает либо фиктивным бытием, когда она позитивна, либо фиктивным небытием,
когда она негативна.
Представим суть этих двух тезисов в виде таблицы, дающей картину типов бытия
и их соотнесенности с фундаментальной объективной истиной/ложностью вещей:
Фундаментальная объективная истина
Фундаментальная объективная ложность
позитивная
негативная
позитивная
негативная
Реальное бытие
Реальное небытие
Фиктивное бытие Фиктивное небытие
Обратим внимание на то, что эта таблица наглядно показывает: реальное небытие
вещи не совпадает с ее фиктивным бытием. Мы еще вернемся к этому обстоятельству.
Другой способ рассмотрения объективной истины – не фундаментальный, а фор-
мальный. Если не входить сейчас в подробности и представить позицию Искьердо
упрощенно, то формальная объективная истина вещи состоит в следующем: какова
вещь в реальном бытии или небытии, такой она и представлена в объективном поня-
тии2 познающего. Иначе говоря, она состоит в соответствии объективного понятия и
вещи / положения вещей. Тем самым мы получаем ответ на второй вопрос, заданный
выше: отношение, связывающее мыслимый объект и его репрезентацию в объектив-
ном понятии, есть отношение формальной объективной истины / ложности. Фор-
мальная объективная истина не тождественна когнитивной истине: вторая коренится
в интеллектуальном акте и «располагается» в интеллекте, тогда как первая заключена
1) в самой вещи и 2) в ее репрезентации в интеллекте (то есть распределяется между
вещью и ее репрезентацией). Именно поэтому Искьердо называет ее полу-внешней
деноминацией от истинного познания – «актуального или возможного, нетварного
или тварного» [Ibid.]. Аналогичным образом формальная объективная ложность есть
полувнешнее именование, которое принимается объектом, когда он познается не
таким, каков он в реальности. Следовательно, в схематичном изображении формаль-
ная объективная истина/ложность будут выглядеть так:
Формальная объективная истина
Формальная объективная ложность
позитивная
негативная
позитивная
негативная
Сообразность объ-
ективного понятия
реальному бытию
Сообразность объ-
ективного понятия
реальному
небы-
тию
Сообразность объ-
ективного понятия
фиктивному бытию
Сообразность объ-
ективного понятия
фиктивному небы-
тию
Как видим, объективная истина, взятая формально, тоже предполагает нетожде-
ственность реального небытия и фиктивного бытия, хотя на первый взгляд эти тер-
мины синонимичны. Сравним два объективных понятия, выраженных суждением:
«Кентавр не существует» и «кентавр существует». В первом случае имеется отрица-
тельное суждение, которое адекватно передает реальное положение дел; стало быть,
перед нами негативная формальная истина, соответствующая реальному небытию
кентавра. Во втором случае кентавр мыслится существующим; но так как в реально-
сти он не существует, его существование фиктивно. Поэтому здесь перед нами фор-
мальная ложность, или адекватность фиктивному бытию.
183
В связи с объективной истиной Себастьян Искьердо вводит далее понятие, игра-
ющее ключевую роль в его метафизике: понятие статуса вещи. Статусом (status)
называется «тот способ бытия вещей, в силу которого некоторая объективная истина
может выступать объектом познания, или суждения» [Ibid., 220]. Поэтому статусов
столько же, сколько имеется разновидностей объективной истины: экзистенциаль-
ный статус, чтойностный статус, абсолютный или обусловленный, определенный или
дизъюнктивный, позитивный или негативный. Одна и та же вещь способна обладать
несколькими статусами сообразно тому «пучку» объективных истин, которые могут
быть в ней выявлены. Экзистенциальный статус вещей есть тот модус бытия, кото-
рым вещи обладают, когда актуально существуют реальным существованием. Чтой-
ностным (сущностным, объективным в узком смысле) статусом называется тот,
«в котором считаются пребывающими объективные чтойностные и необходимые ис-
тины, подобающие всем вещам, даже несуществующим, и потому называемые веч-
ными и нетленными» [Ibid., 221].
В силу чего возможна вечность объективных истин? Один типичный ответ, при-
нятый в Средние века, гласил: в силу того, что Бог вечно созерцает сущности вещей
в своих идеях. Другой типичный ответ связывал вечность тварных сущностей с тем,
что они эминентно пребывают в божественной сущности как таковой и реально тож-
дественны ей. Со своей стороны, Искьердо берется показать, что, во-первых, объек-
тивная истина в любом статусе, а в чтойностном тем более, не может быть обеспече-
на ничем внешним по отношению к вещи; а во-вторых, что даже химеричное сущее
в чтойностном статусе не зависит от познания, хотя зависит от него в статусе экзи-
стенциальном. Рассмотрим эти два ряда аргументов.
Первый ряд:
–
«Ни одна вещь не может стать объективно истинной через что -то реально от-
личное от нее»; следовательно, «объективные истины вещей, реально отличных от
Бога, реально отличаются от самого Бога, поскольку реально отождествляются с са-
мими вещами» [Ibid., 222];
–
«Петр не потому человек, что таковым мыслится Богом или тварью, но скорее
потому таковым мыслится Богом и тварью, что он таков сам по себе» [Ibid., 232].
Следовательно, он является человеком еще до того, как Бог помыслит его человеком,
и потому чтойностный статус Петра как человека не зависит ни от нетварного, ни от
тварного постижения;
–
стало быть, чтойностный статус любой вещи есть такой способ бытия, который
первее постижения вещи даже Богом;
–
это означает, что чтойностный статус вещи нельзя отождествлять с объектив-
ным, или интенциональным, бытием в постигающем интеллекте. В формулировке
Искьердо: «Через его постижение Петр принимает лишь схваченное, или познанное
бытие, то есть... существует в мыслящем его уме интенционально и метафизически,
что для него есть нечто вполне вспомогательное и внешнее. А быть человеком для
него есть нечто внутреннее и необходимое» [Ibid.]. Следовательно, истинное бытие
Петра человеком, то есть чтойностный статус Петра, не может конституироваться его
познанием извне. Поэтому нужно различать интенциональное бытие, или, если угод-
но, интенциональный статус вещи как мыслимой, и ее же статус как независимой
сущности: первый для вещи будет внешним, второй – внутренним;
–
каким бы существованием ни обладала вещь – реальным вне интеллекта или
интенциональным внутри него, – существование для нее будет чем-то акциденталь-
ным и, стало быть, контингентным. Напротив, чтойностный статус подобает вещи
«сущностно и с необходимостью» [Ibid.]. Следовательно, объективные истины вещей
в чтойностном статусе, будучи независимыми и необходимыми, «неуничтожимы и
вечны» [Ibid., 234].
Прилагая эти общие тезисы к ментальному сущему, Себастьян Искьердо форму-
лирует второй ряд аргументов:
–
согласно тем философам, которые признают эминентное пребывание чтойно-
стей вещей в божественной сущности, Бог внутренне есть возможность Петра и не-
возможность химеры. Но это, в свою очередь, возможно лишь потому, что Петр и
химера, взятые независимо от существования (ибо только так и могут быть взяты
184
вещи в Боге), различны. Если бы это было не так, если бы Петр и химера в Боге не
различались сами по себе, то и возможность Петра не отличалась бы от невозможно-
сти химеры; точнее говоря, химера с необходимостью была бы столь же возможной,
как и Петр. Следовательно, «чисто возможный Петр еще до того, как примет имено-
вание возможного, обладает некоей внутренней объективной истиной, а именно, по
своей природе отличен от химеры. Более того, само это бытие возможно для него до
всякой внешней возможности, отождествляемой с Богом» [Ibid., 224];
–
но то же самое верно и для химеры: либо химера внутренне не способна принимать
именование возможной, либо внутренне способна к этому. «Если первое, то как химера,
так и Петр абсолютно обладают некоей несуществующей и внутренней для себя исти-
ной... Если второе, Петр фактически подлежал бы внешним именованиям, к которым не
способен, а химера не могла быть подлежать тем же именованиям, к которым способна,
что является противоречием в терминах» [Ibid.]. Стало быть, химера обладает метафизи-
ческой невозможностью как своей внутренней истиной;
–
если невозможность существовать в реальности составляет внутреннее свойство
химеры, она свойственна ей с необходимостью, причем невозможность и необходи-
мость никоим образом не противоречат друг другу. В самом деле, невозможность
относится к экзистенциальному статусу химеры, а необходимость – «к бытию тем,
что
́
она есть сама по себе», к ее чтойностному статусу. Иначе говоря, даже химера
как химера обладает собственной объективной истиной, собственным чтойностным
статусом, который конституируется не познанием, пусть даже нетварным, а лишь
определенным набором внутренних свойств, отличающим химеру от любого другого
возможного объекта познания.
В этих выводах Искьердо вступает в конфликт с абсолютным большинством своих
современников-схоластов, с точки зрения которых ens rationis не только не может быть
чтойностно независимым от познания, не только не обладает никаким видом бытия до
актуально мыслящего его акта, но даже не обладает полноценной сущностью, поскольку
его сущность внутренне противоречива, то есть расколота, расщеплена.
III
Если чтойностный статус ментального сущего не зависит от познания, то об экзи-
стенциальном статусе этого сказать нельзя. Невозможность внемысленно существо-
вать принадлежит к сущностным свойствам ментального сущего, зато оно может су-
ществовать как чистый объект мышления. Тем самым ens rationis принимает, по сло-
вам Искьердо, интенциональный статус существования в душе. Как именно оно его
принимает и что при этом продуцируется? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмот-
рим два момента: во-первых, предпосылки вывода ментального сущего в интенцио-
нальное существование; во-вторых, акты, в которых оно принимает интенциональ-
ный экзистенциальный статус.
Предпосылки интенционального продуцирования ментального сущего. Первая предпо-
сылка состоит в том, что Искьердо, как было сказано, формулирует эпистемологиче-
ский критерий фиктивности: «Для того, чтобы нечто называлось и поистине было
фиктивным ментальным сущим, нет нужды, чтобы оно было невозможным со сторо-
ны реальности, но достаточно, чтобы со стороны реальности не было дано то бытие,
которое имеется объективно в уме, каким бы оно ни было – экзистенциальным или
чтойностным» [Ibid., 293]. Будучи последовательно примененным, этот критерий
приводит к нетривиальным различениям. Так, если нечто возможное, но не суще-
ствующее в момент мышления мыслится существующим, оно будет ens rationis отно-
сительно фиктивного существования, но истинным относительно чтойностного ста-
туса. Более того, «даже химеры, невозможные только в отношении существования
или также в отношении возможности, суть ментальные сущие, когда мыслятся с та-
ким существованием или такой возможностью, которыми в действительности не об-
ладают, но не в отношении других чтойностных предикатов, которыми поистине об-
ладают... Ибо относительно них они будут не фиктивными, а истинными объектами»
[Ibid.]. Иначе говоря, любое сущее будет фиктивным только в отношении тех своих
предикатов и тех статусов, которые мыслятся не так, как имеются; именно поэтому
такие сущие могут существовать только в объективном бытии. При этом все или не-
которые другие предикаты или статусы того же сущего остаются истинными и не
185
включаются в состав фикции как фикции. Отсюда следует, что «мы вполне можем
мыслить невозможную химеру, не производя фиктивного ментального сущего»
[Ibid.], благодаря процедуре разложения на формальности (предикаты): если отбро-
сить от химеры те предикаты, которые ей не свойственны, и помыслить ее только с
теми предикатами, которыми она истинно обладает (невозможность реального бы-
тия, тождество с самой собой и т.д.), то в акте мышления такой абстрагированной
химеры не будет производиться никакой фикции.
Другая предпосылка образования ментального сущего состоит в различении в мен-
тальной фикции двух существований и двух возможностей: «одна – физическая и соб-
ственная, однако не истинная, а фиктивная; другая – истинная, однако не физическая и
собственная, а интенциональная и метафорическая» [Ibid., 293]. Когда нечто несуще-
ствующее мыслится существующим в реальности, речь идет о физическом фиктивном
существовании. Но то же самое ens rationis при этом принимает истинное существование
в уме познающего – правда, существование не реальное, а интенциональное и метафо-
рическое. В том, что ens rationis fictum принимает такой экзистенциальный статус
в мышлении, нет ничего противоречивого и фиктивного, и когда мы говорим, что ens
rationis производится когнитивным актом в бытие, мы говорим именно о его продуциро-
вании в истинном интенциональном статусе. То же самое касается возможности. Воз-
можность или невозможность, в отличие от существования, принадлежит к чтойностно-
му статусу сущего; поэтому мыслить внутренне невозможную вещь реально возможной
означает производить фиктивное сущее относительно этого чтойностного предиката,
а мыслить эту же вещь невозможной означает мыслить метафизически невозможное как
реальное небытие и реальную объективную истину.
Наконец, Искьердо высказывает несколько замечаний об условиях, в которых
производится ментальное сущее – и фиктивное, и подстановочное. Entia rationis
производятся как намеренно и произвольно, так и случайно; как во сне, так и в
бодрствовании, когда мы представляем себе разные чудовищные (monstrosa) образы,
фиктивные, как минимум, в отношении существования. Они могут измышляться не
только для развлечения, но и, например, для того, чтобы служить примерами в мета-
физических рассуждениях. Они также могут измышляться с необходимостью, когда
мы схватываем их истинные отрицания: ведь невозможно нечто отрицать, не помыс-
лив само отрицаемое. Так, «в суждении о том, что Бог бессмертен, бесстрастен, без-
грешен, неизменен и т.д., необходимо мыслить фиктивную смертность, страстность,
грешность Бога» [Ibid., 300].
Акты, производящие ментальное сущее. Подстановочное ментальное сущее всегда
производится на основании чуждых интенциональных форм. Будучи существом мате-
риальным и чувственным, человек не в силах ни воспринять, ни вообразить нематери-
альные вещи напрямую, но нуждается в чувственных species (интенциональных фор-
мах) как посредниках в познании нечувственного. Чтобы помыслить ангела в виде
крылатого юноши, Бога в виде убеленного сединами старца или душу в виде тонкого
тумана, нужны чувственные species юноши, крыльев, старца, тумана. В каждом из этих
примеров интенциональные формы позволяют воображению создать чувственный об-
раз (фантазму), которому интеллект придает новое – метафорическое – значение неко-
торого нечувственного сущего. С фиктивным ментальным сущим дело может обстоять
по-разному. Ложные суждения (например, о тождестве крайних членов, в реальности
различных, или о различии крайних членов, в реальности тождественных) тоже обра-
зуются через чуждые, несобственные интенциональные формы. Если же говорить о
фиктивном сущем, которое схватывается простым постижением (химера, кентавр,
козлоолень и прочие причудливые создания – классические примеры ens rationis), то
они, с точки зрения Себастьяна Искьердо, «сами по себе обладают истинной сущно-
стью, или чтойностью, и познаваемы в самих себе помимо всякого чуждого замените-
ля» [Ibid., 294]. Если они мыслятся возможными, будучи в самих себе сущностно не-
возможными, то производятся в интенциональное бытие в фиктивном чтойностном
статусе; если мыслятся актуально существующими, то наделяются фиктивным экзи-
стенциальным статусом.
Производится ли ens rationis любым актом, в котором оно мыслится? Ответом на
этот вопрос служит у Искьердо позднесхоластическая концепция «первого акта».
186
Она гласит, что любой выполненный ментальный акт оставляет после себя след –
интенциональную форму в памяти (species memorativa), которая активируется при
повторном обращении к объекту однажды выполненного акта. Это правило распро-
страняется и на ens rationis. Поэтому ментальное сущее обоих типов действительно
производится только тогда, когда мыслится впервые: «Ens rationis надлежит считать
произведенным только тем когнитивным актом, который предшествует прочим актам
либо по времени, либо по природе» [Ibid.]. Когда же оно мыслится повторно, то,
строго говоря, уже не производится заново, а лишь принимает в интеллекте (благо-
даря активации species memorativa) интенциональное присутствие (praesentiam inten-
tionalem), подобно тому как это происходит при мышлении реального сущего.
Говоря о первом акте, то есть собственно о продуцировании ens rationis, Искьердо
проводит важное различение: имеется в виду первый акт мышления ментальной
фикции именно в отношении ее фиктивного бытия – в любом статусе и применитель-
но к любому предикату, которому придается фиктивное бытие. Если же ментальное
сущее познается в его интенциональном и метафорическом существовании – акту-
альном или только возможном, – то в таком когнитивном акте ментальное сущее не
производится никогда. И это понятно: ведь такое познание рефлективно или квази-
рефлективно, а значит, вторично. Во-первых, оно предполагает уже выполненным
первичный акт, на который обращается; во-вторых, познавать ens rationis в интенци-
ональном статусе означает познавать не фиктивное, а вполне истинное бытие, ис-
тинно присущее ens rationis в интеллекте – пусть даже не физически, а только ин-
тенционально.
Какими же когнитивными способностями производится ens rationis? Непосред-
ственно – только интеллектуальной способностью. С этим согласны все схоласты (да
и странно было бы возражать), но какими именно операциями интеллекта? Искьердо
придерживается того не слишком популярного мнения, что производить ментальное
сущее могут уже простые схватывания. Это противоречит широко принятой по зиции,
сформулированной в курсе «Всеобщей философии» Педро Уртадо де Мендоса [Hur-
tado 1624], согласно которой ens rationis создается ложным суждением, ибо только
в суждении возможна ложность, а значит, и фиктивность. Искьердо готов согласить-
ся с этим утверждением, если понимать фиктивность и ложность в очень строгом
смысле – как связанные с когнитивной истиной; но в более широком смысле –
в смысле «образования, или продуцирования, объективной фикции» – pro formatione,
seu effectione figmenti obiectivi – к этому способно также простое постижение. Дей-
ствительно, простое постижение не может соединить разделенное в реальности или
разделить в реальности соединенное, однако оно может репрезентировать – и тем
самым измышлять – нечто, чего нет в самой реальности. Точно так же простое по-
стижение «производит подстановочное ментальное сущее, которое имеется через
чуждую интенциональную форму, в силу того что схватывает его в чуждом объекту
постижения заместителе» [Izquierdo 1659, 294].
Более того, любое позитивное ментальное сущее производится только простыми
схватываниями, а в суждениях и умозаключениях оно имеет место как уже произве-
денное, то есть обретает в них интенциональное присутствие. Логика Искьердо тако-
ва: любое ментальное сущее может стать объектом суждения и умозаключения; но
для того, чтобы им стать, оно должно уже иметься в интеллекте; а значит, должно
быть произведено в нем операцией, предшествующей суждению и умозаключению,
то есть простым схватыванием. Но это утверждение, замечает Искьердо, относится
только к позитивным ментальным сущим: для отрицаний «первым актом» служат,
как правило, суждения. Отрицания вообще не принадлежат к ens rationis как таково-
му: «Их следует называть скорее не-сущими, нежели сущими в разуме» [Ibid.], и они
заслуживают отдельного разговора.
Наконец, может ли ens rationis производиться другими потенциями души, кроме
интеллекта? Искьердо говорит о двух крайних позициях в схоластике XVII в.: 1) ens
rationis производится только интеллектом; 2) ens rationis с равным правом произво-
дится всеми когнитивными потенциями, начиная с внешних чувств. Сам Искьердо
полагает, что ментальное сущее может производиться чувственными потенциями, но
опосредованно и с некоторыми оговорками. Во-первых, оно может создаваться
187
внешними чувствами в результате ошибок восприятия, прежде всего зрительного.
Но чувственные иллюзии фиктивны только относительно экзистенциального статуса
их объектов; никакое внешнее чувство не способно произвести в интенциональное
бытие невозможное ментальное сущее, потому что оно подразумевает внесение фик-
тивности в чтойностный статус. Во-вторых, никакое чувство не может произвести
подстановочное ens rationis: ведь никакое чувство не познает через чуждые species,
что необходимо для продуцирования ens rationis supposititium; такая способность име-
ется только у интеллекта. В -третьих, внутреннее чувство может производить менталь-
ные фикции в отношении их существования: например, во сне, когда интеллект от-
ключен, мы можем видеть как существующих тех монстров, которых в реальности
нет. Производя эти фиктивные образы, воображение смешивает species различных
сущих, хранимые в чувственной памяти. Но так же, как и внешнее чувство, вообра-
жение не способно создавать невозможные сущие, ибо, как любое чувство, имеет
доступ только к акциденциям вещей, но не к их чтойности. Таким образом, чув-
ственные потенции на всех уровнях могут производить ens rationis, но ограниченно:
только возможные ментальные сущие и только относительно их внемысленного су-
ществования [Ibid., 295].
Заключение
Выводы, которые можно сделать из этого краткого анализа концепции Себастьяна
Искьердо, идут дальше темы ens rationis. Прежде всего, независимость любого ens,
в том числе ens rationis, от божественного познания и от божественной сущности озна-
чает, что вещи в чтойностном статусе останутся самими собой даже в предположении
отсутствия Бога. Этот парадоксальный для христианского философа итог рассуждений
уже подметил ранее Якоб Шмутц в статье, посвященной сравнению концепции языка
у Больцано и поздних схоластов [Schmutz 2009, 306–337]. Далее, независимость чтой-
ностей любого сущего, в том числе ментального, от любого актуального мышления
(как человеческого, так и божественного) ставит Искьердо в один ряд с теми мыслите-
лями, довольно редкими в истории европейской философии, которые противопостав-
ляли интенциональное и реальное существование сущностей чистым сущностям самим
по себе – абсолютным сущностям в статусе «внебытийности»: Авиценна (переводы ко-
торого принадлежат истории латинской схоластики) – Генрих Гентский – Себастьян
Искьердо – Алексиус Майнонг. С точки зрения нашей темы между этими четырьмя
философами больше сходства, чем между ними и Платоном с его теорией идей, к вли-
янию которой обычно сводят этот тип философствования о сущностях.
Теперь вернемся к отмеченному ранее различию между реальным небытием вещи и
ее фиктивным бытием. Если рассматривать эти два бытийных модуса только с позиций
реального существования/несуществования объекта мысли, они совпадут. У Искьердо,
однако, различие между ними вскрывает более сложные отношения между экзистенци-
альным и чтойностным статусами объекта. Если мы помыслим химеру как не могущую
существовать, мы помыслим ее в реальном небытии и в чтойностном истинном бытии.
В самом деле, невозможность существовать истинно принадлежит к ее чтойности, а
коль скоро эта невозможность истинна, несуществование химеры тоже истинно и ре-
ально. В таком рассмотрении химера вовсе не будет ens rationis, а предстанет как нечто
объективно (трансцендентально) истинное. Если же помыслить ту же самую химеру
как могущую существовать, она будет мыслиться ее в ее фиктивном бытии и в транс-
цендентальной ложности. Предложенный у Искьердо критерий различения реального
и чисто ментального, основанный на теории истины и бытийных статусов, позволяет
проводить более тонкий семантический и онтологический анализ типов бытия,
нежели традиционное отождествление метафизической невозможности с ирреально-
стью, а ирреальности – с фиктивностью. Наконец, Искьердо нетривиально оценива-
ет способность различных когнитивных потенций производить ментальное сущее.
В целом можно утверждать, что Себастьян Искьердо – один из самых интересных
схоластических философов середины XVII в., заслуживающий более детального и
глубокого исследования.
188
Примечани я
1 Говоря о «чуждом заместителе», Искьердо имеет в виду концепцию по стиж ения
нечувствен ных вещей, принятую в схоластике XVII в. Если чувственные вещи познаются
благодаря тому, что они напрямую воздействуют на орган ы чувств и тем самым запускаю т
стандар тную процедуру абстракции, то нечувственн ые вещи (логические выкладки или
мышление н ечувствен ных предметов) по определению лишен ы возможности воздей ствовать н а
чувства. Поэтому они познаются благодаря тому, что след ы предыдущего воздействи я
чувственных вещей (их интенциональные формы – species) и звлекаются из чувственной памяти
и соединяются в уникальные комбин ации в воображении. Далее интеллект освобожд ает эти
чувственные образы от материи и придает им новое значение. Именно так впервые возникают,
согласно Искьердо, понятия ан гела (крылатый юноша), Бога -Отца (почтен ный старец) и т.д .
При повторных обращениях к однажды созданному поняти ю нечувственнной вещи уже н ет
нужды в ее производстве заново: оставленная первым актом species в интеллектуаль ной памяти
позволяет обращать ся к этому понятию непоср едственно .
2 Напомним, что термином «объективно е понятие» ( co nceptus obiectivus) обозначаются не
только простые схватывания (первая операция интеллекта), но и суждения (вторая операция).
Источники – Pri mary Sources
Hurtado de Mendoza, Petrus (1624) Universa philosophia, Sumptibus Ludovici Prost. Haeredis
Roville, Lugduni.
Izquierdo, Sebastián (1659) Pharus scientiarum, Sumptibus Claudii Bourgeat, et Mich. Li etard,
Lugduni.
Suárez, Francisco (1614) Metaphysicarum disputationum tomi duo , sumptibus Hermanni Mylij
Birckmanni, Mogu ntiae.
References
Doyle, John (1995) “A nother God, Chimerae, Go at -Stags, and Man- Lions: A Sevent eenth-Centu ry
Debate about Impossible Objects”, The Review of Metaphysics, Vol. 48, No 4, pp. 771 –808.
Doyle, John (2011) Collected studies on Franciscus Suárez, S.J . (1548-1617), Leuven University
Press, Leuven.
Doyle, John (2012) On the Borders of Being and Knowing, Leuven University Press, Leuven.
Doyle, John (2004) “Wrestling with a Wraith: André Semery, S. J. (1630-1717) on Aristotle's Goat-Stag
and Knowing the Unknowable”, Pozzo, Riccardo (ed.), The Impact of Aristotelianism on Modern Philosophy,
Catholic University of America Press, Washington, pp. 84 –112 .
Novotny, Daniel (2006) “Prolegomena to a Study of Beings of Reason in Post-Suarezian Scholasticism,
1600–1650”, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism, Vol. 3, Issue 2, pp. 117–141 .
Novotny, Daniel (2013) Ens Rationis from Suarez to Caram uel: A Study in Scholasticism of the Ba-
roque Era, Fordham U niversity Press, New Yo rk.
Paulus, Jean (1938) Henri de Gand. Essai sur les tendances de sa métaphysique, Vrin, Paris.
Schmutz, Jacob (2009) “Quand le langage a-t -il cessé d’кtre mental ? Remarques su r les sources
scolastiques de Bolz ano ”, Biard, Joel (ed.), Le langage mental du Moyen Age а l’Age classique, Editions
de l’ISP, Louvain- la- Neuve, pp. 306–337.
Сведения об авторе
ВДОВИНА Галина Владимировна –
доктор философских наук, ведущий науч-
ный сотрудник Ин сти тута философии
РАН.
Author’s information
VDOVINA Galina V. –
DSc in Philosophy, Leading Research Fello w,
Institute of Philosophy, RAS.
189
Настроение другого начала в работе Хайдеггера
«Вклад в философию События»
© 2019 г.
Я.Э . Мановас
Институт философии РАН. Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: yanina-manovas@yandex.ru
Поступила 24.11.2018
Статья посвящена анализу непереведенного на русский язык произве-
дения Хайдеггера «Вклад в философию События», созданного в 1936–
38 гг. и опубликованного в 1989 г. В 2019 г. исполняется 30 лет со
времени публикации этой работы, целью которой для Хайдеггера бы-
ла подготовка перехода от метафизики, или первого начала, к другому
началу, бытийно-историческому мышлению. В статье предпринята
попытка выявить скрытую взаимосвязь между настроением сдержан-
ности (основным настроением другого начала) и ницшеанской воли к
власти. Поскольку Ницше, в прочтении Хайдеггера, завершитель ме-
тафизики, хайдеггеровская мысль во многом является ответом на идеи
Ницше. В статье рассматривается ницшевская интерпретация воли
как аффекта, страсти и чувства и хайдеггеровская интерпретация
настроения сдержанности как «воли».
Ключевые слова: Хайдеггер, Ницше, бытие, другое начало, настроение
сдержанности, воля к власти, «большой стиль».
DOI: 10.31857/S004287440006057-7
Цитирование: Мановас Я.Е. Настроение другого начала в работе
Хайдеггера «Вклад в философию События» // Вопросы философии.
2019. No 10. С. 189–199.
190
The Other Beginning and Its Attunement
in Heidegger’s “Contributions to Philosophy (From Enowning)”
© 2019 г.
Yanina E. Manovas
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str.,
Moscow, 109240, Russian Federation.
E-mail: yanina-manovas@yandex.ru
Received 24.11.2018
Heidegger’s work “Contributions to philosophy (From Enowning)”, composed
in 1936–38 and published in 1989, is considered his second (after “Being and
time”) major work. The main task of the book is to prepare the transition from
metaphysics to the other beginning of thought, being-historical thinking, and
“to prepare” means here “to attune”. The article reveals the implicit connec-
tion between the attunement of reservedness, the grounding attunement of the
other beginning, and Nietzsche’s will to power. Consideration of the grounding
attunement of reservedness brings to light its connection with Heidegger’s read-
ing of Nietzsche. Nietzsche’s philosophy is for Heidegger the completion of
metaphysics, and the way to the other beginning goes through the implicit dia-
log with Nietzsche. The will to power is interpreted in the article as an attune-
ment, and the attunement of reservedness, in turn, is interpreted as a will. The
grounding attunement of reservedness as a “will” is the counter-attunement and
a counter-will of the will to power. Reservedness as a style is a “counter-style”
of Nietzsche’s grand style. It is not the style of an organizing “strong hand”, not
the grip of the iron will, but the setting free and letting go of the ungraspable.
Key words: Heidegger, Nietzsche, being, the other beginning, attunement of
reservedness, will to power, “grand style”.
DOI: 10.31857/S004287440006057-7
Citation: Manovas, Yanina E. (2019) ‘The Other Beginning and Its Attun-
ement in Heidegger’s “Contributions to Philosophy (From Enowning)”’,
Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 189–199.
«Вклад в философию События»: композиционные и стилистические особенности
В 2019 г. исполняется 30 лет публикации работы Хайдеггера «Вклад в философию
События» [Heidegger 1898], созданной в 1936–38 гг. и опубликованной в 1989 г.
Написанная «в стол», не на публику, эта книга стилистически одна из сложнейших у
Хайдеггера. Это Хайдеггер, говорящий «без оглядки», вернее, позволяющий сказаться
через себя тому, что хочет себя сказать [Vallega-Neu 2003, 3, 115]. Язык этой книги
«тёмен» и непривычен от своей простоты и для простоты. Сказать «то же самое» ка-
ким-то более привычным языком – длиннее, сложнее или вовсе невозможно. (Поче-
му никогда не удаются попытки пересказать Хайдеггера? Именно поэтому). Хайдег-
гер то ли топчется на месте (в книге много повторов), то ли идет семимильными ша-
гами, иногда в каждом слове содержится так много, что пробела между словами и
строчками недостаточно, чтобы сделать вдох. Ждать, что Хайдеггер «развернет» эти
слова в дефиницию – бесполезно и смешно. Их развернет пространство хода мысли,
они развернутся по ходу.
Здесь нет привычного линейного развертывания, книга представляет собой собрание
фрагментов разной длины, объединенных в восемь частей (1. Взгляд вперед. 2. Отклик.
3. Сопровождение. 4. Скачок. 5. Обоснование. 6. Настающие. 7. Последний Бог. 8. Бы-
тие) [Бибихин 2009, 496]. Фрагменты связаны между собой не столько последовательно-
линейно, сколько принадлежностью общему пространству. Основные темы повторяют
себя, словно один и тот же огонь вспыхивает в разных точках этого пространства.
191
Хайдеггер называет строение этой работы фугой (Fuge) [Heidegger 1989, 59]. Так, в фуге
тема (музыкальная) звучит то в одном голосе, то в другом, в разных звуковысотных по-
зициях, в разных «местах» звуковысотного пространства. Немецкое слово Fuge значит
«сочленение, стык», в данном случае – это состыкованность, взаимосвязь разбираемых в
книге тем. Эта взаимосвязь не статична, а динамична, как музыкальная форма. В фуге
тема являет себя, когда ее приносит течение музыкального времени; у Хайдеггера глав-
ная тема (бытие как Событие) появляется, когда ее приносит ход мысли.
Это непривычный «непедагогический» Хайдеггер, большая часть произведений ко-
торого – лекционные курсы, в которых он терпеливо и медленно ведет слушателей.
Или это другая педагогика? Так бросают в воду, чтобы научить плавать – и Хайдеггер
бросает в безопорность другого начала, лишая всех привычных ориентиров и опор.
Первое начало и другое начало
Задача работы «Вклад в философию События» – подготовить переход от метафи-
зики, или первого начала, к другому началу. И подготовка перехода состоит «...не в
предоставлении предварительных сведений, из которых потом раскроются собствен-
но познания, но подготовка здесь значит: проложить путь, поставить на путь, в сущ-
ностном смысле – настроить» [Heidegger 1989, 86]. Переход совершается по пути,
прокладываемому самим переходом в пространстве, открываемом самим путем.
Первое начало – вся история европейской философии [Heidegger 1989, 423], все
это «первый такт» истории бытия; то, что до него – одновременно возможность того,
что будет после него. То, что «за тактом» первого начала – другое ему («единственно
другое единственно первому» [Heidegger 1989, 5]), которое раньше него, его скрытое
им же основание. Возвращение к этому основанию – возвращение не к началу, а к
тому, что до начала [Heidegger 1989, 59].
Все, что для первого начала, само собой разумеется и как само собой разумеющееся,
не попадает в поле зрения, в другом начале ставится под вопрос и в центр внимания.
«Само собой разумеющиеся» определение бытия, имплицитное понимание бытия в ме-
тафизике, по Хайдеггеру, таково: бытие есть постоянство присутствия [Heidegger 1989,
423–425]. Для другого начала это «определение» – не надисторическая, вечная сущность
бытия, а определенное его понимание, фиксация его существа, его закрепленное фикси-
рованное истолкование. Само событие фиксации, как и то, что до него, из поля зрения
первого начала выпадают. Первоначальные (из первого начала) определения бытия на
него наложены мыслью, а не «считаны» с него, они не его собственное существо, а его
истолкование, понимание, определение. До события определения – исходная неопреде-
ленность, «неразрешимость». Событие бытия в другом начале – высвечивание бытия как
уклоняющегося от определений, отказывающего в определимости.
Мышление другого начала возвращается к этому доначальному. Не к «архаическому»,
музейно-античному, задача здесь не в том, чтобы «вернуться к грекам», а в том, чтобы
вернуться к тому, что «до» них – не хронологически – к тому, из чего они исходили и от
чего ушли, к тому, что за ними уже не видно. Это не возвращение к тому, что когда-то
уже было (как реализованная возможность), а к упущенным возможностям, не к чему-то,
когда-то бывшему, а к небывалому [Heidegger 1989, 59].
В другом начале происходит смещение внимания с сущего на бытие [Ibid., 6, 429], и не
какое-то «другое» учение о бытии, а на вопрос о нем, не на какое-то другое (по сравнению
с первоначальным) знание о нем, а на незнание, на открытость вопроса [Ibid., 10].
Для первого начала бытие – самое обобщенное и содержательно самое бедное понятие,
общая характеристика сущего. Для другого начала бытие – вопрос, сама открытость вопро-
са, отказ от фиксирующих определений, уклонение от понятийной хватки [Ibid., 29].
Другое начало мысли как начало другой истории – альтернатива технической циви-
лизации, путь «назад» из технического мира, но не в смысле возврата к чему-то, бывше-
му до него. Нет, это не возвращение из городов в сельскую местность к какой-то
пастушеско-земледельческой эко-идиллии (как иногда думают наивные читатели).
Это возвращение не к чему-то архаическому, а к самому arche, к началу, которое до вся-
ких начинаний. Другое начало исходит из незнания того, «что такое» бытие, кто такой
192
человек, незнания цели истории, в том ли она, чтобы человек «стал господином земли»,
в бесконечном ли техническом прогрессе или в чем-то другом [Heidegger 1989, 11, 34].
Переход от первого начала к другому началу – путь в пространстве, которое начи-
нает быть вместе с самим путем [Ibid., 4]. Это переход путем, который прокладыва-
ется шагами самого перехода, переход от знания (о бытии, мире, человеке) к незна-
нию (и не просто еще-не-знанию, а к незнанию как оставлению лакун, пробелов,
пробиванию брешей в сплошном массиве знания, чтобы дать место быть тому, что
другое всему знаемому), переход от фиксированных истолкований к самому про-
странству возможных истолкований и фиксаций.
Мы не будем развертывать здесь основные понятия Хайдеггера (событие, Da-sein),
они не могут быть развернуты вне того пространства, в котором они живут и дышат.
В работе о Хайдеггере невозможен (неэффективен) обычный путь изложения: снача-
ла дефиниция основных понятий, потом линейное развертывание «концепции», это
было бы даже комично. У Хайдеггера такие дефиниции отсутствуют, основные поня-
тия проясняются (или остаются вызывающе непроясненными) по ходу мысли. Опе-
реться на них не удастся, они не предоставят опоры, они, скорее, наоборот, останут-
ся зияющими пробелами-провалами, неопределенными величинами, открытыми во-
просами. Опорой (Grund) будет основонастроение (Grundstimmung) [Бибихин web].
Лучший (или единственный) способ войти в пространство хайдеггеровской мыс-
ли – введение в основонастроение [Бибихин web]. Если мысль высекается из осново-
настроения каждый раз заново, а без него она пустая оболочка [Heidegger 1989, 21];
если настроение – это «распространение пульсации бытия как события» [Ibid., 21],
то именно через вопрос о настроении можно приблизиться ко всем остальным во-
просам Хайдеггера.
«Бой с тенью»
Еще одна особенность этой книги – тайное присутствие в ней Ницше, незримый
бой с ним. В боевых искусствах «бой с тенью» – сольное выступление, бой с отсут-
ствующим противником, движения которого можно «прочитать» по движениям бой-
ца. Ницше – любимый враг Хайдеггера и один из главных его собеседников в 30–
40-е гг. Мы покажем некоторые движения этого боя, диалог с Ницше, явный и тай-
ный: явный, так как отсылки к Ницше на поверхности, ничем не скрыты, и тайный,
так как Ницше упоминается намного реже (несколько раз на протяжении пятисот-
страничной книги), чем имеется в виду, и присутствует чаще, чем попадает в поле
зрения. Движение Хайдеггера противонаправленно-скоординировано с движением
(ходом мысли) Ницше, и в этой противонаправленности часто едино с ним.
Почему именно с Ницше происходит этот невидимый бой? Ницше для Хайдегге-
ра – завершитель метафизики, первого начала. Поэтому другое начало, преодолева-
ющее метафизику, начинается как размежевание с этим близким врагом.
Сдержанность как воля
Итак, главная задача этой работы Хайдеггера – подготовить переход к другому
началу, причем «подготовить» здесь значит «настроить». Основное настроение друго-
го начала – сдержанность. (Кроме сдержанности, Хайдеггер называет настроениями
другого начала испуг, стыд и предчувствие, мы не будем их здесь рассматривать.)
[Бибихин web] Наше предположение заключается в том, что сдержанность является
противонастроением воли к власти. Слово «противонастроение» мы берем из «Бытия
и времени»: «...овладеваем настроением мы никогда не вненастроенно, но всегда из
противонастроения» [Хайдеггер 1997, 136].
Основания для этого предположения следующие: 1. Хайдеггер сам называет сдер-
жанность «волей» [Heidegger 1989, 15] (именно так, в кавычках, то есть в каком-то осо-
бом, непрямом – или обратном – смысле). 2. Ницше называет волю к власти аффек-
том, страстью, чувством – у Хайдеггера все это производные от более исходного фено-
мена настроения. 3. Хайдеггер читает Ницше как завершение метафизики. Переход к
другому началу осуществляется как преодоление метафизики, противодвижение ей.
193
4. Основанием является непсихологическая и неантропологическая интерпретация во-
ли и настроения у Ницше и Хайдеггера, обычно рассматриваемых как психические
феномены. В связи с этим последним пунктом возможное возражение на наше пред-
положение: «Воля и настроение – разные психологический функции», – видится бес-
смысленным. И Ницше, и Хайдеггер заняты не исследованием человеческой психики.
Есть традиционная антропологическая схема (идущая еще от греческой традиции
и принятая в раннехристианском богословии): человек состоит из тела, души и духа,
а душа – из трех «сил», или способностей – разума, чувства и воли. В европейской
философской традиции доминировало истолкование человеческого существа из разу-
ма (он animal rationale, рациональное животное), есть еще волюнтаристское истолко-
вание (Шопенгауэр, Ницше) а Хайдеггер якобы заменяет все это «метафизикой чув-
ства». Хайдеггер, как и Ницше, не занимается перетасовкой карт внутри традицион-
ной колоды, его задачи масштабнее.
Воля к власти как аффект
Согласно Ницше, воля к власти есть «аффект повеления», «изначальный аффект».
А все аффекты – «виды воли к власти» [Хайдеггер 2006, 43–45]. Ницше не развертыва-
ет эту мысль, не проясняет, что такое аффект. Аффекты – виды воли к власти, а воля к
власти – форма аффекта – здесь круг. Как это проясняет Хайдеггер?
Быть в состоянии аффекта – быть «вне себя», в «ис-ступлении из себя» [Там же,
47]. Но воля и есть «воление за свои пределы», себя превозмогающее и превосходящее.
Воля к власти есть изначальный аффект и форма всякого аффекта, потому что ее
«форма» – самопревосхождение.
Über-sich-hinaus-sein, сверх-себя-бытие – часто повторяющееся у Хайдеггера – не
определение, а «раз-определение» человеческого существа (человек, по Ницше,
«неопределившееся животное», эти слова Хайдеггер тоже часто повторяет). Человек
никогда не определяется тем, что в нем есть как его наличный состав, тем, что в нем
состоялось, он «определяется» (раз-определяется) из своего возможного, никогда не
совпадающего с «действительным», наличествующим, данным.
В одном из поздних интервью Хайдеггер говорит: «Всякий человек есть как себя -
превосходящий, то есть как сдвинутый (тронувшийся, с-ума-сшедший)». Он всегда не
в себе, всегда куда-то тронулся (рванулся к какой-то цели), и в этом смысле всегда в
состоянии аффекта. (Одно из хайдеггеровских «определений» философии: она есть
«с-ума-сшествие», «сдвинутость» человеческого существа) [Бибихин web].
Воля к власти как страсть
Ницше называет волю к власти также страстью, не разъясняя отличие ее от аф-
фекта. И здесь для нас важно не их различие, а то, что хайдеггеровское истолкование
страсти добавляет к пониманию черт воли к власти как настроений, которые будут
важны при разборе основонастроения сдержанности.
Страсть – «...то, через что и чем мы утверждаемся в самих себе и проницательно
овладеваем сущим»; она «...собирает наше существо воедино и возвращает его на ис-
конную почву» [Хайдеггер 2006, 50]. Здесь важна черта собирания воедино: настрое-
ние сразу открывает целое (мир) [Хайдеггер 1997, 137]. Воля к власти как страсть от-
крывает ту или иную перспективу мира в целом.
Страсть возвращает нас на исконную почву, на начальное основание, в свое соб-
ственное существо: это ницшевское «Стань тем, что ты есть!» Как соотносятся ис-
ступление из себя аффекта и возвращение в себя страсти? Они направлены в разные
стороны? Нет, «Стань тем, что ты есть» говорит скорее о том, что чтобы вернуться к
себе (стать), из себя (еще-не ставшего) надо ис-ступить: из себя исступить к себе.
Из какого себя к какому себе?
Из себя-наличного (данного) к себе имеющему быть, возможному. Исступание из
себя в исступлении и возвращение к себе – одно и то же движение (вариация
В.В. Бибихина: «Чтобы найти себя, надо себя бросить»).
194
Здесь не существенно то различие между аффектом и страстью, что аффект это
нечто кратковременное, а страсть длительное. Аффект в масштабе человеческой ис-
тории может длиться десятилетиями, если не веками. Здесь важно то, что делает их
единым феноменом. Другое различие, о котором говорит Хайдеггер, тоже не ради-
кально: аффект слеп, а страсть зряча. Зрячесть страсти слишком сродни слепоте,
страсть видит все в своем свете и слепа ко всему, что не освещено ею самой, она
ослеплена своей зрячестью. Воля к власти может вернуться в себя только через воз-
растание как исступление из себя. Исступление есть возвращение, поэтому воля
замкнута в кольцо возвращения в себя и утверждения в себе.
В.В. Бибихин говорит о полярности ключевых понятий Ницше [Бибихин web].
Так, воля к власти – это «инстинкт протоплазмы», выбрасывание вовне ложноножек,
проекций для захвата всего. И одновременно это собирание в себе как воление себя,
изъятие из мира проекций своих идеалов, вбирание в себя всего с воего. (Наше пред-
положение: полярности смысла ключевых понятий Ницше соответствует амбива-
лентное отношение к нему Хайдеггера: Ницше его самый родной и любимый враг).
Но эти полюсы в топике Ницше не разбросаны по сторонам пространства, они схло-
пнулись в одно (это как «хлопок одной рукой» из дзенского коана). (Снята ли этим
схлопыванием полярность, и если снята, то зачем противонастроение?)
Воля к власти как чувство
Ницше называет волю и чувством «...воление: напирающее чувство, весьма при-
ятное!» [Хайдеггер 2006, 53]. Для Хайдеггера в феномене чувства важны два момента
(здесь он повторяет то, что в бытии и времени говорится о настроении) [Хайдеггер
1997, 135–137]: 1. Чувство – это способ, каким мы обнаруживаем себя в отношении
ко всему, к целому, в том числе к самим себе, способ, которым нам открыто наше
отношение к миру. 2. Чувство может как раскрывать, так и скрывать. В зависимости
от вида чувства что-то будет видимым, что-то скрытым.
***
Слепота аффекта, зрячесть страсти как видение того, что освещено ее же накалом –
то есть тоже своего рода слепота, свойство сокрытия, присущее чувству: что скрыто
волей к власти, к чему она слепа в своей перспективной зрячести? Как изначальная
форма аффекта она начальная форма слепоты, как страсть она исходное самоослепле-
ние, как чувство она исходное сокрытие.
Воля к власти как единственное лицо бытия скрывает собой другое. В ее про-
странстве кроме нее нет ничего. Другое ей – в другом пространстве, которое должно
быть открыто другой «волей». Как единственное лицо бытия, все собой затмевающее,
она слепа к тому, что у бытия может быть и другое лицо, что бытие – это возмож-
ность всегда другого. Она слепа к другому, она же вобрала в себя всё; слепа к другому
в бытии, потому что оно другое всему, тому всему, которое она вобрала в себя.
Если воля к власти – изначальный аффект, сама форма аффекта, страсть, утвер-
ждающая нас в нас самих, чувство, ставящее в отношение ко всему, – возможно ли
настроение, которое не будет волей к власти? Может ли воля превзойти себя до не-
воления? Как выйти из ее круга, кольца? Как вообще возможно другое ей? Она
утверждает нас в самих себе – каких «нас» и в каких «самих себе» мы утверждаемся?
Если человек, существуя в самопревосхождении, всегда раз-определен, всякое его
определение недостаточно в силу самопревосходящей открытости его существа –
в каких «самих себе» утверждает нас воля к власти? Страсть «собирает наше существо
воедино и возвращает его на исконную почву» – какую? Где исконная почва,
начальное основание?
В соответствии с этой исконной почвой и начальным основанием «нас» будет
определяться (раз-определяться) «наше» существо и его отношение к миру. Если это
начальное основание всего – воля к власти, то человек - субъект воли, через которо-
го она волит, он употребляется ее волением. Он открыт (как раз-определенный,
«неопределившийся зверь») для любых проектов самоосуществления, но только и
именно в качестве субъекта воли к власти, властной организации всего сущего.
195
Если воля к власти – изначальная форма аффекта и страсть, возвращающая на
исконную почву, как возможно настроение, которое не было бы волей к власти?
Другое настроение будет, если будем другие «мы» (или другие мы будем, если будет
другое настроение, это круг).
Сдвиг в основонастроении – тектонический сдвиг, архи-тектонический (arche –
начало), катастрофический (katastrophe – поворот), поворотный. Это поворот как
изменение человеческого существа от субъекта воли к власти – и «субъект» здесь –
субстрат, носитель, то, через что волит воля к власти как стихия, как лицо бытия, –
к человеку как носителю основонастроения сдержанности, носителю отношения к
бытию как тайне, как хранителю (Wächter) тайны [Heidegger 1989, 299]. (Хранение
здесь не в том, чтобы не раскрыть тайну, а в том, чтобы не закрыть ее мнимым рас-
крытием, не закрыть открытый вопрос псевдоответом).
***
Попробуем определить основонастроение воли к власти, вариациями которого бу-
дут все ее аффекты, страсти, чувства, а потом охарактеризуем ее противонастроение,
сдержанность.
Воля к власти как настроение
Мы предполагаем, что в качестве настроения воля к власти есть настроение то-
тальной мобилизации. Тотальная мобилизация – настроение? Да, ее можно рассмат-
ривать как настроение в хайдеггеровском смысле этого слова, то есть как состояние
целого, способ бытия – не только человека, но всего (мира). Это включение-вбирание
всего (тотальная) в единую перспективу для броска, рывка, гонки (мобилизация) по
открытому и заданному этой перспективой пути. Все сущее вобрано перспективой
без остатка, тотально, всякое сущее стало указующей стрелкой, словно повернувшись
и вытянувшись к цели; все пространство сведено к пути к этой цели, оно рельсы,
сойти с которых некуда (или только за пределы всего, в ничто).
«Тотальная мобилизация» – Schlagwort, девиз того времени. В книге Эрнста Юнгера
«Тотальная мобилизация» [Юнгер web] эти слова имеют не только военно-политический
смысл (приведение армии в состояние боеготовности), за этим смыслом проступает и
другой слой, сущностный. Например: «Уже недостаточно вооружить лишь мечом, – во-
оружение должно проникнуть до мозга костей, до тончайших жизненных нервов» [Там
же]. Тотальная мобилизация – начало, пронизывающее собой всё. И осуществляют ее не
люди, «она осуществляется сама» [Там же]. Она не действие человеческой воли, она са-
ма – воля, энергия, движущая всем, а человеческое воление – ее инструмент. «Тотальная
мобилизация как мера организаторской мысли есть лишь указание на ту высшую моби-
лизацию, которую проводит в нас время» [Там же].
То есть волящее в тотальной мобилизации есть время? Это антропоморфное, мифо-
логическое истолкование времени? Или хрономорфное истолкование человеческого су-
щества? Скорее второе, так в «Бытии и времени» разные способы осуществления челове-
ческого существа – разные способы временения временности [Хайдеггер 1997, 328].
Здесь важно указание на нечеловеческое измерение человеческого воления и дей-
ствия. Воля, волящая через человечество, строящая и рушащая миры, как гераклитовская
правящая молния, вспышкой высвечивает перспективу, в которую ринется, по ее пове-
лению, всё. Она аффект повеления, зрячая слепота страсти, затмение от слишком яркого
света. Воля к власти – время, проводящее тотальную мобилизацию – не армии и насе-
ления, а всего сущего, мгновение молнии («мгновение» от слова «мигать», молния есть
мгновение), мигание божественного ока, освещающего путь.
Сдержанность как воля
Если сдержанность – противонастроение воли к власти, то она и ее противоволя.
Что она такое как «воля»? Сдержанность – остановка гонки воли к власти за возрас-
танием власти, за собой. Отпустить то, что сущностно не дает и не даст себя догнать
и схватить, значит быть к нему в более настоящем, ему соразмерном отношении, чем
продолжать ловить, упорно делая вид, что это то, что поймать можно.
196
Сдержанность – отношение к бытию, к тому, что поймать себя не дает [Heidegger
1989, 15]. Это ускользание и уклонение, с одной стороны – отказ: бытие скрывает
себя (у Гераклита physis kryptesthai philei, бытию любо прятаться). Когда оно себя яв-
ляет, например, как воля к власти, этим явлением оно скрывает свое сущностное
ускользание – оно не воля к власти, потому что не только воля к власти, оно другое,
то, что всегда другое всему.
С другой стороны, именно откровенным ускользанием и отказом бытие как раз
дарит себя как ускользающее. Сдержанность – готовность принять отказ как дар
[Heidegger 1989, 15]. Поскольку она – отношение к бытию, она есть воздержание от
организующих властных манипуляций сущим. Вся система технически организован-
ного мира – все методологии и технологии здесь оказываются не у дел, так как дело
здесь в другом всему, и это другое техническим манипуляциям не подлежит, они не
уловят то, что не уловимо. Всякая поимка, всякий улов будет промахом, ведь пойма-
но будет «что-то», а бытие не «что». Поймать здесь можно только отказом от ловли.
Сдержанность отвечает на уклоняющийся отказ бытия своим отказом-воздержанием
от гонки, остановкой. Воля к власти осуществляется в броске в перспективу той или
иной возможности, и все сущее в целом вдвигается в эту перспективу, воля к власти раз-
брасывается на эти броски; сдержанность, наоборот, есть собирание как возвращение к
началу, к исходной точке всех этих бросков, проектов, проекций.
Воля к власти – к мощи, могуществу – волит не какого-либо конкретного суще-
го, она волит возрастания своей мощи, расширения своих возможностей, она волит
себя как возрастающей. Поэтому Хайдеггер называет ее волей к воле [Хайдеггер 1993,
180]. Она волит не сущего, а власти над сущим, возможности распоряжаться им. Она
волит себя, устремлена к себе в своем самопревосхождении, и поскольку всегда рвет-
ся к себе как большей себя – она себя никогда не достигнет и одновременно себя
всегда уже достигла (так как она всегда есть только как себя превосходящая, и это
непрерывное самопревосхождение и есть она сама). Она одновременно и полная пу-
стота (недостижение), и самая полная полнота (кольцо вечного возвращения). Она
предельная гонка за все пределы и беспредельный покой, все пределы в себя уже
включивший.
Ницше сравнивает волю к власти с протоплазмой: она выбрасывает в простран-
ство свои псевдоподии (ложноножки), захватывая мир вокруг себя. В противополож-
ность ей, сдержанность – «закон собирания» [Heidegger 1989, 35], собирание, а не
распространение и разбрасывание себя. Она – «воздержание от инстинкта прото-
плазмы» [Бибихин web]. Воля к власти как страсть, тоже собирание: собирание всего
сущего в единую перспективу тотального упорядочения и собирание себя как непре-
станное возвращение к себе через самопревосхождение.
Сдержанность – «воля», которая сдерживает себя и возвращается в себя из всех
эскапад, проектов, проекций, из отношения к сущему в отношение к бытию.
Сдержанность как стиль
Хайдеггер называет сдержанность стилем [Heidegger 1989, 15, 35]. Она – стиль че-
ловечества, укорененного в другом начале, другой стиль как другая история.
Как в предыдущем разделе слово «воля» употреблялось в непсихологическом (нечело-
веческом, «невнутреннем», так как воля существо всего) смысле, так в этом разделе в
необычном смысле будет употребляемо слово «стиль». Стиль в обычном понимании это-
го слова – совокупность основных черт произведений того или иного автора или эпохи,
то единое, что сказывается во всяком единичном, собирая единичное в целое.
Стиль как совокупность черт – манера, «рука» автора. Stylos – палочка для пись-
ма по воску, «от руки». Чем рука человека отличается от лапы животного? Лапа
функционирует и реагирует согласно инстинкту, то есть заранее заданным способом.
Рука способна делать разное, она всегда способна делать и другое тому, что она дела-
ет: она – возможность делать другое. Ее действия не заданы, а если заданы, то всегда
могут быть заданы и по-другому.
197
По Аристотелю, рука есть «орудие орудий» [Аристотель 1976, 440]. У орудия, как
и у лапы, заданная функция. Орудие орудий – возможность орудования вообще,
непредзаданное, возможность как «открытость к...».
В «Пармениде» Хайдеггер говорит, что рука есть только там (только у того суще-
ства), где есть отношение к бытию [Heidegger 1982, 124]. Рука, как возможность все-
гда другого, есть только там, где есть отношение к другому всему. (Бытие само есть
возможность всегда другого переопределения того, что значит быть).
Почему Хайдеггер называет настроение стилем? Попытаемся прояснить это.
Большой стиль
Обратимся опять к Ницше, который тоже говорит о стиле – о «большом стиле».
Здесь нас интересует не столько то, что говорит о стиле Ницше, сколько то, как го-
воря о Ницше, Хайдеггер проговаривается о себе.
Сначала Ницше: большой стиль – «усмирение жизненной полноты», в нем «вла-
стелином становится мера»; большой стиль – следствие «великой страсти»; его про-
образ, классический стиль – «высшее чувство власти» [Хайдеггер 2006, 126–127].
«Усмирение жизненной полноты» – наложение аполлонической меры на дионисий-
скую кипящую полноту жизни. Эта мера – властелин, она власть, организующая жиз-
ненную стихию, дающая ей направление, перспективу. «Великая страсть» – сама воля к
власти. Как это читает Хайдеггер, что значит для него большой стиль и стиль вообще?
Большой стиль надо понимать из первых и последних вещей [Там же, 138], из эпи-
центра метафизики. Большой стиль есть «...сведение бытия и становления к изначально-
му единству» [Там же, 139], он «воля к бытию», упраздняющая становление» [Там же,
138–139]. Он высшая воля к власти, он запечатлевает на сущем печать бытия. Хайдеггер
понимает большой стиль из основных понятий европейской философской традиции.
Стиль это отношение к бытию, он запечатывающий печатью бытия всё сущее. Если он
высшая воля к власти, печать бытия на становлении, он – "рука" самого бытия, орудую-
щая через человечество, орудующая человечеством как орудием.
Стиль – то, как схвачено сущее в целом «рукой» бытия. Это стиль «сильной ру-
ки», схватывающей сущее единой мерой, единой упрощающей схемой. Он – сама
воля к власти, являющая себя как ответ человечества бытию как воле к власти. Ответ
этой воле – «...воспроизвести ее собой» [Бибихин 2002, 158], и схваченный этой ру-
кой человек становится ее орудием.
Итак, большой стиль – воля к власти, являющая себя как ответ человечества бытию
как воле к власти. Это один из многих герменевтических кругов Хайдеггера: большой
стиль – «...воление к бытию, именно поэтому его сущность раскрывается только тогда,
когда решается вопрос о том – причем с помощью самого большого стиля – что значит
бытие сущего» [Хайдеггер 2006, 136–137]. Большой стиль решает вопрос, выносит реше-
ние о бытии, волением к которому он исходно является. Волением решение вопроса
пред-решено (воля знает, что она волит), воля заранее замкнула себя в кольцо, она все-
гда уже вернулась к себе – и всегда еще должна к себе вернуться, должна снова и снова
к себе возвращаться и ставить на сущем печать бытия.
Как схватывает бытие «рука» другого человечества – или как другое человечество
схвачено рукой бытия?
Основонастроение сдержанности как стиль
Сдержанность как стиль – «рука» другого человечества, укорененного в другом
начале, в бытии, открывшемся как скрывающее себя, не дающее себя упорядочить,
предрассчитать, организовать. Человек этого человечества – не организатор и поко-
ритель сущего, а хранитель тайны самосокрытия бытия.
Открывшаяся незакрывающаяся тайна (как незакрывающаяся рана) открывается в
каждом сущем, всякое сущее показывает собой основную черту бытия, уклонение, отказ
открыться как откровенное самоутаивание. Рана, которой ранено всякое сущее, разрыв в
сплошной ткани технически организованного мира – незакрывающееся око бытия, гля-
дящее из всякого сущего, окно бытия, брешь в сплошной стене, просвет в лесу сущего.
198
Истина бытия – его уклонение от схватывающей руки. Сдержанность – «отстаи-
вание и исполнение истины бытия» [Heidegger 1989, 33]. Отстоять и исполнить (при-
вести в исполнение, осуществить) эту истину значило бы во всяком отношении к
сущему (в действии, мысли о сущем) сохранить отношение к бытию, видеть в любом
сущем незакрывающееся око бытия и отвечать ему своим взглядом. Кроме того, это
значило бы видеть в сущем не то, что может быть встроено в тот или иной волевой
(властный) проект, а то, что несет в себе эту исходную брешь, провал свободы, в ко-
торый провалится любой волевой проект; это происходит потому, что во всяком су-
щем, которое попытаются сделать основанием, провал, зияние исходного отказа.
Легче закрыть глаза на эту рану, не смотреть в око бытия, легче ослепнуть в аф-
фекте, в эпилептическом припадке длиной в эпоху, броситься в очередную открыв-
шуюся перспективу организации сущего, – только не эта остановка и неотступный
взгляд, говорящий исходное «нет». Легче убить дарителя, чем принять этот дар (так в
«Сталкере» Тарковского Профессор хочет уничтожить бомбой Зону, место тайны).
Стиль (как способ отношения ко всему) – это способ иметь дело с болью от раны.
Иметь дело – не обязательно «справляться» с болью, анестезировать себя, исправлять
неполадку. Справиться с этой болью значит перестать иметь с ней дело или иметь с
ней дело, как с заглушенной, вытесненной. можно ли вообще иметь с ней дело, не
отшатываясь от нее, выносить и нести ее на себе? У Хайдеггера слово Ertragsamkeit
(вынесение) означает такое отношение к бытию [Heidegger 1989, 298].
Слово «больно» употребляется в значении «очень». Больно то, что очень, что чрез-
вычайно. Самое чрезвычайное из всего – другое всему, бытие. «Метафизически-
техническая реакция на боль» [Хайдеггер 1993, 181] – анестезия, попытки засыпать
зияние, закрыть рану бытия.
Возможно ли существовать в пространстве этой боли, идти ей навстречу, а не бежать
от нее, слышать, что она скажет? Есть поговорки: «Где больно – там рука, где мило –
там глаза»; «Где больно – хвать да хвать, где мило – глядь да глядь». Рука, схватыва-
ние – напрямую связаны с болью. Всякая понятийная хватка и всякий властный волевой
захват – реакция на исходную боль. «Рука», стиль – там, где больно, где бытие, незакры-
вающаяся рана. «Рука» пытается схватить бытие, уклоняющееся от хватки.
Здесь хватка состоит в том, чтобы отпустить, поймать и схватить значило бы как раз
упустить, здесь схватывание возможно только как несхватывание. По словам В.В. Биби-
хина, «...нужно отучиться от хватательных движений при чтении Хайдеггера» [Бибихин
web]. Сдержанность – «рука» отпускающая, а не держащая, удерживающая отпусканием.
Сдержанность как стиль – школа несхватывания. Условие владения этим сти-
лем – «радикальная школа настроения» [там же], само настроение сдержанности как
школа. Греческое schole значит «остановка». В немецком Verhaltenheit, «сдержан-
ность», корень halt, одно из значений которого тоже остановка. Сдержанность –
школа, как остановка хватательного, захватного движения воли к власт и, хвататель-
ных практик и техник, отказ от них в пользу несхватывания.
Такое знание действительно знает, когда знает, что оно не знает. Это знание зна-
ния о своем «не». Что ведет к этому знанию, какой путь и какое водительс тво?
Хайдеггер-педагог, в этой «непедагогичной» по своей структуре и стратегии книге,
вводит в другую педагогическую практику – основонастроение сдержанности, как
школу. Эта школа подобна сократической пайдейе, ведущей мнимо знающего к зна-
нию о его незнании.
Такое знание – не просто информация, сведения, добавляемые к другим сведени-
ям, не добавление неких новых представлений к представлениям все того же пред-
ставляющего субъекта, остающегося неизменным основанием всех своих представле-
ний. Сдержанность, как пайдейа, ведет к знанию, которое есть необратимое измене-
ние существа самого знающего. Это изменение человеческого существа, превращение
его из представляющего субъекта (и «субъекта» воли) в держателя «места бытия»,
сдержанностью держащего его открытым, носителя просвета бытия, хранителя тай-
ны. Хайдеггер называет такое знание бездонным, или безопорным. Оно знает о зия-
нии, о «нет», лакуне, безопорности.
199
***
Рассмотрение темы настроения в работе Хайдеггера «Вклад в философию Собы-
тия» выявило ее глубокую, хотя и не всегда лежащую на поверхности взаимосвязь с
мыслью Ницше. Это связано с главной задачей книги: подготовить переход от мета-
физики к другому началу, причем «подготовить» здесь значит «настроить». Поскольку
Ницше, в прочтении Хайдеггера, завершитель метафизики, хайдеггеровская мысль во
многом является ответом на мысль Ницше.
Настроение сдержанности как «воля» – противонастроение и противоволя воли к
власти. Воля к власти интерпретируется как настроение (Ницше дает основания для
такой интерпретации), а настроение сдержанности – как «воля».
Сдержанность как стиль – «противостиль» ницшевского «большого стиля». Она
не стиль тотально организующей «сильной руки», не хватка железной воли, а отпус-
кание того, что несхватываемо.
Ницше для Хайдеггера – завершение метафизики, ее квинтэссенция; путь к дру-
гому началу проходит для него через диалог с Ницше, и почти каждый шаг этого пу-
ти – явный или неявный ответ Ницше.
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian
Аристотель 1976 — Аристотель. О душе. / Аристотель. Сочинения в четыр ех томах. Т . 1 . М.:
Мысль, 1976 С. 369–450 [Aristotle. On the Soul (Russian Translation)].
Хайдеггер 1997 – Хайдеггер М. Бытие и время. М: Ad marginem, 1997. [Heidegger, Martin
(1927) Being and Time, Ad marginem, Mosco w (Russian Translation 1997)].
Хайдеггер 2007 – Хайдеггер М. Ницше. СПб.: Владимир Даль. 2007. [Heidegger, Martin (1936–
1946) Nietzsche, Vladimi r Dal’, St. Petersburg (Russian Translation 2006)].
Prima ry Sources in Germa n
Heidegger, Martin. (1989) Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe, Bd.65, Vittorio
Klosterman, Frankfurt a. M.
Heidegger, Martin (1982) Parmenides, Ges amt ausgab e, Bd. 54, Vittorio Klost erman, Frankfurt a.
M. (Russian Translation 2009).
Ссылки
Бибихин web – Бибихин В.В. Последние семинары. //http://bibikhin.ru/posled nie_seminari
Бибихин 2002 – Бибихин В.В. Яз ык фило софии. М.: Языки славян ской культуры. 2002 .
Бибихин 2009 – Бибихин В.В. Ран ний Хайдеггер. М.: Институ т философии, теологии и исто-
рии святого Фомы. 2009.
References
Bibikhin, Vladimir V. (2009) Early Heidegger, I nstitut filiosofii, teologii i istorii svyatogo Fomi,
Moscow (In Russian).
Bibikhin, Vladimir V. (2002) The language of philosophy, Yaziki slavyanskoi kulturi, Moscow (I n
Russian).
Bibikhin, Vladi mir V. The last seminars, http://bibikhin.ru/posled ni e_semi nari (In Russian) .
Junger, Ernst (1930) Total mobilization,/ https://libking.ru/books/sci -/sci-philosophy/170776-ernst-
yunger-totalnaya- mobilizatsiya.html (Russian Translation 2002).
Poeggeler, Otto (1983) Der Denkweg Ma rtin Heidegger’s, Neske, Pf ulli ngen.
Vallega-Neu, Daniela. Heidegger’s Contributions to philosophy: an introduction. http://bookre.org/
reader?file=663204
Сведения об авторе
МАНОВАС Янина Эдуардовна –
аспиран тка сектора Истории западной фи-
лософии Ин сти тута философии РАН.
Author’s information
MANOVAS Yanina E. –
Postgraduate student of RAS Institute of Phi-
losophy (the depart ment of Western
Philosophy).
200
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Штрихи к портрету О. Шпенглера:
мифолог или социальный аналитик?
© 2019 г.
А.П . Коркишко1*, А.А . Чемшит2**
1,2
Институт общественных наук и международных отношений Севастопольского
государственного университета, Севастополь, 299053, ул. Университетская, д. 33.
*E-mail: kormanial@mail.ru
**E-mail: histphilsoc@sevsu.ru
Поступила 14.03.2019
В статье поднимается актуальный для современного социального знания
вопрос о соотношении философского и культурологического анализа
творческого наследия О. Шпенглера. Минуло более ста лет с тех пор, как
в Европе и далеко за ее пределами вспыхнули ожесточенные споры по
поводу оценки «Заката Европы» в целом, а также факультативных смыс-
лов концепции Шпенглера. Отмечается, что неоднозначность его оценок
направления исторической магистрали вообще (а здесь Шпенглер делал
откровенно пессимистические заявления) сталкивалась со сложными,
порой запутанными оценками механизмов культурного развития отдель-
но взятых типов культуры. Динамика шпенглеровской аналитики в
настоящее время, преодолев опасность раствориться в частичных, неред-
ко идеологически ангажированных, построениях, требует выхода на
простор широкого философского исследования. В итоге предпринимает-
ся попытка подойти к выработке многомерных оценочных шкал – фило-
софской, исторической, филологической, которые были бы приложимы
к содержательному анализу главного тезиса О. Шпенглера: «Умирающая
культура застывает в бездушии цивилизации». Особое место отводится
анализу основной логической схемы социокультурных процессов Шпен-
глера, определяется степень ее расхождения с другими концептуальными
построениями. Выявляются основания для возникновения интегральной
культурологии.
Ключевые слова: история, культура, социокультурная динамика, исто-
рико-культурный тип, цивилизация, национальная идея, софиология.
DOI: 10.31857/S004287440007172-4
Цитирование: Коркишко А.П., Чемшит А.А. Штрихи к портрету
О. Шпенглера: мифолог или социальный аналитик? // Вопросы фило-
софии. 2019. No 10. С. 200–209.
201
Touches to the Portrait of Oswald Spengler:
Mythologist or Social Analyst?
© 2019 г.
Alexander P. Korkishko1*, Alexander A. Chemshit2**
1,2
Institute of Social Sciences and International Relations, Sevastopol State University, 33,
Universitetskaya str., Sevastopol, 299053, Russian Federation.
*E-mail: kormanial@mail.ru
**E-mail: histphilsoc@sevsu.ru
Received 14.03.2019
An actual for the modern social knowledge question about the relation of philo-
sophical and cultural analysis of Oswald Spengler's creative heritage is raised in
the article. More than 100 years had passed, when in Europe and far from its
borders, the disputes dealing with the estimation of the decline of Europe, as a
whole and also the Spangler's concept optional meaning. It is noted that the
ambiguity of his main historical route assessment on the whole (and here Span-
gler opted to the openly pessimistic attitudes) had faced with the difficult and
complicated evaluations of cultural development mechanisms in specific culture
type. Nowadays, the movement of Spengler's analytics, that has overcome the
temptation of dissolving in partial, sometimes even ideologically biased forms, is
requiring the way out to the extensive philosophical research. Eventually, an at-
tempt is being made to come down to the development of the multidimensional
evaluative scales – philosophical, historical, philological, which would be valid
for substantive analysis of the main Spengler thesis: “...the final dying phase of
a Culture as Civilization”. A special emphasis is given to the analysis of the
main logical scheme of socio-cultural processes of Spengler, designating the de-
gree of its difference with other conceptual schemes. The reasons for the foun-
dation of integral cultural studies are identified.
Key words: history, culture, socio-cultural dynamics, historical-cultural type,
civilization, national idea, sophiology.
DOI: 10.31857/S004287440007172-4
Citation: Korkishko, Alexander P., Chemshit, Alexander A. (2019) “Touch-
es to the Portrait of Oswald Spengler: Mythologist or Social Analyst?”,
Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2019), pp. 200 –209.
Введение
В клубке историко-философских тем всегда присутствует задача, которую иссле-
дователи выделяют среди прочих, но заниматься которой вплотную все не хватает
или времени, или сил. Речь идет о проблеме определения культуры, ее динамики,
направленности, выявлении ее смысловых координат и нормативных пределов [Ло-
сев (ред.) 1994; Асмус 1971; Лосев 1930]. Классический путь гуманитарного изучения
в первую очередь сопряжен с необходимостью достижения дефинитарной ясности и
прозрачности принимаемых понятийных объяснительных схем. Иначе говоря, он
тесно связан с реализацией сократовского идеала построения знания, который все-
гда, в свою очередь, сопровождается грозным предупреждением: «Omne definitio peri-
culose est!» [Аверинцев 1968, 190; Одуев 1971, 12].
За последние полтора столетия встать на этот путь, исполненный опасностей, рис-
ковали немногие, но имя Освальда Шпенглера было и остается знаковым для всех ис-
следователей культурной динамики, поскольку он проложил новые понятийные марш-
руты и предложил новые методологические схемы осмысления культурологии [Шпен-
глер 1998]. Их восприятие и современниками и потомками было неоднозначно,
202
а порой изобиловало противоречиями, что, видимо, неизбежно, когда на общее обсуж-
дение выносятся идеи такого впечатляющего масштаба, облаченные к тому же в яркие
литературные и философские одежды [Давыдов 1966; Патрушев 1996; Сендеров 1999].
В этой связи сразу приходят на ум известные слова Томаса Манна, адресованные
Шпенглеру – «умная обезьяна Ницше» [Манн 1960, 617]. В оксюмороне немецкого
классика слились воедино два разных направления его восприятия такой сложной фи-
гуры, какой является Шпенглер. С одной стороны, Манн не может не восхищаться
незаурядным умом и способностями Шпенглера – он подтверждает высокое функцио-
нальное качество немецкого культуролога («умная»), но предметная составляющая рез-
ко протестует и выбирает уничижительный термин «обезьяна».
Признаемся, разброс оценок невольно пробуждает мысли о возможном домини-
ровании вкусовых предпочтений тех, кто оценивает, но, приняв во внимание все ас-
пекты творчества Шпенглера, а не только его сегменты (техника, футурология, куль-
турология и т.д .), с большим пониманием, основанным на вновь приобретенном ин-
теллектуальном и житейском опыте второй половины XX и начала XXI вв., мы начи-
наем вслушиваться и различать смысловые тональности печальных размышлений,
охвативших его в зрелом возрасте и не отпускавших уже никогда: «Я чувствую себя
более одиноким, чем когда либо прежде. Захотят ли меня, наконец, понимать, а не
только читать? Я этого жду» [Шпенглер 1998, 59]. Слабым надеждам Шпенглера, по-
хоже, предстоит сбыться еще очень нескоро, если принять во внимание деструктив-
ные культурологические процессы, охватившие Европу и продолжающие свое «по-
бедное шествие» вглубь и вширь.
Формулировка задач
Мы не ставили перед собой трудноосуществимую задачу набросать эскизный план
продолжения «Заката Европы» или предложить какой-то неведомый доселе концеп-
туальный способ переосмысления творческого наследия Шпенглера, – это было бы
по меньшей мере наивно, если принимать во внимание уже сложившуюся основа-
тельную научную критику немецкого мыслителя, которую мы отмечаем в работах как
отечественных исследователей, так и зарубежных авторов [Braudel 1994; Элиас 2001].
Наша цель много скромнее, но она важна для осознания логики перехода от одного
типа культуры к другому: сохраняется или нет возможность культурной идентифика-
ции современной цивилизации, уже немыслимой без компьютерного содержания,
с совершенным аполлоновским миром порядка и меры Эллады?
На первый взгляд может показаться, что перед нами очередная фигура речи, по
сути, не обремененная каким-то определенно выраженным онтологическим содержа-
нием, отражающим сложные взаимопроникновения разнесенных далеко во времени
социокультурных срезов истории. Речь, таким образом, следовало бы вести только
о таких отрезках истории, которые бы не выпадали из содержательного интервала
органического подхода, усматривающего в истории развития культур устойчивые фа-
зовые переходы: рождение, юность, зрелость, смерть. Соблюдение последнего усло-
вия сообщало аналитике устойчивость и узнаваемость, вытекающую из реализован-
ного методологического принципа линеарного рассмотрения исторического времени,
исключающего саму возможность «перерыва непрерывности». Однако история, как
известно, имеет очень неуступчивый характер, который крайне неохотно согласуется
с любыми классификаторскими подходами, тем самым значительно осложняя нашу
задачу выделения изначального замысла Шпенглера проникнуть вглубь исторической
драматургии, лежащей в основе борьбы Слова и Дела.
Шпенглера, видимо, глубоко угнетала мысль о неизбежности роста смысловой
турбуленции, беспорядка (которые, кстати говоря, мы замечаем вокруг себя) с одной
стороны, и становящейся почти утопией мечты обретения устойчивости и светлого
жизнеутверждающего оптимизма, присущего Элладе – с другой. Именно здесь, на
изломе, мысли Шпенглера, достигая предельного напряжения, становились, как мы
видим на примере Т. Манна, далеко не всегда до конца понимаемыми.
203
О. Шпенглер, оценивая глубину современного ему культурного кризиса Европы,
в общем и целом держался в русле ницшеанской традиции воспринимать его как
столкновение двух типов культур: материнский или аполлоновский (античный) тип и
современный, фаустовский тип.
Уже на первом аналитическом шаге Шпенглер не мог не ощутить внутреннего
сопротивления исторического материала, который явно не желал помещаться в уго-
тованное интерпретационное ложе концепции. Шпенглер прилагает немало сил для
того, чтобы разнести наблюдаемую (отметим этот важный момент и вернемся к нему
позднее) историческую реальность развития культуры вообще (и здесь снова возни-
кают поднятые ещё в платоновском «Теэтете» проблемы связи «общего» и «единич-
ного») на восемь отдельных типов, которые, по его мнению, наблюдаются в истории.
Оставляем сейчас в стороне вопрос о точности и глубине исходного тезиса – «куль-
тура обречена на падение в цивилизацию» – и о строгости построения принятой
Шпенглером классификации форм культурной динамики, поскольку во мнении спе-
циалистов, как современников, так и потомков, царит несогласие, доходящее до по-
ляризации точек зрения. Это обстоятельство, на наш взгляд, объективно свидетель-
ствует, что Шпенглер оставил за собой глубокий след в истории науки, а потому бо-
лее или менее завершенную оценку его творчества мы обретем еще не скоро.
Особенности логического построения культурологических классификаций Шпенглера
Проблема здесь заключается не в точном определении качественного содержания
каждого из выделенных типов, хотя сама по себе эта задача является весьма сложной
и запутанной, поскольку влияние культурных типов друг на друга скорее интуитивно
улавливается, чем строго научно понимается до сих пор, сколько в том, как, остава-
ясь на позициях органицизма, связать между собой культуру как общее и каждый из
выделенных типов как единичное, которое было бы устойчиво репрезентировано
в аналитическом поле.
Строго говоря, Шпенглер столкнулся здесь с любопытным свойством исторического
анализа, а именно: никогда не ясно, в какой именно точке и почему его надо оборвать.
По всей вероятности, перед нами сквозная научная тема, на которую обращал свое вни-
мание и А. Тойнби [Тойнби 1995, 214]. В отечественной литературе эта тема также отме-
чена рядом исследований [Гайденко 1997; Свасьян 1998]. С одной стороны, логика сози-
дания любого текста как атома культуры требует законченности и лаконичности, с дру-
гой – историческое время неостановимо, во всяком случае, пока жив человек, а потому
оно постоянно и неуклонно добавляет в «исследовательскую топку» новые дрова в виде
новых фактов, явлений, связей. Уже в начале XX в. –
времени акмэ Шпенглера – эта
проблема обозначилась для всех исследователей, так или иначе связанных с изучением
генезиса культуры, как ключевая, а потому Шпенглер не мог её обойти.
Сегодня бы Шпенглер был вынужден рассматривать еще и мультикультурную ре-
альность, которая внесла и вносит новые любопытные оттенки, а порою и краски,
в социально-философский анализ, на отдельных характеристиках которого мы оста-
новимся ниже. В начале XX в. Шпенглер остановил свой аналитический выбор на
традиционном приеме, идущем еще от Платона (вновь вспоминается диалог «Те-
этет») и широко применявшемся классиками немецкой философии (И. Кант,
Г.В.Ф. Гегель), суть которого сводится к следующей логической схеме.
Прежде всего, фиксируем атрибуты как минимум двух не пересекающихся реаль-
ностей, которые в дальнейшем выполняют роль аналитических маркеров (для класси-
ческой философии это идеальная и материальная реальность). В результате мы полу-
чаем узнаваемую, иначе говоря, рефлексивную соотнесенность с каждой из построен-
ных атрибутивных моделей, которая, в конечном счете, обосновывала вечные челове-
ческие ценности: материальные блага, социальную свободу, независимый разум.
Не следует забывать, что в этой точке анализа у человека, воспитанного в традициях
предшествующей европейской философии (а Шпенглер, безусловно, относился к чис-
лу таковых) неизбежно возникали сомнения по поводу строгости построения атрибу-
тивных моделей объективной и субъективной сущности вещи, различения их.
204
За этими сомнениями стояли такие фигуры, как Ч.С. Пирс с его тезисом «Как сделать
наши идеи ясными?» и сам Декарт, заложивший код европейского интеллектуализма.
Эти сомнения в конечном счете подорвут внешнюю строгость культурологических
построений Шпенглера и распространятся далее, глубоко проникая в тело современ-
ной европейской философской школы, какой является постструктурализм [Меккель
2007, 152]. Ж. Делез и Ф. Гваттари, вводя понятие «ризомы», стремились к тому, что-
бы максимально освободить философов-аналитиков от удушающего тезиса средневе-
ковых логиков «всякое определение опасно», в основе которого лежал бинарный
принцип. Противопоставляя ему ризомный стиль мышления, современная философ-
ская школа стремится к «равноправному разнообразию», которое разрушает какое бы
то ни было классификационное построение. Дискурс абсурда, который должен был по
логике М. Фуко и Ж. Лакана освободить исследователя от строгих аналитических обя-
зательств в стиле Декарта и Пирса и раскрыть его творческую, первородную человече-
скую мощь, – здесь невольно угадывается ницшеанский, шпенглеровский мотив, –
приводил к неожиданному финалу, напоминающему миф о царе Мидасе: все вокруг,
к чему бы мы не прикоснулись, обращалось в унылое однообразие, пусть и изначаль-
но безмерно ценное. Возникал парадоксальный эффект: ризома, призванная запол-
нить все пустоты бытия человека, и в этом смысле удивительно созвучная построени-
ям Шпенглера, на самом деле дезавуировала человеческий мир, практически уничто-
жая саму возможность рефлексивной соотнесенности типов культур, о которой мы
упоминали выше.
Итак, изначально Шпенглеру пришлось решать целый ряд непростых задач, кото-
рые, тем не менее, были не столько свидетельствами одержанных теоретических по-
бед, сколько предупреждениями о грядущих трудностях. И в этом видится главная
причина, вынудившая современную философию свернуть в дремучие заросли пост-
модернизма и других «измов», чтобы только не иметь дела с «шалостями» философ-
ской классики, – что поделаешь, дети часто не осознают последствия своих проказ...
Возвращаясь к Шпенглеру, отмечаем, что, начав с проблемы различения реально-
стей, он плавно перешел ко второй проблеме – установлению границы между ними,
которая по праву считается в философии трудно разрешимой. Если вспомнить в этой
связи Гегеля, то на память приходит его известный пассаж, связанный с решением
задачи определения «бесконечности». По его мнению, определить границу «беско-
нечного» можно лишь по линии соприкосновения с «конечным», то есть замыкаю-
щие философские абстракции можно строить только методом от противного.
Находясь на вершине категориального анализа, мы порой не замечаем «милых
подробностей жизни», а за ними нередко скрывается целый Париж. Дело в том, что в
приведенной категориальный оппозиции «конечного» и «бесконечного», когда речь
идет о смене исторических типов, об общих законах их динамики, неизбежно возни-
кает вопрос о связи этих процессов с человеком, его миром... Неясно: как они спле-
таются в одно целое известное нам как «история»? И вообще: что считать здесь ре-
ферентами «конечного» и «бесконечного» – человека, его мир, историю? Невольно
оживают мотивы псалмов Давида: «Бездна бездну призывает».
Шпенглер, имея классическое гуманитарное образование, конечно, не мог не
знать о проблемах немецкой философской классики, и прежде всего, о проблемах,
возникающих в связи с трансцензусом. Но здесь обнаруживается некая тонкость,
которую, на наш взгляд, следует специально обсудить. Дело в том, что проблема
трансцензуса, как таковая, может рассматриваться под разными углами зрения.
Это очевидно и даже банально, но снисходительность сразу исчезает, как только мы
начинаем понимать, что «трансцензус» как способ перехода от одной фиксированной
сущности к другой – это одно, это ясно обозначенный механизм перехода (видимо
поэтому Кант и настаивал на различении переходных состояний практического
и теоретического разума), но совсем по-иному ситуация выглядит тогда, когда атри-
буты, условно говоря, первой и второй реальности, соприкасаясь друг с другом, обра-
зуют зыбкую, но ясно ощутимую границу. Видимо, это обстоятельство и обусловило
появление известного декартовского тезиса: «Cogito ergo sum», а много позже – уже в
205
современной математической логике – возникло понятие о взаимодействии нечетко
заданных объемов множеств.
Различие в данном случае состоит в том, что мы сосредоточиваемся в перво м слу-
чае на вопросе «как» происходит преодоление границы, тогда как во втором случае
логическое ударение ставится на том, «что» такое сама эта граница, какова природа
демаркации, какие отрасли знания и практики ее осваивают, каким способом и т.д.
В этой ситуации О. Шпенглер выбрал, на наш взгляд, второй вариант, значительно
более трудный и чреватый неудачей, но в случае успешного решения открывавший
многообещающие перспективы: можно было создавать масштабные, проникающие
через века, интеллектуально насыщенные проекты понимания и объяснения движе-
ния истории, культуры в целом, отдельных ее частей, фаз, сегментов в частности,
увязывать их взаимовлияние, то есть превращаться во что-то подобное мировому Ра-
зуму. Здесь невольно обнаруживаются фрейдовские мотивы, согласно которым бессо-
знательное, как бы оно глубоко и тщательно ни подавлялось, рано или поздно актуа-
лизируется, обретает свободу. Поэтому идея Просвещения и всей немецкой фило-
софской классики не могла в качестве базовой не отложиться в сознании Шпенгле-
ра, как бы на словах он ни противился ей. Интересно, что отмеченная тенденция
культурной преемственности не исчезла с кончиной О. Шпенглера и продолжает ра-
ботать в современном культурном пространстве Германии [Терехов 2011, 127].
Однако философские предшественники, в данном случае речь идет о французах,
одновременно с этой идеей проговаривали и другую: «Дьявол кроется в мелочах».
И дьявол не замедлил явиться в виде вопроса о допустимости пересечения границы
в том или ином направлении, способах ее перехода, его возможных значениях.
Мощь вопроса многократно возрастала, когда он очень логично корреспондиро-
вал с первыми двумя уже озвученными нами. Здесь мы должны задержаться и осо-
знать тот факт, что в производстве европейского исторического и философского
мышления идеи системного подхода проросли гораздо раньше, чем фон Берталанфи
в середине XX в. конституировал их. Шпенглер столкнулся с необходимостью их
разрешения значительно ранее и попытался сделать это, но это был штурм, выража-
ясь языком военных, без предварительной подготовки.
Вне сомнения, и Ницше, и, в значительной степени, Шопенгауэр оказали большое
влияние на Шпенглера (не на ровном же месте возникли едкие слова Т. Манна).
Но между ними усматривается и существенное различие. В истории немецкой, да и
всей мировой культуры, Ф. Ницше остался как вдохновенный разрушитель всего ста-
рого, косного, что мешало жить и творить. В порыве экзальтации он воспевал «белоку-
рую бестию», которая, в упоении неистовства, творила романтику абсурда, так не по-
хожую на житейскую расчетливость и прижимистость филистерского, затхлого европей-
ского духа, вернее, того, что от него осталось к концу XIX века. Поэтому рациональ-
ность, и прежде всего логицизм, были безжалостно отвергнуты, чтобы дать дорогу
надежде на возрождающую роль все поглощающего и все будоражащего первозданного
Хаоса. Лозунг Ницше – «старые боги умерли» – подталкивал философию и культуроло-
гию к тому, чтобы, отринув старые нормы, создать новые, достойные героики человека
нового типа, но тут, как чертик из табакерки, возникал короткий вопрос: «А как ?»
Нам представляется, что именно в этой точке и разошлись философские дороги
Шпенглера и Ницше с Шопенгауэром, которые критику буржуазной истории и куль-
туры (а она всегда так или иначе основана на какой-то логике) завершили, каждый
по-своему, поворотом к откровенному иррационализму. Таким образом, полностью
соответствовать дефиниции Т. Манна Шпенглер не мог уже хотя бы потому, что ему,
вольно и невольно, но нужно было как-то рационально обосновывать главный тезис
своей культурологической концепции, согласно которому исторически исчерпавшая
себя культура должна уступать место цивилизации, то есть пересечь границу. Все
кажется более или менее очевидным, пока мы не начинаем выстраивать теорию про-
цесса, то есть от феноменологической констатации ситуации не переходим к форму-
лированию причинно-следственных связей, лежащих в основе её возникновения и
дальнейшего изменения [Афанасьев 2009, 72].
206
Методологические изыски О. Шпенглера
В этой точке философского анализа культурной динамики Шпенглер совершает
своего рода методологический трюк: из мира вчерашних каузальностей он незаметно
шагнул в область волшебных сказок. В результате кардинально изменилось отноше-
ние к базовым понятиям его концепции культурной динамики, таким как «история»,
«исторический культурный тип», «смысл истории». Все эти понятия уже не репрезен-
тировали «объект» как таковой, определяемый или ограничиваемый установкой
«как», вместо этого анализ был изменен в пользу принципа «а почему бы и нет ?»
На эту особенность формирования творческого почерка Шпенглера обратил внима-
ние еще в 1934 г. Г . Башляр [Зотов (ред.) 1987, 108].
На наш взгляд, Шпенглер пытался соединить «лёд и пламень», ницшеанский ир-
рационализм с логическими нормами каузальной аналитики, таким образом, чтобы
стереотипная трех-элементная схема анализа, изложенная выше, была бы узнаваемой
в объективной реальности и реальности, соответствующей логике мышления.
Сам, может быть, того не желая, Шпенглер оказался перед незавидным выбором:
быть предельно гибким в формулировках, выводах или... быть беспредельно гибким в
том же самом. Капкан защелкнулся, не оставив никаких формально-логических
надежд на спасение, но живая ткань исследовательского процесса по своей природе
более гибка и разнородна, чем логический каркас мысли. Она содержит в себе поми-
мо логики еще эмоциональный, аксиологический и т.п. моменты, которые порою
удивительно прихотливо извивают творческую жизнь мыслителя.
Как и любой другой автор, О. Шпенглер был не готов к быстрой и безусловной
творческой капитуляции, которая бы означала, что на выбранной им дороге возник-
ло непреодолимое препятствие. Поэтому ему, похоже, не оставалось ничего иного
как сделать вид, что ничего экстраординарного не произошло, а то, что случилось –
в анализе вдруг обнаружилась ценностная вилка, – не более чем досадный промах,
допущенный маэстро при создании исторического полотна. На эту подробность об-
ратил внимание С.С . Аверинцев [Аверинцев 1991, 189].
Помимо парадокса гибкости Шпенглеру пришлось столкнуться еще с одним курье-
зом исторического познания. Привычка к общению с гимназистами побуждала Шпен-
глера к предельной внешней внятности изложения, которая порой граничит с педан-
тизмом, а потому раздражала и раздражает его читателей. Однако, решая задачу дости-
жения предельной ясности объяснения, Шпенглер оставил без должного внимания
проблему понимания того, что он так долго объяснял. Объяснение далеко не всегда вы-
зывает понимание, и потому Шпенглер, как мы уже видели, горько пеняет читателям.
Охватить пониманием всю конструкцию истории Шпенглера весьма непросто уже
хотя бы потому, что для этого необходимо создать комплекс толкований, в который
бы одновременно входили представители разных областей гуманитарного знания.
Призыв сам по себе не нов, но вот его реализация...
С точки зрения потребительской, Шпенглер с его отрицательными выводами сра-
ботал впустую, оставил Европу в одиночестве, на развалинах былого величия, о ко-
тором она сейчас может только горевать. С научной точки зрения, безусловно, выво-
ды Шпенглера очень ценны именно потому, что облачены в логику отрицания, а она
намного сильней логики утверждения, достаточно в этой связи вспомнить принцип
фальсификации Поппера.
Однако логическая эйфория, как и всякая другая, продолжается недолго, так как
достигнутое совершенство логических выводов не отменяет необходимости содержа-
тельных проработок исследовательского поля. Имея в виду всю сложность возникаю-
щих при этом вопросов, Шпенглер неуклонно стремился к разрешению главного из
них, на который мы все еще не имеем ответа: «Существует ли логика истории?»
[Шпенглер 1998, 36]. Шпенглер понимал, что ответ на этот вопрос следует искать
в тесном союзе с философией. Он писал: «Падение Запада является, подобно анало-
гичному ему падению античного мира, отдельным феноменом, ограниченным во вре-
мени и пространстве, но вместе с тем это философская тема, заключающая в себе, ес-
ли ее оценить по достоинству, все великие вопросы бытия» [Шпенглер 1998, 36–37].
207
Действительно, оглянувшись вокруг, мы замечаем, что культура, получив огром-
ные полномочия практически во всех сферах общественной жизни, создала свои
смыслы, сформировала свое пространство, которое слабо контролируется или вообще
не контролируется человеком (например, Интернет или производство вооружений).
Сфера культуры перестала быть мягкой и покладистой, она обрела императивные по
отношению к человеку формы, которые далеко не всегда милосердны (оглушающие
ритмы поп-музыки, агрессивные стили масс-медиа и т.п .) .
Автор «Заката Европы» попытался сказать, что культура – это не Абсолютное
Благо, у нее есть и теневые стороны. Иллюстрируя этот тезис, О. Шпенглер слиш-
ком, на наш взгляд, увлекся Ницше, тем самым подтверждая ставший позднее сте-
реотипным вывод, что союз философии и культурологии чреват для науки в целом
серьезными осложнениями. При этом научное сообщество демонстрирует далеко не
ангельское долготерпение [Бросова 2002, 24].
Яростная полемика среди философов, историков, филологов, вспыхнувшая сразу же
после выхода в свет первого тома «Заката Европы» была обращена не к мировому све-
тилу науки, а к скромному гимназическому учителю, дотоле никому не ведомому, –
вот наглядная демонстрация силы идей! Споры не утихают и сегодня. Об этом можно
судить даже на основе обозрения отечественных публикаций, дающих впечатляющий
разброс точек зрения [Сыров 1997, 101; Толмачев 2002, 62; Терин 2003, 25]. Пожалуй,
сегодня они стали восприниматься еще острее на фоне очевидно деструктивных про-
цессов коллективного Запада (проблема беженцев в Европе, разлад политических ин-
ститутов и т.д.) . Следует сказать, что далеко не все ладно и в нашем Отечестве, а пото-
му с автором «Заката Европы», в частности, и с историческим временем, вообще, всем
нам предстоит еще не раз вступать в напряженный диалог, смысл которого концентри-
руется вокруг проблемы возможности совмещения шпенглеровских мотивов оценки
динамики культурного поля Европы с тютчевским вердиктом, что, «умом Россию не
понять». По всей вероятности, именно в этой точке разбиваются стремления послед-
них десятилетий создать современный облик национальной идеи.
Выводы
К проблеме осознания культурных традиций Европы, их роли в трансформациях
современной культуры (присутствие шпенглеровской тематики здесь попросту необ-
ходимо) добавляется мысль о самостоятельной роли русской истории, которая, как
показывают события последних лет, далеко не всегда по душе коллективному Западу.
Развитие социокультурных процессов на континентальных просторах сегодня объ-
ективно переросло логику конфронтации, в какую бы одежду она ни наряжалась, и с
этим, если не принимать во внимание радикальный национали зм, собственно, никто
не спорит, но и явных прорывов в области консолидации усилий России и стран ЕС
в области образования, просвещения и т.д. мы тоже не наблюдаем. Увы, но это так
во многом потому, что над научными сообществами и Запада, и Востока продолж ают
витать тени неразрешенных еще со времен Шпенглера проблем.
Источники – Pri mary Sources in Ru ssian Tran slation
Манн 1960 – Манн Т. Об учении Шпенглера // Манн Т. Собрание сочинений в 10 т. Т. 9.
М.: Государственное издательство художественной литератур ы,1960. С . 610–619 (Mann, Thomas,
Über die Lehre Spenglers).
Тойнби 1991 – Тойнби А. Постижени е истории. М .: Прогресс, 1991 (Toynbee, Arnold, Com-
prehension of History).
Шпенглер 1998 – Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Ростов-
на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998 (Spengler, Оswald, The Decline of Europe. Essay s on the Morphology
of World History).
Ссылки – References in Russian
Аверинцев 1991 – Аверинцев С.С. «Морфология культуры» Освальда Шпен глер а // Новые
идеи в философии. Культура и религия. М.: Наука, 1991. С . 183 –203.
208
Асмус 1971 – Асмус В.Ф. Избранные философские труды. Т. 2 . М.: МГУ, 1971.
Афанасьев 2009 – Афанасьев В.В. Социология политики Освальда Шпенглера. М.: КДУ, 2009.
Бросова 2002 – Бросова Н.З . История между «жизнью» и «смертью»: О. Шпенглер и
М. Хайдеггер // Вестник Моско вско го универси тета. Серия 7: Философия. 2002. No 2. С . 21 –27.
Гайденко 1997 – Гайденко П.П. Прорыв к трансценден тно му. Новая онтология XX века.
М.: Республика, 1997.
Давыдов 1966 – Давыдов Ю.Н . Иску сство и элита. М.: Искусство, 1966.
Зотов (ред.) 1987 – Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987.
Лосев 1930 – Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Госполитиздат, 1930.
Лосев (ред.) 1994 – Хюбшер А. Мыслители нашего времени. Справочн ик по философии За-
пада ХХ века (62 портрета). М.: ЦРТ МГП ВОС, 1994.
Мёккель 2007 – Мёккель К. Диагностика кризиса: Гуссерль против Шпенглера // Логос.
2007. No 6. С.147–175.
Одуев 1971 – Одуев С.Ф. Тропами Заратустры. М.: Мысль, 1971.
Патрушев 1996 – Патрушев А.И. Миры и мифы О свальда Ш пенглер а (1880–1936) // Новая
и новейшая история. 1996. No 3. С . 122 –144 .
Свасьян 1998 – Свасьян К.А . Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. За-
кат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1.: Гештальт и д ействи тельно сть. М.:
Мысль, 1998. C . 5 –122.
Сендеров 1999 – Сендеров В.А . Заклясть судьбу? Злободн евно сть Освальда Шпенглера // Но-
вый мир. 1999. No 11. С. 54–61.
Сыров 1997 – Сыров В.Н . Расцвет и закат европейской философии истории (от Бэкон а к
Шпенглеру). Томск: НПТ «Курсив», 1997.
Терехов 2011 – Терехов О.Э. Освальд Шпенглер и «консервативная революция» в историо-
графии ФРГ // Диалог со временем. 2011 . No 34. С . 118 –137 .
Терин 2003 – Терин Д.Ф. «Цивилизация» против «Варварства»: К историографии идеи евро-
пейской уникальности // Социологический журнал. 2003 . No 1. С . 24 –47.
Толмачев 2002 – Толмачев В. М. Заметки на полях «Заката Европы» // Культурология: Дай-
джест, 2002. No 3. С. 61–66 .
Элиас 2001 – Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1 . М.: Университетская книга, 2001.
References
Afanasyev, Valery V. (2009) Sociology of politics of Oswald Spengler. KDU, Мoscow (in Russian).
Asmus, Valentin F. (1971) Selected philosophical works. Vol. 2, MGU, Мoscow (in Russian).
Averi ntsev, Sergei S. (1991) ‘“Morphology of culture” of Oswald Spengler’, New ideas in philosophy.
Culture and religion, Nauk a, Мoscow, pp.183 –203 (in Russian).
Bachelard, Gaston (1934) Le nouvel esprit scientifique, PUF, Paris (Russian Translation 1987).
Bachelard, Gasto n (1940) La philosophie du non, Les P resses u niversitaires de France, P aris (Rus-
sian Translation 1987).
Braudel, Fernand R. (1994) History of civilizations, Ali en Lane Penguin Press, New York.
Brosova, Natalia Z. (2002) ‘The sto ry between “life” and “death”: O. Spengler and M. Heidegger’ ,
Moscow University Bulletin, Series 7: Philosophy, Vol. 2 (2002), pp. 21 –27 (in Russian).
Davydov, Yuriy N. (1966) Art and elite, Iskusstvo, Мoscow (in Russian).
Elias, No rbert (1969) The Civilizing Process, Vol. I, The History of Manners, Blackwell, Oxford (Rus-
sian Translation 2001).
Gaidenko, Piama P. (1997) Breakthrough to the transcendental. A new ontology of the XX century ,
Respublika, Мosco w (in Russian).
Hübsher, Artu r (1994) Thinkers of our time. Handbook of philosophy of the twentieth century , TSRT
MGP VOS, Мoscow (In Russian).
Losev, Aleksey F. (1930) Essays of ancient symbolism and mythology, Gospolitizdat, Мoscow (in Russian).
Mökkel, Kristian (2007) “Diagnosis of the crisis: Husserl agai nst Spengler”, Logos, No 6 (2007),
pp. 147 –175 (in Russian).
Oduyev, Stepan F. (1971) Paths of Zarathustra , Mysl’, Мoscow (in Russian).
Patrushev, Aleksandr I. (1996) “Worlds and myths of Oswald Spengler (1880 –1936)”, Modern and
Contempo rary History , No 3 (1993), pp. 122 –144 (in Russian).
Senderov, Valery A. (1999) “Cast a spell on fate?: Topicality of Oswald Spengler”, Nowyi Mir,
No 11 (1999), pp. 54 –61 (in Russian).
Svasian, Karen A. (1998) “Oswald Spengler and his requiem for the West”, Spengler, Oswald ,
The Decline of Europe. Essays on the morphology of world history. V.1 .: Gestalt and reality, Mysl’ ,
Мoscow, pp. 5 –122 (in Russian).
Syrov, Vasiliy N. (1997) The blossom and decline of the European philosophy of history (from Bacon to
Spengler), Kursiv, To msk (in Russian).
209
Terekhov, Oleg E. (2011) ‘Oswald Spengler and “co nservative revolution” in German historiog-
raphy’, Dialogue with time, No 34 (2011), pp. 118 –137 (in Russian).
Teri n, Dmitriy F. (2003) ‘“Civilization” against “B arb arism”: To the historiography of the idea of
European uniqueness”, Sociological journal, Vol. 1 (2003), pp. 24 –47 (in Russian).
Tolmachev, Vasiliy M. (2002) ‘Notes to “Decli ne of Europe”’, Culturology: Digest, No 3 (2002),
pp. 61–66 (in Russian).
Сведения об авторах
КОРКИШКО Александр Павлович –
кандидат философских наук, доцен т кафе-
дры «По литология и международные о т-
ношения» Ин ститута общественных наук и
международных отношений Севастополь-
ского го сударственного универ ситета
ЧЕМШИТ Александр Александрович –
доктор политических наук, профессор ка-
федры «Полито логия и международные
отношения» Института общественных наук
и международных отношений Севастополь-
ского го сударственного универ ситета.
Author’s information
KORKISHKO Alexander P. –
CSc in Philosophy, Associate Professor,
Depart ment «Political S cience and
International Relations», Institute of Social
Sciences and Int ernational Relations,
Sevastopol Stat e University.
CHEMSHIT Alexander A. –
DSc in Political S cience, P rofessor, Depart-
ment «Political Sci ence and Int ernational Re-
lations», Institut e of Social Sciences and Inter-
national Relations, Sevastopol Stat e University.
210
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Естествознание как коллективный познавательный процесс: философские аспекты
(о научном семинаре)*
28 мая 2019 г. состоялся расширенный семинар сектора философии естественных
наук Института философии РАН по теме: «Естествознание как коллективный познава-
тельный процесс: философские аспекты». В рамках семинара был заслушан доклад
«Коллективный экспериментатор большой науки и методы его исследования», который
представил В.С. Пронских, работающий в Национальной Ускорительной Лаборатории
им. Э. Ферми, США. Семинар был посвящен безвременно ушедшему от нас профессо-
ру А.И . Липкину, с которым В.С. Пронских работал длительное время и под руковод-
ством которого защитил кандидатскую диссертацию по философии науки.
C содокладом «Подводные камни на пути строительства «коллективного субъекта»
в науке и философии» выступил А.Н. Павленко, руководитель научно-
исследовательской группы «Онтология» Института философии РАН.
Этому событию предшествовало обсуждение статьи А.А. Крушанова «Эпистемоло-
гия коллективного субъекта как самостоятельный домен философии науки», которую
он разослал 2 апреля 2019 г. и представил на заседании сектора философии есте-
ственных наук, образованного 1 января 2019 г. на базе двух секторов: сектора фило-
софских проблем естествознания и сектора био- и экофилософии.
Конечно, понятие коллективного субъекта в философии не является новацией.
Политологи прочитывают его уже у Жан-Жака Руссо. Сам А.А . Крушанов ссылается
на работы академика РАН В.А . Лекторского (Лекторский В.А., Субъект, объект, по-
знание. М., 1980), который, в частности, пишет, что «есть серьезные основания счи-
тать, что развитие культуры и познания (в частности, научного) может быть понято
лишь при учете коллективных процессов» (Лекторский В.А. Субъект // Новая фило-
софская энциклопедия, т.3. М., 2010).
А.А . Крушанов одним из первых начал обсуждение этой проблемы в контексте
российской философии науки. В своей рукописи он пишет: «... есть впечатление, что
представления о деятельности коллективного познающего субъекта уже активно, хоть
и не вполне явно, введены и развиваются, например, в рамках неотъемлемых от со-
временной философии науки представлений о «научных сообществах» (Р. Мертон,
Т. Кун и др. исследователи). Однако размышление над этим нововведением в фило-
софии науки показывает, что оно “не совсем о том”. Ведь эти новации охарактеризо-
вали социальную сторону научной деятельности, но не дали ничего нового собствен-
но эпистемологии неиндивидуальных познавательных процессов, поскольку опери-
руют по сути с образом парадигмализированного индивидуального познающего субъ-
екта, хоть и растянутым на группу исследователей. То есть даже идея научного сооб-
щества в эпистемологическом плане по сути лишь фиксирует факт экстериоризации,
проецирования парадигмы на некоторое множество познающих субъектов, но никак
не прибавляет нового знания к уже сложившейся парадигмальной модели.
В традиционной философии науки всегда подчеркивали “относительную незави-
симость” науки как части культуры, de facto применяли интерналистский подход,
сводя развитие знания к прогрессу теоретических моделей. В 60-е гг. XX в. стало яс-
но, что философия экспериментирования столь же важна для понимания развития
науки как и анализ теоретического знания».
Питер Галисон, начавший одним из первых на Западе обсуждать коллективное
познание в экспериментальной физике высоких энергий, пишет в своей знамена-
тельной работе, вышедшей в 2003 г.: «Тот факт, что коллективный экспериментатор
*
Участие Пронских В.С. в семинаре было частично поддержано РФФИ в рамках научного
проекта No 18-011-00046. The participation of Vitaly S. Pronskikh in the Workshop was partly sup-
ported by Russian Foundation of Fundamental Research, the project number 18-011-00046.
211
отличается от научного автора предшествовавшего периода, стало очевидным еще в
1960-е, когда физика на пузырьковых камерах начала определять размеры коллабора-
ций, увеличившихся от единиц до пятнадцати или двадцати человек. Алан Торндайк
из Брукхевинской национальной лаборатории (BNL), руководитель коллектива, об-
служивавшего одну из наиболее известных водородных пузырьковых камер в мире,
описал эту перемену в 1967 г. следующим образом: «Кто такой “экспериментатор”,
чью деятельность мы обсуждаем? Редко, если вообще возможно, это отдельная лич-
ность... Экспериментатор может быть руководителем группы из младших научных
сотрудников, работающих под его наблюдением и руководством. Он может быть ор-
ганизатором группы коллег, принимающим на себя основную ответственность за до-
ведение работы до успешного завершения. Он может быть группой, собранной вме-
сте для выполнения работы, без четкой внутренней иерархии. Он может быть колла-
борацией лиц или подгрупп, объединенных общим интересом, иногда даже объеди-
нением соперников в прошлом, когда сходные предложения экспериментов были
слиты в одно более высоким авторитетом...
Таким образом, экспериментатор – это не одна персона, а их объединение.
Их может быть три, более вероятно пять или восемь, возможно десять, двадцать или
более. Он может быть рассеян географически, зачастую более чем в одной или двух
организациях... Он может быть эфемерным, переменного состава и размера, с трудно
устанавливаемыми границами. Это социальный феномен, непостоянный по форме и
точно неопределяемый. Можно, однако, сказать, чем он точно не является. Это не
традиционный образ отдельного ученого, работающего в уединении за своим лабора-
торным верстаком».
В этом отрывке Торндайк пытается обрисовать коллаборацию-как-автора. Можно
задавать другие вопросы, например, о том, как отдельные индивиды принимают ре-
шение присоединиться к группе или как каждый из них взбирается по карьерной
лестнице, но интересен более радикальный вывод Торндайка: не представление о
коллаборации как о «коллекции» экспериментаторов, а скорее ее определение как
коллаборации-как-экспериментатора. Просто в силу того, что экспериментатор ста-
новится социальным феноменом, сущностью с неопределяемыми границами, широ-
ким географическим разбросом, вариабельной формой и произвольной внутренней
структурой. Как бы это ни звучало семантически нелепо, Торндайк уловил нечто
критическое в послевоенной физике, когда говорил, что экспериментатор стал «ком-
позицией»» (Галисон П. Коллективный автор // ВФ, 2018, No 5).
В процитированной выше работе Галисон впервые проанализировал феномен кол-
лективных убеждений и коллективного познания в большой науке, сущность которых
и поныне остается во многом не до конца проясненной. Современные многотысячные
научные коллаборации физиков, публикующих результаты экспериментов по поиску
бозона Хиггса или гравитационных волн, нейробиологов, составляющих карту мозга, –
примеры распределенных групп ученых, делающих научные утверждения от имени
больших коллективов. При этом растворение индивидуальности в коллективе снижает
привлекательность этого вида научных изысканий для молодых исследователей, что
требует особого внимания при оценке перспектив развития мегасайенс. И, если опре-
деленная разобщенность коллабораций (разделение на тесно внутренне коммуникатив-
но связанное ядро и частично изолированную периферию) может быть эпистемически
целесообразной, то механизмы формирования суждений подобными группами требуют
глубокого философского анализа. В коллективной эпистемологии был развит ряд под-
ходов к пониманию групповой познавательной деятельности.
П. Галисон, подчеркивая, что в коллаборациях познавательное единство не суще-
ствует в той мере, в которой оно было присуще науке прошлого, связывает это с мо-
бильностью апперцепции. Он допускает, что коллективный субъект становится
аморфен и подобен рою, а с включением в исследования компьютерных сетей Грид
также гетерогенным и лишенным фиксированных границ. Аргументы Галисона при-
обретают особое звучание, поскольку перекликаются с постструктуралистскими иде-
ями Фуко и Делеза. Автор научного текста (которого Галисон отождествляет
212
с субъектом) становится также нестабильным и трудноопределимым. Несмотря на
нормы, конструируемые коллаборациями и регулирующие то, кто должен выступать
автором той или иной публикации, автор-экспериментатор остается нестабильной и
нелокализуемой сущностью.
Важным для прозвучавшей в докладе в докладе В.С. Пронских (и статье
А.А . Крушанова) критики позиции Галисона служит указание на то, что автор науч-
ного текста мегасайенс – не собственно субъект, а только его характеристика, кото-
рая может проявляться как перечисление различных сочетаний акторов коллабора-
ции-сети (в смысле АСТ Латура), задаваемое ядром коллаборации. Возражение на
утверждения Галисона о связи нестабильности автора с мобильностью апперцепции
состоит в том, что эмпирически субъект познания в коллаборации мегасайенс син-
хронически вполне определен и не мобилен; им является ядро – небольшая, тесно
связанная коммуникативно часть коллаборации, направляющая ее работу и прини-
мающая решения. И, если авторство собственно эпистемических утверждений колла-
борации вполне может быть локализовано в ядре, которое обладает и полнотой зна-
ния о процессах в эксперименте, то авторство статей коллаборации переменно. Оно
требуется для формирования групповой идентичности, демонстрации коллективных
намерений и может носить ритуальный характер. Автор статьи или доклада мегасай-
енс репрезентирует фрагмент такого коллективного экспериментатора-сети способом,
зависящим от коммуникативной ситуации (содержания сообщения или аудитории).
Один из вопросов, который возникает в связи с необходимостью установления ав-
торства – чьи именно убеждения фигурируют в коллективных публикациях и могут
ли они быть редуцированы к убеждениям всех (или только некоторых) составляющих
группу индивидов (редукционизм) или сумме таких убеждений (суммативизм).
В частности, (Лэкки Д. Дефляционистский подход к групповому сообщению // Эпи-
стемология и философия науки, 2013. Т . 36, No 2) отстаивает так называемую дефля-
ционистскую позицию, одновременно редукционистскую и несуммативистскую, со-
гласно которой свидетельство группы может быть сведено к убеждениям индивидов
как в составе группы, так и за ее пределами. В случае коллаборации этому могло бы
соответствовать влияние на результат либо внешних для нее научных авторитетов,
либо ядра группы. Подобные ситуации, в которых убеждения членов группы не могут
рассматриваться как результат агрегации убеждений ее членов, могут возникать
в организованных группах, действующих на основе уставов (например, когда устав
ограничивает то, какие именно аргументы члены группы могут формально учитывать
при принятии решений), а не в произвольных группах. Организованными группами
являются и научные коллаборации, работа которых регулируется нормативными до-
кументами. Иногда считается, что достаточным основанием для атрибуции суждения
группе является (прямое или косвенное) свидетельство интерперсональных взаимо-
действий между ее членами, что отводит ведущую роль коммуникации в формирова-
нии групповых свидетельств.
Пример экспериментальных коллективов с редукцией убеждений, известных из ис-
тории физики середины XX в., представляет собой группа Альвареца (Галисон, указ.
соч.), в которой обсуждение научных проблем лучше описывается сведением к мнению
единоличного лидера. Однако в последней четверти XX в., с возникновением прото-
мегасайенс (пред-мегасайенс), а затем и мегасайенс, ответственность за решения груп-
пы стало брать на себя ядро группы, которое, с одной стороны, производило группо-
вые убеждения, а с другой – приходило к подобным убеждениям в ходе делиберации,
то есть открытых вопрос-ответных процедур и попыток взаимного убеждения (Прон-
ских В.С. Proto-Megascience. Перевод интересов в зоне обмена // The Digital Scholar:
Philosopher’s Lab / Цифровои
̆
ученыи
̆
: лаборатория философа. 2019. Т . 2. No 2. С. 1–
28). Таким образом, возникающие в группе решения не являлись исходными убежде-
ниями ни одного из ее членов. В тех же случаях, когда поведение группы невозможно
объяснить суммированием или другим способом агрегации поведений отдельных чле-
нов, допускают, что группы как целое могут обладать сознанием. В.С. Пронских
утверждает, что делиберативный механизм принятия решений коллаборациями
213
поддерживает нередукционистскую и одновременно несуммативистскую интерпрета-
цию, что согласуется с допущением коллективной субъектности в понимании и не тре-
бует привлечения мнений внешних по отношению к группе индивидов.
Прояснение связи между ядром и периферийной частью коллаборации, ее темпо-
ральной стабильности и целостности также может потребовать обращения к понятию
группового сознания, поскольку для участия в коллективных познавательных прак-
тиках требуется возникновение коллективных намерений (Searle John, Collective In-
tentions and Actions // Intentions in Communication, edited by P. Cohen, J. Morgan, and
M. Pollack, 401–415. Cambridge: MIT Press, 1990). Если в ряде ситуаций, в которых
фигурируют надындивидуальные сущности (например, государство), от рядового
участника не требуется осознавать стратегические цели, в решение которых его труд
опосредованно вносит вклад, ввиду достаточности материальных стимулов, то в слу-
чае больших экспериментов для их эффективной реализации от каждого отдельного
экспериментатора требуется разделять общие намерения и стремление к изучению
определенных явлений природы. Важными понятиями в подобных контекстах могут
служить широко обсуждаемые обязательства, в том числе неморального характера,
возникающие у участников совместной деятельности. В этом случае коллективность
проявляется в том, что каждый участник подобной деятельности начинает относиться
к планам и намерениям других, как к своим собственным. Это подтверждается эмпи-
рическими наблюдениями, так как, интуитивно давая оценку своим возможностям
(например, использовать собственные суждения в коллективном познании), участни-
ки коллабораций зачастую в интервью апеллируют именно к коллективным, а не к
индивидуальным свободам.
Коллективность субъекта в больших экспериментах проблематизирует статус индиви-
да, а также может требовать прояснения того, в чем именно состоит авторство коллабо-
рационных статей и результатов и может ли оно обладать тем же статусом, что и тради-
ционное авторство. Связанные с этими проблемами вопросы о том, как сохранить при-
влекательность (и тем самым финансирование) физики элементарных частиц, как воз-
можно и необходимо различить индивида в больших исследовательских коллективах и
как правильно выделить роль отдельного ученого в совместном исследовательском труде,
выходят на первый план при разработке Европейской стратегии по физике частиц. Как
показали проведенные в рамках подготовки Стратегии опросы (European Committee on
Future Accelerators, 2018. ECFA Survey on the Recognition of Individual Achievements in
Large Collaborations. Overview of the results, CERN, https://ecfa.web.cern.ch), участники
коллабораций не вполне удовлетворены тем, как они различаются в качестве индивидов,
притом, что индивидуальное различение при публикации результатов служит исключи-
тельно важным стимулом для всех участников, представляющих множество стран Евро-
пы, Азии, Северной и Латинской Америки. Таким образом, несмотря на общность наме-
рений и коллективность познания, индивидуализм в отношении результатов оказывается
свойственен всем участникам больших международных экспериментов, что представля-
ется одним из фундаментальных противоречий мегасайенс.
Навыки участия в делиберативных процедурах коллабораций становятся ключе-
выми для включения в коллективный субъект и участия в управлении мегасайенс,
а также определяют различимость роли и вклада коллективов и ученых в результаты
больших международных экспериментов, что требует философского осмысления, на
котором должны основываться организационные решения.
Содоклад А.Н . Павленко прошел в критическом ключе. Организаторы надеялись,
что он выступит с концепцией соборности, о которой он пишет в своей книге «Пре-
делы интерсубъективности (критика коммуникативной способности обоснования
знания)». Однако А.Н. Павленко, выдвинув спорную аналогию коллабораций экспе-
риментаторов с работой телефонной станции, пришел к выводу, что через десятки
лет экспериментаторов заменят роботы, как автоматические телефонные станции
полностью заменили труд телефонисток.
В отличие от автоматизации маршрутов телефонных линий, автоматизировать
экспериментальную работу очень сложно. Каждый эксперимент уникален, если мы
214
говорим о фундаментальной науке. Здесь как раз полегает граница между философи-
ей науки и социологией науки. Чтобы что-то измерить, необходим прибор – именно
он обеспечивает связь между теориями, материей и числом – описанием экспери-
мента. Чтобы «приготовить» частицы в определенном состоянии, нужно иметь сред-
ства воздействия на эти частицы. Таким образом, прибор должен входить в понятие
«коллективного субъекта», это «перчатки» и другие орудия, обеспечивающие измене-
ние границ «коллективного субъекта», «эволюцию» его телесности.
Влияние науки на культуру хорошо изучено. В «Международной энциклопедии
сюрреализма» прослежены параллели между развитием науки и искусства – «Далеко
идущие трансформации раннего Модернизма были сформированы как научной, так
и художественной революцией». В статье энциклопедии намечаются связи между
изохроническим развитием двух разных агентов в предположительно антагонистиче-
ских областях в топосах парадоксальности в расцвете модернистской культуры.
Интересно отметить, что некоторые аналогии с «коллективным субъектом» и даже
«соборностью» можно найти еще у К.Маркса. Он писал в 3 томе «Капитала», что «следу-
ет различать всеобщий труд и совместный труд. Тот и другой играют в процессе произ-
водства свою роль, каждый из них переходит в другой, но между ними существует также
и различие. Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое
изобретение. Он обусловливается частью кооперацией современников, частью использо-
ванием труда предшественников. Совместный труд предполагает непосредственную ко-
операцию индивидуумов» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 25. М., 1961. С. 116).
В.С. Пронских, С.Н . Коняев
Пронских Виталий Станиславович – Национальная Ускорительная Лаборатория
им. Э. Ферми, Батавия, США.
Кандидат философских наук; кандидат физико-математических наук, Националь-
ная Ускорительная Лаборатория им. Э . Ферми.
vpronskikh@gmail.com
Коняев Сергей Николаевич – Институт философии РАН, Москва, 109240,
ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института
философии РАН, Москва.
snk-05@mail.ru
Pronskikh Vitaly S. –
Fermi National Accelerator Laboratory, Pine str. & Kirk rd, Bata-
via, 60510 IL, USA.
PhD in Philosophy; PhD in Physics and Mathematics, Fermi National Accelerator La-
boratory.
vpronskikh@gmail.com
Konyaev Sergey N. –
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Gon-
charnaya str., Moscow, 109240, Russian Federation.
CSc in Physics, Institute of Philosophy of Russian Academy of Science.
snk-05@mail.ru
DOI: 10.31857/S004287440007173-5
215
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
История и теория культуры: Альманах. Выпуск 2 (2018) / Философский факуль-
тет МГУ имени М.В. Ломоносова. М.: Изд-во МГУ, 2018. 384 с.
Рецензируемый альманах представляет со-
бой второй выпуск продолжающего ся издания,
в редакционную коллегию ко торого входят ве-
дущие специали сты философского факультета
МГУ имени М.В . Ломоносова в области куль-
турологии: А.А. Кротов (гл. ред.), М.О. Кедрова
(отв. ред.), М.И. Свидерская, Т.Ю. Бородай и
др., а также их коллеги из других вузов (напри-
мер, А.Л. Доброхотов).
Содержание тома отражает современное со-
стояние российской науки о культуре: под одной
обложкой объединены статьи, написанные фи-
лософами, филологами, искусствоведами, во-
стоковедами, музееведами, музыковедами, ме-
диевистами. И хотя данный выпуск посвящен
юбилею доктора искусствоведения, профессора
М.И. Свидерской, искусствоведческой пробле-
матикой он не исчерпывается – его тематика
охватывает различные аспекты философии куль-
туры, эстетики, истории зарубежной филосо-
фии, феноменологии, психологии, текстоведе-
ния, индологии, сакральной топографии, архео-
логии, религиоведения и других гуманитарных
дисциплин, что лишний раз подчеркивает его
ярко выраженную междисциплинарность.
Открывает издание текст доклада М.И. Сви-
дерской, прозвучавшего на ро ссийско -итальян -
ской конференции «Джордано Бруно в контек-
сте российской и мировой культуры».
М.И. Свидерская делится с читателями своими
наблюдениями в области поэтики мифологиче-
ских сюжетов, излюбленн ых корифеями Ренес-
сан са. А втор приходит к выводу, что и для ху-
дожника Каравад жо и для мысли теля-пан теи -
ста Дж. Бруно было характерно во сприятие
действительности как «здесь-и -сейчас- бытие»,
что позволяет сближ ать и сопоставлять то чки
зрения этих двух итальянцев, живших в одно и
то же время (раннего барокко), но чье художе-
ственно е и фило софское творчество р азвива-
лось независимо друг от друга.
И.Н . Духан (Беларусь) прод олжает пробле-
матику, затронутую М.И. Свидерской, акцен-
тируя внимание н а актуально сти изучения и с-
кусства барокко в наше врем я. Его текст – это
анализ вклада юбиляра в со временное ро ссий-
ское иску сствозн ание. Он отмечает характер-
ный для творчества М.И. Свидер ской органи ч-
ный сплав ж анров «но веллы» и «романа», про-
шедших закалку в философском горниле
«науки логики» (с. 19).
В статье В.В. Миронова « Молодость и ста-
рость как культурная дилемма» обсужд аются
извечные вопросы противопоставления культур
«отцов и детей», подчеркивается недопусти-
мость конфронтации этих культур, приветству-
ется равноправный межпоколенческий диалог
(с акцентом н а возрастных хар актеристиках и
возможностях его участников) в усло виях сосу-
ществования и ситу ации мультикультурализма.
Востоковед-индолог В.В. Вертоградова пред-
ставила ценный не только для культурологов, но
и для религиоведов наглядный материал, касаю-
щийся семантики буддийских ступ (см. с. 36–
43). Поскольку М.И. Свидерская внесла боль-
шой вклад в изучение пространственных искус-
ств, обращение к мемориальной культуре древ-
ней и средневековой Индии в аспекте анализа
смысловых пластов архитектоники культовых
сооружений представляется вполне оправдан-
ным. Индологическую и буддологическую тема-
тику продолжила А.В. Ложкина своим анализом
субъекта и метода феноменологической редук-
ции на примере трактата «Катхаваттху 1.1» из
корпуса «Абхидхамма-питаки».
Сакральной топологии и дешифровке ми-
фологической символики неолитических по-
гребений Чатал-Хююка (со вр. Турция) посвя-
щена статья археолога Е.Г. Вырщикова, снаб-
женная весьма репрезентативным изобрази-
тельным рядом зарисовок раскопов курганов.
Д.В. Бугай исследо вал корпус тексто в Эс-
хила и эксп лицировал представления древне-
греческого тр агика о божественной справедли-
вости (см. с. 80 –108). Музыковед А.Г. Богомолов
обратился к вопросу влияния пифагорей ской
традиции на становление науки о музыке и ее
закреплении среди семи «свободных искусств»,
а ан тиковед В.В. Куртов – к культурологиче-
ским аспектам «политэкономии» птолемеев-
ского Египта. Медиеви ст А.М. Шиш ков попы-
тался определи ть значимость для европейско го
Средневеко вья фигуры Герберта Орильякского
(X—XI вв.), подвизавшего ся на церковно -го су-
дарствен ном и педагогическом поприще,
а Т.А . Сегл ина рассмотрела испански е трактаты
XVI в. Франсиско де О ланда и Филипе де Ге-
вара об анти чной живописи.
Информативный, тщательно отобранный и
систематизированн ый дидакти ческий и спра-
вочный материал по истории европейской
культуры (1790–1914 гг.), подготовлен ный
Д.А . Лунгиной и представленн ый в сж атом изло-
жении (см. с. 152 –176), мог бы стать основой
востребо ванно го в акад емической среде учеб-
ного пособия.
216
М.О. Кедрова , как переводчик философ-
ского эссе английского критика середин ы
ХХ в. Герберта Рида, предпослала публикации
перевода свое предисловие, касающееся эсте-
тики Г. Рида.
Поскольку содержание альманаха весьма раз-
нообразно и почти никак не структурировано,
подробно описать в краткой рецензии работы
всех участников проекта (а их около 30 человек)
не представляется возможным. На наш взгляд,
более целесообразно сгруппировать еще не упо-
мянутые публикации по тематическим блокам.
Так, к условной рубрике «Философия куль-
туры» можно было бы отнести статьи А.В. Перцева
об Освальде Шпенглере; М.А. Монина о влиянии
методологии Гуссерля на философию Поля Ри-
кёра; М.А. Хаменкова о философии техники
Л. Мамфорда; В.В. Васильева о визите Л. Витген-
штейна в советскую Россию; А.А. Кротова о про-
екте «научной философии» Теодора Жуфруа; ин-
тервью М.О. Кедровой с Г.Ч. Гусейновым. А к руб-
рике «Философии истории» – две статьи
К.Ю. Аласания и М.В. Гурьяновой, объединенные
сквозной проблемой культурной памяти; Е.О. Ро-
зовой о критическом отклике Люсьена Февра на
французский трехтомник 1932 г. «История Рос-
сии с древнейших времен до 1918 г.».
Рубрика «Музыковедение», помимо статьи
А.Г. Богомолова , включила бы «Роль абстракций
и экспериментов в становлении музыки Нового
времени» В.Н . Кульбижекова , а «Литературове-
дение» – статью В.Д. Алташиной, в ко торой в
сравнительном ключе рассматривается творче-
ское н аследие Маркиза де Сад а и Л.Н . Тол-
сто го; П.А . Токма чевой о писательнице Вернон
Ли – англичан ке по происхождению, но воспе-
вавшей красоты Флоренции; О.С. Мягково й
о роли автора в постструктурали стском дис-
курсе; С.Д. Серебряно го о сложностях перевода
на идиш стихотворений Рабиндраната Тагора.
Несколько особняком, отчасти попад ая в поле
притяжения ли тературоведения, а отчасти –
философии мифа и психоан ализа, стоит текст
О.М. Сед ых и А.А . Соловь евой, касающийся эво-
люции мифологемы Фау ста в литературе и ки-
немато графе XIX–XXI вв.
Представляется, что все текст ы, помещен-
ные в данн ый альман ах, достойны присталь-
ного внимания заин тересованных читателей.
В качестве пожелания хотелось бы отмети ть
два момента:
1) на наш взгляд, такой фундамен тальн ый
труд целого коллектива авторов нуждается в
предисловии и послесловии редактора – глав-
ного или ответственно го. Если о сновн ая функ-
ция предисловия – это введени е в общую
проблематику, фокусировка читательско го
внимания н а определен ном «горизонте смыс-
лов», сопряжение р азличн ых точек зрения, экс-
пликация не всегд а очевидных читателю пере-
кличек контекстов, линий методологической
и/или предметной преемствен ности, то функ-
ция послесловия – финализирующая, подыто-
живающая полученн ые результаты, поскольку
далеко не всегд а соавторы в заключении своих
статей артикулируют собственные выводы;
2) поскольку это уже второй выпуск и ожи-
дается третий, можно кон статировать, что
сформировало сь тематическое «ядро» альма-
наха. И, н а н аш вз гляд, целесообразно ввести
рубрикацию разделов альманаха наподобие
журнальной, что о тчасти было реализовано в
данной рецензии. Разумеется, многие авторы
работают в междисциплинарном ключе. Тем
важн ее предусмотреть такие широкие поля раз-
делов, которые, с одной стороны, не стесн яли
бы авторов, а с другой – легко настр аивались
бы под конкретный массив текстов (редакци-
онный «портфель»).
Резюмируя, можно сказ ать, что альман ах
«История и теория культуры» – дин амично
развивающийся коллективн ый проект кафедры
истории и теории мировой культуры философ-
ского факу льтета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Хотелось бы пожелать всем его со авторам даль-
нейших творческих успехов и новых исследо-
ватель ских открытий.
И.П. Дав ыдов
Давыдов Иван П авлович – Мо сковский
государ ственн ый универси тет им. М.В . Ломо-
носова, философский факуль тет, Мо сква,
119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект,
д. 27, корп. 4.
Кандидат философских наук, доцен т, до-
цент кафедры философии религии и религио-
ведения философско го факультета МГУ имени
М.В . Ломоносова.
ioasaph@yand ex.ru
Davidov Ivan P. – Faculty of Philosophy, Lo-
monosov Moscow State University, 27/4, Lomon-
osovsky av. GSP -1, Moscow, 119991, Russian
Federation.
CSc in philosophy, associate p rofessor of Fac-
ulty of Philosophy, Lomo nosov Moscow State U ni-
versity, Moscow.
DOI: 10.31857/S004287440007174-6
217
Ницше сегодня. Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая.
–
М.: Издательский
Дом ЯСК, 2019. 312 с.
*
Книга являет собой чрезвычайно интерес-
ное продолжение серии коллективных моно-
графий о фило софии Ф. Ницше, задуманных и
реализуемых Ю.В . Синеокой. Предыдущее из-
дание представляет трехъяз ычн ый сборник
«Фридрих Ницше: наследие и проект» (2017),
в ко тором переосмысляются актуальные сю-
жеты мирового ницшеведения. Новый том до-
полняет и развивает это т разговор.
Статьи сборника созданы на осно ве лекций
из цикла «Творчество Ницше в историко -фи-
лософском контексте», прочитанных в Мо скве
в октябре-декабре 2015 г. в рамках проекта
«Анатомия фило софии: как работает текст»,
инициированного Ю.В . Синеокой. Работа тек-
ста как процесс, который выражается не только
в словах, но и в судьбах людей, иллюстрируется
на страницах книги красочными фотографи-
ями лекторов и публики, ведущих диалог. Пло-
дородную почву для такого диалога следует ис-
кать в з авершенном в 2014 г. в русском пере-
воде Полном собрании сочинений Ницше в 13
томах. Ю.В . Синеокая освещает этапы русской
ницшеаны на основе не только опубликован-
ных рабо т, но и архивных материалов, показ ы-
вая причины как популярности, так и непопу-
лярности в России Ницше как философа –
и сам ые драматичные страницы в этой истории
пришлись, пожалуй, на тридцатые и сороковые
годы XX в.
Замечая у Ницше пугающе то чные предвос-
хищения событий XX в., важно не смешивать
исторически локализованные « актуализации»
его идей с его собственной идеей будущего,
предостерегает И.А . Эба ноидзе в статье «Ницше
и будущее». Автор показывает, что Ницше
стремился в будущее, пытаясь скон струировать
то сообщество, от имени которого, как ему ка-
залось, он говорил. Но это будущее оставалось
у него недоказанн ым, высказывания – трудно
постижимыми, очертания будущего сообще-
ства – смутными, а его пророки, по собствен-
ному признанию Ницше, «недоносками»
(с. 44). Тем н е менее И.А . Эбаноидзе прочи т
Ницше большое будущее, в котором его идеи
найдут свое время, а пока, как он полагает,
Ницше спасается в «послез автрашний день»
(с. 51) и помогает нам увидеть в технических и
генетических модификациях человека не апо-
калипси с или цель истории, а только ступень
на пути к «новому преодолению» (с. 56–57).
Размышлять о будущем можно и с точки
зрения настоящего, стоя в середине пути, в «ве-
ликий полдень», как показывает следующая
* Данная публикация поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Про-
граммы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта. This publication was supported by
the Russian Academic Excellence Project at the Immanuel Kant Baltic Federal University.
статья, автор которой обращается к теме метафи-
зики мгновения у Ницше. В заглавие своей статьи
В.А. Подорога берет надпись на камне, которую
разглядывают аркадские пастухи на картине
Н. Пуссена: Et in Arcadia Ego. Ницше заинтересо-
вался этой картиной в процессе создания работы
«Человеческое, слишком человеческое». Не сим-
вол смерти, а сама смерть сторожит покой и «сча-
стье жить» в Аркадии, объясняет В.А. Подорога и
считает, что Ницше разгадал загадку бессмертия.
Разгадка, с одной стороны, – в «разумной»
смерти, а с другой – в преодолении жажды бес-
смертия (см. с. 69–70). Но осмыслением бренно-
сти человека эта тема не заканчивается, автор
раскрывает её с помощью тех концептов Ницше,
которые, на мой взгляд, можно назвать элемен-
тами онтологии процесса: continuum и «вечное
возвращение всегда равного», становящееся бы-
тие и превращение.
А.А. Россиус вместе с Ницше погружает нас
в мир греческой трагедии, в котором индивид
находит самоутверждение «не в иной жизни, не
в грядущем мире, но в ужасе и исступлении» пе-
ред судьбой, принимая и утверждая бездну чу-
жого страдания и тем самым радостно утверждая
значение своего существования (см. с. 102). Эта
идея, полагаю, имеет большой и уже много-
кратно воплощенный потенциал для личности и
искусства постмодерна с его неофаталистиче-
ским мироощущением. Впрочем, в центре вни-
мания автора статьи вовсе не сама трагедия.
А.А. Россиус переосмысливает «Рождение траге-
дии» Ницше в свете его поздних работ и выяв-
ляет ряд неочевидных аспектов, в числе кото-
рых – содержание самой идеи этой книги, поз-
воляющее понять накал той полемики, которая
шла вокруг «Рождения трагедии» не менее полу-
века после публикации. «Почти невротический»,
по выражению Россиуса, накал этой полемики
свидетельствует о том, что современники
Ницше не осознали ключевое содержание идеи
этой книги, ибо ее автор болезненно затронул,
хотя и неотчетливо артикулировал проблемы,
еще не явные для той эпохи. Главной неявной
темой этой книги А.А. Россиус полагает субъек-
тивность в ее эстетическом измерении, а идеей
этой книги – отрицание дихотомии восприни-
мающего субъекта и вещи-в-себе наряду с во-
площением в Аполлоне и Дионисе двух типов
разрешения изначального противоречия между
первоначальным единством и принципом инди-
видуации. В трагедиях Эсхила и Софокла был
достигнут идеальный баланс между дионисий-
ским и апполоническим, но уже у Еврипида этот
218
баланс был нарушен под влиянием Сократа (см.
с. 103, 111–112). Это, по мнению Ницше, имело
пагубные последствия «для культуры и для чело-
веческого сознания в целом» (с. 103). В допол-
нение к этим размышлениями А.А. Россиус об-
ращается к личным мотивам полемики фило-
лога-классика Ульриха фон Вилламовица-Мёл-
лендорфа против Ницше.
Cоотношение антропологической традиции
немецкой класси ческой философии с идеями
Ницше в свете их интерпретации Фуко, Шеле-
ром и Хайдеггером представляет читателю
А.Г . Жаворонков. Как отмечает в своем преди-
словии Ю.В . Синеокая, такой подход в целом
достаточно нов, поскольку в ницшевед ени и до-
минирует антиантропологическая ин терпрета-
ция, использующая идеи Ницше против со вре-
менной философской ан тропологии. А .Г. Жа-
воронков указывает на то, что принятая мно-
гими современными ницшевед ами антрополо-
гическая интерпретация Ницше размыта и
фрагментарна.
Распростран енный
подход
к рассмо трению любой дошелеровской антро-
пологии в отдельности от других приводит к
тому, что место Ницше в ан тропологической
традиции остается неясным. Усугубляется эта
ситуация тем, что Ницше « чаще всего по -преж-
нему счи тают мар гинальн ым противником
немецкого идеализма, в том числе всех его
ключевых понятий и вопросов» (с. 127). Пред-
принятая А.Г . Жаворонковым попытка обо сно-
вать наличие единой традиции и возможность
единообразного подхода к анализу антрополо-
гических проектов немец кой классической фи-
лософии интересн а уже сама по себе. Решается
эта з адача автором статьи путем ан ализа о тве-
тов фи лософо в на три вопроса, которые одно-
временно важны и для понимания позиции
Ницше: в чем различие между человеком и жи-
вотным; что чело век может и должен сделать
из самого себя, т.е. где пролегают антрополо-
гические границы; в чем заключается сам ме-
тод антропологии.
Сравнительный анализ идей Гегеля и Ницше
о человечности в обоих значимых для ницще-
ведния контекстах – в западноевропейской и
российской философии – проводит в своей ста-
тье Н.В. Мотрошилова. Она показывает, что в
подходе Гегеля непреходящий интерес представ-
ляет его обращение к проблеме пределов прак-
тической реализуемости всеобщих принципов,
а также его внимание к «эмпирической человеч-
ности» и повседневной жизни людей, в которой
требования гуманности не выполняются и заве-
домо неисполнимы. Гегель классифицирует «за-
коны» и принципы гуманности не как законы
разума, а как заповеди. Н.В. Мотрошилова об-
ращает внимание на то, что Ницше, критикуя
«лицемерную гуманность», помимо справедли-
вых и конструктивных указаний позволяет себе
«эпатаж и передержки» (с. 165), которые в свою
очередь заслуживают возражений, хотя и не та-
ких, которыми изобилует ложный образ Ницше,
составленный рядом российских философов.
Например, Л.М. Лопатин, Н.Я. Грот и
П.Е . Астафьев представили Ницше как «одино-
кого, всеми презираемого страдальца, наказан-
ного Богом за безбожие» (с. 168). В действитель-
ности же Ницше еще в молодости был замечен
современниками как оригинальный философ.
Н.В . Мотрошилова признает ницшевские «раз-
облачения лицемерной “гуманности”» (с. 172)
современными и даже необходимыми ради об-
новления ценностей и принципов настоящего
гуманизма.
И.А. Михайлов тщательно прослеживает ин-
терпретацию Ницше Хайдеггером, а также ее
значение для современности, в частности, для
характеристик «постмодерна» в работах Дж. Ват-
тимо. Замечу, что «Ницше и постмодерн» – до-
вольно заметная тема во всем корпусе актуаль-
ных российских публикаций о Ницше. Еще в
предисловии Ю.В. Синеокая напомнила, что
именно «основатели» философии постмодер-
низма – Делёз, Фуко, Деррида – сломали сте-
реотип отношения к Ницше как идеологу наци-
онал-социализма. И.А . Михайлов убедительно
показывает, что для Хайдеггера Ницше – один
из центральных персонажей в поле его внима-
ния с середины 1930-х до начала 1960-х гг., ин-
тересный как свидетель развития «нигилизма»
в европейской культуре. После публикации
хайдеггеровских «Черных тетрадей» Ницше
стали чаще упоминать как «учителя» Хайдеггера,
и в этой связи один из самых интересных вопро-
сов статьи И.А. Михайлова – не следует ли
Хайдеггер за политической модой, обращаясь к
идеям Ницше в период, когда тот был востребо-
ван национал-социалистами? Не хочу здесь рас-
крывать ответ автора статьи, но укажу, что, по
мнению И.А. Михайлова, в насаждении полити-
ческого и социального единообразия Хайдеггер
в конце тридцатых годов видел «выражение всё
тех же нигилистических тенденций» (с. 196),
против которых он выступал как на заре, так и
на закате своего творческого пути.
Статья М.Л. Хорькова для многих станет
настоящим откровением, поскольку показы-
вает, чем интересен Шелер помимо своих до-
стиж ений в области философской антроп оло-
гии, на которых преимущественно концентри-
руются российские курсы фи лософии. Этот ди-
дактический казус обусловил весьма односто-
ронний интерес к Шелеру среди историков фи-
лософии в Ро ссии. М.Л. Хорьков предлагает
рецепт исправления этой ситуации и представ-
ляет Шелера «гр андиозным» читателем Ницше,
предпринявшим, возможно, «наиболее суще-
ственную попытку ад аптации ницшевских фи-
лософских интенций к философским нуждам
219
XX века» (с. 203). Эта адаптация раскрывается
у Шелера зачастую или как скрытая рецепция,
или как «непрямая полемика» с текстом
Ницше, ко торый стал д ля Шелера «непремен-
ным участником внутренн его философско го
диалога» (с. 208). Влияние Ницше на философ-
ский язык Шелера чу вствуется даж е в темах,
с Ницше н епосредственно не связ анных. Язык
Ницше использу ется Шелером для выражения
собствен ных мыслей, особенно в архивных
набросках, «автоматически и как бы совер-
шенно нео сознанно» (с. 208). Автор статьи от-
дельно сравни вает концепции ресен тимен та у
Ницше и Шелера. Согласно послед нему, ре-
сен тимент – это мораль успешных, он лежи т
в основе стремления к любому превосходству,
к лучшему вместо хорошего. И в этом Шелер
сходится с Ницше, выступая против апологии
протестан тского этоса у М. Вебер а. Соб-
ственно, и критика христи анства у Ницше, со-
гласно М.Л. Хорькову, – это критика его со-
временников,
протестан тских бюр геров.
Но Шелер иначе видит главн ый посыл христи-
анской этики: не в успешности, а в жертвенно-
сти и преодолении ресентимента.
Резким контрастом по отно шению к анали-
тичному стилю предыдущих авторов выгляди т
первая часть статьи В.К . Кантора «Достоевский
и Ницше в кон тексте европейского кризиса
христианства конца XIX – н ачала XX века»,
в самом начале которой автор заявляет:
«Ницше философствовал молотом», поскольку
переоценивал ценно сти, бо льшей частью со-
крушая их. Двумя его наиболее влиятельными
идеями автор называет сверхчело века и волю к
власти, которые ставятся им в кон текст ката-
строф XX в. Далее следует глубокая и отнюдь
не хрестом атийная, на мой взгляд, ин терпрета-
ция образов Достоевского, главных героев его
книг. Достоевский и Ницше, согласно автору
статьи, – выразители кризиса христианства,
так что их идеи переплелись в сознании интел-
лекту алов XX в. Причем Достоевский заго во-
рил о кризисе христианства раньше Ницше,
и Шестов д аже писал о Ницше как «продолж а-
теле» Достоевско го (см. с. 230). Здесь уместно
вспомнить, что в XIX в. это был уже не первый
кризис христианства. В .К . Кантор в этой связи
упоминает Ортегу -и -Гассета, н азвавшего это т
феномен «во сстанием масс». И это была только
первая проблема: во сстание языческих смыс-
лов, которые в низших слоях народа жили
своей жизнью под «слабым сло ем» христиан-
ства. Второй проблемой, по мнению автор а
статьи, стало выступление народа против хри-
стианства в соци ализме и национал- соци а-
лизме, третьей проблемой – вопрос о м еханиз-
мах социальной регуляции, которые могли бы
прийти на смену христианским установкам
(см. с. 231 –232).
Ницше предвидел грядущее «восстани е
масс» и был уверен, что христиан ство окажется
их организатором, подвигнет слабых на рево-
люцию, д аст им власть. Выяснило сь, однако,
что массы поднимаются на рево люции как раз
с антихристи анским пафосом. И это предви-
дел, к своему ужасу, Достоевский: «Уже в
1840-е годы он увидел выступление на и стори-
ческую арену бедных людей, человека обще-
ственно го низа, даже дна. Это была уже не под-
питка высших слоев отд ельными яркими фигу-
рами из бедноты, но явление нового класса лю-
дей» (с. 233). В образе великого инквизитор а
Достоевский разоблачает грядущий тоталита-
ризм. Что же касается центрального у Ницше
образа сверхчеловека, то у Достоевского ему
соответствует фигура Христа: сверхчеловек уже
состоялся в истории, и не стоит надеяться н а
его победу в будущем, поскольку в этом мире
Христос бессилен победить зло, «добро всегд а
унижено и распято, оплевано н ародом, тем
народом, к которому добро нисходит» (с. 245).
Возвращаясь к нашей современности и к
ближайшему, уже почти осязаемому буду-
щему, Ю.В . Син ео кая в сво ей з авершающей
сборник статье «Проект нового человека в
россий ском н ицшеан стве» по каз ывает, как
ни цшеан ский про ект формир овани я но во го
человека слу жи л о тветом н а класси ческие во -
просы русской интеллигенции «кто виноват ?»
и «что делать ?» и оказал существенное влия-
ние на смены философских парадигм в Рос-
сии на рубеже XIX–XX и XX–XXI столетий.
Россия прошла изломанный путь в своей ре-
цепции у чения Ницше о сверх чело веке. В ев-
ропейской традиции в этом учении увидели
опыт отказа от антропологического принципа
и кон цепцию преодо лен ия человека. В Ро сси и
это у чен ие было по нято р ади кальн о, вн ачале
как (анти)-идеал и (анти)-цель становления
человечества, а з атем, по сле р еволюци и
1905 г., «нередко как прямое руководство к
действию по созданию человека нового типа»
(с. 266). В первом понимании Ницше предстал
как биологизатор и имморалист, как пример
вырождения христианских ценностей. Но
вскоре, уже в первом десятилетии XX в., когда
интеллектуалы задались вопросом «Что де-
лать?» и стали искать новые идеалы на смену
классической декар то во -кан то вской п ар а-
дигме культуры, – тогда заново открыли
Ницше, и «с легкой руки В.С. Соловьева»
(с. 268) ид ея сверх человека была и столко ван а
в мистическом и религиозном ключе как ори-
ентир для творчества и экспериментов над со-
бой. В разных трактовках в сверхчеловеке раз-
глядели и воп лощени е хри сти ан ско го ид еала,
и даже богочеловека, и коллективное, собор-
но е начало , пр еодолевающее и нд ивидуализм
личности.
220
«Золотой век» ро ссийской ницшеан ы пред-
ставлен в статье во всем его многообразии:
Ю.В . Синеокая н апоминает о том, кто наз вал
ницшевского сверхчеловека ан тихристом; объ-
ясняет, как соотносятся сверхчеловечество и
богочеловечество в понимании В.С . Соловьева;
раскрывает интерпретацию идеи сверхчело века
у С.Н . Трубецкого, обн аруживает ницшеан ство
в символизме А. Белого и чрезвычайно пер-
спективную тр акто вку Ницше у В.И. Иванова,
во многом противоположную трактовке Соло-
вьева. Ницшеан ский замысел Л. Троцко го
(опубликованный уже в 1900 г. !) сопоставля-
ется в статье с пророческими размышлениями
С.Л. Франка о последствиях реализации подоб-
ных проектов. Дореволюционное знаком ство
интеллиген ции с Ницше повлияло и на специ-
фику интерпретации марксизма в Ро ссии,
а в социально-ан тропологическом проекте со-
ветско го государства учение Ницше продол-
жало звучать эхом, несмотря н а официальное
отверж ение, которое во многом было вызвано
тем, что идеи Ницше были уже скомпромети-
рованы и вульгаризированы в бескон ечных по-
пытках популяризации и дискуссиях, которые
вела читающая публика Серебряного века.
В официальной версии большевиков в двадца-
тые годы в качестве ориен тира для во спитания
человека будущего был выбран фрейдизм,
и это т выбор был поддержан Троцким, кото-
рый некогда симпатизировал Ницше. И всё ж е
по сути вовсе не Фрейд и не Маркс, а Ницше
был автором идеи «переделки человека, экспе-
риментально опробованной в Ро ссии начала
ХХ столетия», и «логическо го основания ро-
мантической мечты о сверхчело веке» (с. 293).
Такое активное, хотя и опосредованно е
участие философии Ницше в исторических со-
бытиях XX в. поднимает в отношении Ницше
(как и Х айдеггера) вопрос об ответственности
мыслителя за реализацию н а практике выска-
занных им идей, которые в предшествующие
века можно было бы задать Вольтеру или Гоб-
бсу. Ю.В . Синеокая дает ответ на этот вопрос в
отношении Ницше: он никогда не связывал
себя какими-то определенн ыми обязатель-
ствами по изменению о бщества или человече-
ства. В своих сочинениях он не дал четко го
определения ни «сверхчеловеку», ни «чело-
веку», он использовал лишь метафоры и сим-
волы, подчеркивая тем сам ым, что человек еще
не состоялся и его эволюцию невозможно
предугадать. Заблуждается то т, кто буквально
воспринимает эти символы. Это не системати-
ческое учение, а сред ство критическо го ан а-
лиза и «перспективации» смысло в (см. с. 272).
Получила ли сегодня в России ницшев-
ская ид ея сверх человека акад еми ческий ста-
тус, ту самую умеренную, сдержанную, теоре-
ти ческую тр акто вку, котор ая пред ставлен а в
начале статьи Ю.В. Синеокой и выгладит
наиболее убедительной и адекватной? – Ока-
зывается, хар актер ин терпретации этой идеи
остается по -пр еж н ему приклад н ым. Боль ше
всего Ницше интересует творцов политиче-
ских и научно-фантастических мифов. По-
мимо них, по клонни ками Ницше выступ ают
трансгуманисты с их стремлением экспери-
мен тиро вать с человеческими воз мо жно стям и
и границами: сверхчеловек стал синонимом
постчело века, а сам Ницше – вспом ним сло ва
И.А . Эбаноидзе – перемещается из завтраш-
него дня в послезавтрашний. В целом сегодня
ведущая точка зрения на философию Ницше,
по мнению Ю.В. Синеокой, состоит в утвер-
жд ен ии «при ори тетного вним ани я к субъек-
ти вному н ачалу человеческой ли чно сти » в по -
исках выхо д а «из и деоло ги ческо го вакуум а и
нигилизма» (с. 270).
В заключение хотелось бы добави ть к без-
условным достоинствам сборника то, что ав-
торы статей – авторитетн ые специ алисты –
хотя и дают указания по интерпретации труд-
ного для понимания образного наследия
Ницше, но при этом явно обозначают его гер-
меневтическую вариативно сть и отнюдь не
навяз ывают единственно верные способы то л-
кования.
А.С. Зильбер
(Калинингр ад)
Зильбер Андрей Сергееви ч — Балтийский
федеральный универси тет им. И. Канта, К али-
нинград, 236041, ул. А . Невского, д. 14
Младший научный сотрудник Академии
Кантианы Института гуманитарных наук Бал-
тийского федерального университета им.
И. Канта.
AZilber@kantiana.ru
Zilber And rey S. – Immanuel Kant Baltic
Federal University, 14, A. Nevskogo str., Kalinin-
grad, 236041
Junior Researcher at the Academia Kantiana,
Institute for the Humanities, Immanuel Kant Bal-
tic Federal U niversity, Kaliningrad.
DOI: 10.31857/S004287440007175-7
221
Axel HONNETH. Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Aktualisierung. Berlin: Surkamp
Verlag, 2017. 200 S .
А. ХОННЕТ. Идея социализма. Попытка актуализации
Автор этой книги – Аксель Хонн ет, н емец-
кий философ и социоло г, директор Института
социальных исследований во Франкфурте-на-
Майне. Возглавляя Ин ститут, он продолжает и
развивает идеи своих предшественников в рам-
ках критической теории «Франкфуртской
школы» (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Мар-
кузе, Э. Фромм и др.), имевшей наибольшее
воздействие на фило софию и социальную
мысль в 1940–1970-хх гг. и до сих пор еще не
утратившей своего влияния. Хоннет считается
одним из самых выдающихся мыслителей со-
временно сти и занимает почетное место в ин-
теллектуальн ых кругах н аряду с такими круп-
ными фигурами, как Ю. Хабермас, З. Баум ан,
У. Бек, Дж. Роулз.
Значимость темы тоже не вызывает сомне-
ний, хотя она определяется отн юдь не перспек-
тивами соци ализма. Ценно сть книги заключа-
ется в том, что автор обращается к острейшим
социальным вопросам совр еменно сти, таким,
как растущая пропасть между бед ностью и бо-
гатством, несправедливо сть в р аспределении
общественного богатства, сокр ащение среднего
класса, отсутствие гар ан тий в сфере з анятости
и т.д . При этом он пытается на теоретическом
уровне искать пути решения этих вопросов, ис-
пользуя типичные для з ападного мышления
методологические подходы.
Набрасывая контуры ново го общественного
устройства (во многом идеального), и опираясь в
целом на иные теоретические принципы и авто-
ритеты, чем это было принято в нашем прежнем
обществоведении, автор называет его за неиме-
нием другого определения социалистическим.
Впрочем, понятие «социализм» сегодня стало до-
статочно абстрактным, поэтому мы должны сразу
же отказаться от ассоциаций со знакомым нам
социализмом, имевшем место в нашей недавней
истории. Социализм (в советском варианте) автор
совсем не упоминает в данной книге, развертывая
свое понимание социализма с преимуществен-
ным акцентом на нравственно-гуманистические
принципы как на уровне конкретной личности,
так и на уровне общества.
Излагая мотивы, которые подтолкну ли его
к написанию книги, А. Хоннет обращает вни-
мание на резко из менившееся отношение к со-
циализму, который менее ста лет тому наз ад
был таким мощным общественным движ ением,
что крупные теоретики того вр емени считали
своим долгом посвящать ему рабо ты, хотя и с-
ходили при этом из разных политических
взглядо в и теорети чески х подходов. Теперь же
ситуация принципиально иная: социализм,
если и упоминается, то лишь в негативном
ключе как переживший свое время: ему не дове-
ряют и не верят, что он еще способен указать ка-
кие-то воодушевляющие альтернативы капита-
лизму. Макс Вебер, полагает Хоннет, очень уди-
вился бы тому, что «роли двух больших против-
ников XIX в. поменялись: религия как этическая
сила принадлежит будущему, социализм, напро-
тив, воспринимается как духовное творение про-
шлого» (S.11). Автор книги убежден в том, что
такая тенденция развивается слишком быстро и
поэтому не может быть полной правдой – это
первый его мотив, побудивший написать данную
книгу. Он верит в то, что «в социализме еще име-
ется живая искра, если его главную идею реши-
тельно вырвать из коренящегося в индустриа-
лизме способе мышления и встроить в новые об-
щественно-теоретические рамки» (S. 12).
Второй мотив заключается в стремлении
двигаться вперед по сравнению с той перспек-
тивой, которая была уже намечена им в работе
«Право свободы, о черк демократической нрав-
ственно сти» (2011), в которой его концепция
разворачивалась вокруг ключевой ценности
сво боды и ее разнообразных форм проявления
в процессе модернизации. Это давало ему воз-
можность обо сновать общественный порядок,
устроенн ый институционально совершенно
иначе, из которого мож ет вытекать другое по-
нимание прогресса.
В качестве исходного пункта своих раз-
мышлений Хоннет взял трудно объяснимое со-
стояни е современно го общества, которое, с од-
ной стороны, испытывает глубокую неудовле-
творенно сть соци ально-экономическим поло -
жением, особенно усилившуюся в связи с гло-
бализацией. А с другой – н аличи е со вершенно
нового явления в истории современн ых об-
ществ – отсутствие массо вого протеста и ка-
ких-либо представлений о желаемом обще-
ственном порядке вне капитализма.
Причины этого Хоннет отн юдь не усматри-
вает в крушении коммунистического режима,
на что обычно ссылаются неко торые интелле к-
туалы. Он также отвергает и другую, часто
называемую причину – внезапное изменение
коллективно го сознания из-за вступления об-
щества в эпоху «постмодерна» с его настойчи-
вым обесцениванием представления о линей-
ном прогрессе и глубокой верой в то, что буду-
щее не может предложить ничего другого,
кроме как проигрывания привычных жизнен-
ных форм или социальных моделей прошлого.
Объяснение атрофии утопических пред-
ставлений Хоннет склонен усматривать в чрез-
мерных надежд ах на н ейтральные и интернаци-
онально санкционированн ые права чело века,
222
которые по определению не могут н агружаться
утопическими ожиданиями. Кроме того, соци-
ально-экономические процессы благодаря гло-
бализации представляются общественному со-
знанию сегодня как слишком сложн ые и по-
этому непрозрачные для того, чтобы можно
было помыслить какое- либо дополнительное
вмешательство. Появилось всеобщее убежд е-
ние, что социальные отношения есть "вещные"
отношения, лишенные реальности и поэтому
неподвластные любому человеческому вмеша-
тель ству. Но именно теперь, как никогда в про-
шлом, замечает Хоннет, получает свое истори-
ческое право знаменитый ан ализ фети шизма
Маркса. Предсказан ное им понимание обще-
ственн ых отношений объясняет, почему массо-
вое возмущение очевидной несправедливо стью
в распределении богатства и власти потеряло
всякий смысл и над ежду.
Хоннет стремится к более глубокому и тео-
ретически фундированному объяснению дан-
ного феномена. В связи с этим его ин тересуют
два связанных друг с другом вопроса: 1) какие
внутренни е или внешние осно вания привели к
тому, что идеи соци ализма кажутся без воз-
вратно утрати вшими свой побудительный по-
тен циал; 2) какие концепту альные преобразо-
вания н еобходимо произвести в социали стиче-
ских идеях, чтобы они могли вернуть сво ю
утраченную вирулен тность (зарази тельно сть).
Для реализации поставленной цели автор
прежде всего реконструирует первоначальную
идею социализма (гл. I. «Первоначальная идея:
снятие революции в социальной свободе»). Затем
обращается к причинам, которые сделали эту
идею устаревшей (гл. II . «Устаревшее мышление:
привязанность к духу и культуре индустриа-
лизма»). После основательной критики теорети-
ков раннего социализма автор предпринимает по-
пытку обновить устаревшие идеи при помощи
новых концептуальных подходов (гл. III . «Пути
обновления (1): социализм как исторический экс-
периментализм» и гл. IY . «Пути обновления
(2): идея демократической формы жизни»).
В критической части своей книги, составля-
ющей половину его труда (гл. I, II), Хоннет наме-
ревается освободить социализм от шлаков XIX в.,
коренящихся в его способе мышления, и придать
ему облик, соответствующий современности. Ав-
тор обращает внимание на те теоретические про-
тиворечия, нестыковки и пробелы, которые
наблюдались у ранних социалистов (Р. Оуэн,
Ш. Фурье, А. Сен-Симон, Л. Бланк, П.- Й. Пру-
дон), а также на недостатки теорий, посвященных
рационализации социалистического проекта и
его редукции к справедливому распределению ре-
сурсов (Э. Дюркгейм, Д.-С . Милль, Й. Шумпе-
тер). Проблема социальной свободы у ранних со-
циалистов была связана исключительно со сфе-
рой общественного труда при игнорировании
ими политической демократии и возможных в
ее рамках других форм свободы. Хоннет наз ы-
вает это вро жденным дефекто м социалистиче-
ского проекта, и бо экономическая сфера пред-
ставлялась цен тральн ым и единствен н ым ме-
стом борьбы за свободу.
Но для такого подхода у ранних социали-
сто в имелись три объективные предпосылки,
связ анные с процессом индустриализации, на
которые указывает Хоннет. Первая – это капи -
тали сти ческая модернизация и мощная дина-
мика начавшейся индустриализации, которая
соблазняла тем, что в ее организационн ых воз-
можностях и всеохватывающей интегр ации об-
щественного труда лежат источники политиче-
ского управления. Второе проблем атичное до-
пущение состояло в том, что капитали стиче-
ская си стема изн ачально имеет противника
в образе революционно настроен ного пролета-
риата. Третья предпосылка о сновывалась н а
представлении о закономерности прогресса че-
ловеческой истории, приводящего к убежде-
нию в том, что общественная формация, харак-
теризуемая как «соци алистическая» – это та
ступень в и сторическом процессе, которая
в обозримом будущем обязательно н аступит с
почти закономерной неизбежностью.
Однако все эти обстоятельства благодар я
технологическим новшествам, социальным
структурным изменениям и политическим ре-
формам радикально изменились. В результате
уже в 1960–70 -е гг. представления отцов-о сно -
вателей утр атили свою первоначальную при-
влекательную силу, так как их теоретические
предпосылки были глубоко укоренен ы в
XIX веке. Необходимо было не только оконча-
тельно распрости ться с идеей пролетариата как
революционным субъектом, но и заменить
представление об истории постепенн ым экспе-
риментализмом с тем, что бы шаг за шагом пре-
одолевать соци альные зависимости и больше
не опираться н а знания о каких-то историче-
ских закономерностях. Поэтому Хоннет видел
свою главную з адачу в том, что бы о свободить
социализм от его старого спо соба мышления и
найти ему теоретическую замену, сво бодную о т
духа индустриализма.
Соответственно две следующие главы он
посвяти л тому, чтобы найти теоретическую з а-
мену, отвечающую запросам н ашего времени.
В качестве таковой ученый выдвинул соци аль-
ную свободу, которая является для него кон-
сти тутивной и пронизывает все содержание
книги в качестве значимого общественного
идеала. Его анализ разнообразных соци алисти-
ческих теорий и моделей осуществляется ис-
ключи тельно через призму социальной сво-
боды. Это вполне естественно и логично для
Хоннета, поскольку свобода – это устойчи вый
концеп т и типичная парадигм а европей ско го
223
философско го мышления. Чтобы соци альная
сво бода в будущем смогла стать точкой пово-
рота и осью всех практических усилий, внутри
современ ного общества предполагало сь опре-
делить институциональное место свободы.
В этой связи Хоннет указ ывает на наступившие
социальные улучшения и институциональные
достижения, такие, как д емократическое воле-
изъявление, а также те сферы человеческой
жизни, на которые не обращал внимание ран-
ний социализм – сферы любви, брака и семьи.
По Хоннету, борьба за условия социальной
сво боды в сфере любви, брака и семьи должна
стать первоочередной: женщин внутри это го
рассадника мужской власти нужно настолько
освободи ть от экономической зави симости и
исполнения возложен ной на нее односторон-
ней деятельности, что бы она могла стать рав-
ноправным партн ером в отношениях, создан-
ных на основе взаимности.
Таким образом, обновленный соци ализм
должен стремить ся к гармонизации соци аль-
ной свободы в различных сферах. Для обосно-
вания подобной гармонизации Хонет опира-
ется на со циальную философию Гегеля с его
идеей о том, что социальные сферы должн ы
функционировать со вместно как органы од-
ного тела для во спроизводства цело стно го об-
щества. Следовательно, три функцион альные
сфер ы – ли чные отношения, эко номические
действия и демократическое во леизъявление –
должны взаимно дополнять друг друга для реа-
лизации общей цели. Вера во всемирно -исто -
рическую зад ачу коллективной субъективности
в обновленном социализме заменяется пони-
манием того, что смена ин сти туциональных
достижений не терпит произвольного слома,
они и в будущем могут иметь свое продолже-
ние. Социальная структура социализма при
этом постоянно преобразуется, имеет неясные
границы и в ито ге представляет сильно флук-
туирующую, хрупкую структуру. Но как раз эта
открыто сть, это пульсирующее внимание к раз-
личным темам и перспективам, убежден Хон-
нет, дают гар антии, что ж алобы на ущемление
сво боды будут услышаны из всех уголко в об-
щественной системы.
Однако при этом для автора остается труд-
ный вопрос: должен ли пониматься соци ализм
как национально -общественный про ект или
главным о бразом интерн ацион альный. Из -з а
акту альной си туации размывания нацио-
нально-го сударственных границ ответ на это т
вопрос представляется автору гораздо более
трудным, чем это может показаться н а первый
взгляд. Трудности начинаются там, где пр ежд е
дифференцирован ные сферы в р азличной сте-
пени охвачены глобальным контролем и регу-
лированием. В отличие от сферы экономики,
сфер а семьи, интимных отношений пока еще
регулируется в значительной степени норматив-
ными, политико-правовыми установлениями той
или иной страны и ее культурой. Но в то же время
браки среди гомосексуалистов начинают осу-
ществляться в Европе как легитимный и законом
разрешенный акт. Таким образом, остается неяс-
ным, в какой степени разнообразные сферы об-
щественной реальности все еще определяются
действующим национальным сводом правил.
То есть, по существу, автором ставится вопрос о
национальном суверенитете.
Следующая трудность, с которой сталкива-
ется попытка обно вления социализма, выте-
кает из то го обсто ятельства, что между фактом
растущей интерн ацион ализации и обществен-
ным сознанием существует временна
́
я про-
пасть. В то врем я как нормативные правила о т-
дельных сфер все в боль шей мере определяются
на тран сн ацион альном уровне, большая часть
населения право издавать подобные правила
считает прерогативой «своих» национ ально-
государ ственн ых органов. С одной стороны,
«отстающее сознание» гражд ан нельзя просто
проигнорировать, с другой, – невозможно от-
рицать такж е фактическую утрату го судар-
ственно го суверенитета.
В результате возникает си туация, когда со-
циализм может одноврем енно выступать в двух
различных обликах. В качестве исполняющего
функцию всемирного наместника социальной
сво боды он должен функционировать только в
форме политической доктрины. Для мобилиза-
ции же конкретн ых представителей обществен-
ности он мож ет выступать лишь в форме эти-
чески компактного учения, связанного с рели-
гией и культурой локальных территорий.
На что в таких условиях может опираться
обновленный соци ализм? Хоннет считает, что
необходимо уменьшать дистанцию между его
обоими теоретическими обликами. Чем силь-
нее будет включение пред стави телей других
стр ан в собственную р азведку будущих возмож-
ностей расширения свободы, тем меньше будет
расстояние, разделяющее до сих пор обе тео-
рии-облика соци ализма, так как с каждым воз-
можным голо сом «извне», расширится круг тех,
которые могу т действо вать как адресаты пыт-
ливой общественности и, следовательно, как
адресаты этически нагруженной, всеохватыва-
ющей доктрины. Можно ли н адеяться на то,
что на этом пути данная пропасть фактически
исчезн ет – вопрос, на который сегодня Хоннет
не может дать ответа. И только предпринима-
ющиеся эксперименты по расширению соци-
альной свободы, как он полагает, могут умень-
шить эту неопределенность будущего.
Разумеется, Хоннет, как трезвомыслящий
ученый, отдает себе отчет в сложно сти реали-
зации н арисованной им картин ы социализма,
ибо современн ая дей ствительность почти не
224
оставляет никаких надежд на практическое во-
площение его теоретических построений. Боль-
шая часть населения, по его признанию, охва-
чена сегодня настроениями безнадежности, па-
рализующей неуверенности, безволия и малоду-
шия, а заложенная в природе человека неиско-
ренимая потребность в надежде на улучшение
современного состояния не находит в окружаю-
щей реальности никакого подкрепления. Автор,
похоже, и сам не вполне верит в возможность
наступления проектируемого им социализма, но
надежда у человека всегда должна быть. Хоннет
задается вопросом: возможна ли какая-нибудь
терапия, которая была бы способна освободить
от тяжелой безысходности и отсутствия воли
к энергичному действию?
В поисках рецепта для возможной терапии
Хоннет обращается к «философии надежды»
Э. Блоха и находит у него, особенно в книге
«Естественное право и человеческое достоин-
ство», некоторые соображения по этому поводу.
Но более убедительные ответы он отыскивает
в философии Канта, который более доказа-
тельно, чем Блох, раскрыл идею подобной тера-
пии. Ее основа состоит в объединении воспоми-
нания об успешных шагах, предпринятых для
улучшения социального положения в прошлом,
и надежды на то, что это снова может повто-
риться в будущем. Перенос таких терапевтиче-
ских мероприятий на наше время, следова-
тельно, означал бы, что при всей непрозрачно-
сти мировых исторических событий в них обна-
жается заметная линия морального прогресса,
обладающая суггестивной силой придать людям
уверенность в ее продолжении. Это учение, по
мнению Хоннета, – единственное средство, ко-
торым мы располагаем сегодня, чтобы еще раз
воспламенить надежду в безнадежные времена.
В целом книга Хоннета мож ет показаться
непривычной для некоторых читателей с глу-
боко укоренившимся в соз нании установками
ортодоксального марксизма. Тем не мен ее, он а
может помочь по-другому взгляну ть на те сто-
роны социальной жизни, которые раньше не
замечались или игнорировались. Его книга по-
священ а, в сущности, соци альной свободе в со-
вокупности всех ее возможных форм проявле-
ния. Хоннет н азывает это социализмом. Сле-
дует учесть, что книга н аписан а на основе за-
падной истории, западного мен тали тета, зап ад-
ной системы ценностей и открывает видение
проблем, релеван тное сегодняшней реальности
Запада. Поэтому она заслуживает то го, чтобы
внимательно присмотреться к неко торым
идеям известного немецкого фи лософа.
Р.И. Соколова
Соколова Римма Ивановн а – Инсти тут фи-
лософии РАН, Мо сква, 109240, ул. Гончарная,
д. 12, стр. 1.
Доктор философских наук, ведущий науч-
ный сотрудник Ин сти тута фи лософии РАН,
Москва.
rimmsok70@yandex.ru
Sokolova Rimma I.
–
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnay a
str., Moscow, 109240, Russian Federation.
DSc in Philosophy, Leading researcher in In-
stitute of Philosophy RAS.
DOI: 10.31857/S004287440007176-8
225
X. ZUBIRI . Introducción a la filosofía de los griegos. Madrid, 2018, 296 р.
Х. СУБИРИ. Введение в философию греков.
Так сложилось по многим причинам (осо-
бенности исторического развития, геополитика,
франкофония, немецкое наследие и, наконец,
торжество аналитической философии), что фи-
лософия Испании для российского научного со-
общества является маргинальной. Современная
испанская философия, столь богатая самобыт-
ными персоналиями и концепциями, к сожале-
нию, весьма скромно представлена в русско-
язычной научной среде. В курсах по истории за-
падной философии, которые читаются студен-
там философских специальностей, в лучшем
случае происходит довольно отрывочное зна-
комство с философскими идеями Мигеля де
Унамуно и работами Хосе Ортеги -и-Гассета.
А выдающийся ученик Ортеги, в чём -то даже
превзошедший своего учителя, Хавьер Субири
Апалатеги, неординарный мыслитель, работав-
ший в 20-х годах прошлого столетия во Фрай-
бурге вместе с Гуссерлем и Хайдеггером, созда-
тель ноологии (особой метафизической версии
феноменологии), сторонник радикального реа-
лизма и концепции чувствующего интеллекта,
автор концепта религации (принципиальной он-
тологической связанности человека и Бога) и
своеобразной антропологии, в центре которой
стоит человек как “моральная реальность”,
и других оригинальных философских конструк-
тов, – является одним из ярких примеров того,
как незаслуженно вытесняется на периферию
современная испанская философская мысль.
Хавьер Субири Апалатеги родился 4 де-
кабря 1898 г. в городе Сан -Себастьян, в стран е
басков, и, соответственно, первым языком бу-
дущего философа был не кастиль ский язык,
а эу скера – родной язык Субири. Впоследствии
мыслитель выучил множ ество яз ыков, включая
латин ский, древнегреческий, иврит, арамей-
ский, немецкий, итальян ский, французский –
был настоящим полиглотом. Помимо языков и
гуманитарных наук, Субири был подкован в со-
временной ему физике и математике, был зн а-
ком с Эйнштейном и Шрёдингером. За сво ю
жизнь Субири преподавал в универси тетах
Мадрида и Барселоны, д авал частные уроки по
всей Испании и за её пределами. Философ ез-
дил в Берлин в 30 -х годах для знаком ства среди
прочего с Эйнштейном (в это время Субири
волнует переосмысление концепции простран-
ства и времени, а такж е понятия субстанции в
связи с теорией отно сительности и другими
естественно-н аучными прорывами) и в другие
области Германии, в том числе в 20 -х годах для
работы асси стен том Хайдеггера, одно вр емя
был приглашённым профессором в универси-
тете Фрайбурга, отправлялся в Рим учить во-
сто чные языки и историю религии, в Париж –
для сотрудничества с французской католиче-
ской профессурой, такж е удалось Субири до-
браться и до Америки (в Принстонском уни-
верситете он прочитал лекцию «Реальное в ма-
тематике»). И након ец, Хавьер Субири до се-
редины 30-х годов был священником.
На данный момент опубликовано свыше
30 работ мыслителя в период с 1944 по 2019 гг.
Примечательно, что только 6 книг вышли при
жизни автора: первый философский труд Субири
«Природа, история, Бог» (1944), центральный
труд по онтологии «О сущности» (1962), «Пять
лекций о философии» (1963) и три части «Чув-
ствующего интеллекта» («Интеллект и реаль-
ность», 1980, «Интеллект и логос», 1982 и «Ин-
теллект и разум», 1983). Всё дело в том, что про-
фессор Субири предпочитал устные лекции напи-
санию рукописей, живое общение – письмен -
ному. Последние же опубликованные работы –
это «Теологическая проблема человека: Бог, ре-
лигия, христианство (2015)», «Структура метафи-
зики» (2016), «О религии» (2017) и именно «Вве-
дение в философию греков» (2018) и «Философ-
ские размышления над некоторыми проблемами
теологии» (2019). «Введение в философию гре-
ков» включает в себя рукописи одноимённого
цикла университетских лекций, прочитанных
в Барселоне с октября 1941 г. по май 1942 г.,
а также материалы частных уроков, которые
Субири дал несколько позже для группы друзей в
Ла-Корунье и Мадриде. На этих уроках присут-
ствовали жена Субири Кармен Кастро, дочь Аме-
рико Кастро, знаменитого испанского филолога
и историка культуры, его преданный ученик Пе-
дро Лаин Энтральго и будущий философ, дипло-
мат Франсиско Хавьер Конде, записи которых
также включены в приложение к этому изданию.
Будет уместно вспомнить исторический
контекст тех лет: начало Второй мировой
войны, только что закончившаяся Гражд ан ская
война в Испании и устано вившаяся диктатура
Франко. Вскоре после курса лекций в Барсе-
лонском универси тете Хавьер Субири заявит
о невозможно сти свободно мысли ть, запросит
акад емический отпуск и фактически навсегд а
прекратит свою универси тетскую преподава-
тель скую деятельность. Он вернётся в Мадрид
и до конца жизни (за исключением короткой
поездки в 1946 г. в Соединенные Ш таты, в уни-
верситет Принстона) будет давать только ча ст-
ные уроки, преимущественно в «Обществе ис-
следо ваний и публикаций», председателем ко-
торого он являлся. Это общество откроется в
1947 г. и станет новым ин теллектуальн ым фо-
румом, на котором философ сможет обсуждать
свои нар або тки с постоянно растущей группой
учеников, среди которых можно отметить таких
226
интеллектуалов, как Педро Лаин Энтральго и
Хосе Лопес Арангурен. Если 20-е годы – это пре-
имущественно феноменологический период, 30-е
можно охарактеризовать интересом к современ-
ной науке, то в 40-е годы внимание Субири обра-
щено к истории философии, особый интерес
мыслителя вызывают её истоки, Древняя Греция.
Данный период примечателен собственными ис-
ториософскими исканиями, апогеем которых ста-
нет труд «Природа, история, Бог» (1944), подобно
тому как в 60-е годы философ сосредоточит своё
внимание на философии Нового времени и
квинтэссенций этих штудий станет знаменитый
историко-философский опус «Пять лекций о фи-
лософии» (1965), в котором Субири, правда, воз-
держится от изложения собственной философии,
но вышедшая за три года до этого работа «О сущ-
ности» (1962) с лихвой это компенсирует. Таким
образом, данное издание примечательно среди
прочего тем, что даёт нам представление, как
складывался знаменитый труд Субири «Природа,
история, Бог», один из самых влиятельных тек-
стов испанской философии ХХ в. В него непо-
средственным образом вошла первая лекция бар-
селонского курса под названием «Случай чело-
века. Греция и живучесть философского про-
шлого», а также две статьи 1940 и 1941 гг. соот-
ветственно, написанные по мотивам всё тех же
лекций: «Сократ и греческая мудрость», «Наука и
реальность». В работе «Природа, история, Бог»
происходит слияние трёх волнующих в это время
Субири тем: феноменологической традиции, гре-
ческой философии и современной науки. В поле-
мике с этими тремя дискурсами Субири напишет
свой первый важнейший труд, в котором, работая
с понятиями природы, истории и Бога, впервые
сформулирует свои собственные тезисы о реаль-
ности, интеллекте и религии. Уникальные руко-
писи лекций «Введения» в совокупности с запи-
сями их реальных слушателей рисуют нам живую
картину субирианских медитаций на тему зарож-
дения и становления западной философии,
а также эволюцию собственной философии.
Во «Введении в философию греков» Субири
ведёт своих слушателей и читателей к истокам
философского мышления, в Ионию, к Фалесу и
Анаксимандру. Туда, где рождается не знание,
освобожденное от мифа (Нестле), не онтология
(Гегель), не наука о природе (Бернет), не теоло-
гия (Иоиль, Петтерих), но новая форма мудрости,
которая стремится приблизиться к вещам таким
образом, чтобы они показали себя самих в своей
сути, в своем изначальном смысле и глубинной
структуре. Субири мастерски показывает транс-
формацию таких базовых философских понятий,
как природа, начало, движение, порядок, форма,
сущее и божественное от милетской школы до
Аристотеля. На страницах «Введения» читатель
может пережить опыт, который подталкивал гре-
ков к теоретическому мышлению и исторически
основывал наши собственные возможности фи-
лософствования. Структура лекций выглядит сле-
дующим образом: первая глава посвящена тому,
как мы воспринимаем греческое наследие, какова
современная интеллектуальная ситуация и по-
чему мы вновь и вновь обращаемся к грекам; вто-
рая глава повествует о смысле досократической
философии; глава третья – о цели философство-
вания вообще; в четвёртой главе Субири рассуж-
дает об особенностях греческой мудрости. Пятая
же глава представляет собой записи непосред-
ственно присутствовавших на частных уроках с
цитатами самого Субири, и в ней поднимаются
такие проблемы, как восхождение от σοφία к фи-
лософии; от мифа к λόγος; вопрос о том, каким
образом мышление ставит нас перед вещами,
и что вообще значит понимать вещь, о которой
ты думаешь; эволюция философской проблема-
тики природы, проблема φύσις в ионийской фи-
лософии (от Фалеса через φύσις и οὐσία Анакси-
мандра до Аристотеля); в заключении главы об-
суждается специфика или горизонт (el horizonte)
греческой философии.
Субири начинает своё изложение с раз-
мышления над н ашим отношением к грекам,
в частно сти, к до сократикам, а также к про-
шлому вообще. На примере понятия логоса,
которое большинством стало интерпретиро-
ваться сугубо рационально, Субири показы-
вает, насколько мудрее нас были греки. Термин
λόγος был сформулирован древнегреческими
философами таким образом, что применялся
ими без впадения в рационализм. На страницах
рукописи Субири неоднократно повторит:
«Досократо вская фи лософия была чем- то
иным, нежели наукой, не была он а ни онтоло-
гией, ни естественной наукой. Это вообще
была не наука, это было что-то другое» (p. 84).
И далее: «Если мы внимательно изучим фраг-
менты А наксимандра, К сенофана, Гераклита,
Парменида, Эмпедокла и т.д ., мы обнаружим,
что эти люди гораздо ближе к тому, чем была
наука в александрийские времена, ближе к тео-
гониям и космогониям» (там же). Прошлое
есть то, что прошло, его уже нет; однако фило-
софское прошлое, и стория философии есть н е-
что проявляющее невероятную живу честь в
настоящем. Однако взгляд на греческое насле-
дие может быть раз личным: в пример полярных
отношений к пресократической философии
Субири приводит буквальное восхищение пе-
ред определённостью досокр атико в Ницше
(к грекам ничего нельзя добавить) и попытку
сопротивления этой зависимости Гёльдерлин а
(мы всегд а в плену у древнегреческого языка
философии). Два возможных модуса отноше-
ния показывают, что греческу ю философию
можно либо безапелляционно принимать за
апогей, либо пытать ся выбраться из её оков,
однако в отрыве от неё не может существовать
227
никакая последующая фило софия. Греческая
мысль есть первый способ мышления, путь, по
которому человеческий дух пришёл в филосо-
фию. По Субири, греки прекрасно это пони-
мали, как минимум, с Аристотеля, который
начал си стематизировать своих предшестве н-
ников, и Платона, создавшего миф о пещере
как о начале философии.
Испанский философ весьма нетривиально
переосмысливает платоновский миф о пещере
как метафору одиночества, и потому подвига,
мудреца: «Греки всегда чувствовали, что фило-
софствование – это интеллекту альная жизнь,
которая, вероятно, в силу своих собствен ных
условий, протекает в одиночестве. Платон не
выпусти л из пещеры больше, чем одного чело-
века. По этой причине философия вбирает в
себя этот миф, именно благодаря свидетель ству
того, что данно е з авоевание достигается в ходе
гиган тского интеллектуального предприятия»
(p. 158 –159). Здесь же Субири приводит в при-
мер изречение Аристотеля, уже в преклонном
возрасте, о том, что чем больше он остаётся
наедине с собой, тем бо льшим другом мифов
он станови тся. «Философия – это подвиг», –
будет неоднократно повторять Субири. Это то,
что потом было сформулировано Горацием как
sapere aud e и будет потом воспроизводиться Га-
маном и Кантом. И то, что, по Субири , будет
игнорироваться в оценке греческой философии
Гегелем. Философ явно критикует Гегеля за од-
нобокое во сприятие древнегреческой филосо-
фии как теоретической и прямо говорит на
стр аницах «Введения» об абсолютной слепоте
Гегеля перед подвигом философствования.
Меж тем это усилие, это мужество, этот подвиг
есть всё. «Миф о пещере, как миф, показывает,
что возн есение человеческо го духа к фило со-
фии – это человеческий поступок, а не просто
логическая форма мышления. И в раз вёртыва-
нии этого действия мы можем вид еть фунд а-
ментальную структуру, а не просто ко смологи-
ческую или какую- то архаичную, ко торой будут
облад ать все темы греческой философии» (p.
161). И, может быть, не только греческой. По-
жалуй, это главный пафо с субириан ского «Вве-
дения», и состоит он в том, что греческая фи-
лософия впервые в истории человечества со-
вершила подвиг: и, в первую очередь, это эти-
ческий поступок, и только потом интеллекту-
альный (переход к теоретическому мышле-
нию). «Под эту симфонию начинается театр
философии», – напишет автор. Симфон ия ве-
личественн а, но минорна; образ начала фило-
софии, который рисует Субири, весьма траги-
чен, но отн юдь не потому, что о бречён на про-
вал, а потому, что требует абсолютного геро-
изма и самоотверж енности мудреца: чтобы
признать, что видишь тени вещей, нужно му-
жество; чтобы сказ ать другим людям, что они
видят только тени, нужно мужество; и, нако-
нец, чтобы выйти из пещеры и остаться
наедине с собой и космосом, без всякого со-
мнения, нужно мужество.
Последние страницы «Введения» отданы
размышлениям Субири о горизонте греческой
философии. В последующих трудах Субири ра-
зовьёт эту мысль в самостоятельную и принци-
пиально важную для него концепцию трёх гори-
зонтов: горизонт движения (el horizonte de
movilidad), горизонт ничто (el horizonte de
hihilidad) и горизонт временности (el horizonte de
temporalidad). Субири выделяет два горизонта
в истории развития философии: горизонт антич-
ной философии (философия Сократа, Платона
и главным образом Аристотеля) и называет его
горизонтом движения, а также горизонт филосо-
фии современной (от Августина до Гегеля), ко-
торый именует горизонтом ничто. Философ по-
лагает, что не Декарт, как обычно принято по-
лагать, но Августин дал начало Новой филосо-
фии, ведь качественное изменение, по Субири,
происходит тогда, когда западная философия
принимает иудео-христианский горизонт творе-
ния и начинает полагать бытие как сотворённое
ex nihil. Субири будет критиковать Хайдеггера за
то, что тот продолжает рассуждать о бытии
в рамках дискурса ничтойности и, следова-
тельно, тварности (X. Zubiri. Los problemas
fundamentales de la metafísica occidental. Madrid,
1994. P. 91). В то время как для самого Субири
принципиально важно было прийти к новому го-
ризонту, впоследствии он станет считать таковым
горизонт временности. Метафора горизонтов
здесь принципиальна важна, ведь Субири не
называет своё деление хронологическим, это не
периоды, а именно герменевтические горизонты,
через призму которых мы можем философство-
вать в любой момент времени. Иначе можно
было бы подумать, что история философии за-
канчивается на Гегеле и после него невозможна,
что в корне не так: для Хавьера Субири филосо-
фия – не некая закостенелость текстов или си-
стем, а живой способ мышления, развёртывание
во вне своей внутренней интеллектуальной
жизни. Почему же греческую философии Субири
видит в горизонте движения? Потому, что фор-
мирование концепта движения маркируется им в
качестве важнейшей вехи на пути становления
философского мышления: так от понятия проис-
хождения, близкого к понятию рода, рождения,
смене поколений от отца к сыну (“онтология че-
рез хронологию”) греческая философия приходит
к более абстрактному понятию movimiento
(movilidad). Заслуга эта преимущественно при-
надлежит Анаксимандру и его ἄπειρον и, разуме-
ется, Аристотелю, развившему концепцию дви-
жения до философского предела. Такие каче-
ственные изменения, переходные моменты мыш-
ления как раз-таки и пытается ухватить Субири.
228
Само название “Введение в ...” говорит нам об
отказе от догматичности и схематизации в изло-
жении истории мысли, о стремлении к максим-
льному (насколько это вообще возможно) погру-
жению в интеллектуальную ситуацию, породив-
шую греческий способ философствовать, к прак-
тически реальному переживанию чувства, побу-
дившего теоретизировать таким образом(напом-
ним, что, по Субири, интеллект есть чувствую-
щий: ‘inteligencia sentiente’) и о воле к истине
(‘voluntad de verdad’), в конце концов.
Итак, «Введение в философию греков» –
это уникальное издание, оно абсолютно непо-
хоже по стилю на «Пять лекций по философии»
1963 г., которые являются давно известным
фундаментальным историко -философским тру-
дом Субири. Текст «Введения» иного, преиму-
щественно диалогового (в древнегреческом
смысле этого слова) характера: в первой части
«Введения» читатель имеет дело с рукописью,
которую мыслитель написал по мотивам своих
публичных лекций, а во второй части издания –
с записями непосредственных слушателей част-
ных уроков, которые Субири давал для очень
близкого круга лиц. По Субири, в отличие от
других дисциплин, для которых эксплицитная
история не является чем-то необходимым и по-
стоянно воспроизводимым, история философия
для самой философии неотъемлема. Однако
Субири никогда не смотрел на историю мысли
как на музеефикацию отживших систем, мёртвых
идей и архивных персоналий, но всегда усматри-
вал в ней живую мысль и то титаническое муже-
ство, которое на неё подвигло, и главное, видел в
ней постоянное приглашение к философствова-
нию. История философии есть живой разговор, и
специфика данного текста прекрасно это демон-
стрирует.
Я.И. Амелина
Амелина Яна Игоревна – аспирантка Школы
философии, Факультет гуманитарных наук,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, 105066, ул.
Старая Басманная, д. 21/4.
Аспирант.
yamelina@hse.ru
Amelina Yana I. – Postgraduat e student, Doc-
toral School of Philosophy, Faculty of Humanities,
National Research U niversity Higher School of
Economi cs, 21/4, Staraya B asmannay a str., Mos-
cow, 105066, Russian Federation.
Postgraduate student.
DOI: 10.31857/S004287440006334-2
CONTENTS
Philosophical Problems in the Formation of the Social State in Russia
Nikolay I. Lapin – The Social State as a Constitutional Principle of Russia............
Yury D. Granin – Social State: Formation Factors...................................................
Nadezhda N. Fedotova – Welfare state is a result of the nation-state’s evolution......
Irina N. Sizemskaya – Humanistic Vector of Development of Social State in Russia
Hermeneutic Tradition in Russia: Current Context and Resent Problems
(The Round Table Materials)
Viktor P. Rimsky – How is Russian Philosophical Hermeneutics Possible?................
Boris I. Pruzhinin – Conversation, understanding and hermeneutics in the Russian
philosophical tradition..................................................................................
Irina O. Shchedrina – To the Origins of the Hermeneutic Concept: Gustav Shpet's
Epistolary Narrative......................................................................................
Sergey N. Borisov – Russian Aristotle: Hermeneutics of Translation and Under-
standing of Violence.....................................................................................
Philosophy and Society
Vadim M. Rozin – Social action and knowledge in conditions of complexity and
partial uncertainty........................................................................................
Nelli F. Rakhmankulova – About the Compatibility of the Values of Happiness and
Freedom.......................................................................................................
Philosophy, Religion, Culture
Natalia S. Zhirtueva – Joy as a Category of Philosophical and Mystical Teachings...
Valeriia A. Odnoral – The Development of Practical Criticism of Poetry From New
Criticism to Deconstruction..........................................................................
Maxim A. Monin – Day and Twilight of Promise (a Promise in a Literary Context
and in the Light of a Performative Theory)..................................................
Philosophy and Science
Alexander O. Karpov – The Cognitive Role of Dogmatic Knowledge: Reality,
Thinking, Learning.......................................................................................
Elena V. Kosilova – Paradigms of Subjectivity in the Topic Center–Periphery........
5
11
17
22
27
32
37
42
46
55
66
76
86
99
110
230
History of Russian Philosophy
Ilia I. Pavlov – Christ and the World: Metaphysical Argumentation in the Po-
lemics of Rozanov and Berdyaev................................................................
Ciprian C. Apintiliesei – “Person” and “Communion”: from Berdyaev to
Mounier.....................................................................................................
Gennady V. Lobastov – From Сosmology of Spirit to Psychology of Consciousness
(Beginnings and Ends of the Philosophy of E. V. Ilyenkov).........................
Natalia M. Smirnova – Philosophical Thought in Russia in the Second Half of the
XXth Century: Problems and Discussions.....................................................
History of Philosophy
Artem T. Iunusov – On Possible Interpolation of Certain Mathematical Examples
in Aristotle’s Posterior Analytics...................................................................
Galina V. Vdovina – The Mental Being and its Intentional Production in Sebastian
Izquierdo's Treatise Pharus Scientiarum.......................................................
Yanina E. Manovas – The Other Beginning and Its Attunement in Heidegger’s
“Contributions to Philosophy (From Enowning)”........................................
Letter to Editors
Alexander P. Korkishko, Alexander A. Chemshit – Touches to the Portrait of Oswald
Spengler: Mythologist or Social Analyst?......................................................
Scientific Life
Vitaly S. Pronskikh, Sergey N. Konyaev – Collective Subject in Philosophy of Sci-
ence. About the First IP RAS Workshop......................................................
Book Reviews
Ivan P. Davidov – History and Theory of Culture: Almanac. Release 2 (2018) Phil-
osophical Faculty of Lomonosov Moscow State University..........................
Andrey S. Zilber – Nietzsche today...........................................................................
Rimma I. Sokolova – Axel Honneth. Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Ak-
tualisierung...................................................................................................
Yana I. Amelina – X. Zubiri. Introducción a la filosofía de los griegos....................
122
132
142
154
165
178
189
200
210
215
217
221
225