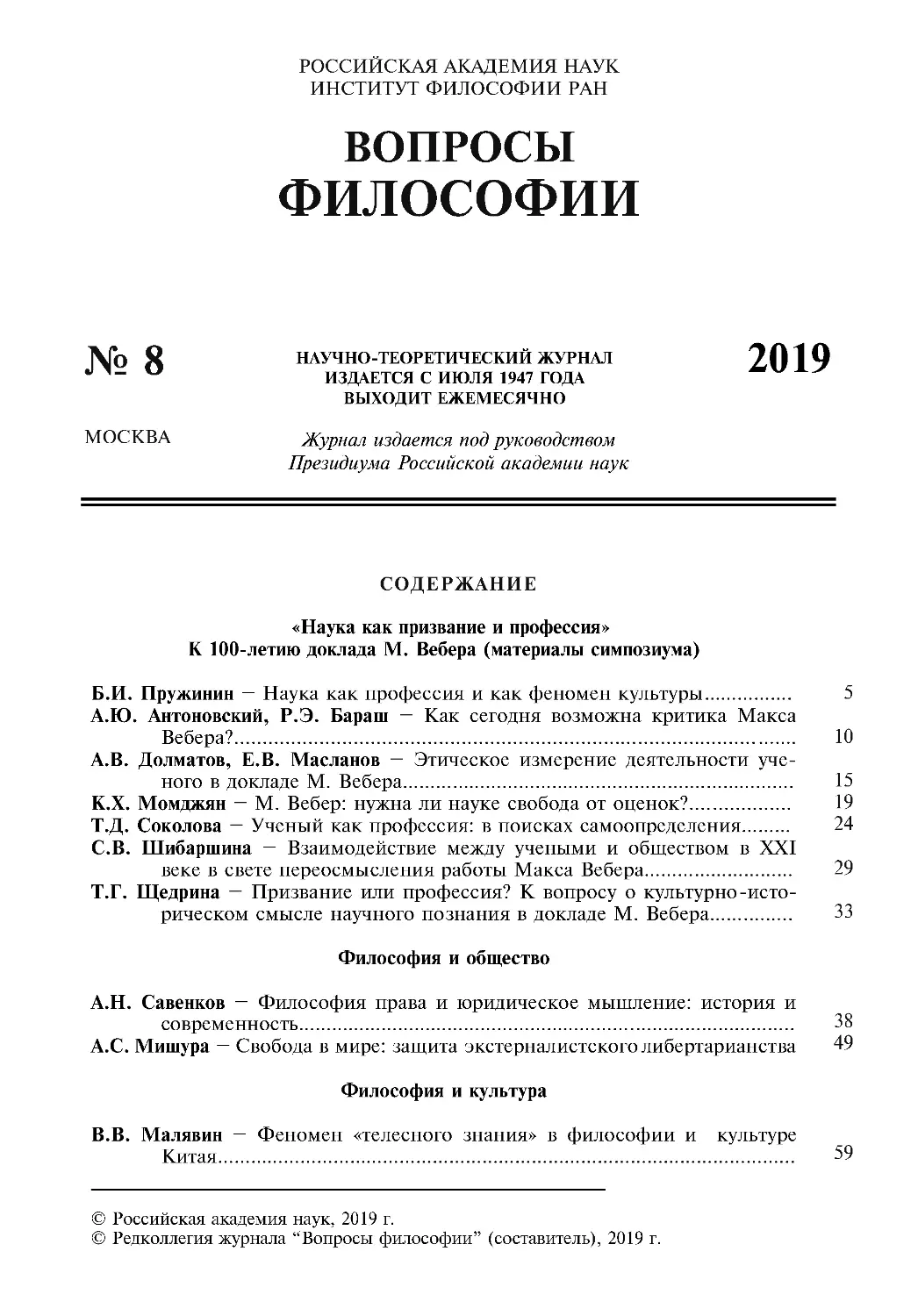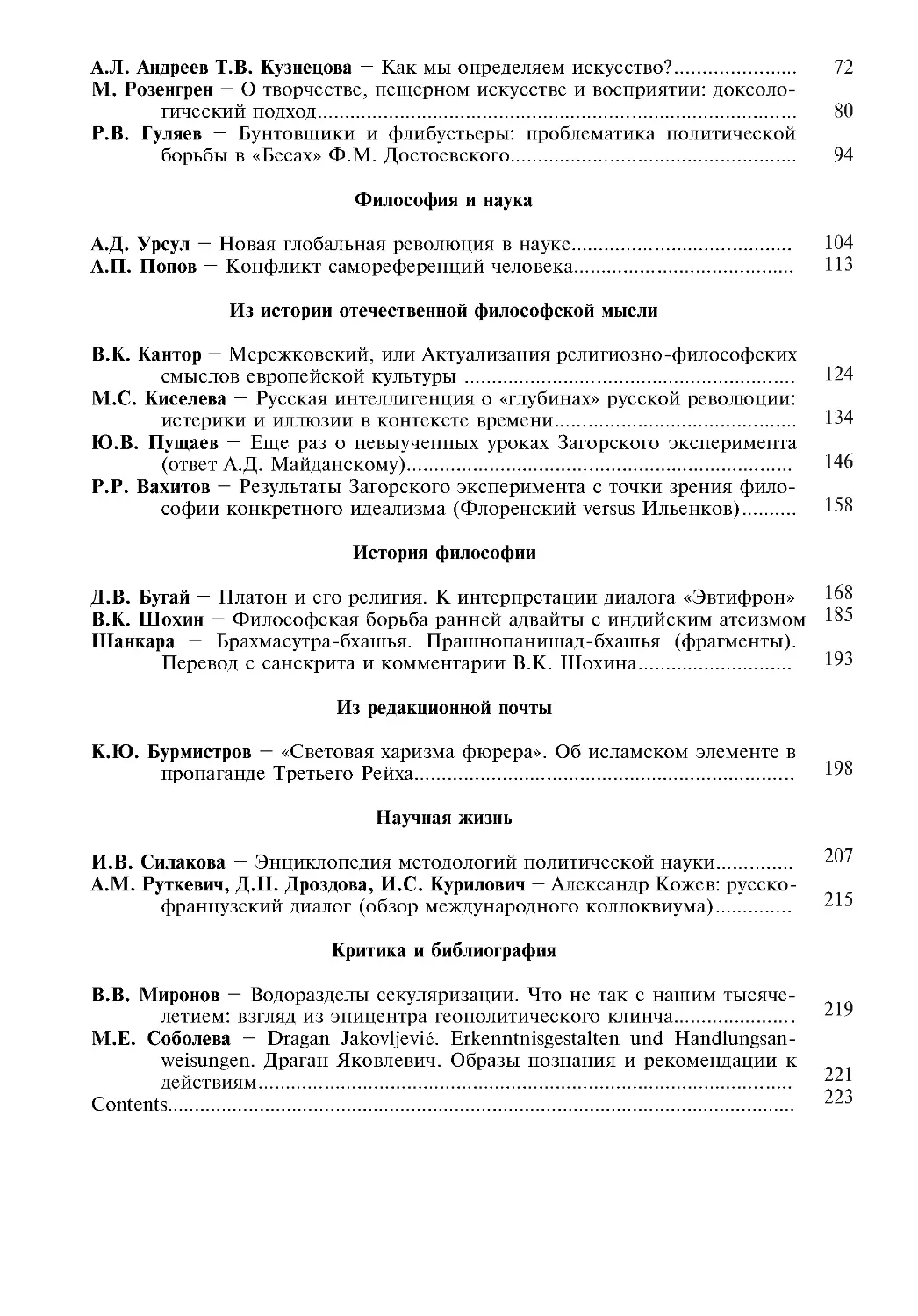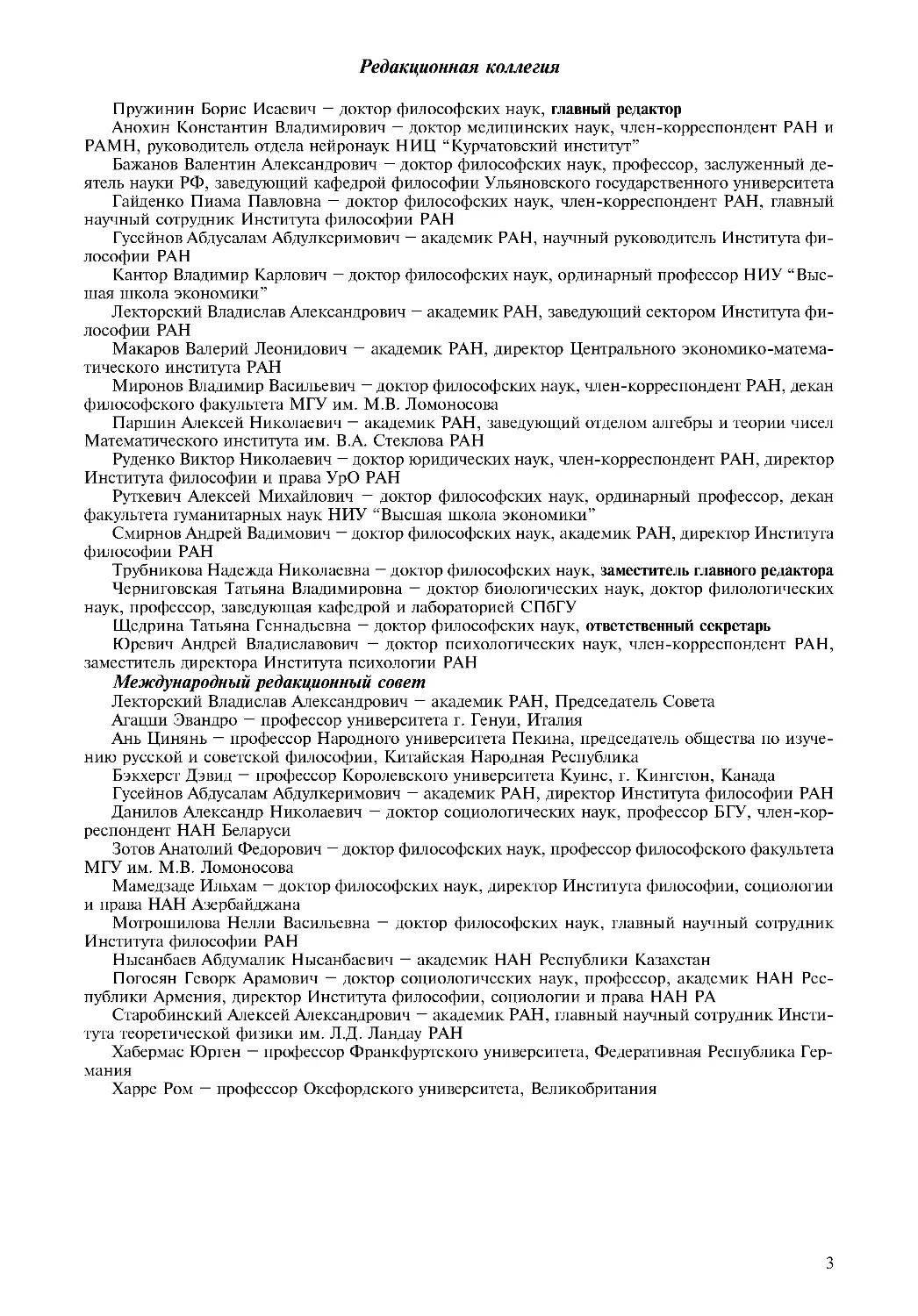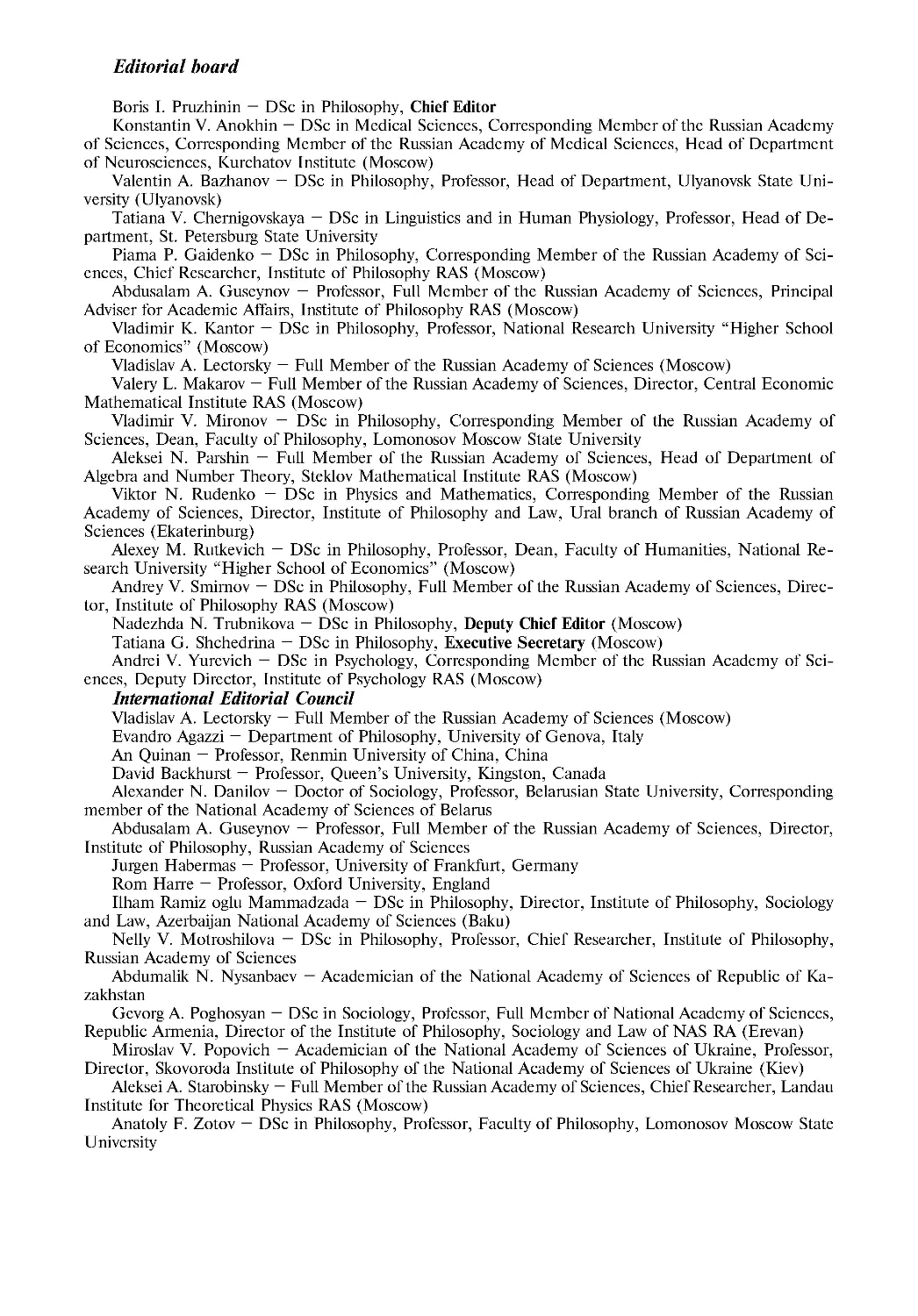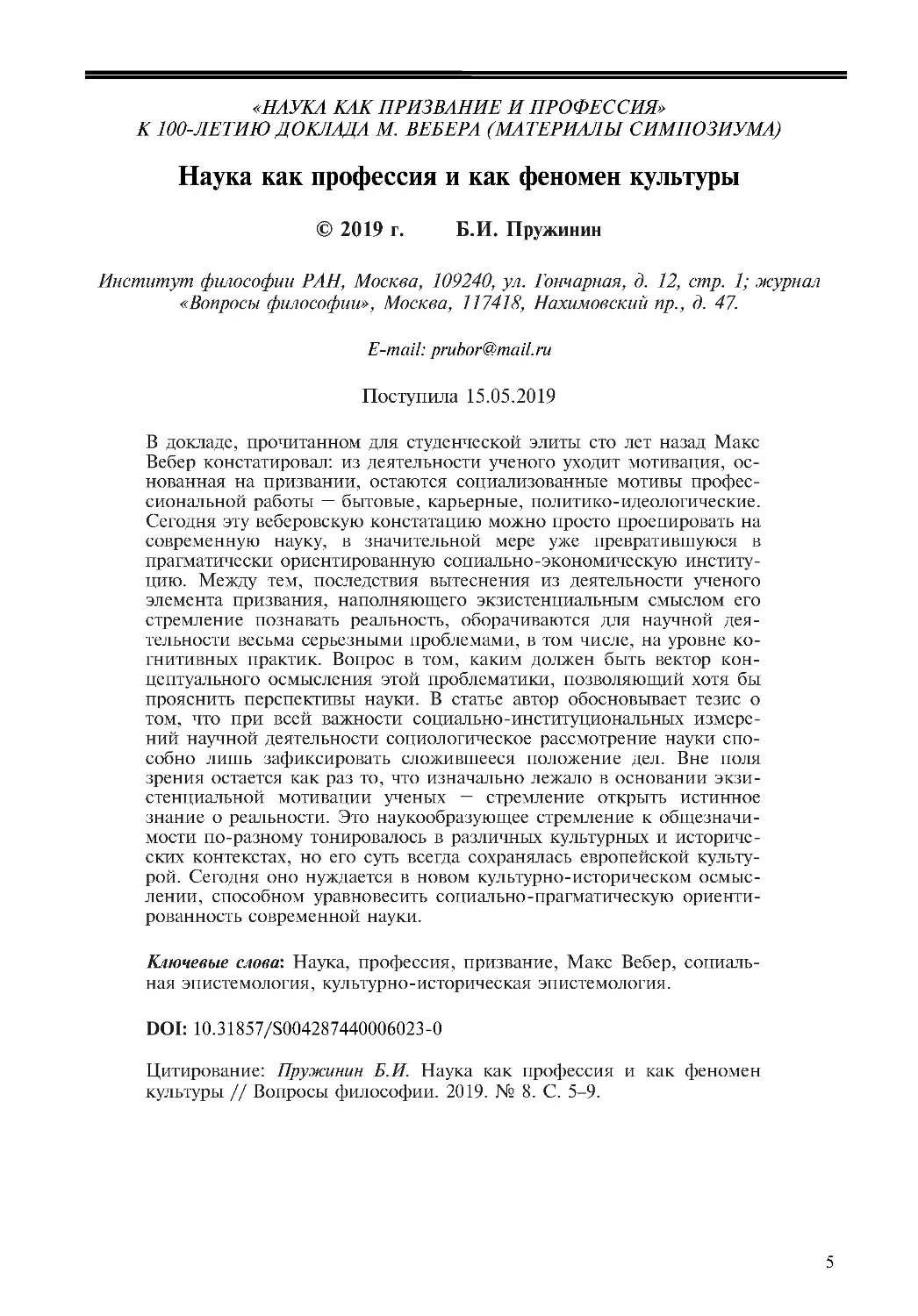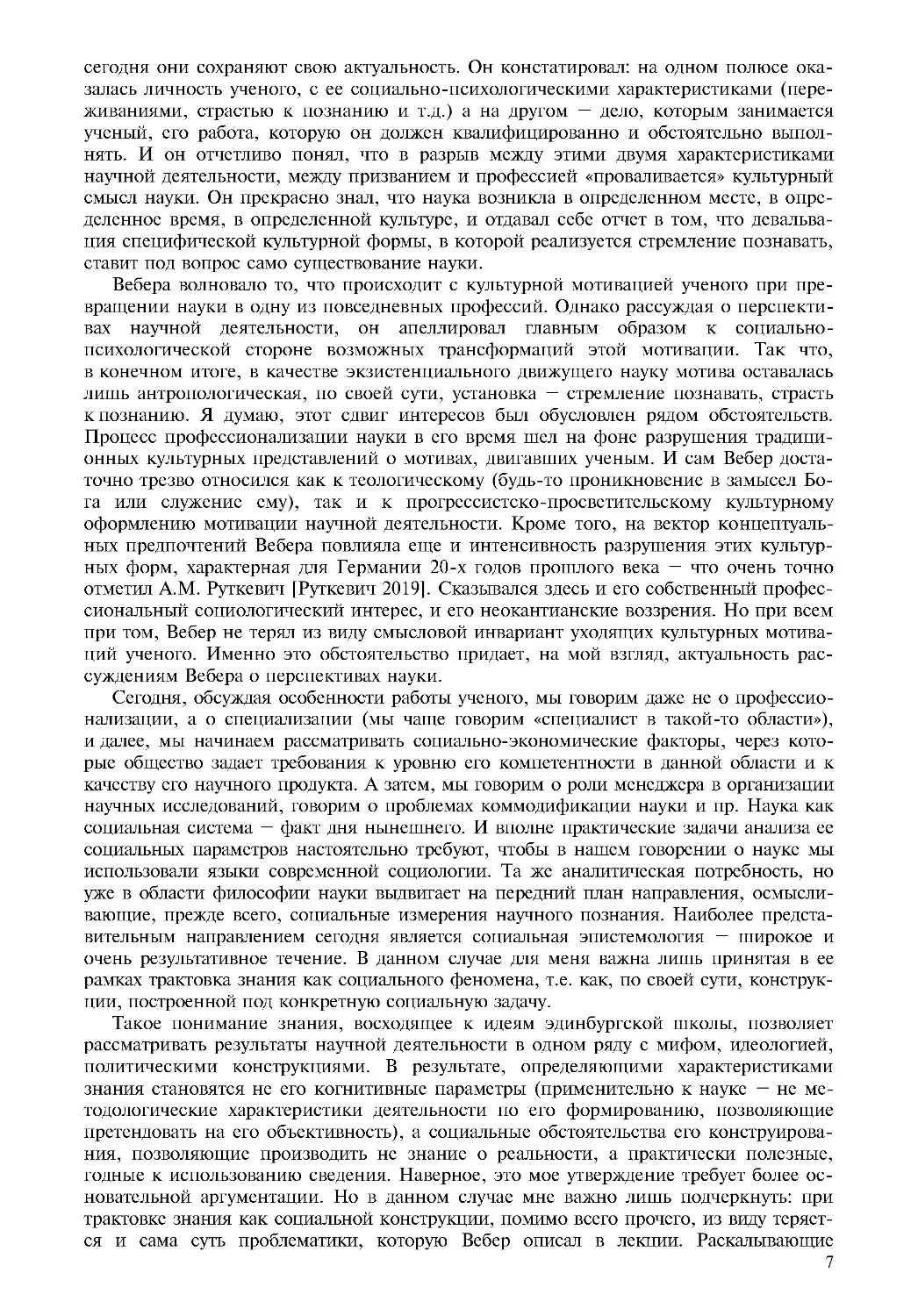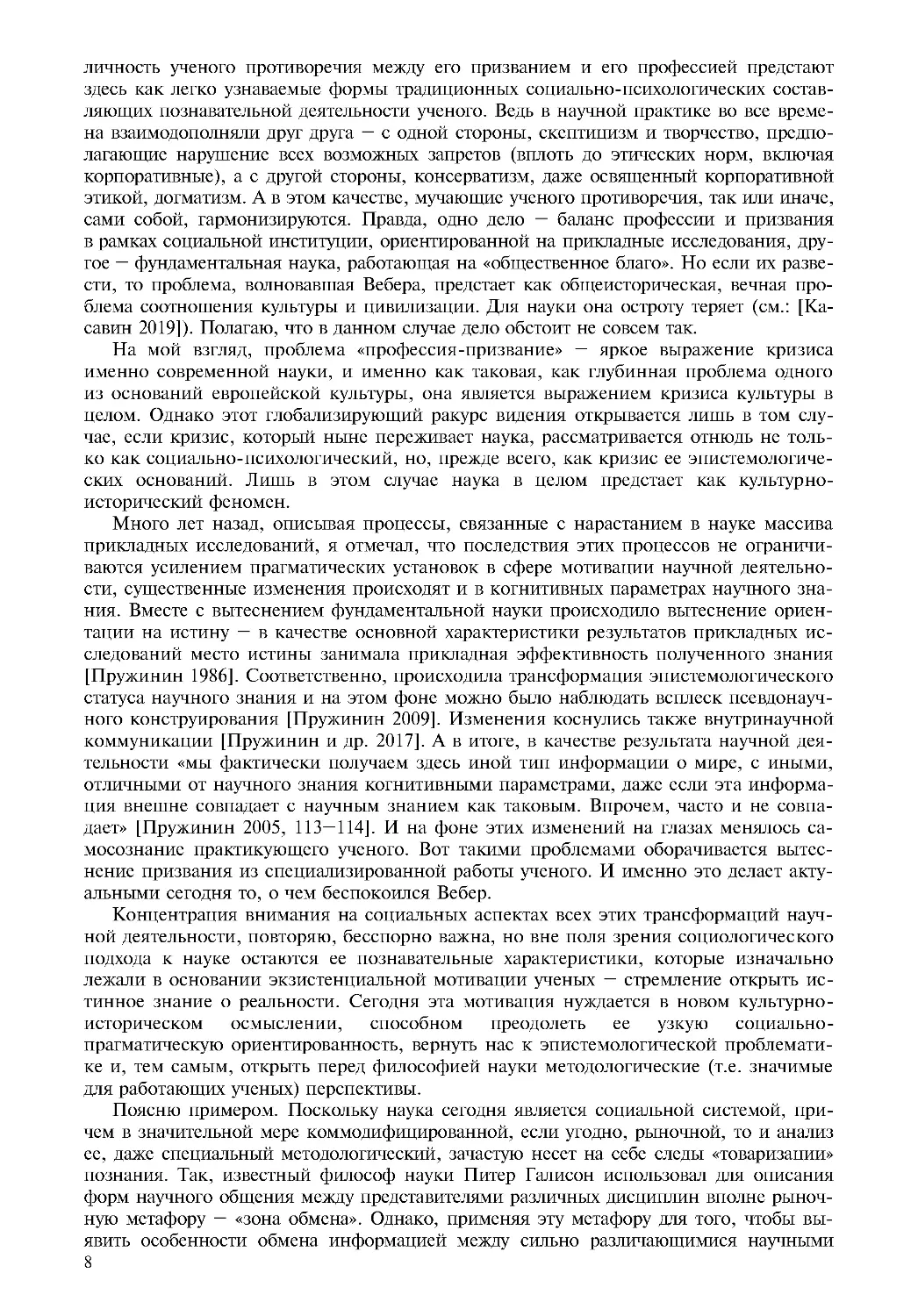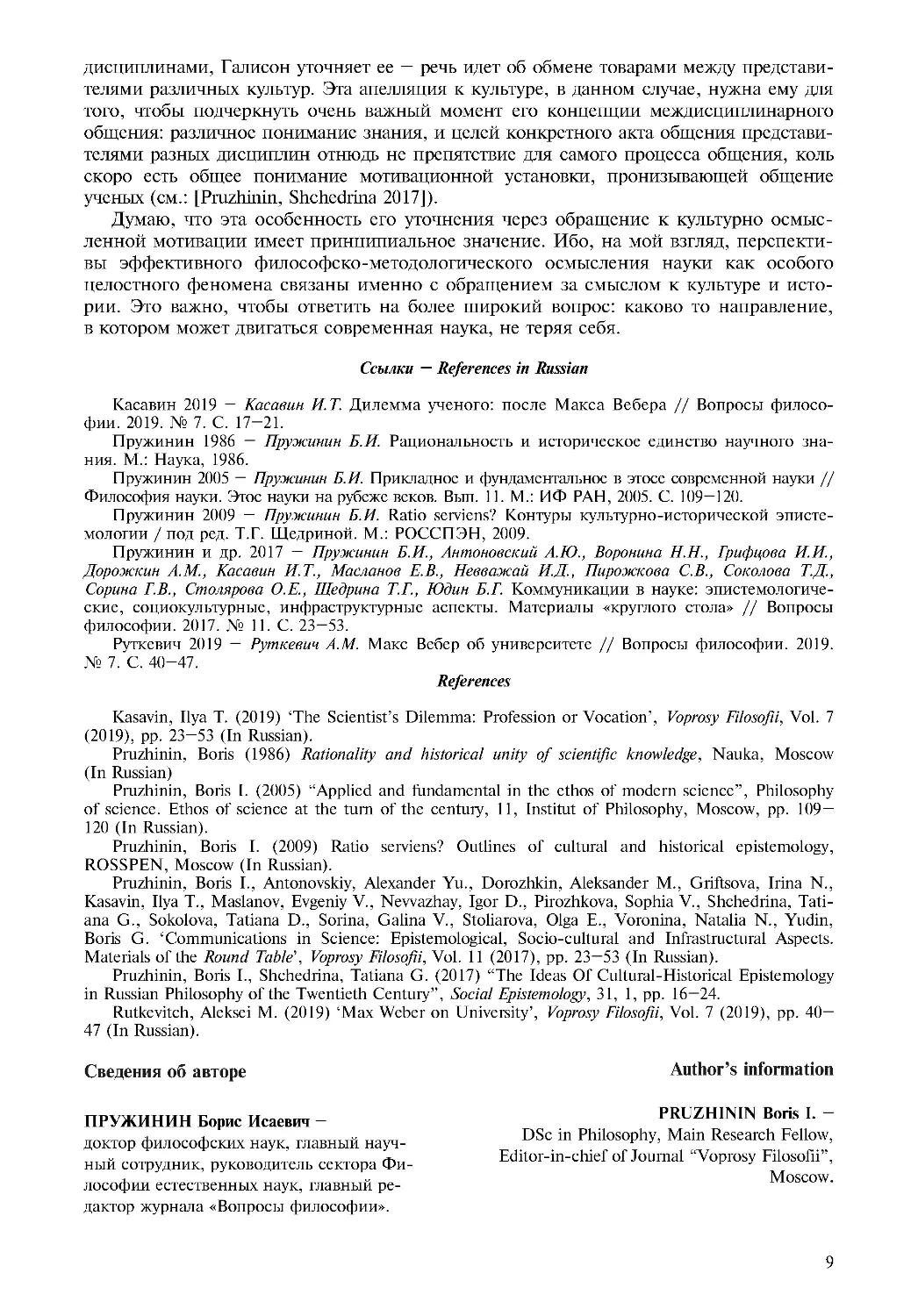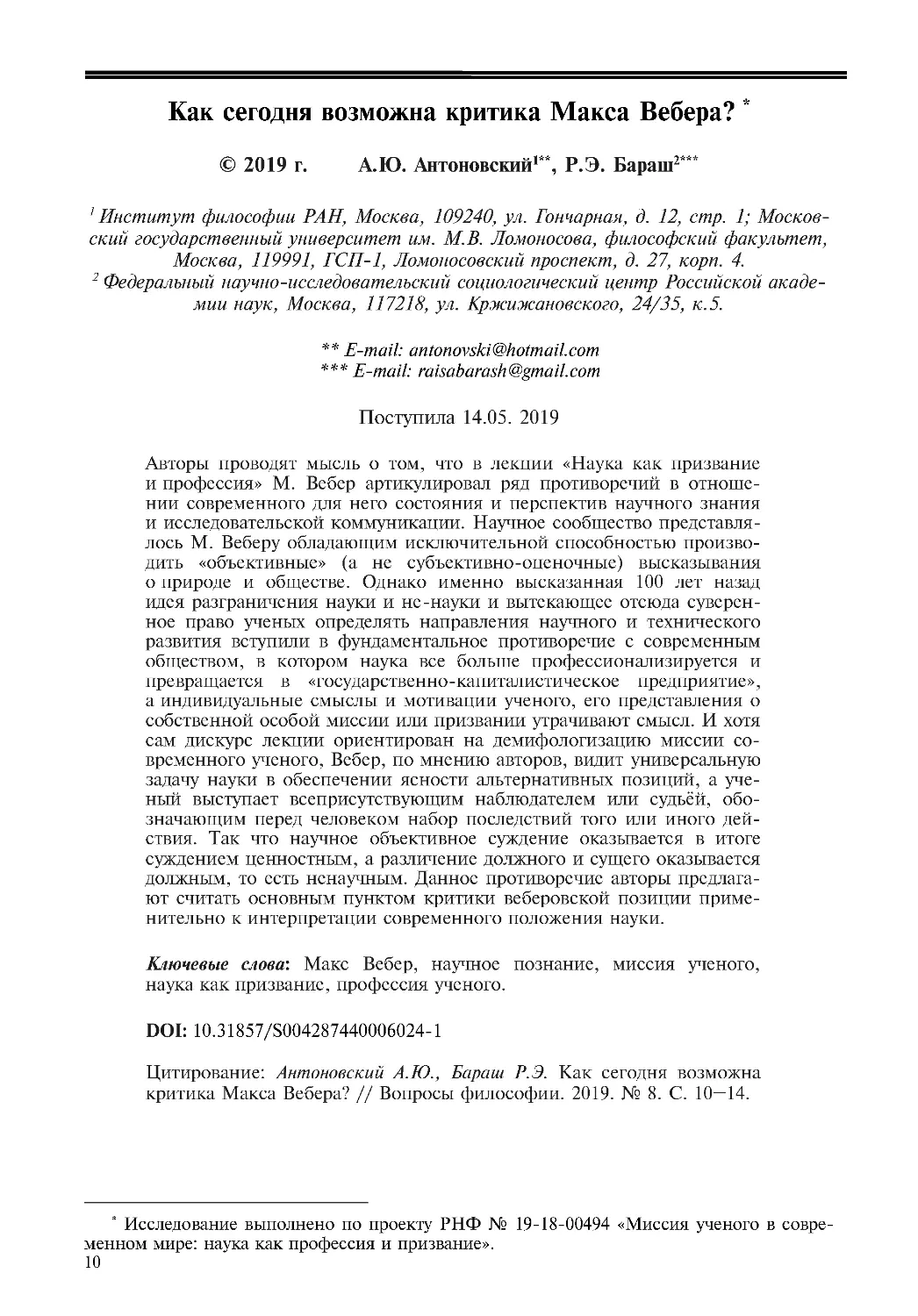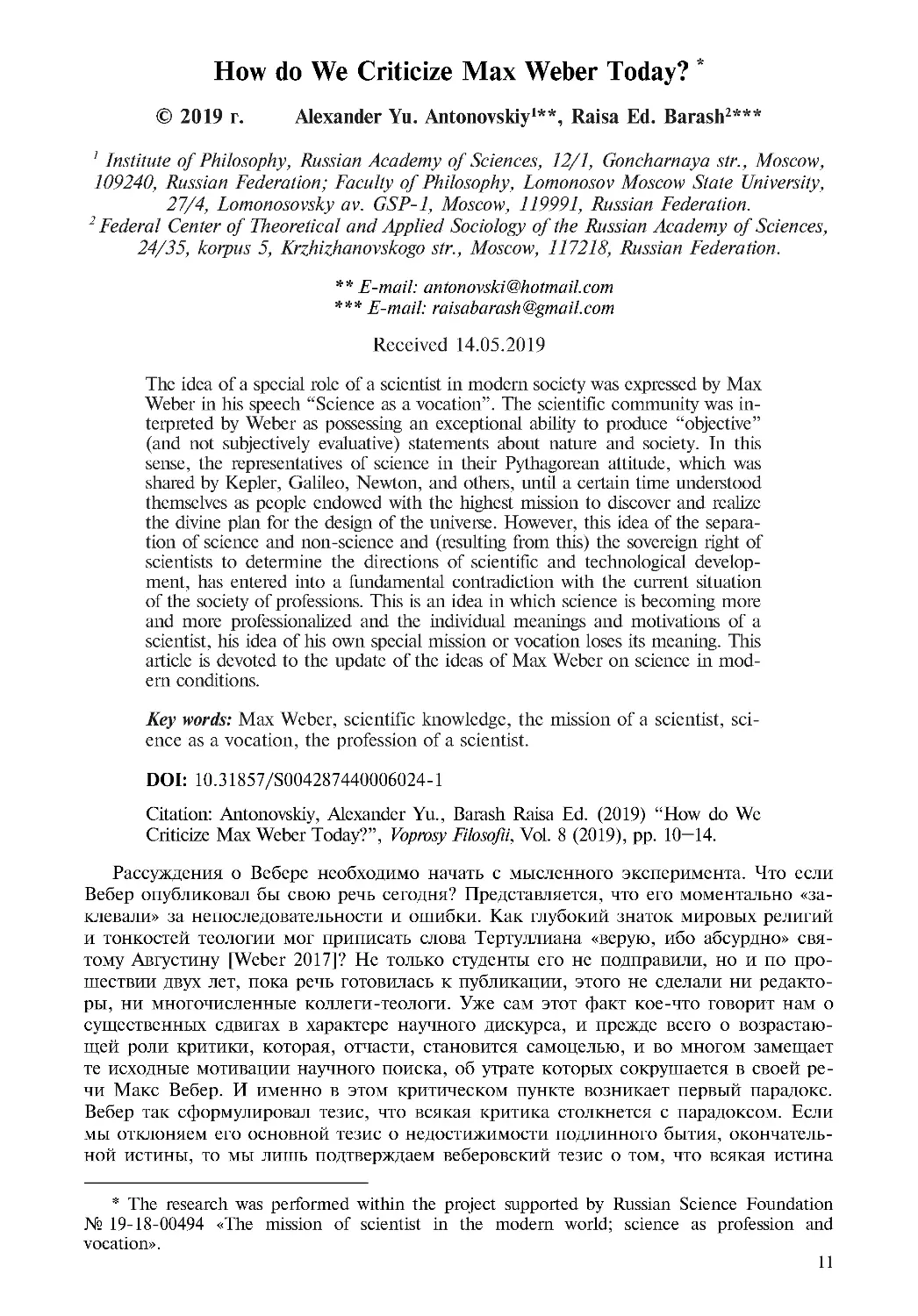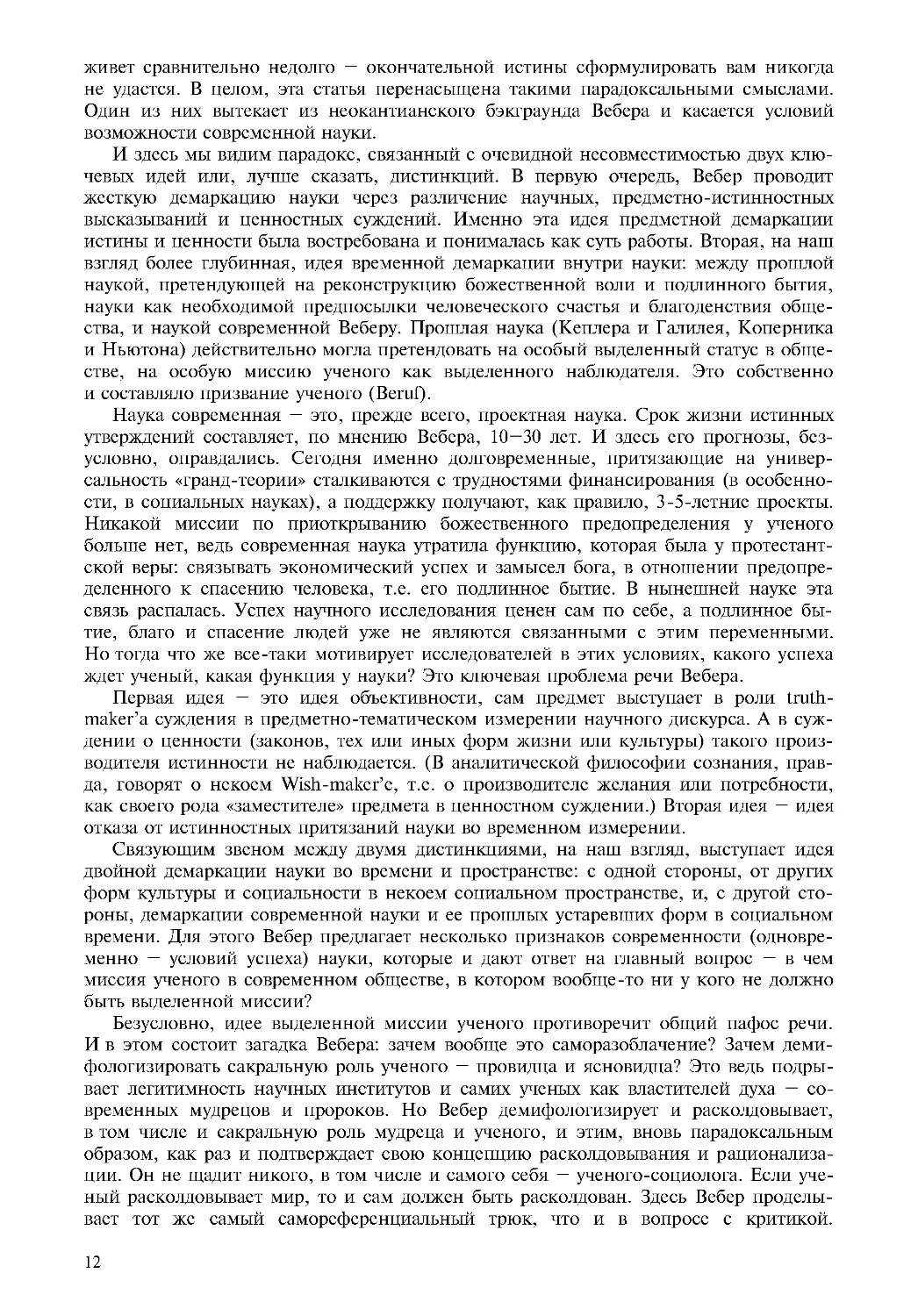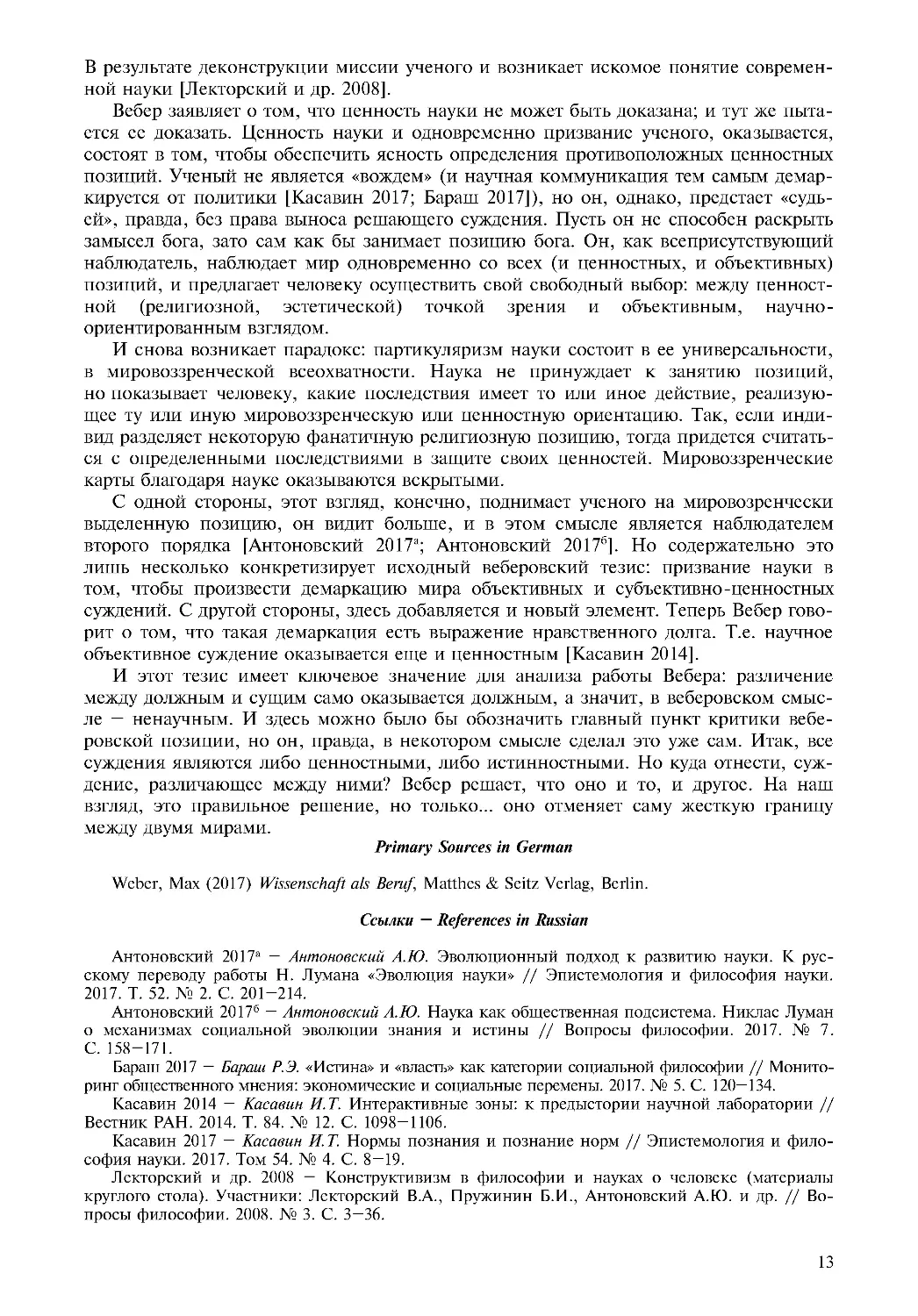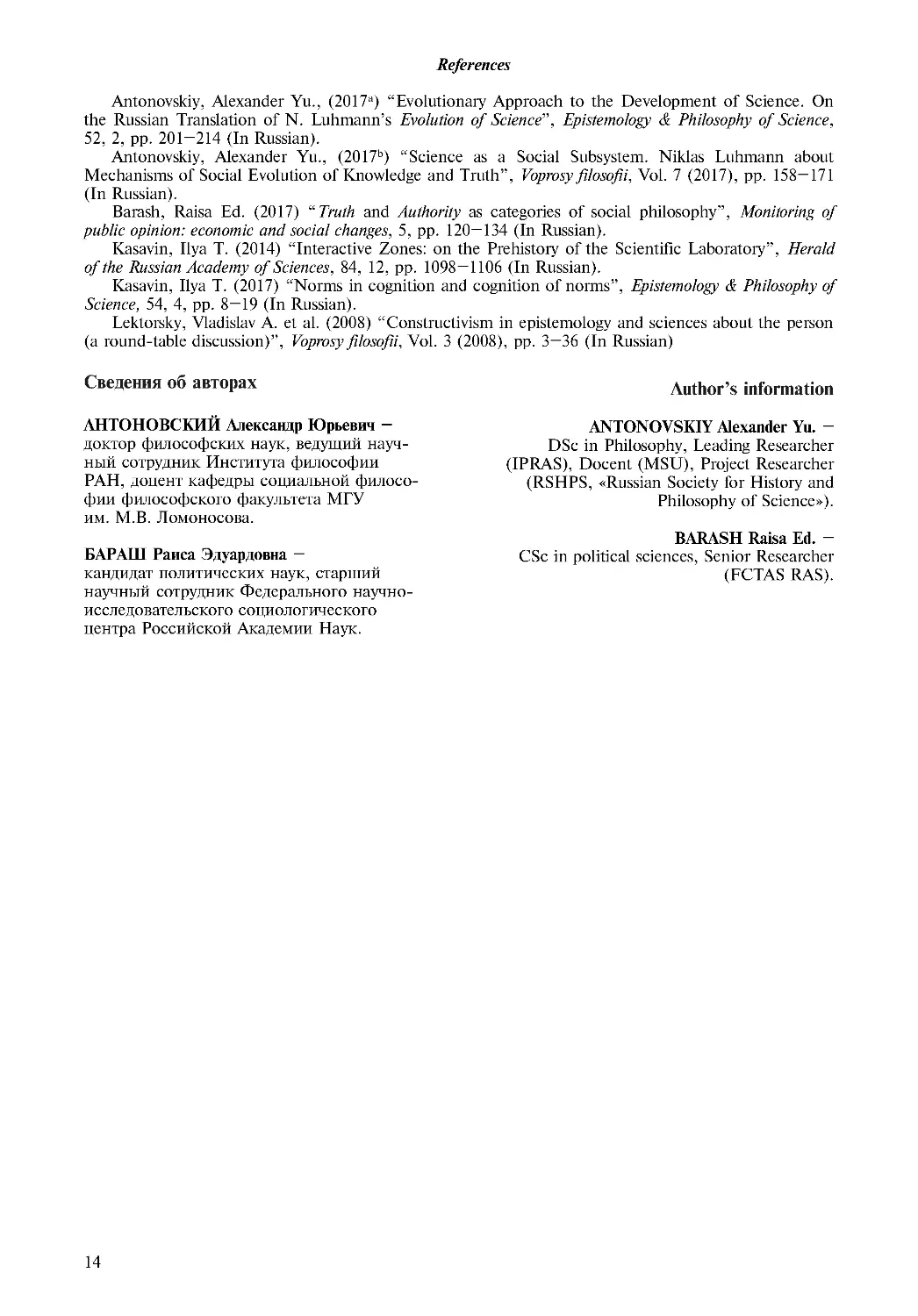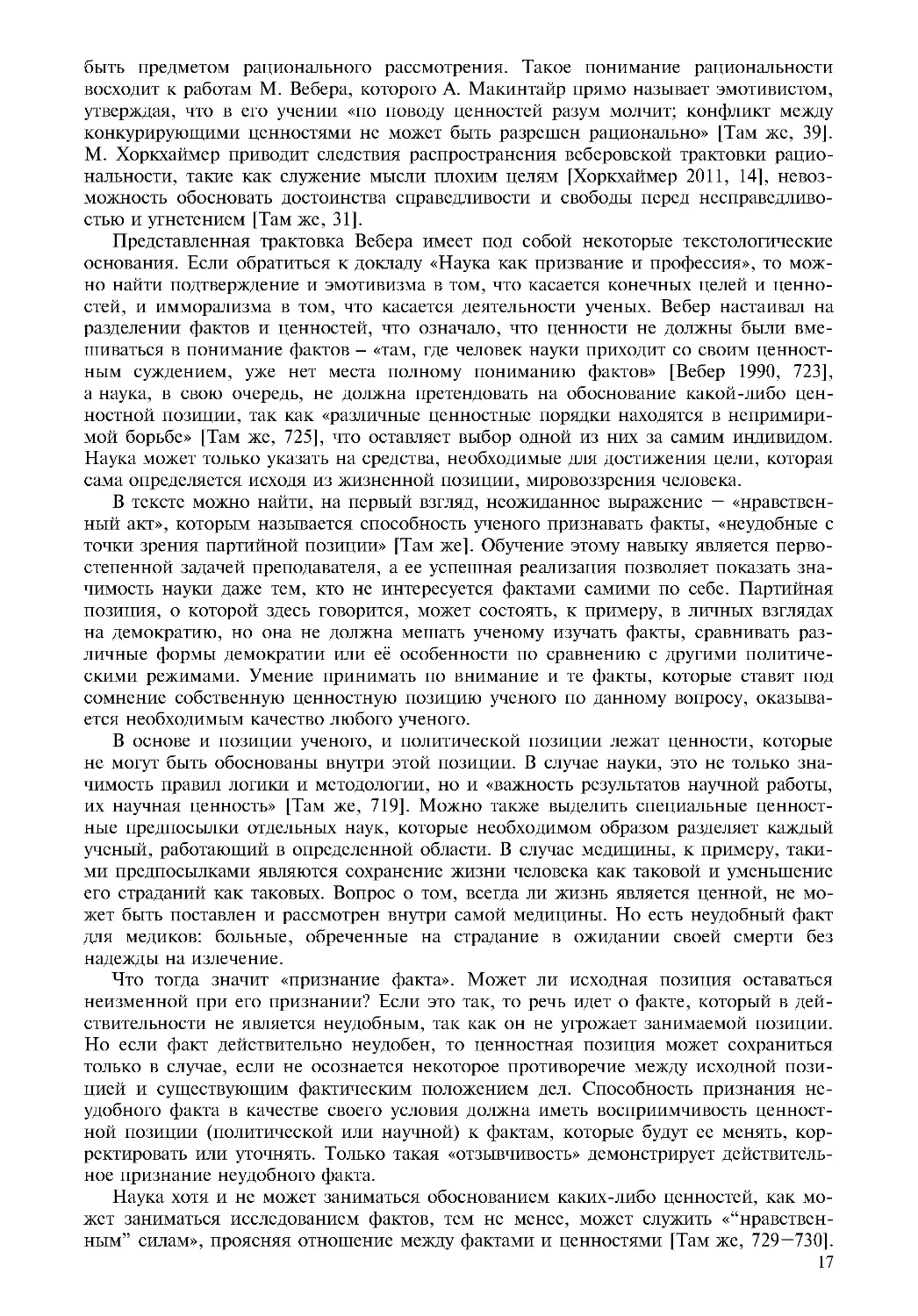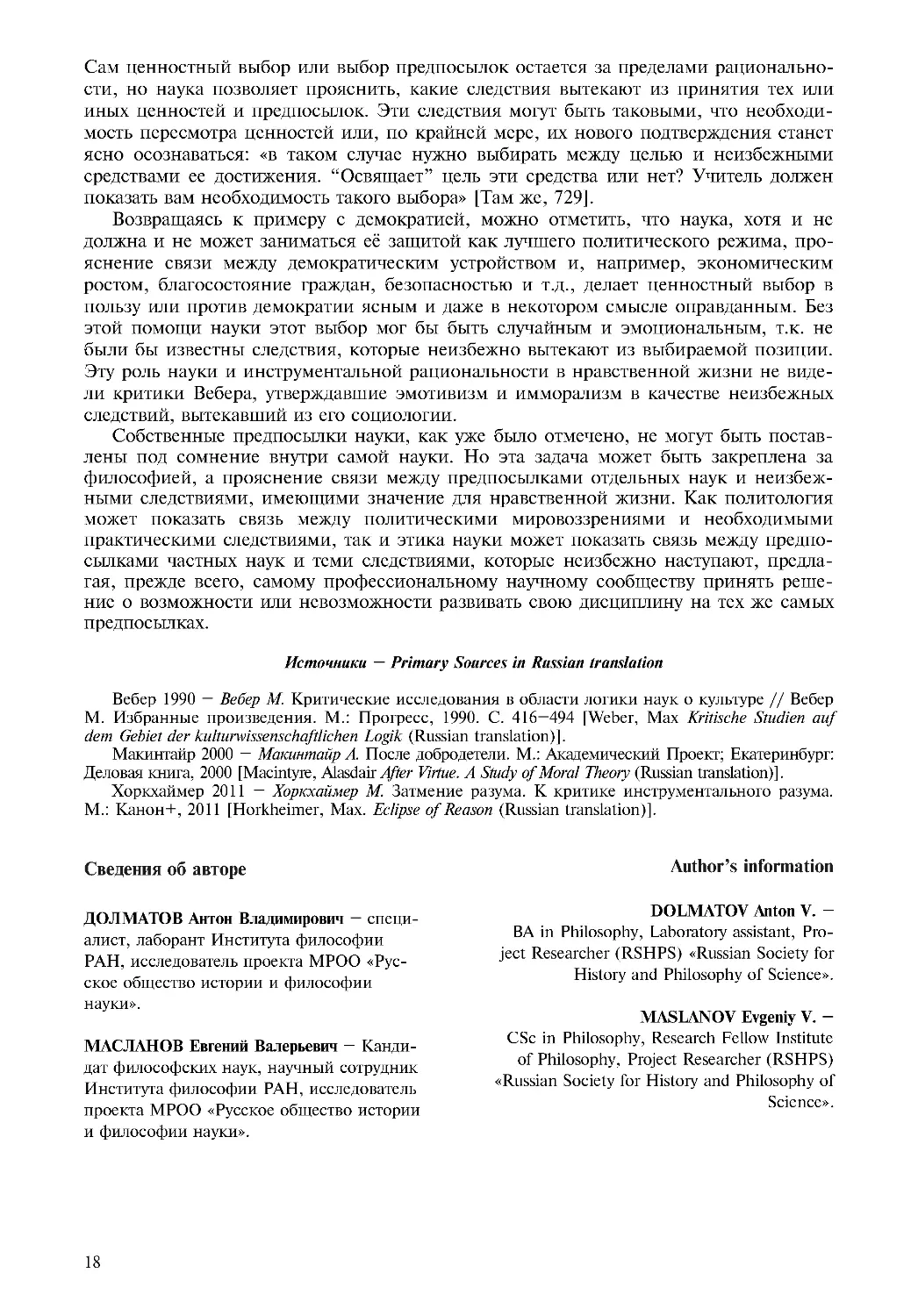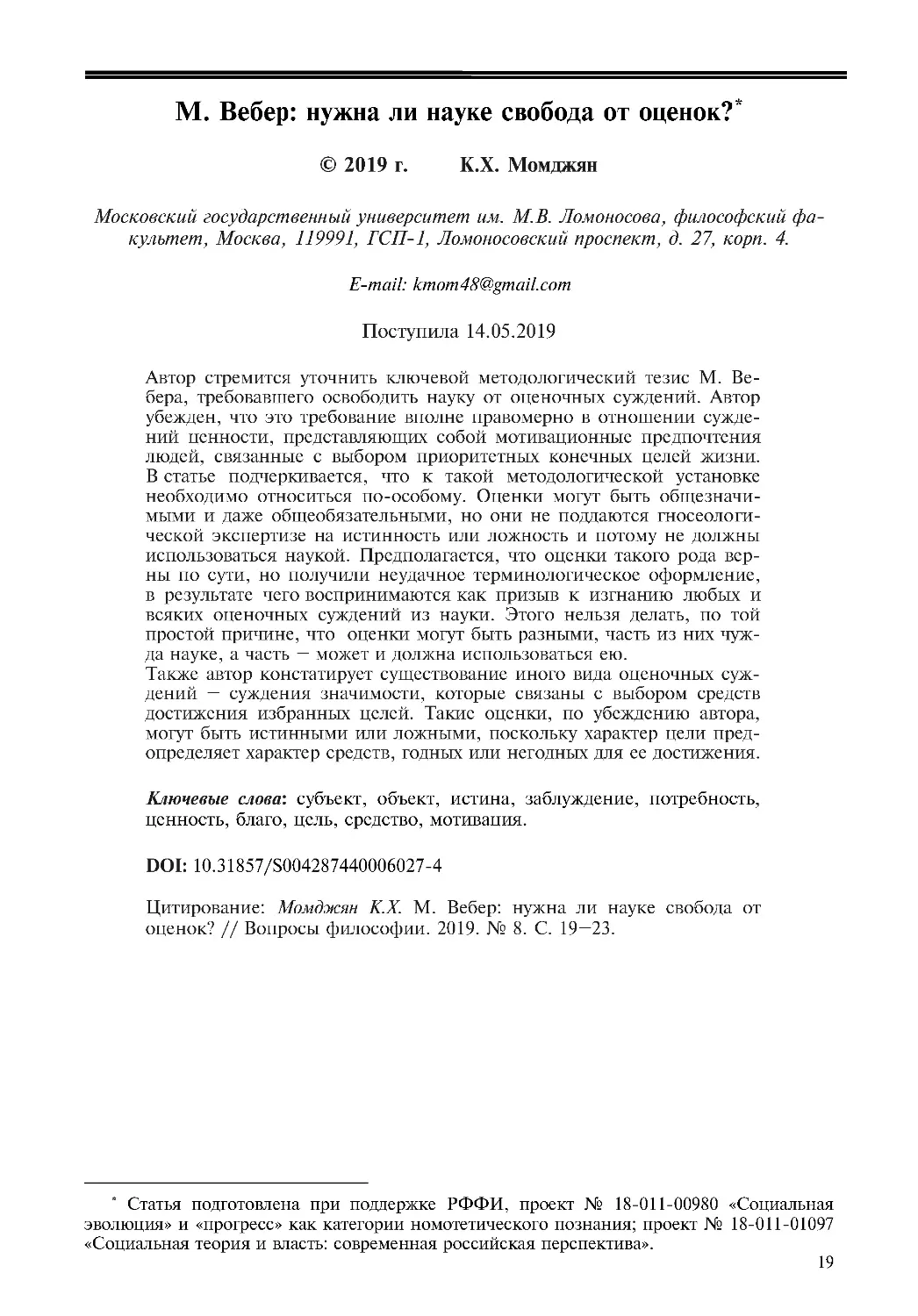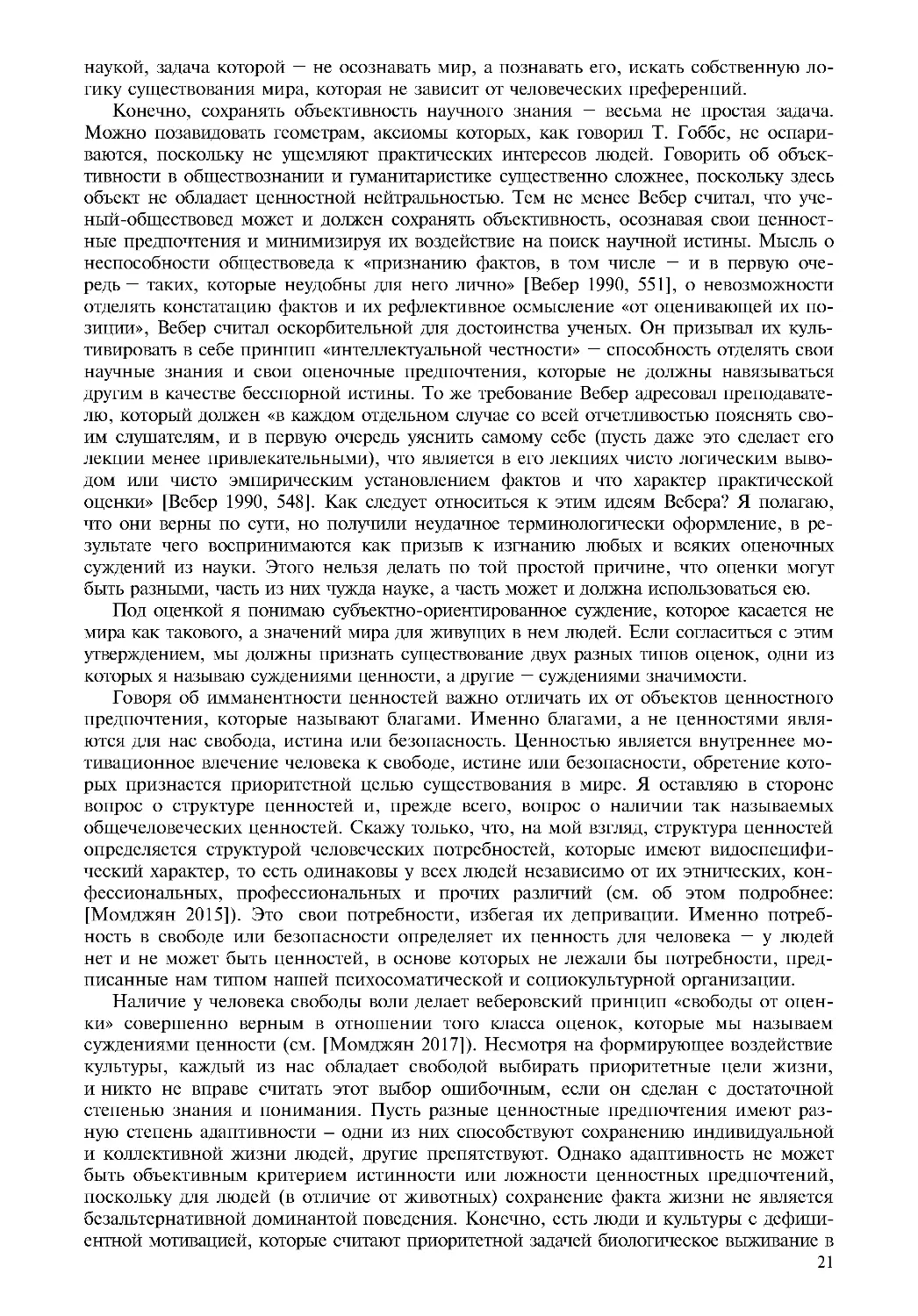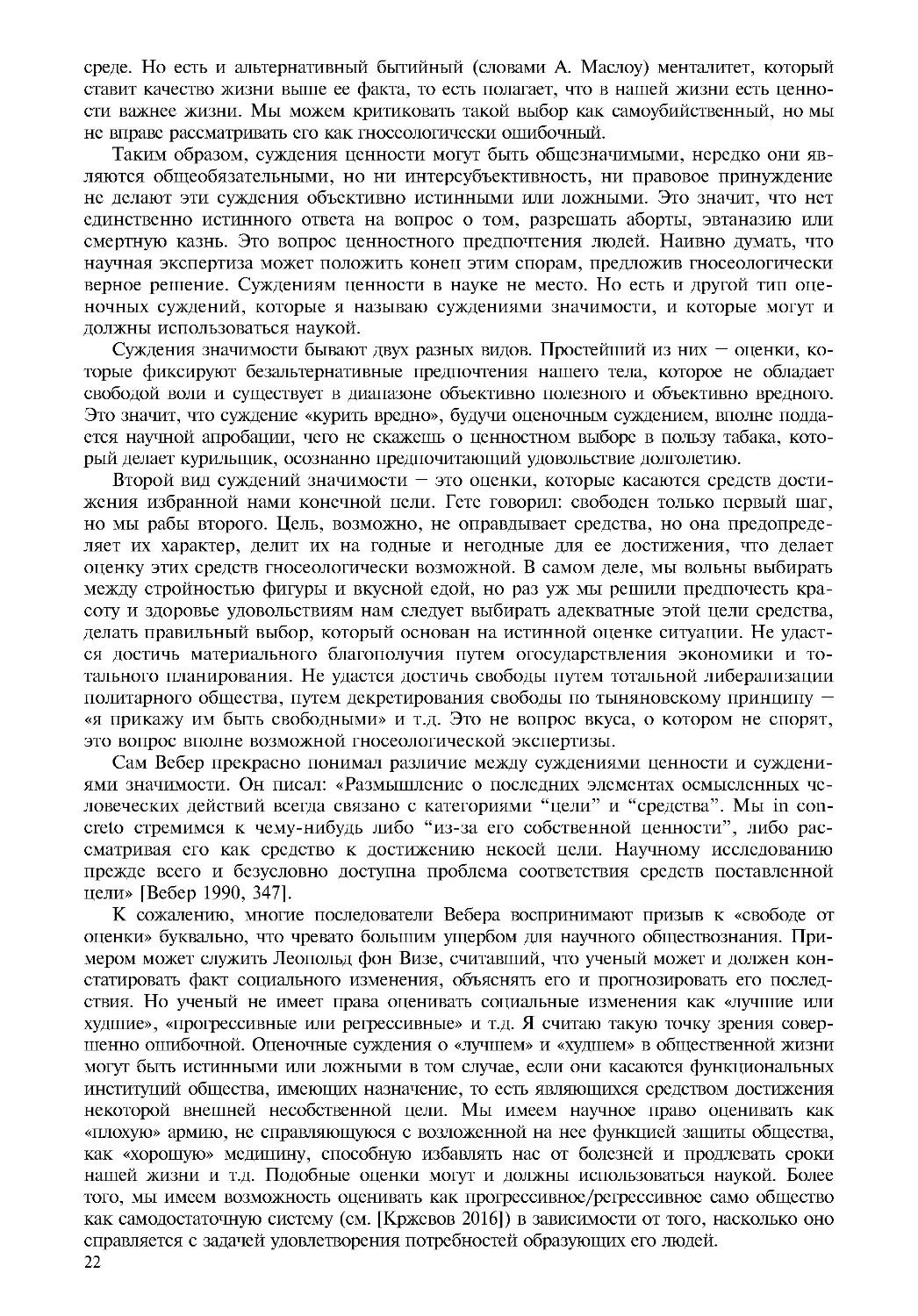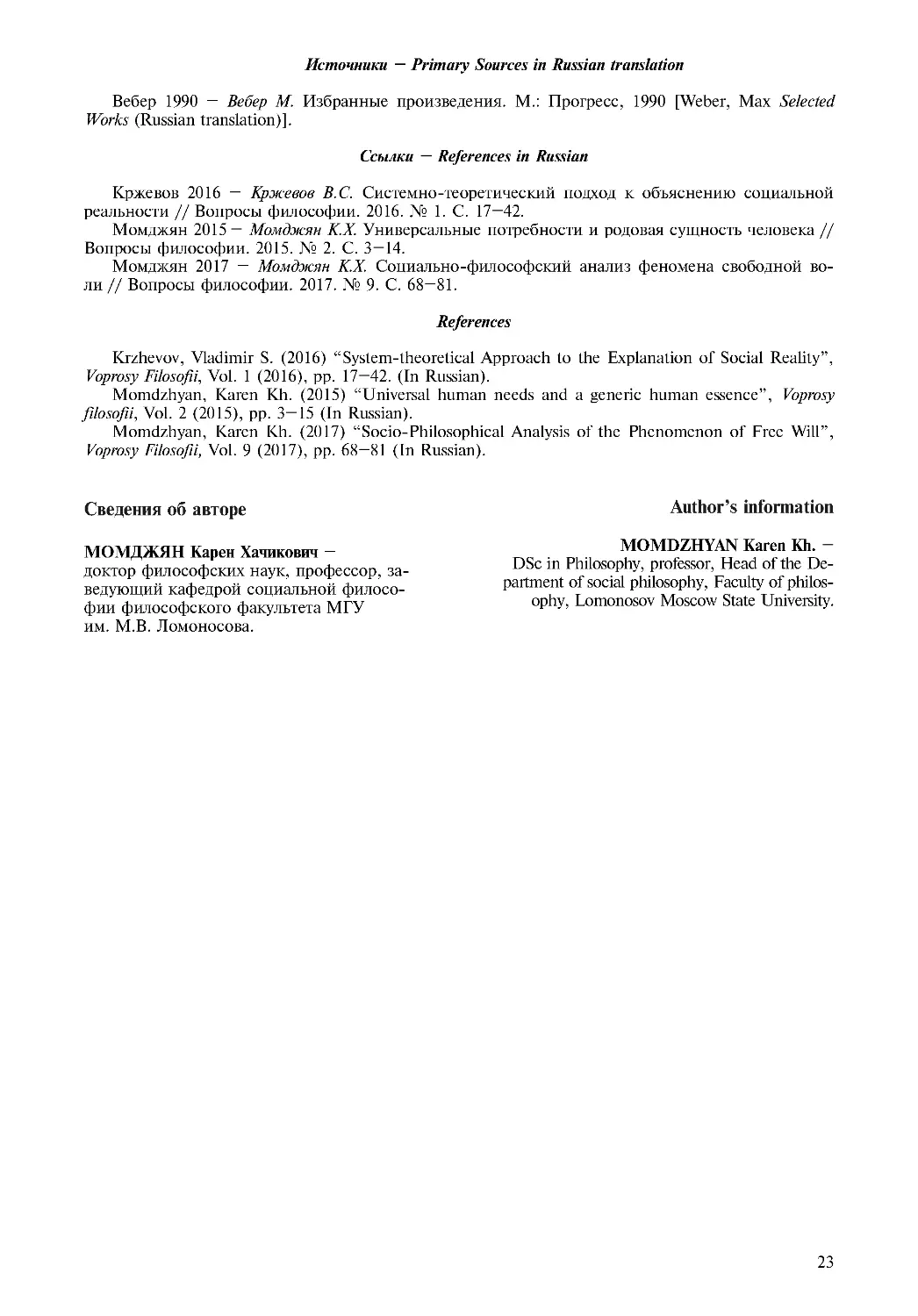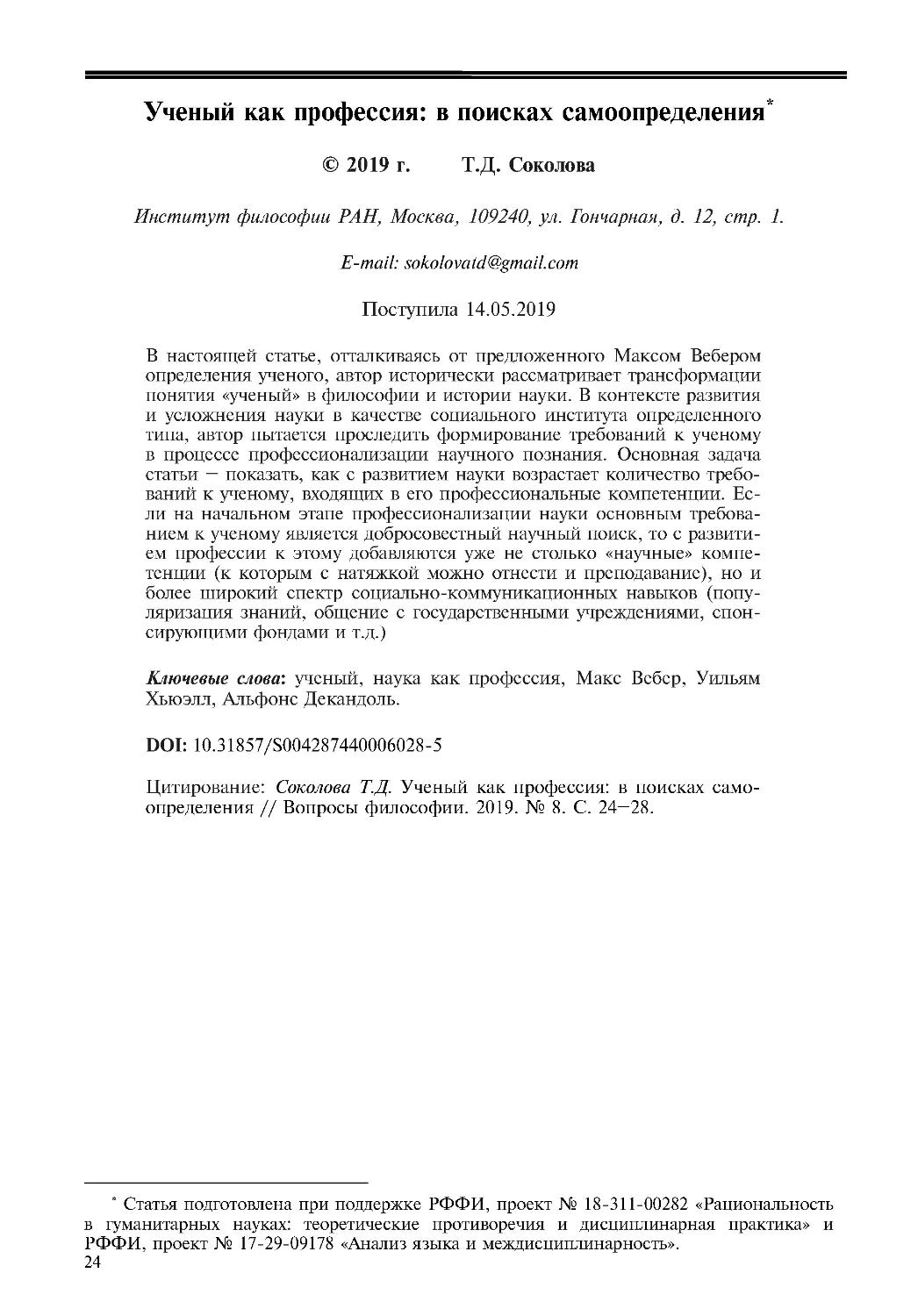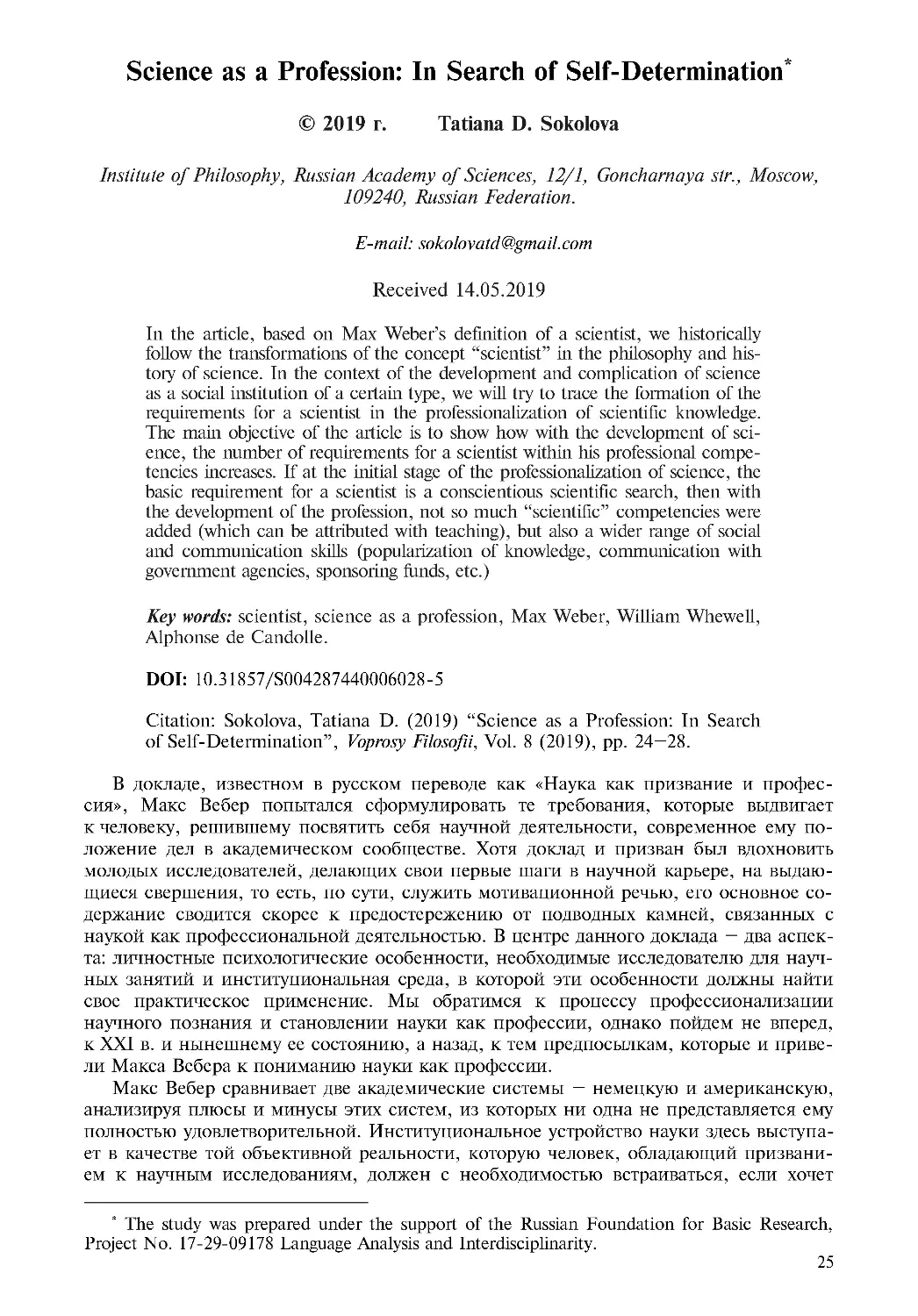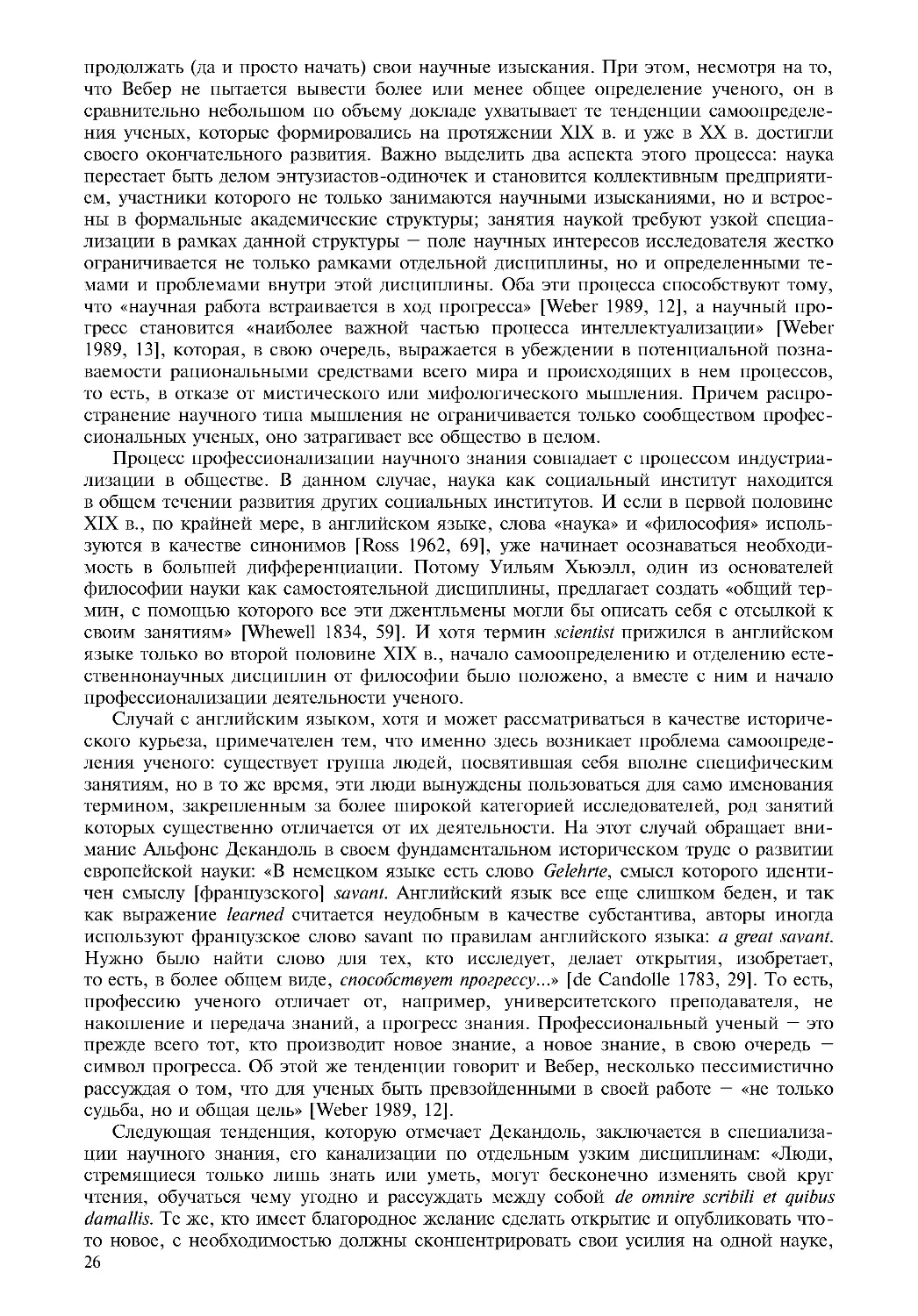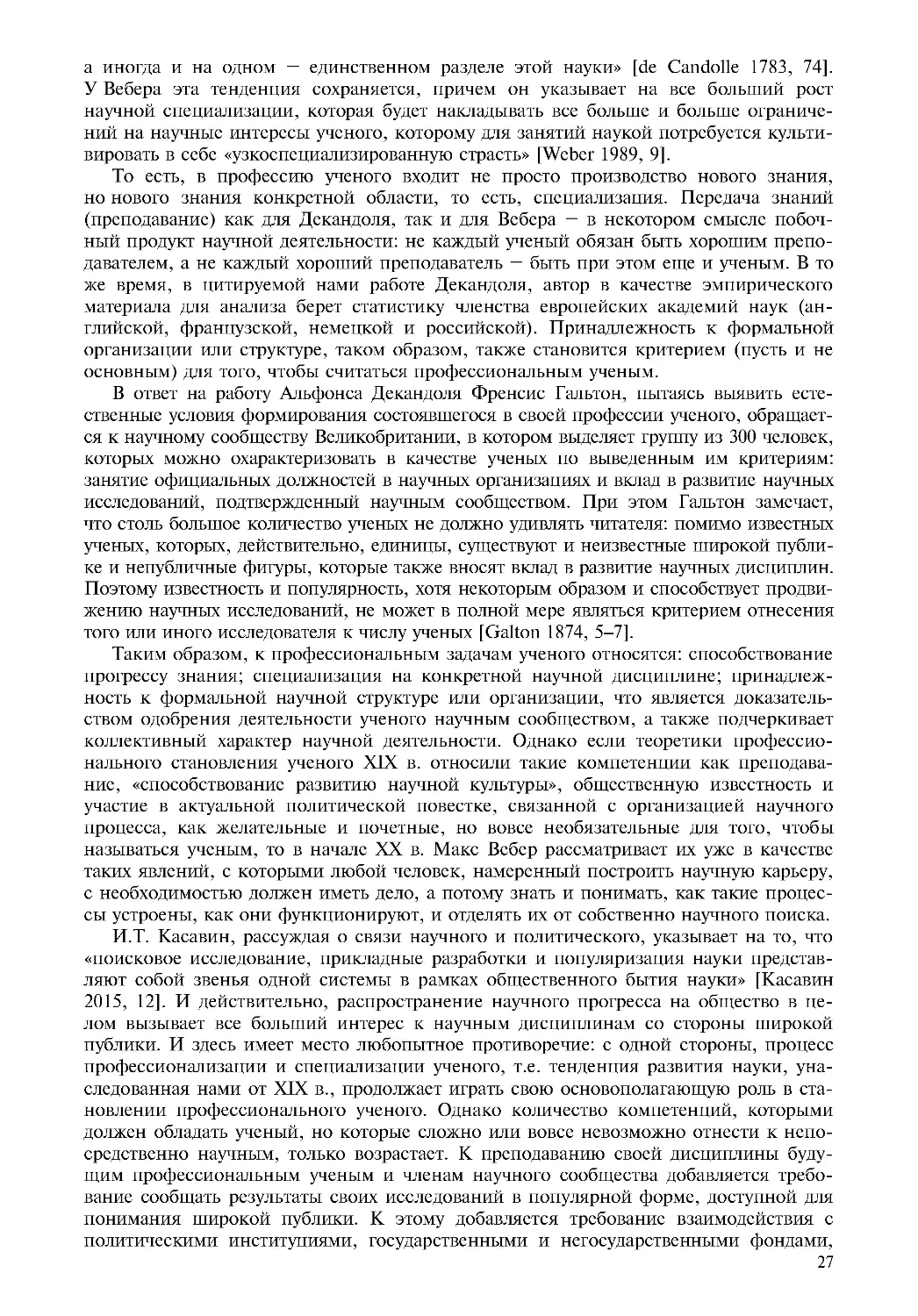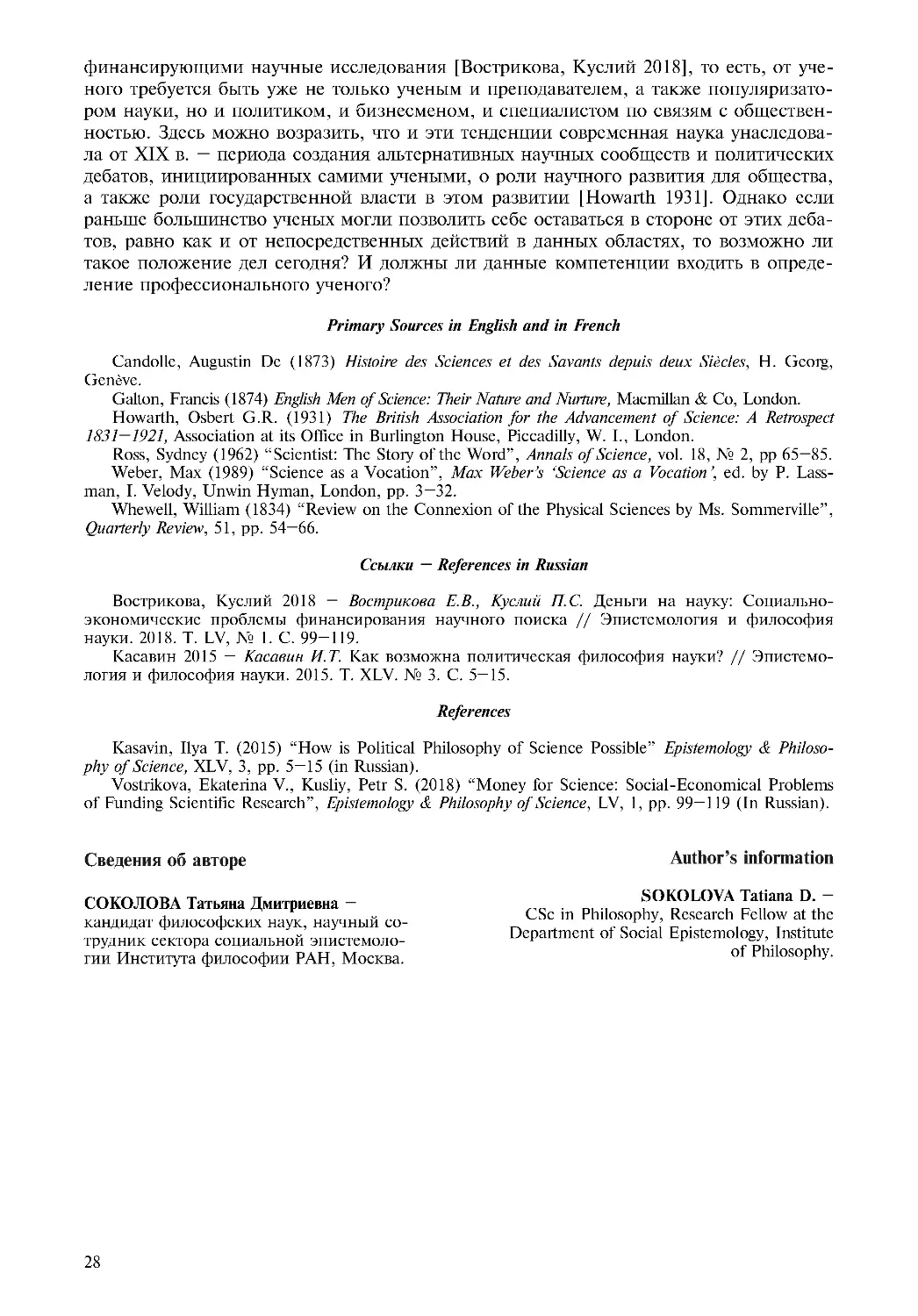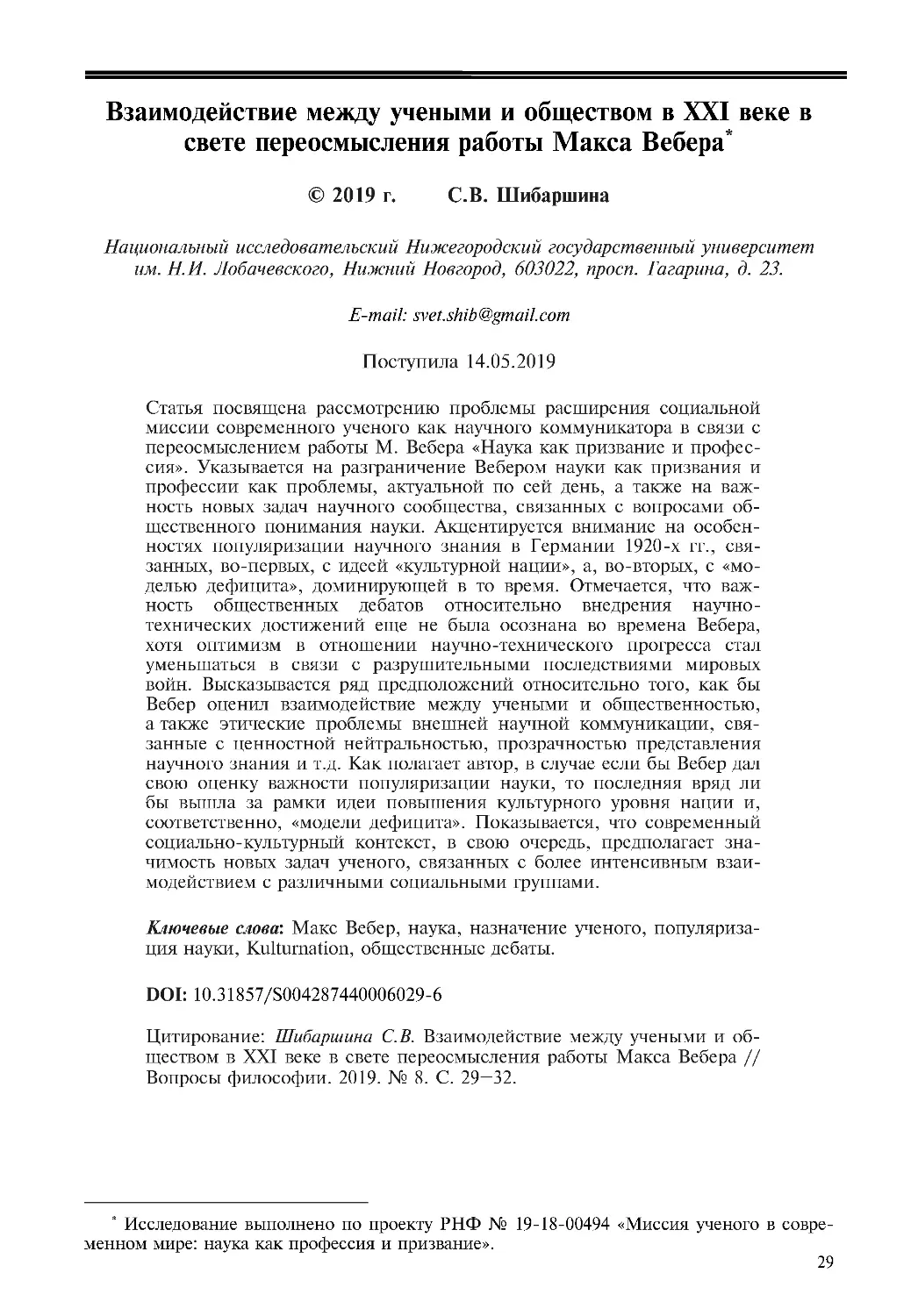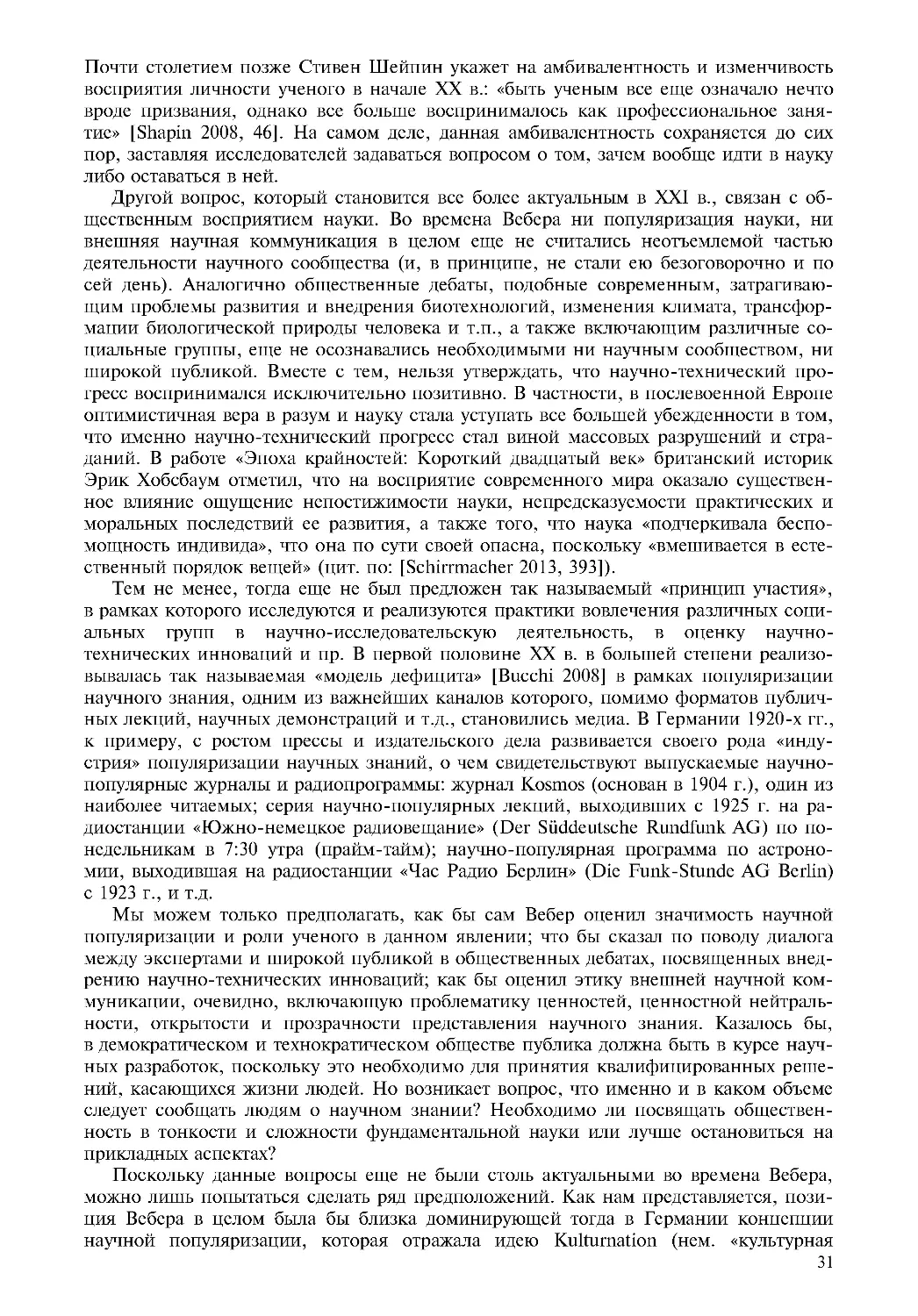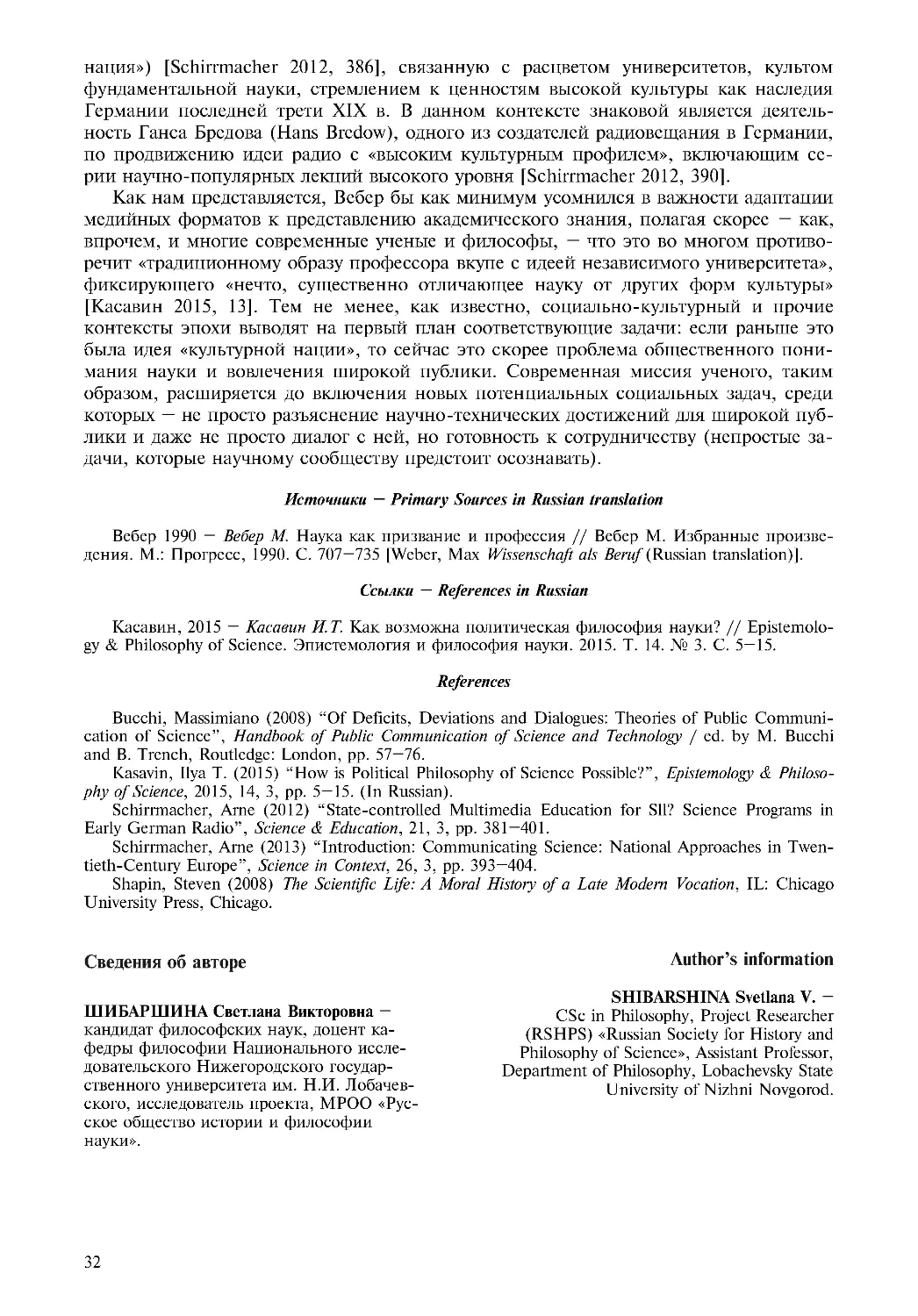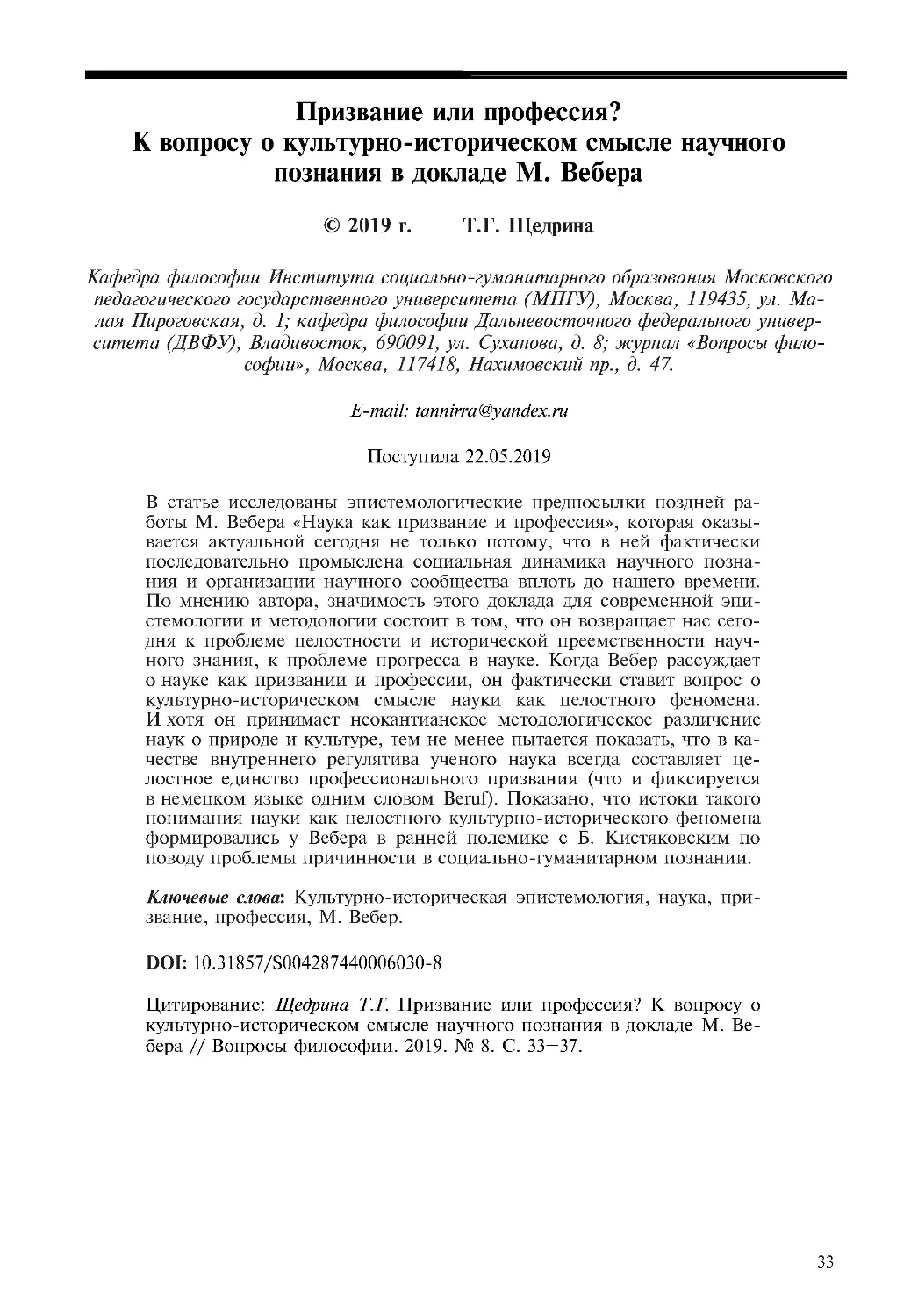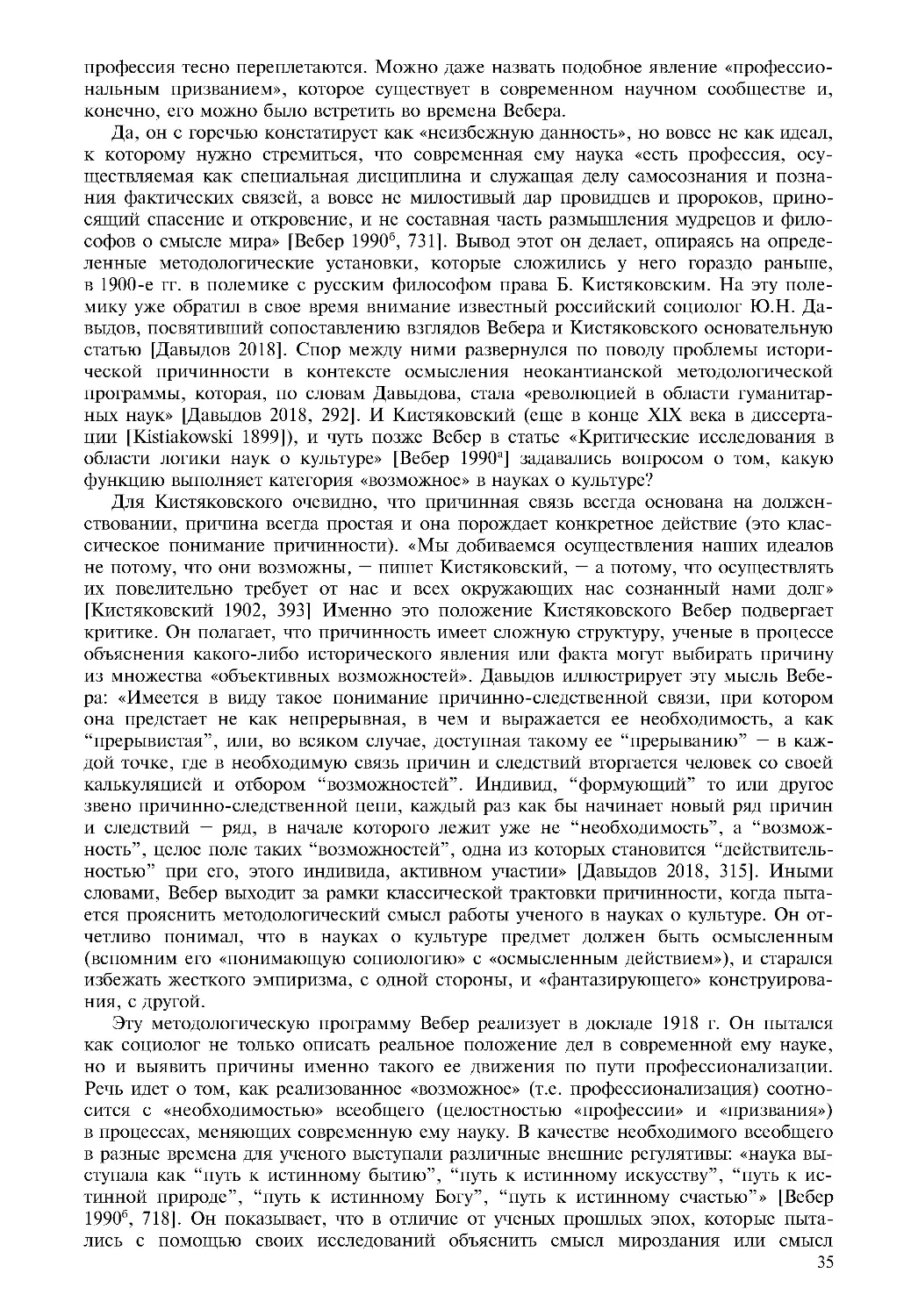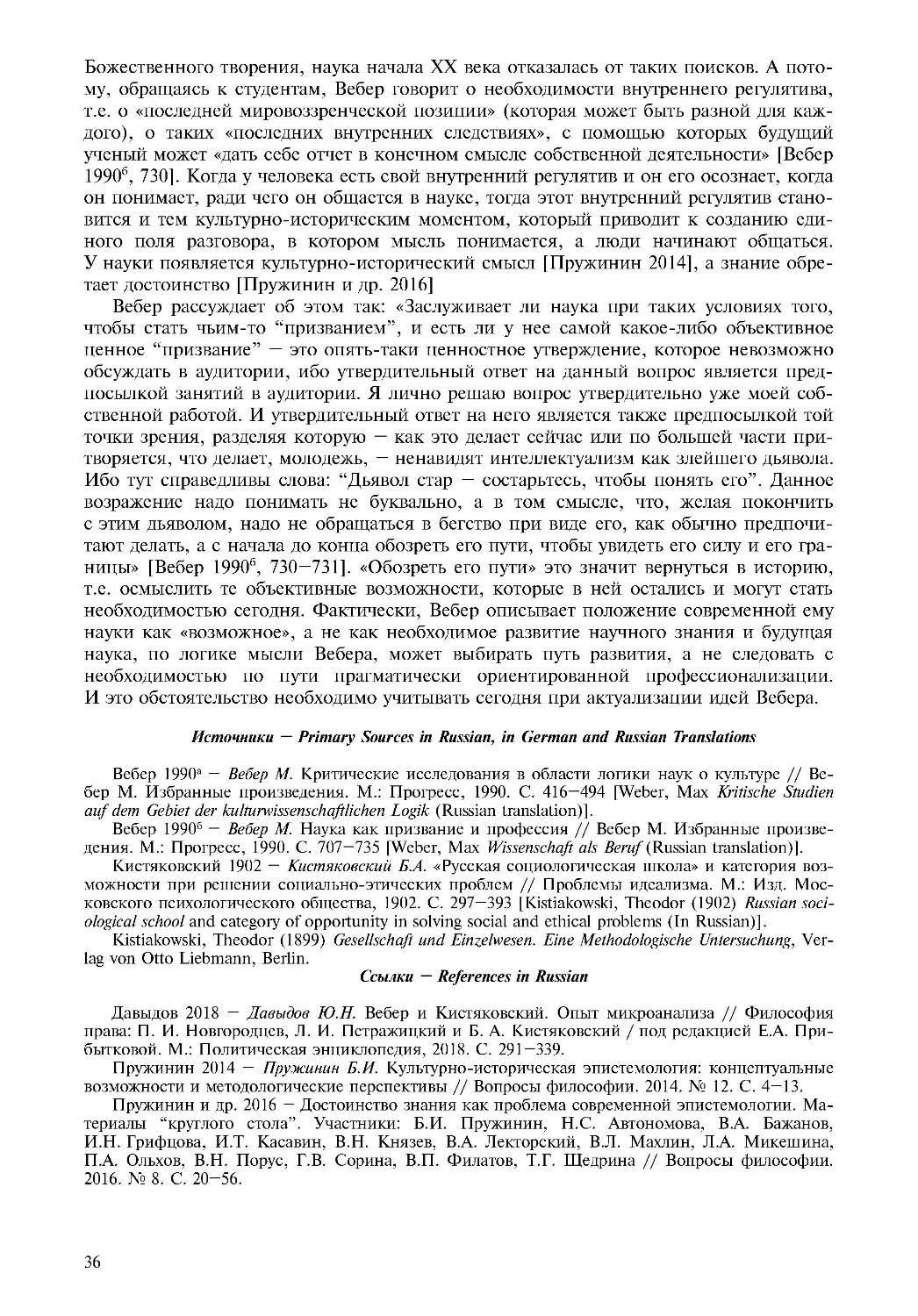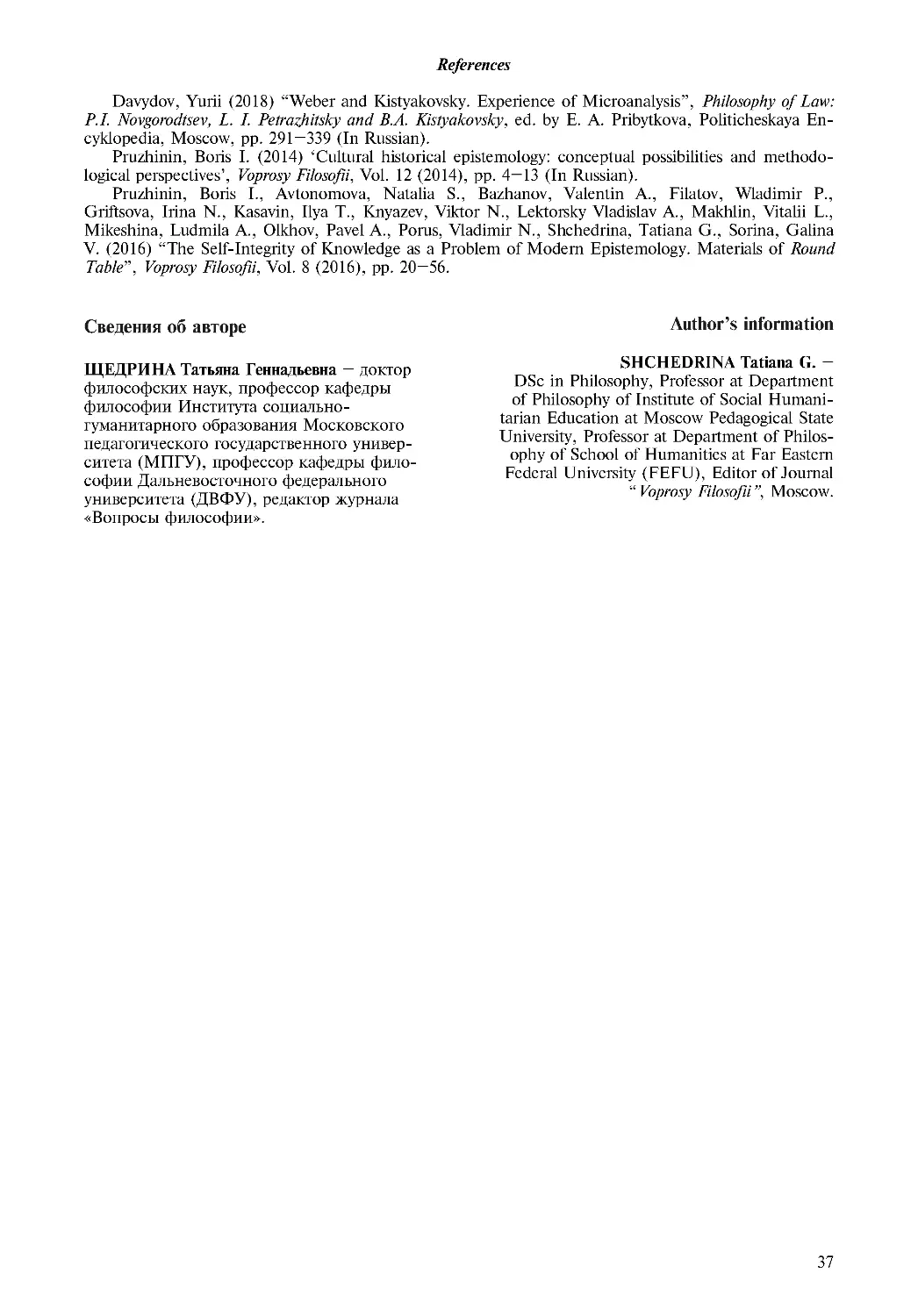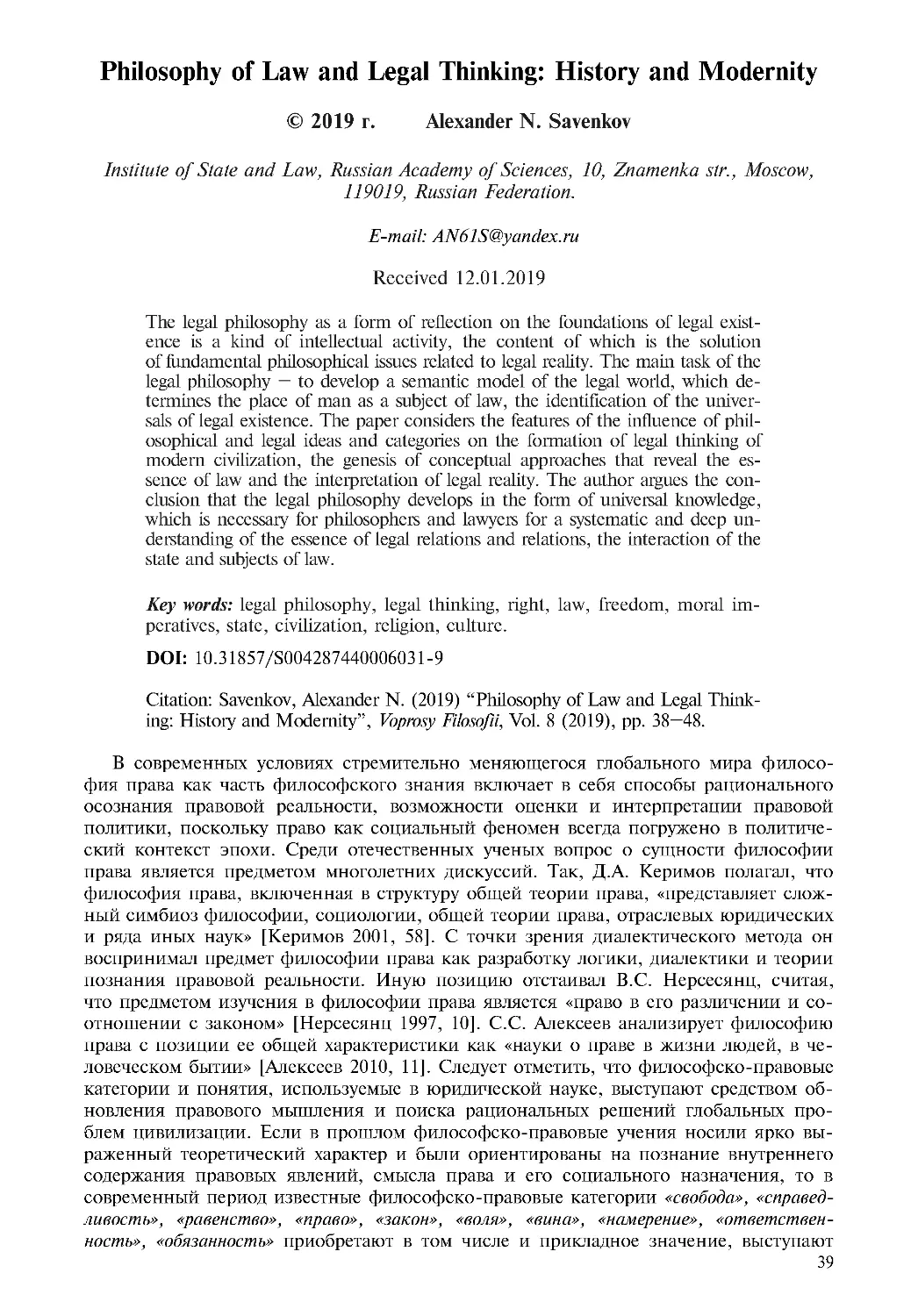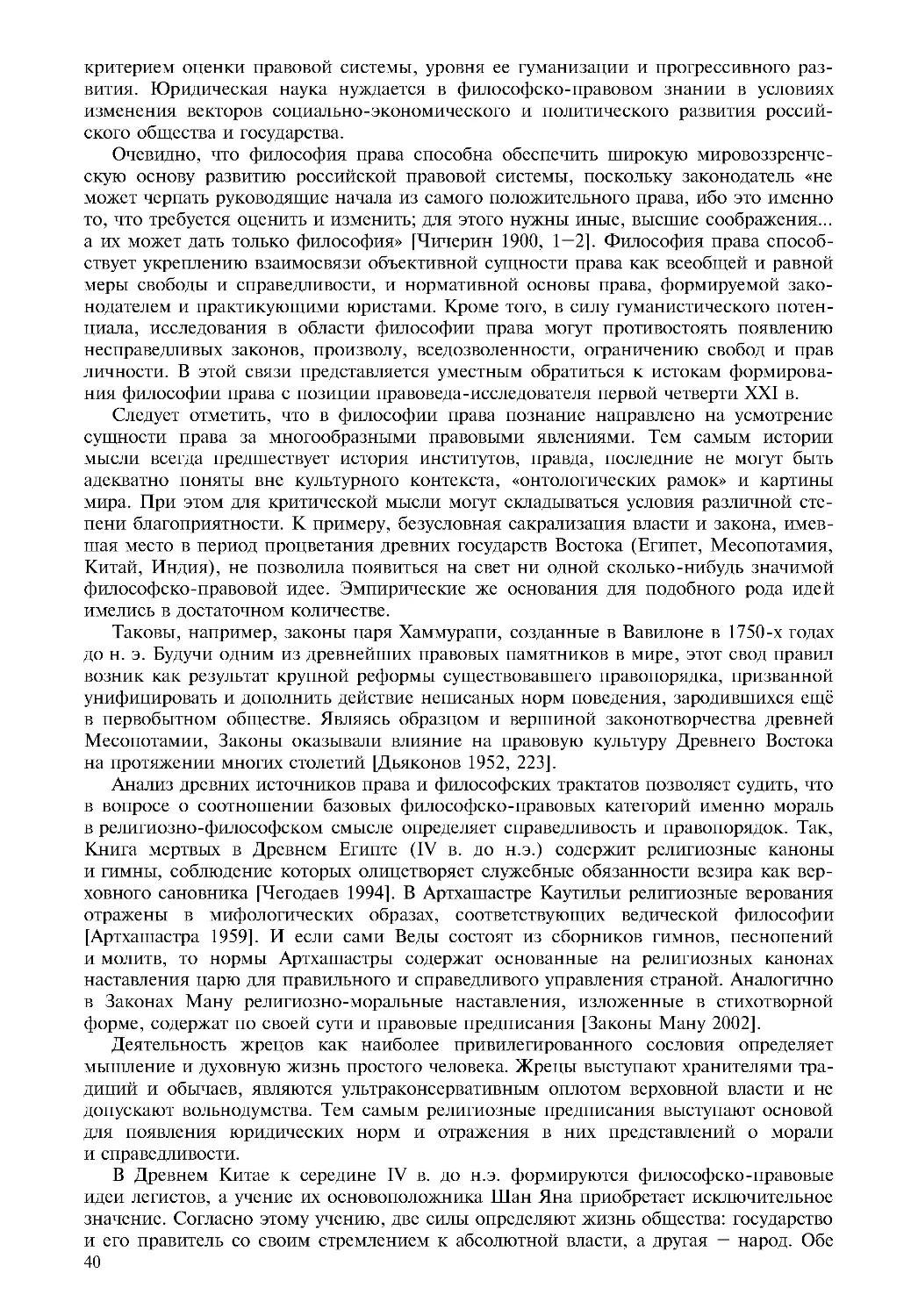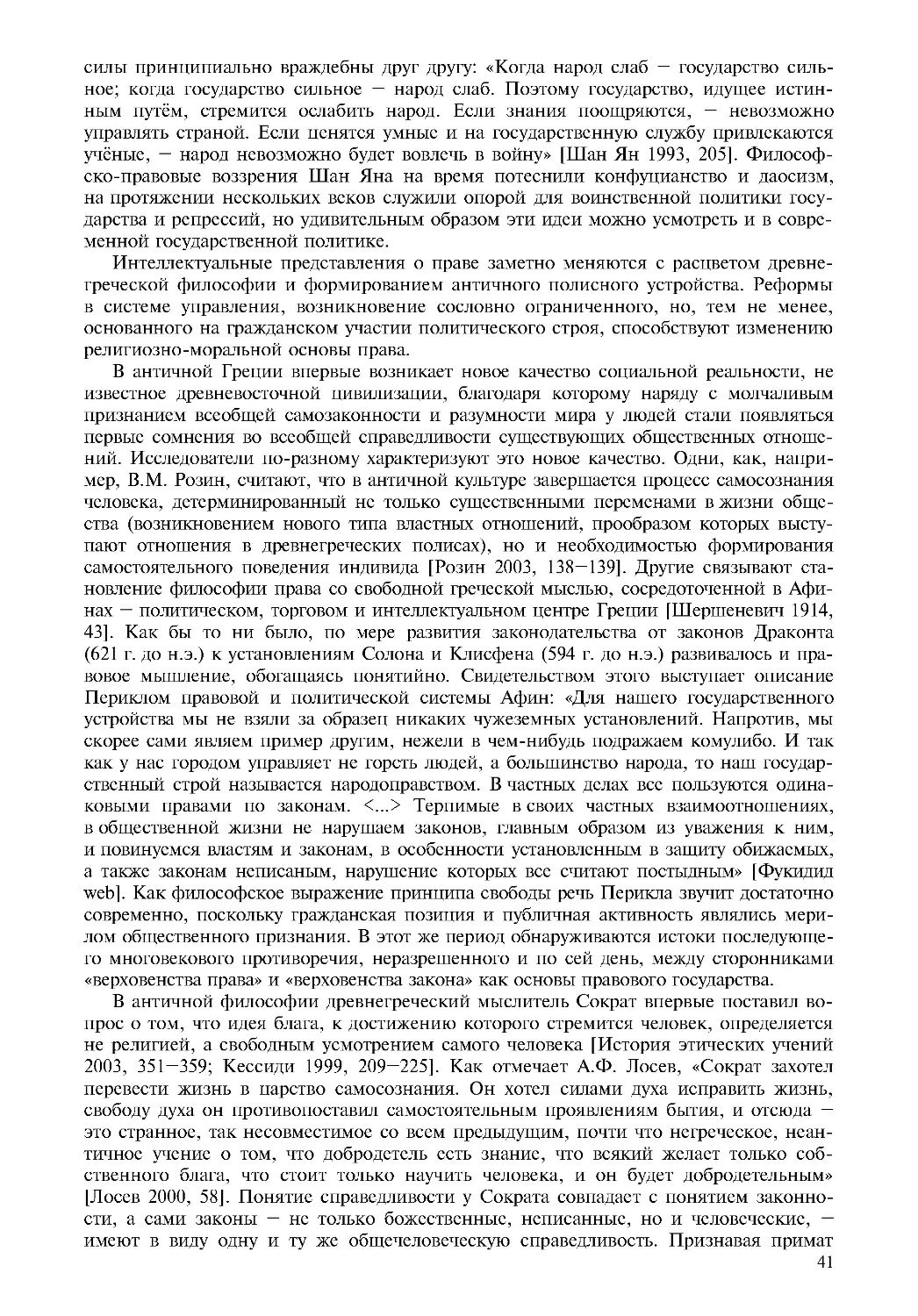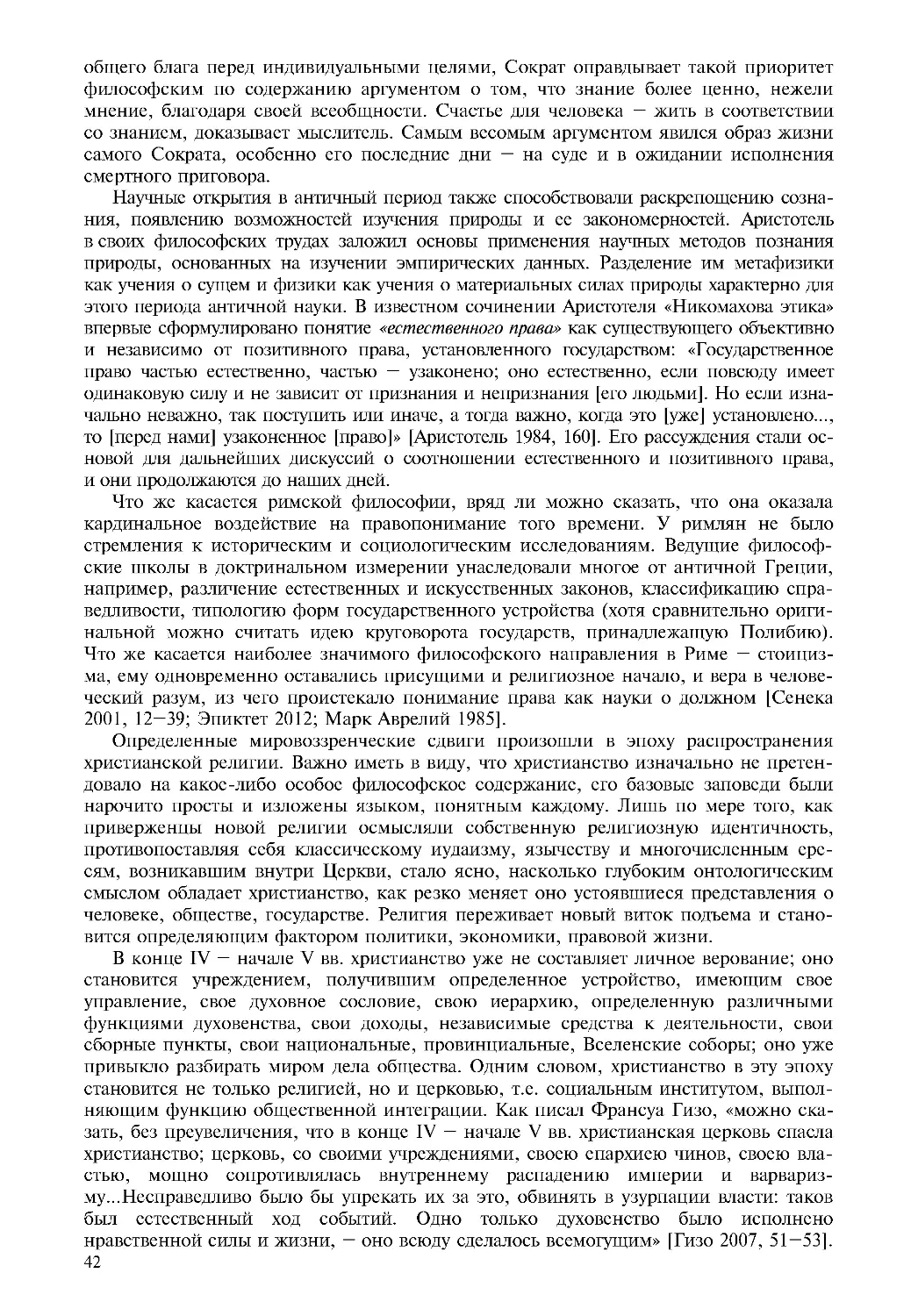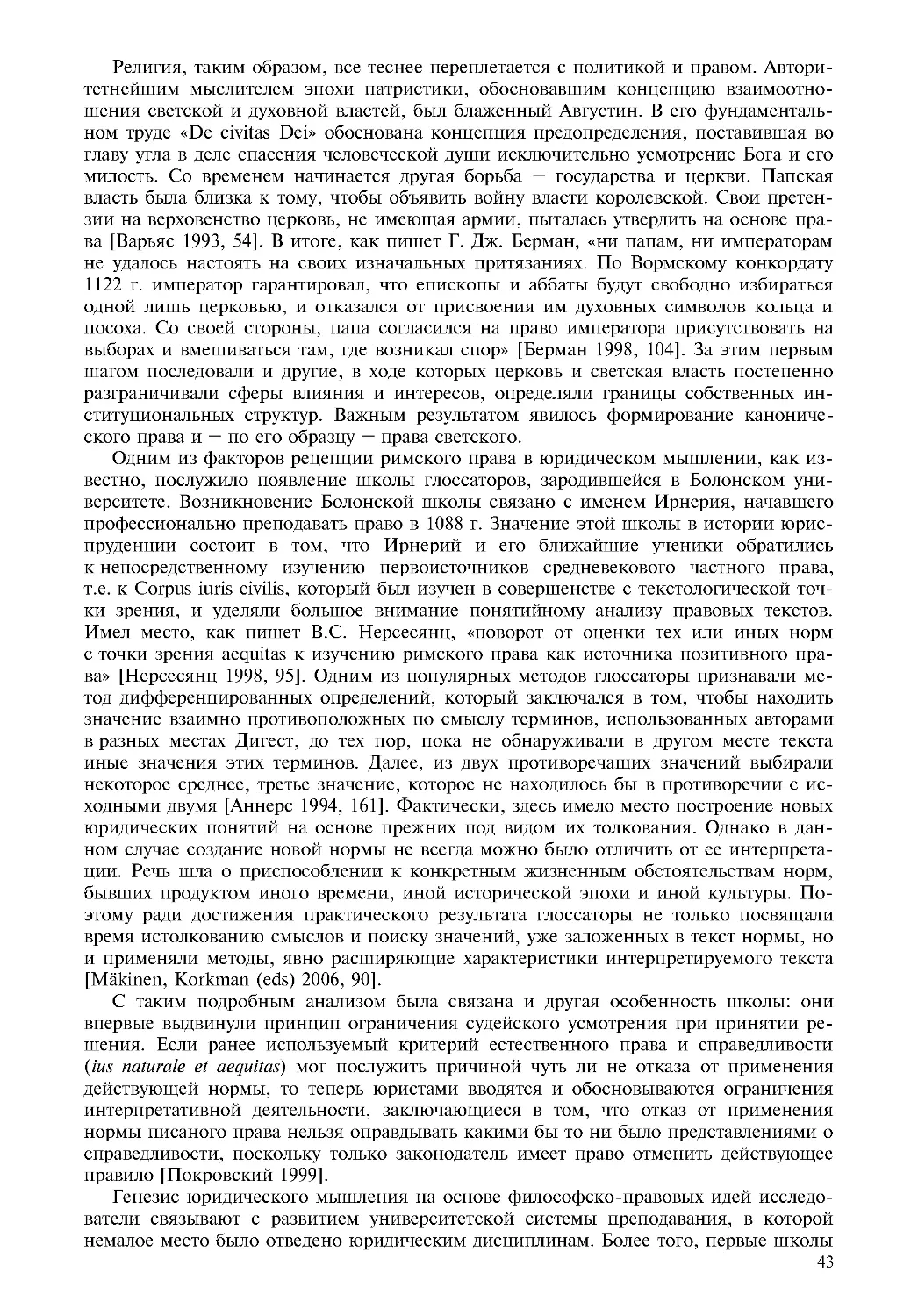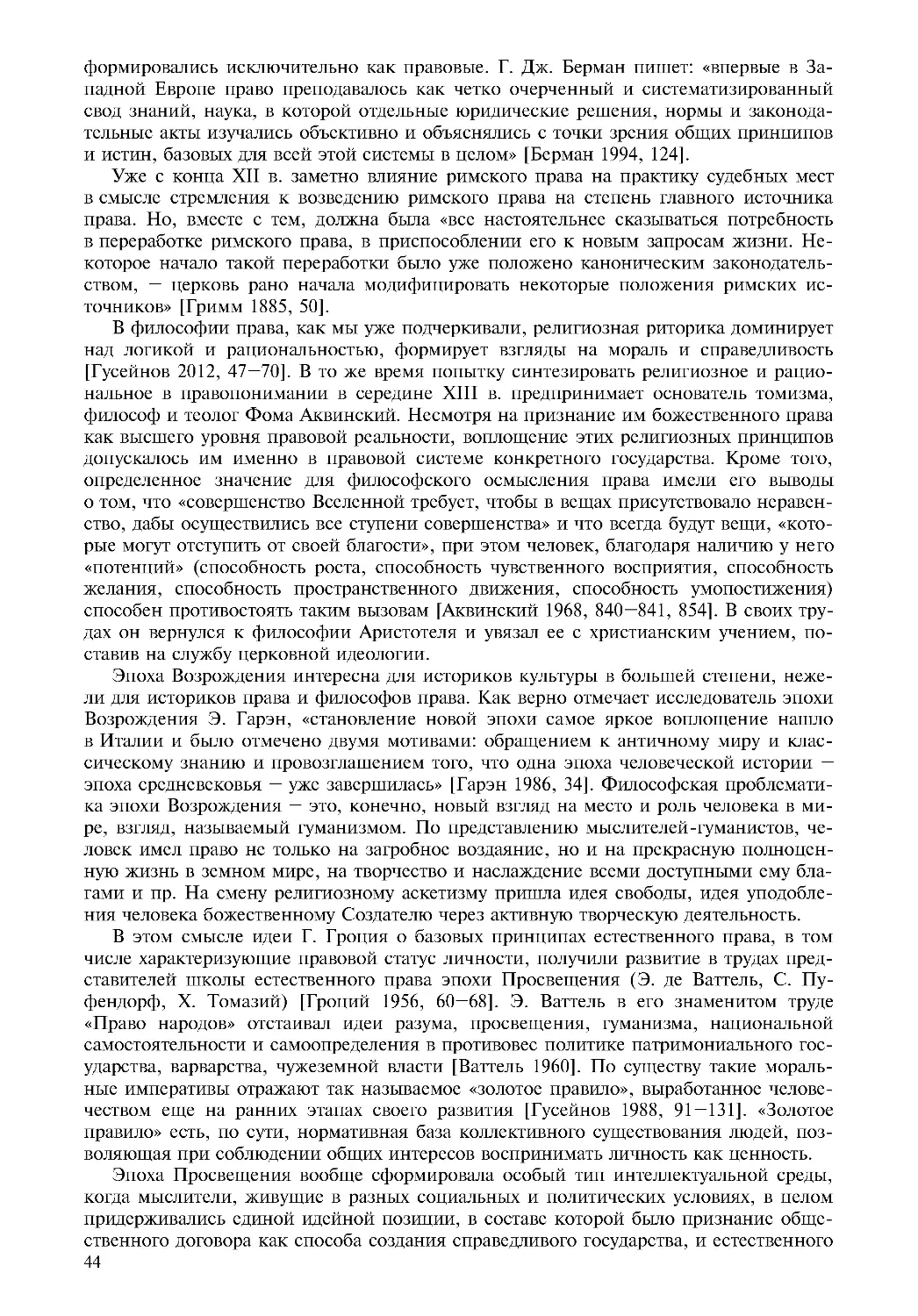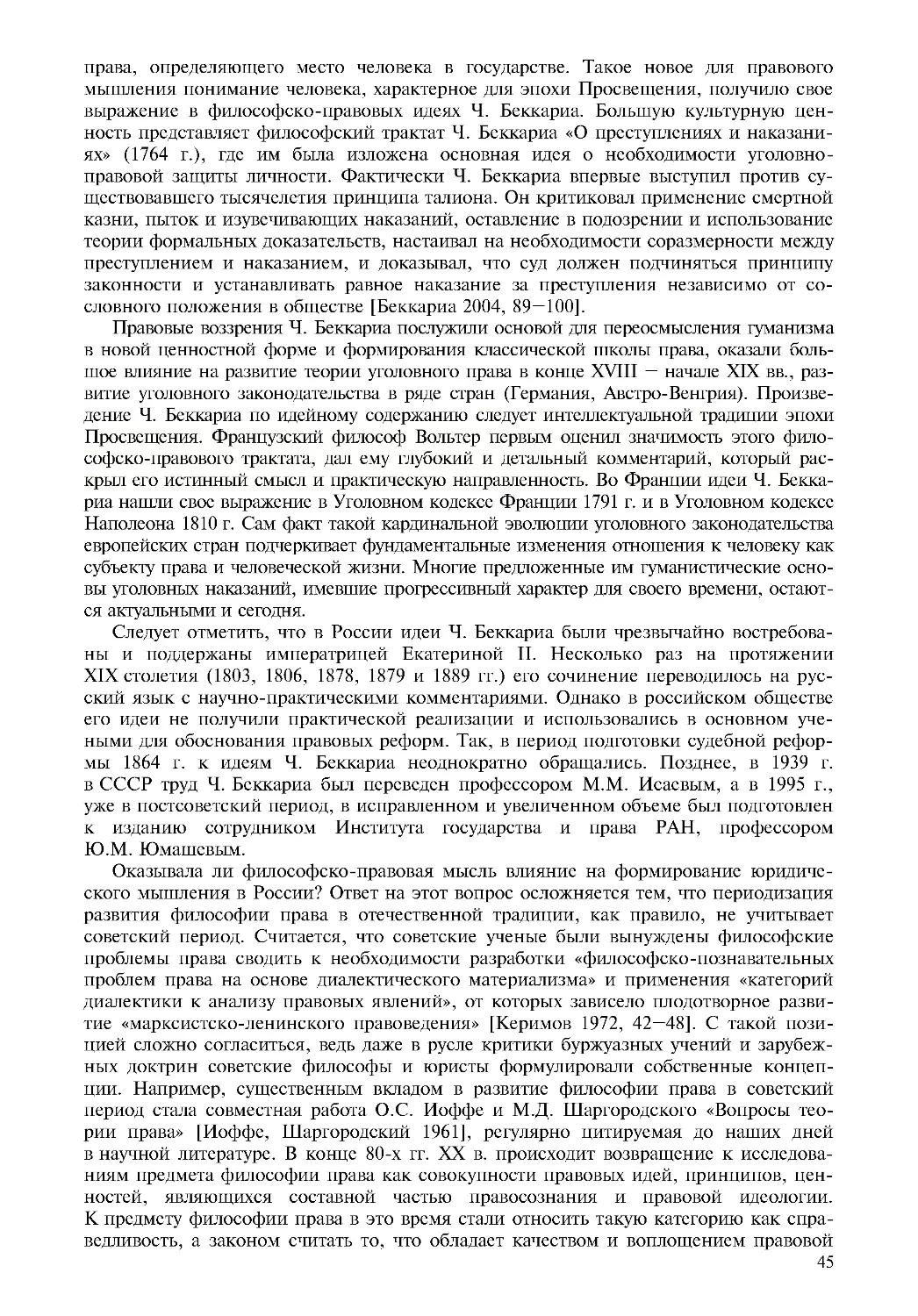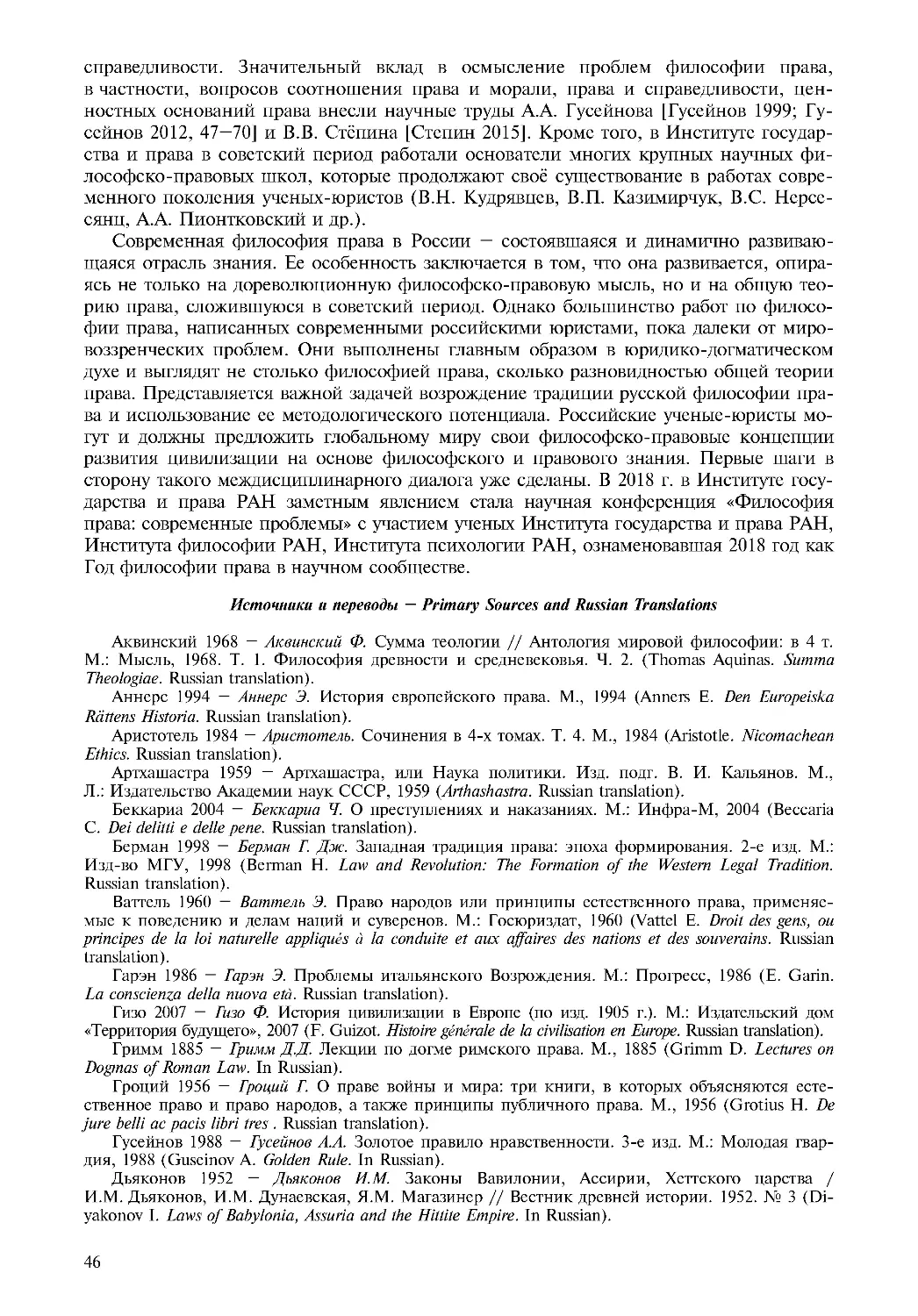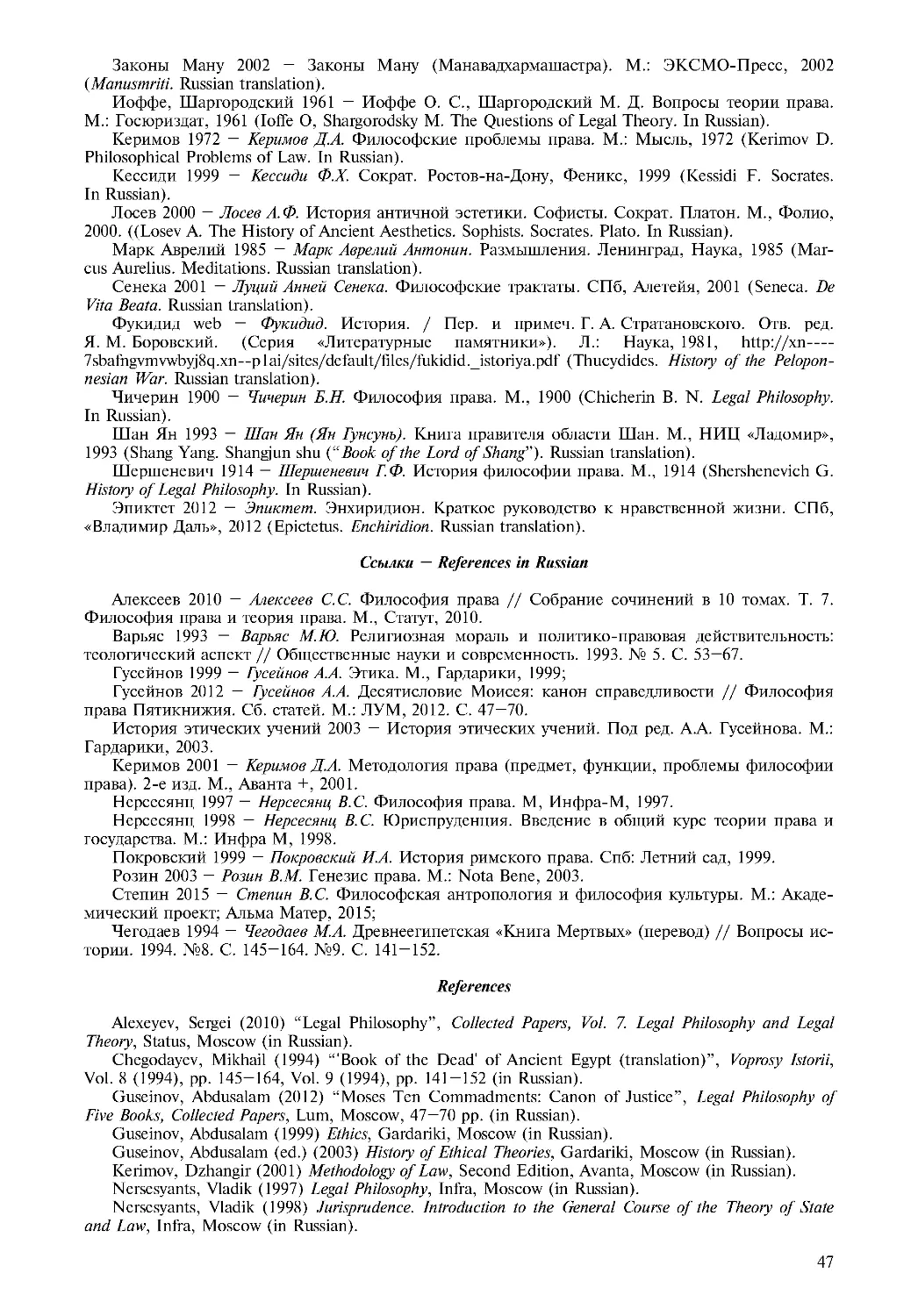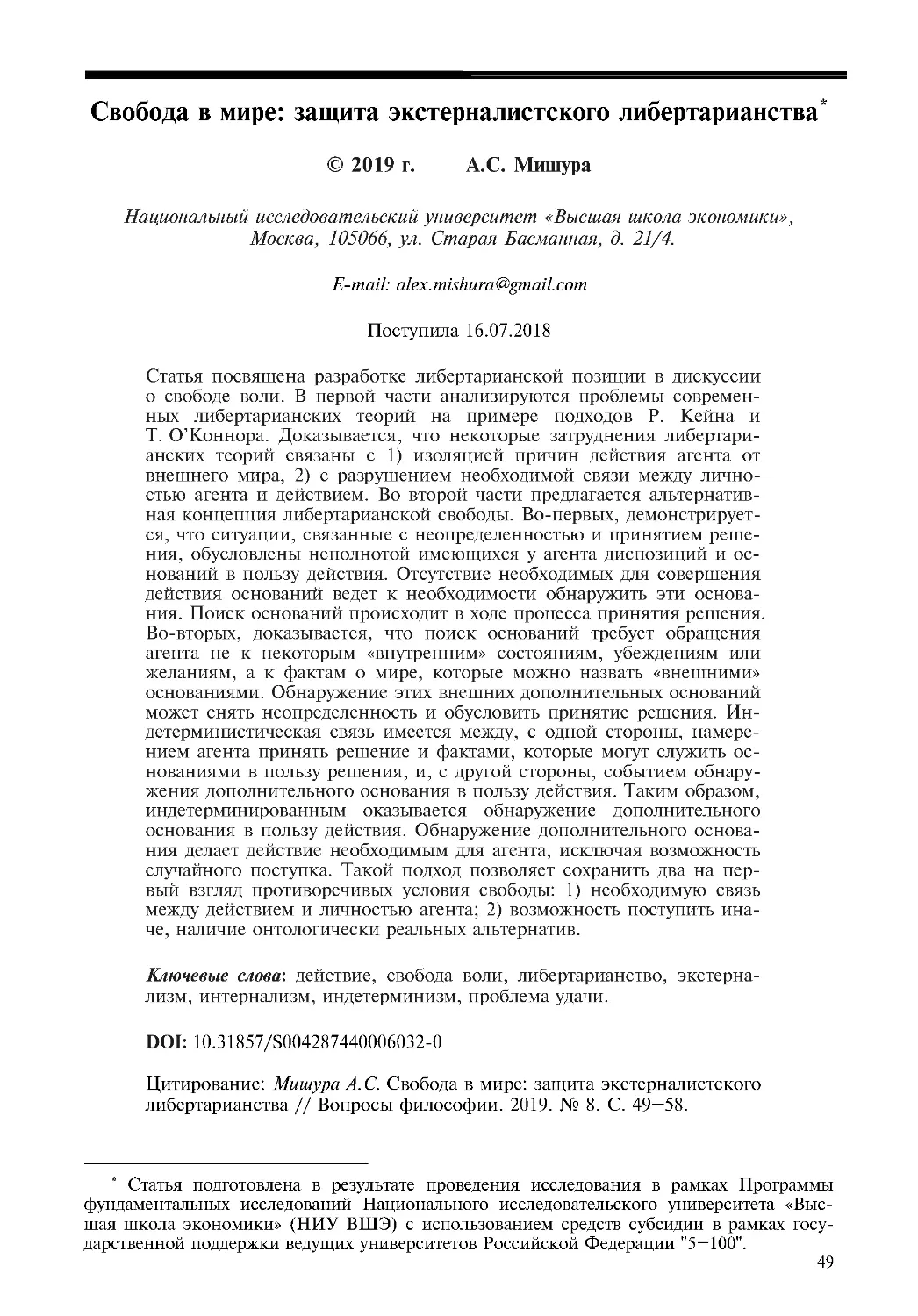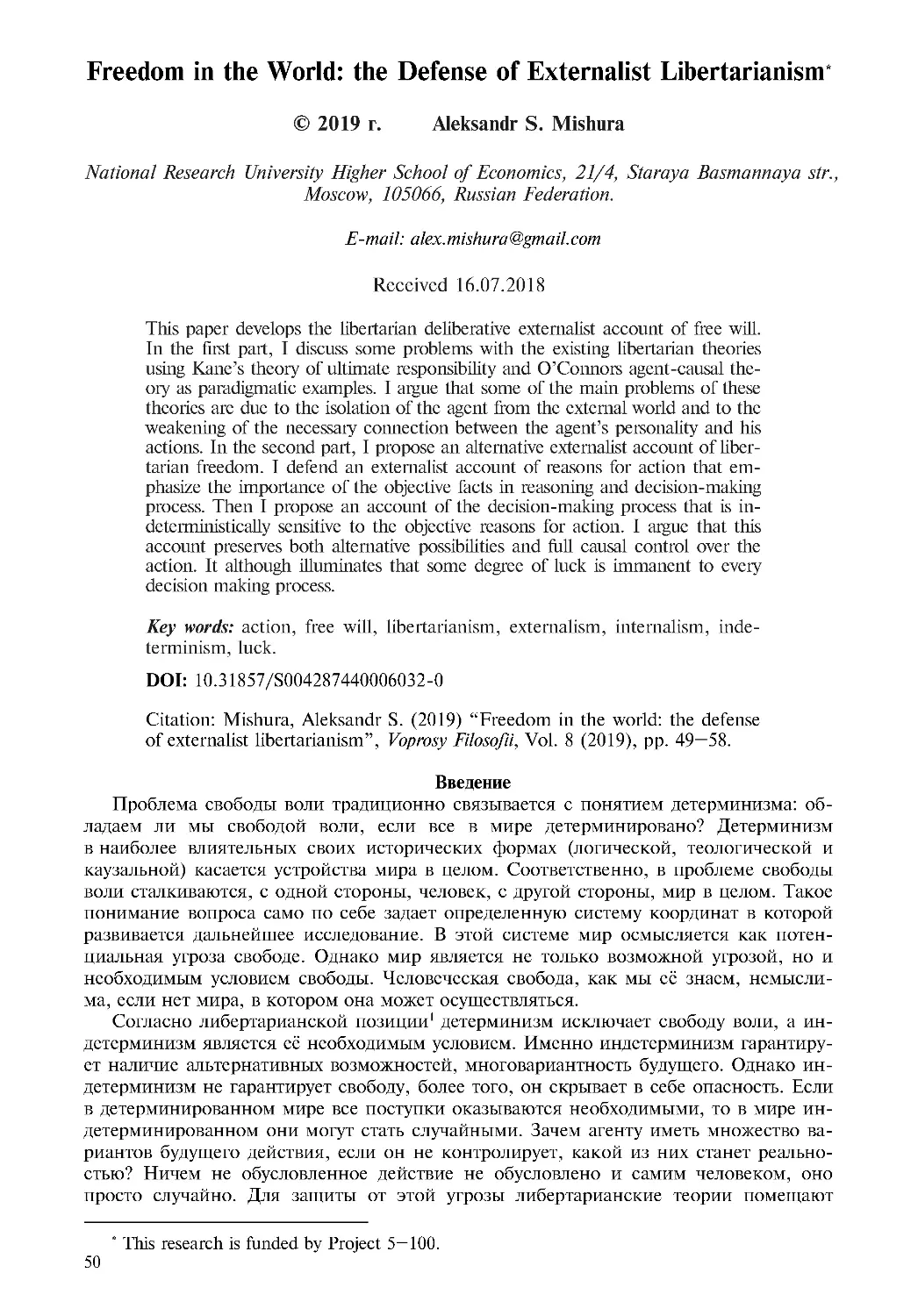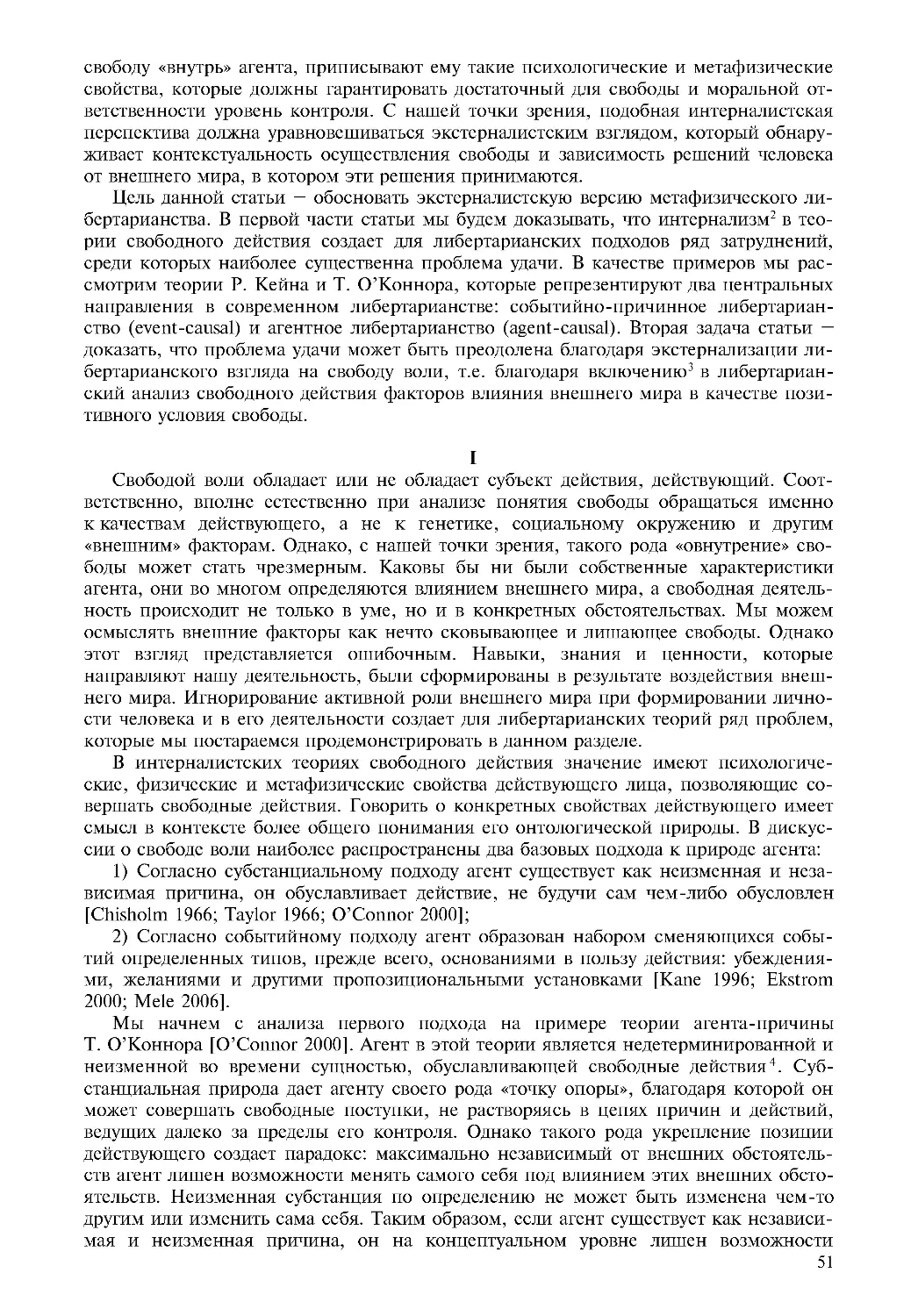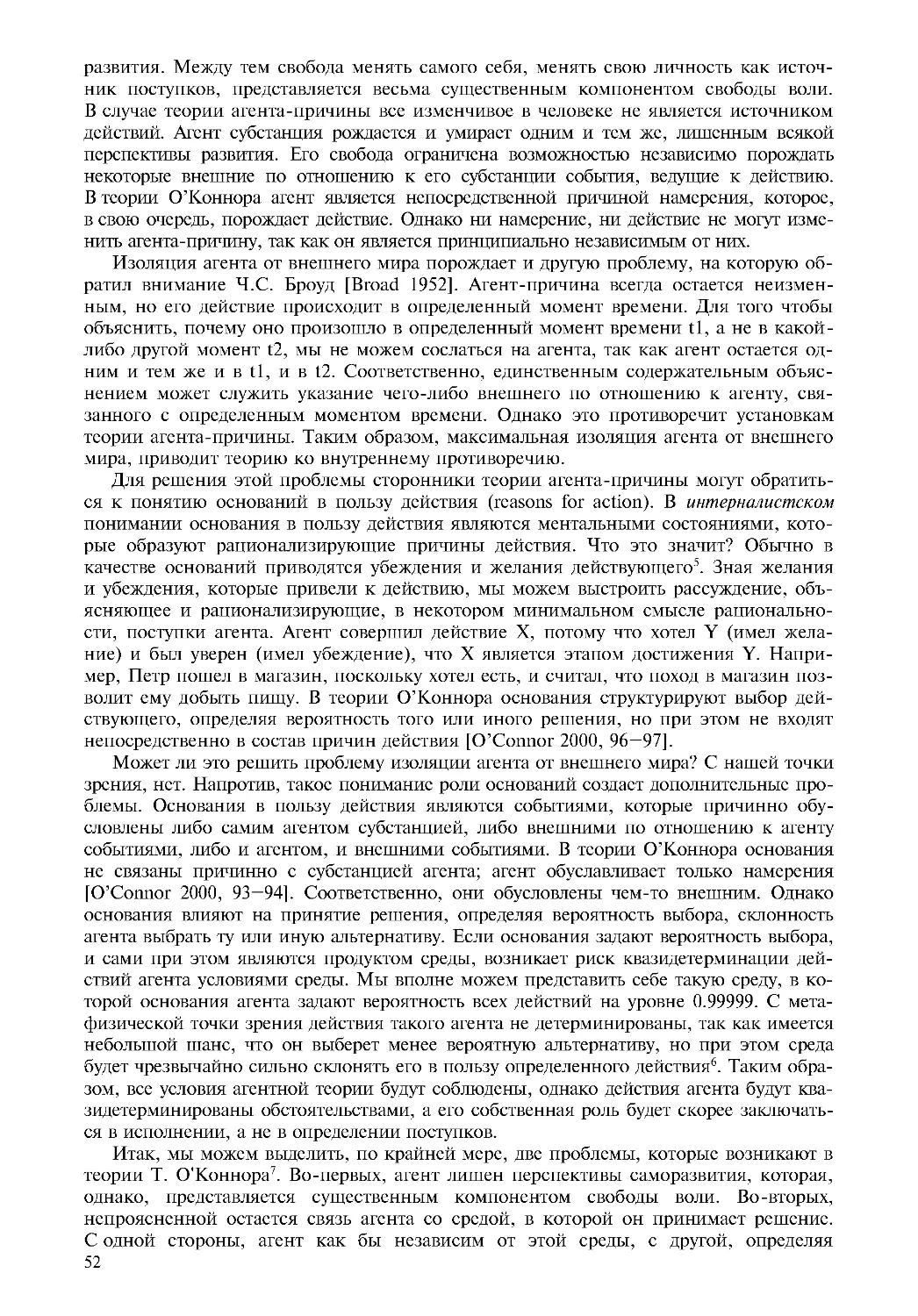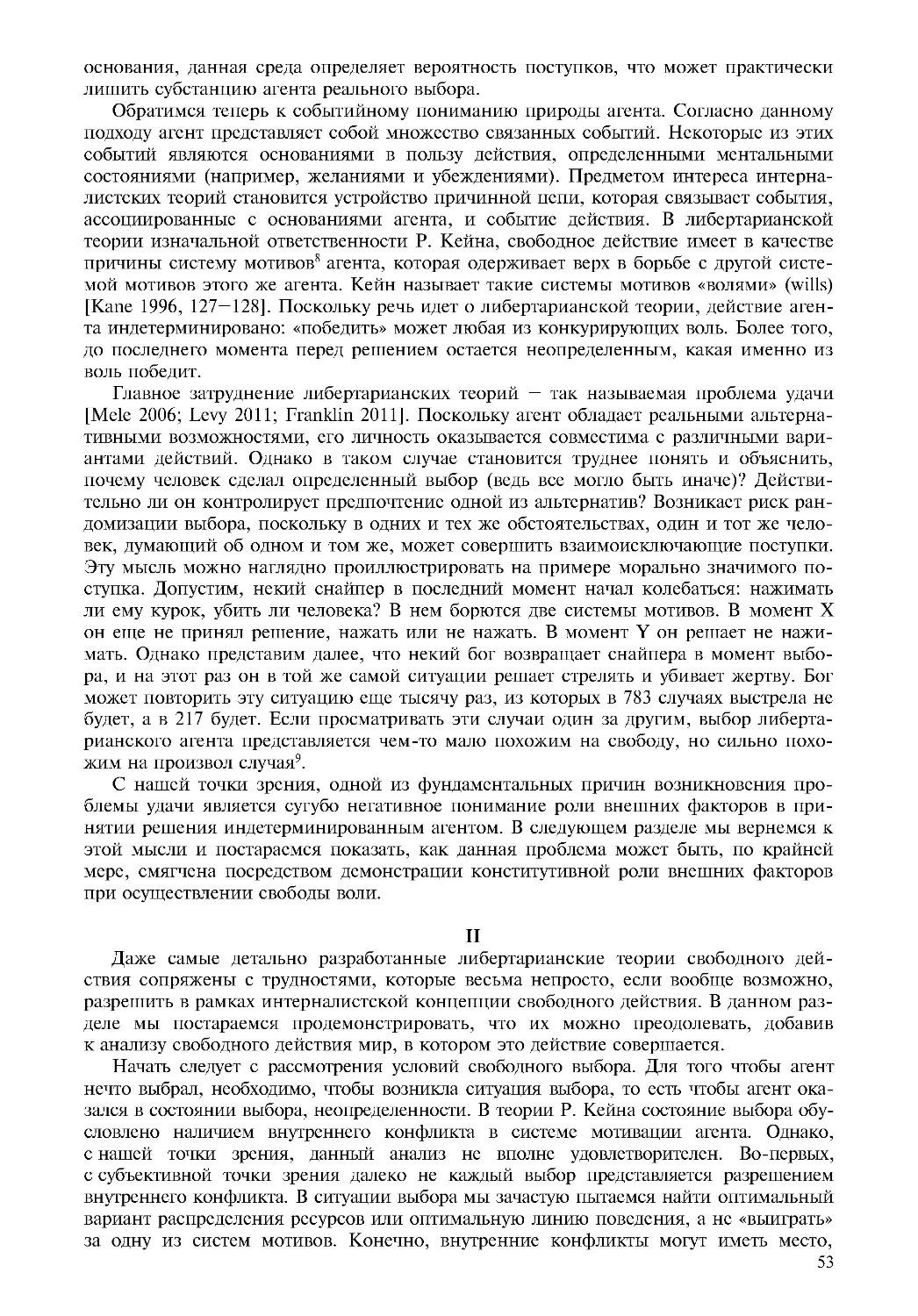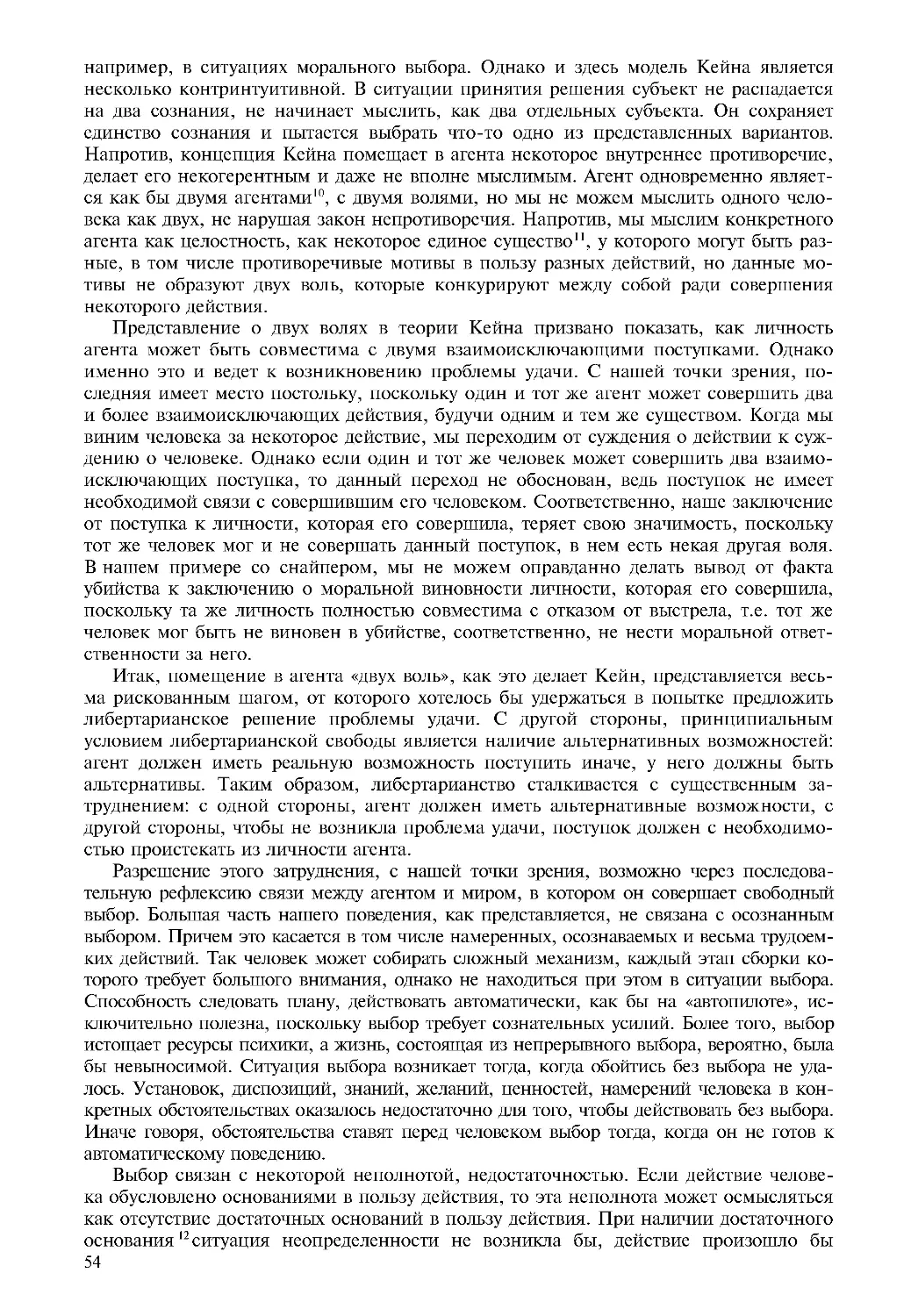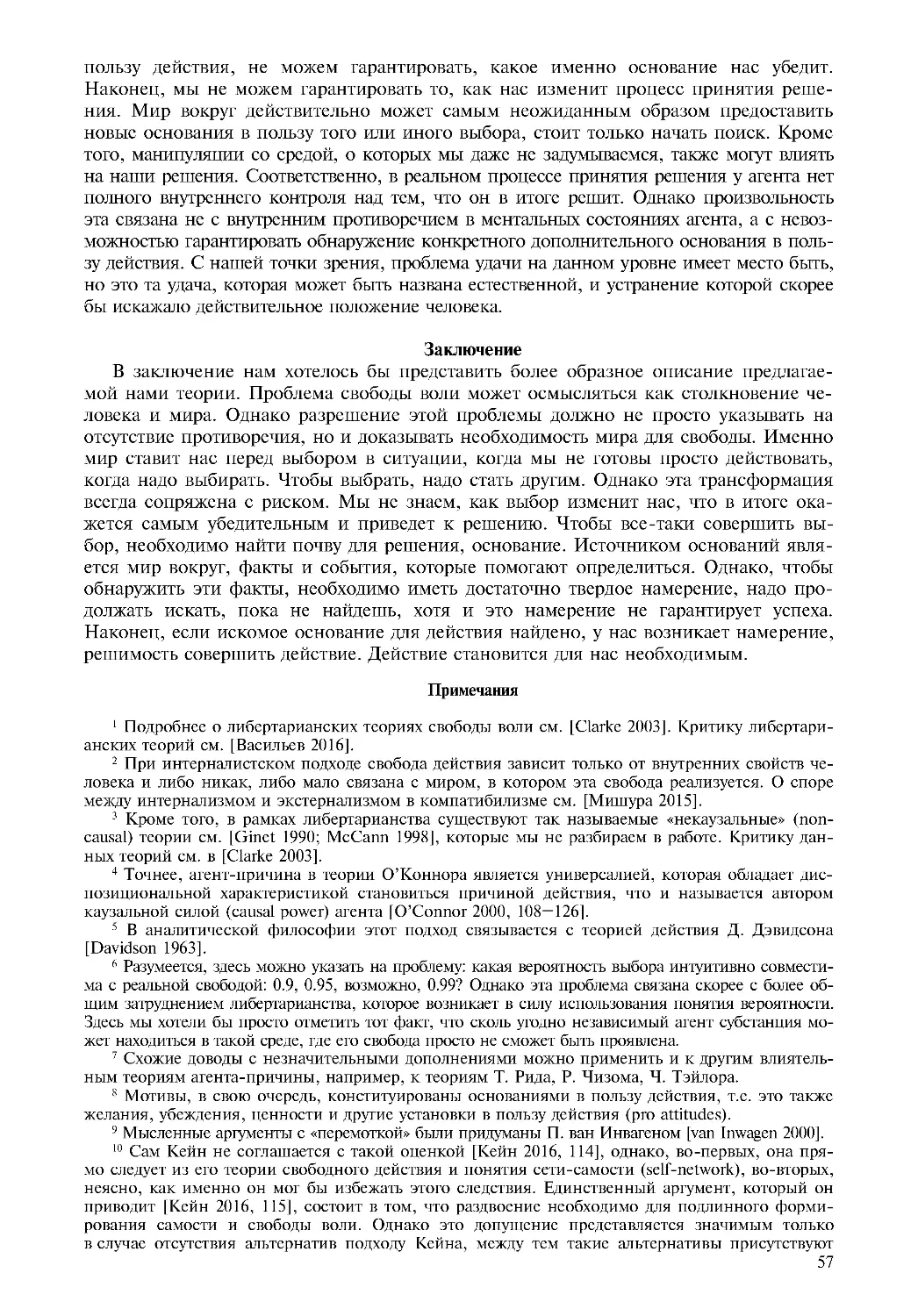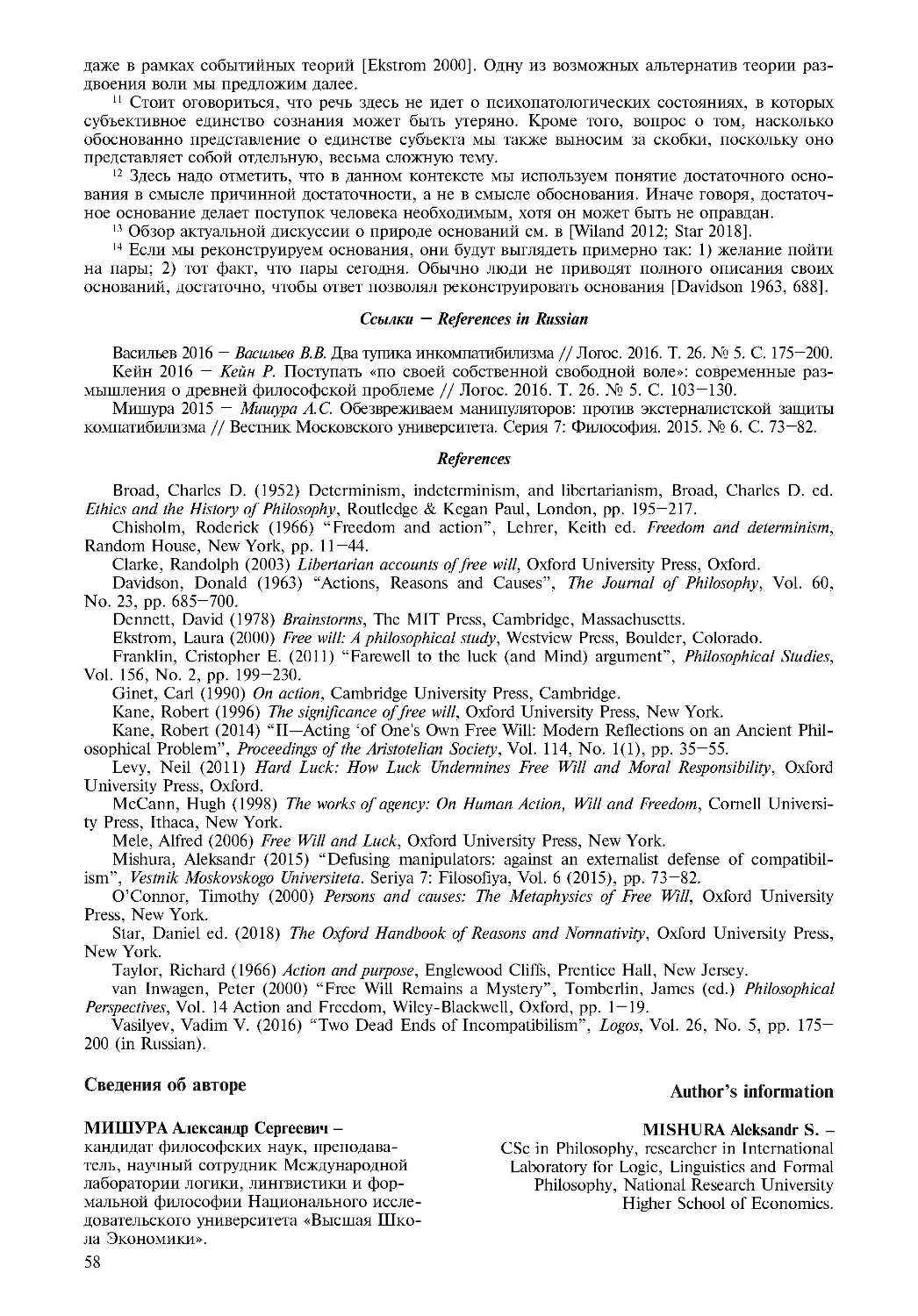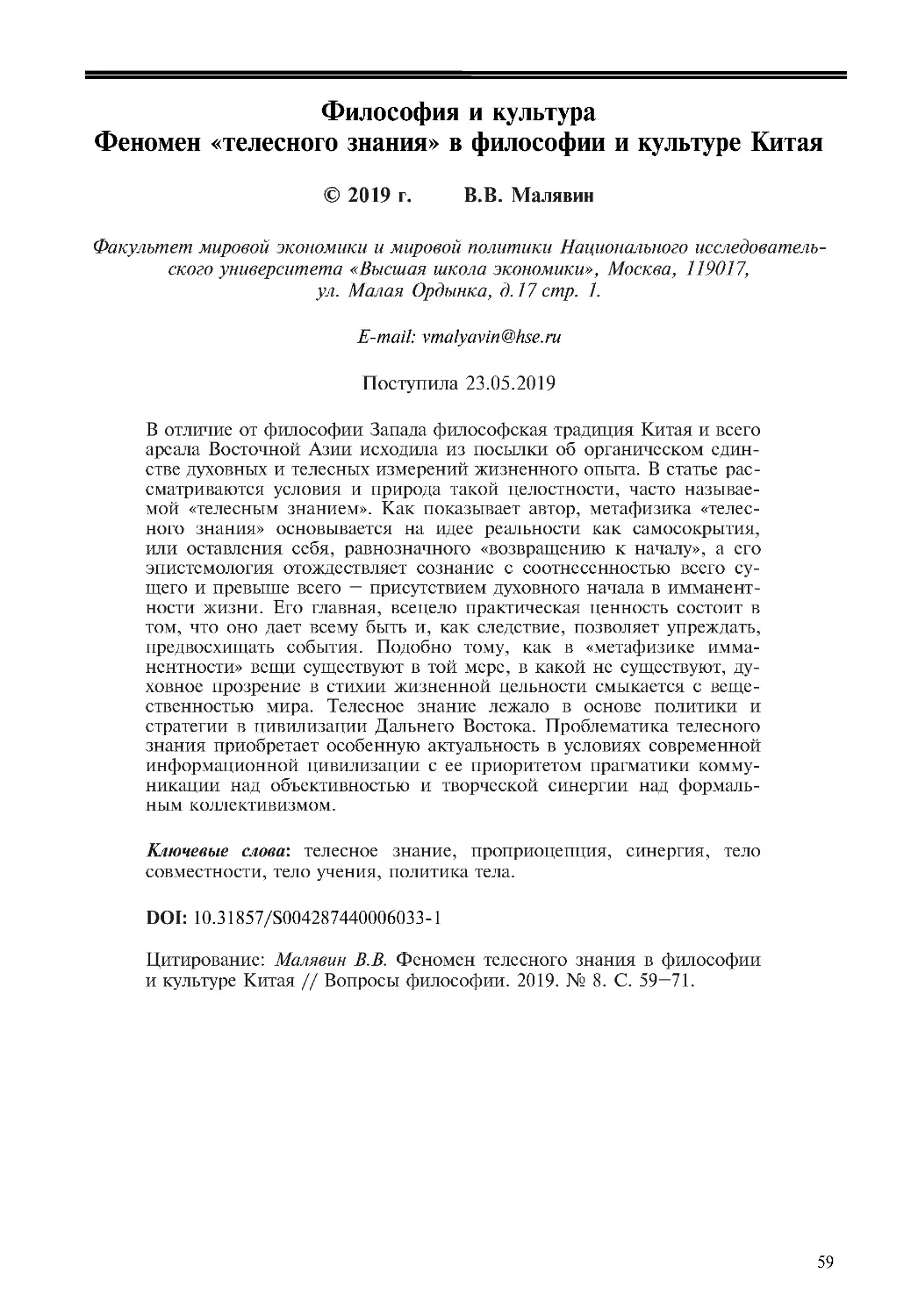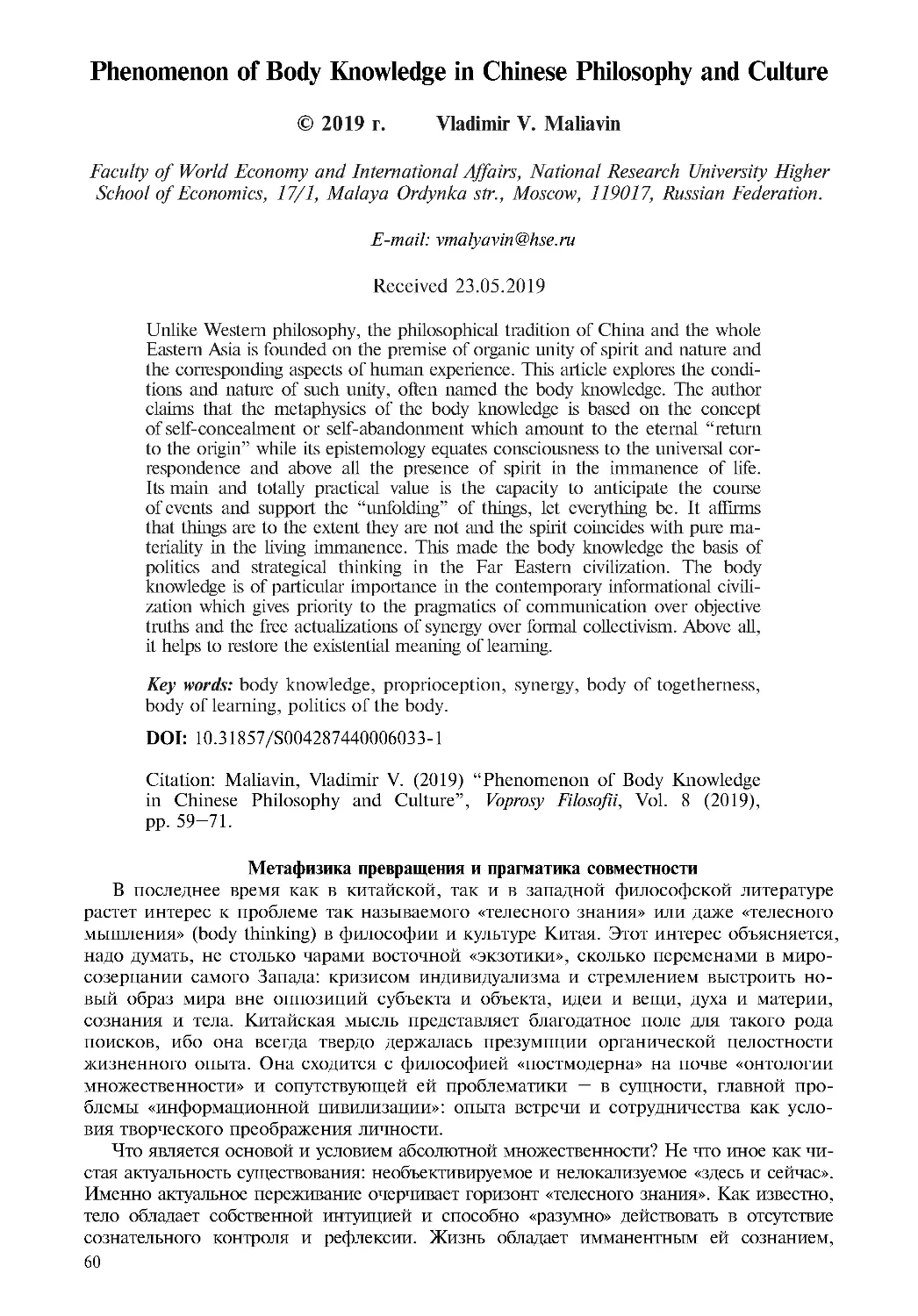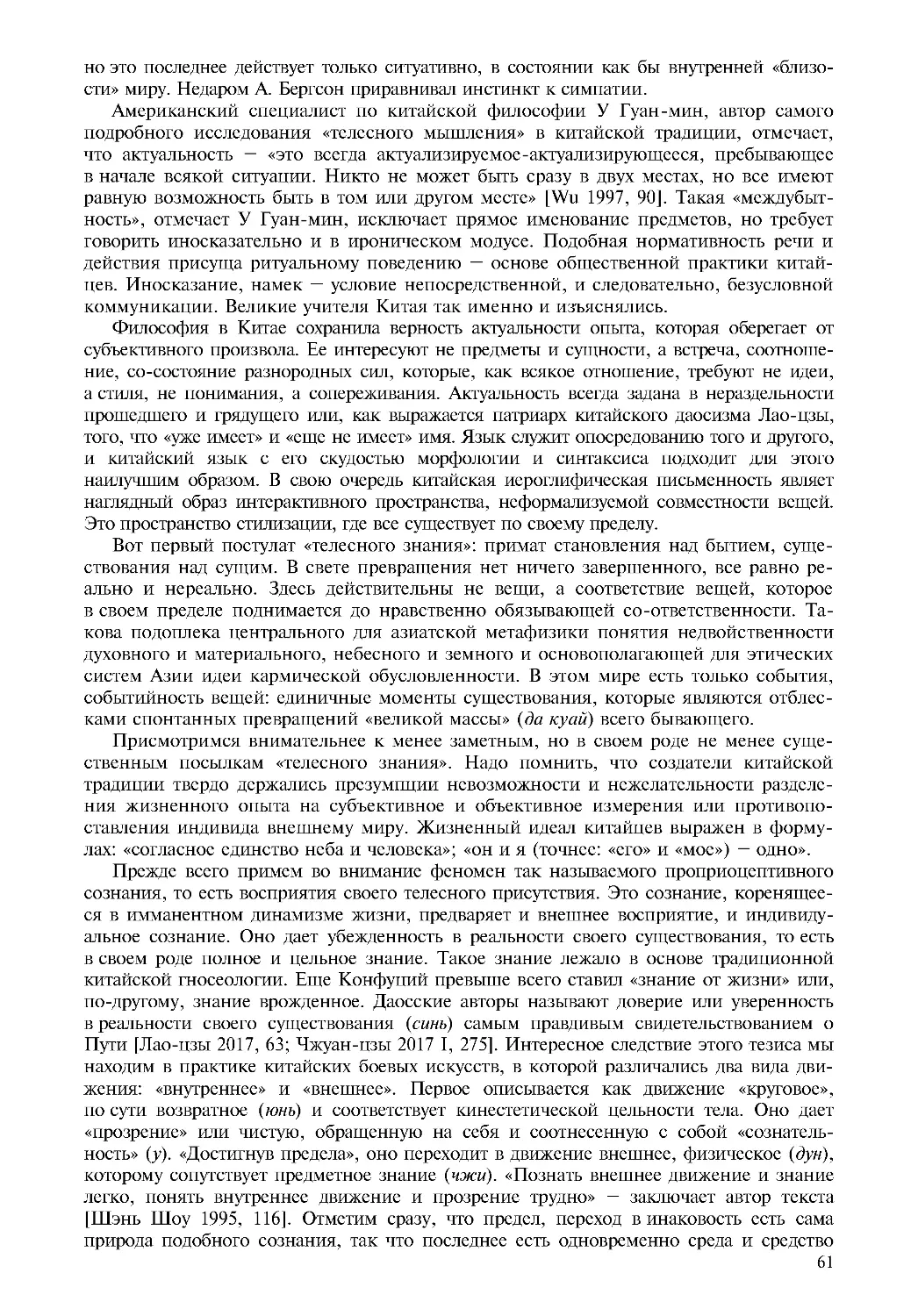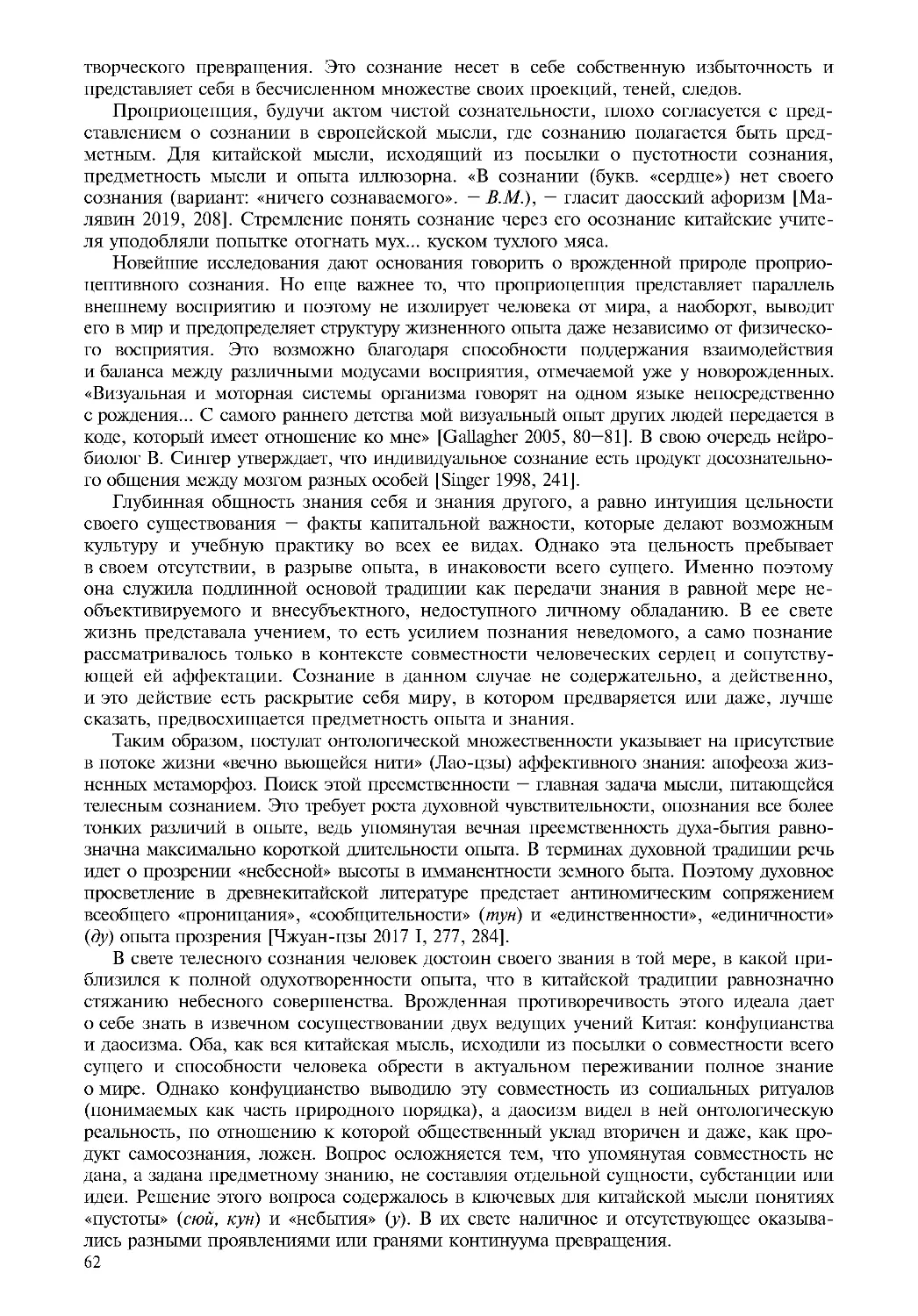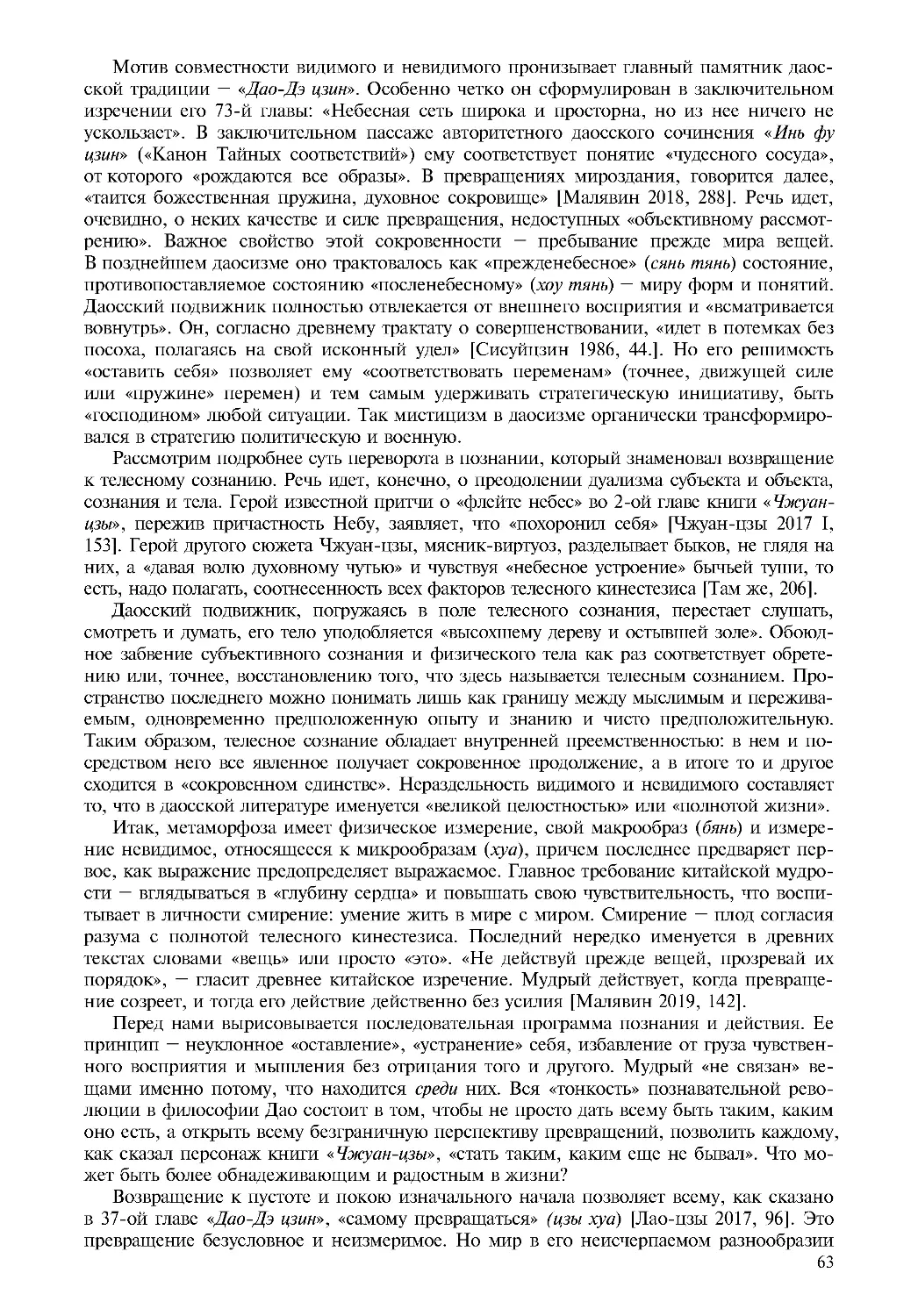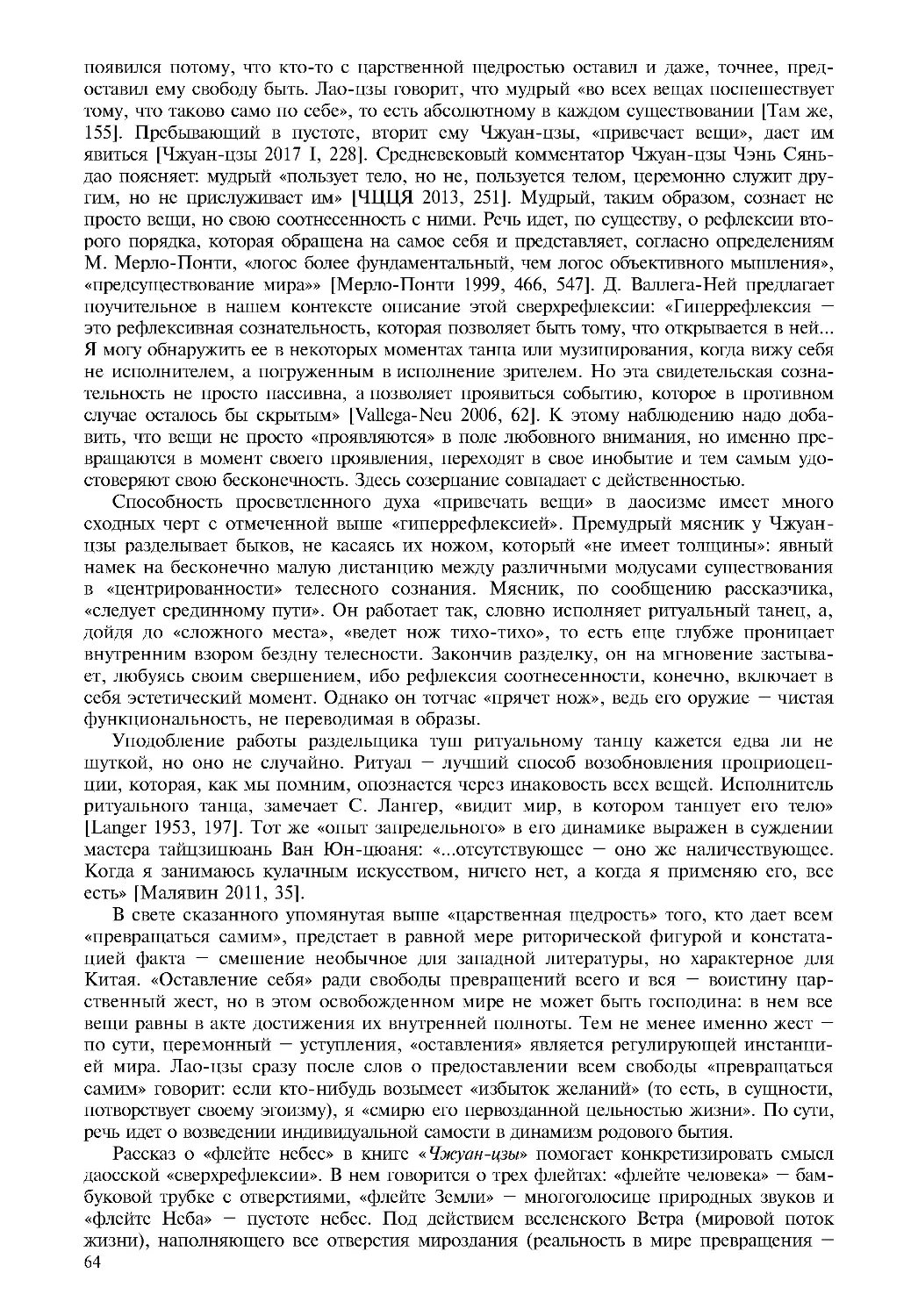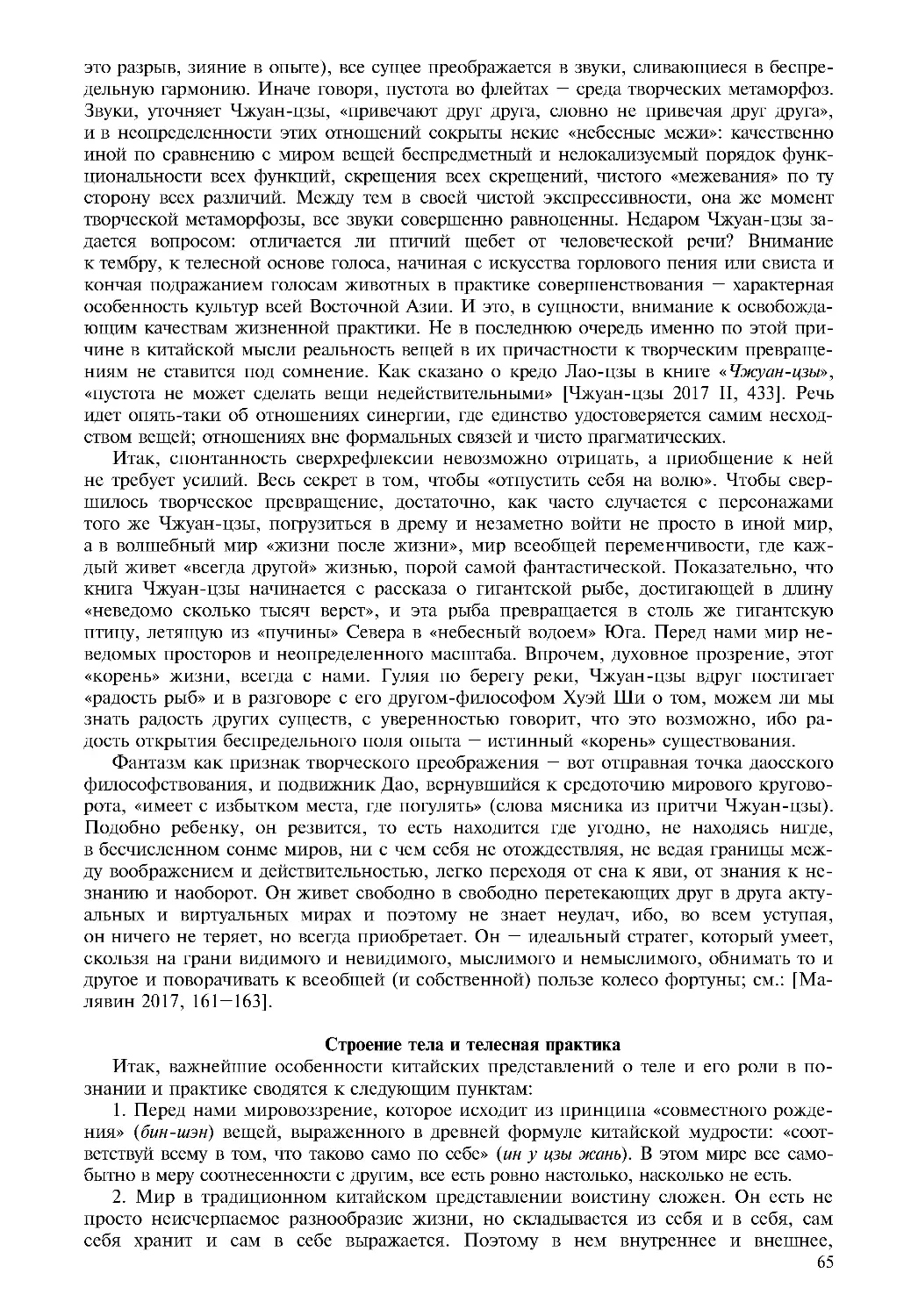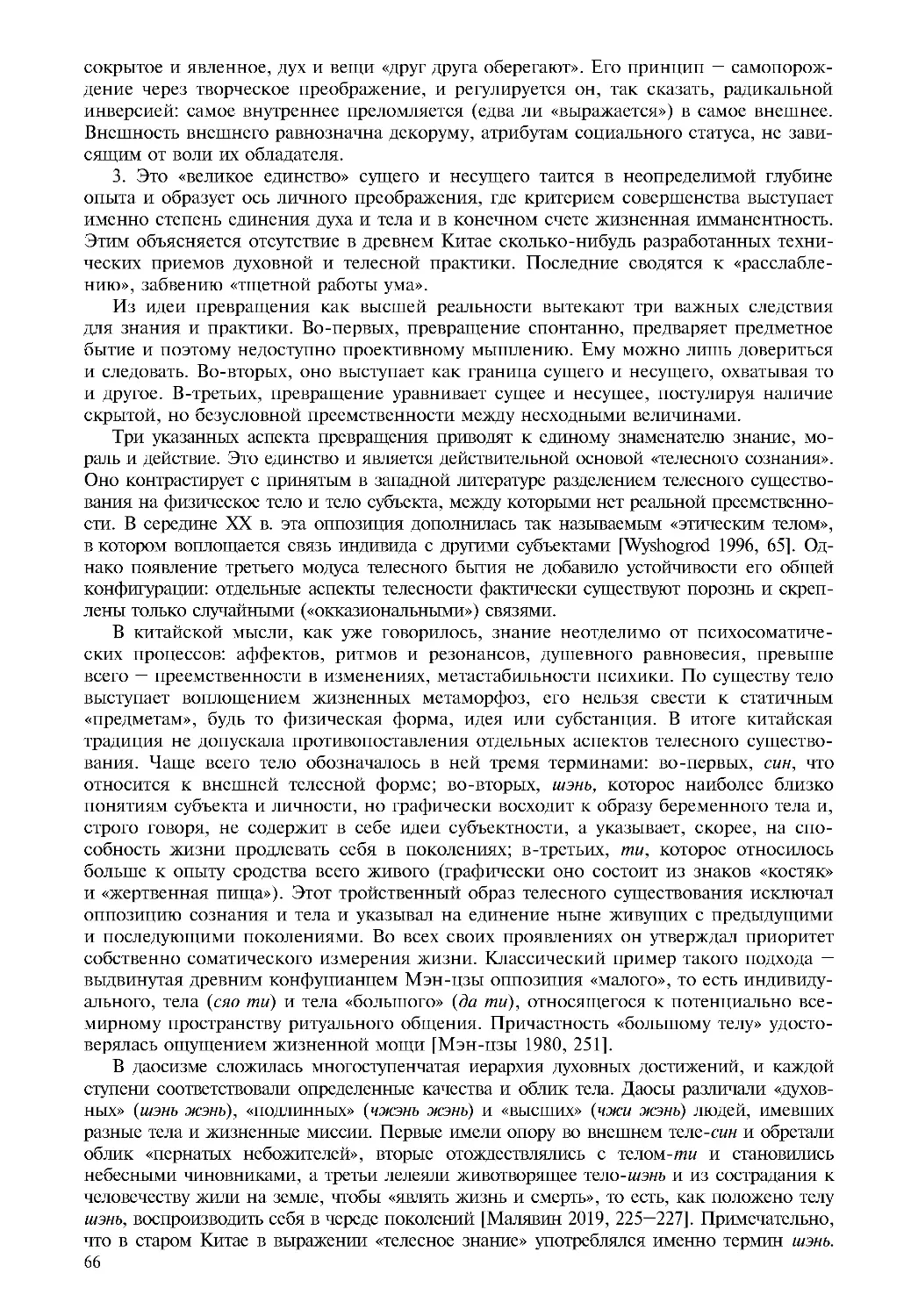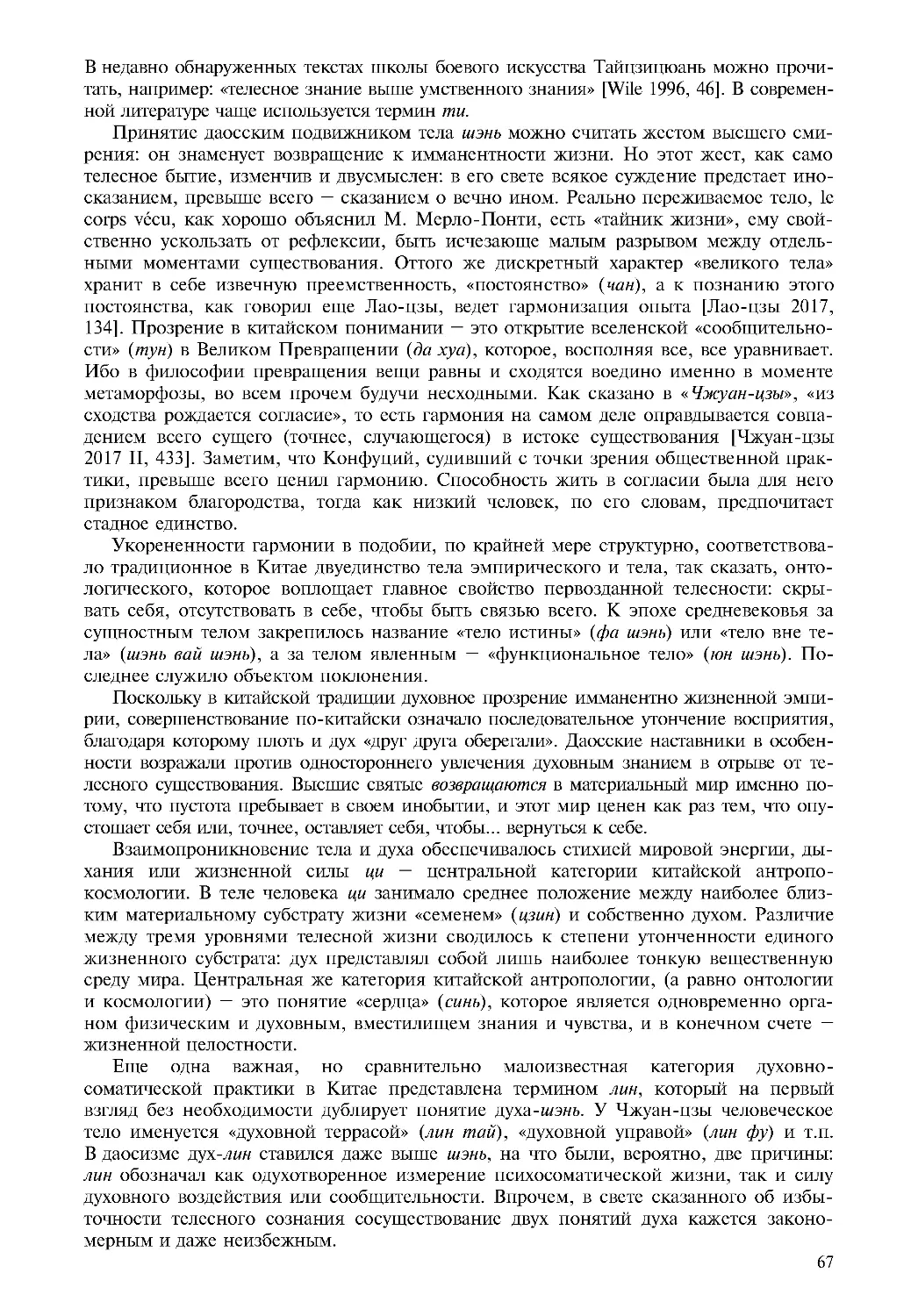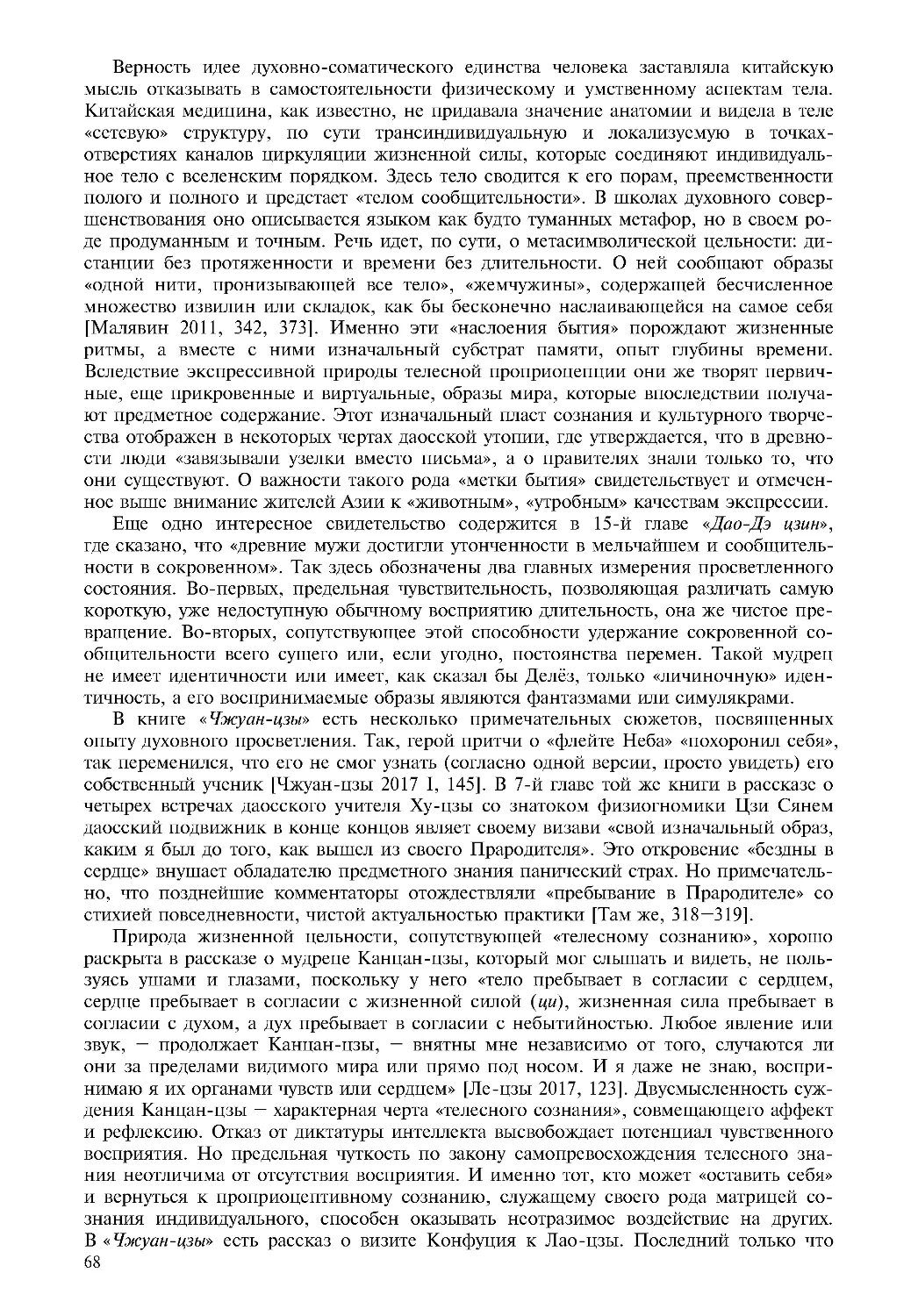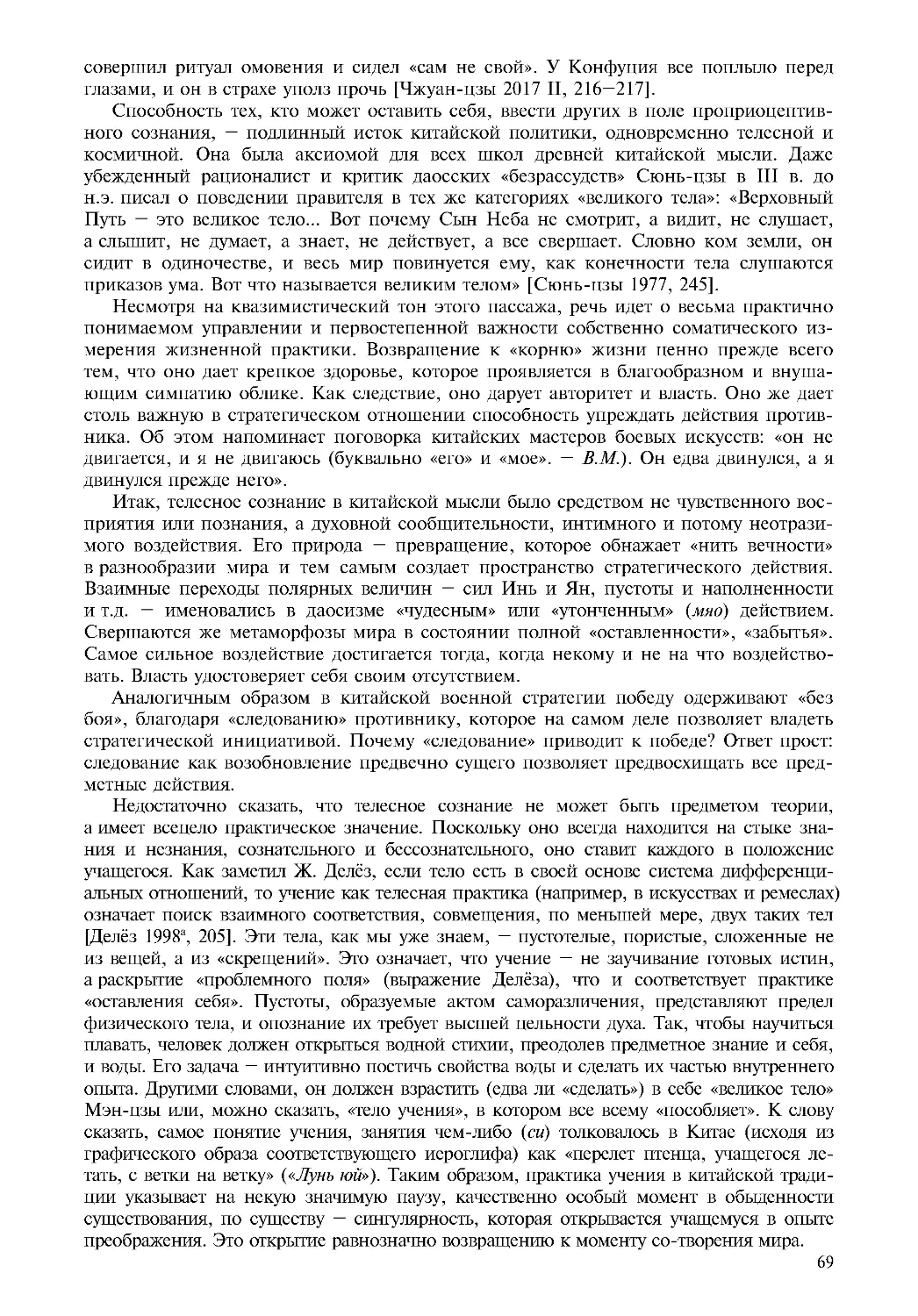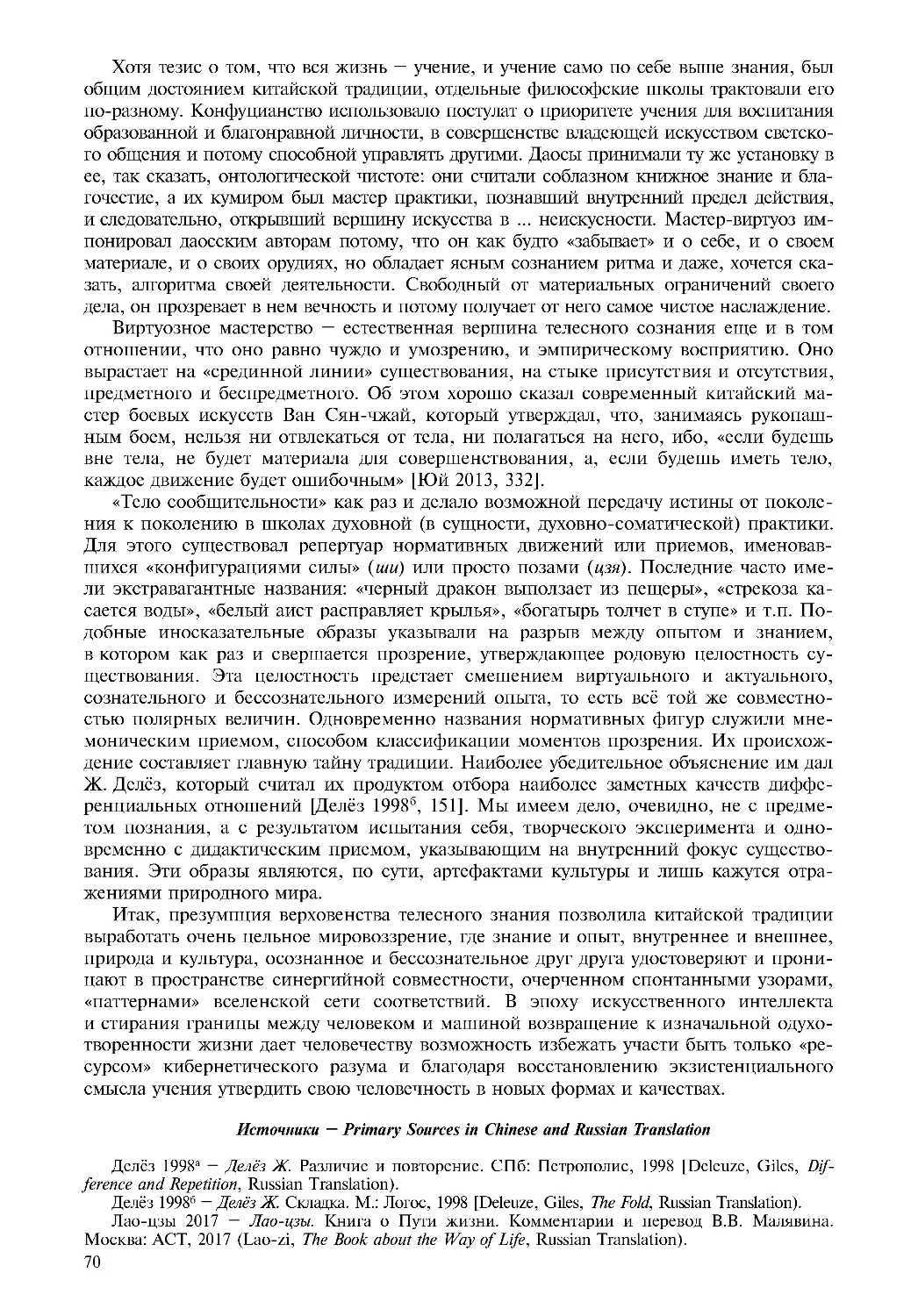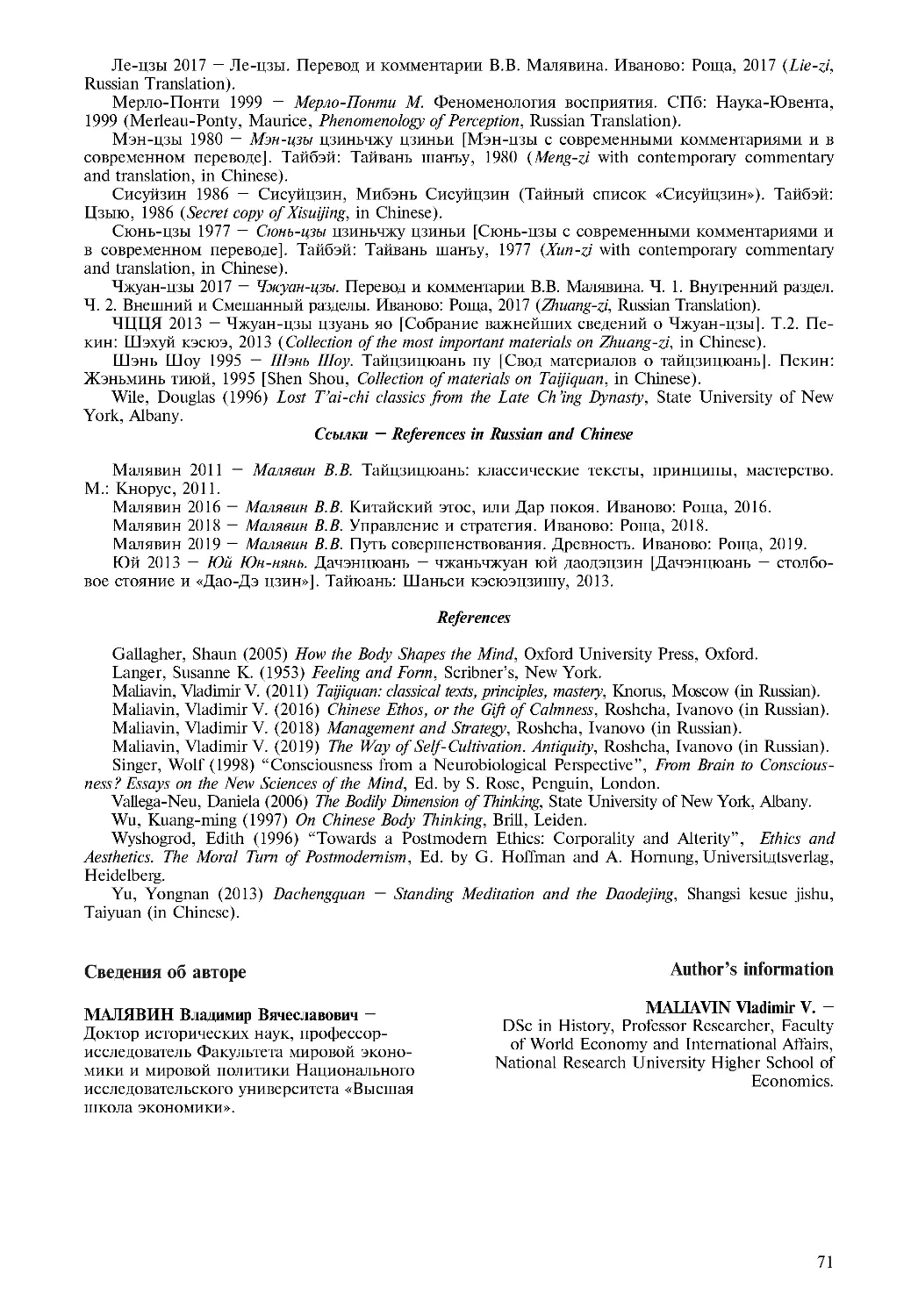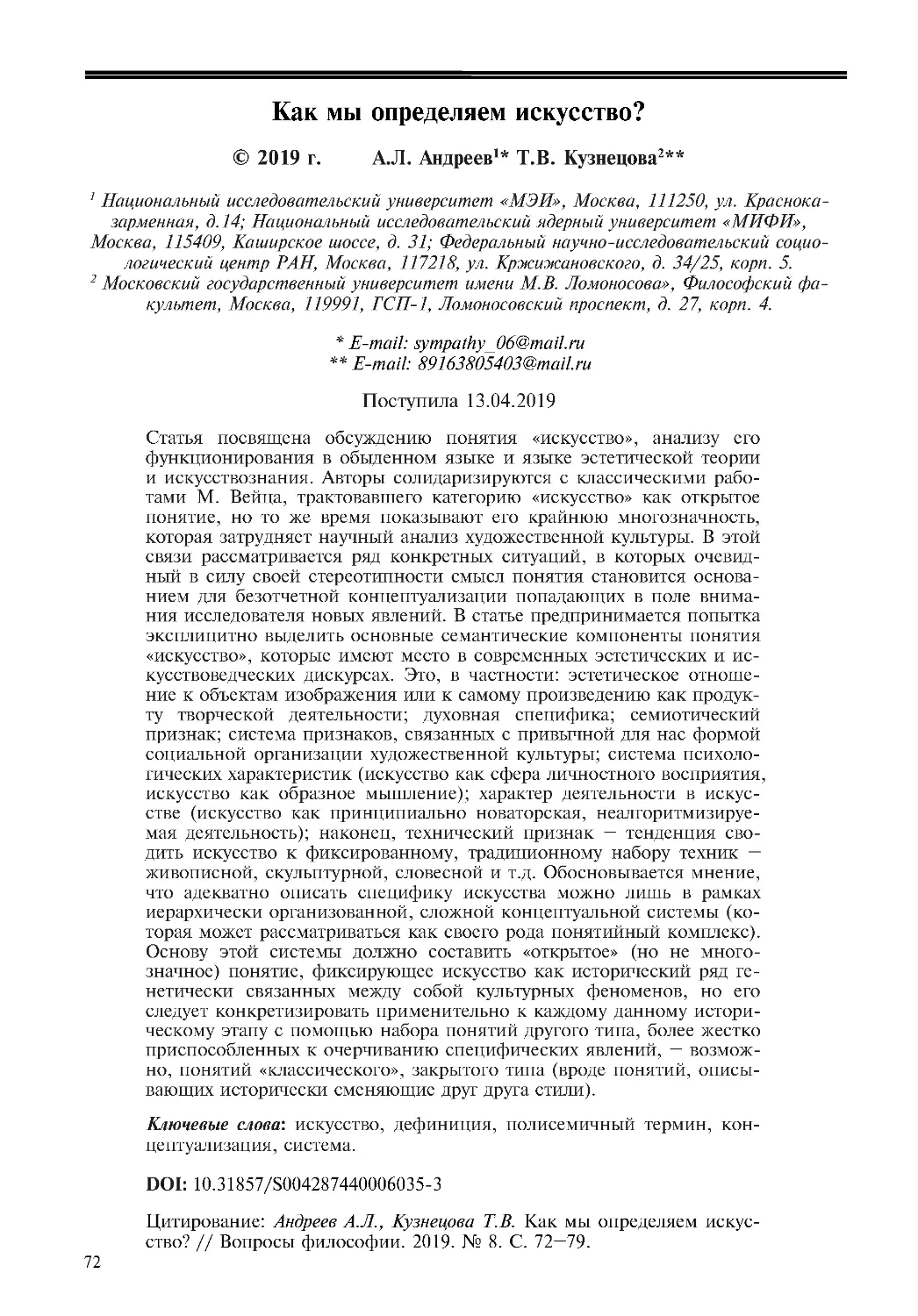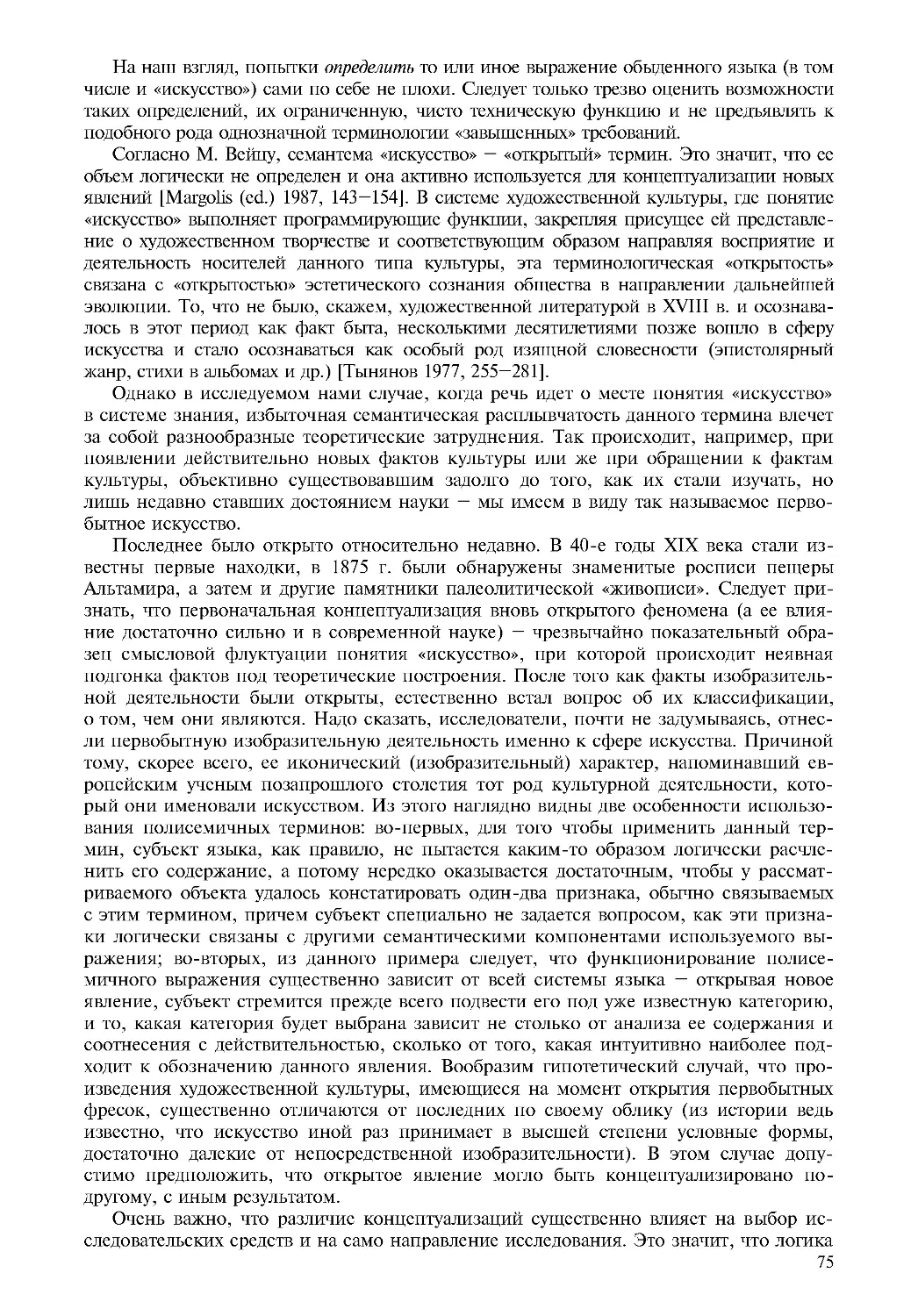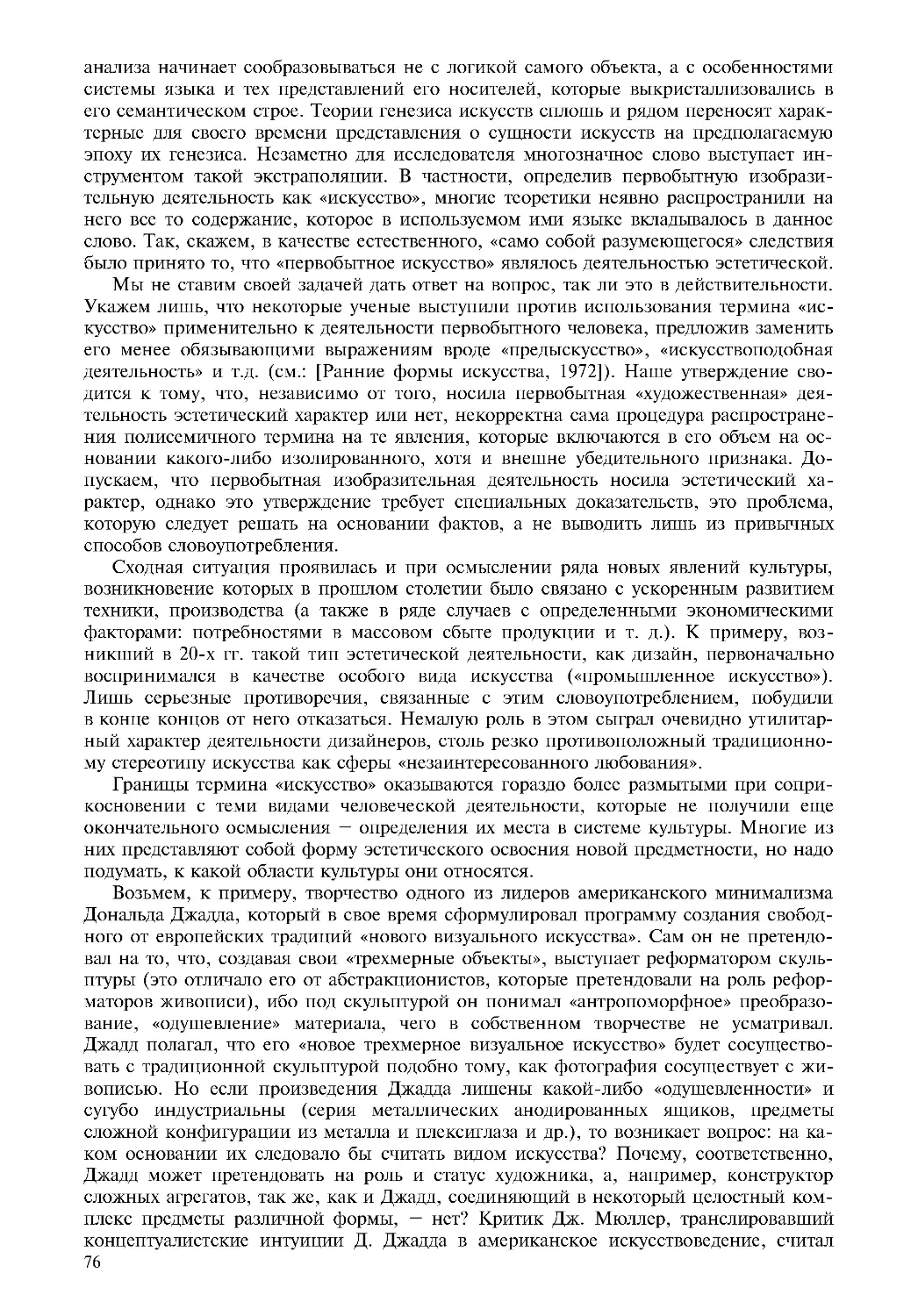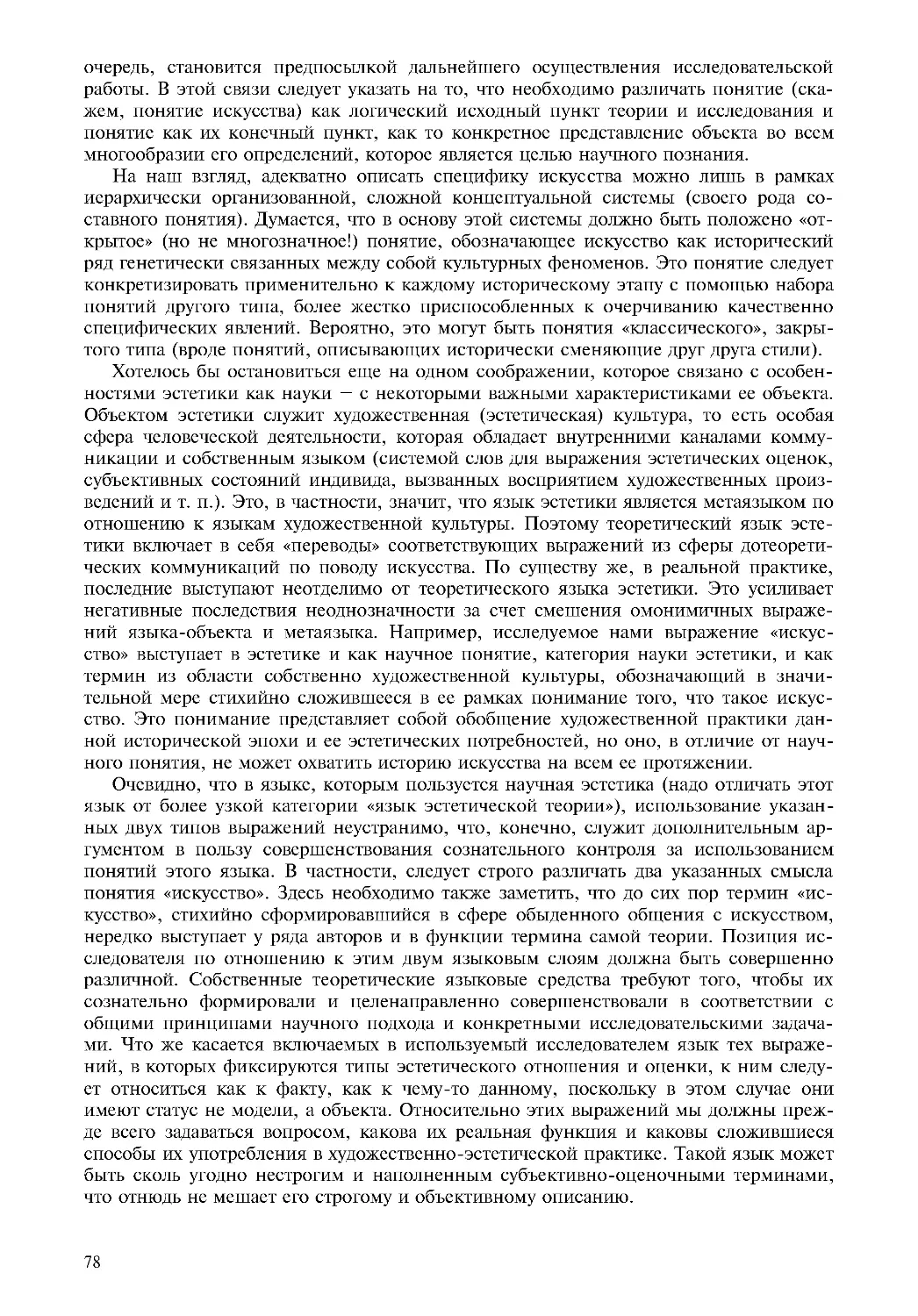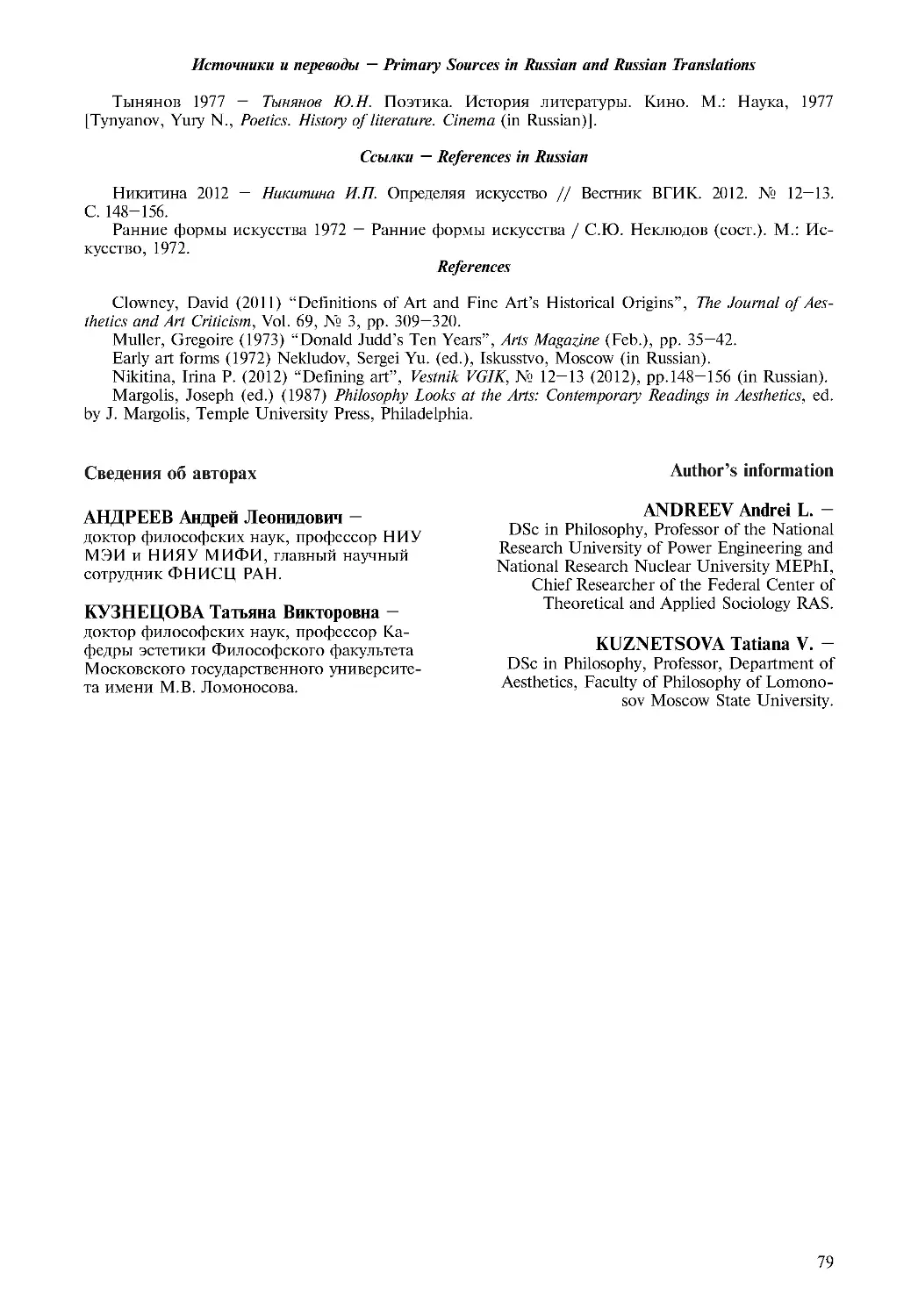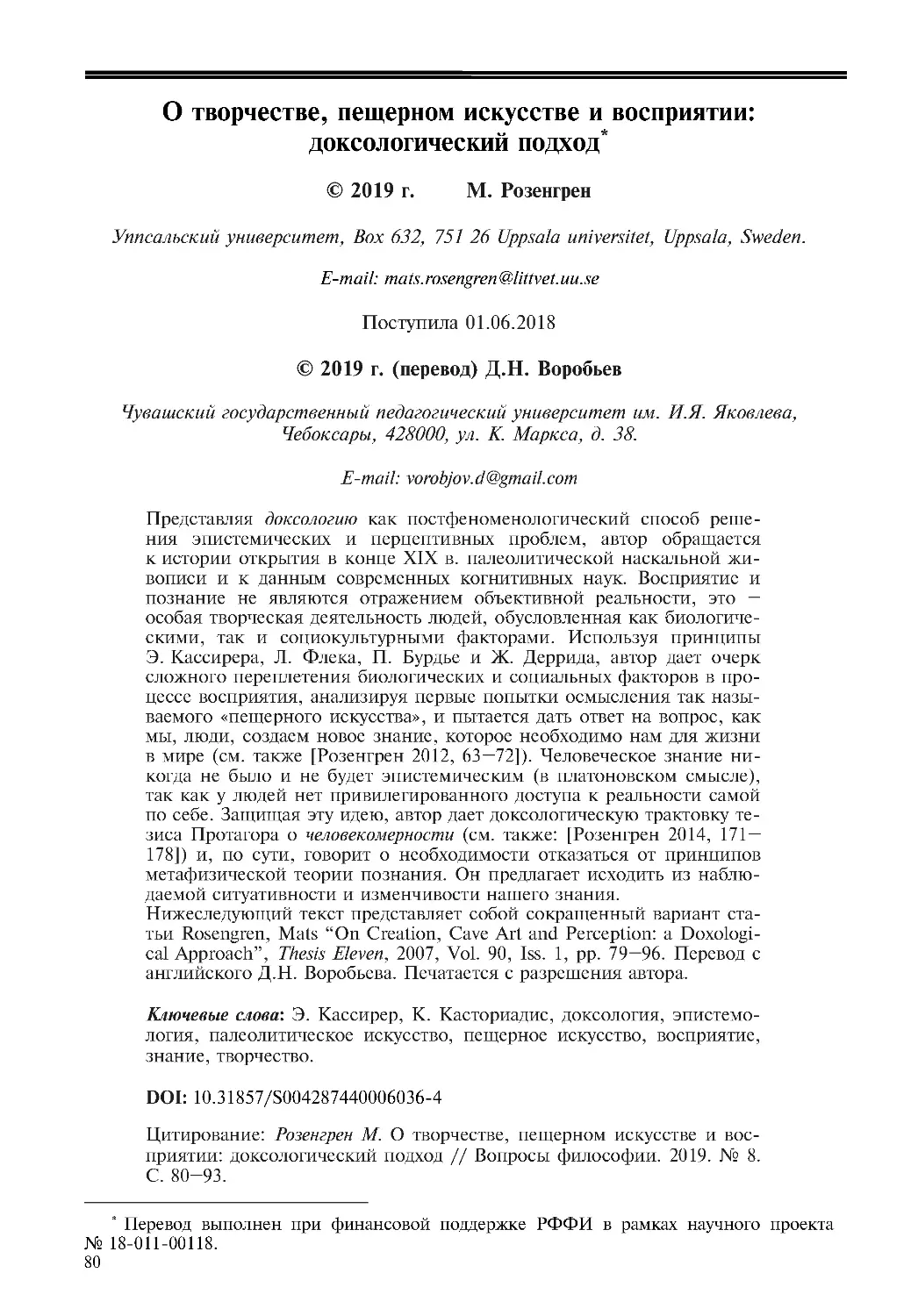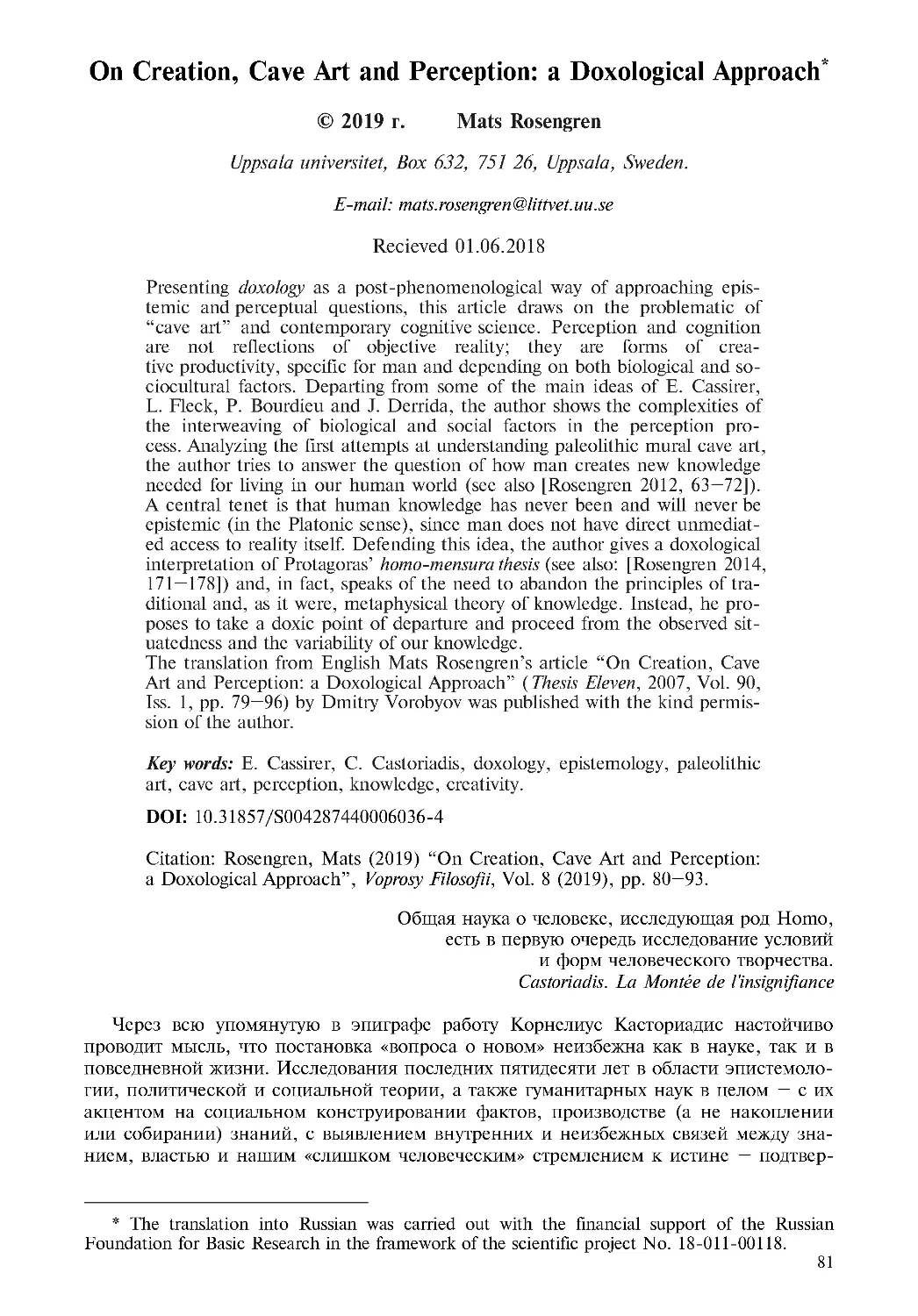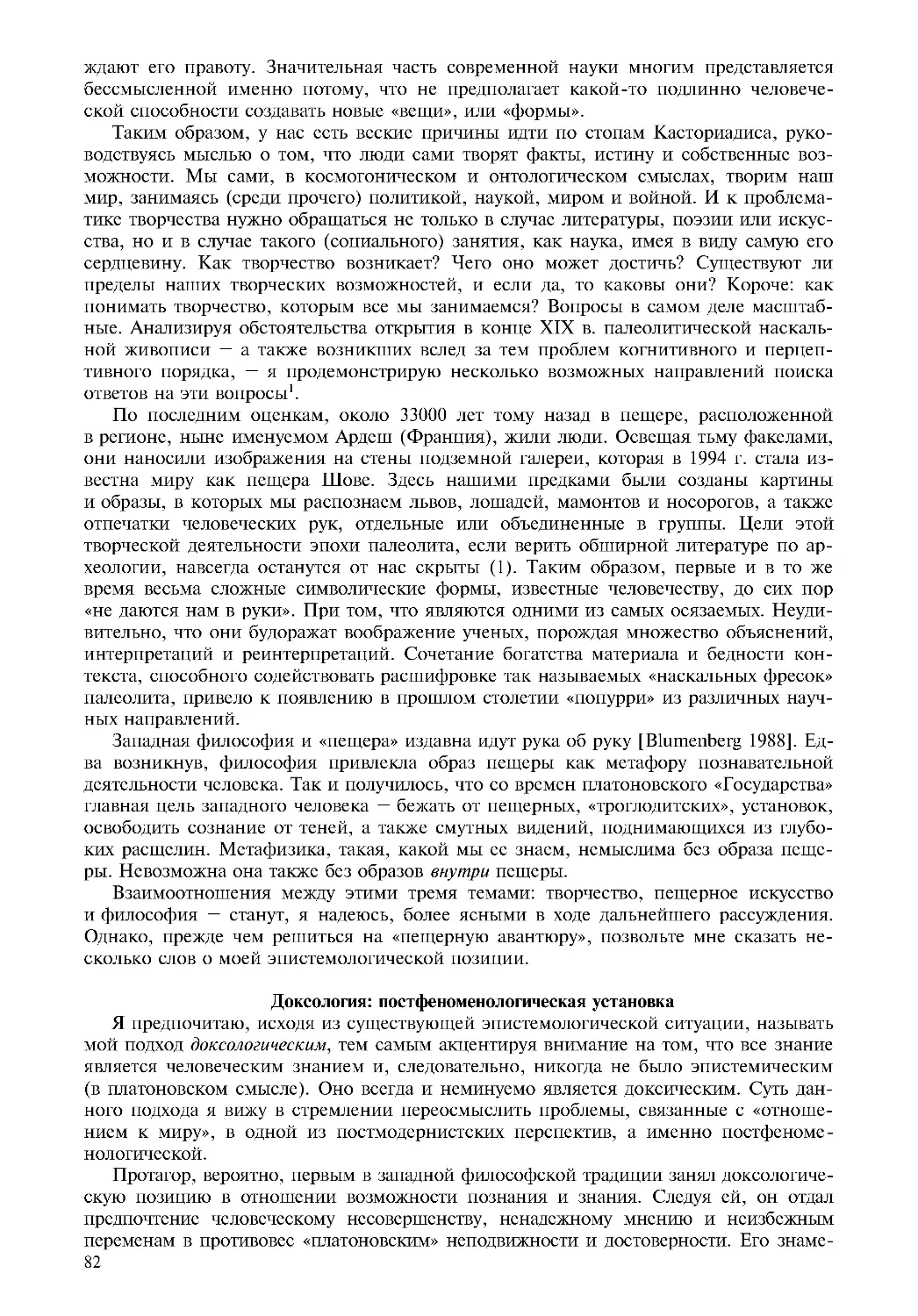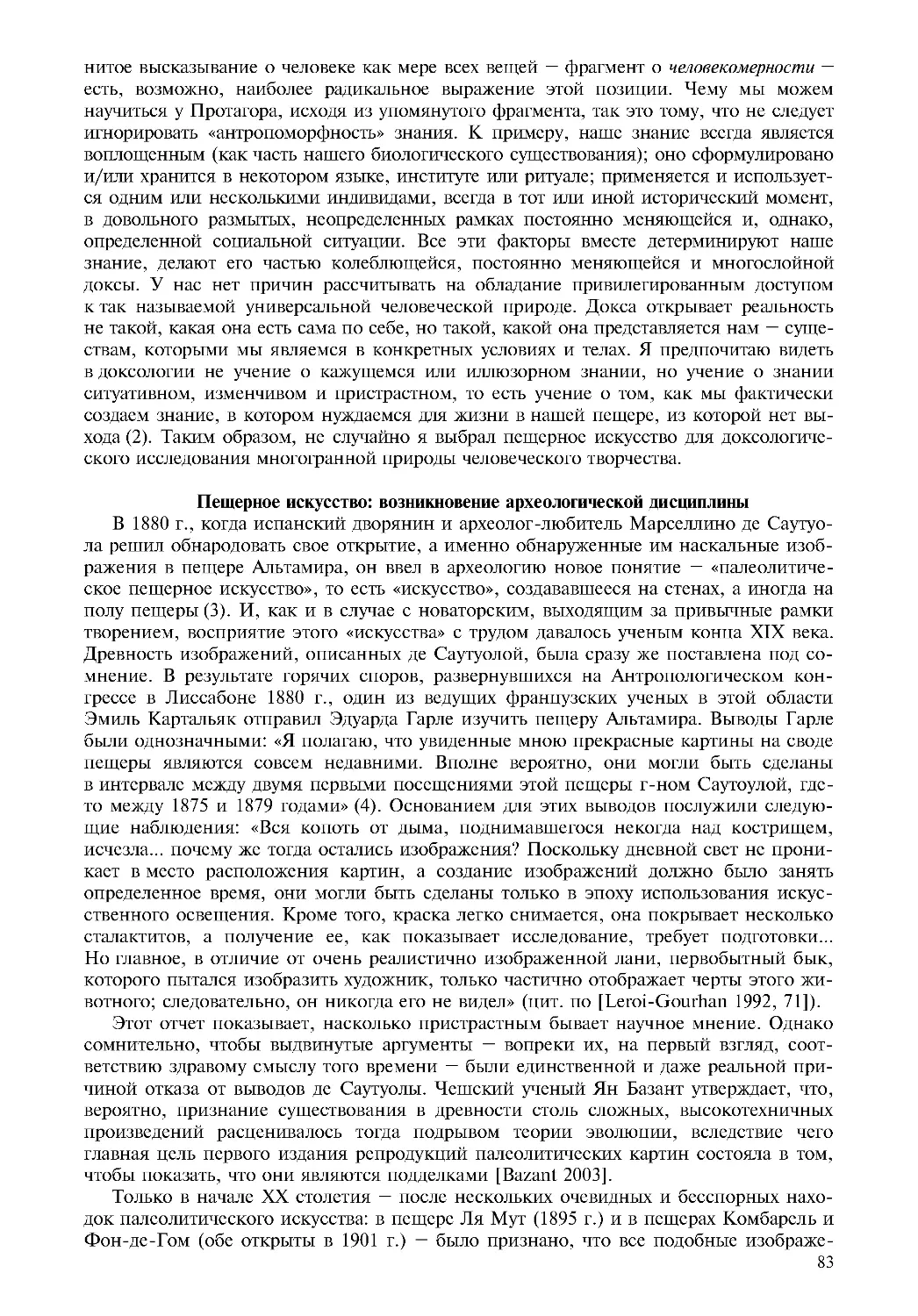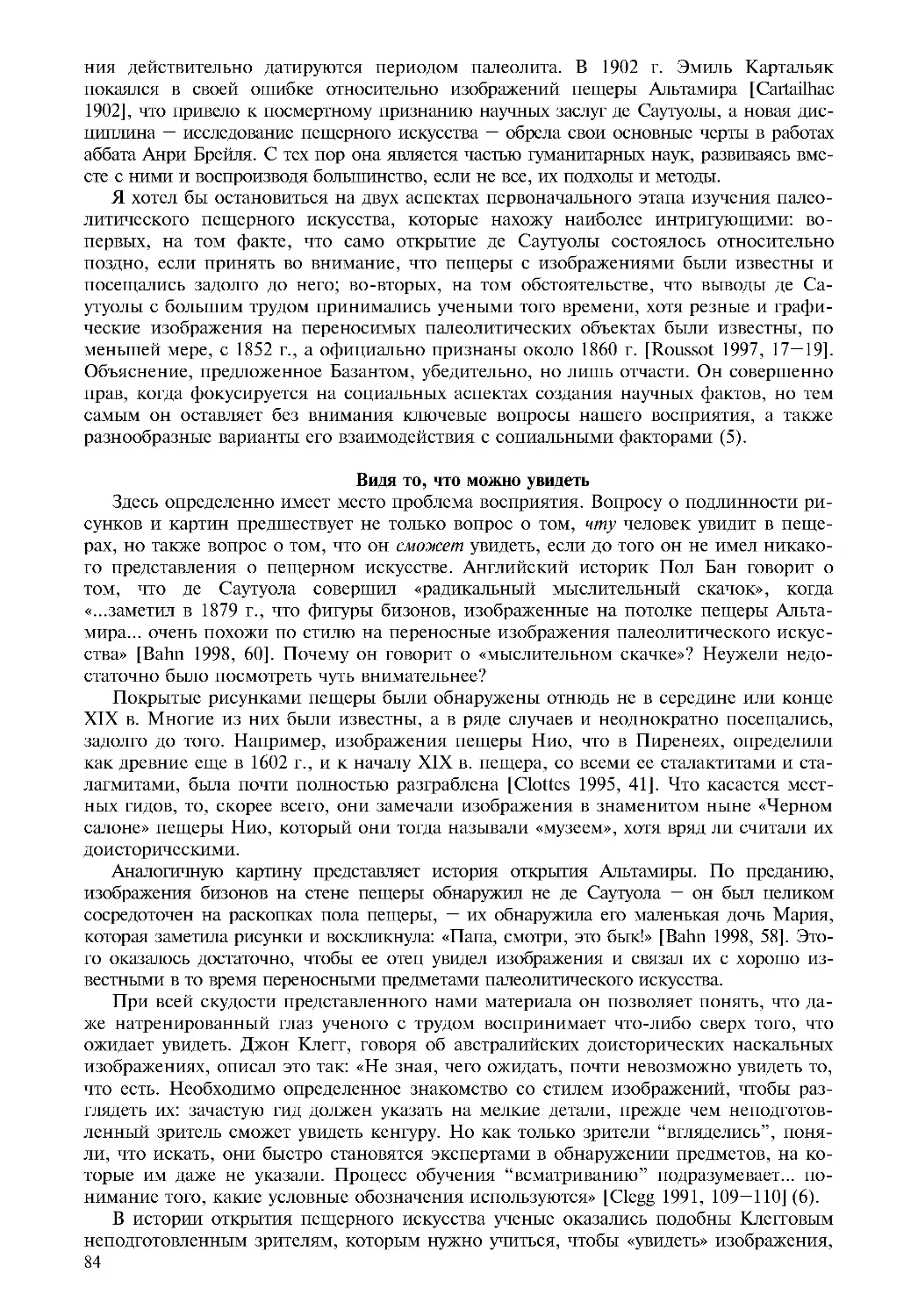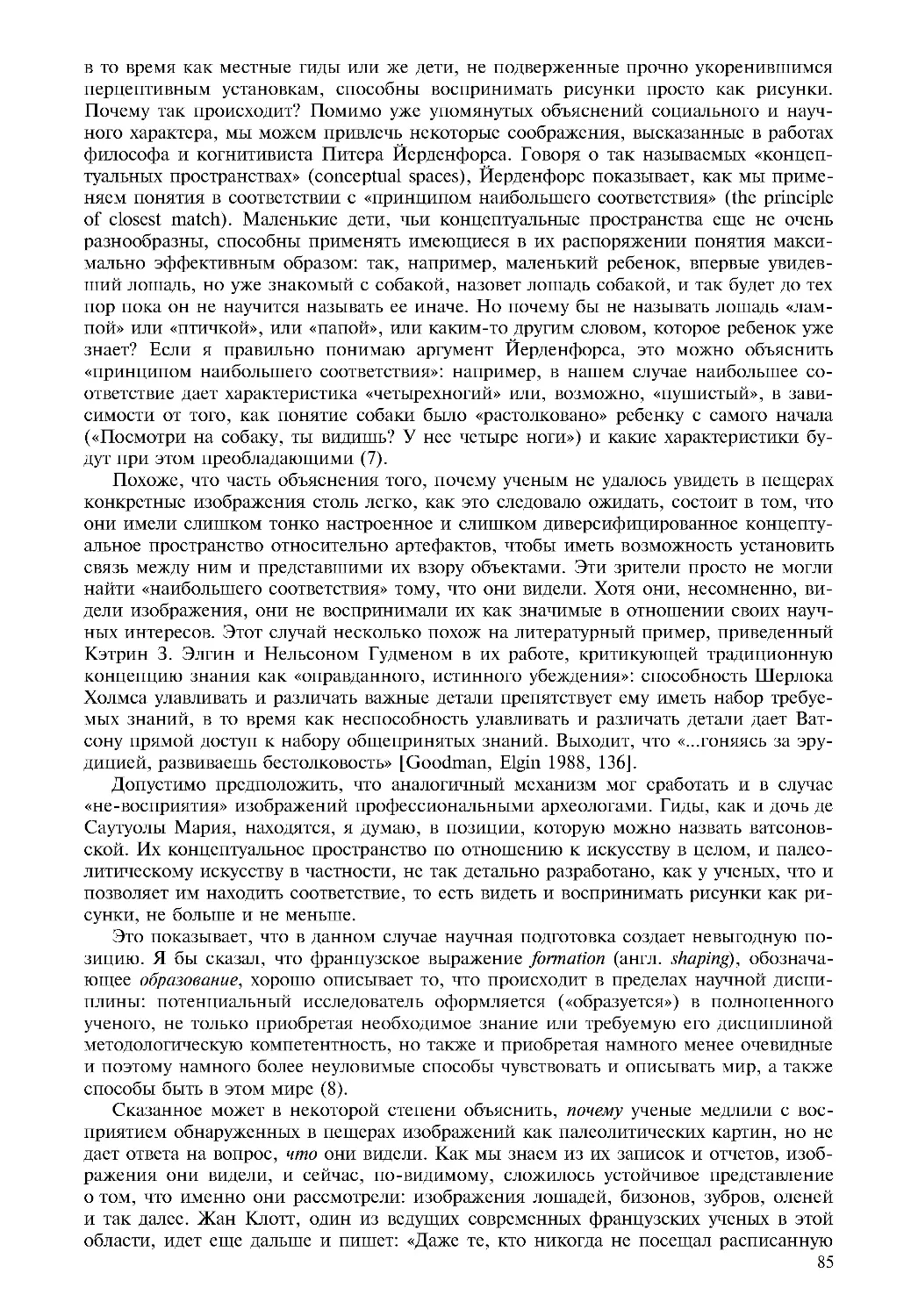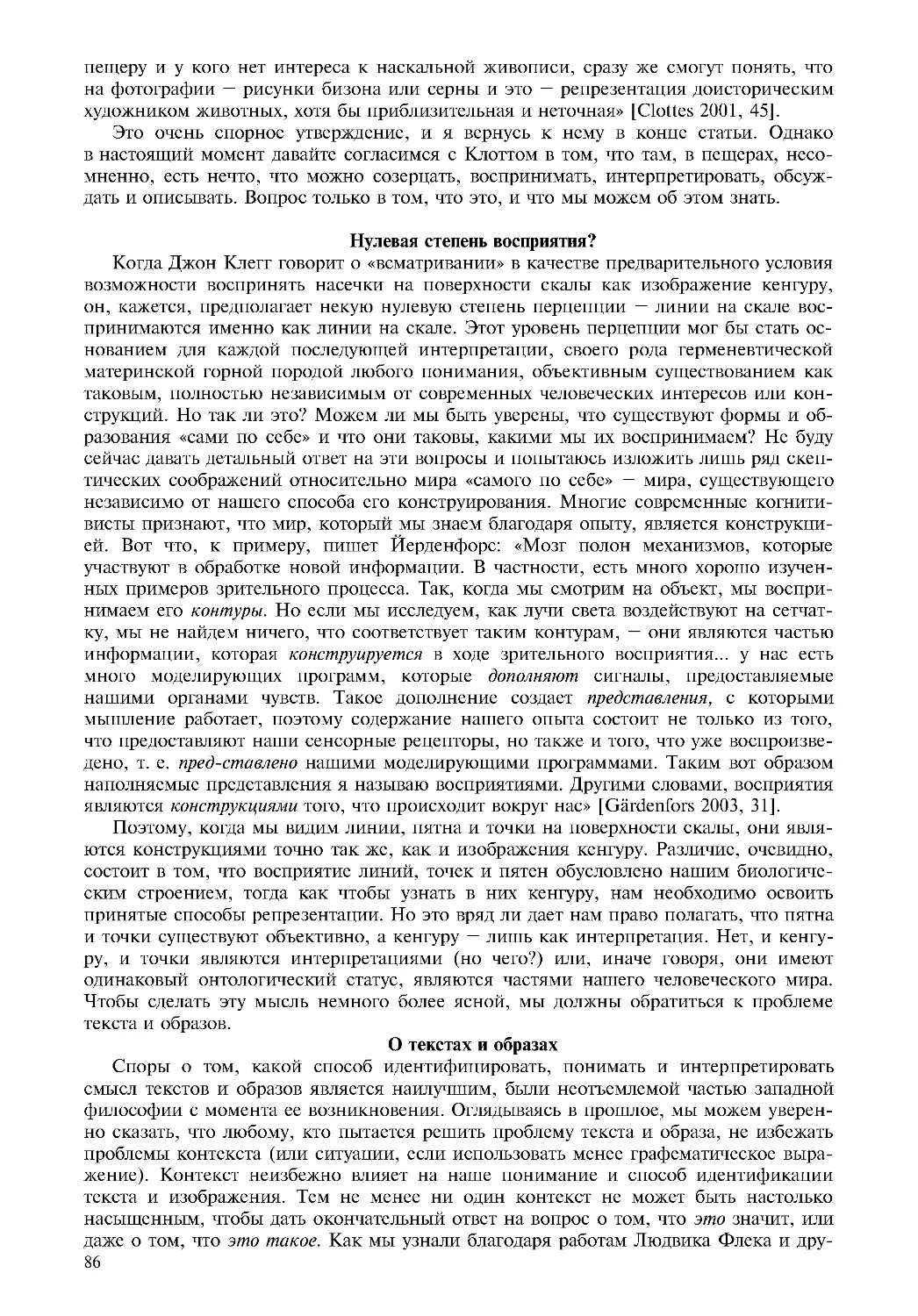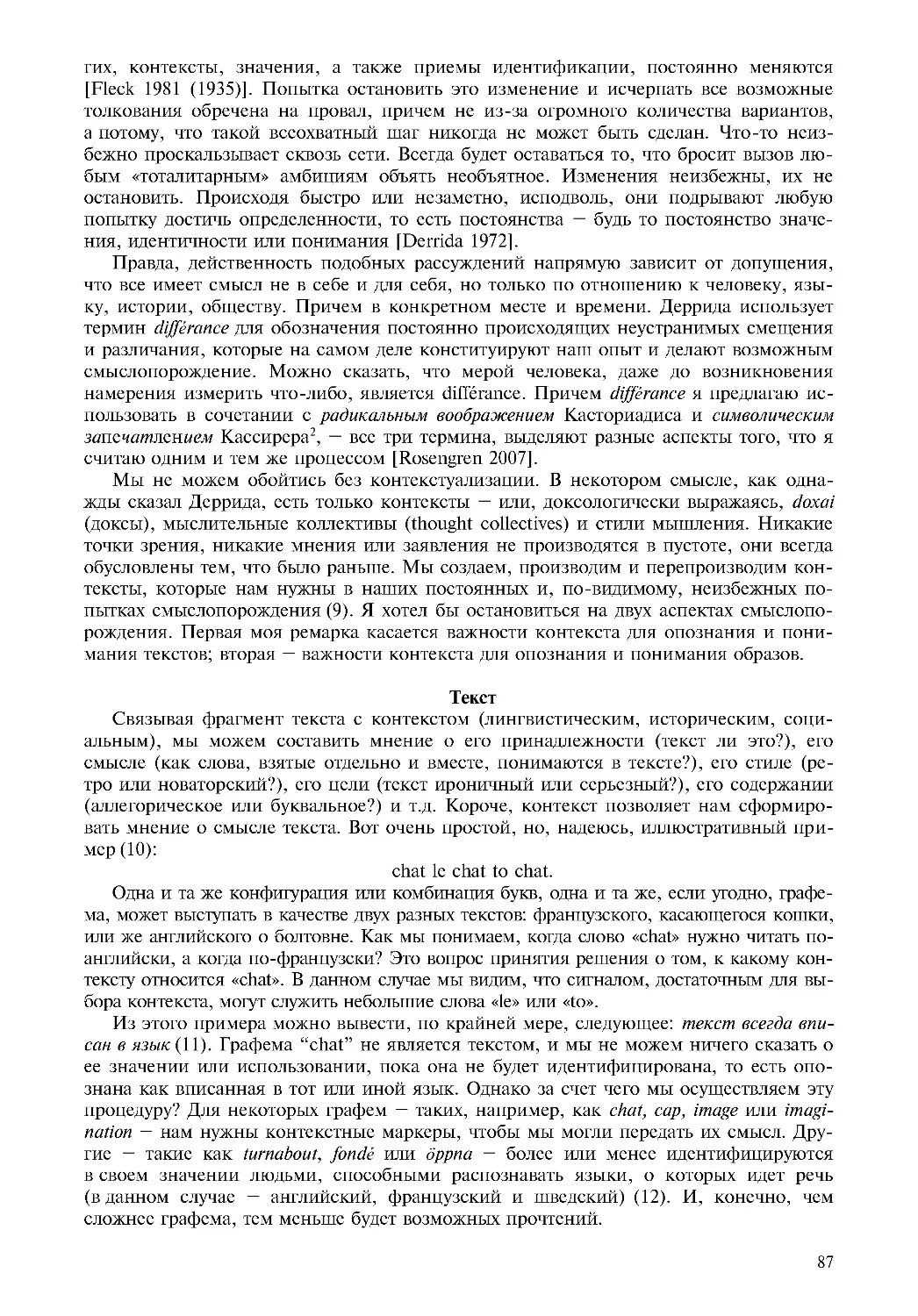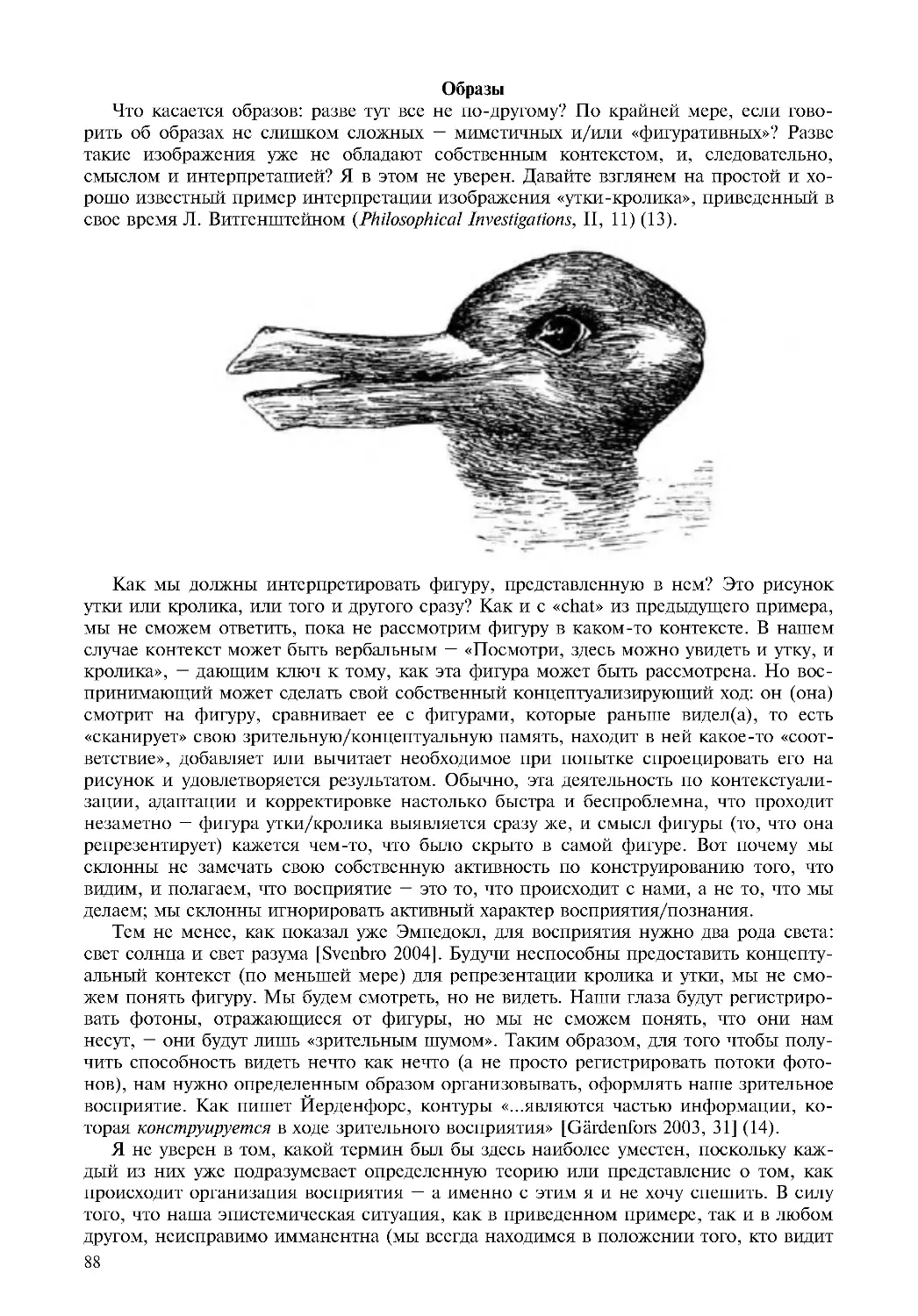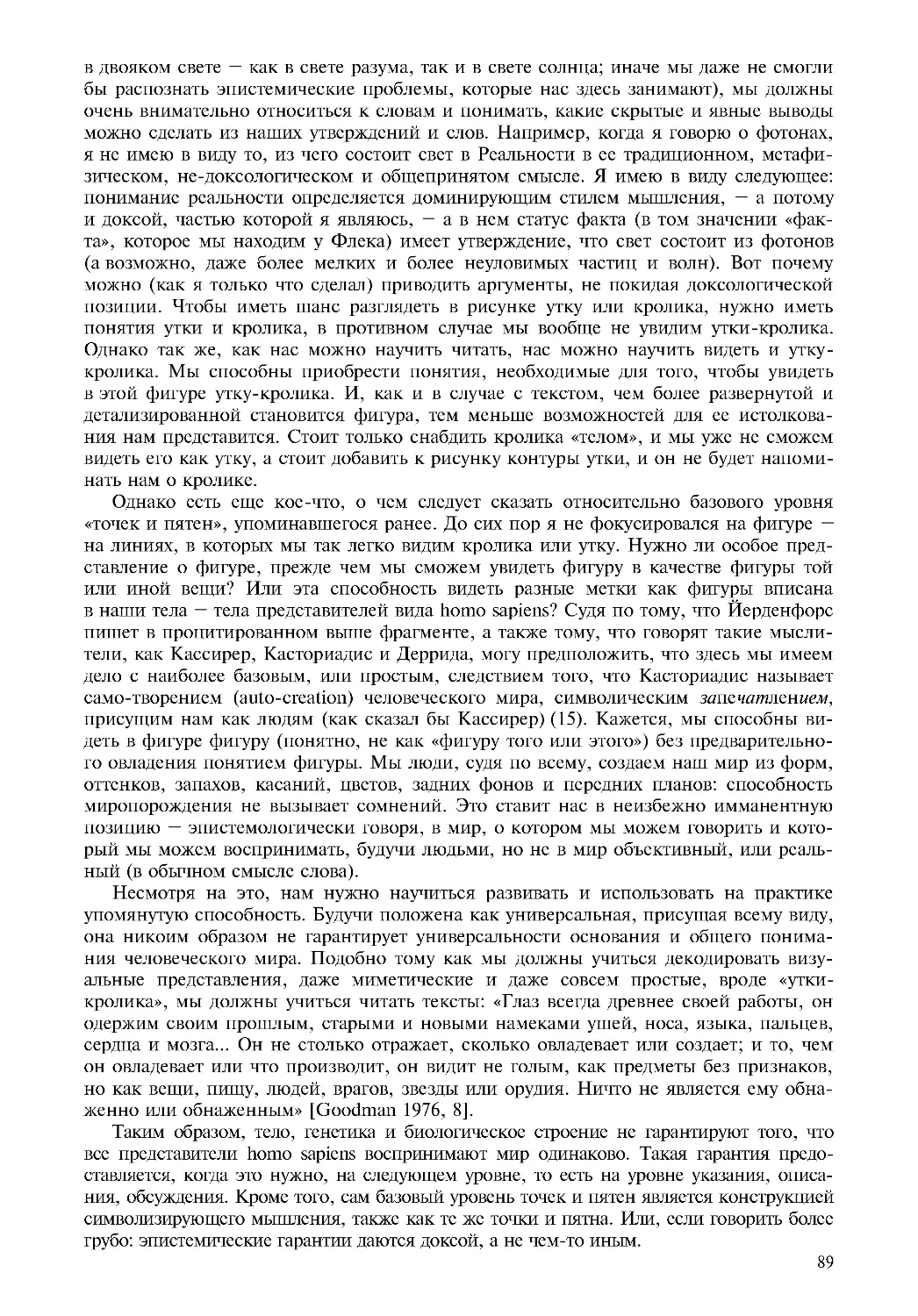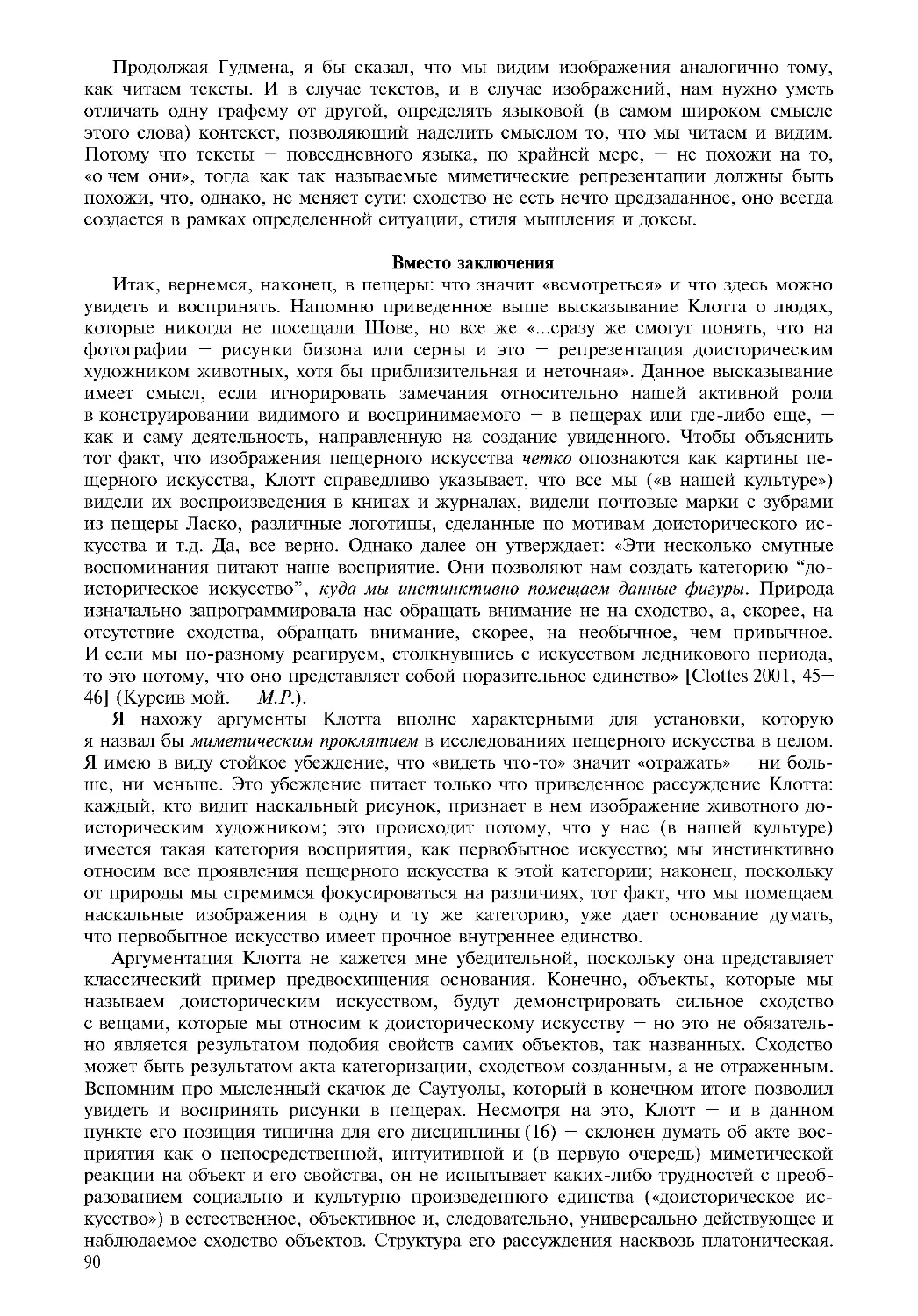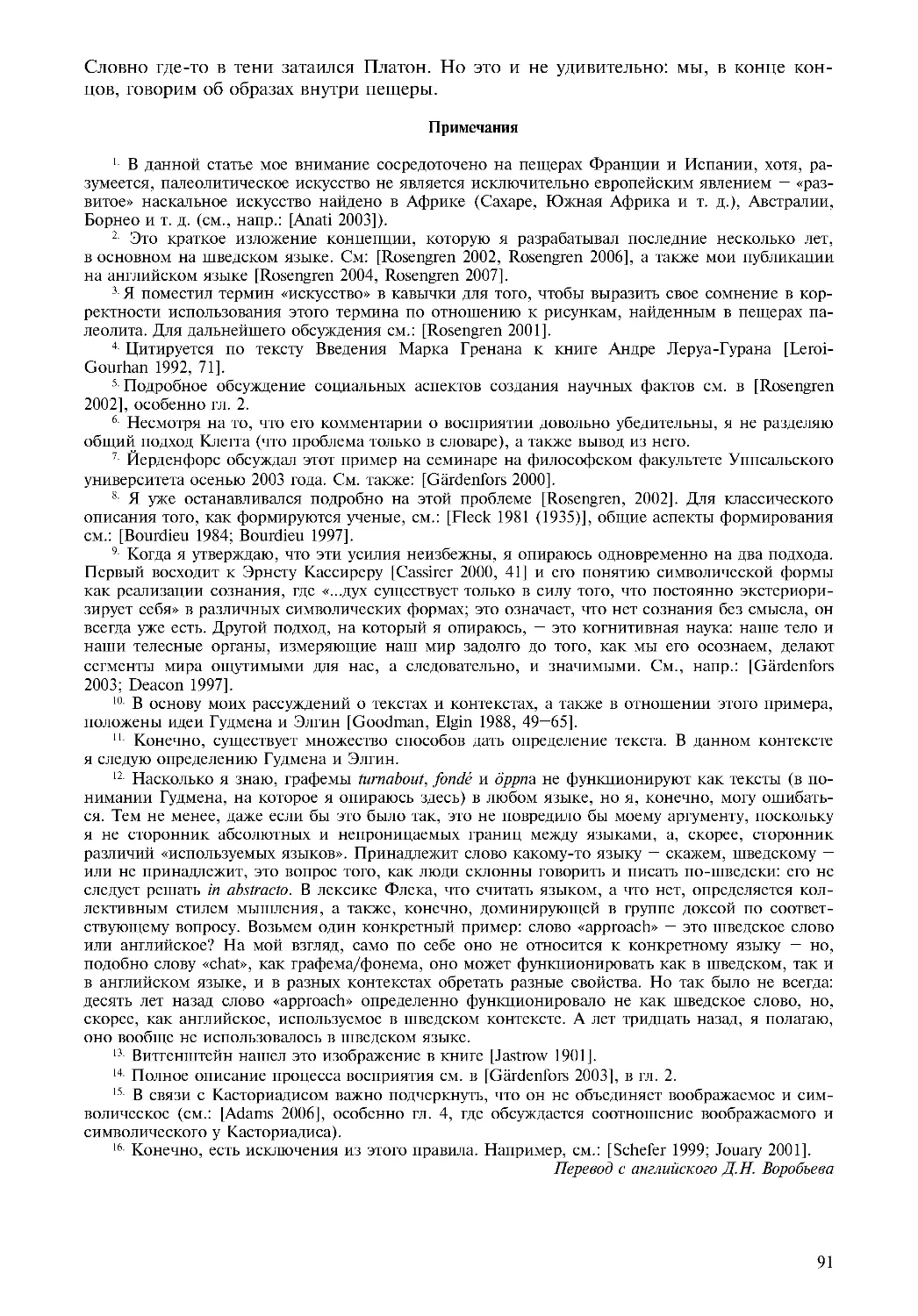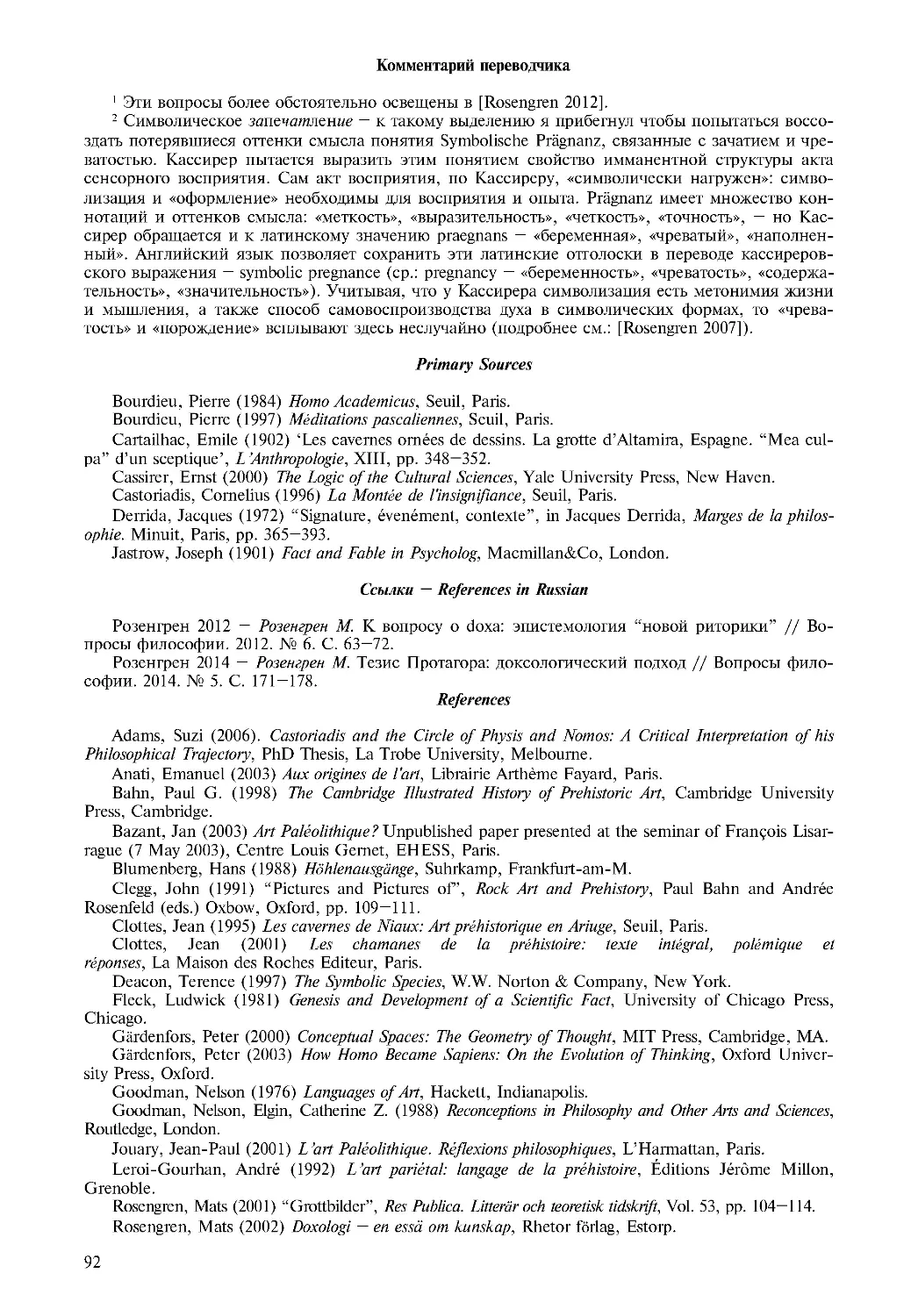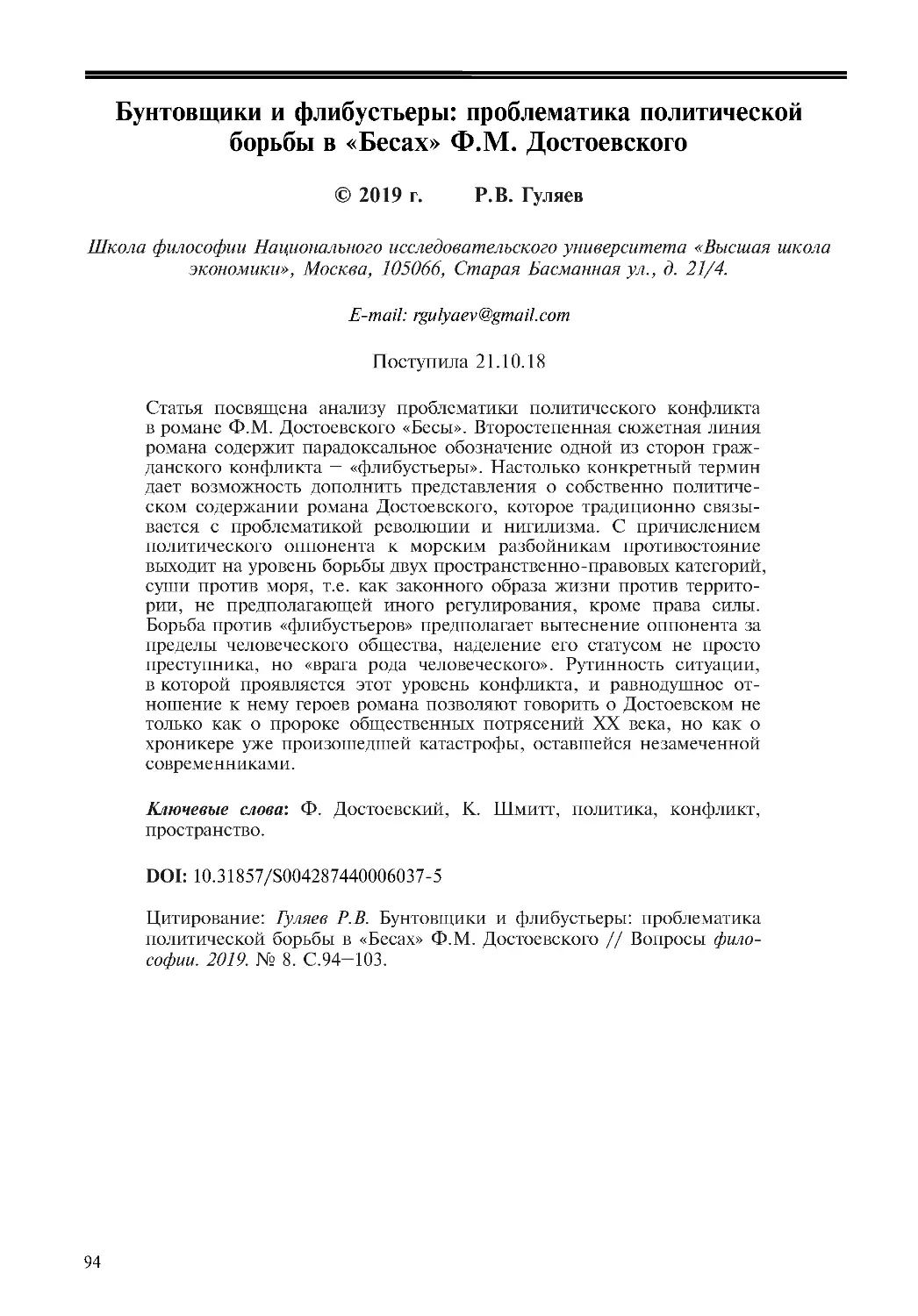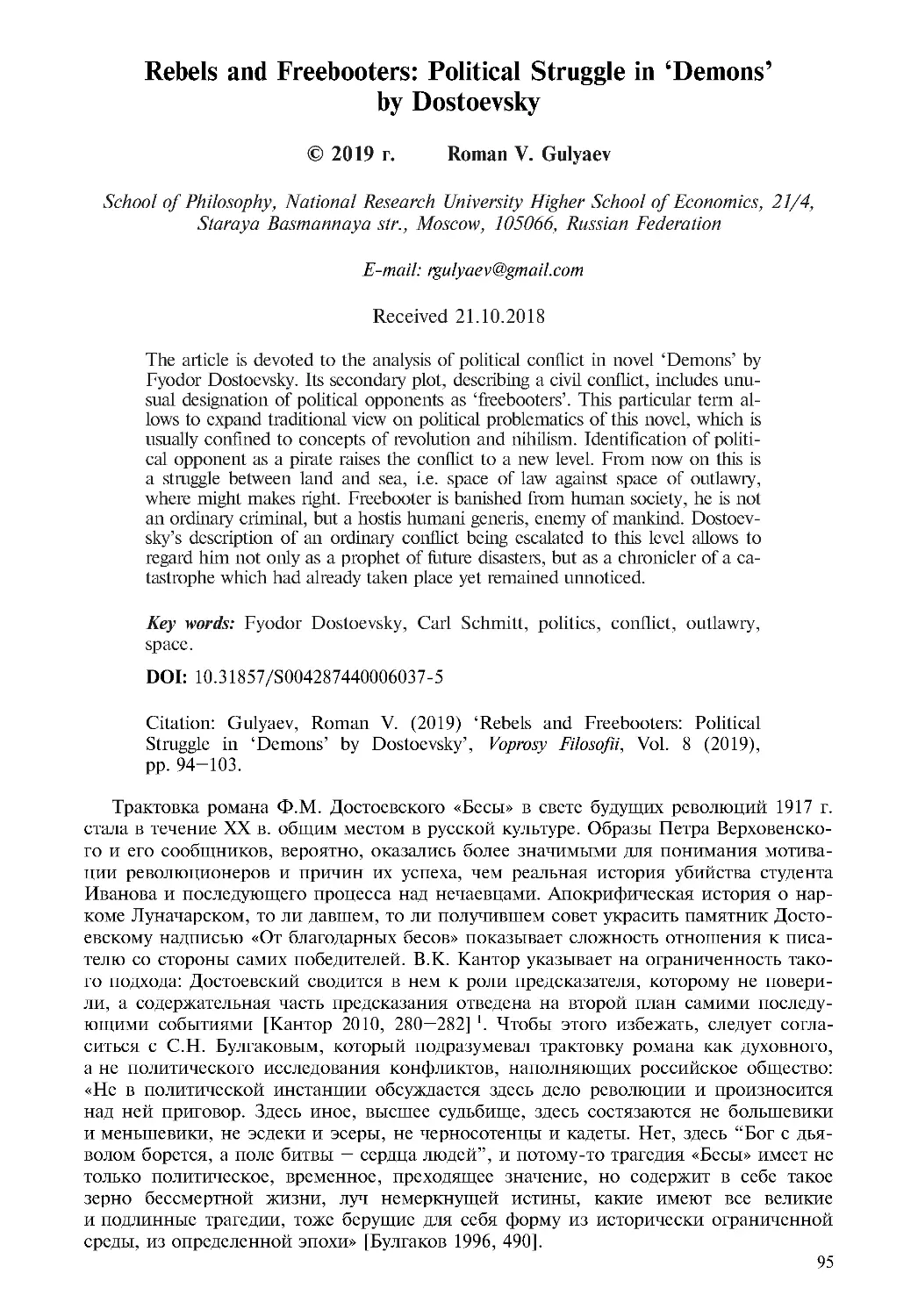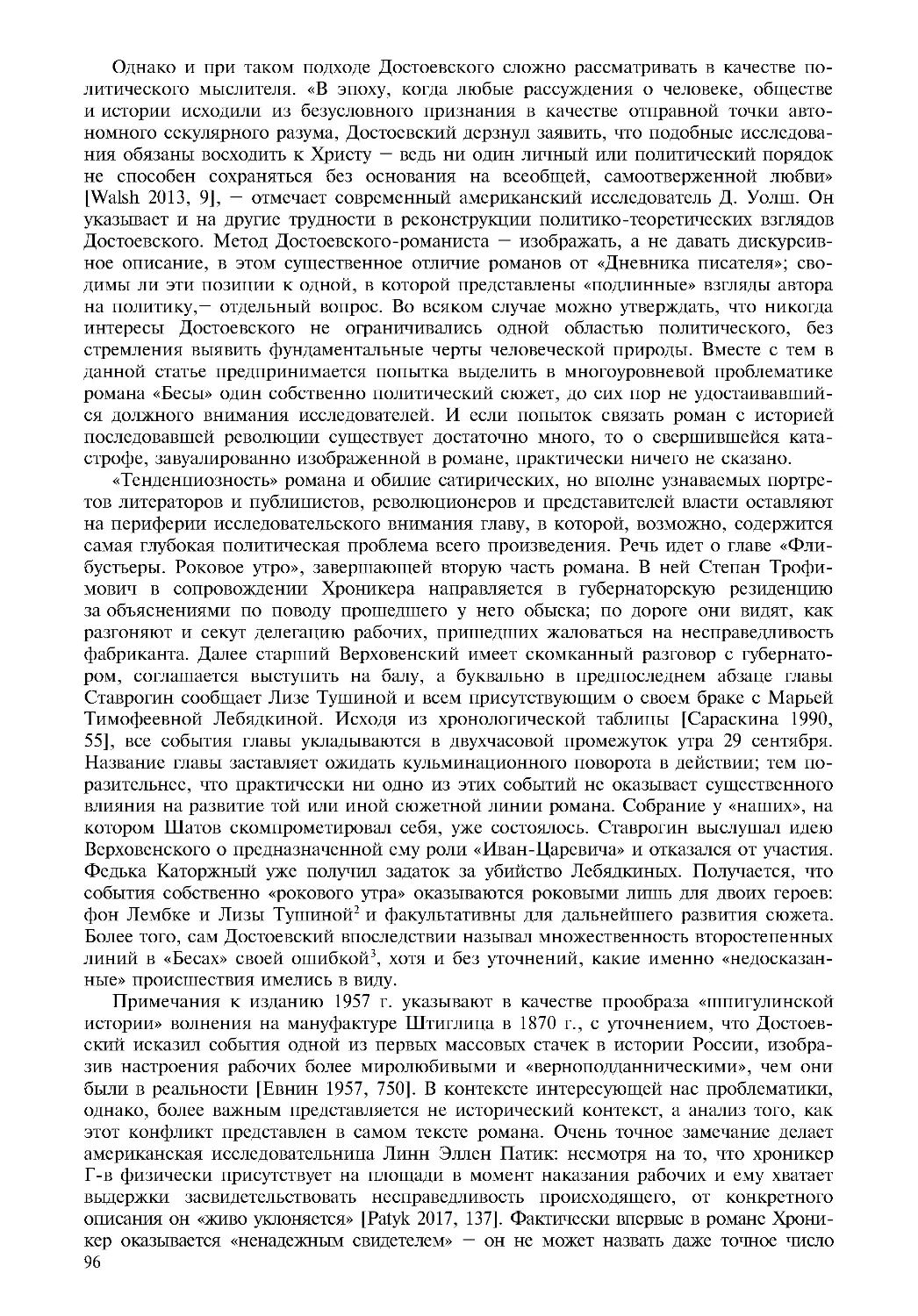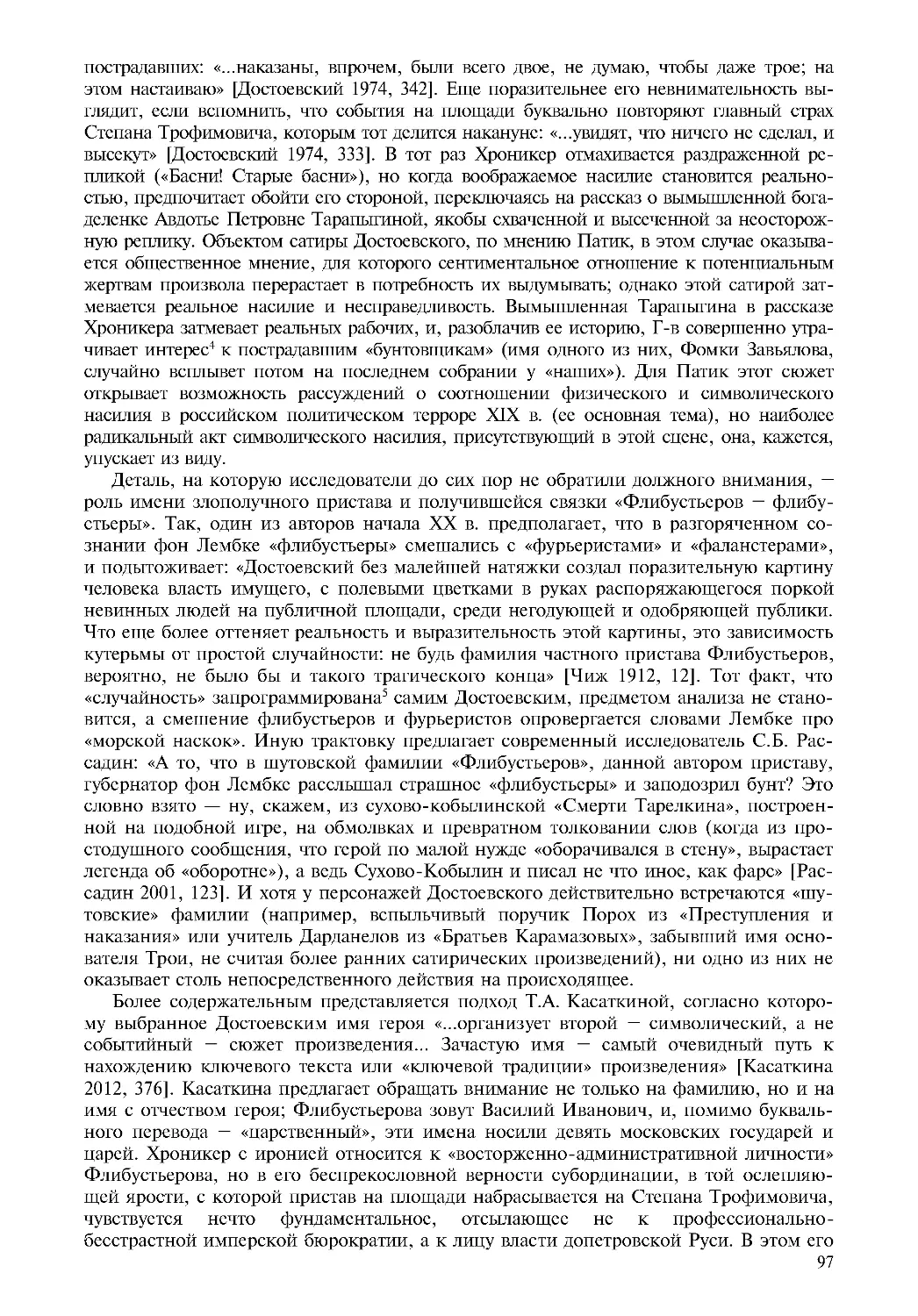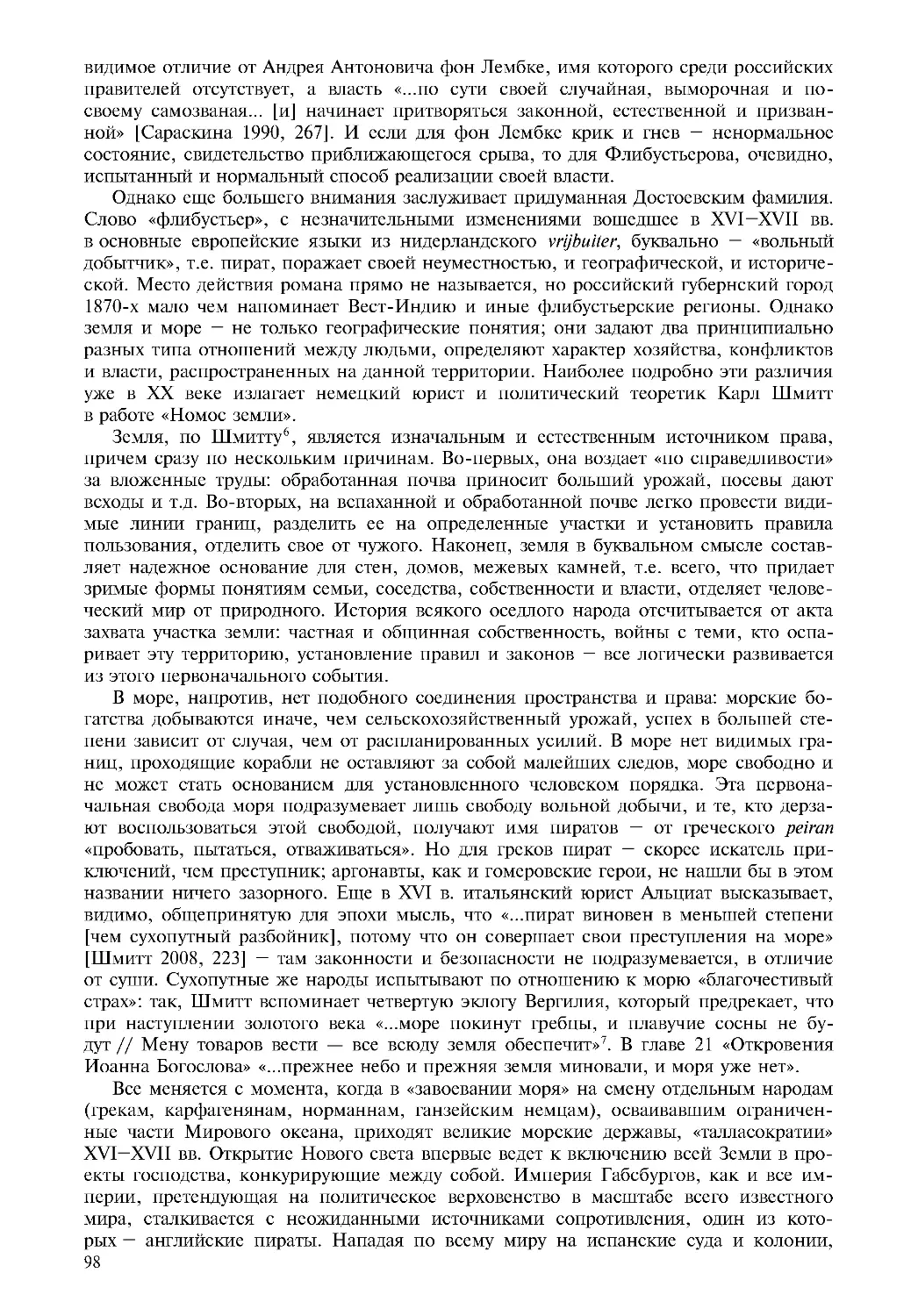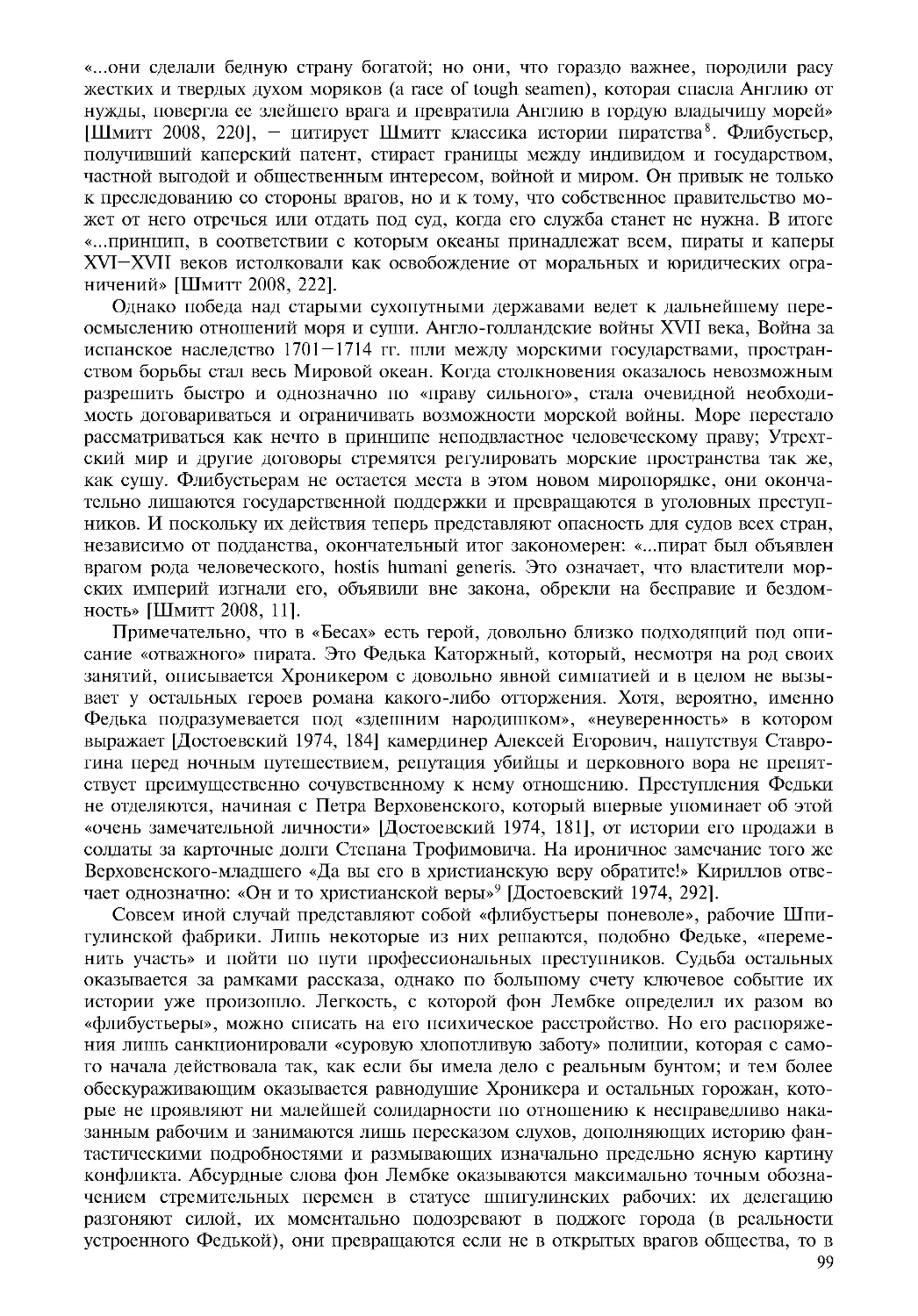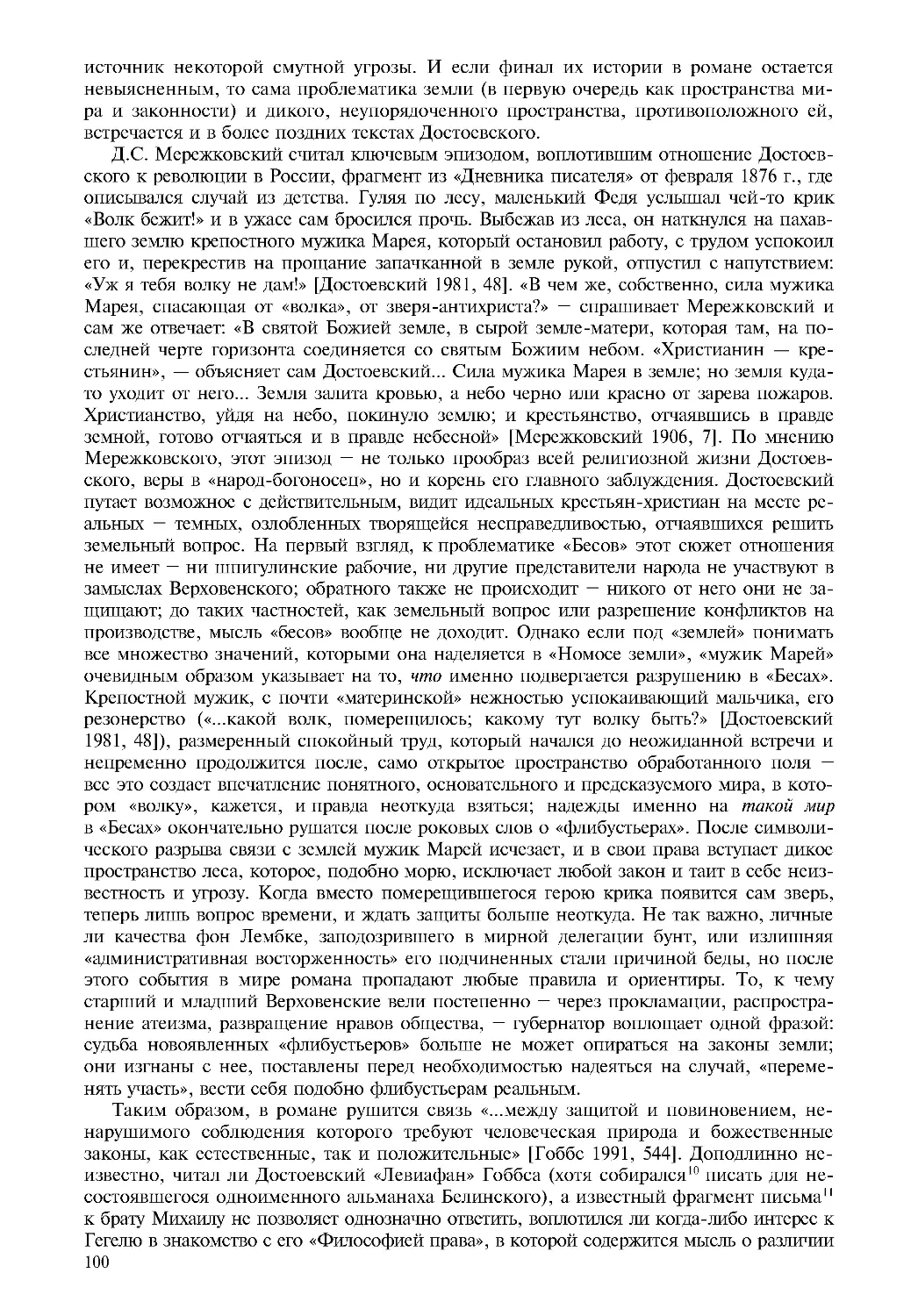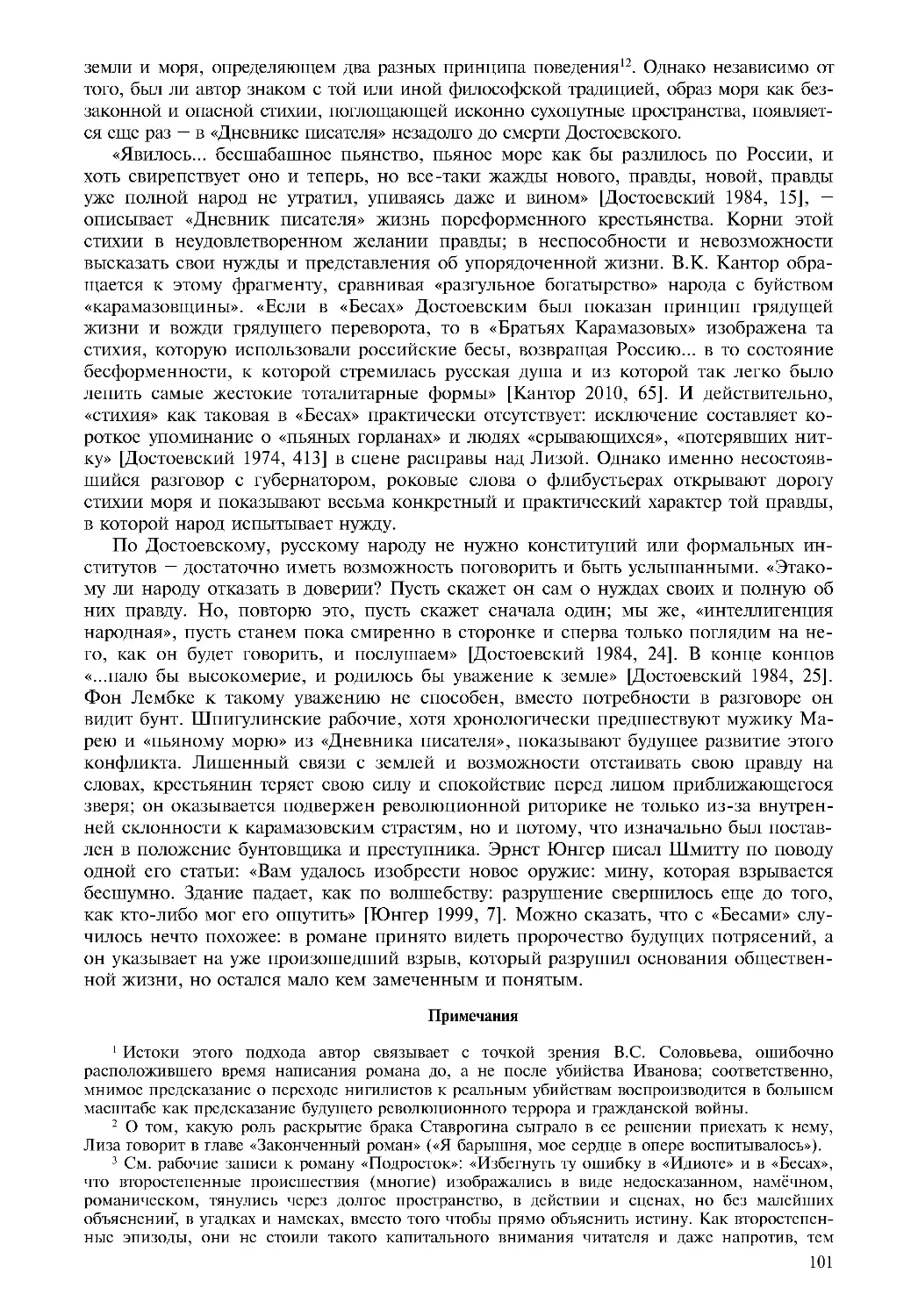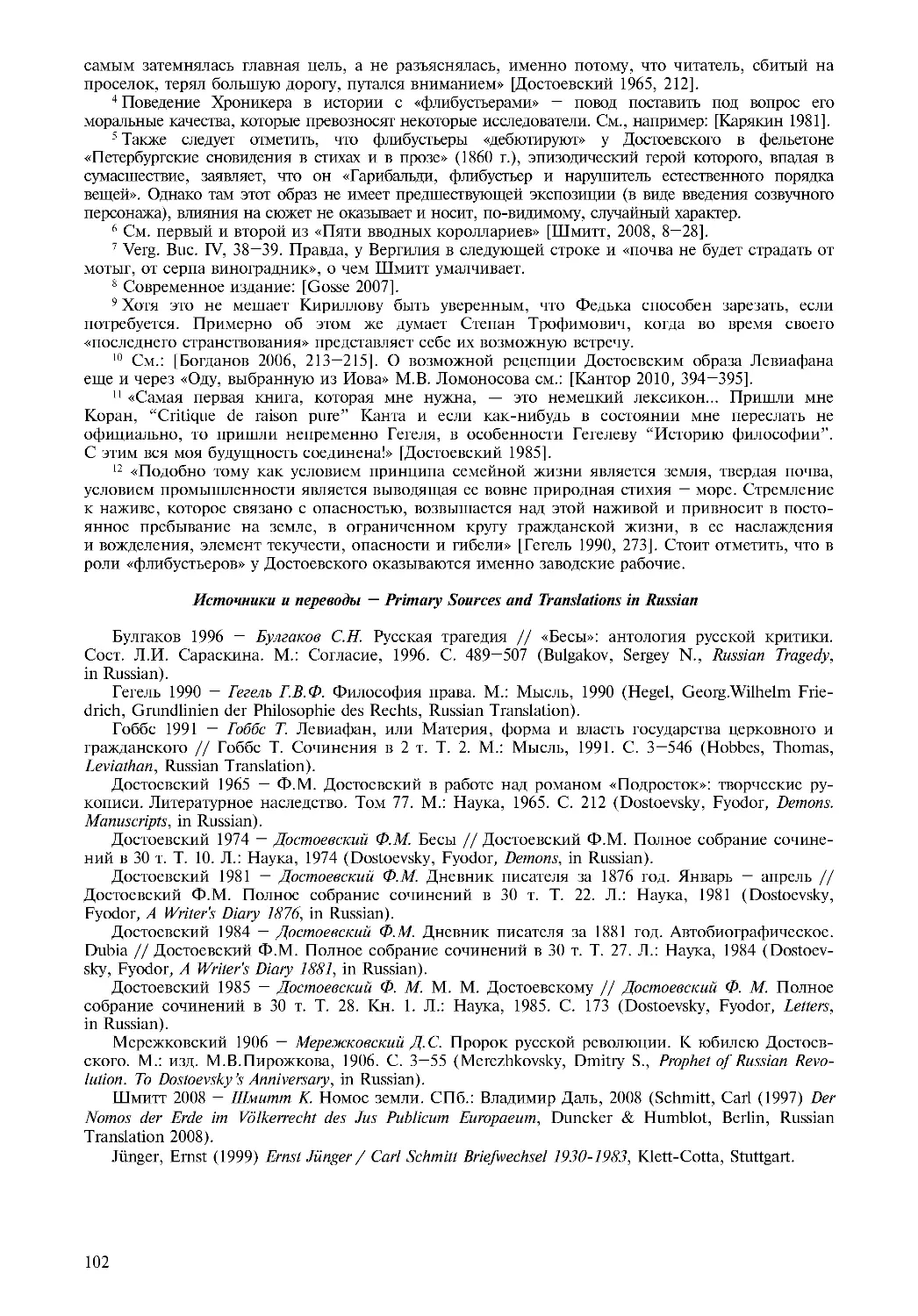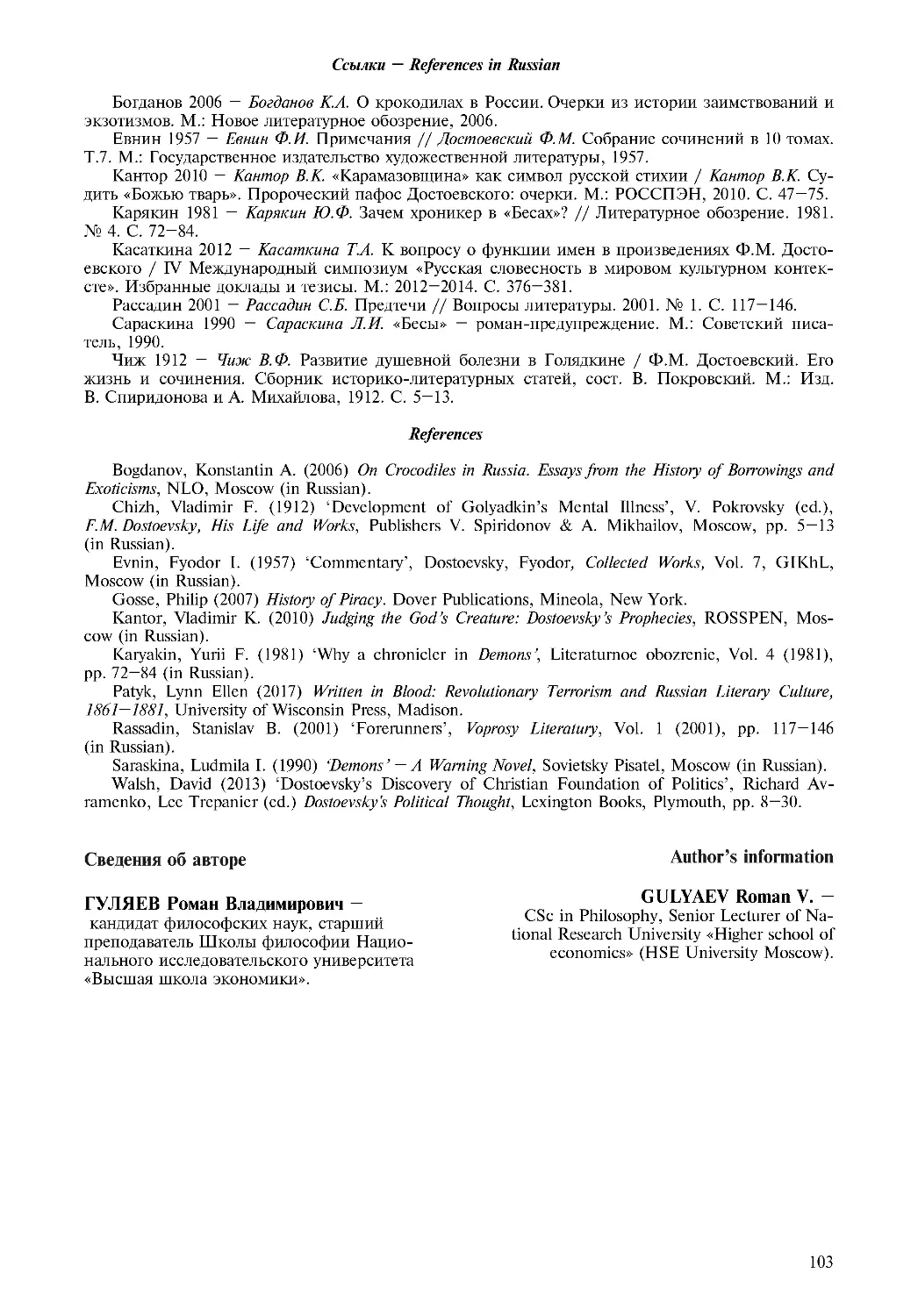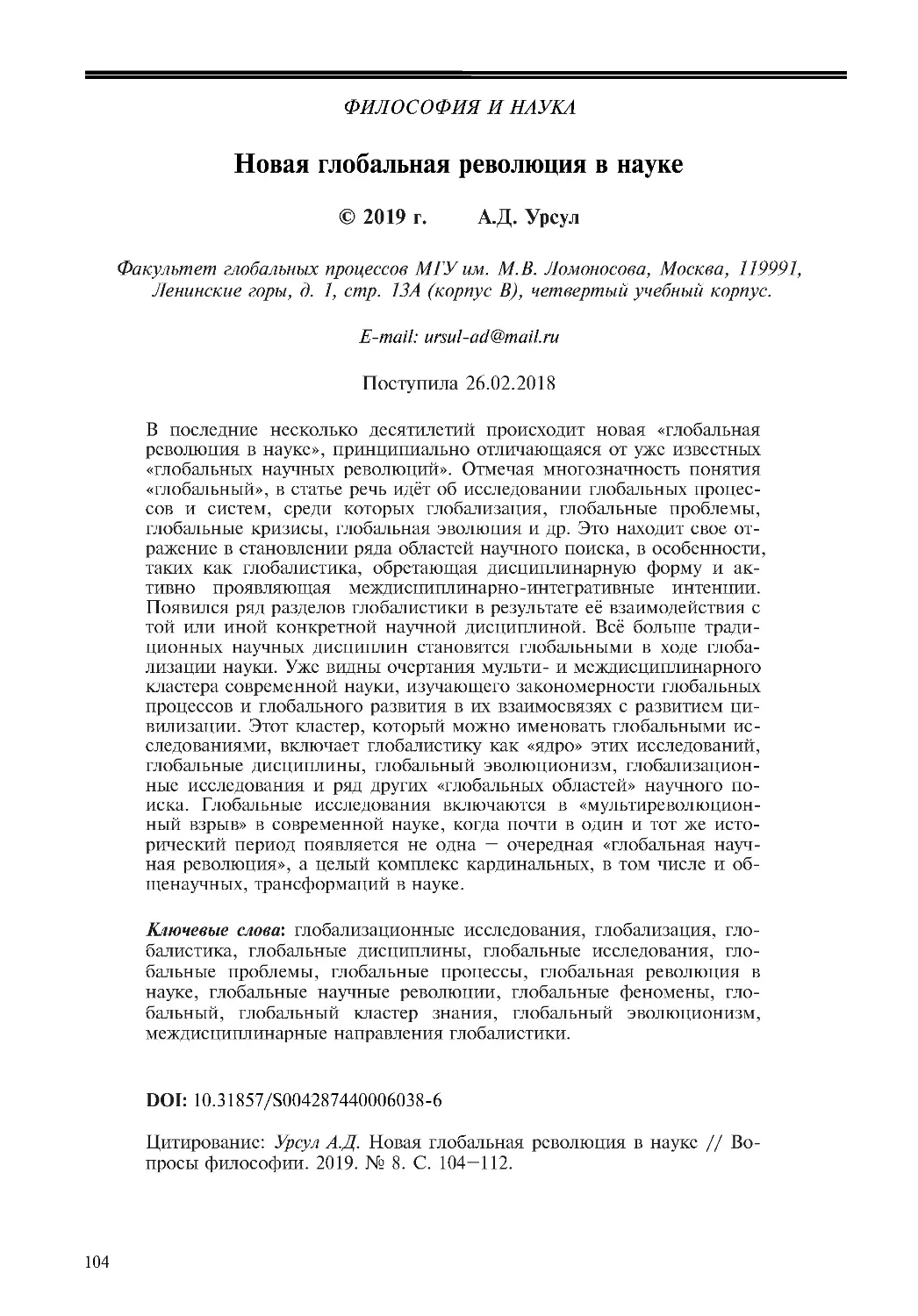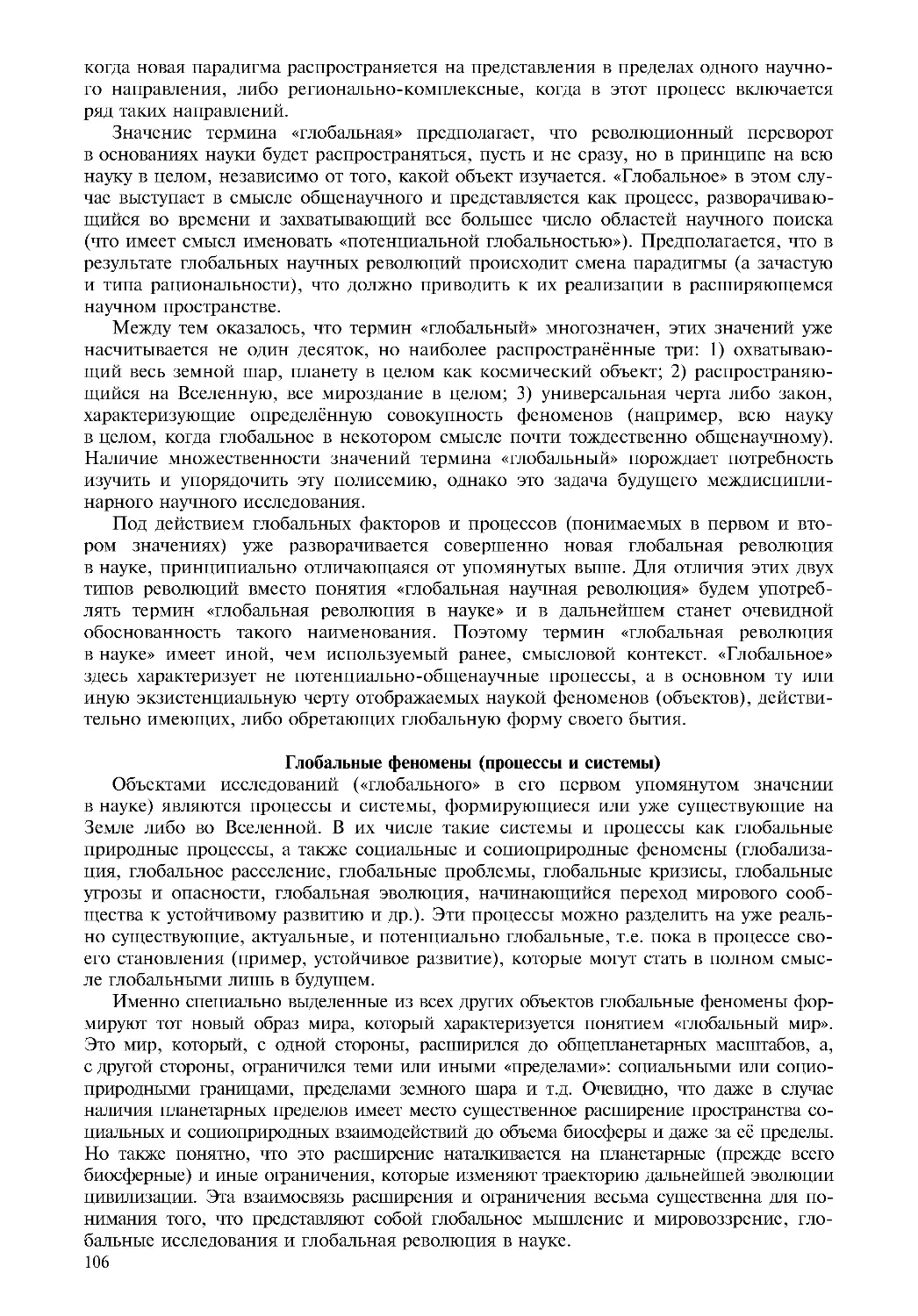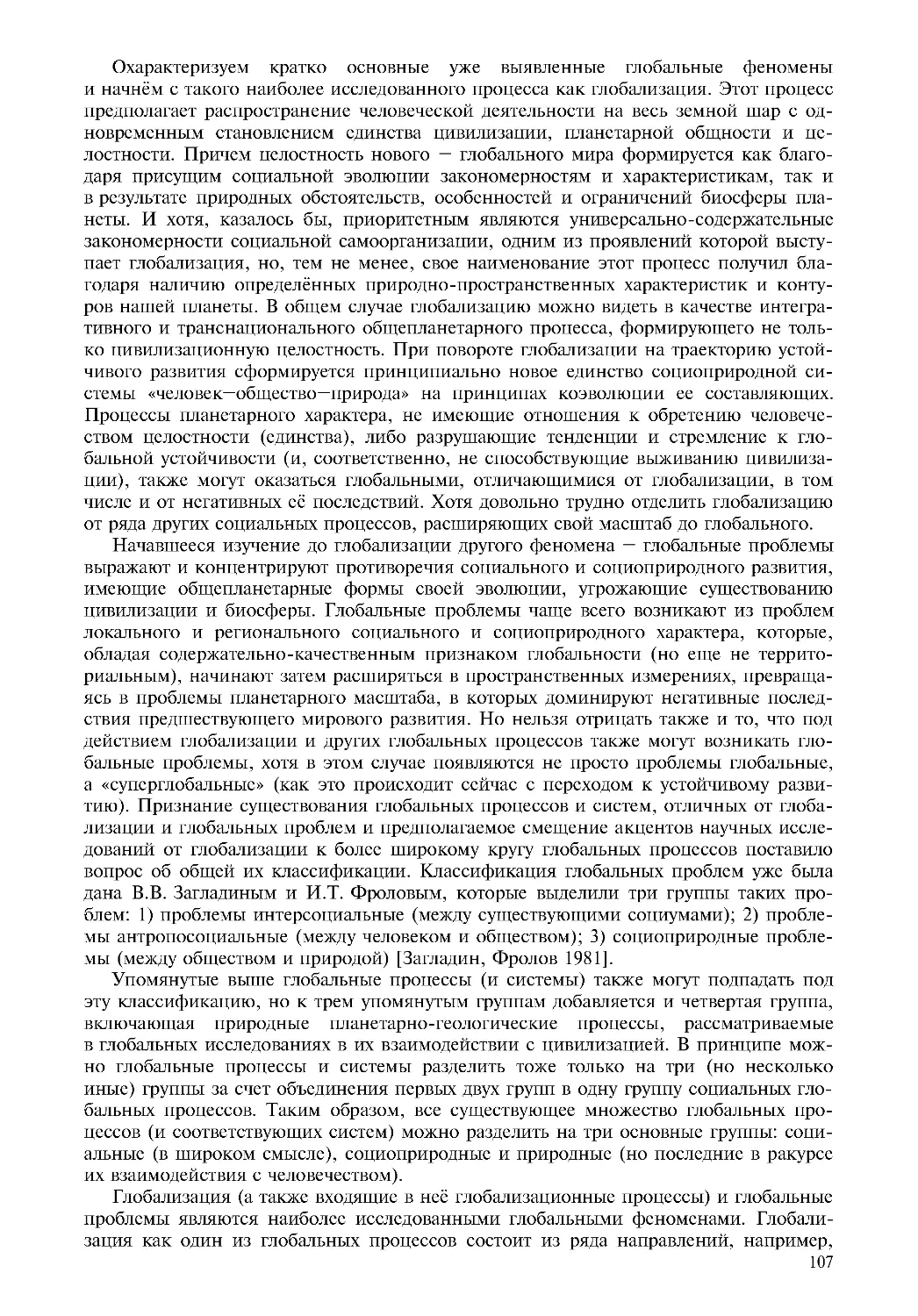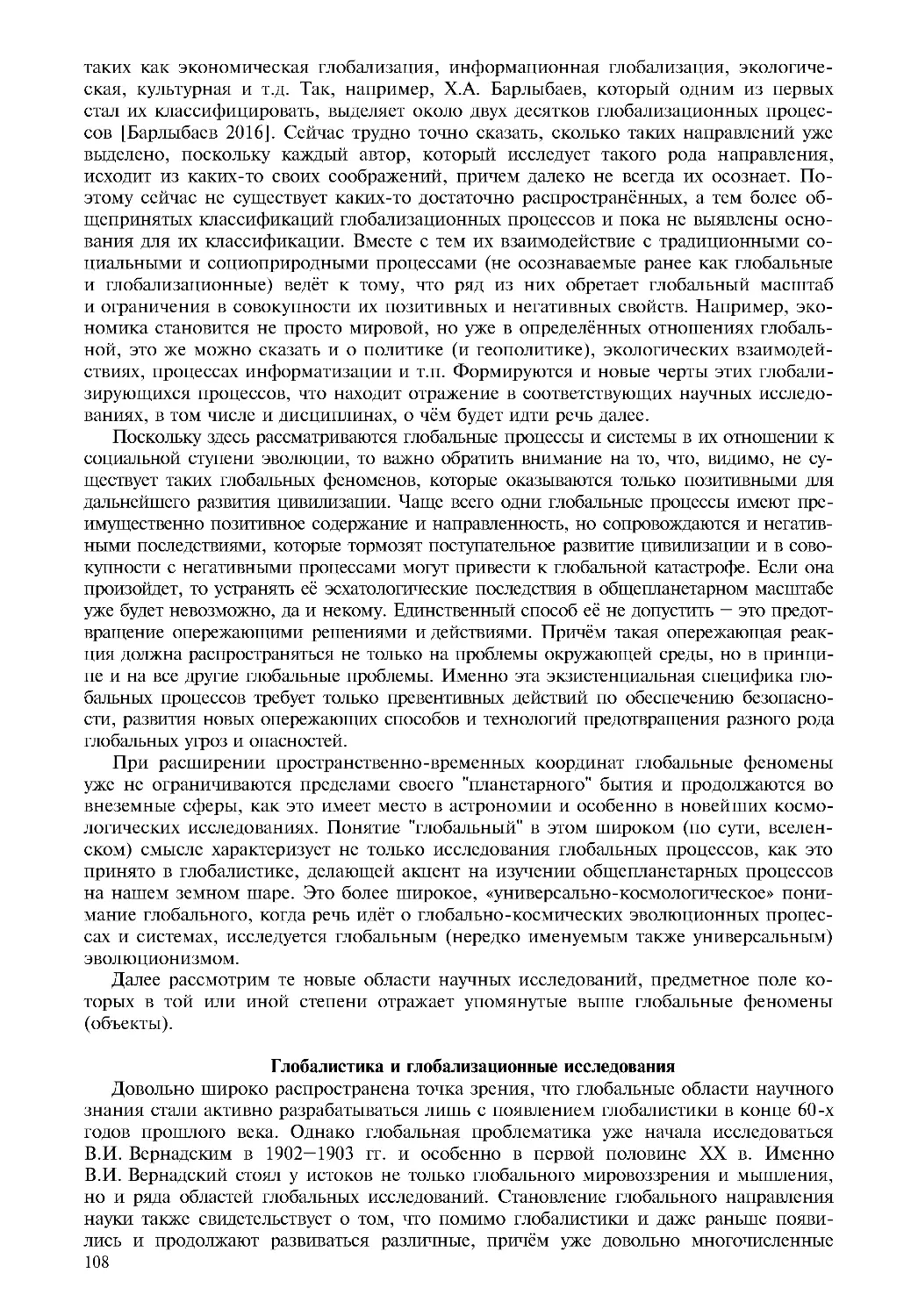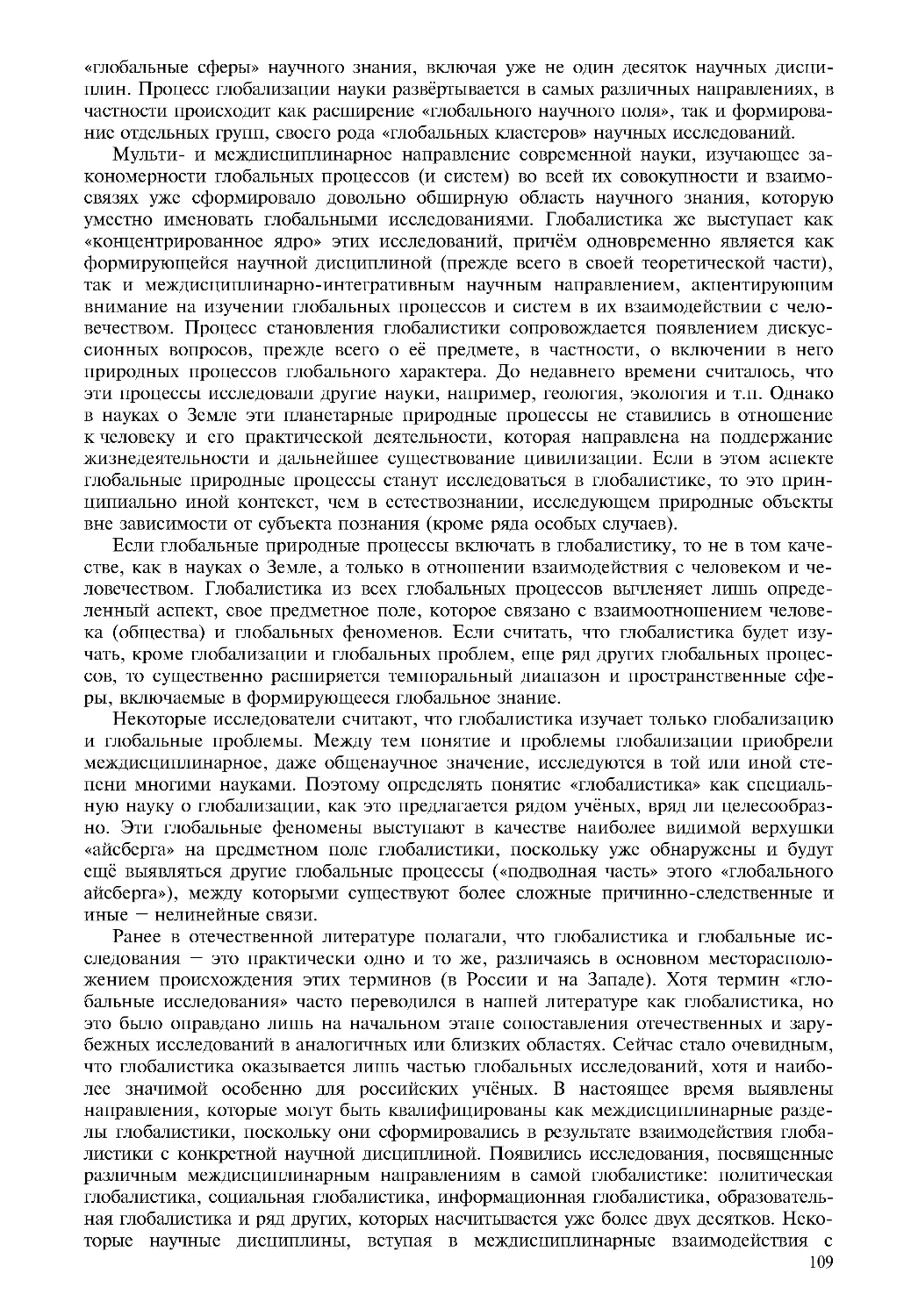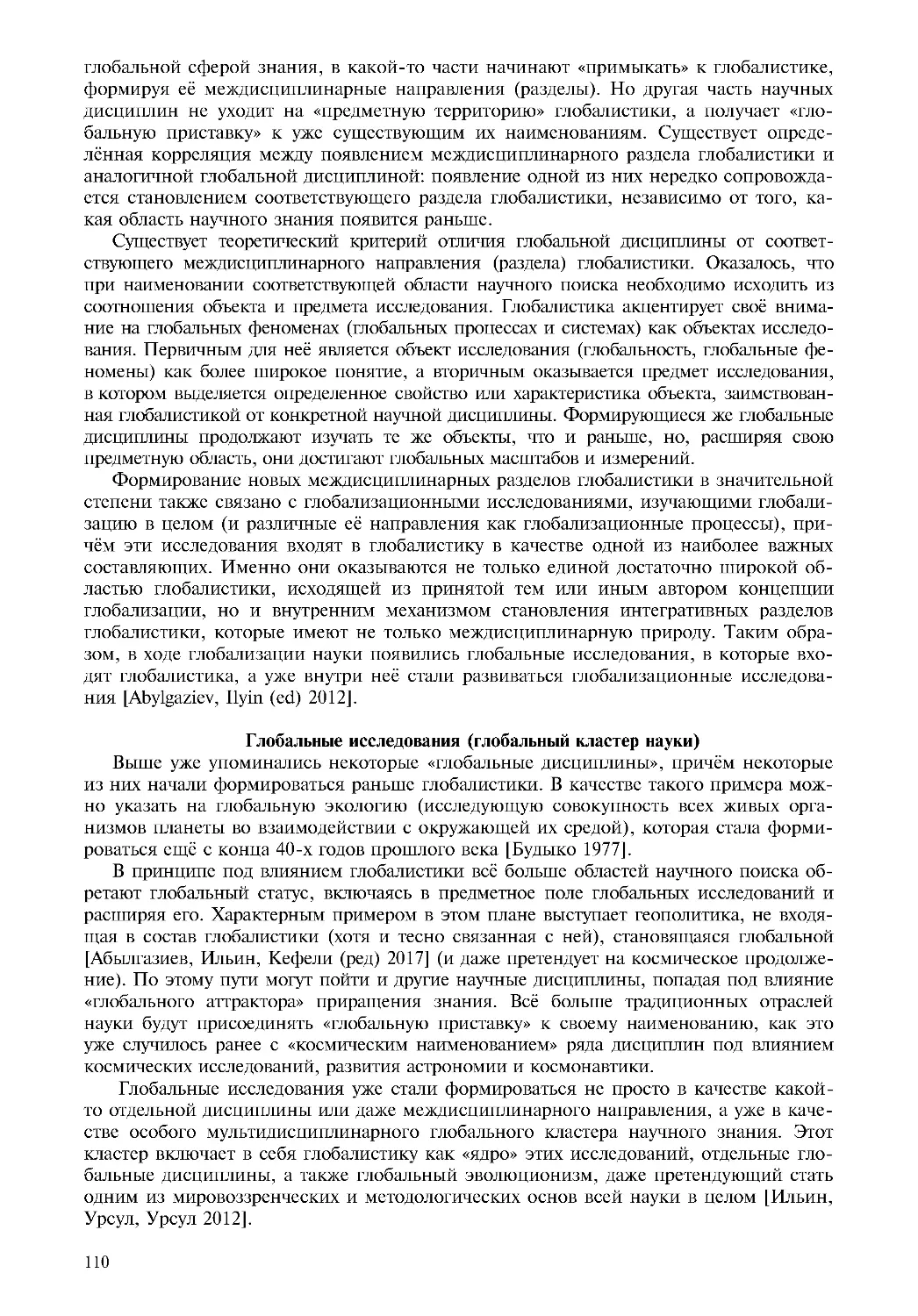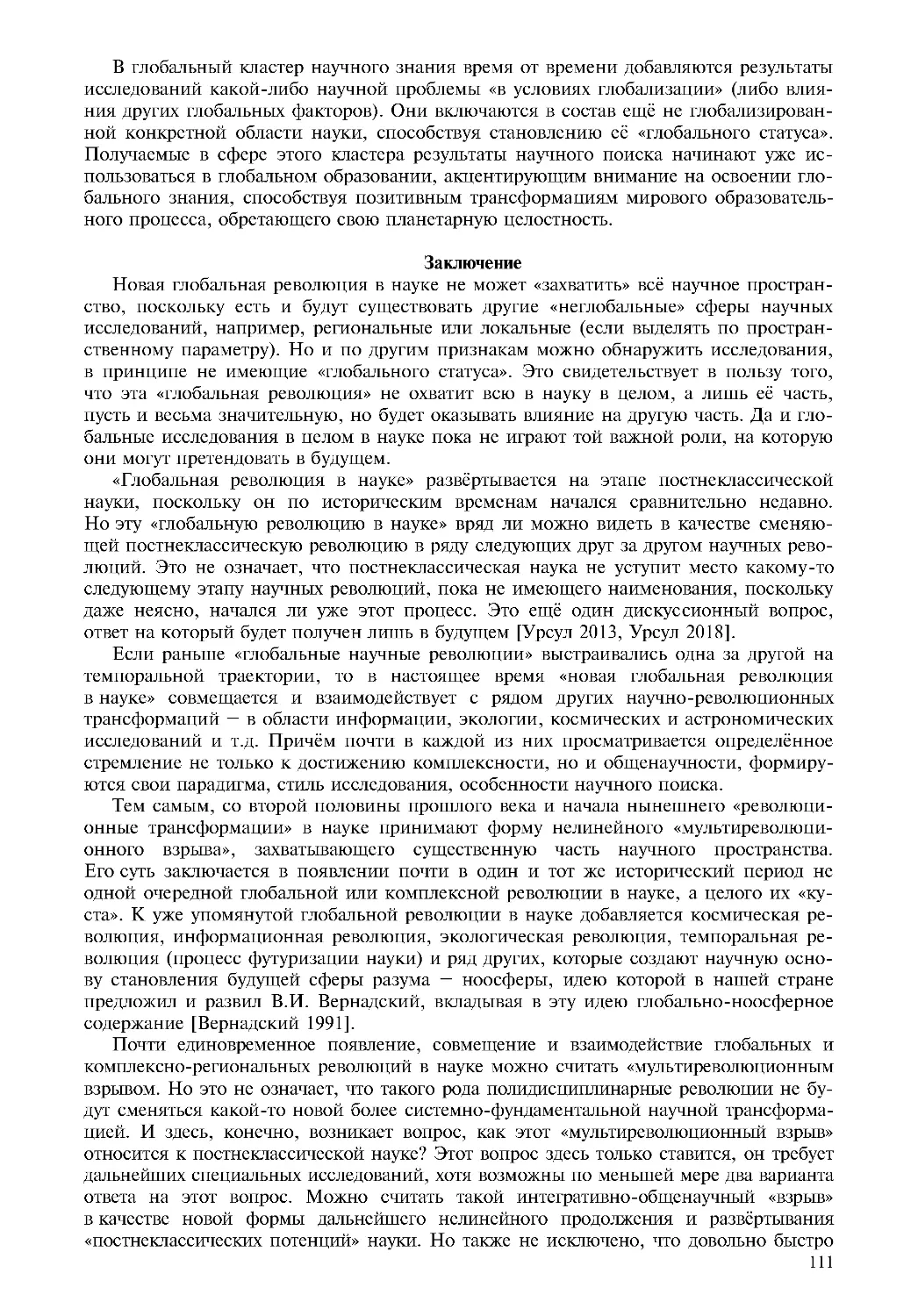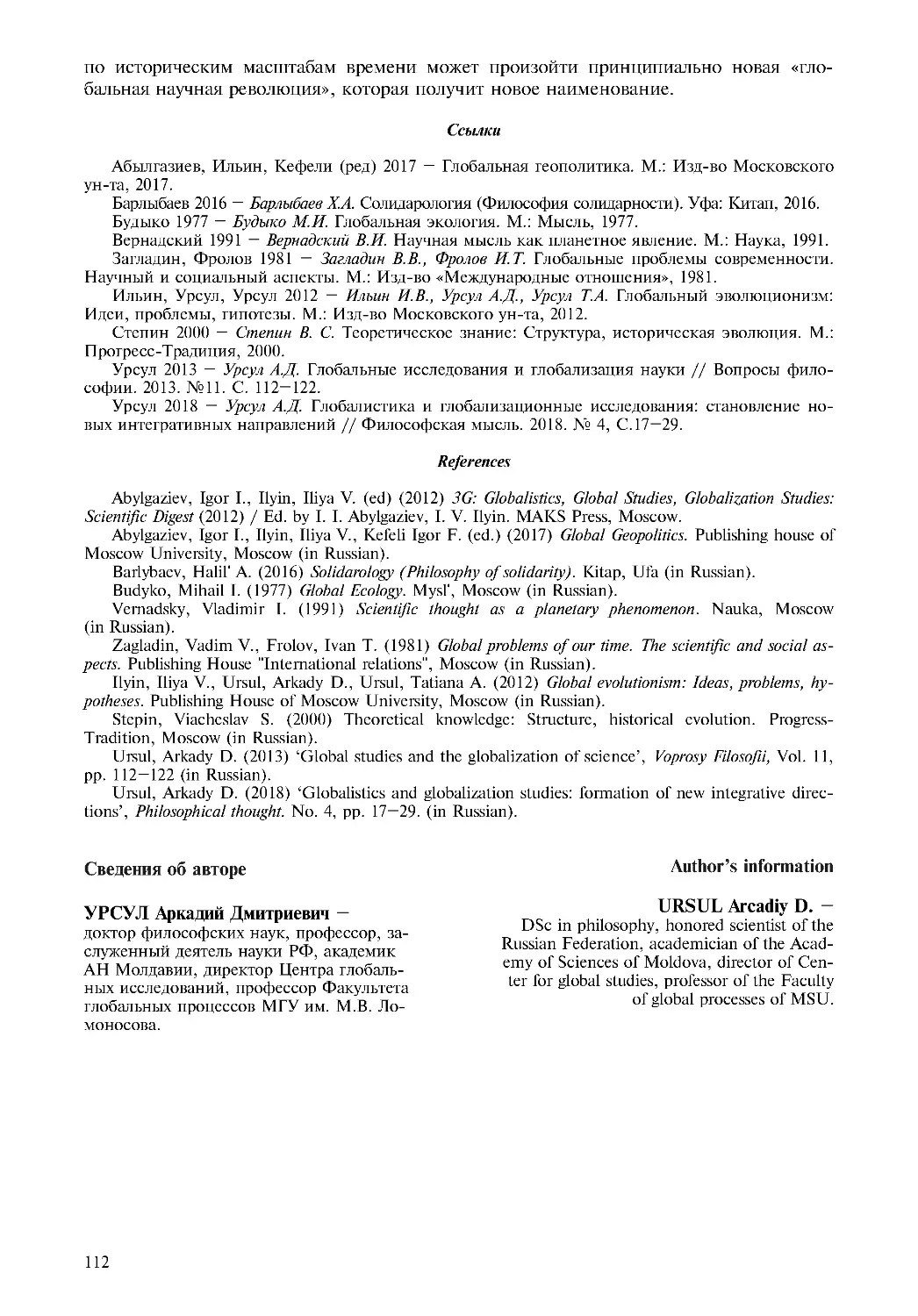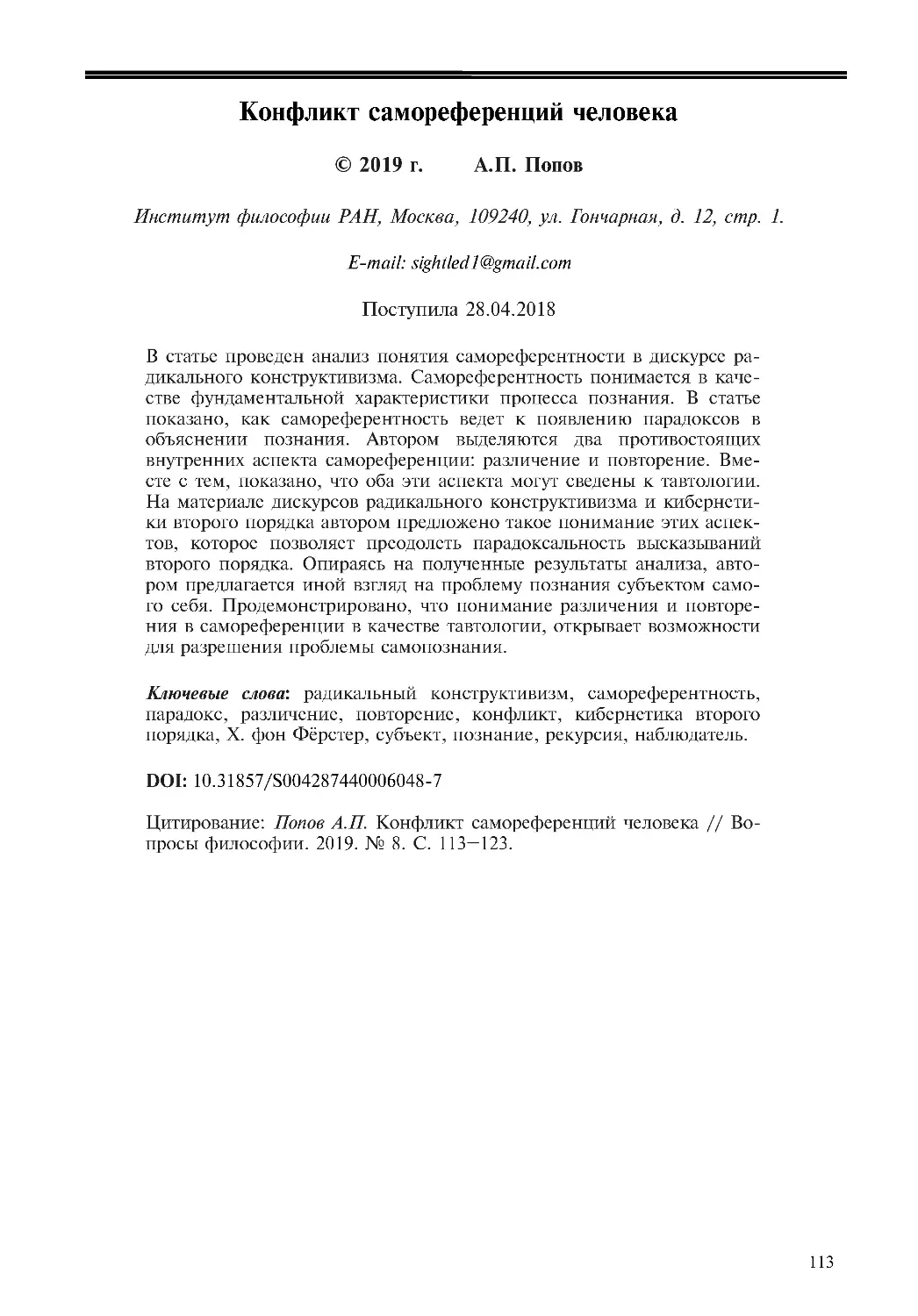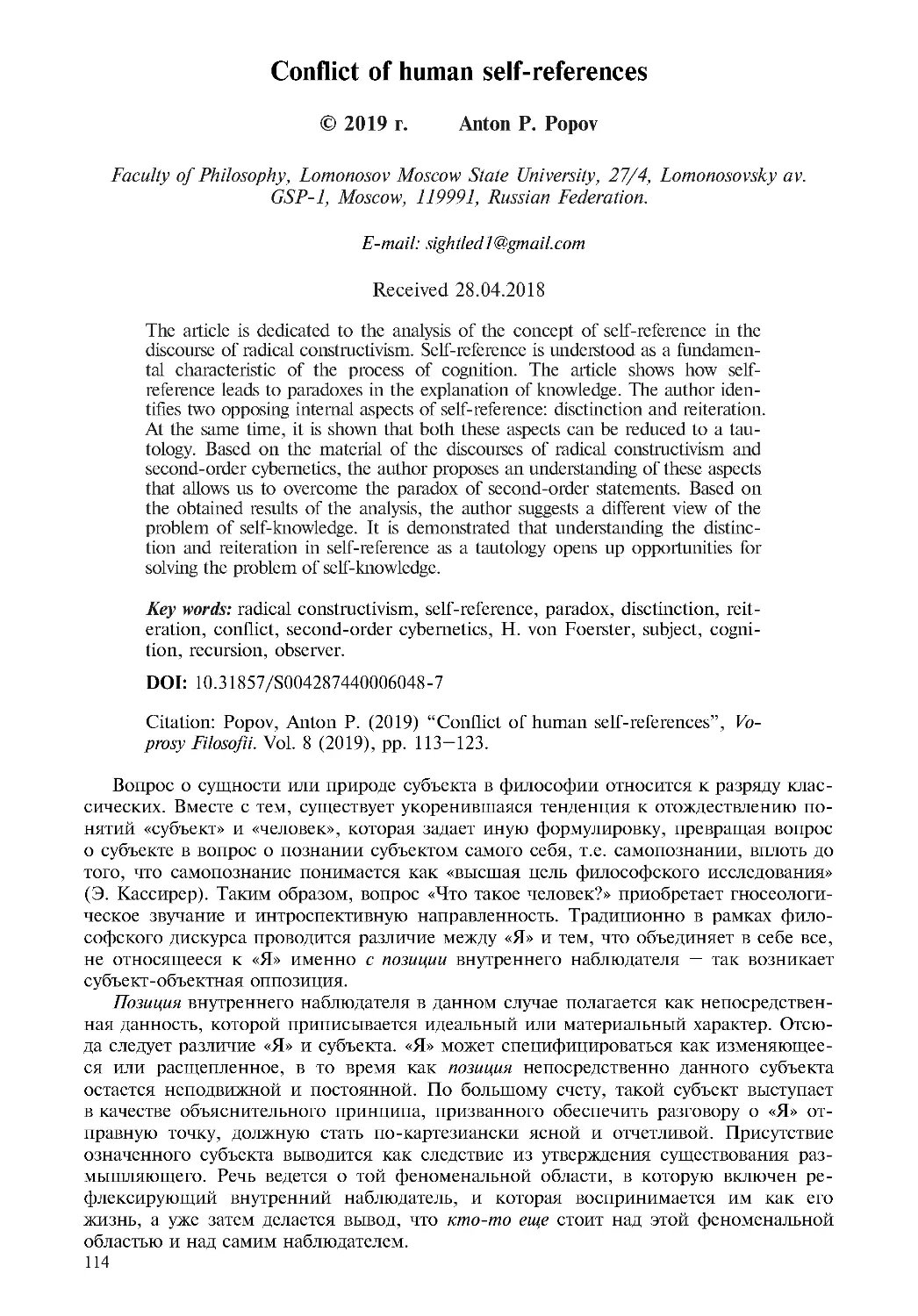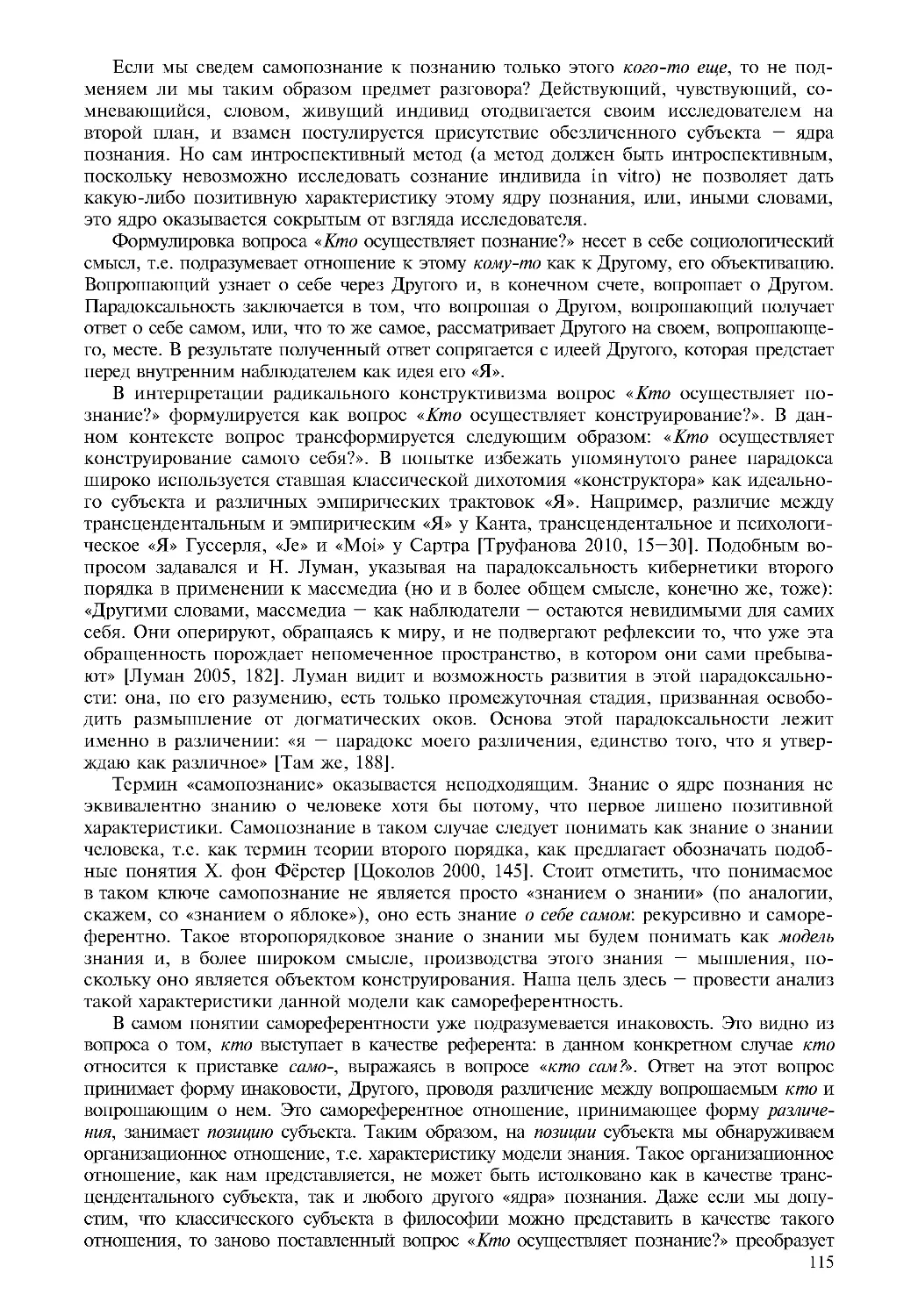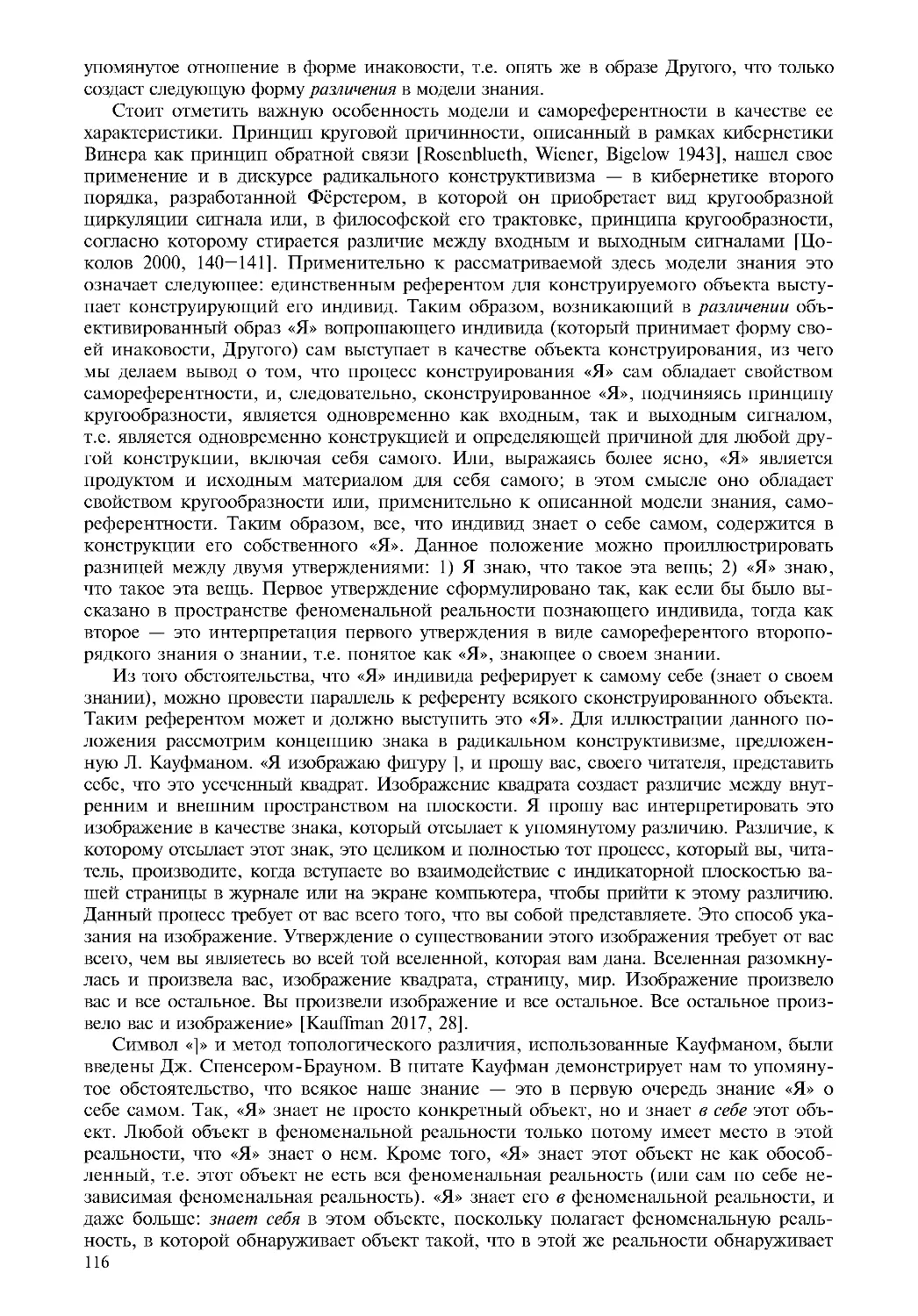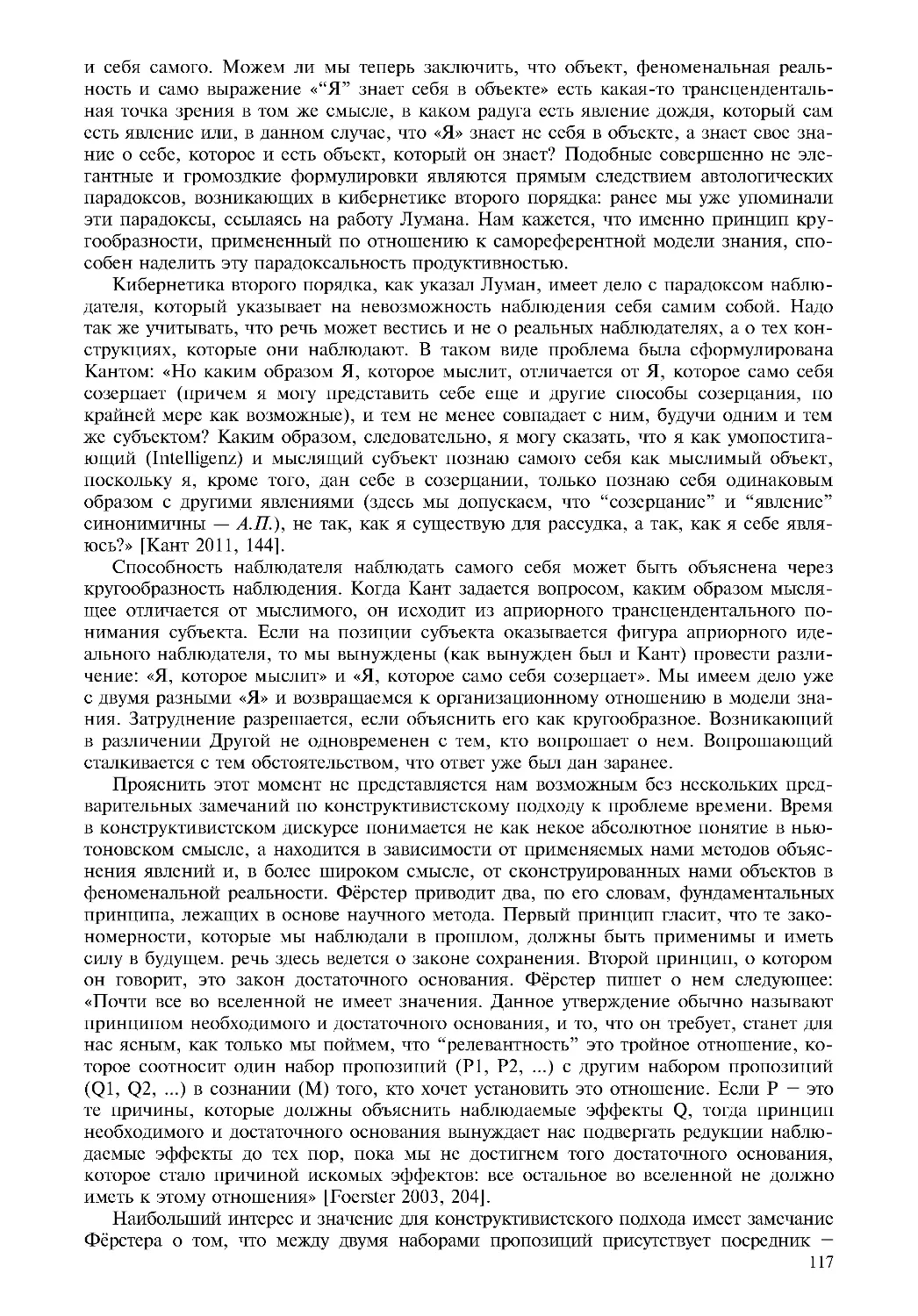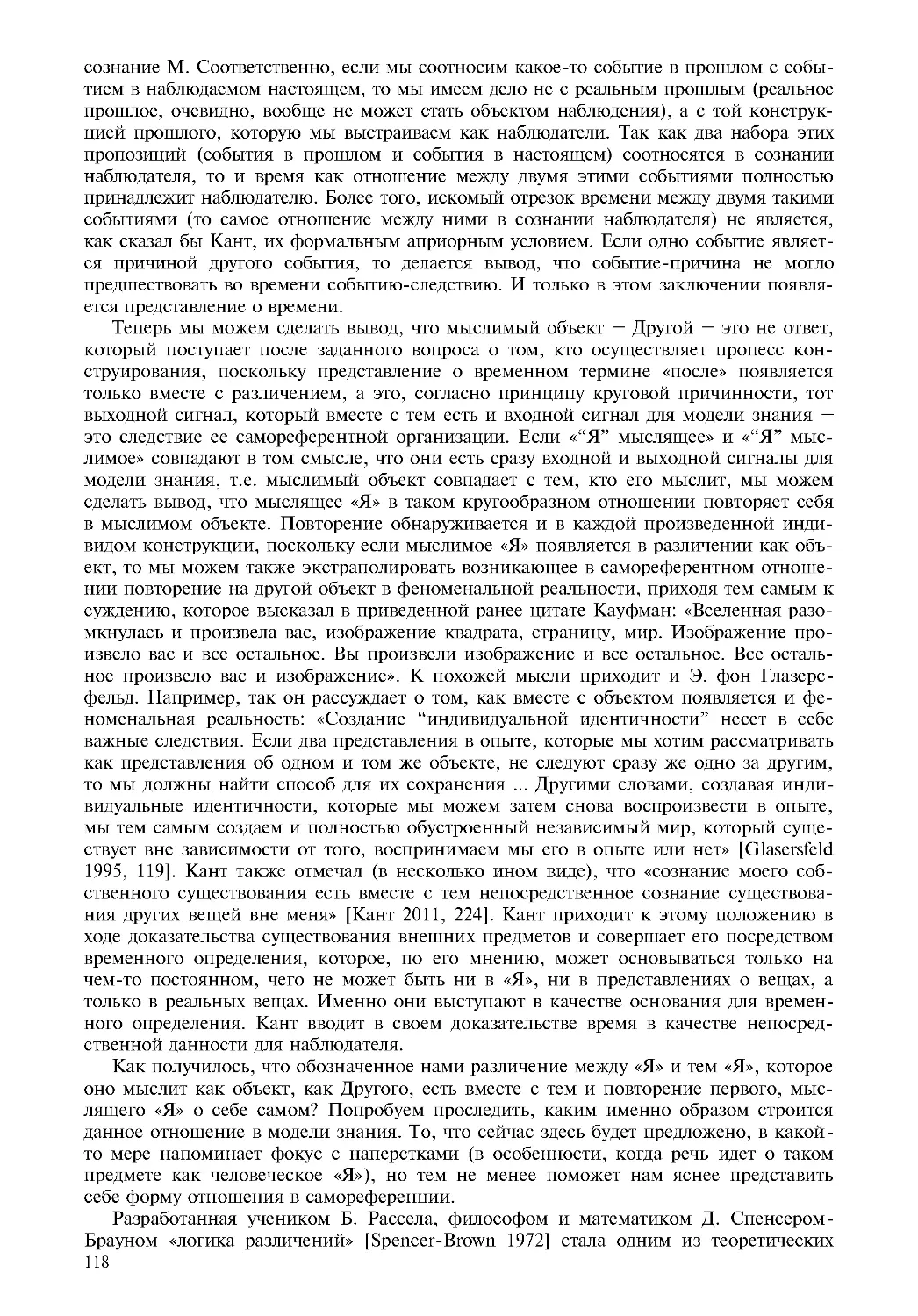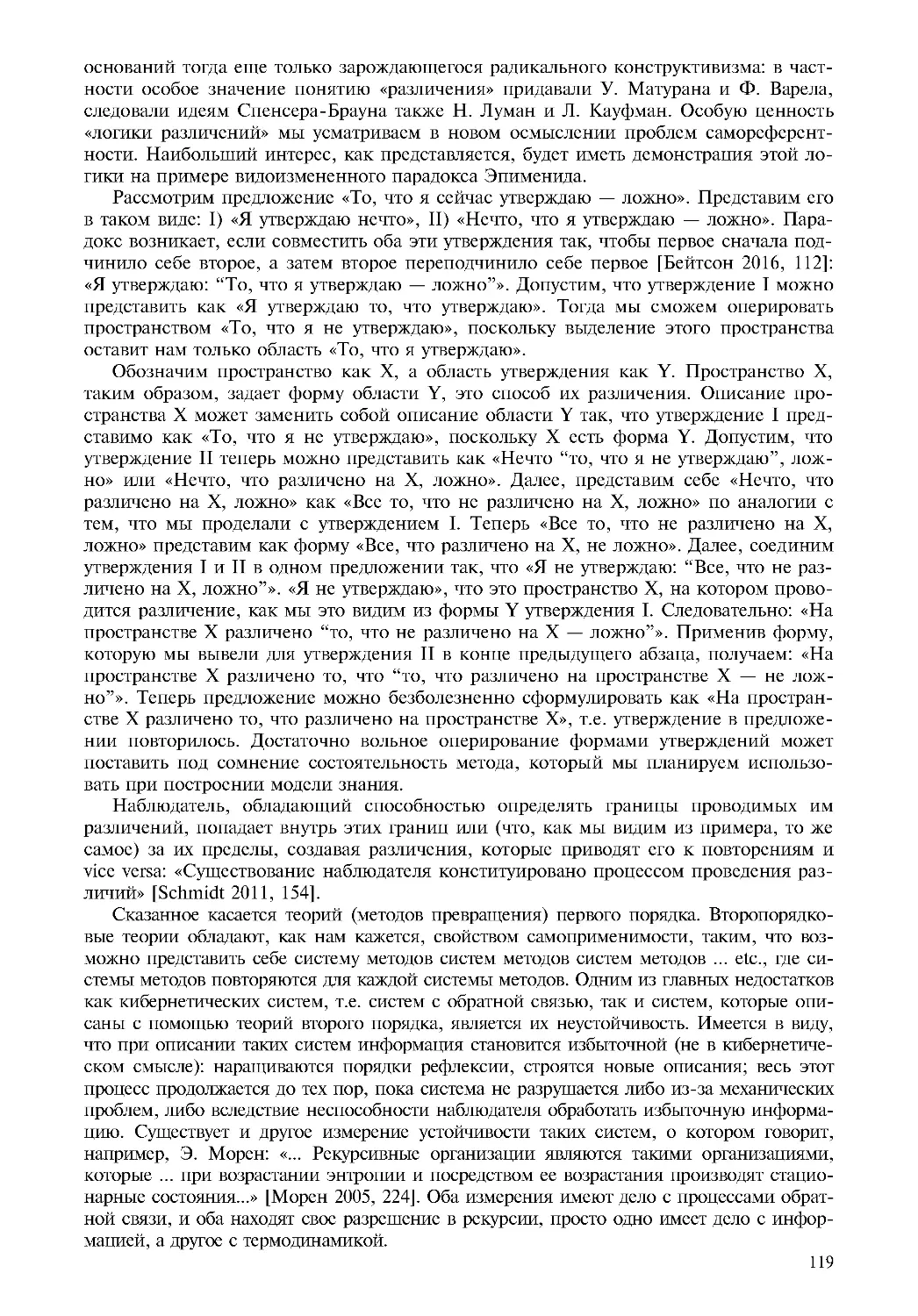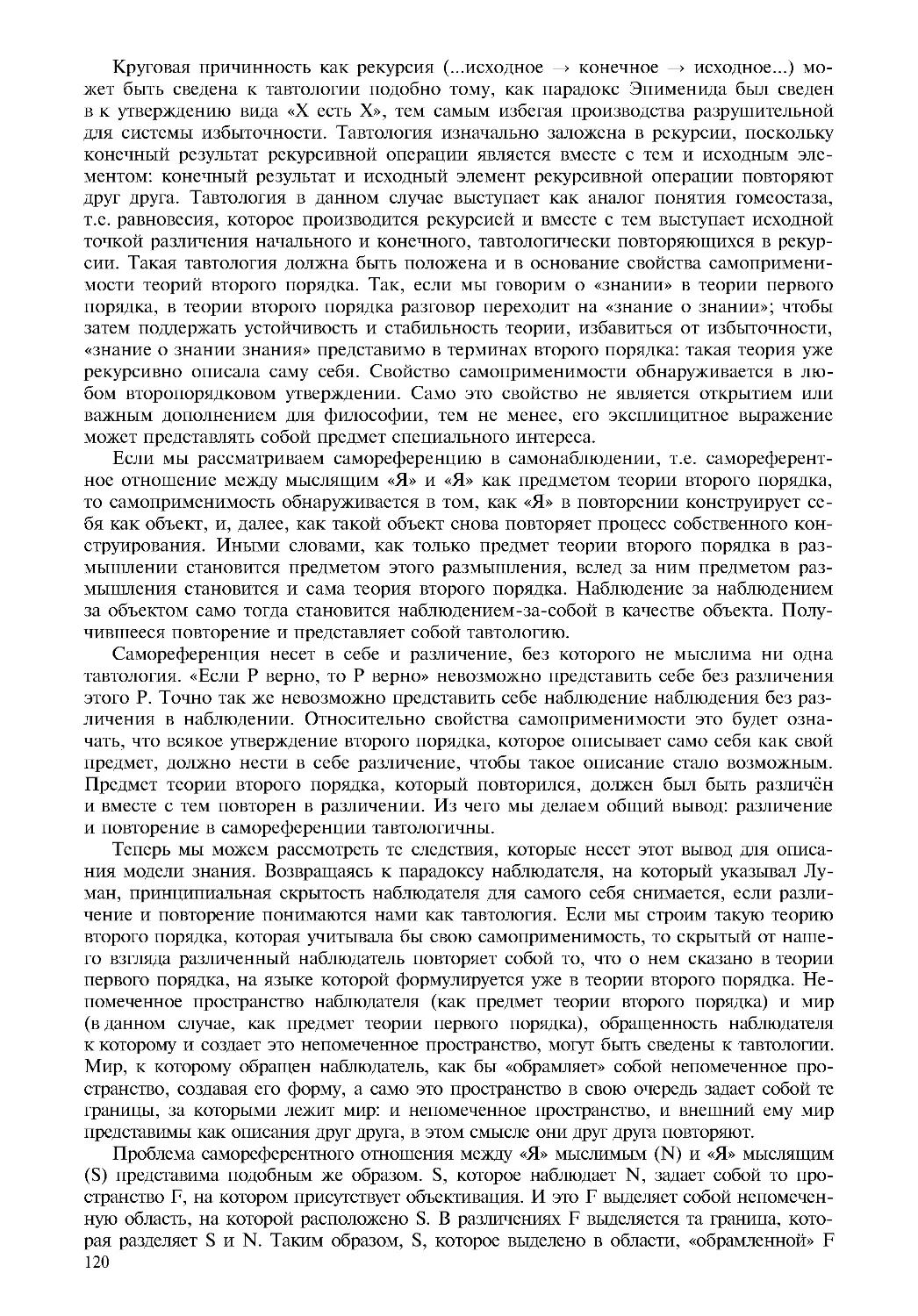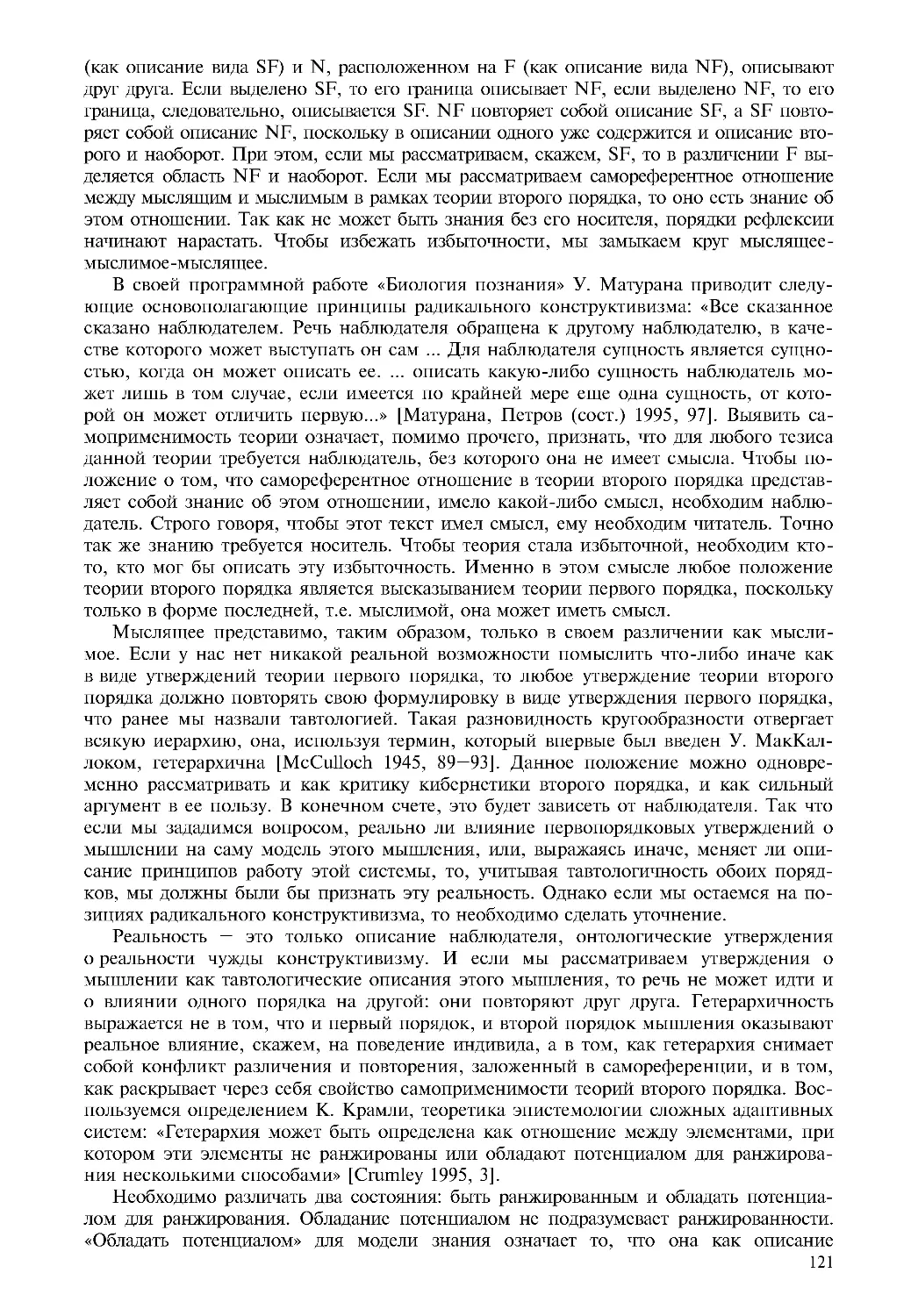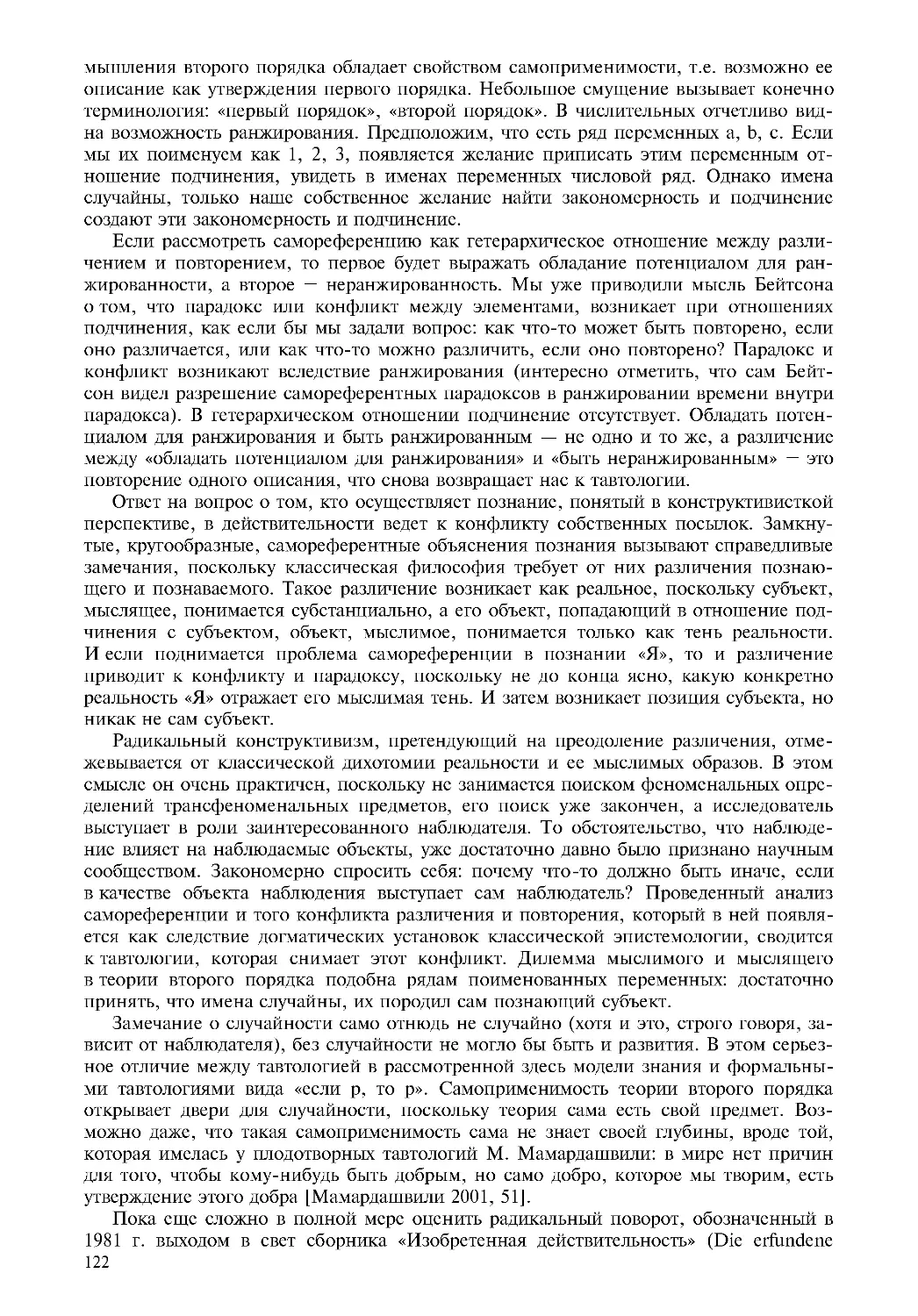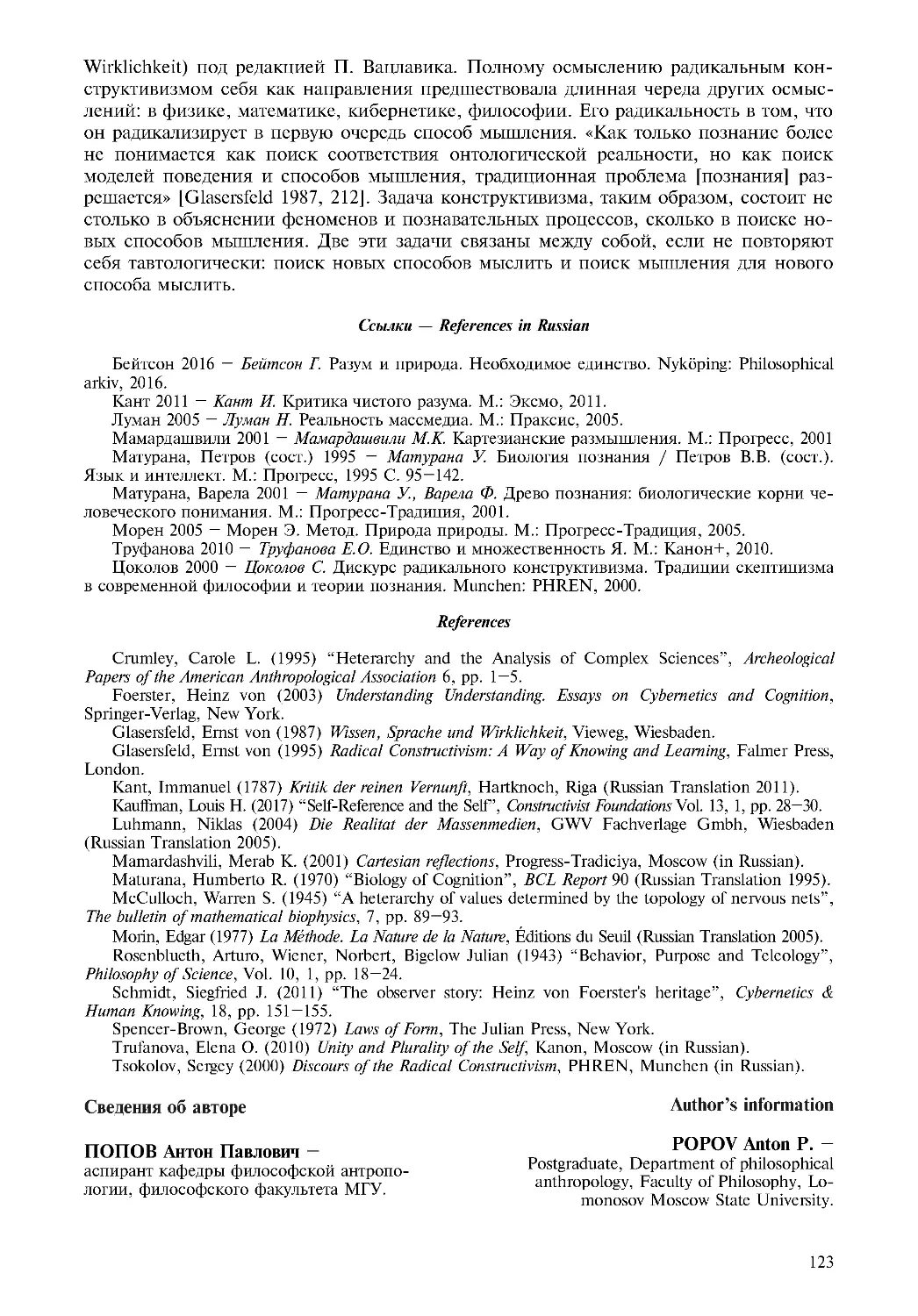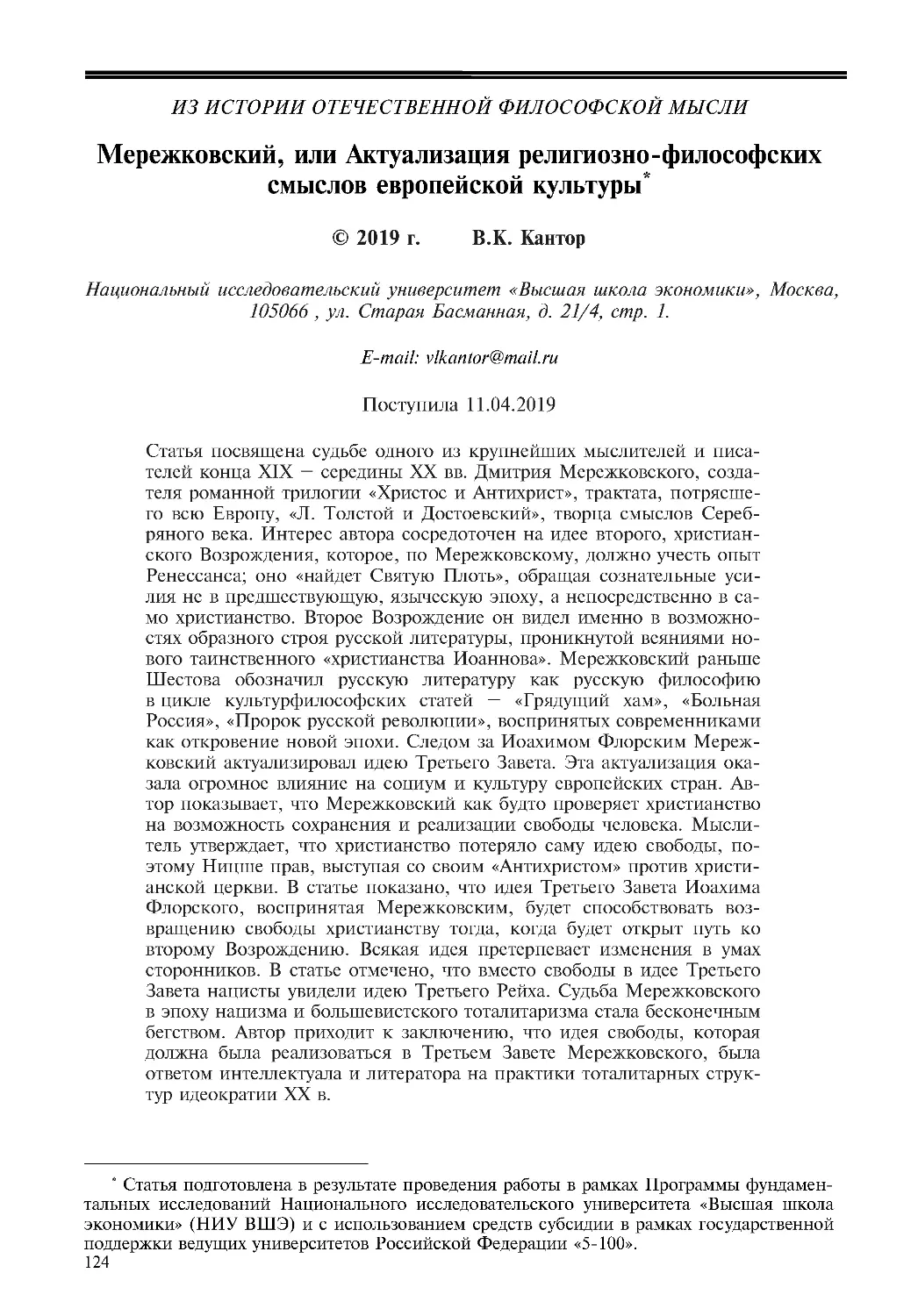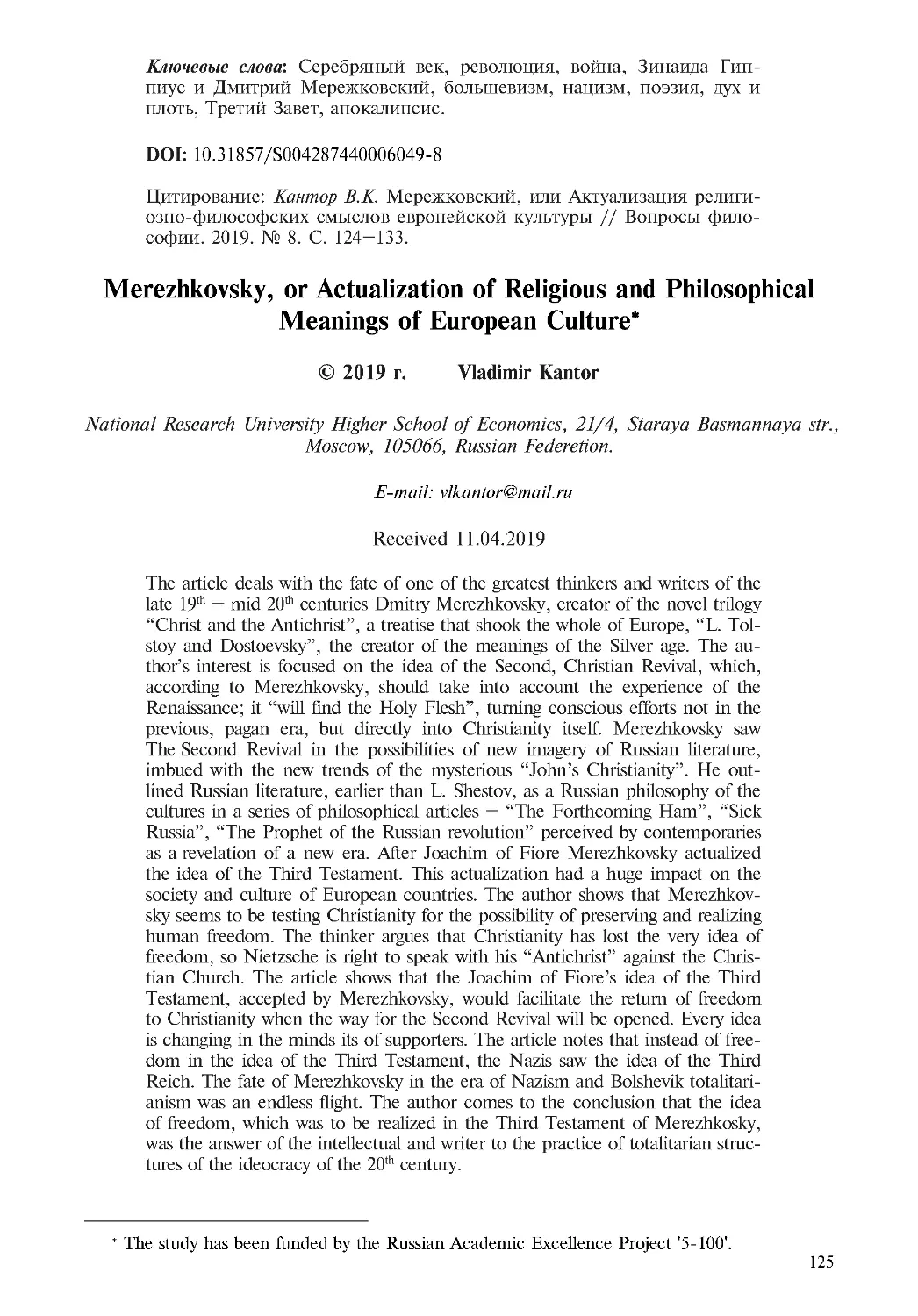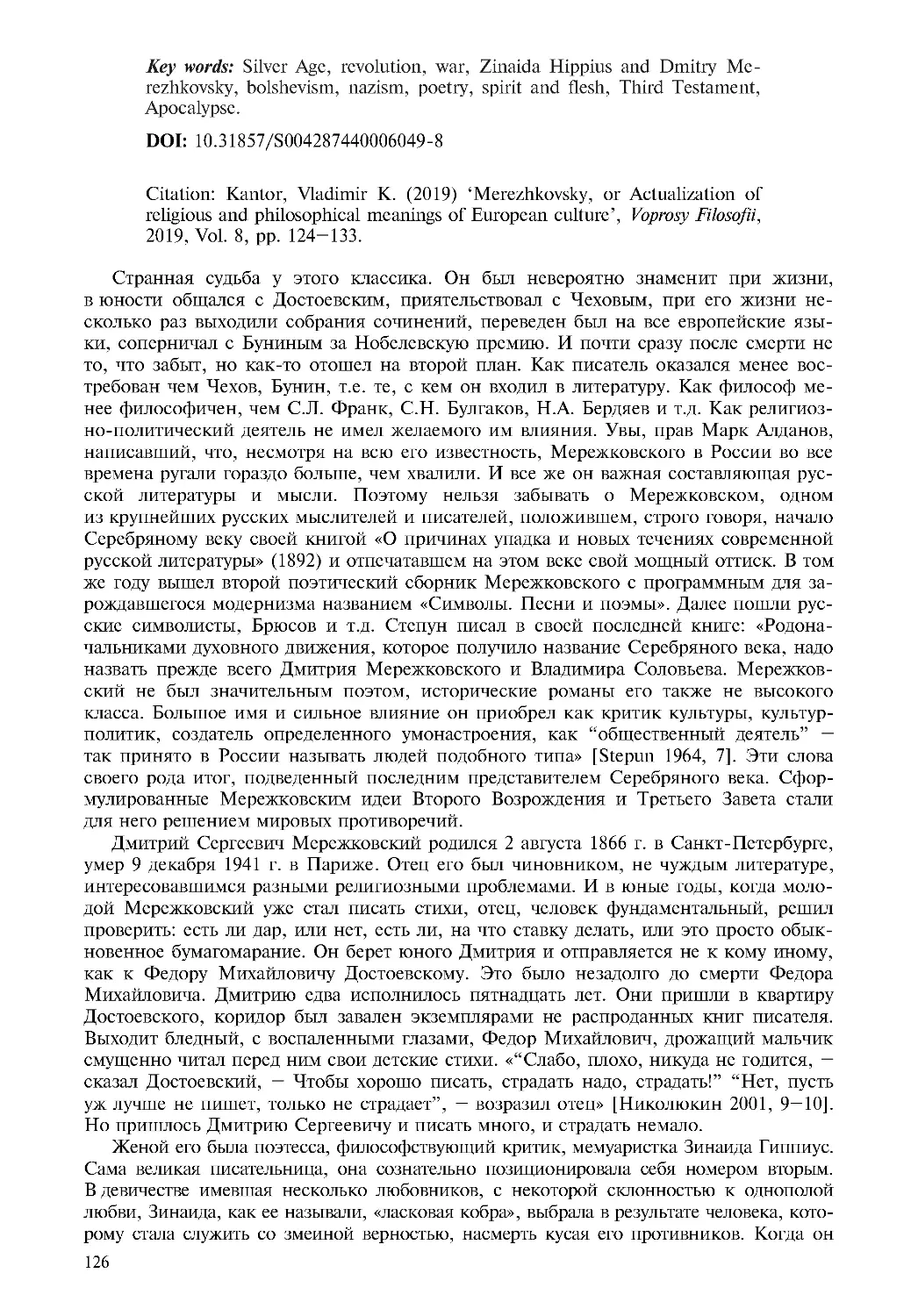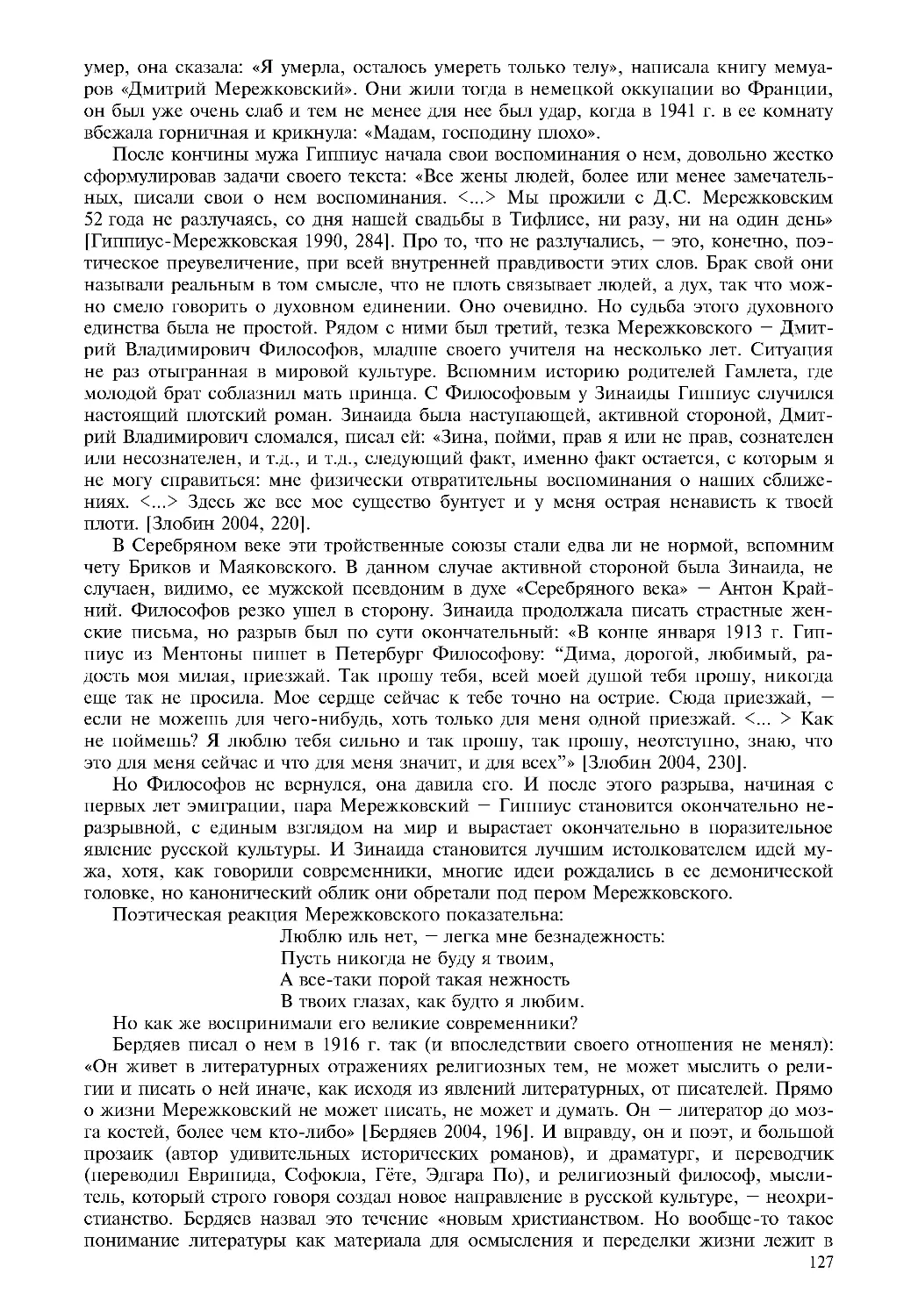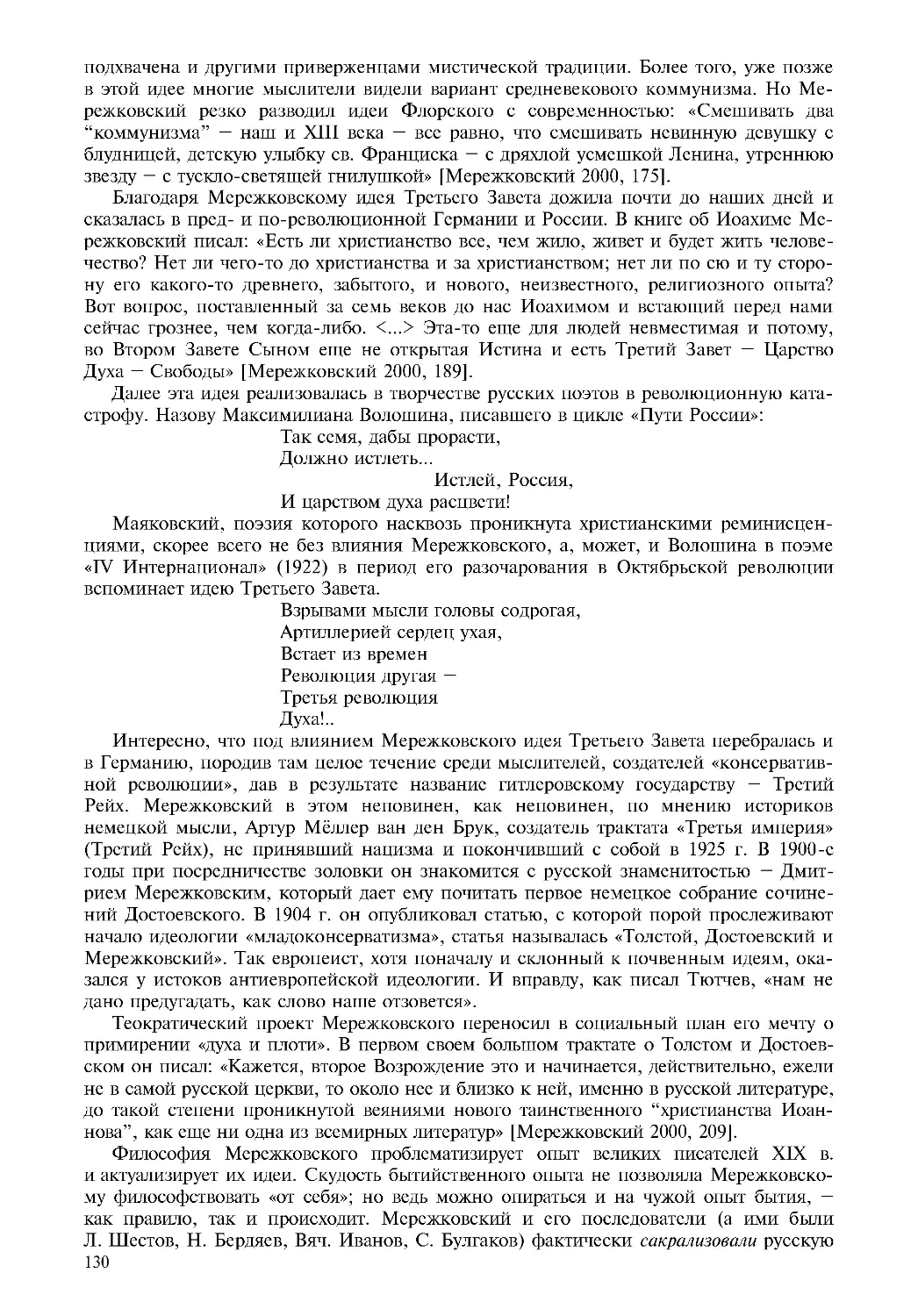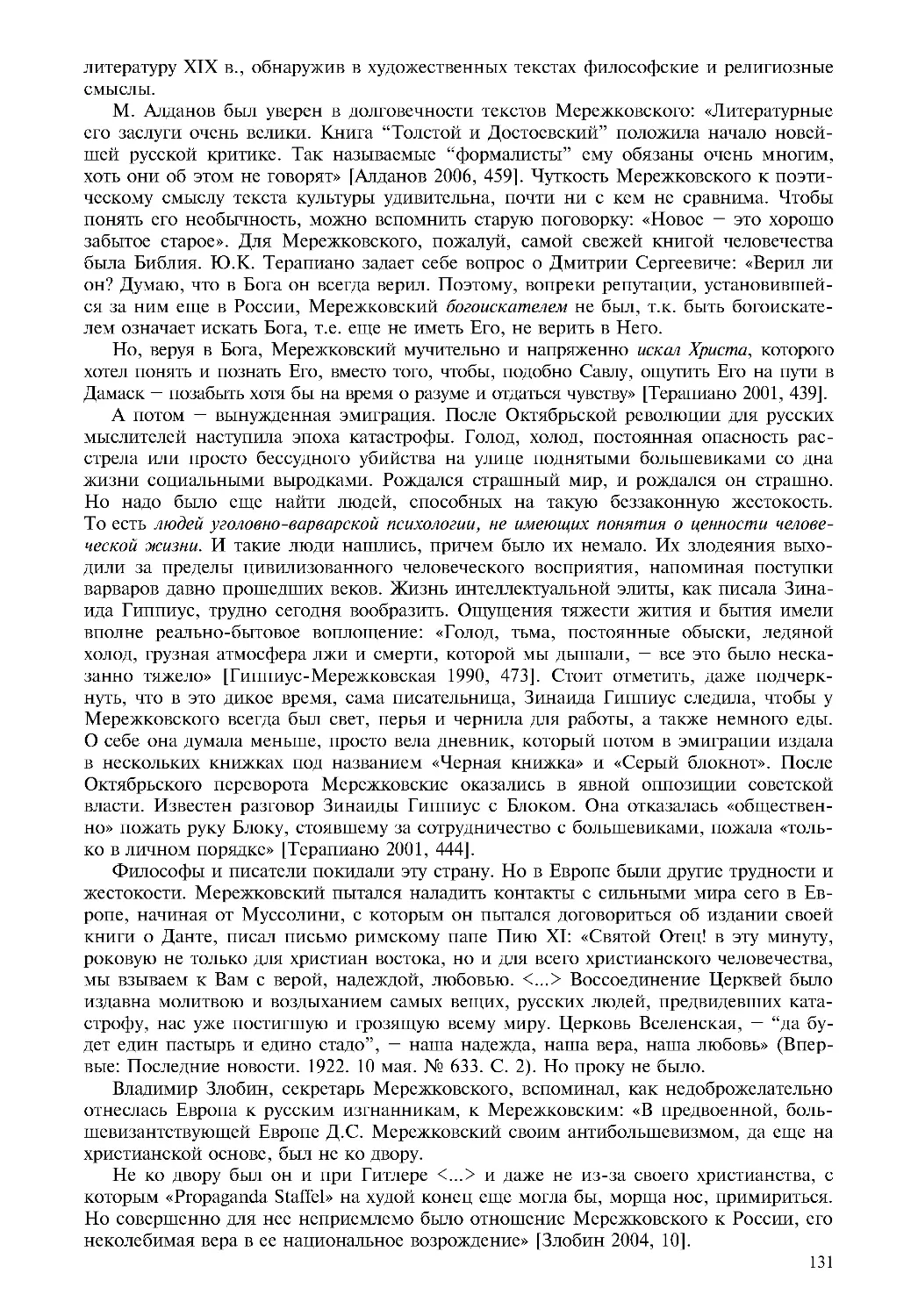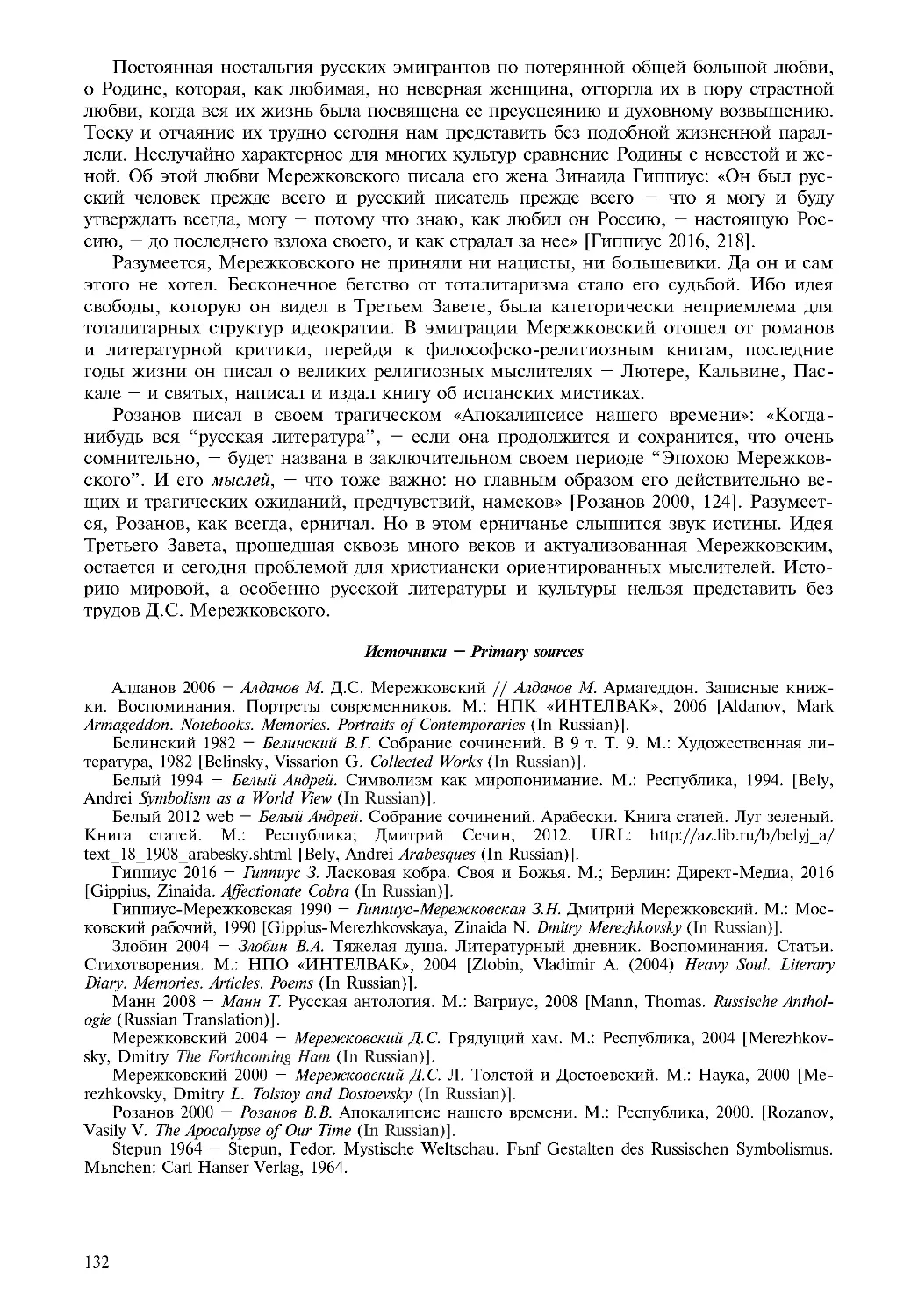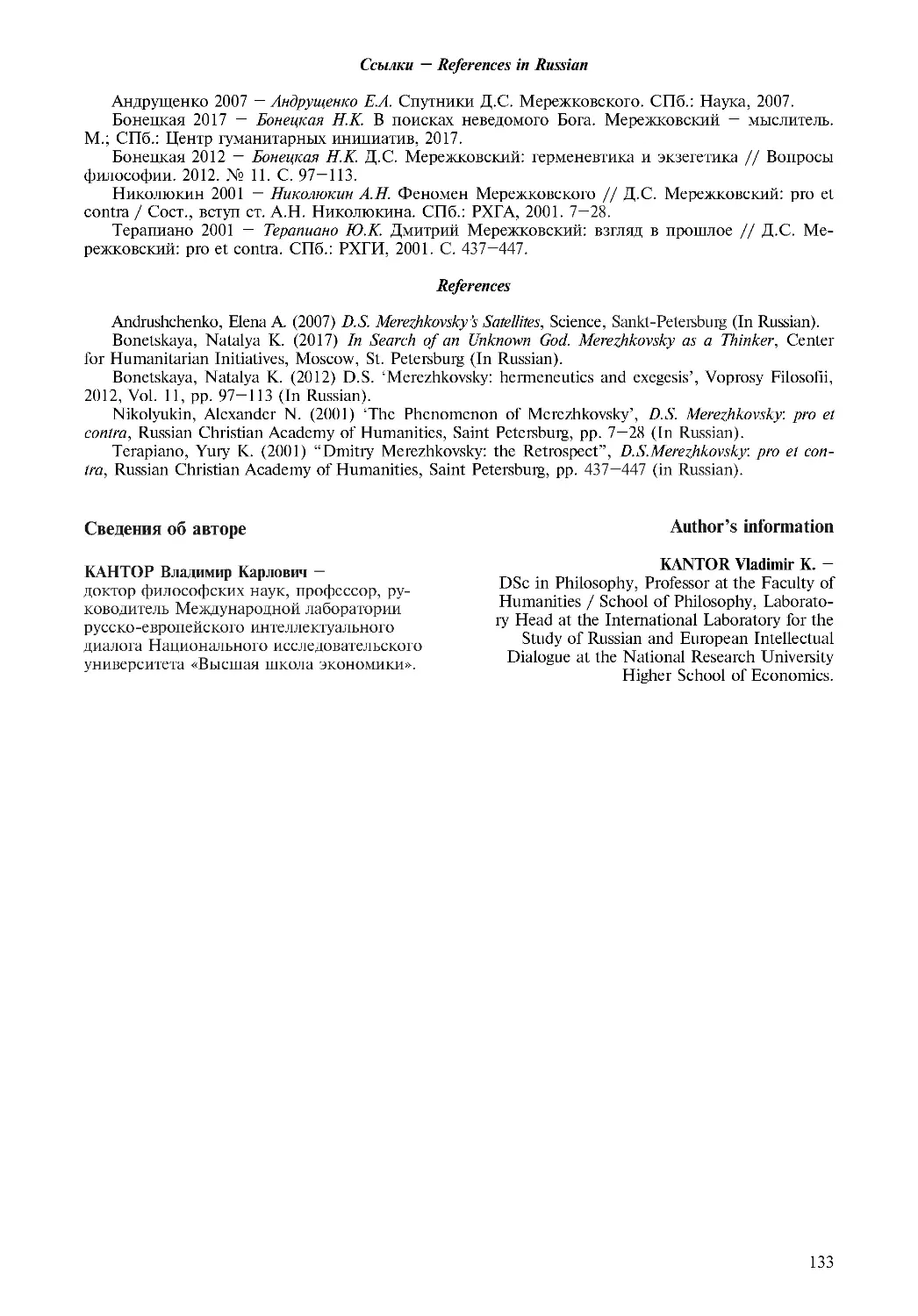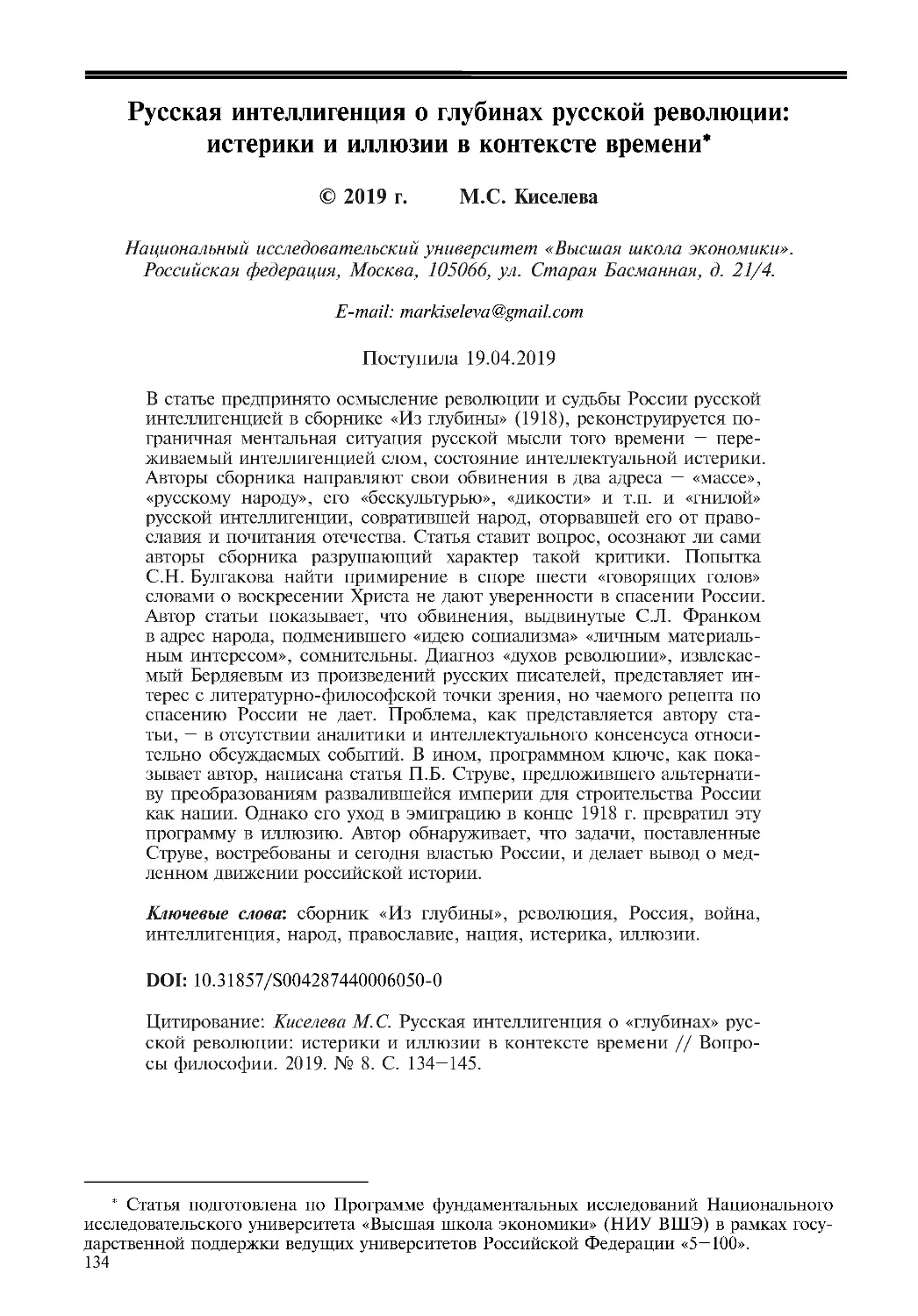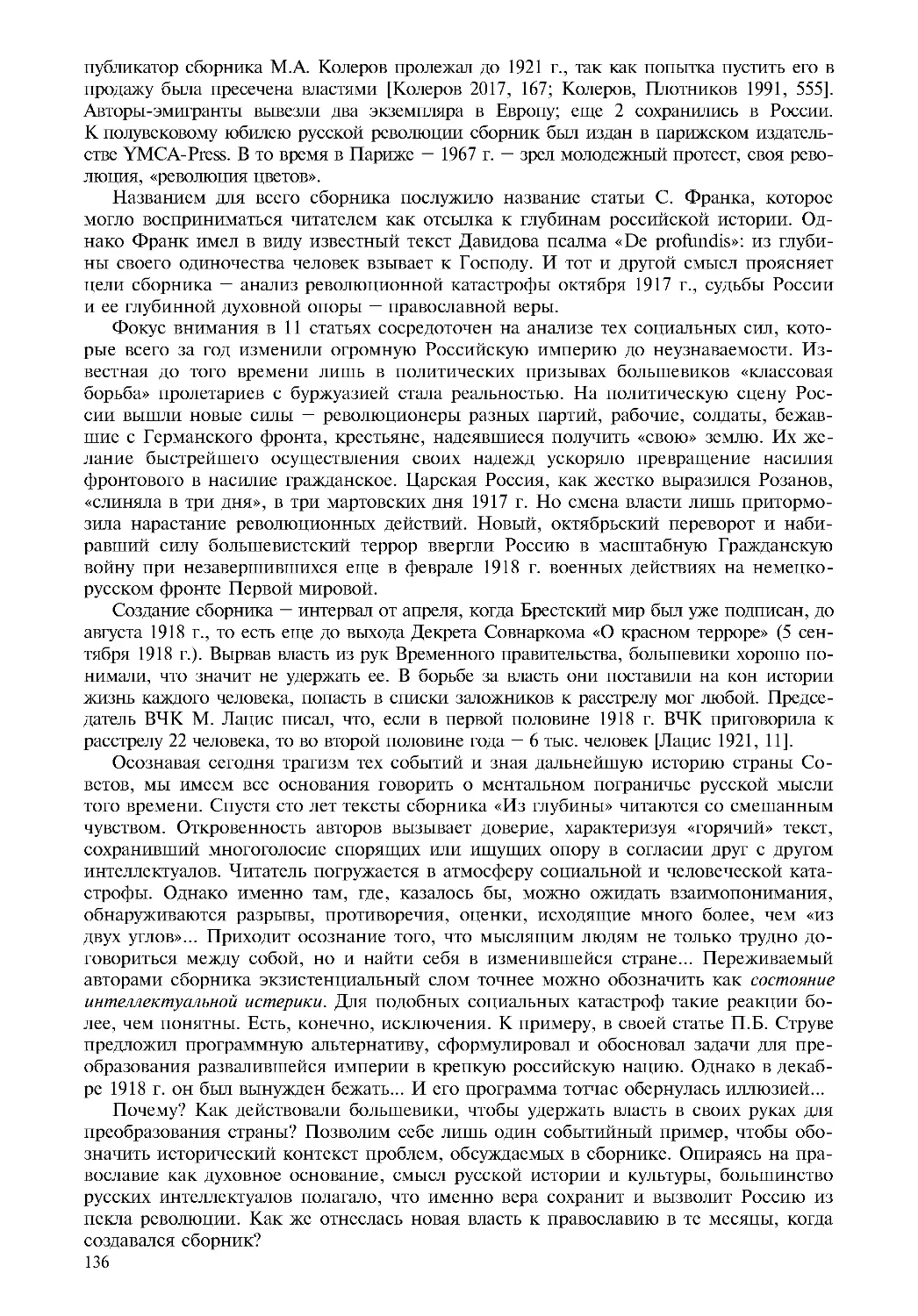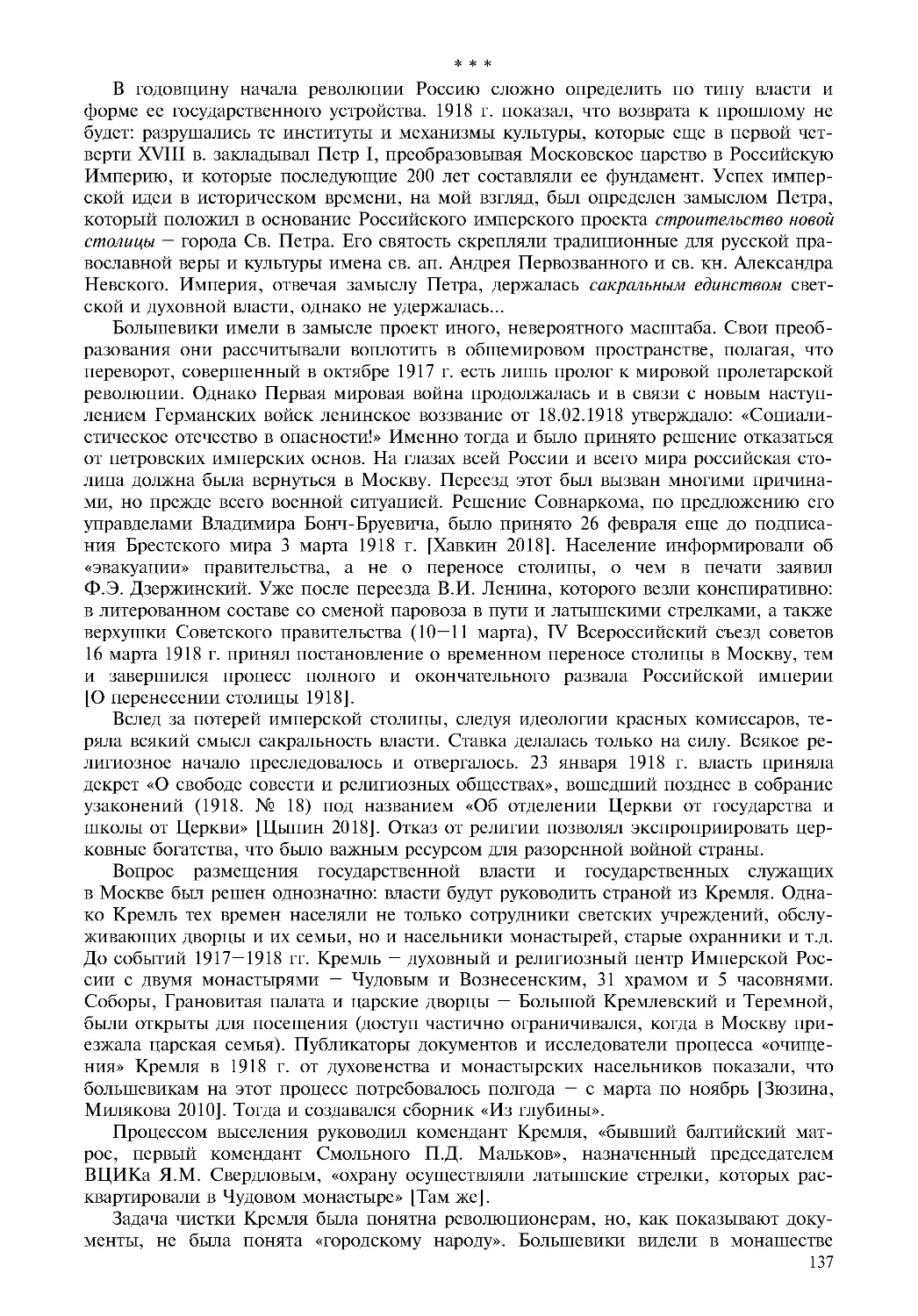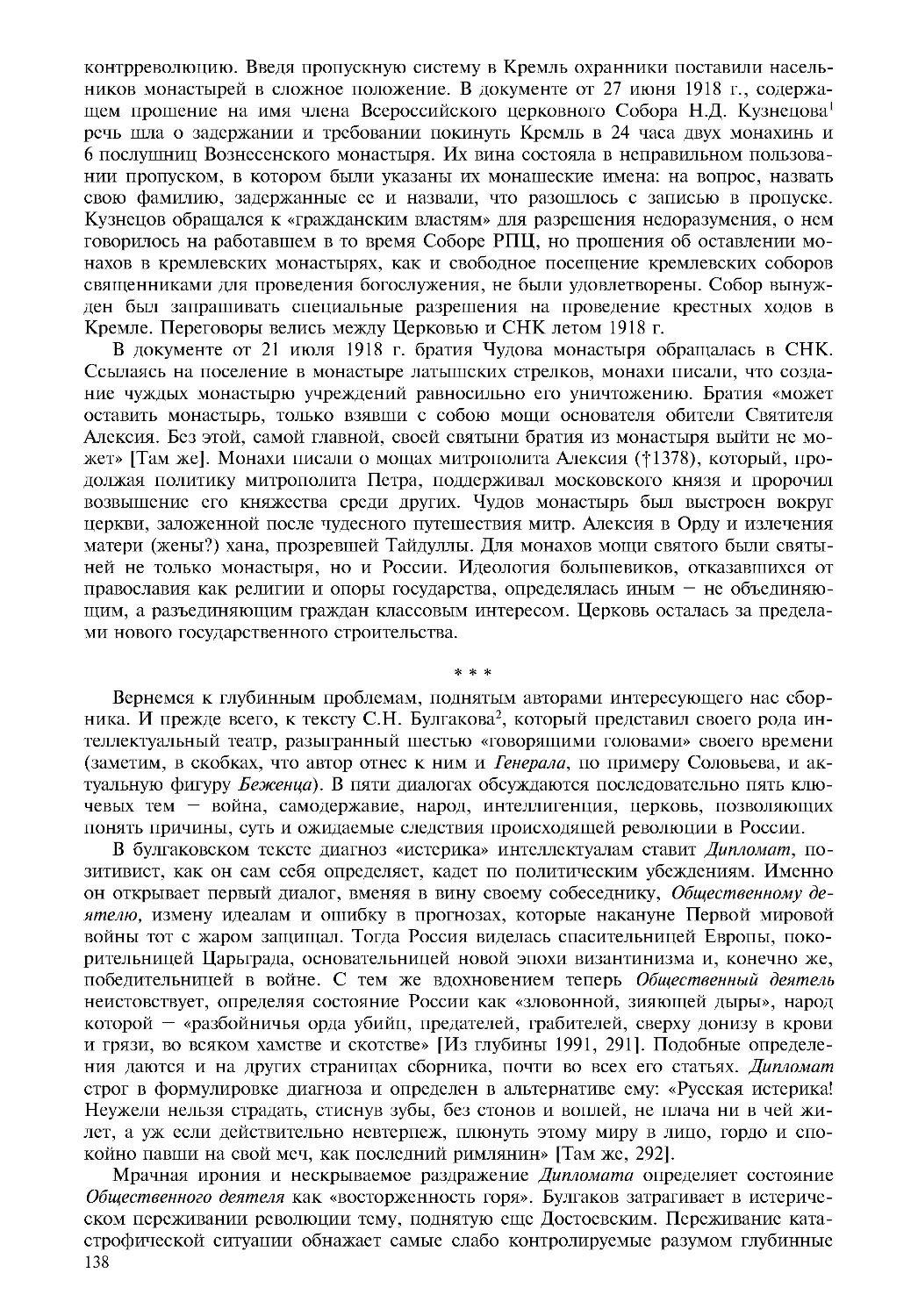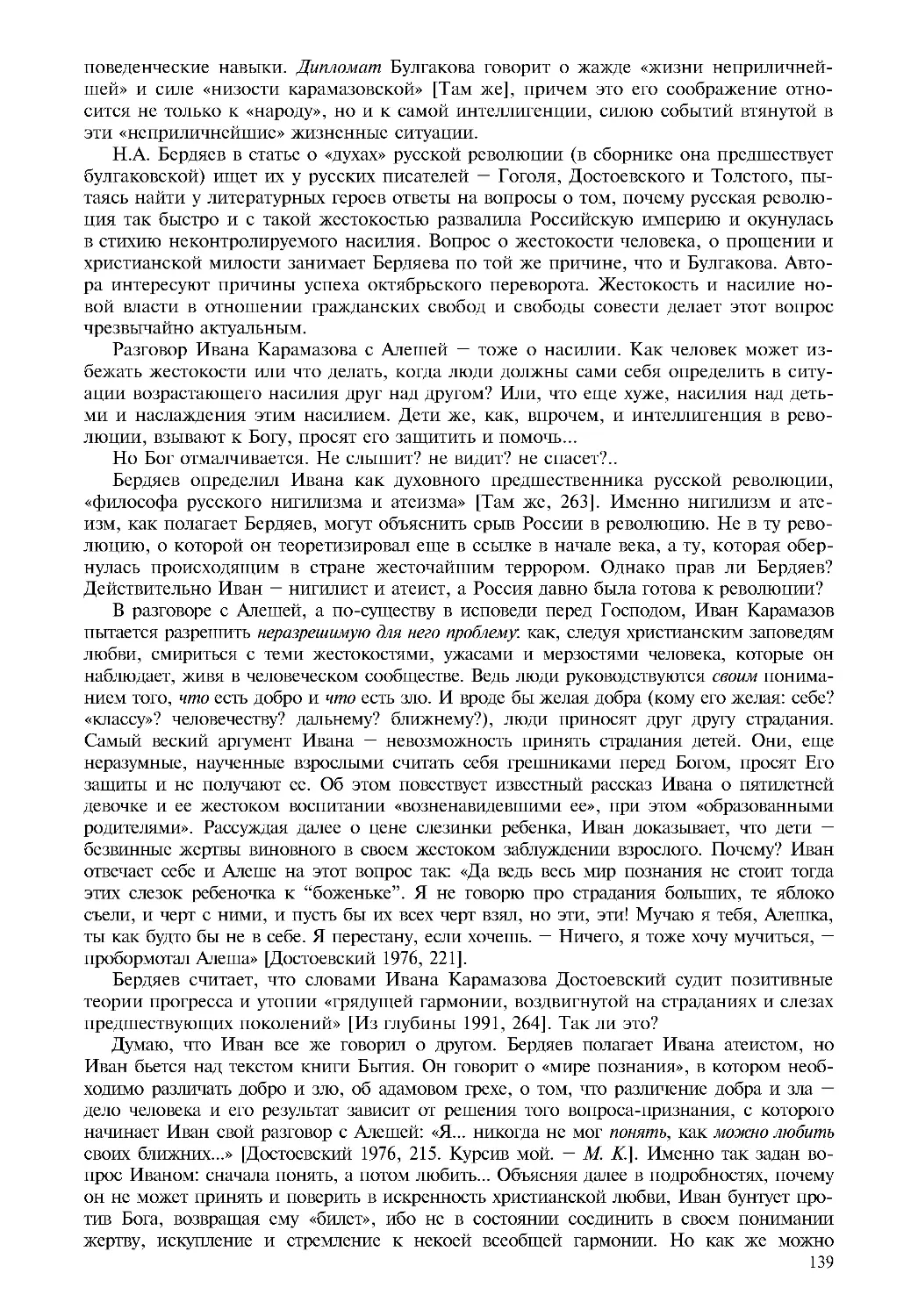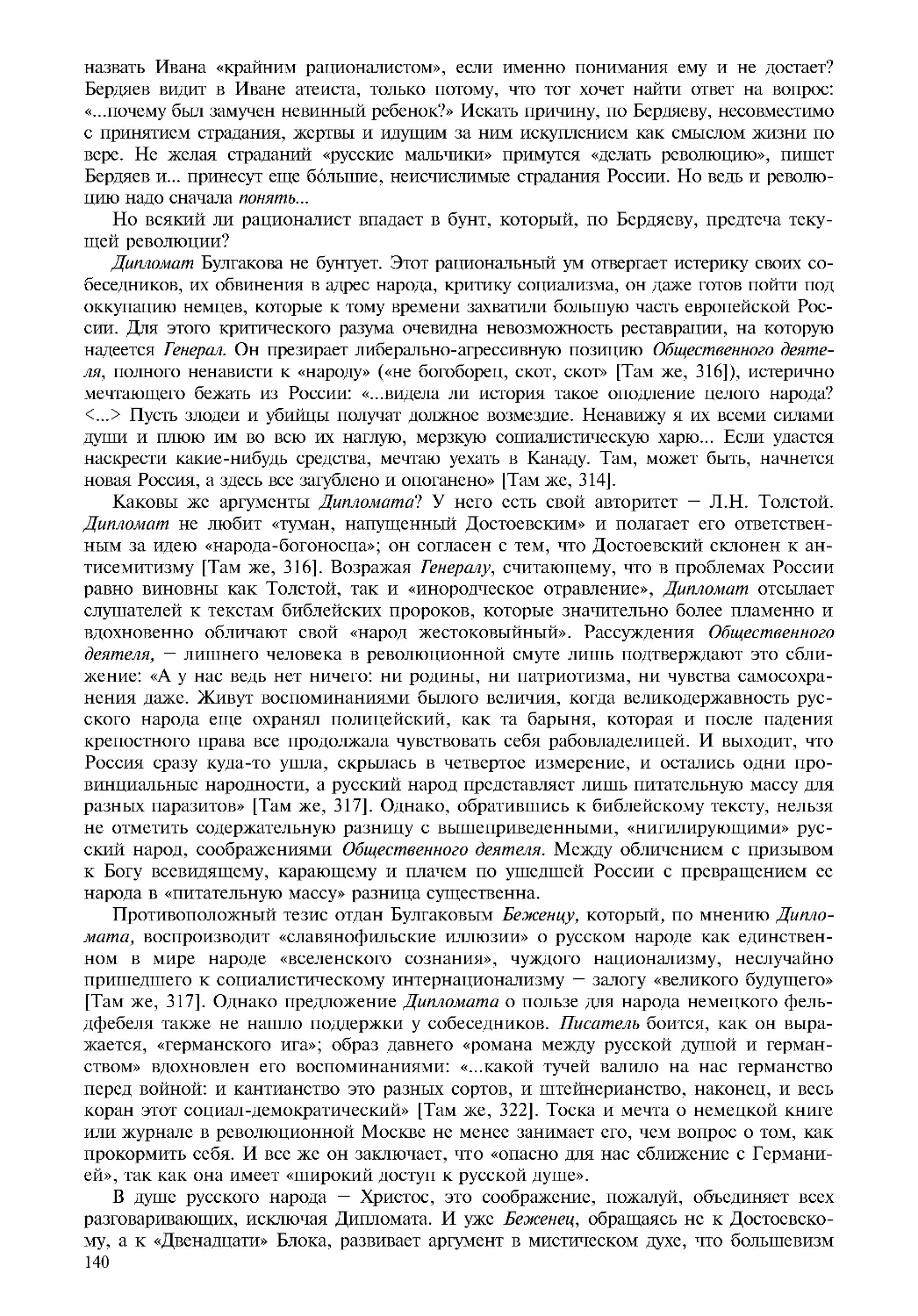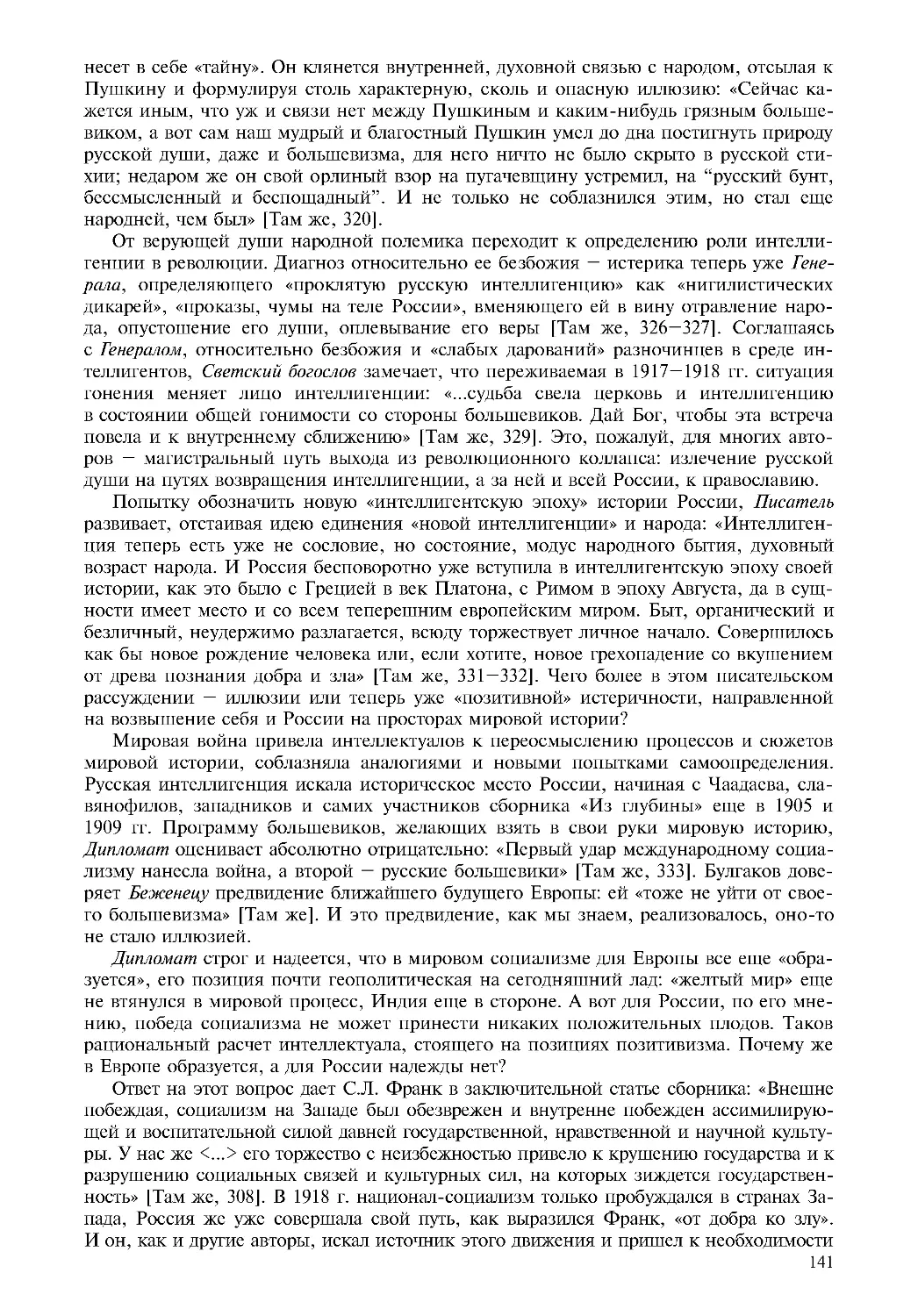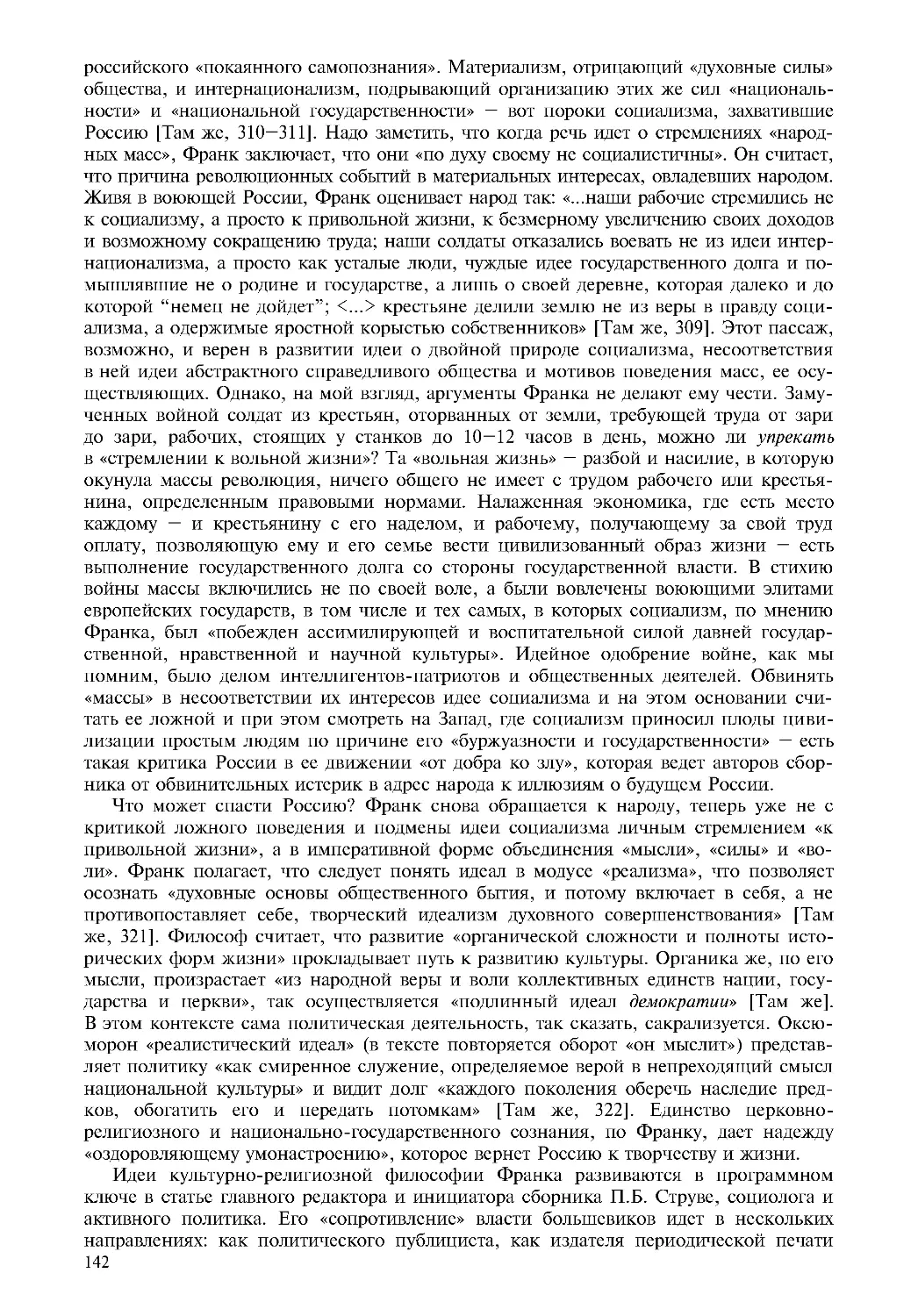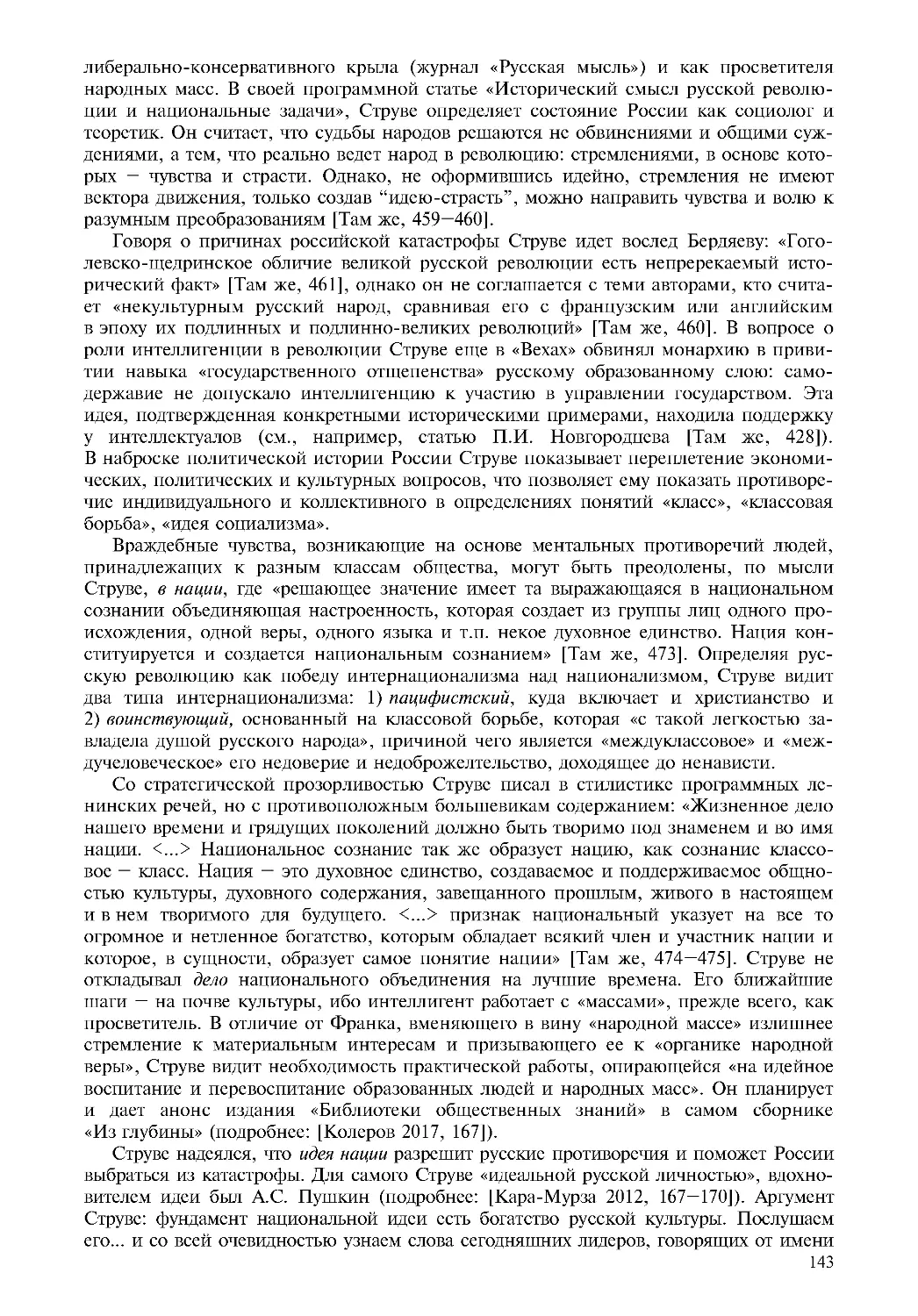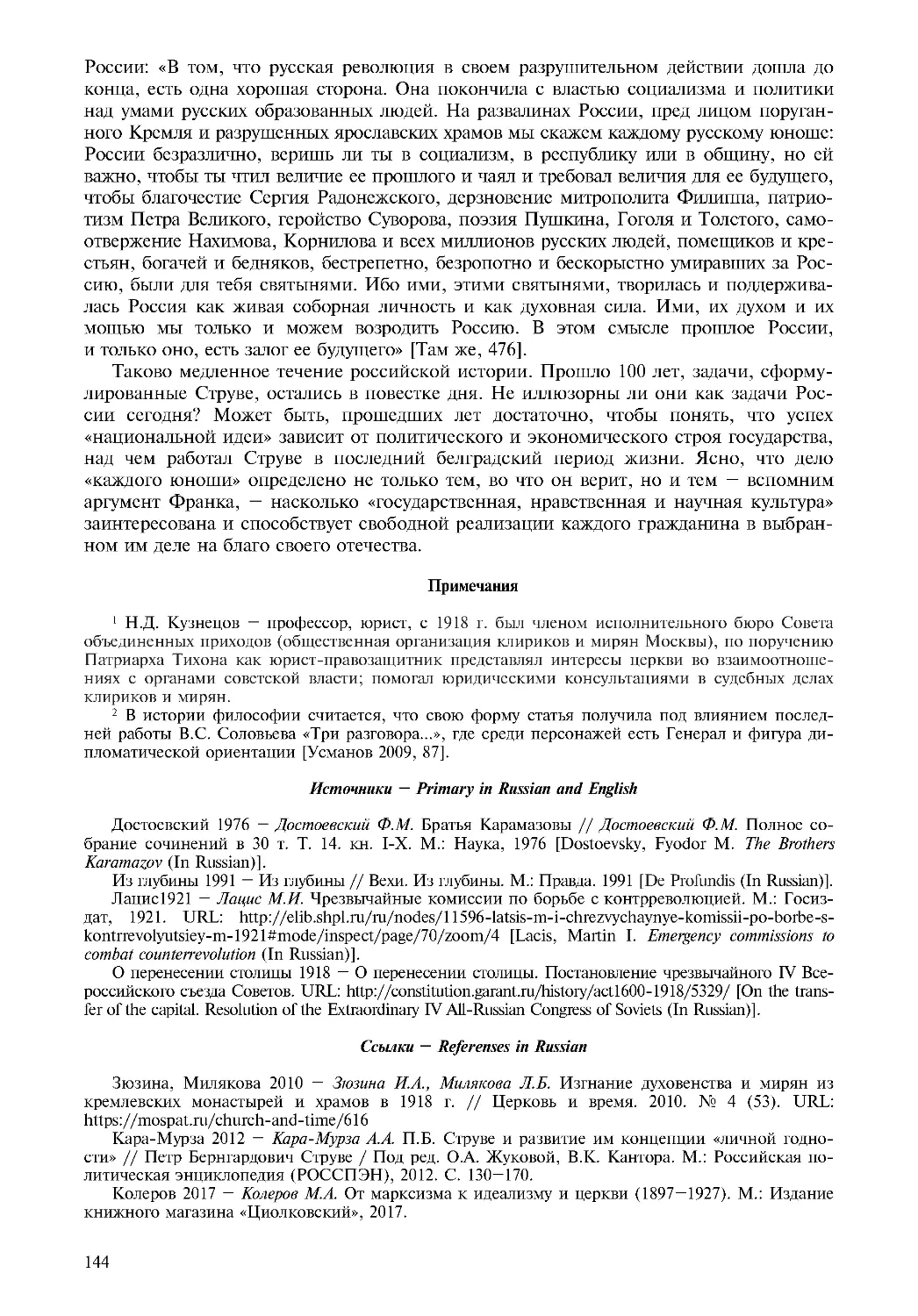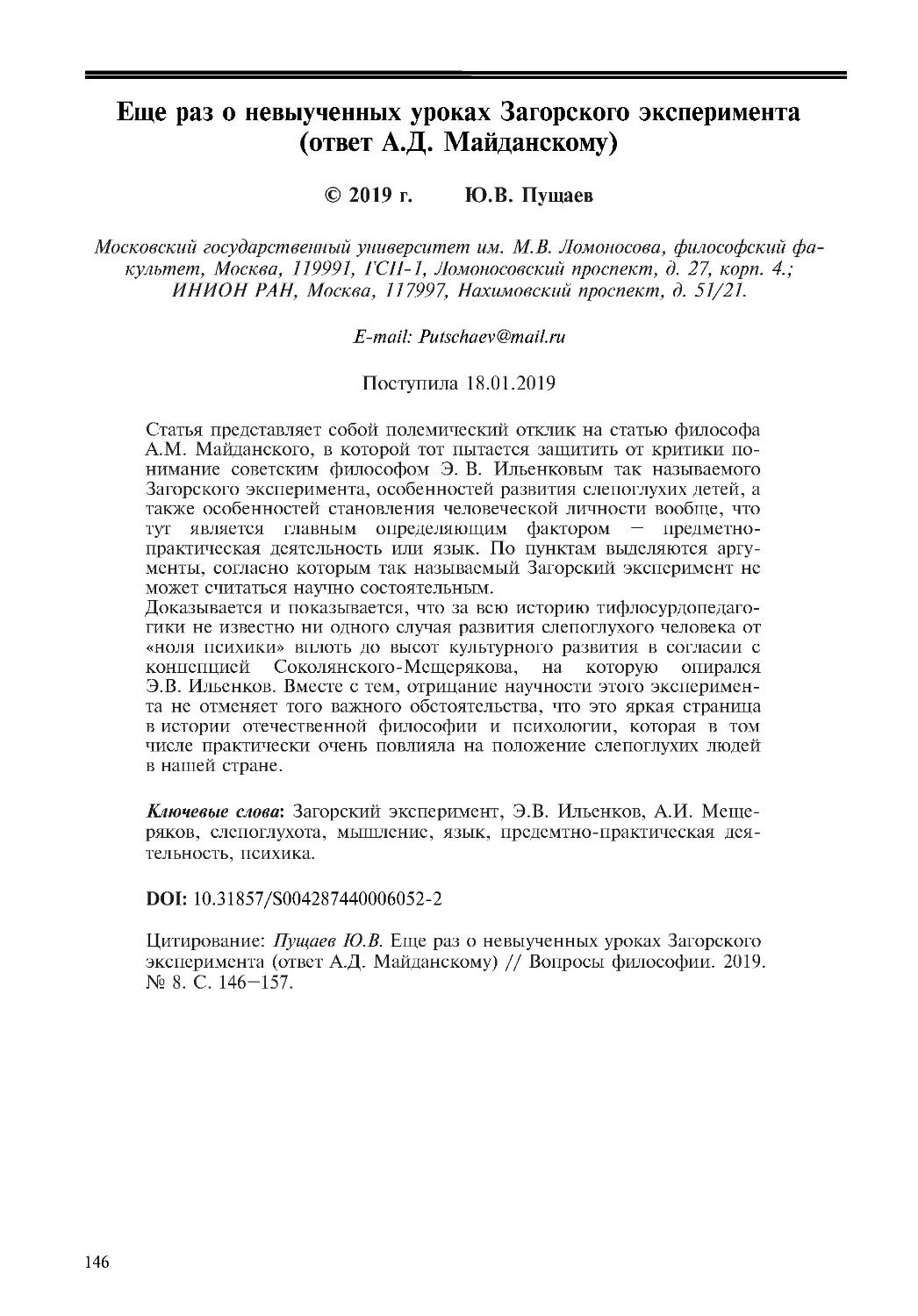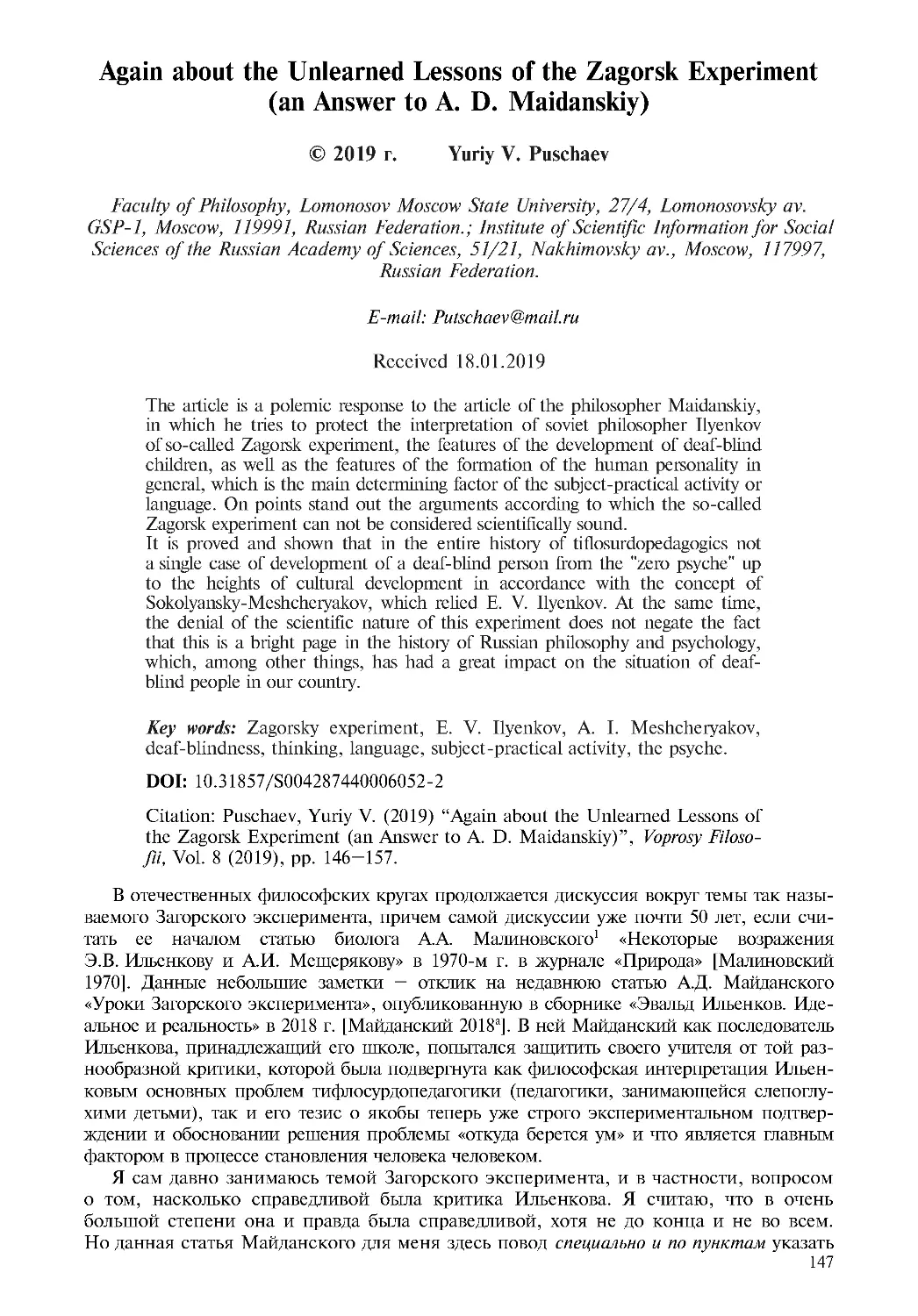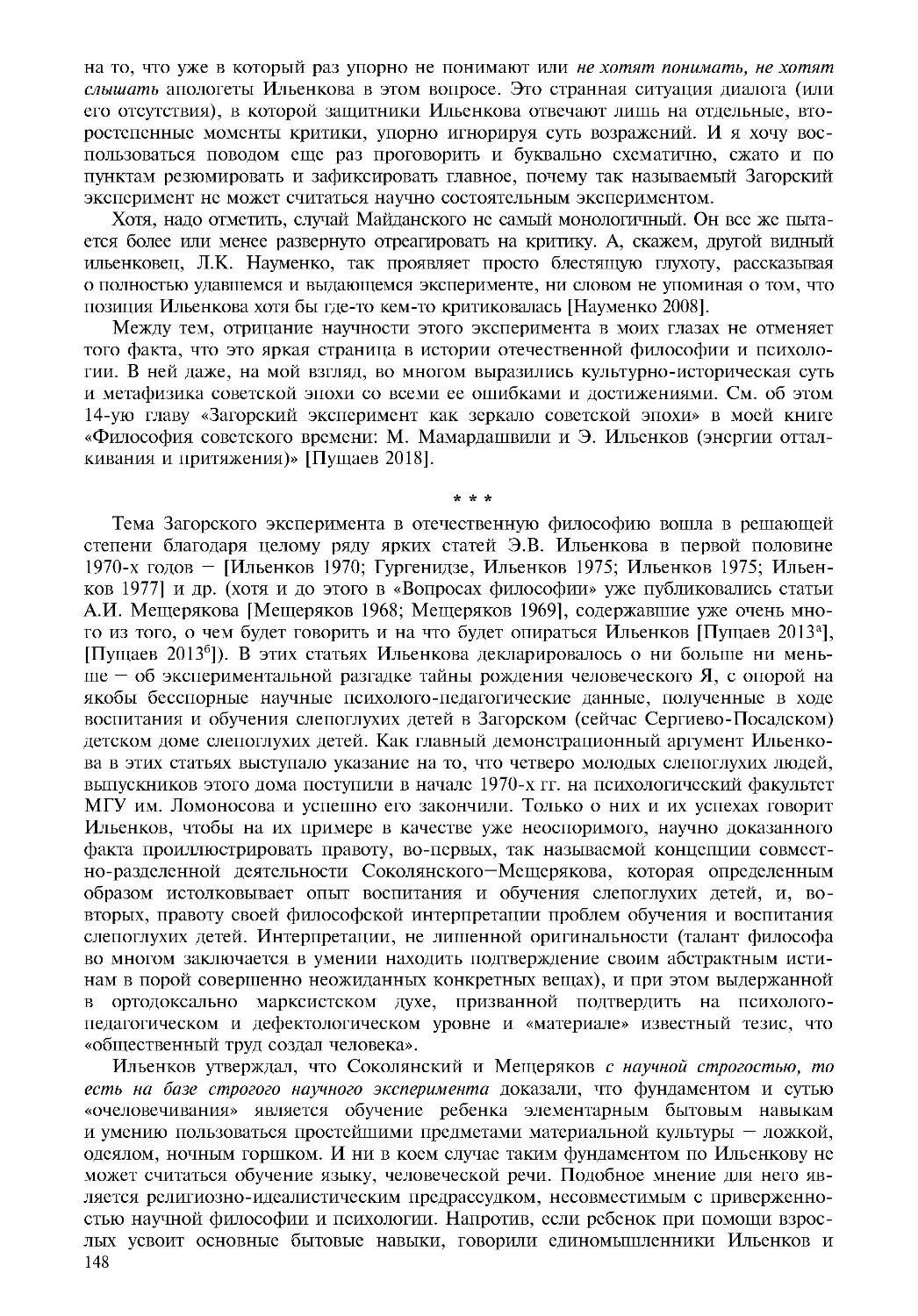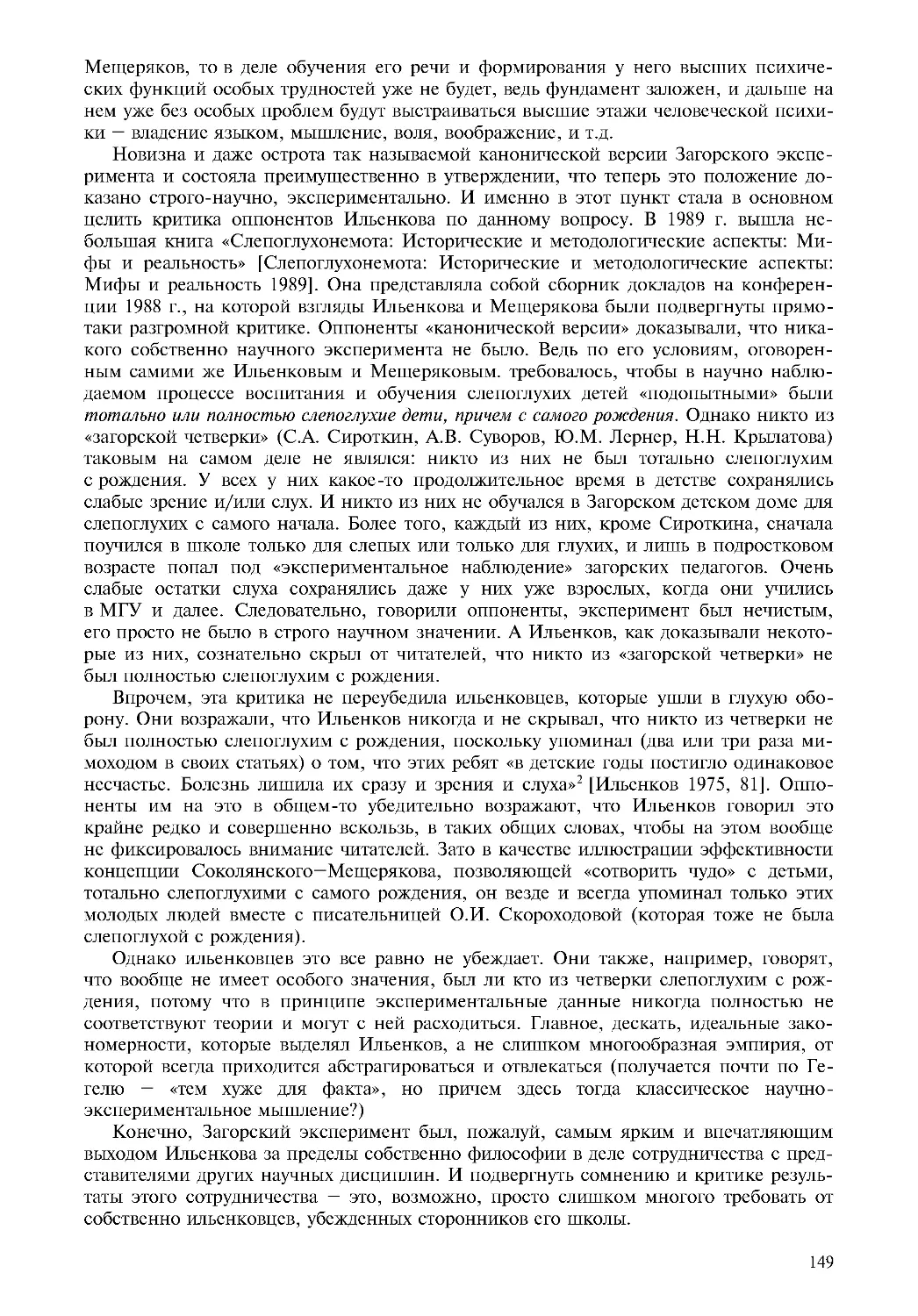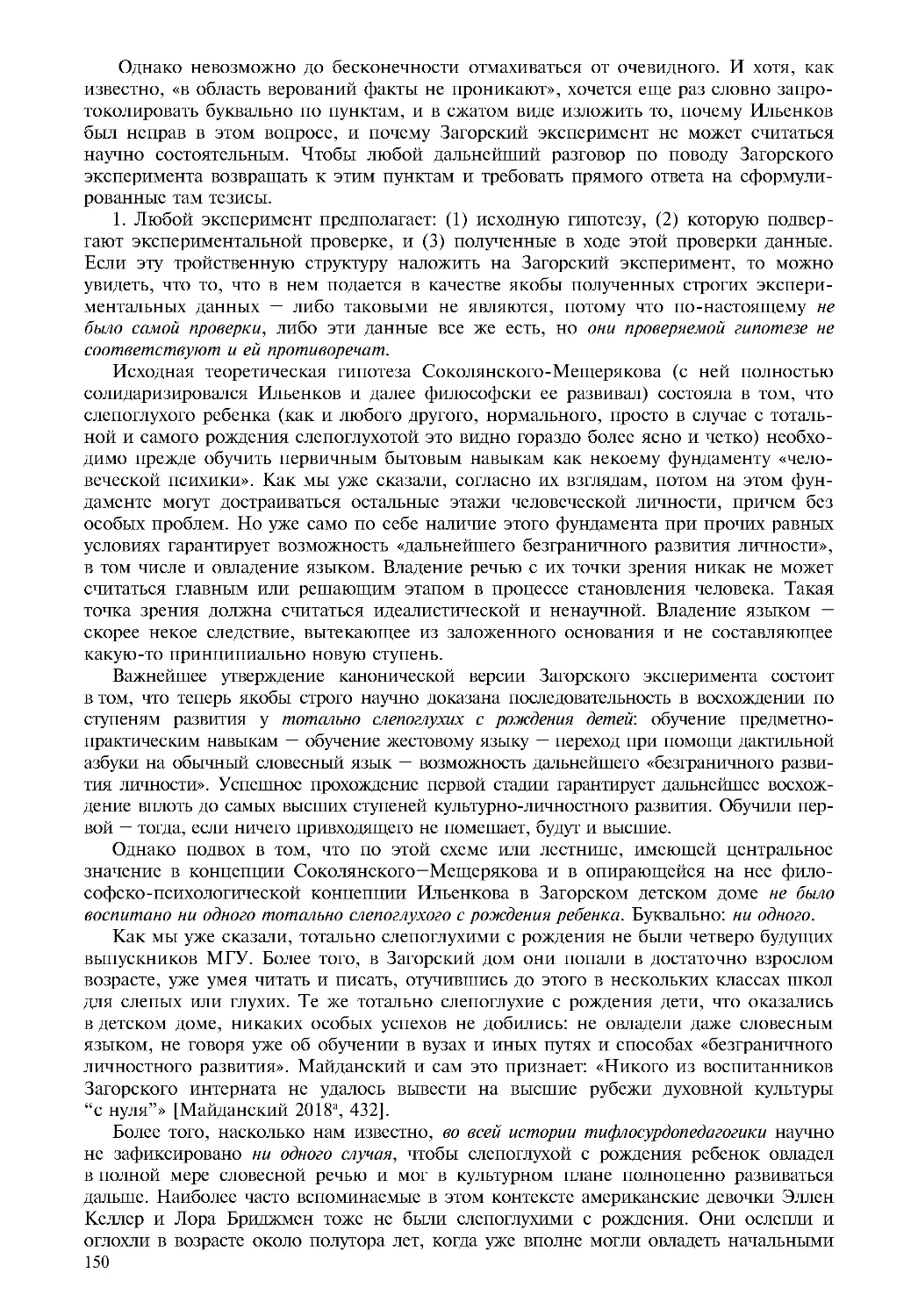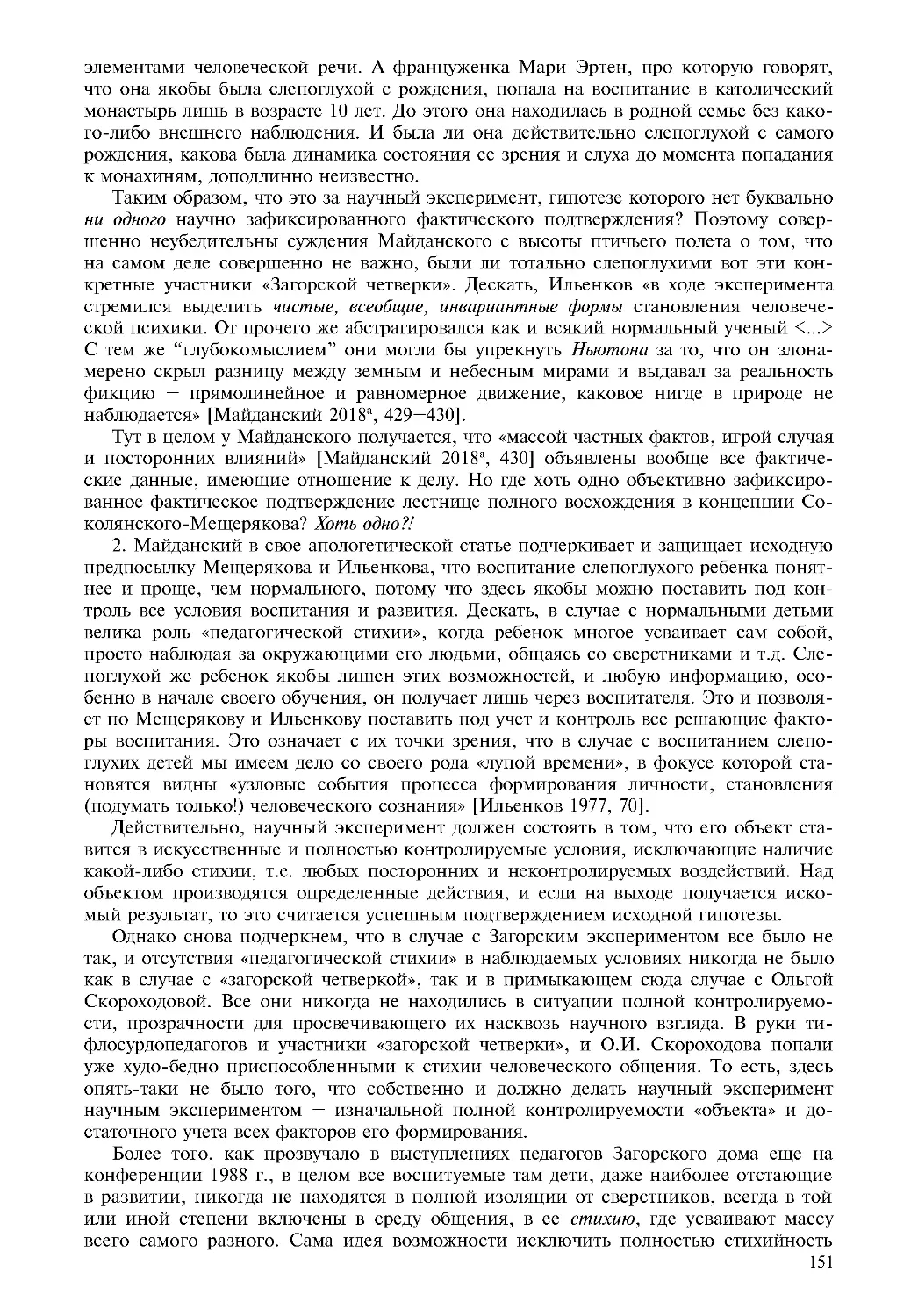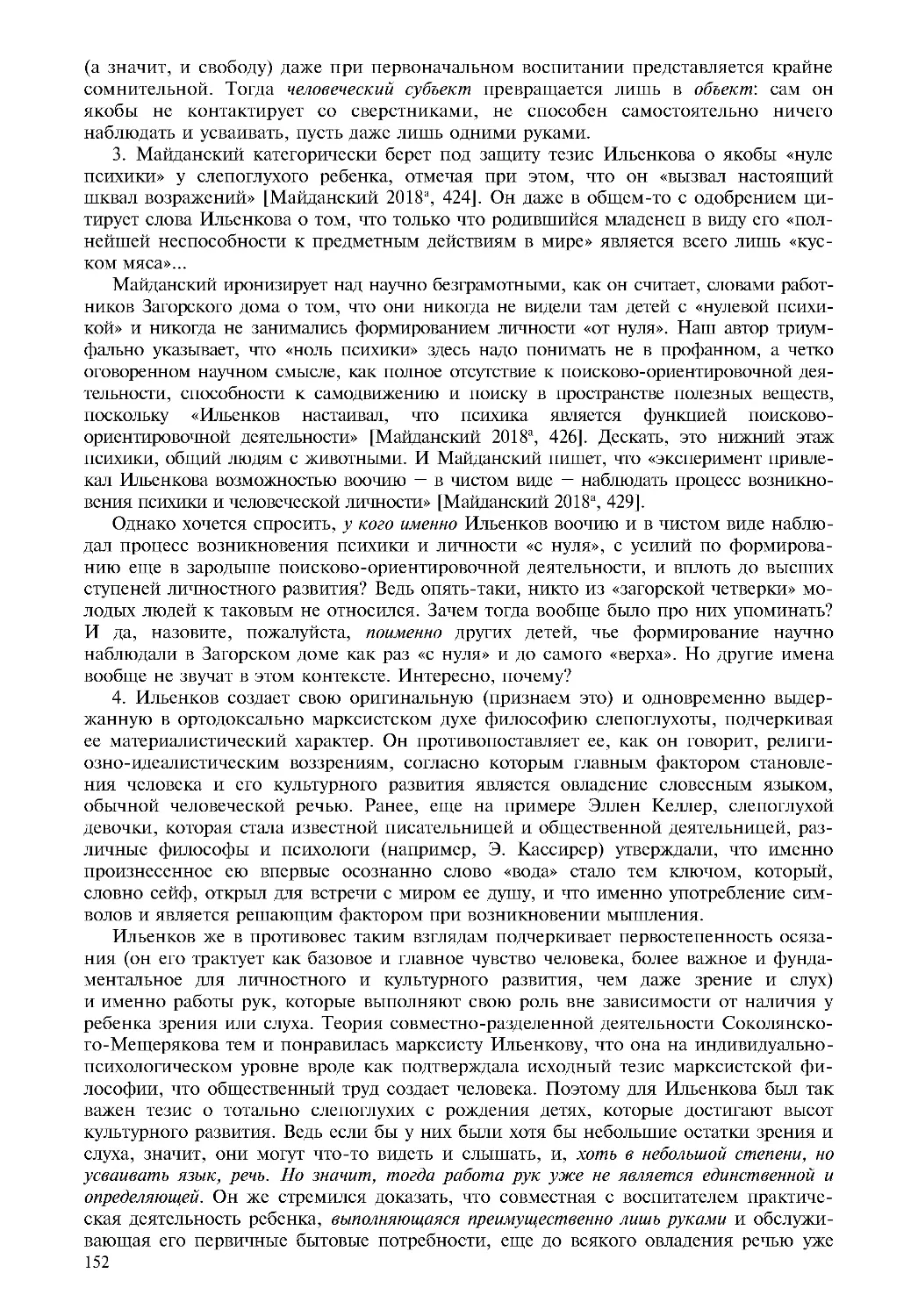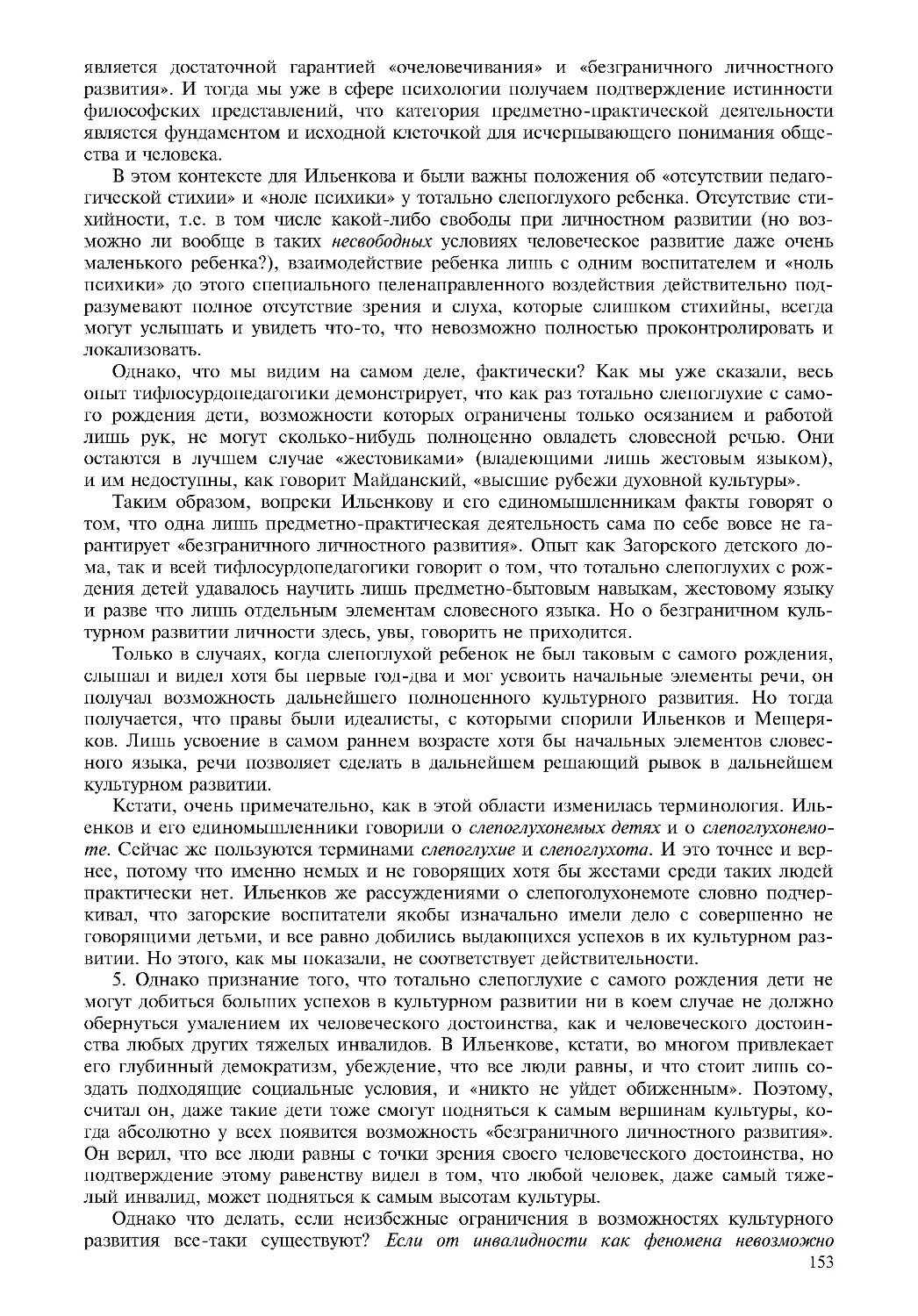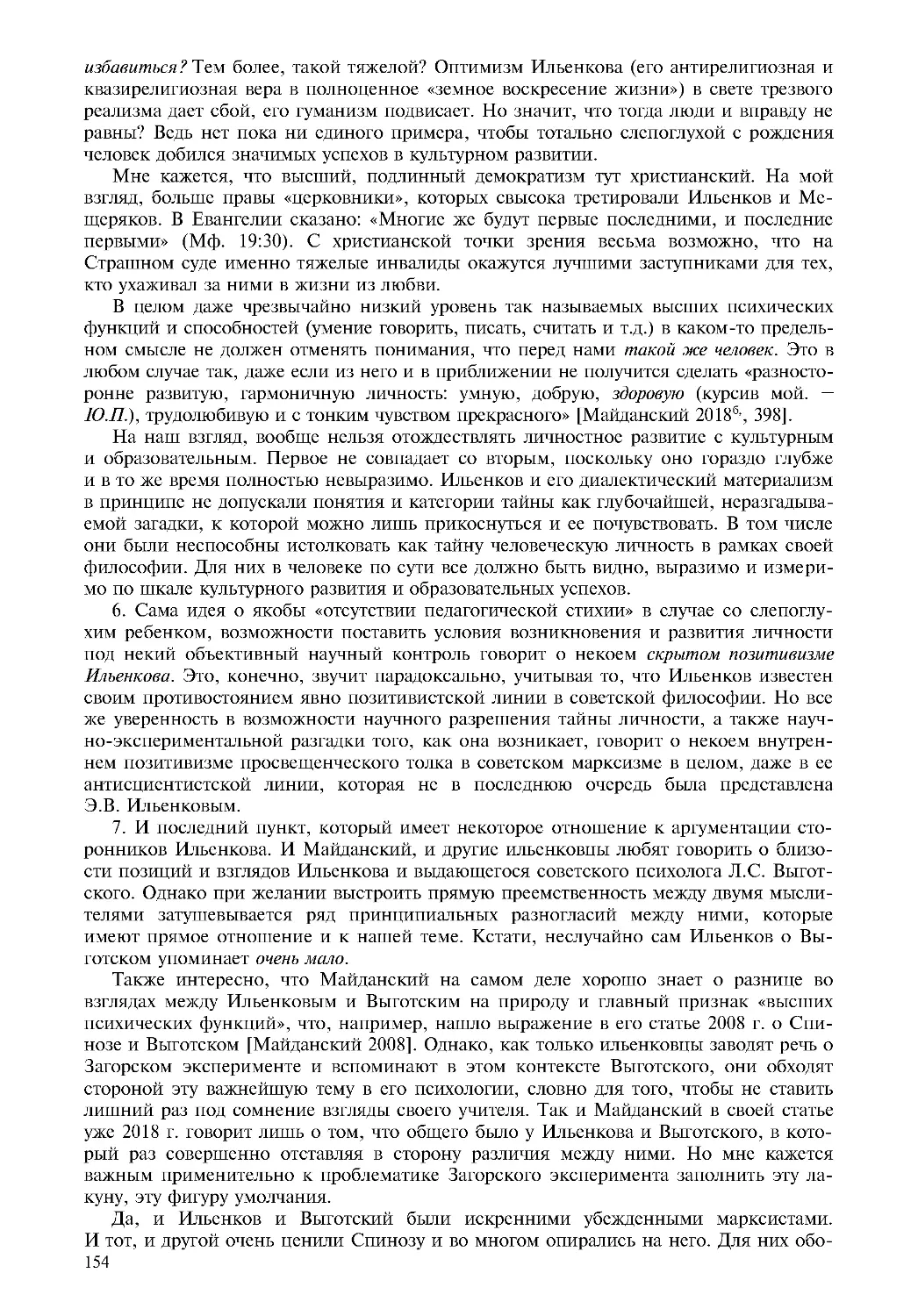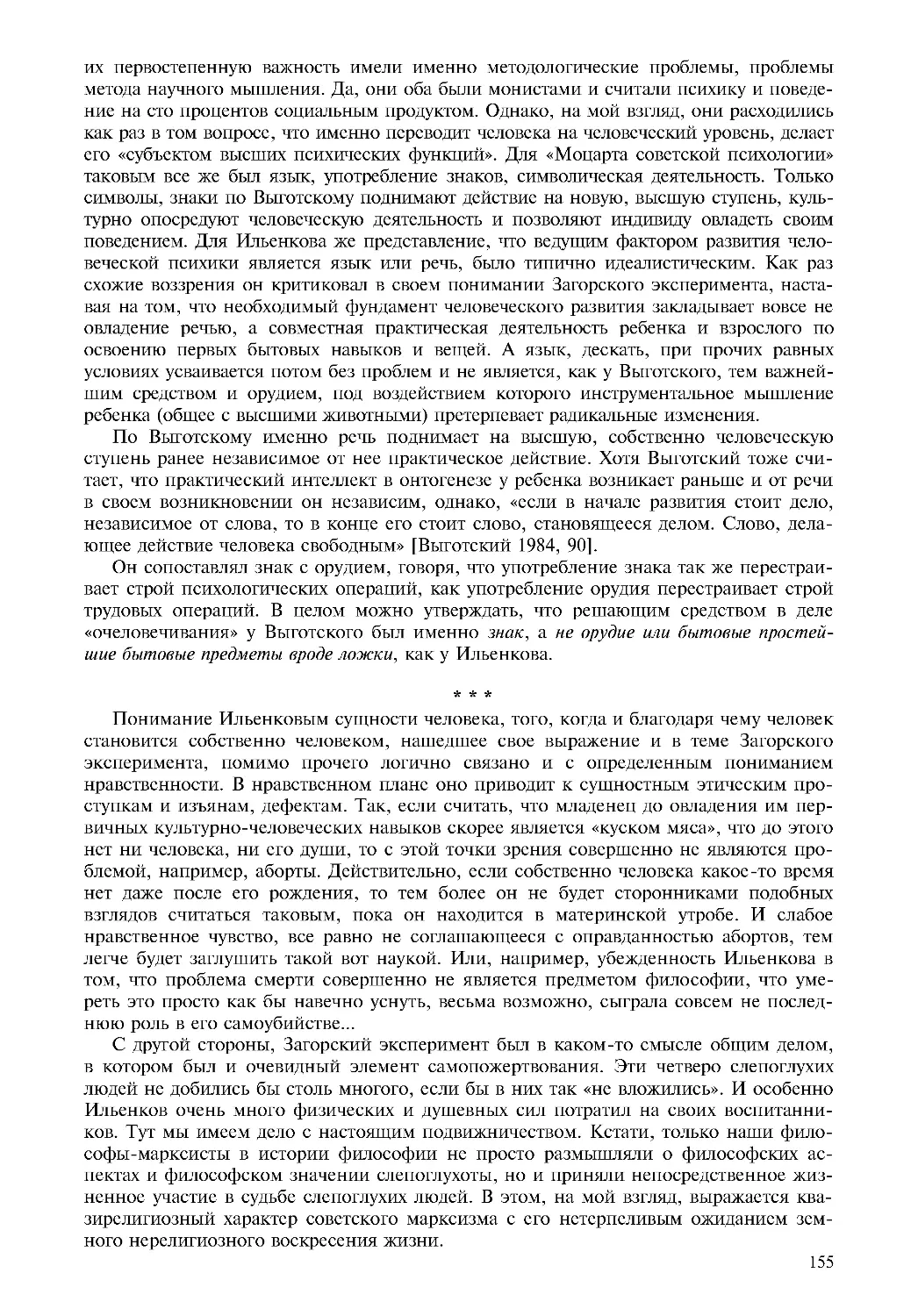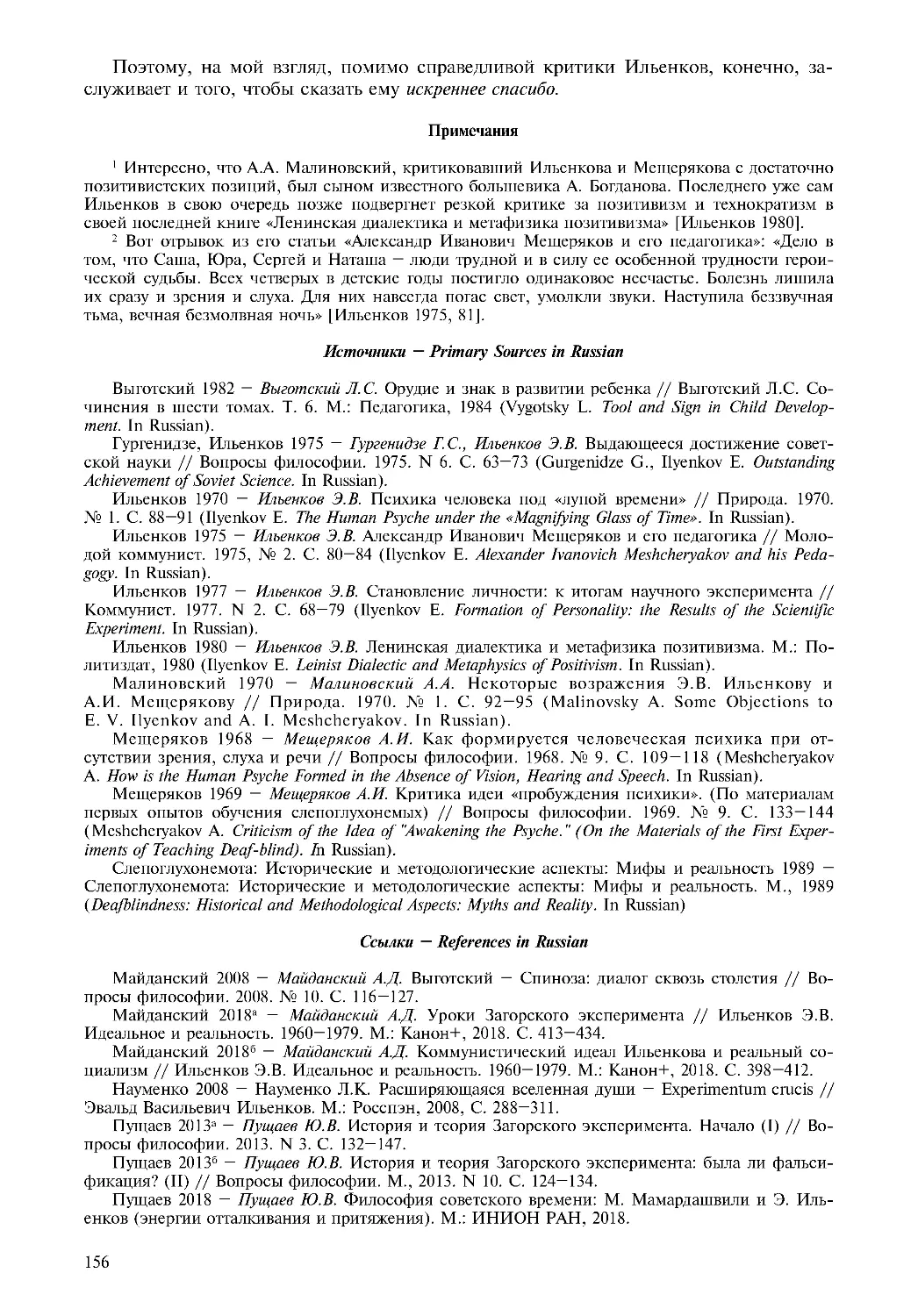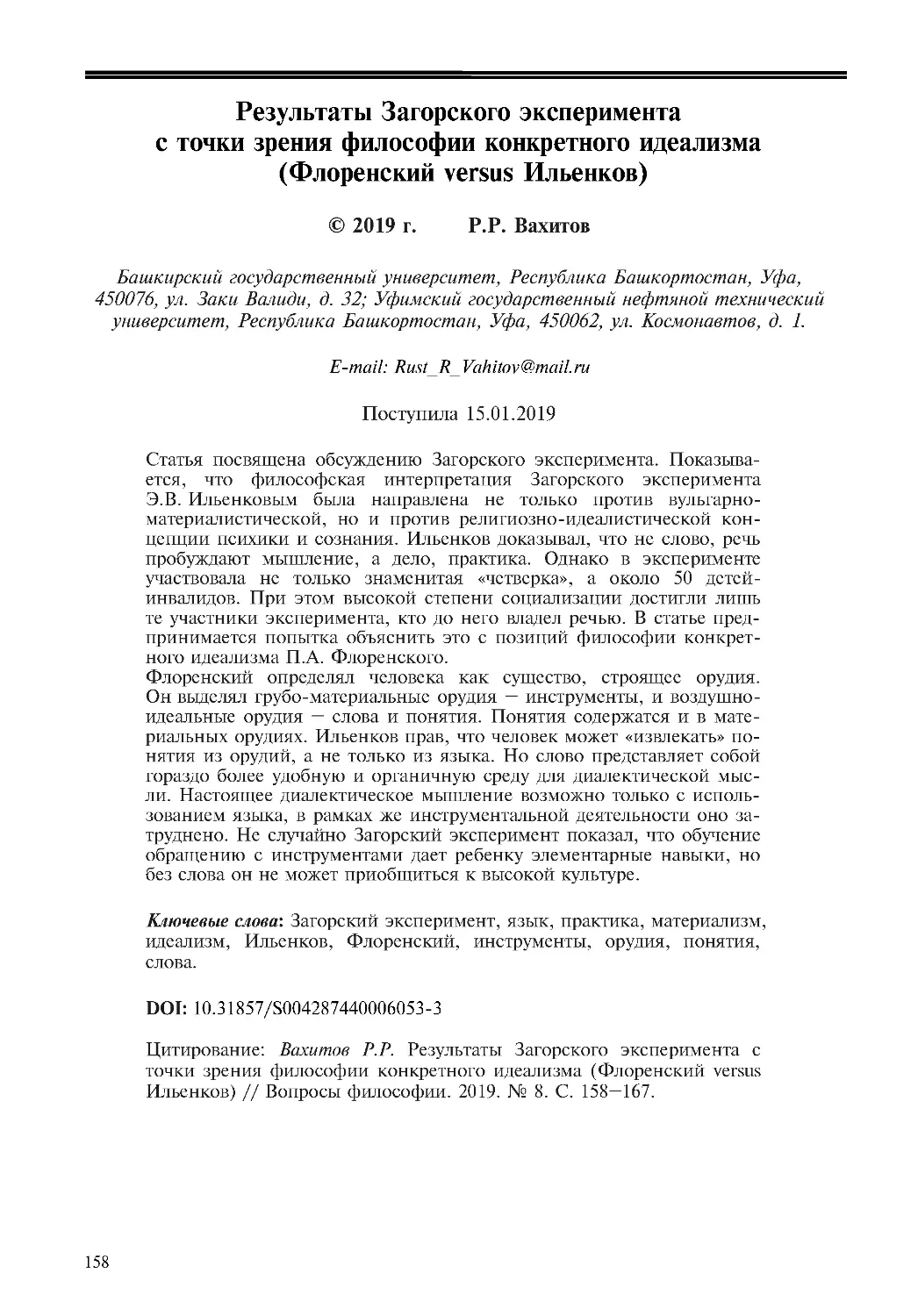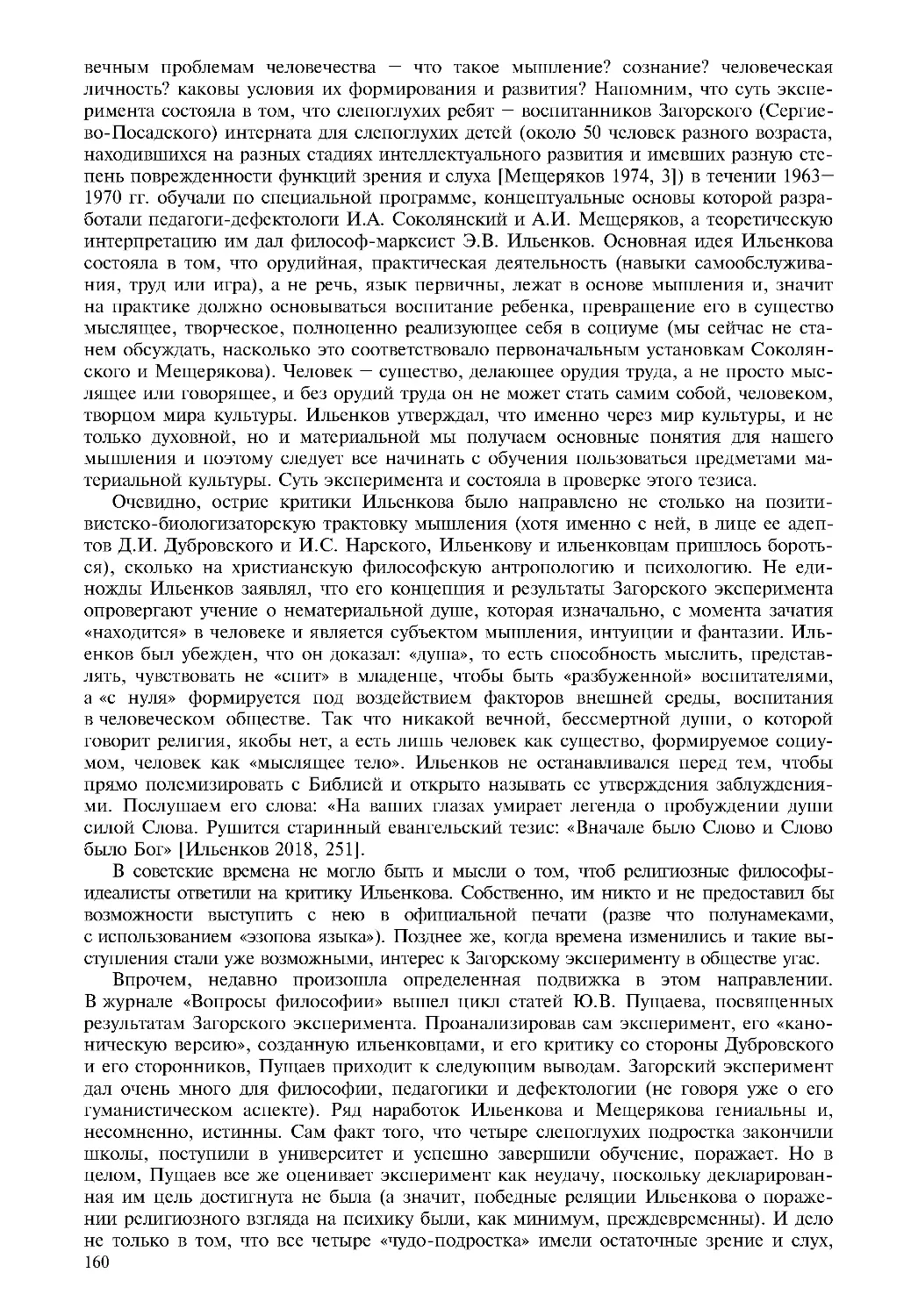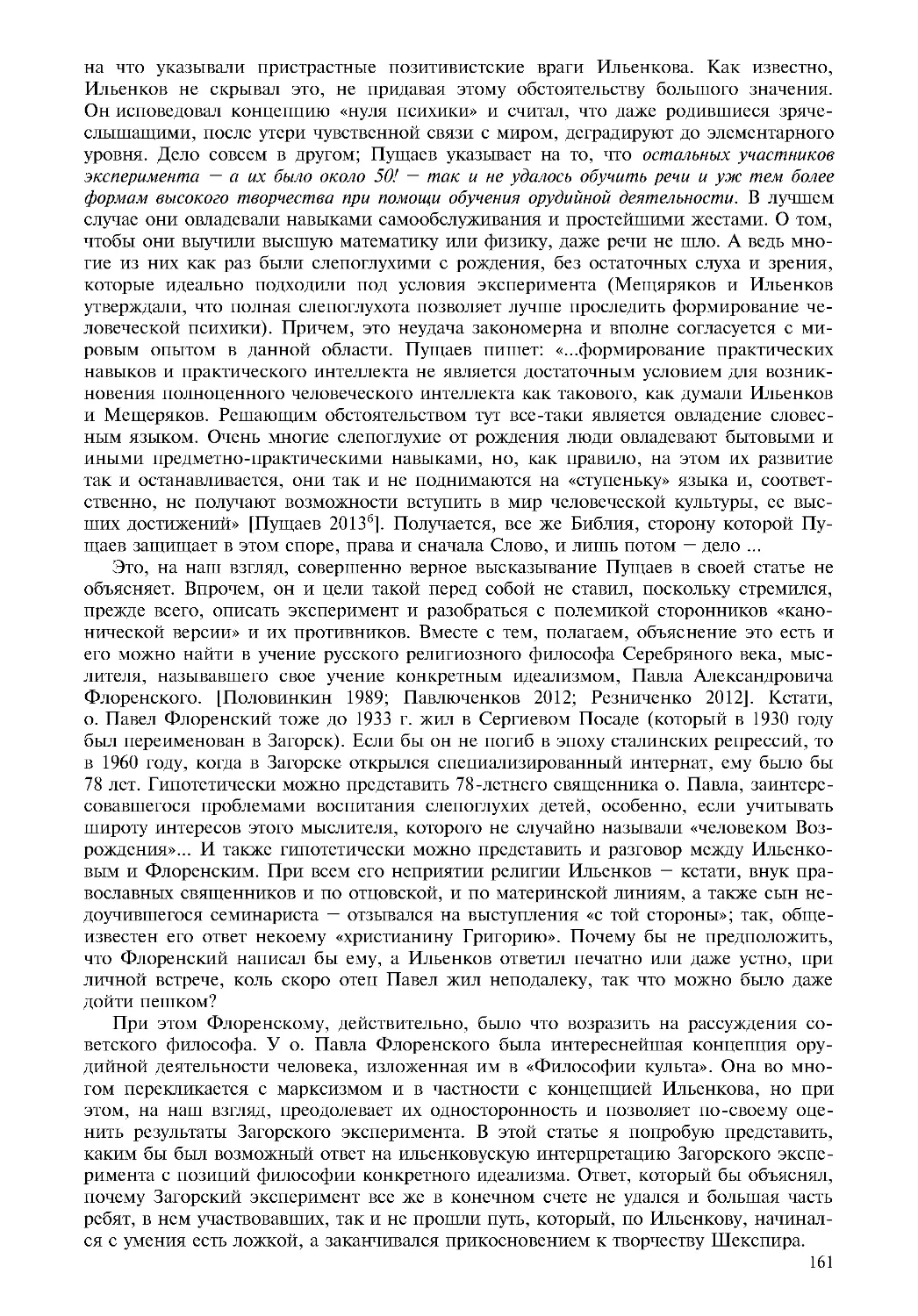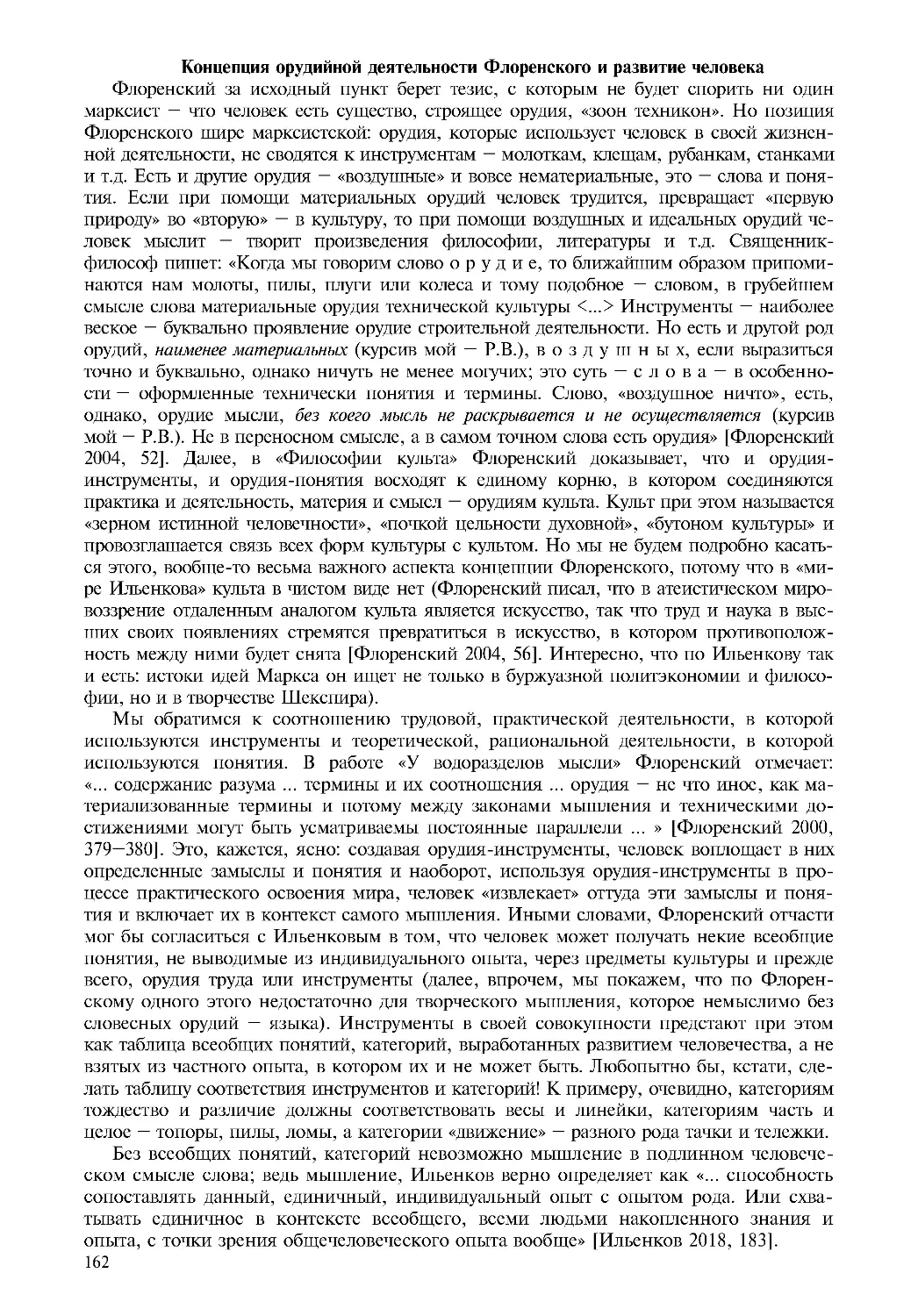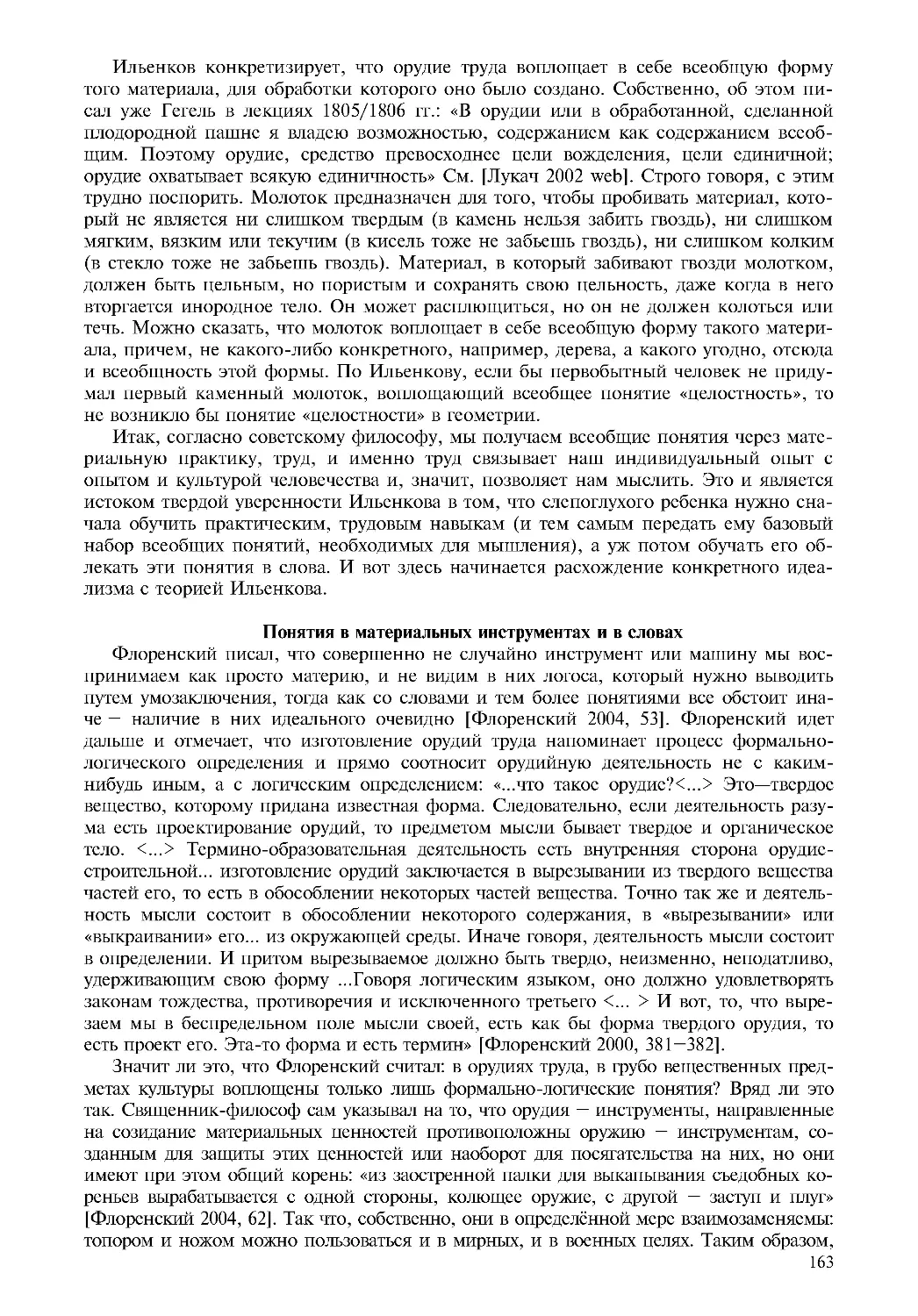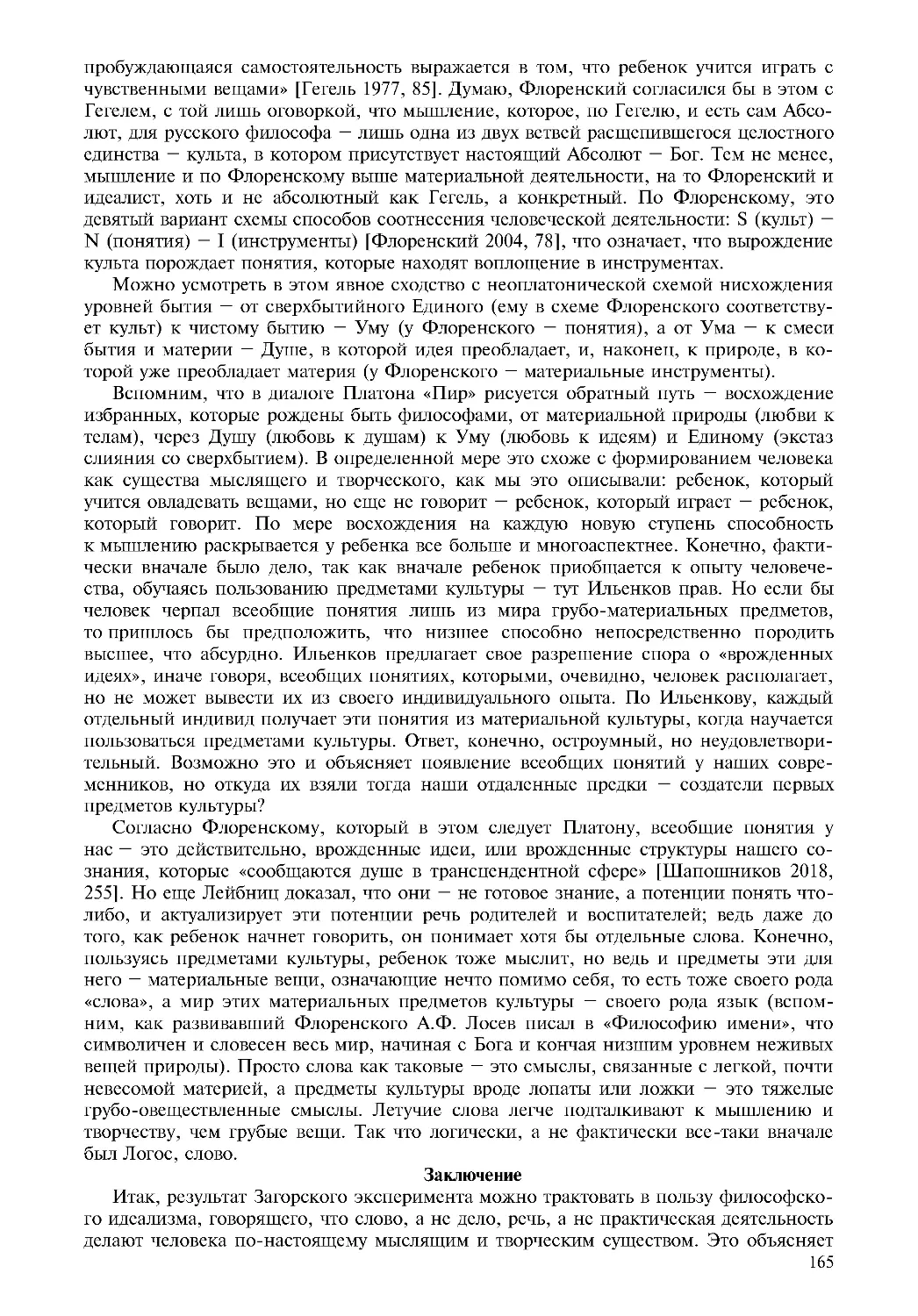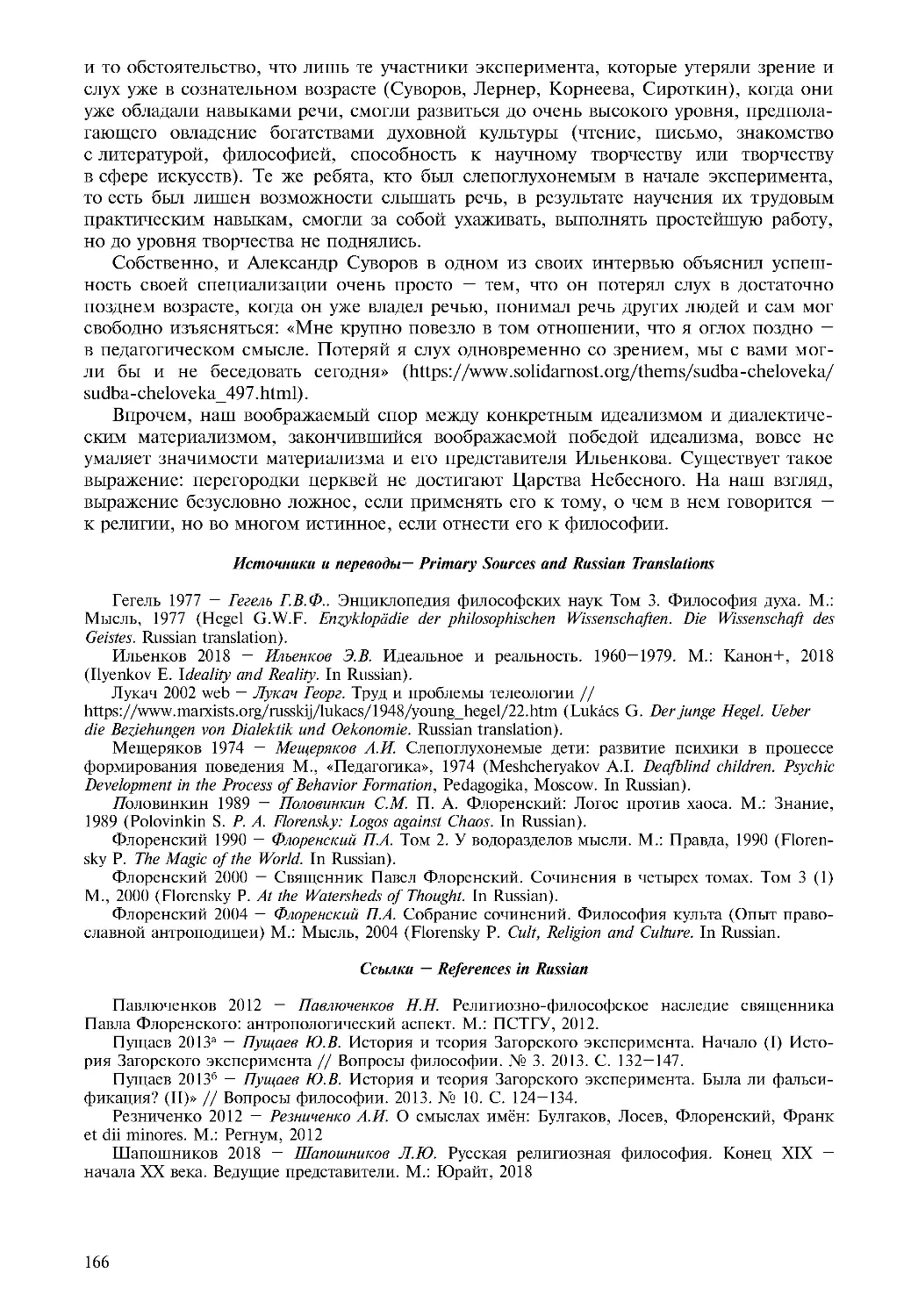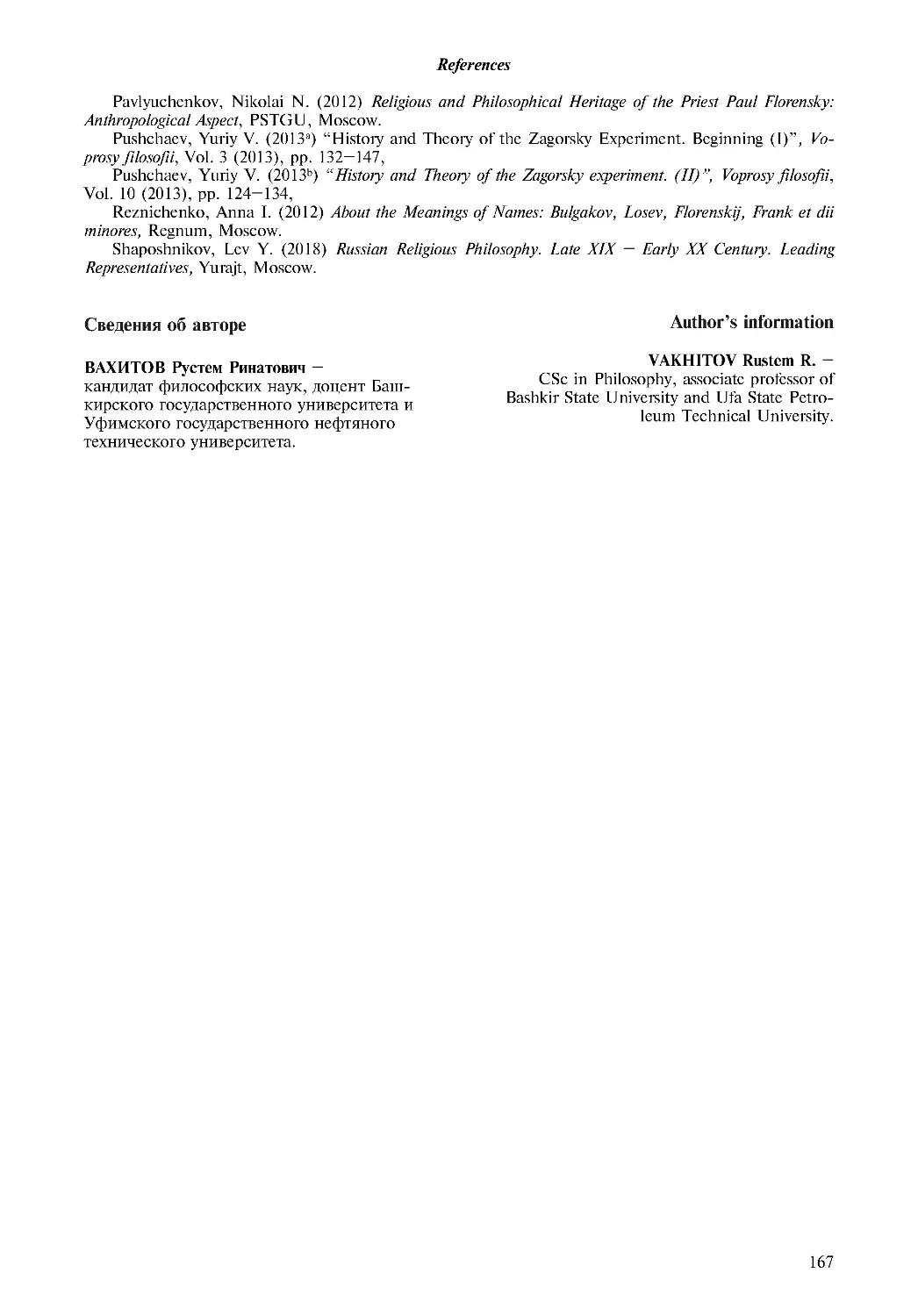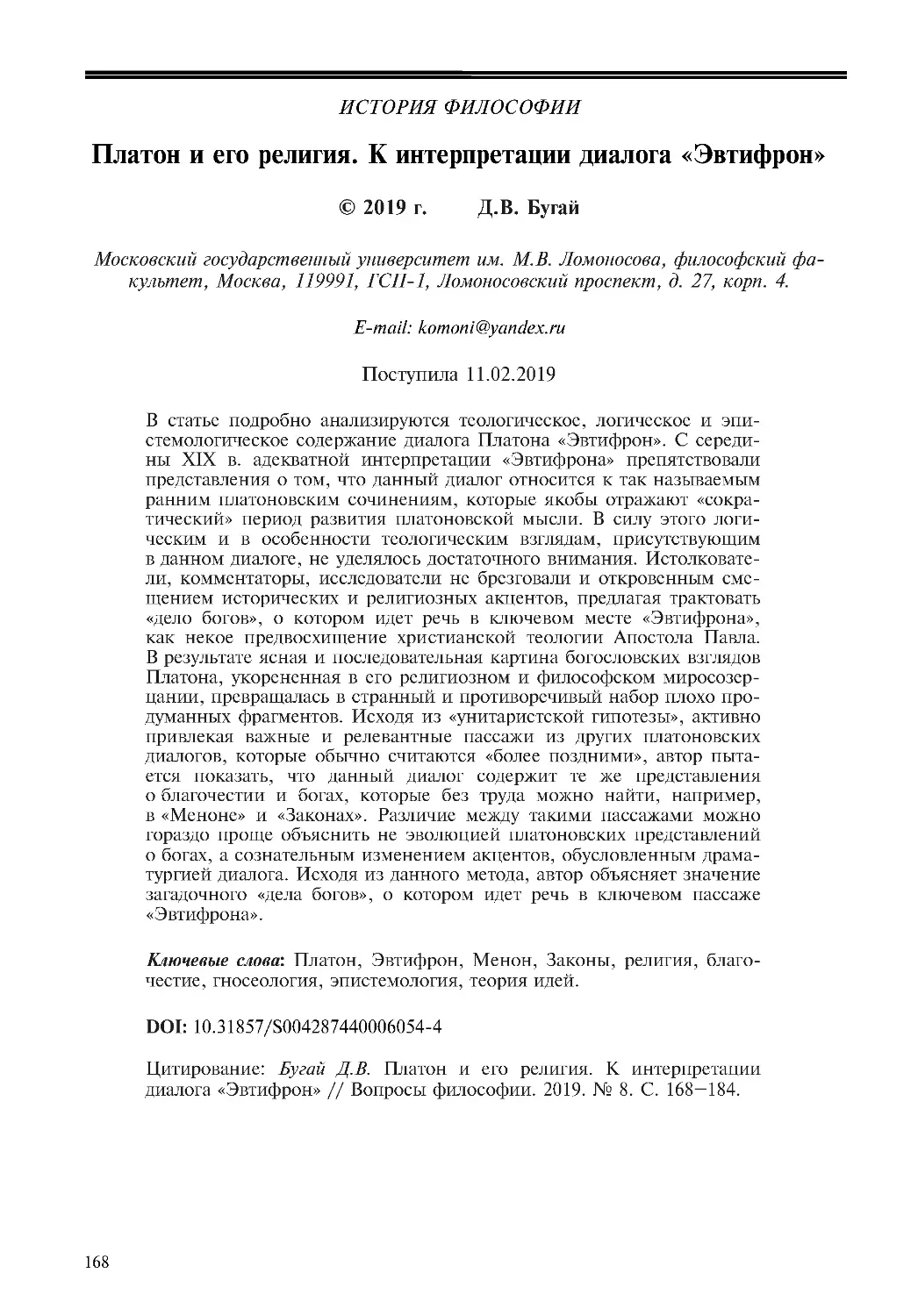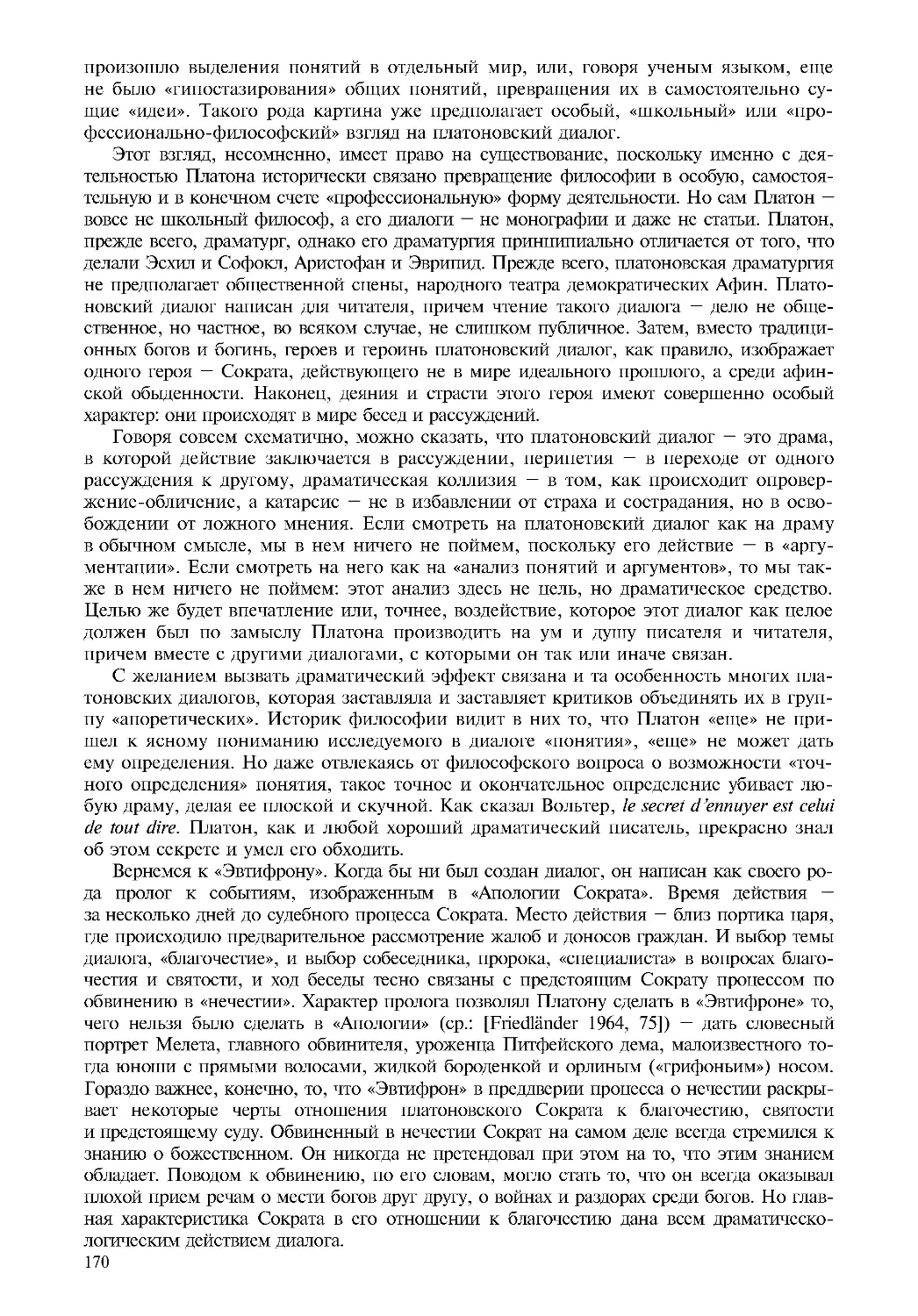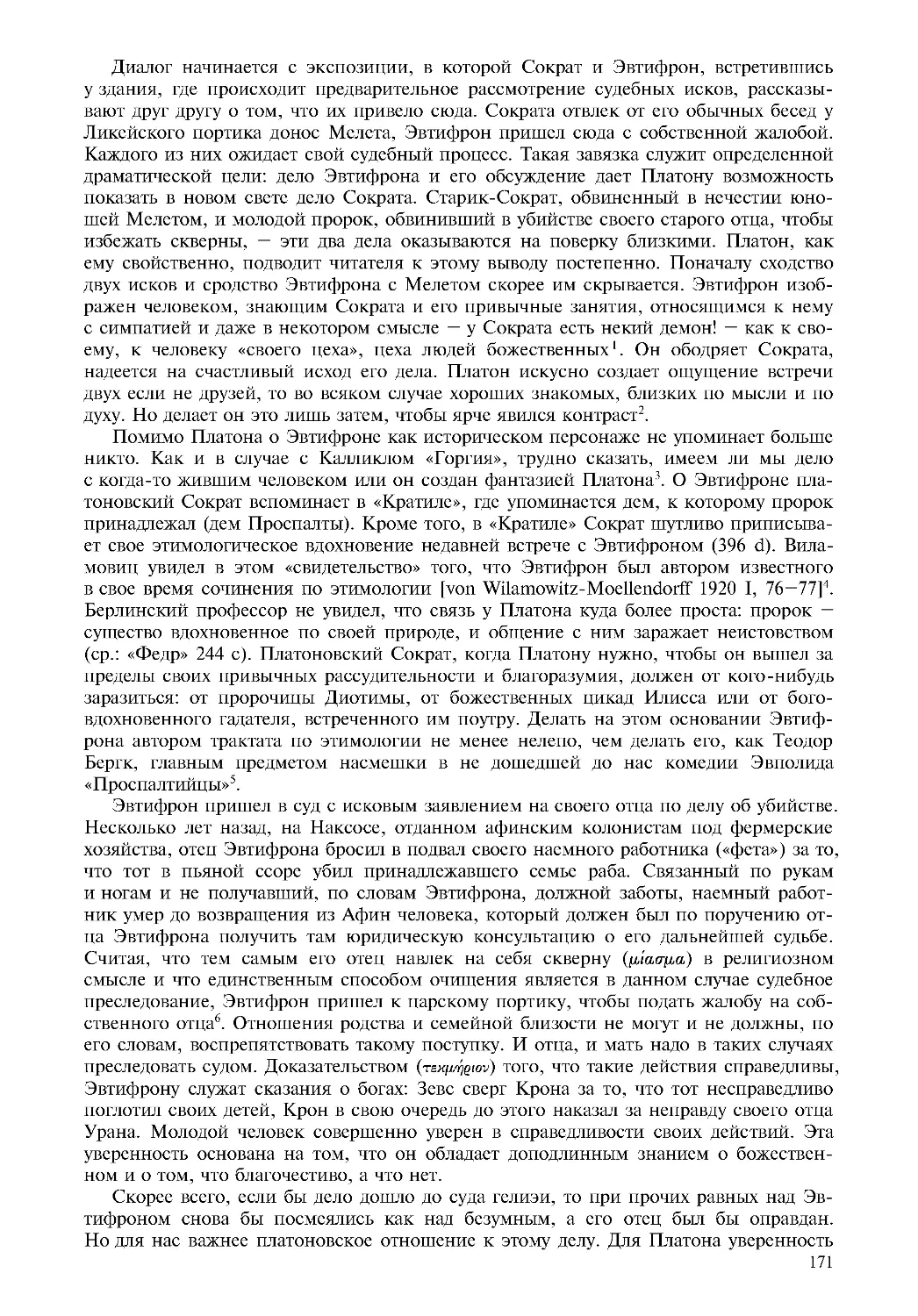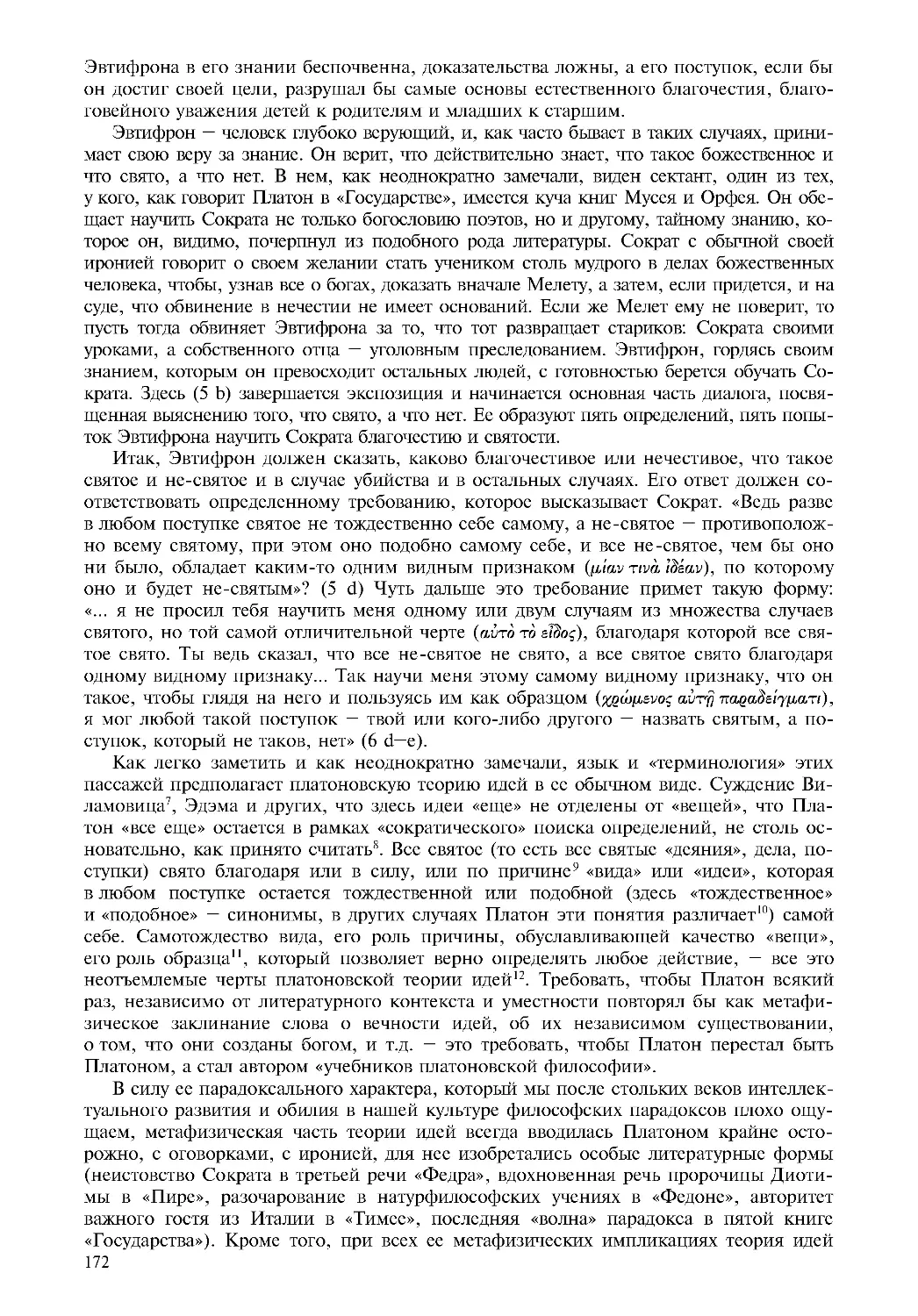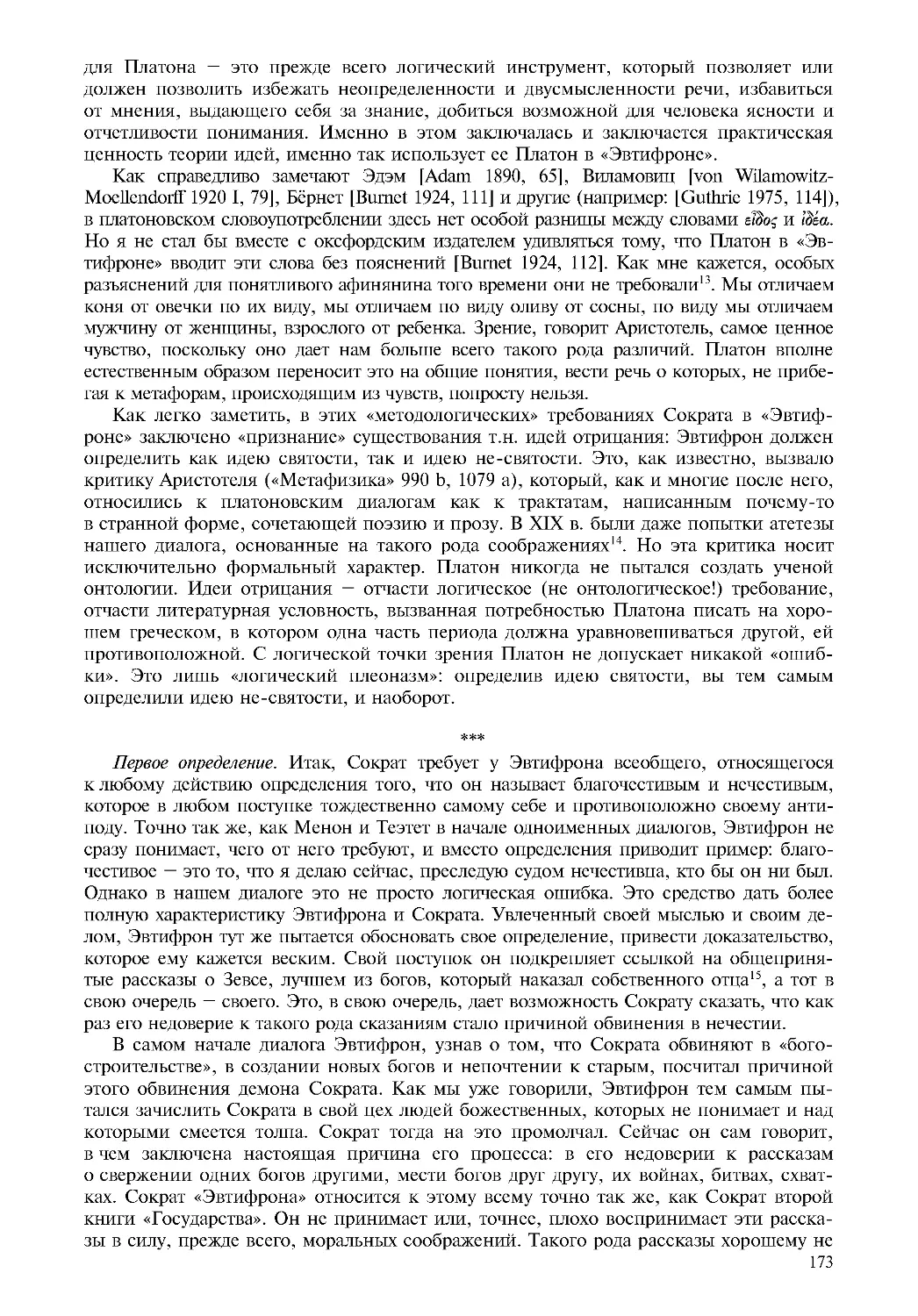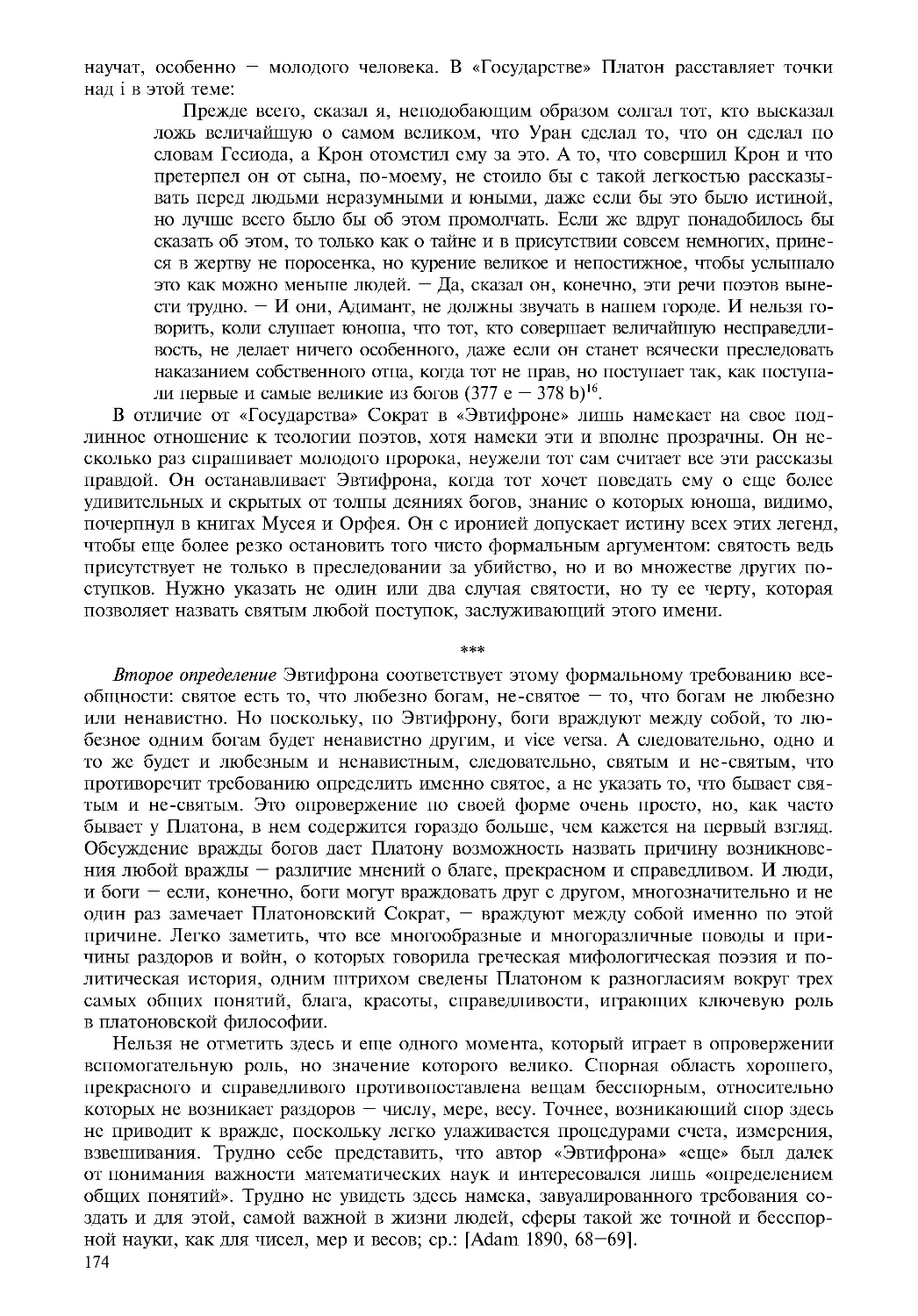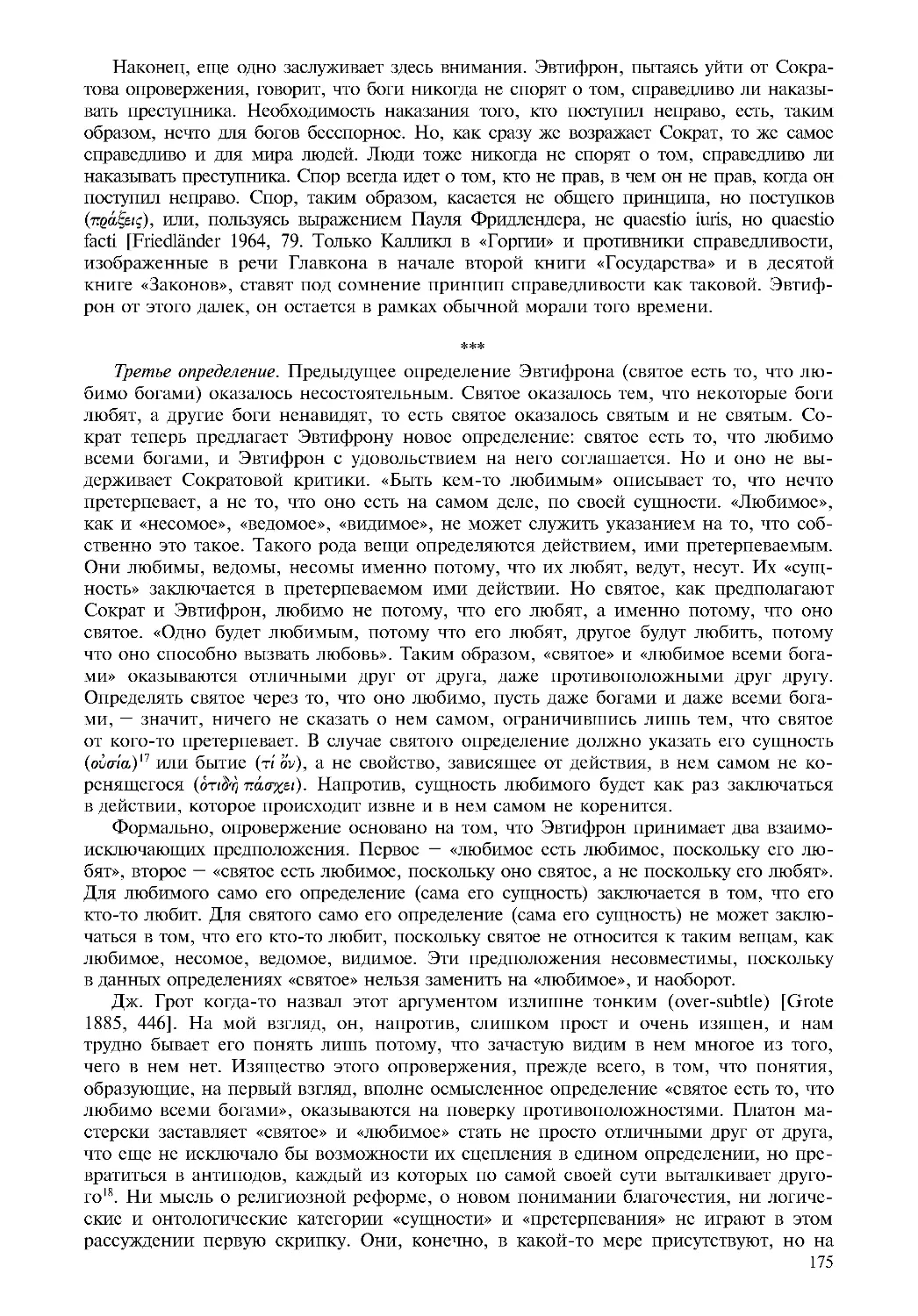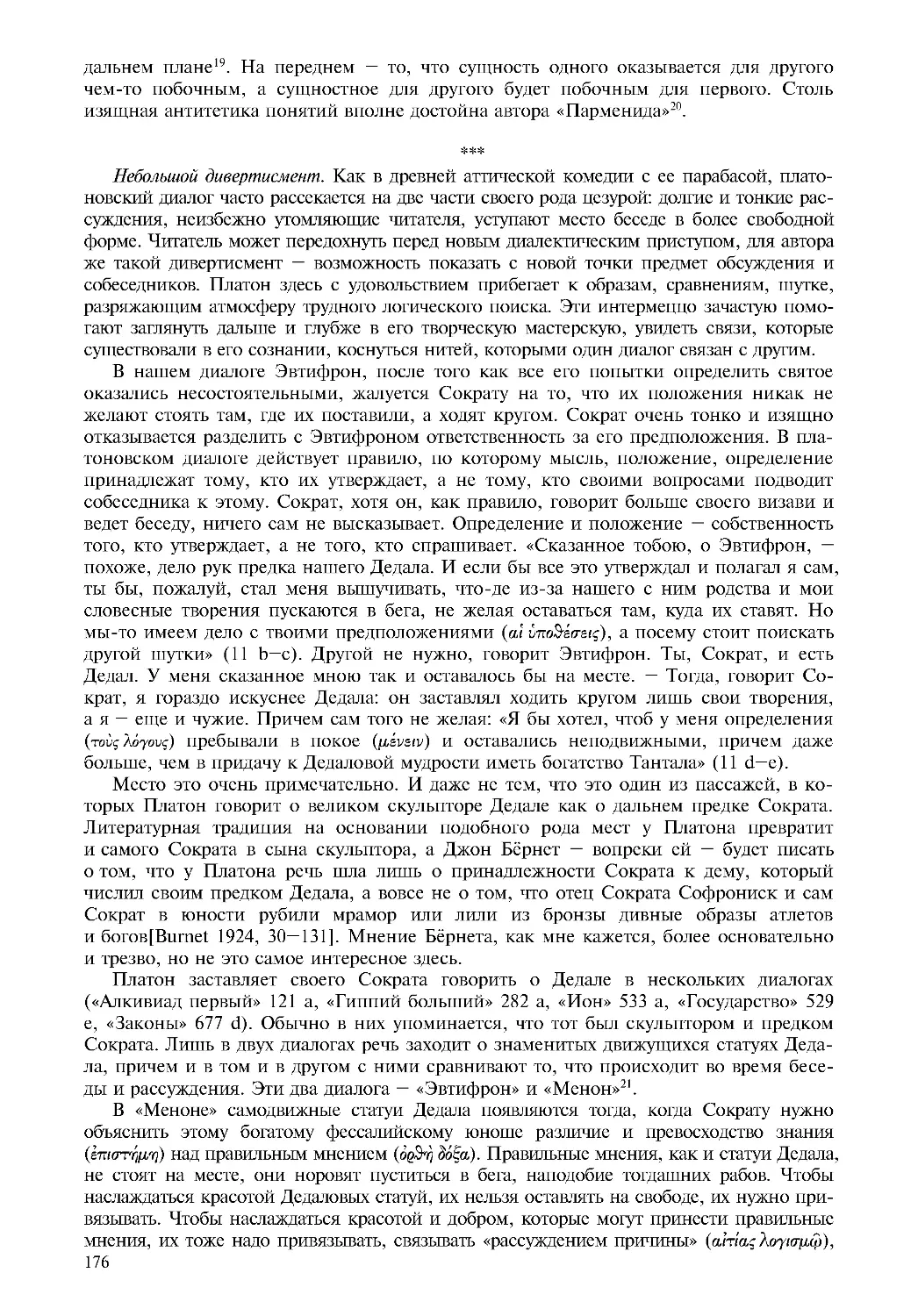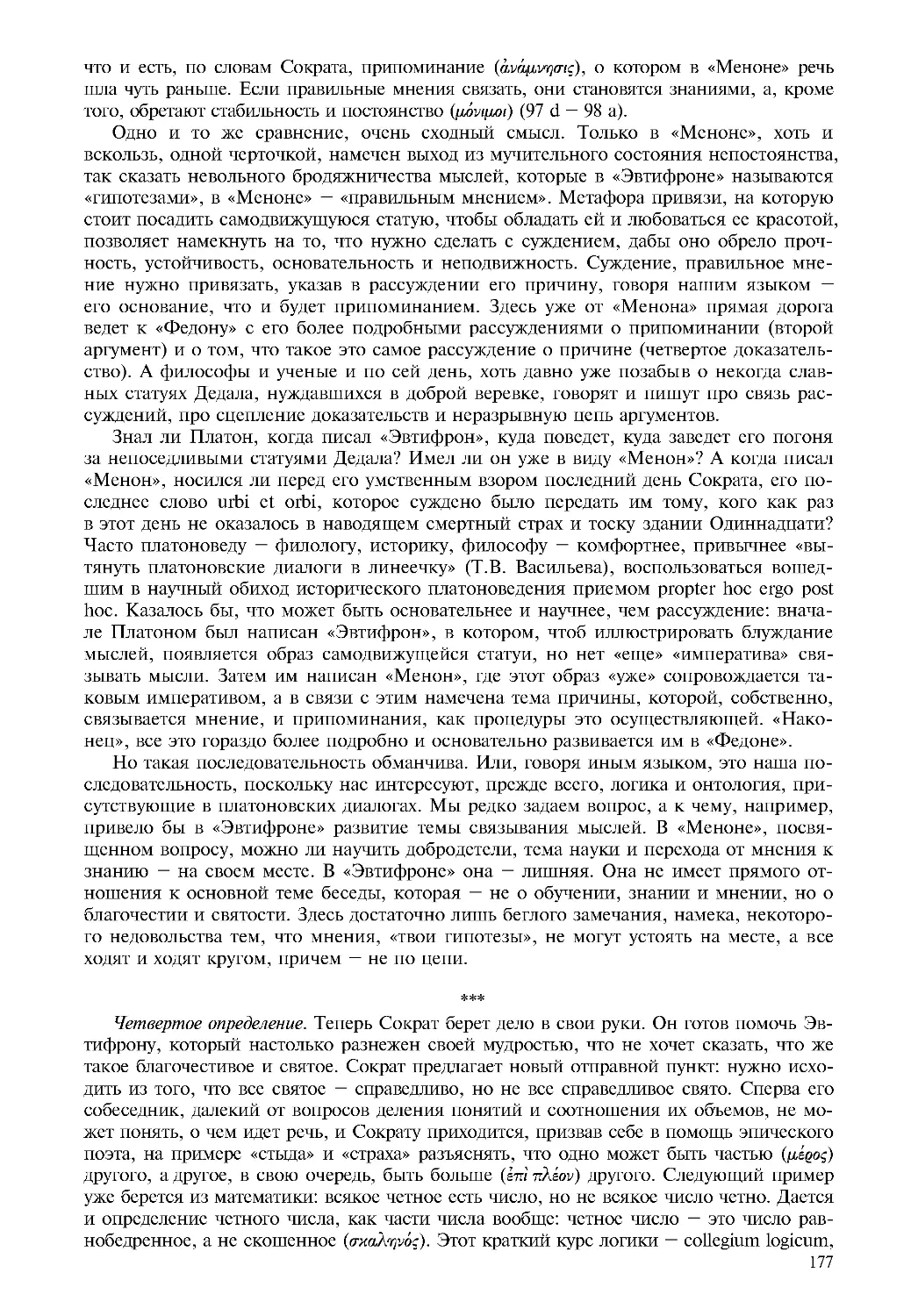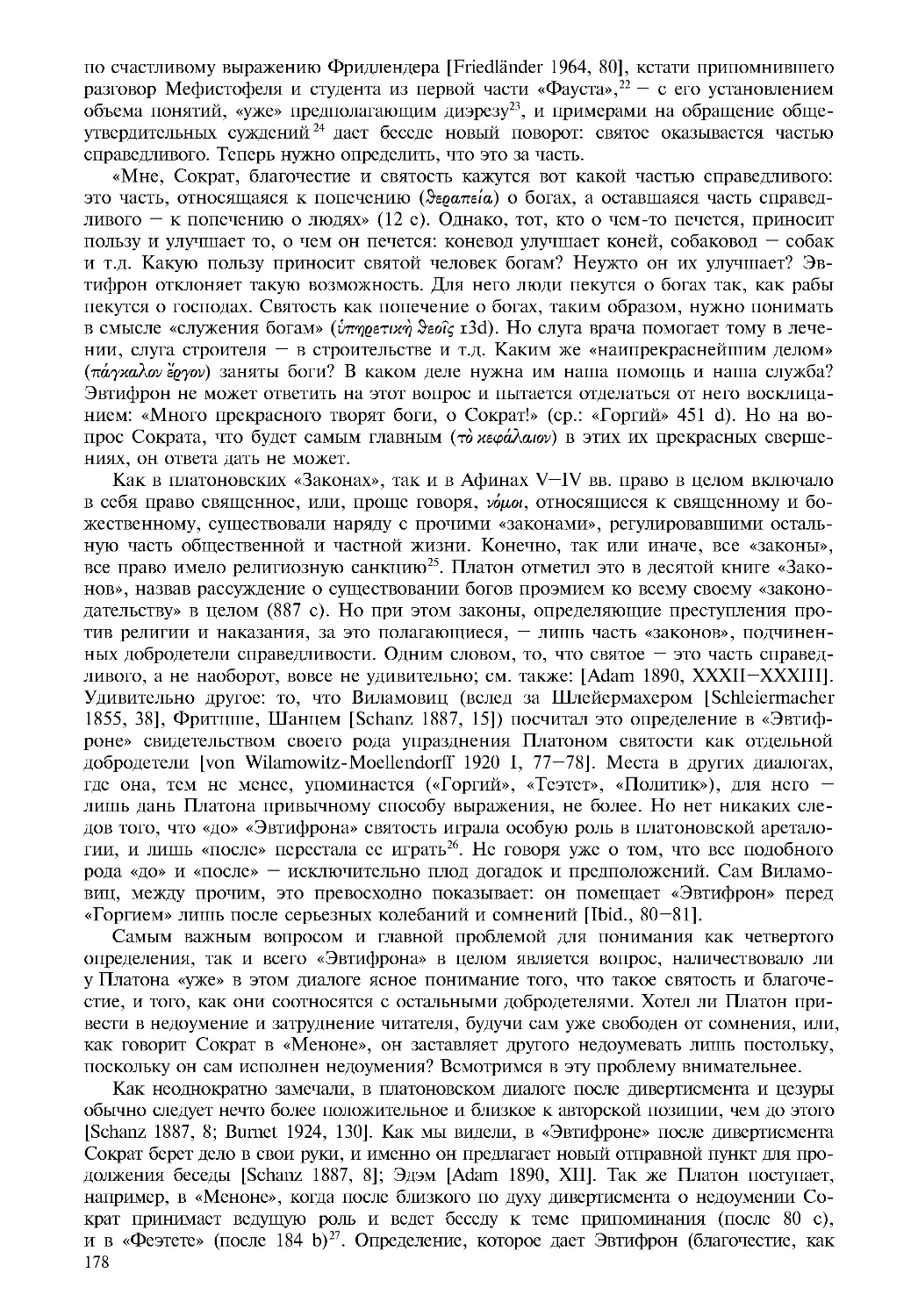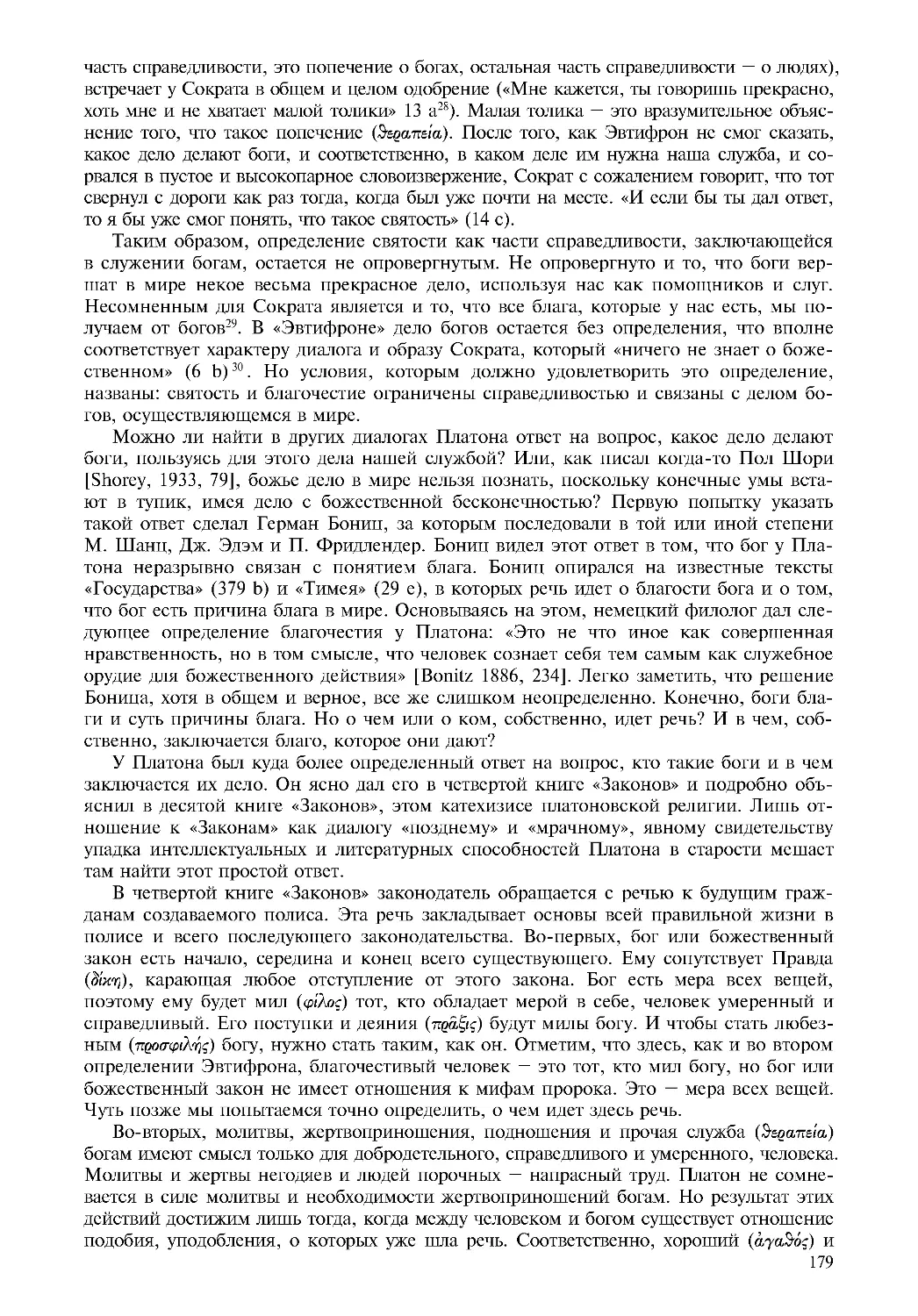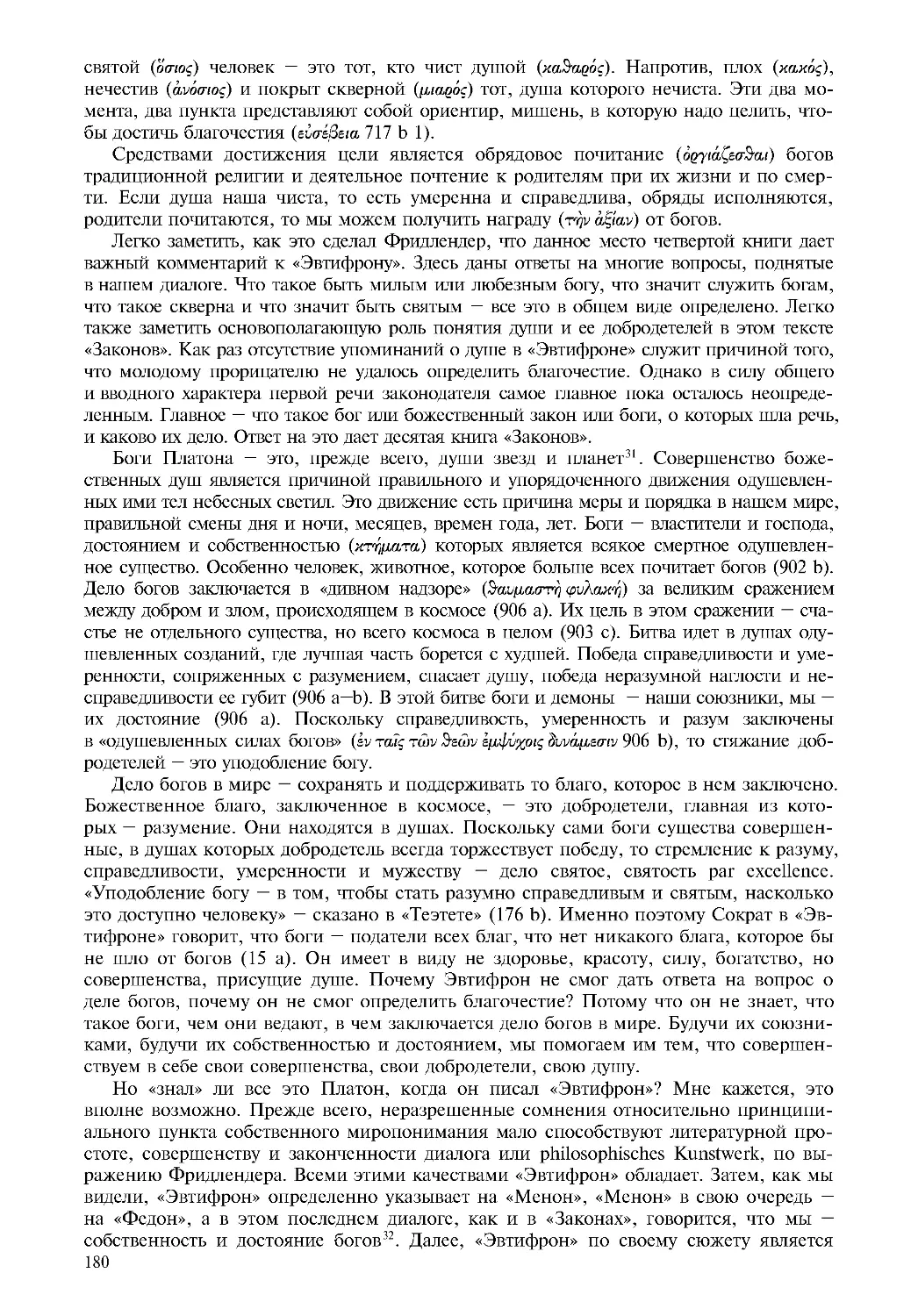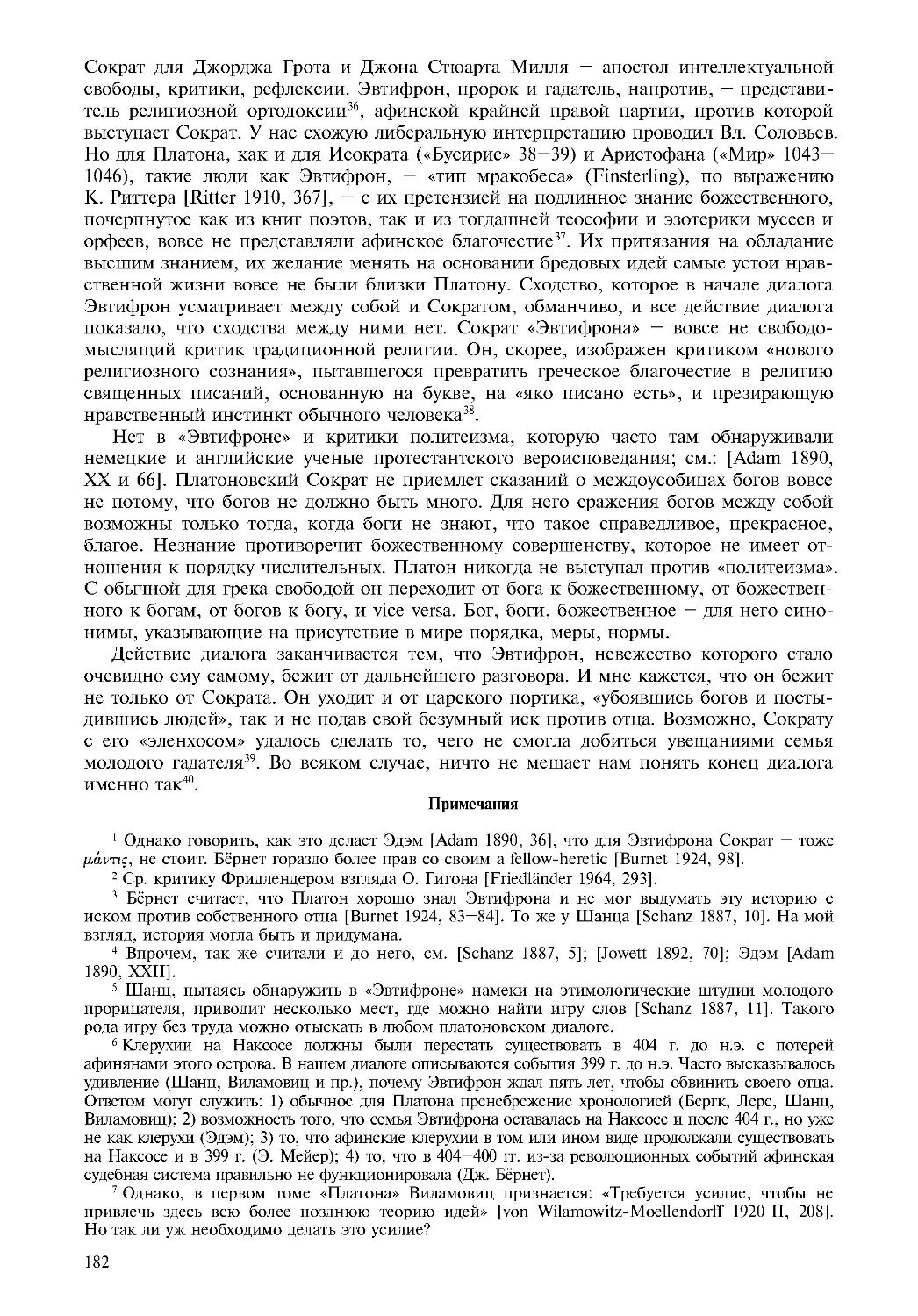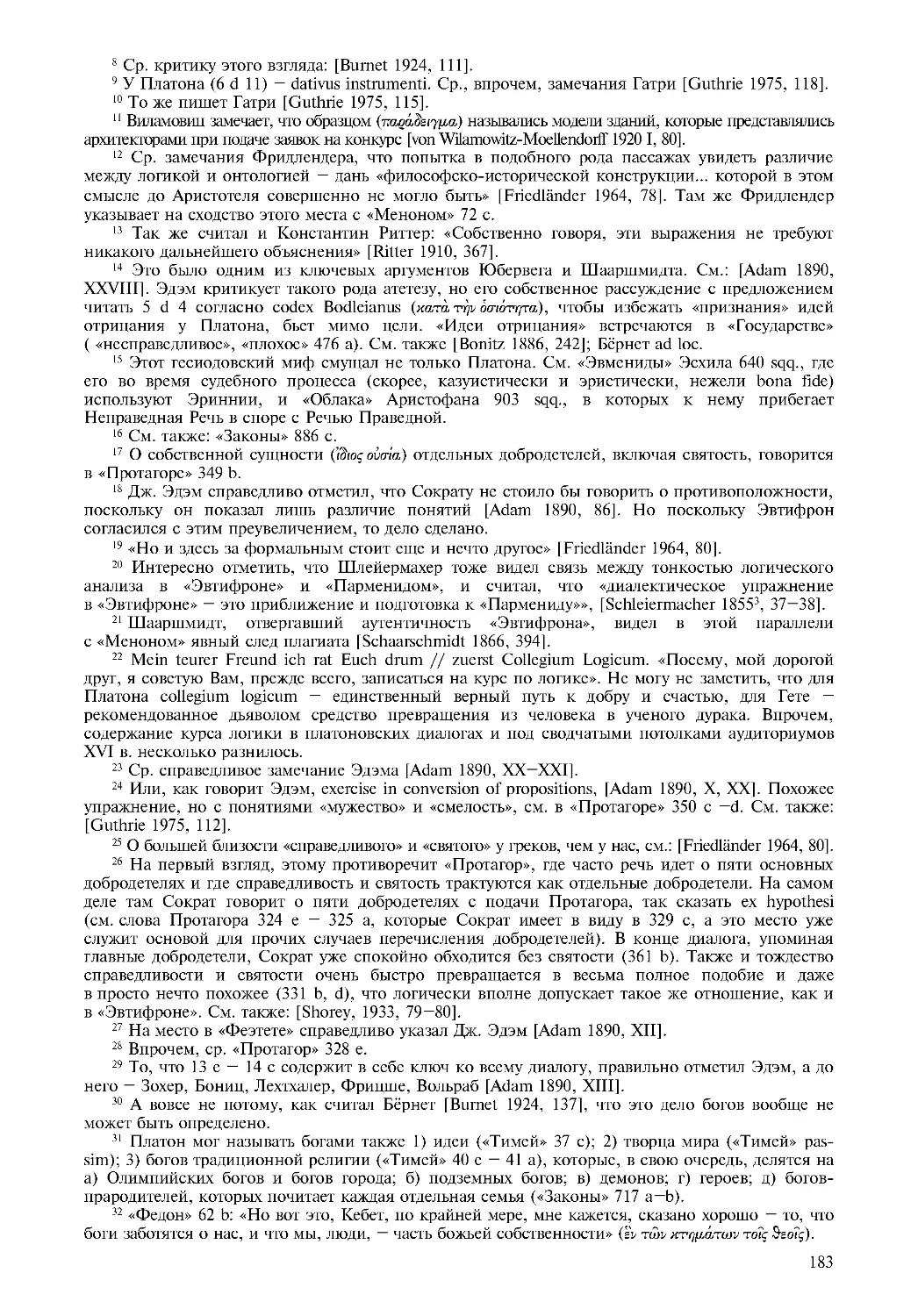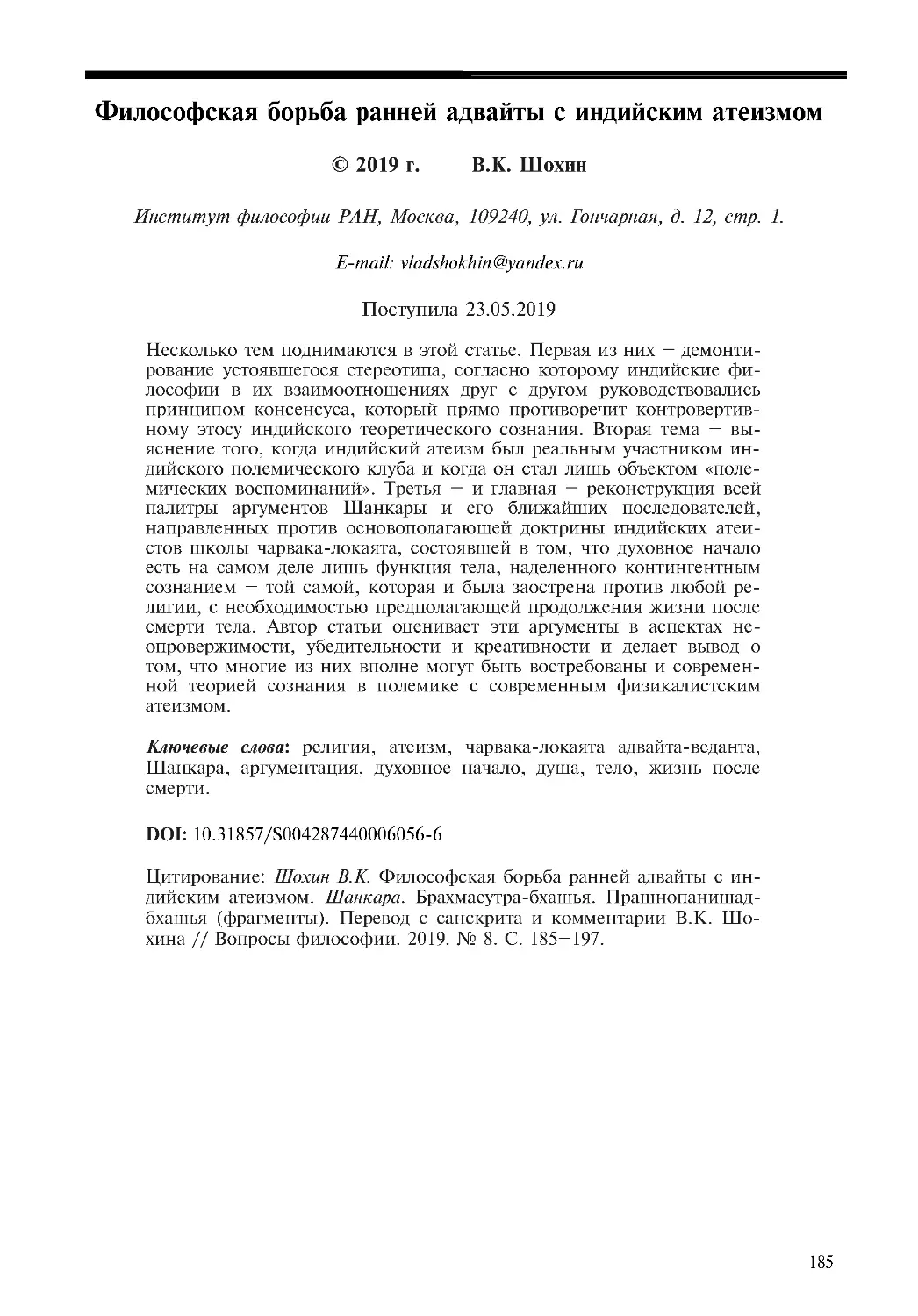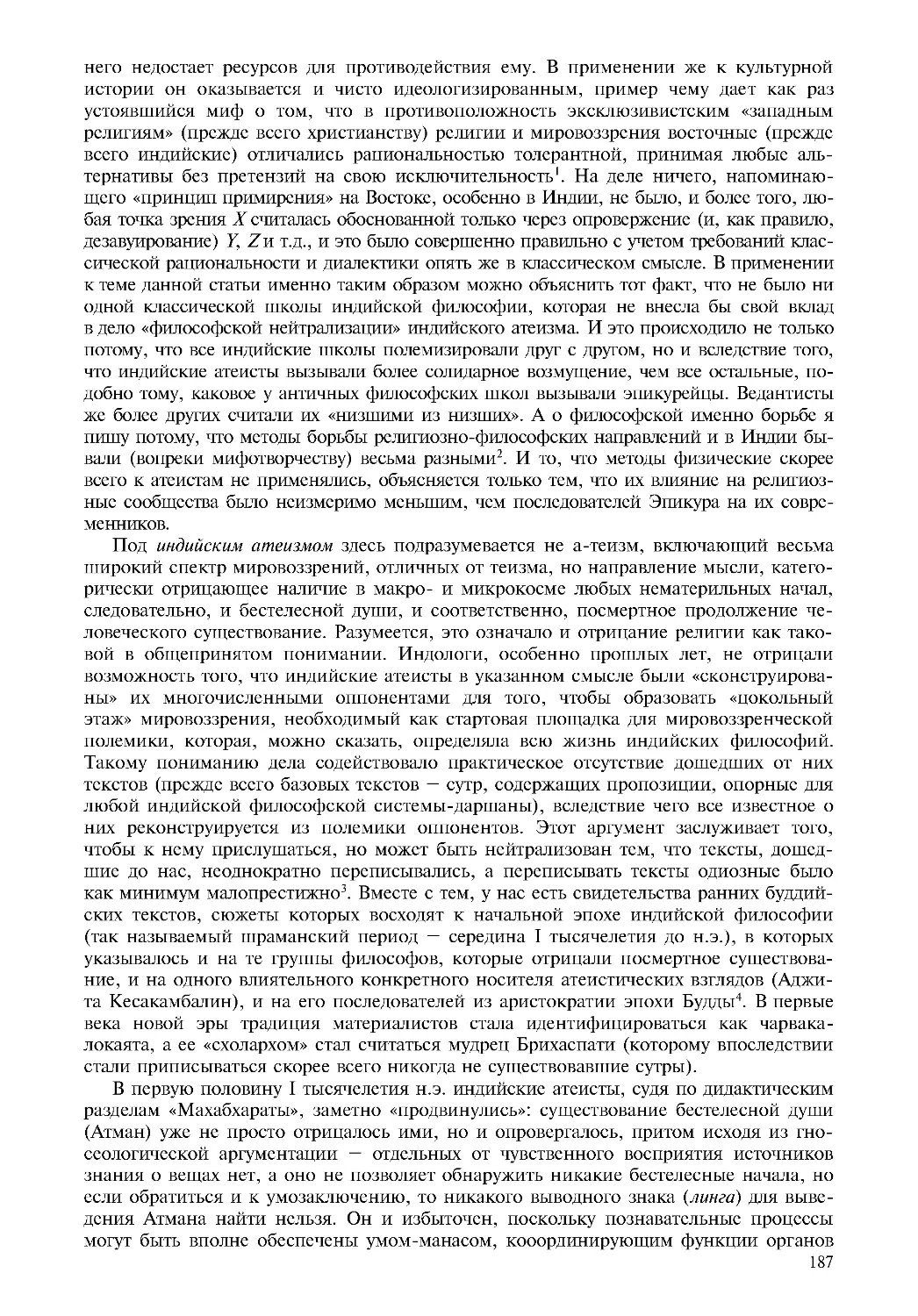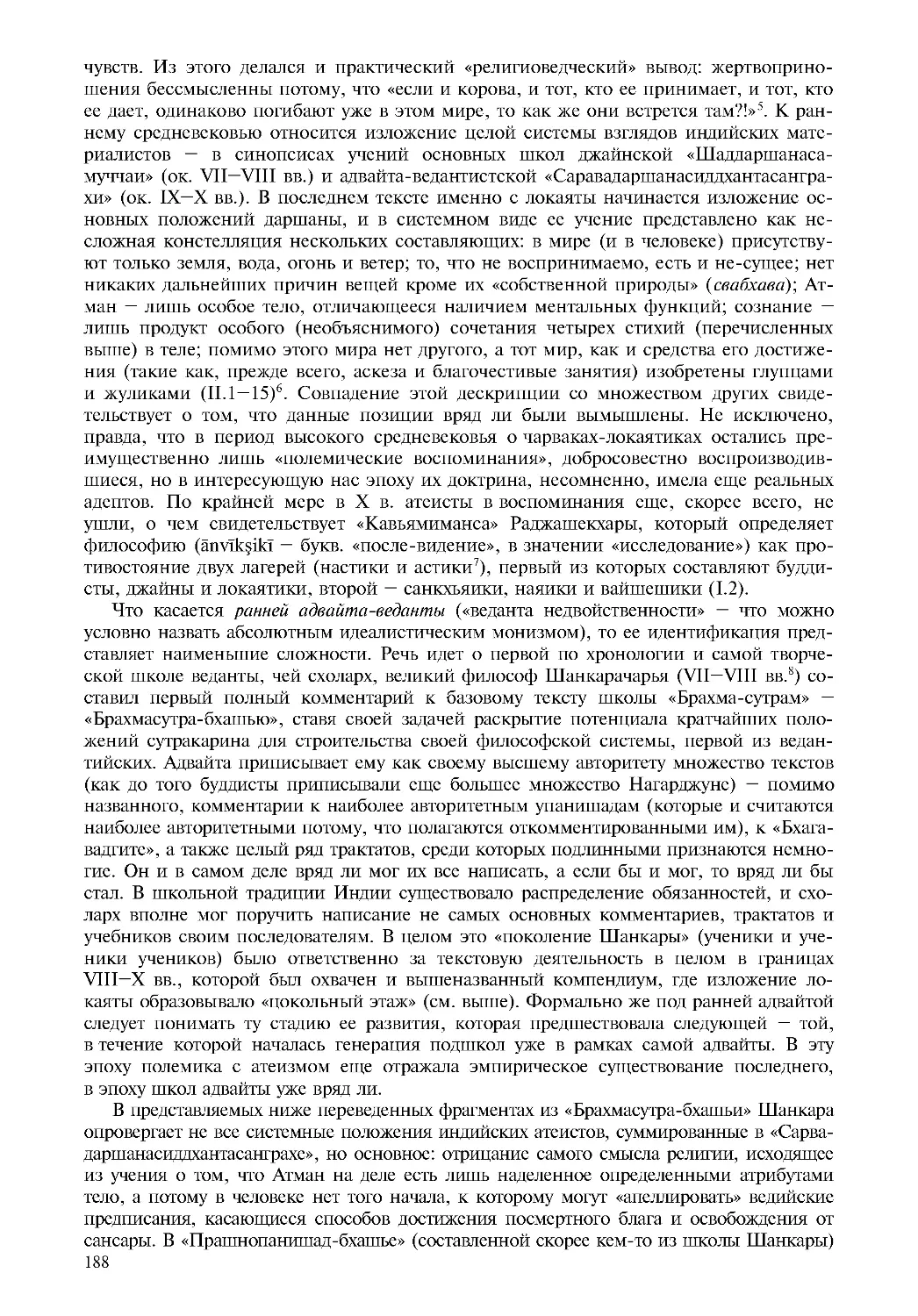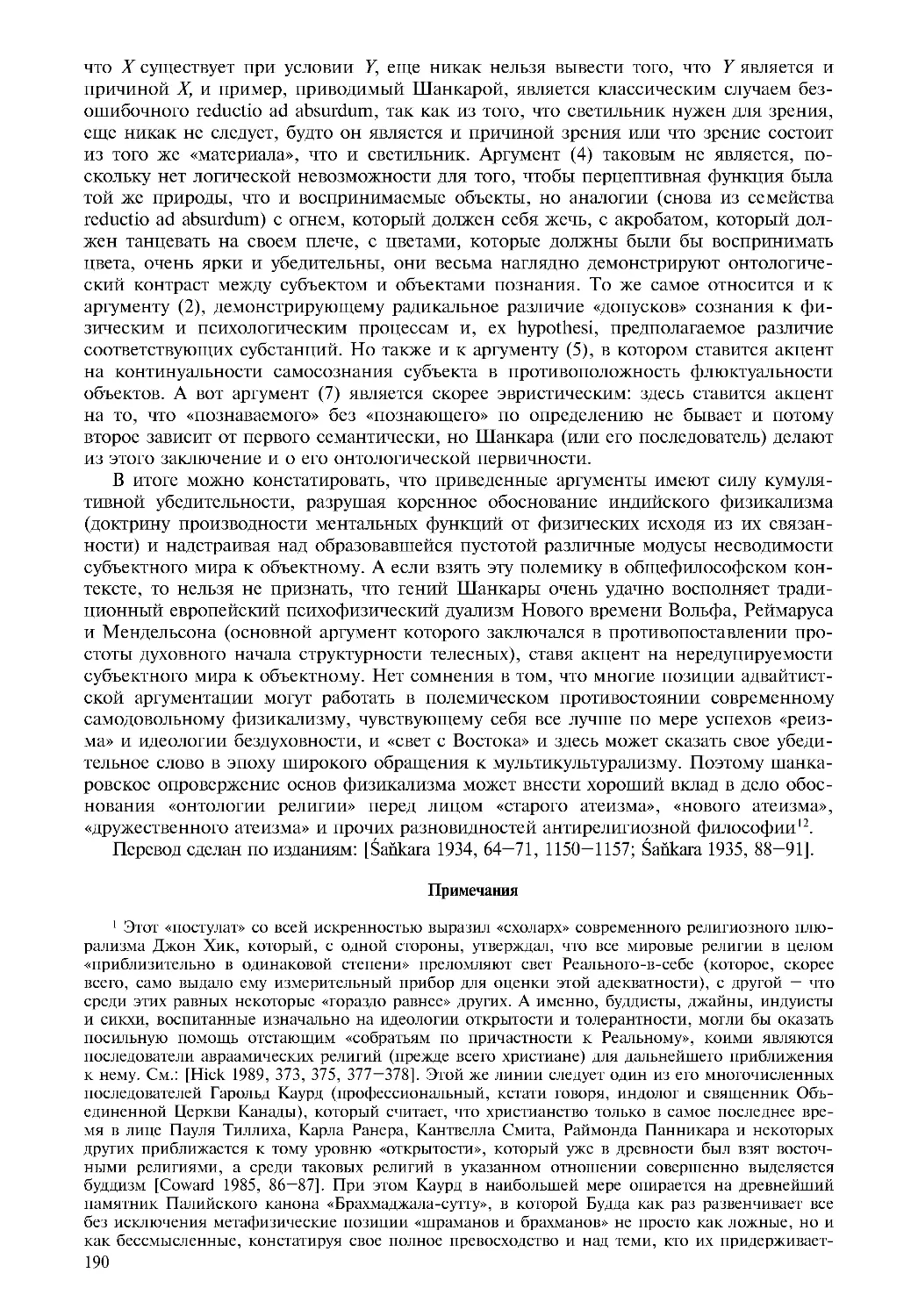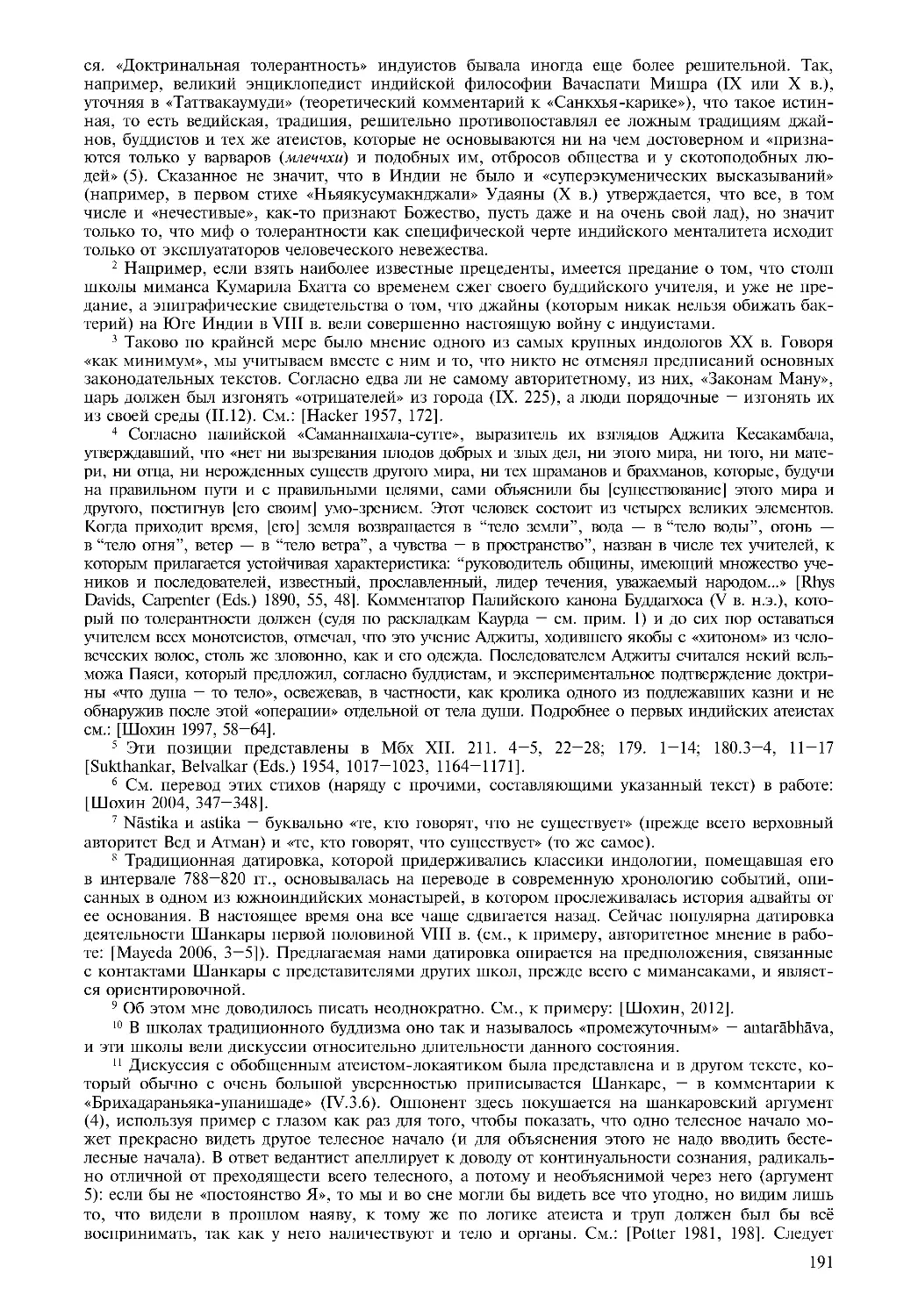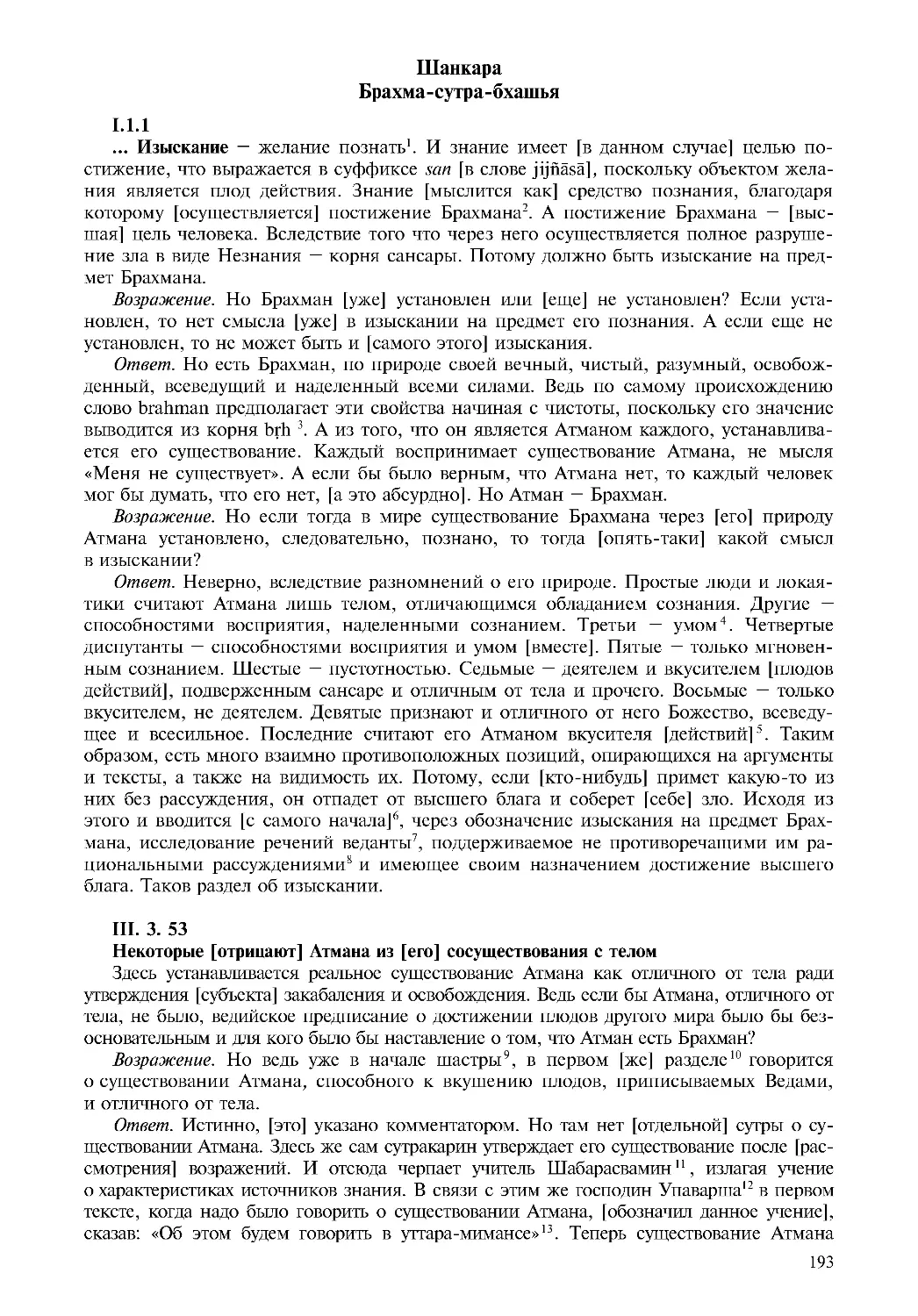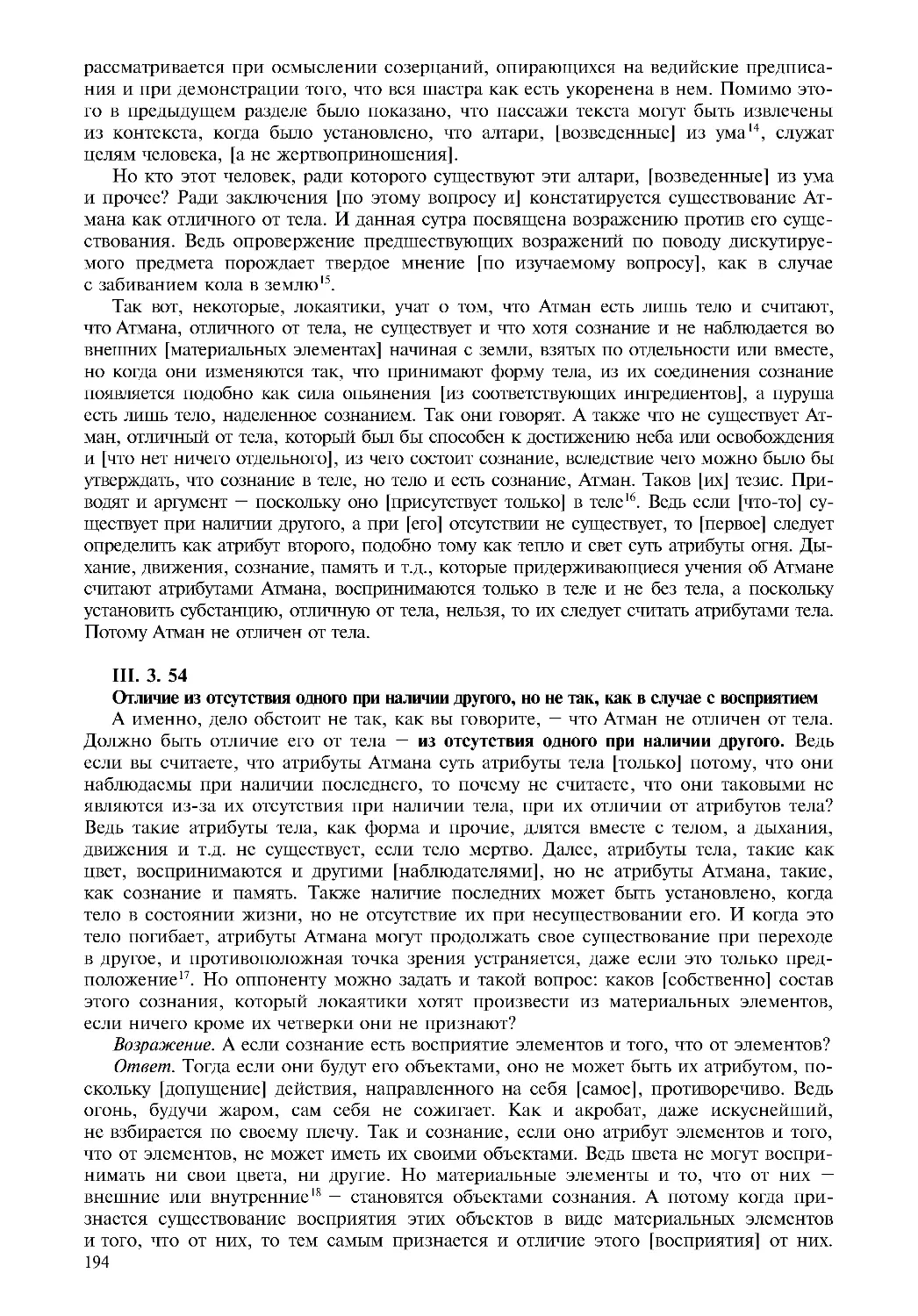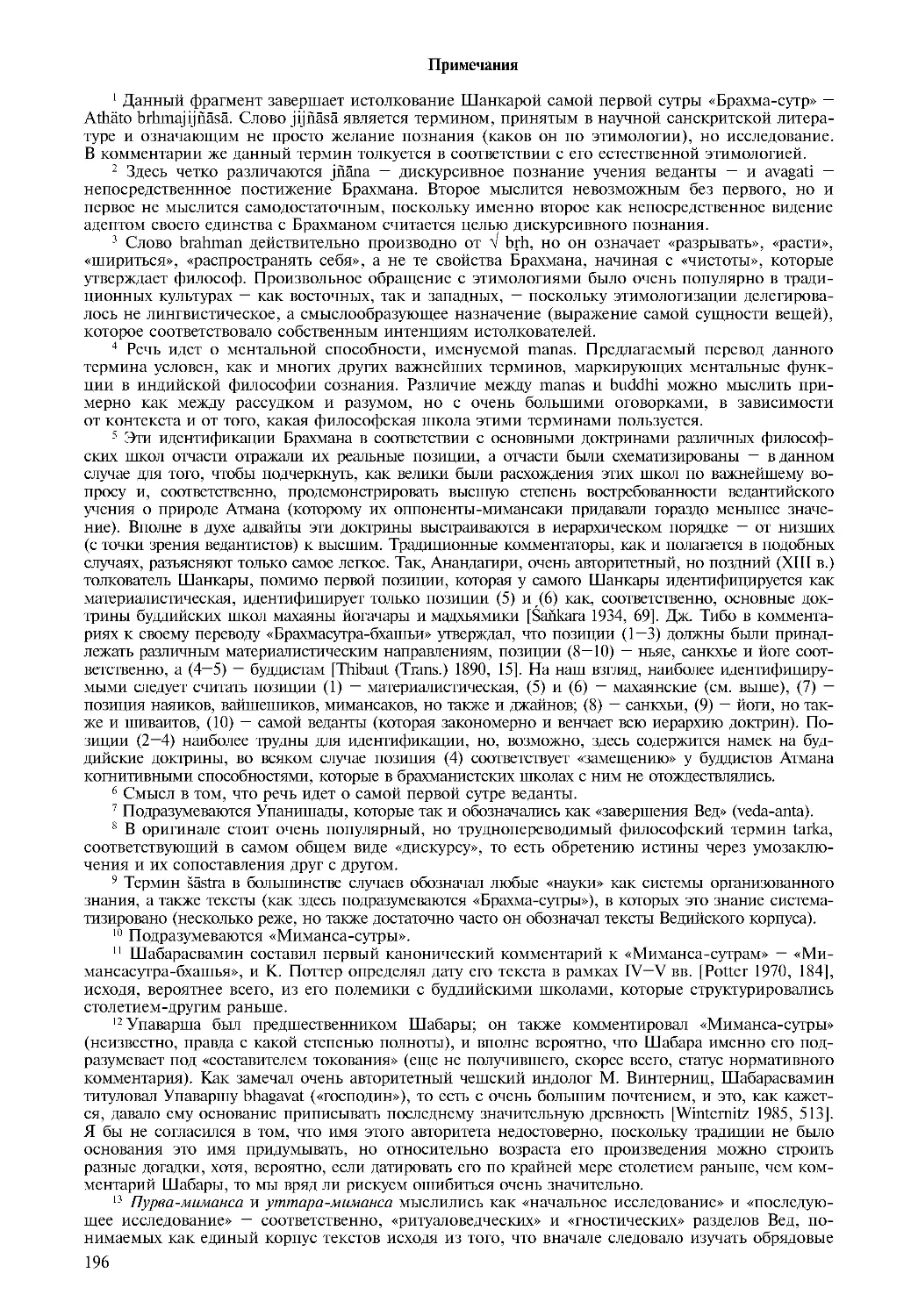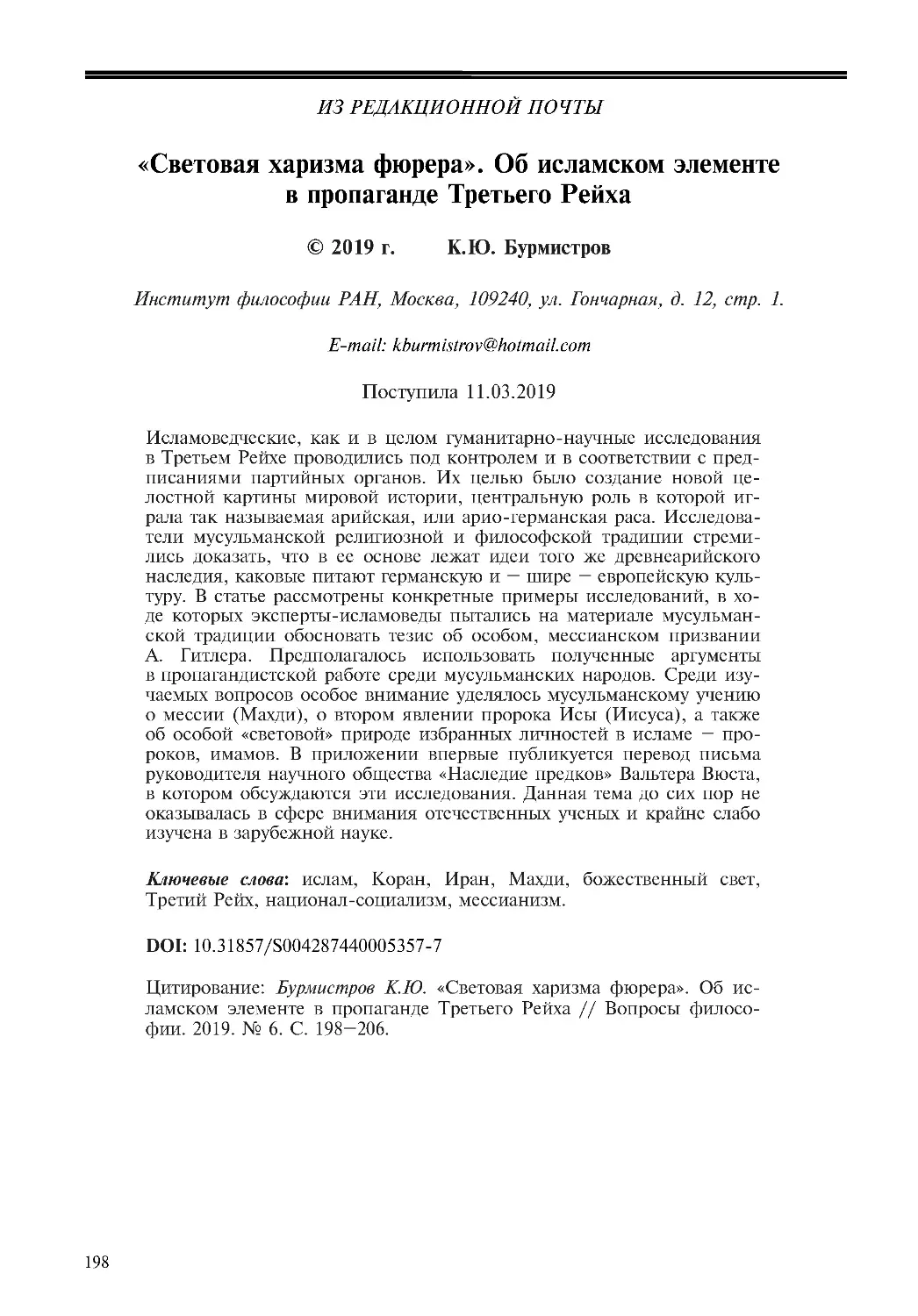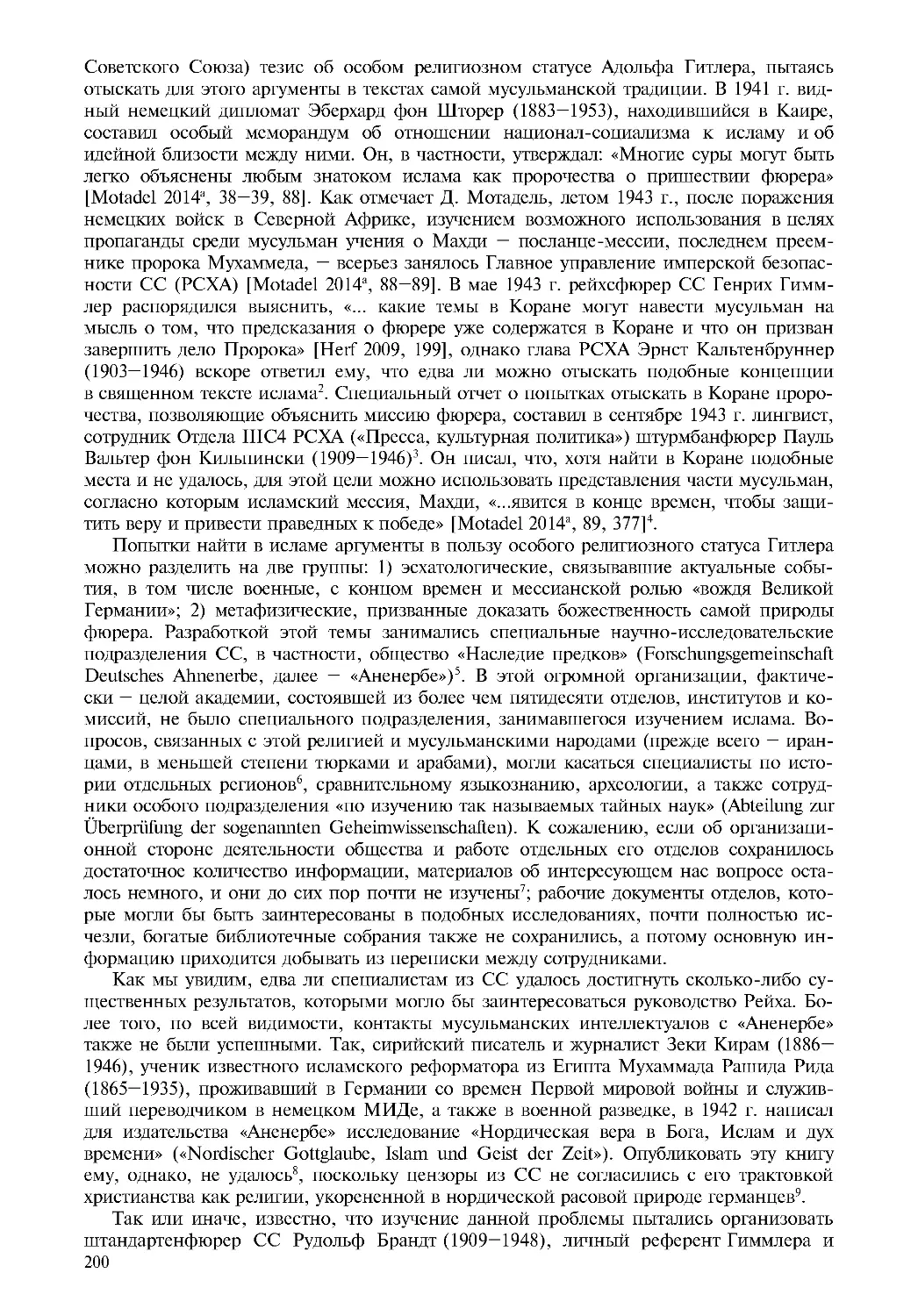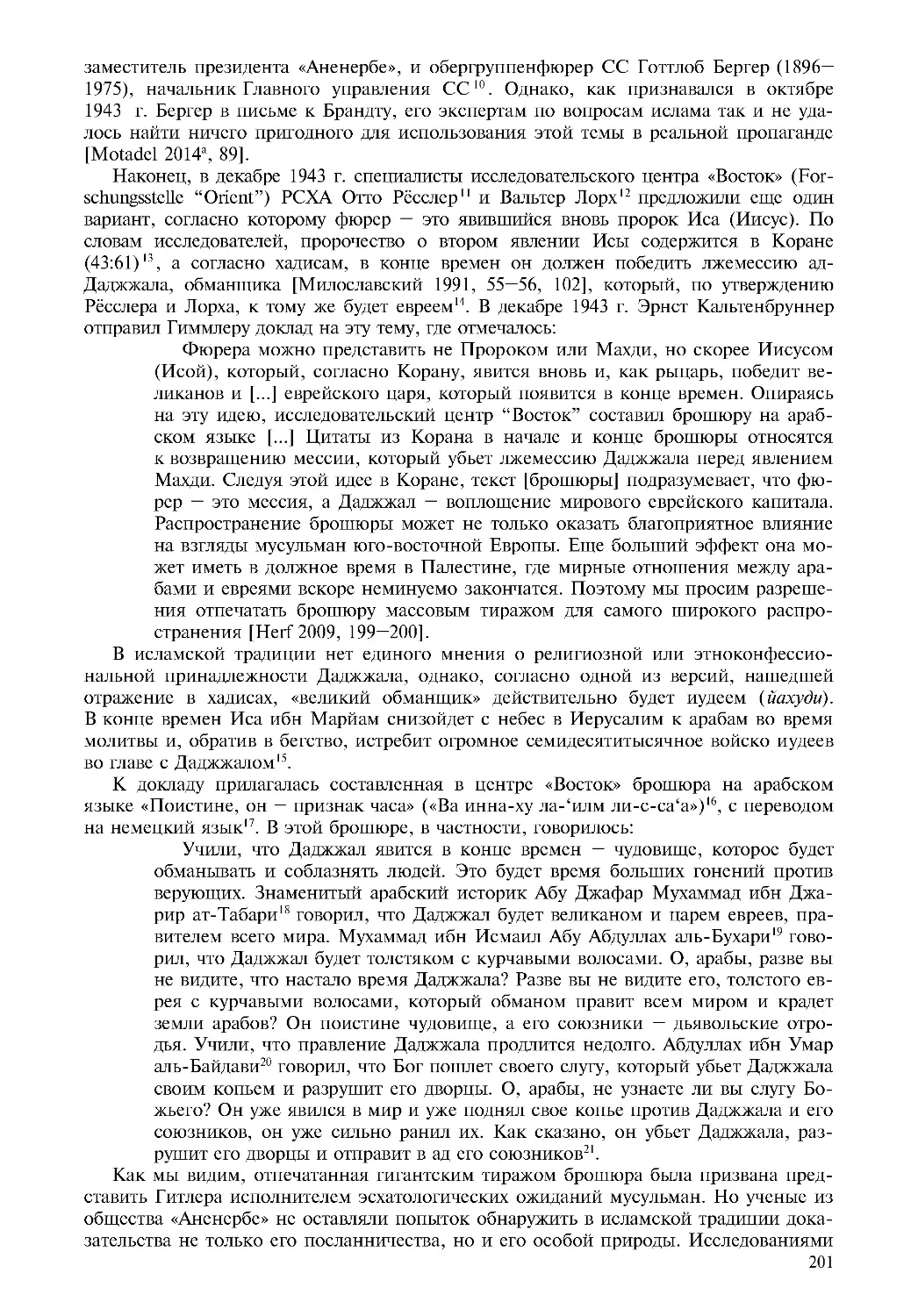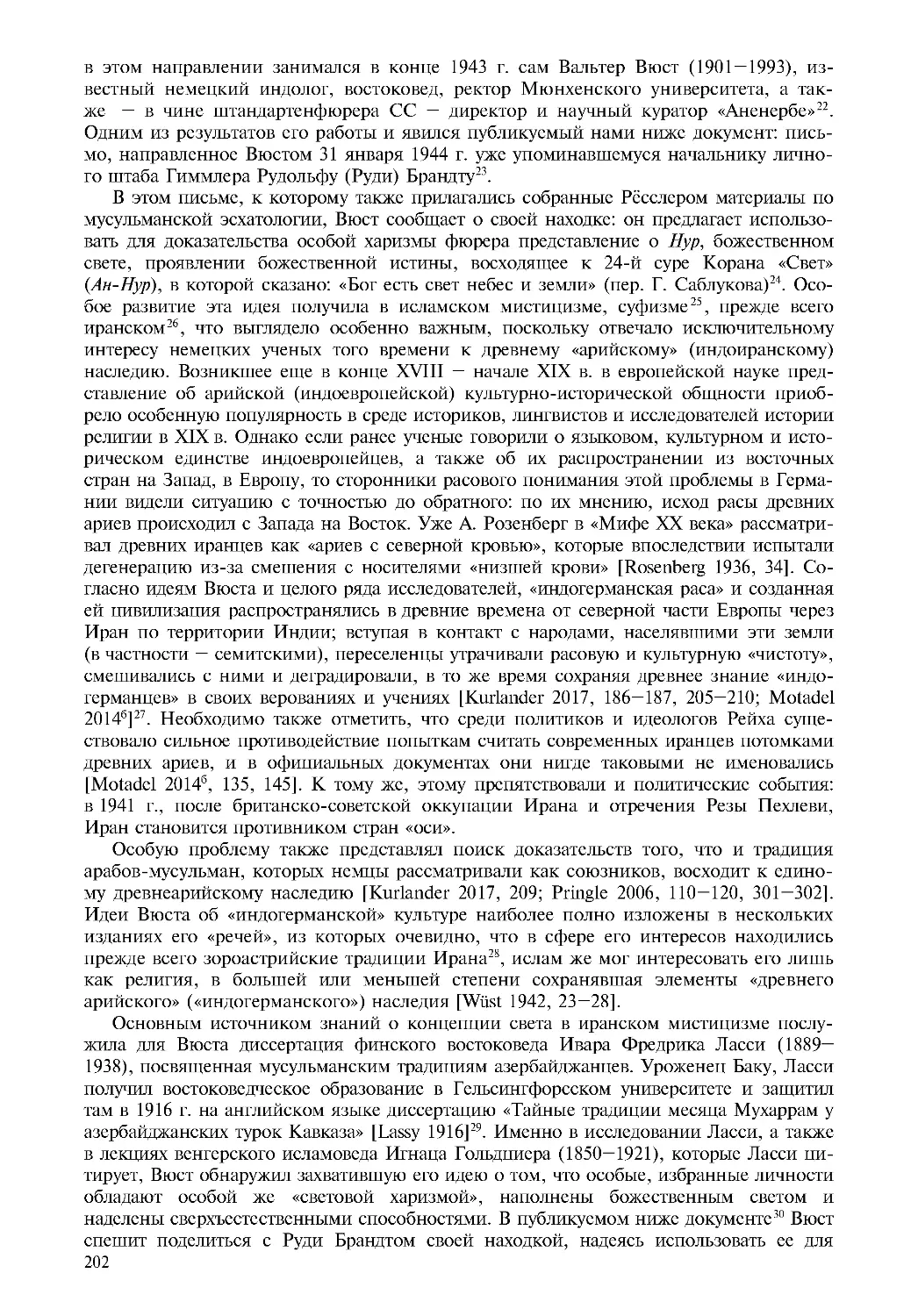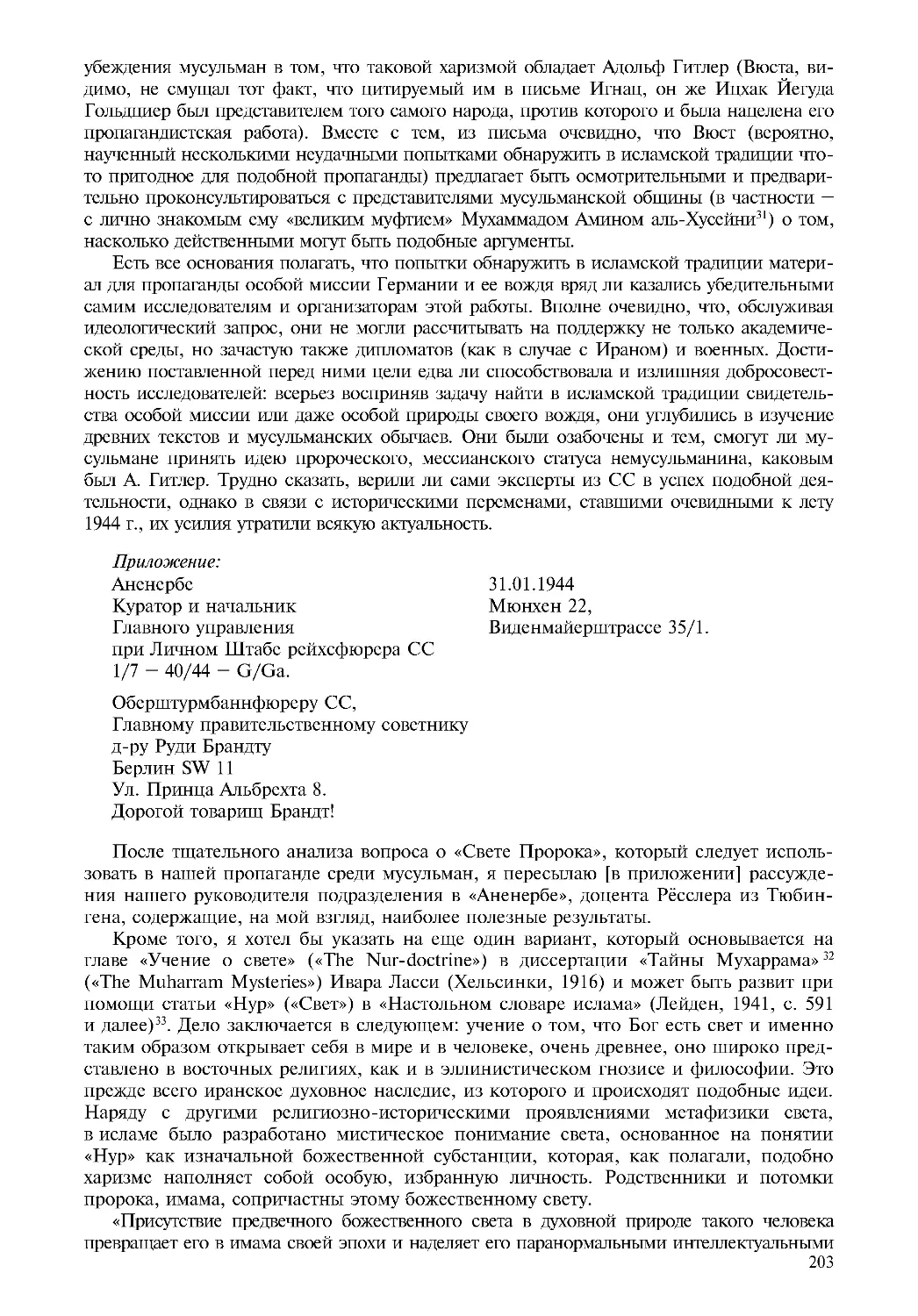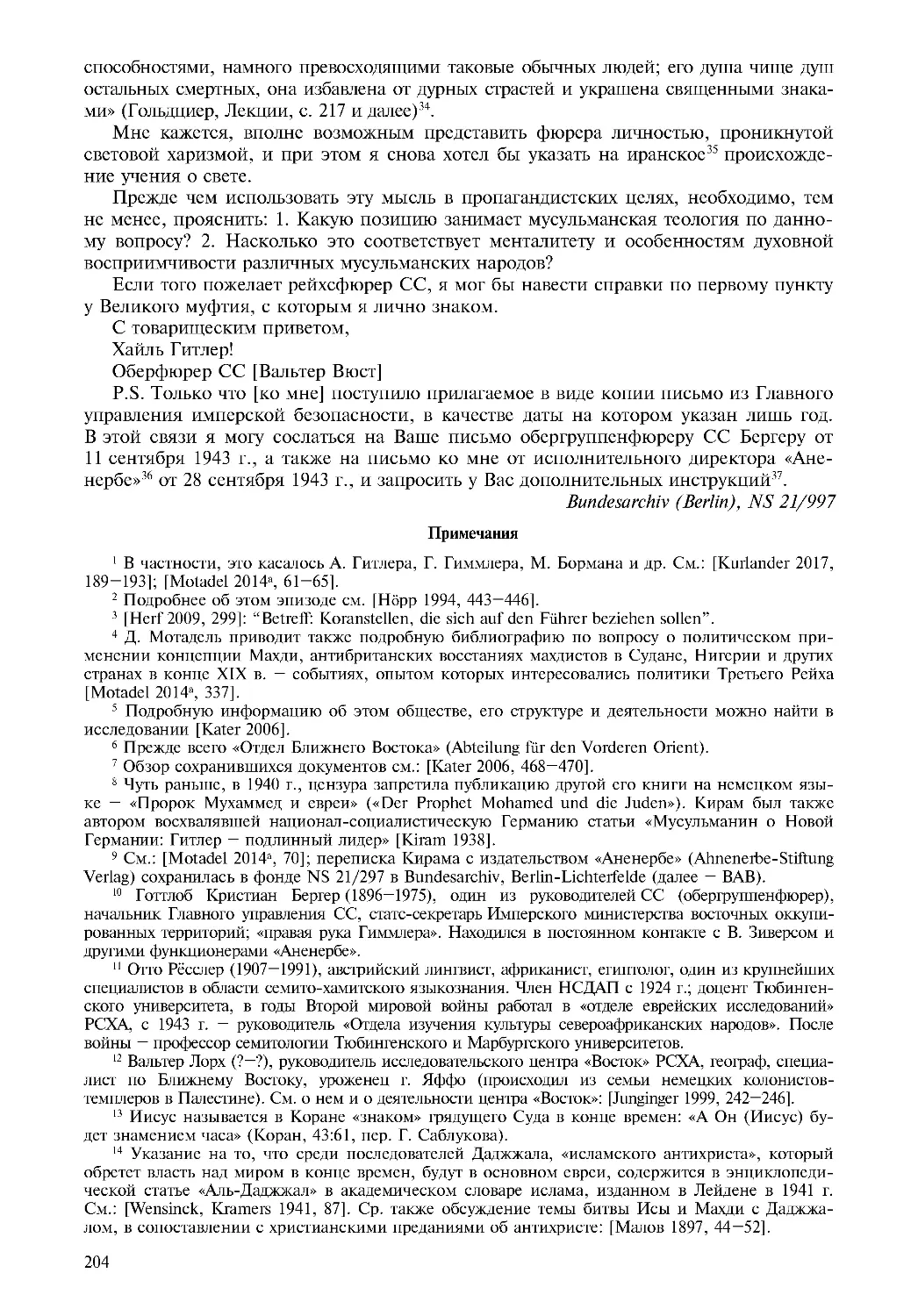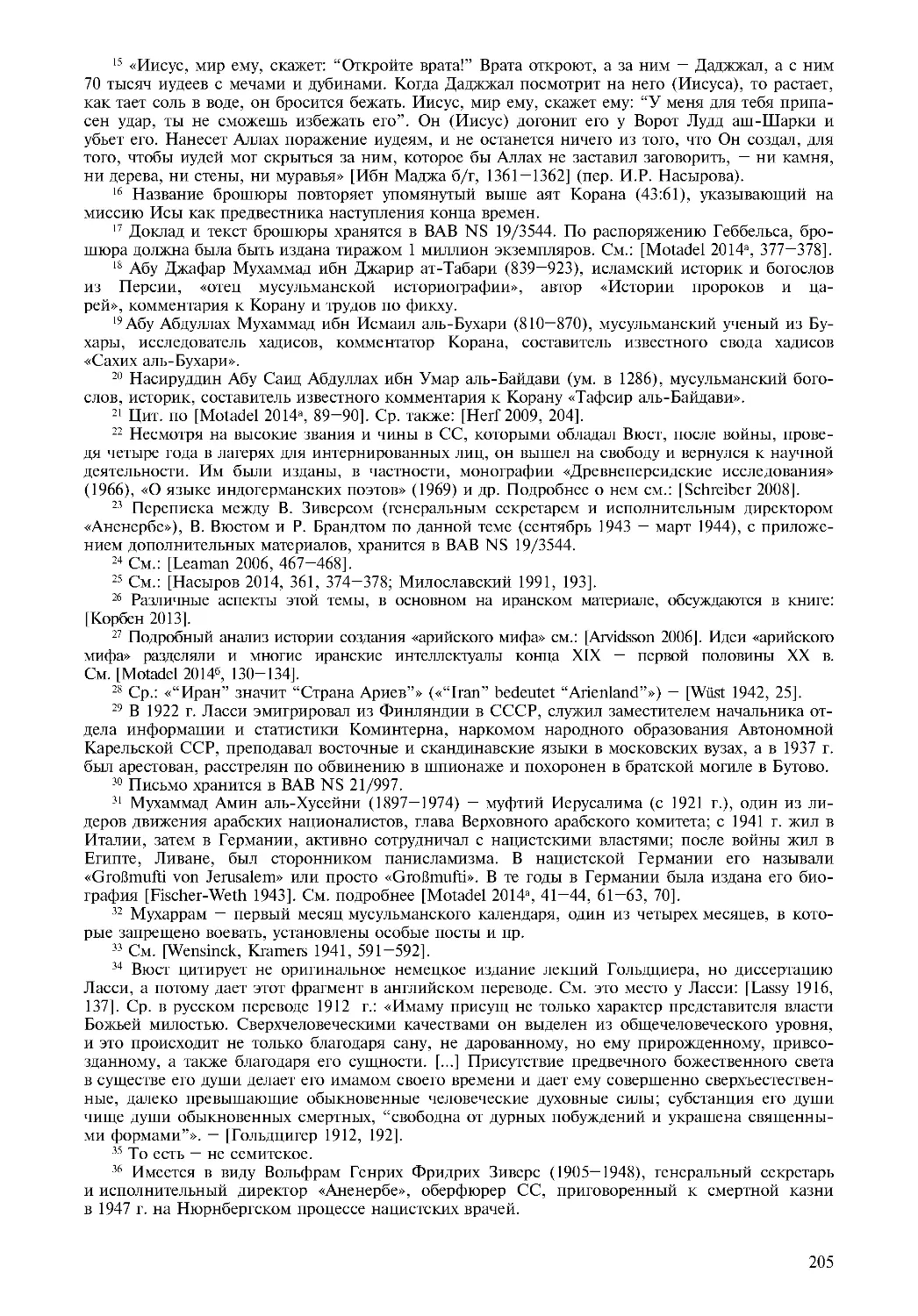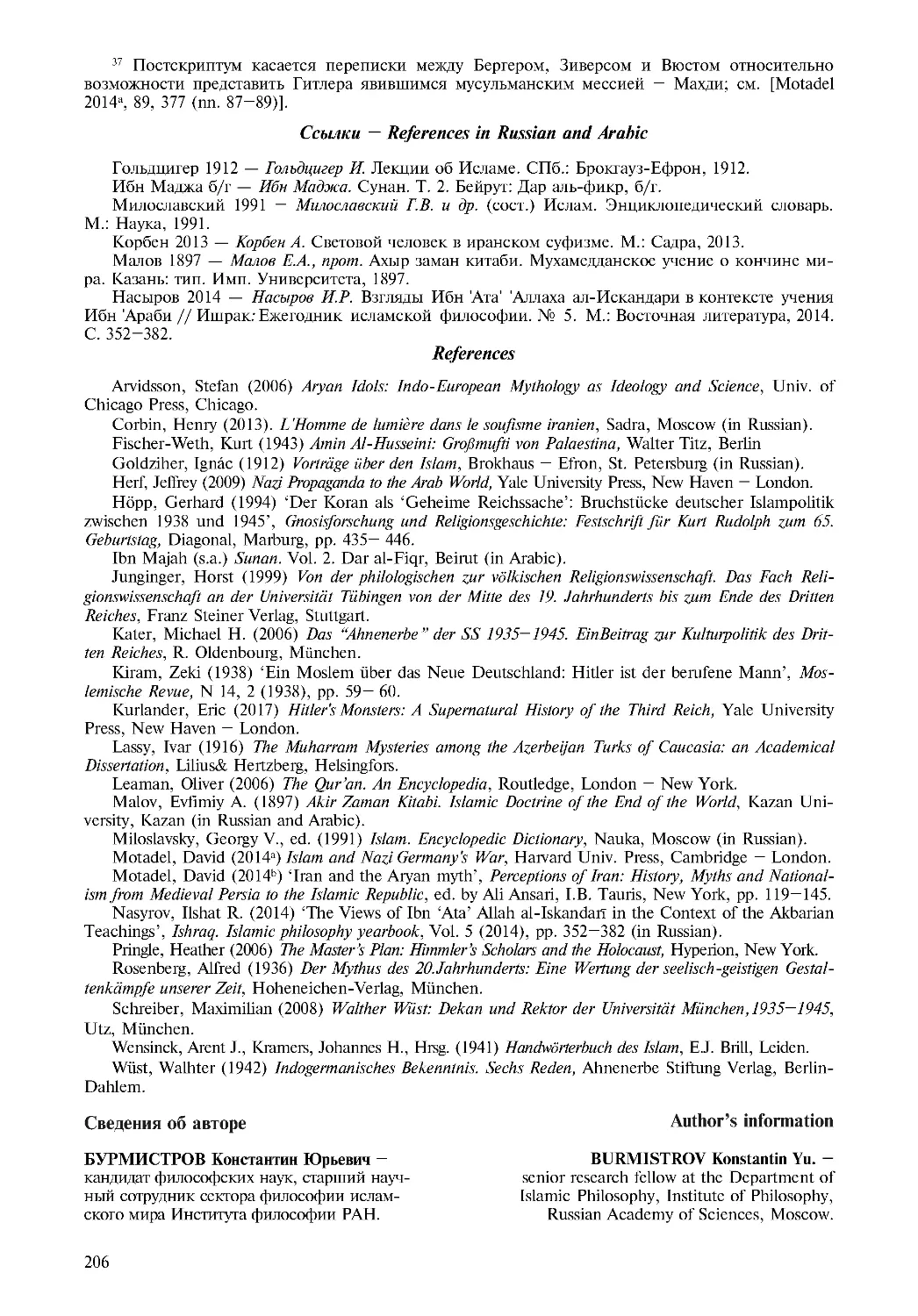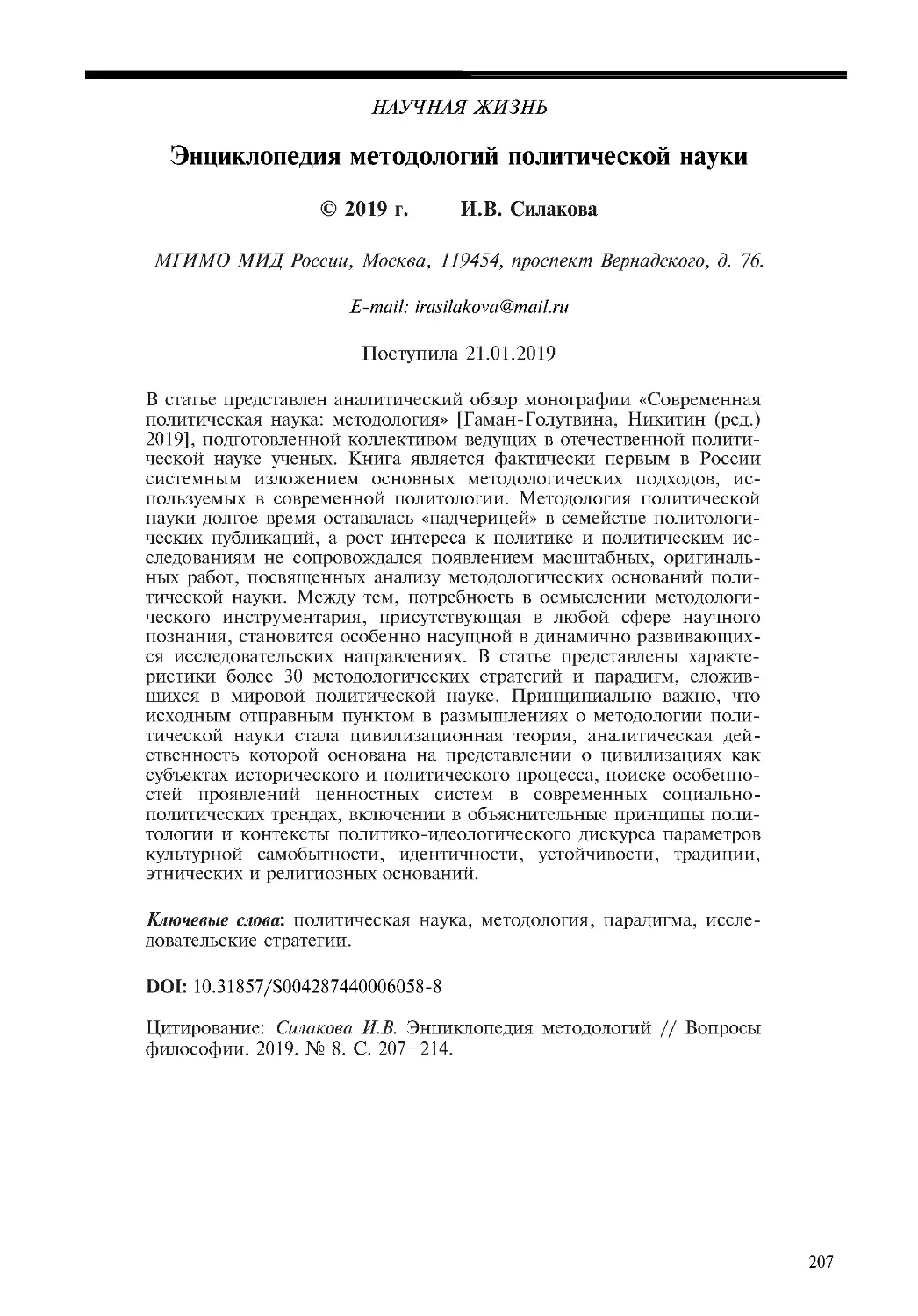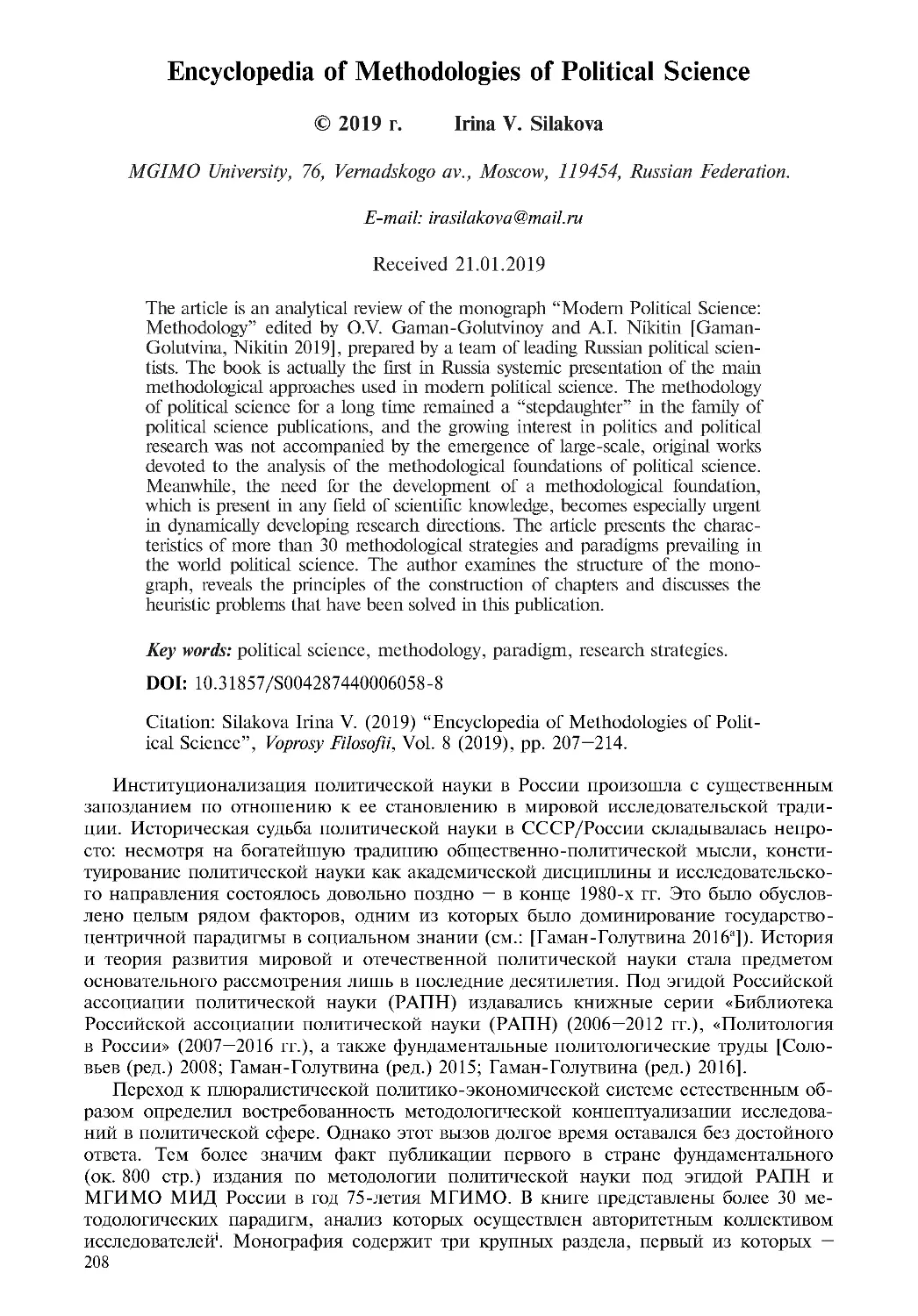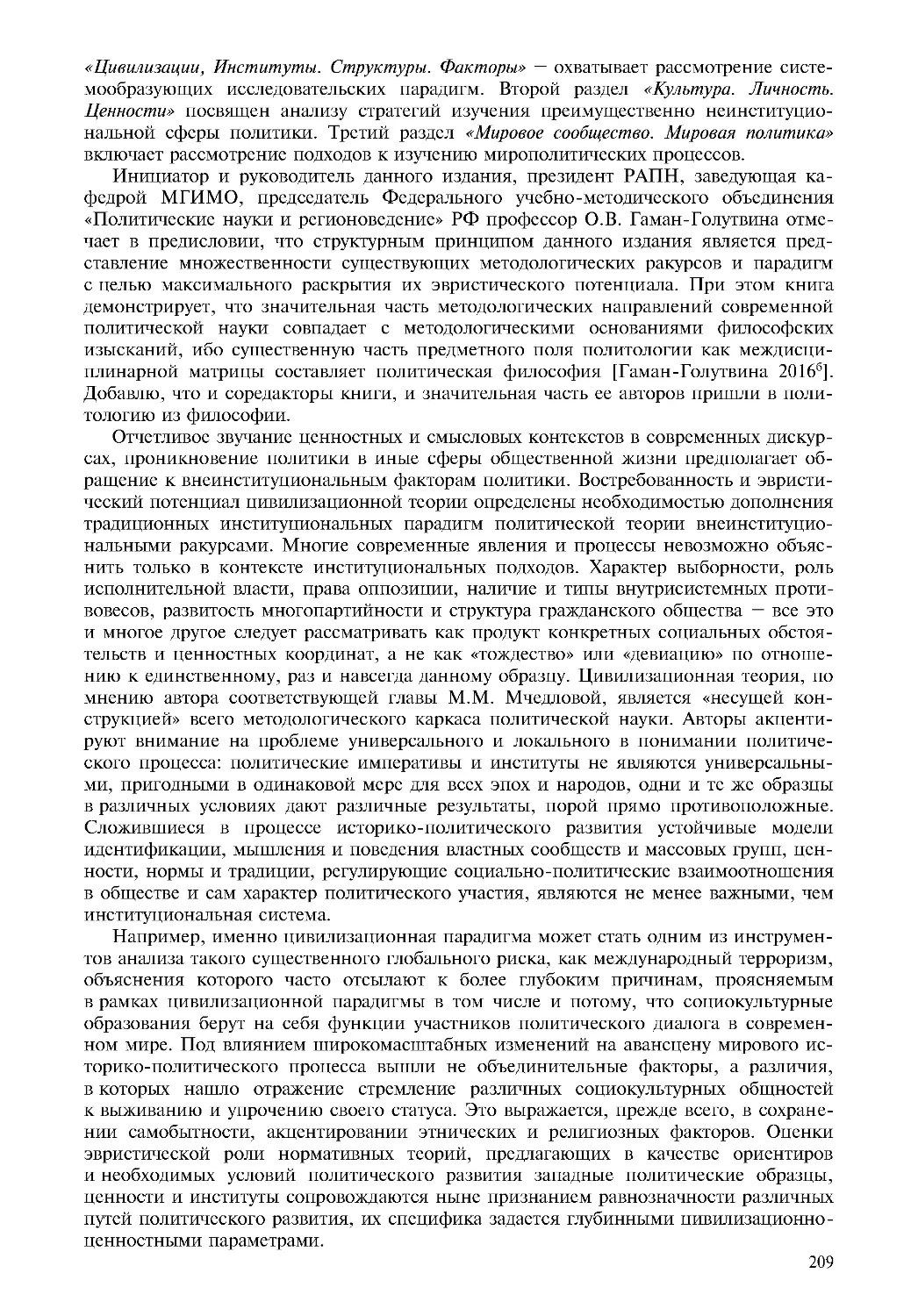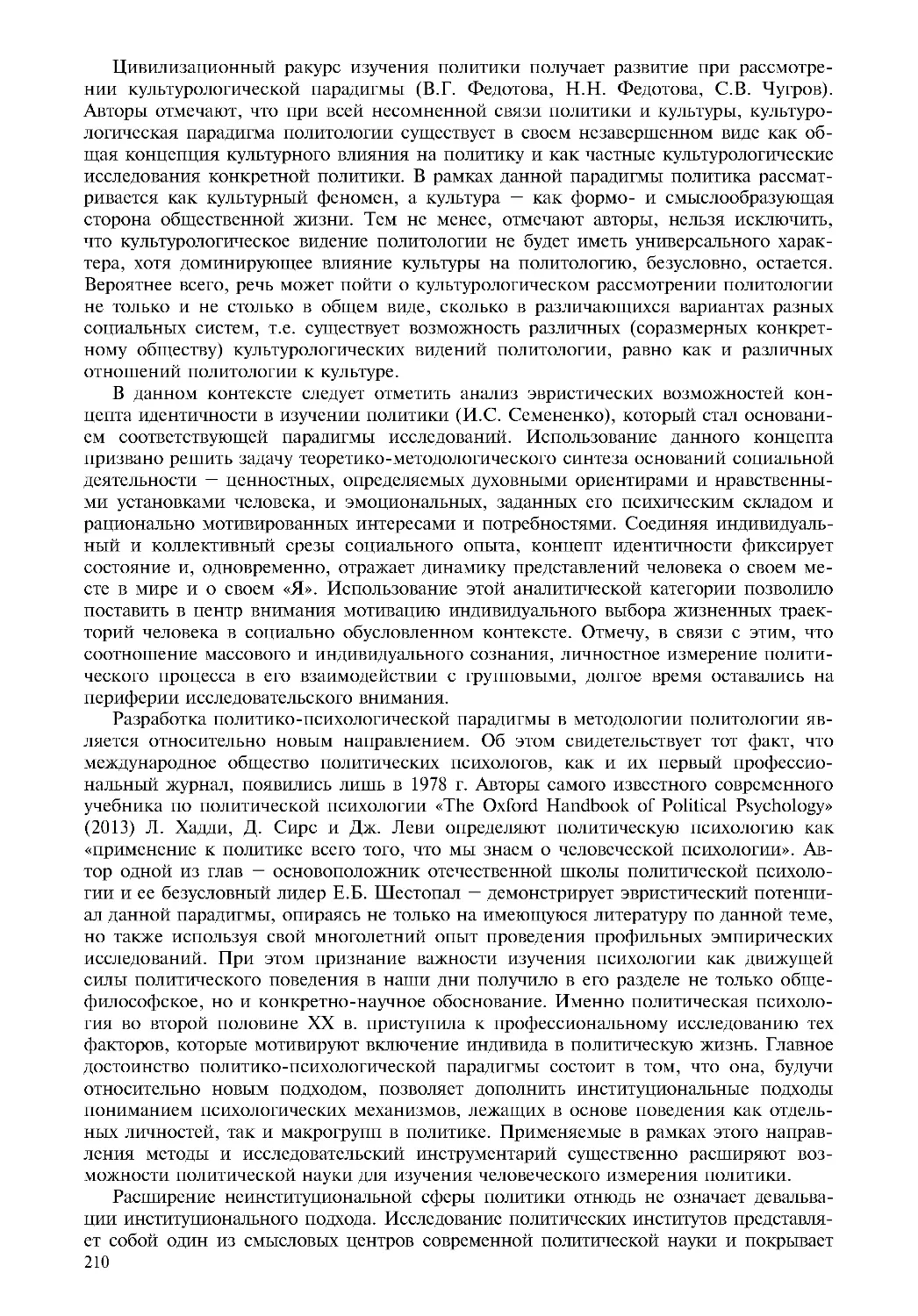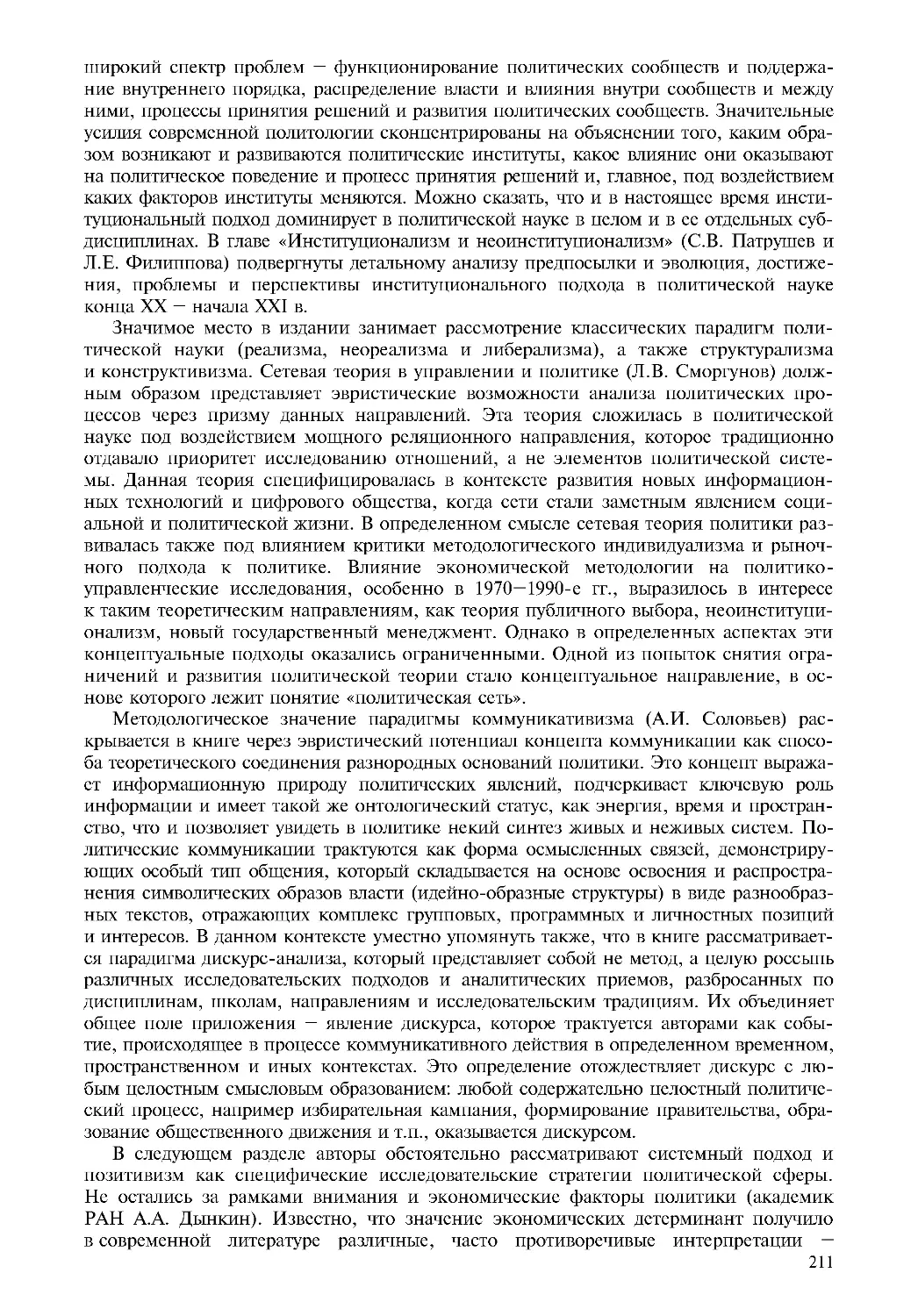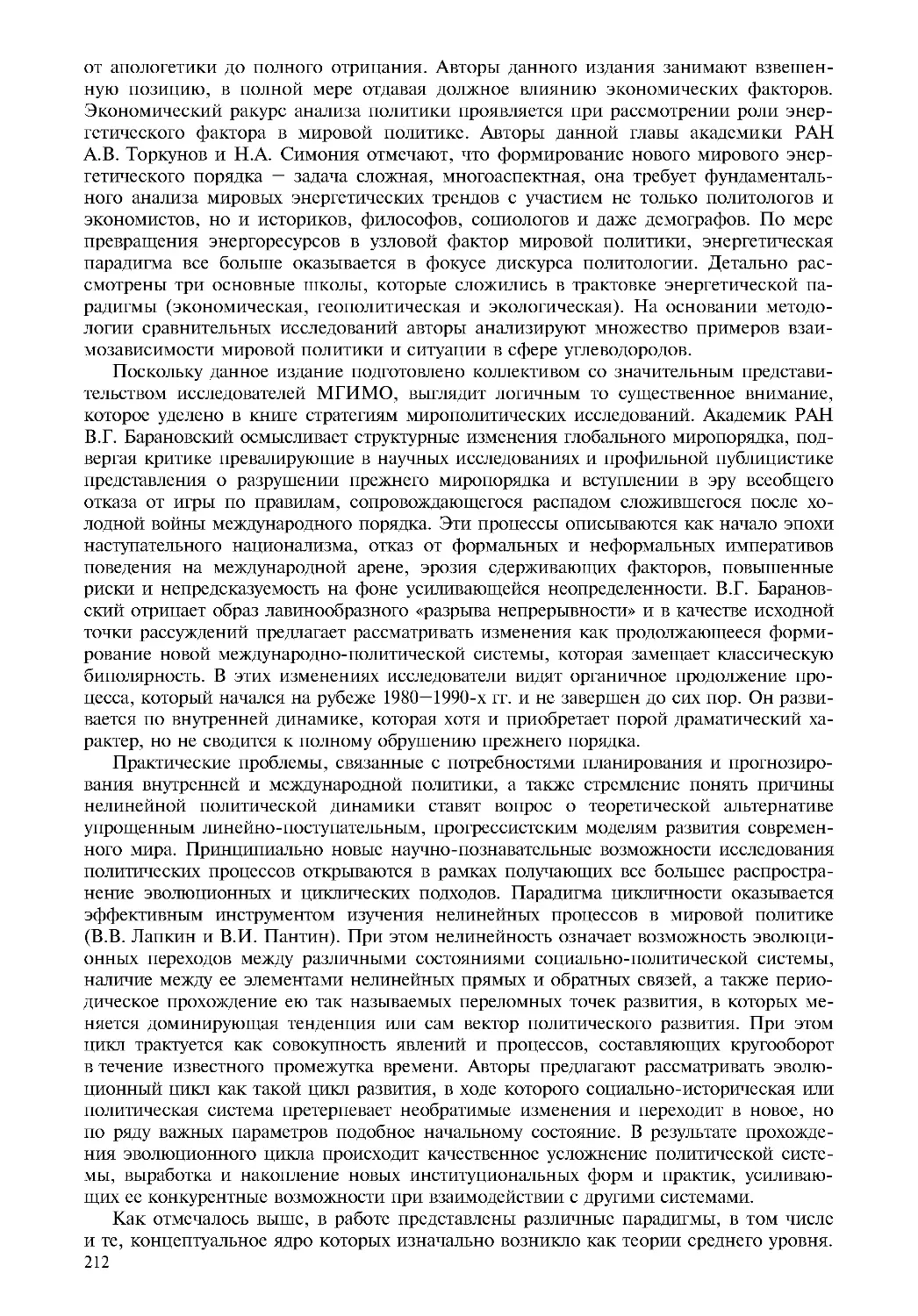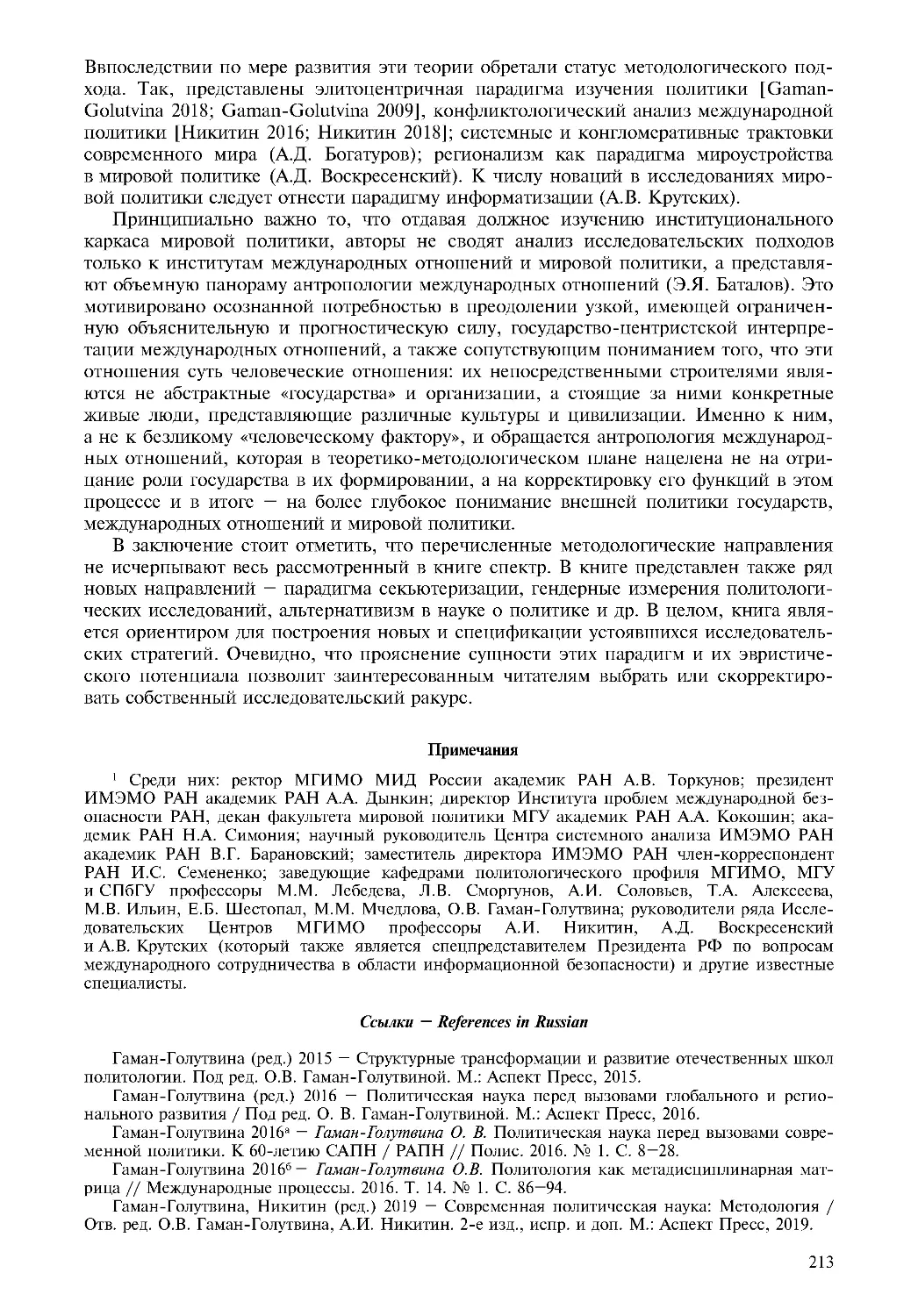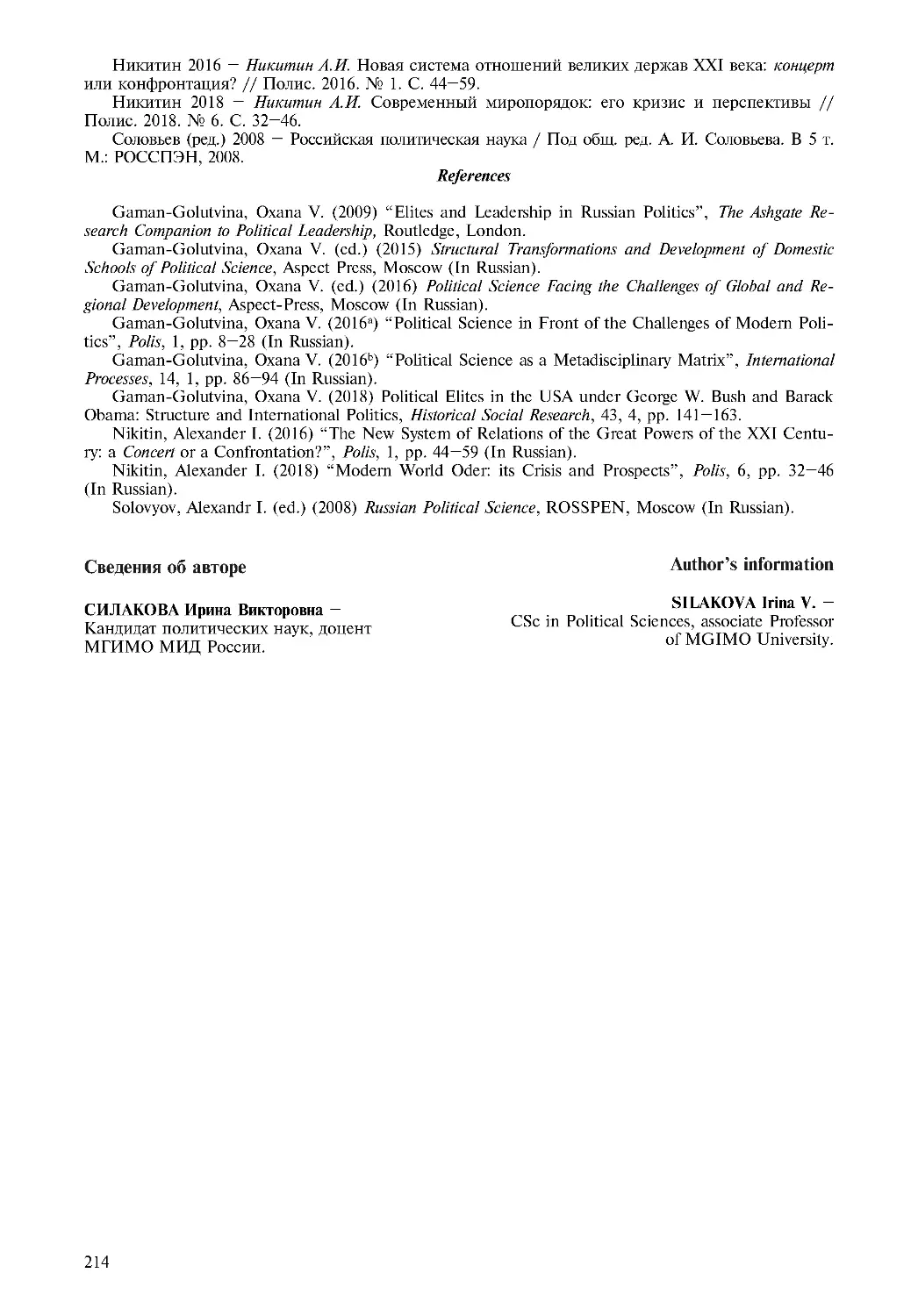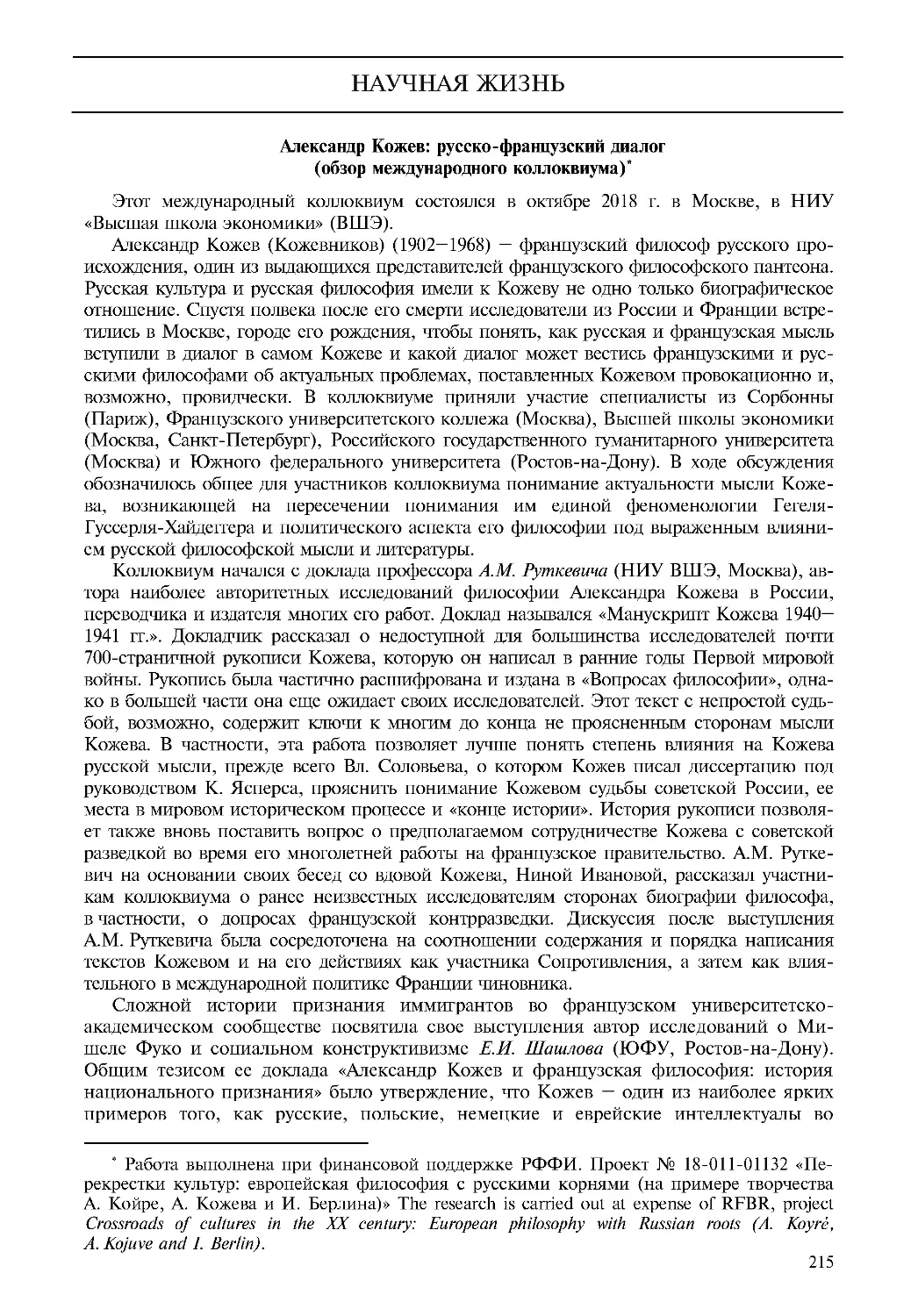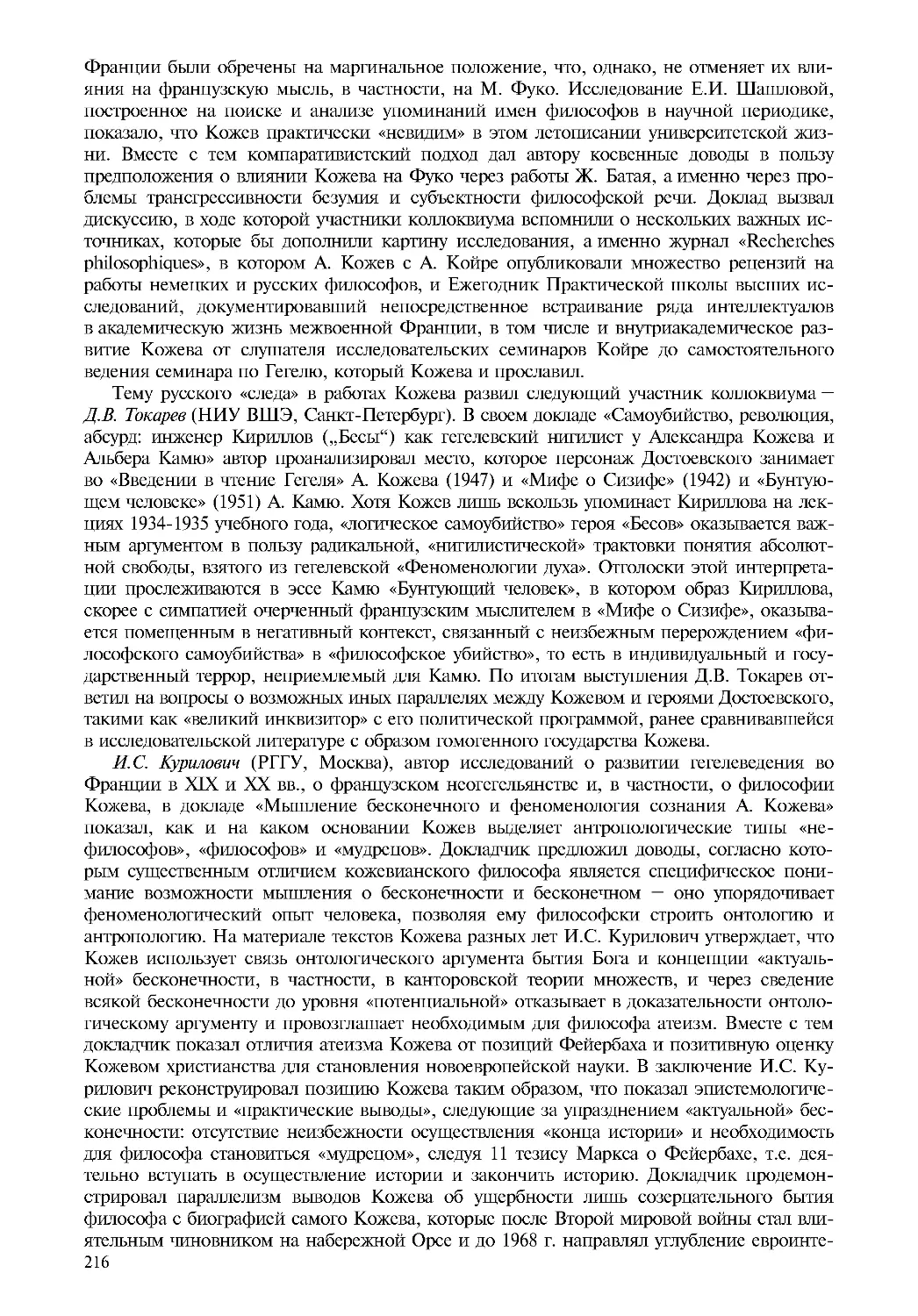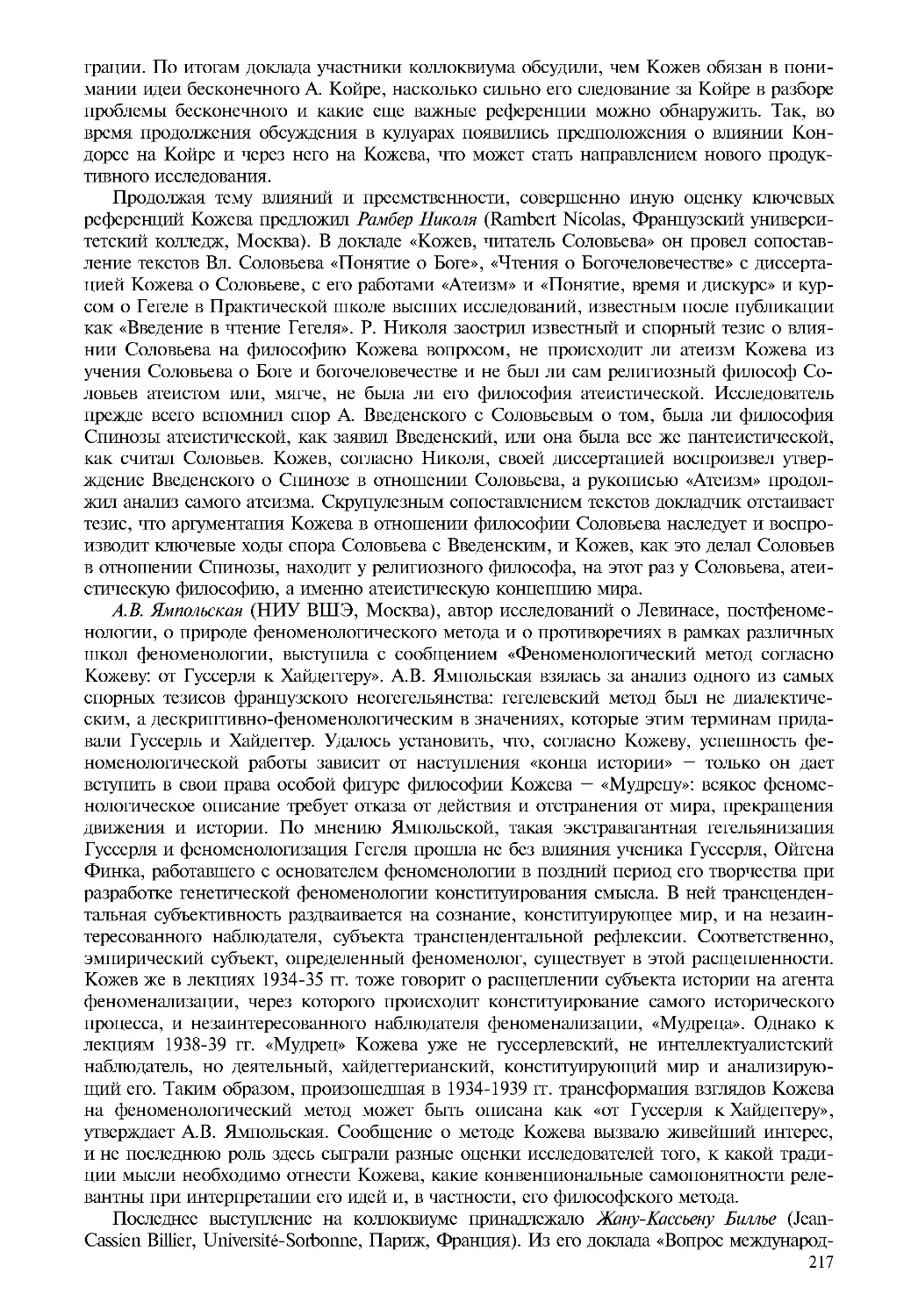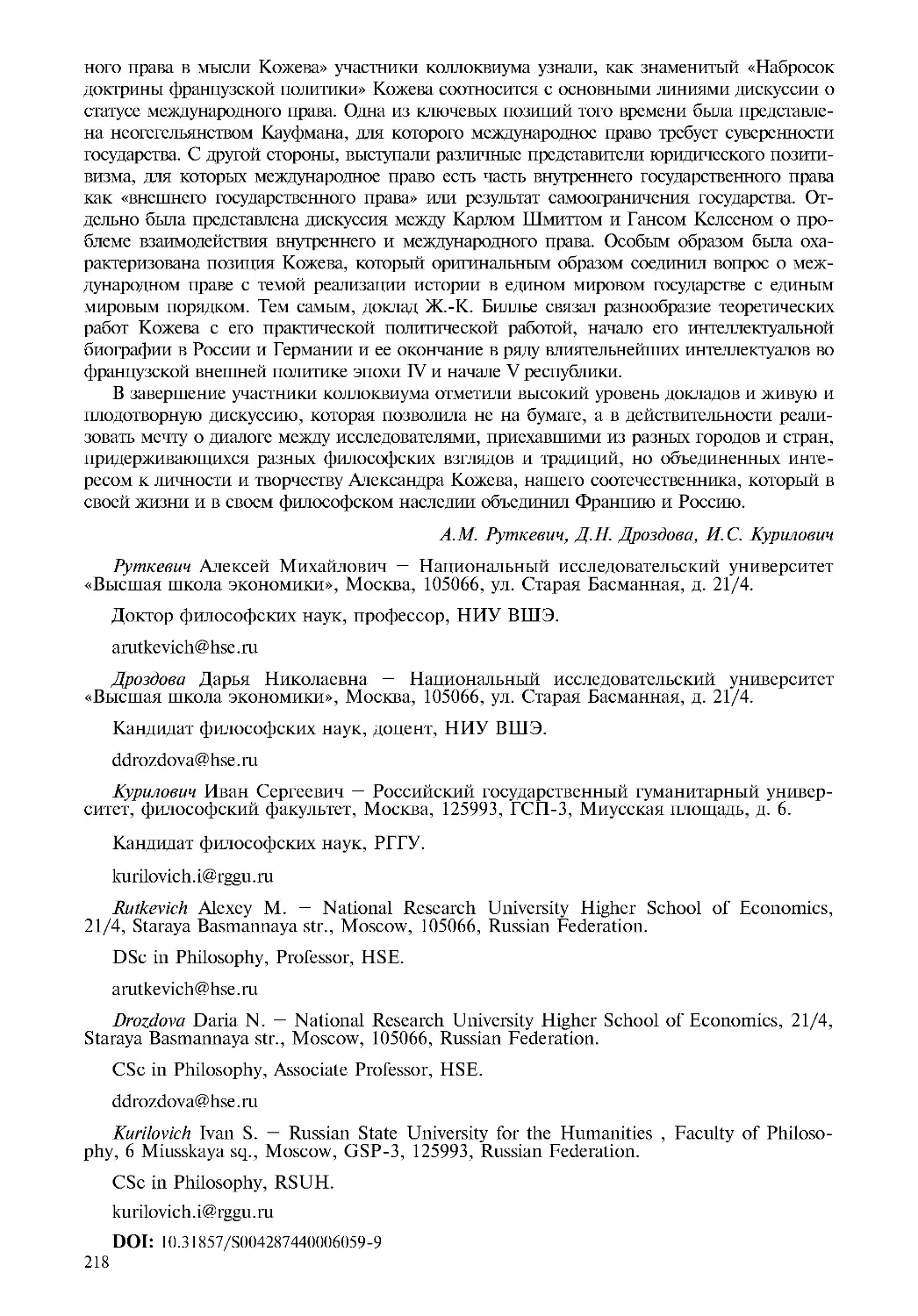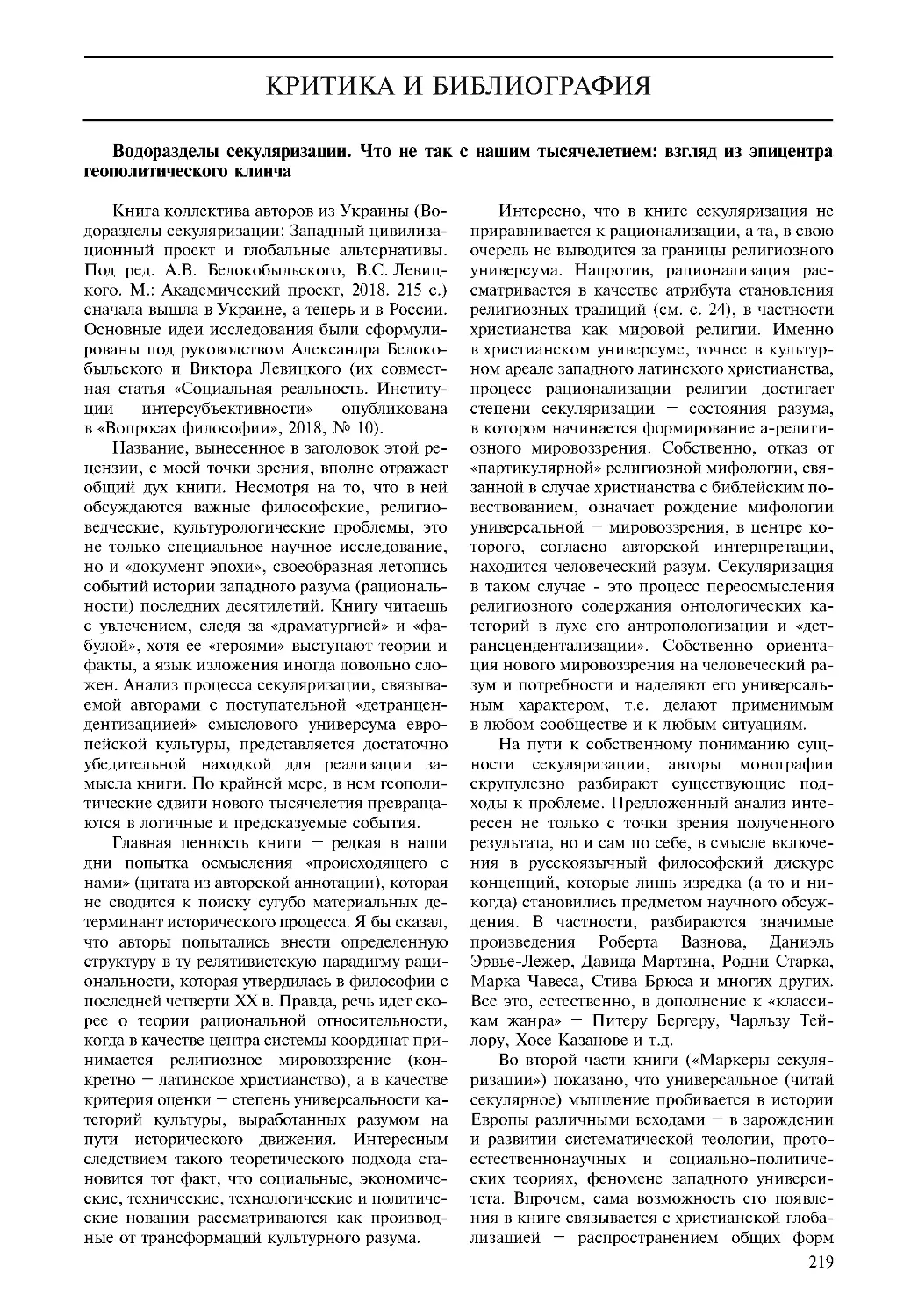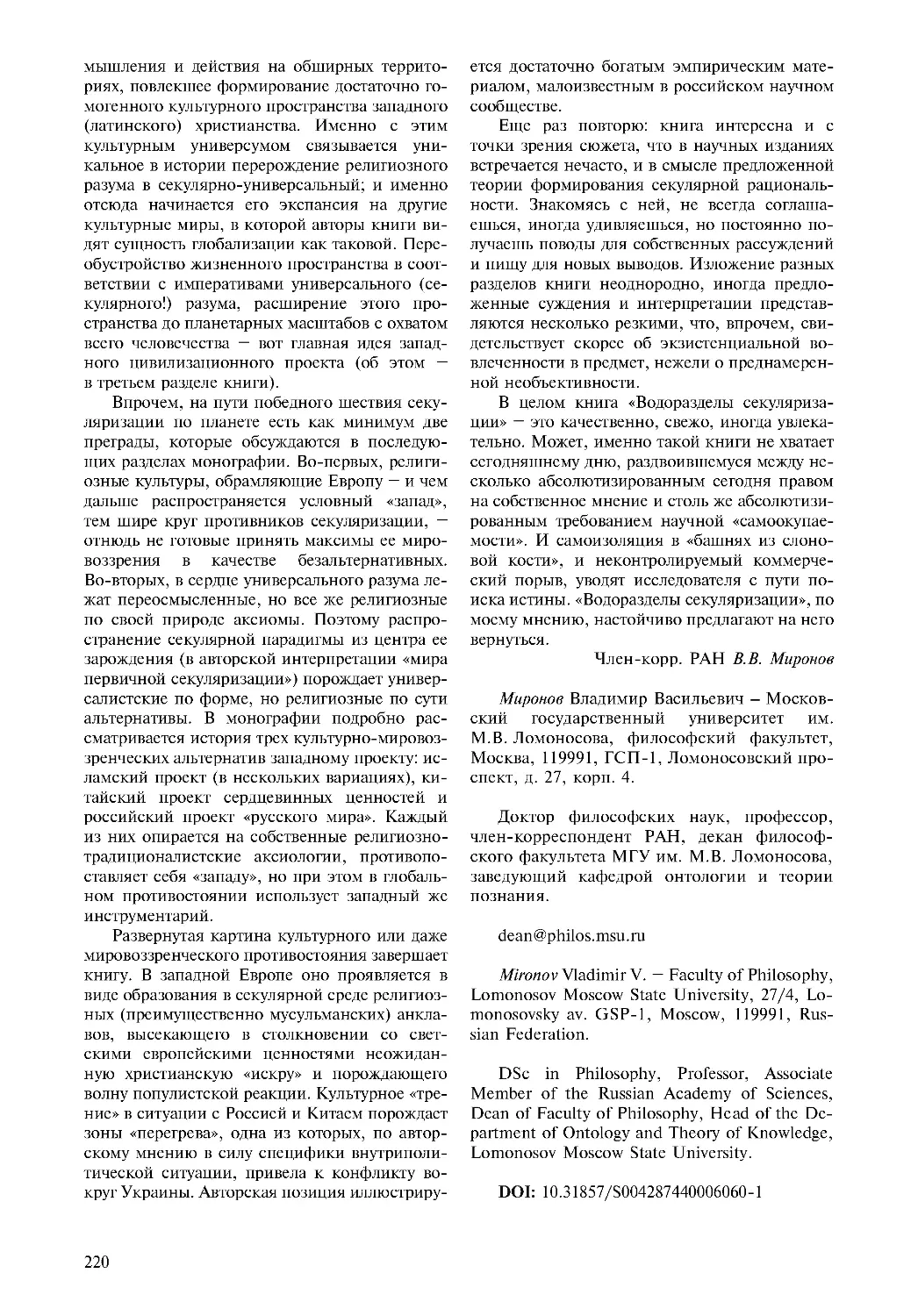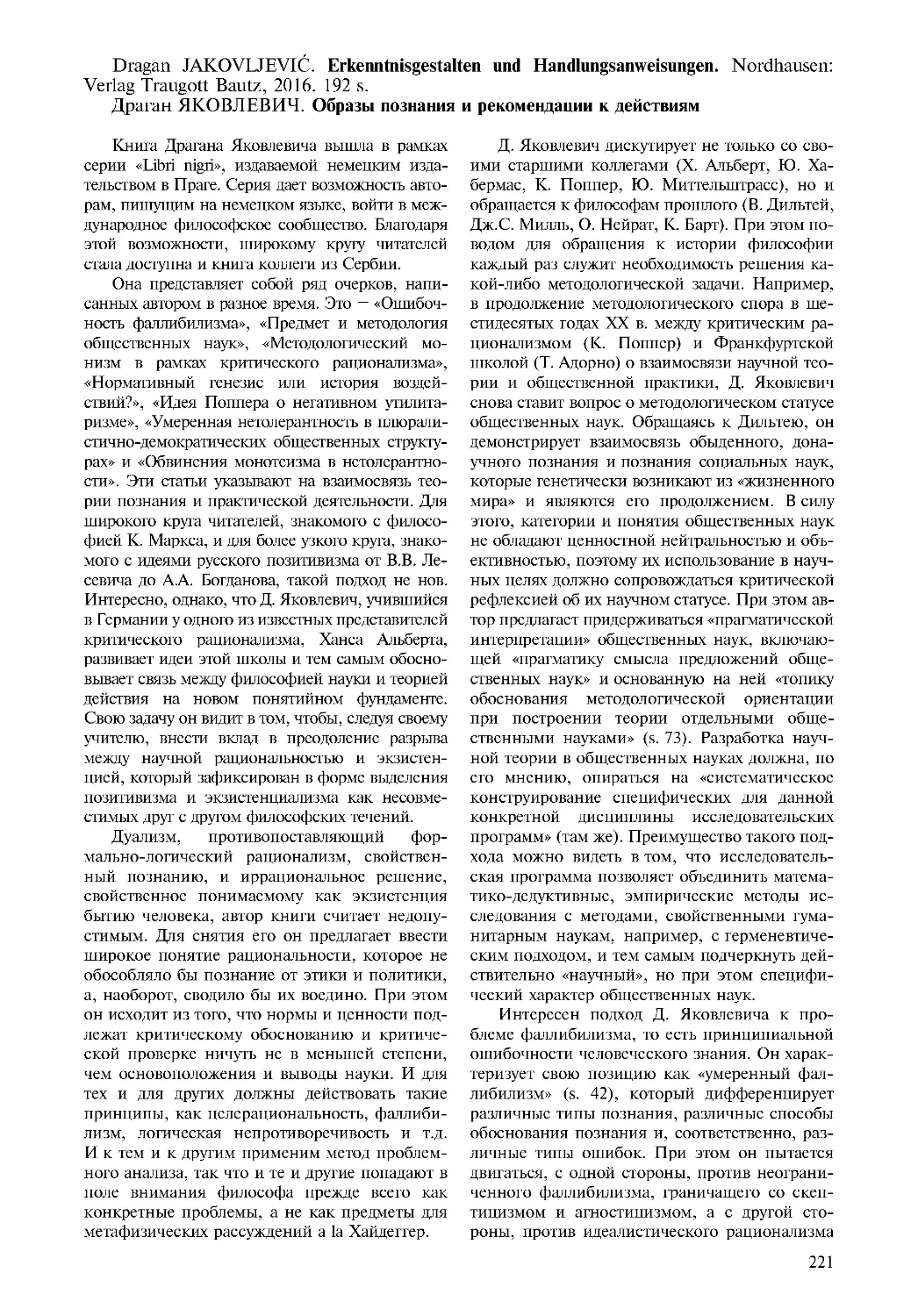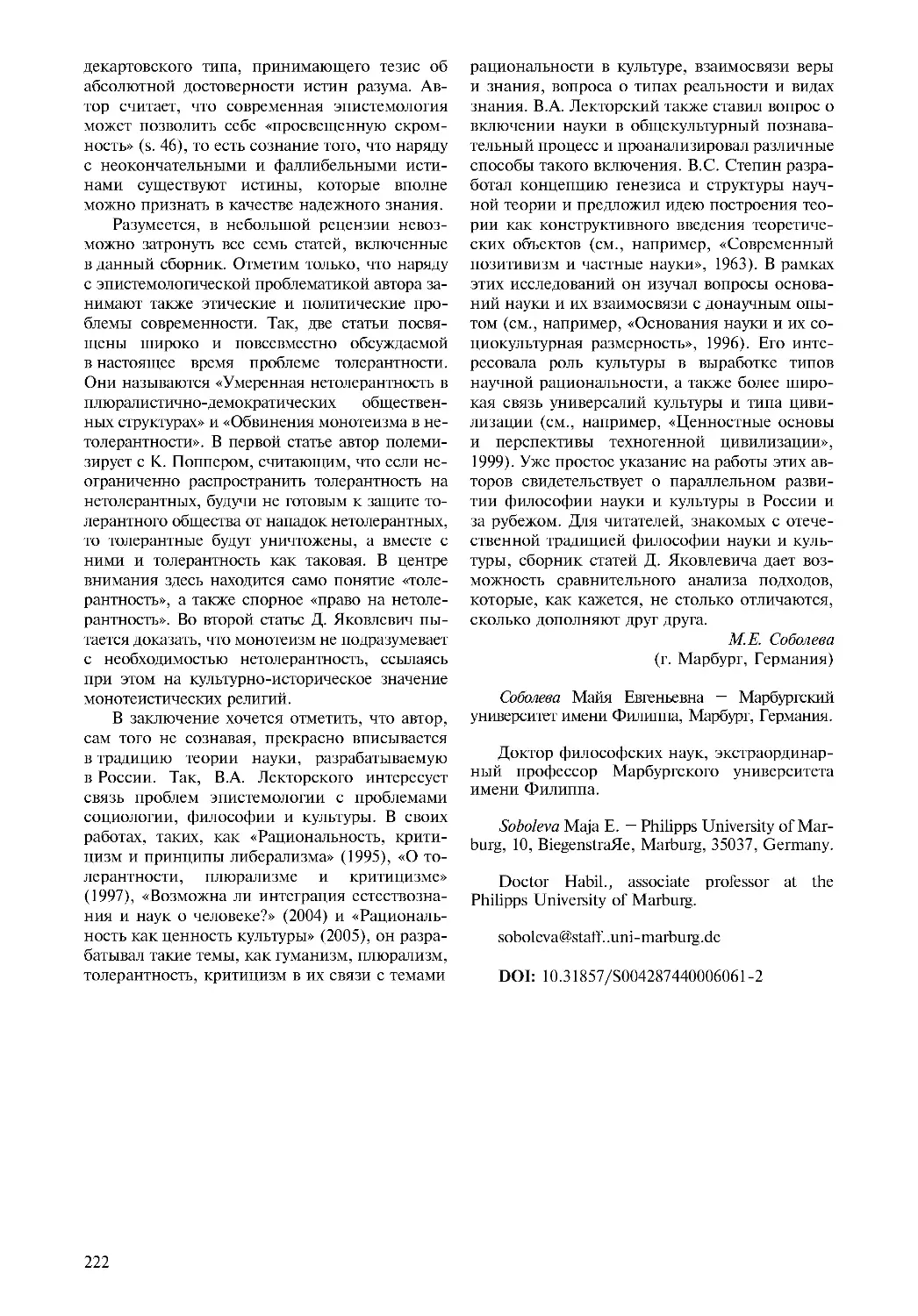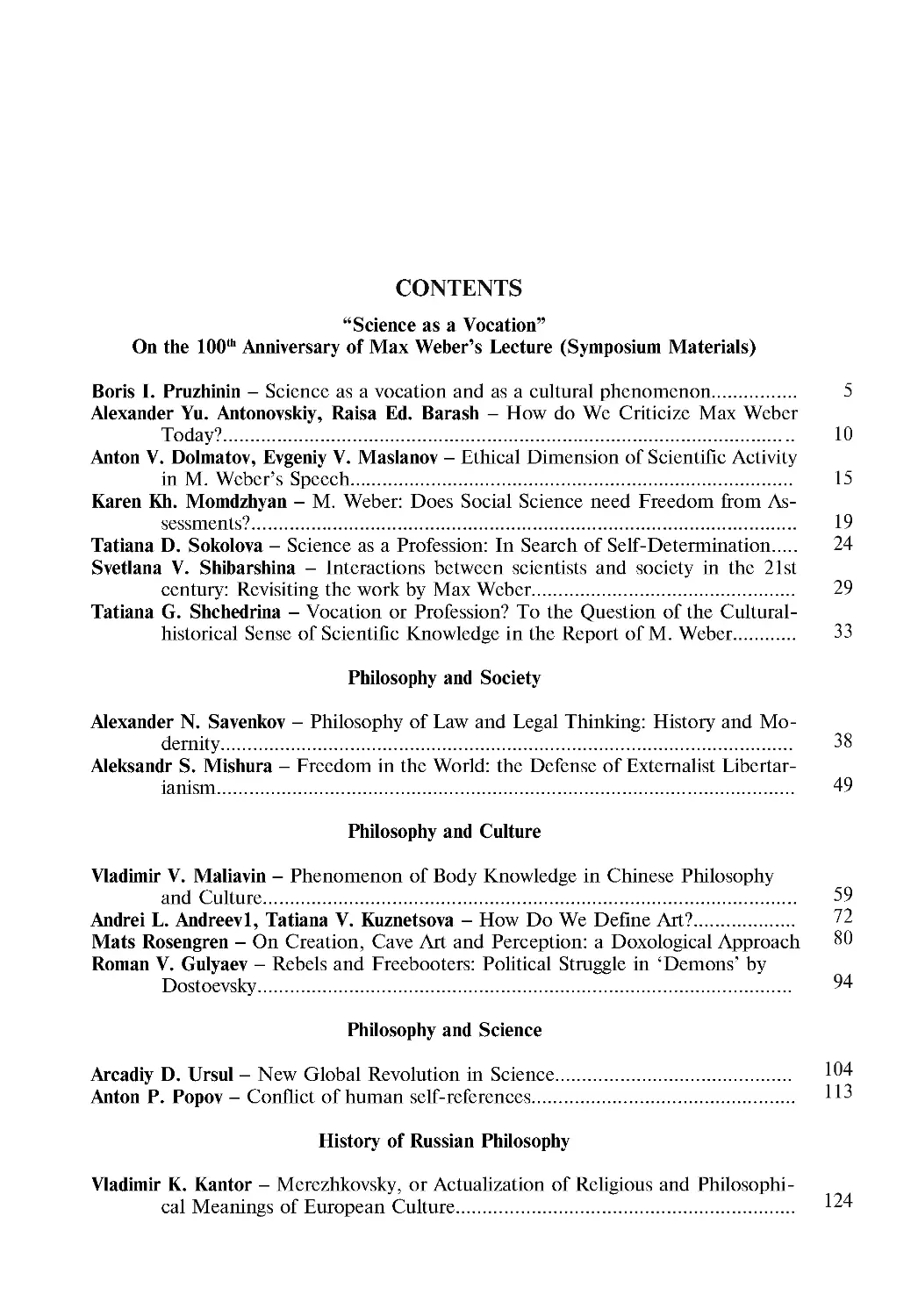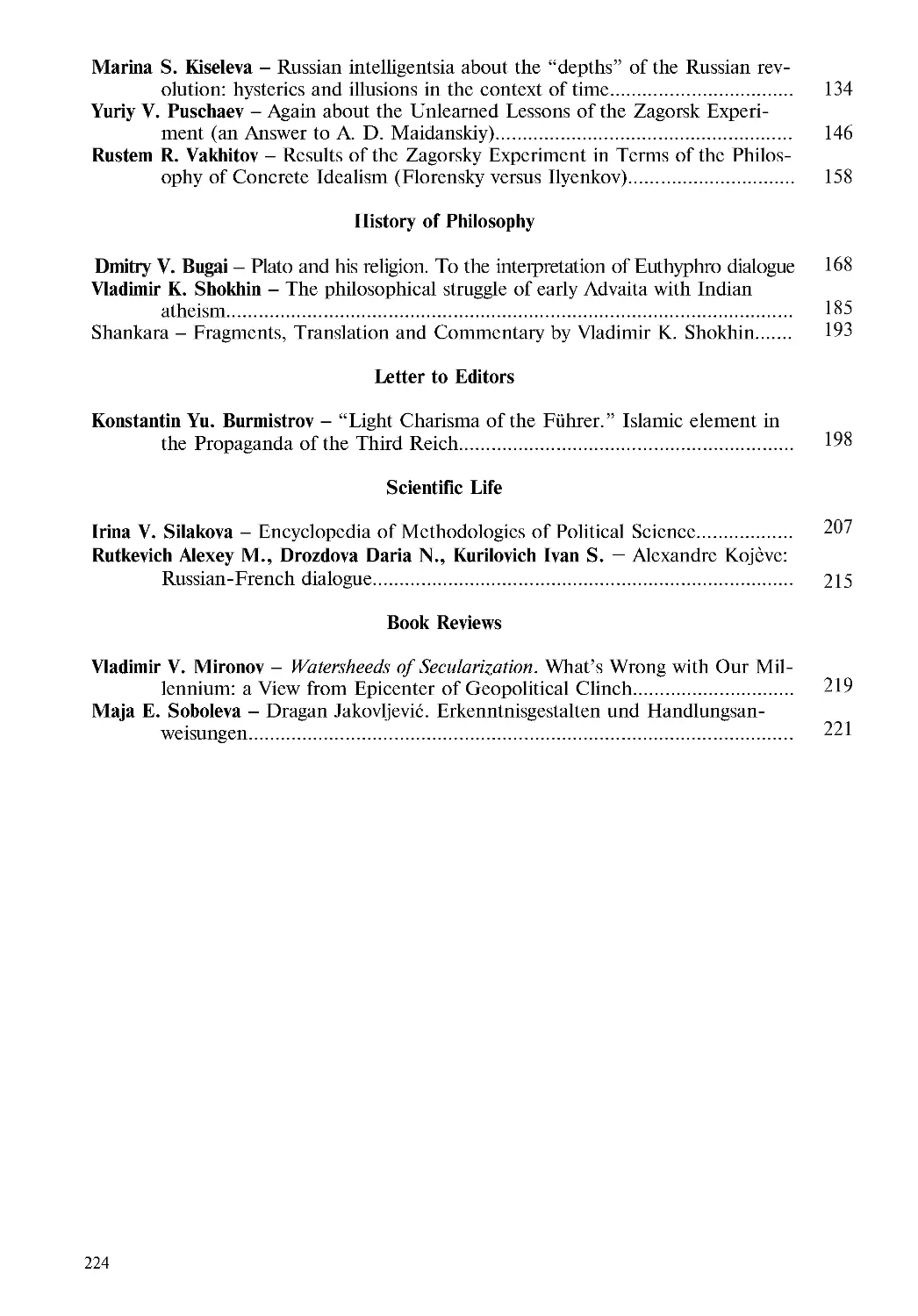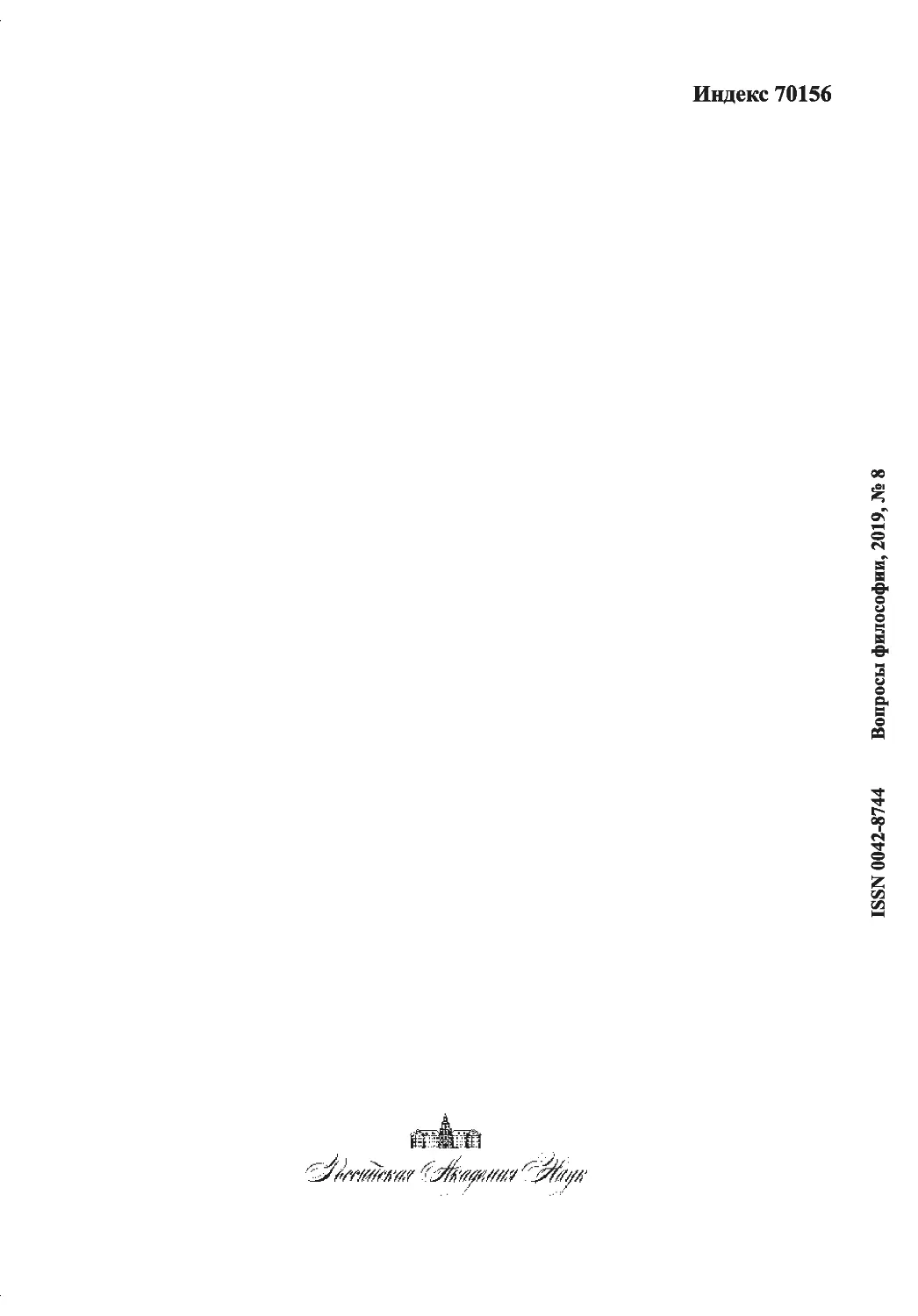Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
No8
МОСКВА
СОДЕРЖАНИЕ
«Наука как призвание и профессия»
К 100-летию доклада М. Вебера (материалы симпозиума)
Б.И. Пружинин – Наука как профессия и как феномен культуры ................
А.Ю. Антоновский, Р.Э. Бараш – Как сегодня возможна критика Макса
Вебера?............................................................................................ .......
А.В . Долматов, Е.В . Масланов – Этическое измерение деятельности уче-
ного в докладе М. Вебера.......................................................................
К.Х . Момджян – М . Вебер: нужна ли науке свобода от оценок?.... ..............
Т.Д . Соколова – Ученый как профессия: в поисках самоопределения.........
С.В . Шибаршина – Взаимодействие между учеными и обществом в XXI
веке в свете переосмысления работы Макса Вебера...........................
Т.Г . Щедрина – Призвание или профессия? К вопросу о культурно -исто -
рическом смысле научного по знания в докладе М. Вебера...............
Философия и общество
А.Н . Савенков – Философия права и юридическое мышление: история и
современность..........................................................................................
А.С . Мишура – Свобода в мире: защита экстерналистского либертарианства
Философия и культура
В.В. Малявин – Феномен «телесного знания» в философии и культуре
Китая.........................................................................................................
© Российская академия наук, 2019 г.
© Редколлегия журнала “Вопросы философии” (составитель), 2019 г.
5
10
15
19
24
29
33
38
49
59
2019
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
Журнал издается под руководством
Президиума Российской академии наук
2
А.Л . Андреев Т.В . Кузнецова – Как мы определяем искусство? ......................
М. Розенгрен – О творчестве, пещерном искусстве и восприятии: доксоло-
гический подход......................................................... ..............................
Р.В . Гуляев – Бунтовщики и флибустьеры: проблематика политической
борьбы в «Бесах» Ф .М . Достоевского....................................................
Философия и наука
А.Д . Урсул – Новая глобальная революция в науке............... .........................
А.П . Попов – Конфликт самореференций человека............... .........................
Из истории отечественной философской мысли
В.К . Кантор – Мережковский, или Актуализация религиозно -философских
смыслов европейской культуры ........................ ....................................
М.С . Киселева – Русская интеллигенция о «глубинах» русской революции:
истерики и иллюзии в контексте времени............................................
Ю.В. Пущаев – Еще раз о невыученных уроках Загорского эксперимента
(ответ А.Д . Майданскому)......................................................................
Р.Р . Вахитов – Результаты Загорского эксперимента с точки зрения фило-
софии конкретного идеализма (Флоренский versus Ильенков) ..........
История философии
Д.В . Бугай – Платон и его религия. К интерпретации диалога «Эвтифрон»
В.К. Шохин – Философская борьба ранней адвайты с индийским атеизмом
Шанкара – Брахмасутра-бхашья. Прашнопанишад-бхашья (фрагменты).
Перевод с санскрита и комментарии В.К . Шохина ............................
Из редакционной почты
К.Ю . Бурмистров – «Световая харизма фюрера» . О б исламском элементе в
пропаганде Третьего Рейха.....................................................................
Научная жизнь
И.В . Силакова – Энциклопедия методологий политической науки..............
А.М. Руткевич, Д.Н. Дроздова, И.С . Курилович – Александр Кожев: русско-
французский диалог (обзор международного коллоквиума) ..............
Критика и библиография
В.В . Миронов – Водоразделы секуляризации. Что не так с нашим тысяче-
летием: взгляд из эпицентра геополитического клинча..................... .
М.Е . Соболева – Dragan Jakovljević. Erkenntnisgestalten und Handlungsan-
weisungen. Драган Яковлевич. Образы познания и рекомендации к
действиям............................................................................................ .....
Contents....................................................................................................................
72
80
94
104
113
124
134
146
158
168
185
193
198
207
215
219
221
223
3
Редакционная коллегия
Пружинин Борис Исаевич – доктор философских наук, главный редактор
Анохин Константин Владимирович – доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН и
РАМН, руководитель отдела нейронаук НИЦ “Курчатовский институт”
Бажанов Валентин Александрович – доктор философских наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ, заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета
Гайденко Пиама Павловна – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник Института философии РАН
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, научный руководитель Института фи-
лософии РАН
Кантор Владимир Карлович – доктор философских наук, ординарный профессор НИУ “Выс-
шая школа экономики”
Лекторский Владислав Александрович – академик РАН, заведующий сектором Института фи-
лософии РАН
Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор Центрального экономико -матема -
тического института РАН
Миронов Владимир Васильевич – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, декан
философского факультета МГУ им. М .В . Ломоносова
Паршин Алексей Николаевич – академик РАН, заведующий отделом алгебры и теории чисел
Математического института им. В .А. Стеклова РАН
Руденко Виктор Николаевич – доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, директор
Института философии и права УрО РАН
Руткевич Алексей Михайлович – доктор философских наук, ординарный профессор, декан
факультета гуманитарных наук НИУ “Высшая школа экономики”
Смирнов Андрей Вадимович – доктор философских наук, академик РАН, директор Института
философии РАН
Трубникова Надежда Николаевна – доктор философских наук, заместитель главного редактора
Черниговская Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, доктор филологических
наук, профессор, заведующая кафедрой и лабораторией СПбГУ
Щедрина Татьяна Геннадьевна – доктор философских наук, ответственный секретарь
Юревич Андрей Владиславович – доктор психологических наук, член-корреспондент РАН,
заместитель директора Института психологии РАН
Международный редакционный совет
Лекторский Владислав Александрович – академик РАН, Председатель Совета
Агацци Эвандро – профессор университета г. Генуи, Италия
Ань Цинянь – профессор Народного университета Пекина, председатель общества по изуче-
нию русской и советской философии, Китайская Народная Республика
Бэкхерст Дэвид – профессор Королевского университета Куинс, г. Кингстон, Канада
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, директор Института философии РАН
Данилов Александр Николаевич – доктор социологических наук, профессор БГУ, член -кор-
респондент НАН Беларуси
Зотов Анатолий Федорович – доктор философских наук, профессор философского факультета
МГУ им. М .В . Ломоносова
Мамедзаде Ильхам – доктор философских наук, директор Института философии, социологии
и права НАН Азербайджана
Мотрошилова Нелли Васильевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник
Института философии РАН
Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич – академик НАН Республики Казахстан
Погосян Геворк Арамович – доктор социологических наук, профессор, академик НАН Рес-
публики Армения, директор Института философии, социологии и права НАН РА
Старобинский Алексей Александрович – академик РАН, главный научный сотрудник Инсти-
тута теоретической физики им. Л.Д . Ландау РАН
Хабермас Юрген – профессор Франкфуртского университета, Федеративная Республика Гер-
мания
Харре Ром – профессор Оксфордского университета, Великобритания
4
Editorial board
Boris I. Pruzhinin – DSc in Philosophy, Chief Editor
Konstantin V. Anokhin – DSc in Medical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy
of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences, Head of Department
of Neurosciences, Kurchatov Institute (Moscow)
Valentin A. Bazhanov – DSc in Philosophy, Professor, Head of Department, Ulyanovsk State Uni-
versity (Ulyanovsk)
Tatiana V. Chernigovskaya – DSc in Linguistics and in Human Physiology, Professor, Head of De-
partment, St. Petersburg State University
Piama P. Gaidenko – DSc in Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Chief Researcher, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Abdusalam A. Guseynov – Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Principal
Adviser for Academic Affairs, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Vladimir K. Kantor – DSc in Philosophy, Professor, National Research University “Higher School
of Economics” (Moscow)
Vladislav A. Lectorsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
Valery L. Makarov – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Director, Central Economic
Mathematical Institute RAS (Moscow)
Vladimir V. Mironov – DSc in Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of
Sciences, Dean, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University
Aleksei N. Parshin – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Head of Department of
Algebra and Number Theory, Steklov Mathematical Institute RAS (Moscow)
Viktor N. Rudenko – DSc in Physics and Mathematics, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Director, Institute of Philosophy and Law, Ural branch of Russian Academy of
Sciences (Ekaterinburg)
Alexey M. Rutkevich – DSc in Philosophy, Professor, Dean, Faculty of Humanities, National Re-
search University “Higher School of Economics” (Moscow)
Andrey V. Smirnov – DSc in Philosophy, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Direc-
tor, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Nadezhda N. Trubnikova – DSc in Philosophy, Deputy Chief Editor (Moscow)
Tatiana G. Shchedrina – DSc in Philosophy, Executive Secretary (Moscow)
Andrei V. Yurevich – DSc in Psychology, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Deputy Director, Institute of Psychology RAS (Moscow)
International Editorial Council
Vladislav A. Lectorsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
Evandro Agazzi – Department of Philosophy, University of Genova, Italy
An Quinan – Professor, Renmin University of China, China
David Backhurst – Professor, Queen’s University, Kingston, Canada
Alexander N. Danilov – Doctor of Sociology, Professor, Belarusian State University, Corresponding
member of the National Academy of Sciences of Belarus
Abdusalam A. Guseynov – Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Director,
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Jurgen Habermas – Professor, University of Frankfurt, Germany
Rom Harre – Professor, Oxford University, England
Ilham Ramiz oglu Mammadzada – DSc in Philosophy, Director, Institute of Philosophy, Sociology
and Law, Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku)
Nelly V. Motroshilova – DSc in Philosophy, Professor, Chief Researcher, Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences
Abdumalik N. Nysanbaev – Academician of the National Academy of Sciences of Republic of Ka-
zakhstan
Gevorg A. Poghosyan – DSc in Sociology, Professor, Full Member of National Academy of Sciences,
Republic Armenia, Director of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA (Erevan)
Miroslav V. Popovich – Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Professor,
Director, Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev)
Aleksei A. Starobinsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, Landau
Institute for Theoretical Physics RAS (Moscow)
Anatoly F. Zotov – DSc in Philosophy, Professor, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State
University
5
«НАУКА КАК ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ»
К 100-ЛЕТИЮ ДОКЛАДА М. ВЕБЕРА (МАТЕРИАЛЫ СИМПОЗИУМА)
Наука как профессия и как феномен культуры
© 2019 г.
Б.И. Пружинин
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; журнал
«Вопросы философии», Москва, 117418, Нахимовский пр., д. 47.
E-mail: prubor@mail.ru
Поступила 15.05.2019
В докладе, прочитанном для студенческой элиты сто лет назад Макс
Вебер констатировал: из деятельности ученого уходит мотивация, ос-
нованная на призвании, остаются социализованные мотивы профес-
сиональной работы – бытовые, карьерные, политико-идеологические.
Сегодня эту веберовскую констатацию можно просто проецировать на
современную науку, в значительной мере уже превратившуюся в
прагматически ориентированную социально-экономическую институ-
цию. Между тем, последствия вытеснения из деятельности ученого
элемента призвания, наполняющего экзистенциальным смыслом его
стремление познавать реальность, оборачиваются для научной дея-
тельности весьма серьезными проблемами, в том числе, на уровне ко-
гнитивных практик. Вопрос в том, каким должен быть вектор кон-
цептуального осмысления этой проблематики, позволяющий хотя бы
прояснить перспективы науки. В статье автор обосновывает тезис о
том, что при всей важности социально-институциональных измере-
ний научной деятельности социологическое рассмотрение науки спо-
собно лишь зафиксировать сложившееся положение дел. Вне поля
зрения остается как раз то, что изначально лежало в основании экзи-
стенциальной мотивации ученых – стремление открыть истинное
знание о реальности. Это наукообразующее стремление к общезначи-
мости по-разному тонировалось в различных культурных и историче-
ских контекстах, но его суть всегда сохранялась европейской культу-
рой. Сегодня оно нуждается в новом культурно-историческом осмыс-
лении, способном уравновесить социально-прагматическую ориенти-
рованность современной науки.
Ключевые слова: Наука, профессия, призвание, Макс Вебер, социаль-
ная эпистемология, культурно-историческая эпистемология.
DOI: 10.31857/S004287440006023-0
Цитирование: Пружинин Б.И. Наука как профессия и как феномен
культуры // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 5 ‒9 .
6
Science as a Vocation and as a Cultural Phenomenon
© 2019 г.
Boris I. Pruzhinin
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation; Journal “Voprosy Filosofii”, 47, Nakhimovsky prospect, Mos-
cow, 117418, Russian Federation.
E-mail: prubor@mail.ru
Received 22.05.19
In a report read for the student elite a hundred years ago, Max Weber stat-
ed: the motivation based on vocation leaves the activities of a scientist, and
socialized motives of professional work remain — domestic, career, politi-
cal-ideological. Today, this Weberian statement can be simply projected on-
to modern science, which to a large extent has already turned into a prag-
matically oriented socio-economic institution. Meanwhile, the consequenc-
es of pushing out a vocational element that fills scientist's aspiration to learn
reality with an existential meaning turn into serious problems for scientific
activity, including at the level of cognitive practices. And the question is,
what should be the vector of conceptual understanding of this problem, al-
lowing at least to clarify the prospects of science. In the article, the author
substantiates the thesis that, for all the importance of the socio-institutional
dimensions of scientific activity, the sociological consideration of science
can only fix the existing state of affairs. Out of sight is just what was origi-
nally the basis of the existential motivation of scientists – the aspiration to
discover the true knowledge of reality. This scientifically-oriented intention
of general significance has been tinted in different ways in different cultural
and historical contexts, but its essence has always been preserved by Euro-
pean culture. Today it needs a new cultural and historical understanding,
able to balance the social and pragmatic orientation of modern science.
Key words: Science, profession, vocation, Max Weber, social epistemology,
cultural-historical epistemology.
DOI: 10.31857/S004287440006023-0
Citation: Pruzhinin, Boris I. (2019) “Science as a Vocation and as a Cul-
tural Phenomenon”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 5 –9 .
Современное научное знание творят профессионалы-ученые. Они работают в
научных сообществах, организационная структура которых социально фиксирована.
При этом работа в сообществе сегодня мало напоминает традиционную познаватель-
ную деятельность ученых, каждый из которых самостоятельно и по-своему обдумы-
вал и исследовал некоторую общую для сообщества («невидимого колледжа») область
предметного мира, соотнося свою деятельность с аналогичной деятельностью коллег,
но надеясь на личный успех. Работа в сообществе н ыне это работа над отведенным
фрагментом предмета, о котором в целом отдельный ученый может иметь довольно
смутное представление, это работа в рамках координированного производства зна-
ний, где оценивается узкая компетентность ученого, а рассчитывать он может только
на совместный успех. Заслуга Вебера состоит именно в том, что сто лет назад он вы-
явил и попытался осмыслить проблемы, возникающие внутри такой науки.
Начало процессов, которые привели к нынешнему состоянию науки, можно отне-
сти к середине XIX столетия. Но Вебер был, пожалуй, первым, кто сумел представить
порождаемые этими процессами проблемы – именно проблемы – столь ярко, что и
7
сегодня они сохраняют свою актуальность. Он констатировал: на одном полюсе ока-
залась личность ученого, с ее социально-психологическими характеристиками (пере-
живаниями, страстью к познанию и т.д.) а на другом – дело, которым занимается
ученый, его работа, которую он должен квалифицированно и обстоятельно выпол-
нять. И он отчетливо понял, что в разрыв между этими двумя характеристиками
научной деятельности, между призванием и профессией «проваливается» культурный
смысл науки. Он прекрасно знал, что наука возникла в определенном месте, в опре-
деленное время, в определенной культуре, и отдавал себе отчет в том, что девальва-
ция специфической культурной формы, в которой реализуется стремление познавать,
ставит под вопрос само существование науки.
Вебера волновало то, что происходит с культурной мотивацией ученого при пре-
вращении науки в одну из повседневных профессий. Однако рассуждая о перспекти-
вах научной деятельности, он апеллировал главным образом к социально-
психологической стороне возможных трансформаций этой мотивации. Так что,
в конечном итоге, в качестве экзистенциального движущего науку мотива оставалась
лишь антропологическая, по своей сути, установка – стремление познавать, страсть
к познанию. Я думаю, этот сдвиг интересов был обусловлен рядом обстоятельств.
Процесс профессионализации науки в его время шел на фоне разрушения традици-
онных культурных представлений о мотивах, двигавших ученым. И сам Вебер доста-
точно трезво относился как к теологическому (будь-то проникновение в замысел Бо-
га или служение ему), так и к прогрессистско-просветительскому культурному
оформлению мотивации научной деятельности. Кроме того, на вектор концептуаль-
ных предпочтений Вебера повлияла еще и интенсивность разрушения этих культур-
ных форм, характерная для Германии 20-х годов прошлого века – что очень точно
отметил А.М . Руткевич [Руткевич 2019]. Сказывался здесь и его собственный профес-
сиональный социологический интерес, и его неокантианские воззрения. Но при всем
при том, Вебер не терял из виду смысловой инвариант уходящих культурных мотива-
ций ученого. Именно это обстоятельство придает, на мой взгляд, актуальность рас-
суждениям Вебера о перспективах науки.
Сегодня, обсуждая особенности работы ученого, мы говорим даже не о профессио-
нализации, а о специализации (мы чаще говорим «специалист в такой-то области»),
и далее, мы начинаем рассматривать социально-экономические факторы, через кото-
рые общество задает требования к уровню его компетентности в данной области и к
качеству его научного продукта. А затем, мы говорим о роли менеджера в организации
научных исследований, говорим о проблемах коммодификации науки и пр. Наука как
социальная система – факт дня нынешнего. И вполне практические задачи анализа ее
социальных параметров настоятельно требуют, чтобы в нашем говорении о науке мы
использовали языки современной социологии. Та же аналитическая потребность, но
уже в области философии науки выдвигает на передний план направления, осмысли-
вающие, прежде всего, социальные измерения научного познания. Наиболее предста-
вительным направлением сегодня является социальная эпистемология – широкое и
очень результативное течение. В данном случае для меня важна лишь принятая в ее
рамках трактовка знания как социального феномена, т.е. как, по своей сути, конструк-
ции, построенной под конкретную социальную задачу.
Такое понимание знания, восходящее к идеям эдинбургской школы, позволяет
рассматривать результаты научной деятельности в одном ряду с мифом, идеологией,
политическими конструкциями. В результате, определяющими характеристиками
знания становятся не его когнитивные параметры (применительно к науке – не ме-
тодологические характеристики деятельности по его формированию, позволяющие
претендовать на его объективность), а социальные обстоятельства его конструирова-
ния, позволяющие производить не знание о реальности, а практически полезные,
годные к использованию сведения. Наверное, это мое утверждение требует более ос-
новательной аргументации. Но в данном случае мне важно лишь подчеркнуть: при
трактовке знания как социальной конструкции, помимо всего прочего, из виду теряет-
ся и сама суть проблематики, которую Вебер описал в лекции. Раскалывающие
8
личность ученого противоречия между его призванием и его профессией предстают
здесь как легко узнаваемые формы традиционных социально-психологических состав-
ляющих познавательной деятельности ученого. Ведь в научной практике во все време-
на взаимодополняли друг друга – с одной стороны, скептицизм и творчество, предпо-
лагающие нарушение всех возможных запретов (вплоть до этических норм, включая
корпоративные), а с другой стороны, консерватизм, даже освященный корпоративной
этикой, догматизм. А в этом качестве, мучающие ученого противоречия, так или иначе,
сами собой, гармонизируются. Правда, одно дело – баланс профессии и призвания
в рамках социальной институции, ориентированной на прикладные исследования, дру-
гое – фундаментальная наука, работающая на «общественное благо». Но если их разве-
сти, то проблема, волновавшая Вебера, предстает как общеисторическая, вечная про-
блема соотношения культуры и цивилизации. Для науки она остроту теряет (cм.: [Ка-
савин 2019]). Полагаю, что в данном случае дело обстоит не совсем так.
На мой взгляд, проблема «профессия-призвание» – яркое выражение кризиса
именно современной науки, и именно как таковая, как глубинная проблема одного
из оснований европейской культуры, она является выражением кризиса культуры в
целом. Однако этот глобализирующий ракурс видения открывается лишь в том слу-
чае, если кризис, который ныне переживает наука, рассматривается отнюдь не толь-
ко как социально-психологический, но, прежде всего, как кризис ее эпистемологиче-
ских оснований. Лишь в этом случае наука в целом предстает как культурно-
исторический феномен.
Много лет назад, описывая процессы, связанные с нарастанием в науке массива
прикладных исследований, я отмечал, что последствия этих процессов не ограничи-
ваются усилением прагматических установок в сфере мотивации научной деятельно-
сти, существенные изменения происходят и в когнитивных параметрах научного зна-
ния. Вместе с вытеснением фундаментальной науки происходило вытеснение ориен-
тации на истину – в качестве основной характеристики результатов прикладных ис-
следований место истины занимала прикладная эффективность полученного знания
[Пружинин 1986]. Соответственно, происходила трансформация эпистемологического
статуса научного знания и на этом фоне можно было наблюдать всплеск псевдонауч-
ного конструирования [Пружинин 2009]. Изменения коснулись также внутринаучной
коммуникации [Пружинин и др. 2017]. А в итоге, в качестве результата научной дея-
тельности «мы фактически получаем здесь иной тип информации о мире, с иными,
отличными от научного знания когнитивными параметрами, даже если эт а информа-
ция внешне совпадает с научным знанием как таковым. Впрочем, часто и не совпа-
дает» [Пружинин 2005, 113–114]. И на фоне этих изменений на глазах менялось са-
мосознание практикующего ученого. Вот такими проблемами оборачивается вытес-
нение призвания из специализированной работы ученого. И именно это делает акту-
альными сегодня то, о чем беспокоился Вебер.
Концентрация внимания на социальных аспектах всех этих трансформаций науч-
ной деятельности, повторяю, бесспорно важна, но вне поля зрения социологичес кого
подхода к науке остаются ее познавательные характеристики, которые изначально
лежали в основании экзистенциальной мотивации ученых – стремление открыть ис-
тинное знание о реальности. Сегодня эта мотивация нуждается в новом культурно-
историческом осмыслении, способном преодолеть ее узкую социально-
прагматическую ориентированность, вернуть нас к эпистемологической проблемати-
ке и, тем самым, открыть перед философией науки методологические (т.е . значимые
для работающих ученых) перспективы.
Поясню примером. Поскольку наука сегодня является социальной системой, при-
чем в значительной мере коммодифицированной, если угодно, рыночной, то и анализ
ее, даже специальный методологический, зачастую несет на себе следы «товаризации»
познания. Так, известный философ науки Питер Галисон использовал для описания
форм научного общения между представителями различных дисциплин вполне рыноч-
ную метафору – «зона обмена». Однако, применяя эту метафору для того, чтобы вы-
явить особенности обмена информацией между сильно различающимися научными
9
дисциплинами, Галисон уточняет ее – речь идет об обмене товарами между представи-
телями различных культур. Эта апелляция к культуре, в данном случае, нужна ему для
того, чтобы подчеркнуть очень важный момент его концепции междисциплинарного
общения: различное понимание знания, и целей конкретного акта общения представи-
телями разных дисциплин отнюдь не препятствие для самого процесса общения, коль
скоро есть общее понимание мотивационной установки, пронизывающей общение
ученых (см.: [Pruzhinin, Shchedrina 2017]).
Думаю, что эта особенность его уточнения через обращение к культурно осмыс-
ленной мотивации имеет принципиальное значение. Ибо, на мой взгляд, перспекти-
вы эффективного философско-методологического осмысления науки как особого
целостного феномена связаны именно с обращением за смыслом к культуре и исто-
рии. Это важно, чтобы ответить на более широкий вопрос: каково то направление,
в котором может двигаться современная наука, не теряя себя.
Ссылки – References in Russian
Касавин 2019 – Касавин И.Т. Дилемма ученого: после Макса Вебера // Вопросы филосо-
фии. 2019. No 7. С. 17–21.
Пружинин 1986 – Пружинин Б.И. Рациональность и историческое единство научного зна-
ния. М.: Наука, 1986.
Пружинин 2005 – Пружинин Б.И. Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки //
Философия науки. Этос науки на рубеже веков. Вып. 11. М.: ИФ РАН, 2005. C. 109–120.
Пружинин 2009 – Пружинин Б.И . Ratio serviens? Контуры культурно -исторической эписте-
мологии / под ред. Т .Г . Щедриной. М .: РОССПЭН, 2009.
Пружинин и др. 2017
–
Пружинин Б.И ., Антоновский А.Ю ., Воронина Н.Н ., Грифцова И.И.,
Дорожкин А.М., Касавин И.Т ., Масланов Е.В., Невважай И.Д., Пирожкова С.В ., Соколова Т.Д.,
Сорина Г.В ., Столярова О.Е., Щедрина Т.Г ., Юдин Б.Г . Коммуникации в науке: эпистемологиче-
ские, социокультурные, инфраструктурные аспекты. Материалы «круглого стола» // Вопросы
философии. 2017. No 11. С. 23–53.
Руткевич 2019 – Руткевич А.М . Макс Вебер об университете // Вопросы философии. 2019.
No 7. С. 40–47.
References
Kasavin, Ilya T. (2019) ‘The Scientist’s Dilemma: Profession or Vocation’, Voprosy Filosofii, Vol. 7
(2019), pp. 23 –53 (In Russian).
Pruzhinin, Boris (1986) Rationality and historical unity of scientific knowledge , Nauka, Moscow
(In Russian)
Pruzhinin, Boris I. (2005) “Applied and fundamental in the ethos of modern science”, Philosophy
of science. Ethos of science at the turn of the century, 11, Institut of Philosophy, Moscow, pp. 109 –
120 (In Russian).
Pruzhinin, Boris I. (2009) Ratio serviens? Outlines of cultural and historical epistemology,
ROSSPEN, Moscow (In Russian).
Pruzhinin, Boris I., Antonovskiy, Alexander Yu., Dorozhkin, Aleksander M., Griftsova, Irina N.,
Kasavin, Ilya T., Maslanov, Evgeniy V., Nevvazhay, Igor D., Pirozhkova, Sophia V., Shchedrina, Tati-
ana G., Sokolova, Tatiana D., Sorina, Galina V., Stoliarova, Olga E., Voronina, Natalia N., Yudin,
Boris G. ‘ Communications in Science: Epistemological, Socio-cultural and Infrastructural Aspects.
Materials of the Round Table’, Voprosy Filosofii, Vol. 11 (2017), pp. 23 –53 (In Russian).
Pruzhinin, Boris I., Shchedrina, Tatiana G. (2017) “The Ideas Of Cultural-Historical Epistemology
in Russian Philosophy of the Twentieth Century”, Social Epistemology, 31, 1, pp. 16–24.
Rutkevitch, Aleksei M. (2019) ‘Max Weber on University’, Voprosy Filosofii, Vol. 7 (2019), pp. 40 –
47 (In Russian).
Сведения об авторе
ПРУЖИНИН Борис Исаевич –
доктор философских наук, главный науч-
ный сотрудник, руководитель сектора Фи-
лософии естественных наук, главный ре-
дактор журнала «Вопросы философии».
Author’s information
PRUZHININ Boris I. –
DSc in Philosophy, Main Research Fellow,
Editor-in-chief of Journal “Voprosy Filosofii”,
Moscow.
10
Как сегодня возможна критика Макса Вебера? *
© 2019 г.
А.Ю. Антоновский1**
, Р.Э. Бараш2***
1
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский факультет,
Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 .
2
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской акаде-
мии наук, Москва, 117218, ул. Кржижановского, 24/35, к.5.
** E-mail: antonovski@hotmail.com
*** E-mail: raisabarash@gmail.com
Поступила 14.05. 2019
Авторы проводят мысль о том, что в лекции «Наука как призвание
и профессия» М. Вебер артикулировал ряд противоречий в отноше-
нии современного для него состояния и перспектив научного знания
и исследовательской коммуникации. Научное сообщество представля-
лось М. Веберу обладающим исключительной способностью произво-
дить «объективные» (а не субъективно-оценочные) высказывания
о природе и обществе. Однако именно высказанная 100 лет назад
идея разграничения науки и не-науки и вытекающее отсюда суверен-
ное право ученых определять направления научного и технического
развития вступили в фундаментальное противоречие с современным
обществом, в котором наука все больше профессионализируется и
превращается в «государственно-капиталистическое предприятие»,
а индивидуальные смыслы и мотивации ученого, его представления о
собственной особой миссии или призвании утрачивают смысл. И хотя
сам дискурс лекции ориентирован на демифологизацию миссии со-
временного ученого, Вебер, по мнению авторов, видит универсальную
задачу науки в обеспечении ясности альтернативных позиций, а уче-
ный выступает всеприсутствующим наблюдателем или судьёй, обо-
значающим перед человеком набор последствий того или иного дей-
ствия. Так что научное объективное суждение оказывается в итоге
суждением ценностным, а различение должного и сущего оказывается
должным, то есть ненаучным. Данное противоречие авторы предлага-
ют считать основным пунктом критики веберовской позиции приме-
нительно к интерпретации современного положения науки.
Ключевые слова: Макс Вебер, научное познание, миссия ученого,
наука как призвание, профессия ученого.
DOI: 10.31857/S004287440006024-1
Цитирование: Антоновский А.Ю ., Бараш Р.Э. Как сегодня возможна
критика Макса Вебера? // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 10 –14 .
*
Исследование выполнено по проекту РНФ No 19-18 -00494 «Миссия ученого в совре-
менном мире: наука как профессия и призвание».
11
How do We Criticize Max Weber Today? *
© 2019 г.
Alexander Yu. Antonovskiy1**, Raisa Ed. Barash2***
1
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation; Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University,
27/4, Lomonosovsky av. GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.
2
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences,
24/35, korpus 5, Krzhizhanovskogo str., Moscow, 117218, Russian Federation.
** E-mail: antonovski@hotmail.com
*** E-mail: raisabarash@gmail.com
Received 14.05.2019
The idea of a special role of a scientist in modern society was expressed by Max
Weber in his speech “Science as a vocation”. The scientific community was in-
terpreted by Weber as possessing an exceptional ability to produce “objective”
(and not subjectively evaluative) statements about nature and society. In this
sense, the representatives of science in their Pythagorean attitude, which was
shared by Kepler, Galileo, Newton, and others, until a certain time understood
themselves as people endowed with the highest mission to discover and realize
the divine plan for the design of the universe. However, this idea of the separa-
tion of science and non-science and (resulting from this) the sovereign right of
scientists to determine the directions of scientific and technological develop-
ment, has entered into a fundamental contradiction with the current situation
of the society of professions. This is an idea in which science is becoming more
and more professionalized and the individual meanings and motivations of a
scientist, his idea of his own special mission or vocation loses its meaning. This
article is devoted to the update of the ideas of Max Weber on science in mod-
ern conditions.
Key words: Max Weber, scientific knowledge, the mission of a scientist, sci-
ence as a vocation, the profession of a scientist.
DOI: 10.31857/S004287440006024-1
Citation: Antonovskiy, Alexander Yu., Barash Raisa Ed. (2019) “How do We
Criticize Max Weber Today?”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 10 –14 .
Рассуждения о Вебере необходимо начать с мысленного эксперимента. Что если
Вебер опубликовал бы свою речь сегодня? Представляется, что его моментально «за-
клевали» за непоследовательности и ошибки. Как глубокий знаток мировых религий
и тонкостей теологии мог приписать слова Тертуллиана «верую, ибо абсурдно» свя-
тому Августину [Weber 2017]? Не только студенты его не подправили, но и по про-
шествии двух лет, пока речь готовилась к публикации, этого не сделали ни редакто-
ры, ни многочисленные коллеги -теологи . Уже сам этот факт кое-что говорит нам о
существенных сдвигах в характере научного дискурса, и прежде всего о возрастаю-
щей роли критики, которая, отчасти, становится самоцелью, и во многом замещает
те исходные мотивации научного поиска, об утрате которых сокрушается в своей ре-
чи Макс Вебер. И именно в этом критическом пункте возникает первый парадокс.
Вебер так сформулировал тезис, что всякая критика столкнется с парадоксом. Если
мы отклоняем его основной тезис о недостижимости подлинного бытия, окончатель-
ной истины, то мы лишь подтверждаем веберовский тезис о том, что всякая истина
* The research was performed within the project supported by Russian Science Foundation
No 19-18 -00494 «The mission of scientist in the modern world; science as profession and
vocation».
12
живет сравнительно недолго – окончательной истины сформулировать вам никогда
не удастся. В целом, эта статья перенасыщена такими парадоксальными смыслами.
Один из них вытекает из неокантианского бэкграунда Вебера и касается условий
возможности современной науки.
И здесь мы видим парадокс, связанный с очевидной несовместимостью двух клю-
чевых идей или, лучше сказать, дистинкций. В первую очередь, Вебер проводит
жесткую демаркацию науки через различение научных, предметно-истинностных
высказываний и ценностных суждений. Именно эта идея предметной демаркации
истины и ценности была востребована и понималась как суть работы. Вторая, на наш
взгляд более глубинная, идея временной демаркации внутри науки: между прошлой
наукой, претендующей на реконструкцию божественной воли и подлинного бытия,
науки как необходимой предпосылки человеческого счастья и благоденствия обще-
ства, и наукой современной Веберу. Прошлая наука (Кеплера и Галилея, Коперника
и Ньютона) действительно могла претендовать на особый выделенный статус в обще-
стве, на особую миссию ученого как выделенного наблюдателя. Это собственно
и составляло призвание ученого (Beruf).
Наука современная – это, прежде всего, проектная наука. Срок жизни истинных
утверждений составляет, по мнению Вебера, 10 –30 лет. И здесь его прогнозы, без-
условно, оправдались. Сегодня именно долговременные, притязающие на универ-
сальность «гранд-теории» сталкиваются с трудностями финансирования (в особенно-
сти, в социальных науках), а поддержку получают, как правило, 3 -5 -летние проекты.
Никакой миссии по приоткрыванию божественного предопределения у ученого
больше нет, ведь современная наука утратила функцию, которая была у протестант-
ской веры: связывать экономический успех и замысел бога, в отношении предопре-
деленного к спасению человека, т.е. его подлинное бытие. В нынешней науке эта
связь распалась. Успех научного исследования ценен сам по себе, а подлинное бы-
тие, благо и спасение людей уже не являются связанными с этим переменными.
Но тогда что же все-таки мотивирует исследователей в этих условиях, какого успеха
ждет ученый, какая функция у науки? Это ключевая проблема речи Вебера.
Первая идея – это идея объективности, сам предмет выступает в роли truth-
maker’а суждения в предметно-тематическом измерении научного дискурса. А в суж-
дении о ценности (законов, тех или иных форм жизни или культуры) такого произ-
водителя истинности не наблюдается. (В аналитической философии сознания, прав-
да, говорят о некоем Wish-maker’е, т.е . о производителе желания или потребности,
как своего рода «заместителе» предмета в ценностном суждении.) Вторая идея – идея
отказа от истинностных притязаний науки во временном измерении.
Связующим звеном между двумя дистинкциями, на наш взгляд, выступает идея
двойной демаркации науки во времени и пространстве: с одной стороны, от других
форм культуры и социальности в некоем социальном пространстве, и, с другой сто-
роны, демаркации современной науки и ее прошлых устаревших форм в социальном
времени. Для этого Вебер предлагает несколько признаков современности (одновре-
менно – условий успеха) науки, которые и дают ответ на главный вопрос – в чем
миссия ученого в современном обществе, в котором вообще-то ни у кого не должно
быть выделенной миссии?
Безусловно, идее выделенной миссии ученого противоречит общий пафос речи.
И в этом состоит загадка Вебера: зачем вообще это саморазоблачение? Зачем деми-
фологизировать сакральную роль ученого – провидца и ясновидца? Это ведь подры-
вает легитимность научных институтов и самих ученых как властителей духа – со-
временных мудрецов и пророков. Но Вебер демифологизирует и расколдовывает,
в том числе и сакральную роль мудреца и ученого, и этим, вновь парадоксальным
образом, как раз и подтверждает свою концепцию расколдовывания и рационализа-
ции. Он не щадит никого, в том числе и самого себя – ученого-социолога. Если уче-
ный расколдовывает мир, то и сам должен быть расколдован. Здесь Вебер проделы-
вает тот же самый самореференциальный трюк, что и в вопросе с критикой.
13
В результате деконструкции миссии ученого и возникает искомое понятие современ-
ной науки [Лекторский и др. 2008].
Вебер заявляет о том, что ценность науки не может быть доказана; и тут же пыта-
ется ее доказать. Ценность науки и одновременно призвание ученого, ока зывается,
состоят в том, чтобы обеспечить ясность определения противоположных ценностных
позиций. Ученый не является «вождем» (и научная коммуникация тем самым демар-
кируется от политики [Касавин 2017; Бараш 2017]), но он, однако, предстает «судь-
ей», правда, без права выноса решающего суждения. Пусть он не способен раскрыть
замысел бога, зато сам как бы занимает позицию бога. Он, как всеприсутствующий
наблюдатель, наблюдает мир одновременно со всех (и ценностных, и объективных)
позиций, и предлагает человеку осуществить свой свободный выбор: между ценност-
ной (религиозной, эстетической) точкой зрения и объективным, научно-
ориентированным взглядом.
И снова возникает парадокс: партикуляризм науки состоит в ее универсальности,
в мировоззренческой всеохватности. Наука не принуждает к занятию позиций,
но показывает человеку, какие последствия имеет то или иное действие, реализую-
щее ту или иную мировоззренческую или ценностную ориентацию. Так, если инди-
вид разделяет некоторую фанатичную религиозную позицию, тогда придется считать-
ся с определенными последствиями в защите своих ценностей. Мировоззренческие
карты благодаря науке оказываются вскрытыми.
С одной стороны, этот взгляд, конечно, поднимает ученого на мировозренчески
выделенную позицию, он видит больше, и в этом смысле является наблюдателем
второго порядка [Антоновский 2017а; Антоновский 2017б]. Но содержательно это
лишь несколько конкретизирует исходный веберовский тезис: призвание науки в
том, чтобы произвести демаркацию мира объективных и субъективно-ценностных
суждений. С другой стороны, здесь добавляется и новый элемент. Теперь Вебер гово-
рит о том, что такая демаркация есть выражение нравственного долга. Т.е. научное
объективное суждение оказывается еще и ценностным [Касавин 2014].
И этот тезис имеет ключевое значение для анализа работы Вебера: различение
между должным и сущим само оказывается должным, а значит, в веберовском смыс-
ле – ненаучным. И здесь можно было бы обозначить главный пункт критики вебе-
ровской позиции, но он , правда, в некотором смысле сделал это уже сам. Итак, все
суждения являются либо ценностными, либо истинностными. Но куда отнести, суж-
дение, различающее между ними? Вебер решает, что оно и то, и другое. На наш
взгляд, это правильное решение, но только... оно отменяет саму жесткую границу
между двумя мирами.
Primary Sources in German
Weber, Max (2017) Wissenschaft als Beruf, Matthes & Seitz Verlag, Berlin.
Ссылки – References in Russian
Антоновский 2017а
–
Антоновский А.Ю . Эволюционный подход к развитию науки. К рус-
скому переводу работы Н. Лумана «Эволюция науки» // Эпистемология и философия науки.
2017. Т. 52. No 2. С. 201–214.
Антоновский 2017б – Антоновский А.Ю. Наука как общественная подсистема. Никлас Луман
о механизмах социальной эволюции знания и истины // Вопросы философии. 2017 . No 7 .
С. 158 –171 .
Бараш 2017 – Бараш Р.Э. «Истина» и «власть» как категории социальной философии // Монито-
ринг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. No 5. С. 120–134 .
Касавин 2014 – Касавин И.Т . Интерактивные зоны: к предыстории научн ой лаборатории //
Вестник РАН. 2014 . Т . 84 . No 12. С . 1098–1106.
Касавин 2017 – Касавин И.Т. Нормы познания и познание норм // Эпистемология и фило-
софия науки. 2017. Том 54. No 4. С. 8–19.
Лекторский и др. 2008
–
Конструктивизм в философии и науках о человеке (материалы
круглого стола). Участники: Лекторский В.А., Пружинин Б.И ., Антоновский А.Ю . и др. // Во-
просы философии. 2008 . No 3. С . 3 –36.
14
References
Antonovskiy, Alexander Yu., (2017a) “Evolutionary Approach to the Development of Science. On
the Russian Translation of N. Luhmann’s Evolution of Science”, Epistemology & Philosophy of Science,
52, 2, pp. 201–214 (In Russian).
Antonovskiy, Alexander Yu., (2017b) “Science as a Social Subsystem. Niklas Luhmann about
Mechanisms of Social Evolution of Knowledge and Truth”, Voprosy filosofii, Vol. 7 (2017), pp. 158 –171
(In Russian).
Barash, Raisa Ed. (2017) “Truth and Authority as categories of social philosophy”, Monitoring of
public opinion: economic and social changes, 5, pp. 120 –134 (In Russian).
Kasavin, Ilya T. (2014) “Interactive Zones: on the Prehistory of the Scientific Laboratory”, Herald
of the Russian Academy of Sciences , 84, 12, pp. 1098–1106 (In Russian).
Kasavin, Ilya T. (2017) “Norms in cognition and cognition of norms”, Epistemology & Philosophy of
Science, 54, 4, pp. 8 –19 (In Russian).
Lektorsky, Vladislav A. et al. (2008) “Constructivism in epistemology and sciences about the person
(a round-table discussion)”, Voprosy filosofii, Vol. 3 (2008), pp. 3 –36 (In Russian)
Сведения об авторах
АНТОНОВСКИЙ Александр Юрьевич –
доктор философских наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института философии
РАН, доцент кафедры социальной филосо-
фии философского факультета МГУ
им. М .В . Ломоносова.
БАРАШ Раиса Эдуардовна –
кандидат политических наук, старший
научный сотрудник Федерального научно-
исследовательского социологического
центра Российской Академии Наук.
Author’s information
ANTONOVSKIY Alexander Yu. –
DSc in Philosophy, Leading Researcher
(IPRAS), Docent (MSU), Project Researcher
(RSHPS, «Russian Society for History and
Philosophy of Science»).
BARASH Raisa Ed. –
CSc in political sciences, Senior Researcher
(FCTAS RAS).
15
Этическое измерение деятельности ученого в докладе
М. Вебера*
© 2019 г.
А.В. Долматов1**
, Е.В . Масланов2***
1
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
2
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр . 1.
** E-mail: antondolmatov@me.com
*** E-mail: evgenmas@rambler.ru
Поступила 14.05.2019
Ряд критиков М. Вебера, к которым относятся А. Макинтайр и
М. Хоркхаймер, видели в его концепции инструментальной рацио-
нальности одно из оснований современного эмотивизма. Ограничение
роли ученых в обществе лишь прояснением связей между фактами,
требование воздержания от защиты каких-либо видов мировоззрения
понимаются указанными критиками как условие отказа от возможно-
сти рационального обсуждения политики и морали в целом, что ста-
вит под сомнение возможность этики. И хотя такая интерпретация
непосредственно основана на текстах М. Вебера, мы предлагаем рас-
смотреть внимательнее этические идеи доклада «Наука как призвание
и профессия», что позволит нам избежать подобных выводов, а также
подчеркнуть этическую значимость научной деятельности и показать
возможные перспективы этики в регуляции научной работы. Мы
начнем с обсуждения эмотивизма, затем обозначим аргументы ука-
занных критиков Вебера, а затем перейдем собственно к понятию
«нравственного акта» ученого. Хотя наука не может отстаивать какие-
либо ценности или формы мировоззрения, указание на неизбежные
следствия и необходимые средства, связанные с ценностями, делают
их выбор осознанным и ответственным. В этом прояснен ии связей
между фактами, наука выполняет свою моральную роль – главное по-
зитивное указание на роль науки в докладе М. Вебера. Ученый дол-
жен обладать исключительной стойкостью в принятии фактов, кото-
рые ставят под угрозу его собственную ценностную позицию. Этика
науки может взять на себя аналогичную «проясняющую» задачу уже
по отношению к самой науке, предлагая самому сообществу ученых
решить, может ли стремление к знанию в какой-либо сфере оправдать
необходимые средства.
Ключевые слова: Вебер, этика науки, философия науки, ценности,
эмотивизм.
DOI: 10.31857/S004287440006026-3
Цитирование: Долматов А.В., Масланов Е.В. Этическое измерение дея-
тельности ученого в докладе М. Вебера // Вопросы философии. 2019.
No 8. С.15–18.
*
Исследование выполнено по проекту РНФ No 19-18 -00494 «Миссия ученого в совре-
менном мире: наука как профессия и призвание».
16
Ethical Dimension of Scientific Activity in M. Weber’s Speech*
© 2019 г.
Anton V. Dolmatov1**, Evgeniy V. Maslanov2***
1
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
2
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
** E-mail: antondolmatov@me.com
*** E-mail: evgenmas@rambler.ru
Received 14.05.2019
M. Weber is criticized by many philosophers, such as A. Macintyre
or M. Horkheimer, for his concept of instrumental rationality which was seen
as one of the sources of contemporary emotivism. The limited understanding of
the social role of scientists, which is reduced to a clarification of relations be-
tween facts, an imperative to abstain from a defense of any particular form of
ideology is considered by such critics as a rejection from a possibility of a rea-
sonable foundation of politics and morals. Although this interpretation is based
on Weber’s texts, our interpretation of his speech «Science as a Vocation» al-
lows us to avoid such conclusions and demonstrates not only the ethical im-
portance of science but also the perspectives for ethics of science. We start with
a brief discussion of emotivism, then we move to the analysis of Weber’s cri-
tiques, what we mentioned and finally, we analyze «moral achievement» of a
scientist. Although science cannot justify any world views or values, it still
makes its contribution to the moral domain by clarifying the necessary connec-
tions between certain purposes and means required to achieve them. Ethics of
science could accomplish the same task but in relation to science itself, i.e.
showing the possibly unwanted outcomes of scientific researches to let scientists
decide whether they still want to accomplish them.
Key words: Weber, Ethics of Science, Philosophy of Science, values, emotivism.
DOI: 10.31857/S004287440006026-3
Citation: Dolmatov Anton V., Maslanov Evgeniy V. (2019) ‘Ethical Di-
mension of Scientific Activity in M. Weber’s Speech ’, Voprosy Filosofii,
Vol. 8 (2019), pp. 15 –18 .
Для философской этики важной предпосылкой является возможность рациональ-
ного обсуждения целей и ценностей. На наш взгляд, ложность этого предположения
утверждает эмотивизм – «доктрина, согласно которой все оценочные суждения,
и более точно, все моральные суждения, есть не что иное, как выражения предпочте-
ния, выражения установки или чувства, если они носят моральный или оценочный
характер» [Макинтайр 2000, 19]. Следствием эмотивизма является невозможность
рационального исследования ценностей, как и их истинностная оценка. Этика в та-
ком случае оказывается бесполезной попыткой рационализации того, что имеет ир-
рациональную природу, коренится в субъективном выборе индивида. Предпосылкой
же эмотивизма является специфическое понимание рациональности как формальной
и субъективной способности, ограниченной координацией средств, позволяющих
наиболее эффективным образом достичь целей, конечный смысл которых не может
* The research was performed within the project supported by Russian Science Foundation
No. 19-18 -00494 «The mission of the scientist in the modern world; science as profession and
vocation».
17
быть предметом рационального рассмотрения. Такое понимание рациональности
восходит к работам М. Вебера, которого А. Макинтайр прямо называет эмотивистом,
утверждая, что в его учении «по поводу ценностей разум молчит; конфликт между
конкурирующими ценностями не может быть разрешен рационально» [Там же, 39].
М. Хоркхаймер приводит следствия распространения веберовской трактовки рацио-
нальности, такие как служение мысли плохим целям [Хоркхаймер 2011, 14], невоз-
можность обосновать достоинства справедливости и свободы перед несправедливо-
стью и угнетением [Там же, 31].
Представленная трактовка Вебера имеет под собой некоторые текстологические
основания. Если обратиться к докладу «Наука как призвание и профессия», то мож-
но найти подтверждение и эмотивизма в том, что касается конечных целей и ценно-
стей, и имморализма в том, что касается деятельности ученых. Вебер настаивал на
разделении фактов и ценностей, что означало, что ценности не должны были вме-
шиваться в понимание фактов ‒ «там, где человек науки приходит со своим ценност-
ным суждением, уже нет места полному пониманию фактов» [Вебер 1990, 723],
а наука, в свою очередь, не должна претендовать на обоснование какой-либо цен-
ностной позиции, так как «различные ценностные порядки находятся в непримири-
мой борьбе» [Там же, 725], что оставляет выбор одной из них за самим индивидом.
Наука может только указать на средства, необходимые для достижения цели, которая
сама определяется исходя из жизненной позиции, мировоззрения человека.
В тексте можно найти, на первый взгляд, неожиданное выражение – «нравствен-
ный акт», которым называется способность ученого признавать факты, «неудобные с
точки зрения партийной позиции» [Там же]. Обучение этому навыку является перво-
степенной задачей преподавателя, а ее успешная реализация позволяет показать зна-
чимость науки даже тем, кто не интересуется фактами самими по себе. Партийная
позиция, о которой здесь говорится, может состоять, к примеру, в личных взглядах
на демократию, но она не должна мешать ученому изучать факты, сравнивать раз-
личные формы демократии или её особенности по сравнению с другими политиче-
скими режимами. Умение принимать по внимание и те факты, которые ставят под
сомнение собственную ценностную позицию ученого по данному вопросу, оказыва-
ется необходимым качество любого ученого.
В основе и позиции ученого, и политической позиции лежат ценности, которые
не могут быть обоснованы внутри этой позиции. В случае науки, это не только зна-
чимость правил логики и методологии, но и «важность результатов научной работы,
их научная ценность» [Там же, 719]. Можно также выделить специальные ценност-
ные предпосылки отдельных наук, которые необходимом образом разделяет каждый
ученый, работающий в определенной области. В случае медицины, к примеру, таки-
ми предпосылками являются сохранение жизни человека как таковой и уменьшение
его страданий как таковых. Вопрос о том, всегда ли жизнь является ценной, не мо-
жет быть поставлен и рассмотрен внутри самой медицины. Но есть неудобный факт
для медиков: больные, обреченные на страдание в ожидании своей смерти без
надежды на излечение.
Что тогда значит «признание факта». Может ли исходная позиция оставаться
неизменной при его признании? Если это так, то речь идет о факте, который в дей-
ствительности не является неудобным, так как он не угрожает занимаемой позиции.
Но если факт действительно неудобен, то ценностная позиция может сохраниться
только в случае, если не осознается некоторое противоречие между исходной пози-
цией и существующим фактическим положением дел. Способность признания не-
удобного факта в качестве своего условия должна иметь восприимчивость ценност-
ной позиции (политической или научной) к фактам, которые будут ее менять, кор-
ректировать или уточнять. Только такая «отзывчивость» демонстрирует действитель-
ное признание неудобного факта.
Наука хотя и не может заниматься обоснованием каких-либо ценностей, как мо-
жет заниматься исследованием фактов, тем не менее, может служить «“нравствен-
ным” силам», проясняя отношение между фактами и ценностями [Там же, 729–730].
18
Сам ценностный выбор или выбор предпосылок остается за пределами рационально-
сти, но наука позволяет прояснить, какие следствия вытекают из принятия тех или
иных ценностей и предпосылок. Эти следствия могут быть таковыми, что необходи-
мость пересмотра ценностей или, по крайней мере, их нового подтверждения станет
ясно осознаваться: «в таком случае нужно выбирать между целью и неизбежными
средствами ее достижения. “Освящает” цель эти средства или нет? Учитель должен
показать вам необходимость такого выбора» [Там же, 729].
Возвращаясь к примеру с демократией, можно отметить, что наука, хотя и не
должна и не может заниматься её защитой как лучшего политического режима, про-
яснение связи между демократическим устройством и, например, экономическим
ростом, благосостояние граждан, безопасностью и т.д., делает ценностный выбор в
пользу или против демократии ясным и даже в некотором смысле оправданным. Без
этой помощи науки этот выбор мог бы быть случайным и эмоциональным, т.к . не
были бы известны следствия, которые неизбежно вытекают из выбираемой позиции.
Эту роль науки и инструментальной рациональности в нравственной жизни не виде-
ли критики Вебера, утверждавшие эмотивизм и имморализм в качестве неизбежных
следствий, вытекавший из его социологии.
Собственные предпосылки науки, как уже было отмечено, не могут быть постав-
лены под сомнение внутри самой науки. Но эта задача может быть закреплена за
философией, а прояснение связи между предпосылками отдельных наук и неизбеж-
ными следствиями, имеющими значение для нравственной жизни. Как политология
может показать связь между политическими мировоззрениями и необходимыми
практическими следствиями, так и этика науки может показать связь между предпо-
сылками частных наук и теми следствиями, которые неизбежно наступают, предла-
гая, прежде всего, самому профессиональному научному сообществу принять реше-
ние о возможности или невозможности развивать свою дисциплину на тех же сам ых
предпосылках.
Источники – Primary Sources in Russian translation
Вебер 1990 – Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Вебер
М. Избранные произведения. М .: Прогресс, 1990. C . 416–494 [Weber, Max Kritische Studien auf
dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik (Russian translation)].
Макинтайр 2000 – Макинтайр А. После добродетели. М.: Академический Проект; Екатеринбург:
Деловая книга, 2000 [Macintyre, Alasdair After Virtue. A Study of Moral Theory (Russian translation)].
Хоркхаймер 2011 – Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума.
М.: Канон+, 2011 [Horkheimer, Max. Eclipse of Reason (Russian translation)].
Сведения об авторе
ДОЛМАТОВ Антон Владимирович – специ-
алист, лаборант Института философии
РАН, исследователь проекта МРОО «Рус-
ское общество истории и философии
науки».
МАСЛАНОВ Евгений Валерьевич – Канди-
дат философских наук, научный сотрудник
Института философии РАН, исследователь
проекта МРОО «Русское общество истории
и философии науки».
Author’s information
DOLMATOV Anton V. –
BA in Philosophy, Laboratory assistant, Pro-
ject Researcher (RSHPS) «Russian Society for
History and Philosophy of Science».
MASLANOV Evgeniy V. –
CSc in Philosophy, Research Fellow Institute
of Philosophy, Project Researcher (RSHPS)
«Russian Society for History and Philosophy of
Science».
19
М. Вебер: нужна ли науке свобода от оценок?*
© 2019 г.
К.Х . Момджян
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский фа-
культет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 .
E-mail: kmom48@gmail.com
Поступила 14.05.2019
Автор стремится уточнить ключевой методологический тезис М. Ве-
бера, требовавшего освободить науку от оценочных суждений. Автор
убежден, что это требование вполне правомерно в отношении сужде-
ний ценности, представляющих собой мотивационные предпочтения
людей, связанные с выбором приоритетных конечных целей жизни.
В статье подчеркивается, что к такой методологической установке
необходимо относиться по-особому. Оценки могут быть общезначи-
мыми и даже общеобязательными, но они не поддаются гносеологи-
ческой экспертизе на истинность или ложность и потому не должны
использоваться наукой. Предполагается, что оценки такого рода вер-
ны по сути, но получили неудачное терминологическое оформление,
в результате чего воспринимаются как призыв к изгнанию любых и
всяких оценочных суждений из науки. Этого нельзя делать, по той
простой причине, что оценки могут быть разными, часть из них чуж-
да науке, а часть – может и должна использоваться ею.
Также автор констатирует существование иного вида оценочных суж-
дений – суждения значимости, которые связаны с выбором средств
достижения избранных целей. Такие оценки, по убеждению автора,
могут быть истинными или ложными, поскольку характер цели пред-
определяет характер средств, годных или негодных для ее достижения.
Ключевые слова: субъект, объект, истина, заблуждение, потребность,
ценность, благо, цель, средство, мотивация.
DOI: 10.31857/S004287440006027-4
Цитирование: Момджян К.Х . М . Вебер: нужна ли науке свобода от
оценок? // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 19–23 .
*
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект No 18-011 -00980 «Социальная
эволюция» и «прогресс» как категории номотетического познания; проект No 18-011 -01097
«Социальная теория и власть: современная российская перспектива».
20
M. Weber: Does Social Science need Freedom
from Assessments?*
© 2019 г.
Karen Kh. Momdzhyan
Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av.
GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.
E-mail: karm48@mail.ru
Received 14.05.2019
The author seeks to clarify the key methodological thesis of M. Weber, who
demanded to free science from value judgments. The author is convinced that
this requirement is quite legitimate towards to value judgments, which are the
motivational preferences of people associated with the choice of priority goals
of life. The article emphasizes that this methodological setting must be treated
in a special way. Assessments can be generally valid and even obligatory, but
they are not amenable to an epistemological examination of truth or falsehood
and therefore should not be used by science. It is assumed that such assess-
ments are correct in essence, but they have received an incorrect terminological
design, as a result of which they are perceived as a call for the expulsion of any
and all value judgments from science. This cannot be done, for the simple rea-
son that the estimates may be different, some of them are alien to science, and
some of them can and should be used by it.
The author also states the existence of another type of value judgments - signifi-
cance judgments, which are associated with the choice of means to achieve se-
lected goals. Such estimates, according to the author, may be true or false,
since the nature of the goal determines the nature of the means, suitable or un-
suitable for its achievement.
Key words: subject, object, truth, error, need, value, good, purpose, means,
motivation.
DOI: 10.31857/S004287440006027-4
Citation: Momdzhyan, Karen Kh. (2019) “M. Weber: Does social science need
freedom from assessments?”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 19–23 .
Я хочу акцентировать внимание на важнейшем методологическом принципе
М. Вебера, который принято называть «принципом свободы от оценки». Как извест-
но, в основе веберовского подхода лежит известный методологический посыл, кото-
рый называют «принципом Юма» или «гильотиной Юма». Речь идет о необходимости
различать дескриптивные суждения, поддающиеся проверке на истинность-ложность,
и прескриптивные суждения, такой проверке не подлежащие. Дескриптивные сужде-
ния или суждения факта касаются мира сущего, прескриптивные суждения касаются
мира должного, и эти миры не сводятся друг к другу и не выводятся один из другого.
Позднее эти идеи развил Иммануил Кант и неокантианцы, к числу которых относил-
ся Макс Вебер. Руководствуясь таким подходом, Вебер утверждал, что оценочные
суждения, имеющие априори субъективный характер, не должны использоваться
*
This paper is prepared with the support of Russian Foundation for Basic Research, project
No 18-011 -01097, project No 18-011 -00980.
21
наукой, задача которой – не осознавать мир, а познавать его, искать собственную ло-
гику существования мира, которая не зависит от человеческих преференций.
Конечно, сохранять объективность научного знания – весьма не простая задача.
Можно позавидовать геометрам, аксиомы которых, как говорил Т. Гоббс, не оспари-
ваются, поскольку не ущемляют практических интересов людей. Говорить об объек-
тивности в обществознании и гуманитаристике существенно сложнее, поскольку здесь
объект не обладает ценностной нейтральностью. Тем не менее Вебер считал, что уче-
ный-обществовед может и должен сохранять объективность, осознавая свои ценност-
ные предпочтения и минимизируя их воздействие на поиск научной истины. Мысль о
неспособности обществоведа к «признанию фактов, в том числе – и в первую оче-
редь – таких, которые неудобны для него лично» [Вебер 1990, 551], о невозможности
отделять констатацию фактов и их рефлективное осмысление «от оценивающей их по-
зиции», Вебер считал оскорбительной для достоинства ученых. Он призывал их куль-
тивировать в себе принцип «интеллектуальной честности» – способность отделять свои
научные знания и свои оценочные предпочтения, которые не должны навязываться
другим в качестве бесспорной истины. То же требование Вебер адресовал преподавате-
лю, который должен «в каждом отдельном случае со всей отчетливостью пояснять сво-
им слушателям, и в первую очередь уяснить самому себе (пусть даже это сделает его
лекции менее привлекательными), что является в его лекциях чисто логическим выво-
дом или чисто эмпирическим установлением фактов и что характер практической
оценки» [Вебер 1990, 548]. Как следует относиться к этим идеям Вебера? Я полагаю,
что они верны по сути, но получили неудачное терминологически оформление, в ре-
зультате чего воспринимаются как призыв к изгнанию любых и всяких оценочных
суждений из науки. Этого нельзя делать по той простой причине, что оценки могут
быть разными, часть из них чужда науке, а часть может и должна использоваться ею.
Под оценкой я понимаю субъектно-ориентированное суждение, которое касается не
мира как такового, а значений мира для живущих в нем людей. Если согласиться с этим
утверждением, мы должны признать существование двух разных типов оценок, одни из
которых я называю суждениями ценности, а другие – суждениями значимости.
Говоря об имманентности ценностей важно отличать их от объектов ценностного
предпочтения, которые называют благами. Именно благами, а не ценностями явля-
ются для нас свобода, истина или безопасность. Ценностью является внутреннее мо-
тивационное влечение человека к свободе, истине или безопасности, обретение кото-
рых признается приоритетной целью существования в мире. Я оставляю в стороне
вопрос о структуре ценностей и, прежде всего, вопрос о наличии так называемых
общечеловеческих ценностей. Скажу только, что, на мой взгляд, структура ценностей
определяется структурой человеческих потребностей, которые имеют видоспециф и-
ческий характер, то есть одинаковы у всех людей независимо от их этнических, кон-
фессиональных, профессиональных и прочих различий (см. об этом подробнее:
[Момджян 2015]). Это свои потребности, избегая их депривации. Именно потреб-
ность в свободе или безопасности определяет их ценность для человека – у людей
нет и не может быть ценностей, в основе которых не лежали бы потребности, пред-
писанные нам типом нашей психосоматической и социокультурной организации.
Наличие у человека свободы воли делает веберовский принцип «свободы от оцен-
ки» совершенно верным в отношении того класса оценок, которые мы называем
суждениями ценности (см. [Момджян 2017]). Несмотря на формирующее воздействие
культуры, каждый из нас обладает свободой выбирать приоритетные цели жизни,
и никто не вправе считать этот выбор ошибочным, если он сделан с достаточной
степенью знания и понимания. Пусть разные ценностные предпочтения имеют раз-
ную степень адаптивности ‒ одни из них способствуют сохранению индивидуальной
и коллективной жизни людей, другие препятствуют. Однако адаптивность не может
быть объективным критерием истинности или ложности ценностных предпочтений,
поскольку для людей (в отличие от животных) сохранение факта жизни не является
безальтернативной доминантой поведения. Конечно, есть люди и культуры с дефици-
ентной мотивацией, которые считают приоритетной задачей биологическое выживание в
22
среде. Но есть и альтернативный бытийный (словами А. Маслоу) менталитет, который
ставит качество жизни выше ее факта, то есть полагает, что в нашей жизни есть ценно-
сти важнее жизни. Мы можем критиковать такой выбор как самоубийственный, но мы
не вправе рассматривать его как гносеологически ошибочный.
Таким образом, суждения ценности могут быть общезначимыми, нередко они яв-
ляются общеобязательными, но ни интерсубъективность, ни правовое принуждение
не делают эти суждения объективно истинными или ложными. Это значит, что нет
единственно истинного ответа на вопрос о том, разрешать аборты, эвтаназию или
смертную казнь. Это вопрос ценностного предпочтения людей. Наивно думать, что
научная экспертиза может положить конец этим спорам, предложив гносеологически
верное решение. Суждениям ценности в науке не место. Но есть и другой тип оце-
ночных суждений, которые я называю суждениями значимости, и которые могут и
должны использоваться наукой.
Суждения значимости бывают двух разных видов. Простейший из них – оценки, ко-
торые фиксируют безальтернативные предпочтения нашего тела, которое не обладает
свободой воли и существует в диапазоне объективно полезного и объективно вредного.
Это значит, что суждение «курить вредно», будучи оценочным суждением, вполне подда-
ется научной апробации, чего не скажешь о ценностном выборе в пользу табака, кото-
рый делает курильщик, осознанно предпочитающий удовольствие долголетию.
Второй вид суждений значимости – это оценки, которые касаются средств дости-
жения избранной нами конечной цели. Гете говорил: свободен только первый шаг,
но мы рабы второго. Цель, возможно, не оправдывает средства, но она предопреде-
ляет их характер, делит их на годные и негодные для ее достижения, что делает
оценку этих средств гносеологически возможной. В самом деле, мы вольны выбирать
между стройностью фигуры и вкусной едой, но раз уж мы решили предпочесть кра-
соту и здоровье удовольствиям нам следует выбирать адекватные этой цели средства,
делать правильный выбор, который основан на истинной оценке ситуации. Не удаст-
ся достичь материального благополучия путем огосударствления экономики и то-
тального планирования. Не удастся достичь свободы путем тотальной либерализации
политарного общества, путем декретирования свободы по тыняновскому принципу –
«я прикажу им быть свободными» и т.д. Это не вопрос вкуса, о котором не спорят,
это вопрос вполне возможной гносеологической экспертизы.
Сам Вебер прекрасно понимал различие между суждениями ценности и суждени-
ями значимости. Он писал: «Размышление о последних элементах осмысленных че-
ловеческих действий всегда связано с категориями “цели” и “средства”. Мы in con-
creto стремимся к чему-нибудь либо “из-за его собственной ценности”, либо рас-
сматривая его как средство к достижению некоей цели. Научному исследованию
прежде всего и безусловно доступна проблема соответствия средств поставленной
цели» [Вебер 1990, 347].
К сожалению, многие последователи Вебера воспринимают призыв к «свободе от
оценки» буквально, что чревато большим ущербом для научного обществознания. При-
мером может служить Леопольд фон Визе, считавший, что ученый может и должен кон-
статировать факт социального изменения, объяснять его и прогнозировать его послед-
ствия. Но ученый не имеет права оценивать социальные изменения как «лучшие или
худшие», «прогрессивные или регрессивные» и т.д. Я считаю такую точку зрения совер-
шенно ошибочной. Оценочные суждения о «лучшем» и «худшем» в общественной жизни
могут быть истинными или ложными в том случае, если они касаются функциональных
институций общества, имеющих назначение, то есть являющихся средством достижения
некоторой внешней несобственной цели. Мы имеем научное право оценивать как
«плохую» армию, не справляющуюся с возложенной на нее функцией защиты общества,
как «хорошую» медицину, способную избавлять нас от болезней и продлевать сроки
нашей жизни и т.д. Подобные оценки могут и должны использоваться наукой. Более
того, мы имеем возможность оценивать как прогрессивное/регрессивное само общество
как самодостаточную систему (см. [Кржевов 2016]) в зависимости от того, насколько оно
справляется с задачей удовлетворения потребностей образующих его людей.
23
Источники – Primary Sources in Russian translation
Вебер 1990 – Вебер М. Избранные произведения. М .: Прогресс, 1990 [Weber, Max Selected
Works (Russian translation)].
Ссылки – References in Russian
Кржевов 2016 – Кржевов В.С . Системно -теоретический подход к объяснению социальной
реальности // Вопросы философии. 2016. No 1. C . 17 –42.
Момджян 2015 – Момджян К.Х. Универсальные потребности и родовая сущность человека //
Вопросы философии. 2015 . No 2. С . 3 –14 .
Момджян 2017 – Момджян К.Х. Социально -философский анализ феномена свободной во-
ли // Вопросы философии. 2017 . No 9 . С . 68–81 .
References
Krzhevov, Vladimir S. (2016) “System-theoretical Approach to the Explanation of Social Reality”,
Voprosy Filosofii, Vol. 1 (2016), pp. 17 –42 . (In Russian).
Momdzhyan, Karen Kh. (2015) “Universal human needs and a generic human essence”, Voprosy
filosofii, Vol. 2 (2015), pp. 3 –15 (In Russian).
Momdzhyan, Karen Kh. (2017) “Socio-Philosophical Analysis of the Phenomenon of Free Will”,
Voprosy Filosofii, Vol. 9 (2017), pp. 68–81 (In Russian).
Сведения об авторе
МОМДЖЯН Карен Хачикович –
доктор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой социальной филосо-
фии философского факультета МГУ
им. М .В . Ломоносова.
Author’s information
MOMDZHYAN Karen Kh. –
DSc in Philosophy, professor, Head of the De-
partment of social philosophy, Faculty of philos-
ophy, Lomonosov Moscow State University.
24
Ученый как профессия: в поисках самоопределения*
© 2019 г.
Т.Д . Соколова
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: sokolovatd@gmail.com
Поступила 14.05.2019
В настоящей статье, отталкиваясь от предложенного Максом Вебером
определения ученого, автор исторически рассматривает трансформации
понятия «ученый» в философии и истории науки. В контексте развития
и усложнения науки в качестве социального института определенного
типа, автор пытается проследить формирование требований к ученому
в процессе профессионализации научного познания. Основная задача
статьи – показать, как с развитием науки возрастает количество требо-
ваний к ученому, входящих в его профессиональные компетенции. Ес-
ли на начальном этапе профессионализации науки основным требова-
нием к ученому является добросовестный научный поиск, то с развити-
ем профессии к этому добавляются уже не столько «научные» компе-
тенции (к которым с натяжкой можно отнести и преподавание), но и
более широкий спектр социально-коммуникационных навыков (попу-
ляризация знаний, общение с государственными учреждениями, спон-
сирующими фондами и т.д.)
Ключевые слова: ученый, наука как профессия, Макс Вебер, Уильям
Хьюэлл, Альфонс Декандоль.
DOI: 10.31857/S004287440006028-5
Цитирование: Соколова Т.Д. Ученый как профессия: в поисках само-
определения // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 24–28 .
*
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект No 18-311 -00282 «Рациональность
в гуманитарных науках: теоретические противоречия и дисциплинарная практика» и
РФФИ, проект No 17-29-09178 «Анализ языка и междисциплинарность».
25
Science as a Profession: In Search of Self-Determination*
© 2019 г.
Tatiana D. Sokolova
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: sokolovatd@gmail.com
Received 14.05.2019
In the article, based on Max Weber’s definition of a scientist, we historically
follow the transformations of the concept “scientist” in the philosophy and his-
tory of science. In the context of the development and complication of science
as a social institution of a certain type, we will try to trace the formation of the
requirements for a scientist in the professionalization of scientific knowledge.
The main objective of the article is to show how with the development of sci-
ence, the number of requirements for a scientist within his professional compe-
tencies increases. If at the initial stage of the professionalization of science, the
basic requirement for a scientist is a conscientious scientific search, then with
the development of the profession, not so much “scientific” competencies were
added (which can be attributed with teaching), but also a wider range of social
and communication skills (popularization of knowledge, communication with
government agencies, sponsoring funds, etc.)
Key words: scientist, science as a profession, Max Weber, William Whewell,
Alphonse de Candolle.
DOI: 10.31857/S004287440006028-5
Citation: Sokolova, Tatiana D. (2019) “Science as a Profession: In Search
of Self-Determination”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 24 –28 .
В докладе, известном в русском переводе как «Наука как призвание и профес-
сия», Макс Вебер попытался сформулировать те требования, которые выдвигает
к человеку, решившему посвятить себя научной деятельности, современное ему по-
ложение дел в академическом сообществе. Хотя доклад и призван был вдохновить
молодых исследователей, делающих свои первые шаги в научной карьере, на выдаю-
щиеся свершения, то есть, по сути, служить мотивационной речью, его основное со-
держание сводится скорее к предостережению от подводных камней, связанных с
наукой как профессиональной деятельностью. В центре данного доклада – два аспек-
та: личностные психологические особенности, необходимые исследователю для науч-
ных занятий и институциональная среда, в которой эти особенности должны найти
свое практическое применение. Мы обратимся к процессу профессионализации
научного познания и становлении науки как профессии, однако пойдем не вперед,
к XXI в. и нынешнему ее состоянию, а назад, к тем предпосылкам, которые и приве-
ли Макса Вебера к пониманию науки как профессии.
Макс Вебер сравнивает две академические системы – немецкую и американскую,
анализируя плюсы и минусы этих систем, из которых ни одна не представляется ему
полностью удовлетворительной. Институциональное устройство науки здесь выступа-
ет в качестве той объективной реальности, которую человек, обладающий призвани-
ем к научным исследованиям, должен с необходимостью встраиваться, если хочет
*
The study was prepared under the support of the Russian Foundation for Basic Research,
Project No. 17-29-09178 Language Analysis and Interdisciplinarity.
26
продолжать (да и просто начать) свои научные изыскания. При этом, несмотря на то,
что Вебер не пытается вывести более или менее общее определение ученого, он в
сравнительно небольшом по объему докладе ухватывает те тенденции самоопределе-
ния ученых, которые формировались на протяжении XIX в. и уже в ХХ в. достигли
своего окончательного развития. Важно выделить два аспекта этого процесса: наука
перестает быть делом энтузиастов-одиночек и становится коллективным предприяти-
ем, участники которого не только занимаются научными изысканиями, но и встрое-
ны в формальные академические структуры; занятия наукой требуют узкой специа-
лизации в рамках данной структуры – поле научных интересов исследователя жестко
ограничивается не только рамками отдельной дисциплины, но и определенными те-
мами и проблемами внутри этой дисциплины. Оба эти процесса способствуют тому,
что «научная работа встраивается в ход прогресса» [Weber 1989, 12], а научный про-
гресс становится «наиболее важной частью процесса интеллектуализации» [Weber
1989, 13], которая, в свою очередь, выражается в убеждении в потенциальной позна-
ваемости рациональными средствами всего мира и происходящих в нем процессов,
то есть, в отказе от мистического или мифологического мышления. Причем распро-
странение научного типа мышления не ограничивается только сообществом профес-
сиональных ученых, оно затрагивает все общество в целом.
Процесс профессионализации научного знания совпадает с процессом индустриа-
лизации в обществе. В данном случае, наука как социальный институт находится
в общем течении развития других социальных институтов. И если в первой половине
XIX в., по крайней мере, в английском языке, слова «наука» и «философия» исполь-
зуются в качестве синонимов [Ross 1962, 69], уже начинает осознаваться необходи-
мость в большей дифференциации. Потому Уильям Хьюэлл, один из основателей
философии науки как самостоятельной дисциплины, предлагает создать «общий тер-
мин, с помощью которого все эти джентльмены могли бы описать себя с отсылкой к
своим занятиям» [Whewell 1834, 59]. И хотя термин scientist прижился в английском
языке только во второй половине XIX в., начало самоопределению и отделению есте-
ственнонаучных дисциплин от философии было положено, а вместе с ним и начало
профессионализации деятельности ученого.
Случай с английским языком, хотя и может рассматриваться в качестве историче-
ского курьеза, примечателен тем, что именно здесь возникает проблема самоопреде-
ления ученого: существует группа людей, посвятившая себя вполне специфическим
занятиям, но в то же время, эти люди вынуждены пользоваться для само именования
термином, закрепленным за более широкой категорией исследовател ей, род занятий
которых существенно отличается от их деятельности. На этот случай обращает вни-
мание Альфонс Декандоль в своем фундаментальном историческом труде о развитии
европейской науки: «В немецком языке есть слово Gelehrte, смысл которого иденти-
чен смыслу [французского] savant. Английский язык все еще слишком беден, и так
как выражение learned считается неудобным в качестве субстантива, авторы иногда
используют французское слово savant по правилам английского языка: a great savant.
Нужно было найти слово для тех, кто исследует, делает открытия, изобретает,
то есть, в более общем виде, способствует прогрессу...» [de Candolle 1783, 29]. То есть,
профессию ученого отличает от, например, университетского преподавателя, не
накопление и передача знаний, а прогресс знания. Профессиональный ученый – это
прежде всего тот, кто производит новое знание, а новое знание, в свою очередь –
символ прогресса. Об этой же тенденции говорит и Вебер, несколько пессимистично
рассуждая о том, что для ученых быть превзойденными в своей работе – «не только
судьба, но и общая цель» [Weber 1989, 12].
Следующая тенденция, которую отмечает Декандоль, заключается в специализа-
ции научного знания, его канализации по отдельным узким дисциплинам: «Люди,
стремящиеся только лишь знать или уметь, могут бесконечно изменять свой круг
чтения, обучаться чему угодно и рассуждать между собой de omnire scribili et quibus
damallis. Те же, кто имеет благородное желание сделать открытие и опубликовать что-
то новое, с необходимостью должны сконцентрировать свои усилия на одной науке,
27
а иногда и на одном – единственном разделе этой науки» [de Candolle 1783, 74].
У Вебера эта тенденция сохраняется, причем он указывает на все больший рост
научной специализации, которая будет накладывать все больше и больше ограниче-
ний на научные интересы ученого, которому для занятий наукой потребуется культи-
вировать в себе «узкоспециализированную страсть» [Weber 1989, 9].
То есть, в профессию ученого входит не просто производство нового знания,
но нового знания конкретной области, то есть, специализация. Передача знаний
(преподавание) как для Декандоля, так и для Вебера – в некотором смысле побоч-
ный продукт научной деятельности: не каждый ученый обязан быть хорошим препо-
давателем, а не каждый хороший преподаватель – быть при этом еще и ученым. В то
же время, в цитируемой нами работе Декандоля, автор в качестве эмпирического
материала для анализа берет статистику членства европейских академий наук (ан-
глийской, французской, немецкой и российской). Принадлежность к формальной
организации или структуре, таком образом, также становится критерием (пусть и не
основным) для того, чтобы считаться профессиональным ученым.
В ответ на работу Альфонса Декандоля Френсис Гальтон, пытаясь выявить есте-
ственные условия формирования состоявшегося в своей профессии ученого, обращает-
ся к научному сообществу Великобритании, в котором выделяет группу из 300 человек,
которых можно охарактеризовать в качестве ученых по выведенным им критериям:
занятие официальных должностей в научных организациях и вклад в развитие научных
исследований, подтвержденный научным сообществом. При этом Гальтон замечает,
что столь большое количество ученых не должно удивлять читателя: помимо известных
ученых, которых, действительно, единицы, существуют и неизвестные широкой публи-
ке и непубличные фигуры, которые также вносят вклад в развитие научных дисциплин.
Поэтому известность и популярность, хотя некоторым образом и способствует продви-
жению научных исследований, не может в полной мере являться критерием отнесения
того или иного исследователя к числу ученых [Galton 1874, 5‒7].
Таким образом, к профессиональным задачам ученого относятся: способствование
прогрессу знания; специализация на конкретной научной дисциплине; принадлеж-
ность к формальной научной структуре или организации, что является доказатель-
ством одобрения деятельности ученого научным сообществом, а также подчеркивает
коллективный характер научной деятельности. Однако если теоретики профессио-
нального становления ученого XIX в. относили такие компетенции как преподава-
ние, «способствование развитию научной культуры», общественную известность и
участие в актуальной политической повестке, связанной с организацией научного
процесса, как желательные и почетные, но вовсе необязательные для того, чтоб ы
называться ученым, то в начале ХХ в. Макс Вебер рассматривает их уже в качестве
таких явлений, с которыми любой человек, намеренный построить научную карьеру,
с необходимостью должен иметь дело, а потому знать и понимать, как такие процес-
сы устроены, как они функционируют, и отделять их от собственно научного поиска.
И.Т. Касавин, рассуждая о связи научного и политического, указывает на то, что
«поисковое исследование, прикладные разработки и популяризация науки представ-
ляют собой звенья одной системы в рамках общественного бытия науки» [Касавин
2015, 12]. И действительно, распространение научного прогресса на общество в це-
лом вызывает все больший интерес к научным дисциплинам со стороны широкой
публики. И здесь имеет место любопытное противоречие: с одной стороны, процесс
профессионализации и специализации ученого, т.е . тенденция развития науки, уна-
следованная нами от XIX в., продолжает играть свою основополагающую роль в ста-
новлении профессионального ученого. Однако количество компетенций, которыми
должен обладать ученый, но которые сложно или вовсе невозможно отнести к непо-
средственно научным, только возрастает. К преподаванию своей дисциплины буду-
щим профессиональным ученым и членам научного сообщества добавляется требо-
вание сообщать результаты своих исследований в популярной форме, доступной для
понимания широкой публики. К этому добавляется требование взаимодействия с
политическими институциями, государственными и негосударственными фондами,
28
финансирующими научные исследования [Вострикова, Куслий 2018], то есть, от уче-
ного требуется быть уже не только ученым и преподавателем, а также популяризато-
ром науки, но и политиком , и бизнесменом, и специалистом по связям с обществен-
ностью. Здесь можно возразить, что и эти тенденции современная наука унаследова-
лаотXIXв.
–
периода создания альтернативных научных сообществ и политических
дебатов, инициированных самими учеными, о роли научного развития для общества,
а также роли государственной власти в этом развитии [Howarth 1931]. Однако если
раньше большинство ученых могли позволить себе оставаться в стороне от этих деба-
тов, равно как и от непосредственных действий в данных областях, то возможно ли
такое положение дел сегодня? И должны ли данные компетенции входить в опреде-
ление профессионального ученого?
Primary Sources in English and in French
Candolle, Augustin De (1873) Histoire des Sciences et des Savants depuis deux Siècles, H. Georg,
Genève.
Galton, Francis (1874) English Men of Science: Their Nature and Nurture, Macmillan & Co, London.
Howarth, Osbert G.R . (1931) The British Association for the Advancement of Science: A Retrospect
1831–1921, Association at its Office in Burlington House, Piccadilly, W. I ., London.
Ross, Sydney (1962) “Scientist: The Story of the Wo rd”, Annals of Science, vol. 18, No 2, pp 65–85.
Weber, Max (1989) “Science as a Vocation”, Max Weber’s ‘Science as a Vocation’, ed. by P. Lass-
man, I. Velody, Unwin Hyman, London, pp. 3 –32 .
Whewell, William (1834) “Review on the Connexion of the Physical Sciences by Ms. Sommerville”,
Quarterly Review, 51, pp. 54 –66.
Ссылки – References in Russian
Вострикова, Куслий 2018 – Вострикова Е.В ., Куслий П.С. Деньги на науку: Социально-
экономические проблемы финансирования научного поиска // Эпистемология и философия
науки. 2018. Т. LV, No 1. С. 99–119.
Касавин 2015 – Касавин И.Т . Как возможна политическая философия науки? // Эпистемо-
логия и философия науки. 2015. Т. XLV. No 3. С. 5–15.
References
Kasavin, Ilya T. (2015) “How is Political Philosophy of Science Possible” Epistemology & Philoso-
phy of Science, XLV, 3, pp. 5 –15 (in Russian).
Vostrikova, Ekaterina V., Kusliy, Petr S. (2018) “Money for Science: Social -Economical Problems
of Funding Scientific Research”, Epistemology & Philosophy of Science, LV, 1, pp. 99 –119 (In Russian).
Сведения об авторе
СОКОЛОВА Татьяна Дмитриевна –
кандидат философских наук, научный со-
трудник сектора социальной эпистемоло-
гии Института философии РАН, Москва.
Author’s information
SOKOLOVA Tatiana D. –
CSc in Philosophy, Research Fellow at the
Department of Social Epistemology, Institute
of Philosophy.
29
Взаимодействие между учеными и обществом в XXI веке в
свете переосмысления работы Макса Вебера*
© 2019 г.
С.В . Шибаршина
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И . Лобачевского, Нижний Новгород, 603022, просп. Гагарина, д. 23.
E-mail: svet.shib@gmail.com
Поступила 14.05.2019
Статья посвящена рассмотрению проблемы расширения социальной
миссии современного ученого как научного коммуникатора в связи с
переосмыслением работы М. Вебера «Наука как призвание и профес-
сия». Указывается на разграничение Вебером науки как призвания и
профессии как проблемы, актуальной по сей день, а также на важ-
ность новых задач научного сообщества, связанных с вопросами об-
щественного понимания науки. Акцентируется внимание на особен-
ностях популяризации научного знания в Германии 1920-х гг., свя-
занных, во-первых, с идеей «культурной нации», а, во-вторых, с «мо-
делью дефицита», доминирующей в то время. Отмечается, что важ-
ность общественных дебатов относительно внедрения научно-
технических достижений еще не была осознана во времена Вебера,
хотя оптимизм в отношении научно-технического прогресса стал
уменьшаться в связи с разрушительными последствиями мировых
войн. Высказывается ряд предположений относительно того, как бы
Вебер оценил взаимодействие между учеными и общественностью,
а также этические проблемы внешней научной коммуникации, свя-
занные с ценностной нейтральностью, прозрачностью представления
научного знания и т.д. Как полагает автор, в случае если бы Вебер дал
свою оценку важности популяризации науки, то последняя вряд ли
бы вышла за рамки идеи повышения культурного уровня нации и,
соответственно, «модели дефицита». Показывается, что современный
социально-культурный контекст, в свою очередь, предполагает зна-
чимость новых задач ученого, связанных с более интенсивным взаи-
модействием с различными социальными группами.
Ключевые слова: Макс Вебер, наука, назначение ученого, популяриза-
ция науки, Kulturnation, общественные дебаты.
DOI: 10.31857/S004287440006029-6
Цитирование: Шибаршина С.В. Взаимодействие между учеными и об-
ществом в XXI веке в свете переосмысления работы Макса Вебера //
Вопросы философии. 2019. No 8. С. 29–32 .
*
Исследование выполнено по проекту РНФ No 19-18 -00494 «Миссия ученого в совре-
менном мире: наука как профессия и призвание».
30
Interactions between scientists and society in the 21st century:
Revisiting the work by Max Weber*
© 2019 г.
Svetlana V. Shibarshina
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, 23, Gagarina av., Nizhnij Novgorod,
603022, Russian Federation.
E-mail: svet.shib@gmail.com
Received 14.05.2019
This paper accentuates the question of expanding social responsibilities faced by
contemporary scientists in connection with the rethinking of Max Weber’s work
“Science as a Vocation”. As known, Weber differentiates between professional
scientific activities and science as an inner calling – the issue remaining rele-
vant nowadays. The author, in her turn, elucidates another issue related to the
public understanding of science. The paper briefly depicts specific traits of sci-
ence popularization in Germany of the 1920s, connected to the idea of “cultur-
al nation” and proceeding within the “deficit model”. It is noted that the im-
portance of public debate regarding science and technology achievements was
not so topical in Weber’s time, as it is now; although optimism regarding sci-
ence and technology began to decrease due to the devastating effects of the
world wars. The author gives a number of suggestions regarding the way Weber
might have evaluated the interactions between scientists and the public, as well
as the ethical problems of external science communication, including value
neutrality, transparency of communication, etc. She assumes that Weber’s pos-
sible view on the importance of popularizing science would hardly have gone
beyond the idea of raising the nation’s cultural level and, accordingly, the “def-
icit model”. The author concludes that the contemporary socio-cultural context,
however, implies new tasks for scientists connected to more intensive interac-
tions with various social groups.
Key words: Max Weber, science, scientist’s vocation, science popularization,
Kulturnation, public debates.
DOI: 10.31857/S004287440006029-6
Citation: Shibarshina, Svetlana V. (2019) “Interactions between Scientists
and Society in the 21st Century: Revisiting the Work by Max Weber”, Vo-
prosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 29–32 .
В публичной лекции «Наука как призвание и профессия» Макс Вебер высказал
ряд размышлений о призвании ученого. В частности, он разграничил профессио-
нальное занятие наукой, нацеленное на решение конкретных исследовательских за-
дач и опирающееся на специальные методы и техники, и науку как внутренне ощу-
щаемое призвание, вдохновляемое поиском истины и желанием познать непознанное
[Вебер 1990]. Когда-то наука, как показывает Вебер, понималась как «путь к истин-
ной природе», «путь к истинному Богу» и т.п. [Вебер 1990, 717–718], однако в ре-
зультате «интеллектуалистической рационализации», «расколдовывания» мира есте-
ственные науки перестают восприниматься как способные если не объяснить, то хотя
бы указать направление поиска «смыслов»: сейчас в это верит лишь некотора я часть
естествоиспытателей – «“взрослые” дети» по Веберу [Вебер 1990, 713 –714 , 717].
*
This work was supported by the Russian Science Foundation under Grant no. 19-18 -00494
‘The mission of the scientist in the modern world: science as profession and vocation’.
31
Почти столетием позже Стивен Шейпин укажет на амбивалентность и изменчивость
восприятия личности ученого в начале XX в.: «быть ученым все еще означало нечто
вроде призвания, однако все больше воспринималось как профессиональное заня-
тие» [Shapin 2008, 46]. На самом деле, данная амбивалентность сохраняется до сих
пор, заставляя исследователей задаваться вопросом о том, зачем вообще идти в науку
либо оставаться в ней.
Другой вопрос, который становится все более актуальным в XXI в., связан с об-
щественным восприятием науки. Во времена Вебера ни популяризация науки, ни
внешняя научная коммуникация в целом еще не считались неотъемлемой частью
деятельности научного сообщества (и, в принципе, не стали ею безоговорочно и по
сей день). Аналогично общественные дебаты, подобные современным, затрагиваю-
щим проблемы развития и внедрения биотехнологий, изменения климата, трансфор-
мации биологической природы человека и т.п., а также включающ им различные со-
циальные группы, еще не осознавались необходимыми ни научным сообществом, ни
широкой публикой. Вместе с тем, нельзя утверждать, что научно-технический про-
гресс воспринимался исключительно позитивно. В частности, в послевоенной Европе
оптимистичная вера в разум и науку стала уступать все большей убежденности в том,
что именно научно-технический прогресс стал виной массовых разрушений и стра-
даний. В работе «Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век» британский историк
Эрик Хобсбаум отметил, что на восприятие современного мира оказало существен-
ное влияние ощущение непостижимости науки, непредсказуемости практических и
моральных последствий ее развития, а также того, что наука «подчеркивала беспо-
мощность индивида», что она по сути своей опасна, поскольку «вмешивается в есте-
ственный порядок вещей» (цит. по: [Schirrmacher 2013, 393]).
Тем не менее, тогда еще не был предложен так называемый «принцип участия»,
в рамках которого исследуются и реализуются практики вовлечения различных соци-
альных групп в научно-исследовательскую деятельность, в оценку научно-
технических инноваций и пр. В первой половине XX в. в большей степени реализо-
вывалась так называемая «модель дефицита» [Bucchi 2008] в рамках популяризации
научного знания, одним из важнейших каналов которого, помимо форматов публич-
ных лекций, научных демонстраций и т.д., стан овились медиа. В Германии 1920-х гг.,
к примеру, с ростом прессы и издательского дела развивается своего рода «инду-
стрия» популяризации научных знаний, о чем свидетельствуют выпускаемые научно-
популярные журналы и радиопрограммы: журнал Kosmos (основан в 1904 г.), один из
наиболее читаемых; серия научно-популярных лекций, выходивших с 1925 г. на ра-
диостанции «Южно-немецкое радиовещание» (Der Süddeutsche Rundfunk AG) по по-
недельникам в 7:30 утра (прайм-тайм); научно-популярная программа по астроно-
мии, выходившая на радиостанции «Час Радио Берлин» (Die Funk-Stunde AG Berlin)
с 1923 г., и т.д.
Мы можем только предполагать, как бы сам Вебер оценил значимость научной
популяризации и роли ученого в данном явлении; что бы сказал по поводу диалога
между экспертами и широкой публикой в общественных дебатах, посвященных внед-
рению научно-технических инноваций; как бы оценил этику внешней научной ком-
муникации, очевидно, включающую проблематику ценностей, ценностной нейтраль-
ности, открытости и прозрачности представления научного знания. Казалось бы,
в демократическом и технократическом обществе публика должна быть в курсе науч-
ных разработок, поскольку это необходимо для принятия квалифицированных реше-
ний, касающихся жизни людей. Но возникает вопрос, что именно и в каком объеме
следует сообщать людям о научном знании? Необходимо ли посвящать обществен-
ность в тонкости и сложности фундаментальной науки или лучше остановиться на
прикладных аспектах?
Поскольку данные вопросы еще не были столь актуальными во времена Вебера,
можно лишь попытаться сделать ряд предположений. Как нам представляется, пози-
ция Вебера в целом была бы близка доминирующей тогда в Германии концепции
научной популяризации, которая отражала идею Kulturnation (нем. «культурная
32
нация») [Schirrmacher 2012, 386], связанную с расцветом университетов, культом
фундаментальной науки, стремлением к ценностям высокой культуры как наследия
Германии последней трети XIX в. В данном контексте знаковой является деятель-
ность Ганса Бредова (Hans Bredow), одного из создателей радиовещания в Германии,
по продвижению идеи радио с «высоким культурным профилем», включающим се-
рии научно-популярных лекций высокого уровня [Schirrmacher 2012, 390].
Как нам представляется, Вебер бы как минимум усомнился в важности адаптации
медийных форматов к представлению академического знания, полагая скорее – как,
впрочем, и многие современные ученые и философы, – что это во многом противо-
речит «традиционному образу профессора вкупе с идеей независимого университета»,
фиксирующего «нечто, существенно отличающее науку от других форм культуры»
[Касавин 2015, 13]. Тем не менее, как известно, социально-культурный и прочие
контексты эпохи выводят на первый план соответствующие задачи: если раньше это
была идея «культурной нации», то сейчас это скорее проблема общественного пони-
мания науки и вовлечения широкой публики. Современная миссия ученого, таким
образом, расширяется до включения новых потенциальных социальных задач, среди
которых – не просто разъяснение научно-технических достижений для широкой пуб-
лики и даже не просто диалог с ней, но готовность к сотрудничеству (непростые за-
дачи, которые научному сообществу предстоит осознавать).
Источники – Primary Sources in Russian translation
Вебер 1990 – Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произве-
дения. М .: Прогресс, 1990. C . 707 –735 [Weber, Max Wissenschaft als Beruf (Russian translation)].
Ссылки – References in Russian
Касавин, 2015 – Касавин И.Т. Как возможна политическая философия науки? // Epistemolo-
gy & Philosophy of Science. Эпистемология и философия науки. 2015 . Т . 14 . No 3. С . 5 –15.
References
Bucchi, Massimiano (2008) “Of Deficits, Deviations and Dialogues: Theories of Public Communi-
cation of Science”, Handbook of Public Communication of Science and Technology / ed. by M. Bucchi
and B. Trench, Routledge: London, pp. 57–76.
Kasavin, Ilya T. (2015) “How is Political Philosophy of Science Possible?”, Epistemology & Philoso-
phy of Science, 2015, 14, 3, pp. 5 –15 . (In Russian).
Schirrmacher, Arne (2012) “State-controlled Multimedia Education for Sll? Science Programs in
Early German Radio”, Science & Education, 21, 3, pp. 381 –401 .
Schirrmacher, Arne (2013) “Introduction: Communicating Science: National Approaches in Twen-
tieth-Century Europe”, Science in Context, 26, 3, pp. 393–404 .
Shapin, Steven (2008) The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation, IL: Chicago
University Press, Chicago.
Сведения об авторе
ШИБАРШИНА Светлана Викторовна –
кандидат философских наук, доцент ка-
федры философии Национального иссле-
довательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н .И . Лобачев-
ского, исследователь проекта, МРОО «Рус-
ское общество истории и философии
науки».
Author’s information
SHIBARSHINA Svetlana V. –
CSc in Philosophy, Project Researcher
(RSHPS) «Russian Society for History and
Philosophy of Science», Assistant Professor,
Department of Philosophy, Lobachevsky State
University of Nizhni Novgorod.
33
Призвание или профессия?
К вопросу о культурно-историческом смысле научного
познания в докладе М. Вебера
© 2019 г.
Т.Г. Щедрина
Кафедра философии Института социально-гуманитарного образования Московского
педагогического государственного университета (МПГУ), Москва, 119435, ул. Ма-
лая Пироговская, д. 1; кафедра философии Дальневосточного федерального универ-
ситета (ДВФУ), Владивосток, 690091, ул. Суханова, д. 8; журнал «Вопросы фило-
софии», Москва, 117418, Нахимовский пр., д. 47.
E-mail: tannirra@yandex.ru
Поступила 22.05 .2019
В статье исследованы эпистемологические предпосылки поздней ра-
боты М. Вебера «Наука как призвание и профессия», которая оказы-
вается актуальной сегодня не только потому, что в ней фактически
последовательно промыслена социальная динамика научного позна-
ния и организации научного сообщества вплоть до нашего времени.
По мнению автора, значимость этого доклада для современной эпи-
стемологии и методологии состоит в том, что он возвращает нас сего-
дня к проблеме целостности и исторической преемственности науч-
ного знания, к проблеме прогресса в науке. Когда Вебер рассуждает
о науке как призвании и профессии, он фактически ставит вопрос о
культурно-историческом смысле науки как целостного феномена.
И хотя он принимает неокантианское методологическое различение
наук о природе и культуре, тем не менее пытается показать, что в ка-
честве внутреннего регулятива ученого наука всегда составляет це-
лостное единство профессионального призвания (что и фиксируется
в немецком языке одним словом Beruf). Показано, что истоки такого
понимания науки как целостного культурно-исторического феномена
формировались у Вебера в ранней полемике с Б. Кистяковским по
поводу проблемы причинности в социально-гуманитарном познании.
Ключевые слова: Культурно-историческая эпистемология, наука, при-
звание, профессия, М. Вебер.
DOI: 10.31857/S004287440006030-8
Цитирование: Щедрина Т.Г . Призвание или профессия? К вопросу о
культурно-историческом смысле научного познания в докладе М. Ве-
бера // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 33 –37 .
34
Vocation or Profession?
To the Question of the Cultural-historical Sense of Scientific
Knowledge in the Report of M. Weber
© 2019 г.
Tatiana G. Shchedrina
Department of Philosophy, Institute of Social and Humanitarian Education, Moscow State
Pedagogical University (MPGU), 1, Malaya Pirogovskaya str., Moscow, 119435, Russian
Federation; Department of Philosophy, Far Eastern Federal University (FEFU), 8, Sukha-
nova, Vladivostok, 690091, Russian Federation; “Voprosy Filosofii” Journal, 47,
Nakhimovsky prospect, Moscow, 117418, Russian Federation.
E-mail: tannirra@yandex.ru
Received 22.05.2019
The article explored the epistemological background of the late work of
M. Weber "Science as a vocation", which is relevant today, not only because in
it the social dynamics of scientific knowledge and organization of the scientific
community are consistently applied up to our time. According to the author,
the significance of this report for modern epistemology and methodology is that
it returns us today to the problem of the integrity and historical continuity
of scientific knowledge, to the problem of progress in science. When Weber
talks about science as a vocation, he actually raises the question of the cultural-
historical sense of science as a holistic phenomenon. And although he accepts
the neo-Kantian methodological distinction of the sciences of nature and cul-
ture, he nevertheless tries to show that as an inner regulator of a scientist, sci-
ence always constitutes a holistic unity of professional vocation (which is fixed
in the German language in one word Beruf). It is shown that the origins
of such understanding of science as a holistic cultural-historical phenomenon
were formed in Weber's early controversy with B. Kistyakovsky about the prob-
lem of causality in social and humanitarian knowledge.
Key words: cultural-historical epistemology, science, vocation, profession,
M. Weber.
DOI: 10.31857/S004287440006030-8
Citation: Shchedrina, Tatiana G. (2019) “Vocation or Profession? To the
Question of the Cultural-historical Sense of Scientific Knowledge in
the Report of M. Weber”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 33 –37.
Доклад М. Вебера «Наука как призвание и профессия» по сути является его ин-
теллектуальным завещанием, в котором он, описывая ситуацию в науке 1920-х гг .,
пытается осмыслить ее будущее. Причем оказалось, что его прогноз обладает весьма
высокой предсказательной силой. Наука в течение всего ХХ века продолжала путь
профессионализации, в результате превратилась в мощный социальный институт.
И нам уже ясно видно, что «профессия» и «призвание» все сильнее расходятся. Сего-
дня мы могли бы Веберу задать вопрос: а что важнее для современной науки? Быть
профессией или призванием? Казалось бы, очевидно, что Вебер жестко разводит эти
две ипостаси науки, когда смотрит на историческую реальность, которая его окружа-
ет: «наука вступила в такую стадию специализации, какой не зн али прежде, и ...это
положение сохранится и впредь» [Вебер 1990б, 707]. И тем не менее, читая доклад
Вебера, мы можем увидеть, что в качестве, так сказать регулятива, для него выступает
наука как целостный культурно-исторический феномен, в котором призвание и
35
профессия тесно переплетаются. Можно даже назвать подобное явление «профессио-
нальным призванием», которое существует в современном научном сообществе и,
конечно, его можно было встретить во времена Вебера.
Да, он с горечью констатирует как «неизбежную данность», но вовсе не как идеал,
к которому нужно стремиться, что современная ему наука «есть профессия, осу-
ществляемая как специальная дисциплина и служащая делу самосознания и позна-
ния фактических связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и пророков, прино-
сящий спасение и откровение, и не составная часть размышления мудрецов и фило-
софов о смысле мира» [Вебер 1990б, 731]. Вывод этот он делает, опираясь на опреде-
ленные методологические установки, которые сложились у него гораздо раньше,
в 1900-е гг . в полемике с русским философом права Б. Кистяковским. На эту поле-
мику уже обратил в свое время внимание известный российский социолог Ю.Н . Да-
выдов, посвятивший сопоставлению взглядов Вебера и Кистяковского основательную
статью [Давыдов 2018]. Спор между ними развернулся по поводу проблемы истори-
ческой причинности в контексте осмысления неокантианской методологической
программы, которая, по словам Давыдова, стала «революцией в области гуманитар-
ных наук» [Давыдов 2018, 292]. И Кистяковский (еще в конце XIX века в диссерта-
ции [Kistiakowski 1899]), и чуть позже Вебер в статье «Критические исследования в
области логики наук о культуре» [Вебер 1990а] задавались вопросом о том, какую
функцию выполняет категория «возможное» в науках о культуре?
Для Кистяковского очевидно, что причинная связь всегда основана на должен-
ствовании, причина всегда простая и она порождает конкретное действие (это клас-
сическое понимание причинности). «Мы добиваемся осуществления наших идеалов
не потому, что они возможны, – пишет Кистяковский, – а потому, что осуществлять
их повелительно требует от нас и всех окружающих нас сознанный нами долг »
[Кистяковский 1902, 393] Именно это положение Кистяковского Вебер подвергает
критике. Он полагает, что причинность имеет сложную структуру, ученые в проц ессе
объяснения какого-либо исторического явления или факта могут выбирать причину
из множества «объективных возможностей». Давыдов иллюстрирует эту мысль Вебе-
ра: «Имеется в виду такое понимание причинно-следственной связи, при котором
она предстает не как непрерывная, в чем и выражается ее необходимость, а как
“прерывистая”, или, во всяком случае, доступная такому ее “прерыванию” – в каж-
дой точке, где в необходимую связь причин и следствий вторгается человек со своей
калькуляцией и отбором “возможностей”. Индивид, “формующий” то или другое
звено причинно-следственной цепи, каждый раз как бы начинает новый ряд причин
и следствий – ряд, в начале которого лежит уже не “необходимость”, а “возмож-
ность”, целое поле таких “возможностей”, одна из которых становится “действитель-
ностью” при его, этого индивида, активном участии» [Давыдов 2018, 315]. Иными
словами, Вебер выходит за рамки классической трактовки причинности, когда пыта-
ется прояснить методологический смысл работы ученого в науках о культуре. Он от-
четливо понимал, что в науках о культуре предмет должен быть осмысленным
(вспомним его «понимающую социологию» с «осмысленным действием»), и старался
избежать жесткого эмпиризма, с одной стороны, и «фантазирующего» конструирова-
ния, с другой.
Эту методологическую программу Вебер реализует в докладе 1918 г. Он пытался
как социолог не только описать реальное положение дел в современной ему науке,
но и выявить причины именно такого ее движения по пути профессионализации.
Речь идет о том, как реализованное «возможное» (т.е . профессионализация) соотно-
сится с «необходимостью» всеобщего (целостностью «профессии» и «призвания»)
в процессах, меняющих современную ему науку. В качестве необходимого всеобщего
в разные времена для ученого выступали различные внешние регулятивы: «наука вы-
ступала как “путь к истинному бытию”, “путь к истинному искусству”, “путь к ис-
тинной природе”, “путь к истинному Богу”, “путь к истинному счастью” » [Вебер
1990б, 718]. Он показывает, что в отличие от ученых прошлых эпох, которые пыта-
лись с помощью своих исследований объяснить смысл мироздания или смысл
36
Божественного творения, наука начала ХХ века отказалась от таких поисков. А пото-
му, обращаясь к студентам, Вебер говорит о необходимости внутреннего регулятива,
т.е. о «последней мировоззренческой позиции» (которая может быть разной для каж-
дого), о таких «последних внутренних следствиях», с помощью которых будущий
ученый может «дать себе отчет в конечном смысле собственной деятельности» [Вебер
1990б
, 730]. Когда у человека есть свой внутренний регулятив и он его осознает, когда
он понимает, ради чего он общается в науке, тогда этот внутренний регулятив стано-
вится и тем культурно-историческим моментом, который приводит к созданию еди-
ного поля разговора, в котором мысль понимается, а люди начинают общаться.
У науки появляется культурно-исторический смысл [Пружинин 2014], а знание обре-
тает достоинство [Пружинин и др. 2016]
Вебер рассуждает об этом так: «Заслуживает ли наука при таких условиях того,
чтобы стать чьим-то “призванием”, и есть ли у нее самой какое-либо объективное
ценное “призвание” – это опять -таки ценностное утверждение, которое невозможно
обсуждать в аудитории, ибо утвердительный ответ на данный вопрос является пред-
посылкой занятий в аудитории. Я лично решаю вопрос утвердительно уже моей соб-
ственной работой. И утвердительный ответ на него является также предпосылкой той
точки зрения, разделяя которую – как это делает сейчас или по большей части при-
творяется, что делает, молодежь, – ненавидят интеллектуализм как злейшего дьявола.
Ибо тут справедливы слова: “Дьявол стар – состарьтесь, чтобы понять его”. Данное
возражение надо понимать не буквально, а в том смысле, что, желая покончить
с этим дьяволом, надо не обращаться в бегство при виде его, как обычно предпочи-
тают делать, а с начала до конца обозреть его пути, чтобы увидеть его силу и его гра-
ницы» [Вебер 1990б
, 730 –731]. «Обозреть его пути» это значит вернуться в историю,
т.е. осмыслить те объективные возможности, которые в ней остались и могут стать
необходимостью сегодня. Фактически, Вебер описывает положение современной ему
науки как «возможное», а не как необходимое развитие научного знания и будущая
наука, по логике мысли Вебера, может выбирать путь развития, а не следовать с
необходимостью по пути прагматически ориентированной профессионализации.
И это обстоятельство необходимо учитывать сегодня при актуализации идей Вебера.
Источники – Primary Sources in Russian, in German and Russian Translations
Вебер 1990а
–
Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Ве-
бер М. Избранные произведения. М .: Прогресс, 1990. C . 416–494 [Weber, Max Kritische Studien
auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik (Russian translation)].
Вебер 1990б – Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произве-
дения. М .: Прогресс, 1990. C . 707 –735 [Weber, Max Wissenschaft als Beruf (Russian translation)].
Кистяковский 1902 – Кистяковский Б.А. «Русская социологическая школа» и категория воз-
можности при решении социально-этических проблем // Проблемы идеализма. М .: Изд. Мос-
ковского психологического общества, 1902. С . 297–393 [Kistiakowski, Theodor (1902) Russian soci-
ological school and category of opportunity in solving social and ethical problems (In Russian)].
Kistiakowski, Theodor (1899) Gesellschaft und Einzelwesen. Eine Methodologische Untersuchung , Ver-
lag von Otto Liebmann, Berlin.
Ссылки – References in Russian
Давыдов 2018 – Давыдов Ю.Н. Вебер и Кистяковский. Опыт микроанализа // Философия
права: П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий и Б. А. Кистяковский / под редакцией Е.А. При-
бытковой. М .: Политическая энциклопедия, 2018. С . 291–339.
Пружинин 2014 – Пружинин Б.И . Культурно -историческая эпистемология: концептуальные
возможности и методологические перспективы // Вопросы философии. 2014 . No 12. С . 4 –13 .
Пружинин и др. 2016 – Достоинство знания как проблема современной эпистемологии. Ма-
териалы “круглого стола”. Участники: Б.И. Пружинин, Н.С . Автономова, В.А. Бажанов,
И.Н . Грифцова, И.Т . Касавин, В.Н. Князев, В.А . Лекторский, В.Л . Махлин, Л.А. Микеш ина,
П.А. Ольхов, В.Н . Порус, Г.В. Сорина, В.П . Филатов, Т.Г . Щедрина // Вопросы философии.
2016. No 8. С. 20–56.
37
References
Davydov, Yurii (2018) “Weber and Kistyakovsky. Experience of Microanalysis”, Philosophy of Law:
P.I. Novgorodtsev, L. I. Petrazhitsky and B.A. Kistyakovsky, ed. by E. A . Pribytkova, Politicheskaya En-
cyklopedia, Moscow, pp. 291–339 (In Russian).
Pruzhinin, Boris I. (2014) ‘Cultural historical epistemology: conceptual possibilities and methodo-
logical perspectives’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2014), pp. 4 –13 (In Russian).
Pruzhinin, Boris I., Avtonomova, Natalia S., Bazhanov, Valentin A., Filatov, Wladimir P.,
Griftsova, Irina N., Kasavin, Ilya T., Knyazev, Viktor N., Lektorsky Vladislav A., Makhlin, Vitalii L.,
Mikeshina, Ludmila A., Olkhov, Pavel A., Porus, Vladimir N., Shchedrina, Tatiana G., Sorina, Galina
V. (2016) “The Self-Integrity of Knowledge as a Problem of Modern Epistemology. Materials of Round
Table”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2016), pp. 20 –56.
Сведения об авторе
ЩЕДРИНА Татьяна Геннадьевна – доктор
философских наук, профессор кафедры
философии Института социально -
гуманитарного образования Московского
педагогического государственного универ-
ситета (МПГУ), профессор кафедры фило-
софии Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ), редактор журнала
«Вопросы философии».
Author’s information
SHCHEDRINA Tatiana G. –
DSc in Philosophy, Professor at Department
of Philosophy of Institute of Social Humani-
tarian Education at Moscow Pedagogical State
University, Professor at Department of Philos-
ophy of School of Humanities at Far Eastern
Federal University (FEFU), Editor of Journal
“Voprosy Filosofii”, Moscow.
38
ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО
Философия права и юридическое мышление: история
и современность
© 2019 г.
А.Н. Савенков
Институт государства и права РАН, Москва, 119019, ул. Знаменка, д. 10.
E-mail: AN61S@yandex.ru
Поступила 12.01.2019
Философия права как форма рефлексии над основаниями правового
бытия представляет собой разновидность интеллектуальной деятель-
ности, содержанием которой является решение коренных мировоз-
зренческих вопросов, связанных с правовой реальностью. Главная за-
дача философии права – выработка смысловой модели юридического
мира, определяющей место в нем человека как субъекта права, выяв-
ление универсалий правового бытия. В статье рассматриваются осо-
бенности влияния философско-правовых идей и категорий на форми-
рование юридического мышления современной цивилизации, генезис
концептуальных подходов, раскрывающих сущность права и интер-
претации правовой реальности. Автор обосновывает вывод о том,
что философия права развивается в форме универсального знания,
необходимого и философам, и юристам для системного и глубокого
постижения сути правовых связей и отношений, взаимодействия гос-
ударства и субъектов права.
Ключевые слова: философия права, юридическое мышление, право,
закон, свобода, моральные императивы, государство, цивилизация,
религия, культура.
DOI: 10.31857/S004287440006031-9
Цитирование: Савенков А.Н . Философия права и юридическое мыш-
ление: история и современность // Вопросы философии. 2019. No 8.
С. 38–48.
39
Philosophy of Law and Legal Thinking: History and Modernity
© 2019 г.
Alexander N. Savenkov
Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, 10, Znamenka str., Moscow,
119019, Russian Federation.
E-mail: AN61S@yandex.ru
Received 12.01.2019
The legal philosophy as a form of reflection on the foundations of legal exist-
ence is a kind of intellectual activity, the content of which is the solution
of fundamental philosophical issues related to legal reality. The main task of the
legal philosophy – to develop a semantic model of the legal world, which de-
termines the place of man as a subject of law, the identification of the univer-
sals of legal existence. The paper considers the features of the influence of phil-
osophical and legal ideas and categories on the formation of legal thinking of
modern civilization, the genesis of conceptual approaches that reveal the es-
sence of law and the interpretation of legal reality. The author argues the con-
clusion that the legal philosophy develops in the form of universal knowledge,
which is necessary for philosophers and lawyers for a systematic and deep un-
derstanding of the essence of legal relations and relations, the interaction of the
state and subjects of law.
Key words: legal philosophy, legal thinking, right, law, freedom, moral im-
peratives, state, civilization, religion, culture.
DOI: 10.31857/S004287440006031-9
Citation: Savenkov, Alexander N. (2019) “Philosophy of Law and Legal Think-
ing: History and Modernity”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 38 –48.
В современных условиях стремительно меняющегося глобального мира ф илосо-
фия права как часть философского знания включает в себя способы рационального
осознания правовой реальности, возможности оценки и интерпретации правовой
политики, поскольку право как социальный феномен всегда погружено в политиче-
ский контекст эпохи. Среди отечественных ученых вопрос о сущности философии
права является предметом многолетних дискуссий. Так, Д.А. Керимов полагал, что
философия права, включенная в структуру общей теории права, «представляет слож-
ный симбиоз философии, социологии, общей теории права, отраслевых юридических
и ряда иных наук» [Керимов 2001, 58]. С точки зрения диалектического метода он
воспринимал предмет философии права как разработку логики, диалектики и теории
познания правовой реальности. Иную позицию отстаивал В.С. Нерсесянц, считая,
что предметом изучения в философии права является «право в его различении и со-
отношении с законом» [Нерсесянц 1997, 10]. С.С. Алексеев анализирует философию
права с позиции ее общей характеристики как «науки о праве в жизни людей, в че-
ловеческом бытии» [Алексеев 2010, 11]. Следует отметить, что философско-правовые
категории и понятия, используемые в юридической науке, выступают средством об-
новления правового мышления и поиска рациональных решений глобальных про-
блем цивилизации. Если в прошлом философско-правовые учения носили ярко вы-
раженный теоретический характер и были ориентированы на познание внутреннего
содержания правовых явлений, смысла права и его социального назначения, то в
современный период известные философско-правовые категории «свобода», «справед-
ливость», «равенство», «право», «закон», «воля», «вин а», «намерение», «ответствен-
ность», «обязанность» приобретают в том числе и прикладное значение, выступают
40
критерием оценки правовой системы, уровня ее гуманизации и прогрессивного раз-
вития. Юридическая наука нуждается в философско-правовом знании в условиях
изменения векторов социально-экономического и политического развития россий-
ского общества и государства.
Очевидно, что философия права способна обеспечить широкую мировоззренче-
скую основу развитию российской правовой системы, поскольку законодатель «не
может черпать руководящие начала из самого положительного права, ибо это именно
то, что требуется оценить и изменить; для этого нужны иные, высшие соображения...
а их может дать только философия» [Чичерин 1900, 1–2]. Философия права способ-
ствует укреплению взаимосвязи объективной сущности права как всеобщей и равной
меры свободы и справедливости, и нормативной основы права, формируемой зако-
нодателем и практикующими юристами. Кроме того, в силу гуманистического потен-
циала, исследования в области философии права могут противостоять появлению
несправедливых законов, произволу, вседозволенности, ограничению свобод и прав
личности. В этой связи представляется уместным обратиться к истокам формиров а-
ния философии права с позиции правоведа-исследователя первой четверти XXI в.
Следует отметить, что в философии права познание направлено на усмотрение
сущности права за многообразными правовыми явлениями. Тем самым истории
мысли всегда предшествует история институтов, правда, последние не могут быть
адекватно поняты вне культурного контекста, «онтологических рамок» и картины
мира. При этом для критической мысли могут складываться условия различной сте-
пени благоприятности. К примеру, безусловная сакрализация власти и закона, имев-
шая место в период процветания древних государств Востока (Египет, Месопотамия,
Китай, Индия), не позволила появиться на свет ни одной сколько-нибудь значимой
философско-правовой идее. Эмпирические же основания для подобного рода иде й
имелись в достаточном количестве.
Таковы, например, законы царя Хаммурапи, созданные в Вавилоне в 1750-х годах
до н. э . Будучи одним из древнейших правовых памятников в мире, этот свод правил
возник как результат крупной реформы существовавшего правопорядка, призванной
унифицировать и дополнить действие неписаных норм поведения, зародившихся ещё
в первобытном обществе. Являясь образцом и вершиной законотворчества древней
Месопотамии, Законы оказывали влияние на правовую культуру Древнего Востока
на протяжении многих столетий [Дьяконов 1952, 223].
Анализ древних источников права и философских трактатов позволяет судить, что
в вопросе о соотношении базовых философско-правовых категорий именно мораль
в религиозно-философском смысле определяет справедливость и правопорядок. Так,
Книга мертвых в Древнем Египте (IV в. до н.э.) содержит религиозные каноны
и гимны, соблюдение которых олицетворяет служебные обязанности везира как вер-
ховного сановника [Чегодаев 1994]. В Артхашастре Каутильи религиозные верования
отражены в мифологических образах, соответствующих ведической философии
[Артхашастра 1959]. И если сами Веды состоят из сборников гимнов, песнопений
и молитв, то нормы Артхашастры содержат основанные на религиозных канонах
наставления царю для правильного и справедливого управления страной. Аналогично
в Законах Ману религиозно-моральные наставления, изложенные в стихотворной
форме, содержат по своей сути и правовые предписания [Законы Ману 2002].
Деятельность жрецов как наиболее привилегированного сословия определяет
мышление и духовную жизнь простого человека. Жрецы выступают хранителями тра-
диций и обычаев, являются ультраконсервативным оплотом верховной власти и не
допускают вольнодумства. Тем самым религиозные предписания выступают основой
для появления юридических норм и отражения в них представлений о морали
и справедливости.
В Древнем Китае к середине IV в. до н.э. формируются философско-правовые
идеи легистов, а учение их основоположника Шан Яна приобретает исключительное
значение. Согласно этому учению, две силы определяют жизнь общества: государство
и его правитель со своим стремлением к абсолютной власти, а другая – народ. Обе
41
силы принципиально враждебны друг другу: «Когда народ слаб – государство силь-
ное; когда государство сильное – народ слаб. Поэтому государство, идущее истин-
ным путём, стремится ослабить народ. Если знания поощряются, – невозможно
управлять страной. Если ценятся умные и на государственную службу привлекаются
учёные, – народ невозможно будет вовлечь в войну» [Шан Ян 1993, 205]. Философ-
ско-правовые воззрения Шан Яна на время потеснили конфуцианство и даосизм,
на протяжении нескольких веков служили опорой для воинственной политики госу-
дарства и репрессий, но удивительным образом эти идеи можно усмотреть и в совре-
менной государственной политике.
Интеллектуальные представления о праве заметно меняются с расцветом древне-
греческой философии и формированием античного полисного устройства. Реформы
в системе управления, возникновение сословно ограниченного, но, тем не менее,
основанного на гражданском участии политического строя, способствуют изменению
религиозно-моральной основы права.
В античной Греции впервые возникает новое качество социальной реальности, не
известное древневосточной цивилизации, благодаря которому наряду с молчаливым
признанием всеобщей самозаконности и разумности мира у людей стали появляться
первые сомнения во всеобщей справедливости существующих общественных отноше-
ний. Исследователи по-разному характеризуют это новое качество. Одни, как, напри-
мер, В.М. Розин, считают, что в античной культуре завершается процесс самосознания
человека, детерминированный не только существенными переменами в жизни обще-
ства (возникновением нового типа властных отношений, прообразом которых высту-
пают отношения в древнегреческих полисах), но и необходимостью формирования
самостоятельного поведения индивида [Розин 2003, 138–139]. Другие связывают ста-
новление философии права со свободной греческой мыслью, сосредоточенной в Афи-
нах – политическом, торговом и интеллектуальном центре Греции [Шершеневич 1914,
43]. Как бы то ни было, по мере развития законодательства от законов Драконта
(621 г. до н.э.) к установлениям Солона и Клисфена (594 г. до н.э.) развивалось и пра-
вовое мышление, обогащаясь понятийно. Свидетельством этого выступает описание
Периклом правовой и политической системы Афин: «Для нашего государственного
устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы
скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем комулибо. И так
как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государ-
ственный строй называется народоправством. В частных делах все пользуются одина-
ковыми правами по законам. <. ..> Терпимые в своих частных взаимоотношениях,
в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним,
и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых,
а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным» [Фукидид
web]. Как философское выражение принципа свободы речь Перикла звучит достаточно
современно, поскольку гражданская позиция и публичная активность являлись мери-
лом общественного признания. В этот же период обнаруживаются истоки последующе-
го многовекового противоречия, неразрешенного и по сей день, между сторонниками
«верховенства права» и «верховенства закона» как основы правового государства.
В античной философии древнегреческий мыслитель Сократ впервые поставил во-
прос о том, что идея блага, к достижению которого стремится человек, определяется
не религией, а свободным усмотрением самого человека [История этических учений
2003, 351–359; Кессиди 1999, 209–225]. Как отмечает А.Ф. Лосев, «Сократ захотел
перевести жизнь в царство самосознания. Он хотел силами духа исправить жизнь,
свободу духа он противопоставил самостоятельным проявлениям бытия, и отсюда –
это странное, так несовместимое со всем предыдущим, почти что негреческое, неан-
тичное учение о том, что добродетель есть знание, что всякий желает только соб-
ственного блага, что стоит только научить человека, и он будет добродетельным»
[Лосев 2000, 58]. Понятие справедливости у Сократа совпадает с понятием законно-
сти, а сами законы – не только божественные, неписанные, но и человеческие, –
имеют в виду одну и ту же общечеловеческую справедливость. Признавая примат
42
общего блага перед индивидуальными целями, Сократ оправдывает такой приоритет
философским по содержанию аргументом о том, что знание более ценно, нежели
мнение, благодаря своей всеобщности. Счастье для человека – жить в соответствии
со знанием, доказывает мыслитель. Самым весомым аргументом явился образ жизни
самого Сократа, особенно его последние дни – на суде и в ожидании исполнения
смертного приговора.
Научные открытия в античный период также способствовали раскрепощению созна-
ния, появлению возможностей изучения природы и ее закономерностей. Аристотель
в своих философских трудах заложил основы применения научных методов познания
природы, основанных на изучении эмпирических данных. Разделение им метафизики
как учения о сущем и физики как учения о материальных силах природы характерно для
этого периода античной науки. В известном сочинении Аристотеля «Никомахова этика»
впервые сформулировано понятие «естественного права» как существующего объективно
и независимо от позитивного права, установленного государством: «Государственное
право частью естественно, частью – узаконено; оно естественно, если повсюду имеет
одинаковую силу и не зависит от признания и непризнания [его людьми]. Но если изна-
чально неважно, так поступить или иначе, а тогда важно, когда это [уже] установлено...,
то [перед нами] узаконенное [право]» [Аристотель 1984, 160]. Его рассуждения стали ос-
новой для дальнейших дискуссий о соотношении естественного и позитивного права,
и они продолжаются до наших дней.
Что же касается римской философии, вряд ли можно сказать, что она оказала
кардинальное воздействие на правопонимание того времени. У римлян не было
стремления к историческим и социологическим исследованиям. Ведущие философ-
ские школы в доктринальном измерении унаследовали многое от античной Греции,
например, различение естественных и искусственных законов, классификацию спра-
ведливости, типологию форм государственного устройства (хотя сравнительно ориги-
нальной можно считать идею круговорота государств, принадлежащую Полибию).
Что же касается наиболее значимого философского направления в Риме – стоициз-
ма, ему одновременно оставались присущими и религиозное начало, и вера в челове-
ческий разум, из чего проистекало понимание права как науки о должном [Сенека
2001, 12–39; Эпиктет 2012; Марк Аврелий 1985].
Определенные мировоззренческие сдвиги произошли в эпоху распространения
христианской религии. Важно иметь в виду, что христианство изначально не претен-
довало на какое-либо особое философское содержание, его базовые заповеди были
нарочито просты и изложены языком, понятным каждому. Лишь по мере того, как
приверженцы новой религии осмысляли собственную религиозную идентичность,
противопоставляя себя классическому иудаизму, язычеству и многочисленным ере-
сям, возникавшим внутри Церкви, стало ясно, насколько глубоким онтологическим
смыслом обладает христианство, как резко меняет оно устоявшиеся представления о
человеке, обществе, государстве. Религия переживает новый виток подъема и стано-
вится определяющим фактором политики, экономики, правовой жизни.
В конце IV – начале V вв. христианство уже не составляет личное верование; оно
становится учреждением, получившим определенное устройство, имеющим свое
управление, свое духовное сословие, свою иерархию, определенную различными
функциями духовенства, свои доходы, независимые средства к деятельности, свои
сборные пункты, свои национальные, провинциальные, Вселенские соборы; оно уже
привыкло разбирать миром дела общества. Одним словом, христианство в эту эпоху
становится не только религией, но и церковью, т.е. социальным институтом, выпол-
няющим функцию общественной интеграции. Как писал Франсуа Гизо, «можно ска-
зать, без преувеличения, что в конце IV – начале V вв. христианская церковь спасла
христианство; церковь, со своими учреждениями, своею епархиею чинов, своею вла-
стью, мощно сопротивлялась внутреннему распадению империи и варвариз-
му...Несправедливо было бы упрекать их за это, обвинять в узурпации власти: таков
был естественный ход событий. Одно только духовенство было исполнено
нравственной силы и жизни, – оно всюду сделалось всемогущим» [Гизо 2007, 51 –53].
43
Религия, таким образом, все теснее переплетается с политикой и правом. Автори-
тетнейшим мыслителем эпохи патристики, обосновавшим концепцию взаимоотно-
шения светской и духовной властей, был блаженный Августин. В его фундаменталь-
ном труде «De civitas Dei» обоснована концепция предопределения, поставившая во
главу угла в деле спасения человеческой души исключительно усмотрение Бога и его
милость. Со временем начинается другая борьба – государства и церкви. Папская
власть была близка к тому, чтобы объявить войну власти королевской. Свои претен-
зии на верховенство церковь, не имеющая армии, пыталась утвердить на основе пра-
ва [Варьяс 1993, 54]. В итоге, как пишет Г. Дж. Берман, «ни папам, ни императорам
не удалось настоять на своих изначальных притязаниях. По Вормскому конкордату
1122 г. император гарантировал, что епископы и аббаты будут свободно избираться
одной лишь церковью, и отказался от присвоения им духовных символов кольца и
посоха. Со своей стороны, папа согласился на право императора присутствовать на
выборах и вмешиваться там, где возникал спор» [Берман 1998, 104]. За этим первым
шагом последовали и другие, в ходе которых церковь и светская власть постепенно
разграничивали сферы влияния и интересов, определяли границы собственных ин-
ституциональных структур. Важным результатом явилось формирование канониче-
ского права и – по его образцу – права светского.
Одним из факторов рецепции римского права в юридическом мышлении, как из-
вестно, послужило появление школы глоссаторов, зародившейся в Болонском уни-
верситете. Возникновение Болонской школы связано с именем Ирнерия, начавшего
профессионально преподавать право в 1088 г. Значение этой школы в истории юрис-
пруденции состоит в том, что Ирнерий и его ближайшие ученики обратились
к непосредственному изучению первоисточников средневекового частного права,
т.е. к Corpus iuris civilis, который был изучен в совершенстве с текстологической точ-
ки зрения, и уделяли большое внимание понятийному анализу правовых текстов.
Имел место, как пишет В.С. Нерсесянц, «поворот от оценки тех или иных норм
с точки зрения aequitas к изучению римского права как источника позитивного пра-
ва» [Нерсесянц 1998, 95]. Одним из популярных методов глоссаторы признавали ме-
тод дифференцированных определений, который заключался в том, чтобы находить
значение взаимно противоположных по смыслу терминов, использованных авторами
в разных местах Дигест, до тех пор, пока не обнаруживали в другом месте текста
иные значения этих терминов. Далее, из двух противоречащих значений выбирали
некоторое среднее, третье значение, которое не находилось бы в противоречии с ис-
ходными двумя [Аннерс 1994, 161]. Фактически, здесь имело место построение новых
юридических понятий на основе прежних под видом их толкования. Однако в дан-
ном случае создание новой нормы не всегда можно было отличить от ее интерпрета-
ции. Речь шла о приспособлении к конкретным жизненным обстоятельствам норм,
бывших продуктом иного времени, иной исторической эпохи и иной культуры. По-
этому ради достижения практического результата глоссаторы не только посвящали
время истолкованию смыслов и поиску значений, уже заложенных в текст нормы, но
и применяли методы, явно расширяющие характеристики интерпретируемого текста
[Mäkinen, Korkman (eds) 2006, 90].
С таким подробным анализом была связана и другая особенность школы: они
впервые выдвинули принцип ограничения судейского усмотрения при принятии ре-
шения. Если ранее используемый критерий естественного права и справедливости
(ius naturale et aequitas) мог послужить причиной чуть ли не отказа от применения
действующей нормы, то теперь юристами вводятся и обосновываются ограничения
интерпретативной деятельности, заключающиеся в том, что отказ от применения
нормы писаного права нельзя оправдывать какими бы то ни было представлениями о
справедливости, поскольку только законодатель имеет право отменить действующее
правило [Покровский 1999].
Генезис юридического мышления на основе философско-правовых идей исследо-
ватели связывают с развитием университетской системы преподавания, в которой
немалое место было отведено юридическим дисциплинам. Более того, первые школы
44
формировались исключительно как правовые. Г. Дж. Берман пишет: «впервые в За-
падной Европе право преподавалось как четко очерченный и систематизированный
свод знаний, наука, в которой отдельные юридические решения, нормы и законода-
тельные акты изучались объективно и объяснялись с точки зрения общих принципов
и истин, базовых для всей этой системы в целом» [Берман 1994, 124].
Уже с конца XII в. заметно влияние римского права на практику судеб ных мест
в смысле стремления к возведению римского права на степень главного источника
права. Но, вместе с тем, должна была «все настоятельнее сказываться потребность
в переработке римского права, в приспособлении его к новым запросам жизни. Не-
которое начало такой переработки было уже положено каноническим законодатель-
ством, – церковь рано начала модифицировать некоторые положения римских ис-
точников» [Гримм 1885, 50].
В философии права, как мы уже подчеркивали, религиозная риторика доминирует
над логикой и рациональностью, формирует взгляды на мораль и справедливость
[Гусейнов 2012, 47 –70]. В то же время попытку синтезировать религиозное и рацио-
нальное в правопонимании в середине XIII в. предпринимает основатель томизма,
философ и теолог Фома Аквинский. Несмотря на признание им божественного права
как высшего уровня правовой реальности, воплощение этих религиозных принципов
допускалось им именно в правовой системе конкретного государства. Кроме того,
определенное значение для философского осмысления права имели его выводы
о том, что «совершенство Вселенной требует, чтобы в вещах присутствовало неравен-
ство, дабы осуществились все ступени совершенства» и что всегда будут вещи, «кото-
рые могут отступить от своей благости», при этом человек, благодаря наличию у не го
«потенций» (способность роста, способность чувственного восприятия, способность
желания, способность пространственного движения, способность умопостижения)
способен противостоять таким вызовам [Аквинский 1968, 840 –841, 854]. В своих тру-
дах он вернулся к философии Аристотеля и увязал ее с христианским учением, по-
ставив на службу церковной идеологии.
Эпоха Возрождения интересна для историков культуры в большей степени, неже-
ли для историков права и философов права. Как верно отмечает исследователь эпохи
Возрождения Э. Гарэн, «становление новой эпохи самое яркое воплощение нашло
в Италии и было отмечено двумя мотивами: обращением к античному миру и клас-
сическому знанию и провозглашением того, что одна эпоха человеческой истории –
эпоха средневековья – уже завершилась» [Гарэн 1986, 34]. Философская проблемати-
ка эпохи Возрождения – это, конечно, новый взгляд на место и роль человека в ми-
ре, взгляд, называемый гуманизмом. По представлению мыслителей-гуманистов, че-
ловек имел право не только на загробное воздаяние, но и на прекрасную полноцен-
ную жизнь в земном мире, на творчество и наслаждение всеми доступными ему бла-
гами и пр. На смену религиозному аскетизму пришла идея свободы, идея уподобле-
ния человека божественному Создателю через активную творческую деятельность.
В этом смысле идеи Г. Гроция о базовых принципах естественного права, в том
числе характеризующие правовой статус личности, получили развитие в трудах пред-
ставителей школы естественного права эпохи Просвещения (Э. де Ваттель, С. Пу-
фендорф, Х. Томазий) [Гроций 1956, 60–68]. Э . Ваттель в его знаменитом труде
«Право народов» отстаивал идеи разума, просвещения, гуманизма, национальной
самостоятельности и самоопределения в противовес политике патримониального гос-
ударства, варварства, чужеземной власти [Ваттель 1960]. По существу такие мораль-
ные императивы отражают так называемое «золотое правило», выработанное челове-
чеством еще на ранних этапах своего развития [Гусейнов 1988, 91–131]. «Золотое
правило» есть, по сути, нормативная база коллективного существования людей, поз-
воляющая при соблюдении общих интересов воспринимать личность как ценность.
Эпоха Просвещения вообще сформировала особый тип интеллектуальной среды,
когда мыслители, живущие в разных социальных и политических условиях, в целом
придерживались единой идейной позиции, в составе которой было признание обще-
ственного договора как способа создания справедливого государства, и естественного
45
права, определяющего место человека в государстве. Такое новое для правового
мышления понимание человека, характерное для эпохи Просвещения, получило свое
выражение в философско-правовых идеях Ч. Беккариа. Большую культурную цен-
ность представляет философский трактат Ч. Беккариа «О преступлениях и наказани-
ях» (1764 г.), где им была изложена основная идея о необходимости уголовно-
правовой защиты личности. Фактически Ч. Беккариа впервые выступил против су-
ществовавшего тысячелетия принципа талиона. Он критиковал применение смертной
казни, пыток и изувечивающих наказаний, оставление в подозрении и использование
теории формальных доказательств, настаивал на необходимости соразмерности между
преступлением и наказанием, и доказывал, что суд должен подчиняться принципу
законности и устанавливать равное наказание за преступления независимо от со-
словного положения в обществе [Беккариа 2004, 89–100].
Правовые воззрения Ч. Беккариа послужили основой для переосмысления гуманизма
в новой ценностной форме и формирования классической школы права, оказали боль-
шое влияние на развитие теории уголовного права в конце XVIII – начале XIX вв., раз-
витие уголовного законодательства в ряде стран (Германия, Австро-Венгрия). Произве-
дение Ч. Беккариа по идейному содержанию следует интеллектуальной традиции эпохи
Просвещения. Французский философ Вольтер первым оценил значимость этого фило-
софско-правового трактата, дал ему глубокий и детальный комментарий, который рас-
крыл его истинный смысл и практическую направленность. Во Франции идеи Ч. Бекка-
риа нашли свое выражение в Уголовном кодексе Франции 1791 г. и в Уголовном кодексе
Наполеона 1810 г. Сам факт такой кардинальной эволюции уголовного законодательства
европейских стран подчеркивает фундаментальные изменения отношения к человеку как
субъекту права и человеческой жизни. Многие предложенные им гуманистические осно-
вы уголовных наказаний, имевшие прогрессивный характер для своего времени, остают-
ся актуальными и сегодня.
Следует отметить, что в России идеи Ч. Беккариа были чрезвычайно востребова-
ны и поддержаны императрицей Екатериной II. Несколько раз на протяжении
XIX столетия (1803, 1806, 1878, 1879 и 1889 гг.) его сочинение переводилось на рус-
ский язык с научно-практическими комментариями. Однако в российском обществе
его идеи не получили практической реализации и использовались в основном уче-
ными для обоснования правовых реформ. Так, в период подготовки судебной рефор-
мы 1864 г. к идеям Ч. Беккариа неоднократно обращались. Позднее, в 1939 г.
в СССР труд Ч. Беккариа был переведен профессором М.М . Исаевым, а в 1995 г.,
уже в постсоветский период, в исправленном и увеличенном объеме был подготовлен
к изданию сотрудником Института государства и права РАН, профессором
Ю.М . Юмашевым.
Оказывала ли философско-правовая мысль влияние на формирование юридиче-
ского мышления в России? Ответ на этот вопрос осложняется тем, что периодизация
развития философии права в отечественной традиции, как правило, не учитывает
советский период. Считается, что советские ученые были вынуждены философские
проблемы права сводить к необходимости разработки «философско-познавательных
проблем права на основе диалектического материализма» и применения «категорий
диалектики к анализу правовых явлений», от которых зависело плодотворное разви-
тие «марксистско-ленинского правоведения» [Керимов 1972, 42 –48]. С такой пози-
цией сложно согласиться, ведь даже в русле критики буржуазных учений и зарубеж-
ных доктрин советские философы и юристы формулировали собственные концеп-
ции. Например, существенным вкладом в развитие философии права в советский
период стала совместная работа О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского «Вопросы тео-
рии права» [Иоффе, Шаргородский 1961], регулярно цитируемая до наших дней
в научной литературе. В конце 80-х гг. XX в. происходит возвращение к исследова-
ниям предмета философии права как совокупности правовых идей, принципов, цен-
ностей, являющихся составной частью правосознания и правовой идеологии.
К предмету философии права в это время стали относить такую категорию как спра-
ведливость, а законом считать то, что обладает качеством и воплощением правовой
46
справедливости. Значительный вклад в осмысление проблем философии права,
в частности, вопросов соотношения права и морали, права и справедливости, цен-
ностных оснований права внесли научные труды А.А. Гусейнова [Гусейнов 1999; Гу-
сейнов 2012, 47–70] и В.В . Стёпина [Степин 2015]. Кроме того, в Институте государ-
ства и права в советский период работали основатели многих крупных научных фи-
лософско-правовых школ, которые продолжают своё существование в работах совре-
менного поколения ученых-юристов (В.Н . Кудрявцев, В.П. Казимирчук, В.С. Нерсе-
сянц, А.А. Пионтковский и др.) .
Современная философия права в России – состоявшаяся и динамично развиваю-
щаяся отрасль знания. Ее особенность заключается в том, что она развивается, опира-
ясь не только на дореволюционную философско-правовую мысль, но и на общую тео-
рию права, сложившуюся в советский период. Однако большинство работ по филосо-
фии права, написанных современными российскими юристами, пока далеки от миро-
воззренческих проблем. Они выполнены главным образом в юридико-догматическом
духе и выглядят не столько философией права, сколько разновидностью общей теории
права. Представляется важной задачей возрождение традиции русской философии пра-
ва и использование ее методологического потенциала. Российские ученые-юристы мо-
гут и должны предложить глобальному миру свои философско-правовые концепции
развития цивилизации на основе философского и правового знания. Первые шаги в
сторону такого междисциплинарного диалога уже сделаны. В 2018 г. в Институте госу-
дарства и права РАН заметным явлением стала научная конференция «Философия
права: современные проблемы» с участием ученых Института государства и права РАН,
Института философии РАН, Института психологии РАН, ознаменовавшая 2018 год как
Год философии права в научном сообществе.
Источники и переводы – Primary Sources and Russian Translations
Аквинский 1968 – Аквинский Ф. Сумма теологии // Антология мировой философии: в 4 т.
М.: Мысль, 1968. Т . 1 . Фило софия древности и средневековья. Ч. 2 . (Thomas Aquinas. Summa
Theologiae. Russian translation).
Аннерс 1994 – Аннерс Э. История европейского права. М., 1994 (Anners E. Den Europeiska
Rättens Historia. Russian translation).
Аристотель 1984 – Аристотель. Сочинения в 4-х томах . Т . 4 . М ., 1984 (Aristotle. Nicomachean
Ethics. Russian translation).
Артхашастра 1959 – Артхашастра, или Наука политики. Изд. подг. В . И. Кальянов. М .,
Л.: Издательство Академии наук СССР, 1959 (Arthashastra. Russian translation).
Беккариа 2004 – Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М .: Инфра-М, 2004 (Beccaria
C. Dei delitti e delle pene. Russian translation).
Берман 1998 – Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. 2 -е изд. М.:
Изд-во МГУ, 1998 (Berman H. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition.
Russian translation).
Ваттель 1960 – Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяе-
мые к поведению и делам наций и суверенов. М .: Госюриздат, 1960 (Vattel E. Droit des gens, ou
principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains . Russian
translation).
Гарэн 1986 – Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М.: Прогресс, 1986 (E. Garin.
La conscienza della nuova età. Russian translation).
Гизо 2007 – Гизо Ф. История цивилизации в Европе (по изд. 1905 г.). М.: Издательский дом
«Территория будущего», 2007 (F. Guizot. Histoire générale de la civilisation en Europe. Russian translation).
Гримм 1885 – Гримм Д.Д . Лекции по догме римского права. М ., 1885 (Grimm D. Lectures on
Dogmas of Roman Law. In Russian).
Гроций 1956 – Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются есте-
ственное право и право народов, а также принципы публичного права. М ., 1956 (Grotius H. De
jure belli ac pacis libri tres . Russian translation).
Гусейнов 1988 – Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. 3 -е изд. М .: Молодая гвар-
дия, 1988 (Guseinov A. Golden Rule. In Russian).
Дьяконов 1952 – Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассири и, Хеттского царства /
И.М . Дьяконов, И.М . Дунаевская, Я.М . Магазинер // Вестник древней истории. 1952. No 3 (Di-
yakonov I. Laws of Babylonia, Assuria and the Hittite Empire . In Russian).
47
Законы Ману 2002 – Законы Ману (Манавадхармашастра). М .: ЭКСМО-Пресс, 2002
(Manusmriti. Russian translation).
Иоффе, Шаргородский 1961 – Иоффе О. С ., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права.
М.: Госюриздат, 1961 (Ioffe O, Shargorodsky M. The Questions of Legal Theory. In Russian).
Керимов 1972 – Керимов Д.А. Философские проблемы права. М .: Мысль, 1972 (Kerimov D.
Philosophical Problems of Law. In Russian).
Кессиди 1999 – Кессиди Ф.Х . Сократ. Ростов-на-Дону, Феникс, 1999 (Kessidi F. Socrates.
In Russian).
Лосев 2000 – Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., Фолио,
2000. ((Losev A. The History of Ancient Aesthetics. Sophists. Socrates. Plato. In Russian).
Марк Аврелий 1985 – Марк Аврелий Антонин. Размышления. Ленинград, Наука, 1985 (Mar-
cus Aurelius . Meditations . Russian translation).
Сенека 2001 – Луций Анней Сенека. Философские трактаты. СПб, Алетейя, 2001 (Seneca. De
Vita Beata. Russian translation).
Фукидид web – Фукидид. История. / Пер. и примеч. Г . А. Стратановского. Отв. ред.
Я. М . Боровский. (Серия «Литературные памятники»). Л .: Наука, 1981, http://xn----
7sbafngvmvwbyj8q.xn - -p1ai/sites/default/files/fukidid . _ istoriya.pdf (Thucydides. History of the Pelopon-
nesian War. Russian translation).
Чичерин 1900 – Чичерин Б.Н. Философия права. М ., 1900 (Chicherin B. N. Legal Philosophy.
In Russian).
Шан Ян 1993 – Шан Ян (Ян Гунсунь). Книга правителя области Шан. М., НИЦ «Ладомир»,
1993 (Shang Yang. Shangjun shu (“Book of the Lord of Shang ”). Russian translation).
Шершеневич 1914 – Шершеневич Г.Ф. История философии права. М ., 1914 (Shershenevich G.
History of Legal Philosophy. In Russian).
Эпиктет 2012 – Эпиктет. Энхиридион. Краткое руководство к нравственной жизни. СПб,
«Владимир Даль», 2012 (Epictetus. Enchiridion. Russian translation).
Ссылки – References in Russian
Алексеев 2010 – Алексеев С.С . Философия права // Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7 .
Философия права и теория права. М ., Статут, 2010.
Варьяс 1993 – Варьяс М.Ю. Религиозная мораль и политико -правовая действительность:
теологический аспект // Общественные науки и современность. 1993. No 5. С . 53 –67.
Гусейнов 1999 – Гусейнов А.А. Этика. М ., Гардарики, 1999;
Гусейнов 2012 – Гусейнов А.А. Десятисловие Моисея: канон справедливости // Философия
права Пятикнижия. Сб . статей. М.: ЛУМ, 2012. С . 47 –70 .
История этических учений 2003 – История этических учений. Под ред. А .А. Гусейнова. М.:
Гардарики, 2003.
Керимов 2001 – Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии
права). 2 -е изд. М ., Аванта +, 2001.
Нерсесянц 1997 – Нерсесянц B.C . Философия права. М, Инфра-М, 1997.
Нерсесянц 1998 – Нерсесянц В.С . Юриспруденция. Введение в общий курс теории права и
государства. М.: Инфра М, 1998.
Покровский 1999 – Покровский И.А. История римского права. Спб: Летний сад, 1999.
Розин 2003 – Розин В.М . Генезис права. М .: Nota Bene, 2003.
Степин 2015 – Степин В.С . Философская антропология и философия культуры. М.: Акаде-
мический проект; Альма Матер, 2015;
Чегодаев 1994 – Чегодаев М.А. Древнеегипетская «Книга Мертвых» (перевод) // Вопросы ис-
тории. 1994. No8. С. 145–164. No9. С. 141–152.
References
Аlexeyev, Sergei (2010) “Legal Philosophy”, Collected Papers, Vol. 7 . Legal Philosophy and Legal
Theory, Status, Moscow (in Russian).
Chegodayev, Mikhail (1994) “'Book of the Dead' of Ancient Egypt (translation)”, Voprosy Istorii,
Vol. 8 (1994), pp. 145 –164, Vol. 9 (1994), pp. 141 –152 (in Russian).
Guseinov, Abdusalam (2012) “Moses Ten Commadments: Canon of Justice”, Legal Philosophy of
Five Books, Collected Papers, Lum, Moscow, 47–70 pp. (in Russian).
Guseinov, Abdusalam (1999) Ethics, Gardariki, Moscow (in Russian).
Guseinov, Abdusalam (ed.) (2003) History of Ethical Theories, Gardariki, Moscow (in Russian).
Kerimov, Dzhangir (2001) Methodology of Law, Second Edition, Avanta, Moscow (in Russian).
Nersesyants, Vladik (1997) Legal Philosophy, Infra, Mos cow (in Russian).
Nersesyants, Vladik (1998) Jurisprudence. Introduction to the General Course of the Theory of State
and Law, Infra, Moscow (in Russian).
48
Pokrovsky, Joseph (1999) The History of Roman Law, Letniy Sad, Saint-Petersburg (in Russian).
Rozin, Vadim (2003) Genesis of Law, Nota Bene, Moscow
Stepin, Vyacheslav (2015) Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture, Alma Mater, Moscow.
Mäkinen, Virpi, Korkman, Petter (eds) (2006) Transformations in Medieval and Early-Modern Rights
Discourse, Springer-Verlag.
Varias M. (1993) “Religious Morality and Political and Legal Reality: Theological Aspect”, Social
Sciences and Contemporary World, Vol. 5 (1993), pp. 53 –67.
Сведения об авторе
САВЕНКОВ Александр Николаевич –
Член-корреспондент РАН,
директор Института государства и права РАН.
Author’s information
SAVENKOV Alexander N. –
Member of the Russian Academy of Sciences,
Director of the Institute of State and Law of
the Russian Academy of Sciences, Moscow.
49
Свобода в мире: защита экстерналистского либертарианства*
© 2019 г.
А.С. Мишура
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, 105066, ул. Старая Басманная, д. 21/4.
E-mail: alex.mishura@gmail.com
Поступила 16.07 .2018
Статья посвящена разработке либертарианской позиции в дискуссии
о свободе воли. В первой части анализируются проблемы современ-
ных либертарианских теорий на примере подходов Р. Кейна и
Т. О’Коннора. Доказывается, что некоторые затруднения либертари-
анских теорий связаны с 1) изоляцией причин действия агента от
внешнего мира, 2) с разрушением необходимой связи между лично-
стью агента и действием. Во второй части предлагается альтернатив-
ная концепция либертарианской свободы. Во-первых, демонстрирует-
ся, что ситуации, связанные с неопределенностью и принятием реше-
ния, обусловлены неполнотой имеющихся у агента диспозиций и ос-
нований в пользу действия. Отсутствие необходимых для совершения
действия оснований ведет к необходимости обнаружить эти основа-
ния. Поиск оснований происходит в ходе процесса принятия решения.
Во-вторых, доказывается, что поиск оснований требует обращения
агента не к некоторым «внутренним» состояниям, убеждениям или
желаниям, а к фактам о мире, которые можно назвать «внешними»
основаниями. Обнаружение этих внешних дополнительных оснований
может снять неопределенность и обусловить принятие решения. Ин-
детерминистическая связь имеется между, с одной стороны, намере-
нием агента принять решение и фактами, которые могут служить ос-
нованиями в пользу решения, и, с другой стороны, событием обнару-
жения дополнительного основания в пользу действия. Таким образом,
индетерминированным оказывается обнаружение дополнительного
основания в пользу действия. Обнаружение дополнительного основа-
ния делает действие необходимым для агента, исключая возможность
случайного поступка. Такой подход позволяет сохранить два на пер-
вый взгляд противоречивых условия свободы: 1) необходимую связь
между действием и личностью агента; 2) возможность поступить ина-
че, наличие онтологически реальных альтернатив.
Ключевые слова: действие, свобода воли, либертарианство, экстерна-
лизм, интернализм, индетерминизм, проблема удачи.
DOI: 10.31857/S004287440006032-0
Цитирование: Мишура А.С . Свобода в мире: защита экстерналистского
либертарианства // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 49–58 .
*
Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы
фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ) с использованием средств субсидии в рамках госу-
дарственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5 –100" .
50
Freedom in the World: the Defense of Externalist Libertarianism*
© 2019 г.
Aleksandr S. Mishura
National Research University Higher School of Economics, 21/4, Staraya Basmannaya str.,
Moscow, 105066, Russian Federation.
E-mail: alex.mishura@gmail.com
Received 16.07.2018
This paper develops the libertarian deliberative externalist account of free will.
In the first part, I discuss some problems with the existing libertarian theories
using Kane’s theory of ultimate responsibility and O’Connors agent-causal the-
ory as paradigmatic examples. I argue that some of the main problems of these
theories are due to the isolation of the agent from the external world and to the
weakening of the necessary connection between the agent’s personality and his
actions. In the second part, I propose an alternative externalist account of liber-
tarian freedom. I defend an externalist account of reasons for action that em-
phasize the importance of the objective facts in reasoning and decision-making
process. Then I propose an account of the decision-making process that is in-
deterministically sensitive to the objective reasons for action. I argue that this
account preserves both alternative possibilities and full causal control over the
action. It although illuminates that some degree of luck is immanent to every
decision making process.
Key words: action, free will, libertarianism, externalism, internalism, inde-
terminism, luck.
DOI: 10.31857/S004287440006032-0
Citation: Mishura, Aleksandr S. (2019) “Freedom in the world: the defense
of externalist libertarianism”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 49–58.
Введение
Проблема свободы воли традиционно связывается с понятием детерминизма: об-
ладаем ли мы свободой воли, если все в мире детерминировано? Детерминизм
в наиболее влиятельных своих исторических формах (логической, теологической и
каузальной) касается устройства мира в целом. Соответственно, в проблеме свободы
воли сталкиваются, с одной стороны, человек, с другой стороны, мир в целом. Такое
понимание вопроса само по себе задает определенную систему координат в которой
развивается дальнейшее исследование. В этой системе мир осмысляется как потен-
циальная угроза свободе. Однако мир является не только возможной угрозой, но и
необходимым условием свободы. Человеческая свобода, как мы её знаем, немысли-
ма, если нет мира, в котором она может осуществляться.
Согласно либертарианской позиции1 детерминизм исключает свободу воли, а ин-
детерминизм является её необходимым условием. Именно индетерминизм гарантиру-
ет наличие альтернативных возможностей, многовариантность будущего. Однако ин-
детерминизм не гарантирует свободу, более того, он скрывает в себе опасность. Если
в детерминированном мире все поступки оказываются необходимыми, то в мире ин-
детерминированном они могут стать случайными. Зачем агенту иметь множество ва-
риантов будущего действия, если он не контролирует, какой из них станет реально-
стью? Ничем не обусловленное действие не обусловлено и самим человеком, оно
просто случайно. Для защиты от этой угрозы либертарианские теории помещают
*
This research is funded by Project 5–100 .
51
свободу «внутрь» агента, приписывают ему такие психологические и метафизические
свойства, которые должны гарантировать достаточный для свободы и моральной от-
ветственности уровень контроля. С нашей точки зрения, подобная интерналистская
перспектива должна уравновешиваться экстерналистским взглядом, который обнару-
живает контекстуальность осуществления свободы и зависимость решений человека
от внешнего мира, в котором эти решения принимаются.
Цель данной статьи – обосновать экстерналистскую версию метафизического ли-
бертарианства. В первой части статьи мы будем доказывать, что интернализм2 в тео-
рии свободного действия создает для либертарианских подходов ряд затруднений,
среди которых наиболее существенна проблема удачи. В качестве примеров мы рас-
смотрим теории Р. Кейна и Т. О’Коннора, которые репрезентируют два центральных
направления в современном либертарианстве: событийно-причинное либертариан-
ство (event-causal) и агентное либертарианство (agent-causal). Вторая задача статьи –
доказать, что проблема удачи может быть преодолена благодаря экстернализации ли-
бертарианского взгляда на свободу воли, т.е . благодаря включению3 в либертариан-
ский анализ свободного действия факторов влияния внешнего мира в качестве пози-
тивного условия свободы.
I
Свободой воли обладает или не обладает субъект действия, действующий. Соот-
ветственно, вполне естественно при анализе понятия свободы обращаться именно
к качествам действующего, а не к генетике, социальному окружению и другим
«внешним» факторам. Однако, с нашей точки зрения, такого рода «овнутрение» сво-
боды может стать чрезмерным. Каковы бы ни были собственные характеристики
агента, они во многом определяются влиянием внешнего мира, а свободная деятель-
ность происходит не только в уме, но и в конкретных обстоятельствах. Мы можем
осмыслять внешние факторы как нечто сковывающее и лишающее свободы. Однако
этот взгляд представляется ошибочным. Навыки, знания и ценности, которые
направляют нашу деятельность, были сформированы в результате воздействия внеш-
него мира. Игнорирование активной роли внешнего мира при формировании лично-
сти человека и в его деятельности создает для либертарианских теорий ряд проблем,
которые мы постараемся продемонстрировать в данном разделе.
В интерналистских теориях свободного действия значение имеют психологиче-
ские, физические и метафизические свойства действующего лица, позволяющие со-
вершать свободные действия. Говорить о конкретных свойствах действующего имеет
смысл в контексте более общего понимания его онтологической природы. В дискус-
сии о свободе воли наиболее распространены два базовых подхода к природе агента:
1) Согласно субстанциальному подходу агент существует как неизменная и неза-
висимая причина, он обуславливает действие, не будучи сам чем -либо обусловлен
[Chisholm 1966; Taylor 1966; O’Connor 2000];
2) Согласно событийному подходу агент образован набором сменяющихся собы-
тий определенных типов, прежде всего, основаниями в пользу действия: убеждения-
ми, желаниями и другими пропозициональными установками [Kane 1996; Ekstrom
2000; Mele 2006].
Мы начнем с анализа первого подхода на примере теории агента-причины
Т. О’Коннора [O’Connor 2000]. Агент в этой теории является недетерминированной и
неизменной во времени сущностью, обуславливающей свободные действия 4 . Суб-
станциальная природа дает агенту своего рода «точку опоры», благодаря которой он
может совершать свободные поступки, не растворяясь в цепях причин и действий,
ведущих далеко за пределы его контроля. Однако такого рода укрепление позиции
действующего создает парадокс: максимально независимый от внешних обстоятель-
ств агент лишен возможности менять самого себя под влиянием этих внешних обсто-
ятельств. Неизменная субстанция по определению не может быть изменена чем -то
другим или изменить сама себя. Таким образом, если агент существует как независи-
мая и неизменная причина, он на концептуальном уровне лишен возможности
52
развития. Между тем свобода менять самого себя, менять свою личность как источ-
ник поступков, представляется весьма существенным компонентом свободы воли.
В случае теории агента-причины все изменчивое в человеке не является источником
действий. Агент субстанция рождается и умирает одним и тем же, лишенным всякой
перспективы развития. Его свобода ограничена возможностью независимо порождать
некоторые внешние по отношению к его субстанции события, ведущие к действию.
В теории О’Коннора агент является непосредственной причиной намерения, которое,
в свою очередь, порождает действие. Однако ни намерение, ни действие не могут изме-
нить агента-причину, так как он является принципиально независимым от них.
Изоляция агента от внешнего мира порождает и другую проблему, на которую об-
ратил внимание Ч.С. Броуд [Broad 1952]. Агент-причина всегда остается неизмен-
ным, но его действие происходит в определенный момент времени. Для того чтобы
объяснить, почему оно произошло в определенный момент времени t1, а не в какой -
либо другой момент t2, мы не можем сослаться на агента, так как агент остается од-
ним и тем же и в t1, и в t2. Соответственно, единственным содержательным объяс-
нением может служить указание чего-либо внешнего по отношению к агенту, свя-
занного с определенным моментом времени. Однако это противоречит установкам
теории агента-причины. Таким образом, максимальная изоляция агента от внешнего
мира, приводит теорию ко внутреннему противоречию.
Для решения этой проблемы сторонники теории агента-причины могут обратить-
ся к понятию оснований в пользу действия (reasons for action). В интерналистском
понимании основания в пользу действия являются ментальными состояниями, кото-
рые образуют рационализирующие причины действия. Что это значит? Обычно в
качестве оснований приводятся убеждения и желания действующего5
.
Зная желания
и убеждения, которые привели к действию, мы можем выстроить рассуждение, объ-
ясняющее и рационализирующие, в некотором минимальном смысле рационально-
сти, поступки агента. Агент совершил действие X, потому что хотел Y (имел жела-
ние) и был уверен (имел убеждение), что X является этапом достижения Y. Напри-
мер, Петр пошел в магазин, поскольку хотел есть, и считал, что поход в магазин поз-
волит ему добыть пищу. В теории О’Коннора основания структурируют выбор дей-
ствующего, определяя вероятность того или иного решения, но при этом не входят
непосредственно в состав причин действия [O’Connor 2000, 96 –97].
Может ли это решить проблему изоляции агента от внешнего мира? С нашей точки
зрения, нет. Напротив, такое понимание роли оснований создает дополнительные про-
блемы. Основания в пользу действия являются событиями, которые причинно обу-
словлены либо самим агентом субстанцией, либо внешними по отношению к агенту
событиями, либо и агентом, и внешними событиями. В теории О’Коннора основания
не связаны причинно с субстанцией агента; агент обуславливает только намерения
[O’Connor 2000, 93–94]. Соответственно, они обусловлены чем-то внешним. Однако
основания влияют на принятие решения, определяя вероятность выбора, склонность
агента выбрать ту или иную альтернативу. Если основания задают вероятность выбора,
и сами при этом являются продуктом среды, возникает риск квазидетерминации дей-
ствий агента условиями среды. Мы вполне можем представить себе такую среду, в ко-
торой основания агента задают вероятность всех действий на уровне 0.99999 . С мета-
физической точки зрения действия такого агента не детерминированы, так как имеется
небольшой шанс, что он выберет менее вероятную альтернативу, но при этом среда
будет чрезвычайно сильно склонять его в пользу определенного действия6. Таким обра-
зом, все условия агентной теории будут соблюдены, однако действия агента будут ква-
зидетерминированы обстоятельствами, а его собственная роль будет скорее заключать-
ся в исполнении, а не в определении поступков.
Итак, мы можем выделить, по крайней мере, две проблемы, которые возникают в
теории Т. О'Коннора7. Во-первых, агент лишен перспективы саморазвития, которая,
однако, представляется существенным компонентом свободы воли. Во-вторых,
непроясненной остается связь агента со средой, в которой он принимает решение.
С одной стороны, агент как бы независим от этой среды, с другой, определяя
53
основания, данная среда определяет вероятность поступков, что может практически
лишить субстанцию агента реального выбора.
Обратимся теперь к событийному пониманию природы агента. Согласно данному
подходу агент представляет собой множество связанных событий. Некоторые из этих
событий являются основаниями в пользу действия, определенными ментальными
состояниями (например, желаниями и убеждениями). Предметом интереса интерна-
листских теорий становится устройство причинной цепи, которая связывает события,
ассоциированные с основаниями агента, и событие действия. В либертарианской
теории изначальной ответственности Р. Кейна, свободное действие имеет в качестве
причины систему мотивов8 агента, которая одерживает верх в борьбе с другой систе-
мой мотивов этого же агента. Кейн называет такие системы мотивов «волями» (wills)
[Kane 1996, 127–128]. Поскольку речь идет о либертарианской теории, действие аген-
та индетерминировано: «победить» может любая из конкурирующих воль. Более того,
до последнего момента перед решением остается неопределенным, какая именно из
воль победит.
Главное затруднение либертарианских теорий – так называемая проблема удачи
[Mele 2006; Levy 2011; Franklin 2011]. Поскольку агент обладает реальными альтерна-
тивными возможностями, его личность оказывается совместима с различными вари-
антами действий. Однако в таком случае становится труднее понять и объяснить,
почему человек сделал определенный выбор (ведь все могло быть иначе)? Действи-
тельно ли он контролирует предпочтение одной из альтернатив? Возникает риск ран-
домизации выбора, поскольку в одних и тех же обстоятельствах, один и тот же чело-
век, думающий об одном и том же, может совершить взаимоисключающие поступки.
Эту мысль можно наглядно проиллюстрировать на примере морально значимого по-
ступка. Допустим, некий снайпер в последний момент начал колебаться: нажимать
ли ему курок, убить ли человека? В нем борются две системы мотивов. В момент X
он еще не принял решение, нажать или не нажать. В момент Y он решает не нажи-
мать. Однако представим далее, что некий бог возвращает снайпера в момент выбо-
ра, и на этот раз он в той же самой ситуации решает стрелять и убивает жертву. Бог
может повторить эту ситуацию еще тысячу раз, из которых в 783 случаях выстрела не
будет, а в 217 будет. Если просматривать эти случаи один за другим, выбор либерта-
рианского агента представляется чем-то мало похожим на свободу, но сильно похо-
жим на произвол случая9.
С нашей точки зрения, одной из фундаментальных причин возникновения про-
блемы удачи является сугубо негативное понимание роли внешних факторов в при-
нятии решения индетерминированным агентом. В следующем разделе мы вернемся к
этой мысли и постараемся показать, как данная проблема может быть, по крайней
мере, смягчена посредством демонстрации конститутивной роли внешних факторов
при осуществлении свободы воли.
II
Даже самые детально разработанные либертарианские теории свободного дей-
ствия сопряжены с трудностями, которые весьма непросто, если вообще возможно,
разрешить в рамках интерналистской концепции свободного действия. В данном раз-
деле мы постараемся продемонстрировать, что их можно преодолевать, добавив
к анализу свободного действия мир, в котором это действие совершается.
Начать следует с рассмотрения условий свободного выбора. Для того чтобы агент
нечто выбрал, необходимо, чтобы возникла ситуация выбора, то есть чтобы агент ока-
зался в состоянии выбора, неопределенности. В теории Р. Кейна состояние выбора обу-
словлено наличием внутреннего конфликта в системе мотивации агента. Однако,
с нашей точки зрения, данный анализ не вполне удовлетворителен. Во-первых,
с субъективной точки зрения далеко не каждый выбор представляется разрешением
внутреннего конфликта. В ситуации выбора мы зачастую пытаемся найти оптимальный
вариант распределения ресурсов или оптимальную линию поведения, а не «выиграть»
за одну из систем мотивов. Конечно, внутренние конфликты могут иметь место,
54
например, в ситуациях морального выбора. Однако и здесь модель Кейна является
несколько контринтуитивной. В ситуации принятия решения субъект не распадается
на два сознания, не начинает мыслить, как два отдельных субъекта. Он сохраняет
единство сознания и пытается выбрать что-то одно из представленных вариантов.
Напротив, концепция Кейна помещает в агента некоторое внутреннее противоречие,
делает его некогерентным и даже не вполне мыслимым. Агент одновременно являет-
ся как бы двумя агентами10, с двумя волями, но мы не можем мыслить одного чело-
века как двух, не нарушая закон непротиворечия. Напротив, мы мыслим конкретного
агента как целостность, как некоторое единое существо11, у которого могут быть раз-
ные, в том числе противоречивые мотивы в пользу разных действий, но данные мо-
тивы не образуют двух воль, которые конкурируют между собой ради совершения
некоторого действия.
Представление о двух волях в теории Кейна призвано показать, как личность
агента может быть совместима с двумя взаимоисключающими поступками. Однако
именно это и ведет к возникновению проблемы удачи. С нашей точки зрения, по-
следняя имеет место постольку, поскольку один и тот же агент может совершить два
и более взаимоисключающих действия, будучи одним и тем же существом. Когда мы
виним человека за некоторое действие, мы переходим от суждения о действии к суж-
дению о человеке. Однако если один и тот же человек может совершить два взаимо-
исключающих поступка, то данный переход не обоснован, ведь поступок не имеет
необходимой связи с совершившим его человеком. Соответственно, наше заключение
от поступка к личности, которая его совершила, теряет свою значимость, поскольку
тот же человек мог и не совершать данный поступок, в нем есть некая другая воля.
В нашем примере со снайпером, мы не можем оправданно делать вывод от факта
убийства к заключению о моральной виновности личности, которая его совершила,
поскольку та же личность полностью совместима с отказом от выстрела, т.е . тот же
человек мог быть не виновен в убийстве, соответственно, не нести моральной ответ-
ственности за него.
Итак, помещение в агента «двух воль», как это делает Кейн, представляется весь-
ма рискованным шагом, от которого хотелось бы удержаться в попытке предложить
либертарианское решение проблемы удачи. С другой стороны, принципиальным
условием либертарианской свободы является наличие альтернативных возможностей:
агент должен иметь реальную возможность поступить иначе, у него должны быть
альтернативы. Таким образом, либертарианство сталкивается с существенным за-
труднением: с одной стороны, агент должен иметь альтернативные возмож ности, с
другой стороны, чтобы не возникла проблема удачи, поступок должен с необходимо-
стью проистекать из личности агента.
Разрешение этого затруднения, с нашей точки зрения, возможно через последова-
тельную рефлексию связи между агентом и миром, в котором он совершает свободный
выбор. Большая часть нашего поведения, как представляется, не связана с осознанным
выбором. Причем это касается в том числе намеренных, осознаваемых и весьма трудоем-
ких действий. Так человек может собирать сложный механизм, каждый этап сборки ко-
торого требует большого внимания, однако не находиться при этом в ситуации выбора.
Способность следовать плану, действовать автоматически, как бы на «автопилоте», ис-
ключительно полезна, поскольку выбор требует сознательных усилий. Более того, выбор
истощает ресурсы психики, а жизнь, состоящая из непрерывного выбора, вероятно, была
бы невыносимой. Ситуация выбора возникает тогда, когда обойтись без выбора не уда-
лось. Установок, диспозиций, знаний, желаний, ценностей, намерений человека в кон-
кретных обстоятельствах оказалось недостаточно для того, чтобы действовать без выбора.
Иначе говоря, обстоятельства ставят перед человеком выбор тогда, когда он не готов к
автоматическому поведению.
Выбор связан с некоторой неполнотой, недостаточностью. Если действие челове-
ка обусловлено основаниями в пользу действия, то эта неполнота может осмысляться
как отсутствие достаточных оснований в пользу действия. При наличии достаточного
основания 12 ситуация неопределенности не возникла бы, действие произошло бы
55
«автоматически». Процесс перехода от неопределенности к определенности, таким
образом, может пониматься как переход от недостаточных оснований в пользу дей-
ствия к достаточным. Заметим, что в данной ситуации нам нет необходимости посту-
лировать некоторые две воли. Да, у человека могут быть противоречивые мотивы, но
дело не в том, что они противоречивы, а в том, что в конкретных обстоятельствах ни
одна из систем мотивов не может обусловить действие автоматически, без выбора.
Ситуация выбора связана с отсутствием достаточного основания. Но что такое
основание в пользу действия?13 Какова его природа? Обычно в либертарианских тео-
риях свободы воли основания ассоциируются с некоторыми ментальными состояни-
ями агента, убеждениями и желаниями [Kane 1996, 29]. Однако при ближайшем рас-
смотрении такая концепция представляется не вполне точной. Основания не обяза-
тельно являются ментальными состояниями. Для того чтобы это понять, необходимо
обратиться к функции оснований. Какова функция оснований в пользу действия в
теории действия? Во-первых, основание должно рационализировать действие, делать
его понятным и объяснимым. Во-вторых, оно призвано обосновывать оправданность
действия. Отметим, что это разные функции. Под рационализацией действия мы по-
нимаем обнаружение некоторого рассуждения, в свете которого действие может быть
понятно, постижимо в качестве действия. Под обоснованием действия мы понимаем
доказательство оправданности действия. В этом смысле рационализируемое действие
может не быть оправданным. Можно понять, почему человек поступил так, как по-
ступил, но понять не значит оправдать. Например, мы можем понять, какие мотивы
привели Раскольникова к убийству, как они рационализируют его поступок, но мо-
жем при этом не считать, что данные мотивы оправдывают убийство.
Обратившимся к повседневным практикам обоснования нетрудно заметить, что
обычно мы обосновываем поступки не собственными ментальными состояниями, но
некоторыми, фактами в свете которых эти поступки были совершены. Например, на
вопрос «Почему ты идешь в университет?» можно получить ответ «У меня сегодня
пары, и я хочу на них присутствовать»
14
.
Факт относительно расписания является
вполне внешним, именно он приводится в качестве основания. Человек не говорит:
«Я думаю, у меня сегодня пары, поэтому иду в университет», такой ответ скорее бы
вызывал некоторое непонимание или вопрос: «А ты проверил, что сегодня пары?
Ты сомневаешься?» Более того, если обнаруживается, что человек ошибался, его
убеждение в наличии пар больше не обосновывает действие, хотя мы понимаем,
в свете каких соображений действие совершено. Таким образом, основанием в пользу
действия могут быть не только ментальные состояния агента, но и некоторые факты
относительно внешнего мира.
Здесь необходимо сделать два замечания. Во-первых, чтобы некоторые факты
могли послужить основанием в пользу действия, нам необходимо о них знать или
иметь убеждение, что они имеют место быть. Однако отсюда не следует, что сами по
себе основания являются чем-то внутренним. Напротив, как было указано выше,
практики обоснования связаны с указанием внешних фактов, а не собственных мен-
тальных состояний. Основанием совершить нечто является не просто убеждение, но
сам факт, относительно которого имеет место убеждение. Ментальные состояния
могут объяснить, почему мы нечто сделали, но во многих случаях он и сами по себе
недостаточны для обоснования оправданности действия. Для оправдания поступков
иногда необходимо обращаться к фактам. Наличие у агента убеждений относительно
данных фактов является важным условием, однако данные убеждения, в свою оче-
редь, могут рассматриваться как причинно-обусловленные соответствующими факта-
ми. Иначе говоря, убеждение в том, что нечто является фактом, не может возникнуть
без определенной причинной цепи, ведущей от факта к убеждению. Соответственно,
основанием в пользу действия будет именно факт, а не убеждение в том, что он име-
ет место. Во-вторых, бывают ситуации, когда действие обосновывается ментальным
состоянием. Например, я могу обосновать свой отказ пойти на концерт тем, что мне
не нравится группа. Другой пример: я могу з нать, что замкнутые пространства вызы-
вают у меня страх и сослаться на страх, обосновывая отказ проползти по подземному
56
туннелю. Однако есть не меньше примеров, когда мы обосновываем свои действия
фактами о внешнем мире.
Итак, основания не обязательно являются ментальными состояниями, они также
могут быть фактами внешнего мира. Ситуация выбора, состояние неопределенности,
возникает тогда, когда имеющихся у агента внутренних оснований недостаточно для
автоматического поведения. Преодоление неопределенности может осмысляться как
мысленная работа агента, как попытка «усилить» одну из имеющихся систем мотивов
и тем самым обусловить выбор. Так выбор понимает, например, Р. Кейн [Kane 1996,
133]. Мы полагаем, что это лишь частный случай и, в действительности, весьма ред-
кий. Обычно в ситуации выбора мы не просто «силимся» предпочесть одну из систем
мотивов, но пытаемся найти новые доводы, новые основания в пользу действия, ко-
торые убедят нас в необходимости того или иного поступка. Этот поиск оснований
происходит не в вакууме, а в мире, где мы ищем эти новые, дополнительные основа-
ния в пользу действия. Если бы «внутри» нас было достаточно оснований, ситуации
неопределенности просто не возникло бы. Таким образом, в ситуации принятия ре-
шения агент взаимодействует с внешним миром, стремясь дополнить свою систему
мотивов, посредством установления релевантных для принятия решения фактов.
Мы предлагаем следующий анализ процесса принятия решений. Во-первых,
у агента имеется намерение принять решение, сделать выбор, определитьс я. Это
намерение обуславливает и направляет процесс принятия решения. Во-вторых, про-
цесс принятия решения заключается в поиске дополнительных оснований в пользу
действия, фактов, которые позволят принять решение. В -третьих, обнаружение до-
полнительного основания завершает процесс принятия решения и обуславливает
намерение совершить действие. Наконец, в -четвертых, намерение совершить дей-
ствие является непосредственной причиной действия.
Важной проблемой событийного либертарианства является локализация индетер-
министической каузальности в процессе принятия решения. Предложенное понима-
ние процесса принятия решения позволяет указать вполне определенную зону, в ко-
торой мы можем говорить об индетерминированности причинных связей. Индетер-
минированным является событие обнаружения дополнительного основания. Сово-
купная индетерминистическая причина данного события включает в качестве основ-
ных элементов: 1) намерение агента принять решение, выражающееся в поиске осно-
ваний; 2) дополнительные основания в пользу действия. Во-первых, у агента есть
намерение найти основания, во-вторых, мир включает такие факты, которые могут
быть дополнительными основаниями. Однако нет никакой гарантии, что агент обна-
ружит дополнительное основание, он может очень долго и напряженно рассматри-
вать возможные доводы, но так и не найти дополнительного основания, а значит, не
сформировать намерения действовать. Важно отметить, что выбор дополнительного
основания не произволен. Напротив, разные личности сочтут разные факты о мире
или о самих себе основаниями в пользу действия. Соответственно, личность агента
определяет вариативность дополнительных оснований, которые могут быть обнару-
жены в процессе принятия решения.
В чем преимущество подобной локализации индетерминистической причинности?
Она позволяет преодолеть проблему удачи. Процесс принятия решений изменяет
агента таким образом, что его личность оказывается совместима лишь с одной из
альтернатив, это единство отражается в намерении совершить действие, которое де-
терминирует действие. Один и тот же агент не может совершить два взаимоисключа-
ющих действия. До процесса принятия решений агент вообще не готов к действию,
после он готов только к одному из них. Личность агента с необходимостью обуслав-
ливает его поступок.
Разумеется, сохраняя индетерминизм в структуре процесса принятия решения, мы
оставляем возможность воспроизвести проблему удачи относительно того, какие ос-
нования агент сможет обнаружить. Однако, с нашей точки зрения, в реальном мире
процесс принятия решения от первого лица выглядит именно так: мы действительно
не можем гарантировать обнаружение определенного дополнительного основания в
57
пользу действия, не можем гарантировать, какое именно основание нас убедит.
Наконец, мы не можем гарантировать то, как нас изменит процесс принятия реше-
ния. Мир вокруг действительно может самым неожиданным образом предоставить
новые основания в пользу того или иного выбора, стоит только начать поиск. Кроме
того, манипуляции со средой, о которых мы даже не задумываемся, также могут влиять
на наши решения. Соответственно, в реальном процессе принятия решения у агента нет
полного внутреннего контроля над тем, что он в итоге решит. Однако произвольность
эта связана не с внутренним противоречием в ментальных состояниях агента, а с невоз-
можностью гарантировать обнаружение конкретного дополнительного основания в поль-
зу действия. С нашей точки зрения, проблема удачи на данном уровне имеет место быть,
но это та удача, которая может быть названа естественной, и устранение которой скорее
бы искажало действительное положение человека.
Заключение
В заключение нам хотелось бы представить более образное описание предлагае-
мой нами теории. Проблема свободы воли может осмысляться как столкновение че-
ловека и мира. Однако разрешение этой проблемы должно не просто указывать на
отсутствие противоречия, но и доказывать необходимость мира для свободы. Именно
мир ставит нас перед выбором в ситуации, когда мы не готовы просто действовать,
когда надо выбирать. Чтобы выбрать, надо стать другим. Однако эта трансформация
всегда сопряжена с риском. Мы не знаем, как выбор изменит нас, что в итоге ока-
жется самым убедительным и приведет к решению. Чтобы все-таки совершить вы-
бор, необходимо найти почву для решения, основание. Источником оснований явля-
ется мир вокруг, факты и события, которые помогают определиться. Однако, чтобы
обнаружить эти факты, необходимо иметь достаточно твердое намерение, надо про-
должать искать, пока не найдешь, хотя и это намерение не гарантирует успеха.
Наконец, если искомое основание для действия найдено, у нас возникает намерение,
решимость совершить действие. Действие становится для нас необходимым.
Примечания
1 Подробнее о либертарианских теориях свободы воли см. [Clarke 2003]. Критику либертари-
анских теорий см. [Васильев 2016].
2 При интерналистском подходе свобода дейст вия зависит только от внутренних свойств че-
ловека и либо никак, либо мало связана с миром, в котором эта свобода реализуется. О споре
между интернализмом и экстернализмом в компатибилизме см. [Мишура 2015].
3 Кроме того, в рамках либертарианства существуют так называемые «некаузальные» (non-
causal) теории см. [Ginet 1990; MсCann 1998], которые мы не разбираем в работе. Критику дан-
ных теорий см. в [Clarke 2003].
4 Точнее, агент-причина в теории О’Коннора является универсалией, которая обладает дис-
позициональной характеристикой становиться причиной действия, что и называется автором
каузальной силой (causal power) агента [O’Connor 2000, 108–126].
5 В аналитической философии этот подход связывается с теорией действия Д. Дэвидсона
[Davidson 1963].
6 Разумеется, здесь можно указать на проблему: какая вероятность выбора интуитивно совмести-
ма с реальной свободой: 0.9, 0.95, возможно, 0.99? Однако эта проблема связана скорее с более об-
щим затруднением либертарианства, которое возникает в силу использования понятия вероятности.
Здесь мы хотели бы просто отметить тот факт, что сколь угодно независимый агент субстанция мо-
жет находиться в такой среде, где его свобода просто не сможет быть проявлена.
7 Схожие доводы с незначительными дополнениями можно применить и к другим влиятель-
ным теориям агента-причины, например, к теориям Т. Рида, Р. Чизома, Ч. Тэйлора.
8 Мотивы, в свою очередь, конституированы основаниями в пользу действия, т.е. это также
желания, убеждения, ценности и другие установки в поль зу действия (pro attitude s).
9 Мысленные аргументы с «перемоткой» были придуманы П. ван Инвагеном [van Inwagen 2000].
10 Сам Кейн не соглашается с такой оценкой [Кейн 2016, 114], однако, во -первых, она пря-
мо следует из его теории свободного действия и понятия сети-самости (self -network), во-вторых,
неясно, как именно он мог бы избежать этого следствия. Единственный аргумент, который он
приводит [Кейн 2016, 115], состоит в том, что раздвоение необходимо для подлинного форми-
рования самости и свободы воли. Однако это допущение предста вляется значимым только
в случае отсутствия альтернатив подходу Кейна, между тем такие альтернативы присутствуют
58
даже в рамках событийных теорий [Ekstrom 2000]. Одну из возможных альтернатив теории раз-
двоения воли мы предложим далее.
11 Стоит оговориться, что речь здесь не идет о психопатологических состояниях, в которых
субъективное единство сознания может быть утеряно. Кроме того, вопрос о том, насколько
обоснованно представление о единстве субъекта мы также выносим за скобки, поскольку оно
представляет собой отдельную, весьма сложную тему.
12 Здесь надо отметить, что в данном контексте мы используем понятие достаточного осно-
вания в смысле причинной достаточности, а не в смысле обоснования. Иначе говоря, достаточ-
ное основание делает поступок человека необходимым, хотя он может быть не оправдан.
13 Обзор актуальной дискуссии о природе оснований см. в [Wiland 2012; Star 2018].
14 Если мы реконструируем основания, они будут выглядеть примерно так: 1) желание пойти
на пары; 2) тот факт, что пары сегодня. Обычно люди не приводят полного описания своих
оснований, достаточно, чтобы ответ позволял реконструировать основания [Davidson 1963, 688].
Ссылки – References in Russian
Васильев 2016 – Васильев В.В. Два тупика инкомпатибилизма // Логос. 2016. Т. 26. No 5. С. 175–200.
Кейн 2016 – Кейн Р. Поступать «по своей собственной свободной воле»: современные раз-
мышления о древней философской проблеме // Логос. 2016. Т . 26. No 5. С . 103 –130 .
Мишура 2015 – Мишура А.С. Обезвреживаем манипуляторов: против экстерналистской защиты
компатибилизма // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2015. No 6. C. 73 –82.
References
Broad, Charles D. (1952) Determinism, indeterminism, and libertarianism, Broad, Charles D. ed.
Ethics and the History of Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London, pp. 195–217 .
Chisholm, Roderick (1966) “Freedom and action”, Lehrer, Keith ed. Freedom and determinism,
Random House, New York, pp. 11 –44 .
Clarke, Randolph (2003) Libertarian accounts of free will, Oxford University Press, Oxford.
Davidson, Donald (1963) “Actions, Reasons and Causes”, The Journal of Philosophy, Vol. 60,
No. 23, pp. 685–700 .
Dennett, David (1978) Brainstorms, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Ekstrom, Laura (2000) Free will: A philosophical study, Westview Press, Boulder, Colorado.
Franklin, Cristopher E. (2011) “Farewell to the luck (and Mind) argument”, Philosophical Studies,
Vol. 156, No. 2, pp. 199–230 .
Ginet, Carl (1990) On action, Cambridge University Press, Cambridge.
Kane, Robert (1996) The significance of free will, Oxford University Press, New York.
Kane, Robert (2014) “II—Acting ‘of One's Own Free Will: Modern Reflections on an Ancient Phil-
osophical Problem”, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 114, No. 1(1), pp. 35 –55.
Levy, Neil (2011) Hard Luck : How Luck Undermines Free Will and Moral Responsibility, Oxford
University Press, Oxford.
McCann, Hugh (1998) The works of agency: On Human Action, Will and Freedom, Cornell Universi-
ty Press, Ithaca, New York.
Mele, Alfred (2006) Free Will and Luck, Oxford University Press, New York.
Mishura, Aleksandr (2015) “Defusing manipulators: against an externalist defense of compatibil-
ism”, Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 7: Filosofiya, Vol. 6 (2015), pp. 73 –82.
O’Connor, Timothy (2000) Persons and causes: The Metaphysics of Free Will, Oxford University
Press, New York.
Star, Daniel ed. (2018) The Oxford Handbook of Reasons and Normativity, Oxford University Press,
New York.
Taylor, Richard (1966) Action and purpose, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey.
van Inwagen, Peter (2000) “Free Will Remains a Mystery”, Tomberlin, James (ed.) Philosophical
Perspectives, Vol. 14 Action and Freedom, Wiley -Blackwell, Oxford, pp. 1 –19.
Vasilyev, Vadim V. (2016) “Two Dead Ends of Incompatibilism”, Logos, Vol. 26, No. 5, pp. 175 –
200 (in Russian).
Сведения об авторе
МИШУРА Александр Сергеевич ‒
кандидат философских наук, преподава-
тель , научный сотрудник Международной
лаборатории логики, лингвистики и фор-
мальной философии Национального иссле-
довательского университета «Высшая Шко-
ла Экономики».
Author’s information
MISHURA Aleksandr S. ‒
CSc in Philosophy, researcher in International
Laboratory for Logic, Linguistics and Formal
Philosophy, National Research University
Higher School of Economics.
59
Философия и культура
Феномен «телесного знания» в философии и культуре Китая
© 2019 г.
В.В . Малявин
Факультет мировой экономики и мировой политики Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», Москва, 119017,
ул. Малая Ордынка, д.17 стр. 1.
E-mail: vmalyavin@hse.ru
Поступила 23.05.2019
В отличие от философии Запада философская традиция Китая и всего
ареала Восточной Азии исходила из посылки об органическом един-
стве духовных и телесных измерений жизненного опыта. В статье рас-
сматриваются условия и природа такой целостности, часто называе-
мой «телесным знанием». Как показывает автор, метафизика «телес-
ного знания» основывается на идее реальности как самосокрытия,
или оставления себя, равнозначного «возвращению к началу», а ег о
эпистемология отождествляет сознание с соотнесенностью всего су-
щего и превыше всего – присутствием духовного начала в имманент-
ности жизни. Его главная, всецело практическая ценность состоит в
том, что оно дает всему быть и, как следствие, позволяет упреждать,
предвосхищать события. Подобно тому, как в «метафизике имма-
нентности» вещи существуют в той мере, в какой не существуют, ду-
ховное прозрение в стихии жизненной цельности смыкается с веще-
ственностью мира. Телесное знание лежало в основе политики и
стратегии в цивилизации Дальнего Востока. Проблематика телесного
знания приобретает особенную актуальность в условиях современной
информационной цивилизации с ее приоритетом прагматики комму-
никации над объективностью и творческой синергии над формаль-
ным коллективизмом.
Ключевые слова: телесное знание, проприоцепция, синергия, тело
совместности, тело учения, политика тела.
DOI: 10.31857/S004287440006033-1
Цитирование: Малявин В.В. Феномен телесного знания в философии
и культуре Китая // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 59–71 .
60
Phenomenon of Body Knowledge in Chinese Philosophy and Culture
© 2019 г.
Vladimir V. Maliavin
Faculty of World Economy and International Affairs, National Research University Higher
School of Economics, 17/1, Malaya Ordynka str., Moscow, 119017, Russian Federation.
E-mail: vmalyavin@hse.ru
Received 23.05.2019
Unlike Western philosophy, the philosophical tradition of China and the whole
Eastern Asia is founded on the premise of organic unity of spirit and nature and
the corresponding aspects of human experience. This article explores the condi-
tions and nature of such unity, often named the body knowledge. The author
claims that the metaphysics of the body knowledge is based on the concept
of self-concealment or self-abandonment which amount to the eternal “return
to the origin” while its epistemology equates consciousness to the universal cor-
respondence and above all the presence of spirit in the immanence of life.
Its main and totally practical value is the capacity to anticipate the course
of events and support the “unfolding” of things, let everything be. It affirms
that things are to the extent they are not and the spirit coincides with pure ma-
teriality in the living immanence. This made the body knowledge the basis of
politics and strategical thinking in the Far Eastern civilization. The body
knowledge is of particular importance in the contemporary informational civili-
zation which gives priority to the pragmatics of communication over objective
truths and the free actualizations of synergy over formal collectivism. Above all,
it helps to restore the existential meaning of learning.
Key words: body knowledge, proprioception, synergy, body of togetherness,
body of learning, politics of the body.
DOI: 10.31857/S004287440006033-1
Citation: Maliavin, Vladimir V. (2019) “Phenomenon of Body Knowledge
in Chinese Philosophy and Culture”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019),
pp. 59–71 .
Метафизика превращения и прагматика совместности
В последнее время как в китайской, так и в западной философской литературе
растет интерес к проблеме так называемого «телесного знания» или даже «телесного
мышления» (body thinking) в философии и культуре Китая. Этот интерес объясняется,
надо думать, не столько чарами восточной «экзотики», сколько переменами в миро-
созерцании самого Запада: кризисом индивидуализма и стремлением выстроить но-
вый образ мира вне оппозиций субъекта и объекта, идеи и вещи, духа и материи,
сознания и тела. Китайская мысль представляет благодатное поле для такого рода
поисков, ибо она всегда твердо держалась презумпции органической целостности
жизненного опыта. Она сходится с философией «постмодерна» на почве «онтологии
множественности» и сопутствующей ей проблематики – в сущности, главной про-
блемы «информационной цивилизации»: опыта встречи и сотрудничества как усло-
вия творческого преображения личности.
Что является основой и условием абсолютной множественности? Не что иное как чи-
стая актуальность существования: необъективируемое и нелокализуемое «здесь и сейчас».
Именно актуальное переживание очерчивает горизонт «телесного знания». Как известно,
тело обладает собственной интуицией и способно «разумно» действовать в отсутствие
сознательного контроля и рефлексии. Жизнь обладает имманентным ей сознанием,
61
но это последнее действует только ситуативно, в состоянии как бы внутренней «близо-
сти» миру. Недаром А. Бергсон приравнивал инстинкт к симпатии.
Американский специалист по китайской философии У Гуан -мин, автор самого
подробного исследования «телесного мышления» в китайской традиции, отмечает,
что актуальность – «это всегда актуализируемое-актуализирующееся, пребывающее
в начале всякой ситуации. Никто не может быть сразу в двух местах, но все имеют
равную возможность быть в том или другом месте» [Wu 1997, 90]. Такая «междубыт-
ность», отмечает У Гуан-мин, исключает прямое именование предметов, но требует
говорить иносказательно и в ироническом модусе. Подобная нормативность речи и
действия присуща ритуальному поведению – основе общественной практики китай-
цев. Иносказание, намек – условие непосредственной, и следовательно, безусловной
коммуникации. Великие учителя Китая так именно и изъяснялись.
Философия в Китае сохранила верность актуальности опыта, которая оберегает от
субъективного произвола. Ее интересуют не предметы и сущности, а встреча, соотноше-
ние, со-состояние разнородных сил, которые, как всякое отношение, требуют не идеи,
а стиля, не понимания, а сопереживания. Актуальность всегда задана в нераздельности
прошедшего и грядущего или, как выражается патриарх китайского даосизма Лао-цзы,
того, что «уже имеет» и «еще не имеет» имя. Язык служит опосредованию того и другого,
и китайский язык с его скудостью морфологии и синтаксиса подходит для этого
наилучшим образом. В свою очередь китайская иероглифическая письменность являет
наглядный образ интерактивного пространства, неформализуемой совместности вещей.
Это пространство стилизации, где все существует по своему пределу.
Вот первый постулат «телесного знания»: примат становления над бытием, суще-
ствования над сущим. В свете превращения нет ничего завершенного, все равно ре-
ально и нереально. Здесь действительны не вещи, а соответствие вещей, которое
в своем пределе поднимается до нравственно обязывающей со-ответственности. Та-
кова подоплека центрального для азиатской метафизики понятия недвойственности
духовного и материального, небесного и земного и основополагающей для этических
систем Азии идеи кармической обусловленности. В этом мире есть только события,
событийность вещей: единичные моменты существования, которые являются отблес-
ками спонтанных превращений «великой массы» (да куай) всего бывающего.
Присмотримся внимательнее к менее заметным, но в своем роде не менее суще-
ственным посылкам «телесного знания». Надо помнить, что создатели китайской
традиции твердо держались презумпции невозможности и нежелательности разделе-
ния жизненного опыта на субъективное и объективное измерения или противопо-
ставления индивида внешнему миру. Жизненный идеал китайцев выражен в форму-
лах: «согласное единство неба и человека»; «он и я (точнее: «его» и «мое») – одно».
Прежде всего примем во внимание феномен так называемого проприоцептивного
сознания, то есть восприятия своего телесного присутствия. Это сознание, коренящее-
ся в имманентном динамизме жизни, предваряет и внешнее восприятие, и индивиду-
альное сознание. Оно дает убежденность в реальности своего существования, то есть
в своем роде полное и цельное знание. Такое знание лежало в основе традиционной
китайской гносеологии. Еще Конфуций превыше всего ставил «знание от жизни» или,
по-другому, знание врожденное. Даосские авторы называют доверие или уверенность
в реальности своего существования (синь) самым правдивым свидетельствованием о
Пути [Лао-цзы 2017, 63; Чжуан-цзы 2017 I, 275]. Интересное следствие этого тезиса мы
находим в практике китайских боевых искусств, в которой различались два вида дви-
жения: «внутреннее» и «внешнее». Первое описывается как движение «круговое»,
по сути возвратное (юнь) и соответствует кинестетической цельности тела. Оно дает
«прозрение» или чистую, обращенную на себя и соотнесенную с собой «сознатель-
ность» (у). «Достигнув предела», оно переходит в движение внешнее, физическое (дун),
которому сопутствует предметное знание (чжи). «Познать внешнее движение и знание
легко, понять внутреннее движение и прозрение трудно» – заключает автор текста
[Шэнь Шоу 1995, 116]. Отметим сразу, что предел, переход в инаковость есть сама
природа подобного сознания, так что последнее есть одновременно среда и средство
62
творческого превращения. Это сознание несет в себе собственную избыточность и
представляет себя в бесчисленном множестве своих проекций, теней, следов.
Проприоцепция, будучи актом чистой сознательности, плохо согласуется с пред-
ставлением о сознании в европейской мысли, где сознанию полагается быть пред-
метным. Для китайской мысли, исходящий из посылки о пустотности сознания,
предметность мысли и опыта иллюзорна. «В сознании (букв. «сердце») нет своего
сознания (вариант: «ничего сознаваемого».
–
В.М .), – гласит даосский афоризм [Ма-
лявин 2019, 208]. Стремление понять сознание через его осознание китайские учите-
ля уподобляли попытке отогнать мух... куском тухлого мяса.
Новейшие исследования дают основания говорить о врожденной природе проприо-
цептивного сознания. Но еще важнее то, что проприоцепция представляет параллель
внешнему восприятию и поэтому не изолирует человека от мира, а наоборот, выводит
его в мир и предопределяет структуру жизненного опыта даже независимо от физическо-
го восприятия. Это возможно благодаря способности поддержания взаимодействия
и баланса между различными модусами восприятия, отмечаемой уже у новорожденных.
«Визуальная и моторная системы организма говорят на одном языке непосредственно
с рождения... С самого раннего детства мой визуальный опыт других людей передается в
коде, который имеет отношение ко мне» [Gallagher 2005, 80–81]. В свою очередь нейро-
биолог В. Сингер утверждает, что индивидуальное сознание есть продукт досознательно-
го общения между мозгом разных особей [Singer 1998, 241].
Глубинная общность знания себя и знания другого, а равно интуиция цельности
своего существования – факты капитальной важности, которые делают возможным
культуру и учебную практику во всех ее видах. Однако эта цельность пребывает
в своем отсутствии, в разрыве опыта, в инаковости всего сущего. Именно поэтому
она служила подлинной основой традиции как передачи знания в равной мере не-
объективируемого и внесубъектного, недоступного личному обладанию. В ее свете
жизнь представала учением, то есть усилием познания неведомого, а само познание
рассматривалось только в контексте совместности человеческих сердец и сопутству-
ющей ей аффектации. Сознание в данном случае не содержательно, а действенно,
и это действие есть раскрытие себя миру, в котором предваряется или даже, лучше
сказать, предвосхищается предметность опыта и знания.
Таким образом, постулат онтологической множественности указывает на присутствие
в потоке жизни «вечно вьющейся нити» (Лао-цзы) аффективного знания: апофеоза жиз-
ненных метаморфоз. Поиск этой преемственности – главная задача мысли, питающейся
телесным сознанием. Это требует роста духовной чувствительности, опознания все более
тонких различий в опыте, ведь упомянутая вечная преемственность духа-бытия равно-
значна максимально короткой длительности опыта. В терминах духовной традиции речь
идет о прозрении «небесной» высоты в имманентности земного быта. Поэтому духовное
просветление в древнекитайской литературе предстает антиномическим сопряжением
всеобщего «проницания», «сообщительности» (тун) и «единственности», «единичности»
(ду) опыта прозрения [Чжуан-цзы 2017 I, 277, 284].
В свете телесного сознания человек достоин своего звания в той мере, в какой при-
близился к полной одухотворенности опыта, что в китайской традиции равнозначно
стяжанию небесного совершенства. Врожденная противоречивость этого идеала дает
о себе знать в извечном сосуществовании двух ведущих учений Китая: конфуцианства
и даосизма. Оба, как вся китайская мысль, исходили из посылки о совместности всего
сущего и способности человека обрести в актуальном переживании полное знание
о мире. Однако конфуцианство выводило эту совместность из социальных ритуалов
(понимаемых как часть природного порядка), а даосизм видел в ней онтологическую
реальность, по отношению к которой общественный уклад вторичен и даже, как про-
дукт самосознания, ложен. Вопрос осложняется тем, что упомянутая совместность не
дана, а задана предметному знанию, не составляя отдельной сущности, субстанции или
идеи. Решение этого вопроса содержалось в ключевых для китайской мысли понятиях
«пустоты» (сюй, кун) и «небытия» (у). В их свете наличное и отсутствующее оказыва-
лись разными проявлениями или гранями континуума превращения.
63
Мотив совместности видимого и невидимого пронизывает главный памятник даос-
ской традиции – «Дао-Дэ цзин». Особенно четко он сформулирован в заключительном
изречении его 73-й главы: «Небесная сеть широка и просторна, но из нее ничего не
ускользает». В заключительном пассаже авторитетного даосского сочинения «Инь фу
цзин» («Канон Тайных соответствий») ему соответствует понятие «чудесного сосуда»,
от которого «рождаются все образы». В превращениях мироздания, говорится далее,
«таится божественная пружина, духовное сокровище» [Малявин 2018, 288]. Речь идет,
очевидно, о неких качестве и силе превращения, недоступных «объективному рассмот-
рению». Важное свойство этой сокровенности – пребывание прежде мира вещей.
В позднейшем даосизме оно трактовалось как «прежденебесное» (сянь тянь) состояние,
противопоставляемое состоянию «посленебесному» (хоу тянь) – миру форм и понятий.
Даосский подвижник полностью отвлекается от внешнего восприятия и «всматривается
вовнутрь». Он, согласно древнему трактату о совершенствовании, «идет в потемках без
посоха, полагаясь на свой исконный удел» [Сисуйцзин 1986, 44.] . Но его решимость
«оставить себя» позволяет ему «соответствовать переменам» (точнее, движущей силе
или «пружине» перемен) и тем самым удерживать стратегическую инициативу, быть
«господином» любой ситуации. Так мистицизм в даосизме органически трансформиро-
вался в стратегию политическую и военную.
Рассмотрим подробнее суть переворота в познании, который знаменовал возвращение
к телесному сознанию. Речь идет, конечно, о преодолении дуализма субъекта и объекта,
сознания и тела. Герой известной притчи о «флейте небес» во 2-ой главе книги «Чжуан-
цзы», пережив причастность Небу, заявляет, что «похоронил себя» [Чжуан-цзы 2017 I,
153]. Герой другого сюжета Чжуан-цзы, мясник-виртуоз, разделывает быков, не глядя на
них, а «давая волю духовному чутью» и чувствуя «небесное устроение» бычьей туши, то
есть, надо полагать, соотнесенность всех факторов телесного кинестезиса [Там же, 206].
Даосский подвижник, погружаясь в поле телесного сознания, перестает слушать,
смотреть и думать, его тело уподобляется «высохшему дереву и остывшей золе». Обоюд-
ное забвение субъективного сознания и физического тела как раз соответствует обрете-
нию или, точнее, восстановлению того, что здесь называется телесным сознанием. Про-
странство последнего можно понимать лишь как границу между мыслимым и пережива-
емым, одновременно предположенную опыту и знанию и чисто предположительную.
Таким образом, телесное сознание обладает внутренней преемственностью: в нем и по-
средством него все явленное получает сокровенное продолжение, а в итоге то и другое
сходится в «сокровенном единстве». Нераздельность видимого и невидимого составляет
то, что в даосской литературе именуется «великой целостностью» или «полнотой жизни».
Итак, метаморфоза имеет физическое измерение, свой макрообраз (бянь) и измере-
ние невидимое, относящееся к микрообразам (хуа), причем последнее предваряет пер-
вое, как выражение предопределяет выражаемое. Главное требование китайской мудро-
сти – вглядываться в «глубину сердца» и повышать свою чувствительность, что воспи-
тывает в личности смирение: умение жить в мире с миром. Смирение – плод согласия
разума с полнотой телесного кинестезиса. Последний нередко именуется в древних
текстах словами «вещь» или просто «это». «Не действуй прежде вещей, прозревай их
порядок», – гласит древнее китайское изречение. Мудрый действует, когда превраще-
ние созреет, и тогда его действие действенно без усилия [Малявин 2019, 142].
Перед нами вырисовывается последовательная программа познания и действия. Ее
принцип – неуклонное «оставление», «устранение» себя, избавление от груза чувствен-
ного восприятия и мышления без отрицания того и другого. Мудрый «не связан» ве-
щами именно потому, что находится среди них. Вся «тонкость» познавательной рево-
люции в философии Дао состоит в том, чтобы не просто дать всему быть таким, каким
оно есть, а открыть всему безграничную перспективу превращений, позволить каждому,
как сказал персонаж книги «Чжуан-цзы», «стать таким, каким еще не бывал». Что мо-
жет быть более обнадеживающим и радостным в жизни?
Возвращение к пустоте и покою изначального начала позволяет всему, как сказано
в 37-ой главе «Дао-Дэ цзин», «самому превращаться» (цзы хуа) [Лао-цзы 2017, 96]. Это
превращение безусловное и неизмеримое. Но мир в его неисчерпаемом разнообразии
64
появился потому, что кто-то с царственной щедростью оставил и даже, точнее, пред-
оставил ему свободу быть. Лао-цзы говорит, что мудрый «во всех вещах поспешествует
тому, что таково само по себе», то есть абсолютному в каждом существовании [Там же,
155]. Пребывающий в пустоте, вторит ему Чжуан-цзы, «привечает вещи», дает им
явиться [Чжуан-цзы 2017 I, 228]. Средневековый комментатор Чжуан-цзы Чэнь Сянь-
дао поясняет: мудрый «пользует тело, но не, пользуется телом, церемонно служит дру-
гим, но не прислуживает им» [ЧЦЦЯ 2013, 251]. Мудрый, таким образом, сознает не
просто вещи, но свою соотнесенность с ними. Речь идет, по существу, о рефлексии вто-
рого порядка, которая обращена на самое себя и представляет, согласно определениям
М. Мерло-Понти, «логос более фундаментальный, чем логос объективного мышления»,
«предсуществование мира»» [Мерло-Понти 1999, 466, 547]. Д. Валлега-Ней предлагает
поучительное в нашем контексте описание этой сверхрефлексии: «Гиперрефлексия –
это рефлексивная сознательность, которая позволяет быть тому, что открывается в ней...
Я могу обнаружить ее в некоторых моментах танца или музицирования, когда вижу себя
не исполнителем, а погруженным в исполнение зрителем. Но эта свидетельская созна-
тельность не просто пассивна, а позволяет проявиться событию, которое в противном
случае осталось бы скрытым» [Vallega-Neu 2006, 62]. К этому наблюдению надо доба-
вить, что вещи не просто «проявляются» в поле любовного внимания, но именно пре-
вращаются в момент своего проявления, переходят в свое инобытие и тем самым удо-
стоверяют свою бесконечность. Здесь созерцание совпадает с действенностью.
Способность просветленного духа «привечать вещи» в даосизме имеет много
сходных черт с отмеченной выше «гиперрефлексией». Премудрый мясник у Чжуан -
цзы разделывает быков, не касаясь их ножом, который «не имеет толщины»: явный
намек на бесконечно малую дистанцию между различными модусами существования
в «центрированности» телесного сознания. Мясник, по сообщению рассказчика,
«следует срединному пути». Он работает так, словно исполняет ритуальный танец, а,
дойдя до «сложного места», «ведет нож тихо-тихо», то есть еще глубже проницает
внутренним взором бездну телесности. Закончив разделку, он на мгновение застыва-
ет, любуясь своим свершением, ибо рефлексия соотнесенности, конечно, включает в
себя эстетический момент. Однако он тотчас «прячет нож», ведь его оружие – чистая
функциональность, не переводимая в образы.
Уподобление работы раздельщика туш ритуальному танцу кажется едва ли не
шуткой, но оно не случайно. Ритуал – лучший способ возобновления проприоцеп-
ции, которая, как мы помним, опознается через инаковость всех вещей. Исполнитель
ритуального танца, замечает С. Лангер, «видит мир, в котором танцует его тело»
[Langer 1953, 197]. Тот же «опыт запредельного» в его динамике выражен в суждении
мастера тайцзицюань Ван Юн-цюаня: «...отсутствующее – оно же наличествующее.
Когда я занимаюсь кулачным искусством, ничего нет, а когда я применяю его, все
есть» [Малявин 2011, 35].
В свете сказанного упомянутая выше «царственная щедрость» того, кто дает всем
«превращаться самим», предстает в равной мере риторической фигурой и констата-
цией факта – смешение необычное для западной литературы, но характерное для
Китая. «Оставление себя» ради свободы превращений всего и вся – воистину цар-
ственный жест, но в этом освобожденном мире не может быть господина: в нем все
вещи равны в акте достижения их внутренней полноты. Тем не менее именно жест –
по сути, церемонный – уступления, «оставления» является регулирующей инстанци-
ей мира. Лао-цзы сразу после слов о предоставлении всем свободы «превращаться
самим» говорит: если кто-нибудь возымеет «избыток желаний» (то есть, в сущности,
потворствует своему эгоизму), я «смирю его первозданной цельностью жизни». По сути,
речь идет о возведении индивидуальной самости в динамизм родового бытия.
Рассказ о «флейте небес» в книге «Чжуан-цзы» помогает конкретизировать смысл
даосской «сверхрефлексии». В нем говорится о трех флейтах: «флейте человека» – бам-
буковой трубке с отверстиями, «флейте Земли» – многоголосице природных звуков и
«флейте Неба» – пустоте небес. Под действием вселенского Ветра (мировой поток
жизни), наполняющего все отверстия мироздания (реальность в мире превращения –
65
это разрыв, зияние в опыте), все сущее преображается в звуки, сливающиеся в беспре-
дельную гармонию. Иначе говоря, пустота во флейтах – среда творческих метаморфоз.
Звуки, уточняет Чжуан-цзы, «привечают друг друга, словно не привечая друг друга»,
и в неопределенности этих отношений сокрыты некие «небесные межи»: качественно
иной по сравнению с миром вещей беспредметный и нелокализуемый порядок функ-
циональности всех функций, скрещения всех скрещений, чистого «межевания» по ту
сторону всех различий. Между тем в своей чистой экспрессивности, она же момент
творческой метаморфозы, все звуки совершенно равноценны. Недаром Чжуан-цзы за-
дается вопросом: отличается ли птичий щебет от человеческой речи? Внимание
к тембру, к телесной основе голоса, начиная с искусства горлового пения или свиста и
кончая подражанием голосам животных в практике совершенствования – характерная
особенность культур всей Восточной Азии. И это, в сущности, внимание к освобожда-
ющим качествам жизненной практики. Не в последнюю очередь именно по этой при-
чине в китайской мысли реальность вещей в их причастности к творческим превраще-
ниям не ставится под сомнение. Как сказано о кредо Лао-цзы в книге «Чжуан-цзы»,
«пустота не может сделать вещи недействительными» [Чжуан-цзы 2017 II, 433]. Речь
идет опять-таки об отношениях синергии, где единство удостоверяется самим несход-
ством вещей; отношениях вне формальных связей и чисто прагматических.
Итак, спонтанность сверхрефлексии невозможно отрицать, а приобщение к ней
не требует усилий. Весь секрет в том, чтобы «отпустить себя на волю». Чтобы свер-
шилось творческое превращение, достаточно, как часто случается с персонажами
того же Чжуан-цзы, погрузиться в дрему и незаметно войти не просто в иной мир,
а в волшебный мир «жизни после жизни», мир всеобщей переменчивости, где каж-
дый живет «всегда другой» жизнью, порой самой фантастической. Показательно, что
книга Чжуан-цзы начинается с рассказа о гигантской рыбе, достигающей в длину
«неведомо сколько тысяч верст», и эта рыба превращается в столь же гигантскую
птицу, летящую из «пучины» Севера в «небесный водоем» Юга. Перед нами мир не-
ведомых просторов и неопределенного масштаба. Впрочем, духовное прозрение, этот
«корень» жизни, всегда с нами. Гуляя по берегу реки, Чжуан -цзы вдруг постигает
«радость рыб» и в разговоре с его другом-философом Хуэй Ши о том, можем ли мы
знать радость других существ, с уверенностью говорит, что это возможно, ибо ра-
дость открытия беспредельного поля опыта – истинный «корень» существования.
Фантазм как признак творческого преображения – вот отправная точка даосского
философствования, и подвижник Дао, вернувшийся к средоточию мирового кругово-
рота, «имеет с избытком места, где погулять» (слова мясника из притчи Чжуан-цзы).
Подобно ребенку, он резвится, то есть находится где угодно, не находясь нигде,
в бесчисленном сонме миров, ни с чем себя не отождествляя, не ведая границы меж-
ду воображением и действительностью, легко переходя от сна к яви, от знания к не-
знанию и наоборот. Он живет свободно в свободно перетекающих друг в друга акту-
альных и виртуальных мирах и поэтому не знает неудач, ибо, во всем уступая,
он ничего не теряет, но всегда приобретает. Он – идеальный стратег, который умеет,
скользя на грани видимого и невидимого, мыслимого и немыслимого, обнимать то и
другое и поворачивать к всеобщей (и собственной) пользе колесо фортуны; см.: [Ма-
лявин 2017, 161–163].
Строение тела и телесная практика
Итак, важнейшие особенности китайских представлений о теле и его роли в по-
знании и практике сводятся к следующим пунктам:
1. Перед нами мировоззрение, которое исходит из принципа «совместного рожде-
ния» (бин-шэн) вещей, выраженного в древней формуле китайской мудрости: «соот-
ветствуй всему в том, что таково само по себе» (ин у цзы жань). В этом мире все само-
бытно в меру соотнесенности с другим, все есть ровно настолько, насколько не есть.
2. Мир в традиционном китайском представлении воистину сложен. Он есть не
просто неисчерпаемое разнообразие жизни, но складывается из себя и в себя, сам
себя хранит и сам в себе выражается. Поэтому в нем внутреннее и внешнее,
66
сокрытое и явленное, дух и вещи «друг друга оберегают». Его принцип – самопорож-
дение через творческое преображение, и регулируется он, так сказать, радикальной
инверсией: самое внутреннее преломляется (едва ли «выражается») в самое внешнее.
Внешность внешнего равнозначна декоруму, атрибутам социального статуса, не зави-
сящим от воли их обладателя.
3. Это «великое единство» сущего и несущего таится в неопределимой глубине
опыта и образует ось личного преображения, где критерием совершенства выступает
именно степень единения духа и тела и в конечном счете жизненная имманентность.
Этим объясняется отсутствие в древнем Китае сколько-нибудь разработанных техни-
ческих приемов духовной и телесной практики. Последние сводятся к «расслабле-
нию», забвению «тщетной работы ума».
Из идеи превращения как высшей реальности вытекают три важных следствия
для знания и практики. Во-первых, превращение спонтанно, предваряет предметное
бытие и поэтому недоступно проективному мышлению. Ему можно лишь довериться
и следовать. Во-вторых, оно выступает как граница сущего и несущего, охватывая то
и другое. В -третьих, превращение уравнивает сущее и несущее, постулируя наличие
скрытой, но безусловной преемственности между несходными величинами.
Три указанных аспекта превращения приводят к единому знаменателю знание, мо-
раль и действие. Это единство и является действительной основой «телесного сознания».
Оно контрастирует с принятым в западной литературе разделением телесного существо-
вания на физическое тело и тело субъекта, между которыми нет реальной преемственно-
сти. В середине XX в. эта оппозиция дополнилась так называемым «этическим телом»,
в котором воплощается связь индивида с другими субъектами [Wyshogrod 1996, 65]. Од-
нако появление третьего модуса телесного бытия не добавило устойчивости его общей
конфигурации: отдельные аспекты телесности фактически существуют порознь и скреп-
лены только случайными («окказиональными») связями.
В китайской мысли, как уже говорилось, знание неотделимо от психосоматиче-
ских процессов: аффектов, ритмов и резонансов, душевного равновесия, превыше
всего – преемственности в изменениях, метастабильности психики. По существу тело
выступает воплощением жизненных метаморфоз, его нельзя свести к статичным
«предметам», будь то физическая форма, идея или субстанция. В итоге китайская
традиция не допускала противопоставления отдельных аспектов телесного существо-
вания. Чаще всего тело обозначалось в ней тремя терминами: во-первых, син, что
относится к внешней телесной форме; во-вторых, шэнь, которое наиболее близко
понятиям субъекта и личности, но графически восходит к образу беременного тела и,
строго говоря, не содержит в себе идеи субъектности, а указывает, скорее, на спо-
собность жизни продлевать себя в поколениях; в-третьих, ти, которое относилось
больше к опыту сродства всего живого (графически оно состоит из знаков «костяк»
и «жертвенная пища»). Этот тройственный образ телесного существования исключал
оппозицию сознания и тела и указывал на единение ныне живущих с предыдущими
и последующими поколениями. Во всех своих проявлениях он утверждал приоритет
собственно соматического измерения жизни. Классический пример такого подхода –
выдвинутая древним конфуцианцем Мэн-цзы оппозиция «малого», то есть индивиду-
ального, тела (сяо ти) и тела «большого» (да ти), относящегося к потенциально все-
мирному пространству ритуального общения. Причастность «большому телу» удосто-
верялась ощущением жизненной мощи [Мэн-цзы 1980, 251].
В даосизме сложилась многоступенчатая иерархия духовных достижений, и каждой
ступени соответствовали определенные качества и облик тела. Даосы различали «духов-
ных» (шэнь жэнь), «подлинных» (чжэнь жэнь) и «высших» (чжи жэнь) людей, имевших
разные тела и жизненные миссии. Первые имели опору во внешнем теле-син и обретали
облик «пернатых небожителей», вторые отождествлялись с телом-ти и становились
небесными чиновниками, а третьи лелеяли животворящее тело-шэнь и из сострадания к
человечеству жили на земле, чтобы «являть жизнь и смерть», то есть, как положено телу
шэнь, воспроизводить себя в череде поколений [Малявин 2019, 225–227]. Примечательно,
что в старом Китае в выражении «телесное знание» употреблялся именно термин шэнь.
67
В недавно обнаруженных текстах школы боевого искусства Тайцзицюань можно прочи-
тать, например: «телесное знание выше умственного знания» [Wile 1996, 46]. В современ-
ной литературе чаще используется термин ти.
Принятие даосским подвижником тела шэнь можно считать жестом высшего сми-
рения: он знаменует возвращение к имманентности жизни. Но этот жест, как само
телесное бытие, изменчив и двусмыслен: в его свете всякое суждение предстает ино-
сказанием, превыше всего – сказанием о вечно ином . Реально переживаемое тело, le
corps vécu, как хорошо объяснил М. Мерло-Понти, есть «тайник жизни», ему свой-
ственно ускользать от рефлексии, быть исчезающе малым разрывом между отдель-
ными моментами существования. Оттого же дискретный характер «великого тела»
хранит в себе извечную преемственность, «постоян ство» ( чан), а к познанию этого
постоянства, как говорил еще Лао-цзы, ведет гармонизация опыта [Лао-цзы 2017,
134]. Прозрение в китайском понимании – это открытие вселенской «сообщительно-
сти» (тун) в Великом Превращении (да хуа), которое, восполняя все, все уравнивает.
Ибо в философии превращения вещи равны и сходятся воедино именно в моменте
метаморфозы, во всем прочем будучи несходными. Как сказано в «Чжуан-цзы», «из
сходства рождается согласие», то есть гармония на самом деле оправдывается совпа-
дением всего сущего (точнее, случающегося) в истоке существования [Чжуан -цзы
2017 II, 433]. Заметим, что Конфуций, судивший с точки зрения общественной прак-
тики, превыше всего ценил гармонию. Способность жить в согласии была для него
признаком благородства, тогда как низкий человек, по его словам, предпочитает
стадное единство.
Укорененности гармонии в подобии, по крайней мере структурно, соответств ова-
ло традиционное в Китае двуединство тела эмпирического и тела, так сказать, онто-
логического, которое воплощает главное свойство первозданной телесности: скры-
вать себя, отсутствовать в себе, чтобы быть связью всего. К эпохе средневековья за
сущностным телом закрепилось название «тело истины» (фа шэнь) или «тело вне те-
ла» (шэнь вай шэнь), а за телом явленным – «функциональное тело» (юн шэнь). По-
следнее служило объектом поклонения.
Поскольку в китайской традиции духовное прозрение имманентно жизненной эмпи-
рии, совершенствование по-китайски означало последовательное утончение восприятия,
благодаря которому плоть и дух «друг друга оберегали». Даосские наставники в особен-
ности возражали против одностороннего увлечения духовным знанием в отрыве от те-
лесного существования. Высшие святые возвращаются в материальный мир именно по-
тому, что пустота пребывает в своем инобытии, и этот мир ценен как раз тем, что опу-
стошает себя или, точнее, оставляет себя, чтобы... вернуться к себе.
Взаимопроникновение тела и духа обеспечивалось стихией мировой энергии, ды-
хания или жизненной силы ци – центральной категории китайской антропо-
космологии. В теле человека ци занимало среднее положение между наиболее близ-
ким материальному субстрату жизни «семенем» (цзин) и собственно духом. Различие
между тремя уровнями телесной жизни сводилось к степени утонченности единого
жизненного субстрата: дух представлял собой лишь наиболее тонкую вещественную
среду мира. Центральная же категория китайской антропологии, (а равно онтологии
и космологии) – это понятие «сердца» (синь), которое является одновременно орга-
ном физическим и духовным, вместилищем знания и чувства, и в конечном счете –
жизненной целостности.
Еще одна важная, но сравнительно малоизвестная категория духовно-
соматической практики в Китае представлена термином лин, который на первый
взгляд без необходимости дублирует понятие духа-шэнь . У Чжуан-цзы человеческое
тело именуется «духовной террасой» (лин тай), «духовной управой» (лин фу) и т.п.
В даосизме дух-лин ставился даже выше шэнь, на что были, вероятно, две причины:
лин обозначал как одухотворенное измерение психосоматической жизни, так и силу
духовного воздействия или сообщительности. Впрочем, в свете сказанного об избы-
точности телесного сознания сосуществование двух понятий духа кажется законо-
мерным и даже неизбежным.
68
Верность идее духовно-соматического единства человека заставляла китайскую
мысль отказывать в самостоятельности физическому и умственному аспектам тела.
Китайская медицина, как известно, не придавала значение анатомии и видела в теле
«сетевую» структуру, по сути трансиндивидуальную и локализуемую в точках-
отверстиях каналов циркуляции жизненной силы, которые соединяют индивидуаль-
ное тело с вселенским порядком. Здесь тело сводится к его порам, преемственности
полого и полного и предстает «телом сообщительности». В школах духовного совер-
шенствования оно описывается языком как будто туманных метафор, но в своем ро-
де продуманным и точным. Речь идет, по сути, о метасимволической цельности: ди-
станции без протяженности и времени без длительности. О ней сообщают образы
«одной нити, пронизывающей все тело», «жемчужины», содержащей бесчисленное
множество извилин или складок, как бы бесконечно наслаивающейся на самое себя
[Малявин 2011, 342, 373]. Именно эти «наслоения бытия» порождают жизненные
ритмы, а вместе с ними изначальный субстрат памяти, опыт глубины времени.
Вследствие экспрессивной природы телесной проприоцепции они же творят первич-
ные, еще прикровенные и виртуальные, образы мира, которые впоследствии получа-
ют предметное содержание. Этот изначальный пласт сознания и культурного творче-
ства отображен в некоторых чертах даосской утопии, где утверждается, что в древно-
сти люди «завязывали узелки вместо письма», а о правителях знали только то, что
они существуют. О важности такого рода «метки бытия» свидетельствует и отмечен-
ное выше внимание жителей Азии к «животным», «утробным» качествам экспрессии.
Еще одно интересное свидетельство содержится в 15-й главе «Дао-Дэ цзин»,
где сказано, что «древние мужи достигли утонченности в мельчайшем и сообщитель-
ности в сокровенном». Так здесь обозначены два главных измерения просветленного
состояния. Во-первых, предельная чувствительность, позволяющая различать самую
короткую, уже недоступную обычному восприятию длительность, она же чистое пре-
вращение. Во-вторых, сопутствующее этой способности удержание сокровенной со-
общительности всего сущего или, если угодно, постоянства перемен. Такой мудрец
не имеет идентичности или имеет, как сказал бы Делёз, только «личиночную» иден-
тичность, а его воспринимаемые образы являются фантазмами или симулякрами.
В книге «Чжуан-цзы» есть несколько примечательных сюжетов, посвященных
опыту духовного просветления. Так, герой притчи о «флейте Неба» «похоронил себя»,
так переменился, что его не смог узнать (согласно одной версии, просто увидеть) его
собственный ученик [Чжуан-цзы 2017 I, 145]. В 7 -й главе той же книги в рассказе о
четырех встречах даосского учителя Ху-цзы со знатоком физиогномики Цзи Сянем
даосский подвижник в конце концов являет своему визави «свой из начальный образ,
каким я был до того, как вышел из своего Прародителя». Это откровение «бездны в
сердце» внушает обладателю предметного знания панический страх. Но примечатель-
но, что позднейшие комментаторы отождествляли «пребывание в Прародителе» со
стихией повседневности, чистой актуальностью практики [Там же, 318 –319].
Природа жизненной цельности, сопутствующей «телесному сознанию», хорошо
раскрыта в рассказе о мудреце Канцан-цзы, который мог слышать и видеть, не поль-
зуясь ушами и глазами, поскольку у него «тело пребывает в согласии с сердцем,
сердце пребывает в согласии с жизненной силой (ци), жизненная сила пребывает в
согласии с духом, а дух пребывает в согласии с небытийностью. Любое явление или
звук, – продолжает Канцан-цзы, – внятны мне независимо от того, случаются ли
они за пределами видимого мира или прямо под носом. И я даже не знаю, воспри-
нимаю я их органами чувств или сердцем» [Ле-цзы 2017, 123]. Двусмысленность суж-
дения Канцан-цзы – характерная черта «телесного сознания», совмещающего аффект
и рефлексию. Отказ от диктатуры интеллекта высвобождает потенциал чувственного
восприятия. Но предельная чуткость по закону самопревосхождения телесного зна-
ния неотличима от отсутствия восприятия. И именно тот, кто может «оставить себя»
и вернуться к проприоцептивному сознанию, служащему своего рода матрицей со-
знания индивидуального, способен оказывать неотразимое воздействие на других.
В «Чжуан-цзы» есть рассказ о визите Конфуция к Лао-цзы. Последний только что
69
совершил ритуал омовения и сидел «сам не свой». У Конфуция все поплыло перед
глазами, и он в страхе уполз прочь [Чжуан-цзы 2017 II, 216–217].
Способность тех, кто может оставить себя, ввести других в поле проприоцептив-
ного сознания, – подлинный исток китайской политики, одновременно телесной и
космичной. Она была аксиомой для всех школ древней китайской мысли. Даже
убежденный рационалист и критик даосских «безрассудств» Сюнь-цзы в III в. до
н.э. писал о поведении правителя в тех же категориях «великого тела»: «Верховный
Путь – это великое тело... Вот почему Сын Неба не смотрит, а видит, не слушает,
а слышит, не думает, а знает, не действует, а все свершает. Словно ком земли, он
сидит в одиночестве, и весь мир повинуется ему, как конечности тела слушаются
приказов ума. Вот что называется великим телом» [Сюнь-цзы 1977, 245].
Несмотря на квазимистический тон этого пассажа, речь идет о весьма практично
понимаемом управлении и первостепенной важности собственно соматического из-
мерения жизненной практики. Возвращение к «корню» жизни ценно прежде всего
тем, что оно дает крепкое здоровье, которое проявляется в благообразном и внуша-
ющим симпатию облике. Как следствие, оно дарует авторитет и власть. Оно же дает
столь важную в стратегическом отношении способность упреждать действия против-
ника. Об этом напоминает поговорка китайских мастеров боевых искусств: «он не
двигается, и я не двигаюсь (буквально «его» и «мое».
–
В.М.) . Он едва двинулся, а я
двинулся прежде него».
Итак, телесное сознание в китайской мысли было средством не чувственного вос-
приятия или познания, а духовной сообщительности, интимного и потому неотрази-
мого воздействия. Его природа – превращение, которое обнажает «нить вечности»
в разнообразии мира и тем самым создает пространство стратегического действия.
Взаимные переходы полярных величин – сил Инь и Ян, пустоты и наполненности
и т.д.
–
именовались в даосизме «чудесным» или «утонченным» (мяо) действием.
Свершаются же метаморфозы мира в состоянии полной «оставленности», «забытья».
Самое сильное воздействие достигается тогда, когда некому и не на что воздейство-
вать. Власть удостоверяет себя своим отсутствием.
Аналогичным образом в китайской военной стратегии победу одерживают «без
боя», благодаря «следованию» противнику, которое на самом деле позволяет владеть
стратегической инициативой. Почему «следование» приводит к победе? Ответ прост:
следование как возобновление предвечно сущего позволяет предвосхищать все пред-
метные действия.
Недостаточно сказать, что телесное сознание не может быть предметом теории,
а имеет всецело практическое значение. Поскольку оно всегда находится на стыке зна-
ния и незнания, сознательного и бессознательного, оно ставит каждого в положение
учащегося. Как заметил Ж. Делёз, если тело есть в своей основе система дифференци-
альных отношений, то учение как телесная практика (например, в искусствах и ремеслах)
означает поиск взаимного соответствия, совмещения, по меньшей мере, двух таких тел
[Делёз 1998а
, 205]. Эти тела, как мы уже знаем, – пустотелые, пористые, сложенные не
из вещей, а из «скрещений». Это означает, что учение – не заучивание готовых истин,
а раскрытие «проблемного поля» (выражение Делёза), что и соответствует практике
«оставления себя». Пустоты, образуемые актом саморазличения, представляют предел
физического тела, и опознание их требует высшей цельности духа. Так, чтобы научиться
плавать, человек должен открыться водной стихии, преодолев предметное знание и себя,
и воды. Его задача – интуитивно постичь свойства воды и сделать их частью внутреннего
опыта. Другими словами, он должен взрастить (едва ли «сделать») в себе «великое тело»
Мэн-цзы или, можно сказать, «тело учения», в котором все всему «пособляет». К слову
сказать, самое понятие учения, занятия чем-либо (си) толковалось в Китае (исходя из
графического образа соответствующего иероглифа) как «перелет птенца, учащегося ле-
тать, с ветки на ветку» («Лунь юй»). Таким образом, практика учения в китайской тради-
ции указывает на некую значимую паузу, качественно особый момент в обыденности
существования, по существу – сингулярность, которая открывается учащемуся в опыте
преображения. Это открытие равнозначно возвращению к моменту со-творения мира.
70
Хотя тезис о том, что вся жизнь – учение, и учение само по себе выше знания, был
общим достоянием китайской традиции, отдельные философские школы трактовали его
по-разному. Конфуцианство использовало постулат о приоритете учения для воспитания
образованной и благонравной личности, в совершенстве владеющей искусством светско-
го общения и потому способной управлять другими. Даосы принимали ту же установку в
ее, так сказать, онтологической чистоте: они считали соблазном книжное знание и бла-
гочестие, а их кумиром был мастер практики, познавший внутренний предел действия,
и следовательно, открывший вершину искусства в ... неискусности. Мастер-виртуоз им-
понировал даосским авторам потому, что он как будто «забывает» и о себе, и о своем
материале, и о своих орудиях, но обладает ясным сознанием ритма и даже, хочется ска-
зать, алгоритма своей деятельности. Свободный от материальных ограничений своего
дела, он прозревает в нем вечность и потому получает от него самое чистое наслаждение.
Виртуозное мастерство – естественная вершина телесного сознания еще и в том
отношении, что оно равно чуждо и умозрению, и эмпирическому восприятию. Оно
вырастает на «срединной линии» существования, на стыке присутст вия и отсутствия,
предметного и беспредметного. Об этом хорошо сказал современный китайский ма-
стер боевых искусств Ван Сян-чжай, который утверждал, что, занимаясь рукопаш-
ным боем, нельзя ни отвлекаться от тела, ни полагаться на него, ибо, «если будешь
вне тела, не будет материала для совершенствования, а, если будешь иметь тело,
каждое движение будет ошибочным» [Юй 2013, 332].
«Тело сообщительности» как раз и делало возможной передачу истины от поколе-
ния к поколению в школах духовной (в сущности, духовно-соматической) практики.
Для этого существовал репертуар нормативных движений или приемов, именовав-
шихся «конфигурациями силы» (ши) или просто позами (цзя). Последние часто име-
ли экстравагантные названия: «черный дракон выползает из пещеры», «стрекоза ка-
сается воды», «белый аист расправляет крылья», «богатырь толчет в ступе» и т.п. По-
добные иносказательные образы указывали на разрыв между опытом и знанием,
в котором как раз и свершается прозрение, утверждающее родовую целостность су-
ществования. Эта целостность предстает смешением виртуального и актуального,
сознательного и бессознательного измерений опыта, то есть всё той же совместно-
стью полярных величин. Одновременно названия нормативных фигур служили мне-
моническим приемом, способом классификации моментов прозрения. Их происхож-
дение составляет главную тайну традиции. Наиболее убедительное объяснение им дал
Ж. Делёз, который считал их продуктом отбора наиболее заметных качеств диффе-
ренциальных отношений [Делёз 1998б, 151]. Мы имеем дело, очевидно, не с предме-
том познания, а с результатом испытания себя, творческого эксперимента и одно-
временно с дидактическим приемом, указывающим на внутренний фокус существо-
вания. Эти образы являются, по сути, артефактами культуры и лишь кажутся отра-
жениями природного мира.
Итак, презумпция верховенства телесного знания позволила китайской традиции
выработать очень цельное мировоззрение, где знание и опыт, внутреннее и внешнее,
природа и культура, осознанное и бессознательное друг друга удостоверяют и прони-
цают в пространстве синергийной совместности, очерченном спонтанными узорами,
«паттернами» вселенской сети соответствий. В эпоху искусственного интеллекта
и стирания границы между человеком и машиной возвращение к изначальной одухо-
творенности жизни дает человечеству возможность избежать участи быть только «ре-
сурсом» кибернетического разума и благодаря восстановлению экзистенциального
смысла учения утвердить свою человечность в новых формах и качествах.
Источники – Рrimary Sources in Chinese and Russian Translation
Делёз 1998а
–
Делёз Ж. Различие и повторение. СПб: Петрополис, 1998 [Deleuze, Giles, Dif-
ference and Repetition, Russian Translation).
Делёз 1998б – Делёз Ж. Складка. М.: Логос, 1998 [Deleuze, Giles, The Fold, Russian Translation).
Лао-цзы 2017 – Лао-цзы. Книга о Пути жизни. Комментарии и перевод В.В . Малявина.
Москва: АСТ, 2017 (Lao-zi, The Book about the Way of Life, Russian Translation).
71
Ле-цзы 2017 – Ле-цзы. Перевод и комментарии В.В . Малявина. Иваново: Роща, 2017 (Lie-zi,
Russian Translation).
Мерло-Понти 1999 – Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб: Наука-Ювента,
1999 (Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception, Russian Translation).
Мэн-цзы 1980 – Мэн-цзы цзиньчжу цзиньи [Мэн-цзы с современными комментариями и в
современном переводе]. Тайбэй: Тайвань шанъу , 1980 (Meng-zi with contemporary commentary
and translation, in Chinese).
Сисуйзин 1986 – Сисуйцзин, Мибэнь Сисуйцзин (Тайный список «Сисуйцзин»). Тайбэй:
Цзыю, 1986 (Secret copy of Xisuijing , in Chinese).
Сюнь-цзы 1977 – Сюнь-цзы цзиньчжу цзиньи [Сюнь-цзы с современными комментариями и
в современном переводе]. Тайбэй: Тайвань шанъу, 1977 (Xun-zi with contemporary commentary
and translation, in Chinese).
Чжуан-цзы 2017 – Чжуан-цзы. Перевод и комментарии В.В. Малявинa. Ч. 1. Внутренний раздел.
Ч. 2. Внешний и Смешанный разделы. Иваново: Роща, 2017 (Zhuang-zi, Russian Translation).
ЧЦЦЯ 2013 – Чжуан-цзы цзуань яо [Собрание важнейших сведений о Чжуан -цзы]. Т .2 . Пе-
кин: Шэхуй кэсюэ, 2013 (Collection of the most important materials on Zhuang -zi, in Chinese).
Шэнь Шоу 1995 – Шэнь Шоу. Тайцзицюань пу [Свод материалов о тайцзицюань]. Пекин:
Жэньминь тиюй, 1995 [Shen Shou, Collection of materials on Taijiquan, in Chinese).
Wile, Douglas (1996) Lost T’ai-chi classics from the Late Ch’ing Dynasty, State University of New
York, Albany.
Ссылки – References in Russian and Chinese
Малявин 2011 – Малявин В.В. Тайцзицюань: классические тексты, принципы, мастерство.
М.: Кнорус, 2011.
Малявин 2016 – Малявин В.В . Китайский этос, или Дар покоя. Иваново: Роща, 2016.
Малявин 2018 – Малявин В.В . Управление и стратегия. Иваново: Роща, 2018.
Малявин 2019 – Малявин В.В . Путь совершенствования. Древность. Иваново: Роща, 2019.
Юй 2013 – Юй Юн-нянь. Дачэнцюань – чжаньчжуан юй даодэцзин [Дачэнцюань – столбо-
вое стояние и «Дао-Дэ цзин»]. Тайюань: Шаньси кэсюэцзишу, 2013.
References
Gallagher, Shaun (2005) How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press, Oxford.
Langer, Susanne K. (1953) Feeling and Form, Scribner’s, New York.
Maliavin, Vladimir V. (2011) Taijiquan: classical texts, principles, mastery, Knorus, Moscow (in Russian).
Maliavin, Vladimir V. (2016) Chinese Ethos, or the Gift of Calmness , Roshcha, Ivanovo (in Russian).
Maliavin, Vladimir V. (2018) Management and Strategy, Roshcha, Ivanovo (in Russian).
Maliavin, Vladimir V. (2019) The Way of Self-Cultivation. Antiquity, Roshcha, Ivanovo (in Russian).
Singer, Wolf (1998) “Consciousness from a Neurobiological Perspective”, From Brain to Conscious-
ness? Essays on the New Sciences of the Mind, Ed. by S. Rose, Penguin, London.
Vallega-Neu, Daniela (2006) The Bodily Dimension of Thinking, State University of New York, Albany.
Wu, Kuang-ming (1997) On Chinese Body Thinking , Brill, Leiden.
Wyshogrod, Edith (1996) “Towards a Postmodern Ethics: Corporality and Alterity”, Ethics and
Aesthetics. The Moral Turn of Postmodernism , Ed. by G. Hoffman and A. Hornung, Universitätsverlag,
Heidelberg.
Yu, Yongnan (2013) Dachengquan – Standing Meditation and the Daodejing , Shangsi kesue jishu,
Taiyuan (in Chinese).
Сведения об авторе
МАЛЯВИН Владимир Вячеславович –
Доктор исторических наук, профессор-
исследователь Факультета мировой эконо-
мики и мировой политики Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики».
Author’s information
MALIAVIN Vladimir V. –
DSc in History, Professor Researcher, Faculty
of World Economy and International Affairs,
National Research University Higher School of
Economics.
72
Как мы определяем искусство?
© 2019 г.
А.Л. Андреев1* Т.В . Кузнецова2**
1 Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, 111250, ул. Краснока-
зарменная, д.14; Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Москва, 115409, Каширское шоссе, д. 31; Федеральный научно-исследовательский социо-
логический центр РАН, Москва, 117218, ул. Кржижановского, д. 34/25, корп. 5 .
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Философский фа-
культет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 .
* E-mail: sympathy_06@mail.ru
** E-mail: 89163805403@mail.ru
Поступила 13.04.2019
Статья посвящена обсуждению понятия «искусство», анализу его
функционирования в обыденном языке и языке эстетической теории
и искусствознания. Авторы солидаризируются с классическими рабо-
тами М. Вейца, трактовавшего категорию «искусство» как открытое
понятие, но то же время показывают его крайнюю многозначность,
которая затрудняет научный анализ художественной культуры. В этой
связи рассматривается ряд конкретных ситуаций, в которых очевид-
ный в силу своей стереотипности смысл понятия становится основа-
нием для безотчетной концептуализации попадающих в поле внима-
ния исследователя новых явлений. В статье предпринимается попытка
эксплицитно выделить основные семантические компоненты понятия
«искусство», которые имеют место в современных эстетических и ис-
кусствоведческих дискурсах. Это, в частности: эстетическое отноше-
ние к объектам изображения или к самому произведению как продук-
ту творческой деятельности; духовная специфика; семиотический
признак; система признаков, связанных с привычной для нас формой
социальной организации художественной культуры; система психоло-
гических характеристик (искусство как сфера личностного восприятия,
искусство как образное мышление); характер деятельности в искус-
стве (искусство как принципиально новаторская, неалгоритмизируе-
мая деятельность); наконец, технический признак – тенденция сво-
дить искусcтво к фиксированному, традиционному набору техник –
живописной, скульптурной, словесной и т.д. Обосновывается мнение,
что адекватно описать специфику искусства можно лишь в рамках
иерархически организованной, сложной концептуальной системы (ко-
торая может рассматриваться как своего рода понятийный комплекс).
Основу этой системы должно составить «открытое» (но не много-
значное) понятие, фиксирующее искусство как исторический ряд ге-
нетически связанных между собой культурных феноменов, но его
следует конкретизировать применительно к каждому данному истори-
ческому этапу с помощью набора понятий другого типа, более жестко
приспособленных к очерчиванию специфических явлений, – возмож -
но, понятий «классического», закрытого типа (вроде понятий, описы-
вающих исторически сменяющие друг друга стили).
Ключевые слова: искусство, дефиниция, полисемичный термин, кон-
цептуализация, система.
DOI: 10.31857/S004287440006035-3
Цитирование: Андреев А.Л., Кузнецова Т.В. Как мы определяем искус-
ство? // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 72–79.
73
How Do We Define Art?
© 2019 г.
Andrei L. Andreev1*, Tatiana V. Kuznetsova2**
1
National Research University of Power Engineering, 14, Krasnokazarmennaya str., Moscow,
111250, Russian Federation; National Research Nuclear University MEPhI, 31, Kashirskoye
shosse, Moscow, 115409, Russian Federation; Federal Center of Theoretical and Applied Sociol-
ogy RAS, 34/25, korp. 5, Krzhizhanovskogo str., Moscow, 117218, Russian Federation.
2 Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av. GSP -1,
Moscow, 119991, Russian Federation.
* E-mail: sympathy_06@mail.ru
** E-mail: 89163805403@mail.ru
Received 13.04.2019
The article is devoted to the discussion concerning the concept of "art", the
analysis of its functioning in the ordinary language and the language of aesthetic
theory and art history. The authors share the opinions expressed in the classical
works of M. Weitz, who interpreted the category “art” as an open concept, but
at the same time they show its extreme ambiguity, which complicates the scien-
tific analysis of artistic culture. In this regard, a number of specific situations are
considered in which the meaning of the concept, obvious by virtue of its stereo-
type, becomes the basis for non-accountable conceptualization of new phe-
nomena coming to the attention of the researcher, thus replacing the primary
empirical analysis on which the theory should be based. The article attempts to
explicitly highlight the main semantic components of the concept of “art” as it
is used in modern aesthetic and art history discourses. This, in particular, is the
aesthetic attitude to the objects of the image or to the work itself as a product
of creative activity; spiritual specificity; semiotic trait; system of features associ-
ated with usual forms of social organization of artistic culture; the system of
psychological characteristics (art as a sphere of personal perception, art as fig-
urative thinking); nature of activity in art (art as a fundamentally innovative,
non-algorithmic activity); and, finally, a technical attribute - the tendency to
reduce art to a fixed, traditional set of techniques: pictorial, sculptural, tech-
nique of organizing verbal texts, etc. It is argued that adequate description of
the specifics of art is possible only within a hierarchically organized, structurally
complex conceptual system (which can be considered as a kind of composed
concept). The original basis of this system should be an “open” (but not am-
biguous) notion that fixes art as a historical series of genetically related cultural
phenomena, but it should be specified more concretely with each set of histori-
cal stages with the help of concepts of another type, more rigidly adapted to de-
lineate qualitatively specific phenomena. Probably, these may be concepts of
“classic”, closed type (such as concepts describing historically alternating styles).
Key words: art, definition, polysemic term, conceptualization, system.
DOI: 10.31857/S004287440006035-3
Citation: Andreev, Andrei L., Kuznetsova, Tatiana V. (2019) “How do we
define Art?”, Voprosy filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 72–79.
«Искусство» – многозначный (полисемичный) термин, в котором можно увидеть ин-
туитивный «сплав» нескольких признаков. Попробуем уяснить, какие именно элемен-
тарные смысловые компоненты существенны для оперирования выражением «искусство»
на уровне нашего непосредственного чувства языка. Иными словами, что именно интуи-
тивно мыслится в качестве атрибутов объектов, собирательно обозначаемых словом
74
«искусство»? Каковы, следовательно, семантические правила, задающие способ употреб-
ления данного выражения в языковых (речевых) контекстах? Представляется, что можно
выделить, по крайней мере, следующие элементарные семантические компоненты тер-
мина «искусство»:
1) эстетическое отношение к объектам изображения или к самому произведению
как продукту творческой дельности;
2) духовный аспект (термином «искусство» обозначен элемент ряда, объединяюще-
го формы общественного сознания: искусство – наука – религия – мифология);
3) семиотический компонент (преобладающая роль иконических, изобразительных
знаков в искусстве);
4) система признаков, связанных с привычной формой социальной организации ху-
дожественной культуры («музейное потребление» художественной продукции, особый
статус художника в системе культуры и т.п.; к примеру, консервная банка, разме-
щенная на стенде в музее и снабженная соответствующей табличкой, для посетите-
лей превращается в художественный факт);
5) система психологических признаков (искусство как сфера личностного восприя-
тия, искусство как образное мышление, культивирование эмоциональных, интуитив-
но-наглядных сторон психики и др.);
6) признак, указывающий на характер деятельности (искусство как принципиаль-
но новаторская, неалгоритмизируемая деятельность, то есть как творчество pеr se,
творчество в наиболее чистом, «парадигмальном» виде);
7) технический признак (искусcтво как фиксированный, традиционный набор тех-
ник: живописной, скульптурной, техники организации словесных текстов и т. д.).
Сказанного вполне достаточно, чтобы наглядно представить себе многообразие
содержания, вкладываемого в слово «искусство» (более подробный обзор и анализ
различных определений искусства см. в статье: [Никитина, 2012]).
Отметим, что практически все перечисленные выше смысловые компоненты се-
мантемы «искусство» логически независимы и, строго говоря, не синонимичны.
Ни один из них не может быть выведен из другого логическими средствами, но при
этом все они даны в семантеме «искусство» слитно.
Стремление избежать терминологической «расплывчатости» и явным образом за-
фиксировать содержание выражения «искусство» наблюдается в эстетике и филосо-
фии уже давно. Определенные шаги в этом направлении предпринимались самыми
разными авторами, главным образом, путем теоретической работы с самим объ ектом
исследования, а не с логическим аппаратом последнего. Фактически, вводя новые
термины, фиксирующие важные (для принятого тем или иным исследователем под-
хода) стороны рассматриваемого материала, исследователи рассматривали этот шаг
как еще одно уточнение «определения» того, что подразумевается под словом «искус-
ство». В результате, однако, ни одно даже правильно построенное определение,
во-первых, не покрывало всего многообразия явлений, относимых к сфере искусства,
а, во-вторых, не было по объему содержания даже приблизительно эквивалентно
термину «искусство» во всей полноте его интуитивно мыслимых характеристик.
Создавалось впечатление, что подобные определения упускают какие-то суще-
ственные особенности художественной деятельности, поэтому они «неудачны»
и должны быть заменены «более удачным» определением, которое еще не найдено.
Этот факт можно рассматривать как косвенное, но достаточно убедительное доказа-
тельство полисемии термина «искусство»: в силу особой структуры области его зна-
чений, имеющей вид «цепного комплекса», дать его эквивалентную дефиницию,
по-видимому, нельзя. В свое время Моррис Вейц говорил о неминуемом провале
всех попыток подобрать адекватное определение термину «искусство» и о том, что
это – симптом кризиса эстетической теории, главной задачей которой было «опреде-
ление» искусства через введение научного термина, покрывающего в сю совокупность
интуитивных представлений об искусстве. Он предлагал центральный для «старой»
эстетики вопрос: что такое искусство? – заменить серией других, из которых важ-
нейшим является вопрос: какова функция слова «искусство» в языке?
75
На наш взгляд, попытки определить то или иное выражение обыденного языка (в том
числе и «искусство») сами по себе не плохи. Следует только трезво оценить возможности
таких определений, их ограниченную, чисто техническую функцию и не предъявлять к
подобного рода однозначной терминологии «завышенных» требований.
Согласно М. Вейцу, семантема «искусство» – «открытый» термин. Это значит, что ее
объем логически не определен и она активно используется для концептуализации новых
явлений [Margolis (ed.) 1987, 143–154]. В системе художественной культуры, где понятие
«искусство» выполняет программирующие функции, закрепляя присущее ей представле-
ние о художественном творчестве и соответствующим образом направляя восприятие и
деятельность носителей данного типа культуры, эта терминологическая «открытость»
связана с «открытостью» эстетического сознания общества в направлении дальнейшей
эволюции. То, что не было, скажем, художественной литературой в XVIII в. и осознава-
лось в этот период как факт быта, несколькими десятилетиями позже вошло в сферу
искусства и стало осознаваться как особый род изящной словесности (эпистолярный
жанр, стихи в альбомах и др.) [Тынянов 1977, 255–281].
Однако в исследуемом нами случае, когда речь идет о месте понятия «искусство»
в системе знания, избыточная семантическая расплывчатость данного термина влечет
за собой разнообразные теоретические затруднения. Так происходит, например, при
появлении действительно новых фактов культуры или же при обращении к фактам
культуры, объективно существовавшим задолго до того, как их стали изучать, но
лишь недавно ставших достоянием науки – мы имеем в виду так называемое перво-
бытное искусство.
Последнее было открыто относительно недавно. В 40 -е годы XIX века стали из-
вестны первые находки, в 1875 г. были обнаружены знаменитые росписи пещеры
Альтамира, а затем и другие памятники палеолитической «живописи». Следует при-
знать, что первоначальная концептуализация вновь открытого феномена (а ее влия-
ние достаточно сильно и в современной науке) – чрезвычайно показательный обра-
зец смысловой флуктуации понятия «искусство», при которой происходит неявная
подгонка фактов под теоретические построения. После того как факты изобразитель-
ной деятельности были открыты, естественно встал вопрос об их классификации,
о том, чем они являются. Надо сказать, исследователи, почти не задумываясь, отнес-
ли первобытную изобразительную деятельность именно к сфере искусства. Причиной
тому, скорее всего, ее иконический (изобразительный) характер, напоминавший ев-
ропейским ученым позапрошлого столетия тот род культурной деятельности, кото-
рый они именовали искусством. Из этого наглядно видны две особенности использо-
вания полисемичных терминов: во-первых, для того чтобы применить данный тер-
мин, субъект языка, как правило, не пытается каким -то образом логически расчле-
нить его содержание, а потому нередко оказывается достаточным, чтобы у рассмат-
риваемого объекта удалось констатировать один-два признака, обычно связываемых
с этим термином, причем субъект специально не задается вопросом, как эти призна-
ки логически связаны с другими семантическими компонентами используемого вы-
ражения; во-вторых, из данного примера следует, что функционирование полисе-
мичного выражения существенно зависит от всей системы языка – открывая новое
явление, субъект стремится прежде всего подвести его под уже известную категорию,
и то, какая категория будет выбрана зависит не столько от анализа ее содержания и
соотнесения с действительностью, сколько от того, какая интуитивно наиболее под-
ходит к обозначению данного явления. Вообразим гипотетический случай, что про-
изведения художественной культуры, имеющиеся на момент открытия первобытных
фресок, существенно отличаются от последних по своему облику (из истории ведь
известно, что искусство иной раз принимает в высшей степени условные формы,
достаточно далекие от непосредственной изобразительности). В этом случае допу-
стимо предположить, что открытое явление могло быть концептуализировано по-
другому, с иным результатом.
Очень важно, что различие концептуализаций существенно влияет на в ыбор ис-
следовательских средств и на само направление исследования. Это значит, что логика
76
анализа начинает сообразовываться не с логикой самого объекта, а с особенностями
системы языка и тех представлений его носителей, которые выкристаллизовались в
его семантическом строе. Теории генезиса искусств сплошь и рядом переносят харак-
терные для своего времени представления о сущности искусств на предполагаемую
эпоху их генезиса. Незаметно для исследователя многозначное слово выступает ин-
струментом такой экстраполяции. В частности, определив первобытную изобрази-
тельную деятельность как «искусство», многие теоретики неявно распространили на
него все то содержание, которое в используемом ими языке вкладывалось в данное
слово. Так, скажем, в качестве естественного, «само собой разумеющегося» следствия
было принято то, что «первобытное искусство» являлось деятельностью эстетической.
Мы не ставим своей задачей дать ответ на вопрос, так ли это в действительности.
Укажем лишь, что некоторые ученые выступили против использования термина «ис-
кусство» применительно к деятельности первобытного человека, предложив заменить
его менее обязывающими выражениям вроде «предыскусство», «искусствоподобная
деятельность» и т.д. (cм.: [Ранние формы искусства, 1972]). Наше утверждение сво-
дится к тому, что, независимо от того, носила первобытная «художественная» дея-
тельность эстетический характер или нет, некорректна сама процедура распростране-
ния полисемичного термина на те явления, которые включаются в его объем на ос-
новании какого-либо изолированного, хотя и внешне убедительного признака. До-
пускаем, что первобытная изобразительная деятельность носила эстетический ха-
рактер, однако это утверждение требует специальных доказательств, это проблема,
которую следует решать на основании фактов, а не выводить лишь из привычных
способов словоупотребления.
Сходная ситуация проявилась и при осмыслении ряда новых явлений культуры,
возникновение которых в прошлом столетии было связано с ускоренным развитием
техники, производства (а также в ряде случаев с определенными экономическими
факторами: потребностями в массовом сбыте продукции и т. д.) . К примеру, воз -
никший в 20-х гг . такой тип эстетической деятельности, как дизайн, первоначально
воспринимался в качестве особого вида искусства («промышленное искусство»).
Лишь серьезные противоречия, связанные с этим словоупотреблением, побудили
в конце концов от него отказаться. Немалую роль в этом сыграл очевидно ут илитар-
ный характер деятельности дизайнеров, столь резко противоположный традиционно-
му стереотипу искусства как сферы «незаинтересованного любования».
Границы термина «искусство» оказываются гораздо более размытыми при сопри-
косновении с теми видами человеческой деятельности, которые не получили еще
окончательного осмысления – определения их места в системе культуры. Многие из
них представляют собой форму эстетического освоения новой предметности, но надо
подумать, к какой области культуры они относятся.
Возьмем, к примеру, творчество одного из лидеров американского минимализма
Дональда Джадда, который в свое время сформулировал программу создания свобод-
ного от европейских традиций «нового визуального искусства». Сам он не претендо-
вал на то, что, создавая свои «трехмерные объекты», выступает реформатором скуль-
птуры (это отличало его от абстракционистов, которые претендовали на роль рефор-
маторов живописи), ибо под скульптурой он понимал «антропоморфное» преобразо-
вание, «одушевление» материала, чего в собственн ом творчестве не усматривал.
Джадд полагал, что его «новое трехмерное визуальное искусство» будет сосущество-
вать с традиционной скульптурой подобно тому, как фотография сосуществует с жи-
вописью. Но если произведения Джадда лишены какой-либо «одушевленности» и
сугубо индустриальны (серия металлических анодированных ящиков, предметы
сложной конфигурации из металла и плексиглаза и др.), то возникает вопрос: на ка-
ком основании их следовало бы считать видом искусства? Почему, соответственно,
Джадд может претендовать на роль и статус художника, а, например, конструктор
сложных агрегатов, так же, как и Джадд, соединяющий в некоторый целостный ком-
плекс предметы различной формы, – нет? Критик Дж. Мюллер, транслировавший
концептуалистские интуиции Д. Джадда в американское искусствоведение, считал
77
произведения последнего искусством на том основании, что искусство есть создание
иллюзии. На первый взгляд, это утверждение абсурдно: иллюзия предполагает эле-
мент подобия чему-то (мимесис), тогда как «скульптуры» Джадда ни на что, кроме
самих себя, не похожи. Мюллер выходит из положения, утверждая, что в данном
случае речь идет об иллюзии того, что созданная художником конструкция наде лена
собственным природным существованием, в то время как на самом деле она является
искусственной [Muller 1973, 37]. Но, отдавая должное изобретательности американ-
ского автора, нельзя не признать, что такая трактовка является весьма натянутой –
проблема вряд ли может быть решена при помощи подобного рода интеллектуальных
трюков. Так что вопрос о том, является ли творчество Джадда новой формой искус-
ства, существующей рядом с традиционной скульптурой, или же это какая -то специ-
фическая форма культуры, существующая «рядом» с искусством как таковым, на наш
взгляд, остается открытым. Следует сказать, что и в академических эстетике и искус-
ствоведении расплывчатость термина «искусство» и периодическое выдвижение на
передний план периферийных оттенков его смысла вызывают немало трудностей.
Достаточно упомянуть попытки разрешить вопрос, является ли искусством (в полном
смысле слова) компьютерная поэзия или компьютерная музыка.
Полисемичные термины нередко подвергаются смыс ловым трансформациям не
только в связи с потребностью субъекта обозначить те или иные новые факты и
формы деятельности, но и в связи с эволюцией системы языка. В полной мере это
касается и слова «искусство». В античности и средневековье под искусством понима-
ли всякую вообще продуктивную деятельность, следующую определенным правилам.
Современная же трактовка понятия сложилась лишь к XVII в., когда оно получило
уточняюще-техническое определение «изящное» и было закреплено за литературой,
театром, живописью, музыкой, скульптурой и архитектурой [Clowney 2011, 309, 312]
(уже в ХХ в. к ним добавили «десятую музу» – кинематограф).
В настоящее время мы видим довольно сложную картину: новое значение еще не
отстоялось, а старое не исчезло полностью. Мы, с одной стороны, говорим: «лите -
ратура и искусство», а с другой – относим литературу к области искусства. В данном
случае изменение содержания термина в основном обусловлено стихийной эволюци-
ей языка, а отнюдь не совершенствованием теоретических взглядов. Здесь отразились
и факторы социально-идеологического характера, причем не только те, которые пря-
мо связаны с социальным бытием искусства. Например, греки считали искусством
ткачество и ряд других ремесел. По-видимому, это было обусловлено тем, что соци-
альный статус художника был близок к статусу ткача, гончара и т. д., хотя творческая
художественная деятельность и тогда по своей сущности значительно от них отлича-
лась. Получается, что, если концептуальный аппарат теории не становится объектом
специального логического контроля, эволюция обыденного языка может существен-
но влиять на получаемые в рамках этой теории результаты. Разумеется, такое поло-
жение не может считаться оптимальным для развития научно-философского знания.
Думается, что анализ разобранных нами ситуаций достаточно убедительно свиде-
тельствует в пользу необходимости логической экспликации термина «искусство»
и исключения самой возможности такого распространенного ныне положения вещей,
когда в претендующих на научность искусствоведческих контекстах он незаметно
подменяется достаточно расплывчатым выражением обыденного языка. Но, разуме-
ется, введение логически строгого экспликата является лишь предварительной зада-
чей ученого. Мы вовсе не призываем к возрождению спекулятивно-нормативной эс-
тетики, которая подменяла анализ реальных процессов художественного творчества
указанием на то, «каким должно быть искусство в соответствии со своим понятием».
Общепринятая фиксация термина, хотя она и опирается на определенные сообра-
жения фактического характера, не подменяет собой дальнейшее исследование,
а предполагает его. Данную операцию следует рассматривать в широком контексте
развития познавательного процесса. И в этом плане введение логических эксплика-
тов должно пониматься как определенная ступень в познании, как фиксация про-
шлого опыта исследования, накопленного нами знания о предмете, что, в свою
78
очередь, становится предпосылкой дальнейшего осуществления исследовательской
работы. В этой связи следует указать на то, что необходимо различать понятие (ска-
жем, понятие искусства) как логический исходный пункт теории и исследования и
понятие как их конечный пункт, как то конкретное представление объекта во всем
многообразии его определений, которое является целью научного познания.
На наш взгляд, адекватно описать специфику искус ства можно лишь в рамках
иерархически организованной, сложной концептуальной системы (своего рода со-
ставного понятия). Думается, что в основу этой системы должно быть положено «от-
крытое» (но не многозначное!) понятие, обозначающее искусство как исторический
ряд генетически связанных между собой культурных феноменов. Это понятие следует
конкретизировать применительно к каждому историческому этапу с помощью набора
понятий другого типа, более жестко приспособленных к очерчиванию качественно
специфических явлений. Вероятно, это могут быть понятия «классического», закры-
того типа (вроде понятий, описывающих исторически сменяющие друг друга стили).
Хотелось бы остановиться еще на одном соображении, которое связано с особен-
ностями эстетики как науки – с некоторыми важными характеристиками ее объекта.
Объектом эстетики служит художественная (эстетическая) культура, то есть особая
сфера человеческой деятельности, которая обладает внутренними каналами комму-
никации и собственным языком (системой слов для выражения эстетических оценок,
субъективных состояний индивида, вызванных восприятием художественных произ-
ведений и т. п .). Это, в частности, значит, что язык эстетики является метаязыком по
отношению к языкам художественной культуры. Поэтому теоретический язык эсте-
тики включает в себя «переводы» соответствующих выражений из сферы дотеорети-
ческих коммуникаций по поводу искусства. По существу же, в реальной практике,
последние выступают неотделимо от теоретического языка эстетики. Это усиливает
негативные последствия неоднозначности за счет смешения омонимичных выраже-
ний языка-объекта и метаязыка. Например, исследуемое нами выражение «искус-
ство» выступает в эстетике и как научное понятие, категория науки эстетики, и как
термин из области собственно художественной культуры, обозначающий в значи-
тельной мере стихийно сложившееся в ее рамках понимание того, что такое искус-
ство. Это понимание представляет собой обобщение художественной практики дан-
ной исторической эпохи и ее эстетических потребностей, но оно, в отличие от науч-
ного понятия, не может охватить историю искусства на всем ее протяжении.
Очевидно, что в языке, которым пользуется научная эстетика (надо отличать этот
язык от более узкой категории «язык эстетической теории»), использование указан -
ных двух типов выражений неустранимо, что, конечно, служит дополнительным ар-
гументом в пользу совершенствования сознательного контроля за использованием
понятий этого языка. В частности, следует строго различать два указанных смысла
понятия «искусство». Здесь необходимо также заметить, что до сих пор термин «ис-
кусство», стихийно сформировавшийся в сфере обыденного общения с искусством,
нередко выступает у ряда авторов и в функции термина самой теории. Позиция ис-
следователя по отношению к этим двум языковым слоям должна быть совершенно
различной. Собственные теоретические языковые средства требуют того, чтобы их
сознательно формировали и целенаправленно совершенствовали в соответствии с
общими принципами научного подхода и конкретными исследовательскими задача-
ми. Что же касается включаемых в используемый исследователем язык тех выраже-
ний, в которых фиксируются типы эстетического отношения и оценки, к ним следу-
ет относиться как к факту, как к чему-то данному, поскольку в этом случае они
имеют статус не модели, а объекта. Относительно этих выражений мы должны преж-
де всего задаваться вопросом, какова их реальная функция и каковы сложившиеся
способы их употребления в художественно-эстетической практике. Такой язык может
быть сколь угодно нестрогим и наполненным субъективно-оценочными терминами,
что отнюдь не мешает его строгому и объективному описанию.
79
Источники и переводы – Primary Sources in Russian and Russian Translations
Тынянов 1977 – Тынянов Ю.Н . Поэтика. История литературы. Кино. М .: Наука, 1977
[Tynyanov, Yury N., Poetics. History of literature. Cinema (in Russian)].
Ссылки – References in Russian
Никитина 2012 – Никитина И.П. Определяя искусство // Вестник ВГИК. 2012. No 12–13.
С. 148 –156.
Ранние формы искусства 1972 – Ранние формы искусства / С.Ю . Неклюдов (cост.). М .: Ис-
кусство, 1972.
References
Clowney, David (2011) “Definitions of Art and Fine Art’s Historical Origins”, The Journal of Aes-
thetics and Art Criticism, Vol. 69, No 3, pp. 309–320 .
Muller, Gregoire (1973) “Donald Judd’s Ten Years”, Arts Magazine (Feb.), рр. 35 –42 .
Early art forms (1972) Nekludov, Sergei Yu. (ed.), Iskusstvo, Moscow (in Russian).
Nikitina, Irina P. (2012) “Defining art”, Vestnik VGIK, No 12–13 (2012), pp.148 –156 (in Russian).
Margolis, Joseph (ed.) (1987) Philosophy Looks at the Arts: Contemporary Readings in Aesthetics, ed.
by J. Margolis, Temple University Press, Philadelphia.
Сведения об авторах
АНДРЕЕВ Андрей Леонидович –
доктор философских наук, профессор НИУ
МЭИ и НИЯУ МИФИ, главный научный
сотрудник ФНИСЦ РАН.
КУЗНЕЦОВА Татьяна Викторовна –
доктор философских наук, профессор Ка-
федры эстетики Философского факультета
Московского государственного университе-
та имени М.В . Ломоносова.
Author’s information
ANDREEV Andrei L. –
DSc in Philosophy, Professor of the National
Research University of Power Engineering and
National Research Nuclear University MEPhI,
Chief Researcher of the Federal Center of
Theoretical and Applied Sociology RAS.
KUZNETSOVA Tatiana V. –
DSc in Philosophy, Professor, Department of
Aesthetics, Faculty of Philosophy of Lomono-
sov Moscow State University.
80
О творчестве, пещерном искусстве и восприятии:
доксологический подход*
© 2019 г.
М. Розенгрен
Уппсальский университет, Box 632, 751 26 Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
E-mail: mats.rosengren@littvet.uu.se
Поступила 01.06.2018
© 2019 г. (перевод) Д.Н. Воробьев
Чувашский государственный педагогический университет им. И .Я . Яковлева,
Чебоксары, 428000, ул. К. Маркса, д. 38.
E-mail: vorobjov.d@gmail.com
Представляя доксологию как постфеноменологический способ реше-
ния эпистемических и перцептивных проблем, автор обращается
к истории открытия в конце XIX в. палеолитической наскальной жи-
вописи и к данным современных когнитивных наук. Восприятие и
познание не являются отражением объективной реальности, это –
особая творческая деятельность людей, обусловленная как биологиче-
скими, так и социокультурными факторами. Используя принципы
Э. Кассирера, Л. Флека, П. Бурдье и Ж. Деррида, автор дает очерк
сложного переплетения биологических и социальных факторов в про-
цессе восприятия, анализируя первые попытки осмысления так назы-
ваемого «пещерного искусства», и пытается дать ответ на вопрос, как
мы, люди, создаем новое знание, которое необходимо нам для жизни
в мире (см. также [Розенгрен 2012, 63–72]). Человеческое знание ни-
когда не было и не будет эпистемическим (в платоновском смысле),
так как у людей нет привилегированного доступа к реальности самой
по себе. Защищая эту идею, автор дает доксологическую трактовку те-
зиса Протагора о человекомерности (см. также: [Розенгрен 2014, 171 –
178]) и, по сути, говорит о необходимости отказаться от принципов
метафизической теории познания. Он предлагает исходить из наблю-
даемой ситуативности и изменчивости нашего знания.
Нижеследующий текст представляет собой сокращенный вариант ста-
тьи Rosengren, Mats “On Creation, Cave Art and Perception: a Doxologi-
cal Approach”, Thesis Eleven, 2007, Vol. 90, Iss. 1, pp. 79–96 . Перевод с
английского Д.Н . Воробьева. Печатается с разрешения автора.
Ключевые слова: Э. Кассирер, К. Касториадис, доксология, эпистемо-
логия, палеолитическое искусство, пещерное искусство, восприятие,
знание, творчество.
DOI: 10.31857/S004287440006036-4
Цитирование: Розенгрен М. О творчестве, пещерном искусстве и вос-
приятии: доксологический подход // Вопросы философии. 2019. No 8.
С. 80 –93.
*
Перевод выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
No 18-011 -00118 .
81
On Creation, Cave Art and Perception: a Doxological Approach*
†
© 2019 г.
Mats Rosengren
Uppsala universitet, Box 632, 751 26, Uppsala, Sweden.
E-mail: mats.rosengren@littvet.uu .se
Recieved 01.06.2018
Presenting doxology as a post-phenomenological way of approaching epis-
temic and perceptual questions, this article draws on the problematic of
“cave art” and contemporary cognitive science. Perception and cognition
are not reflections of objective reality; they are forms of crea-
tive productivity, specific for man and depending on both biological and so-
ciocultural factors. Departing from some of the main ideas of E. Cassirer,
L. Fleck, P. Bourdieu and J. Derrida, the author shows the complexities of
the interweaving of biological and social factors in the perception pro-
cess. Analyzing the first attempts at understanding paleolithic mural cave art,
the author tries to answer the question of how man creates new knowledge
needed for living in our human world (see also [Rosengren 2012, 63–72]).
A central tenet is that human knowledge has never been and will never be
epistemic (in the Platonic sense), since man does not have direct unmediat-
ed access to reality itself. Defending this idea, the author gives a doxological
interpretation of Protagoras’ homo-mensura thesis (see also: [Rosengren 2014,
171–178]) and, in fact, speaks of the need to abandon the principles of tra-
ditional and, as it were, metaphysical theory of knowledge. Instead, he pro-
poses to take a doxic point of departure and proceed from the observed sit-
uatedness and the variability of our knowledge.
The translation from English Mats Rosengren’s article “On Creation, Cave
Art and Perception: a Doxological Approach” (Thesis Eleven, 2007, Vol. 90,
Iss. 1, pp. 79–96) by Dmitry Vorobyov was published with the kind permis-
sion of the author.
Key words: E. Cassirer, C. Castoriadis, doxology, epistemology, paleolithic
art, cave art, perception, knowledge, creativity.
DOI: 10.31857/S004287440006036-4
Citation: Rosengren, Mats (2019) “On Creation, Cave Art and Perception:
a Doxological Approach”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 80 –93.
Общая наука о человеке, исследующая род Homo,
есть в первую очередь исследование условий
и форм человеческого творчества.
Castoriadis. La Montée de l'insignifiance
Через всю упомянутую в эпиграфе работу Корнелиус Касториадис настойчиво
проводит мысль, что постановка «вопроса о новом» неизбежна как в науке, так и в
повседневной жизни. Исследования последних пятидесяти лет в области эпистемоло-
гии, политической и социальной теории, а также гуманитарных наук в целом – с их
акцентом на социальном конструировании фактов, производстве (а не накоплении
или собирании) знаний, с выявлением внутренних и неизбежных связей между зна-
нием, властью и нашим «слишком человеческим» стремлением к истине – подтвер-
* The translation into Russian was carried out with the financial support of the Russian
Foundation for Basic Research in the framework of the scientific project No. 18 -011 -00118 .
82
ждают его правоту. Значительная часть современной науки многим представляется
бессмысленной именно потому, что не предполагает какой-то подлинно человече-
ской способности создавать новые «вещи», или «формы».
Таким образом, у нас есть веские причины идти по стопам Касториадиса, руко-
водствуясь мыслью о том, что люди сами творят факты, истину и собственные воз-
можности. Мы сами, в космогоническом и онтологическом смыслах, творим наш
мир, занимаясь (среди прочего) политикой, наукой, миром и войной. И к проблема-
тике творчества нужно обращаться не только в случае литературы, поэзии или искус-
ства, но и в случае такого (социального) занятия, как наука, имея в виду самую его
сердцевину. Как творчество возникает? Чего оно может достичь? Существуют ли
пределы наших творческих возможностей, и если да, то каковы они? Короче: как
понимать творчество, которым все мы занимаемся? Вопросы в самом деле масштаб-
ные. Анализируя обстоятельства открытия в конце XIX в. палеолитической наскаль-
ной живописи – а также возникших вслед за тем проблем когнитивного и перцеп-
тивного порядка, – я продемонстрирую несколько возможных направлений поиска
ответов на эти вопросы1
.
По последним оценкам, около 33000 лет тому назад в пещере, расположенной
в регионе, ныне именуемом Ардеш (Франция), жили люди. Освещая тьму факелами,
они наносили изображения на стены подземной галереи, которая в 1994 г. стала из -
вестна миру как пещера Шове. Здесь нашими предками были созданы картины
и образы, в которых мы распознаем львов, лошадей, мамонтов и носорогов, а также
отпечатки человеческих рук, отдельные или объединенные в группы. Цели этой
творческой деятельности эпохи палеолита, если верить обширной литературе по ар-
хеологии, навсегда останутся от нас скрыты (1). Таким образом, первые и в то же
время весьма сложные символические формы, известные человечеству, до сих пор
«не даются нам в руки». При том, что являются одними из самых осязаемых. Неуди-
вительно, что они будоражат воображение ученых, порождая множество объяснений,
интерпретаций и реинтерпретаций. Сочетание богатства материала и бедности кон-
текста, способного содействовать расшифровке так называемых «наскальных фресок»
палеолита, привело к появлению в прошлом столетии «попурри» из различных науч-
ных направлений.
Западная философия и «пещера» издавна идут рука об руку [Blumenberg 1988]. Ед-
ва возникнув, философия привлекла образ пещеры как метафору познавательной
деятельности человека. Так и получилось, что со времен платоновского «Государства»
главная цель западного человека – бежать от пещерных, «троглодитских», установок,
освободить сознание от теней, а также смутных видений, поднимающихся из глубо-
ких расщелин. Метафизика, такая, какой мы ее знаем, немыслима без образа пеще-
ры. Невозможна она также без образов внутри пещеры.
Взаимоотношения между этими тремя темами: творчество, пещерное искусство
и философия – станут, я надеюсь, более ясными в ходе дальнейшего рассуждения.
Однако, прежде чем решиться на «пещерную авантюру», позвольте мне сказать не-
сколько слов о моей эпистемологической позиции.
Доксология: постфеноменологическая установка
Я предпочитаю, исходя из существующей эпистемологической ситуации, называть
мой подход доксологическим, тем самым акцентируя внимание на том, что все знание
является человеческим знанием и, следовательно, никогда не было эпистемическим
(в платоновском смысле). Оно всегда и неминуемо является доксическим. Суть дан-
ного подхода я вижу в стремлении переосмыслить проблемы, связанные с «отноше-
нием к миру», в одной из постмодернистских перспектив, а именно постфеноме -
нологической.
Протагор, вероятно, первым в западной философской традиции занял доксологиче-
скую позицию в отношении возможности познания и знания. Следуя ей, он отдал
предпочтение человеческому несовершенству, ненадежному мнению и неизбежным
переменам в противовес «платоновским» неподвижности и достоверности. Его знаме-
83
нитое высказывание о человеке как мере всех вещей – фрагмент о человекомерности –
есть, возможно, наиболее радикальное выражение этой позиции. Чему мы можем
научиться у Протагора, исходя из упомянутого фрагмента, так это тому, что не следует
игнорировать «антропоморфность» знания. К примеру, наше знание всегда является
воплощенным (как часть нашего биологического существования); оно сформулировано
и/или хранится в некотором языке, институте или ритуале; применяется и использует-
ся одним или несколькими индивидами, всегда в тот или иной исторический момент,
в довольного размытых, неопределенных рамках постоянно меняющейся и, однако,
определенной социальной ситуации. Все эти факторы вместе детерминируют наше
знание, делают его частью колеблющейся, постоянно меняющейся и многослойной
доксы. У нас нет причин рассчитывать на обладание привилегированным доступом
к так называемой универсальной человеческой природе. Докса открывает реальность
не такой, какая она есть сама по себе, но такой, какой она представляется нам – суще-
ствам, которыми мы являемся в конкретных условиях и телах. Я предпочитаю видеть
в доксологии не учение о кажущемся или иллюзорном знании, но учение о знании
ситуативном, изменчивом и пристрастном, то есть учение о том, как мы фактически
создаем знание, в котором нуждаемся для жизни в нашей пещере, из которой нет вы-
хода (2). Таким образом, не случайно я выбрал пещерное искусство для доксологиче-
ского исследования многогранной природы человеческого творчества.
Пещерное искусство: возникновение археологической дисциплины
В 1880 г., когда испанский дворянин и археолог-любитель Марселлино де Саутуо-
ла решил обнародовать свое открытие, а именно обнаруженные им наскальные изоб-
ражения в пещере Альтамира, он ввел в археологию новое понятие – «палеолитиче-
ское пещерное искусство», то есть «искусство», создававшееся на стенах, а иногда на
полу пещеры (3). И, как и в случае с новаторским, выходящим за привычные рамки
творением, восприятие этого «искусства» с трудом давалось ученым конца XIX века.
Древность изображений, описанных де Саутуолой, была сразу же поставлена под со-
мнение. В результате горячих споров, развернувшихся на Антропологическом кон-
грессе в Лиссабоне 1880 г., один из ведущих французских ученых в этой области
Эмиль Картальяк отправил Эдуарда Гарле изучить пещеру Альтамира. Выводы Гарле
были однозначными: «Я полагаю, что увиденные мною прекрасные картины на своде
пещеры являются совсем недавними. Вполне вероятно, они могли быть сделаны
в интервале между двумя первыми посещениями этой пещеры г-ном Саутоулой, где-
то между 1875 и 1879 годами» (4). Основанием для этих выводов послужили следую-
щие наблюдения: «Вся копоть от дыма, поднимавшегося некогда над кострищем,
исчезла... почему же тогда остались изображения? Поскольку дневной свет не прони-
кает в место расположения картин, а создание изображений должно было занять
определенное время, они могли быть сделаны только в эпоху использования искус-
ственного освещения. Кроме того, краска легко снимается, она покрывает несколько
сталактитов, а получение ее, как показывает исследование, требует подготовки...
Но главное, в отличие от очень реалистично изображенной лани, первобытный бык,
которого пытался изобразить художник, только частично отображает черты этого жи-
вотного; следовательно, он никогда его не видел» (цит. по [Leroi-Gourhan 1992, 71]).
Этот отчет показывает, насколько пристрастным бывает научное мнение. Однако
сомнительно, чтобы выдвинутые аргументы – вопреки их, на первый взгляд, соот-
ветствию здравому смыслу того времени – были единственной и даже реальной при-
чиной отказа от выводов де Саутуолы. Чешский ученый Ян Базант утверждает, что,
вероятно, признание существования в древности столь сложных, высокотехничных
произведений расценивалось тогда подрывом теории эволюции, вследствие чего
главная цель первого издания репродукций палеолитических картин состояла в том,
чтобы показать, что они являются подделками [Bazant 2003].
Только в начале XX столетия – после нескольких очевидных и бесспорных нахо-
док палеолитического искусства: в пещере Ля Мут (1895 г.) и в пещерах Комбарел ь и
Фон-де-Гом (обе открыты в 1901 г.)
–
было признано, что все подобные изображе-
84
ния действительно датируются периодом палеолита. В 1902 г. Эмиль Картальяк
покаялся в своей ошибке относительно изображений пещеры Альтамира [Cartailhac
1902], что привело к посмертному признанию научных заслуг де Саутуолы, а новая дис-
циплина – исследование пещерного искусства – обрела свои основные черты в работах
аббата Анри Брейля. С тех пор она является частью гуманитарных наук, развиваясь вме-
сте с ними и воспроизводя большинство, если не все, их подходы и методы.
Я хотел бы остановиться на двух аспектах первоначального этапа изучения палео-
литического пещерного искусства, которые нахожу наиболее интригующими: во-
первых, на том факте, что само открытие де Саутуолы состоялось относительно
поздно, если принять во внимание, что пещеры с изображениями были известны и
посещались задолго до него; во-вторых, на том обстоятельстве, что выводы де Са-
утуолы с большим трудом принимались учеными того времени, хотя резные и графи-
ческие изображения на переносимых палеолитических объектах были известны, по
меньшей мере, с 1852 г., а официально признаны около 1860 г. [Roussot 1997, 17 –19].
Объяснение, предложенное Базантом, убедительно, но лишь отчасти. Он совершенно
прав, когда фокусируется на социальных аспектах создания научных фактов, но тем
самым он оставляет без внимания ключевые вопросы нашего восприятия, а также
разнообразные варианты его взаимодействия с социальными факторами (5).
Видя то, что можно увидеть
Здесь определенно имеет место проблема восприятия. Вопросу о подлинности ри-
сунков и картин предшествует не только вопрос о том, чту человек увидит в пеще-
рах, но также вопрос о том, что он сможет увидеть, если до того он не имел никако-
го представления о пещерном искусстве. Английский историк Пол Бан говорит о
том, что де Саутуола совершил «радикальный мыслительный скачок», когда
«...заметил в 1879 г., что фигуры бизонов, изображенные на потолке пещеры Альта-
мира... очень похожи по стилю на переносные изображения палеолитического искус-
ства» [Bahn 1998, 60]. Почему он говорит о «мыслительном скачке»? Неужели недо-
статочно было посмотреть чуть внимательнее?
Покрытые рисунками пещеры были обнаружены отнюдь не в середине или конце
XIX в. Многие из них были известны, а в ряде случаев и неоднократно посещались,
задолго до того. Например, изображения пещеры Нио, что в Пиренеях, определили
как древние еще в 1602 г., и к началу XIX в. пещера, со всеми ее сталактитами и ста-
лагмитами, была почти полностью разграблена [Clottes 1995, 41]. Что касается мест-
ных гидов, то, скорее всего, они замечали изображения в знаменитом ныне «Черном
салоне» пещеры Нио, который они тогда называли «музеем», хотя вряд ли считали их
доисторическими.
Аналогичную картину представляет история открытия Альтамиры. По преданию,
изображения бизонов на стене пещеры обнаружил не де Саутуола – он был целиком
сосредоточен на раскопках пола пещеры, – их обнаружила его маленькая дочь Мария,
которая заметила рисунки и воскликнула: «Папа, смотри, это бык!» [Bahn 1998, 58]. Это-
го оказалось достаточно, чтобы ее отец увидел изображения и связал их с хорошо из-
вестными в то время переносными предметами палеолитического искусства.
При всей скудости представленного нами материала он позволяет понять, что да-
же натренированный глаз ученого с трудом воспринимает что-либо сверх того, что
ожидает увидеть. Джон Клегг, говоря об австралийских доисторических наскальных
изображениях, описал это так: «Не зная, чего ожидать, почти невозможно увидеть то,
что есть. Необходимо определенное знакомство со стилем изображений, чтобы раз-
глядеть их: зачастую гид должен указать на мелкие детали, прежде чем неподготов-
ленный зритель сможет увидеть кенгуру. Но как только зрители “вгляделись”, поня-
ли, что искать, они быстро становятся экспертами в обнаружении предметов, на ко-
торые им даже не указали. Процесс обучения “всматриванию” подразумевает... по-
нимание того, какие условные обозначения используются» [Clegg 1991, 109–110] (6).
В истории открытия пещерного искусства ученые оказались подобны Клегговым
неподготовленным зрителям, которым нужно учиться, чтобы «увидеть» изображения,
85
в то время как местные гиды или же дети, не подверженные прочно укоренившимся
перцептивным установкам, способны воспринимать рисунки просто как рисунки.
Почему так происходит? Помимо уже упомянутых объяснений социального и науч-
ного характера, мы можем привлечь некоторые соображения, высказанные в работах
философа и когнитивиста Питера Йерденфорса. Говоря о так называемых «концеп-
туальных пространствах» (conceptual spaces), Йерденфорс показывает, как мы приме-
няем понятия в соответствии с «принципом наибольшего соответствия» (the principle
of closest match). Маленькие дети, чьи концептуальные пространства еще не очень
разнообразны, способны применять имеющиеся в их распоряжении понятия макси-
мально эффективным образом: так, например, маленький ребенок, впервые увидев-
ший лошадь, но уже знакомый с собакой, назовет лошадь собакой, и так будет до тех
пор пока он не научится называть ее иначе. Но почему бы не называть лошадь «лам-
пой» или «птичкой», или «папой», или каким-то другим словом, которое ребенок уже
знает? Если я правильно понимаю аргумент Йерденфорса, это можно объяснить
«принципом наибольшего соответствия»: например, в нашем случае наибольшее со-
ответствие дает характеристика «четырехногий» или, возможно, «пушистый», в зави-
симости от того, как понятие собаки было «растолковано» ребенку с самого начала
(«Посмотри на собаку, ты видишь? У нее четыре ноги») и какие характеристики бу-
дут при этом преобладающими (7).
Похоже, что часть объяснения того, почему ученым не удалось увидеть в пещерах
конкретные изображения столь легко, как это следовало ожидать, состоит в том, что
они имели слишком тонко настроенное и слишком диверсифицированное концепту-
альное пространство относительно артефактов, чтобы иметь возможность установить
связь между ним и представшими их взору объектами. Эти зрители просто не могли
найти «наибольшего соответствия» тому, что они видели. Хотя они, несомненно, ви-
дели изображения, они не воспринимали их как значимые в отношении своих нау ч-
ных интересов. Этот случай несколько похож на литературный пример, приведенный
Кэтрин З. Элгин и Нельсоном Гудменом в их работе, критикующей традиционную
концепцию знания как «оправданного, истинного убеждения»: способность Шерлока
Холмса улавливать и различать важные детали препятствует ему иметь набор требуе-
мых знаний, в то время как неспособность улавливать и различать детали дает Ват-
сону прямой доступ к набору общепринятых знаний. Выходит, что «...гоняясь за эру-
дицией, развиваешь бестолковость» [Goodman, Elgin 1988, 136].
Допустимо предположить, что аналогичный механизм мог сработать и в случае
«не-восприятия» изображений профессиональными археологами. Гиды, как и дочь де
Саутуолы Мария, находятся, я думаю, в позиции, которую можно назвать ватсонов-
ской. Их концептуальное пространство по отношению к искусству в целом, и палео-
литическому искусству в частности, не так детально разработано, как у ученых, что и
позволяет им находить соответствие, то есть видеть и воспринимать рисунки как ри-
сунки, не больше и не меньше.
Это показывает, что в данном случае научная подготовка создает невыгодную по-
зицию. Я бы сказал, что французское выражение formation (англ. shaping), обознача-
ющее образование, хорошо описывает то, что происходит в пределах научной дисци-
плины: потенциальный исследователь оформляется («образуется») в полноценного
ученого, не только приобретая необходимое знание или требуемую его дисциплиной
методологическую компетентность, но также и приобретая намного менее очевидные
и поэтому намного более неуловимые способы чувствовать и описывать мир, а также
способы быть в этом мире (8).
Сказанное может в некоторой степени объяснить, почему ученые медлили с вос-
приятием обнаруженных в пещерах изображений как палеолитических картин, но не
дает ответа на вопрос, что они видели. Как мы знаем из их записок и отчетов, изоб-
ражения они видели, и сейчас, по-видимому, сложилось устойчивое представление
о том, что именно они рассмотрели: изображения лошадей, бизонов, зубров, оленей
и так далее. Жан Клотт, один из ведущих современных французских ученых в этой
области, идет еще дальше и пишет: «Даже те, кто никогда не посещал расписанную
86
пещеру и у кого нет интереса к наскальной живописи, сразу же смогут понять, что
на фотографии – рисунки бизона или серны и это – репрезентация доисторическим
художником животных, хотя бы приблизительная и неточная» [Clottes 2001, 45].
Это очень спорное утверждение, и я вернусь к нему в конце статьи. Однако
в настоящий момент давайте согласимся с Клоттом в том, что там, в пещерах, несо-
мненно, есть нечто, что можно созерцать, воспринимать, интерпретировать, обсуж-
дать и описывать. Вопрос только в том, что это, и что мы можем об этом знать.
Нулевая степень восприятия?
Когда Джон Клегг говорит о «всматривании» в качестве предварительного условия
возможности воспринять насечки на поверхности скалы как изображение кенгуру,
он, кажется, предполагает некую нулевую степень перцепции – линии на скале вос-
принимаются именно как линии на скале. Этот уровень перцепции мог бы стать ос-
нованием для каждой последующей интерпретации, своего рода герменевтической
материнской горной породой любого понимания, объективным существованием как
таковым, полностью независимым от современных человеческих интересов или кон-
струкций. Но так ли это? Можем ли мы быть уверены, что существуют формы и об-
разования «сами по себе» и что они таковы, какими мы их воспринимаем? Не буду
сейчас давать детальный ответ на эти вопросы и попытаюсь изложить лишь ряд скеп-
тических соображений относительно мира «самого по себе» – мира, существующего
независимо от нашего способа его конструирования. Многие современные когнити-
висты признают, что мир, который мы знаем благодаря опыту, является конструкци-
ей. Вот что, к примеру, пишет Йерденфорс: «Мозг полон механизмов, которые
участвуют в обработке новой информации. В частности, есть много хорошо изучен-
ных примеров зрительного процесса. Так, когда мы смотрим на объект, мы воспри-
нимаем его контуры. Но если мы исследуем, как лучи света воздействуют на сетчат-
ку, мы не найдем ничего, что соответствует таким контурам, – они являются частью
информации, которая конструируется в ходе зрительного восприятия... у нас есть
много моделирующих программ, которые дополняют сигналы, предоставляемые
нашими органами чувств. Такое дополнение создает представления, с которыми
мышление работает, поэтому содержание нашего опыта состоит не только из того,
что предоставляют наши сенсорные рецепторы, но также и того, что уже воспроизве-
дено, т. е. пред-ставлено нашими моделирующими программами. Таким вот образом
наполняемые представления я называю восприятиями. Другими словами, восприятия
являются конструкциями того, что происходит вокруг нас» [Gärdenfors 2003, 31].
Поэтому, когда мы видим линии, пятна и точки на поверхности скалы, они явля-
ются конструкциями точно так же, как и изображения кенгуру. Различие, очевидно,
состоит в том, что восприятие линий, точек и пятен обусловлено нашим биологиче-
ским строением, тогда как чтобы узнать в них кенгуру, нам необходимо освоить
принятые способы репрезентации. Но это вряд ли дает нам право полагать, что пятна
и точки существуют объективно, а кенгуру – лишь как интерпретация. Нет, и кенгу-
ру, и точки являются интерпретациями (но чего?) или, иначе говоря, они имеют
одинаковый онтологический статус, являются частями нашего человеческого мира.
Чтобы сделать эту мысль немного более ясной, мы должны обратиться к проблеме
текста и образов.
О текстах и образах
Споры о том, какой способ идентифицировать, понимать и интерпретировать
смысл текстов и образов является наилучшим, были неотъемлемой частью з ападной
философии с момента ее возникновения. Оглядываясь в прошлое, мы можем уверен-
но сказать, что любому, кто пытается решить проблему текста и образа, не избежать
проблемы контекста (или ситуации, если использовать менее графематическое выра-
жение). Контекст неизбежно влияет на наше понимание и способ идентификации
текста и изображения. Тем не менее ни один контекст не может быть настолько
насыщенным, чтобы дать окончательный ответ на вопрос о том, что это значит, или
даже о том, что это такое. Как мы узнали благодаря работам Людвика Флека и дру-
87
гих, контексты, значения, а также приемы идентификации, постоянно меняются
[Fleck 1981 (1935)]. Попытка остановить это изменение и исчерпать все возможные
толкования обречена на провал, причем не из-за огромного количества вариантов,
а потому, что такой всеохватный шаг никогда не может быть сделан. Что-то неиз -
бежно проскальзывает сквозь сети. Всегда будет оставаться то, что бросит вызов лю-
бым «тоталитарным» амбициям объять необъятное. Изменения неизбежны, их не
остановить. Происходя быстро или незаметно, исподволь, они подрывают любую
попытку достичь определенности, то есть постоянства – будь то постоянство значе-
ния, идентичности или понимания [Derrida 1972].
Правда, действенность подобных рассуждений напрямую зависит от допущения,
что все имеет смысл не в себе и для себя, но только по отношению к человеку, язы-
ку, истории, обществу. Причем в конкретном месте и времени. Деррида использует
термин différance для обозначения постоянно происходящих неустранимых смещения
и различания, которые на самом деле конституируют наш опыт и делают возможным
смыслопорождение. Можно сказать, что мерой человека, даже до возникновения
намерения измерить что-либо, является différance. Причем différance я предлагаю ис-
пользовать в сочетании с радикальным воображением Касториадиса и символическим
запечатлением Кассирера2
, – все три термина, выделяют разные аспекты того, что я
считаю одним и тем же процессом [Rosengren 2007].
Мы не можем обойтись без контекстуализации. В некотором смысле, как одна-
жды сказал Деррида, есть только контексты – или, доксологически выражаясь, doxai
(доксы), мыслительные коллективы (thought collectives) и стили мышления. Никакие
точки зрения, никакие мнения или заявления не производятся в пустоте, они всегда
обусловлены тем, что было раньше. Мы создаем, производим и перепроизводим кон-
тексты, которые нам нужны в наших постоянных и, по-видимому, неизбежных по-
пытках смыслопорождения (9). Я хотел бы остановиться на двух аспектах смыслопо-
рождения. Первая моя ремарка касается важности контекста для опознания и пони-
мания текстов; вторая – важности контекста для опознания и понимания образов.
Текст
Связывая фрагмент текста с контекстом (лингвистическим, историческим, соци-
альным), мы можем составить мнение о его принадлежности (текст ли это?), его
смысле (как слова, взятые отдельно и вместе, понимаются в тексте?), его стиле (ре-
тро или новаторский?), его цели (текст ироничный или серьезный?), его содержании
(аллегорическое или буквальное?) и т.д. Короче, контекст позволяет нам сформиро-
вать мнение о смысле текста. Вот очень простой, но, надеюсь, иллюстративный при-
мер (10):
chat le chat to chat.
Одна и та же конфигурация или комбинация букв, одна и та же, если угодно, графе-
ма, может выступать в качестве двух разных текстов: французского, касающегося кошки,
или же английского о болтовне. Как мы понимаем, когда слово «chat» нужно читать по-
английски, а когда по-французски? Это вопрос принятия решения о том, к какому кон-
тексту относится «chat». В данном случае мы видим, что сигналом, достаточным для вы-
бора контекста, могут служить небольшие слова «le» или «to».
Из этого примера можно вывести, по крайней мере, следующее: текст всегда впи-
сан в язык (11). Графема “chat” не является текстом, и мы не можем ничего сказать о
ее значении или использовании, пока она не будет идентифицирована, то есть опо-
знана как вписанная в тот или иной язык. Однако за счет чего мы осуществляем эту
процедуру? Для некоторых графем – таких, например, как chat, cap, image или imagi-
nation – нам нужны контекстные маркеры, чтобы мы могли передать их смысл. Дру-
гие – такие как turnabout, fondé или öppna – более или менее идентифицируются
в своем значении людьми, способными распознавать языки, о которых идет речь
(в данном случае – английский, французский и шведский) (12). И, конечно, чем
сложнее графема, тем меньше будет возможных прочтений.
88
Образы
Что касается образов: разве тут все не по-другому? По крайней мере, если гово-
рить об образах не слишком сложных – миметичных и/или «фигуративных»? Разве
такие изображения уже не обладают собственным контекстом, и, следовательно,
смыслом и интерпретацией? Я в этом не уверен. Давайте взглянем на простой и хо-
рошо известный пример интерпретации изображения «утки-кролика», приведенный в
свое время Л. Витгенштейном (Philosophical Investigations, II, 11) (13).
Как мы должны интерпретировать фигуру, представленную в нем? Это рисунок
утки или кролика, или того и другого сразу? Как и с «chat» из предыдущего примера,
мы не сможем ответить, пока не рассмотрим фигуру в каком -то контексте . В нашем
случае контекст может быть вербальным – «Посмотри, здесь можно увидеть и утку, и
кролика», – дающим ключ к тому, как эта фигура может быть рассмотрена. Но вос-
принимающий может сделать свой собственный концептуализирующий ход: он (она)
смотрит на фигуру, сравнивает ее с фигурами, которые раньше видел(а), то есть
«сканирует» свою зрительную/концептуальную память, находит в ней какое-то «соот-
ветствие», добавляет или вычитает необходимое при попытке спроецировать его на
рисунок и удовлетворяется результатом. Обычно, эта деятельность по контекстуали-
зации, адаптации и корректировке настолько быстра и беспроблемна, что проходит
незаметно – фигура утки/кролика выявляется сразу же, и смысл фигуры (то, что она
репрезентирует) кажется чем-то, что было скрыто в самой фигуре. Вот почему мы
склонны не замечать свою собственную активность по конструированию того, что
видим, и полагаем, что восприятие – это то, что происходит с нами, а не то, что мы
делаем; мы склонны игнорировать активный характер восприятия/познания.
Тем не менее, как показал уже Эмпедокл, для восприятия нужно два рода света :
свет солнца и свет разума [Svenbro 2004]. Будучи неспособны предоставить концепту-
альный контекст (по меньшей мере) для репрезентации кролика и утки, мы не смо-
жем понять фигуру. Мы будем смотреть, но не видеть. Наши глаза будут регистриро-
вать фотоны, отражающиеся от фигуры, но мы не сможем понять, что они нам
несут, – они будут лишь «зрительным шумом». Таким образом, для того чтобы полу-
чить способность видеть нечто как нечто (а не просто регистрировать потоки фото-
нов), нам нужно определенным образом организовывать, оформлять наше зрительное
восприятие. Как пишет Йерденфорс, контуры «...являются частью информации, ко-
торая конструируется в ходе зрительного восприятия» [Gärdenfors 2003, 31] (14).
Я не уверен в том, какой термин был бы здесь наиболее уместен, поскольку каж-
дый из них уже подразумевает определенную теорию или представление о том, как
происходит организация восприятия – а именно с этим я и не хочу спешить. В силу
того, что наша эпистемическая ситуация, как в приведенном примере, так и в любом
другом, неисправимо имманентна (мы всегда находимся в положении того, кто видит
89
в двояком свете – как в свете разума, так и в свете солнца; иначе мы даже не смогли
бы распознать эпистемические проблемы, которые нас здесь занимают), мы должны
очень внимательно относиться к словам и понимать, какие скрытые и явные выводы
можно сделать из наших утверждений и слов. Например, когда я говорю о фотонах,
я не имею в виду то, из чего состоит свет в Реальности в ее традиционном, метафи-
зическом, не-доксологическом и общепринятом смысле. Я имею в виду следующее:
понимание реальности определяется доминирующим стилем мышления, – а потому
и доксой, частью которой я являюсь, – а в нем статус факта (в том значении «фак-
та», которое мы находим у Флека) имеет утверждение, что свет состоит из фотонов
(а возможно, даже более мелких и более неуловимых частиц и волн). Вот почему
можно (как я только что сделал) приводить аргументы, не покидая доксологической
позиции. Чтобы иметь шанс разглядеть в рисунке утку или кролика, нужно иметь
понятия утки и кролика, в противном случае мы вообще не увидим утки-кролика.
Однако так же, как нас можно научить читать, нас можно научить видеть и утку -
кролика. Мы способны приобрести понятия, необходимые для того, чтобы увидеть
в этой фигуре утку-кролика. И, как и в случае с текстом, чем более развернутой и
детализированной становится фигура, тем меньше возможностей для ее истолкова-
ния нам представится. Стоит только снабдить кролика «телом», и мы уже не сможем
видеть его как утку, а стоит добавить к рисунку контуры утки, и он не будет напоми-
нать нам о кролике.
Однако есть еще кое-что, о чем следует сказать относительно базового уровня
«точек и пятен», упоминавшегося ранее. До сих пор я не фокусировался на фигуре –
на линиях, в которых мы так легко видим кролика или утку. Нужно ли особое пред-
ставление о фигуре, прежде чем мы сможем увидеть фигуру в качестве фигуры той
или иной вещи? Или эта способность видеть разные метки как фигуры вписана
в наши тела – тела представителей вида homo sapiens? Судя по тому, что Йерденфорс
пишет в процитированном выше фрагменте, а также тому, что говорят такие мысли-
тели, как Кассирер, Касториадис и Деррида, могу предположить, что здесь мы имеем
дело с наиболее базовым, или простым, следствием того, что Касториадис называет
само-творением (auto-creation) человеческого мира, символическим запечатлением,
присущим нам как людям (как сказал бы Кассирер) (15). Кажется, мы способны ви-
деть в фигуре фигуру (понятно, не как «фигуру того или этого») без предварительно-
го овладения понятием фигуры. Мы люди, судя по всему, создаем наш мир из форм,
оттенков, запахов, касаний, цветов, задних фонов и передних планов: способность
миропорождения не вызывает сомнений. Это ставит нас в неизбежно имманентную
позицию – эпистемологически говоря, в мир, о котором мы можем говорить и кото-
рый мы можем воспринимать, будучи людьми, но не в мир объективный, или реаль-
ный (в обычном смысле слова).
Несмотря на это, нам нужно научиться развивать и использовать на практике
упомянутую способность. Будучи положена как универсальная, присущая всему виду,
она никоим образом не гарантирует универсальности основания и общего понима-
ния человеческого мира. Подобно тому как мы должны учиться декодировать визу-
альные представления, даже миметические и даже совсем простые, вроде «утки-
кролика», мы должны учиться читать тексты: «Глаз всегда древнее своей работы, он
одержим своим прошлым, старыми и новыми намеками ушей, носа, языка, пальцев,
сердца и мозга... Он не столько отражает, сколько овладевает или создает; и то, чем
он овладевает или что производит, он видит не голым, как предметы без признаков,
но как вещи, пищу, людей, врагов, звезды или орудия. Ничто не является ему обна-
женно или обнаженным» [Goodman 1976, 8].
Таким образом, тело, генетика и биологическое строение не гарантируют того, что
все представители homo sapiens воспринимают мир одинаково. Такая гарантия предо-
ставляется, когда это нужно, на следующем уровне, то есть на уровне указания, описа-
ния, обсуждения. Кроме того, сам базовый уровень точек и пятен является конструкцией
символизирующего мышления, также как те же точки и пятна. Или, если говорить более
грубо: эпистемические гарантии даются доксой, а не чем-то иным.
90
Продолжая Гудмена, я бы сказал, что мы видим изображения аналогично тому,
как читаем тексты. И в случае текстов, и в случае изображений, нам нужно уметь
отличать одну графему от другой, определять языковой (в самом широком смысле
этого слова) контекст, позволяющий наделить смыслом то, что мы читаем и видим.
Потому что тексты – повседневного языка, по крайней мере, – не похожи на то,
«о чем они», тогда как так называемые миметические репрезентации должны быть
похожи, что, однако, не меняет сути: сходство не есть нечто предзаданное, оно всегда
создается в рамках определенной ситуации, стиля мышления и доксы.
Вместо заключения
Итак, вернемся, наконец, в пещеры: что значит «всмотреться» и что здесь можно
увидеть и воспринять. Напомню приведенное выше высказывание Клотта о людях,
которые никогда не посещали Шове, но все же «...сразу же смогут понять, что на
фотографии – рисунки бизона или серны и это – репрезентация доисторическим
художником животных, хотя бы приблизительная и неточная». Данное высказывание
имеет смысл, если игнорировать замечания относительно нашей активной роли
в конструировании видимого и воспринимаемого – в пещерах или где-либо еще, –
как и саму деятельность, направленную на создание увиденного. Чтобы объяснить
тот факт, что изображения пещерного искусства четко опознаются как картины пе-
щерного искусства, Клотт справедливо указывает, что все мы («в нашей культуре»)
видели их воспроизведения в книгах и журналах, видели почтовые марки с зубрами
из пещеры Ласко, различные логотипы, сделанные по мотивам доисторического ис-
кусства и т.д. Да, все верно. Однако далее он утверждает: «Эти несколько смутные
воспоминания питают наше восприятие. Они позволяют нам создать категорию “до-
историческое искусство”, куда мы инстинктивно помещаем данные фигуры. Природа
изначально запрограммировала нас обращать внимание не на сходство, а, скорее, на
отсутствие сходства, обращать внимание, скорее, на необычное, чем привычное.
И если мы по-разному реагируем, столкнувшись с искусством ледникового периода,
то это потому, что оно представляет собой поразительное единство» [Clottes 2001, 45–
46] (Курсив мой. – М.Р .) .
Я нахожу аргументы Клотта вполне характерными для установки, которую
я назвал бы миметическим проклятием в исследованиях пещерного искусства в целом.
Я имею в виду стойкое убеждение, что «видеть что-то» значит «отражать» – ни боль-
ше, ни меньше. Это убеждение питает только что приведенное рассуждение Клотта:
каждый, кто видит наскальный рисунок, признает в нем изображение животного до-
историческим художником; это происходит потому, что у нас (в нашей культуре)
имеется такая категория восприятия, как первобытное искусство; мы инстинктивно
относим все проявления пещерного искусства к этой категории; наконец, поскольку
от природы мы стремимся фокусироваться на различиях, тот факт, что мы помещаем
наскальные изображения в одну и ту же категорию, уже дает основание ду мать,
что первобытное искусство имеет прочное внутреннее единство.
Аргументация Клотта не кажется мне убедительной, поскольку она представляет
классический пример предвосхищения основания. Конечно, объекты, которые мы
называем доисторическим искусством, будут демонстрировать сильное сходство
с вещами, которые мы относим к доисторическому искусству – но это не обязатель-
но является результатом подобия свойств самих объектов, так названных. Сходство
может быть результатом акта категоризации, сходством созданным, а не отраженным.
Вспомним про мысленный скачок де Саутуолы, который в конечном итоге позволил
увидеть и воспринять рисунки в пещерах. Несмотря на это, Клотт – и в данном
пункте его позиция типична для его дисциплины (16) – склонен думать об акте вос-
приятия как о непосредственной, интуитивной и (в первую очередь) миметической
реакции на объект и его свойства, он не испытывает каких -либо трудностей с преоб-
разованием социально и культурно произведенного единства («доисторическое ис-
кусство») в естественное, объективное и, следовательно, универсально действующее и
наблюдаемое сходство объектов. Структура его рассуждения насквозь платоническая.
91
Словно где-то в тени затаился Платон. Но это и не удивительно: мы, в конце кон-
цов, говорим об образах внутри пещеры.
Примечания
1. В данной статье мое внимание сосредоточено на пещерах Франции и Испании, хотя, ра-
зумеется, палеолитическое искусство не является исключительно европейским явлением – «раз-
витое» наскальное искусство найдено в Африке (Сахаре, Южная Африка и т. д.), Австралии,
Борнео и т. д. (см., напр.: [Anati 2003]).
2. Это краткое изложение концепции, которую я разрабатывал последние несколько лет,
в основном на шведском языке. См: [Rosengren 2002, Rosengren 2006], а также мои публикации
на английском языке [Rosengren 2004, Rosengren 2007].
3. Я поместил термин «искусство» в кавычки для того, чтобы выразить свое сомнение в кор-
ректности использования этого термина по отношению к рисункам, найденным в пещерах па-
леолита. Для дальнейшего обсуждения см.: [Rosengr en 2001].
4. Цитируется по тексту Введения Марка Гренана к книге Андре Леруа -Гурана [Leroi-
Gourhan 1992, 71].
5. Подробное обсуждение социальных аспектов создания научных фактов см. в [Rosengren
2002], особенно гл. 2 .
6. Несмотря на то, что его комментарии о восприятии довольно убедительны, я не разделяю
общий подход Клегга (что проблема только в словаре), а также вывод из него.
7. Йерденфорс обсуждал этот пример на семинаре на философском факультете Уппсальского
университета осенью 2003 года. См. также: [Gärdenfors 2000].
8. Я уже останавливался подробно на этой проблеме [Rosengren, 2002]. Для классического
описания того, как формируются ученые, см.: [Fleck 1981 (1935)], общие аспекты формирования
см.: [Bourdieu 1984; Bourdieu 1997].
9. Когда я утверждаю, что эти усилия неизбежны, я опираюсь одновременно на два подхода.
Первый восходит к Эрнсту Кассиреру [Cassirer 2000, 41] и его понятию символической формы
как реализации сознания, где «...дух существует только в силу того, что постоянно экстериори-
зирует себя» в различных символических формах; это означает, что нет сознания без смысла, он
всегда уже есть. Другой подход, на который я опираюсь, – это когнитивная наука: наше тело и
наши телесные органы, измеряющие наш мир задолго до того, как мы его осознаем, делают
сегменты мира ощутимыми для нас, а следовательно, и значимыми. См., напр.: [Gärdenfors
2003; Deacon 1997].
10. В основу моих рассуждений о текстах и контекстах, а также в отношении этого примера,
положены идеи Гудмена и Элгин [Goodman , Elgin 1988, 49–65].
11. Конечно, существует множество способов дать определение текста. В данном контексте
я следую определению Гудмена и Элгин.
12. Насколько я знаю, графемы turnabout, fondé и öppna не функционируют как тексты (в по-
нимании Гудмена, на которое я опир аюсь здесь) в любом языке, но я, конечно, могу ошибать-
ся. Тем не менее, даже если бы это было так, это не повредило бы моему аргументу, поскольку
я не сторонник абсолютных и непроницаемых границ между языками, а, скорее, сторонник
различий «используемых языков». Принадлежит слово какому-то языку – скажем, шведскому –
или не принадлежит, это вопрос того, как люди склонны говорить и писать по -шведски: его не
следует решать in abstracto . В лексике Флека, что считать языком, а что нет, определяется кол-
лективным стилем мышления, а также, конечно, доминирующей в группе доксой по соответ-
ствующему вопросу. Возьмем один конкретный пример: слово «approach» – это шведское слово
или английское? На мой взгляд, само по себе оно не относится к конкретному языку – но,
подобно слову «chat», как графема/фонема, оно может функционировать как в шведском, так и
в английском языке, и в разных контекстах обретать разные свойства. Но так было не всегда:
десять лет назад слово «approach» определенно функционировало не как шведское слово, но,
скорее, как английское, используемое в шведском контексте. А лет тридцать назад, я полагаю,
оно вообще не использовалось в шведском языке.
13. Витгенштейн нашел это изображение в книге [Jastrow 1901].
14. Полное описание процесса восприятия см. в [Gärdenfors 2003], в гл. 2 .
15. В связи с Касториадисом важно подчеркнуть, что он не объединяет воображаемое и сим-
волическое (см.: [Adams 2006], особенно гл. 4, где обсуждается соотношение воображаемого и
символического у Касториадиса).
16. Конечно, есть исключения из этого правила. Например, см.: [Schefer 1999; Jouary 2001].
Перевод с английского Д.Н. Воробьева
92
Комментарий переводчика
1 Эти вопросы более обстоятельно освещены в [Rosengren 2012].
2 Символическое запечатление – к такому выделению я прибегнул чтобы попытаться воссо-
здать потерявшиеся оттенки смысла понятия Symbolische Prägnanz, связанные с зачатием и чре-
ватостью. Кассирер пытается выразить этим понятием свойство имманентной структуры акта
сенсорного восприятия. Сам акт восприятия, по Ка ссиреру, «символически нагружен»: симво-
ли зация и «оформление» необходимы для восприятия и опыта. Prägnanz имеет множество кон-
нотаций и оттенков смысла: «меткость», «выразительность», «четкость», «точность», – но Кас-
сирер обращается и к латинскому значению praegnans – «беременная», «чреватый», «наполнен-
ный». Английский язык позволяет сохранить эти латинские отголоски в переводе кассиреров-
ского выражения – symbolic pregnance (ср.: pregn ancy – «беременность», «чреватость», «содержа-
тельность», «значительность»). Учитывая, что у Кассирера символизация есть метонимия жизни
и мышления, а также способ самовоспроизводства духа в символических формах, то «чрева-
тость» и «порождение» всплывают здесь неслучайно (подробнее см.: [Rosengren 2007]).
Primary Sources
Bourdieu, Pierre (1984) Homo Academicus, Seuil, Paris.
Bourdieu, Pierre (1997) Méditations pascaliennes, Seuil, Paris.
Cartailhac, Emile (1902) ‘Les cavernes ornées de dessins. La grotte d’Altamira, Espagne. “Mea cul-
pa” d’un sceptique’, L’Anthropologie, XIII, pp. 348 –352 .
Cassirer, Ernst (2000) The Logic of the Cultural Sciences, Yale University Press, New Haven.
Castoriadis, Cornelius (1996) La Montée de l'insignifiance, Seuil, Paris.
Derrida, Jacques (1972) “Signature, évenément, contexte”, in Jacques Derrida, Marges de la philos-
ophie. Minuit, Paris, pp. 365–393.
Jastrow, Joseph (1901) Fact and Fable in Psycholog, Macmillan&Co, London.
Ссылки – References in Russian
Розенгрен 2012 – Розенгрен М. К вопросу о doxa: эпистемология “новой риторики” // Во-
просы философии. 2012 . No 6. C . 63–72.
Розенгрен 2014 – Розенгрен М. Тезис Протагора: доксологический подход // Вопросы фило-
софии. 2014. No 5. C. 171–178.
References
Adams, Suzi (2006). Castoriadis and the Circle of Physis and Nomos: A Critical Interpretation of his
Philosophical Trajectory, PhD Thesis, La Trobe University, Melbourne.
Anati, Emanuel (2003) Aux origines de l'art, Librairie Arthème Fayard, Paris.
Bahn, Paul G. (1998) The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art, Cambridge University
Press, Cambridge.
Bazant, Jan (2003) Art Paléolithique? Unpublished paper presented at the seminar of François Lisar-
rague (7 May 2003), Centre Louis Gernet, EHESS, Paris.
Blumenberg, Hans (1988) Höhlenausgänge, Suhrkamp, Frankfurt-am -M.
Clegg, John (1991) “Pictures and Pictures of”, Rock Art and Prehistory, Paul Bahn and Andrée
Rosenfeld (eds.) Oxbow, Oxford, pp. 109–111 .
Clottes, Jean (1995) Les cavernes de Niaux: Art préhistorique en Ariège, Seuil, Paris.
Clottes, Jean (2001) Les chamanes de la préhistoire: texte intégral, polémique et
réponses, La Maison des Roches Editeur, Paris.
Deacon, Terence (1997) The Symbolic Species, W.W . Norton & Company, New York.
Fleck, Ludwick (1981) Genesis and Development of a Scientific Fact, University of Chicago Press,
Chicago.
Gärdenfors, Peter (2000) Conceptual Spaces: The Geometry of Thought, MIT Press, Cambridge, MA.
Gärdenfors, Peter (2003) How Homo Became Sapiens: On the Evolution of Thinking , Oxford Univer-
sity Press, Oxford.
Goodman, Nelson (1976) Languages of Art, Hackett, Indianapolis.
Goodman, Nelson, Elgin, Catherine Z. (1988) Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences,
Routledge, London.
Jouary, Jean-Paul (2001) L’art Paléolithique. Réflexions philosophiques, L’Harmattan, Paris.
Leroi -Gourhan, André (1992) L’art pariétal: langage de la préhistoire, Éditions Jérôme Millon,
Grenoble.
Rosengren, Mats (2001) “Grottbilder”, Res Publica. Litterär och teoretisk tidskrift, Vol. 53, pp. 104 –114.
Rosengren, Mats (2002) Doxologi – en essä om kunskap, Rhetor förlag, Åstorp.
93
Rosengren, Mats (2004) “Rhetoric – A Theory of Knowledge? Sketch for a Doxological Develop-
ment of Chaïm Perelman’s ‘New Rhetoric’”, Chaïm Perelman: direito, retórica e teoria da argumentação,
Eduardo Chagas Oliveira (ed.), Universidade de Santana, Brasil, pp. 159–176.
Rosengren, Mats (2005) “On Being Downstream”, The Past’s Presence: Essays on the Historicity of
Philosophical Thought, Södertörns högskola, Stockholm, pp. 203 –217 .
Rosengren, Mats (2006) För en dödlig, som ni vet, är största faran säkerhet – doxologiska essäer, Re-
torikförlaget, Åstorp.
Rosengren, Mats (2007) “Radical Imagination and Symbolic Pregnance: A Castoriadis Cassirer
Connection”, Embodiment in Cognition and Culture, John Michael Krois et al. (eds.) John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam, pp. 261–271 .
Rosengren, Mats (2012) Cave Art, Perception and Knowledge, Palgrave Macmillan, London.
Rosengren, Mats (2012) “On Doxa – the Epistemology of the New Rhetoric”, Voprosy Filosofii,
Vol. 6 (2012), pp. 63–72 (in Russian).
Rosengren, Mats (2014) “Protagoras Homo-Mensura Set: Doxological Perspective”, Voprosy Filoso-
fii, Vol. 5 (2014), pp. 171–178 (in Russian).
Roussot, Alain (1997) L’art préhistorique, Éditions Sud Ouest, Bordeaux.
Schefer, Jean Louis (1999) Questions d'art paléolithique, P.O.L ., Paris.
Svenbro, Jesper (2004) “Voir en voyant. La perception visuelle chez Empédocle”, Métis: Anthropologie des
mondes grecs anciens, Vol. 2, pp. 47 –70 .
Сведения об авторе
РОЗЕНГРЕН, Матс –
профессор Кафедры риторики Уппсальско-
го университета (Уппсала, Швеция).
Сведения о переводчике
ВОРОБЬЕВ Дмитрий Николаевич –
кандидат философских наук, доцент Ка-
федры педагогики, психологии и филосо-
фии Чувашского государственного педаго-
гического университета им. И .Я . Яковлева
Author’s information
Mats ROSENGREN –
PhD in philosophy, professor of Rhetoric at the
Department of Literature, Uppsala University.
Translator’s Imformation
VOROBYOV Dmitry N. –
CSc in philosophy, assistant professor of the
Department of pedagogy, psychology and phi-
losophy of the Chuvash State Pedagogical
University I.Ya. Yakovlev named.
Комментарий переводчика
1Этивопросыболееобстоятельноосвещеныв[Rosengren2012].
2Символическое запечатление–ктакомувыделению яприбегнулчтобыпопытатьсявоссоздатьпотерявшиесяоттенки смысла понятияSymbolischePrдgnanz,связанные сзачатием ичреватостью.Кассирерпытаетсявыразитьэтим понятием свойствоимманентнойструктурыактасенсорноговосприятия.Сам акт восприятия,по Кассиреру,«символически нагружен»:символизацияи«оформление» необходимыдлявосприятияиопыта.Prдgnanz имеет множествоконнотацийиоттенковсмысла:«меткость»,«выразительность»,«четкость»,«точность», –но Кассиреробращаетсяик латинскомузначениюpraegnans –«беременная»,«чреватый»,«наполненный».Английский языкпозволяет сохранитьэти латинские отголоскивпереводе
кассиреровскоговыражения–symbolic pregnance(ср.:pregnancy–«беременность»,«чреватость»,«содержательность»,«значительность»).Учитывая,чтоуКассирерасимволизацияестьметонимияжизниимышления,а также способсамовоспроизводства духа всимволическихформах,то«чреватость» и«порождение» всплывают здесьнеслучайно(подробнеесм.:[Rosengren2007]).
94
Бунтовщики и флибустьеры: проблематика политической
борьбы в «Бесах» Ф.М. Достоевского
© 2019 г.
Р.В. Гуляев
Школа философии Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», Москва, 105066, Старая Басманная ул., д. 21/4.
E-mail: rgulyaev@gmail.com
Поступила 21.10.18
Статья посвящена анализу проблематики политического конфликта
в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». Второстепенная сюжетная линия
романа содержит парадоксальное обозначение одной из сторон граж-
данского конфликта – «флибустьеры». Настолько конкретный термин
дает возможность дополнить представления о собственно политиче-
ском содержании романа Достоевского, которое традиционно связы-
вается с проблематикой революции и нигилизма. С причислением
политического оппонента к морским разбойникам противостояние
выходит на уровень борьбы двух пространственно-правовых категорий,
суши против моря, т.е . как законного образа жизни против террито-
рии, не предполагающей иного регулирования, кроме права силы.
Борьба против «флибустьеров» предполагает вытеснение оппонента за
пределы человеческого общества, наделение его статусом не просто
преступника, но «врага рода человеческого». Рутинность ситуации,
в которой проявляется этот уровень конфликта, и равнодушное от-
ношение к нему героев романа позволяют говорить о Достоевском не
только как о пророке общественных потрясений ХХ века, но как о
хроникере уже произошедшей катастрофы, оставшейся незамеченной
современниками.
Ключевые слова: Ф. Достоевский, К. Шмитт, политика, конфликт,
пространство.
DOI: 10.31857/S004287440006037-5
Цитирование: Гуляев Р.В. Бунтовщики и флибустьеры: проблематика
политической борьбы в «Бесах» Ф.М . Достоевского // Вопросы фило-
софии. 2019. No 8. С.94–103 .
95
Rebels and Freebooters: Political Struggle in ‘Demons’
by Dostoevsky
© 2019 г.
Roman V. Gulyaev
School of Philosophy, National Research University Higher School of Economics, 21/4,
Staraya Basmannaya str., Moscow, 105066, Russian Federation
E-mail: rgulyaev@gmail.com
Received 21.10 .2018
The article is devoted to the analysis of political conflict in novel ‘Demons’ by
Fyodor Dostoevsky. Its secondary plot, describing a civil conflict, includes unu-
sual designation of political opponents as ‘freebooters’. This particular term al-
lows to expand traditional view on political problematics of this novel, which is
usually confined to concepts of revolution and nihilism. Identification of politi-
cal opponent as a pirate raises the conflict to a new level. From now on this is
a struggle between land and sea, i.e. space of law against space of outlawry,
where might makes right. Freebooter is banished from human society, he is not
an ordinary criminal, but a hostis humani generis, enemy of mankind. Dostoev-
sky’s description of an ordinary conflict being escalated to this level allows to
regard him not only as a prophet of future disasters, but as a chronicler of a ca-
tastrophe which had already taken place yet remained unnoticed.
Key words: Fyodor Dostoevsky, Carl Schmitt, politics, conflict, outlawry,
space.
DOI: 10.31857/S004287440006037-5
Citation: Gulyaev, Roman V. (2019) ‘Rebels and Freebooters: Political
Struggle in ‘Demons’ by Dostoevsky’, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019),
pp. 94–103 .
Трактовка романа Ф.М . Достоевского «Бесы» в свете будущих революций 1917 г.
стала в течение ХХ в. общим местом в русской культуре. Образы Петра Верховенско-
го и его сообщников, вероятно, оказались более значимыми для понимания мотива-
ции революционеров и причин их успеха, чем реальная история убийства студента
Иванова и последующего процесса над нечаевцами. Апокрифическая история о нар-
коме Луначарском, то ли давшем, то ли получившем совет украсить памятник Досто-
евскому надписью «От благодарных бесов» показывает сложность отношения к писа-
телю со стороны самих победителей. В .К. Кантор указывает на ограниченность тако-
го подхода: Достоевский сводится в нем к роли предсказателя, которому не повери-
ли, а содержательная часть предсказания отведена на второй план самими последу-
ющими событиями [Кантор 2010, 280 –282] 1
.
Чтобы этого избежать, следует согла-
ситься с С.Н . Булгаковым, который подразумевал трактовку романа как духовного,
а не политического исследования конфликтов, наполняющих российское общество:
«Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится
над ней приговор. Здесь иное, высшее судьбище, здесь состязаются не большевики
и меньшевики, не эсдеки и эсеры, не черносотенцы и кадеты. Нет, здесь “Бог с дья-
волом борется, а поле битвы – сердца людей”, и потому-то трагедия «Бесы» имеет не
только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе такое
зерно бессмертной жизни, луч немеркнущей истины, какие имеют все великие
и подлинные трагедии, тоже берущие для себя форму из исторически ограниченной
среды, из определенной эпохи» [Булгаков 1996, 490].
96
Однако и при таком подходе Достоевского сложно рассматривать в качестве по-
литического мыслителя. «В эпоху, когда любые рассуждения о человеке, обществе
и истории исходили из безусловного признания в качестве отправной точки авто-
номного секулярного разума, Достоевский дерзнул заявить, что подобные исследова-
ния обязаны восходить к Христу – ведь ни один личный или политический порядок
не способен сохраняться без основания на всеобщей, самоотверженной любви»
[Walsh 2013, 9], – отмечает современный американский исследователь Д. Уолш. Он
указывает и на другие трудности в реконструкции политико-теоретических взглядов
Достоевского. Метод Достоевского-романиста – изображать, а не давать дискурсив-
ное описание, в этом существенное отличие романов от «Дневника писателя»; сво-
димы ли эти позиции к одной, в которой представлены «подлинные» взгляды автора
на политику,– отдельный вопрос. Во всяком случае можно утверждать, что никогда
интересы Достоевского не ограничивались одной областью политического, без
стремления выявить фундаментальные черты человеческой природы. Вместе с тем в
данной статье предпринимается попытка выделить в многоуровневой проблематике
романа «Бесы» один собственно политический сюжет, до сих пор не удостаивавший-
ся должного внимания исследователей. И если попыток связать роман с историей
последовавшей революции существует достаточно много, то о свершившейся ката-
строфе, завуалированно изображенной в романе, практически ничего не сказано.
«Тенденциозность» романа и обилие сатирических, но вполне узнаваемых портре-
тов литераторов и публицистов, революционеров и представителей власти оставляют
на периферии исследовательского внимания главу, в которой, возможно, содержится
самая глубокая политическая проблема всего произведения. Речь идет о главе «Фли-
бустьеры. Роковое утро», завершающей вторую часть романа. В ней Степан Трофи-
мович в сопровождении Хроникера направляется в губернаторскую резиденцию
за объяснениями по поводу прошедшего у него обыска; по дороге они видят, как
разгоняют и секут делегацию рабочих, пришедших жаловаться на несправедливость
фабриканта. Далее старший Верховенский имеет скомканный разговор с губернато-
ром, соглашается выступить на балу, а буквально в предпоследнем абзаце главы
Ставрогин сообщает Лизе Тушиной и всем присутствующим о своем браке с Марьей
Тимофеевной Лебядкиной. Исходя из хронологической таблицы [Сараскина 1990,
55], все события главы укладываются в двухчасовой промежуток утра 29 сентября.
Название главы заставляет ожидать кульминационного поворота в действии; тем по-
разительнее, что практически ни одно из этих событий не оказывает существенного
влияния на развитие той или иной сюжетной линии романа. Собрание у «наших», на
котором Шатов скомпрометировал себя, уже состоялось. Ставрогин выслушал идею
Верховенского о предназначенной ему роли «Иван-Царевича» и отказался от участия.
Федька Каторжный уже получил задаток за убийство Лебядкиных. Получается, что
события собственно «рокового утра» оказываются роковыми лишь для двоих героев:
фон Лембке и Лизы Тушиной2 и факультативны для дальнейшего развития сюжета.
Более того, сам Достоевский впоследствии называл множественность второстепенных
линий в «Бесах» своей ошибкой3
, хотя и без уточнений, какие именно «недосказан-
ные» происшествия имелись в виду.
Примечания к изданию 1957 г. указывают в качестве прообраза «шпигулинской
истории» волнения на мануфактуре Штиглица в 1870 г. , с уточнением, что Достоев-
ский исказил события одной из первых массовых стачек в истории России, изобра-
зив настроения рабочих более миролюбивыми и «верноподданническими», чем они
были в реальности [Евнин 1957, 750]. В контексте интересующей нас проблематики,
однако, более важным представляется не исторический контекст, а анализ того, как
этот конфликт представлен в самом тексте романа. Очень точное замечание делает
американская исследовательница Линн Эллен Патик: несмотря на то, что хроникер
Г-в физически присутствует на площади в момент наказания рабочих и ему хватает
выдержки засвидетельствовать несправедливость происходящего, от конкретного
описания он «живо уклоняется» [Patyk 2017, 137]. Фактически впервые в романе Хрони-
кер оказывается «ненадежным свидетелем» – он не может назвать даже точное число
97
пострадавших: «...наказаны, впрочем, были всего двое, не думаю, чтобы даже трое; на
этом настаиваю» [Достоевский 1974, 342]. Еще поразительнее его невнимательность вы-
глядит, если вспомнить, что события на площади буквально повторяют главный страх
Степана Трофимовича, которым тот делится накануне: «...увидят, что ничего не сделал, и
высекут» [Достоевский 1974, 333]. В тот раз Хроникер отмахивается раздраженной ре-
пликой («Басни! Старые басни»), но когда воображаемое насилие становится реально-
стью, предпочитает обойти его стороной, переключаясь на рассказ о вымышленной бога-
деленке Авдотье Петровне Тарапыгиной, якобы схваченной и высеченной за неосторож-
ную реплику. Объектом сатиры Достоевского, по мнению Патик, в этом случае оказыва-
ется общественное мнение, для которого сентиментальное отношение к потенциальным
жертвам произвола перерастает в потребность их выдумывать; однако этой сатирой зат-
мевается реальное насилие и несправедливость. Вымышленная Тарапыгина в рассказе
Хроникера затмевает реальных рабочих, и, разоблачив ее историю, Г-в совершенно утра-
чивает интерес4 к пострадавшим «бунтовщикам» (имя одного из них, Фомки Завьялова,
случайно всплывет потом на последнем собрании у «наших»). Для Патик этот сюжет
открывает возможность рассуждений о соотношении физического и символического
насилия в российском политическом терроре XIX в. (ее основная тема), но наиболее
радикальный акт символического насилия, присутствующий в этой сцене, она, кажется,
упускает из виду.
Деталь, на которую исследователи до сих пор не обратили должного внимания, –
роль имени злополучного пристава и получившейся связки «Флибустьеров – флибу-
стьеры». Так, один из авторов начала ХХ в. предполагает, что в разгоряченном со-
знании фон Лембке «флибустьеры» смешались с «фурьеристами» и «фаланстерами»,
и подытоживает: «Достоевский без малейшей натяжки создал поразительную картину
человека власть имущего, с полевыми цветками в руках распоряжающегося поркой
невинных людей на публичной площади, среди негодующей и одобряющей публики.
Что еще более оттеняет реальность и выразительность этой картины, это зависимость
кутерьмы от простой случайности: не будь фамилия частного пристава Флибустьеров,
вероятно, не было бы и такого трагического конца» [Чиж 1912, 12]. Тот факт, что
«случайность» запрограммирована5 самим Достоевским, предметом анализа не стано-
вится, а смешение флибустьеров и фурьеристов опровергается словами Лембке про
«морской наскок». Иную трактовку предлагает современный исследователь С.Б. Рас-
садин: «А то, что в шутовской фамилии «Флибустьеров», данной автором приставу,
губернатор фон Лембке расслышал страшное «флибустьеры» и заподозрил бунт? Это
словно взято — ну, скажем , из сухово-кобылинской «Смерти Тарелкина», построен-
ной на подобной игре, на обмолвках и превратном толковании слов (когда из про-
стодушного сообщения, что герой по малой нужде «оборачивался в стену», вырастает
легенда об «оборотне»), а ведь Сухово-Кобылин и писал не что иное, как фарс» [Рас-
садин 2001, 123]. И хотя у персонажей Достоевского действительно встречаются «шу-
товские» фамилии (например, вспыльчивый поручик Порох из «Преступления и
наказания» или учитель Дарданелов из «Братьев Карамазовых», забывший имя осно-
вателя Трои, не считая более ранних сатирических произведений), ни одно из них не
оказывает столь непосредственного действия на происходящее.
Более содержательным представляется подход Т.А. Касаткиной, согласно которо-
му выбранное Достоевским имя героя «...организ ует второй – символический, а не
событийный – сюжет произведения... Зачастую имя – самый очевидный путь к
нахождению ключевого текста или «ключевой традиции» произведения» [Касаткина
2012, 376]. Касаткина предлагает обращать внимание не только на фамилию, но и на
имя с отчеством героя; Флибустьерова зовут Василий Иванович, и, помимо букваль-
ного перевода – «царственный», эти имена носили девять московских государей и
царей. Хроникер с иронией относится к «восторженно-административной личности»
Флибустьерова, но в его беспрекословной верности субординации, в той ослепляю-
щей ярости, с которой пристав на площади набрасывается на Степана Трофимовича,
чувствуется нечто фундаментальное, отсылающее не к профессионально-
бесстрастной имперской бюрократии, а к лицу власти допетровской Руси. В этом его
98
видимое отличие от Андрея Антоновича фон Лембке, имя которого среди российских
правителей отсутствует, а власть «...по сути своей случайная, выморочная и по-
своему самозваная... [и] начинает притворяться законной, естественной и призван-
ной» [Сараскина 1990, 267]. И если для фон Лембке крик и гнев – ненормальное
состояние, свидетельство приближающегося срыва, то для Флибустьерова, очевидно,
испытанный и нормальный способ реализации своей власти.
Однако еще большего внимания заслуживает придуманная Достоевским фамилия.
Слово «флибустьер», с незначительными изменениями вошедшее в XVI–XVII вв.
в основные европейские языки из нидерландского vrijbuiter, буквально – «вольный
добытчик», т.е. пират, поражает своей неуместностью, и географической, и историче-
ской. Место действия романа прямо не называется, но российский губернский город
1870-х мало чем напоминает Вест-Индию и иные флибустьерские регионы. Однако
земля и море – не только географические понятия; они задают два принципиально
разных типа отношений между людьми, определяют характер хозяйства, конфликтов
и власти, распространенных на данной территории. Наиболее подробно эти различия
уже в ХХ веке излагает немецкий юрист и политический теоретик Карл Шмитт
в работе «Номос земли».
Земля, по Шмитту 6 , является изначальным и естественным источником права,
причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, она воздает «по справедливости»
за вложенные труды: обработанная почва приносит больший урожай, посевы дают
всходы и т.д. Во-вторых, на вспаханной и обработанной почве легко провести види-
мые линии границ, разделить ее на определенные участки и установить правила
пользования, отделить свое от чужого. Наконец, земля в буквальном смысле состав-
ляет надежное основание для стен, домов, межевых камней, т.е . всего, что придает
зримые формы понятиям семьи, соседства, собственности и власти, отделяет челове-
ческий мир от природного. История всякого оседлого народа отсчитывается от акта
захвата участка земли: частная и общинная собственность, войны с теми, кто оспа-
ривает эту территорию, установление правил и законов – все логически развивается
из этого первоначального события.
В море, напротив, нет подобного соединения пространства и права: морские бо-
гатства добываются иначе, чем сельскохозяйственный урожай, успех в большей сте-
пени зависит от случая, чем от распланированных усилий. В море нет видимых гра-
ниц, проходящие корабли не оставляют за собой малейших следов, море свободно и
не может стать основанием для установленного человеком порядка. Эта первона-
чальная свобода моря подразумевает лишь свободу вольной добычи, и те, кто дерза-
ют воспользоваться этой свободой, получают имя пиратов – от греческого peiran
«пробовать, пытаться, отваживаться». Но для греков пират – скорее искатель при-
ключений, чем преступник; аргонавты, как и гомеровские герои, не нашли бы в этом
названии ничего зазорного. Еще в XVI в. итальянский юрист Альциат высказывает,
видимо, общепринятую для эпохи мысль, что «...пират виновен в меньшей степени
[чем сухопутный разбойник], потому что он совершает свои преступления на море»
[Шмитт 2008, 223] – там законности и безопасности не подразумевается, в отличие
от суши. Сухопутные же народы испытывают по отношению к морю «благочестивый
страх»: так, Шмитт вспоминает четвертую эклогу Вергилия, который предрекает, что
при наступлении золотого века «...море покинут гребцы, и плавучие сосны не бу-
дут // Мену товаров вести — все всюду земля обеспечит»7
.
В главе 21 «Откровения
Иоанна Богослова» «...прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».
Все меняется с момента, когда в «завоевании моря» на смену отдельным народам
(грекам, карфагенянам, норманнам, ганзейским немцам), осваивавшим ограничен-
ные части Мирового океана, приходят великие морские державы, «талласократии»
XVI–XVII вв. Открытие Нового света впервые ведет к включению всей Земли в про-
екты господства, конкурирующие между собой. Империя Габсбургов, как и все им-
перии, претендующая на политическое верховенство в масштабе всего известного
мира, сталкивается с неожиданными источниками сопротивления, один из кото-
рых – английские пираты. Нападая по всему миру на испанские суда и колонии,
99
«...они сделали бедную страну богатой; но они, что гораздо важнее, породили расу
жестких и твердых духом моряков (a race of tough seamen), которая спасла Англию от
нужды, повергла ее злейшего врага и превратила Англию в гордую владычицу морей»
[Шмитт 2008, 220], – цитирует Шмитт классика истории пиратства 8
.
Флибустьер,
получивший каперский патент, стирает границы между индивидом и государством,
частной выгодой и общественным интересом, войной и миром. Он привык не только
к преследованию со стороны врагов, но и к тому, что собственное правительство мо-
жет от него отречься или отдать под суд, когда его служба станет не нужна. В итоге
«...принцип, в соответствии с которым океаны принадлежат всем, пираты и каперы
XVI–XVII веков истолковали как освобождение от моральных и юридических огра-
ничений» [Шмитт 2008, 222].
Однако победа над старыми сухопутными державами ведет к дальнейшему пере-
осмыслению отношений моря и суши. Англо-голландские войны XVII века, Война за
испанское наследство 1701–1714 гг. шли между морскими государствами, простран-
ством борьбы стал весь Мировой океан. Когда столкновения оказалось невозможным
разрешить быстро и однозначно по «праву сильного», стала очевидной необходи-
мость договариваться и ограничивать возможности морской войны. Море перестало
рассматриваться как нечто в принципе неподвластное человеческому праву; Утрехт-
ский мир и другие договоры стремятся регулировать морские пространства так же,
как сушу. Флибустьерам не остается места в этом новом миропорядке, они оконча-
тельно лишаются государственной поддержки и превращаются в уголовных преступ-
ников. И поскольку их действия теперь представляют опасность для судов всех стран,
независимо от подданства, окончательный итог закономерен: «...пират был объявлен
врагом рода человеческого, hostis humani generis. Это означает, что властители мор-
ских империй изгнали его, объявили вне закона, обрекли на бесправие и бездом-
ность» [Шмитт 2008, 11].
Примечательно, что в «Бесах» есть герой, довольно близко подходящий под опи-
сание «отважного» пирата. Это Федька Каторжный, который, несмотря на род своих
занятий, описывается Хроникером с довольно явной симпатией и в целом не вызы-
вает у остальных героев романа какого-либо отторжения. Хотя, вероятно, именно
Федька подразумевается под «здешним народишком», «неуверенность» в котором
выражает [Достоевский 1974, 184] камердинер Алексей Егорович, напутствуя Ставро-
гина перед ночным путешествием, репутация убийцы и церковного вора не препят-
ствует преимущественно сочувственному к нему отношению. Преступления Федьки
не отделяются, начиная с Петра Верховенского, который впервые упоминает об этой
«очень замечательной личности» [Достоевский 1974, 181], от истории его продажи в
солдаты за карточные долги Степана Трофимовича. На ироничное замечание того же
Верховенского-младшего «Да вы его в христианскую веру обратите!» Кириллов отве-
чает однозначно: «Он и то христианской веры»9 [Достоевский 1974, 292].
Совсем иной случай представляют собой «флибустьеры поневоле», рабочие Шпи-
гулинской фабрики. Лишь некоторые из них решаются, подобно Федьке, «переме-
нить участь» и пойти по пути профессиональных преступников. Судьба остальных
оказывается за рамками рассказа, однако по большому счету ключевое событие их
истории уже произошло. Легкость, с которой фон Лембке определил их разом во
«флибустьеры», можно списать на его психическое расстройство. Но его распоряже-
ния лишь санкционировали «суровую хлопотливую заботу» полиции, которая с само-
го начала действовала так, как если бы имела дело с реальным бунтом; и тем более
обескураживающим оказывается равнодушие Хроникера и остальных горожан, кото-
рые не проявляют ни малейшей солидарности по отношению к несправедливо нака-
занным рабочим и занимаются лишь пересказом слухов, дополняющих историю фан-
тастическими подробностями и размывающих изначально предельно ясную картину
конфликта. Абсурдные слова фон Лембке оказываются максимально точным обозна-
чением стремительных перемен в статусе шпигулинских рабочих: их делегацию
разгоняют силой, их моментально подозревают в поджоге города (в реальности
устроенного Федькой), они превращаются если не в открытых врагов общества, то в
100
источник некоторой смутной угрозы. И если финал их истории в романе остается
невыясненным, то сама проблематика земли (в первую очередь как пространства ми-
ра и законности) и дикого, неупорядоченного пространства, противоположного ей,
встречается и в более поздних текстах Достоевского.
Д.С. Мережковский считал ключевым эпизодом, воплотившим отношение Достоев-
ского к революции в России, фрагмент из «Дневника писателя» от февраля 1876 г., где
описывался случай из детства. Гуляя по лесу, маленький Федя услышал чей-то крик
«Волк бежит!» и в ужасе сам бросился прочь. Выбежав из леса, он наткнулся на пахав-
шего землю крепостного мужика Марея, который остановил работу, с трудом успокоил
его и, перекрестив на прощание запачканной в земле рукой, отпустил с напутствием:
«Уж я тебя волку не дам!» [Достоевский 1981, 48]. «В чем же, собственно, сила мужика
Марея, спасающая от «волка», от зверя-антихриста?» – спрашивает Мережковский и
сам же отвечает: «В святой Божией земле, в сырой земле-матери, которая там, на по-
следней черте горизонта соединяется со святым Божиим небом. «Христианин — кре-
стьянин», — объясняет сам Достоевский... Сила мужика Марея в земле; но земля куда-
то уходит от него... Земля залита кровью, а небо черно или красно от зарева пожаров.
Христианство, уйдя на небо, покинуло землю; и крестьянство, отчаявшись в правде
земной, готово отчаяться и в правде небесной» [Мережковский 1906, 7]. По мнению
Мережковского, этот эпизод – не только прообраз всей религиозной жизни Достоев-
ского, веры в «народ-богоносец», но и корень его главного заблуждения. Достоевский
путает возможное с действительным, видит идеальных крестьян-христиан на месте ре-
альных – темных, озлобленных творящейся несправедливостью, отчаявшихся решить
земельный вопрос. На первый взгляд, к проблематике «Бесов» этот сюжет отношения
не имеет – ни шпигулинские рабочие, ни другие представители народа не участвуют в
замыслах Верховенского; обратного также не происходит – никого от него они не за-
щищают; до таких частностей, как земельный вопрос или разрешение конфликтов на
производстве, мысль «бесов» вообще не доходит. Однако если под «землей» понимать
все множество значений, которыми она наделяется в «Номосе земли», «мужик Марей»
очевидным образом указывает на то, что именно подвергается разрушению в «Бесах».
Крепостной мужик, с почти «материнской» нежностью успокаивающий мальчика, его
резонерство («...какой волк, померещилось; какому тут волку быть?» [Достоевский
1981, 48]), размеренный спокойный труд, который начался до неожиданной встречи и
непременно продолжится после, само открытое пространство обработанного поля –
все это создает впечатление понятного, основательного и предсказуемого мира, в кото-
ром «волку», кажется, и правда неоткуда взяться; надежды именно на такой мир
в «Бесах» окончательно рушатся после роковых слов о «флибустьерах». После символи-
ческого разрыва связи с землей мужик Марей исчезает, и в свои права вступает дикое
пространство леса, которое, подобно морю, исключает любой закон и таит в себе неиз-
вестность и угрозу. Когда вместо померещившегося герою крика появится сам зверь,
теперь лишь вопрос времени, и ждать защиты больше неоткуда. Не так важно, личные
ли качества фон Лембке, заподозрившего в мирной делегации бунт, или излишняя
«административная восторженность» его подчиненных стали причиной беды, но после
этого события в мире романа пропадают любые правила и ориентиры. То, к чему
старший и младший Верховенские вели постепенно – через прокламации, распростра-
нение атеизма, развращение нравов общества, – губернатор воплощает одной фразой:
судьба новоявленных «флибустьеров» больше не может опираться на законы земли;
они изгнаны с нее, поставлены перед необходимостью надеяться на случай, «переме-
нять участь», вести себя подобно флибустьерам реальным.
Таким образом, в романе рушится связь «...между защитой и повиновением, не-
нарушимого соблюдения которого требуют человеческая природа и божественные
законы, как естественные, так и положительные» [Гоббс 1991, 544]. Доподлинно не-
известно, читал ли Достоевский «Левиафан» Гоббса (хотя собирался10 писать для не-
состоявшегося одноименного альманаха Белинского), а известный фрагмент письма11
к брату Михаилу не позволяет однозначно ответить, воплотился ли когда-либо интерес к
Гегелю в знакомство с его «Философией права», в которой содержится мысль о различии
101
земли и моря, определяющем два разных принципа поведения12. Однако независимо от
того, был ли автор знаком с той или иной философской традицией, образ моря как без-
законной и опасной стихии, поглощающей исконно сухопутные пространства, появляет-
ся еще раз – в «Дневнике писателя» незадолго до смерти Достоевского.
«Явилось... бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и
хоть свирепствует оно и теперь, но все -таки жажды нового, правды, новой, правды
уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином» [Достоевский 1984, 15], –
описывает «Дневник писателя» жизнь пореформенного крестьянства. Корни этой
стихии в неудовлетворенном желании правды; в неспособности и невозможности
высказать свои нужды и представления об упорядоченной жизни. В .К. Кантор обра-
щается к этому фрагменту, сравнивая «разгульное богатырство» народа с буйством
«карамазовщины». «Если в «Бесах» Достоевским был показан принцип грядущей
жизни и вожди грядущего переворота, то в «Братьях Карамазовых» изображена та
стихия, которую использовали российские бесы, возвращая Россию... в то состояние
бесформенности, к которой стремилась русская душа и из которой так легко было
лепить самые жестокие тоталитарные формы» [Кантор 2010, 65]. И действительно,
«стихия» как таковая в «Бесах» практически отсутствует: исключение составляет ко-
роткое упоминание о «пьяных горланах» и людях «срывающихся», «потерявших нит-
ку» [Достоевский 1974, 413] в сцене расправы над Лизой. Однако именно несостояв-
шийся разговор с губернатором, роковые слова о флибустьерах открывают дорогу
стихии моря и показывают весьма конкретный и практический характер той правды,
в которой народ испытывает нужду.
По Достоевскому, русскому народу не нужно конституций или формальных ин-
ститутов – достаточно иметь возможность поговорить и быть услышанными. «Этако-
му ли народу отказать в доверии? Пусть скажет он сам о нуждах своих и полную об
них правду. Но, повторю это, пусть скажет сначала один; мы же, «интеллигенция
народная», пусть станем пока смиренно в сторонке и сперва только поглядим на не-
го, как он будет говорить, и послушаем» [Достоевский 1984, 24]. В конце концов
«...пало бы высокомерие, и родилось бы уважение к земле» [Достоевский 1984, 25].
Фон Лембке к такому уважению не способен, вместо потребности в разговоре он
видит бунт. Шпигулинские рабочие, хотя хронологически предшествую т мужику Ма-
рею и «пьяному морю» из «Дневника писателя», показывают будущее развитие этого
конфликта. Лишенный связи с землей и возможности отстаивать свою правду на
словах, крестьянин теряет свою силу и спокойствие перед лицом приближающегося
зверя; он оказывается подвержен революционной риторике не только из-за внутрен-
ней склонности к карамазовским страстям, но и потому, что изначально был постав-
лен в положение бунтовщика и преступника. Эрнст Юнгер писал Шмитту по поводу
одной его статьи: «Вам удалось изобрести новое оружие: мину, которая взрывается
бесшумно. Здание падает, как по волшебству: разрушение свершилось еще до того,
как кто-либо мог его ощутить» [Юнгер 1999, 7]. Можно сказать, что с «Бесами» слу-
чилось нечто похожее: в романе принято видеть пророчество будущих потрясений, а
он указывает на уже произошедший взрыв, который разрушил основания обществен-
ной жизни, но остался мало кем замеченным и понятым.
Примечания
1 Истоки этого подхода автор связывает с точкой зрения В.С . Соловьева, оши бочно
расположившего время написания романа до, а не после убийства Иванова; соответственно,
мнимое предсказание о переходе нигилистов к реальным убийствам воспроизводится в большем
масштабе как предсказание будущего революционного террора и гражданской войны.
2 О том , какую роль раскрытие брака Ставрогина сыграло в ее решении приехать к нему,
Лиза говорит в главе «Законченный роман» («Я барышня, мое сердце в опере воспитывалось»).
3 См. рабочие записи к роману «Подросток»: «Избегнуть ту ошибку в «Идиоте» и в «Бесах»,
что второстепенные происшествия (многие) изображались в виде недосказанном, намёчном,
романическом, тянулись через долгое пространство, в действии и сценах, но без малейших
объяснении
̆
, в угадках и намеках, вместо того чтобы прямо объяснить истину. Как второстепен-
ные эпизоды, они не стоили такого капитального внимания читателя и даже напротив, тем
102
самым затемнялась главная цель, а не разъяснялась, именно потому , что читатель, сбитый на
проселок, терял большую дорогу, путался вниманием» [Достоевский 1965, 212].
4 Поведение Хроникера в истории с «флибустьерами» – повод поставить под вопрос его
моральные качества, которые превозносят некоторые исследователи. См., например: [Карякин 1981].
5 Также следует отметить, что флибустьеры «дебютируют» у Достоевского в фельетоне
«Петербургские сновидения в стихах и в прозе» (1860 г.), эпизодический герой которого, впадая в
сумасшествие, заявляет, что он «Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка
вещей». Однако там этот образ не имеет предшествующей экспозиции (в виде введения созвучного
персонажа), влияния на сюжет не оказывает и носит, по-видимому, случайный характер.
6 См. первый и второй из «Пяти вводных короллариев» [Шмитт, 2008, 8–28].
7 Verg. Buc. IV, 38–39. Правда, у Вергилия в следующей строке и «почва не будет страдать от
мотыг, от серпа виноградник», о чем Шмитт умалчивает.
8 Современное издание: [Gosse 2007].
9 Хотя это не мешает Кириллову быть уверенным, что Федька способен зарезать, если
потребуется. Примерно об этом же думает Степан Трофимо вич, когда во время своего
«последнего странствования» представляет себе их возможную встречу.
10 См.: [Богданов 2006, 213–215]. О возможной рецепции Достоевским образа Левиафана
еще и через «Оду, выбранную из Иова» М.В. Ломоносова см.: [Кантор 2010, 394–395].
11 «Самая первая книга, которая мне нужна, — это немецкий лексикон... Пришли мне
Коран, “Critique de raison pure” Канта и если как -нибудь в состоянии мне переслать не
официально, то пришли непременно Гегеля, в особенности Гегелеву “Историю философии”.
С этим вся моя будущность соединена!» [Достоевский 1985].
12 «Подобно тому как условием принципа семейной жизни является земля, твердая почва,
условием промышленности является выводящая ее вовне природная стихия – море. Стремление
к наживе, которое связано с опасностью, возвышается над этой наживой и привносит в посто-
янное пребывание на земле, в ограниченном кругу гражданской жизни, в ее наслаждения
и вожделения, элемент текучести, опасности и гибели» [Гегель 1990, 273]. Стоит отметить, что в
роли «флибустьеров» у Достоевского оказываются именно заводские рабочие.
Источники и переводы – Primary Sources and Translations in Russian
Булгаков 1996 – Булгаков С.Н. Русская трагедия // «Бесы»: антология русской критики.
Сост. Л .И . Сараскина. М.: Согласие, 1996. С . 489–507 (Bulgakov, Sergey N., Russian Tragedy,
in Russian).
Гегель 1990 – Гегель Г.В .Ф . Философия права. М .: Мысль, 1990 (Hegel, Georg.Wilhelm Frie-
drich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Russian Translation).
Гоббс 1991 – Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т . 2. М .: Мысль, 1991. С . 3 –546 (Hobbes, Thomas,
Leviathan, Russian Translation).
Достоевский 1965 – Ф.М. Достоевский в работе над романом «Подросток»: творческие ру-
кописи. Литературное наследство. Том 77. М .: Наука, 1965. С . 212 (Dostoevsky, Fyodor, Demons.
Manuscripts, in Russian).
Достоевский 1974 – Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М . Полное собрание сочине-
ний в 30 т. Т. 10 . Л.: Наука, 1974 (Dostoevsky, Fyodor, Demons, in Russian).
Достоевский 1981 – Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 год. Январь – апрель //
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 22 . Л.: Наука, 1981 (Dostoevsky,
Fyodor, A Writer's Diary 1876, in Russian).
Достоевский 1984 – Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1881 год. Автобиографическое.
Dubia // Достоевский Ф.М . Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 27 . Л.: Наука, 1984 (Dostoev-
sky, Fyodor, A Writer' s Diary 1881, in Russian).
Достоевский 1985 – Достоевский Ф. М . М . М. Достоевскому // Достоевский Ф. М . Полное
собрание сочинений в 30 т. Т. 28 . Кн. 1 . Л .: Наука, 1985. С . 173 (Dostoevsky, Fyodor, Letters,
in Russian).
Мережковский 1906 – Мережковский Д.С . Пророк русской революции. К юбилею Достоев-
ского. М .: изд. М .В .Пирожкова, 1906. С . 3 –55 (Merezhkovsky, Dmitry S., Prophet of Russian Revo-
lution. To Dostoevsky’s Anniversary, in Russian).
Шмитт 2008 – Шмитт К. Номос земли . СПб.: Владимир Даль , 2008 (Schmitt, Carl (1997) Der
Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Duncker & Humblot, Berlin, Russian
Translation 2008).
Jünger, Ernst (1999) Ernst Jünger / Carl Schmitt Briefwechsel 1930-1983, Klett-Cotta, Stuttgart.
103
Ссылки – References in Russian
Богданов 2006 – Богданов К.А. О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и
экзотизмов. М .: Новое литературное обозрение, 2006.
Евнин 1957 – Евнин Ф.И. Примечания // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 10 томах.
Т.7 . М .: Государственное издательство художественной литературы, 1957.
Кантор 2010 – Кантор В.К . «Карамазовщина» как символ русской стихии / Кантор В.К . Су-
дить «Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: очерки. М.: РОССПЭН, 2010. С . 47 –75 .
Карякин 1981 – Карякин Ю.Ф . Зачем хроникер в «Бесах»? // Литературное обозрение. 1981.
No 4. С. 72–84.
Касаткина 2012 – Касаткина Т.А. К вопросу о функции имен в произведениях Ф.М. Досто-
евского / IV Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контек-
сте». Избранные доклады и тезисы. М.: 2012–2014 . С . 376–381 .
Рассадин 2001 – Рассадин С.Б. Предтечи // Вопросы литературы. 2001. No 1. С . 117 –146.
Сараскина 1990 – Сараскина Л.И. «Бесы» – роман-предупреждение. М.: Советский писа-
тель , 1990.
Чиж 1912 – Чиж В.Ф. Развитие душевной болезни в Голядкине / Ф.М . Достоевский. Его
жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей, сост. В . Покровский. М .: Изд.
В. Спиридонова и А. Михайлова, 1912. С . 5 –13.
References
Bogdanov, Konstantin A. (2006) On Crocodiles in Russia. Essays from the History of Borrowing s and
Exoticisms, NLO, Moscow (in Russian).
Chizh, Vladimir F. (1912) ‘Development of Golyadkin’s Mental Illness’, V. Pokrovsky (ed.),
F.M . Do stoevsky, His Life and Works, Publishers V. Spiridonov & A. Mikhailov, Moscow, pp. 5 –13
(in Russian).
Evnin, Fyodor I. (1957) ‘Commentary’, Dostoevsky, Fyodor, Collected Works, Vol. 7, GIKhL,
Moscow (in Russian).
Gosse, Philip (2007) History of Piracy. Dover Publications, Mineola, New York.
Kantor, Vladimir K. (2010) Judging the God’s Creature: Dostoevsky’s Prophecies, ROSSPEN, Mos-
cow (in Russian).
Karyakin, Yurii F. (1981) ‘Why a chronicler in Demons’, Literaturnoe obozrenie, Vol. 4 (1981),
pp. 72 –84 (in Russian).
Patyk, Lynn Ellen (2017) Written in Blood: Revolutionary Terrorism and Russian Literary Culture,
1861–1881 , University of Wisconsin Press, Madison.
Rassadin, Stanislav B. (2001) ‘Forerunners’, Voprosy Literatury, Vol. 1 (2001), pp. 117 –146
(in Russian).
Saraskina, Ludmila I. (1990) ‘Demons’ – A Warning Novel, Sovietsky Pisatel, Moscow (in Russian).
Walsh, David (2013) ‘Dostoevsky’s Discovery of Christian Foundation of Politics’, Richard Av-
ramenko , Lee Trepanier (ed.) Dostoevsky's Political Thought, Lexington Books, Plymouth, pp. 8 –30 .
Сведения об авторе
ГУЛЯЕВ Роман Владимирович –
кандидат философских наук, старший
преподаватель Школы философии Нацио-
нального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
Author’s information
GULYAEV Roman V. –
CSc in Philosophy, Senior Lecturer of Na-
tional Research University «Higher school of
economics» (HSE University Moscow).
При ме ча ния
1Истокиэтогоподхода авторсвязываетс точкойзренияВ.С.Соловьева,ошибочнорасположившеговремянаписанияроманадо,ане послеубийства Иванова;соответственно,мнимое предсказаниеопереходе нигилистовкреальнымубийствамвоспроизводитсявбольшеммасштабекакпредсказание будущегореволюционноготеррораигражданскойвойны.
2Отом,какуюрольраскрытиебрака Ставрогина сыграловее решенииприехатькнему,Лиза говоритвглаве«Законченныйроман»(«Я барышня,мое сердцевопере воспитывалось»).
3См.рабочиезаписикроману«Подросток»:«Избегнутьтуошибкув«Идиоте»ив«Бесах»,чтовторостепенные происшествия(многие)изображалисьввиденедосказанном,намёчном,романическом,тянулисьчерездолгое пространство,вдействииисценах,нобезмалейшихобъяснении
̆
, вугадках инамеках,вместотогочтобыпрямообъяснитьистину
.
Каквторостепенные эпизоды,онине стоилитакого капитальноговниманиячитателяидаженапротив,темсамым затемняласьглавнаяцель,анеразъяснялась,именнопотому,чточитатель,сбитый на проселок,терялбольшуюдорогу,путалсявниманием» [Достоевский1965,212].
4Поведение Хроникера висториис «флибустьерами» –поводпоставитьподвопросегоморальные качества,которые превозносят некоторые исследователи.См.,например:[Карякин1981].
5Такжеследуетотметить,чтофлибустьеры«дебютируют»уДостоевскоговфельетоне«Петербургскиесновидениявстихахи впрозе» (1860г.),эпизодическийгеройкоторого,впадаявсумасшествие,заявляет,чтоон«Гарибальди,флибустьеринарушительестественногопорядкавещей».Однакотам этот образнеимеетпредшествующей экспозиции(ввиде введениясозвучногоперсонажа),влиянияна сюжетнеоказывает иносит,по-видимому,случайныйхарактер.
6См.первыйивторойиз «Пятивводных короллариев»[Шмитт ,8–28].
7Verg
.
Buc
.
IV,38–39.Правда,уВергилиявследующейстрокеи«почва небудетстрадатьотмотыг,отсерпа виноградник»,очемШмиттумалчивает.
8Современноеиздание:[Gosse 2007].
9Хотяэтоне мешает Кирилловубытьуверенным,чтоФедькаспособензарезать,еслипотребуется.Примернообэтомже думаетСтепанТрофимович,когда вовремясвоего«последнегостранствования» представляетсебеихвозможнуювстречу.
10 См.:[Богданов2006,213–215]ОвозможнойрецепцииДостоевским образаЛевиафана еще ичерез«Оду,выбраннуюизИова» М.В.Ломоносова см.:[Кантор2010,394–395].
11 «Самаяперваякнига,котораямне нужна, —этонемецкийлексикон...Пришлимне Коран,“Critiquederaisonpure”Кантаиесликак-нибудьвсостояниимне переслатьнеофициально,топришлинепременноГегеля,вособенностиГегелеву“Историюфилософии”.Сэтимвсямоябудущностьсоединена!» [Достоевский 1985].
12 «Подобнотомукакусловием принципа семейнойжизниявляетсяземля,твердаяпочва,условиемпромышленности являетсявыводящаяее вовнеприроднаястихия–море.Стремлениекнаживе,которое связанос опасностью,возвышаетсянадэтойнаживойипривносит впостоянноепребывание на земле, вограниченномкругугражданскойжизни,веенаслажденияивожделения,элемент текучести,опасностии гибели» [Гегель1990,273].Стоит отметить,чтовроли«флибустьеров»уДостоевскогооказываютсяименнозаводские рабочие.
104
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Новая глобальная революция в науке
© 2019 г.
А.Д . Урсул
Факультет глобальных процессов МГУ им. М .В . Ломоносова, Москва, 119991,
Ленинские горы, д. 1, стр. 13А (корпус В), четвертый учебный корпус.
E-mail: ursul-ad@mail.ru
Поступила 26.02.2018
В последние несколько десятилетий происходит новая «глобальная
революция в науке», принципиально отличающаяся от уже известных
«глобальных научных революций». Отмечая многозначность понятия
«глобальный», в статье речь идёт об исследовании глобальных процес-
сов и систем, среди которых глобализация, глобальные проблемы,
глобальные кризисы, глобальная эволюция и др. Это находит свое от-
ражение в становлении ряда областей научного поиска, в особенности,
таких как глобалистика, обретающая дисциплинарную форму и ак-
тивно проявляющая междисциплинарно-интегративные интенции.
Появился ряд разделов глобалистики в результате её взаимодействия с
той или иной конкретной научной дисциплиной. Всё больше тради-
ционных научных дисциплин становятся глобальными в ходе глоба-
лизации науки. Уже видны очертания мульти- и междисциплинарного
кластера современной науки, изучающего закономерности глобальных
процессов и глобального развития в их взаимосвязях с развитием ци-
вилизации. Этот кластер, который можно именовать глобальными ис-
следованиями, включает глобалистику как «ядро» этих исследований,
глобальные дисциплины, глобальный эволюционизм, глобализацион-
ные исследования и ряд других «глобальных областей» научного по-
иска. Глобальные исследования включаются в «мультиреволюцион-
ный взрыв» в современной науке, когда почти в один и тот же исто-
рический период появляется не одна – очередная «глобальная науч-
ная революция», а целый комплекс кардинальных, в том числе и об-
щенаучных, трансформаций в науке.
Ключевые слова: глобализационные исследования, глобализация, гло-
балистика, глобальные дисциплины, глобальные исследования, гло-
бальные проблемы, глобальные процессы, глобальная революция в
науке, глобальные научные революции, глобальные феномены, гло-
бальный, глобальный кластер знания, глобальный эволюционизм,
междисциплинарные направления глобалистики.
DOI: 10.31857/S004287440006038-6
Цитирование: Урсул А.Д . Новая глобальная революция в науке // Во-
просы философии. 2019. No 8. С. 104 –112 .
105
New Global Revolution in Science
© 2019 г.
Arcadiy D. Ursul
Faculty of global processes, Lomonosov Moscow State University, 119991, Moscow,
Leninskie Gory, 1, p. 13A (building B).
E-mail: ursul-ad@mail.ru
Received 26.02.2018
In the last few decades, a new "global revolution in science" has been unfolding,
fundamentally different from the already known global scientific revolutions.
Noting the ambiguity of the notion of "global", the article deals with the study
of global processes and systems, including globalization, global problems, global
crises, global evolution, etc. This is reflected in the formation of such areas
of scientific search as globalistics, which acquires disciplinary form and actively
manifesting interdisciplinary and integrative intentions. A number of interdisci-
plinary sections of global studies have already appeared as a result of its interac-
tion with a particular scientific discipline. More and more traditional scientific
disciplines are becoming global in the course of the globalization of science. Al-
ready visible are the outlines of a multi- and interdisciplinary cluster of modern
science that studies the patterns of global processes and global development in
their interrelations with the development of civilization. This cluster, which can
be referred to as global studies, includes globalistics as the "core" of these stud-
ies, global disciplines, global evolutionism, globalization studies, and a number
of other "global areas" of scientific research. Global studies are included in the
ongoing "multi- revolutionary explosion" in modern science, when almost
in the same historical period there is not one-the next "global scientific revolu-
tion", but a whole complex of cardinal, including general scientific, transfor-
mations in science.
Key words: global, global cluster of knowledge, global disciplines, global
evolutionism, globalistics, globalization studies, globalization, global phe-
nomena, global problems, global processes, global revolution in science,
global scientific revolutions, global studies, interdisciplinary directions of
globalistics.
DOI: 10.31857/S004287440006038-6
Citation: Ursul, Arkady D. (2019) “New Global Revolution in Science”,
Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp.104 –112 .
Этапы развития науки, когда происходит качественное преобразование фунда-
ментальных оснований науки, создаются принципиально новые научные теории,
формируется новая научная картина мира, появляются новые научные представле-
ния, новые подходы, методы, материальные возможности и способы научного иссле-
дования, считаются научными революциями. Наиболее широкомасштабные и фун-
даментальные трансформации в отечественной литературе именуются «глобальными
научными революциями»: они захватывают всё большую часть науки и приводят к
возникновению нового видения мира.
В основном выделяются следующие друг за другом «глобальные научные револю-
ции» (хотя есть и иные классификации): становление классического естествознания,
формирование дисциплинарной организации науки, появление неклассического
естествознания и, наконец, постнеклассической науки, которая продолжается и в
настоящее время [Степин 2000]. Происходят также локальные научные революции,
106
когда новая парадигма распространяется на представления в пределах одного научно-
го направления, либо регионально-комплексные, когда в этот процесс включается
ряд таких направлений.
Значение термина «глобальная» предполагает, что революционный переворот
в основаниях науки будет распространяться, пусть и не сразу, но в принципе на всю
науку в целом, независимо от того, какой объект изучается. «Глобальное» в этом слу-
чае выступает в смысле общенаучного и представляется как процесс, разворачива ю-
щийся во времени и захватывающий все большее число областей научного поиска
(что имеет смысл именовать «потенциальной глобальностью»). Предполагается, что в
результате глобальных научных революций происходит смена парадигмы (а зачастую
и типа рациональности), что должно приводить к их реализации в расширяющемся
научном пространстве.
Между тем оказалось, что термин «глобальный» многозначен, этих значений уже
насчитывается не один десяток, но наиболее распространённые три: 1) охватываю-
щий весь земной шар, планету в целом как космический объект; 2) распространяю-
щийся на Вселенную, все мироздание в целом; 3) универсальная черта либо закон,
характеризующие определённую совокупность феноменов (например, всю науку
в целом, когда глобальное в некотором смысле почти тождественно общенаучному).
Наличие множественности значений термина «глобальный» порождает потребность
изучить и упорядочить эту полисемию, однако это задача будущего междисципли-
нарного научного исследования.
Под действием глобальных факторов и процессов (понимаемых в первом и вто-
ром значениях) уже разворачивается совершенно новая глобальная революция
в науке, принципиально отличающаяся от упомянутых выше. Для отличия этих двух
типов революций вместо понятия «глобальная научная революция» будем употреб-
лять термин «глобальная революция в науке» и в дальнейшем станет очевидной
обоснованность такого наименования. Поэтому термин «глобальная революция
в науке» имеет иной, чем используемый ранее, смысловой контекст. «Глобальное»
здесь характеризует не потенциально-общенаучные процессы, а в основном ту или
иную экзистенциальную черту отображаемых наукой феноменов (объектов), действи-
тельно имеющих, либо обретающих глобальную форму своего бытия.
Глобальные феномены (процессы и системы)
Объектами исследований («глобального» в его первом упомянутом значении
в науке) являются процессы и системы, формирующиеся или уже существующие на
Земле либо во Вселенной. В их числе такие системы и процессы как глобальные
природные процессы, а также социальные и социоприродные феномены (глобализа-
ция, глобальное расселение, глобальные проблемы, глобальные кризисы, глобальные
угрозы и опасности, глобальная эволюция, начинающийся переход мирового сооб-
щества к устойчивому развитию и др.). Эти процессы можно разделить на уже реаль-
но существующие, актуальные, и потенциально глобальные, т.е. пока в процессе сво-
его становления (пример, устойчивое развитие), которые могут стать в полном смыс-
ле глобальными лишь в будущем.
Именно специально выделенные из всех других объектов глобальные феномены фор-
мируют тот новый образ мира, который характеризуется понятием «глобальный мир».
Это мир, который, с одной стороны, расширился до общепланетарных масштабов, а,
с другой стороны, ограничился теми или иными «пределами»: социальными или социо-
природными границами, пределами земного шара и т.д. Очевидно, что даже в случае
наличия планетарных пределов имеет место существенное расширение пространства со-
циальных и социоприродных взаимодействий до объема биосферы и даже за её пределы.
Но также понятно, что это расширение наталкивается на планетарные (прежде всего
биосферные) и иные ограничения, которые изменяют траекторию дальнейшей эволюции
цивилизации. Эта взаимосвязь расширения и ограничения весьма существенна для по-
нимания того, что представляют собой глобальное мышление и мировоззрение, гло-
бальные исследования и глобальная революция в науке.
107
Охарактеризуем кратко основные уже выявленные глобальные феномены
и начнём с такого наиболее исследованного процесса как глобализация. Этот процесс
предполагает распространение человеческой деятельности на весь земной шар с од-
новременным становлением единства цивилизации, планетарной общности и це-
лостности. Причем целостность нового – глобального мира формируется как благо-
даря присущим социальной эволюции закономерностям и х арактеристикам, так и
в результате природных обстоятельств, особенностей и ограничений биосферы пла-
неты. И хотя, казалось бы, приоритетным являются универсально-содержательные
закономерности социальной самоорганизации, одним из проявлений которой высту-
пает глобализация, но, тем не менее, свое наименование этот процесс получил бла-
годаря наличию определённых природно-пространственных характеристик и конту-
ров нашей планеты. В общем случае глобализацию можно видеть в качестве интегра-
тивного и транснационального общепланетарного процесса, формирующего не толь-
ко цивилизационную целостность. При повороте глобализации на траекторию устой-
чивого развития сформируется принципиально новое единство социоприродной си-
стемы «человек–общество–природа» на принципах коэволюции ее составляющих.
Процессы планетарного характера, не имеющие отношения к обретению человече-
ством целостности (единства), либо разрушающие тенденции и стремление к гло-
бальной устойчивости (и, соответственно, не способствующие выживанию цивилиза-
ции), также могут оказаться глобальными, отличающимися от глобализации, в том
числе и от негативных её последствий. Хотя довольно трудно отделить глобализацию
от ряда других социальных процессов, расширяющих свой масштаб до глобального.
Начавшееся изучение до глобализации другого феномена – глобальные проблемы
выражают и концентрируют противоречия социального и социоприродного развития,
имеющие общепланетарные формы своей эволюции, угрожающие существованию
цивилизации и биосферы. Глобальные проблемы чаще всего возникают из проблем
локального и регионального социального и социоприродного характера, которые,
обладая содержательно-качественным признаком глобальности (но еще не террито-
риальным), начинают затем расширяться в пространственных измерениях, превраща-
ясь в проблемы планетарного масштаба, в которых доминируют негативные послед-
ствия предшествующего мирового развития. Но нельзя отрицать также и то, что под
действием глобализации и других глобальных процессов также могут возникать гло-
бальные проблемы, хотя в этом случае появляются не просто проблемы глобальные,
а «суперглобальные» (как это происходит сейчас с переходом к устойчивому разви-
тию). Признание существования глобальных процессов и систем, отличных от глоба-
лизации и глобальных проблем и предполагаемое смещение акцентов научных иссле-
дований от глобализации к более широкому кругу глобальных процессов поставило
вопрос об общей их классификации. Классификация глобальных проблем уже была
дана В.В . Загладиным и И.Т. Фроловым, которые выделили три группы таких про-
блем: 1) проблемы интерсоциальные (между существующими социумами); 2) пробле-
мы антропосоциальные (между человеком и обществом); 3) социоприродные пробле-
мы (между обществом и природой) [Загладин, Фролов 1981].
Упомянутые выше глобальные процессы (и системы) также могут подпадать под
эту классификацию, но к трем упомянутым группам добавляется и четвертая группа,
включающая природные планетарно-геологические процессы, рассматриваемые
в глобальных исследованиях в их взаимодействии с цивилизацией. В принципе мож-
но глобальные процессы и системы разделить тоже только на три (но несколько
иные) группы за счет объединения первых двух групп в одну группу социальных гло-
бальных процессов. Таким образом, все существующее множество глобальных про-
цессов (и соответствующих систем) можно разделить на три основные группы: соци-
альные (в широком смысле), социоприродные и природные (но последние в ракурсе
их взаимодействия с человечеством).
Глобализация (а также входящие в неё глобализационные процессы) и глобальные
проблемы являются наиболее исследованными глобальными феноменами. Глобали-
зация как один из глобальных процессов состоит из ряда направлений, например,
108
таких как экономическая глобализация, информационная глобализация, экологиче-
ская, культурная и т.д. Так, например, Х.А. Барлыбаев, который одним из первых
стал их классифицировать, выделяет около двух десятков глобализационных процес-
сов [Барлыбаев 2016]. Сейчас трудно точно сказать, сколько таких направлений уже
выделено, поскольку каждый автор, который исследует такого рода н аправления,
исходит из каких-то своих соображений, причем далеко не всегда их осознает. По-
этому сейчас не существует каких-то достаточно распространённых, а тем более об-
щепринятых классификаций глобализационных процессов и пока не выявлены осно-
вания для их классификации. Вместе с тем их взаимодействие с традиционными со-
циальными и социоприродными процессами (не осознаваемые ранее как глобальные
и глобализационные) ведёт к тому, что ряд из них обретает глобальный масштаб
и ограничения в совокупности их позитивных и негативных свойств. Например, эко-
номика становится не просто мировой, но уже в определённых отношениях глобаль-
ной, это же можно сказать и о политике (и геополитике), экологических взаимодей-
ствиях, процессах информатизации и т.п. Формируются и новые черты этих глобали-
зирующихся процессов, что находит отражение в соответствующих научных исследо-
ваниях, в том числе и дисциплинах, о чём будет идти речь далее.
Поскольку здесь рассматриваются глобальные процессы и системы в их отношении к
социальной ступени эволюции, то важно обратить внимание на то, что, видимо, не су-
ществует таких глобальных феноменов, которые оказываются только позитивными для
дальнейшего развития цивилизации. Чаще всего одни глобальные процессы имеют пре-
имущественно позитивное содержание и направленность, но сопровождаются и негатив-
ными последствиями, которые тормозят поступательное развитие цивилизации и в сово-
купности с негативными процессами могут привести к глобальной катастрофе. Если она
произойдет, то устранять её эсхатологические последствия в общепланетарном масштабе
уже будет невозможно, да и некому. Единственный способ её не допустить – это предот-
вращение опережающими решениями и действиями. Причём такая опережающая реак-
ция должна распространяться не только на проблемы окружающей среды, но в принци-
пе и на все другие глобальные проблемы. Именно эта экзистенциальная специфика гло-
бальных процессов требует только превентивных действий по обеспечению безопасно-
сти, развития новых опережающих способов и технологий предотвращения разного рода
глобальных угроз и опасностей.
При расширении пространственно-временных координат глобальные феномены
уже не ограничиваются пределами своего "планетарного" бытия и продолжаются во
внеземные сферы, как это имеет место в астрономии и особенно в новей ших космо-
логических исследованиях. Понятие "глобальный" в этом широком (по сути, вселен-
ском) смысле характеризует не только исследования глобальных процессов, как это
принято в глобалистике, делающей акцент на изучении общепланетарных процессов
на нашем земном шаре. Это более широкое, «универсально-космологическое» пони-
мание глобального, когда речь идёт о глобально-космических эволюционных процес-
сах и системах, исследуется глобальным (нередко именуемым также универсальным)
эволюционизмом.
Далее рассмотрим те новые области научных исследований, предметное поле ко-
торых в той или иной степени отражает упомянутые выше глобальные феномены
(объекты).
Глобалистика и глобализационные исследования
Довольно широко распространена точка зрения, что глобальные области научного
знания стали активно разрабатываться лишь с появлением глобалистики в конце 60-х
годов прошлого века. Однако глобальная проблематика уже начала исследоваться
В.И. Вернадским в 1902–1903 гг. и особенно в первой половине XX в. Именно
В.И. Вернадский стоял у истоков не только глобального мировоззрения и мышления,
но и ряда областей глобальных исследований. Становление глобального направления
науки также свидетельствует о том, что помимо глобалистики и даже раньше появи-
лись и продолжают развиваться различные, причём уже довольно многочисленные
109
«глобальные сферы» научного знания, включая уже не один десяток научных дисци-
плин. Процесс глобализации науки развёртывается в самых различных направлениях, в
частности происходит как расширение «глобального научного поля», так и формирова-
ние отдельных групп, своего рода «глобальных кластеров» научных исследований.
Мульти- и междисциплинарное направление современной науки, изучающее за-
кономерности глобальных процессов (и систем) во всей их совокупности и взаимо-
связях уже сформировало довольно обширную область научного знания, которую
уместно именовать глобальными исследованиями. Глобалистика же выступает как
«концентрированное ядро» этих исследований, причём одновременно является как
формирующейся научной дисциплиной (прежде всего в своей теоретической части),
так и междисциплинарно-интегративным научным направлением, акцентирующим
внимание на изучении глобальных процессов и систем в их взаимодействии с чело-
вечеством. Процесс становления глобалистики сопровождается появлением дискус-
сионных вопросов, прежде всего о её предмете, в частности, о включении в него
природных процессов глобального характера. До недавнего времени считалось, что
эти процессы исследовали другие науки, например, геология, экология и т.п . Однако
в науках о Земле эти планетарные природные процессы не ставились в отношение
к человеку и его практической деятельности, которая направлена на поддержание
жизнедеятельности и дальнейшее существование цивилизации. Если в этом аспекте
глобальные природные процессы станут исследоваться в глобалистике, то это прин-
ципиально иной контекст, чем в естествознании, исследующем природные объекты
вне зависимости от субъекта познания (кроме ряда особых случаев).
Если глобальные природные процессы включать в глобалистику, то не в том каче-
стве, как в науках о Земле, а только в отношении взаимодействия с человеком и че-
ловечеством. Глобалистика из всех глобальных процессов вычленяет лишь опреде-
ленный аспект, свое предметное поле, которое связано с взаимоотношением челове-
ка (общества) и глобальных феноменов. Если считать, что глобалистика будет изу-
чать, кроме глобализации и глобальных проблем, еще ряд других глобальных процес-
сов, то существенно расширяется темпоральный диапазон и пространственные сфе-
ры, включаемые в формирующееся глобальное знание.
Некоторые исследователи считают, что глобалистика изучает только глобализацию
и глобальные проблемы. Между тем понятие и проблемы глобализации приобрели
междисциплинарное, даже общенаучное значение, исследуются в той или иной сте-
пени многими науками. Поэтому определять понятие «глобалистика» как специаль-
ную науку о глобализации, как это предлагается рядом учёных, вряд ли целесообраз-
но. Эти глобальные феномены выступают в качестве наиболее видимой верхушки
«айсберга» на предметном поле глобалистики, поскольку уже обнаружены и будут
ещё выявляться другие глобальные процессы («подводная часть» этого «глобального
айсберга»), между которыми существуют более сложные причинно-следственные и
иные – нелинейные связи.
Ранее в отечественной литературе полагали, что глобалистика и глобальные ис-
следования – это практически одно и то же, различаясь в основном месторасполо-
жением происхождения этих терминов (в России и на Западе). Хотя термин «гло-
бальные исследования» часто переводился в нашей литературе как глобалистика, но
это было оправдано лишь на начальном этапе сопоставления отечественных и зару-
бежных исследований в аналогичных или близких областях. Сейчас стало очевидным,
что глобалистика оказывается лишь частью глобальных исследований, хотя и наибо-
лее значимой особенно для российских учёных. В настоящее время выявлены
направления, которые могут быть квалифицированы как междисциплинарные разде-
лы глобалистики, поскольку они сформировались в результате взаимодействия глоба-
листики с конкретной научной дисциплиной. Появились исследования, посвященные
различным междисциплинарным направлениям в самой глобалистике: политическая
глобалистика, социальная глобалистика, информационная глобалистика, образователь-
ная глобалистика и ряд других, которых насчитывается уже более двух десятков. Неко-
торые научные дисциплины, вступая в междисциплинарные взаимодействия с
110
глобальной сферой знания, в какой-то части начинают «примыкать» к глобалистике,
формируя её междисциплинарные направления (разделы). Но другая часть научных
дисциплин не уходит на «предметную территорию» глобалистики, а получает «гло-
бальную приставку» к уже существующим их наименованиям. Существует опреде-
лённая корреляция между появлением междисциплинарного раздела глобалистики и
аналогичной глобальной дисциплиной: появление одной из них нередко сопровожда-
ется становлением соответствующего раздела глобалистики, независимо от того, ка-
кая область научного знания появится раньше.
Существует теоретический критерий отличия глобальной дисциплины от соответ-
ствующего междисциплинарного направления (раздела) глобалистики. Оказалось, что
при наименовании соответствующей области научного поиска необходимо исходить из
соотношения объекта и предмета исследования. Глобалистика акцентирует своё внима-
ние на глобальных феноменах (глобальных процессах и системах) как объектах исследо-
вания. Первичным для неё является объект исследования (глобальность, глобальные фе-
номены) как более широкое понятие, а вторичным оказывается предмет исследования,
в котором выделяется определенное свойство или характеристика объекта, заимствован-
ная глобалистикой от конкретной научной дисциплины. Формирующиеся же глобальные
дисциплины продолжают изучать те же объекты, что и раньше, но, расширяя свою
предметную область, они достигают глобальных масштабов и измерений.
Формирование новых междисциплинарных разделов глобалистики в значительной
степени также связано с глобализационными исследованиями, изучающими глобали-
зацию в целом (и различные её направления как глобализационные процессы), при-
чём эти исследования входят в глобалистику в качестве одной из наиболее важных
составляющих. Именно они оказываются не только единой достаточно широкой об-
ластью глобалистики, исходящей из принятой тем или иным автором концепции
глобализации, но и внутренним механизмом становления интегративных разделов
глобалистики, которые имеют не только междисциплинарную природу. Таким обра-
зом, в ходе глобализации науки появились глобальные исследования, в которые вхо-
дят глобалистика, а уже внутри неё стали развиваться глобализационные исследова-
ния [Abylgaziev, Ilyin (ed) 2012].
Глобальные исследования (глобальный кластер науки)
Выше уже упоминались некоторые «глобальные дисциплины», причём некоторые
из них начали формироваться раньше глобалистики. В качестве такого примера мож-
но указать на глобальную экологию (исследующую совокупность всех живых орга-
низмов планеты во взаимодействии с окружающей их средой), которая стала форми-
роваться ещё с конца 40-х годов прошлого века [Будыко 1977].
В принципе под влиянием глобалистики всё больше областей научного поиска об-
ретают глобальный статус, включаясь в предметное поле глобальных исследований и
расширяя его. Характерным примером в этом плане выступает геополитика, не входя-
щая в состав глобалистики (хотя и тесно связанная с ней), становящаяся глобальной
[Абылгазиев, Ильин, Кефели (ред) 2017] (и даже претендует на космическое продолже-
ние). По этому пути могут пойти и другие научные дисциплины, попадая под влияние
«глобального аттрактора» приращения знания. Всё больше традиционных отраслей
науки будут присоединять «глобальную приставку» к своему наименованию, как это
уже случилось ранее с «космическим наименованием» ряда дисциплин под влиянием
космических исследований, развития астрономии и космонавтики.
Глобальные исследования уже стали формироваться не просто в качестве какой-
то отдельной дисциплины или даже междисциплинарного направления, а уже в каче-
стве особого мультидисциплинарного глобального кластера научного знания. Этот
кластер включает в себя глобалистику как «ядро» этих исследований, отдельные гло-
бальные дисциплины, а также глобальный эволюционизм, даже претендующий стать
одним из мировоззренческих и методологических основ всей науки в целом [Ильин,
Урсул, Урсул 2012].
111
В глобальный кластер научного знания время от времени добавляются результаты
исследований какой-либо научной проблемы «в условиях глобализации» (либо влия-
ния других глобальных факторов). Они включаются в состав ещё не глобализирован-
ной конкретной области науки, способствуя становлению её «глобального статуса».
Получаемые в сфере этого кластера результаты научного поиска начинают уже ис-
пользоваться в глобальном образовании, акцентирующим внимание на освоении гло-
бального знания, способствуя позитивным трансформациям мирового образователь-
ного процесса, обретающего свою планетарную целостность.
Заключение
Новая глобальная революция в науке не может «захватить» всё научное простран-
ство, поскольку есть и будут существовать другие «неглобальные» сферы научных
исследований, например, региональные или локальные (если выделять по простран-
ственному параметру). Но и по другим признакам можно обнаружить исследования,
в принципе не имеющие «глобального статуса». Это свидетельствует в пользу того,
что эта «глобальная революция» не охватит всю в науку в целом, а лишь её часть,
пусть и весьма значительную, но будет оказывать влияние на другую часть. Да и гло-
бальные исследования в целом в науке пока не играют той важной роли, на которую
они могут претендовать в будущем.
«Глобальная революция в науке» развёртывается на этапе постнеклассической
науки, поскольку он по историческим временам начался сравнительно недавно.
Но эту «глобальную революцию в науке» вряд ли можно видеть в качестве сменяю-
щей постнеклассическую революцию в ряду следующих друг за другом научных рево-
люций. Это не означает, что постнеклассическая наука не уступит место какому -то
следующему этапу научных революций, пока не имеющего наименования, поскольку
даже неясно, начался ли уже этот процесс. Это ещё один дискус сионный вопрос,
ответ на который будет получен лишь в будущем [Урсул 2013, Урсул 2018].
Если раньше «глобальные научные революции» выстраивались одна за другой на
темпоральной траектории, то в настоящее время «новая глобальная революция
в науке» совмещается и взаимодействует с рядом других научно-революционных
трансформаций – в области информации, экологии, космических и астрономических
исследований и т.д. Причём почти в каждой из них просматривается определённое
стремление не только к достижению комплексности, но и общенаучности, формиру-
ются свои парадигма, стиль исследования, особенности научного поиска.
Тем самым, со второй половины прошлого века и начала нынешнего «революци-
онные трансформации» в науке принимают форму нелинейного «мультиреволюци-
онного взрыва», захватывающего существенную часть научного пространства.
Его суть заключается в появлении почти в один и тот же исторический период не
одной очередной глобальной или комплексной революции в науке, а целого их «ку-
ста». К уже упомянутой глобальной революции в науке добавляется космическая ре-
волюция, информационная революция, экологическая революция, темпоральная ре-
волюция (процесс футуризации науки) и ряд других, которые создают научную осно-
ву становления будущей сферы разума – ноосферы, идею которой в нашей стране
предложил и развил В.И. Вернадский, вкладывая в эту идею глобально-ноосферное
содержание [Вернадский 1991].
Почти единовременное появление, совмещение и взаимодействие глобальных и
комплексно-региональных революций в науке можно считать «мультиреволюционным
взрывом. Но это не означает, что такого рода полидисциплинарные революции не бу-
дут сменяться какой-то новой более системно-фундаментальной научной трансформа-
цией. И здесь, конечно, возникает вопрос, как этот «мультиреволюционный взрыв»
относится к постнеклассической науке? Этот вопрос здесь только ставится, он требует
дальнейших специальных исследований, хотя возможны по меньшей мере два варианта
ответа на этот вопрос. Можно считать такой интегративно-общенаучный «взрыв»
в качестве новой формы дальнейшего нелинейного продолжения и развёртывания
«постнеклассических потенций» науки. Но также не исключено, что довольно быстро
112
по историческим масштабам времени может произойти принципиально новая «гло-
бальная научная революция», которая получит новое наименование.
Ссылки
Абылгазиев, Ильин, Кефели (ред) 2017 – Глобальная геополитика. М .: Изд-во Московского
ун-та, 2017.
Барлыбаев 2016 – Барлыбаев Х.А. Солидарология (Философия солидарности). Уфа: Китап, 2016.
Будыко 1977 – Будыко М.И . Глобальная экология. М.: Мысль, 1977.
Вернадский 1991 – Вернадский В.И . Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991.
Загладин, Фролов 1981 – Загладин В.В., Фролов И.Т . Глобальные проблемы современности.
Научный и социальный аспекты. М.: Изд-во «Международные о тношения», 1981.
Ильин, Урсул, Урсул 2012 – Ильин И.В ., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм:
Идеи, проблемы, гипотезы. М .: Изд-во Московского ун-та, 2012.
Степин 2000 – Степин В. С . Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. М.:
Прогресс-Традиция, 2000.
Урсул 2013 – Урсул А.Д . Глобальные исследования и глобализация науки // Вопросы фило-
софии. 2013 . No11. С . 112 –122 .
Урсул 2018 – Урсул А.Д. Глобалистика и глобализационные исследования: cтановление но-
вых интегративных направлений // Философская мысль. 2018 . No 4, С.17 –29.
References
Abylgaziev, Igor I., Ilyin, Iliya V. (ed) (2012) 3G: Globalistics, Global Studies, Globalization Studies:
Scientific Digest (2012) / Ed. by I. I . Abylgaziev, I. V . Ilyin. MAKS Press, Moscow.
Abylgaziev, Igor I., Ilyin, Iliya V., Kefeli Igor F. (ed.) (2017) Global Geopolitics. Publishing house of
Moscow University, Moscow (in Russian).
Barlybaev, Halil' A. (2016) Solidarology (Philosophy of solidarity). Kitap, Ufa (in Russian).
Budyko, Mihail I. (1977) Global Ecology. Mysl', Moscow (in Russian).
Vernadsky, Vladimi r I. (1991) Scientific thought as a planetary phenomenon . Nauka, Moscow
(in Russian).
Zagladin, Vadim V., Frolov, Ivan T. (1981) Global problems of our time. The scientific and social as-
pects. Publishing House "International relations", Moscow (in Russian).
Ilyin, Iliya V., Ursul, Arkady D., Ursul, Tatiana A. (2012) Global evolutionism: Ideas, problems, hy-
potheses. Publishing House of Moscow University, Moscow (in Russian).
Stepin, Viacheslav S. (2000) Theoretical knowledge: Structure, historical evolution. Progress-
Tradition, Moscow (in Russian).
Ursul, Arkady D. (2013) ‘Global studies and the globalization of science’, Voprosy Filosofii, Vol. 11,
pp. 112 –122 (in Russian).
Ursul, Arkady D. (2018) ‘Globalistics and globalization studies: formation of new integrative direc-
tions’, Philosophical thought. No. 4, рp. 17 –29. (in Russian).
Сведения об авторе
УРСУЛ Аркадий Дмитриевич –
доктор философских наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, академик
АН Молдавии, директор Центра глобаль-
ных исследований, профессор Факультета
глобальных процессов МГУ им. М .В . Ло-
моносова.
Author’s information
URSUL Arcadiy D. –
DSc in philosophy, honored scientist of the
Russian Federation, academician of the Acad-
emy of Sciences of Moldova, director of Cen-
ter for global studies, professor of the Faculty
of global processes of MSU.
113
Конфликт самореференций человека
© 2019 г.
А.П. Попов
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: sightled1@gmail.com
Поступила 28.04.2018
В статье проведен анализ понятия самореферентности в дискурсе ра-
дикального конструктивизма. Самореферентность понимается в каче-
стве фундаментальной характеристики процесса познания. В статье
показано, как самореферентность ведет к появлению парадоксов в
объяснении познания. Автором выделяются два противостоящих
внутренних аспекта самореференции: различение и повторение. Вме-
сте с тем, показано, что оба эти аспекта могут сведены к тавтологии.
На материале дискурсов радикального конструктивизма и кибернети-
ки второго порядка автором предложено такое понимание этих аспек-
тов, которое позволяет преодолеть парадоксальность высказываний
второго порядка. Опираясь на полученные результаты анализа, авто-
ром предлагается иной взгляд на проблему познания субъектом само-
го себя. Продемонстрировано, что понимание различения и повторе-
ния в самореференции в качестве тавтологии, открывает возможности
для разрешения проблемы самопознания.
Ключевые слова: радикальный конструктивизм, самореферентность,
парадокс, различение, повторение, конфликт, кибернетика второго
порядка, Х. фон Фёрстер, субъект, познание, рекурсия, наблюдатель.
DOI: 10.31857/S004287440006048-7
Цитирование: Попов А.П. Конфликт самореференций человека // Во-
просы философии. 2019. No 8. С. 113 –123 .
114
Conflict of human self-references
© 2019 г.
Anton P. Popov
Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av.
GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.
E-mail: sightled1@gmail.com
Received 28.04.2018
The article is dedicated to the analysis of the concept of self-reference in the
discourse of radical constructivism. Self-reference is understood as a fundamen-
tal characteristic of the process of cognition. The article shows how self-
reference leads to paradoxes in the explanation of knowledge. The author iden-
tifies two opposing internal aspects of self-reference: disctinction and reiteration.
At the same time, it is shown that both these aspects can be reduced to a tau-
tology. Based on the material of the discourses of radical constructivism and
second-order cybernetics, the author proposes an understanding of these aspects
that allows us to overcome the paradox of second-order statements. Based on
the obtained results of the analysis, the author suggests a different view of the
problem of self-knowledge. It is demonstrated that understanding the distinc-
tion and reiteration in self-reference as a tautology opens up opportunities for
solving the problem of self-knowledge.
Key words: radical constructivism, self-reference, paradox, disctinction, reit-
eration, conflict, second-order cybernetics, H. von Foerster, subject, cogni-
tion, recursion, observer.
DOI: 10.31857/S004287440006048-7
Citation: Popov, Anton P. (2019) “Conflict of human self-references”, Vo-
prosy Filosofii. Vol. 8 (2019), pp. 113 –123 .
Вопрос о сущности или природе субъекта в философии относится к разряду клас-
сических. Вместе с тем, существует укоренившаяся тенденция к отождествлению по-
нятий «субъект» и «человек», которая задает иную формулировку, превращая вопрос
о субъекте в вопрос о познании субъектом самого себя, т.е. самопознании, вплоть до
того, что самопознание понимается как «высшая цель философского исследования»
(Э. Кассирер). Таким образом, вопрос «Что такое человек?» приобретает гносеологи-
ческое звучание и интроспективную направленность. Традиционно в рамках фило-
софского дискурса проводится различие между «Я» и тем, что объединяет в себе все,
не относящееся к «Я» именно с позиции внутреннего наблюдателя – так возникает
субъект-объектная оппозиция.
Позиция внутреннего наблюдателя в данном случае полагается как непосредствен-
ная данность, которой приписывается идеальный или материальный характер. Отсю-
да следует различие «Я» и субъекта. «Я» может специфицироваться как изменяющее-
ся или расщепленное, в то время как позиция непосредственно данного субъекта
остается неподвижной и постоянной. По большому счету, такой субъект выступает
в качестве объяснительного принципа, призванного обеспечить разговору о «Я» от-
правную точку, должную стать по-картезиански ясной и отчетливой. Присутствие
означенного субъекта выводится как следствие из утверждения существования раз-
мышляющего. Речь ведется о той феноменальной области, в которую включен ре-
флексирующий внутренний наблюдатель, и которая воспринимается им как его
жизнь, а уже затем делается вывод, что кто-то еще стоит над этой феноменальной
областью и над самим наблюдателем.
115
Если мы сведем самопознание к познанию только этого кого-то еще, то не под-
меняем ли мы таким образом предмет разговора? Действующий, чувствующий, со-
мневающийся, словом, живущий индивид отодвигается своим исследователем на
второй план, и взамен постулируется присутствие обезличенного субъекта – ядра
познания. Но сам интроспективный метод (а метод должен быть интроспективным,
поскольку невозможно исследовать сознание индивида in vitro) не позволяет дать
какую-либо позитивную характеристику этому ядру познания, или, иными словами,
это ядро оказывается сокрытым от взгляда исследователя.
Формулировка вопроса «Кто осуществляет познание?» несет в себе социологический
смысл, т.е. подразумевает отношение к этому кому-то как к Другому, его объективацию.
Вопрошающий узнает о себе через Другого и, в конечном счете, вопрошает о Другом.
Парадоксальность заключается в том, что вопрошая о Другом, вопрошающий получает
ответ о себе самом, или, что то же самое, рассматривает Другого на своем, вопрошающе-
го, месте. В результате полученный ответ сопрягается с идеей Другого, которая предстает
перед внутренним наблюдателем как идея его «Я».
В интерпретации радикального конструктивизма вопрос «Кто осуществляет по-
знание?» формулируется как вопрос «Кто осуществляет конструирование?». В дан-
ном контексте вопрос трансформируется следующим образом: «Кто осуществляет
конструирование самого себя?». В попытке избежать упомянутого ранее парадокса
широко используется ставшая классической дихотомия «конструктора» как идеально-
го субъекта и различных эмпирических трактовок «Я ». Например, различие между
трансцендентальным и эмпирическим «Я» у Канта, трансцендентальное и психологи-
ческое «Я» Гуссерля, «Je» и «Moi» у Сартра [Труфанова 2010, 15–30]. Подобным во-
просом задавался и Н. Луман, указывая на парадоксальность кибернетики второго
порядка в применении к массмедиа (но и в более общем смысле, конечно же, тоже):
«Другими словами, массмедиа – как наблюдатели – остаются невидимыми для самих
себя. Они оперируют, обращаясь к миру, и не подвергают рефлексии то, что уже эта
обращенность порождает непомеченное пространство, в котором они сами пребыва-
ют» [Луман 2005, 182]. Луман видит и возможность развития в этой парадоксально-
сти: она, по его разумению, есть только промежуточная стадия, призванная освобо-
дить размышление от догматических оков. Основа этой парадоксальности лежит
именно в различении: «я – парадокс моего различения, единство того, что я утвер-
ждаю как различное» [Там же, 188].
Термин «самопознание» оказывается неподходящим. Знание о ядре познания не
эквивалентно знанию о человеке хотя бы потому, что первое лишено позитивной
характеристики. Самопознание в таком случае следует понимать как знание о знании
человека, т.е . как термин теории второго порядка, как предлагает обозначать подоб-
ные понятия Х. фон Фёрстер [Цоколов 2000, 145]. Стоит отметить, что понимаемое
в таком ключе самопознание не является просто «знанием о знании» (по аналогии,
скажем, со «знанием о яблоке»), оно есть знание о себе самом: рекурсивно и саморе-
ферентно. Такое второпорядковое знание о знании мы будем понимать как модель
знания и, в более широком смысле, производства этого знания – мышления, по-
скольку оно является объектом конструирования. Наша цель здесь – провести анализ
такой характеристики данной модели как самореферентность.
В самом понятии самореферентности уже подразумевается инаковость. Это видно из
вопроса о том, кто выступает в качестве референта: в данном конкретном случае кто
относится к приставке само-, выражаясь в вопросе «кто сам?». Ответ на этот вопрос
принимает форму инаковости, Другого, проводя различение между вопрошаемым кто и
вопрошающим о нем. Это самореферентное отношение, принимающее форму различе-
ния, занимает позицию субъекта. Таким образом, на позиции субъекта мы обнаруживаем
организационное отношение, т.е. характеристику модели знания. Такое организационное
отношение, как нам представляется, не может быть истолковано как в качестве транс-
цендентального субъекта, так и любого другого «ядра» познания. Даже если мы допу-
стим, что классического субъекта в философии можно представить в качестве такого
отношения, то заново поставленный вопрос «Кто осуществляет познание?» преобразует
116
упомянутое отношение в форме инаковости, т.е. опять же в образе Другого, что только
создаст следующую форму различения в модели знания.
Стоит отметить важную особенность модели и самореферентности в качестве ее
характеристики. Принцип круговой причинности, описанный в рамках кибернетики
Винера как принцип обратной связи [Rosenblueth, Wiener, Bigelow 1943], нашел свое
применение и в дискурсе радикального конструктивизма — в кибернетике второго
порядка, разработанной Фёрстером, в которой он приобретает вид кругообразной
циркуляции сигнала или, в философской его трактовке, принципа кругообразности,
согласно которому стирается различие между входным и выходным сигналами [Цо-
колов 2000, 140–141]. Применительно к рассматриваемой здесь модели знания это
означает следующее: единственным референтом для конструируемого объекта высту-
пает конструирующий его индивид. Таким образом, возникающий в различении объ-
ективированный образ «Я» вопрошающего индивида (который принимает форму сво-
ей инаковости, Другого) сам выступает в качестве объекта конструирования, из чего
мы делаем вывод о том, что процесс конструирования «Я» сам обладает свойством
самореферентности, и, следовательно, сконструированное «Я», подчиняясь принципу
кругообразности, является одновременно как входным, так и выходным сигналом,
т.е. является одновременно конструкцией и определяющей причиной для любой дру-
гой конструкции, включая себя самого. Или, выражаясь более ясно, «Я» является
продуктом и исходным материалом для себя самого; в этом смысле оно обладает
свойством кругообразности или, применительно к описанной модели знания, само-
референтности. Таким образом, все, что индивид знает о себе самом, содержится в
конструкции его собственного «Я». Данное положение можно проиллюстрировать
разницей между двумя утверждениями: 1) Я знаю, что такое эта вещь; 2) «Я» знаю ,
что такое эта вещь. Первое утверждение сформулировано так, как если бы было вы-
сказано в пространстве феноменальной реальности познающего индивида, тогда как
второе — это интерпретация первого утверждения в виде самореферентого второпо-
рядкого знания о знании, т.е . понятое как «Я», знающее о своем знании.
Из того обстоятельства, что «Я» индивида реферирует к самому себе (знает о своем
знании), можно провести параллель к референту всякого сконструированного объекта.
Таким референтом может и должно выступить это «Я». Для иллюстрации данного по-
ложения рассмотрим концепцию знака в радикальном конструктивизме, предложен-
ную Л. Кауфманом. «Я изображаю фигуру ⌉, и прошу вас, своего читателя, представить
себе, что это усеченный квадрат. Изображение квадрата создает различие между внут-
ренним и внешним пространством на плоскости. Я прошу вас интерпретировать это
изображение в качестве знака, который отсылает к упомянутому различию. Различие, к
которому отсылает этот знак, это целиком и полностью тот процесс, который вы, чита-
тель, производите, когда вступаете во взаимодействие с индикаторной плоскостью ва-
шей страницы в журнале или на экране компьютера, чтобы прийти к этому различию.
Данный процесс требует от вас всего того, что вы собой представляете. Это способ ука-
зания на изображение. Утверждение о существовании этого изображения требует от вас
всего, чем вы являетесь во всей той вселенной, которая вам дана. Вселенная разомкну-
лась и произвела вас, изображение квадрата, страницу, мир. Изображение произвело
вас и все остальное. Вы произвели изображение и все остальное. Все остальное произ-
вело вас и изображение» [Kauffman 2017, 28].
Символ «⌉» и метод топологического различия, использованные Кауфманом, были
введены Дж. Спенсером-Брауном. В цитате Кауфман демонстрирует нам то упомяну-
тое обстоятельство, что всякое наше знание — это в первую очередь знание «Я» о
себе самом. Так, «Я» знает не просто конкретный объект, но и знает в себе этот объ-
ект. Любой объект в феноменальной реальности только потому имеет место в этой
реальности, что «Я» знает о нем. Кроме того, «Я» знает этот объект не как обособ-
ленный, т.е . этот объект не есть вся феноменальная реальность (или сам по себе не-
зависимая феноменальная реальность). «Я» знает его в феноменальной реальности, и
даже больше: знает себя в этом объекте, поскольку полагает феноменальную реаль-
ность, в которой обнаруживает объект такой, что в этой же реальности обнаруживает
117
и себя самого. Можем ли мы теперь заключить, что объект, феноменальная реаль-
ность и само выражение «“Я” знает себя в объекте» есть какая-то трансценденталь-
ная точка зрения в том же смысле, в каком радуга есть явление дождя, который сам
есть явление или, в данном случае, что «Я» знает не себя в объекте, а знает свое зна-
ние о себе, которое и есть объект, который он знает? Подобные совершенно не эле-
гантные и громоздкие формулировки являются прямым следствием автологических
парадоксов, возникающих в кибернетике второго порядка: ранее мы уже упоминали
эти парадоксы, ссылаясь на работу Лумана. Нам кажется, что именно принцип кру-
гообразности, примененный по отношению к самореферентной модели знания, спо-
собен наделить эту парадоксальность продуктивностью.
Кибернетика второго порядка, как указал Луман, имеет дело с парадоксом наблю-
дателя, который указывает на невозможность наблюдения себя самим собой. Надо
так же учитывать, что речь может вестись и не о реальных наблюдателях, а о тех кон-
струкциях, которые они наблюдают. В таком виде проблема была сформулирована
Кантом: «Но каким образом Я, которое мыслит, отличается от Я, которое само себя
созерцает (причем я могу представить себе еще и другие способы созерцания, по
крайней мере как возможные), и тем не менее совпадает с ним, будучи одним и тем
же субъектом? Каким образом, следовательно, я могу сказать, что я как умопостига-
ющий (Intelligenz) и мыслящий субъект познаю самого себя как мыслимый объект,
поскольку я, кроме того, дан себе в созерцании, только познаю себя одинаковым
образом с другими явлениями (здесь мы допускаем, что “созерцание” и “явление”
синонимичны — А .П.), не так, как я существую для рассудка, а так, как я себе явля-
юсь?» [Кант 2011, 144].
Способность наблюдателя наблюдать самого себя может быть объяснена через
кругообразность наблюдения. Когда Кант задается вопросом, каким образом мысля-
щее отличается от мыслимого, он исходит из априорного трансцендентального по-
нимания субъекта. Если на позиции субъекта оказывается фигура априорного иде-
ального наблюдателя, то мы вынуждены (как вынужден был и Кант) провести разли-
чение: «Я, которое мыслит» и «Я, которое само себя созерцает». Мы имеем дело уже
с двумя разными «Я» и возвращаемся к организационному отношению в модели зна-
ния. Затруднение разрешается, если объяснить его как кругообразное. Возникающий
в различении Другой не одновременен с тем, кто вопрошает о нем. Вопрошающий
сталкивается с тем обстоятельством, что ответ уже был дан заранее.
Прояснить этот момент не представляется нам возможным без нескольких пред-
варительных замечаний по конструктивистскому подходу к проблеме времени. Время
в конструктивистском дискурсе понимается не как некое абсолютное понятие в нью-
тоновском смысле, а находится в зависимости от применяемых нами методов объяс-
нения явлений и, в более широком смысле, от сконструированных нами объектов в
феноменальной реальности. Фёрстер приводит два, по его словам, фундаментальных
принципа, лежащих в основе научного метода. Первый принцип гласит, что те зако-
номерности, которые мы наблюдали в прошлом, должны быть применимы и иметь
силу в будущем. речь здесь ведется о законе сохранения. Второй принцип, о котором
он говорит, это закон достаточного основания. Фёрстер пишет о нем следующее:
«Почти все во вселенной не имеет значения. Данное утверждение обычно называют
принципом необходимого и достаточного основания, и то, что он требует, станет для
нас ясным, как только мы поймем, что “релевантность” это тройное отношение, ко-
торое соотносит один набор пропозиций (P1, P2, ...) с другим набором пропозиций
(Q1, Q2, ...) в сознании (М) того, кто хочет установить это отношение. Если P – это
те причины, которые должны объяснить наблюдаемые эффекты Q, тогда принцип
необходимого и достаточного основания вынуждает нас подвергать редукции наблю-
даемые эффекты до тех пор, пока мы не достигнем того достаточного основания,
которое стало причиной искомых эффектов: все остальное во вселенной не должно
иметь к этому отношения» [Foerster 2003, 204].
Наибольший интерес и значение для конструктивистского подхода имеет замечание
Фёрстера о том, что между двумя наборами пропозиций присутствует посредник –
118
сознание М. Соответственно, если мы соотносим какое-то событие в прошлом с собы-
тием в наблюдаемом настоящем, то мы имеем дело не с реальным прошлым (реальное
прошлое, очевидно, вообще не может стать объектом наблюдения), а с той конструк-
цией прошлого, которую мы выстраиваем как наблюдатели. Так как два набора этих
пропозиций (события в прошлом и события в настоящем) соотносятся в сознании
наблюдателя, то и время как отношение между двумя этими событиями полностью
принадлежит наблюдателю. Более того, искомый отрезок времени между двумя такими
событиями (то самое отношение между ними в сознании наблюдателя) не является,
как сказал бы Кант, их формальным априорным условием. Если одно событие являет-
ся причиной другого события, то делается вывод, что событие-причина не могло
предшествовать во времени событию-следствию. И только в этом заключении появля-
ется представление о времени.
Теперь мы можем сделать вывод, что мыслимый объект – Другой – это не ответ,
который поступает после заданного вопроса о том, кто осуществляет процесс кон-
струирования, поскольку представление о временном термине «после» появляется
только вместе с различением, а это, согласно принципу круговой причинности, тот
выходной сигнал, который вместе с тем есть и входной сигнал для модели знания –
это следствие ее самореферентной организации. Если «“Я” мыслящее» и «“Я” мыс-
лимое» совпадают в том смысле, что они есть сразу входной и выходной сигналы для
модели знания, т.е. мыслимый объект совпадает с тем, кто его мыслит, мы можем
сделать вывод, что мыслящее «Я» в таком кругообразном отношении повторяет себя
в мыслимом объекте. Повторение обнаруживается и в каждой произведенной инди-
видом конструкции, поскольку если мыслимое «Я» появляется в различении как объ-
ект, то мы можем также экстраполировать возникающее в самореферентном отноше-
нии повторение на другой объект в феноменальной реальности, приходя тем самым к
суждению, которое высказал в приведенной ранее цитате Кауфман: «Вселенная разо-
мкнулась и произвела вас, изображение квадрата, страницу, мир. Изображение про-
извело вас и все остальное. Вы произвели изображение и все остальное. Все осталь-
ное произвело вас и изображение». К похожей мысли приходит и Э. фон Глазерс-
фельд. Например, так он рассуждает о том, как вместе с объектом появляется и фе-
номенальная реальность: «Создание “индивидуальной идентичности” несет в себе
важные следствия. Если два представления в опыте, которые мы хотим рассматривать
как представления об одном и том же объекте, не следуют сразу же одно за другим,
то мы должны найти способ для их сохранения ... Другими словами, создавая ин ди-
видуальные идентичности, которые мы можем затем снова воспроизвести в опыте,
мы тем самым создаем и полностью обустроенный независимый мир, который суще-
ствует вне зависимости от того, воспринимаем мы его в опыте или нет» [Glasersfeld
1995, 119]. Кант также отмечал (в несколько ином виде), что «сознание моего соб-
ственного существования есть вместе с тем непосредственное сознание существова-
ния других вещей вне меня» [Кант 2011, 224]. Кант приходит к этому положению в
ходе доказательства существования внешних предметов и совершает его посредством
временного определения, которое, по его мнению, может основываться только на
чем-то постоянном, чего не может быть ни в «Я», ни в представлениях о вещах, а
только в реальных вещах. Именно они выступают в качестве осн ования для времен-
ного определения. Кант вводит в своем доказательстве время в качестве непосред-
ственной данности для наблюдателя.
Как получилось, что обозначенное нами различение между «Я» и тем «Я», которое
оно мыслит как объект, как Другого, есть вместе с тем и повторение первого, мыс-
лящего «Я» о себе самом? Попробуем проследить, каким именно образом строится
данное отношение в модели знания. То, что сейчас здесь будет предложено, в какой -
то мере напоминает фокус с наперстками (в особенности, когда речь идет о таком
предмете как человеческое «Я»), но тем не менее поможет нам яснее представить
себе форму отношения в самореференции.
Разработанная учеником Б. Рассела, философом и математиком Д. Спенсером -
Брауном «логика различений» [Spencer-Brown 1972] стала одним из теоретических
119
оснований тогда еще только зарождающегося радикального конструктивизма: в част-
ности особое значение понятию «различения» придавали У. Матурана и Ф. Варела,
следовали идеям Спенсера-Брауна также Н. Луман и Л. Кауфман. Особую ценность
«логики различений» мы усматриваем в новом осмыслении проблем самореферент-
ности. Наибольший интерес, как представляется, будет иметь демонстрация этой ло-
гики на примере видоизмененного парадокса Эпименида.
Рассмотрим предложение «То, что я сейчас утверждаю — ложно». Представим его
в таком виде: I) «Я утверждаю нечто», II) «Нечто, что я утверждаю — ложно». Пара-
докс возникает, если совместить оба эти утверждения так, чтобы первое сначала под-
чинило себе второе, а затем второе переподчинило себе первое [Бейтсон 2016, 112]:
«Я утверждаю: “То, что я утверждаю — ложно”». Допустим, что утверждение I можно
представить как «Я утверждаю то, что утверждаю». Тогда мы сможем оперировать
пространством «То, что я не утверждаю», поскольку выделение этого пространства
оставит нам только область «То, что я утверждаю».
Обозначим пространство как Х, а область утверждения как Y. Пространство Х,
таким образом, задает форму области Y, это способ их различения. Описание про-
странства X может заменить собой описание области Y так, что утверждение I пред-
ставимо как «То, что я не утверждаю», поскольку X есть форма Y. Допустим, что
утверждение II теперь можно представить как «Нечто “то, что я не утверждаю”, лож-
но» или «Нечто, что различено на X, ложно». Далее, представим себе «Нечто, что
различено на X, ложно» как «Все то, что не различено на X, ложно» по аналогии с
тем, что мы проделали с утверждением I. Теперь «Все то, что не различено на Х,
ложно» представим как форму «Все, что различено на Х, не ложно». Далее, соединим
утверждения I и II в одном предложении так, что «Я не утверждаю: “Все, что не раз-
личено на X, ложно”». «Я не утверждаю», что это пространство X, на котором прово-
дится различение, как мы это видим из формы Y утверждения I. Следовательно: «На
пространстве Х различено “то, что не различено на Х — ложно”». Применив форму,
которую мы вывели для утверждения II в конце предыдущего абзаца, получаем: «На
пространстве Х различено то, что “то, что различено на пространстве Х — не лож -
но”». Теперь предложение можно безболезненно сформулировать как «На простран-
стве Х различено то, что различено на пространстве Х», т.е . утверждение в предложе-
нии повторилось. Достаточно вольное оперирование формами утверждений может
поставить под сомнение состоятельность метода, который мы планируем использо-
вать при построении модели знания.
Наблюдатель, обладающий способностью определять границы проводимых им
различений, попадает внутрь этих границ или (что, как мы видим из примера, то же
самое) за их пределы, создавая различения, которые приводят его к повторениям и
vice versa: «Существование наблюдателя конституировано процессом проведения раз-
личий» [Schmidt 2011, 154].
Сказанное касается теорий (методов превращения) первого порядка. Второпорядко-
вые теории обладают, как нам кажется, свойством самоприменимости, таким, что воз-
можно представить себе систему методов систем методов систем методов ... etc., где си-
стемы методов повторяются для каждой системы методов. Одним из главных недостатков
как кибернетических систем, т.е. систем с обратной связью, так и систем, которые опи-
саны с помощью теорий второго порядка, является их неустойчивость. Имеется в виду,
что при описании таких систем информация становится избыточной (не в кибернетиче-
ском смысле): наращиваются порядки рефлексии, строятся новые описания; весь этот
процесс продолжается до тех пор, пока система не разрушается либо из-за механических
проблем, либо вследствие неспособности наблюдателя обработать избыточную информа-
цию. Существует и другое измерение устойчивости таких систем, о котором говорит,
например, Э. Морен: «... Рекурсивные организации являются такими организациями,
которые ... при возрастании энтропии и посредством ее возрастания производят стацио-
нарные состояния...» [Морен 2005, 224]. Оба измерения имеют дело с процессами обрат-
ной связи, и оба находят свое разрешение в рекурсии, просто одно имеет дело с инфор-
мацией, а другое с термодинамикой.
120
Круговая причинность как рекурсия (...исходное → конечное → исходное...) мо-
жет быть сведена к тавтологии подобно тому, как парадокс Эпименида был сведен
в к утверждению вида «Х есть Х», тем самым избегая производства разрушительной
для системы избыточности. Тавтология изначально заложена в рекурсии, поскольку
конечный результат рекурсивной операции является вместе с тем и исходным эле-
ментом: конечный результат и исходный элемент рекурсивной операции повторяют
друг друга. Тавтология в данном случае выступает как аналог понятия гомеостаза,
т.е. равновесия, которое производится рекурсией и вместе с тем выступает исходной
точкой различения начального и конечного, тавтологически повторяющихся в рекур-
сии. Такая тавтология должна быть положена и в основание свойства самопримени-
мости теорий второго порядка. Так, если мы говорим о «знании» в теории первого
порядка, в теории второго порядка разговор переходит на «знание о знании»; чтобы
затем поддержать устойчивость и стабильность теории, избавиться от избыточности,
«знание о знании знания» представимо в терминах второго порядка: такая теория уже
рекурсивно описала саму себя. Свойство самоприменимости обнаруживается в лю-
бом второпорядковом утверждении. Само это свойство не является открытием или
важным дополнением для философии, тем не менее, его эксплицитное выражение
может представлять собой предмет специального интереса.
Если мы рассматриваем самореференцию в самонаблюдении, т.е. самореферент-
ное отношение между мыслящим «Я» и «Я» как предметом теории второго порядка,
то самоприменимость обнаруживается в том, как «Я» в повторении конструирует се-
бя как объект, и, далее, как такой объект снова повторяет процесс собственного кон-
струирования. Иными словами, как только предмет теории второго порядка в раз-
мышлении становится предметом этого размышления, вслед за ним предметом раз-
мышления становится и сама теория второго порядка. Наблюдение за наблюдением
за объектом само тогда становится наблюдением-за-собой в качестве объекта. Полу-
чившееся повторение и представляет собой тавтологию.
Самореференция несет в себе и различение, без которого не мыслима ни одна
тавтология. «Если P верно, то P верно» невозможно представить себе без различения
этого P. Точно так же невозможно представить себе наблюдение наблюдения без раз-
личения в наблюдении. Относительно свойства самоприменимости это будет озна-
чать, что всякое утверждение второго порядка, которое описывает само себя как свой
предмет, должно нести в себе различение, чтобы такое описание стало возможным.
Предмет теории второго порядка, который повторился, должен был быть различён
и вместе с тем повторен в различении. Из чего мы делаем общий вывод: различение
и повторение в самореференции тавтологичны.
Теперь мы можем рассмотреть те следствия, которые несет этот вывод для описа-
ния модели знания. Возвращаясь к парадоксу наблюдателя, на который указывал Лу-
ман, принципиальная скрытость наблюдателя для самого себя снимается, если разли-
чение и повторение понимаются нами как тавтология. Если мы строим такую теорию
второго порядка, которая учитывала бы свою самоприменимость, то скрытый от наше-
го взгляда различенный наблюдатель повторяет собой то, что о нем сказано в теории
первого порядка, на языке которой формулируется уже в теории второго порядка. Не-
помеченное пространство наблюдателя (как предмет теории второго порядка) и мир
(в данном случае, как предмет теории первого порядка), обращенность наблюдателя
к которому и создает это непомеченное пространство, могут быть сведены к тавтологии.
Мир, к которому обращен наблюдатель, как бы «обрамляет» собой непомеченное про-
странство, создавая его форму, а само это пространство в свою очередь задает собой те
границы, за которыми лежит мир: и непомеченное пространство, и внешний ему мир
представимы как описания друг друга, в этом смысле они друг друга повторяют.
Проблема самореферентного отношения между «Я» мыслимым (N) и «Я» мыслящим
(S) представима подобным же образом. S, которое наблюдает N, задает собой то про-
странство F, на котором присутствует объективация. И это F выделяет собой непомечен-
ную область, на которой расположено S. В различениях F выделяется та граница, кото-
рая разделяет S и N. Таким образом, S, которое выделено в области, «обрамленной» F
121
(как описание вида SF) и N, расположенном на F (как описание вида NF), описывают
друг друга. Если выделено SF, то его граница описывает NF, если выделено NF, то его
граница, следовательно, описывается SF. NF повторяет собой описание SF, а SF повто-
ряет собой описание NF, поскольку в описании одного уже содержится и описание вто-
рого и наоборот. При этом, если мы рассматриваем, скажем, SF, то в различении F вы-
деляется область NF и наоборот. Если мы рассматриваем самореферентное отношение
между мыслящим и мыслимым в рамках теории второго порядка, то оно есть знание об
этом отношении. Так как не может быть знания без его носителя, порядки рефлексии
начинают нарастать. Чтобы избежать избыточности, мы замыкаем круг мыслящее-
мыслимое-мыслящее.
В своей программной работе «Биология познания» У. Матурана приводит следу-
ющие основополагающие принципы радикального конструктивизма: «Все сказанное
сказано наблюдателем. Речь наблюдателя обращена к другому наблюдателю, в каче-
стве которого может выступать он сам ... Для наблюдателя сущность является сущно-
стью, когда он может описать ее. ... описать какую-либо сущность наблюдатель мо-
жет лишь в том случае, если имеется по крайней мере еще одна сущность, от кото-
рой он может отличить первую...» [Матурана, Петров (сост.) 1995, 97]. Выявить са-
моприменимость теории означает, помимо прочего, признать, что для любого тезиса
данной теории требуется наблюдатель, без которого она не имеет смысла. Чтобы по-
ложение о том, что самореферентное отношение в теории второго порядка представ-
ляет собой знание об этом отношении, имело какой-либо смысл, необходим наблю-
датель. Строго говоря, чтобы этот текст имел смысл, ему необходим читатель. Точно
так же знанию требуется носитель. Чтобы теория стала избыточной, необходим кто-
то, кто мог бы описать эту избыточность. Именно в этом смысле любое положение
теории второго порядка является высказыванием теории первого порядка, поскольку
только в форме последней, т.е. мыслимой, она может иметь смысл.
Мыслящее представимо, таким образом, только в своем раз личении как мысли-
мое. Если у нас нет никакой реальной возможности помыслить что-либо иначе как
в виде утверждений теории первого порядка, то любое утверждение теории второго
порядка должно повторять свою формулировку в виде утверждения первого порядка,
что ранее мы назвали тавтологией. Такая разновидность кругообразности отвергает
всякую иерархию, она, используя термин, который впервые был введен У. МакКал-
локом, гетерархична [McCulloch 1945, 89–93]. Данное положение можно одновре-
менно рассматривать и как критику кибернетики второго порядка, и как сильный
аргумент в ее пользу. В конечном счете, это будет зависеть от наблюдателя. Так что
если мы зададимся вопросом, реально ли влияние первопорядковых утверждений о
мышлении на саму модель этого мышления, или, выражаясь иначе, меняет ли опи-
сание принципов работу этой системы, то, учитывая тавтологичность обоих поряд-
ков, мы должны были бы признать эту реальность. Однако если мы остаемся на по-
зициях радикального конструктивизма, то необходимо сделать уточнение.
Реальность – это только описание наблюдателя, онтологические утверждения
о реальности чужды конструктивизму. И если мы рассматриваем утверждения о
мышлении как тавтологические описания этого мышления, то речь не может идти и
о влиянии одного порядка на другой: они повторяют друг друга. Гетерархичность
выражается не в том, что и первый порядок, и второй порядок мышления оказывают
реальное влияние, скажем, на поведение индивида, а в том, как гетерархия снимает
собой конфликт различения и повторения, заложенный в самореференции, и в том,
как раскрывает через себя свойство самоприменимости теорий второго порядка. Вос-
пользуемся определением К. Крамли, теоретика эпистемологии сложных адаптивных
систем: «Гетерархия может быть определена как отношение между элементами, при
котором эти элементы не ранжированы или обладают потенциалом для ранжирова-
ния несколькими способами» [Crumley 1995, 3].
Необходимо различать два состояния: быть ранжированным и обладать потенциа-
лом для ранжирования. Обладание потенциалом не подразумевает ранжированности.
«Обладать потенциалом» для модели знания означает то, что она как описание
122
мышления второго порядка обладает свойством самоприменимости, т.е. возможно ее
описание как утверждения первого порядка. Небольшое смущение вызывает конечн о
терминология: «первый порядок», «второй порядок». В числительных отчетливо вид-
на возможность ранжирования. Предположим, что есть ряд переменных a, b, c. Если
мы их поименуем как 1, 2 , 3, появляется желание приписать этим переменным от-
ношение подчинения, увидеть в именах переменных числовой ряд. Однако имена
случайны, только наше собственное желание найти закономерность и подчинение
создают эти закономерность и подчинение.
Если рассмотреть самореференцию как гетерархическое отношение между разли-
чением и повторением, то первое будет выражать обладание потенциалом для ран-
жированности, а второе – неранжированность. Мы уже приводили мысль Бейтсона
о том, что парадокс или конфликт между элементами, возникает при отношениях
подчинения, как если бы мы задали вопрос: как что-то может быть повторено, если
оно различается, или как что-то можно различить, если оно повторено? Парадокс и
конфликт возникают вследствие ранжирования (интересно отметить, что сам Бейт-
сон видел разрешение самореферентных парадоксов в ранжировании времени внутри
парадокса). В гетерархическом отношении подчинение отсутствует. Обладать потен-
циалом для ранжирования и быть ранжированным — не одно и то же, а различение
между «обладать потенциалом для ранжирования» и «быть неранжированным» – это
повторение одного описания, что снова возвращает нас к тавтологии.
Ответ на вопрос о том, кто осуществляет познание, понятый в конструктивисткой
перспективе, в действительности ведет к конфликту собственных посылок. Замкну-
тые, кругообразные, самореферентные объяснения познания вызывают справедливые
замечания, поскольку классическая философия требует от них различения познаю-
щего и познаваемого. Такое различение возникает как реальное, поскольку субъект,
мыслящее, понимается субстанциально, а его объект, попадающий в отношение под-
чинения с субъектом, объект, мыслимое, понимается только как тень реальности.
И если поднимается проблема самореференции в познании «Я», то и различение
приводит к конфликту и парадоксу, поскольку не до конца ясно, какую конкретно
реальность «Я» отражает его мыслимая тень. И затем возникает позиция субъекта, но
никак не сам субъект.
Радикальный конструктивизм, претендующий на преодоление различения, отме-
жевывается от классической дихотомии реальности и ее мыслимых образов. В этом
смысле он очень практичен, поскольку не занимается поиском феноменальных опре-
делений трансфеноменальных предметов, его поиск уже закончен, а исследователь
выступает в роли заинтересованного наблюдателя. То обстоятельство, что наблюде-
ние влияет на наблюдаемые объекты, уже достаточно давно было признано научным
сообществом. Закономерно спросить себя: почему что-то должно быть иначе, если
в качестве объекта наблюдения выступает сам наблюдатель? Проведенный анализ
самореференции и того конфликта различения и повторения, который в ней появля-
ется как следствие догматических установок классической эпистемологии, сводится
к тавтологии, которая снимает этот конфликт. Дилемма мыслимого и мыслящего
в теории второго порядка подобна рядам поименованных переменных: достаточно
принять, что имена случайны, их породил сам познающий субъект.
Замечание о случайности само отнюдь не случайно (хотя и это, строго говоря, за-
висит от наблюдателя), без случайности не могло бы быть и развития. В этом серьез-
ное отличие между тавтологией в рассмотренной здесь модели знания и формальны-
ми тавтологиями вида «если p, то p». Самоприменимость теории второго порядка
открывает двери для случайности, поскольку теория сама есть свой предмет. Воз-
можно даже, что такая самоприменимость сама не знает своей глубины, вроде той,
которая имелась у плодотворных тавтологий М. Мамардашвили: в мире нет причин
для того, чтобы кому-нибудь быть добрым, но само добро, которое мы творим, есть
утверждение этого добра [Мамардашвили 2001, 51].
Пока еще сложно в полной мере оценить радикальный поворот, обозначенный в
1981 г. выходом в свет сборника «Изобретенная действительность» (Die erfundene
123
Wirklichkeit) под редакцией П. Вацлавика. Полному осмыслению радикальным кон-
структивизмом себя как направления предшествовала длинная череда других осмыс-
лений: в физике, математике, кибернетике, философии. Его радикальность в том, что
он радикализирует в первую очередь способ мышления. «Как только познание более
не понимается как поиск соответствия онтологической реальности, но как поиск
моделей поведения и способов мышления, традиционная проблема [познания] раз-
решается» [Glasersfeld 1987, 212]. Задача конструктивизма, таким образом, состоит не
столько в объяснении феноменов и познавательных процессов, сколько в поиске но-
вых способов мышления. Две эти задачи связаны между собой, если не повторяют
себя тавтологически: поиск новых способов мыслить и поиск мышления для нового
способа мыслить.
Ссылки — References in Russian
Бейтсон 2016 – Бейтсон Г. Разум и природа. Необходимое единство. Nyköping: Philosophical
arkiv, 2016.
Кант 2011 – Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2011.
Луман 2005 – Луман Н. Реальность массмедиа. М .: Праксис, 2005.
Мамардашвили 2001 – Мамардашвили М.К . Картезианские размышления. М .: Прогресс, 2001
Матурана, Петров (сост.) 1995 – Матурана У. Биология познания / Петров В.В. (сост.).
Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1995 С. 95–142 .
Матурана, Варела 2001 – Матурана У., Варела Ф. Древо познания: биологические корни че-
ловеческого понимания. М .: Прогресс-Традиция, 2001.
Мор ен 2005 – Морен Э. Метод. Природа природы. М .: Прогресс -Традиция, 2005.
Труфанова 2010 – Труфанова Е.О . Единство и множественность Я. М.: Канон+, 2010.
Цоколов 2000 – Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма
в современной философии и теории познания. Munchen: PHREN, 2000.
References
Crumley, Carole L. (1995) “Heterarchy and the Analysis of Complex Sciences”, Archeological
Papers of the American Anthropological Association 6, pp. 1 –5 .
Foerster, Heinz von (2003) Understanding Understanding. Essays on Cybernetics and Cognition,
Springer-Verlag, New York.
Glasersfeld, Ernst von (1987) Wissen, Sprache und Wirklichkeit, Vieweg, Wiesbaden.
Glasersfeld, Ernst von (1995) Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning , Falmer Press,
London.
Kant, Immanuel (1787) Kritik der reinen Vernunft, Hartknoch, Riga (Russian Translation 2011).
Kauffman, Louis H. (2017) “Self-Reference and the Self”, Constructivist Foundations Vol. 13, 1, pp. 28 –30.
Luhmann, Niklas (2004) Die Realitat der Massenmedien, GWV Fachverlage Gmbh, Wiesbaden
(Russian Translation 2005).
Mamardashvili, Merab K. (2001) Cartesian reflections, Progress-Tradiciya, Moscow (in Russian).
Maturana, Humberto R. (1970) “Biology of Cognition”, BCL Report 90 (Russian Translation 1995).
McCulloch, Warren S. (1945) “A heterarchy of values determined by the topology of nervous nets”,
The bulletin of mathematical biophysics, 7, pp. 89–93.
Morin, Edgar (1977) La Méthode. La Nature de la Nature, Éditions du Seuil (Russian Translation 2005).
Rosenblueth, Arturo, Wiener, Norbert, Bigelow Julian (1943) “Behavior, Purpose and Teleology”,
Philosophy of Science, Vol. 10, 1, pp. 18 –24 .
Schmidt, Siegfried J. (2011) “The observer story: Heinz von Foerster's heritage”, Cybernetics &
Human Knowing, 18, pp. 151 –155 .
Spencer-Brown, George (1972) Laws of Form, The Julian Press, New York.
Trufanova, Elena O. (2010) Unity and Plurality of the Self, Kanon, Moscow (in Russian).
Tsokolov, Sergey (2000) Discours of the Radical Constructivism, PHREN, Munchen (in Russian).
Сведения об авторе
ПОПОВ Антон Павлович –
аспирант кафедры философской антропо-
логии, философского факультета МГУ.
Author’s information
POPOV Anton P. –
Postgraduate, Department of philosophical
anthropology, Faculty of Philosophy, Lo-
monosov Moscow State University.
124
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Мережковский, или Актуализация религиозно-философских
смыслов европейской культуры*
© 2019 г.
В.К . Кантор
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва,
105066 , ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1.
E-mail: vlkantor@mail.ru
Поступила 11.04.2019
Статья посвящена судьбе одного из крупнейших мыслителей и писа-
телей конца XIX – середины XX вв. Дмитрия Мережковского, созда-
теля романной трилогии «Христос и Антихрист», трактата, потрясше-
го всю Европу, «Л. Толстой и Достоевский», творца смыслов Сереб-
ряного века. Интерес автора сосредоточен на идее второго, христиан-
ского Возрождения, которое, по Мережковскому, должно учесть опыт
Ренессанса; оно «найдет Святую Плоть», обращая сознательные уси-
лия не в предшествующую, языческую эпоху, а непосредственно в са-
мо христианство. Второе Возрождение он видел именно в возможно-
стях образного строя русской литературы, проникнутой веяниями но-
вого таинственного «христианства Иоаннова». Мережковский раньше
Шестова обозначил русскую литературу как русскую философию
в цикле культурфилософских статей – «Грядущий хам», «Больная
Россия», «Пророк русской революции», воспринятых современниками
как откровение новой эпохи. Следом за Иоахимом Флорским Мереж-
ковский актуализировал идею Третьего Завета. Эта актуализация ока-
зала огромное влияние на социум и культуру европейских стран. Ав-
тор показывает, что Мережковский как будто проверяет христианство
на возможность сохранения и реализации свободы человека. Мысли-
тель утверждает, что христианство потеряло саму идею свободы, по-
этому Ницше прав, выступая со своим «Антихристом» против христи-
анской церкви. В статье показано, что идея Третьего Завета Иоахима
Флорского, воспринятая Мережковским, будет способствовать воз-
вращению свободы христианству тогда, когда будет открыт путь ко
второму Возрождению. Всякая идея претерпевает изменения в умах
сторонников. В статье отмечено, что вместо свободы в идее Третьего
Завета нацисты увидели идею Третьего Рейха. Судьба Мережковского
в эпоху нацизма и большевистского тоталитаризма стала бесконечным
бегством. Автор приходит к заключению, что идея свободы, которая
должна была реализоваться в Третьем Завете Мережковского, была
ответом интеллектуала и литератора на практики тоталитарных стру к-
тур идеократии ХХ в.
*
Статья подготовлена в результате проведения работы в рамках Программы фундамен-
тальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
125
Ключевые слова: Серебряный век, революция, война, Зинаида Гип-
пиус и Дмитрий Мережковский, большевизм, нацизм, поэзия, дух и
плоть, Третий Завет, апокалипсис.
DOI: 10.31857/S004287440006049-8
Цитирование: Кантор В.К . Мережковский, или Актуализация религи-
озно-философских смыслов европейской культуры // Вопросы фило-
софии. 2019. No 8. С. 124 –133 .
Merezhkovsky, or Actualization of Religious and Philosophical
Meanings of European Culture
© 2019 г.
Vladimir Kantor
National Research University Higher School of Economics, 21/4, Staraya Basmannaya str.,
Moscow, 105066, Russian Federetion.
E-mail: vlkantor@mail.ru
Received 11.04.2019
The article deals with the fate of one of the greatest thinkers and writers of the
late 19th
–
mid 20th centuries Dmitry Merezhkovsky, creator of the novel trilogy
“Christ and the Antichrist”, a treatise that shook the whole of Europe, “L. Tol-
stoy and Dostoevsky”, the creator of the meanings of the Silver age. The au-
thor’s interest is focused on the idea of the Second, Christian Revival, which,
according to Merezhkovsky, should take into account the experience of the
Renaissance; it “will find the Holy Flesh”, turning conscious efforts not in the
previous, pagan era, but directly into Christianity itself. Merezhkovsky saw
The Second Revival in the possibilities of new imagery of Russian literature,
imbued with the new trends of the mysterious “John’s Christianity”. He out-
lined Russian literature, earlier than L. Shestov, as a Russian philosophy of the
cultures in a series of philosophical articles – “The Forthcoming Ham”, “Sick
Russia”, “The Prophet of the Russian revolution” perceived by contemporaries
as a revelation of a new era. After Joachim of Fiore Merezhkovsky actualized
the idea of the Third Testament. This actualization had a huge impact on the
society and culture of European countries. The author shows that Merezhkov-
sky seems to be testing Christianity for the possibility of preserving and realizing
human freedom. The thinker argues that Christianity has lost the very idea of
freedom, so Nietzsche is right to speak with his “Antichrist” against the Chris-
tian Church. The article shows that the Joachim of Fiore’s idea of the Third
Testament, accepted by Merezhkovsky, would facilitate the return of freedom
to Christianity when the way for the Second Revival will be opened. Every idea
is changing in the minds its of supporters. The article notes that instead of free-
dom in the idea of the Third Testament, the Nazis saw the idea of the Third
Reich. The fate of Merezhkovsky in the era of Nazism and Bolshevik totalitari-
anism was an endless flight. The author comes to the conclusion that the idea
of freedom, which was to be realized in the Third Testament of Merezhkosky,
was the answer of the intellectual and writer to the practice of totalitarian struc-
tures of the ideocracy of the 20th century.
The study has been funded by the Russian Academic Excellence Project '5 -100 '.
126
Key words: Silver Age, revolution, war, Zinaida Hippius and Dmitry Me-
rezhkovsky, bolshevism, nazism, poetry, spirit and flesh, Third Testament,
Apocalypse.
DOI: 10.31857/S004287440006049-8
Citation: Kantor, Vladimir K. (2019) ‘Merezhkovsky, or Actualization of
religious and philosophical meanings of European culture’, Voprosy Filosofii,
2019, Vol. 8, pp. 124 –133 .
Странная судьба у этого классика. Он был невероятно знамен ит при жизни,
в юности общался с Достоевским, приятельствовал с Чеховым, при его жизни не-
сколько раз выходили собрания сочинений, переведен был на все европейские язы-
ки, соперничал с Буниным за Нобелевскую премию. И почти сразу после смерти не
то, что забыт, но как-то отошел на второй план. Как писатель оказался менее вос-
требован чем Чехов, Бунин, т.е . те, с кем он входил в литературу. Как философ ме-
нее философичен, чем С.Л. Франк, С.Н . Булгаков, Н.А. Бердяев и т.д. Как религиоз-
но-политический деятель не имел желаемого им влияния. Увы, прав Марк Алданов,
написавший, что, несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все
времена ругали гораздо больше, чем хвалили. И все же он важная составляющая рус-
ской литературы и мысли. Поэтому нельзя забывать о Мережковском, одном
из крупнейших русских мыслителей и писателей, положившем, строго говоря, начало
Серебряному веку своей книгой «О причинах упадка и новых течениях современной
русской литературы» (1892) и отпечатавшем на этом веке свой мощный оттиск. В том
же году вышел второй поэтический сборник Мережковского с программным для за-
рождавшегося модернизма названием «Символы. Песни и поэмы». Далее пошли рус-
ские символисты, Брюсов и т.д. Степун писал в своей последней книге: «Родона-
чальниками духовного движения, которое получило название Серебряного века, надо
назвать прежде всего Дмитрия Мережковского и Владимира Соловьева. Мережков-
ский не был значительным поэтом, исторические романы его также не высокого
класса. Большое имя и сильное влияние он приобрел как критик культуры, культур-
политик, создатель определенного умонастроения, как “общественный деятель” –
так принято в России называть людей подобного типа» [Stepun 1964, 7]. Эти слова
своего рода итог, подведенный последним представителем Серебряного века. Сфор-
мулированные Мережковским идеи Второго Возрождения и Третьего Завета стали
для него решением мировых противоречий.
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 августа 1866 г. в Санкт-Петербурге,
умер 9 декабря 1941 г. в Париже. Отец его был чиновником, не чуждым литературе,
интересовавшимся разными религиозными проблемами. И в юные годы, когда моло-
дой Мережковский уже стал писать стихи, отец, человек фундаментальный, решил
проверить: есть ли дар, или нет, есть ли, на что ставку делать, или это просто обык-
новенное бумагомарание. Он берет юного Дмитрия и отправляется не к кому иному,
как к Федору Михайловичу Достоевскому. Это было незадолго до смерти Федора
Михайловича. Дмитрию едва исполнилось пятнадцать лет. Они пришли в квартиру
Достоевского, коридор был завален экземплярами не распроданных книг писателя.
Выходит бледный, с воспаленными глазами, Федор Михайлович, дрожащий мальчик
смущенно читал перед ним свои детские стихи. «“Слабо, плохо, никуда не годится, –
сказал Достоевский, – Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!” “Нет, пусть
уж лучше не пишет, только не страдает”, – возразил отец» [Николюкин 2001, 9–10].
Но пришлось Дмитрию Сергеевичу и писать много, и страдать немало.
Женой его была поэтесса, философствующий критик, мемуаристка Зинаида Гиппиус.
Сама великая писательница, она сознательно позиционировала себя номером вторым.
В девичестве имевшая несколько любовников, с некоторой склонностью к однополой
любви, Зинаида, как ее называли, «ласковая кобра», выбрала в результате человека, кото-
рому стала служить со змеиной верностью, насмерть кусая его противников. Когда он
127
умер, она сказала: «Я умерла, осталось умереть только телу», написала книгу мемуа-
ров «Дмитрий Мережковский». Они жили тогда в немецкой оккупации во Франции,
он был уже очень слаб и тем не менее для нее был удар, когда в 1941 г. в ее комнату
вбежала горничная и крикнула: «Мадам, господину плохо».
После кончины мужа Гиппиус начала свои воспоминания о нем, довольно жестко
сформулировав задачи своего текста: «Все жены людей, более или менее замечатель-
ных, писали свои о нем воспоминания. <...> Мы прожили с Д.С. Мережковским
52 года не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день»
[Гиппиус-Мережковская 1990, 284]. Про то, что не разлучались, – это, конечно, поэ-
тическое преувеличение, при всей внутренней правдивости этих слов. Брак свой они
называли реальным в том смысле, что не плоть связывает людей, а дух, так что мож-
но смело говорить о духовном единении. Оно очевидно. Но судьба этого духовного
единства была не простой. Рядом с ними был третий, тезка Мережковского – Дмит-
рий Владимирович Философов, младше своего учителя на несколько лет. Ситуация
не раз отыгранная в мировой культуре. Вспомним историю родителей Гамлета, где
молодой брат соблазнил мать принца. С Философовым у Зинаиды Гиппиус случился
настоящий плотский роман. Зинаида была наступающей, активной стороной, Дмит-
рий Владимирович сломался, писал ей: «Зина, пойми, прав я или не прав, сознателен
или несознателен, и т.д., и т.д., следующий факт, именно факт остается, с которым я
не могу справиться: мне физически отвратительны воспоминания о наших сближе-
ниях. <...> Здесь же все мое существо бунтует и у меня острая ненависть к твоей
плоти. [Злобин 2004, 220].
В Серебряном веке эти тройственные союзы стали едва ли не нормой, вспомним
чету Бриков и Маяковского. В данном случае активной стороной была Зинаида, не
случаен, видимо, ее мужской псевдоним в духе «Серебряного века» – Антон Край-
ний. Философов резко ушел в сторону. Зинаида продолжала писать страстные жен-
ские письма, но разрыв был по сути окончательный: «В конце января 1913 г. Гип-
пиус из Ментоны пишет в Петербург Философову: “Дима, дорогой, любимый, ра-
дость моя милая, приезжай. Так прошу тебя, всей моей душой тебя прошу, никогда
еще так не просила. Мое сердце сейчас к тебе точно на острие. Сюда приезжай, –
если не можешь для чего-нибудь, хоть только для меня одной приезжай. <... > Как
не поймешь? Я люблю тебя сильно и так прошу, так прошу, неотступно, знаю, что
это для меня сейчас и что для меня значит, и для всех”» [Злобин 2004, 230].
Но Философов не вернулся, она давила его. И после этого разрыва, начиная с
первых лет эмиграции, пара Мережковский – Гиппиус становится окончательно не-
разрывной, с единым взглядом на мир и вырастает окончательно в поразительное
явление русской культуры. И Зинаида становится лучшим истолкователем идей му-
жа, хотя, как говорили современники, многие идеи рождались в ее демонической
головке, но канонический облик они обретали под пером Мережковского.
Поэтическая реакция Мережковского показательна:
Люблю иль нет, – легка мне безнадежность:
Пусть никогда не буду я твоим,
А все-таки порой такая нежность
В твоих глазах, как будто я любим.
Но как же воспринимали его великие современники?
Бердяев писал о нем в 1916 г. так (и впоследствии своего отношен ия не менял):
«Он живет в литературных отражениях религиозных тем, не может мыслить о рели-
гии и писать о ней иначе, как исходя из явлений литературных, от писателей. Прямо
о жизни Мережковский не может писать, не может и думать. Он – литератор до моз-
га костей, более чем кто-либо» [Бердяев 2004, 196]. И вправду, он и поэт, и большой
прозаик (автор удивительных исторических романов), и драматург, и переводчик
(переводил Еврипида, Софокла, Гёте, Эдгара По), и религиозный философ, мысли-
тель, который строго говоря создал новое направление в русской культуре, – неохри-
стианство. Бердяев назвал это течение «новым христианством. Но вообще-то такое
понимание литературы как материала для осмысления и переделки жизни лежит в
128
традиции русской критики XIX в., так называемой «реальной критики». О том, что
же есть Мережковский, об идентичности его и его творчества не менее напряженно,
чем Бердяев (но по-другому), размышлял Андрей Белый, словно забывая, что вполне
мог бы обратить этот вопрос к самому себе. «Определите-ка его, кто он: критик, по-
эт, мистик, историк? То, другое и третье или ни то, ни другое, ни третье? Но тогда
кто же он? Кто Мережковский?» [Белый 1994, 376] – со страстью вопрошал он
в 1908 г. Похоже, что именно ему ответил Блок в 1909 г. в газете «Речь», замети в, что
Мережковский «родился художником и художником умрет» [Блок 2001, 246]. Самая
настоящая слава пришла к нему после выхода в 1902 г. трактата «Л.Толстой и Досто-
евский». Вся последующая русская философская публицистика опиралась, спорила,
заимствовала многое из этого трактата. На Западе трактат был переведен и служил
долго объяснением идей двух русских гениев. В эмиграции он принят как лидер рус-
ской культуры. В 1921 г. Томас Манн писал: «Я услыхал <...>, что Мережковский,
бежавший из Советской России, <...> меня посетит. Дмитрий Мережковский! Тот,
чья книга о Толстом и Достоевском произвела на мои двадцать лет такое неизглади-
мое впечатление <...>! Никому не хочется показаться провинциалом, и поэтому
я невозмутимо ответил, что господин Мережковский будет, конечно, желанным гос-
тем. Но в глубине души я не верил ни одному слову. Миф не сидит запросто у тебя в
комнате. Так не бывает» [Манн 2008, 92]. Но так было. Его одобрительного слова
оказалось достаточно, чтобы немецкие издатели поддержали проект Федора Степуна
по изданию сборника «О мессии».
В 1902 г. Чехов внес предложение присвоить писателю звание почетного академи-
ка российской Академии наук. Нынешняя издательница книг Мережковского Елена
Анатольевна Андрущенко пишет: «Выпускникам средних учебных заведений <...>
вместе с документами об окончании курса вручался томик его “Вечных спутников”»
[Андрущенко 2007, 706]. В 1914 г., когда ему было всего 48 лет, вышло собрание его
сочинений в 24-х томах! Академик Котляревский выдвинул его тогда же в первый раз
на Нобелевскую премию, которую он так и не получил. Писательская популярность
пришла к Мережковскому после создания трилогии «Христос и Антихрист», в кото-
рой писатель изложил свою философию истории и свой взгляд на будущее человече-
ства и которая была начата им в 1890-е гг. Первый роман из этой серии «Смерть бо-
гов. Юлиан Отступник» (1895), впоследствии назывался критиками в числе сильней-
ших произведений Мережковского. За ним последовал роман «Воскресшие боги.
Леонардо да Винчи» (1901), в затем вышел третий роман трилогии «Антихрист. Петр
и Алексей» (1904–1905), где Петр по-славянофильски назывался антихристом. Впо-
следствии, после Октября, он резко изменил свои взгляды на Петра, который стал
для него создателем великой России. Но деление мира на тезис и антитезис, Христа
и Антихриста, стало основой его мыслительных построений.
Как пишет Н.К. Бонецкая: «Мережковский был ключевой фигурой для Серебря-
ного века. Дом Мурузи на Литейном проспекте, где жила чета Мережковских, это
второй духовный центр Петербурга 1900-х гг., равнозначный Башне Вяч. Иванова на
Таврической» [Бонецкая 2017, 18]. Стоит сослаться на философического бытописате-
ля эпохи – Андрея Белого: «Здесь, у Мережковского, воистину творили культуру, и
слова, произнесенные на этой квартире, развозились ловкими аферистам и слова»
[Белый 2012 web]. Действительно, «даже и крупнейшие авторитеты в области религи-
озной мысли обязаны своими идеями Мережковскому» [Бонецкая 2012, 99].
Мережковский не принял революцию 1905 г. (не говорю уж об Октябрьской).
В эти годы он пишет две работы, которые до сих пор – среди его наиболее цитируе-
мых работ: «Пророк русской революции (К юбилею Достоевского)» и «Грядущий
хам». По названию последней статьи он выпустил в 1906 г. книгу очерков, где писал,
что Россия стоит на пороге «мировой судороги» – революции, главный деятель кото-
рой – Хам, страшный Двойник, подменяющий собой революционную интеллиген-
цию, подчиняющий себе сервильную церковь. В нем возможное будущее России,
выявленное пока в хулиганстве, босячестве, черносотенстве. Говоря о мещанстве , как
будущем Европы, он видит и его российскую специфику: «Мироправитель тьмы века
129
сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам. У этого Хама в России –
три лица. <...> Третье лицо будущее – под нами, лицо хамства, идущего снизу, –
хулиганства, босячества, черной сотни – самое страшное из всех трех лиц» [Мереж-
ковский 2004, 25]. То есть страшнее самодержавия и казенной церкви. И ведь угадал!
Здесь явное предчувствие западноевропейских идей о «восстании масс».
Смысл открытого им образа оценили далеко не сразу. Поразительно, что Федор
Сологуб творец «Мелкого беса», где он с невероятной силой изобразил бесовщину как
не утихшую стихию, как константу русской жизни, не понял этого. В 1906 г. он писал:
«У хамов, известно, и забавы хамские. Барину Мережковскому они не нравятся. <...>
Бояться Грядущего Хама станет только тот, кто не верит свободе» [Сологуб 2001, 138].
Это, конечно, с одной стороны, явное передергивание, ибо именно свободы личности
и взыскует Мережковский, а, с другой, – явное непонимание, что значит свобода,
данная большинству, данная народу вообще. Это и в самом деле путь к смерти. Когда-
то русские даже народнически ориентированные мыслители не относились столь лег-
комысленно к этой проблеме. Скажем, Белинский, заметив, что дать дитяти полную
свободу, значит погубить его, писал: «Не в парламент пошел бы освобожденный рус-
ский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, то есть
людей, которые бреют бороду и ходят в сюртуках» [Белинский 1982, 53]. Мережков-
ский искал опоры для свободы в истории европейской культуры, пока не остановился
на идее Третьего Завета.
Не разделял Мережковский и идею Достоевского о том, что православие русского
народа – путь к свободе, что мужик Марей спасет Россию. Вот слова Мережковского о
Достоевском: «Зверь идет, Антихрист идет! От этого ужаса не мог его спасти мужик
Марей, русский народ, который, сделавшись “русским Христом”, двойником Христа,
сам превратился в Зверя, в Антихриста, потому что Антихрист и есть двойник Христа»
[Мережковский 2004, 135]. Мережковский – едва ли не единственный из русских ве-
рующих мыслителей (если не считать Чаадаева) – осмелился выступить против обого-
творения народа как такового. Физически это был маленький человек, хрупкий, ниже
ростом, чем его жена, грассировал и не производил впечатления какого-то мощного
творца или мыслителя. Но в этом маленьком человечке бушевали страсти. Это были
страсти не витальные, а духовные. Он много писал о любви, о поле, о взаимоотноше-
ниях мужчины и женщины. Но сам был человеком, по-видимому, достаточно бес-
страстным. Подтверждающим это соображение мы можем считать и тот факт, что его
удивительный брак был в основе своей платоническим. Интересны слова Розанова о
Мережковском, написанные им в 1909 г.: «Он – не пророк, именно не пророк. Он уче-
ный, мыслитель, писатель, и только». И добавляет: «Ни о каком грядущем Мессии те-
перь он не думает, ни о каком Третьем Завете» [Розанов 2001, 107]. Однако вряд ли
Розанов прав. Начиная со статьи «Меч» (1906), Мережковский постоянно думал о Тре-
тьем Завете. Поиск Третьего Завета для него означал поиск духовного пространства,
где может утвердиться свобода. Поэтому Мережковский не уставал всю жизнь пропо-
ведовать идею Третьего Завета, актуализируя идею Иоахима Флорского. «Ветхий Завет
есть откровение Единого в Едином; Новый — Двух в Едином. Третья ступень – откро-
вение Третьей Ипостаси будет окончательным синтезом тезиса и антитезиса, объекта и
субъекта, плоти и духа, последним соединением Первого Царства Отчего и Второго
Сыновнего – в Третьем Царстве Духа Святого, Плоти Святой. Третий Завет будет от-
кровение Трех в Едином» [Мережковский 2004, 167]. Окончательная форма существо-
вания христианства в истории есть диалектическое отрицание старых форм, которое
дает новый синтез – Третий Завет, Откровение Духа. Именно эта доктрина стала «ви-
зитной карточкой» Мережковского, в истории русской философии он известен по пре-
имуществу как пророк Третьего Завета. Но именно Второе Возрождение, которое, на
его взгляд, пробуждается в христианстве прежде всего русской литературой, становится
основой Третьего Завета. Историософия Мережковского пропитана эсхатологично-
стью, ожиданием окончательного Откровения.
Напомню, что на рубеже XII–XIII вв. итальянский монах-мистик Иоахим Флор-
ский проповедовал приближение эпохи Третьего Завета, впоследствии эта идея была
130
подхвачена и другими приверженцами мистической традиции. Более того, уже позже
в этой идее многие мыслители видели вариант средневекового коммунизма. Но Ме-
режковский резко разводил идеи Флорского с современностью: «Смешивать два
“коммунизма” – наш и XIII века – все равно, что смешивать невинную девушку с
блудницей, детскую улыбку св. Франциска – с дряхлой усмешкой Ленина, утреннюю
звезду – с тускло-светящей гнилушкой» [Мережковский 2000, 175].
Благодаря Мережковскому идея Третьего Завета дожила почти до наших дней и
сказалась в пред- и по-революционной Германии и России. В книге об Иоахиме Ме-
режковский писал: «Есть ли христианство все, чем жило, живет и будет жить челове-
чество? Нет ли чего-то до христианства и за христианством; нет ли по сю и ту сторо-
ну его какого-то древнего, забытого, и нового, неизвестного, религиозного опыта?
Вот вопрос, поставленный за семь веков до нас Иоахимом и встающий перед нами
сейчас грознее, чем когда-либо. <...> Эта-то еще для людей невместимая и потому,
во Втором Завете Сыном еще не открытая Истина и есть Третий Завет – Царство
Духа – Свободы» [Мережковский 2000, 189].
Далее эта идея реализовалась в творчестве русских поэтов в революционную ката-
строфу. Назову Максимилиана Волошина, писавшего в цикле «Пути России»:
Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть...
Истлей, Россия,
И царством духа расцвети!
Маяковский, поэзия которого насквозь проникнута христианскими реминисцен-
циями, скорее всего не без влияния Мережковского, а, может, и Волошина в поэме
«IV Интернационал» (1922) в период его разочарования в Октябрьской революции
вспоминает идею Третьего Завета.
Взрывами мысли головы содрогая,
Артиллерией сердец ухая,
Встает из времен
Революция другая –
Третья революция
Духа!..
Интересно, что под влиянием Мережковского идея Третьего Завета перебралась и
в Германию, породив там целое течение среди мыслителей, создателей «консерватив-
ной революции», дав в результате название гитлеровскому государству – Третий
Рейх. Мережковский в этом неповинен, как неповинен, по мнению историков
немецкой мысли, Артур Мёллер ван ден Брук, создатель трактата «Третья империя»
(Третий Рейх), не принявший нацизма и покончивший с собой в 1925 г. В 1900-е
годы при посредничестве золовки он знакомится с русской знаменитостью – Дмит-
рием Мережковским, который дает ему почитать первое немецкое собрание сочине-
ний Достоевского. В 1904 г. он опубликовал статью, с которой порой прослеживают
начало идеологии «младоконсерватизма», статья называлась «Толстой, Достоевский и
Мережковский». Так европеист, хотя поначалу и склонный к почвенным идеям, ока-
зался у истоков антиевропейской идеологии. И вправду, как писал Тютчев, «нам не
дано предугадать, как слово наше отзовется».
Теократический проект Мережковского переносил в социальный план его мечту о
примирении «духа и плоти». В первом своем большом трактате о Толстом и Достоев-
ском он писал: «Кажется, второе Возрождение это и начинается, действительно, ежели
не в самой русской церкви, то около нее и близко к ней, именно в русской литературе,
до такой степени проникнутой веяниями нового таинственного “христианства Иоан-
нова”, как еще ни одна из всемирных литератур» [Мережковский 2000, 209].
Философия Мережковского проблематизирует опыт великих писателей ХIХ в.
и актуализирует их идеи. Скудость бытийственного опыта не позволяла Мережковско-
му философствовать «от себя»; но ведь можно опираться и на чужой опыт бытия, –
как правило, так и происходит. Мережковский и его последователи (а ими были
Л. Шестов, Н. Бердяев, Вяч. Иванов, С. Булгаков) фактически сакрализовали русскую
131
литературу ХIХ в., обнаружив в художественных текстах философские и религиозные
смыслы.
М. Алданов был уверен в долговечности текстов Мережковского: «Литературные
его заслуги очень велики. Книга “Толстой и Достоевский” положила начало новей-
шей русской критике. Так называемые “формалисты” ему обязаны очень м ногим,
хоть они об этом не говорят» [Алданов 2006, 459]. Чуткость Мережковского к поэти-
ческому смыслу текста культуры удивительна, почти ни с кем не сравнима. Чтобы
понять его необычность, можно вспомнить старую поговорку: «Новое – это хорошо
забытое старое». Для Мережковского, пожалуй, самой свежей книгой человечества
была Библия. Ю .К. Терапиано задает себе вопрос о Дмитрии Сергеевиче: «Верил ли
он? Думаю, что в Бога он всегда верил. Поэтому, вопреки репутации, установившей-
ся за ним еще в России, Мережковский богоискателем не был, т.к . быть богоискате-
лем означает искать Бога, т.е. еще не иметь Его, не верить в Него.
Но, веруя в Бога, Мережковский мучительно и напряженно искал Христа, которого
хотел понять и познать Его, вместо того, чтобы, подобно Савлу, ощутить Его на пути в
Дамаск – позабыть хотя бы на время о разуме и отдаться чувству» [Терапиано 2001, 439].
А потом – вынужденная эмиграция. После Октябрьской революции для русских
мыслителей наступила эпоха катастрофы. Голод, холод, постоянная опасность рас-
стрела или просто бессудного убийства на улице поднятыми большевиками со дна
жизни социальными выродками. Рождался страшный мир, и рождался он страшно.
Но надо было еще найти людей, способных на такую беззаконную жестокость.
То есть людей уголовно-варварской психологии, не имеющих понятия о ценности челове-
ческой жизни. И такие люди нашлись, причем было их немало. Их злодеяния выхо-
дили за пределы цивилизованного человеческого восприятия, напоминая поступки
варваров давно прошедших веков. Жизнь интеллектуальной элиты, как писала Зина-
ида Гиппиус, трудно сегодня вообразить. Ощущения тяжести жития и бытия имели
вполне реально-бытовое воплощение: «Голод, тьма, постоянные обыски, ледяной
холод, грузная атмосфера лжи и смерти, которой мы дышали, – все это было неска-
занно тяжело» [Гиппиус-Мережковская 1990, 473]. Стоит отметить, даже подчерк-
нуть, что в это дикое время, сама писательница, Зинаида Гиппиус следила, чтобы у
Мережковского всегда был свет, перья и чернила для работы, а также немного еды.
О себе она думала меньше, просто вела дневник, который потом в эмиграции издала
в нескольких книжках под названием «Черная книжка» и «Серый блокнот». После
Октябрьского переворота Мережковские оказались в явной оппозиции советской
власти. Известен разговор Зинаиды Гиппиус с Блоком. Она отказалась «обществен-
но» пожать руку Блоку, стоявшему за сотрудничество с большевиками, пожала «толь-
ко в личном порядке» [Терапиано 2001, 444].
Философы и писатели покидали эту страну. Но в Европе были другие трудности и
жестокости. Мережковский пытался наладить контакты с сильными мира сего в Ев-
ропе, начиная от Муссолини, с которым он пытался договориться об издании своей
книги о Данте, писал письмо римскому папе Пию XI: «Святой Отец! в эту минуту,
роковую не только для христиан востока, но и для всего христианского человечества,
мы взываем к Вам с верой, надеждой, любовью. <...> Воссоединение Церквей было
издавна молитвою и воздыханием самых вещих, русских людей, предвидевших ката-
строфу, нас уже постигшую и грозящую всему миру. Церковь Вселенск ая, – “да бу-
дет един пастырь и едино стадо”, – наша надежда, наша вера, наша любовь» (Впер-
вые: Последние новости. 1922. 10 мая. No 633. С. 2). Но проку не было.
Владимир Злобин, секретарь Мережковского, вспоминал, как недоброжелательно
отнеслась Европа к русским изгнанникам, к Мережковским: «В предвоенной, боль-
шевизантствующей Европе Д.С. Мережковский своим антибольшевизмом, да еще на
христианской основе, был не ко двору.
Не ко двору был он и при Гитлере <...> и даже не из-за своего христианства, с
которым «Propaganda Staffel» на худой конец еще могла бы, морща нос, примириться.
Но совершенно для нее неприемлемо было отношение Мережковского к России, его
неколебимая вера в ее национальное возрождение» [Злобин 2004, 10].
132
Постоянная ностальгия русских эмигрантов по потерянной общей большой любви,
о Родине, которая, как любимая, но неверная женщина, отторгла их в пору страстной
любви, когда вся их жизнь была посвящена ее преуспеянию и духовному возвышению.
Тоску и отчаяние их трудно сегодня нам представить без подобной жизненной парал-
лели. Неслучайно характерное для многих культур сравнение Родины с невестой и же-
ной. Об этой любви Мережковского писала его жена Зинаида Гиппиус: «Он был рус-
ский человек прежде всего и русский писатель прежде всего – что я могу и буду
утверждать всегда, могу – потому что знаю, как любил он Россию, – настоящую Рос-
сию, – до последнего вздоха своего, и как страдал за нее» [Гиппиус 2016, 218].
Разумеется, Мережковского не приняли ни нацисты, ни большевики. Да он и сам
этого не хотел. Бесконечное бегство от тоталитаризма стало его судьбой. Ибо идея
свободы, которую он видел в Третьем Завете, была категорически неприемлема для
тоталитарных структур идеократии. В эмиграции Мережковский отошел от романов
и литературной критики, перейдя к философско-религиозным книгам, последние
годы жизни он писал о великих религиозных мыслителях – Лютере, Кальвине, Пас-
кале – и святых, написал и издал книгу об испанских мистиках.
Розанов писал в своем трагическом «Апокалипсисе нашего времени»: «Когда -
нибудь вся “русская литература”, – если она продолжится и сохранится, что очень
сомнительно, – будет названа в заключительном своем периоде “Эпохою Мережков-
ского”. И его мыслей, – что тоже важно: но главным образом его действительно ве-
щих и трагических ожиданий, предчувствий, намеков» [Розанов 2000, 124]. Разумеет-
ся, Розанов, как всегда, ерничал. Но в этом ерничанье слышится звук истины. Идея
Третьего Завета, прошедшая сквозь много веков и актуализованная Мережковским,
остается и сегодня проблемой для христиански ориентированных мыслителей. Исто-
рию мировой, а особенно русской литературы и культуры нельзя представить без
трудов Д.С . Мережковского.
Источники – Primary sources
Алданов 2006 – Алданов М. Д.С . Мережковский // Алданов М. Армагеддон. Записные книж-
ки. Воспоминания. Портреты современников. М.: НПК «ИНТЕЛВАК», 2006 [Aldanov, Mark
Armageddon. Notebooks. Memories. Portraits of Contemporaries (In Russian)].
Белинский 1982 – Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 9 . М .: Художественная ли -
тература, 1982 [Belinsky, Vissarion G. Collected Works (In Russian)].
Белый 1994 – Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М .: Республика, 1994. [Bely,
Andrei Symbolism as a World View (In Russian)].
Белый 2012 web – Белый Андрей. Собрание сочинений. Арабески. Книга статей. Луг зеленый.
Книга статей. М.: Республика; Дмитрий Сечин, 2012. URL: http://az.lib .ru/b/belyj_a/
text_18 _1908_arabesky.shtml [Bely, Andrei Arabesques (In Russian)].
Гиппиус 2016 – Гиппиус З. Ласковая кобра. Своя и Божья. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016
[Gippius, Zinaida. Affectionate Cobra (In Russian)].
Гиппиус-Мережковская 1990 – Гиппиус-Мережковская З.Н. Дмитрий Мережковский. М.: Мос-
ковский рабочий, 1990 [Gippius-Merezhkovskaya, Zinaida N. Dmitry Merezhkovsky (In Russian)].
Злобин 2004 – Злобин В.А. Тяжелая душа. Литературный дневник. Воспоминания. Статьи.
Стихотворения. М .: НПО «ИНТЕЛВАК», 2004 [Zlobin, Vladimir A. (2004) Heavy Soul. Literary
Diary. Memories. Articles. Poems (In Russian)].
Манн 2008 – Манн Т. Русская антология. М.: Вагриус, 2008 [Mann, Thomas. Russische Anthol-
ogie (Russian Translation)].
Мережковский 2004 – Мережковский Д.С . Грядущий хам. М .: Республика, 2004 [Merezhkov-
sky, Dmitry The Forthcoming Ham (In Russian)].
Мережковский 2000 – Мережковский Д.С . Л. Толстой и Достоевский. М .: Наука, 2000 [Me-
rezhk ovsky, Dmitry L. Tolstoy and Dostoevsky (In Russian)].
Розанов 2000 – Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М .: Республика, 2000. [Rozanov,
Vasily V. The Apocalypse of Our Time (In Russian)].
Stepun 1964 – Stepun, Fedor. Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des Russischen Symbolismus.
München: Carl Hanser Verlag, 1964.
133
Ссылки – References in Russian
Андрущенко 2007 – Андрущенко Е.А. Спутники Д.С . Мережковского. СПб.: Наука, 2007.
Бонецкая 2017 – Бонецкая Н.К . В поисках неведомого Бога. Мережковский – мыслитель .
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017.
Бонецкая 2012 – Бонецкая Н.К . Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы
философии. 2012 . No 11. С . 97–113 .
Николюкин 2001 – Николюкин А.H. Феномен Мережковского // Д.С . Мережковский: pro et
contra / Сост., вступ ст. А .Н . Николюкина. СПб.: РХГА, 2001. 7 –28 .
Терапиано 2001 – Терапиано Ю.К . Дмитрий Мережковский: взгляд в прошлое // Д.С . Ме-
режковский: pro et contra. СПб .: РХГИ, 2001 . C . 437 –447 .
References
Andrushchenko, Elena A. (2007) D.S. Merezhkovsky’s Satellites, Science, Sankt-Petersburg (In Russian).
Bonetskaya, Natalya K. (2017) In Search of an Unknown God. Merezhkovsky as a Thinker , Center
for Humanitarian Initiatives, Moscow, St. Petersburg (In Russian).
Bonetskaya, Natalya K. (2012) D.S. ‘Merezhkovsky: hermeneutics and exegesis’, Voprosy Filosofii,
2012, Vol. 11, pp. 97–113 (In Russian).
Nikolyukin, Alexander N. (2001) ‘The Phenomenon of Merezhkovsky’, D.S . Merezhkovsky: pro et
contra, Russian Christian Academy of Humanities, Saint Petersburg, pp. 7 –28 (In Russian).
Terapiano, Yury K. (2001) “Dmitry Merezhkovsky: the Retrospect”, D.S .Merezhkovsky: pro et con-
tra, Russian Christian Academy of Humanities, Saint Petersburg, pp. 437 –447 (in Russian).
Сведения об авторе
КАНТОР Владимир Карлович –
доктор философских наук, профессор, ру-
ководитель Международной лаборатории
русско -европейского интеллектуального
диалога Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
Author’s information
KANTOR Vladimir K. –
DSc in Philosophy, Professor at the Faculty of
Humanities / School of Philosophy, Laborato-
ry Head at the International Laboratory for the
Study of Russian and European Intellectual
Dialogue at the National Research University
Higher School of Economics.
134
Русская интеллигенция о глубинах русской революции:
истерики и иллюзии в контексте времени
© 2019 г.
М.С . Киселева
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Российская федерация, Москва, 105066, ул. Старая Басманная, д. 21/4.
E-mail: markiseleva@gmail.com
Поступила 19.04.2019
В статье предпринято осмысление революции и судьбы России русской
интеллигенцией в сборнике «Из глубины» (1918), реконструируется по-
граничная ментальная ситуация русской мысли того времени – пере-
живаемый интеллигенцией слом, состояние интеллектуальной истерики.
Авторы сборника направляют свои обвинения в два адреса – «массе»,
«русскому народу», его «бескультурью», «дикости» и т.п. и «гнилой»
русской интеллигенции, совратившей народ, оторвавшей его от право-
славия и почитания отечества. Статья ставит вопрос, осознают ли сами
авторы сборника разрушающий характер такой критики. Попытка
С.Н . Булгакова найти примирение в споре шести «говорящих голов»
словами о воскресении Христа не дают уверенности в спасении России.
Автор статьи показывает, что обвинения, выдвинутые С.Л. Франком
в адрес народа, подменившего «идею социализма» «личным материаль-
ным интересом», сомнительны. Диагноз «духов революции», извлекае-
мый Бердяевым из произведений русских писателей, представляет ин-
терес с литературно-философской точки зрения, но чаемого рецепта по
спасению России не дает. Проблема, как представляется автору ста-
тьи, – в отсутствии аналитики и интеллектуального консенсуса относи-
тельно обсуждаемых событий. В ином, программном ключе, как пока-
зывает автор, написана статья П.Б. Струве, предложившего альтернати-
ву преобразованиям развалившейся империи для строительства России
как нации. Однако его уход в эмиграцию в конце 1918 г. превратил эту
программу в иллюзию. Автор обнаруживает, что задачи, поставленные
Струве, востребованы и сегодня властью России, и делает вывод о мед-
ленном движении российской истории.
Ключевые слова: сборник «Из глубины», революция, Россия, война,
интеллигенция, народ, православие, нация, истерика, иллюзии.
DOI: 10.31857/S004287440006050-0
Цитирование: Киселева М.С. Русская интеллигенция о «глубинах» рус-
ской революции: истерики и иллюзии в контексте времени // Вопро-
сы философии. 2019. No 8. С. 134 –145 .
Статья подготовлена по Программе фундаментальных исследований Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в рамках госу-
дарственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5 –100».
135
Russian intelligentsia about the “depths” of the Russian revolution:
hysterics and illusions in the context of time*
© 2019 г.
Marina S. Kiseleva
National Research University Higher School of Economics, 21/4, Staraya Basmannaya,
Moscow, 105066, Russian Federation.
E-mail: markiseleva@gmail.com
Received 19.04.2019
The article attempts to reflect on the revolution and the fate of Russia by the
Russian intelligentsia in the collection “De profundis” (1918); it reconstructs
the borderline mental situation of the Russian thought of that time – the
breakdown experienced by the intellectuals, the state of intellectual hysteria.
The authors of the collection send their accusations to two addresses – “mass”,
“Russian people”, its “lack of culture”, “wildness”, etc. and the “rotten” Rus-
sian intelligentsia, who seduced the people, cut them off from Orthodoxy and
honoring the fatherland. The question is raised whether the authors of the col-
lection themselves realize the destructive nature of such criticism. An attempt of
S.N. Bulgakov to find reconciliation of the dispute between the six “talking
heads” and the words about the resurrection of Christ does not give confidence
in the salvation of Russia. The author of article shows that the S.L. Frank’s ac-
cusations addressed to the people who replaced the “idea of socialism” with
a “personal material interest” is doubtful. The diagnosis of the “spirits of the
revolution”, extracted by Berdyaev from the works of Russian writers, is of in-
terest from a literary and philosophical point of view, but it does not give a rec-
ipe for saving Russia. The problem, as it seems to the author of article, is in the
absence of analytics and intellectual consensus regarding the events under dis-
cussion. In another, program key, as the author shows, is written the article by
P.B . Struve, who offered an alternative to the transformation of a collapsed
empire for building Russia as a nation. However, his departure to emigration at
the end of 1918 turned this program into an illusion. The author of article dis-
covers that the tasks set by Struve are still in demand today by the Russian au-
thorities, and she concludes that Russian history is slowly moving.
Key words: collection “De Profundis”, revolution, Russia, war, intelligentsia,
people, Orthodoxy, nation, hysteria, illusions, Bulgakov, Berdy aev, Frank,
Struve.
DOI: 10.31857/S004287440006050-0
Citation: Kiseleva, Marina S. (2019) ‘Russian intelligentsia about the
"depths" of the Russian revolution: hysteria and illusions in the context of
time’, Voprosy Filosofii. Vol. 8 (2019), pp. 134 –145 .
Замысел сборника «Из глубины» принадлежит П.Б. Струве как ответ русской интел-
лигенции на революционные события 1917 г. и как продолжение двух других публичных
выступлений русских интеллектуалов в сборниках «Проблемы идеализма» (1905) и «Ве-
хи» (1909). Написанный весной – летом 1918 г. и связанный с журналом «Русская
мысль», он был подготовлен к выходу в августе 1918 г. с предисловием Петра Струве,
однако долго не был известен широкой публике. Тираж, как пишет исследователь-
*
The study has been funded by the Russian Academic Excellence Project '5 –100 ' .
136
публикатор сборника М.А. Колеров пролежал до 1921 г., так как попытка пустить его в
продажу была пресечена властями [Колеров 2017, 167; Колеров, Плотников 1991, 555].
Авторы-эмигранты вывезли два экземпляра в Европу; еще 2 сохранились в России.
К полувековому юбилею русской революции сборник был издан в парижском издатель-
стве YMCA-Press. В то время в Париже – 1967 г. – зрел молодежный протест, своя рево-
люция, «революция цветов».
Названием для всего сборника послужило название статьи С. Франка, которое
могло восприниматься читателем как отсылка к глубинам российской истории. Од-
нако Франк имел в виду известный текст Давидова псалма «De profundis»: из глуби-
ны своего одиночества человек взывает к Господу. И тот и другой смысл проясняет
цели сборника – анализ революционной катастрофы октября 1917 г., судьбы России
и ее глубинной духовной опоры – православной веры.
Фокус внимания в 11 статьях сосредоточен на анализе тех социальных сил, кото-
рые всего за год изменили огромную Российскую империю до неузнаваемости. Из-
вестная до того времени лишь в политических призывах большевиков «классовая
борьба» пролетариев с буржуазией стала реальностью. На политическую сцену Рос-
сии вышли новые силы – революционеры разных партий, рабочие, солдаты, бежав-
шие с Германского фронта, крестьяне, надеявшиеся получить «свою» землю. Их же-
лание быстрейшего осуществления своих надежд ускоряло превращение насилия
фронтового в насилие гражданское. Царская Россия, как жестко выразился Розанов,
«слиняла в три дня», в три мартовских дня 1917 г. Но смена власти лишь притормо-
зила нарастание революционных действий. Новый, октябрьский переворот и наби-
равший силу большевистский террор ввергли Россию в масштабную Гражданскую
войну при незавершившихся еще в феврале 1918 г. военных действиях на немецко-
русском фронте Первой мировой.
Создание сборника – интервал от апреля, когда Брестский мир был уже подписан, до
августа 1918 г., то есть еще до выхода Декрета Совнаркома «О красном терроре» (5 сен-
тября 1918 г.). Вырвав власть из рук Временного правительства, большевики хорошо по-
нимали, что значит не удержать ее. В борьбе за власть они поставили на кон истории
жизнь каждого человека, попасть в списки заложников к расстрелу мог любой. Предсе-
датель ВЧК М. Лацис писал, что, если в первой половине 1918 г. ВЧК приговорила к
расстрелу 22 человека, то во второй половине года – 6 тыс. человек [Лацис 1921, 11].
Осознавая сегодня трагизм тех событий и зная дальнейшую историю страны Со-
ветов, мы имеем все основания говорить о ментальном пограничье русской мысли
того времени. Спустя сто лет тексты сборника «Из глубины» читаются со смешанным
чувством. Откровенность авторов вызывает доверие, характеризуя «горячий» текст,
сохранивший многоголосие спорящих или ищущих опору в согласии друг с другом
интеллектуалов. Читатель погружается в атмосферу социальной и человеческой ката-
строфы. Однако именно там, где, казалось бы, можно ожидать взаимопонимания,
обнаруживаются разрывы, противоречия, оценки, исходящие много более, чем «из
двух углов»... Приходит осознание того, что мыслящим людям не только трудно до-
говориться между собой, но и найти себя в изменившейся стране... Переживаемый
авторами сборника экзистенциальный слом точнее можно обозначить как состояние
интеллектуальной истерики. Для подобных социальных катастроф такие реакции бо-
лее, чем понятны. Есть, конечно, исключения. К примеру, в своей статье П.Б. Струве
предложил программную альтернативу, сформулировал и обосновал задачи для пре-
образования развалившейся империи в крепкую российскую нацию. Однако в декаб-
ре 1918 г. он был вынужден бежать... И его программа тотчас обернулась иллюзией...
Почему? Как действовали большевики, чтобы удержать власть в своих руках для
преобразования страны? Позволим себе лишь один событийный пример, чтобы обо-
значить исторический контекст проблем, обсуждаемых в сборнике. Опираясь на пра-
вославие как духовное основание, смысл русской истории и культуры, большинство
русских интеллектуалов полагало, что именно вера сохранит и вызволит Россию из
пекла революции. Как же отнеслась новая власть к православию в те месяцы, когда
создавался сборник?
137
***
В годовщину начала революции Россию сложно определить по типу власти и
форме ее государственного устройства. 1918 г. показал, что возврата к прошлому не
будет: разрушались те институты и механизмы культуры, которые еще в первой чет-
верти XVIII в. закладывал Петр I, преобразовывая Московское царство в Российскую
Империю, и которые последующие 200 лет составляли ее фундамент. Успех импер-
ской идеи в историческом времени, на мой взгляд, был определен замыслом Петра,
который положил в основание Российского имперского проекта строительство новой
столицы – города Св. Петра. Его святость скрепляли традиционные для русской пра-
вославной веры и культуры имена св. ап . Андрея Первозванного и св. кн . Александра
Невского. Империя, отвечая замыслу Петра, держалась сакральным единством свет-
ской и духовной власти, однако не удержалась...
Большевики имели в замысле проект иного, невероятного масштаба. Свои преоб-
разования они рассчитывали воплотить в общемировом пространстве, полагая, что
переворот, совершенный в октябре 1917 г. есть лишь пролог к мировой пролетарской
революции. Однако Первая мировая война продолжалась и в связи с новым наступ-
лением Германских войск ленинское воззвание от 18.02 .1918 утверждало: «Социали-
стическое отечество в опасности!» Именно тогда и было принято решение отказаться
от петровских имперских основ. На глазах всей России и всего мира российская сто-
лица должна была вернуться в Москву. Переезд этот был вызван многими причина-
ми, но прежде всего военной ситуацией. Решение Совнаркома, по предложению его
управделами Владимира Бонч-Бруевича, было принято 26 февраля еще до подписа-
ния Брестского мира 3 марта 1918 г. [Хавкин 2018]. Население информировали об
«эвакуации» правительства, а не о переносе столицы, о чем в печати заявил
Ф.Э. Дзержинский. Уже после переезда В.И. Ленина, которого везли конспиративно:
в литерованном составе со сменой паровоза в пути и латышскими стрелками, а также
верхушки Советского правительства (10–11 марта), IV Всероссийский съезд советов
16 марта 1918 г. принял постановление о временном переносе столицы в Москву, тем
и завершился процесс полного и окончательного развала Российской империи
[О перенесении столицы 1918].
Вслед за потерей имперской столицы, следуя идеологии красных комиссаров, те-
ряла всякий смысл сакральность власти. Ставка делалась только на силу. Всякое ре-
лигиозное начало преследовалось и отвергалось. 23 января 1918 г. власть приняла
декрет «О свободе совести и религиозных обществах», вошедший позднее в собрание
узаконений (1918. No 18) под названием «Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви» [Цыпин 2018]. Отказ от религии позволял экспроприировать цер-
ковные богатства, что было важным ресурсом для разоренной войной страны.
Вопрос размещения государственной власти и государственных служащих
в Москве был решен однозначно: власти будут руководить страной из Кремля. Одна-
ко Кремль тех времен населяли не только сотрудники светских учреждений, обслу-
живающих дворцы и их семьи, но и насельники монастырей, старые охранники и т.д.
До событий 1917–1918 гг. Кремль – духовный и религиозный центр Имперской Рос-
сии с двумя монастырями – Чудовым и Вознесенским, 31 храмом и 5 часовнями.
Соборы, Грановитая палата и царские дворцы – Большой Кремлевский и Теремной,
были открыты для посещения (доступ частично ограничивался, когда в Москву при-
езжала царская семья). Публикаторы документов и исследователи процесса «очище-
ния» Кремля в 1918 г. от духовенства и монастырских насельников показали, что
большевикам на этот процесс потребовалось полгода – c марта по ноябрь [Зюзина,
Милякова 2010]. Тогда и создавался сборник «Из глубины».
Процессом выселения руководил комендант Кремля, «бывший балтийский мат-
рос, первый комендант Смольного П.Д. Мальков», назн аченный председателем
ВЦИКа Я.М . Свердловым, «охрану осуществляли латышские стрелки, которых рас-
квартировали в Чудовом монастыре» [Там же].
Задача чистки Кремля была понятна революционерам, но, как показывают доку-
менты, не была понята «городскому народу». Большевики видели в монашестве
138
контрреволюцию. Введя пропускную систему в Кремль охранники поставили насель-
ников монастырей в сложное положение. В документе от 27 июня 1918 г. , содержа-
щем прошение на имя члена Всероссийского церковного Собора Н.Д. Кузнецова1
речь шла о задержании и требовании покинуть Кремль в 24 часа двух монахинь и
6 послушниц Вознесенского монастыря. Их вина состояла в неправильном пользова-
нии пропуском, в котором были указаны их монашеские имена: на вопрос, назвать
свою фамилию, задержанные ее и назвали, что разошлось с записью в пропуске.
Кузнецов обращался к «гражданским властям» для разрешения недоразумения, о нем
говорилось на работавшем в то время Соборе РПЦ, но прошения об оставлении мо-
нахов в кремлевских монастырях, как и свободное посещение кремлевских соборов
священниками для проведения богослужения, не были удовлетворены. Собор вынуж-
ден был запрашивать специальные разрешения на проведение крестных ходов в
Кремле. Переговоры велись между Церковью и СНК летом 1918 г.
В документе от 21 июля 1918 г. братия Чудова монастыря обращалась в СНК.
Ссылаясь на поселение в монастыре латышских стрелков, монахи писали, что созда-
ние чуждых монастырю учреждений равносильно его уничтожению. Братия «может
оставить монастырь, только взявши с собою мощи основателя обители Святителя
Алексия. Без этой, самой главной, своей святыни братия из монастыря выйти не мо-
жет» [Там же]. Монахи писали о мощах митрополита Алексия (†1378), который, про-
должая политику митрополита Петра, поддерживал московского князя и пророчил
возвышение его княжества среди других. Чудов монастырь был выстроен вокруг
церкви, заложенной после чудесного путешествия митр. Алексия в Орду и излечения
матери (жены?) хана, прозревшей Тайдуллы. Для монахов мощи святого были святы-
ней не только монастыря, но и России. Идеология большевиков, отказавшихся от
православия как религии и опоры государства, определялась иным – не объединяю-
щим, а разъединяющим граждан классовым интересом. Церковь осталась за предела-
ми нового государственного строительства.
***
Вернемся к глубинным проблемам, поднятым авторами интересующего нас сбор-
ника. И прежде всего, к тексту С.Н . Булгакова2, который представил своего рода ин-
теллектуальный театр, разыгранный шестью «говорящими головами» своего времени
(заметим, в скобках, что автор отнес к ним и Генерала, по примеру Соловьева, и ак-
туальную фигуру Беженца). В пяти диалогах обсуждаются последовательно пять клю-
чевых тем – война, самодержавие, народ, интеллигенция, церковь, позволяющих
понять причины, суть и ожидаемые следствия происходящей революции в России.
В булгаковском тексте диагноз «истерика» интеллектуалам ставит Дипломат, по-
зитивист, как он сам себя определяет, кадет по политическим убеждениям. Именно
он открывает первый диалог, вменяя в вину своему собеседнику, Общественному де-
ятелю, измену идеалам и ошибку в прогнозах, которые накануне Первой мировой
войны тот с жаром защищал. Тогда Россия виделась спасительницей Европы, поко-
рительницей Царьграда, основательницей новой эпохи византинизма и, конечно же,
победительницей в войне. С тем же вдохновением теперь Общественный деятель
неистовствует, определяя состояние России как «зловонной, зияющей дыры», народ
которой – «разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови
и грязи, во всяком хамстве и скотстве» [Из глубины 1991, 291]. Подобные определе-
ния даются и на других страницах сборника, почти во всех его статьях. Дипломат
строг в формулировке диагноза и определен в альтернативе ему: «Русская истерика!
Неужели нельзя страдать, стиснув зубы, без стонов и воплей, не плача ни в чей жи-
лет, а уж если действительно невтерпеж, плюнуть этому миру в лицо, гордо и спо-
койно павши на свой меч, как последний римлянин» [Там же, 292].
Мрачная ирония и нескрываемое раздражение Дипломата определяет состояние
Общественного деятеля как «восторженность горя». Булгаков затрагивает в истериче-
ском переживании революции тему, поднятую еще Достоевским. Переживание ката-
строфической ситуации обнажает самые слабо контролируемые разумом глубинные
139
поведенческие навыки. Дипломат Булгакова говорит о жажде «жизни неприличней-
шей» и силе «низости карамазовской» [Там же], причем это его соображение отно-
сится не только к «народу», но и к самой интеллигенции, силою событий втянутой в
эти «неприличнейшие» жизненные ситуации.
Н.А. Бердяев в статье о «духах» русской революции (в сборнике она предшествует
булгаковской) ищет их у русских писателей – Гоголя, Достоевского и Толстого, пы-
таясь найти у литературных героев ответы на вопросы о том, почему русская револю-
ция так быстро и с такой жестокостью развалила Российскую империю и окунулась
в стихию неконтролируемого насилия. Вопрос о жестокости человека, о прощении и
христианской милости занимает Бердяева по той же причине, что и Булгакова. Авто-
ра интересуют причины успеха октябрьского переворота. Жестокость и насилие но-
вой власти в отношении гражданских свобод и свободы совести делает этот вопрос
чрезвычайно актуальным.
Разговор Ивана Карамазова с Алешей – тоже о насилии . Как человек может из-
бежать жестокости или что делать, когда люди должны сами себя определить в ситу-
ации возрастающего насилия друг над другом? Или, что ещ е хуже, насилия над деть-
ми и наслаждения этим насилием. Дети же, как, впрочем, и интеллигенция в рево-
люции, взывают к Богу, просят его защитить и помочь...
Но Бог отмалчивается. Не слышит? не видит? не спасет?..
Бердяев определил Ивана как духовного предшественника русской революции,
«философа русского нигилизма и атеизма» [Там же, 263]. Именно нигилизм и ате-
изм, как полагает Бердяев, могут объяснить срыв России в революцию. Не в ту рево-
люцию, о которой он теоретизировал еще в ссылке в начале века, а ту, которая обер-
нулась происходящим в стране жесточайшим террором. Однако прав ли Бердяев?
Действительно Иван – нигилист и атеист, а Россия давно была готова к революции?
В разговоре с Алешей, а по-существу в исповеди перед Господом, Иван Карамазов
пытается разрешить неразрешимую для него проблему: как, следуя христианским заповедям
любви, смириться с теми жестокостями, ужасами и мерзостями человека, которые он
наблюдает, живя в человеческом сообществе. Ведь люди руководствуются своим понима-
нием того, что есть добро и что есть зло. И вроде бы желая добра (кому его желая: себе?
«классу»? человечеству? дальнему? ближнему?), люди приносят друг другу страдания.
Самый веский аргумент Ивана – невозможность принять страдания детей. Они, еще
неразумные, наученные взрослыми считать себя грешниками перед Богом, просят Его
защиты и не получают ее. Об этом повествует известный рассказ Ивана о пятилетней
девочке и ее жестоком воспитании «возненавидевшими ее», при этом «образованными
родителями». Рассуждая далее о цене слезинки ребенка, Иван доказывает, что дети –
безвинные жертвы виновного в своем жестоком заблуждении взрослого. Почему? Иван
отвечает себе и Алеше на этот вопрос так: «Да ведь весь мир познания не стоит тогда
этих слезок ребеночка к “боженьке”. Я не говорю про страдания больших, те яблоко
съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка,
ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь. – Ничего, я тоже хочу мучиться, –
пробормотал Алеша» [Достоевский 1976, 221].
Бердяев считает, что словами Ивана Карамазова Достоевский судит позитивные
теории прогресса и утопии «грядущей гармонии, воздвигнутой на страданиях и слезах
предшествующих поколений» [Из глубины 1991, 264]. Так ли это?
Думаю, что Иван все же говорил о другом. Бердяев полагает Ивана атеистом, но
Иван бьется над текстом книги Бытия. Он говорит о «мире познания», в котором необ-
ходимо различать добро и зло, об адамовом грехе, о том, что различение добра и зла –
дело человека и его результат зависит от решения того вопроса-признания, с которого
начинает Иван свой разговор с Алешей: «Я... никогда не мог понять, как можно любить
своих ближних...» [Достоевский 1976, 215. Курсив мой.
–
М. К.]. Именно так задан во-
прос Иваном: сначала понять, а потом любить... Объясняя далее в подробностях, почему
он не может принять и поверить в искренность христианской любви, Иван бунтует про-
тив Бога, возвращая ему «билет», ибо не в состоянии соединить в своем понимании
жертву, искупление и стремление к некоей всеобщей гармонии. Но как же можно
140
назвать Ивана «крайним рационалистом», если именно понимания ему и не достает?
Бердяев видит в Иване атеиста, только потому, что тот хочет найти ответ на вопрос:
«...почему был замучен невинный ребенок?» Искать причину, по Бердяеву, несовместимо
с принятием страдания, жертвы и идущим за ним искуплением как смыслом жизни по
вере. Не желая страданий «русские мальчики» примутся «делать революцию», пишет
Бердяев и... принесут еще бóльшие, неисчислимые страдания России. Но ведь и револю-
цию надо сначала понять...
Но всякий ли рационалист впадает в бунт, который, по Бердяеву, предтеча теку-
щей революции?
Дипломат Булгакова не бунтует. Этот рациональный ум отвергает истерику своих со-
беседников, их обвинения в адрес народа, критику социализма, он даже готов пойти под
оккупацию немцев, которые к тому времени захватили большую часть европейской Рос-
сии. Для этого критического разума очевидна невозможность реставрации, на которую
надеется Генерал. Он презирает либерально-агрессивную позицию Общественного деяте-
ля, полного ненависти к «народу» («не богоборец, скот, скот» [Там же, 316]), истерично
мечтающего бежать из России: «...видела ли история такое оподление целого народа?
<...> Пусть злодеи и убийцы получат должное возмездие. Ненавижу я их всеми силами
души и плюю им во всю их наглую, мерзкую социалистическую харю... Если удастся
наскрести какие-нибудь средства, мечтаю уехать в Канаду. Там, может быть, начнется
новая Россия, а здесь все загублено и опоганено» [Там же, 314].
Каковы же аргументы Дипломата? У него есть свой авторитет – Л .Н . Толстой.
Дипломат не любит «туман, напущенный Достоевским» и полагает его ответствен-
ным за идею «народа-богоносца»; он согласен с тем, что Достоевский склонен к ан-
тисемитизму [Там же, 316]. Возражая Генералу, считающему, что в проблемах России
равно виновны как Толстой, так и «инородческое отравление», Дипломат отсылает
слушателей к текстам библейских пророков, которые значительно более пламенно и
вдохновенно обличают свой «народ жестоковыйный». Рассуждения Общественного
деятеля, – лишнего человека в революционной смуте лишь подтверждают это сбли-
жение: «А у нас ведь нет ничего: ни родины, ни патриотизма, ни чувства самосохра-
нения даже. Живут воспоминаниями былого величия, когда великодержавность рус-
ского народа еще охранял полицейский, как та барыня, которая и после падения
крепостного права все продолжала чувствовать себя рабовладелицей. И выходит, что
Россия сразу куда-то ушла, скрылась в четвертое измерение, и остались одни про-
винциальные народности, а русский народ представляет лишь питательную массу для
разных паразитов» [Там же, 317]. Однако, обратившись к библейскому тексту, нельзя
не отметить содержательную разницу с вышеприведенными, «нигилирующими» рус-
ский народ, соображениями Общественного деятеля. Между обличением с призывом
к Богу всевидящему, карающему и плачем по ушедшей России с превращением ее
народа в «питательную массу» разница существенна.
Противоположный тезис отдан Булгаковым Беженцу, который, по мнению Дипло-
мата, воспроизводит «славянофильские иллюзии» о русском народе как единствен-
ном в мире народе «вселенского сознания», чуждого национализму, неслучайно
пришедшего к социалистическому интернационализму – залогу «великого будущего»
[Там же, 317]. Однако предложение Дипломата о пользе для народа немецкого фель-
дфебеля также не нашло поддержки у собеседников. Писатель боится, как он выра-
жается, «германского ига»; образ давнего «романа между русской душой и герман-
ством» вдохновлен его воспоминаниями: «...какой тучей валило на нас германство
перед войной: и кантианство это разных сортов, и штейнерианство, наконец, и весь
коран этот социал-демократический» [Там же, 322]. Тоска и мечта о немецкой книге
или журнале в революционной Москве не менее занимает его, чем вопрос о том, как
прокормить себя. И все же он заключает, чт о «опасно для нас сближение с Германи-
ей», так как она имеет «широкий доступ к русской душе».
В душе русского народа – Христос, это соображение, пожалуй, объединяет всех
разговаривающих, исключая Дипломата. И уже Беженец, обращаясь не к Достоевско-
му, а к «Двенадцати» Блока, развивает аргумент в мистическом духе, что большевизм
141
несет в себе «тайну». Он клянется внутренней, духовной связью с народом, отсылая к
Пушкину и формулируя столь характерную, сколь и опасную иллюзию: «Сейчас ка-
жется иным, что уж и связи нет между Пушкиным и каким-нибудь грязным больше-
виком, а вот сам наш мудрый и благостный Пушкин умел до дна постигнуть природу
русской души, даже и большевизма, для него ничто не было скрыто в русской сти-
хии; недаром же он свой орлиный взор на пугачевщину устремил, на “русский бунт,
бессмысленный и беспощадный”. И не только не соблазнился этим, но стал еще
народней, чем был» [Там же, 320].
От верующей души народной полемика переходит к определению роли интелли-
генции в революции. Диагноз относительно ее безбожия – истерика теперь уже Гене-
рала, определяющего «проклятую русскую интеллигенцию» как «нигилистических
дикарей», «проказы, чумы на теле России», вменяющего ей в вину отравление наро-
да, опустошение его души, оплевывание его веры [Там же, 326–327]. Cоглашаясь
с Генералом, относительно безбожия и «слабых дарований» разночинцев в среде ин-
теллигентов, Светский богослов замечает, что переживаемая в 1917–1918 гг. ситуация
гонения меняет лицо интеллигенции: «...судьба свела церковь и интеллигенцию
в состоянии общей гонимости со стороны большевиков. Дай Бог, чтобы эта встреча
повела и к внутреннему сближению» [Там же, 329]. Это, пожалуй, для многих авто-
ров – магистральный путь выхода из революционного коллапса: излечение русской
души на путях возвращения интеллигенции, а за ней и всей России, к православию.
Попытку обозначить новую «интеллигентскую эпоху» истории России, Писатель
развивает, отстаивая идею единения «новой интеллигенции» и народа: «Интеллиген-
ция теперь есть уже не сословие, но состояние, модус народн ого бытия, духовный
возраст народа. И Россия бесповоротно уже вступила в интеллигентскую эпоху своей
истории, как это было с Грецией в век Платона, с Римом в эпоху Августа, да в сущ-
ности имеет место и со всем теперешним европейским миром. Быт, органический и
безличный, неудержимо разлагается, всюду торжествует личное начало. Совершилось
как бы новое рождение человека или, если хотите, новое грехопадение со вкушением
от древа познания добра и зла» [Там же, 331 –332]. Чего более в этом писательском
рассуждении – иллюзии или теперь уже «позитивной» истеричности, направленной
на возвышение себя и России на просторах мировой истории?
Мировая война привела интеллектуалов к переосмыслению процессов и сюжетов
мировой истории, соблазняла аналогиями и новыми попытками самоопределения.
Русская интеллигенция искала историческое место России, начиная с Чаадаева, сла-
вянофилов, западников и самих участников сборника «Из глубины» еще в 1905 и
1909 гг. Программу большевиков, желающих взять в свои руки мировую историю,
Дипломат оценивает абсолютно отрицательно: «Первый удар международному социа-
лизму нанесла война, а второй – русские большевики» [Там же, 333]. Булгаков дове-
ряет Беженецу предвидение ближайшего будущего Европы: ей «тоже не уйти от свое-
го большевизма» [Там же]. И это предвидение, как мы знаем, реализовалось, оно-то
не стало иллюзией.
Дипломат строг и надеется, что в мировом социализме для Европы все еще «обра-
зуется», его позиция почти геополитическая на сегодняшний лад: «желтый мир» еще
не втянулся в мировой процесс, Индия еще в стороне. А вот для России, по его мне-
нию, победа социализма не может принести никаких положительных плодов. Таков
рациональный расчет интеллектуала, стоящего на позициях позитивизма. Почему же
в Европе образуется, а для России надежды нет?
Ответ на этот вопрос дает С.Л. Франк в заключительной статье сборника: «Внешне
побеждая, социализм на Западе был обезврежен и внутренне побежден ассимилирую-
щей и воспитательной силой давней государственной, нравственной и научной культу-
ры. У нас же <...> его торжество с неизбежностью привело к крушению государства и к
разрушению социальных связей и культурных сил, на которых зиждется государствен-
ность» [Там же, 308]. В 1918 г. национал-социализм только пробуждался в странах За-
пада, Россия же уже совершала свой путь, как выразился Франк, «от добра ко злу».
И он, как и другие авторы, искал источник этого движения и пришел к необходимости
142
российского «покаянного самопознания». Материализм, отрицающий «духовные силы»
общества, и интернационализм, подрывающий организацию этих же сил «националь-
ности» и «национальной государственности» – вот пороки социализма, захватившие
Россию [Там же, 310–311]. Надо заметить, что когда речь идет о стремлениях «народ-
ных масс», Франк заключает, что они «по духу своему не социалистичны». Он считает,
что причина революционных событий в материальных интересах, овладевших народом.
Живя в воюющей России, Франк оценивает народ так: «...наши рабочие стремились не
к социализму, а просто к привольной жизни, к безмерному увеличению своих доходов
и возможному сокращению труда; наши солдаты отказались воевать не из идеи интер-
национализма, а просто как усталые люди, чуждые идее государственного долга и по-
мышлявшие не о родине и государстве, а лишь о своей деревне, которая далеко и до
которой “немец не дойдет”; <...> крестьяне делили землю не из веры в правду соци-
ализма, а одержимые яростной корыстью собственников» [Там же, 309]. Этот пассаж,
возможно, и верен в развитии идеи о двойной природе социализма, несоответствия
в ней идеи абстрактного справедливого общества и мотивов поведения масс, ее осу-
ществляющих. Однако, на мой взгляд, аргументы Франка не делают ему чести. Заму-
ченных войной солдат из крестьян, оторванных от земли, требующей труда от зари
до зари, рабочих, стоящих у станков до 10–12 часов в день, можно ли упрекать
в «стремлении к вольной жизни»? Та «вольная жизнь» – разбой и насилие, в которую
окунула массы революция, ничего общего не имеет с трудом рабочего или крестья-
нина, определенным правовыми нормами. Налаженная экономика, где есть место
каждому – и крестьянину с его наделом, и рабочему, получающему за свой труд
оплату, позволяющую ему и его семье вести цивилизованный образ жизни – есть
выполнение государственного долга со стороны государственной власти. В стихию
войны массы включились не по своей воле, а были вовлечены воюющими элитами
европейских государств, в том числе и тех самых, в которых социализм, по мнению
Франка, был «побежден ассимилирующей и воспитательной силой давней государ-
ственной, нравственной и научной культуры». Идейное одобрение войне, как мы
помним, было делом интеллигентов-патриотов и общественных деятелей. Обвинять
«массы» в несоответствии их интересов идее социализма и на этом основании счи-
тать ее ложной и при этом смотреть на Запад, где социализм приносил плоды циви-
лизации простым людям по причине его «буржуазности и государственности» – есть
такая критика России в ее движении «от добра ко злу», которая ведет авторов сбор-
ника от обвинительных истерик в адрес народа к иллюзиям о будущем России.
Что может спасти Россию? Франк снова обращается к народу, теперь уже не с
критикой ложного поведения и подмены идеи социализма личным стремлением «к
привольной жизни», а в императивной форме объединения «мысли», «силы» и «во-
ли». Франк полагает, что следует понять идеал в моду се «реализма», что позволяет
осознать «духовные основы общественного бытия, и потому включает в себя, а не
противопоставляет себе, творческий идеализм духовного совершенствования» [Там
же, 321]. Философ считает, что развитие «органической сложности и полноты исто-
рических форм жизни» прокладывает путь к развитию культуры. Органика же, по его
мысли, произрастает «из народной веры и воли коллективных единств нации, госу-
дарства и церкви», так осуществляется «подлинный идеал демократии» [Там же].
В этом контексте сама политическая деятельность, так сказать, сакрализуется. Оксю-
морон «реалистический идеал» (в тексте повторяется оборот «он мыслит») представ-
ляет политику «как смиренное служение, определяемое верой в непреходящий смысл
национальной культуры» и видит долг «каждого поколения оберечь наследие пред-
ков, обогатить его и передать потомкам» [Там же, 322]. Единство церковно-
религиозного и национально-государственного сознания, по Франку, дает надежду
«оздоровляющему умонастроению», которое вернет Россию к творчеству и жизни.
Идеи культурно-религиозной философии Франка развиваются в программном
ключе в статье главного редактора и инициатора сборника П.Б. Струве, социолога и
активного политика. Его «сопротивление» власти большевиков идет в нескольких
направлениях: как политического публициста, как издателя периодической печати
143
либерально-консервативного крыла (журнал «Русская мысль») и как просветителя
народных масс. В своей программной статье «Исторический смысл русской револю-
ции и национальные задачи», Струве определяет состояние России как социолог и
теоретик. Он считает, что судьбы народов решаются не обвинениями и общими суж-
дениями, а тем, что реально ведет народ в революцию: стремлениями, в основе кото-
рых – чувства и страсти. Однако, не оформившись идейно, стремления не имеют
вектора движения, только создав “идею-страсть”, можно направить чувства и волю к
разумным преобразованиям [Там же, 459–460].
Говоря о причинах российской катастрофы Струве идет вослед Бердяеву: «Гого-
левско-щедринское обличие великой русской революции есть непререкаемый исто-
рический факт» [Там же, 461], однако он не соглашается с теми авторами, кто счита-
ет «некультурным русский народ, сравнивая его с французским или английским
в эпоху их подлинных и подлинно-великих революций» [Там же, 460]. В вопросе о
роли интеллигенции в революции Струве еще в «Вехах» обвинял монархию в приви-
тии навыка «государственного отщепенства» русскому образованному слою: само-
державие не допускало интеллигенцию к участию в управлении государством. Эта
идея, подтвержденная конкретными историческими примерами, находила поддержку
у интеллектуалов (см., н апример, статью П.И. Новгородцева [Там же, 428]).
В наброске политической истории России Струве показывает переплетение экономи-
ческих, политических и культурных вопросов, что позволяет ему показать противоре-
чие индивидуального и коллективного в определениях понятий «класс», «классовая
борьба», «идея социализма».
Враждебные чувства, возникающие на основе ментальных противоречий людей,
принадлежащих к разным классам общества, могут быть преодолены, по мысли
Струве, в нации, где «решающее значение имеет та выражающаяся в национальном
сознании объединяющая настроенность, которая создает из группы лиц одного про-
исхождения, одной веры, одного языка и т.п. некое духовное единство. Нация кон-
ституируется и создается национальным сознанием» [Там же, 473]. Определяя рус-
скую революцию как победу интернационализма над национализмом, Струве видит
два типа интернационализма: 1) пацифистский, куда включает и христианство и
2) воинствующий, основанный на классовой борьбе, которая «с такой легкостью за-
владела душой русского народа», причиной чего является «междуклассовое» и «меж-
дучеловеческое» его недоверие и недоброжелтельство, доходящее до ненависти.
Со стратегической прозорливостью Струве писал в стилистике программных ле-
нинских речей, но с противоположным большевикам содержанием: «Жизненное дело
нашего времени и грядущих поколений должно быть творимо под знаменем и во имя
нации. <. . .> Национальное сознание так же образует нацию, как созна ние классо-
вое – класс. Нация – это духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общно-
стью культуры, духовного содержания, завещанного прошлым, живого в настоящем
и в нем творимого для будущего. <. . .> признак национальный указует на все то
огромное и нетленное богатство, которым обладает всякий член и участник нации и
которое, в сущности, образует самое понятие нации» [Там же, 474 –475]. Струве не
откладывал дело национального объединения на лучшие времена. Его ближайшие
шаги – на почве культуры, ибо интеллигент работает с «массами», прежде всего, как
просветитель. В отличие от Франка, вменяющего в вину «народной массе» излишнее
стремление к материальным интересам и призывающего ее к «органике народной
веры», Струве видит необходимость практической работы, опирающейся «на идейное
воспитание и перевоспитание образованных людей и народных масс». Он планирует
и дает анонс издания «Библиотеки общественных знаний» в самом сборнике
«Из глубины» (подробнее: [Колеров 2017, 167]).
Струве надеялся, что идея нации разрешит русские противоречия и поможет России
выбраться из катастрофы. Для самого Струве «идеальной русской личностью», вдохно-
вителем идеи был А.С. Пушкин (подробнее: [Кара-Мурза 2012, 167–170]). Аргумент
Струве: фундамент национальной идеи есть богатство русской культуры. Послушаем
его... и со всей очевидностью узнаем слова сегодняшних лидеров, говорящих от имени
144
России: «В том, что русская революция в своем разрушительном действии дошла до
конца, есть одна хорошая сторона. Она покончила с властью социализма и политики
над умами русских образованных людей. На развалинах России, пред лицом поруган-
ного Кремля и разрушенных ярославских храмов мы скажем каждому русскому юноше:
России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину, но ей
важно, чтобы ты чтил величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего,
чтобы благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патрио-
тизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, само-
отвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и кре-
стьян, богачей и бедняков, бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших за Рос-
сию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими святынями, творилась и поддержива-
лась Россия как живая соборная личность и как духовная сила. Ими, их духом и их
мощью мы только и можем возродить Россию. В этом смысле прошлое России,
и только оно, есть залог ее будущего» [Там же, 476].
Таково медленное течение российской истории. Прошло 100 лет, задачи, сформу-
лированные Струве, остались в повестке дня. Не иллюзорны ли они как задачи Рос-
сии сегодня? Может быть, прошедших лет достаточно, чтобы понять, что успех
«национальной идеи» зависит от политического и экономического строя государства,
над чем работал Струве в последний белградский период жизни. Ясно, что дело
«каждого юноши» определено не только тем, во что он верит, но и тем – вспомним
аргумент Франка, – насколько «государственная, нравственная и научная культура»
заинтересована и способствует свободной реализации каждого гражданина в выбран-
ном им деле на благо своего отечества.
Примечания
1 Н.Д. Кузнецов – профессор, юрист, с 1918 г. был членом исполнительного бюро Совета
объединенных приходов (общественная организация клириков и мирян Москвы), по поручению
Патриарха Тихона как юрист-правозащитник представлял интересы церкви во взаимоотноше-
ниях с органами советской власти; помо гал юридическими консультациями в судебных делах
клириков и мирян.
2 В истории философии считается, что свою форму статья получила под влиянием пос лед-
ней работы В.С . Соловьева «Три разговора...», где среди персонажей есть Генерал и фигура ди-
пломатической ориентации [Усманов 2009, 87].
Источники – Primary in Russian and English
Достоевский 1976 – Достоевский Ф.М . Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Полное со-
брание сочинений в 30 т. Т. 14 . кн. I-Х . М .: Наука, 1976 [Dostoevsky, Fyodor M. The Brothers
Karamazov (In Russian)].
Из глубины 1991 – Из глубины // Вехи. Из глубины. М.: Правда. 1991 [De Profundis (In Russian)].
Лацис1921 – Лацис М.И . Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М .: Госиз-
дат, 1921. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11596-latsis-m-i -chrezvychaynye-komissii -po-borbe-s -
kontrrevolyutsiey-m -1921#mode/inspect/page/70/zoom/4 [Lacis, Martin I. Emergency commissions to
combat counterrevolution (In Russian)].
О перенесении столицы 1918 – О перенесении столицы. Постановление чрезвычайного IV Все-
российского съезда Советов. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5329/ [On the trans-
fer of the capital. Resolution of the Extraordinary IV All-Russian Congress of Soviets (In Russian)].
Ссылки – Referenses in Russian
Зюзина, Милякова 2010 – Зюзина И.А., Милякова Л.Б. Изгнание духовенства и мирян из
кремлевских монастырей и храмов в 1918 г. // Церковь и время. 2010 . No 4 (53). URL:
https://mospat.ru/church-and-time/616
Кара-Мурза 2012 – Кара-Мурза А.А. П.Б. Струве и развитие им концепции «личной годно-
сти» // Петр Бернгардович Струве / Под ред. О.А . Жуковой, В.К. Кантора. М.: Российская по-
ли тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С . 130 –170 .
Колеров 2017 – Колеров М.А. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927). М.: Издание
книжного магазина «Циолковский», 2017.
145
Колеров, Плотников 1991 – Колеров М.А., Плотников Н.С . Из глубины. Сборник статей о
русской революции. Примечания // Вехи. Из глубины. М.: Правда. 1991.
Усманов 2009 – Усманов С.М . Интеллигенция и будущее России в диалогах С.Н. Булгако-
ва // Интеллигенция и мир . 2009. No 3. С . 85 –99. URL: http://ivanovo.ac .ru/upload/ mediali-
brary/0d1/intelligen_2009_3 .pdf
Хавкин 2018 – Хавкин Б.Л . Проблема Брестского мира в российско -германских отношениях
(1918) // Философические письма. Русско -европейский диалог. 2018 . Т. 1 . No 2. С . 67–80. URL:
https://phillet.hse.ru/issue/view/742/513
Цыпин 2018 – прот. Владислав Цыпин Об отделении Церкви от государства и школы от
Церкви. URL: http://www.pravoslavie.ru/110393.html
Referenses in English
Kara-Murza, Alexey A. (2012) ‘P.B . Struve and the Development of the Concept of “Personal Ap-
plicability”’, Zhukova Olga A., Kantor Vladimir K. (eds.) Pyotr Berngardovich Struve, Russian Political
Encyclopedia (ROSSPEN), Moscow, pp. 130 –170 (In Russian).
Khavkin, Boris L. (2018) ‘The Problem of the Brest Peace in the Russian -German Relations’
(1918), Philosophical Letters. Russian-European Dialogue. 1, 2 (2018), pp. 67–80 (In Russian).
Kolerov, Modest A. (2017) From Marxism to Idealism and the Church (1897–1927), Publishing of
the Tsiolkovsky Bookstore, Moscow (In Russian).
Kolerov, Modest A., Plotnikov, Nikolai S. (1991) ‘De Profundis. Collection of Articles about the
Russian Revolution. Notes’, Milestones. De Profundis, Pravda, Moscow (In Russian).
Tsypin, Vladislav, archpriest (2018) On the Separation of the Church from the State and the School
from the Church, URL: http://www.pravoslavie.ru/110393.html
Usmanov, Sergei M. (2009) ‘I ntelligentsia and the Future of Russia in the Dialogues of S.N . Bulga-
kov’, Intelligentsia and the world. Vol. 3 (2009), pp. 85 –99, URL: http://ivanovo.ac .ru/upload/ mediali-
brary/0d1/intelligen_2009_3 .pdf
Zyuzina, Irina A, Milyakova, Lidi a B. (2010) ‘Expulsion of the Clergy and Laity from the Kremlin
Monasteries and Temples in 1918’, Tserkov' i vremja. 2010 . Vol. 4 (53), URL:
https://mospat.ru/church-and-time/616
Сведения об авторе
КИСЕЛЕВА Марина Сергеевна –
доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник Национально-
го исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики».
Author’s information
KISELEVA Marina S. –
DSc. in Philosophy, Professor, Chief Re-
searcher at the National Research University
Higher School of Economics.
146
Еще раз о невыученных уроках Загорского эксперимента
(ответ А.Д. Майданскому)
© 2019 г.
Ю.В . Пущаев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский фа-
культет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 .;
ИНИОН РАН, Москва, 117997, Нахимовский проспект, д. 51/21.
E-mail: Putschaev@mail.ru
Поступила 18.01.2019
Статья представляет собой полемический отклик на статью философа
А.М . Майданского, в которой тот пытается защитить от критики по-
нимание советским философом Э. В. Ильенковым так называемого
Загорского эксперимента, особенностей развития слепоглухих детей, а
также особенностей становления человеческой личности вообще, что
тут является главным определяющим фактором – предметно-
практическая деятельность или язык. По пунктам выделяются аргу-
менты, согласно которым так называемый Загорский эксперимент не
может считаться научно состоятельным.
Доказывается и показывается, что за всю историю тифлосурдопедаго-
гики не известно ни одного случая развития слепоглухого человека от
«ноля психики» вплоть до высот культурного развития в согласии с
концепцией Соколянского-Мещерякова, на которую опирался
Э.В . Ильенков. Вместе с тем, отрицание научности этого эксперимен-
та не отменяет того важного обстоятельства, что это яркая страница
в истории отечественной философии и психологии, которая в том
числе практически очень повлияла на положение слепоглухих людей
в нашей стране.
Ключевые слова: Загорский эксперимент, Э.В . Ильенков, А.И. Меще-
ряков, слепоглухота, мышление, язык, предемтно-практическая дея-
тельность, психика.
DOI: 10.31857/S004287440006052-2
Цитирование: Пущаев Ю.В. Еще раз о невыученных уроках Загорского
эксперимента (ответ А.Д. Майданскому) // Вопросы философии. 2019.
No 8. C. 146–157.
147
Again about the Unlearned Lessons of the Zagorsk Experiment
(an Answer to A. D. Maidanskiy)
© 2019 г.
Yuriy V. Puschaev
Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av.
GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.; Institute of Scientific Info rmation for Social
Sciences of the Russian Academy of Sciences, 51/21, Nakhimovsky av., Moscow, 117997,
Russian Federation.
E-mail: Putschaev@mail.ru
Received 18.01.2019
The article is a polemic response to the article of the philosopher Maidanskiy,
in which he tries to protect the interpretation of soviet philosopher Ilyenkov
of so-called Zagorsk experiment, the features of the development of deaf-blind
children, as well as the features of the formation of the human personality in
general, which is the main determining factor of the subject-practical activity or
language. On points stand out the arguments according to which the so-called
Zagorsk experiment can not be considered scientifically sound.
It is proved and shown that in the entire history of tiflosurdopedagogics not
a single case of development of a deaf-blind person from the "zero psyche" up
to the heights of cultural development in accordance with the concept of
Sokolyansky-Meshcheryakov, which relied E. V. Ilyenkov. At the same time,
the denial of the scientific nature of this experiment does not negate the fact
that this is a bright page in the history of Russian philosophy and psychology,
which, among other things, has had a great impact on the situation of deaf-
blind people in our country.
Key words: Zagorsky experiment, E. V . Ilyenkov, A. I . Meshcheryakov,
deaf-blindness, thinking, language, subject-practical activity, the psyche.
DOI: 10.31857/S004287440006052-2
Citation: Puschaev, Yuriy V. (2019) “Again about the Unlearned Lessons of
the Zagorsk Experiment (an Answer to A. D. Maidanskiy)”, Voprosy Filoso-
fii, Vol. 8 (2019), pp. 146–157 .
В отечественных философских кругах продолжается дискуссия вокруг темы так назы-
ваемого Загорского эксперимента, причем самой дискуссии уже почти 50 лет, если счи-
тать ее началом статью биолога А.А. Малиновского1
«Некоторые возражения
Э.В. Ильенкову и А.И. Мещерякову» в 1970-м г. в журнале «Природа» [Малиновский
1970]. Данные небольшие заметки – отклик на недавнюю статью А.Д. Майданского
«Уроки Загорского эксперимента», опубликованную в сборнике «Эвальд Ильенков. Иде-
альное и реальность» в 2018 г. [Майданский 2018а]. В ней Майданский как последователь
Ильенкова, принадлежащий его школе, попытался защитить своего учителя от той раз-
нообразной критики, которой была подвергнута как философская интерпретация Ильен-
ковым основных проблем тифлосурдопедагогики (педагогики, занимающейся слепоглу-
хими детьми), так и его тезис о якобы теперь уже строго экспериментальном подтвер-
ждении и обосновании решения проблемы «откуда берется ум» и что является главным
фактором в процессе становления человека человеком.
Я сам давно занимаюсь темой Загорского эксперимента, и в частности, вопросом
о том, насколько справедливой была критика Ильенкова. Я считаю, что в очень
большой степени она и правда была справедливой, хотя не до конца и не во всем.
Но данная статья Майданского для меня здесь повод специально и по пунктам указать
148
на то, что уже в который раз упорно не понимают или не хотят понимать, не хотят
слышать апологеты Ильенкова в этом вопросе. Это странная ситуация диалога (или
его отсутствия), в которой защитники Ильенкова отвечают лишь на отдельные, вто-
ростепенные моменты критики, упорно игнорируя суть возражений. И я хочу вос-
пользоваться поводом еще раз проговорить и буквально схем атично, сжато и по
пунктам резюмировать и зафиксировать главное, почему так называемый Загорский
эксперимент не может считаться научно состоятельным экспериментом.
Хотя, надо отметить, случай Майданского не самый монологичный. Он все же пыта-
ется более или менее развернуто отреагировать на критику. А, скажем, другой видный
ильенковец, Л.К. Науменко, так проявляет просто блестящую глухоту, рассказывая
о полностью удавшемся и выдающемся эксперименте, ни словом не упоминая о том, что
позиция Ильенкова хотя бы где-то кем-то критиковалась [Науменко 2008].
Между тем, отрицание научности этого эксперимента в моих глазах не отменяет
того факта, что это яркая страница в истории отечественной философии и психоло-
гии. В ней даже, на мой взгляд, во многом выразились культурно-историческая суть
и метафизика советской эпохи со всеми ее ошибками и достижениями. См. об этом
14-ую главу «Загорский эксперимент как зеркало советской эпохи» в моей книге
«Философия советского времени: М. Мамардашвили и Э. Ильенков (энергии оттал-
кивания и притяжения)» [Пущаев 2018].
***
Тема Загорского эксперимента в отечественную философию вошла в решающей
степени благодаря целому ряду ярких статей Э.В . Ильенкова в первой половине
1970-х годов – [Ильенков 1970; Гургенидзе, Ильенков 1975; Ильенков 1975; Ильен-
ков 1977] и др. (хотя и до этого в «Вопросах философии» уже публиковались статьи
А.И. Мещерякова [Мещеряков 1968; Мещеряков 1969], содержавшие уже очень мно-
го из того, о чем будет говорить и на что будет опираться Ильенков [Пущаев 2013 а],
[Пущаев 2013б]). В этих статьях Ильенкова декларировалось о ни больше ни мень-
ше – об экспериментальной разгадке тайны рождения человеческого Я, с опорой на
якобы бесспорные научные психолого-педагогические данные, полученные в ходе
воспитания и обучения слепоглухих детей в Загорском (сейчас Сергиево-Посадском)
детском доме слепоглухих детей. Как главный демонстрационный аргумент Ильенко-
ва в этих статьях выступало указание на то, что четверо молодых слепоглухих людей,
выпускников этого дома поступили в начале 1970-х гг. на психологический факультет
МГУ им. Ломоносова и успешно его закончили. Только о них и их успехах говорит
Ильенков, чтобы на их примере в качестве уже неоспоримого, научно доказанного
факта проиллюстрировать правоту, во-первых, так называемой концепции совмест-
но-разделенной деятельности Соколянского–Мещерякова, которая определенным
образом истолковывает опыт воспитания и обучения слепоглухих детей, и, во -
вторых, правоту своей философской интерпретации проблем обучения и воспитания
слепоглухих детей. Интерпретации, не лишенной оригинальности (талант философа
во многом заключается в умении находить подтверждение своим абстрактным исти-
нам в порой совершенно неожиданных конкретных вещах), и при этом выдержанной
в ортодоксально марксистском духе, призванной подтвердить на психолого-
педагогическом и дефектологическом уровне и «материале» известный тезис, что
«общественный труд создал человека».
Ильенков утверждал, что Соколянский и Мещеряков с научной строгостью, то
есть на базе строгого научного эксперимента доказали, что фундаментом и сутью
«очеловечивания» является обучение ребенка элементарным бытовым навыкам
и умению пользоваться простейшими предметами материальной культуры – ложкой,
одеялом, ночным горшком. И ни в коем случае таким фундаментом по Иль енкову не
может считаться обучение языку, человеческой речи. Подобное мнение для него яв-
ляется религиозно-идеалистическим предрассудком, несовместимым с приверженно-
стью научной философии и психологии. Напротив, если ребенок при помощи взрос-
лых усвоит основные бытовые навыки, говорили единомышленники Ильенков и
149
Мещеряков, то в деле обучения его речи и формирования у него высших психиче-
ских функций особых трудностей уже не будет, ведь фундамент заложен, и дальше на
нем уже без особых проблем будут выстраиваться высшие этажи человеческой психи-
ки – владение языком, мышление, воля, воображение, и т.д.
Новизна и даже острота так называемой канонической версии Загорского экспе-
римента и состояла преимущественно в утверждении, что теперь это положение до-
казано строго-научно, экспериментально. И именно в этот пункт стала в основном
целить критика оппонентов Ильенкова по данному вопросу. В 1989 г. вышла не-
большая книга «Слепоглухонемота: Исторические и методологические аспекты: Ми-
фы и реальность» [Слепоглухонемота: Исторические и методологические аспекты:
Мифы и реальность 1989]. Она представляла собой сборник докладов на конферен-
ции 1988 г., на которой взгляды Ильенкова и Мещерякова были подвергнуты прямо-
таки разгромной критике. Оппоненты «канонической версии» доказывали, что ника-
кого собственно научного эксперимента не было. Ведь по его условиям, оговорен-
ным самими же Ильенковым и Мещеряковым. требовалось, чтобы в научно наблю-
даемом процессе воспитания и обучения слепоглухих детей «подопытными» были
тотально или полностью слепоглухие дети, причем с самого рождения. Однако никто из
«загорской четверки» (С.А. Сироткин, А.В . Суворов, Ю.М . Лернер, Н.Н . Крылатова)
таковым на самом деле не являлся: никто из них не был тотально слепоглухим
с рождения. У всех у них какое-то продолжительное время в детстве сохранялись
слабые зрение и/или слух. И никто из них не обучался в Загорском детском доме для
слепоглухих с самого начала. Более того, каждый из них, кроме Сироткина, сначала
поучился в школе только для слепых или только для глухих, и лишь в подростковом
возрасте попал под «экспериментальное наблюдение» загорских педагогов. Очень
слабые остатки слуха сохранялись даже у них уже взрослых, когда они учились
в МГУ и далее. Следовательно, говорили оппоненты, эксперимент был нечистым,
его просто не было в строго научном значении. А Ильенков, как доказывали некото-
рые из них, сознательно скрыл от читателей, что никто из «загорской четверки» не
был полностью слепоглухим с рождения.
Впрочем, эта критика не переубедила ильенковцев, которые ушли в глухую обо-
рону. Они возражали, что Ильенков никогда и не скрывал, что никто из четверки не
был полностью слепоглухим с рождения, поскольку упоминал (два или три раза ми-
моходом в своих статьях) о том, что этих ребят «в детские годы постигло одинаковое
несчастье. Болезнь лишила их сразу и зрения и слуха»
2
[Ильенков 1975, 81]. Оппо-
ненты им на это в общем-то убедительно возражают, что Ильенков говорил это
крайне редко и совершенно вскользь, в таких общих словах, чтобы на этом вообще
не фиксировалось внимание читателей. Зато в качестве иллюстрации эффективности
концепции Соколянского–Мещерякова, позволяющей «сотворить чудо» с детьми,
тотально слепоглухими с самого рождения, он везде и всегда упоминал только этих
молодых людей вместе с писательницей О.И. Скороходовой (которая тоже не была
слепоглухой с рождения).
Однако ильенковцев это все равно не убеждает. Они также, например, говорят,
что вообще не имеет особого значения, был ли кто из четверки слепоглухим с рож-
дения, потому что в принципе экспериментальные данные никогда полностью не
соответствуют теории и могут с ней расходиться. Главное, дескать, идеальные зако-
номерности, которые выделял Ильенков, а не слишком многообразная эмпирия, от
которой всегда приходится абстрагироваться и отвлекаться (получается почти по Ге-
гелю – «тем хуже для факта», но причем здесь тогда классическое научно-
экспериментальное мышление?)
Конечно, Загорский эксперимент был, пожалуй, самым ярким и впечатляющим
выходом Ильенкова за пределы собственно философии в деле сотрудничества с пред-
ставителями других научных дисциплин. И подвергнуть сомнению и критике резуль-
таты этого сотрудничества – это, возможно, просто слишком многого требовать от
собственно ильенковцев, убежденных сторонников его школы.
150
Однако невозможно до бесконечности отмахиваться от очевидного. И хотя, как
известно, «в область верований факты не проникают», хочется еще раз словно запро-
токолировать буквально по пунктам, и в сжатом виде изложить то, почему Ильенков
был неправ в этом вопросе, и почему Загорский эксперимент не может считаться
научно состоятельным. Чтобы любой дальнейший разговор по поводу Загорского
эксперимента возвращать к этим пунктам и требовать прямого ответа на сформули-
рованные там тезисы.
1. Любой эксперимент предполагает: (1) исходную гипотезу, (2) которую подвер-
гают экспериментальной проверке, и (3) полученные в ходе этой проверки данные.
Если эту тройственную структуру наложить на Загорский эксперимент, то можно
увидеть, что то, что в нем подается в качестве якобы полученных строгих экспери-
ментальных данных – либо таковыми не являются, потому что по-настоящему не
было самой проверки, либо эти данные все же есть, но они проверяемой гипотезе не
соответствуют и ей противоречат.
Исходная теоретическая гипотеза Соколянского-Мещерякова (с ней полностью
солидаризировался Ильенков и далее философски ее развивал) состояла в том, что
слепоглухого ребенка (как и любого другого, нормального, просто в случае с тоталь-
ной и самого рождения слепоглухотой это видно гораздо более ясно и четко) необхо-
димо прежде обучить первичным бытовым навыкам как некоему фундаменту «чело-
веческой психики». Как мы уже сказали, согласно их взглядам, потом на этом фун-
даменте могут достраиваться остальные этажи человеческой личности, причем без
особых проблем. Но уже само по себе наличие этого фундамента при прочих равных
условиях гарантирует возможность «дальнейшего безграничного развития личности»,
в том числе и овладение языком. Владение речью с их точки зрения никак не может
считаться главным или решающим этапом в процессе становления человека. Такая
точка зрения должна считаться идеалистической и ненаучной. Владение языком –
скорее некое следствие, вытекающее из заложенного основания и не составляющее
какую-то принципиально новую ступень.
Важнейшее утверждение канонической версии Загорского эксперимента состоит
в том, что теперь якобы строго научно доказана последовательность в восхождении по
ступеням развития у тотально слепоглухих с рождения детей: обучение предметно-
практическим навыкам – обучение жестовому языку – переход при помощи дактильной
азбуки на обычный словесный язык – возможность дальнейшего «безграничного разви-
тия личности». Успешное прохождение первой стадии гарантирует дальнейшее восхож-
дение вплоть до самых высших ступеней культурно-личностного развития. Обучили пер-
вой – тогда, если ничего привходящего не помешает, будут и высшие.
Однако подвох в том, что по этой схеме или лестнице, имеющей центральное
значение в концепции Соколянского–Мещерякова и в опирающейся на нее фило-
софско-психологической концепции Ильенкова в Загорском детском доме не было
воспитано ни одного тотально слепоглухого с рождения ребенка. Буквально: ни одного.
Как мы уже сказали, тотально слепоглухими с рождения не были четверо будущих
выпускников МГУ. Более того, в Загорский дом они попали в достато чно взрослом
возрасте, уже умея читать и писать, отучившись до этого в нескольких классах школ
для слепых или глухих. Те же тотально слепоглухие с рождения дети, что оказались
в детском доме, никаких особых успехов не добились: не овладели даже словесным
языком, не говоря уже об обучении в вузах и иных путях и способах «безграничного
личностного развития». Майданский и сам это признает: «Никого из воспитанников
Загорского интерната не удалось вывести на высшие рубежи духовной культуры
“с нуля”» [Майданский 2018а
, 432].
Более того, насколько нам известно, во всей истории тифлосурдопедагогики научно
не зафиксировано ни одного случая, чтобы слепоглухой с рождения ребенок овладел
в полной мере словесной речью и мог в культурном плане полноценно развиваться
дальше. Наиболее часто вспоминаемые в этом контексте американские девочки Эллен
Келлер и Лора Бриджмен тоже не были слепоглухими с рождения. Они ослепли и
оглохли в возрасте около полутора лет, когда уже вполне могли овладеть начальными
151
элементами человеческой речи. А француженка Мари Эртен, про которую говорят,
что она якобы была слепоглухой с рождения, попала на воспитание в католический
монастырь лишь в возрасте 10 лет. До этого она находилась в родной семье без како-
го-либо внешнего наблюдения. И была ли она действительно слепоглухой с самого
рождения, какова была динамика состояния ее зрения и слуха до момента попадания
к монахиням, доподлинно неизвестно.
Таким образом, что это за научный эксперимент, гипотезе которого нет буквально
ни одного научно зафиксированного фактического подтверждения? Поэтому совер-
шенно неубедительны суждения Майданского с высоты птичьего полета о том, что
на самом деле совершенно не важно, были ли тотально слепоглухими вот эти кон-
кретные участники «Загорской четверки». Дескать, Ильенков «в ходе эксперимента
стремился выделить чистые, всеобщие, инвариантные формы становления человече-
ской психики. От прочего же абстрагировался как и всякий нормальный ученый <...>
С тем же “глубокомыслием” они могли бы упрекнуть Ньютона за то, что он злона-
мерено скрыл разницу между земным и небесным мирами и выдавал за реальность
фикцию – прямолинейное и равномерное движение, каковое нигде в природе не
наблюдается» [Майданский 2018а
, 429–430].
Тут в целом у Майданского получается, что «массой частных фактов, игрой случая
и посторонних влияний» [Майданский 2018а
, 430] объявлены вообще все фактиче-
ские данные, имеющие отношение к делу. Но где хоть одно объективно зафиксиро-
ванное фактическое подтверждение лестнице полного восхождения в концепции Со-
колянского-Мещерякова? Хоть одно?!
2. Майданский в свое апологетической статье подчеркивает и защищает исходную
предпосылку Мещерякова и Ильенкова, что воспитание слепоглухого ребенка понят-
нее и проще, чем нормального, потому что здесь якобы можно поставить под кон-
троль все условия воспитания и развития. Дескать, в случае с нормальными детьми
велика роль «педагогической стихии», когда ребенок многое усваивает сам собой,
просто наблюдая за окружающими его людьми, общаясь со сверстниками и т.д. Сле-
поглухой же ребенок якобы лишен этих возможностей, и любую информацию, осо-
бенно в начале своего обучения, он получает лишь через воспитателя. Это и позволя-
ет по Мещерякову и Ильенкову поставить под учет и контроль все решающие факто-
ры воспитания. Это означает c их точки зрения, что в случае с воспитанием слепо-
глухих детей мы имеем дело со своего рода «лупой времени», в фокусе которой ста-
новятся видны «узловые события процесса формирования личности, становления
(подумать только!) человеческого сознания» [Ильенков 1977, 70].
Действительно, научный эксперимент должен состоять в том, что его объект ста-
вится в искусственные и полностью контролируемые условия, исключающие наличие
какой-либо стихии, т.е. любых посторонних и неконтролируемых воздействий. Над
объектом производятся определенные действия, и если на выходе получается иско-
мый результат, то это считается успешным подтверждением исходной гипотезы.
Однако снова подчеркнем, что в случае с Загорским экспериментом все было не
так, и отсутствия «педагогической стихии» в наблюдаемых условиях никогда не было
как в случае с «загорской четверкой», так и в примыкающем сюда случае с Ольгой
Скороходовой. Все они никогда не находились в ситуации полной контролируемо-
сти, прозрачности для просвечивающего их насквозь научного взгляда. В руки ти-
флосурдопедагогов и участники «загорской четверки», и О.И. Скороходова попали
уже худо-бедно приспособленными к стихии человеческого общения. То есть, здесь
опять-таки не было того, что собственно и должно делать научный эксперимент
научным экспериментом – изначальной полной контролируемости «объекта» и до-
статочного учета всех факторов его формирования.
Более того, как прозвучало в выступлениях педагогов Загорского дома еще на
конференции 1988 г., в целом все воспитуемые там дети, даже наиболее отстающие
в развитии, никогда не находятся в полной изоляции от сверстников, всегда в той
или иной степени включены в среду общения, в ее стихию , где усваивают массу
всего самого разного. Сама идея возможности исключить полностью стихийность
152
(а значит, и свободу) даже п ри первоначальном воспитании представляется крайне
сомнительной. Тогда человеческий субъект превращается лишь в объект: сам он
якобы не контактирует со сверстниками, не способен самостоятельно ничего
наблюдать и усваивать, пусть даже лишь одними руками.
3. Майданский категорически берет под защиту тезис Ильенкова о якобы «нуле
психики» у слепоглухого ребенка, отмечая при этом, что он «вызвал настоящий
шквал возражений» [Майданский 2018а
, 424]. Он даже в общем-то с одобрением ци-
тирует слова Ильенкова о том, что только что родившийся младенец в виду его «пол-
нейшей неспособности к предметным действиям в мире» является всего лишь «кус-
ком мяса»...
Майданский иронизирует над научно безграмотными, как он считает, словами работ-
ников Загорского дома о том, что они никогда не видели там детей с «нулевой психи-
кой» и никогда не занимались формированием личности «от нуля». Наш автор триум-
фально указывает, что «ноль психики» здесь надо понимать не в профанном, а четко
оговоренном научном смысле, как полное отсутствие к поисково-ориентировочной дея-
тельности, способности к самодвижению и поиску в пространстве полезных веществ,
поскольку «Ильенков настаивал, что психика является функцией поисково-
ориентировочной деятельности» [Майданский 2018а
, 426]. Дескать, это нижний этаж
психики, общий людям с животными. И Майданский пишет, что «эксперимент привле-
кал Ильенкова возможностью воочию – в чистом виде – наблюдать процесс возникно-
вения психики и человеческой личности» [Майданский 2018а
, 429].
Однако хочется спросить, у кого именно Ильенков воочию и в чистом виде наблю-
дал процесс возникновения психики и личности «с нуля», с усилий по формирова-
нию еще в зародыше поисково-ориентировочной деятельности, и вплоть до высших
ступеней личностного развития? Ведь опять-таки, никто из «загорской четверки» мо-
лодых людей к таковым не относился. Зачем тогда вообще было про них упоминать?
И да, назовите, пожалуйста, поименно других детей, чье формирование научно
наблюдали в Загорском доме как раз «с нуля» и до самого «верха». Но другие имена
вообще не звучат в этом контексте. Интересно, почему?
4. Ильенков создает свою оригинальную (признаем это) и одновременно выдер-
жанную в ортодоксально марксистском духе философию слепоглухоты, подчеркивая
ее материалистический характер. Он противопоставляет ее, как он говорит, религи-
озно-идеалистическим воззрениям, согласно которым главным фактором становле-
ния человека и его культурного развития является овладение словесным языком,
обычной человеческой речью. Ранее, еще на примере Эллен Келлер, слепоглухой
девочки, которая стала известной писательницей и общественной деятельницей, раз-
личные философы и психологи (например, Э. Кассирер) утверждали, что именно
произнесенное ею впервые осознанно слово «вода» стало тем ключом, который,
словно сейф, открыл для встречи с миром ее душу, и что именно употребление сим-
волов и является решающим фактором при возникновении мышления.
Ильенков же в противовес таким взглядам подчеркивает первостепенность осяза-
ния (он его трактует как базовое и главное чувство человека, более важное и фунда-
ментальное для личностного и культурного развития, чем даже зрение и слух)
и именно работы рук, которые выполняют свою роль вне зависимости от наличия у
ребенка зрения или слуха. Теория совместно-разделенной деятельности Соколянско-
го-Мещерякова тем и понравилась марксисту Ильенкову, что она на индивидуально-
психологическом уровне вроде как подтверждала исходный тезис марксистской фи-
лософии, что общественный труд создает человека. Поэтому для Ильенкова был так
важен тезис о тотально слепоглухих с рождения детях, которые достигают высот
культурного развития. Ведь если бы у них были хотя бы небольшие остатки зрения и
слуха, значит, они могут что-то видеть и слышать, и, хоть в небольшой степени, но
усваивать язык, речь. Но значит, тогда работа рук уже не является единственной и
определяющей. Он же стремился доказать, что совместная с воспитателем практиче-
ская деятельность ребенка, выполняющаяся преимущественно лишь руками и обслужи-
вающая его первичные бытовые потребности, еще до всякого овладения речью уже
153
является достаточной гарантией «очеловечивания» и «безграничного личностного
развития». И тогда мы уже в сфере психологии получаем подтверждение истинности
философских представлений, что категория предметно-практической деятельности
является фундаментом и исходной клеточкой для исчерпывающего понимания обще-
ства и человека.
В этом контексте для Ильенкова и были важны положения об «отсутствии педаго-
гической стихии» и «ноле психики» у тотально слепоглухого ребенка. Отсутствие сти-
хийности, т.е. в том числе какой-либо свободы при личностном развитии (но воз-
можно ли вообще в таких несвободных условиях человеческое развитие даже очень
маленького ребенка?), взаимодействие ребенка лишь с одним воспитателем и «ноль
психики» до этого специального целенаправленного воздействия действительно под-
разумевают полное отсутствие зрения и слуха, которые слишком стихийны, всегда
могут услышать и увидеть что-то, что невозможно полностью проконтролировать и
локализовать.
Однако, что мы видим на самом деле, фактически? Как мы уже сказали, весь
опыт тифлосурдопедагогики демонстрирует, что как раз тотально слепоглухие с само-
го рождения дети, возможности которых ограничены только осязанием и работой
лишь рук, не могут сколько-нибудь полноценно овладеть словесной речью. Они
остаются в лучшем случае «жестовиками» (владеющими лишь жестовым языком),
и им недоступны, как говорит Майданский, «высшие рубежи духовной культуры».
Таким образом, вопреки Ильенкову и его единомышленникам факты говорят о
том, что одна лишь предметно-практическая деятельность сама по себе вовсе не га-
рантирует «безграничного личностного развития». Опыт как Загорского детского до-
ма, так и всей тифлосурдопедагогики говорит о том, что тотально слепоглухих с рож-
дения детей удавалось научить лишь предметно-бытовым навыкам, жестовому языку
и разве что лишь отдельным элементам словесного языка. Но о безграничном куль-
турном развитии личности здесь, увы, говорить не приходится.
Только в случаях, когда слепоглухой ребенок не был таковым с самого рождения,
слышал и видел хотя бы первые год-два и мог усвоить начальные элементы речи, он
получал возможность дальнейшего полноценного культурного развития. Но тогда
получается, что правы были идеалисты, с которыми спорили Ильенков и Мещеря-
ков. Лишь усвоение в самом раннем возрасте хотя бы начальных элементов словес-
ного языка, речи позволяет сделать в дальнейшем решающий рывок в дальнейшем
культурном развитии.
Кстати, очень примечательно, как в этой области изменилась терминология. Иль-
енков и его единомышленники говорили о слепоглухонемых детях и о слепоглухонемо-
те. Сейчас же пользуются терминами слепоглухие и слепоглухота. И это точнее и вер-
нее, потому что именно немых и не говорящих хотя бы жестами среди таких людей
практически нет. Ильенков же рассуждениями о слепоголухонемоте словно подчер-
кивал, что загорские воспитатели якобы изначально имели дело с совершенно не
говорящими детьми, и все равно добились выдающихся успехов в их культурном раз-
витии. Но этого, как мы показали, не соответствует действительности.
5. Однако признание того, что тотально слепоглухие с самого рождения дети не
могут добиться больших успехов в культурном развитии ни в коем случае не должно
обернуться умалением их человеческого достоинства, как и человеческого достоин-
ства любых других тяжелых инвалидов. В Ильенкове, кстати, во многом привлекает
его глубинный демократизм, убеждение, что все люди равны, и что стоит лишь со-
здать подходящие социальные условия, и «никто не уйдет обиженным». Поэтому,
считал он, даже такие дети тоже смогут подняться к самым вершинам культуры, ко-
гда абсолютно у всех появится возможность «безграничного личностного развития».
Он верил, что все люди равны с точки зрения своего человеческого достоинства, но
подтверждение этому равенству видел в том, что любой человек, даже самый тяже-
лый инвалид, может подняться к самым высотам культуры.
Однако что делать, если неизбежные ограничения в возможностях культурного
развития все-таки существуют? Если от инвалидности как феномена невозможно
154
избавиться? Тем более, такой тяжелой? Оптимизм Ильенкова (его антирелигиозная и
квазирелигиозная вера в полноценное «земное воскресение жизни») в свете трезвого
реализма дает сбой, его гуманизм подвисает. Но значит, что тогда люди и вправду не
равны? Ведь нет пока ни единого примера, чтобы тотально слепоглухой с рождения
человек добился значимых успехов в культурном развитии.
Мне кажется, что высший, подлинный демократизм тут христианский. На мой
взгляд, больше правы «церковники», которых свысока третировали Ильенков и Ме-
щеряков. В Евангелии сказано: «Многие же будут первые последними, и последние
первыми» (Мф. 19:30). С христианской точки зрения весьма возможно, что на
Страшном суде именно тяжелые инвалиды окажутся лучшими заступниками для тех,
кто ухаживал за ними в жизни из любви.
В целом даже чрезвычайно низкий уровень так называемых высших психических
функций и способностей (умение говорить, писать, считать и т.д.) в каком-то предель-
ном смысле не должен отменять понимания, что перед нами такой же человек. Это в
любом случае так, даже если из него и в приближении не получится сделать «разносто-
ронне развитую, гармоничную личность: умную, добрую, здоровую (курсив мой.
–
Ю.П.), трудолюбивую и с тонким чувством прекрасного» [Майданский 2018б,
, 398].
На наш взгляд, вообще нельзя отождествлять личностное развитие с культурным
и образовательным. Первое не совпадает со вторым, поскольку оно гораздо глубже
и в то же время полностью невыразимо. Ильенков и его диалектический материализм
в принципе не допускали понятия и категории тайны как глу бочайшей, неразгадыва-
емой загадки, к которой можно лишь прикоснуться и ее почувствовать. В том числе
они были неспособны истолковать как тайну человеческую личность в рамках своей
философии. Для них в человеке по сути все должно быть видно, выразимо и изме ри-
мо по шкале культурного развития и образовательных успехов.
6. Сама идея о якобы «отсутствии педагогической стихии» в случае со слепоглу-
хим ребенком, возможности поставить условия возникновения и развития личности
под некий объективный научный контроль говорит о некоем скрытом позитивизме
Ильенкова. Это, конечно, звучит парадоксально, учитывая то, что Ильенков известен
своим противостоянием явно позитивистской линии в советской философии. Но все
же уверенность в возможности научного разрешения тайны личности, а также науч-
но-экспериментальной разгадки того, как она возникает, говорит о некоем внутрен-
нем позитивизме просвещенческого толка в советском марксизме в целом, даже в ее
антисциентистской линии, которая не в последнюю очередь была представлена
Э.В . Ильенковым.
7. И последний пункт, который имеет некоторое отношение к аргументации сто-
ронников Ильенкова. И Майданский, и другие ильенковцы любят говорить о близо-
сти позиций и взглядов Ильенкова и выдающегося советского психолога Л.С. Выгот-
ского. Однако при желании выстроить прямую преемственность между двумя мысли-
телями затушевывается ряд принципиальных разногласий между ними, которые
имеют прямое отношение и к нашей теме. Кстати, неслучайно сам Ильенков о Вы-
готском упоминает очень мало.
Также интересно, что Майданский на самом деле хорошо знает о разнице во
взглядах между Ильенковым и Выготским на природу и главный признак «высших
психических функций», что, например, нашло выражение в его статье 2008 г. о Спи-
нозе и Выготском [Майданский 2008]. Однако, как только ильенковцы заводят речь о
Загорском эксперименте и вспоминают в этом контексте Выготского, они обходят
стороной эту важнейшую тему в его психологии, словно для того, чтобы не ставить
лишний раз под сомнение взгляды своего учителя. Так и Майданский в своей статье
уже 2018 г. говорит лишь о том, что общего было у Ильенкова и Выготского, в кото-
рый раз совершенно отставляя в сторону различия между ними. Но мне кажется
важным применительно к проблематике Загорского эксперимента заполнить эту ла-
куну, эту фигуру умолчания.
Да, и Ильенков и Выготский были искренними убежденными марксистами.
И тот, и другой очень ценили Спинозу и во многом опирались на него. Для них обо-
155
их первостепенную важность имели именно методологические проблемы, проблемы
метода научного мышления. Да, они оба были монистами и считали психику и поведе-
ние на сто процентов социальным продуктом. Однако, на мой взгляд, они расходились
как раз в том вопросе, что именно переводит человека на человеческий уровень, делает
его «субъектом высших психических функций». Для «Моцарта советской психологии»
таковым все же был язык, употребление знаков, символическая деятельность. Только
символы, знаки по Выготскому поднимают действие на новую, высшую ступень, куль-
турно опосредуют человеческую деятельность и позволяют индивиду овладеть своим
поведением. Для Ильенкова же представление, что ведущим фактором развития чело-
веческой психики является язык или речь, было типично идеалистическим. Как раз
схожие воззрения он критиковал в своем понимании Загорского эксперимента, наста-
вая на том, что необходимый фундамент человеческого развития закладывает вовсе не
овладение речью, а совместная практическая деятельность ребенка и взрослого по
освоению первых бытовых навыков и вещей. А язык, дескать, при прочих равных
условиях усваивается потом без проблем и не является, как у Выготского, тем важней-
шим средством и орудием, под воздействием которого инструментальное мышление
ребенка (общее с высшими животными) претерпевает радикальные изменения.
По Выготскому именно речь поднимает на высшую, собственно человеческую
ступень ранее независимое от нее практическое действие. Хотя Выготский тоже счи-
тает, что практический интеллект в онтогенезе у ребенка возникает раньше и от речи
в своем возникновении он независим, однако, «если в начале развития стоит дело,
независимое от слова, то в конце его стоит слово, становящееся делом. Слово, дела-
ющее действие человека свободным» [Выготский 1984, 90].
Он сопоставлял знак с орудием, говоря, что употребление знака так же перестраи-
вает строй психологических операций, как употребление орудия перестраивает строй
трудовых операций. В целом можно утверждать, что решающим средством в деле
«очеловечивания» у Выготского был именно знак, а не орудие или бытовые простей-
шие бытовые предметы вроде ложки, как у Ильенкова.
***
Понимание Ильенковым сущности человека, того, когда и благодаря чему человек
становится собственно человеком, нашедшее свое выражение и в теме Загорского
эксперимента, помимо прочего логично связано и с определенным пониманием
нравственности. В нравственном плане оно приводит к сущностным этическим про-
ступкам и изъянам, дефектам. Так, если считать, что младенец до овладения им пер-
вичных культурно-человеческих навыков скорее является «куском мяса», что до этого
нет ни человека, ни его души, то с этой точки зрения совершенно не являются про-
блемой, например, аборты. Действительно, если собственно человека какое-то время
нет даже после его рождения, то тем более он не будет сторонниками подобных
взглядов считаться таковым, пока он находится в материнской утробе. И слабое
нравственное чувство, все равно не соглашающееся с оправданностью абортов, тем
легче будет заглушить такой вот наукой. Или, например, убежденность Ильенкова в
том, что проблема смерти совершенно не является предметом философии, что уме-
реть это просто как бы навечно уснуть, весьма возможно, сыграла совсем не послед-
нюю роль в его самоубийстве...
С другой стороны, Загорский эксперимент был в каком-то смысле общим делом,
в котором был и очевидный элемент самопожертвования. Эти четверо слепоглухих
людей не добились бы столь многого, если бы в них так «не вложились». И особенно
Ильенков очень много физических и душевных сил потратил на своих воспитанни-
ков. Тут мы имеем дело с настоящим подвижничеством. Кстати, только наши фило-
софы-марксисты в истории философии не просто размышляли о философских ас-
пектах и философском значении слепоглухоты, но и приняли непосредственное жиз-
ненное участие в судьбе слепоглухих людей. В этом, на мой взгляд, выражается ква-
зирелигиозный характер советского марксизма с его нетерпеливым ожиданием зем-
ного нерелигиозного воскресения жизни.
156
Поэтому, на мой взгляд, помимо справедливой критики Ильенков, конечно, за-
служивает и того, чтобы сказать ему искреннее спасибо.
Примечания
1 Интересно, что А.А . Малиновский, критиковавший Ильенкова и Мещерякова с достаточно
позитивистских позиций, был сыном известного большевика А. Богданова. Последнего уже сам
Ильенков в свою очередь позже подвергнет резкой критике за позитивизм и технократизм в
своей последней книге «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма» [Ильенков 1980].
2 Вот отрывок из его статьи «Александр Иванович Мещеряков и его педагогика»: «Дело в
том, что Саша, Юра, Сергей и Наташа – люди трудной и в силу ее особенной трудности герои-
ческой судьбы. Всех четверых в детские годы постигло одинаковое несчастье. Болезнь лишила
их сразу и зрения и слуха. Для них навсегда погас свет, умолкли звуки. Наступила беззвучная
тьма, вечная безмолвная ночь» [Ильенков 1975, 81].
Источники – Primary Sources in Russian
Выготский 1982 – Выготский Л.С . Орудие и знак в развитии ребенка // Выготский Л.С . Со-
чинения в шести томах. Т . 6 . М.: Педагогика, 1984 (Vygotsky L. Tool and Sign in Child Develop-
ment. In Russian).
Гургенидзе, Ильенков 1975 – Гургенидзе Г.С ., Ильенков Э.В. Выдающееся достижение совет-
ской науки // Вопросы философии. 1975. N 6. С . 63–73 (Gurgenidze G., Ilyenkov E. Outstanding
Achievement of Soviet Science. In Russian).
Ильенков 1970 – Ильенков Э.В. Психика человека под «лупой времени» // Природа. 1970.
No 1. С . 88 –91 (Ilyenkov E. The Human Psyche under the «Magnifying Glass of Time». In Russian).
Ильенков 1975 – Ильенков Э.В. Александр Иванович Мещеряков и его педагогика // Моло-
дой коммунист. 1975, No 2. С . 80 –84 (Ilyenkov E. Alexander Ivanovich Meshcheryakov and his Peda-
gogy. In Russian).
Ильенков 1977 – Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента //
Коммунист. 1977. N 2 . С . 68–79 (Ilyenkov E. Formation of Personality: the Results of the Scientific
Experiment. In Russian).
Ильенков 1980 – Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М .: По-
ли тиздат, 1980 (Ilyenkov E. Leinist Dialectic and Metaphysics of Positivism . In Russian).
Малиновский 1970 – Малиновский А.А. Некоторые возражения Э.В . Ильенкову и
А.И . Мещерякову // Природа. 1970. No 1. С . 92–95 (Malinovsky A. Some Objections to
E. V . Ilyenkov and A. I . Meshcheryakov. In Russian).
Мещеряков 1968 – Мещеряков А.И . Как формируется человеческая психика при от-
сутствии зрения, слуха и речи // Вопросы философии. 1968. No 9 . С . 109–118 (Meshcheryakov
A. How is the Human Psyche Formed in the Absence of Vision, Hearing and Speech. In Russian).
Мещеряков 1969 – Мещеряков А.И . Критика идеи «пробуждения психики». (По материалам
первых опытов обучения слепоглухонемых) // Вопросы философии . 1969. No 9 . С . 133 –144
(Meshcheryakov A. Criticism of the Idea of "Awakening the Psyche." (On the Materials of the First Exper-
iments of Teaching Deaf-blind). In Russian).
Слепоглухонемота: Исторические и методологические аспекты: Мифы и реальность 1989 –
Слепоглухонемота: Исторические и методологические аспекты: Мифы и реальность. М ., 1989
(Deafblindness: Historical and Methodological Aspects: Myths and Reality. In Russian)
Ссылки – References in Russian
Майданский 2008 – Майданский А.Д. Выготский – Спиноза: диалог сквозь столетия // Во-
просы философии. 2008 . No 10. С . 116–127 .
Майданский 2018а
–
Майданский А.Д . Уроки Загорского эксперимента // Ильенков Э.В .
Идеальное и реальность. 1960–1979. М.: Канон+, 2018. С . 413 –434 .
Майданский 2018б – Майданский А.Д . Коммунистический идеал Ильенкова и реальный со-
циализм // Ильенков Э.В . Идеальное и реальность. 1960–1979. М.: Канон+, 2018. С . 398–412 .
Науменко 2008 – Науменко Л.К. Расширяющаяся вселенная души – Experimentum crucis //
Эвальд Васильевич Ильенков. М .: Росспэн, 2008, С. 288 –311 .
Пущаев 2013а
–
Пущаев Ю.В . История и теория Загорского эксперимента. Начало (I) // Во-
просы философии. 2013. N 3. С. 132–147.
Пущаев 2013б – Пущаев Ю.В . История и теория Загорского эксперимента: была ли фальси-
фикация? (II) // Вопросы философии. М., 2013. N 10. С . 124 –134 .
Пущаев 2018 – Пущаев Ю.В . Философия советского времени: М. Мамардашвили и Э. Иль-
енков (энергии отталкивания и притяжения). М .: ИНИОН РАН, 2018.
157
References
Maidansky, Andrey D. (2008) “Vygotsky – Spinoza: Dialogue through the Centuries”, Voprosy
Filosofii, Vol. 10 (2008), pp.116–127 (in Russian).
Maidansky, Andrey D. (2018a) “The Lessons of the Zagorsk Experiment” , Ilyenkov, Evald, Ideality
and Reality, Kanon+, Moscow. pp . 413 –434 (in Russian).
Maidansky, Andrey D. (2018b ) “The Communist Ideal of Ilyenkov and Real Socialism” , Ilyenkov,
Evald, Ideality and Reality, Kanon+, Moscow, pp. 398–412 (in Russian).
Naumenko, Lev K. (2008) “Expanding Universe of Soul – Experimentum crucis”, Evald Vasi-
lyevich Ilyenkov, Rosspen, Moscow, pp. 288 –311 (in Russian).
Puschaev, Yuriy V. (2013a) “History and Theory of the Zagorsk Experiment. Beginning (I)”, Vo-
prosy Filosofii, Vol. 3 (2018), pp. 132 –147 (in Russian),
Puschaev, Yuriy V. (2013) “History and Theory of the Zagorsk Experiment: Was There a Falsifica-
tion? (II)” Voprosy Filosofii, Vol. 10 (2013), pp. 124 –134 (in Russian).
Puschaev, Yuriy V. (2018) Philosophy of the Soviet Time: M. Mamardashvili and E. Ilyenkov (Energy
of Repulsion and Attraction), INION RAN, Moscow (in Russian).
Сведения об авторе
ПУЩАЕВ Юрий Владимирович ‒
кандидат философских наук, научный со-
трудник философского факультета МГУ
им. М .В . Ломоносова, старший научный
сотрудник Отдела философии ИНИОН
РАН.
Author’s information
PUSCHAEV Yuriy V. –
CSc in Philosophy, Senior Researcher at De-
partment of Philosophy at Institute of Scien-
tific Information for Social Sciences of the
Russian Academy of Sciences, Researcher at
Faculty of Philosophy at Lomonosov Moscow
State University
158
Результаты Загорского эксперимента
с точки зрения философии конкретного идеализма
(Флоренский versus Ильенков)
© 2019 г.
Р.Р. Вахитов
Башкирский государственный университет, Республика Башкортостан, Уфа,
450076, ул. Заки Валиди, д. 32; Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Республика Башкортостан, Уфа, 450062, ул. Космонавтов, д. 1.
E-mail: Rust_R_Vahitov@mail.ru
Поступила 15.01.2019
Статья посвящена обсуждению Загорского эксперимента. Показыва-
ется, что философская интерпретация Загорского эксперимента
Э.В . Ильенковым была направлена не только против вульгарно-
материалистической, но и против религиозно-идеалистической кон-
цепции психики и сознания. Ильенков доказывал, что не слово, речь
пробуждают мышление, а дело, практика. Однако в эксперименте
участвовала не только знаменитая «четверка», а около 50 детей-
инвалидов. При этом высокой степени социализации достигли лишь
те участники эксперимента, кто до него владел речью. В статье пред-
принимается попытка объяснить это с позиций философии конкрет-
ного идеализма П.А . Флоренского.
Флоренский определял человека как существо, строящее орудия.
Он выделял грубо-материальные орудия – инструменты, и воздушно-
идеальные орудия – слова и понятия. Понятия содержатся и в мате-
риальных орудиях. Ильенков прав, что человек может «извлекать» по-
нятия из орудий, а не только из языка. Но слово представляет собой
гораздо более удобную и органичную среду для диалектической мыс-
ли. Настоящее диалектическое мышление возможно только с исполь-
зованием языка, в рамках же инструментальной деятельности оно за-
труднено. Не случайно Загорский эксперимент показал, что обучение
обращению с инструментами дает ребенку элементарные навыки, но
без слова он не может приобщиться к высокой культуре.
Ключевые слова: Загорский эксперимент, язык, практика, материализм,
идеализм, Ильенков, Флоренский, инструменты, орудия, понятия,
слова.
DOI: 10.31857/S004287440006053-3
Цитирование: Вахитов Р.Р . Результаты Загорского эксперимента с
точки зрения философии конкретного идеализма (Флоренский versus
Ильенков) // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 158 –167.
159
Results of the Zagorsky Experiment in Terms of the Philosophy
of Concrete Idealism (Florensky versus Ilyenkov)
© 2019 г.
Rustem R. Vakhitov
Bashkir State University, 32, Zaki Validi str. Ufa, 450076, Russian Federation; Ufa State
Petroleum Technical University (USPTU), 1, Kosmonavtov str., Ufa, 450062,
Russian Federation.
E-mail: Rust_R _Vahitov@mail.ru
Received 15.01.2019
The article is devoted to the discussion of the Zagorsky experiment. It is shown
that the philosophical interpretation of the Zagorsk experiment by E.V. Ilyen-
kov was directed not only against the vulgar-materialistic, but also against the
religious-idealistic concept of the psyche and consciousness. Ilyenkov argued
that it was not the word, the speech that awakened thinking, but the work, the
practice. However, not only the famous four deafblind teenagers participated in
the experiment, but about 50 disabled children. At the same time, only those
participants in the experiment who owned the speech reached a high degree of
socialization. The article attempts to explain this from the standpoint of the
philosophy of a particular idealism of priest Paul Florensky.
Florensky defined man as a creature building tools. He singled out rough-
material tools – tools, and air-ideal tools – words and concepts. Concepts are
contained in the material tools. Ilyenkov is right that a person can “extract”
them from them, and not just from the language. But the word is a much more
convenient and organic medium for dialectical thought. Real dialectical think-
ing is possible only with the use of language, but within the framework of in-
strumental activity it is difficult. It is not by chance that the Zagorsky experi-
ment showed that learning how to use tools gives a child elementary skills, but
without a word he cannot join high culture.
Key words: Zagorsk experiment, language, practice, materialism, idealism,
Ilyenkov, Florensky, tools, tools, concepts, words.
DOI: 10.31857/S004287440006053-3
Citation: Vakhitov, Rustem R. (2019) “Results of the Zagorsky Experiment
in Terms of the Philosophy of Concrete Idealism (Florensky versus Ilyn-
kov)”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 158 –167.
«Всякая деятельность
осуществляется и проявляется через свои
орудия и сама может быть определена как
деятельность орудие – строительная, сам
же человек – деятель – как ζώον τεχνικόν,
как существо, строящее орудия»
П. А . Флоренский, «Философия культа»
Об удаче и неудаче Загорского эксперимента
Загорский эксперимент до сих пор вызывает жаркие споры среди философов,
психологов и историков философии и психологии [Пущаев 2013 а; Пущаев 2013б].
И это неудивительно: ведь теоретическая проблема, которую пытались решить руко-
водители Загорского эксперимента: Ильенков, Мещеряков и другие относится к
160
вечным проблемам человечества – что такое мышление? сознание? человеческая
личность? каковы условия их формирования и развития? Напомним, что суть экспе-
римента состояла в том, что слепоглухих ребят – воспитанников Загорского (Сергие-
во-Посадского) интерната для слепоглухих детей (около 50 человек разного возраста,
находившихся на разных стадиях интеллектуального развития и имевших разную сте-
пень поврежденности функций зрения и слуха [Мещеряков 1974, 3]) в течении 1963–
1970 гг. обучали по специальной программе, концептуальные основы которой разра-
ботали педагоги-дефектологи И.А. Соколянский и А.И. Мещеряков, а теоретическую
интерпретацию им дал философ-марксист Э.В . Ильенков. Основная идея Ильенкова
состояла в том, что орудийная, практическая деятельность (навыки самообслужива-
ния, труд или игра), а не речь, язык первичны, лежат в основе мышления и, значит
на практике должно основываться воспитание ребенка, превращение его в сущ ество
мыслящее, творческое, полноценно реализующее себя в социуме (мы сейчас не ста-
нем обсуждать, насколько это соответствовало первоначальным установкам Соколян-
ского и Мещерякова). Человек – существо, делающее орудия труда, а не просто мыс-
лящее или говорящее, и без орудий труда он не может стать самим собой, человеком,
творцом мира культуры. Ильенков утверждал, что именно через мир культуры, и не
только духовной, но и материальной мы получаем основные понятия для нашего
мышления и поэтому следует все начинать с обучения пользоваться предметами ма-
териальной культуры. Суть эксперимента и состояла в проверке этого тезиса.
Очевидно, острие критики Ильенкова было направлено не столько на позити-
вистско-биологизаторскую трактовку мышления (хотя именно с ней, в лице ее адеп-
тов Д.И. Дубровского и И.С. Нарского, Ильенкову и ильенковцам пришлось бороть-
ся), сколько на христианскую философскую антропологию и психологию. Не еди-
ножды Ильенков заявлял, что его концепция и результаты Загорского эксперимента
опровергают учение о нематериальной душе, которая изначально, с момента зачатия
«находится» в человеке и является субъектом мышления, интуиции и фантазии. Иль-
енков был убежден, что он доказал: «душа», то есть способность мыслить, представ-
лять, чувствовать не «спит» в младенце, чтобы быть «разбуженной» воспитателями,
а «с нуля» формируется под воздействием факторов внешней среды, воспитания
в человеческом обществе. Так что никакой вечной, бессмертной души, о которой
говорит религия, якобы нет, а есть лишь человек как существо, формируемое социу-
мом, человек как «мыслящее тело». Ильенков не останавливался перед тем, чтобы
прямо полемизировать с Библией и открыто называть ее утверждения заблуждения-
ми. Послушаем его слова: «На ваших глазах умирает легенда о пробуждении души
силой Слова. Рушится старинный евангельский тезис: «Вначале было Слово и Слово
было Бог» [Ильенков 2018, 251].
В советские времена не могло быть и мысли о том, чтоб религиозные философы-
идеалисты ответили на критику Ильенкова. Собственно, им никто и не предоставил бы
возможности выступить с нею в официальной печати (разве что полунамеками,
с использованием «эзопова языка»). Позднее же, когда времена изменились и такие вы-
ступления стали уже возможными, интерес к Загорскому эксперименту в обществе угас.
Впрочем, недавно произошла определенная подвижка в этом направлении.
В журнале «Вопросы философии» вышел цикл статей Ю.В . Пущаева, посвященных
результатам Загорского эксперимента. Проанализировав сам эксперимент, его «кано-
ническую версию», созданную ильенковцами, и его критику со стороны Дубровского
и его сторонников, Пущаев приходит к следующим выводам. Загорский эксперимент
дал очень много для философии, педагогики и дефектологии (не говоря уже о его
гуманистическом аспекте). Ряд наработок Ильенкова и Мещерякова гениальны и,
несомненно, истинны. Сам факт того, что четыре слепоглухих подростка закончили
школы, поступили в университет и успешно завершили обучение, поражает. Но в
целом, Пущаев все же оценивает эксперимент как неудачу, поскольку декларирован-
ная им цель достигнута не была (а значит, победные реляции Ильенкова о пораже-
нии религиозного взгляда на психику были, как минимум, преждевременны). И дело
не только в том, что все четыре «чудо-подростка» имели остаточные зрение и слух,
161
на что указывали пристрастные позитивистские враги Ильенкова. Как известно,
Ильенков не скрывал это, не придавая этому обстоятельству большого значения.
Он исповедовал концепцию «нуля психики» и считал, что даже родившиеся зряче-
слышащими, после утери чувственной связи с миром, деградируют до элементарного
уровня. Дело совсем в другом; Пущаев указывает на то, что остальных участников
эксперимента – а их было около 50! – так и не удалось обучить речи и уж тем более
формам высокого творчества при помощи обучения орудийной деятельности. В лучшем
случае они овладевали навыками самообслуживания и простейшими жестами. О том,
чтобы они выучили высшую математику или физику, даже речи не шло. А ведь мно-
гие из них как раз были слепоглухими с рождения, без остаточных слуха и зрения,
которые идеально подходили под условия эксперимента (Мещяряков и Ильенков
утверждали, что полная слепоглухота позволяет лучше проследить формирование че-
ловеческой психики). Причем, это неудача закономерна и вполне согласуется с ми-
ровым опытом в данной области. Пущаев пишет: «...формирование практических
навыков и практического интеллекта не является достаточным условием для возник-
новения полноценного человеческого интеллекта как такового, как думали Ильенков
и Мещеряков. Решающим обстоятельством тут все-таки является овладение словес-
ным языком. Очень многие слепоглухие от рождения люди овладевают бытовыми и
иными предметно-практическими навыками, но, как правило, на этом их развитие
так и останавливается, они так и не поднимаются на «ступеньку» языка и, соответ-
ственно, не получают возможности вступить в мир человеческой культуры, ее выс-
ших достижений» [Пущаев 2013б]. Получается, все же Библия, сторону которой Пу-
щаев защищает в этом споре, права и сначала Слово, и лишь потом – дело ...
Это, на наш взгляд, совершенно верное высказывание Пущаев в своей статье не
объясняет. Впрочем, он и цели такой перед собой не ставил, поскольку стремился,
прежде всего, описать эксперимент и разобраться с полемикой сторонников «кано-
нической версии» и их противников. Вместе с тем, полагаем, объяс нение это есть и
его можно найти в учение русского религиозного философа Серебряного века, мыс-
лителя, называвшего свое учение конкретным идеализмом, Павла Александровича
Флоренского. [Половинкин 1989; Павлюченков 2012; Резниченко 2012]. Кстати,
о. Павел Флоренский тоже до 1933 г. жил в Сергиевом Посаде (который в 1930 году
был переименован в Загорск). Если бы он не погиб в эпоху сталинских репрессий, то
в 1960 году, когда в Загорске открылся специализированный интернат, ему было бы
78 лет. Гипотетически можно представить 78-летнего священника о. Павла, заинтере-
совавшегося проблемами воспитания слепоглухих детей, особенно, если учитывать
широту интересов этого мыслителя, которого не случайно называли «человеком Воз-
рождения»... И также гипотетически можно представить и разговор между Ильенко-
вым и Флоренским. При всем его неприятии религии Ильенков – кстати, внук пра-
вославных священников и по отцовской, и по материнской линиям, а также сын не-
доучившегося семинариста – отзывался на выступления «с той стороны»; так, обще-
известен его ответ некоему «христианину Григорию». Почему бы не предположить,
что Флоренский написал бы ему, а Ильенков ответил печатно или даже устно, при
личной встрече, коль скоро отец Павел жил неподалеку, так что можно было даже
дойти пешком?
При этом Флоренскому, действительно, было что возразить на рассуждения со-
ветского философа. У о. Павла Флоренского была интереснейшая концепция ору-
дийной деятельности человека, изложенная им в «Философии культа». Она во мно-
гом перекликается с марксизмом и в частности с концепцией Ильенкова, но при
этом, на наш взгляд, преодолевает их односторонность и позволяет по-своему оце-
нить результаты Загорского эксперимента. В этой статье я попробую представить,
каким бы был возможный ответ на ильенковускую интерпретацию Загорского экспе-
римента с позиций философии конкретного идеализма. Ответ, который бы объяснял,
почему Загорский эксперимент все же в конечном счете не удался и большая часть
ребят, в нем участвовавших, так и не прошли путь, который, по Ильенкову, начинал-
ся с умения есть ложкой, а заканчивался прикосновением к творчеству Шекспира.
162
Концепция орудийной деятельности Флоренского и развитие человека
Флоренский за исходный пункт берет тезис, с которым не будет спорить ни один
марксист – что человек есть существо, строящее орудия, «зоон техникон». Но позиция
Флоренского шире марксистской: орудия, которые использует человек в своей жизнен-
ной деятельности, не сводятся к инструментам – молоткам, клещам, рубанкам, станками
и т.д. Есть и другие орудия – «воздушные» и вовсе нематериальные, это – слова и поня-
тия. Если при помощи материальных орудий человек трудится, превращает «первую
природу» во «вторую» – в культуру, то при помощи воздушных и идеальных орудий че-
ловек мыслит – творит произведения философии, литературы и т.д. Священник-
философ пишет: «Когда мы говорим слово о р у д и е, то ближайшим образом припоми-
наются нам молоты, пилы, плуги или колеса и тому подобное – словом, в грубейшем
смысле слова материальные орудия технической культуры <...> Инструменты – наиболее
веское – буквально проявление орудие строительной деятельности. Но есть и другой род
орудий, наименее материальных (курсив мой – Р.В.), в о з д у ш н ы х, если выразиться
точно и буквально, однако ничуть не менее могучих; это суть – с л о в а
–
в особенно-
сти – оформленные технически понятия и термины. Слово, «воздушное ничто», есть,
однако, орудие мысли, без коего мысль не раскрывается и не осуществляется (курсив
мой – Р.В.). Не в переносном смысле, а в самом точном слова есть орудия» [Флоренский
2004, 52]. Далее, в «Философии культа» Флоренский доказывает, что и орудия-
инструменты, и орудия-понятия восходят к единому корню, в котором соединяются
практика и деятельность, материя и смысл – орудиям культа. Культ при этом называется
«зерном истинной человечности», «почкой цельности духовной», «бутоном культуры» и
провозглашается связь всех форм культуры с культом. Но мы не будем подробно касать-
ся этого, вообще-то весьма важного аспекта концепции Флоренского, потому что в «ми-
ре Ильенкова» культа в чистом виде нет (Флоренский писал, что в атеистическом миро-
воззрение отдаленным аналогом культа является искусство, так что труд и наука в выс-
ших своих появлениях стремятся превратиться в искусство, в котором противополож-
ность между ними будет снята [Флоренский 2004, 56]. Интересно, что по Ильенкову так
и есть: истоки идей Маркса он ищет не только в буржуазной политэкономии и филосо-
фии, но и в творчестве Шекспира).
Мы обратимся к соотношению трудовой, практической деятельности, в которой
используются инструменты и теоретической, рациональной деятельности, в которой
используются понятия. В работе «У водоразделов мысли» Флоренский отмечает:
«... содержание разума ... термины и их соотношения ... орудия – не что иное, как ма-
териализованные термины и потому между законами мышления и техническими до-
стижениями могут быть усматриваемы постоянные параллели ... » [Флоренский 2000,
379–380]. Это, кажется, ясно: создавая орудия-инструменты, человек воплощает в них
определенные замыслы и понятия и наоборот, используя орудия-инструменты в про-
цессе практического освоения мира, человек «извлекает» оттуда эти замыслы и поня-
тия и включает их в контекст самого мышления. Иными словами, Флоренский отчасти
мог бы согласиться с Ильенковым в том, что человек может получать некие всеобщие
понятия, не выводимые из индивидуального опыта, через предметы культуры и прежде
всего, орудия труда или инструменты (далее, впрочем, мы покажем, что по Флорен-
скому одного этого недостаточно для творческого мышления, которое немыслимо без
словесных орудий – языка). Инструменты в своей совокупности предстают при этом
как таблица всеобщих понятий, категорий, выработанных развитием человечества, а не
взятых из частного опыта, в котором их и не может быть. Любопытно бы, кстати, сде-
лать таблицу соответствия инструментов и категорий! К примеру, очевидно, категориям
тождество и различие должны соответствовать весы и линейки, категориям часть и
целое – топоры, пилы, ломы, а категории «движение» – разного рода тачки и тележки.
Без всеобщих понятий, категорий невозможно мышление в подлинном человече-
ском смысле слова; ведь мышление, Ильенков верно определяет как «... способность
сопоставлять данный, единичный, индивидуальный опыт с опытом рода. Или схва-
тывать единичное в контексте всеобщего, всеми людьми накопленного знания и
опыта, с точки зрения общечеловеческого опыта вообще» [Ильенков 2018, 183].
163
Ильенков конкретизирует, что орудие труда воплощает в себе всеобщую форму
того материала, для обработки которого оно было создано. Собственно, об этом пи-
сал уже Гегель в лекциях 1805/1806 гг.: «В орудии или в обработанной, сделанной
плодородной пашне я владею возможностью, содержанием как содержанием всеоб-
щим. Поэтому орудие, средство превосходнее цели вожделения, цели единичной;
орудие охватывает всякую единичность» См. [Лукач 2002 web]. Строго говоря, с этим
трудно поспорить. Молоток предназначен для того, чтобы пробивать материал, кото-
рый не является ни слишком твердым (в камень нельзя забить гвоздь), ни слишком
мягким, вязким или текучим (в кисель тоже не забьешь гвоздь), ни слишком колким
(в стекло тоже не забьешь гвоздь). Материал, в который забивают гвозди молотком,
должен быть цельным, но пористым и сохранять свою цельность, даже когда в него
вторгается инородное тело. Он может расплющиться, но он не должен колоться или
течь. Можно сказать, что молоток воплощает в себе всеобщую форму такого матери-
ала, причем, не какого-либо конкретного, например, дерева, а какого угодно, отсюда
и всеобщность этой формы. По Ильенкову, если бы первобытный человек не приду-
мал первый каменный молоток, воплощающий всеобщее понятие «целостность », то
не возникло бы понятие «целостности» в геометрии.
Итак, согласно советскому философу, мы получаем всеобщие понятия через мате-
риальную практику, труд, и именно труд связывает наш индивидуальный опыт с
опытом и культурой человечества и, значит, позволяет нам мыслить. Это и является
истоком твердой уверенности Ильенкова в том, что слепоглухого ребенка нужно сна-
чала обучить практическим, трудовым навыкам (и тем самым передать ему базовый
набор всеобщих понятий, необходимых для мышления), а уж потом обуча ть его об-
лекать эти понятия в слова. И вот здесь начинается расхождение конкретного идеа-
лизма с теорией Ильенкова.
Понятия в материальных инструментах и в словах
Флоренский писал, что совершенно не случайно инструмент или машину мы вос-
принимаем как просто материю, и не видим в них логоса, который нужно выводить
путем умозаключения, тогда как со словами и тем более понятиями все обстоит ина-
че – наличие в них идеального очевидно [Флоренский 2004, 53]. Флоренский идет
дальше и отмечает, что изготовление орудий труда напоминает процесс формально-
логического определения и прямо соотносит орудийную деятельность не с каким-
нибудь иным, а с логическим определением: «...что такое орудие?<...> Это—твердое
вещество, которому придана известная форма. Следовательно, если деятельность разу-
ма есть проектирование орудий, то предметом мысли бывает твердое и органическое
тело. <...> Термино-образовательная деятельность есть внутренняя сторона орудие-
строительной... изготовление орудий заключается в вырезывании из твердого вещества
частей его, то есть в обособлении некоторых частей вещества. Точно так же и деятель-
ность мысли состоит в обособлении некоторого содержания, в «вырезывании» или
«выкраивании» его... из окружающей среды. Иначе говоря, деятельность мысли состоит
в определении. И притом вырезываемое должно быть твердо, неизменно, неподатливо,
удерживающим свою форму ...Говоря логическим языком, оно должно удовлетворять
законам тождества, противоречия и исключенного третьего <... > И вот, то, что выре-
заем мы в беспредельном поле мысли своей, есть как бы форма твердого орудия, то
есть проект его. Эта-то форма и есть термин» [Флоренский 2000, 381–382].
Значит ли это, что Флоренский считал: в орудиях труда, в грубо вещественных пред-
метах культуры воплощены только лишь формально-логические понятия? Вряд ли это
так. Священник-философ сам указывал на то, что орудия – инструменты, направленные
на созидание материальных ценностей противоположны оружию – инструментам, со-
зданным для защиты этих ценностей или наоборот для посягательства на них, но они
имеют при этом общий корень: «из заостренной палки для выкапывания съедобных ко-
реньев вырабатывается с одной стороны, колющее оружие, с другой – заступ и плуг»
[Флоренский 2004, 62]. Так что, собственно, они в определённой мере взаимозаменяемы:
топором и ножом можно пользоваться и в мирных, и в военных целях. Таким образом,
164
понятия, которые воплощены в топоре и ноже характеризуются связью противополож-
ностей, а, следовательно, это – диалектические понятия. Кроме того, если мы будем
считать, что в инструментах и словах нашли выражения разные понятия; в первых –
логические, во вторых – диалектические (и потому человек, который воспитывался на
овладении трудом, но не знал языка и не поднимается до высот творчества), станет не-
понятно, как вообще происходит скачок от дела к слову при воспитании человека? Ведь
если не логически, то хронологически действия и вправду предшествуют речи: сначала
ребенок научается есть ложкой и одеваться, а уж потом – говорить.
Итак, и в орудиях материальной деятельности, и в словах и понятиях «находятся»
диалектические понятия. Почему же тогда в случае инструментов, внедренные внутрь
материи понятия так тверды, неподатливы, определенны, что Флоренский сближает
их с понятиями формальной логики? Мы не должны забывать, что, по Гегелю, логи-
ческое мышление – это не отдельный, независимый вид мышления, противополож-
ный диалектическому (или, как он выражался – спекулятивному). Рассудочное, ло-
гическое мышление – лишь один из аспектов мышления, которое само по себе, по
своей природе диалектично. Поэтому просто ситуация обстоит так, что в грубо веще-
ственных предметах, созданных мыслящим существом – человеком и, значит, несущих
в себе отпечаток диалектической мысли, в силу их грубой вещественности наилучшим
образом раскрывается именно этот логический, рассудочный аспект, тогда как в сло-
вах – смыслах, сопряженных с тонко-воздушной материей, диалектика раскрывается
во всей полноте. Именно так и считал Флоренский: напомню, что в своем определе-
нии слов как орудий мысли в «Философии культа» он говорит: без слова мысль
в полной степени «не раскрывается»...
Впрочем, дело не только в этом, но и в другом – в наличии или отсутствии твор-
ческого момента в ходе материальной и духовной, инструментальной и языковой
деятельности. Материальная практика сама по себе предполагает использование
предметов лишь в соответствии с их предназначением, уже заложенным в них строго
определенным смыслом, а это исключает творчество, потому что оно как раз строит-
ся на выходе за рамки предназначенного, преодоление схем и шаблонов. Собственно,
язык, слова именно в силу своей воздушности, подвижности, неопределенности
и становятся лоном творчества. Живая, устная речь, как заметил еще Фердинанд де
Соссюр, индивидуальна, неповторима, каждый раз новая, то есть речевая деятель-
ность есть деятельность творческая по определению. Что же касается Флоренского,
то он тут вообще делает настолько радикальные выводы, что они могут даже шоки-
ровать материалиста и атеиста, ведь отец Павел учил, что слово – это живое суще-
ство, сотканное из воздушных материй («воздушный организм, сотканный звуковыми
волнами» [Флоренский 1990, 259]) и слова способны магически воздействовать на
человека. В этом смысле они, безусловно, несравнимы с мертвыми и неодушевлен-
ными предметами культуры, пусть это даже и орудия труда. Так что на вопрос о том,
может ли использование материальных орудий пробудить в человеке мышление или
для этого нужно живое слово, Флоренский однозначно бы ответил, что слово на то и
живо и магично, чтобы сделать это...
Как же тогда происходит переход от нетворческой материальной деятельности
(не создания предметов культуры, а всего лишь бытового их использования) к твор-
ческой словесной деятельности (постоянному созданию речи)? Ведь, как мы уже ска-
зали, Ильенков, вообще-то прав в том, что ребенок прежде чем начать говорить,
овладевает ложкой, вилкой, научается одеваться, использовать горшок и т.д. Думает-
ся, связующим звеном между языком и материальной практикой является игра. Пока
ребенок просто ест ложкой, он еще не мыслит творчески и диалектически, он «из-
влекает» из ложки заложенный в нее другими людьми смысл и следует ему. Когда же
он начинает играть, например, воображая, что ложка – самолет, он начинает ее ис-
пользовать не по предназначению, он сам вкладывает в нее новое назначение. Ины-
ми словами, он начинает творить и он готов к переходу на другой интеллектуальный
уровень – языковой, где творчество – обыденное явление. Г. - В.Ф. Гегель писал:
«...язык делает людей способными постигать вещи как всеобщие <...> Сначала эта
165
пробуждающаяся самостоятельность выражается в том, что ребенок учится играть с
чувственными вещами» [Гегель 1977, 85]. Думаю, Флоренский согласился бы в этом с
Гегелем, с той лишь оговоркой, что мышление, которое, по Гегелю, и есть сам Абсо-
лют, для русского философа – лишь одна из двух ветвей расщепившегося целостного
единства – культа, в котором присутствует настоящий Абсолют – Бог. Тем не менее,
мышление и по Флоренскому выше материальной деятельности, на то Флоренский и
идеалист, хоть и не абсолютный как Гегель, а конкретный. По Флоренскому, эт о
девятый вариант схемы способов соотнесения человеческой деятельности: S (культ) –
N (понятия) – I (инструменты) [Флоренский 2004, 78], что означает, что вырождение
культа порождает понятия, которые находят воплощение в инструментах.
Можно усмотреть в этом явное сходство с неоплатонической схемой нисхождения
уровней бытия – от сверхбытийного Единого (ему в схеме Флоренского соответству-
ет культ) к чистому бытию – Уму (у Флоренского – понятия), а от Ума – к смеси
бытия и материи – Душе, в которой идея преобладает, и, наконец, к природе, в ко-
торой уже преобладает материя (у Флоренского – материальные инструменты).
Вспомним, что в диалоге Платона «Пир» рисуется обратный путь – восхождение
избранных, которые рождены быть философами, от материальной природы (любви к
телам), через Душу (любовь к душам) к Уму (любовь к идеям) и Единому (экстаз
слияния со сверхбытием). В определенной мере это схоже с формированием человека
как существа мыслящего и творческого, как мы это описывали: ребенок, который
учится овладевать вещами, но еще не говорит – ребенок, который играет – ребенок,
который говорит. По мере восхождения на каждую новую ступень способность
к мышлению раскрывается у ребенка все больше и многоаспектнее. Конечно, факти-
чески вначале было дело, так как вначале ребенок приобщается к опыту человече-
ства, обучаясь пользованию предметами культуры – тут Ильенков прав. Но если бы
человек черпал всеобщие понятия лишь из мира грубо-материальных предметов,
то пришлось бы предположить, что низшее способно непосредственно п ородить
высшее, что абсурдно. Ильенков предлагает свое разрешение спора о «врожденных
идеях», иначе говоря, всеобщих понятиях, которыми, очевидно, человек располагает,
но не может вывести их из своего индивидуального опыта. По Ильенкову, каждый
отдельный индивид получает эти понятия из материальной культуры, когда научается
пользоваться предметами культуры. Ответ, конечно, остроумный, но неудовлетвори-
тельный. Возможно это и объясняет появление всеобщих понятий у наших совре-
менников, но откуда их взяли тогда наши отдаленные предки – создатели первых
предметов культуры?
Согласно Флоренскому, который в этом следует Платону, всеобщие понятия у
нас – это действительно, врожденные идеи, или врожденные структуры нашего со-
знания, которые «сообщаются душе в трансцендентной сфере» [Шапошников 2018,
255]. Но еще Лейбниц доказал, что они – не готовое знание, а потенции понять что-
либо, и актуализирует эти потенции речь родителей и воспитателей; ведь даже до
того, как ребенок начнет говорить, он понимает хотя бы отдельные слова. Конечно,
пользуясь предметами культуры, ребенок тоже мыслит, но ведь и предметы эти для
него – материальные вещи, означающие нечто помимо себя, то есть тоже своего рода
«слова», а мир этих материальных предметов культуры – своего рода язык (вспом-
ним, как развивавший Флоренского А.Ф. Лосев писал в «Философию имени», что
символичен и словесен весь мир, начиная с Бога и кончая низшим уровнем неживых
вещей природы). Просто слова как таковые – это смыслы, связанные с легкой, почти
невесомой материей, а предметы культуры вроде лопаты или ложки – это тяжелые
грубо-овеществленные смыслы. Летучие слова легче подталкивают к мышлению и
творчеству, чем грубые вещи. Так что логически, а не фактически все-таки вначале
был Логос, слово.
Заключение
Итак, результат Загорского эксперимента можно трактовать в пользу философско-
го идеализма, говорящего, что слово, а не дело, речь, а не практическая деятельность
делают человека по-настоящему мыслящим и творческим существом. Это объясняет
166
и то обстоятельство, что лишь те участники эксперимента, которые утеряли зрение и
слух уже в сознательном возрасте (Суворов, Лернер, Корнеева, Сироткин), когда они
уже обладали навыками речи, смогли развиться до очень высокого уровня, предпола-
гающего овладение богатствами духовной культуры (чтение, письмо, знакомство
с литературой, философией, способность к научному творчеству или творчеству
в сфере искусств). Те же ребята, кто был слепоглухонемым в начале эксперимента,
то есть был лишен возможности слышать речь, в результате научения их т рудовым
практическим навыкам, смогли за собой ухаживать, выполнять простейшую работу,
но до уровня творчества не поднялись.
Собственно, и Александр Суворов в одном из своих интервью объяснил успеш-
ность своей специализации очень просто – тем, что он потерял слух в достаточно
позднем возрасте, когда он уже владел речью, понимал речь других людей и сам мог
свободно изъясняться: «Мне крупно повезло в том отношении, что я оглох поздно –
в педагогическом смысле. Потеряй я слух одновременно со зрением, мы с вами м ог-
ли бы и не беседовать сегодня» (https://www.solidarnost.org/thems/sudba-cheloveka/
sudba-cheloveka_497.html).
Впрочем, наш воображаемый спор между конкретным идеализмом и диалектиче-
ским материализмом, закончившийся воображаемой победой идеализма, вовсе н е
умаляет значимости материализма и его представителя Ильенкова. Существует такое
выражение: перегородки церквей не достигают Царства Небесного. На наш взгляд,
выражение безусловно ложное, если применять его к тому, о чем в нем говорится –
к религии, но во многом истинное, если отнести его к философии.
Источники и переводы– Primary Sources and Russian Translations
Гегель 1977 – Гегель Г.В .Ф .. Энциклопедия философских наук Том 3. Философия духа. М .:
Мысль, 1977 (Hegel G.W .F . Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Die Wissenschaft des
Geistes. Russian translation).
Ильенков 2018 – Ильенков Э.В. Идеальное и реальность . 1960–1979. М.: Канон+, 2018
(Ilyenkov E. Ideality and Reality. In Russian).
Лукач 2002 web – Лукач Георг. Труд и проблемы телеологии //
https://www.marxists.org/russkij/lukacs/1948/young_hegel/22.htm (Lukács G. Der junge Hegel. Ueber
die Beziehungen von Dialektik und Oekonomie. Russian translation).
Мещеряков 1974 – Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети: развитие психики в процессе
формирования поведения М., «Педагогика», 1974 (Meshcheryakov A.I . Deafblind children. Psychic
Development in the Process of Behavior Formation, Pedagogika, Moscow. In Russian).
Половинкин 1989 – Половинкин С.М . П . А . Флоренский: Логос против хаоса. М .: Знание,
1989 (Polovinkin S. P . A. Florensky: Logos against Chaos . In Russian).
Флоренский 1990 – Флоренский П.А. Том 2. У водоразделов мысли. М .: Правда, 1990 (Floren-
sky P. The Magic of the World. In Russian).
Флоренский 2000 – Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырех томах. Том 3 (1)
М., 2000 (Florensky P. At the Watersheds of Thought. In Russian).
Флоренский 2004 – Флоренский П.А. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт право-
славной антроподицеи) М.: Мысль, 2004 (Florensky P. Cult, Religion and Culture. In Russian .
Cсылки – References in Russian
Павлюченков 2012 – Павлюченков Н.Н. Рели гиозно-философское наследие священника
Павла Флоренского: антропологический аспект. М.: ПСТГУ, 2012.
Пущаев 2013а
–
Пущаев Ю.В . История и теория Загорского эксперимента. Начало (I) Исто-
рия Загорского эксперимента // Вопросы философии. No 3. 2013 . С . 132 –147 .
Пущаев 2013б – Пущаев Ю.В . История и теория Загорского эксперимента. Была ли фальси-
фикация? (II)» // Вопросы философии. 2013 . No 10. С . 124 –134 .
Резниченко 2012 – Резниченко А.И . О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк
et dii minores. М .: Регнум, 2012
Шапошников 2018 – Шапошников Л.Ю . Русская религиозная философия. Конец XIX –
начала XX века. Ведущие представители. М .: Юрайт, 2018
167
References
Pavlyuchenkov, Nikolai N. (2012) Religious and Philosophical Heritage of the Priest Paul Florensky:
Anthropological Aspect, PSTGU, Moscow.
Pushchaev, Yuriy V. (2013a) “History and Theory of the Zagorsky Experiment. Beginning (I)”, Vo-
prosy filosofii, Vol. 3 (2013), pp. 132 –147,
Pushchaev, Yuriy V. (2013b) “History and Theory of the Zagorsky experiment. (II)”, Voprosy filosofii,
Vol. 10 (2013), pp. 124 –134,
Reznichenko, Anna I. (2012) About the Meanings of Names: Bulgakov, Losev, Florenskij, Frank et dii
minores, Regnum, Moscow.
Shaposhnikov, Lev Y. (2018) Russian Religious Philosophy. Late XIX – Early XX Century. Leading
Representatives, Yurajt, Moscow.
Сведения об авторе
ВАХИТОВ Рустем Ринатович –
кандидат философских наук, доцент Баш-
кирского государственного университета и
Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Author’s information
VAKHITOV Rustem R. –
СSc in Philosophy, associate professor of
Bashkir State University and Ufa State Petro-
leum Technical University.
168
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Платон и его религия. К интерпретации диалога «Эвтифрон»
© 2019 г.
Д.В . Бугай
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский фа-
культет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 .
E-mail: komoni@yandex.ru
Поступила 11.02.2019
В статье подробно анализируются теологическое, логическое и эпи-
стемологическое содержание диалога Платона «Эвтифрон». С середи-
ны XIX в. адекватной интерпретации «Эвтифрона» препятствовали
представления о том, что данный диалог относится к так называемым
ранним платоновским сочинениям, которые якобы отражают «сокра-
тический» период развития платоновской мысли. В силу этого логи-
ческим и в особенности теологическим взглядам, присутствующим
в данном диалоге, не уделялось достаточного внимания. Истолковате-
ли, комментаторы, исследователи не брезговали и откровенным сме-
щением исторических и религиозных акцентов, предлагая трактовать
«дело богов», о котором идет речь в ключевом месте «Эвтифрона»,
как некое предвосхищение христианской теологии Апостола Павла.
В результате ясная и последовательная картина богословских взглядов
Платона, укорененная в его религиозном и философском миросозер-
цании, превращалась в странный и противоречивый набор плохо про-
думанных фрагментов. Исходя из «унитаристской гипотезы», активно
привлекая важные и релевантные пассажи из других платоновских
диалогов, которые обычно считаются «более поздними», автор пыта-
ется показать, что данный диалог содержит те же представления
о благочестии и богах, которые без труда можно найти, например,
в «Меноне» и «Законах». Различие между такими пассажами можно
гораздо проще объяснить не эволюцией платоновских представлений
о богах, а сознательным изменением акцентов, обусловленным драма-
тургией диалога. Исходя из данного метода, автор объясняет значение
загадочного «дела богов», о котором идет речь в ключевом пассаже
«Эвтифрона».
Ключевые слова: Платон, Эвтифрон, Менон, Законы, религия, благо-
честие, гносеология, эпистемология, теория идей.
DOI: 10.31857/S004287440006054-4
Цитирование: Бугай Д.В. Платон и его религия. К интерпретации
диалога «Эвтифрон» // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 168–184 .
169
Plato and his religion. To the interpretation
of Euthyphro dialogue
© 2019 г.
Dmitry V. Bugai
Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av.
GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.
E-mail: komoni@yandex.ru
Received 11.02 .2019
The article analyzes in detail the theological, logical and epistemological con-
tent of Plato's Euthyphro. From the middle of the 19th century, adequate inter-
pretation of Euthyphro was hampered by the idea that this dialogue refers to the
so-called early Platonic writings, which allegedly reflect the “Socratic” period
in the development of Platonic thought. Because of this, the logical and espe-
cially theological views present in this dialogue have not been given sufficient
attention. Interpreters, commentators, researchers did not disdain even a frank
shift of historical and religious accents, suggesting that the “cause of the gods”
referred to in the key place of Euthyphro be interpreted as a kind of anticipation
of the Christian theology of Apostle Paul. As a result, Plato’s clear and con-
sistent picture of the theological views, rooted in his religious and philosophical
outlook, turned into a strange and contradictory set of poorly designed frag-
ments. Proceeding from the “unitarist hypothesis”, actively attracting important
and relevant passages from other Platonic dialogues, which are usually consid-
ered “later”, the author tries to show that this dialogue contains the same ideas
about piety and gods that can be easily found, for example, in the Meno and
Laws. The difference between these passages can be much easier explained not
by the evolution of the Platonic ideas about the gods, but by a conscious
change of emphasis due to the dramaturgy of the dialogue. Based on this meth-
od, the author explains the meaning of the mysterious "cause of the gods,"
which is referred to in the key passage of Euthyphro.
Key words: Plato, Euthyphro, Meno, Laws, religion, epistemology, theory
of ideas.
DOI: 10.31857/S004287440006054-4
Citation: Bugai, Dmitry V. (2019) “Plato and his religion. To the interpre-
tation of Euthyphro dialogue”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 168–184 .
В античности платоновский корпус – так, как его читали, по крайней мере,
сIв.н.э.,
–
открывается небольшим (около 13 страниц греческого текста) диалогом
«Эвтифрон», первым в первой тетралогии Фрасилла. Действие «Эвтифрона» тесно
примыкает к «Апологии Сократа», которая поэтому непосредственно за ним и следу-
ет. Но связь между этими двумя сочинениями не только внешняя: как обычно бывает
у Платона, каждый диалог, сохраняя собственное логическое и драматическое един-
ство, проливает свет на содержание других диалогов, всякий раз образуя вместе с
ними новое целое. В этом заключена одна из главных сложностей для интерпретации
Платона, но вместе с тем и одна из важнейших причин обаяния платоновской мысли.
Историки философии и филологи обычно пытаются определить содержание «Эвтиф-
рона» тематически: «Эвтифрон» посвящен определению «благочестия» или «святости».
Тем самым, диалог причисляют к так называемым «диалогам определения», в кото-
рых Платон был занят исследованием понятий. Обычно такие диалоги относят к «со-
кратическому» периоду в развитии платоновской мысли, периоду, в котором еще не
170
произошло выделения понятий в отдельный мир, или, говоря ученым языком, еще
не было «гипостазирования» общих понятий, превращения их в самостоятельно су-
щие «идеи». Такого рода картина уже предполагает особый, «ш кольный» или «про-
фессионально-философский» взгляд на платоновский диалог.
Этот взгляд, несомненно, имеет право на существование, поскольку именно с дея-
тельностью Платона исторически связано превращение философии в особую, самостоя-
тельную и в конечном счете «профессиональную» форму деятельности. Но сам Платон –
вовсе не школьный философ, а его диалоги – не монографии и даже не статьи. Платон,
прежде всего, драматург, однако его драматургия принципиально отличается от того, что
делали Эсхил и Софокл, Аристофан и Эврипид. Прежде всего, платоновская драматургия
не предполагает общественной сцены, народного театра демократических Афин. Плато-
новский диалог написан для читателя, причем чтение такого диалога – дело не обще-
ственное, но частное, во всяком случае, не слишком публичное. Затем, вместо традици-
онных богов и богинь, героев и героинь платоновский диалог, как правило, изображает
одного героя – Сократа, действующего не в мире идеального прошлого, а среди афин-
ской обыденности. Наконец, деяния и страсти этого героя имеют совершенно особый
характер: они происходят в мире бесед и рассуждений.
Говоря совсем схематично, можно сказать, что платоновский диалог – это драма,
в которой действие заключается в рассуждении, перипетия – в переходе от одного
рассуждения к другому, драматическая коллизия – в том, как происходит опровер-
жение-обличение, а катарсис – не в избавлении от страха и сострадания, но в осво-
бождении от ложного мнения. Если смотреть на платоновский диалог как на драм у
в обычном смысле, мы в нем ничего не поймем, поскольку его действие – в «аргу-
ментации». Если смотреть на него как на «анализ понятий и аргументов», то мы так-
же в нем ничего не поймем: этот анализ здесь не цель, но драматическое средство.
Целью же будет впечатление или, точнее, воздействие, которое этот диалог как целое
должен был по замыслу Платона производить на ум и душу писателя и читателя,
причем вместе с другими диалогами, с которыми он так или иначе связан.
С желанием вызвать драматический эффект связана и та особенность многих пла-
тоновских диалогов, которая заставляла и заставляет критиков объединять их в груп-
пу «апоретических». Историк философии видит в них то, что Платон «еще» не при-
шел к ясному пониманию исследуемого в диалоге «понятия», «еще» не может дать
ему определения. Но даже отвлекаясь от философского вопроса о возможности «точ-
ного определения» понятия, такое точное и окончательное определение убивает лю-
бую драму, делая ее плоской и скучной. Как сказал Вольтер, le secret d’ennuyer est celui
de tout dire. Платон, как и любой хороший драматический писатель, прекрасно знал
об этом секрете и умел его обходить.
Вернемся к «Эвтифрону». Когда бы ни был создан диалог, он написан как своего ро-
да пролог к событиям, изображенным в «Апологии Сократа». Время действия –
за несколько дней до судебного процесса Сократа. Место действия – близ портика царя,
где происходило предварительное рассмотрение жалоб и доносов граждан. И выбор темы
диалога, «благочестие», и выбор собеседника, пророка, «специалиста» в вопросах благо-
честия и святости, и ход беседы тесно связаны с предстоящим Сократу процессом по
обвинению в «нечестии». Характер пролога позволял Платону сделать в «Эвтифроне» то,
чего нельзя было сделать в «Апологии» (ср.: [Friedländer 1964, 75]) – дать словесный
портрет Мелета, главного обвинителя, уроженца Питфейского дема, малоизвестного то-
гда юноши с прямыми волосами, жидкой бороденкой и орлиным («грифоньим») носом.
Гораздо важнее, конечно, то, что «Эвтифрон» в преддверии процесса о нечестии раскры-
вает некоторые черты отношения платоновского Сократа к благочестию, святости
и предстоящему суду. Обвиненный в нечестии Сократ на самом деле всегда стремился к
знанию о божественном. Он никогда не претендовал при этом на то, что этим знанием
обладает. Поводом к обвинению, по его словам, могло стать то, что он всегда оказывал
плохой прием речам о мести богов друг другу, о войнах и раздорах среди богов. Но глав-
ная характеристика Сократа в его отношении к благочестию дана всем драматическо-
логическим действием диалога.
171
Диалог начинается с экспозиции, в которой Сократ и Эвтифрон, встретившись
у здания, где происходит предварительное рассмотрение судебных исков, рассказы-
вают друг другу о том, что их привело сюда. Сократа отвлек от его обычных бесед у
Ликейского портика донос Мелета, Эвтифрон пришел сюда с собственной жалобой.
Каждого из них ожидает свой судебный процесс. Такая завязка служит определенной
драматической цели: дело Эвтифрона и его обсуждение дает Платону возможность
показать в новом свете дело Сократа. Старик-Сократ, обвиненный в нечестии юно-
шей Мелетом, и молодой пророк, обвинивший в убийстве своего старого отца, чтобы
избежать скверны, – эти два дела оказываются на поверку близкими. Платон, как
ему свойственно, подводит читателя к этому выводу постепенно. Поначалу сходство
двух исков и сродство Эвтифрона с Мелетом скорее им скрывается. Эвтифрон изоб-
ражен человеком, знающим Сократа и его привычные занятия, относящимся к нему
с симпатией и даже в некотором смысле – у Сократа есть некий демон! – как к сво-
ему, к человеку «своего цеха», цеха людей божественных 1 . Он ободряет Сократа,
надеется на счастливый исход его дела. Платон искусно создает ощущение встречи
двух если не друзей, то во всяком случае хороших знакомых, близких по мысли и по
духу. Но делает он это лишь затем, чтобы ярче явился контраст2
.
Помимо Платона о Эвтифроне как историческом персонаже не упоминает больше
никто. Как и в случае с Калликлом «Горгия», трудно сказать, имеем ли мы дело
с когда-то жившим человеком или он создан фантазией Платона3. О Эвтифроне пла-
тоновский Сократ вспоминает в «Кратиле», где упоминается дем, к которому пророк
принадлежал (дем Проспалты). Кроме того, в «Кратиле» Сократ шутливо приписыва-
ет свое этимологическое вдохновение недавней встрече с Эвтифроном (396 d). Вила-
мовиц увидел в этом «свидетельство» того, что Эвтифрон был автором известного
в свое время сочинения по этимологии [von Wilamowitz-Moellendorff 1920 I, 76–77]4.
Берлинский профессор не увидел, что связь у Платона куда более проста: пророк –
существо вдохновенное по своей природе, и общение с ним заражает неистовством
(ср.: «Федр» 244 с). Платоновский Сократ, когда Платону нужно, чтобы он вышел за
пределы своих привычных рассудительности и благоразумия, должен от кого-нибудь
заразиться: от пророчицы Диотимы, от божественных цикад Илисса или от бого-
вдохновенного гадателя, встреченного им поутру. Делать на этом основании Эвтиф-
рона автором трактата по этимологии не менее нелепо, чем делать его, как Теодор
Бергк, главным предметом насмешки в не дошедшей до нас комедии Эвполида
«Проспалтийцы»
5
.
Эвтифрон пришел в суд с исковым заявлением на своего отца по делу об убийстве.
Несколько лет назад, на Наксосе, отданном афинским колонистам под фермерские
хозяйства, отец Эвтифрона бросил в подвал своего наемного работника («фета») за то,
что тот в пьяной ссоре убил принадлежавшего семье раба. Связанный по рукам
и ногам и не получавший, по словам Эвтифрона, должной заботы, наемный работ-
ник умер до возвращения из Афин человека, который должен был по поручению от-
ца Эвтифрона получить там юридическую консультацию о его дальнейшей судьбе.
Считая, что тем самым его отец навлек на себя скверну () в религиозном
смысле и что единственным способом очищения является в данном случае судебное
преследование, Эвтифрон пришел к царскому портику, чтобы подать жалобу на соб-
ственного отца6. Отношения родства и семейной близости не могут и не должны, по
его словам, воспрепятствовать такому поступку. И отца, и мать надо в таких случаях
преследовать судом. Доказательством () того, что такие действия справедливы,
Эвтифрону служат сказания о богах: Зевс сверг Крона за то, что тот несправедливо
поглотил своих детей, Крон в свою очередь до этого наказал за неправду своего отца
Урана. Молодой человек совершенно уверен в справедливости своих дейс твий. Эта
уверенность основана на том, что он обладает доподлинным знанием о божествен-
ном и о том, что благочестиво, а что нет.
Скорее всего, если бы дело дошло до суда гелиэи, то при прочих равных над Эв-
тифроном снова бы посмеялись как над безумным, а его отец был бы оправдан.
Но для нас важнее платоновское отношение к этому делу. Для Платона уверенность
172
Эвтифрона в его знании беспочвенна, доказательства ложны, а его поступок, если бы
он достиг своей цели, разрушал бы самые основы естественного благочестия, благо-
говейного уважения детей к родителям и младших к старшим.
Эвтифрон – человек глубоко верующий, и, как часто бывает в таких случаях, прини-
мает свою веру за знание. Он верит, что действительно знает, что такое божественное и
что свято, а что нет. В нем, как неоднократно замечали, виден сектант, один из тех,
у кого, как говорит Платон в «Государстве», имеется куча книг Мусея и Орфея. Он обе-
щает научить Сократа не только богословию поэтов, но и другому, тайному знанию, ко-
торое он, видимо, почерпнул из подобного рода литературы. Сократ с обычной своей
иронией говорит о своем желании стать учеником столь мудрого в делах божественных
человека, чтобы, узнав все о богах, доказать вначале Мелету, а затем, если придется, и на
суде, что обвинение в нечестии не имеет оснований. Если же Мелет ему не поверит, то
пусть тогда обвиняет Эвтифрона за то, что тот развращает стариков: Сократа своими
уроками, а собственного отца – уголовным преследованием. Эвтифрон, гордясь своим
знанием, которым он превосходит остальных людей, с готовностью берется обучать Со-
крата. Здесь (5 b) завершается экспозиция и начинается основная часть диалога, посвя-
щенная выяснению того, что свято, а что нет. Ее образуют пять определений, пять попы-
ток Эвтифрона научить Сократа благочестию и святости.
Итак, Эвтифрон должен сказать, каково благочестивое или нечестивое, что такое
святое и не-святое и в случае убийства и в остальных случаях. Его ответ должен со-
ответствовать определенному требованию, которое высказывает Сократ. «Ведь разве
в любом поступке святое не тождественно себе самому, а не -святое
–
противополож-
но всему святому, при этом оно подобно самому себе, и все не -святое, чем бы оно
ни было, обладает каким-то одним видным признаком (), по которому
оно и будет не-святым»? (5 d) Чуть дальше это требование примет такую форму:
«... я не просил тебя научить меня одному или двум случаям из множества случаев
святого, но той самой отличительной черте (), благодаря которой все свя-
тое свято. Ты ведь сказал, что все не -святое не свято, а все святое свято благодаря
одному видному признаку... Так научи меня этому самому видному признаку, что он
такое, чтобы глядя на него и пользуясь им как образцом (),
я мог любой такой поступок – твой или кого-либо другого – назвать святым, а по-
ступок, который не таков, нет» (6 d–e).
Как легко заметить и как неоднократно замечали, язык и «терминология» этих
пассажей предполагает платоновскую теорию идей в ее обычном виде. Суждение Ви-
ламовица7, Эдэма и других, что здесь идеи «еще» не отделены от «вещей», что Пла-
тон «все еще» остается в рамках «сократического» поиска определений, не столь ос-
новательно, как принято считать8. Все святое (то есть все святые «деяния», дела, по-
ступки) свято благодаря или в силу, или по причине 9 «вида» или «идеи», которая
в любом поступке остается тождественной или подобной (здесь «тождественное»
и «подобное» – синонимы, в других случаях Платон эти понятия различает10) самой
себе. Самотождество вида, его роль причины, обуславливающей качество «вещи »,
его роль образца11
, который позволяет верно определять любое действие, – все это
неотъемлемые черты платоновской теории идей12. Требовать, чтобы Платон всякий
раз, независимо от литературного контекста и уместности повторял бы как метафи-
зическое заклинание слова о вечности идей, об их независимом существовании,
о том, что они созданы богом, и т.д.
–
это требовать, чтобы Платон перестал быть
Платоном, а стал автором «учебников платоновской философии».
В силу ее парадоксального характера, который мы после стольких веков интеллек-
туального развития и обилия в нашей культуре философских парадоксов плохо ощу-
щаем, метафизическая часть теории идей всегда вводилась Платоном крайне осто-
рожно, с оговорками, с иронией, для нее изобретались особые литературные формы
(неистовство Сократа в третьей речи «Федра», вдохновенная речь пророчицы Диоти-
мы в «Пире», разочарование в натурфилософских учениях в «Федоне», авторитет
важного гостя из Италии в «Тимее», последняя «волна» парадокса в пятой книге
«Государства»). Кроме того, при всех ее метафизических импликациях теория идей
173
для Платона – это прежде всего логический инструмент, который позволяет или
должен позволить избежать неопределенности и двусмысленности речи, избавиться
от мнения, выдающего себя за знание, добиться возможной для человека ясности и
отчетливости понимания. Именно в этом заключалась и заключается практическая
ценность теории идей, именно так использует ее Платон в «Эвтифроне».
Как справедливо замечают Эдэм [Adam 1890, 65], Виламовиц [von Wilamowitz-
Moellendorff 1920 I, 79], Бёрнет [Burnet 1924, 111] и другие (например: [Guthrie 1975, 114]),
в платоновском словоупотреблении здесь нет особой разницы между словами и .
Но я не стал бы вместе с оксфордским издателем удивляться тому, что Платон в «Эв-
тифроне» вводит эти слова без пояснений [Burnet 1924, 112]. Как мне кажется, особых
разъяснений для понятливого афинянина того времени они не требовали13
. Мы отличаем
коня от овечки по их виду, мы отличаем по виду оливу от сосны, по виду мы отличаем
мужчину от женщины, взрослого от ребенка. Зрение, говорит Аристотель, самое ценное
чувство, поскольку оно дает нам больше всего такого рода различий. Платон вполне
естественным образом переносит это на общие понятия, вести речь о которых, не прибе-
гая к метафорам, происходящим из чувств, попросту нельзя.
Как легко заметить, в этих «методологических» требованиях Сократа в «Эвтиф-
роне» заключено «признание» существования т.н. идей отрицания: Эвтифрон должен
определить как идею святости, так и идею не-святости. Это, как известно, вызвало
критику Аристотеля («Метафизика» 990 b, 1079 a), который, как и многие после него,
относились к платоновским диалогам как к трактатам, написанным почему-то
в странной форме, сочетающей поэзию и прозу. В XIX в. были даже попытки атетезы
нашего диалога, основанные на такого рода соображениях14
.
Но эта критика носит
исключительно формальный характер. Платон никогда не пытался создать ученой
онтологии. Идеи отрицания – отчасти логическое (не онтологическое!) требование,
отчасти литературная условность, вызванная потребностью Платона писать на хоро-
шем греческом, в котором одна часть периода должна уравновешиваться другой, ей
противоположной. С логической точки зрения Платон не допускает никакой «ошиб-
ки». Это лишь «логический плеоназм»: определив идею святости, вы тем самым
определили идею не-святости, и наоборот.
***
Первое определение. Итак, Сократ требует у Эвтифрона всеобщего, относящегося
к любому действию определения того, что он называет благочестивым и нечестивым,
которое в любом поступке тождественно самому себе и противоположно своему анти-
поду. Точно так же, как Менон и Теэтет в начале одноименных диалогов, Эвтифрон не
сразу понимает, чего от него требуют, и вместо определения приводит пример: благо-
честивое – это то, что я делаю сейчас, преследую судом нечестивца, кто бы он ни был.
Однако в нашем диалоге это не просто логическая ошибка. Это средство дать более
полную характеристику Эвтифрона и Сократа. Увлеченный своей мыслью и своим де-
лом, Эвтифрон тут же пытается обосновать свое определение, привести доказательство,
которое ему кажется веским. Свой поступок он подкрепляет ссылкой на общеприня-
тые рассказы о Зевсе, лучшем из богов, который наказал собственного отца15, а тот в
свою очередь – своего. Это, в свою очередь, дает возможность Сократу сказать, что как
раз его недоверие к такого рода сказаниям стало причиной обвинения в нечестии.
В самом начале диалога Эвтифрон, узнав о том, что Сократа обвиняют в «бого-
строительстве», в создании новых богов и непочтении к старым, посчитал причиной
этого обвинения демона Сократа. Как мы уже говорили, Эвтифрон тем самым пы-
тался зачислить Сократа в свой цех людей божественных, которых не понимает и над
которыми смеется толпа. Сократ тогда на это промолчал. Сейчас он сам говорит,
в чем заключена настоящая причина его процесса: в его недоверии к рассказам
о свержении одних богов другими, мести богов друг другу, их войнах, битвах, схват-
ках. Сократ «Эвтифрона» относится к этому всему точно так же, как Сократ второй
книги «Государства». Он не принимает или, точнее, плохо воспринимает эти расска-
зы в силу, прежде всего, моральных соображений. Такого рода рассказы хорошему не
174
научат, особенно – молодого человека. В «Государстве» Платон расставляет точки
над i в этой теме:
Прежде всего, сказал я, неподобающим образом солгал тот, кто высказал
ложь величайшую о самом великом, что Уран сделал то, что он сделал по
словам Гесиода, а Крон отомстил ему за это. А то, что совершил Крон и что
претерпел он от сына, по-моему, не стоило бы с такой легкостью рассказы-
вать перед людьми неразумными и юными, даже если бы это было истиной,
но лучше всего было бы об этом промолчать. Если же вдруг понадобилось бы
сказать об этом, то только как о тайне и в присутствии совсем немногих, прине-
ся в жертву не поросенка, но курение великое и непостижное, чтобы услышало
это как можно меньше людей.
–
Да, сказал он, конечно, эти речи поэтов выне-
сти трудно. – И они, Адимант, не должны звучать в нашем городе. И нельзя го-
ворить, коли слушает юноша, что тот, кто совершает величайшую несправедли-
вость, не делает ничего особенного, даже если он станет всячески преследовать
наказанием собственного отца, когда тот не прав, но поступает так, как поступа-
ли первые и самые великие из богов (377 е – 378 b)16
.
В отличие от «Государства» Сократ в «Эвтифроне» лишь намекает на свое под-
линное отношение к теологии поэтов, хотя намеки эти и вполне прозрачны. Он не-
сколько раз спрашивает молодого пророка, неужели тот сам считает все эти рассказы
правдой. Он останавливает Эвтифрона, когда тот хочет поведать ему о еще более
удивительных и скрытых от толпы деяниях богов, знание о которых юноша, видимо,
почерпнул в книгах Мусея и Орфея. Он с иронией допускает истину всех этих легенд,
чтобы еще более резко остановить того чисто формальным аргументом: святость ведь
присутствует не только в преследовании за убийство, но и во множестве других по-
ступков. Нужно указать не один или два случая святости, но ту ее черту, которая
позволяет назвать святым любой поступок, заслуживающий этого имени.
***
Второе определение Эвтифрона соответствует этому формальному требованию все-
общности: святое есть то, что любезно богам, не -святое
–
то, что богам не любезно
или ненавистно. Но поскольку, по Эвтифрону, боги враждуют между собой, то лю-
безное одним богам будет ненавистно другим, и vice versa. А следовательно, одно и
то же будет и любезным и ненавистным, следовательно, святым и не -святым, что
противоречит требованию определить именно святое, а не указать то, что бывает свя-
тым и не-святым . Это опровержение по своей форме очень просто, но, как часто
бывает у Платона, в нем содержится гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Обсуждение вражды богов дает Платону возможность назвать причину возникнове-
ния любой вражды – различие мнений о благе, прекрасном и справедливом. И люди,
и боги – если, конечно, боги могут враждовать друг с другом, многозначительно и не
один раз замечает Платоновский Сократ, – враждуют между собой именно по этой
причине. Легко заметить, что все многообразные и многоразличные поводы и при-
чины раздоров и войн, о которых говорила греческая мифологическая поэзия и по-
литическая история, одним штрихом сведены Платоном к разногласиям вокруг трех
самых общих понятий, блага, красоты, справедливости, играющих ключевую роль
в платоновской философии.
Нельзя не отметить здесь и еще одного момента, который играет в опровержении
вспомогательную роль, но значение которого велико. Спорная область хорошего,
прекрасного и справедливого противопоставлена вещам бесспорным, относительно
которых не возникает раздоров – числу, мере, весу. Точнее, возникающий спор здесь
не приводит к вражде, поскольку легко улаживается процедурами счета, измерения,
взвешивания. Трудно себе представить, что автор «Эвтифрона» «еще» был далек
от понимания важности математических наук и интересовался лишь «определением
общих понятий». Трудно не увидеть здесь намека, завуалированного требования со-
здать и для этой, самой важной в жизни людей, сферы такой же точной и бесспор-
ной науки, как для чисел, мер и весов; ср.: [Adam 1890, 68–69].
175
Наконец, еще одно заслуживает здесь внимания. Эвтифрон, пытаясь уйти от Сокра-
това опровержения, говорит, что боги никогда не спорят о том, справедливо ли наказы-
вать преступника. Необходимость наказания того, кто поступил неправо, есть, таким
образом, нечто для богов бесспорное. Но, как сразу же возражает Сократ, то же самое
справедливо и для мира людей. Люди тоже никогда не спорят о том, справедливо ли
наказывать преступника. Спор всегда идет о том, кто не прав, в чем он не прав, когда он
поступил неправо. Спор, таким образом, касается не общего принципа, но поступков
(), или, пользуясь выражением Пауля Фридлендера, не quaestio iuris, но quaestio
facti [Friedländer 1964, 79. Только Калликл в «Горгии» и противники справедливости,
изображенные в речи Главкона в начале второй книги «Государства» и в десятой
книге «Законов», ставят под сомнение принцип справедливости как таковой. Эвтиф-
рон от этого далек, он остается в рамках обычной морали того времени.
***
Третье определение. Предыдущее определение Эвтифрона (святое есть то, что лю-
бимо богами) оказалось несостоятельным. Святое оказалось тем, что некоторые боги
любят, а другие боги ненавидят, то есть святое оказалось святым и не святым. Со-
крат теперь предлагает Эвтифрону новое определение: святое есть то, что любимо
всеми богами, и Эвтифрон с удовольствием на него соглашается. Но и оно не вы-
держивает Сократовой критики. «Быть кем-то любимым» описывает то, что нечто
претерпевает, а не то, что оно есть на самом деле, по своей сущности. «Любимое»,
как и «несомое», «ведомое», «видимое», не может служить указанием на то, что соб-
ственно это такое. Такого рода вещи определяются действием, ими претерпеваемым.
Они любимы, ведомы, несомы именно потому, что их любят, ведут, несут. Их «сущ-
ность» заключается в претерпеваемом ими действии. Но святое, как предполагаю т
Сократ и Эвтифрон, любимо не потому, что его любят, а именно потому, что оно
святое. «Одно будет любимым, потому что его любят, другое будут любить, потому
что оно способно вызвать любовь». Таким образом, «святое» и «любимое всеми бога-
ми» оказываются отличными друг от друга, даже противоположными друг другу.
Определять святое через то, что оно любимо, пусть даже богами и даже всеми бога-
ми, – значит, ничего не сказать о нем самом, ограничившись лишь тем, что святое
от кого-то претерпевает. В случае святого определение должно указать его сущность
()17 или бытие (), а не свойство, зависящее от действия, в нем самом не ко-
ренящегося (). Напротив, сущность любимого будет как раз заключаться
в действии, которое происходит извне и в нем самом не коренится.
Формально, опровержение основано на том, что Эвтифрон принимает два взаимо-
исключающих предположения. Первое – «любимое есть любимое, поскольку его лю-
бят», второе – «святое есть любимое, поскольку оно святое, а не поскольку его любят».
Для любимого само его определение (сама его сущность) заключается в том, что его
кто-то любит. Для святого само его определение (сама его сущность) не может заклю-
чаться в том, что его кто-то любит, поскольку святое не относится к таким вещам, как
любимое, несомое, ведомое, видимое. Эти предположения несовместимы, поскольку
в данных определениях «святое» нельзя заменить на «любимое», и наоборот.
Дж. Грот когда-то назвал этот аргументом излишне тонким (over-subtle) [Grote
1885, 446]. На мой взгляд, он, напротив, слишком прост и очень изящен, и нам
трудно бывает его понять лишь потому, что зачастую видим в нем многое из того,
чего в нем нет. Изящество этого опровержения, прежде всего, в том, что понятия,
образующие, на первый взгляд, вполне осмысленное определение «святое есть то, что
любимо всеми богами», оказываются на поверку противоположностями. Платон ма-
стерски заставляет «святое» и «любимое» стать не просто отличными друг от друга,
что еще не исключало бы возможности их сцепления в едином определении, но пре-
вратиться в антиподов, каждый из которых по самой своей сути выталкивает друго-
го18. Ни мысль о религиозной реформе, о новом понимании благочестия, ни логиче-
ские и онтологические категории «сущности» и «претерпевания» не играют в этом
рассуждении первую скрипку. Они, конечно, в какой-то мере присутствуют, но на
176
дальнем плане19. На переднем – то, что сущность одного оказывается для другого
чем-то побочным, а сущностное для другого будет побочным для первого. Столь
изящная антитетика понятий вполне достойна автора «Парменида»20
.
***
Небольшой дивертисмент. Как в древней аттической комедии с ее парабасой, плато-
новский диалог часто рассекается на две части своего рода цезурой: долгие и тонкие рас-
суждения, неизбежно утомляющие читателя, уступают место беседе в более свободной
форме. Читатель может передохнуть перед новым диалектическим приступом, для автора
же такой дивертисмент – возможность показать с новой точки предмет обсуждения и
собеседников. Платон здесь с удовольствием прибегает к образам, сравнениям, шутке,
разряжающим атмосферу трудного логического поиска. Эти интермеццо зачастую помо-
гают заглянуть дальше и глубже в его творческую мастерскую, увидеть связи, которые
существовали в его сознании, коснуться нитей, которыми один диалог связан с другим.
В нашем диалоге Эвтифрон, после того как все его попытки определить святое
оказались несостоятельными, жалуется Сократу на то, что их положения никак не
желают стоять там, где их поставили, а ходят кругом. Сократ очень тонко и изящно
отказывается разделить с Эвтифроном ответственность за его предположения. В пла-
тоновском диалоге действует правило, по которому мысль, положение, определение
принадлежат тому, кто их утверждает, а не тому, кто своими вопросами подводит
собеседника к этому. Сократ, хотя он, как правило, говорит больше своего визави и
ведет беседу, ничего сам не высказывает. Определение и положение – собственность
того, кто утверждает, а не того, кто спрашивает. «Сказанное тобою, о Эвтифрон, –
похоже, дело рук предка нашего Дедала. И если бы все это утверждал и полагал я сам,
ты бы, пожалуй, стал меня вышучивать, что-де из-за нашего с ним родства и мои
словесные творения пускаются в бега, не желая оставаться там, куда их ставят. Но
мы-то имеем дело с твоими предположениями (), а посему стоит поискать
другой шутки» (11 b–c). Другой не нужно, говорит Эвтифрон. Ты, Сократ, и есть
Дедал. У меня сказанное мною так и оставалось бы на месте.
–
Тогда, говорит Со-
крат, я гораздо искуснее Дедала: он заставлял ходить кругом лишь свои творения,
а я – еще и чужие. Причем сам того не желая: «Я бы хотел, чтоб у меня определения
() пребывали в покое () и оставались неподвижными, причем даже
больше, чем в придачу к Дедаловой мудрости иметь богатство Тантала» (11 d–e).
Место это очень примечательно. И даже не тем, что это один из пассажей, в ко-
торых Платон говорит о великом скульпторе Дедале как о дальнем предке Сократа.
Литературная традиция на основании подобного рода мест у Платона превратит
и самого Сократа в сына скульптора, а Джон Бёрнет – вопреки ей – будет писать
о том, что у Платона речь шла лишь о принадлежности Сократа к дему, который
числил своим предком Дедала, а вовсе не о том, что отец Сократа Софрониск и сам
Сократ в юности рубили мрамор или лили из бронзы дивные образы атлетов
и богов[Burnet 1924, 30–131]. Мнение Бёрнета, как мне кажется, более основательно
и трезво, но не это самое интересное здесь.
Платон заставляет своего Сократа говорить о Дедале в нескольких диалогах
(«Алкивиад первый» 121 а, «Гиппий больший» 282 а, «Ион» 533 а, «Государство» 529
е, «Законы» 677 d). Обычно в них упоминается, что тот был скульптором и предком
Сократа. Лишь в двух диалогах речь заходит о знаменитых движущихся статуях Деда-
ла, причем и в том и в другом с ними сравнивают то, что происходит во время бесе-
ды и рассуждения. Эти два диалога – «Эвтифрон» и «Менон»
21
.
В «Меноне» самодвижные статуи Дедала появляются тогда, когда Сократу нужно
объяснить этому богатому фессалийскому юноше различие и превосходство знания
() над правильным мнением (). Правильные мнения, как и статуи Дедала,
не стоят на месте, они норовят пуститься в бега, наподобие тогдашних рабов. Чтобы
наслаждаться красотой Дедаловых статуй, их нельзя оставлять на свободе, их нужно при-
вязывать. Чтобы наслаждаться красотой и добром, которые могут принести правильные
мнения, их тоже надо привязывать, связывать «рассуждением причины» (),
177
что и есть, по словам Сократа, припоминание (), о котором в «Меноне» речь
шла чуть раньше. Если правильные мнения связать, они становятся знаниями, а, кроме
того, обретают стабильность и постоянство () (97 d – 98 a).
Одно и то же сравнение, очень сходный смысл. Только в «Меноне», хоть и
вскользь, одной черточкой, намечен выход из мучительного состояния непостоянства,
так сказать невольного бродяжничества мыслей, которые в «Эвтифроне» называются
«гипотезами», в «Меноне» – «правильным мнением». Метафора привязи, на которую
стоит посадить самодвижущуюся статую, чтобы обладать ей и любоваться ее красотой,
позволяет намекнуть на то, что нужно сделать с суждением, дабы оно обрело проч-
ность, устойчивость, основательность и неподвижность. Суждение, правильное мне-
ние нужно привязать, указав в рассуждении его причину, говоря нашим языком –
его основание, что и будет припоминанием. Здесь уже от «Менона» прямая дорога
ведет к «Федону» с его более подробными рассуждениями о припоминании (второй
аргумент) и о том, что такое это самое рассуждение о причине (четвертое доказатель-
ство). А философы и ученые и по сей день, хоть давно уже позабы в о некогда слав-
ных статуях Дедала, нуждавшихся в доброй веревке, говорят и пишут про связь рас-
суждений, про сцепление доказательств и неразрывную цепь аргументов.
Знал ли Платон, когда писал «Эвтифрон», куда поведет, куда заведет его погоня
за непоседливыми статуями Дедала? Имел ли он уже в виду «Менон»? А когда писал
«Менон», носился ли перед его умственным взором последний день Сократа, его по-
следнее слово urbi et orbi, которое суждено было передать им тому, кого как раз
в этот день не оказалось в наводящем смертный страх и тоску здании Одиннадцати?
Часто платоноведу – филологу, историку, философу – комфортнее, привычнее «вы-
тянуть платоновские диалоги в линеечку» (Т.В . Васильева), воспользоваться вошед-
шим в научный обиход исторического платоноведения приемом propter hoc ergo post
hoc. Казалось бы, что может быть основательнее и научнее, чем рассуждение: внача-
ле Платоном был написан «Эвтифрон», в котором, чтоб иллюстрировать блуждание
мыслей, появляется образ самодвижущейся статуи, но нет «еще» «императива» свя-
зывать мысли. Затем им написан «Менон», где этот образ «уже» сопровождается та-
ковым императивом, а в связи с этим намечена тема причины, которой, собственно,
связывается мнение, и припоминания, как процедуры это осуществляющей. «Нако-
нец», все это гораздо более подробно и основательно развивается им в «Федоне».
Но такая последовательность обманчива. Или, говоря иным языком, это наша по-
следовательность, поскольку нас интересуют, прежде всего, логика и онтология, при-
сутствующие в платоновских диалогах. Мы редко задаем вопрос, а к чему, например,
привело бы в «Эвтифроне» развитие темы связывания мыслей. В «Меноне», посвя-
щенном вопросу, можно ли научить добродетели, тема науки и перехода от мнения к
знанию – на своем месте . В «Эвтифроне» она – лишняя. Она не имеет прямого от-
ношения к основной теме беседы, которая – не о обучении, знании и мнении, но о
благочестии и святости. Здесь достаточно лишь беглого замечания, намека, некоторо-
го недовольства тем, что мнения, «твои гипотезы», не могут устоять на месте, а в се
ходят и ходят кругом, причем – не по цепи.
***
Четвертое определение. Теперь Сократ берет дело в свои руки. Он готов помочь Эв-
тифрону, который настолько разнежен своей мудростью, что не хочет сказать, что же
такое благочестивое и святое. Сократ предлагает новый отправной пункт: нужно исхо-
дить из того, что все святое – справедливо, но не все справедливое свято. Сперва его
собеседник, далекий от вопросов деления понятий и соотношения их объемов, не мо-
жет понять, о чем идет речь, и Сократу приходится, призвав себе в помощь эпического
поэта, на примере «стыда» и «страха» разъяснять, что одно может быть частью ()
другого, а другое, в свою очередь, быть больше () другого. Следующий пример
уже берется из математики: всякое четное есть число, но не всякое число четно. Дается
и определение четного числа, как части числа вообще: четное число – это число рав-
нобедренное, а не скошенное (). Этот краткий курс логики – collegium logicum,
178
по счастливому выражению Фридлендера [Friedländer 1964, 80], кстати припомнившего
разговор Мефистофеля и студента из первой части «Фауста»,
22 – с его установлением
объема понятий, «уже» предполагающим диэрезу23, и примерами на обращение обще-
утвердительных суждений 24 дает беседе новый поворот: святое оказывается частью
справедливого. Теперь нужно определить, что это за часть.
«Мне, Сократ, благочестие и святость кажутся вот какой частью справедливого:
это часть, относящаяся к попечению () о богах, а оставшаяся часть справед-
ливого – к попечению о людях» (12 е). Однако, тот, кто о чем -то печется, приносит
пользу и улучшает то, о чем он печется: коневод улучшает коней, собаковод – собак
и т.д. Какую пользу приносит святой человек богам? Неужто он их улучшает? Эв-
тифрон отклоняет такую возможность. Для него люди пекутся о богах так, как рабы
пекутся о господах. Святость как попечение о богах, таким образом, нужно понимать
в смысле «служения богам» (3d). Но слуга врача помогает тому в лече-
нии, слуга строителя – в строительстве и т.д. Каким же «наипрекраснейшим делом»
() заняты боги? В каком деле нужна им наша помощь и наша служба?
Эвтифрон не может ответить на этот вопрос и пытается отделаться от него восклица-
нием: «Много прекрасного творят боги, о Сократ!» (ср.: «Горгий» 451 d). Но на во-
прос Сократа, что будет самым главным () в этих их прекрасных сверше-
ниях, он ответа дать не может.
Как в платоновских «Законах», так и в Афинах V–IV вв. право в целом включало
в себя право священное, или, проще говоря, , относящиеся к священному и бо-
жественному, существовали наряду с прочими «законами», регулировавшими осталь-
ную часть общественной и частной жизни. Конечно, так или иначе, все «законы»,
все право имело религиозную санкцию25
.
Платон отметил это в десятой книге «Зако-
нов», назвав рассуждение о существовании богов проэмием ко всему своему «законо-
дательству» в целом (887 с). Но при этом законы, определяющие преступления про-
тив религии и наказания, за это полагающиеся, – лишь часть «законов», подчинен-
ных добродетели справедливости. Одним словом, то, что святое – это часть справед-
ливого, а не наоборот, вовсе не удивительно; см. также: [Adam 1890, XXXII–XXXIII].
Удивительно другое: то, что Виламовиц (вслед за Шлейермахером [Schleiermacher
1855, 38], Фритцше, Шанцем [Schanz 1887, 15]) посчитал это определение в «Эвтиф-
роне» свидетельством своего рода упразднения Платоном святости как отдельной
добродетели [von Wilamowitz-Moellendorff 1920 I, 77–78]. Места в других диалогах,
где она, тем не менее, упоминается («Горгий», «Теэтет», «Политик»), для него –
лишь дань Платона привычному способу выражения, не более. Но нет никаких сле-
дов того, что «до» «Эвтифрона» святость играла особую роль в плат оновской аретало-
гии, и лишь «после» перестала ее играть26. Не говоря уже о том, что все подобного
рода «до» и «после» – исключительно плод догадок и предположений. Сам Виламо-
виц, между прочим, это превосходно показывает: он помещает «Эвтифрон» перед
«Горгием» лишь после серьезных колебаний и сомнений [Ibid., 80 –81].
Самым важным вопросом и главной проблемой для понимания как четвертого
определения, так и всего «Эвтифрона» в целом является вопрос, наличествовало ли
у Платона «уже» в этом диалоге ясное понимание того, что такое святость и благоче-
стие, и того, как они соотносятся с остальными добродетелями. Хотел ли Платон при-
вести в недоумение и затруднение читателя, будучи сам уже свободен от сомнения, или,
как говорит Сократ в «Меноне», он заставляет другого недоумевать лишь постольку,
поскольку он сам исполнен недоумения? Всмотримся в эту проблему внимательнее.
Как неоднократно замечали, в платоновском диалоге после дивертисмента и цезуры
обычно следует нечто более положительное и близкое к авторской позиции, чем до этого
[Schanz 1887, 8; Burnet 1924, 130]. Как мы видели, в «Эвтифроне» после дивертисмента
Сократ берет дело в свои руки, и именно он предлагает новый отправной пункт для про-
должения беседы [Schanz 1887, 8]; Эдэм [Adam 1890, XII]. Так же Платон поступает,
например, в «Меноне», когда после близкого по духу дивертисмента о недоумении Со-
крат принимает ведущую роль и ведет беседу к теме припоминания (после 80 с),
и в «Феэтете» (после 184 b)27
.
Определение, которое дает Эвтифрон (благочестие, как
179
часть справедливости, это попечение о богах, остальная часть справедливости – о людях),
встречает у Сократа в общем и целом одобрение («Мне кажется, ты говоришь прекрасно,
хоть мне и не хватает малой толики» 13 а28). Малая толика – это вразумительное объяс-
нение того, что такое попечение (). После того, как Эвтифрон не смог сказать,
какое дело делают боги, и соответственно, в каком деле им нужна наша служба, и со-
рвался в пустое и высокопарное словоизвержение, Сократ с сожалением говорит, что тот
свернул с дороги как раз тогда, когда был уже почти на месте. «И если бы ты дал ответ,
то я бы уже смог понять, что такое святость» (14 с).
Таким образом, определение святости как части справедливости, заключающейся
в служении богам, остается не опровергнутым. Не опровергнуто и то, что боги вер-
шат в мире некое весьма прекрасное дело, используя нас как помощников и слуг.
Несомненным для Сократа является и то, что все блага, которые у нас есть, мы по-
лучаем от богов29. В «Эвтифроне» дело богов остается без определения, что вполне
соответствует характеру диалога и образу Сократа, который «ничего не знает о боже-
ственном» (6 b) 30 . Но условия, которым должно удовлетворить это определение,
названы: святость и благочестие ограничены справедливостью и связаны с делом бо-
гов, осуществляющемся в мире.
Можно ли найти в других диалогах Платона ответ на вопрос, какое дело делают
боги, пользуясь для этого дела нашей службой? Или, как писал когда-то Пол Шори
[Shorey, 1933, 79], божье дело в мире нельзя познать, поскольку конечные умы вста-
ют в тупик, имея дело с божественной бесконечностью? Первую попытку указать
такой ответ сделал Герман Бониц, за которым последовали в той или иной степени
М. Шанц, Дж. Эдэм и П. Фридлендер. Бониц видел этот ответ в том, что бог у Пла-
тона неразрывно связан с понятием блага. Бониц опирался на известные тексты
«Государства» (379 b) и «Тимея» (29 e), в которых речь идет о благости бога и о том,
что бог есть причина блага в мире. Основываясь на этом, немецкий филолог дал сле-
дующее определение благочестия у Платона: «Это не что иное как совершенная
нравственность, но в том смысле, что человек сознает себя тем самым как служебное
орудие для божественного действия» [Bonitz 1886, 234]. Легко заметить, что решение
Боница, хотя в общем и верное, все же слишком неопределенно. Конечно, боги бла-
ги и суть причины блага. Но о чем или о ком, собственно, идет речь? И в чем, соб-
ственно, заключается благо, которое они дают?
У Платона был куда более определенный ответ на вопрос, кто такие боги и в чем
заключается их дело. Он ясно дал его в четвертой книге «Законов» и подробно объ-
яснил в десятой книге «Законов», этом катехизисе платоновской религии. Лишь от-
ношение к «Законам» как диалогу «позднему» и «мрачному», явному свидетельству
упадка интеллектуальных и литературных способностей Платона в старости мешает
там найти этот простой ответ.
В четвертой книге «Законов» законодатель обращается с речью к будущим граж-
данам создаваемого полиса. Эта речь закладывает основы всей правильной жизни в
полисе и всего последующего законодательства. Во-первых, бог или божественный
закон есть начало, середина и конец всего существующего. Ему сопутствует Правда
(), карающая любое отступление от этого закона. Бог есть мера всех вещей,
поэтому ему будет мил () тот, кто обладает мерой в себе, человек умеренный и
справедливый. Его поступки и деяния () будут милы богу. И чтобы стать любез-
ным () богу, нужно стать таким, как он. Отметим, что здесь, как и во втором
определении Эвтифрона, благочестивый человек – это тот, кто мил богу, но бог или
божественный закон не имеет отношения к мифам пророка. Это – мера всех вещей.
Чуть позже мы попытаемся точно определить, о чем идет здесь речь.
Во-вторых, молитвы, жертвоприношения, подношения и прочая служба ()
богам имеют смысл только для добродетельного, справедливого и умеренного, человека.
Молитвы и жертвы негодяев и людей порочных – напрасный труд. Платон не сомне-
вается в силе молитвы и необходимости жертвоприношений богам. Но результат этих
действий достижим лишь тогда, когда между человеком и богом существует отношение
подобия, уподобления, о которых уже шла речь. Соответственно, хороший () и
180
святой () человек – это тот, кто чист душой (). Напротив, плох (,
нечестив () и покрыт скверной () тот, душа которого нечиста. Эти два мо-
мента, два пункта представляют собой ориентир, мишень, в которую надо целить, что-
бы достичь благочестия (717 b 1).
Средствами достижения цели является обрядовое почитание () богов
традиционной религии и деятельное почтение к родителям при их жизни и по смер-
ти. Если душа наша чиста, то есть умеренна и справедлива, обряды исполняются,
родители почитаются, то мы можем получить награду () от богов.
Легко заметить, как это сделал Фридлендер, что данное место четвертой книги дает
важный комментарий к «Эвтифрону». Здесь даны ответы на многие вопросы, поднятые
в нашем диалоге. Что такое быть милым или любезным богу, что значит служить богам,
что такое скверна и что значит быть святым – все это в общем виде определено. Легко
также заметить основополагающую роль понятия души и ее добродетелей в этом тексте
«Законов». Как раз отсутствие упоминаний о душе в «Эвтифроне» служит причиной того,
что молодому прорицателю не удалось определить благочестие. Однако в силу общего
и вводного характера первой речи законодателя самое главное пока осталось неопреде-
ленным. Главное – что такое бог или божественный закон или боги, о которых шла речь,
и каково их дело. Ответ на это дает десятая книга «Законов».
Боги Платона – это, прежде всего, души звезд и планет 31 . Совершенство боже-
ственных душ является причиной правильного и упорядоченного движения одушевлен-
ных ими тел небесных светил. Это движение есть причина меры и порядка в нашем мире,
правильной смены дня и ночи, месяцев, времен года, лет. Боги – властители и господа,
достоянием и собственностью ( которых является всякое смертное одушевлен-
ное существо. Особенно человек, животное, которое больше всех почитает богов (902 b).
Дело богов заключается в «дивном надзоре» () за великим сражением
между добром и злом, происходящем в космосе (906 a). Их цель в этом сражении – сча-
стье не отдельного существа, но всего космоса в целом (903 c). Битва идет в душах оду-
шевленных созданий, где лучшая часть борется с худшей. Победа справедливости и уме-
ренности, сопряженных с разумением, спасает душу, победа неразумной наглости и не-
справедливости ее губит (906 a–b). В этой битве боги и демоны – наши союзники, мы –
их достояние (906 a). Поскольку справедливость, умеренность и разум заключены
в «одушевленных силах богов» (906 b), то стяжание доб-
родетелей – это уподобление богу.
Дело богов в мире – сохранять и поддерживать то благо, которое в нем заключено.
Божественное благо, заключенное в космосе, – это добродетели, главная из кото-
рых – разумение. Они находятся в душах. Поскольку сами боги существа совершен-
ные, в душах которых добродетель всегда торжествует победу, то стремление к разуму,
справедливости, умеренности и мужеству – дело святое, святость par excellence.
«Уподобление богу – в том , чтобы стать разумно справедливым и святым, насколько
это доступно человеку» – сказано в «Теэтете» (176 b). Именно поэтому Сократ в «Эв-
тифроне» говорит, что боги – податели всех благ, что нет никакого блага, которое бы
не шло от богов (15 a). Он имеет в виду не здоровье, красоту, силу, богатство, но
совершенства, присущие душе. Почему Эвтифрон не смог дать ответа на вопрос о
деле богов, почему он не смог определить благочестие? Потому что он н е знает, что
такое боги, чем они ведают, в чем заключается дело богов в мире. Будучи их союзни-
ками, будучи их собственностью и достоянием, мы помогаем им тем, что совершен-
ствуем в себе свои совершенства, свои добродетели, свою душу.
Но «знал» ли все это Платон, когда он писал «Эвтифрон»? Мне кажется, это
вполне возможно. Прежде всего, неразрешенные сомнения относительно принципи-
ального пункта собственного миропонимания мало способствуют литературной про-
стоте, совершенству и законченности диалога или philosophisches Kunstwerk, по вы-
ражению Фридлендера. Всеми этими качествами «Эвтифрон» обладает. Затем, как мы
видели, «Эвтифрон» определенно указывает на «Менон», «Менон» в свою очередь –
на «Федон», а в этом последнем диалоге, как и в «Законах», говорится, что мы –
собственность и достояние богов 32
.
Далее, «Эвтифрон» по своему сюжету является
181
продолжением «Теэтета», где, собственно, определено, что такое «уподобление боже-
ству», тема, объединяющая «Теэтет» и «Законы». К тому же, когда в «Апологии»,
непосредственно связанной с «Эвтифроном», Сократу пришлось объяснять, что он
почитает богов, первым делом он стал говорить о солнце и луне (26 d). Указывает на
«Законы» и кое-что в самом языке, в выражении мыслей нашего диалога. Эвтифрон
говорит, что благочестие – у него это умение молиться и приносить жертвы – сохра-
няет частные хозяйства и целые города, а нечестие их уничтожает и губит (14 b).
В «Законах» спасительной силой обладают разумение, справедливость и умеренность,
обитающие в одушевленных силах богов, тогда как несправедливость губительна. Од-
но сохраняет душу, другое губит ее. Трудно не увидеть в этом, так сказать, антитети-
ческой параллели.
Но если Платон «уже» все это «знал», если у него уже было вполне ясное и опре-
деленное понимание благочестия, основанное на его космической религии, почему
он его не «изложил» в «Эвтифроне»? Потому, что это полностью уничтожило бы ху-
дожественное и педагогическое воздействие диалога, убило бы тщательно создавае-
мый Платоном образ Сократа, который ничего не знает, свело бы на нет всю интри-
гу и возможный интерес. Одним словом, превратило бы Платона из великого худож-
ника в правильного и унылого моралиста, наподобие Исократа и Ксенофонта, кото-
рых все одобряют, но мало кто читает.
***
Пятое определение. Circulus vitiosus. Финал.
Эвтифрон, сославшись на то, что научить точному знанию о божественном – дело
долгое, пытается еще раз, последний раз сказать, что же такое святое. Это – «говорить и
творить приятное богам в молитве и жертвоприношении». Именно это сохраняет отдель-
ные семьи и целые города, а нечестивое – то, что неприятно богам, – их уничтожает
(14 а – b). Легко заметить, что это «определение» состоит из трех видовых отличий вме-
сто требуемого одного. Первое – это говорить и творить приятное богам. Второе – в мо-
литве и жертвоприношении. Третье – цель, которая в результате достигается. Платонов-
ский Сократ начинает свой критический разбор со второго, сводя его к понятию вывоз-
ной торговли (). Но такая торговля между людьми и богами может быть выгодна
только людям, ибо какое же благо могут получить от нас боги? Эвтифрон, пытаясь спа-
сти положение, говорит о почетных дарах, почестях, которыми мы отплачиваем богам и
которые им приятны. Но «приятное» () – это ведь опять-таки, как признает
сам Эвтифрон, «милое» и «любимое» (), и мы снова вернулись к уже опровергнутому
второму определению. Сократ предлагает Эвтифрону начать исследование заново. Он
уверен, что молодой гадатель обладает знанием святого, иначе он не осмелился бы вчи-
нить подобного рода иск собственному отцу. Если бы он доподлинно не знал, что свято,
а что нет, он бы побоялся богов и постыдился людей. Но Эвтифрону почему-то уже не-
когда продолжать беседу, оказывается, ему нужно идти. Разговор окончен, и Сократу
остается лишь сожалеть, что он так и не узнал, что такое святое.
Еще Шлейермахер видел в «Эвтифроне» «апологетический замысел» (apologetische
Absicht) [Schleiermacher 1855, 38]33. Он даже считал наш диалог чем-то вроде памфле-
та, выпущенного Платоном в промежутке между подачей жалобы и решающим засе-
данием гелиэи34 . И хотя сравнение Афин с современным Шлейермахеру Парижем,
а Платона – с издателем летучих боевых листков особой поддержки не нашло35, апо-
логетический характер «Эвтифрона» несомненен. Сократ изображен человеком, ко-
торый, хоть ничего в точности о богах не знает, тем не менее, всю жизнь радел
именно о таком знании. Сократ «Эвтифрона» не имеет никаких сомнений в суще-
ствовании богов. Он знает, что они вершат в мире «самое прекрасное из дел». Он не
сомневается, что боги – податели всех благ. Как самого обычного афинянина, его
ужасает мысль о судебном преследовании собственного отца.
Либеральная и утилитаристская мысль XIX в. видела в Сократе «ранних» платонов-
ских диалогов, в том числе и «Эвтифрона», своего предшественника, свободомыслящего
критика религиозных предрассудков традиционного общества. Сократ, «настоящий»
182
Сократ для Джорджа Грота и Джона Стюарта Милля – апостол интеллектуальной
свободы, критики, рефлексии. Эвтифрон, пророк и гадатель, напротив, – представи-
тель религиозной ортодоксии36 , афинской крайней правой партии, против которой
выступает Сократ. У нас схожую либеральную интерпретацию проводил Вл. Соловьев.
Но для Платона, как и для Исократа («Бусирис» 38–39) и Аристофана («Мир» 1043 –
1046), такие люди как Эвтифрон, – «тип мракобеса» (Finsterling), по выражению
К. Риттера [Ritter 1910, 367], – с их претензией на подлинное знание божественного,
почерпнутое как из книг поэтов, так и из тогдашней теософии и эзотерики мусеев и
орфеев, вовсе не представляли афинское благочестие37. Их притязания на обладание
высшим знанием, их желание менять на основании бредовых идей самые устои нрав-
ственной жизни вовсе не были близки Платону. Сходство, которое в начале диалога
Эвтифрон усматривает между собой и Сократом, обманчиво, и все действие диалога
показало, что сходства между ними нет. Сократ «Эвтифрона» – вовсе не свободо-
мыслящий критик традиционной религии. Он, скорее, изображен критиком «нового
религиозного сознания», пытавшегося превратить греческое благочестие в религию
священных писаний, основанную на букве, на «яко писано есть», и презирающую
нравственный инстинкт обычного человека38
.
Нет в «Эвтифроне» и критики политеизма, которую часто там обнаруживали
немецкие и английские ученые протестантского вероисповедания; см.: [Adam 1890,
XX и 66]. Платоновский Сократ не приемлет сказаний о междоусобицах богов вовсе
не потому, что богов не должно быть много. Для него сражения богов между собой
возможны только тогда, когда боги не знают, что такое справедливое, прекрасное,
благое. Незнание противоречит божественному совершенству, которое не имеет от-
ношения к порядку числительных. Платон никогда не выступал против «политеизма».
С обычной для грека свободой он переходит от бога к божественному, от божествен-
ного к богам, от богов к богу, и vice versa. Бог, боги, божественное – для него сино-
нимы, указывающие на присутствие в мире порядка, меры, нормы.
Действие диалога заканчивается тем, что Эвтифрон, невежество которого стало
очевидно ему самому, бежит от дальнейшего разговора. И мне кажется, что он бежит
не только от Сократа. Он уходит и от царского портика, «убоявшись богов и посты-
дившись людей», так и не подав свой безумный иск против отца. Возможно, Сократу
с его «эленхосом» удалось сделать то, чего не смогла добиться увещаниями семья
молодого гадателя39. Во всяком случае, ничто не мешает нам понять конец диалога
именно так40
.
Примечания
1 Однако говорить, как это делает Эдэм [Adam 1890, 36], что для Эвтифрона Сократ – тоже
, не стоит. Бёрнет гораздо более прав со своим a fellow-heretic [Burnet 1924, 98].
2 Ср. критику Фридлендером взгляда О. Ги гона [Friedländer 1964, 293].
3 Бёрнет считает, что Платон хорошо знал Эвтифрона и не мог выдумать эту историю с
иском против собственного отца [Burnet 1924, 83–84]. То же у Шанца [Schanz 1887, 10]. На мой
взгляд, история могла быть и придумана.
4 Впрочем, так же считали и до него, см. [Schanz 1887, 5]; [Jowett 1892, 70]; Эдэм [Adam
1890, XXII].
5 Шанц, пытаясь обнаружить в «Эвтифроне» намеки на этимологические штудии молодого
прорицателя, приводит несколько мест, где можно найти игру слов [Schanz 1887, 11]. Такого
рода игру без труда можно отыскать в любом платоновском диалоге.
6 Клерухии на Наксосе должны были перестать существовать в 404 г. до н.э. с потерей
афинянами этого острова. В нашем диалоге описываются события 399 г. до н.э. Часто высказывалось
удивление (Шанц, Виламовиц и пр.), почему Эвтифрон ждал пять лет, чтобы обвинить своего отца.
Ответом могут служить: 1) обычное для Платона пренебрежение хронологией (Бергк, Лерс, Шанц,
Виламовиц); 2) возможность того, что семья Эвтифрона оставалась на Наксосе и после 404 г., но уже
не как клерухи (Эдэм); 3) то, что афинские клерухии в том или ином виде продолжали существовать
на Наксосе и в 399 г. (Э. Мейер); 4) то, что в 404–400 гг. из-за революционных событий афинская
судебная система правильно не функционировала (Дж. Бёрнет).
7 Однако, в первом томе «Платона» Виламовиц признается: «Требуется усилие, чтобы не
привлечь здесь всю более позднюю теорию идей» [von Wilamowitz-Moellendorff 1920 II, 208].
Но так ли уж необходимо делать это усилие?
183
8 Ср. критику этого взгляда: [Burnet 1924, 111].
9 У Платона (6 d 11) – dativus instrumenti. Ср., впрочем, замечания Гатри [Guthrie 1975, 118].
10 То же пишет Гатри [Guthrie 1975, 115].
11 Виламовиц замечает, что образцом () назывались модели зданий, которые представлялись
архитекторами при подаче заявок на конкурс [von Wilamowitz-Moellendorff 1920 I, 80].
12 Ср. замечания Фридлендера, что попытка в подобного рода пассажах увидеть различие
между логикой и онтологией – дань «философско-исторической конструкции... которой в этом
смысле до Аристотеля совершенно не могло быть» [Friedländer 1964, 78]. Там же Фридлендер
указывает на сходство этого места с «Меноном» 72 с.
13 Так же считал и Константин Риттер: «Собственно говоря, эти выражения не требуют
никакого дальнейшего объяснения» [Ritter 1910, 367].
14 Это было одним из ключевых аргументов Юбервега и Шааршмидта. См.: [Adam 1890,
XXVIII]. Эдэм критикует такого рода атетезу, но его собственное рассуждение с предложением
читать 5 d 4 согласно codex Bodleianus (), чтобы избежать «признания» идей
отрицания у Платона, бьет мимо цели. «Идеи отрицания» встречаются в «Государстве»
( «несправедливое», «плохое» 476 a). См. также [Bonitz 1886, 242]; Бёрнет ad loc.
15 Этот гесиодовский миф смущал не только Платона. См. «Эвмениды» Эсхила 640 sqq., где
его во время судебного процесса (скорее, казуистически и эристически, нежели bona fide)
используют Эриннии, и «Облака» Аристофана 903 sqq.,
в которых к нему прибегает
Неправедная Речь в споре с Речью Праведной.
16 См. также: «Законы» 886 с.
17 О собственной сущности () отдельных добродетелей, включая святость, говорится
в «Протагоре» 349 b.
18 Дж. Эдэм справедливо отметил, что Сократу не стоило бы говорить о противоположности,
поскольку он показал лишь различие понятий [Adam 1890, 86]. Но поскольку Эвтифрон
согласился с этим преувеличением, то дело сделано.
19 «Но и здесь за формальным стоит еще и нечто другое» [Friedländer 1964, 80].
20 Интересно отметить, что Шлейермахер тоже видел связь между тонкостью логического
анализа в «Эвтифроне» и «Парменидом», и считал, что «диалектическое упражнение
в «Эвтифроне» – это приближение и подготовка к «Пармениду»», [Schleiermacher 18553, 37–38].
21 Шааршмидт, отвергавший аутентичность «Эвтифрона», видел в этой параллели
с «Меноном» явный след плагиата [Schaarschmidt 1866, 394].
22 Mein teurer Freund ich rat Euch drum // zuerst Collegium Logicum. «Посему , мой дорогой
друг, я советую Вам, прежде всего, записаться на курс по логике». Не могу не заметить, что для
Платона collegium logicum – единственный верный путь к добру и счастью, для Гете –
рекомендованное дьяволом средство превращения из человека в ученого дурака. Впрочем,
содержание курса логики в платоновских диалогах и под сводчатыми потолками аудиториумов
XVI в. несколько разнилось.
23 Ср. справедливое замечание Эдэма [Adam 1890, XX–XXI].
24 Или, как говорит Эдэм, exercise in conversion of propositions, [Adam 1890, X, XX]. Похожее
упражнение, но с понятиями «мужество» и «смелость», см. в «Протагоре» 350 с –d . См. также:
[Guthrie 1975, 112].
25 О большей близости «справедливого» и «святого» у греков, чем у нас, см.: [Friedländer 1964, 80].
26 На первый взгляд, этому противоречит «Протагор», где часто речь идет о пяти основных
добродетелях и где справедливость и святость трактуются как отдельные добродетели. На самом
деле там Сократ говорит о пяти добродетелях с подачи Протагора, так сказать ex hypothesi
(см. слова Протагора 324 е – 325 а, которые Сократ имеет в виду в 329 с, а это место уже
служит основой для прочих случаев перечисления добродетелей). В конце диалога, упоминая
главные добродетели, Сократ уже спокойно обходится без святости (361 b). Также и тождество
справедливости и святости очень быстро превращается в весьма полное подобие и даже
в просто нечто похожее (331 b, d), что логически вполне допускает такое же отношение, как и
в «Эвтифроне». См. также: [Shorey, 1933, 79–80].
27 На место в «Феэтете» справедливо указал Дж. Эдэм [Adam 1890, XII].
28 Впрочем, ср. «Протагор» 328 е.
29 То, что 13 е – 14 с содержит в себе ключ ко всему диалогу, правильно отметил Эдэм, а до
него – Зохер, Бониц, Лехтхалер, Фрицше, Вольраб [Adam 1890, XIII].
30 А вовсе не потому, как считал Бёрнет [Burnet 1924, 137], что это дело богов вообще не
может быть определено.
31 Платон мог называть богами также 1) идеи («Тимей» 37 с); 2) творца мира («Тимей» pas-
sim); 3) богов традиционной религии («Тимей» 40 е – 41 а), которые, в свою очередь, делятся на
а) Олимпийских богов и богов города; б) подземных богов; в) демонов; г) героев; д) богов-
прародителей, которых почитает каждая отдельная семья («Законы» 717 а –b).
32 «Федон» 62 b: «Но вот это, Кебет, по крайней мере, мне кажется, сказано хорошо – то, что
боги заботятся о нас, и что мы, люди, – часть божьей собственности» ).
184
33 По Шлейермахеру, Платон после «Протагора», в котором святость упоминалась в числе
прочих добродетелей, хотел дать диалектическую разработку этого этического понятия.
Но обвинение Мелета и предстоящий процесс заставили его подчинить этическую диалектику
апо логетической цели.
34 Дж. Бёрнет, который видел в диалоге «ценный исторический документ», тоже не
исключает такую возможность, хотя считает, что «на сегодняшний день» в обсуждении такой
гипотезы нет необходимости [Burnet 1924, 84]. Той же точки зрения придерживался К. Риттер
[Ritter 1910, 273].
35 Виламовиц справедливо говорит о совершенной невнятности такого предположения, о смешении
истории (Geschichte) и вымысла (Dichtung) [von Wilamowitz-Moellendorff 1920 II, 204, A. 1].
36 Так же считал и Дж. Эдэм [Adam 1890, XXII, XXIV].
37 См. развернутую критику этого представления у Бёрнета [Burnet 1924, 85], который
справедливо называет Эвтифрона «каким -то сектантом» (a sectary). Бёрнет даже видит некое
историческое основание для этого в пребывании его на Наксосе, в одном из центров почитания
Диониса, что, на мой взгляд, надуманно. То же относится и к спекуляциям Бёрнета
о возможном пифагорействе Эвтифрона [Ibid., 85 –86]. См. также [Ibid., 115] с важной цитатой
из «Бусириса» Исократа 38–39.
38 Ср.: [von Wilamowitz -Moellendorff 1920 II, 205]. Дело Эвтифрона против отца «согласно
здравому правовому чувству афинян, а еще больше согласно духу древнего права было
святотатством (ein Frevel)».
39 О различии двух видов воспитания юношества, традиционного «наставления» () и
сократовского «эленхоса» см. «Софист» 229 d – 230 d .
40 Когда-то Шааршмидт [Schaarschmidt 1866, 393] видел в отсутствии морального воздействия
Сократа на молодого гадателя, свидетельство подложности диалога. Бёрнет считал, что в начале
диалога Эвтифрон уже вышел из здания архонта-басилея, то есть что предварительные слушания
по его делу уже прошли. Основанием для этого Бёрнет считал как раз то, что в конце диалога
Эвтифрон уходит по другим делам, будто бы уже закончив все свои дела у архонта-басилея. Но
вполне возможно, что разговор с Сократом стал причиной иного развития событий.
References
Adam, James (1890) Platonis Euthyphro, Cambridge University Press, Cambridge.
Bonitz, Hermann (1886) Platonische Studien, F. Vahlen, Berlin.
Burnet, John (1924) Plato’s Euthyphro, Apology of Socrates and Crito, Oxford University Press, Oxford.
Friedländer, Paul (1964) Platon. Band II, Walter De Gruyter, Berlin & New York.
Grote, George (1885) Plato, and the Other Companions of Socrates, J. Murray, London.
Guthrie, William K.Ch . (1975) A History of Greek Philosophy, Vol. 4, Cambridge University Press,
Cambridge.
Jowett, Benjamin (1892) The Dialogues of Plato , Vol. 2, Oxford University Press, Oxford.
Ritter, Constantin (1910) Platon. Sein Leben, seine Schriften, seine Lehre , C.H. Beck, München.
Schaarschmidt, Carl (1866) Die Sammlung der platonischen Schriften zur Scheidung der echten von
der unechten untersucht, A. Marcus, Bonn.
Schanz, Martin (1887) Sammlung ausgewählter Dialoge Platos mit deutschem Kommentar. Erstes
Bändchen. Euthyphro, Tauchnitz, Leipzig.
Schleiermacher, Friedrich (1855) Platons Werke. Bd . 1, Th. 1 . G . Reimer, Berlin.
Shorey, Paul (1933) What Plato Said, University of Chicago Press, Chicago & London.
von Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich (1920), Platon. Bd . 1 –2, Weidmann, Berlin .
Сведения об авторе
БУГАЙ Дмитрий Владимирович –
кандидат философских наук, доцент ка-
федры истории зарубежной философии
философского факультета МГУ.
Author’s information
BUGAI Dmitry V. –
CSc in Philosophy, Associate Professor, Depart-
ment of History of Philosophy, Faculty of Phi-
losophy, Lomonosov Moscow State University.
185
Философская борьба ранней адвайты с индийским атеизмом
© 2019 г.
В.К . Шохин
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: vladshokhin@yandex.ru
Поступила 23.05.2019
Несколько тем поднимаются в этой статье. Первая из них – демонти-
рование устоявшегося стереотипа, согласно которому индийские фи-
лософии в их взаимоотношениях друг с другом руководствовались
принципом консенсуса, который прямо противоречит контровертив-
ному этосу индийского теоретического сознания. Вторая тема – вы-
яснение того, когда индийский атеизм был реальным участником ин-
дийского полемического клуба и когда он стал лишь объектом «поле-
мических воспоминаний». Третья – и главная
–
реконструкция всей
палитры аргументов Шанкары и его ближайших последователей,
направленных против основополагающей доктрины индийских атеи-
стов школы чарвака-локаята, состоявшей в том, что духовное начало
есть на самом деле лишь функция тела, наделенного контингентным
сознанием – той самой, которая и была заострена против любой ре-
лигии, с необходимостью предполагающей продолжения жизни после
смерти тела. Автор статьи оценивает эти аргументы в аспектах не-
опровержимости, убедительности и креативности и делает вывод о
том, что многие из них вполне могут быть востребованы и современ-
ной теорией сознания в полемике с современным физикалистским
атеизмом.
Ключевые слова: религия, атеизм, чарвака-локаята адвайта-веданта,
Шанкара, аргументация, духовное начало, душа, тело, жизнь после
смерти.
DOI: 10.31857/S004287440006056-6
Цитирование: Шохин В.К . Философская борьба ранней адвайты с ин-
дийским атеизмом. Шанкара. Брахмасутра-бхашья. Прашнопанишад-
бхашья (фрагменты). Перевод с санскрита и комментарии В.К . Шо-
хина // Вопросы философии. 2019. No 8. С. 185–197.
186
The philosophical struggle of early Advaita with Indian atheism
© 2019 г.
Vladimir K. Shokhin
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: vladshokhin@yandex.ru
Received 23.05.2019
Several issues are dealt with in this paper. The first is dismantling of a long-
standing cliché about the principle of conciliation to which Indian philosophies
allegedly held in their interrelations and which in reality was absolutely incom-
patible with controversial fabric of Indian theoretical mind. Another one is
scrutiny of the subject when Indian atheism was a real participant of Indian de-
bating-society and when it became only an object of “controversial memories”.
The third, and most important, is reconstruction of the whole gamut of Śaňka-
ra’s (and his closest followers’) arguments against the basic doctrine of the Car-
vaka-Lokāyāta school where the spiritual principle was considered only a func-
tion of the body endowed with contingent consciousness, the doctrine which
was сoined just in opposition to any religion as necessarily presupposing afterlife.
The author of the article estimates these arguments by measuring in what de-
gree they are irrefutable, persuasive and resourceful with the upshot that many
of them could be used by the contemporary philosophy of mind in polemics
with contemporary physicalist atheism as well.
Key words: religion, atheism, Carvaka-Lokāyāta Advaita-Vedānta, Śaňkara,
arguments, the spiritual principle, the body, afterlife.
DOI: 10.31857/S004287440006056-6
Citation: Shokhin, Vladimir K. (2019) “The philosophical struggle of early
Advaita with Indian atheism”, Shankara, “Fragments”, Translation and
Commentary by Vladimir K. Shokhin, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019),
pp. 185–197.
Начнем с прояснения тех понятий, которые употреблены в названии этой статьи.
Ни одно из них не является настолько самоочевидным, чтобы этого не делать.
Наиболее беспроблемное из них, конечно, философская борьба. Но не будем
слишком торопиться. Дело в том, что в настоящее время в тех странах, на которые
положено ориентироваться всем прочим, критерием интеллектуальной и духовной
зрелости, а также современности, открытости и всех, говоря античным языком, диа-
ноэтических добродетелей всё больше считается соответствие дискурса так называе-
мому принципу примирения (the principle of conciliation), означающему отказ госпо-
дина А от претензии на истинность своих суждений (или даже бóльшую истинность,
чем суждений других) на том основании, что господин В также претендует на тако-
вую для своих суждений и потому претензии А могут его задеть (как и таковые пре-
тензии В могут быть неприятны для А). Ложность этого «современного» принципа
очевидна хотя бы из того, что если бы мыслители прошлого следовали ему, то мы не
имели бы ни одного из значительных достижений в истории философии, поскольку
все они стали результатами разработки тех доктрин, которые не совпадали с другими
доктринами, так как философия развивалась (да и сейчас развивается) в режиме по-
лемики, контроверсии по самой своей природе. Но этот принцип является и лжи-
вым, поскольку А применяет его только тогда, когда его не устраивает позиция В и у
187
него недостает ресурсов для противодействия ему. В применении же к культурной
истории он оказывается и чисто идеологизированным, пример чему дае т как раз
устоявшийся миф о том, что в противоположность эксклюзивистским «западным
религиям» (прежде всего христианству) религии и мировоззрения восточные (прежде
всего индийские) отличались рациональностью толерантной, принимая любые аль-
тернативы без претензий на свою исключительность1
.
На деле ничего, напоминаю-
щего «принцип примирения» на Востоке, особенно в Индии, не было, и более того, лю-
бая точка зрения Х считалась обоснованной только через опровержение (и, как правило,
дезавуирование) Y, Z и т.д., и это было совершенно правильно с учетом требований клас-
сической рациональности и диалектики опять же в классическом смысле. В применении
к теме данной статьи именно таким образом можно объяснить тот факт, что не было ни
одной классической школы индийской философии, которая не внесла бы свой вклад
в дело «философской нейтрализации» индийского атеизма. И это происходило не только
потому, что все индийские школы полемизировали друг с другом, но и вследствие того,
что индийские атеисты вызывали более солидарное возмущение, чем все остальные, по-
добно тому, каковое у античных философских школ вызывали эпикурейцы. Ведантисты
же более других считали их «низшими из низших». А о философской именно борьбе я
пишу потому, что методы борьбы религиозно-философских направлений и в Индии бы-
вали (вопреки мифотворчеству) весьма разными2. И то, что методы физические скорее
всего к атеистам не применялись, объясняется только тем, что их влияние на религиоз-
ные сообщества было неизмеримо меньшим, чем последователей Эпикура на их совре-
менников.
Под индийским атеизмом здесь подразумевается не а-теизм, включающий весьма
широкий спектр мировоззрений, отличных от теизма, но направление мысли, катего-
рически отрицающее наличие в макро- и микрокосме любых нематерильных начал,
следовательно, и бестелесной души, и соответственно, посмертное продолжение че-
ловеческого существование. Разумеется, это означало и отрицание религии как тако-
вой в общепринятом понимании. Индологи, особенно прошлых лет, не отрицали
возможность того, что индийские атеисты в указанном смысле были «сконструирова-
ны» их многочисленными оппонентами для того, чтобы образовать «цокольный
этаж» мировоззрения, необходимый как стартовая площадка для мировоззренческой
полемики, которая, можно сказать, определяла всю жизнь индийских философий.
Такому пониманию дела содействовало практическое отсутствие дошедших от них
текстов (прежде всего базовых текстов – сутр, содержащих пропозиции, опорные для
любой индийской философской системы-даршаны), вследствие чего все известное о
них реконструируется из полемики оппонентов. Этот аргумент заслуживает того,
чтобы к нему прислушаться, но может быть нейтрализован тем, что тексты, дошед-
шие до нас, неоднократно переписывались, а переписывать тексты одиозные было
как минимум малопрестижно3. Вместе с тем, у нас есть свидетельства ранних буддий-
ских текстов, сюжеты которых восходят к начальной эпохе индийской философии
(так называемый шраманский период – середина I тысячелетия до н.э.), в которых
указывалось и на те группы философов, которые отрицали посмертное существова-
ние, и на одного влиятельного конкретного носителя атеистических взглядов (Аджи-
та Кесакамбалин), и на его последователей из аристократии эпохи Будды4. В первые
века новой эры традиция материалистов стала идентифицироваться как чарвака-
локаята, а ее «схолархом» стал считаться мудрец Брихаспати (которому впоследствии
стали приписываться скорее всего никогда не существовавшие сутры).
В первую половину I тысячелетия н.э. индийские атеисты, судя по дидактическим
разделам «Махабхараты», заметно «продвинулись»: существование бестелесной души
(Атман) уже не просто отрицалось ими, но и опровергалось, притом исходя из гно-
сеологической аргументации – отдельных от чувственного восприятия источников
знания о вещах нет, а оно не позволяет обнаружить никакие бестелесные начала, но
если обратиться и к умозаключению, то никакого выводного знака ( линга) для выве-
дения Атмана найти нельзя. Он и избыточен, поскольку познавательные процессы
могут быть вполне обеспечены умом-манасом, кооординирующим функции органов
188
чувств. Из этого делался и практический «религиоведческий» вывод: жертвоприно-
шения бессмысленны потому, что «если и корова, и тот, кто ее принимает, и тот, кто
ее дает, одинаково погибают уже в этом мире, то как же они встрется там?!» 5
. Кран-
нему средневековью относится изложение целой системы взглядов индийских мате-
риалистов – в синопсисах учений основных школ джайнской «Шаддаршанаса-
муччаи» (ок. VII–VIII вв.) и адвайта-ведантистской «Саравадаршанасиддхантасангра-
хи» (ок. IX–X вв.) . В последнем тексте именно с локаяты начинается изложение ос-
новных положений даршаны, и в системном виде ее учение представлено как не-
сложная констелляция нескольких составляющих: в мире (и в человеке) присутству-
ют только земля, вода, огонь и ветер; то, что не воспринимаемо, есть и не-сущее; нет
никаких дальнейших причин вещей кроме их «собственной природы» ( свабхава); Ат-
ман – лишь особое тело, отличающееся наличием ментальных функций; сознание –
лишь продукт особого (необъяснимого) сочетания четырех стихий (перечисленных
выше) в теле; помимо этого мира нет другого, а тот мир, как и средства его достиже-
ния (такие как, прежде всего, аскеза и благочестивые занятия) изобретены глупцами
и жуликами (II.1–15)6. Совпадение этой дескрипции со множеством других свиде-
тельствует о том, что данные позиции вряд ли были вымышлены. Не исключено,
правда, что в период высокого средневековья о чарваках-локаятиках остались пре-
имущественно лишь «полемические воспоминания», добросовестно воспроизводив-
шиеся, но в интересующую нас эпоху их доктрина, несомненно, имела еще реальных
адептов. По крайней мере в Х в. атеисты в воспоминания еще, скорее всего, не
ушли, о чем свидетельствует «Кавьямиманса» Раджашекхары, который определяет
философию (ānvīkşikī – букв. «после-видение», в значении «исследование») как про-
тивостояние двух лагерей (настики и астики7), первый из которых составляют будди-
сты, джайны и локаятики, второй – санкхьяики, наяики и вайшешики (I.2).
Что касается ранней адвайта-веданты («веданта недвойственности» – что можно
условно назвать абсолютным идеалистическим монизмом), то ее идентификация пред-
ставляет наименьшие сложности. Речь идет о первой по хронологии и самой творче-
ской школе веданты, чей схоларх, великий философ Шанкарачарья (VII–VIII вв.
8
) со-
ставил первый полный комментарий к базовому тексту школы «Брахма-сутрам» –
«Брахмасутра-бхашью», ставя своей задачей раскрытие потенциала кратчайших поло-
жений сутракарина для строительства своей философской системы, первой из ведан-
тийских. Адвайта приписывает ему как своему высшему авторитету множество текстов
(как до того буддисты приписывали еще большее множество Нагарджуне) – помимо
названного, комментарии к наиболее авторитетным упанишадам (которые и считаются
наиболее авторитетными потому, что полагаются откомментированными им), к «Бхага-
вадгите», а также целый ряд трактатов, среди которых подлинными признаются немно-
гие. Он и в самом деле вряд ли мог их все написать, а если бы и мог, то вряд ли бы
стал. В школьной традиции Индии существовало распределение обязанностей, и схо-
ларх вполне мог поручить написание не самых основных комментариев, трактатов и
учебников своим последователям. В целом это «поколение Шанкары» (ученики и уче-
ники учеников) было ответственно за текстовую деятельность в целом в границах
VIII–X вв., которой был охвачен и вышеназванный компендиум, где изложение ло-
каяты образовывало «цокольный этаж» (см. выше). Формально же под ранней адвайтой
следует понимать ту стадию ее развития, которая предшествовала следующей – той,
в течение которой началась генерация подшкол уже в рамках самой адвайты. В эту
эпоху полемика с атеизмом еще отражала эмпирическое существование последнего,
в эпоху школ адвайты уже вряд ли.
В представляемых ниже переведенных фрагментах из «Брахмасутра-бхашьи» Шанкара
опровергает не все системные положения индийских атеистов, суммированные в «Сарва-
даршанасиддхантасанграхе», но основное: отрицание самого смысла религии, исходящее
из учения о том, что Атман на деле есть лишь наделенное определенными атрибутами
тело, а потому в человеке нет того начала, к которому могут «апеллировать» ведийские
предписания, касающиеся способов достижения посмертного блага и освобождения от
сансары. В «Прашнопанишад-бхашье» (составленной скорее кем-то из школы Шанкары)
189
эта полемика с дэхатмавадой («учение о том, что Атман – тело») уточняется и «схоласти-
цируется». Хотя атеисты вполне могли еще оказывать ведантистам «философское сопро-
тивление», их аргументация представлена обобщенно и таким образом, чтобы была
удобна контраргументация. Но полемика с «обобщенным оппонентом» была нормой для
индийского схоластического философствования, несущего вместе с западным схоласти-
цизмом эпохи великих «сумм» все признаки аналитического метода9. При этом в ком-
ментарии к первой сутре «Брахмасутр» доктрина атеистов позиционируется как низшее
(в сравнении с другими) из лжеучений об Атмане, а в комментарии к сутрам III.3. 53–54
предлагаются конкретные контраргументы веданты. Они заслуживают подробного вни-
мания, и на деле их несколько.
Аргумент (1) состоит в том, что уравнение «Атман = атрибут тела» противоречит тому
простому наблюдению, что общепризнанные телесные свойства, такие как, скажем,
форма, сопровождают и труп, тогда как свойства, атрибутируемые душе (дыхания, дви-
жения), расстаются с ним, указывая тем самым на свое нетелесное происхождение. Ар-
гумент (2) в том, что если свойства, всеми атрибутируемые телу, могут свободно наблю-
даться и другими субъектами восприятия (извне), то свойства ментальные, которые все
атрибутируют Атману, могут быть объектами только внутреннего восприятия самого
субъекта, иными словами, первые и вторые свойства принадлежат различным, притом
параллельным, «когнитивным мирам». Аргумент (3) – традиционный для всех индийских
религий, и его суть в том, что ментальные способности могут «транспортироваться»
в другое тело после смерти предыдущего, тогда как (это подразумевается) тело перейти в
другое тело не может. Согласно аргументу (4) Атман как субъект восприятия тел не мо-
жет сам быть телом, подобно тому как огонь не может себя жечь, акробат плясать
на собственном плече, а цвета сами себя видеть. Аргумент (5) в том, что свойства тела
и Атмана различны и по своей «консистенции», так как первые преходящи (говоря со-
временным языком, клетки тела постоянно обновляются), тогда как субъект их восприя-
тия неизменен, что можно установить путем простейшей ретроспекции, памяти, когда он
узнает себя настоящего в себе прошлом («Это я тот, кто видел это»). Согласно аргументу
(6) тот довод, которым больше всего гордятся индийские атеисты, имеет лишь видимость
убедительности: из того, что психо-ментальные способности функционируют только при
наличии данного тела (Шанкара специально отвлекается от учения о перевоплощениях и
предполагаемого этим учением промежуточного состояния между одним воплощением
и следующим10), еще не следует, что они являются и свойствами тела, подобно тому, как
из того, что глаз видит только при наличии внешнего света, еще не следует, что он явля-
ется свойством этого света. Наконец, аргумент (7) направлен против представления
о необходимости самого тела для осуществления ментальных функций, поскольку и в
состоянии сна (то есть когда тело бездействует) имеют место восприятия. В приведенном
ниже фрагменте из «Прашнопанишад-бхашьи» мы видим развитие аргумента (5), когда
констатируется, что Атман в противоположность телу не может изменяться. Но вот аргу-
мент (6) модифицируется. Очень говорящая аналогия с глазом и светильником подразу-
мевается, но заметно «утончается» в аргумент (7): «объективное» существование вещей
при отсутствии их познания невозможно по определению, так как эти вещи относятся
к «познаваемому», которое по определению требует наличия «познающего». Утверждает-
ся и непреходящесть познания, которое должно присутствовать и в глубоком сне (тут
можно было бы исходя из логики аналогий сказать, что отсутствие освещаемых предме-
тов еще не является доводом для отрицания самого света)11.
Любые аргументы, а значит, и философские, можно оценивать исходя из трех
критериев – степени их неопровержимости, убедительности и креативности. Эти
критерии не всегда совпадают: довод может быть убедительным, но не неопровержи-
мым, может обладать обоими этими достоинствами, но не быть эвристичным,
а может обладать и третьим достоинством, но не обладать первым или вторым. Неко-
торые шанкаровские позиции представляются наивными, например, аргумент, что
даже труп, исходя из логики материалистов, должен обладать перцептивными спо-
собностями (поскольку части тела у него сохраняются). Но таких положительное
меньшинство. Аргумент (6) следует считать неопровержимым: из допущения того,
190
что Х существует при условии Y, еще никак нельзя вывести того, что Y является и
причиной Х, и пример, приводимый Шанкарой, является классическим случаем без-
ошибочного reductio ad absurdum, так как из того, что светильник нужен для зрения,
еще никак не следует, будто он является и причиной зрения или что зрение состоит
из того же «материала», что и светильник. Аргумент (4) таковым не является, по-
скольку нет логической невозможности для того, чтобы перцептивная функция была
той же природы, что и воспринимаемые объекты, но аналогии (снова из се мейства
reductio ad absurdum) с огнем, который должен себя жечь, с акробатом, который дол-
жен танцевать на своем плече, с цветами, которые должны были бы воспринимать
цвета, очень ярки и убедительны, они весьма наглядно демонстрируют онтологиче-
ский контраст между субъектом и объектами познания. То же самое относится и к
аргументу (2), демонстрирующему радикальное различие «допусков» сознания к фи-
зическим и психологическим процессам и, ex hypothesi, предполагаемое различие
соответствующих субстанций. Но также и к аргументу (5), в котором ставится акцент
на континуальности самосознания субъекта в противоположность флюктуальности
объектов. А вот аргумент (7) является скорее эвристическим: здесь ставится акцент
на то, что «познаваемого» без «познающего» по определению не бывает и потому
второе зависит от первого семантически, но Шанкара (или его последователь) делают
из этого заключение и о его онтологической первичности.
В итоге можно констатировать, что приведенные аргументы имеют силу кумуля-
тивной убедительности, разрушая коренное обоснование индийского физикализма
(доктрину производности ментальных функций от физических исходя из их связан-
ности) и надстраивая над образовавшейся пустотой различные модусы несводимости
субъектного мира к объектному. А если взять эту полемику в общефилософском кон-
тексте, то нельзя не признать, что гений Шанкары очень удачно восполняет тради-
ционный европейский психофизический дуализм Нового времени Вольфа, Реймаруса
и Мендельсона (основной аргумент которого заключался в противопоста влении про-
стоты духовного начала структурности телесных), ставя акцент на нередуцируемости
субъектного мира к объектному. Нет сомнения в том, что многие позиции адвайтист-
ской аргументации могут работать в полемическом противостоянии современному
самодовольному физикализму, чувствующему себя все лучше по мере успехов «реиз-
ма» и идеологии бездуховности, и «свет с Востока» и здесь может сказать свое убеди-
тельное слово в эпоху широкого обращения к мультикультурализму. Поэтому шанка-
ровское опровержение основ физикализма может внести хороший вклад в дело обос-
нования «онтологии религии» перед лицом «старого атеизма», «нового атеизма»,
«дружественного атеизма» и прочих разновидностей антирелигиозной философии12.
Перевод сделан по изданиям: [Śaňkara 1934, 64–71, 1150–1157; Śaňkara 1935, 88–91].
Примечания
1 Этот «постулат» со всей искренностью выразил «схоларх» современного религиозного плю-
рализма Джон Хик, который, с одной стороны, утверждал, что все мировые религии в целом
«приблизительно в одинаковой степени» преломляют свет Реального -в -себе (которое, скорее
всего, само выдало ему измерительный прибор для оценки этой адекватности), с другой – что
среди этих равных некоторые «гораздо равнее» других. А именно, буддисты, джайны, индуисты
и сикхи, воспитанные изначально на идеологии открытости и толерантности, могли бы оказать
посильную помощь отстающим «собратьям по причастности к Реальному», коими являются
последователи авраамических религий (прежде всего христиане) для дальнейшего приближения
к нему. См.: [Hick 1989, 373, 375, 377 –378]. Этой же линии следует один из его многочисленных
последователей Гарольд Каурд (профессиональный, кстати говоря, индолог и священник Объ-
единенной Церкви Канады), который считает, что христианство только в самое последнее вре-
мя в лице Пауля Тиллиха, Карла Ранера, Кантвелла Смита, Раймонда Панникара и некоторых
других приближается к тому уровню «открытости», который уже в древности был взят восточ-
ными религиями, а среди таковых религий в указанном отношении совершенно в ыделяется
буддизм [Coward 1985, 86–87]. При этом Каурд в наибольшей мере опирается на древнейший
памятник Палийского канона «Брахмаджала-сутту», в которой Будда как раз развенчивает все
без исключения метафизические позиции «шраманов и брахманов» не просто как ложные, но и
как бессмысленные, констатируя свое полное превосходство и над теми, кто их придерживает-
191
ся. «Доктринальная толерантность» индуистов бывала иногда еще более решительной. Так,
например, великий энциклопедист индийской философии Вачаспати Ми шра (IX или Х в.),
уточняя в «Таттвакаумуди» (теоретический комментарий к «Санкхья -карике»), что такое истин-
ная, то есть ведийская, традиция, решительно противопоставлял ее ложным традициям джай-
нов, буддистов и тех же атеистов, которые не основываются ни на чем достоверном и «призна-
ются только у варваров (млеччхи) и подобных им, отбросов общества и у скотоподобных лю-
дей » (5). Сказанное не значит, что в Индии не было и «суперэкуменических высказываний»
(например, в первом стихе «Ньяякусумакнджали» Удаяны (Х в.) утверждается, что все, в том
числе и «нечестивые», как-то признают Божество, пусть даже и на очень свой лад), но значит
только то, что миф о толерантности как специфической черте индийского менталитета исходит
только от эксплуататоров человеческого невежества.
2 Например, если взять наиболее известные прецеденты, имеется предание о том, что столп
школы миманса Кумарила Бхатта со временем сжег своего буддийского учителя, и уже не пре-
дание, а эпиграфические свидетель ства о том, что джайны (которым никак нельзя обижать бак-
терий) на Юге Индии в VIII в. вели совершенно настоящую войну с индуистами.
3 Таково по крайней мере было мнение одного из самых крупных индологов ХХ в. Говоря
«как минимум», мы учитываем вместе с ним и то, что никто не отменял предписа ний основных
законодательных текстов. Согласно едва ли не самому авторитетному, из них, «Законам Ману»,
царь должен был изгонять «отрицателей» из города (IX. 225), а люди порядочные – изгонять их
из своей среды (II.12). См.: [Hacker 1957, 172].
4 Согласно палийской «Саманнапхала-сутте», выразитель их взглядов Аджита Кесакамбала,
утверждавший, что «нет ни вызревания плодов добрых и злых дел, ни этого мира, ни того, ни мате-
ри, ни отца, ни нерожденных существ другого мира, ни тех шраманов и брахманов, которые, будучи
на правильном пути и с правильными целями, сами объяснили бы [существование] этого мира и
другого, постигнув [его своим] умо-зрением. Этот человек состоит из четырех великих элементов.
Когда приходит время, [его] земля возвращается в “тело земли”, вода — в “тело воды”, огонь —
в “тело огня”, ветер — в “тело ветра”, а чувства – в пространство”, назван в числе тех учителей, к
которым прилагается устойчивая характеристика: “руководитель общины, имеющий множество уче-
ников и последователей, известный, прославленный, лидер течения, уважаемый народом...» [Rhys
Davids, Carpenter (Eds.) 1890, 55, 48]. Комментатор Палийского канона Буддагхоса (V в. н.э.), кото-
рый по толерантности должен (судя по раскладкам Каурда – см. прим. 1) и до сих пор оставаться
учителем всех монотеистов, отмечал, что это учение Аджиты, ходившего якобы с «хитоном» из чело-
веческих волос, столь же зловонно, как и его одежда. Последователем Аджиты считался некий вель-
можа Паяси, который предложил, согласно буддистам, и экспериментальное подтверждение доктри-
ны «что душа – то тело», освежевав, в частности, как кролика одного из подлежавших казни и не
обнаружив после этой «операции» отдельной от тела души. Подробнее о первых индийских атеистах
см.: [Шохин 1997, 58–64].
5 Эти позиции представлены в Мбх XII. 211 . 4 –5, 22–28; 179. 1 –14; 180.3 –4, 11–17
[Sukthankar, Belvalkar (Eds.) 1954, 1017–1023, 1164–1171].
6 Cм. перевод этих стихов (наряду с прочими, составляющими указанный текст) в работе:
[Шохин 2004, 347–348].
7 Nāstika и astika – буквально «те, кто говорят, что не существует» (прежде всего верховный
авторитет Вед и Атман) и «те, кто говорят, что существует» (то же самое).
8 Традиционная датировка, которой придерживались классики индологии, помещавшая его
в интервале 788–820 гг., основывалась на переводе в современную хронологию событий, опи-
санных в одном из южноиндийских монастырей, в котором прослеживалась история адвайты от
ее основания. В настоящее время она все чаще сдвигается назад. Сейчас популярна датировка
деятельности Шанкары первой половиной VIII в. (см., к примеру, авторитетное мнение в рабо-
те: [Mayeda 2006, 3–5]). Предлагаемая нами датировка опирается на предположения, связанные
с контактами Шанкары с представителями других школ, прежде всего с мимансаками, и являет-
ся ориентировочной.
9 Об этом мне доводилось писать неоднократно. См., к примеру: [Шохин, 2012].
10 В школах традиционного буддизма оно так и называлось «промежуточным» – antarābhāva,
и эти школы вели дискуссии относительно длительности данного состояния.
11 Дискуссия с обобщенным атеистом-локаятиком была представлена и в другом тексте, ко-
торый обычно с очень большой уверенностью приписывается Шанкаре, – в комментарии к
«Брихадараньяка-упанишаде» (IV.3 .6). Оппонент здесь покушается на шанкаровский аргумент
(4), исполь зуя пример с глазом как раз для того, чтобы показать, что одно телесное начало мо-
жет прекрасно видеть другое телесное начало (и для объяснения этого не надо вводить бесте-
лесные начала). В ответ ведантист апеллирует к доводу от континуальности сознания, радикаль-
но отличной от преходящести всего телесного, а потому и необъяснимой через него (аргумент
5): если бы не «постоянство Я», то мы и во сне могли бы видеть все что угодно, но видим лишь
то, что видели в прошлом наяву, к тому же по логике атеиста и труп д олжен был бы всë
воспринимать, так как у него наличествуют и тело и органы. См.: [Potter 1981, 198]. Следует
192
отметить, однако, что эта аргументация представляется менее убедительной, чем та, которая
была представлена в «Брахмасутра-бхашье». Это не может быть, конечно, сильным аргументом
против идентичности данного текста: гениальность автора не обязательно должна распростра-
няться одинаково по всем его произведениям.
12 Из этого, конечно, не следует, что совершенно всё в шанкаровской аргументации должн о
быть одинаково приемлемо для современного сознания. Например, аргументация от реинкар-
наций к этому не относится. Но следует отдать должно Шанкаре и здесь: он отнюдь не позици-
онирует этот аргумент как главный и даже ведет дискуссию с оппонентом таким образом, как
если бы он признавал и одно посмертное существование.
Источники и переводы – Primary Sources and Translations
Упанишады 1967 – Упанишады. Пер. с санскрита, предисловие и комментарий А.Я . Сырки-
на. М .: Наука, 1967 (Upanishads, Russian Translation).
Limaye, Vishnu Prabhakar, Vadekar, Ranganath Dattatreya, Eds. (1958) Eighteen Principal Upani-
shads, Vol. I, Upanishadic Text with Parallels from extant Vedic Literature, Exegetical and Grammatical
Notes, Vaidika Samshodhana Mandala, Poona.
Rhys Davids Thomas William, Carpenter, Joseph Edwards, Eds. (1890) The DīghaNikāya, Vol. I,
Pali Text Society, London.
Śaňkara (1934) Brahmasûtraṡaňkarabhāşam ratnaprabhā-bhāmatīnyāyanirňaya-ţīkātrayasametam,
Ed. by M.S. Bakre and R.S. Dhupakar, Bombay.
Śaňkara (1935) Prasna Upanishad Sankara Bhashya with Hindi Translation, Gita Press, Gorakhpur.
Sukthankar, Vishnu S., Shripad Krishna Belvalkar, Eds. (1954) The Mahābhārata , for the First Time
Critically Edited by V.S . Sukthankar, S.K . Belvalkar, Vol. 15 [Mokşadharma, A], Bhandarkar Oriental
Research Institute, Poona.
Thibaut, George, Trans. (1890) The Vedānta-Sûtras with the commentary of Śaňkarācārya, Part 1,
Clarendon Press, Oxford.
Ссылки – References in Russian
Шохин 1997 – Шохин В.К . Первые философы Индии . М.: Ладомир, 1997.
Шохин 2004 – Шохин В.К. Школы индийской философии: Период формирования (IVв. до н.э. –
II в. н.э.). М.: Восточная литература, 2004.
Шохин 2013 – Шохин В.К . Так что же все-таки такое аналитическая философия? В защиту и
укрепление «ревизионизм а» // Вопросы философии, 2013, No 11, с.137 -148 .
References
Apte, Vaman Shivram (1970) The Student’s Sanskrit-English Dictionary (2nd Ed.), Motilal Banar-
sidass, Delhi.
Coward, Howard (1985) Pluralism: Challenge to World Religion, Sri Satguru Publications, Delhi.
Hick, John (1989) An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent , Yale Univer-
sity Press, New Haven.
Mayeda, Sengaku (2006) A Thousand Teachings: Upadeṡasāhasrī of Śaňkara, Motilal Banarsidass, Delhi.
Potter, Karl (1970) Encyclopedia of Indian Philosophies. Bibliography (3rd Ed.), Comp. by K. Potter,
Section I, Motilal Banarsidass, Delhi.
Potter, Karl (1981) Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. III, Advaita Vedānta up to Śaňkara and
his Pupils, Ed. by Karl H. Potter, Motilal Banarsidass, Delhi.
Shokhin, Vladimir K. (2004) First Philosophers of India, Ladomir, Moscow (in Russian).
Shokhin, Vladimir K. (2004) Schools of Indian Philosophy: The Formative Period, Vostochnaya Liter-
atura, Moscow (in Russian).
Shokhin, Vladimir K. (2013) ‘What Anyhow Analytic Philosophy Is? In Defence and Reinforce-
ment of “Revisionism”’, Voprosy filosofii, Vol. 11 (2013), pp. 137 –148 (in Russian).
Winternitz, Maurice (1985) History of Indian Literature. Vol. III, Transl. from German into English
by S. Jha, Motilal Banarsidass, Delhi.
Насker, Paul (1953) “Toleranz und Intoleranz im Hinduismus”, Saeculum, Bd. VIII, Hf. 2/3,
S. 167–179.
Сведения об авторе
ШОХИН Владимир Кириллович –
доктор философских наук, профессор,
руководитель сектора философии религии
Института философии РАН.
Author’s information
SHOKHIN Vladimir K. –
DSc in Philosophy, Professor, Chair of the
Department of Philosophy of Religion, Insti-
tute of Philosophy RAS.
193
Шанкара
Брахма-сутра-бхашья
I.1.1
... Изыскание – желание познать1. И знание имеет [в данном случае] целью по-
стижение, что выражается в суффиксе san [в слове jijñāsā], поскольку объектом жела-
ния является плод действия. Знание [мыслится как] средство познания, благодаря
которому [осуществляется] постижение Брахмана2
.
А постижение Брахмана – [выс-
шая] цель человека. Вследствие того что через него осуществляется полное разруше-
ние зла в виде Незнания – корня сансары. Потому должно быть изыскание на пред-
мет Брахмана.
Возражение. Но Брахман [уже] установлен или [еще] не установлен? Если уста-
новлен, то нет смысла [уже] в изыскании на предмет его познания. А если еще не
установлен, то не может быть и [самого этого] изыскания.
Ответ. Но есть Брахман, по природе своей вечный, чистый, разумный, освобож-
денный, всеведущий и наделенный всеми силами. Ведь по самому происхождению
слово brahman предполагает эти свойства начиная с чистоты, поскольку его значение
выводится из корня bṛh 3
.
А из того, что он является Атманом каждого, устанавлива-
ется его существование. Каждый воспринимает существование Атмана, не мысля
«Меня не существует». А если бы было верным, что Атмана нет, то каждый человек
мог бы думать, что его нет, [а это абсурдно]. Но Атман – Брахман.
Возражение. Но если тогда в мире существование Брахмана через [его] природу
Атмана установлено, следовательно, познано, то тогда [опять-таки] какой смысл
в изыскании?
Ответ. Неверно, вследствие разномнений о его природе. Простые люди и локая-
тики считают Атмана лишь телом, отличающимся обладанием сознания. Другие –
способностями восприятия, наделенными сознанием. Третьи – умом 4 . Четвертые
диспутанты – способностями восприятия и умом [вместе]. Пятые – только мгновен -
ным сознанием. Шестые – пустотностью. Седьмые – деятелем и вкусителем [плодов
действий], подверженным сансаре и отличным от тела и прочего. Восьмые – только
вкусителем, не деятелем. Девятые признают и отличного от него Божество, всеведу-
щее и всесильное. Последние считают его Атманом вкусителя [действий] 5
.
Таким
образом, есть много взаимно противоположных позиций, опирающихся на аргументы
и тексты, а также на видимость их. Потому, если [кто-нибудь] примет какую-то из
них без рассуждения, он отпадет от высшего блага и соберет [себе] зло. Исходя из
этого и вводится [с самого начала]6, через обозначение изыскания на предмет Брах-
мана, исследование речений веданты7
, поддерживаемое не противоречащими им ра-
циональными рассуждениями8 и имеющее своим назначением достижение высшего
блага. Таков раздел об изыскании.
III. 3. 53
Некоторые [отрицают] Атмана из [его] сосуществования с телом
Здесь устанавливается реальное существование Атмана как отличного от тела ради
утверждения [субъекта] закабаления и освобождения. Ведь если бы Атмана, отличного от
тела, не было, ведийское предписание о достижении плодов другого мира было бы без-
основательным и для кого было бы наставление о том, что Атман есть Брахман?
Возражение. Но ведь уже в начале шастры 9 , в первом [же] разделе 10 говорится
о существовании Атмана, способного к вкушению плодов, приписываемых Ведами,
и отличного от тела.
Ответ. Истинно, [это] указано комментатором. Но там нет [отдельной] сутры о су-
ществовании Атмана. Здесь же сам сутракарин утверждает его существование после [рас-
смотрения] возражений. И отсюда черпает учитель Шабарасвамин 11 , излагая учение
о характеристиках источников знания. В связи с этим же господин Упаварша12 в первом
тексте, когда надо было говорить о существовании Атмана, [обозначил данное учение],
сказав: «Об этом будем говорить в уттара-мимансе» 13
.
Теперь существование Атмана
194
рассматривается при осмыслении созерцаний, опирающихся на ведийские предписа-
ния и при демонстрации того, что вся шастра как есть укоренена в нем. Помимо это-
го в предыдущем разделе было показано, что пассажи текста могут быть извлечены
из контекста, когда было установлено, что алтари, [возведенные] из ума 14
, служат
целям человека, [а не жертвоприношения].
Но кто этот человек, ради которого существуют эти алтари, [возведенные] из ума
и прочее? Ради заключения [по этому вопросу и] констатируется существование Ат-
мана как отличного от тела. И данная сутра посвящена возражению против его суще-
ствования. Ведь опровержение предшествующих возражений по поводу дискутируе-
мого предмета порождает твердое мнение [по изучаемому вопросу], как в случае
с забиванием кола в землю15
.
Так вот, некоторые, локаятики, учат о том, что Атман есть лишь тело и считают,
что Атмана, отличного от тела, не существует и что хотя сознание и не наблюдается во
внешних [материальных элементах] начиная с земли, взятых по отдельности или вместе,
но когда они изменяются так, что принимают форму тела, из их соединения сознание
появляется подобно как сила опьянения [из соответствующих ингредиентов], а пуруша
есть лишь тело, наделенное сознанием. Так они говорят. А также что не существует Ат-
ман, отличный от тела, который был бы способен к достижению неба или освобождения
и [что нет ничего отдельного], из чего состоит сознание, вследствие чего можно было бы
утверждать, что сознание в теле, но тело и есть сознание, Атман. Таков [их] тезис. При-
водят и аргумент – поскольку оно [присутствует только] в теле16. Ведь если [что-то] су-
ществует при наличии другого, а при [его] отсутствии не существует, то [первое] следует
определить как атрибут второго, подобно тому как тепло и свет суть атрибуты огня. Ды-
хание, движения, сознание, память и т.д., которые придерживающиеся учения об Атмане
считают атрибутами Атмана, воспринимаются только в теле и не без тела, а поскольку
установить субстанцию, отличную от тела, нельзя, то их следует считать атрибутами тела.
Потому Атман не отличен от тела.
III. 3. 54
Отличие из отсутствия одного при наличии другого, но не так, как в случае с восприятием
А именно, дело обстоит не так, как вы говорите, – что Атман не отличен от тела.
Должно быть отличие его от тела – из отсутствия одного при наличии другого. Ведь
если вы считаете, что атрибуты Атмана суть атрибуты тела [только] потому, что они
наблюдаемы при наличии последнего, то почему не считаете, что они таковыми не
являются из-за их отсутствия при наличии тела, при их отличии от атрибутов тела?
Ведь такие атрибуты тела, как форма и прочие, длятся вместе с телом, а дыхания,
движения и т.д. не существует, если тело мертво. Далее, атрибуты тела, такие как
цвет, воспринимаются и другими [наблюдателями], но не атрибуты Атмана, такие,
как сознание и память. Также наличие последних может быть установлено, когда
тело в состоянии жизни, но не отсутствие их при несуществовании его. И когда это
тело погибает, атрибуты Атмана могут продолжать свое существование при переходе
в другое, и противоположная точка зрения устраняется, даже если это только пред-
положение17. Но оппоненту можно задать и такой вопрос: каков [собственно] состав
этого сознания, который локаятики хотят произвести из материальных элементов,
если ничего кроме их четверки они не признают?
Возражение. А если сознание есть восприятие элементов и того, что от элементов?
Ответ. Тогда если они будут его объектами, оно не может быть их атрибутом, по-
скольку [допущение] действия, направленного на себя [самое], противоречиво. Ведь
огонь, будучи жаром, сам себя не сожигает. Как и акробат, даже искуснейший,
не взбирается по своему плечу. Так и сознание, если оно атрибут элементов и того,
что от элементов, не может иметь их своими объектами. Ведь цвета не могут воспри-
нимать ни свои цвета, ни другие. Но материальные элементы и то, что от них –
внешние или внутренние18 – становятся объектами сознания. А потому когда при-
знается существование восприятия этих объектов в виде материальных элементов
и того, что от них, то тем самым признается и отличие этого [восприятия] от них.
195
И если говорится, что наш Атман имеет природу восприятия, [а так мы и говорим],
то тем самым утверждается его отличность от тела. А также вечность – ввиду одно-
родности восприятия. Ведь когда [я говорю:] «Я это видел», то даже при моей связи с
другими состояниями я узнаю себя в качестве субъекта восприятия19
.
Это следует из
наличия памяти и прочего. Что же касается сказанного, будто восприятие есть атри-
бут тела ввиду того, что осуществляется в теле, то это опровергается указанным [вы-
ше] образом. А если это так, то из того, что восприятие имеет место при наличии
тела и не имеет места при отсутствии его, не следует, что оно есть его атрибут. Тело
ведь является вспомогательным фактором, подобно тому как таковым только являет-
ся и светильник [при зрении]. Не является оно и абсолютно [необходимым] вспомо-
гательным фактором 20
, поскольку и когда во сне тело неподвижно, наблюдаются
многообразные восприятия21
.
Потому то [положение], что Атман отличен тот тела,
неуязвимо [для критики]. Ведь из того, что зрение работает при наличии таких вспо-
могательных средств, как светильники, а без них его нет, еще не следует, что оно
должно быть атрибутом светильников.
Прашнопанишад-бхашья
VI.2
Тому он сказал: «Во внутреннем пространстве, дорогой, пребывает тот пуруша,
на которого нанизаны 16 частиц» 22.
...
Локаятики говорят, что сознание есть атрибут тела. Но сознание, лишенное
свойств уменьшаться и расти, есть именно Атман, являющийся под видом таких
свойств, как цвет и т.д.
23
, о чем и говорится в ведийских текстах: «Поистине Брахман
есть бесконечное знание»
24
, «Брахман есть сознание»
25
, «Брахман есть распознавание
и блаженство»26, «чистое соз нание»27
.
Если вещи меняются в своем существе, то со-
знание [никак] не меняется, а потому когда какая вещь познается, тогда вследствие
как раз того, что [она] познается, [само] осознание ее не изменяется28.
Возражение. Но вещь может существовать по [своему] существу и не будучи по-
знаваемой.
Ответ. Это не годится, так как [это все равно, что сказать,] что цвет видится при
отсутствии органа зрения. Познаваемого может не быть, тогда как [само] знание не
быть когда-либо не может, ибо если оно не существует по отношению к одной вещи,
то существует по отношению к другой. Ведь без знания не может быть и познаваемо-
го, как как в глубоком сне нет восприятия.
Возражение. Но поскольку в глубоком сне познания нет, то сущность знания,
как и познаваемого, может исчезать.
Ответ. Неверно, поскольку природа знания в том, чтобы обнаруживать познава-
емое подобно свету, то отсутствие знания в глубоком сне не может быть выведено,
подобно тому как и отсутствие света из отсутствия того, что освещается. Ведь и ан-
нигилист29 не сможет вывести отсутствие органа зрения из того, что в темноте цвета
не воспринимаются.
Возражение. Но аннигилист может объяснить отсутствие познания отсутствием
познаваемого.
Ответ. Аннигилист должен тогда сказать, каким средством объяснить само отсут-
ствие познания, а при познаваемости его отсутствия утверждать отсутствие познания
невозможно30.
Возражение. Но [тогда], если познание от познаваемого не отлично, то при отсут-
ствии познаваемого не будет и познания.
Ответ. Неверно, поскольку небытие также допускается в качестве познаваемого.
Аннигиляционист считает небытие и познаваемым и перманентным. А если знание
почитается неотличным от него, оно должно считаться вечным. Но если небытие
познания имеет природу знания, то небытие знания становится лишь словесным вы-
ражением, а в реальности31 познание не есть ни небытие, ни невечное. И мы ничего
не теряем от именования вечного познания небытием
196
Примечания
1 Данный фрагмент завершает истолкование Шанкарой самой первой сутры «Брахма-сутр» –
Athäto brhmajijñāsā. Cлово jijñāsā является термином , принятым в научной санскритской литера-
туре и означающим не просто желание познания (каков он по этимологии), но исследование.
В комментарии же данный термин толкуется в соответствии с его естественной этимологией.
2 Здесь четко различаются jñāna – дискурсивное познание учения веданты – и avagati –
непосредственнное постижение Брахмана. Второе мыслится невозможным без первого, но и
первое не мыслится самодостаточным, поскольку именно второе как непосредственное видение
адептом своего единства с Брахманом считается целью дискурсивного познания.
3 Cлово brahman действительно производно от √ bṛh, но он означает «разрывать», «расти»,
«шириться», «распространять себя», а не те свойства Брахмана, начиная с «чистоты», которые
утверждает философ. Произвольное обращение с этимологиями было очень популярно в тради-
ционных культурах – как восточных, так и западных, – поскольку этимологизации делегирова-
лось не лингвистическое, а смыслообразующее назначение (выражение самой сущности вещей),
которое соответствовало собственным интенциям истолкователей.
4 Речь идет о ментальной способности, именуемой manas. Предлагаемый перевод данного
термина условен, как и многих других важнейших терминов, маркирующих ментальные функ-
ции в индийской философии сознания. Различие между manas и buddhi можно мыслить при-
мерно как между рассудком и разумом, но с очень большими оговорками, в зависимости
от контекста и от того, какая философская школа этими терминами пользуется.
5 Эти идентификации Брахмана в соответствии с основными доктринами различных философ-
ских школ отчасти отражали их реальные позиции, а отчасти были схематизированы – в данном
случае для того, чтобы подчеркнуть, как велики были расхождения этих школ по важнейшему во-
просу и, соответственно, продемонстрировать высшую степень востребованности ведантийского
учения о природе Атмана (которому их оппоненты-мимансаки придавали гораздо меньшее значе-
ние). Вполне в духе адвайты эти доктрины выстраиваются в иерархическом порядке – от низших
(с точки зрения ведантистов) к высшим. Традиционные комментаторы, как и полагается в подобных
случаях, разъясняют только самое легкое. Так, Анандагири, очень авторитетный, но поздний (XIII в.)
толкователь Шанкары, помимо первой позиции, которая у самого Шанкары идентифицируется как
материалистическая, идентифицирует только позиции (5) и (6) как, соответственно, основные док-
трины буддийских школ махаяны йогачары и мадxьямики [Śaňkara 1934, 69]. Дж. Тибо в коммента-
риях к своему переводу «Брахмасутра-бхашьи» утверждал, что позиции (1–3) должны были принад-
лежать различным материалистическим направлениям, позиции (8–10) – ньяе, санкхье и йоге соот-
ветственно, а (4–5) – буддистам [Thibaut (Trans.) 1890, 15]. На наш взгляд, наиболее идентифициру-
мыми следует считать позиции (1) – материалистическая, (5) и (6) – махаянские (см. выше), (7) –
позиция наяиков, вайшешиков, мимансаков, но также и джайнов; (8) – санкхьи, (9) – йоги, но так-
же и шиваитов, (10) – самой веданты (которая закономерно и венчает всю иерархию доктрин). По-
зиции (2–4) наиболее трудны для идентификации, но, возможно, здесь содержится намек на буд-
дийские доктрины, во всяком случае позиция (4) соответствует «замещению» у буддистов Атмана
когнитивными способностями, которые в брахманистских школах с ним не отождествлялись.
6 Смысл в том, что речь идет о самой первой сутре веданты.
7 Подразумеваются Упанишады, которые так и обозначались как «завершения Вед» (veda-anta).
8 В оригинале стоит очень популярный, но труднопереводимый философский термин tarka,
соответствующий в самом общем виде «дискурсу», то есть обретению истины через умозаклю-
чения и их сопоставления друг с другом.
9 Термин šāstra в большинстве случаев обозначал любые «науки» как системы организованного
знания, а также тексты (как здесь подразумеваются «Брахма-сутры»), в которых это знание система-
тизировано (несколько реже, но также достаточно часто он обозначал тексты Ведийского корпуса).
10 Подразумеваются «Миманса-сутры».
11 Шабарасвамин составил первый канонический комментарий к «Миманса -сутрам» – «Ми-
мансасутра-бхашья», и К. Поттер определял дату его текста в рамках IV–V вв. [Potter 1970, 184],
исходя, вероятнее всего, из его полемики с буддийскими школами, которые структурировались
столетием-другим раньше.
12 Упаварша был предшественником Шабары; он также комментировал «Миманса-сутры»
(неизвестно, правда с какой степенью полноты), и вполне вероятно, что Шабара именно его под-
разумевает под «составителем токования» (еще не получившего, скорее всего, статус нормативного
комментария). Как замечал очень авторитетный чешский индолог М. Винтерниц, Шабарасвам ин
титуловал Упаваршу bhagavat («господин»), то есть с очень большим почтением, и это, как кажет-
ся, давало ему основание приписывать последнему значительную древность [Winternitz 1985, 513].
Я бы не согласился в том, что имя этого авторитета недостоверно, поскольку традиции не было
основания это имя придумывать, но относительно возраста его произведения можно строить
разные догадки, хотя, вероятно, если датировать его по крайней мере столетием раньше, чем ком-
ментарий Шабары, то мы вряд ли рискуем ошибиться очень значительно.
13 Пурва-миманса и уттара-миманса мыслились как «начальное исследование» и «последую-
щее исследование» – соответственно, «ритуаловедческих» и «гностических» разделов Вед, по-
нимаемых как единый корпус текстов исходя из того, что вначале следовало изучать обрядовые
197
предписания, а затем переходить к учению об Атмане -Брахмане как абсолютном мировом пер-
воначале; при этом само их изучение мыслилось прежде всего как преподавание экзегезы соот-
ветствующих текстов. Со временем, вероятно, в первые века новой эры, эти стадии обучения
обособились в отдельные школы собственно мимансы и веданты – процесс, завершившийся
оформлением «Миманса-сутр» и «Брахма-сутр». Обе традиции сохранили, однако, память об
общих учителях, одни из которых больше специализировались в экзегезе текстов, излагающих
обрядовые предписания и правовые принципы, другие – в истолковании текстов «теософских».
Однако уже в эпоху Шанкары и ранее произошло их взаимное дистанцирование, выражавшееся
и в прямой полемике: мимансаки были убеждены в том, что ведантисты занимаются избыточ-
ными изысканиями, ведантисты – в том, что понимание мимансаками основного содержания
Вед лишь как суммы предписаний является ограниченным и напоминающим замещение целей
средствами. О первоначальной истории этих двух «экзегетических специализаций», об общих
учителях и о философских наработках обеих традиций до оформления их сутр см., в частности:
[Шохин 2004, 218–230].
14 Речь идет скорее всего о символическом ритуале, внешние реалии которого указывают на
процесс медитации.
15 Речь идет об одной из популярных максим (они обозначались как nyāya), коих знамени-
тый знаток санскритской литературы В.Ш. Апте насчитывал 26; эта обозначала прежде практи-
ку «забивания» полемистом посредством неоднократной аргументации своего тезиса так, чтобы
никакой оппонент не мог привести уже никаких возражений. См.: [Apte 1970, 306]. Данная
практика является, в свою очередь, одним из очень многих признаков того, что аналитический
метод философии является не только гораздо более древним, чем это обычно считается, но и
интеркультурным.
16 В данном случае составитель сутр демонстрирует умозаключение атеистов в виде энтиме-
мы – укороченного силлогизма, поскольку полный традиционный индийский силлогизм имел
пять членов, а не только первые два.
17 Мысль Шанкары, вероятно, в том, что даже если считать, что учение о перевоплощении не
более, чем допущение (а все, кроме материалистов, индийские школы это учение принимают), то и
этого допущения (а опровергнуть его невозможно) вполне достаточно, чтобы материалистический
аргумент от совпадения ментальных функций с существованием тела был отстранен.
18 Подразумеваются те, которые содержатся в самом теле человека.
19 Подразумевается, что телесные компоненты человека постоянно обновляются, чего никак
нельзя сказать о самосознании, ибо каждый узнает свое «Я» параллельно текучести объектов и
собственных преходящих состояний.
20 В тексте буквально: «Вспомогательность тела не видится бесконечно [необходимой] для
восприятия».
21 Логика та, что обездвиженное тело – все равно что отсутствующее.
22 Мифическая предыстория этого утверждения, согласно тексту совсем небольшой «Праш-
на-упанишады» (одна из средних упанишад – моложе «Брихадараньяки» и «Чхандогьи», но до-
статочно почтенная, о чем свидетельствует почитаемый шанкаровским комментарий к ней)
тако ва. Шесть мудрецов-риши приблизились с топливом (как ученики) к учителю Пиппаладе
(нормативный сюжет для упанишад – как мистерий посвящения в эзотерическое знание); по
имени Пиппалады обозначается одна из школ Атхарваведы, к которой принадлежит и эта упа-
нишада. Мудрецам задает вопрос знатный брахман Сукешан Бхарадваджа – как раз об этих 16
частицах (kalā). В предыдущем пассаже сам пуруша называется состоящим из этих 16 частиц.
См.: [Limaye, Vadekar (Eds) 1958, 36–37]. Слово k alā многозначное и означает очень многое –
от символической репрезентации самого числа 16 и деления времени до знака зодиака. Здесь
подразумеваются прежде всего компоненты тела.
23 В оригинале употреблен глагол prati+ava+ √bhās, означающий и манифестацию чего -то и
видимость чего-то . Речь идет о явлении как понятийной оппозиции сущности вещи.
24 В тексте: satyaň jňānamanantam brаhma. Цитируется «Тайттирия-упанишада» (II. 1.1). Возможен
и другой перевод: «Брахман – действительный, знающий, бесконечный...» [Упанишады 1967, 83].
25 Цитируется «Айтарея-упанишада» (III.1 .3).
26 Цитируется «Брихадараньяка-упанишада» (III.9 .28 .7).
27 Цитируется снова «Брихадараньяка-упанишада» (II.4 .12).
28 Возможно, подразумевается, что если бы сознание было «текучим», невозможно было бы
само познание, так как узнавание вещи в момент В предполагает, что она была до этого иден-
тифицирована в момент А.
29 Vaināṡika – «учащий об уничтожении» всего. Так нередко в полемике обозначали матери-
алистов-атеистов, но и буддистов, согласно которым нет в мире никаких перманентных сущно-
стей и всё мгновенно, то есть уничтожимо.
30 Смысл в том, что само отсутствие познания чего-то должно быть познано для того, чтобы его
констатировать, а потому оно также становится «познаваемым» и не обнаруживается никаких возмож-
ностей выйти за границы познания, которое может фиксировать и собственное отсутствие.
31 В тексте: vāñmātrameva na paramārthato... Через такую оппозицию в индийской философии
обычно противопоставлялись кажимость и конечная истинность.
Перевод с санскрита и комментарии В.К . Шохина
198
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
«Световая харизма фюрера». Об исламском элементе
в пропаганде Третьего Рейха
© 2019 г.
К.Ю. Бурмистров
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: kburmistrov@hotmail.com
Поступила 11.03.2019
Исламоведческие, как и в целом гуманитарно-научные исследования
в Третьем Рейхе проводились под контролем и в соответствии с пред-
писаниями партийных органов. Их целью было создание новой це-
лостной картины мировой истории, центральную роль в которой иг-
рала так называемая арийская, или арио-германская раса. Исследова-
тели мусульманской религиозной и философской традиции стреми-
лись доказать, что в ее основе лежат идеи того же древнеарийского
наследия, каковые питают германскую и – шире – европейскую куль-
туру. В статье рассмотрены конкретные примеры исследований, в хо-
де которых эксперты-исламоведы пытались на материале мусульман-
ской традиции обосновать тезис об особом, мессианском призвании
А. Гитлера. Предполагалось использовать полученные аргументы
в пропагандистской работе среди мусульманских народов. Среди изу-
чаемых вопросов особое внимание уделялось мусульманскому учению
о мессии (Махди), о втором явлении пророка Исы (Иисуса), а также
об особой «световой» природе избранных личностей в исламе – про-
роков, имамов. В приложении впервые публикуется перевод письма
руководителя научного общества «Наследие предков» Вальтера Вюста,
в котором обсуждаются эти исследования. Данная тема до сих пор не
оказывалась в сфере внимания отечественных ученых и крайне слабо
изучена в зарубежной науке.
Ключевые слова: ислам, Коран, Иран, Махди, божественный свет,
Третий Рейх, национал-социализм, мессианизм.
DOI: 10.31857/S004287440005357-7
Цитирование: Бурмистров К.Ю . «Световая харизма фюрера». Об ис-
ламском элементе в пропаганде Третьего Рейха // Вопросы филосо-
фии. 2019. No 6 . С. 198–206.
199
“Light Charisma of the Führer.”
Islamic element in the Propaganda of the Third Reich
© 2019 г.
Konstantin Yu. Burmistrov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, G oncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: kburmistrov@hotmail.com
Received 11.03.2019
Islamic studies, as well as in general, the humanities in the Third Reich
were carried out under the control and in accordance with the instructions
of the Nazi party organs, the purpose of which was to create an integral
image of the world history, in which the so-called Aryan or Aryan-German
race played a central role. German researchers of the Muslim religious and
philosophical tradition sought to prove that it was based on the ideas of the
same ancient Aryan heritage, which nourish German and – more widely –
European culture. The article discusses specific examples of research in
which Islamic experts tried to substantiate the thesis of Adolf Hitler’s spe-
cial, Messianic mission on the material of the Muslim tradition. The pur-
pose of this research was to use the arguments obtained in the propaganda
work among the Muslim peoples. Among the issues studied, special atten-
tion was paid to the Muslim doctrine of the Messiah (Mahdi), and the sec-
ond coming of the prophet Isa (Jesus). Scholars' attention was also attracted
by the idea that special, chosen personalities in Islam, such as prophets,
imams, have a special “light” nature. As an appendix to the article, a letter
is published by Professor Walter Wüst, the head of the Heritage of Ances-
tors Society (“Das Ahnenerbe”), in which these studies are discussed. This
topic remains practically unexplored in modern science.
Key words: Islam, Koran, Iran, Mahdi, divine light, Third Reich, national
socialism, messianism.
DOI: 10.31857/S004287440005357-7
Citation: Burmistrov, Konstantin Yu. (2019) ‘“Light Charisma of the Füh-
rer”. Islamic element in the Propaganda of the Third Reich’, Voprosy
Filosofii, Vol. 7 (2019). pp. 198–206.
Гуманитарные науки в Германии в период правления НСДАП подвергались ис-
ключительному давлению со стороны идеологического аппарата, однако в целом со-
храняли высокий академический стандарт, свойственный им прежде. Изыскания
в области древней истории народов, населявших европейские земли и страны Восто-
ка, филологические и историко-философские исследования проводились многими
учеными, вполне сочувствовавшими целям «героизации прошлого» и «возрождения
арийского наследия», с обычной добросовестностью, методичностью, с опорой на
сложившиеся принципы научной работы. В частности, это касалось разработок
в области исламского религиозного и философского наследия, которые, по мысли
партийных идеологов, должны были помочь установлению близких отношений меж-
ду немцами и мусульманскими народами.
Принимая во внимание позитивное отношение к исламу со стороны высших руко-
водителей Третьего Рейха1
, немецкие ученые и идеологи той эпохи неоднократно пы-
тались использовать для пропаганды среди мусульман Ближнего Востока и Северной
Африки (а также Боснии, Герцеговины, Албании, Турции и – в перспективе –
200
Советского Союза) тезис об особом религиозном статусе Адольфа Гитлера, пытаясь
отыскать для этого аргументы в текстах самой мусульманской традиции. В 1941 г. вид-
ный немецкий дипломат Эберхард фон Шторер (1883–1953), находившийся в Каире,
составил особый меморандум об отношении национал-социализма к исламу и об
идейной близости между ними. Он, в частности, утверждал: «Многие суры могут быть
легко объяснены любым знатоком ислама как пророчества о пришествии фюрера»
[Motadel 2014a
, 38–39, 88]. Как отмечает Д. Мотадель, летом 1943 г., после поражения
немецких войск в Северной Африке, изучением возможного использования в целях
пропаганды среди мусульман учения о Махди – посланце-мессии, последнем преем-
нике пророка Мухаммеда, – всерьез занялось Главное управление имперской безопас-
ности СС (РСХА) [Motadel 2014a
, 88–89]. В мае 1943 г. рейхсфюрер СС Генрих Гимм-
лер распорядился выяснить, «... какие темы в Коране могут навести мусульман на
мысль о том, что предсказания о фюрере уже содержатся в Коране и что он призван
завершить дело Пророка» [Herf 2009, 199], однако глава РСХА Эрнст Кальтенбруннер
(1903–1946) вскоре ответил ему, что едва ли можно отыскать подобные концепции
в священном тексте ислама2
. Специальный отчет о попытках отыскать в Коране проро-
чества, позволяющие объяснить миссию фюрера, составил в сентябре 1943 г. лингвист,
сотрудник Отдела IIIC4 РСХА («Пресса, культурная политика») штурмбанфюрер Пауль
Вальтер фон Кильпински (1909–1946)3. Он писал, что, хотя найти в Коране подобные
места и не удалось, для этой цели можно использовать представления части мусульман,
согласно которым исламский мессия, Махди, «...явится в конце времен, чтобы защи-
тить веру и привести праведных к победе» [Motadel 2014a
, 89, 377]4
.
Попытки найти в исламе аргументы в пользу особого религиозного статуса Гитлера
можно разделить на две группы: 1) эсхатологические, связывавшие актуальные собы-
тия, в том числе военные, с концом времен и мессианской ролью «вождя Великой
Германии»; 2) метафизические, призванные доказать божественность самой природы
фюрера. Разработкой этой темы занимались специальные научно-исследовательские
подразделения СС, в частности, общество «Наследие предков» (Forschungsgemeinschaft
Deutsches Ahnenerbe, далее – «Аненербе»)
5
.
В этой огромной организации, фактиче-
ски – целой академии, состоявшей из более чем пятидесяти отделов, институтов и ко-
миссий, не было специального подразделения, занимавшегося изучением ислама. Во-
просов, связанных с этой религией и мусульманскими народами (прежде всего – иран-
цами, в меньшей степени тюрками и арабами), могли касаться специалисты по исто-
рии отдельных регионов6, сравнительному языкознанию, археологии, а также сотруд-
ники особого подразделения «по изучению так называемых тайных наук» (Abteilung zur
Überprüfung der sogenannten Geheimwissenschaften). К сожалению, если об организаци-
онной стороне деятельности общества и работе отдельных его отделов сохранилось
достаточное количество информации, материалов об интересующем нас вопросе оста-
лось немного, и они до сих пор почти не изучены7; рабочие документы отделов, кото-
рые могли бы быть заинтересованы в подобных исследованиях, почти полностью ис-
чезли, богатые библиотечные собрания также не сохранились, а потому основную ин-
формацию приходится добывать из переписки между сотрудниками.
Как мы увидим, едва ли специалистам из СС удалось достигнуть сколько-либо су-
щественных результатов, которыми могло бы заинтересоваться руководство Рейха. Бо-
лее того, по всей видимости, контакты мусульманских интеллектуалов с «Аненербе»
также не были успешными. Так, сирийский писатель и журналист Зеки Кирам (1886–
1946), ученик известного исламского реформатора из Египта Мухаммада Рашида Рида
(1865–1935), проживавший в Германии со времен Первой мировой войны и служив-
ший переводчиком в немецком МИДе, а также в военной разведке, в 1942 г. написал
для издательства «Аненербе» исследование «Нордическая вера в Бога, Ислам и дух
времени» («Nordischer Gottglaube, Islam und Geist der Zeit»). Опубликовать эту книгу
ему, однако, не удалось8, поскольку цензоры из СС не согласились с его трактовкой
христианства как религии, укорененной в нордической расовой природе германцев9.
Так или иначе, известно, что изучение данной проблемы пытались организовать
штандартенфюрер СС Рудольф Брандт (1909–1948), личный референт Гиммлера и
201
заместитель президента «Аненербе», и обергруппенфюрер СС Готтлоб Бергер (1896–
1975), начальник Главного управления СС 10 . Однако, как признавался в октябре
1943 г. Бергер в письме к Брандту, его экспертам по вопросам ислама так и не уда-
лось найти ничего пригодного для использования этой темы в реальной пропаганде
[Motadel 2014a
, 89].
Наконец, в декабре 1943 г. специалисты исследовательского центра «Восток» (For-
schungsstelle “Orient”) РСХА Отто Рёсслер 11 и Вальтер Лорх 12 предложили еще один
вариант, согласно которому фюрер – это явившийся вновь пророк Иса (Иисус). По
словам исследователей, пророчество о втором явлении Исы содержится в Коране
(43:61) 13
, а согласно хадисам, в конце времен он должен победить лжемессию ад-
Даджжала, обманщика [Милославский 1991, 55–56, 102], который, по утверждению
Рёсслера и Лорха, к тому же будет евреем14
.
В декабре 1943 г. Эрнст Кальтенбруннер
отправил Гиммлеру доклад на эту тему, где отмечалось:
Фюрера можно представить не Пророком или Махди, но скорее Иисусом
(Исой), который, согласно Корану, явится вновь и, как рыцарь, победит ве-
ликанов и [...] еврейского царя, который появится в конце времен. Опираясь
на эту идею, исследовательский центр “Восток” составил брошюру на араб-
ском языке [...] Цитаты из Корана в начале и конце брошюры относятся
к возвращению мессии, который убьет лжемессию Даджжала перед явлением
Махди. Следуя этой идее в Коране, текст [брошюры] подразумевает, что фю-
рер – это мессия, а Даджжал – воплощение мирового еврейского капитала.
Распространение брошюры может не только оказать благоприятное влияние
на взгляды мусульман юго-восточной Европы. Еще больший эффект она мо-
жет иметь в должное время в Палестине, где мирные отношения между ара-
бами и евреями вскоре неминуемо закончатся. Поэтому мы просим разреше-
ния отпечатать брошюру массовым тиражом для самого широкого распро-
странения [Herf 2009, 199–200].
В исламской традиции нет единого мнения о религиозной или этноконфессио-
нальной принадлежности Даджжала, однако, согласно одной из версий, нашедшей
отражение в хадисах, «великий обманщик» действительно будет иудеем (йахуди).
В конце времен Иса ибн Марйам снизойдет с небес в Иерусалим к арабам во время
молитвы и, обратив в бегство, истребит огромное семидесятитысячное войско иудеев
во главе с Даджжалом15.
К докладу прилагалась составленная в центре «Восток» брошюра на арабском
языке «Поистине, он – признак часа» («Ва инна-ху ла-‘илм ли-с -са‘а»)16, с переводом
на немецкий язык17. В этой брошюре, в частности, говорилось:
Учили, что Даджжал явится в конце времен – чудовище, которое будет
обманывать и соблазнять людей. Это будет время больших гонений против
верующих. Знаменитый арабский историк Абу Джафар Мухаммад ибн Джа-
рир ат-Табари18 говорил, что Даджжал будет великаном и царем евреев, пра-
вителем всего мира. Мухаммад ибн Исмаил Абу Абдуллах аль-Бухари19 гово-
рил, что Даджжал будет толстяком с курчавыми волосами. О, арабы, разве вы
не видите, что настало время Даджжала? Разве вы не видите его, толстого ев-
рея с курчавыми волосами, который обманом правит всем миром и крадет
земли арабов? Он поистине чудовище, а его союзники – дьявольские отро-
дья. Учили, что правление Даджжала продлится недолго. Абдуллах ибн Умар
аль-Байдави20 говорил, что Бог пошлет своего слугу, который убьет Даджжала
своим копьем и разрушит его дворцы. О, арабы, не узнаете ли вы слугу Бо-
жьего? Он уже явился в мир и уже поднял свое копье против Даджжала и его
союзников, он уже сильно ранил их. Как сказано, он убьет Даджжала, раз-
рушит его дворцы и отправит в ад его союзников21.
Как мы видим, отпечатанная гигантским тиражом брошюра была призвана пред-
ставить Гитлера исполнителем эсхатологических ожиданий мусульман. Но ученые из
общества «Аненербе» не оставляли попыток обнаружить в исламской традиции дока-
зательства не только его посланничества, но и его особой природы. Исследованиями
202
в этом направлении занимался в конце 1943 г. сам Вальтер Вюст (1901–1993), из-
вестный немецкий индолог, востоковед, ректор Мюнхенского университета, а так-
же – в чине штандартенфюрера СС – директор и научный куратор «Аненербе» 22
.
Одним из результатов его работы и явился публикуемый нами ниже документ: пись-
мо, направленное Вюстом 31 января 1944 г. уже упоминавшемуся начальнику лично-
го штаба Гиммлера Рудольфу (Руди) Брандту23
.
В этом письме, к которому также прилагались собранные Рёсслером материалы по
мусульманской эсхатологии, Вюст сообщает о своей находке: он предлагает использо-
вать для доказательства особой харизмы фюрера представление о Нур, божественном
свете, проявлении божественной истины, восходящее к 24-й суре Корана «Свет»
(Ан-Нур), в которой сказано: «Бог есть свет небес и земли» (пер. Г. Саблукова)24
.
Осо-
бое развитие эта идея получила в исламском мистицизме, суфизме 25
, прежде всего
иранском 26 , что выглядело особенно важным, поскольку отвечало исключительному
интересу немецких ученых того времени к древнему «арийскому» (индоиранскому)
наследию. Возникшее еще в конце XVIII – начале XIX в. в европейской науке пред-
ставление об арийской (индоевропейской) культурно-исторической общности приоб-
рело особенную популярность в среде историков, лингвистов и исследователей истории
религии в XIX в. Однако если ранее ученые говорили о языковом, культурном и исто-
рическом единстве индоевропейцев, а также об их распространении из восточных
стран на Запад, в Европу, то сторонники расового понимания этой проблемы в Герма-
нии видели ситуацию с точностью до обратного: по их мнению, исход расы древних
ариев происходил с Запада на Восток. Уже А. Розенберг в «Мифе ХХ века» рассматри-
вал древних иранцев как «ариев с северной кровью», которые впоследствии испытали
дегенерацию из-за смешения с носителями «низшей крови» [Rosenberg 1936, 34]. Со-
гласно идеям Вюста и целого ряда исследователей, «индогерманская раса» и созданная
ей цивилизация распространялись в древние времена от северной части Европы через
Иран по территории Индии; вступая в контакт с народами, населявшими эти земли
(в частности – семитскими), переселенцы утрачивали расовую и культурную «чистоту»,
смешивались с ними и деградировали, в то же время сохраняя древнее знание «индо-
германцев» в своих верованиях и учениях [Kurlander 2017, 186–187, 205–210; Motadel
2014б] 27 . Необходимо также отметить, что среди политиков и идеологов Рейха суще-
ствовало сильное противодействие попыткам считать современных иранцев потомками
древних ариев, и в официальных документах они нигде таковыми не именовались
[Motadel 2014б
, 135, 145]. К тому же, этому препятствовали и политические события:
в 1941 г., после британско-советской оккупации Ирана и отречения Резы Пехлеви,
Иран становится противником стран «оси».
Особую проблему также представлял поиск доказательств того, что и традиция
арабов-мусульман, которых немцы рассматривали как союзников, восходит к едино-
му древнеарийскому наследию [Kurlander 2017, 209; Pringle 2006, 110 –120, 301–302].
Идеи Вюста об «индогерманской» культуре наиболее полно изложены в нескольких
изданиях его «речей», из которых очевидно, что в сфере его интересов находились
прежде всего зороастрийские традиции Ирана28
, ислам же мог интересовать его лишь
как религия, в большей или меньшей степени сохранявшая элементы «древнего
арийского» («индогерманского») наследия [Wüst 1942, 23 –28].
Основным источником знаний о концепции света в иранском мистицизме послу-
жила для Вюста диссертация финского востоковеда Ивара Фредрика Ласси (1889–
1938), посвященная мусульманским традициям азербайджанцев. Уроженец Баку, Ласси
получил востоковедческое образование в Гельсингфорсском университете и защитил
там в 1916 г. на английском языке диссертацию «Тайные традиции месяца Мухаррам у
азербайджанских турок Кавказа» [Lassy 1916]29. Именно в исследовании Ласси, а также
в лекциях венгерского исламоведа Игнаца Гольдциера (1850–1921), которые Ласси ци-
тирует, Вюст обнаружил захватившую его идею о том, что особые, избранные личности
обладают особой же «световой харизмой», наполнены божественным светом и
наделены сверхъестественными способностями. В публикуемом ниже документе30 Вюст
спешит поделиться с Руди Брандтом своей находкой, надеясь использовать ее для
203
убеждения мусульман в том, что таковой харизмой обладает Адольф Гитлер (Вюста, ви-
димо, не смущал тот факт, что цитируемый им в письме Игнац, он же Ицхак Йегуда
Гольдциер был представителем того самого народа, против которого и была нацелена его
пропагандистская работа). Вместе с тем, из письма очевидно, что Вюст (вероятно,
наученный несколькими неудачными попытками обнаружить в исламской традиции что-
то пригодное для подобной пропаганды) предлагает быть осмотрительными и предвари-
тельно проконсультироваться с представителями мусульманской общины (в частности –
с лично знакомым ему «великим муфтием» Мухаммадом Амином аль-Хусейни31) о том,
насколько действенными могут быть подобные аргументы.
Есть все основания полагать, что попытки обнаружить в исламской традиции матери-
ал для пропаганды особой миссии Германии и ее вождя вряд ли казались убедительными
самим исследователям и организаторам этой работы. Вполне очевидно, что, обслуживая
идеологический запрос, они не могли рассчитывать на поддержку не только академиче-
ской среды, но зачастую также дипломатов (как в случае с Ираном) и военных. Дости-
жению поставленной перед ними цели едва ли способствовала и излишняя добросовест-
ность исследователей: всерьез восприняв задачу найти в исламской традиции свидетель-
ства особой миссии или даже особой природы своего вождя, они углубились в изучение
древних текстов и мусульманских обычаев. Они были озабочены и тем, смогут ли му-
сульмане принять идею пророческого, мессианского статуса немусульманина, каковым
был А. Гитлер. Трудно сказать, верили ли сами эксперты из СС в успех подобной дея-
тельности, однако в связи с историческими переменами, ставшими очевидными к лету
1944 г., их усилия утратили всякую актуальность.
Приложение:
Аненербе
Куратор и начальник
Главного управления
при Личном Штабе рейхсфюрера СС
1/7 – 40/44 – G/Ga.
31.01 .1944
Мюнхен 22,
Виденмайерштрассе 35/1.
Оберштурмбаннфюреру СС,
Главному правительственному советнику
д-ру Руди Брандту
Берлин SW 11
Ул. Принца Альбрехта 8.
Дорогой товарищ Брандт!
После тщательного анализа вопроса о «Свете Пророка», который следует исполь-
зовать в нашей пропаганде среди мусульман, я пересылаю [в приложении] рассужде-
ния нашего руководителя подразделения в «Аненербе», доцента Рёсслера из Тюбин-
гена, содержащие, на мой взгляд, наиболее полезные результаты.
Кроме того, я хотел бы указать на еще один вариант, который основывается на
главе «Учение о свете» («The Nur-doctrine») в диссертации «Тайны Мухаррама» 32
(«The Muharram Mysteries») Ивара Ласси (Хельсинки, 1916) и может быть развит при
помощи статьи «Нур» («Свет») в «Настольном словаре ислама» (Лейден, 1941, с. 591
и далее)33. Дело заключается в следующем: учение о том, что Бог есть свет и именно
таким образом открывает себя в мире и в человеке, очень древнее, оно широко пред-
ставлено в восточных религиях, как и в эллинистическом гнозисе и философии. Это
прежде всего иранское духовное наследие, из которого и происходят подобные идеи.
Наряду с другими религиозно-историческими проявлениями метафизики света,
в исламе было разработано мистическое понимание света, основанное на понятии
«Нур» как изначальной божественной субстанции, которая, как полагали, подобно
харизме наполняет собой особую, избранную личность. Родственники и потомки
пророка, имама, сопричастны этому божественному свету.
«Присутствие предвечного божественного света в духовной природе такого человека
превращает его в имама своей эпохи и наделяет его паранормальными интеллектуальными
204
способностями, намного превосходящими таковые обычных людей; его душа чище душ
остальных смертных, она избавлена от дурных страстей и украшена священными знака-
ми» (Гольдциер, Лекции, с. 217 и далее)34.
Мне кажется, вполне возможным представить фюрера личностью, проникнутой
световой харизмой, и при этом я снова хотел бы указать на иранское35 происхожде-
ние учения о свете.
Прежде чем использовать эту мысль в пропагандистских целях, необходимо, тем
не менее, прояснить: 1. Какую позицию занимает мусульманская теология по данно-
му вопросу? 2. Насколько это соответствует менталитету и особенностям духовной
восприимчивости различных мусульманских народов?
Если того пожелает рейхсфюрер СС, я мог бы навести справки по первому пункту
у Великого муфтия, с которым я лично знаком.
С товарищеским приветом,
Хайль Гитлер!
Оберфюрер CC [Вальтер Вюст]
P.S . Только что [ко мне] поступило прилагаемое в виде копии письмо из Главного
управления имперской безопасности, в качестве даты на котором указан лишь год.
В этой связи я могу сослаться на Ваше письмо обергруппенфюреру СС Бергеру от
11 сентября 1943 г., а также на письмо ко мне от исполнительного директора «Ане-
нербе»36 от 28 сентября 1943 г., и запросить у Вас дополнительных инструкций37.
Bundesarchiv (Berlin), NS 21/997
Примечания
1 В частности, это касалось А. Гитлера, Г. Гиммлера, М. Бормана и др. См.: [Kurlander 2017,
189–193]; [Motadel 2014a
, 61–65].
2 Подробнее об этом эпизоде см. [Höpp 1994, 443–446].
3 [Herf 2009, 299]: “Betreff: Koranstellen, die sich auf den Führer beziehen sollen”.
4 Д. Мотадель приводит также подробную библиографию по вопросу о по литическом при-
менении концепции Махди, антибританских восстаниях махдистов в Судане, Нигерии и других
странах в конце XIX в.
–
событиях, опытом которых интересовались политики Третьего Рейха
[Motadel 2014a
, 337].
5 Подробную информацию об этом обществе, его структуре и деятельности можно найти в
исследовании [Kater 2006].
6 Прежде всего «Отдел Ближнего Востока» (Abteilung für den Vorderen Orient).
7 Обзор сохранившихся документов см.: [Kater 2006, 468–470].
8 Чуть раньше, в 1940 г., цензура запретила публикацию другой его книги на немецком язы-
ке – «Пророк Мухаммед и евреи» («Der Prophet Mohamed und die Juden»). Кирам был также
автором восхвалявшей национал-социалистическую Германию статьи «Мусульманин о Новой
Германии: Гитлер – подлинный лидер» [Kiram 1938].
9 См.: [Motadel 2014a
, 70]; переписка Кирама с издательством «Аненербе» (Ahnenerbe-Stiftung
Verlag) сохранилась в фонде NS 21/297 в Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde (далее – BAB).
10 Готтлоб Кристиан Бергер (1896–1975), один из руководителей СС (обергруппенфюрер),
начальник Главного управления СС, статс-секретарь Имперского министерства восточных оккупи-
рованных территорий; «правая рука Гиммлера». Находился в постоянном контакте с В. Зиверсом и
другими функционерами «Аненербе».
11 Отто Рёсслер (1907–1991), австрийский лингвист, африканист, египтолог, один из крупнейших
специалистов в области семито-хамитского языкознания. Член НСДАП с 1924 г.; доцент Тюбинген-
ского университета, в годы Второй мировой войны работал в «отделе еврейских исследований»
РСХА, с 1943 г.
–
руководитель «Отдела изучения культуры североафриканских народов». После
войны – профессор семитологии Тюбингенского и Марбургского университетов.
12 Вальтер Лорх (?–?), руководитель исследовательского центра «Восток» РСХА, географ, специа-
лист по Ближнему Востоку, уроженец г. Яффо (происходил из семьи немецких колонистов-
темплеров в Палестине). См. о нем и о деятельности центра «Восток»: [Junginger 1999, 242–246].
13 Иисус называется в Коране «знаком» грядущего Суда в конце времен: «А Он (Иисус) бу-
дет знамением часа» (Коран, 43:61, пер. Г . Саблукова).
14 Указание на то, что среди последователей Даджжала, «исламского антихриста», который
обретет власть над миром в конце времен, будут в основном евреи, содержится в энциклопеди-
ческой статье «Аль-Даджжал» в академическом словаре ислама, изданном в Лейдене в 1941 г.
См.: [Wensinck, Kramers 1941, 87]. Ср. также обсуждение темы битвы Исы и Махди с Даджжа-
лом, в сопоставлении с христианскими преданиями об антихристе: [Малов 1897, 44 –52].
205
15 «Иисус, мир ему, скажет: “Откройте врата!” Врата откроют, а за ним – Даджжал, а с ним
70 тысяч иудеев с мечами и дубинами. Когда Даджжал посмотрит на него (Иисуса), то растает,
как тает соль в воде, он бросится бежать. Иисус, мир ему, скажет ему: “У меня для тебя припа-
сен удар, ты не сможешь избежать его”. Он (Иисус) догонит его у Ворот Лудд аш -Шарки и
убьет его. Нанесет Аллах поражение иудеям, и не останется ничего из того, что Он создал, для
того, чтобы иудей мог скрыться за ним, которое бы Аллах не заставил заговорить, – ни камня,
ни дерева, ни стены, ни муравья» [Ибн Маджа б/г, 1361–1362] (пер. И .Р. Насырова).
16 Название брошюры повторяет упомянутый выше аят Корана (43:61), указывающий на
миссию Исы как предвестника наступления конца времен.
17 Доклад и текст брошюры хранятся в BAB NS 19/3544. По распоряжению Геббельса, бро-
шюра должна была быть издана тиражом 1 миллион экземпляров. См.: [Motadel 2014a
, 377–378].
18 Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (839–923), исламский историк и богослов
из Персии, «отец мусульманской историографии», автор «Истории пророков и ца-
рей», комментария к Корану и трудов по фикху.
19 Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил аль -Бухари (810–870), мусульманский ученый из Бу-
хары, исследователь хадисов, комментатор Корана, составитель известного свод а хадисов
«Сахих аль-Бухари».
20 Насируддин Абу Саид Абдуллах ибн Умар аль -Байдави (ум. в 1286), мусульманский бого-
слов, историк, составитель известного комментария к Корану «Тафсир аль -Байдави».
21 Цит. по [Motadel 2014 a
, 89–90]. Ср. также: [Herf 2009, 204].
22 Несмотря на высокие звания и чины в СС, которыми обладал Вюст, после войны, прове-
дя четыре года в лагерях для интернированных лиц, он вышел на свободу и вернулся к научной
деятельности. Им были изданы, в частности, монографии «Древнеперсидские исследования»
(1966), «О языке индогерманских поэтов» (1969) и др. Подробнее о нем см.: [Schreiber 2008].
23 Переписка между В. Зиверсом (генеральным секретарем и исполнительным директором
«Аненербе»), В. Вюстом и Р. Брандтом по данной теме (сентябрь 1943 – март 1944), с приложе-
нием дополнительных материалов, хранится в BAB NS 19/3544.
24 См.: [Leaman 2006, 467–468].
25 См.: [Насыров 2014, 361, 374–378; Милославский 1991, 193].
26 Различные аспекты этой темы, в основном на иранском материале, обсуждаются в книге:
[Корбен 2013].
27 Подробный анализ истории создания «арийского мифа» см.: [Arvidsson 2006]. Идеи «арийского
мифа» разделяли и многие иранские интеллектуалы конца XIX – первой половины XX в.
См. [Motadel 2014б, 130–134].
28 Ср.: «“Иран” значит “Страна Ариев”» («“Iran” bedeutet “Arienland”») – [Wüst 1942, 25].
29 В 1922 г. Ласси эмигрировал из Финляндии в СССР, служил заместителем начальника от-
дела информации и статистики Коминтерна, наркомом народного образования Автономной
Карельской ССР, преподавал восточные и скандинавские языки в московских вузах, а в 1937 г.
был арестован, расстрелян по обвинению в шпионаже и похоронен в братской могиле в Бутово.
30 Письмо хранится в BAB NS 21/997.
31 Мухаммад Амин аль-Хусейни (1897–1974) – муфтий Иерусалима (с 1921 г.), один из ли-
дер ов движения арабских националистов, глава Верховного арабского комитета; с 1941 г. жил в
Италии, затем в Германии, активно сотрудничал с нацистскими властями; после войны жил в
Египте, Ливане, был сторонником панисламизма. В нацистской Гер мании его называли
«Großmufti von Jerusalem» или просто «Großmufti». В те годы в Германии была издана его био-
графия [Fischer-Weth 1943]. См. подробнее [Motadel 2014a
, 41–44, 61–63, 70].
32 Мухаррам – первый месяц мусульманского календаря, один из четырех месяцев, в кото-
рые запрещено воевать, установлены особые посты и пр.
33 См. [Wensinck, Kramers 1941, 591–592].
34 Вюст цитирует не оригинальное немецкое издание лекций Гольдциера, но диссертацию
Ласси, а потому дает этот фрагмент в английском переводе. См. это место у Ласси: [Lassy 1916,
137]. Ср. в русском переводе 1912 г.: «Имаму присущ не только характер представителя власти
Божьей милостью. Сверхчеловеческими качествами он выделен из общечеловеческого уровня,
и это происходит не только благодаря сану, не дарованному, но ему прирожденному, привсо-
зданному, а также благодаря его сущности. [...] Присутствие предвечного божественного света
в существе его души делает его имамом своего времени и дает ему совершенно сверхъестествен-
ные, далеко превышающие обыкновенные человеческие духовные силы; субстанция его души
чище души обыкновенных смертных, “свободна от дурных побуждений и украшена священны-
ми формами”». – [Гольдцигер 1912, 192].
35 То есть – не семитское .
36 Имеется в виду Вольфрам Генрих Фридрих Зиверс (1905–1948), генеральный секретарь
и исполнительный директор «Аненербе», оберфюрер СС, приговоренный к смертной казни
в 1947 г. на Нюрнбергском процессе нацистских врачей.
206
37 Постскриптум касается переписки между Бергером, Зиверсом и Вюстом относительно
возможности представить Гитлера явившимся мусульманским мессией – Махди; см. [Motadel
2014a
, 89, 377 (nn. 87 –89)].
Ссылки – References in Russian and Arabic
Гольдцигер 1912 — Гольдцигер И. Лекции об Исламе. СПб .: Брокгауз-Ефрон, 1912.
Ибн Маджа б/г — Ибн Маджа. Сунан. Т . 2 . Бейрут: Дар аль-фикр, б/г.
Милославский 1991 – Милославский Г.В . и др. (сост.) Ислам. Энциклопедический словарь.
М.: Наука, 1991.
Корбен 2013 — Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. М.: Садра, 2013.
Малов 1897 — Малов Е.А., прот. Ахыр заман китаби. Мухамедданское учение о кончине ми-
ра. Казань: тип. Имп. Университета, 1897.
Насыров 2014 — Насыров И.Р . Взгляды Ибн 'Ата' 'Аллаха ал-Искандари в контексте учения
Ибн 'Араби // Ишрак: Ежегодник исламской философии. No 5. М.: Восточная литература, 2014 .
С. 352 –382 .
References
Arvidsson, Stefan (2006) Aryan Idols: Indo-European Mythology as Ideology and Science, Univ. of
Chicago Press, Chicago.
Corbin, Henry (2013). L 'Homme de lumière dans le soufisme iranien, Sadra, Moscow (in Russian).
Fischer-Weth, Kurt (1943) Amin Al-Husseini: Großmufti von Palaestina, Walter Titz, Berlin
Goldziher, Ignác (1912) Vorträge über den Islam, Brokhaus – Efron, St. Petersburg (in Russian).
Herf, Jeffrey (2009) Nazi Propaganda to the Arab World, Yale University Press, New Haven – London.
Höpp, Gerhard (1994) ‘Der Koran als ‘Geheime Reichssache’: Bruchstücke deutscher Islampolitik
zwischen 1938 und 1945’, Gnosisforschung und Religionsgeschichte: Festschrift für Kurt Rudolph zum 65.
Geburtstag, Diagonal, Marburg, pp. 435 – 446.
Ibn Majah (s.a .) Sunan. Vol. 2 . Dar al-Fiqr, Beirut (in Arabic).
Junginger, Horst (1999) Von der philologischen zur völkischen Religionswissenschaft. Das Fach Reli-
gionswissenschaft an der Universität Tübingen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Dritten
Reiches, Franz Steiner Verlag, Stuttgart.
Kater, Michael H. (2006) Das “Ahnenerbe” der SS 1935–1945. EinBeitrag zur Kulturpolitik des Drit-
ten Reiches, R. Oldenbourg, München .
Kiram, Zeki (1938) ‘Ein Moslem über das Neue Deutschland: Hitler ist der berufene Mann’, Mos-
lemische Revue, N 14, 2 (1938), pp. 59– 60.
Kurlander, Eric (2017) Hitler's Monsters: A Supernatural History of the Third Reich, Yale University
Press, New Haven – London.
Lassy, Ivar (1916) The Muharram Mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia: an Academical
Dissertation, Lilius& Hertzberg, Helsingfors.
Leaman, Oliver (2006) The Qur’an. An Encyclopedia, Routledge, London – New York.
Malov, Evfimiy A. (1897) Akir Zaman Kitabi. Islamic Doctrine of the End of the World, Kazan Uni-
versity, Kazan (in Russian and Arabic).
Miloslavsky, Georgy V., ed. (1991) Islam. Encyclopedic Dictionary, Nauka, Moscow (in Russian).
Motadel, David (2014a) Islam and Nazi Germany's War, Harvard Univ. Press, Cambridge – London.
Motadel, David (2014b) ‘Iran and the Aryan myth’, Perceptions of Iran: History, Myths and National-
ism from Medieval Persia to the Islamic Republic, ed. by Ali Ansari, I.B . Tauris, New York, pp. 119–145.
Nasyrov, Ilshat R. (2014) ‘The Views of Ibn ‘Ata’ Allah al -Iskandarī in the Context of the Akbarian
Teachings ’, Ishraq. Islamic philosophy yearbook , Vol. 5 (2014), pp. 352 –382 (in Russian).
Pringle, Heather (2006) The Master’s Plan: Himmler’s Scholars and the Holocaust, Hyperion, New York.
Rosenberg, Alfred (1936) Der Mythus des 20.Jahrhunderts: Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestal-
tenkämpfe unserer Zeit, Hoheneichen-Verlag, München.
Schreiber, Maximilian (2008) Walther Wüst: Dekan und Rektor der Universität München,1935–1945,
Utz, München.
Wensinck, Arent J., Kramers, Johannes H., Hrsg. (1941) Handwörterbuch des Islam, E.J. Brill, Leiden.
Wüst, Walhter (1942) Indogermanisches Bekenntnis. Sechs Reden, Ahnenerbe Stiftung Verlag, Berlin-
Dahlem.
Сведения об авторе
БУРМИСТРОВ Константин Юрьевич –
кандидат философских наук, старший науч-
ный сотрудник сектора философии ислам-
ского мира Института философии РАН.
Author’s information
BURMISTROV Konstantin Yu. –
senior research fellow at the Department of
Islamic Philosophy, Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences, Moscow.
207
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Энциклопедия методологий политической науки
© 2019 г.
И.В. Силакова
МГИМО МИД России, Москва, 119454, проспект Вернадского, д. 76.
E-mail: irasilakova@mail.ru
Поступила 21.01.2019
В статье представлен аналитический обзор монографии «Современная
политическая наука: методология» [Гаман-Голутвина, Никитин (ред.)
2019], подготовленной коллективом ведущих в отечественной полити-
ческой науке ученых. Книга является фактически первым в России
системным изложением основных методологических подходов, ис-
пользуемых в современной политологии. Методология политической
науки долгое время оставалась «падчерицей» в семействе политологи-
ческих публикаций, а рост интереса к политике и политическим ис-
следованиям не сопровождался появлением масштабных, оригиналь-
ных работ, посвященных анализу методологических оснований поли-
тической науки. Между тем, потребность в осмыслении методологи-
ческого инструментария, присутствующая в любой сфере научного
познания, становится особенно насущной в динамично развивающих-
ся исследовательских направлениях. В статье представлены характе-
ристики более 30 методологических стратегий и парадигм, сложив-
шихся в мировой политической науке. Принципиально важно, что
исходным отправным пунктом в размышлениях о методологии поли-
тической науки стала цивилизационная теория, аналитическая дей-
ственность которой основана на представлении о цивилизациях как
субъектах исторического и политического процесса, поиске особенно-
стей проявлений ценностных систем в современных социально-
политических трендах, включении в объяснительные принципы поли-
тологии и контексты политико-идеологического дискурса параметров
культурной самобытности, идентичности, устойчивости, традиции,
этнических и религиозных оснований.
Ключевые слова: политическая наука, методология, парадигма, иссле-
довательские стратегии.
DOI: 10.31857/S004287440006058-8
Цитирование: Силакова И.В. Энциклопедия методологий // Вопросы
философии. 2019. No 8. С. 207 –214 .
208
Encyclopedia of Methodologies of Political Science
© 2019 г.
Irina V. Silakova
MGIMO University, 76, Vernadskogo av., Moscow, 119454, Russian Federation.
E-mail: irasilakova@mail.ru
Received 21.01.2019
The article is an analytical review of the monograph “Modern Political Science:
Methodology” edited by O.V. Gaman-Golutvinoy and A.I. Nikitin [Gaman-
Golutvina, Nikitin 2019], prepared by a team of leading Russian political scien-
tists. The book is actually the first in Russia systemic presentation of the main
methodological approaches used in modern political science. The methodology
of political science for a long time remained a “stepdaughter” in the family of
political science publications, and the growing interest in politics and political
research was not accompanied by the emergence of large-scale, original works
devoted to the analysis of the methodological foundations of political science.
Meanwhile, the need for the development of a methodological foundation,
which is present in any field of scientific knowledge, becomes especially urgent
in dynamically developing research directions. The article presents the charac-
teristics of more than 30 methodological strategies and paradigms prevailing in
the world political science. The author examines the structure of the mono-
graph, reveals the principles of the construction of chapters and discusses the
heuristic problems that have been solved in this publication.
Key words: political science, methodology, paradigm, research strategies.
DOI: 10.31857/S004287440006058-8
Citation: Silakova Irina V. (2019) “Encyclopedia of Methodologies of Polit-
ical Science”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2019), pp. 207 –214 .
Институционализация политической науки в России произошла с существенным
запозданием по отношению к ее становлению в мировой исследовательской тради-
ции. Историческая судьба политической науки в СССР/России складывалась непро-
сто: несмотря на богатейшую традицию общественно-политической мысли, консти-
туирование политической науки как академической дисциплины и исследовательско-
го направления состоялось довольно поздно – в конце 1980-х гг. Это было обуслов-
лено целым рядом факторов, одним из которых было доминирование государство-
центричной парадигмы в социальном знании (см.: [Гаман-Голутвина 2016а]). История
и теория развития мировой и отечественной политической науки стала предметом
основательного рассмотрения лишь в последние десятилетия. Под эгидой Российской
ассоциации политической науки (РАПН) издавались книжные серии «Библиотека
Российской ассоциации политической науки (РАПН) (2006–2012 гг.), «Политология
в России» (2007–2016 гг.), а также фундаментальные политологические труды [Соло-
вьев (ред.) 2008; Гаман-Голутвина (ред.) 2015; Гаман-Голутвина (ред.) 2016].
Переход к плюралистической политико-экономической системе естественным об-
разом определил востребованность методологической концептуализации исследова-
ний в политической сфере. Однако этот вызов долгое время оставался без достойного
ответа. Тем более значим факт публикации первого в стране фундаментального
(ок. 800 стр.) издания по методологии политической науки под эгидой РАПН и
МГИМО МИД России в год 75-летия МГИМО. В книге представлены более 30 ме-
тодологических парадигм, анализ которых осуществлен авторитетным коллективом
исследователейi. Монография содержит три крупных раздела, первый из которых –
209
«Цивилизации, Институты. Структуры. Факторы» – охватывает рассмотрение систе-
мообразующих исследовательских парадигм. Второй раздел «Культура. Личность.
Ценности» посвящен анализу стратегий изучения преимущественно неинституцио-
нальной сферы политики. Третий раздел «Мировое сообщество. Мировая политика»
включает рассмотрение подходов к изучению мирополитических процессов.
Инициатор и руководитель данного издания, президент РАПН, заведующая ка-
федрой МГИМО, председатель Федерального учебно-методического объединения
«Политические науки и регионоведение» РФ профессор О.В . Гаман-Голутвина отме-
чает в предисловии, что структурным принципом данного издания является пред-
ставление множественности существующих методологических ракурсов и парадигм
с целью максимального раскрытия их эвристического потенциала. При этом книга
демонстрирует, что значительная часть методологических направлений современной
политической науки совпадает с методологическими основаниями философских
изысканий, ибо существенную часть предметного поля политологии как междисци-
плинарной матрицы составляет политическая философия [Гаман-Голутвина 2016б].
Добавлю, что и соредакторы книги, и значительная часть ее авторов пришли в поли-
тологию из философии.
Отчетливое звучание ценностных и смысловых контекстов в современных дискур-
сах, проникновение политики в иные сферы общественной жизни предполагает об-
ращение к внеинституциональным факторам политики. Востребованность и эвристи-
ческий потенциал цивилизационной теории определены необходимостью дополнения
традиционных институциональных парадигм политической теории внеинституцио-
нальными ракурсами. Многие современные явления и процессы невозможно объяс-
нить только в контексте институциональных подходов. Характер выборности, роль
исполнительной власти, права оппозиции, наличие и типы внутрисистемных п роти-
вовесов, развитость многопартийности и структура гражданского общества – все это
и многое другое следует рассматривать как продукт конкретных социальных обстоя-
тельств и ценностных координат, а не как «тождество» или «девиацию» по отноше-
нию к единственному, раз и навсегда данному образцу. Цивилизационная теория, по
мнению автора соответствующей главы М.М . Мчедловой, является «несущей кон-
струкцией» всего методологического каркаса политической науки. Авторы акценти-
руют внимание на проблеме универсального и локального в понимании политиче-
ского процесса: политические императивы и институты не являются универсальны-
ми, пригодными в одинаковой мере для всех эпох и народов, одни и те же образцы
в различных условиях дают различные результаты, порой прямо противоположные.
Сложившиеся в процессе историко-политического развития устойчивые модели
идентификации, мышления и поведения властных сообществ и массовых групп, цен-
ности, нормы и традиции, регулирующие социально-политические взаимоотношения
в обществе и сам характер политического участия, являются не менее важными, чем
институциональная система.
Например, именно цивилизационная парадигма может стать одним из инструмен-
тов анализа такого существенного глобального риска, как международный терроризм,
объяснения которого часто отсылают к более глубоким причинам, проясняемым
в рамках цивилизационной парадигмы в том числе и потому, что социокультурные
образования берут на себя функции участников политического диалога в современ-
ном мире. Под влиянием широкомасштабных изменений на авансцену мирового ис-
торико-политического процесса вышли не объединительные факторы, а различия,
в которых нашло отражение стремление различных социокультурных общностей
к выживанию и упрочению своего статуса. Это выражается, прежде всего, в сохран е-
нии самобытности, акцентировании этнических и религиозных факторов. Оценки
эвристической роли нормативных теорий, предлагающих в качестве ориентиров
и необходимых условий политического развития западные политические образцы,
ценности и институты сопровождаются ныне признанием равнозначности различных
путей политического развития, их специфика задается глубинными цивилизационно-
ценностными параметрами.
210
Цивилизационный ракурс изучения политики получает развитие при рассмотре-
нии культурологической парадигмы (В.Г. Федотова, Н.Н . Федотова, С.В . Чугров).
Авторы отмечают, что при всей несомненной связи политики и культуры, культуро-
логическая парадигма политологии существует в своем незавершенном виде как об-
щая концепция культурного влияния на политику и как частные культурологические
исследования конкретной политики. В рамках данной парадигмы политика рассмат-
ривается как культурный феномен, а культура – как формо- и смыслообразующая
сторона общественной жизни. Тем не менее, отмечают авторы, нельзя исключить,
что культурологическое видение политологии не будет иметь универсального харак-
тера, хотя доминирующее влияние культуры на политологию, безусловно, остается.
Вероятнее всего, речь может пойти о культурологическом рассмотрении политологии
не только и не столько в общем виде, сколько в различающихся вариантах разных
социальных систем, т.е. существует возможность различных (соразмерных конкрет-
ному обществу) культурологических видений политологии, равно как и различных
отношений политологии к культуре.
В данном контексте следует отметить анализ эвристических возможностей кон-
цепта идентичности в изучении политики (И.С. Семененко), который стал основани-
ем соответствующей парадигмы исследований. Использование данного концепта
призвано решить задачу теоретико-методологического синтеза оснований социальной
деятельности – ценностных, определяемых духовными ориентирами и нравственны-
ми установками человека, и эмоциональных, заданных его психическим складом и
рационально мотивированных интересами и потребностями. Соединяя индивидуаль-
ный и коллективный срезы социального опыта, концепт идентичности фиксирует
состояние и, одновременно, отражает динамику представлений человека о своем ме-
сте в мире и о своем «Я». Использование этой аналитической категории позволило
поставить в центр внимания мотивацию индивидуального выбора жизненных траек-
торий человека в социально обусловленном контексте. Отмечу, в связи с этим, что
соотношение массового и индивидуального сознания, личностное измерение полити-
ческого процесса в его взаимодействии с гру пповыми, долгое время оставались на
периферии исследовательского внимания.
Разработка политико-психологической парадигмы в методологии политологии яв-
ляется относительно новым направлением. Об этом свидетельствует тот факт, что
международное общество политических психологов, как и их первый профессио-
нальный журнал, появились лишь в 1978 г. Авторы самого известного современного
учебника по политической психологии «The Oxford Handbook of Political Psychology»
(2013) Л. Хадди, Д. Сирс и Дж. Леви определяют политическую психологию как
«применение к политике всего того, что мы знаем о человеческой психологии». Ав-
тор одной из глав – основоположник отечественной школы политической психоло-
гии и ее безусловный лидер Е.Б. Шестопал – демонстрирует эвристический потенци-
ал данной парадигмы, опираясь не только на имеющуюся литературу по данной теме,
но также используя свой многолетний опыт проведения профильных эмпирических
исследований. При этом признание важности изучения психологии как движущей
силы политического поведения в наши дни получило в его разделе не только обще-
философское, но и конкретно-научное обоснование. Именно политическая психоло-
гия во второй половине ХХ в. приступила к профессиональному исследованию тех
факторов, которые мотивируют включение индивида в политическую жизнь. Главное
достоинство политико-психологической парадигмы состоит в том, что она, будучи
относительно новым подходом, позволяет дополнить институциональные подходы
пониманием психологических механизмов, лежащих в основе поведения как отдель-
ных личностей, так и макрогрупп в политике. Применяемые в рамках этого направ-
ления методы и исследовательский инструментарий существенно расширяют воз-
можности политической науки для изучения человеческого измерения политики.
Расширение неинституциональной сферы политики отнюдь не означает девальва-
ции институционального подхода. Исследование политических институтов представля-
ет собой один из смысловых центров современной политической науки и покрывает
211
широкий спектр проблем – функционирование политических сообществ и поддержа-
ние внутреннего порядка, распределение власти и влияния внутри сообществ и между
ними, процессы принятия решений и развития политических сообществ. Значительные
усилия современной политологии сконцентрированы на объяснении того, каким обра-
зом возникают и развиваются политические институты, какое влияние они оказывают
на политическое поведение и процесс принятия решений и, главное, под воздействием
каких факторов институты меняются. Можно сказать, что и в настоящее время инсти-
туциональный подход доминирует в политической науке в целом и в ее отдельных суб-
дисциплинах. В главе «Институционализм и неоинституционализм» (С.В . Патрушев и
Л.Е. Филиппова) подвергнуты детальному анализу предпосылки и эволюция, достиже-
ния, проблемы и перспективы институционального подхода в политической науке
конца ХХ – начала XXI в.
Значимое место в издании занимает рассмотрение классических парадигм поли-
тической науки (реализма, неореализма и либерализма), а также структурализма
и конструктивизма. Сетевая теория в управлении и политике (Л.В . Сморгунов) долж-
ным образом представляет эвристические возможности анализа политических про-
цессов через призму данных направлений. Эта теория сложилась в политической
науке под воздействием мощного реляционного направления, которое традиционно
отдавало приоритет исследованию отношений, а не элементов политической систе-
мы. Данная теория специфицировалась в контексте развития новых информацион-
ных технологий и цифрового общества, когда сети стали заметным явлением соци-
альной и политической жизни. В определенном смысле сетевая теория политики раз-
вивалась также под влиянием критики методологического индивидуализма и рыноч-
ного подхода к политике. Влияние экономической методологии на политико-
управленческие исследования, особенно в 1970–1990-е гг., выразилось в интересе
к таким теоретическим направлениям, как теория публичного выбора, неоинституци-
онализм, новый государственный менеджмент. Однако в определенных аспектах эти
концептуальные подходы оказались ограниченными. Одной из попыток снятия огра-
ничений и развития политической теории стало концептуальное направление, в ос-
нове которого лежит понятие «политическая сеть».
Методологическое значение парадигмы коммуникативизма (А.И. Соловьев) рас-
крывается в книге через эвристический потенциал концепта коммуникации как спосо-
ба теоретического соединения разнородных оснований политики. Это концепт выража-
ет информационную природу политических явлений, подчеркивает ключевую роль
информации и имеет такой же онтологический статус, как энергия, время и простран-
ство, что и позволяет увидеть в политике некий синтез живых и неживых систем. По-
литические коммуникации трактуются как форма осмысленных связей, демонстриру-
ющих особый тип общения, который складывается на основе освоения и распростра-
нения символических образов власти (идейно-образные структуры) в виде разнообраз-
ных текстов, отражающих комплекс групповых, программных и личностных позиций
и интересов. В данном контексте уместно упомянуть также, что в книге рассматривает-
ся парадигма дискурс-анализа, который представляет собой не метод, а целую россыпь
различных исследовательских подходов и аналитических приемов, разбросанных по
дисциплинам, школам, направлениям и исследовательским традициям. Их объединяет
общее поле приложения – явление дискурса, которое трактуется авторами как собы-
тие, происходящее в процессе коммуникативного действия в определенном временном,
пространственном и иных контекстах. Это определение отождествляет дискурс с лю-
бым целостным смысловым образованием: любой содержательно целостный политиче-
ский процесс, например избирательная кампания, формирование правительства, обра-
зование общественного движения и т.п., оказывается дискурсом.
В следующем разделе авторы обстоятельно рассматривают системный подход и
позитивизм как специфические исследовательские стратегии политической сферы.
Не остались за рамками внимания и экономические факторы политики (академик
РАН А.А. Дынкин). Известно, что значение экономических детерминант получило
в современной литературе различные, часто противоречивые интерпретации –
212
от апологетики до полного отрицания. Авторы данного издания занимают взвешен-
ную позицию, в полной мере отдавая должное влиянию экономических факторов.
Экономический ракурс анализа политики проявляется при рассмотрении роли энер-
гетического фактора в мировой политике. Авторы данной главы академи ки РАН
А.В . Торкунов и Н.А. Симония отмечают, что формирование нового мирового энер-
гетического порядка – задача сложная, многоаспектная, она требует фундаменталь-
ного анализа мировых энергетических трендов с участием не только политологов и
экономистов, но и историков, философов, социологов и даже демографов. По мере
превращения энергоресурсов в узловой фактор мировой политики, энергетическая
парадигма все больше оказывается в фокусе дискурса политологии. Детально рас-
смотрены три основные школы, которые сложились в трактовке энергетической па-
радигмы (экономическая, геополитическая и экологическая). На основании методо-
логии сравнительных исследований авторы анализируют множество примеров взаи-
мозависимости мировой политики и ситуации в сфере углеводородов.
Поскольку данное издание подготовлено коллективом со значительным представи-
тельством исследователей МГИМО, выглядит логичным то существенное внимание,
которое уделено в книге стратегиям мирополитических исследований. Академик РАН
В.Г. Барановский осмысливает структурные изменения глобального миропорядка, под-
вергая критике превалирующие в научных исследованиях и профильной публицистике
представления о разрушении прежнего миропорядка и вступлении в эру всеобщего
отказа от игры по правилам, сопровождающегося распадом сложившегося после хо-
лодной войны международного порядка. Эти процессы описываются как начало эпохи
наступательного национализма, отказ от формальных и неформальных императивов
поведения на международной арене, эрозия сдерживающих факторов, повышенные
риски и непредсказуемость на фоне усиливающейся неопределенности. В .Г. Баранов-
ский отрицает образ лавинообразного «разрыва непрерывности» и в качестве исходной
точки рассуждений предлагает рассматривать изменения как продолжающееся форми-
рование новой международно-политической системы, которая замещает классическую
биполярность. В этих изменениях исследователи видят органичное продолжение про-
цесса, который начался на рубеже 1980–1990-х гг. и не завершен до сих пор. Он разви-
вается по внутренней динамике, которая хотя и приобретает порой драматический ха-
рактер, но не сводится к полному обрушению прежнего порядка.
Практические проблемы, связанные с потребностями планирования и прогнозиро-
вания внутренней и международной политики, а также стремление понять причины
нелинейной политической динамики ставят вопрос о теоретической альтернативе
упрощенным линейно-поступательным, прогрессистским моделям развития современ-
ного мира. Принципиально новые научно-познавательные возможности исследования
политических процессов открываются в рамках получающих все большее распростра-
нение эволюционных и циклических подходов. Парадигма цикличности оказывается
эффективным инструментом изучения нелинейных процессов в мировой политике
(В.В . Лапкин и В.И. Пантин). При этом нелинейность означает возможность эволюци-
онных переходов между различными состояниями социально-политической системы,
наличие между ее элементами нелинейных прямых и обратных связей, а также перио-
дическое прохождение ею так называемых переломных точек развития, в которых ме-
няется доминирующая тенденция или сам вектор политического развития. При этом
цикл трактуется как совокупность явлений и процессов, составляющих кругооборот
в течение известного промежутка времени. Авторы предлагают рассматривать эволю-
ционный цикл как такой цикл развития, в ходе которого социально-историческая или
политическая система претерпевает необратимые изменения и переходит в новое, но
по ряду важных параметров подобное начальному состояние. В результате прохожде-
ния эволюционного цикла происходит качественное усложнение политической систе-
мы, выработка и накопление новых институциональных форм и практик, усиливаю-
щих ее конкурентные возможности при взаимодействии с другими системами.
Как отмечалось выше, в работе представлены различные парадигмы, в том числе
и те, концептуальное ядро которых изначально возникло как теории среднего уровня.
213
Ввпоследствии по мере развития эти теории обретали статус методологического под-
хода. Так, представлены элитоцентричная парадигма изучения политики [Gaman-
Golutvina 2018; Gaman-Golutvina 2009], конфликтологический анализ международной
политики [Никитин 2016; Никитин 2018]; системные и конгломеративные трактовки
современного мира (А.Д. Богатуров); регионализм как парадигма мироустройства
в мировой политике (А.Д. Воскресенский). К числу новаций в исследованиях миро-
вой политики следует отнести парадигму информатизации (А.В. Крутских).
Принципиально важно то, что отдавая должное изучению институционального
каркаса мировой политики, авторы не сводят анализ исследовательских подходов
только к институтам международных отношений и мировой политики, а представля-
ют объемную панораму антропологии международных отношений (Э.Я . Баталов). Это
мотивировано осознанной потребностью в преодолении узкой, имеющей ограничен-
ную объяснительную и прогностическую силу, государство-центристской интерпре-
тации международных отношений, а также сопутствующим пониманием того, что эти
отношения суть человеческие отношения: их непосредственными строителями явля-
ются не абстрактные «государства» и организации, а стоящие за ними конкретные
живые люди, представляющие различные культуры и цивилизации. Именно к ним,
а не к безликому «человеческому фактору», и обращается антропология международ-
ных отношений, которая в теоретико-методологическом плане нацелена не на отри-
цание роли государства в их формировании, а на корректировку его функций в этом
процессе и в итоге – на более глубокое понимание внешней политики государств,
международных отношений и мировой политики.
В заключение стоит отметить, что перечисленные методологические направления
не исчерпывают весь рассмотренный в книге спектр. В книге представлен также ряд
новых направлений – парадигма секьютеризации, гендерные измерения политологи-
ческих исследований, альтернативизм в науке о политике и др. В целом, книга явля-
ется ориентиром для построения новых и спецификации устоявшихся исследователь-
ских стратегий. Очевидно, что прояснение сущности этих парадигм и их эвристиче-
ского потенциала позволит заинтересованным читателям выбрать или скорректиро-
вать собственный исследовательский ракурс.
Примечания
1 Среди них: ректор МГИМО МИД России академик РАН А.В . Торкунов; президент
ИМЭМО РАН академик РАН А.А. Дынкин; директор Института проблем международной без-
опасности РАН, декан факультета мировой политики МГУ академик РАН А.А . Кокошин; ака-
демик РАН Н.А . Симония; научный руководитель Центра системного анализа ИМЭМО РАН
академик РАН В.Г . Барановский; заместитель директора ИМЭМО РАН член-корреспондент
РАН И.С . Семененко; заведующие кафедрами политологического профиля МГИМО, МГУ
и СПбГУ профессоры М.М . Лебедева, Л.В . Сморгунов, А.И. Соловьев, Т.А. Алексеева,
М.В . Ильин, Е.Б . Шестопал, М.М. Мчедлова, О.В. Гаман-Голутвина; руководители ряда Иссле-
довательских Центров МГИМО профессоры А.И . Никитин, А.Д. Воскресенский
и А.В. Крутских (который также является спецпредставителем Президента РФ по вопросам
международного сотрудничества в области информационной безопасности) и другие известные
специалисты.
Ссылки – References in Russian
Гаман-Голутвина (ред.) 2015 – Структурные трансформации и развитие отечественных школ
политологии. Под ред. О.В . Гаман-Голутвиной. М .: Аспект Пресс, 2015.
Гаман-Голутвина (ред.) 2016 – Политическая наука перед вызовами глобального и регио-
нального развития / Под ред. О. В . Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс, 2016.
Гаман-Голутвина 2016а
–
Гаман-Голутвина О. В. Политическая наука перед вызовами совре-
менной политики. К 60-летию САПН / РАПН // Полис. 2016. No 1. С . 8 –28.
Гаман-Голутвина 2016б – Гаман-Голутвина О.В . Политология как метадисциплинарная мат-
рица // Международные процессы. 2016. Т . 14 . No 1. C . 86–94.
Гаман-Голутвина, Никитин (ред.) 2019 – Современная политическая наука: Методология /
Отв. ред. О.В . Гаман-Голу твина, А.И. Никитин. 2 -е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2019.
214
Никитин 2016 – Никитин А.И. Новая система отношений великих держав XXI века: концерт
или конфронтация? // Полис. 2016. No 1. С . 44 –59.
Никитин 2018 – Никитин А.И. Современный миропорядок: его кризис и перспективы //
Полис. 2018. No 6. С. 32–46.
Соловьев (ред.) 2008 – Российская политическая наука / Под общ. ред. А. И. Соловьева. В 5 т.
М.: РОССПЭН, 2008.
References
Gaman-Golutvina, Oxana V. (2009) “Elites and Leadership in Russian Politics”, The Ashgate Re-
search Companion to Political Leadership, Routledge, London.
Gaman-Golutvina, Oxana V. (ed.) (2015) Structural Transformations and Development of Domestic
Schools of Political Science, Aspect Press, Moscow (In Russian).
Gaman-Golutvina, Oxana V. (ed.) (2016) Political Science Facing the Challenges of Global and Re-
gional Development, Aspect-Press, Moscow (In Russian).
Gaman-Golutvina, Oxana V. (2016a) “Political Science in Front of the Challenges of Modern Poli-
tics”, Polis, 1, pp. 8 –28 (In Russian).
Gaman-Golutvina, Oxana V. (2016b) “Political Science as a Metadisciplinary Matrix”, International
Processes, 14, 1, pp. 86–94 (In Russian).
Gaman-Golutvina, Oxana V. (2018) Political Elites in the USA under George W. Bush and Barack
Obama: Structure and International Politics, Historical Social Research, 43, 4, pp. 141 –163.
Nikitin, Alexander I. (2016) “The New System of Relations of the Great Powers of the XXI Centu-
ry: a Concert or a Confrontation?”, Polis, 1, pp. 44 –59 (In Russian).
Nikitin, Alexander I. (2018) “Modern World Oder: its Crisis and Prospects”, Polis, 6, pp. 32 –46
(In Russian).
Solovyov, Alexandr I. (ed.) (2008) Russian Political Science, ROSSPEN, Moscow (In Russian).
Сведения об авторе
СИЛАКОВА Ирина Викторовна –
Кандидат политических наук, доцент
МГИМО МИД России.
Author’s information
SILAKOVA Irina V. –
CSc in Political Sciences, associate Professor
of MGIMO University.
При ме ча ния
iСреди них:ректор МГИМОМИД РоссииакадемикРАНА.В .Торкунов;президент ИМЭМОРАНакадемикРАНА.А .Дынкин; директорИнститута проблем международнойбезопасности РАН, декан факультета мировойполитики МГУакадемикРАНА.А. Кокошин;академик РАН Н.А.Симония; научныйруководительЦентра системного анализа ИМЭМОРАН академик РАН В.Г.Барановский;заместительдиректора ИМЭМОРАН член-корреспондент РАН И.С.Семененко; заведующие кафедрамиполитологического профиля МГИМО, МГУ иСПбГУ профессоры М.М.Лебедева, Л.В.Сморгунов,А.И.Соловьев,Т.А.Алексеева, М.В.Ильин, Е.Б.Шестопал, М.М.Мчедлова,О.В .Гаман-Голутвина; руководители ряда
Исследовательских ЦентровМГИМОпрофессорыА.И.Никитин,А.Д.ВоскресенскийиА.В.Крутских (которыйтакжеявляетсяспецпредставителемПрезидентаРФповопросаммеждународногосотрудничествавобластиинформационнойбезопасности)идругиеизвестныеспециалисты.
215
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Александр Кожев: русско-французский диалог
(обзор международного коллоквиума)*
Этот международный коллоквиум состоялся в октябре 2018 г. в Москве, в НИУ
«Высшая школа экономики» (ВШЭ).
Александр Кожев (Кожевников) (1902–1968) – французский философ русского про-
исхождения, один из выдающихся представителей французского философского пантеона.
Русская культура и русская философия имели к Кожеву не одно только биографическое
отношение. Спустя полвека после его смерти исследователи из России и Франции встре-
тились в Москве, городе его рождения, чтобы понять, как русская и французская мысль
вступили в диалог в самом Кожеве и какой диалог может вестись французскими и рус-
скими философами об актуальных проблемах, поставленных Кожевом провокационно и,
возможно, провидчески. В коллоквиуме приняли участие специалисты из Сорбонны
(Париж), Французского университетского коллежа (Москва), Высшей школы экономики
(Москва, Санкт-Петербург), Российского государственного гуманитарного университета
(Москва) и Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). В ходе обсуждения
обозначилось общее для участников коллоквиума понимание актуальности мысли Коже-
ва, возникающей на пересечении понимания им единой феноменологии Гегеля-
Гуссерля-Хайдеггера и политического аспекта его философии под выраженным влияни-
ем русской философской мысли и литературы.
Коллоквиум начался с доклада профессора А.М. Руткевича (НИУ ВШЭ, Москва), ав-
тора наиболее авторитетных исследований философии Александра Кожева в России,
переводчика и издателя многих его работ. Доклад назывался «Манускрипт Кожева 1940–
1941 гг.». Докладчик рассказал о недоступной для большинства исследователей почти
700-страничной рукописи Кожева, которую он написал в ранние годы Первой мировой
войны. Рукопись была частично расшифрована и издана в «Вопросах философии», одна-
ко в большей части она еще ожидает своих исследователей. Этот текст с непростой судь-
бой, возможно, содержит ключи к многим до конца не проясненным сторонам мысли
Кожева. В частности, эта работа позволяет лучше понять степень влияния на Кожева
русской мысли, прежде всего Вл. Соловьева, о котором Кожев писал диссертацию под
руководством К. Ясперса, прояснить понимание Кожевом судьбы советской России, ее
места в мировом историческом процессе и «конце истории». История рукописи позволя-
ет также вновь поставить вопрос о предполагаемом сотрудничестве Кожева с советской
разведкой во время его многолетней работы на французское правительство. А.М. Рутке-
вич на основании своих бесед со вдовой Кожева, Ниной Ивановой, рассказал участни-
кам коллоквиума о ранее неизвестных исследователям сторонах биографии философа,
в частности, о допросах французской контрразведки. Дискуссия после выступления
А.М. Руткевича была сосредоточена на соотношении содержания и порядка написания
текстов Кожевом и на его действиях как участника Сопротивления, а затем как влия-
тельного в международной политике Франции чиновника.
Сложной истории признания иммигрантов во французском университетско-
академическом сообществе посвятила свое выступления автор исследований о Ми-
шеле Фуко и социальном конструктивизме Е.И. Шашлова (ЮФУ, Ростов-на-Дону).
Общим тезисом ее доклада «Александр Кожев и французская философия: история
национального признания» было утверждение, что Кожев – один из наиболее ярких
примеров того, как русские, польские, немецкие и еврейские интеллектуалы во
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект No 18-011 -01132 «Пе-
рекрестки культур: европейская философия с русскими корнями (на примере творчества
А. Койре, А. Кожева и И. Берлина)» The research is carried out at expense of RFBR, project
Crossroads of cultures in the XX century: European philosophy with Russian roots (A. Koyré,
A. Kojève and I. Berlin).
216
Франции были обречены на маргинальное положение, что, однако, не отменяет их вли-
яния на французскую мысль, в частности, на М. Фуко. Исследование Е.И. Шашловой,
построенное на поиске и анализе упоминаний имен философов в научной периодике,
показало, что Кожев практически «невидим» в этом летописании университетской жиз-
ни. Вместе с тем компаративистский подход дал автору косвенные доводы в пользу
предположения о влиянии Кожева на Фуко через работы Ж. Батая, а именно через про-
блемы трансгрессивности безумия и субъектности философской речи. Доклад вызвал
дискуссию, в ходе которой участники коллоквиума вспомнили о нескольких важных ис-
точниках, которые бы дополнили картину исследования, а именно журнал «Recherches
philosophiques», в котором А. Кожев с А. Койре опубликовали множество рецензий на
работы немецких и русских философов, и Ежегодник Практической школы высших ис-
следований, документировавший непосредственное встраивание ряда интеллектуалов
в академическую жизнь межвоенной Франции, в том числе и внутриакадемическое раз-
витие Кожева от слушателя исследовательских семинаров Койре до самостоятельного
ведения семинара по Гегелю, который Кожева и прославил.
Тему русского «следа» в работах Кожева развил следующий участник коллоквиума –
Д.В. Токарев (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург). В своем докладе «Самоубийство, революция,
абсурд: инженер Кириллов („Бесы“) как гегелевский нигилист у Александра Кожева и
Альбера Камю» автор проанализировал место, которое персонаж Достоевского занимает
во «Введении в чтение Гегеля» А. Кожева (1947) и «Мифе о Сизифе» (1942) и «Бунтую-
щем человеке» (1951) А. Камю. Хотя Кожев лишь вскользь упоминает Кириллова на лек-
циях 1934-1935 учебного года, «логическое самоубийство» героя «Бесов» оказывается важ-
ным аргументом в пользу радикальной, «нигилистической» трактовки понятия абсолют-
ной свободы, взятого из гегелевской «Феноменологии духа». Отголоски этой интерпрета-
ции прослеживаются в эссе Камю «Бунтующий человек», в котором образ Кириллова,
скорее с симпатией очерченный французским мыслителем в «Мифе о Сизифе», оказыва-
ется помещенным в негативный контекст, связанный с неизбежным перерождением «фи-
лософского самоубийства» в «философское убийство», то есть в индивидуальный и госу-
дарственный террор, неприемлемый для Камю. По итогам выступления Д.В. Токарев от-
ветил на вопросы о возможных иных параллелях между Кожевом и героями Достоевского,
такими как «великий инквизитор» с его политической программой, ранее сравнивавшейся
в исследовательской литературе с образом гомогенного государства Кожева.
И.С. Курилович (РГГУ, Москва), автор исследований о развитии гегелеведения во
Франции в XIX и XX вв., о французском неогегельянстве и, в частности, о философии
Кожева, в докладе «Мышление бесконечного и феноменология сознания А. Кожева»
показал, как и на каком основании Кожев выделяет антропологические типы «не-
философов», «философов» и «мудрецов». Докладчик предложил доводы, согласно кото-
рым существенным отличием кожевианского философа является специфическое пони-
мание возможности мышления о бесконечности и бесконечном – оно упорядочивает
феноменологический опыт человека, позволяя ему философски строить онтологию и
антропологию. На материале текстов Кожева разных лет И.С. Курилович утверждает, что
Кожев использует связь онтологического аргумента бытия Бога и концепции «актуаль-
ной» бесконечности, в частности, в канторовской теории множеств, и через сведение
всякой бесконечности до уровня «потенциальной» отказывает в доказательности онтоло-
гическому аргументу и провозглашает необходимым для философа атеизм. Вместе с тем
докладчик показал отличия атеизма Кожева от позиций Фейербаха и позитивную оценку
Кожевом христианства для становления новоевропейской науки. В заключение И.С. Ку-
рилович реконструировал позицию Кожева таким образом, что показал эпистемологиче-
ские проблемы и «практические выводы», следующие за упразднением «актуальной» бес-
конечности: отсутствие неизбежности осуществления «конца истории» и необходимость
для философа становиться «мудрецом», следуя 11 тезису Маркса о Фейербахе, т.е. дея-
тельно вступать в осуществление истории и закончить историю. Докладчик продемон-
стрировал параллелизм выводов Кожева об ущербности лишь созерцательного бытия
философа с биографией самого Кожева, которые после Второй мировой войны стал вли-
ятельным чиновником на набережной Орсе и до 1968 г. направлял углубление евроинте-
217
грации. По итогам доклада участники коллоквиума обсудили, чем Кожев обязан в пони-
мании идеи бесконечного А. Койре, насколько сильно его следование за Койре в разборе
проблемы бесконечного и какие еще важные референции можно обнаружить. Так, во
время продолжения обсуждения в кулуарах появились предположения о влиянии Кон-
дорсе на Койре и через него на Кожева, что может стать направлением нового продук-
тивного исследования.
Продолжая тему влияний и преемственности, совершенно иную оценку ключевых
референций Кожева предложил Рамбер Николя (Rambert Nicolas, Французский универси-
тетский колледж, Москва). В докладе «Кожев, читатель Соловьева» он провел сопостав-
ление текстов Вл. Соловьева «Понятие о Боге», «Чтения о Богочеловечестве» с диссерта-
цией Кожева о Соловьеве, с его работами «Атеизм» и «Понятие, время и дискурс» и кур-
сом о Гегеле в Практической школе высших исследований, известным после публикации
как «Введение в чтение Гегеля». Р. Николя заострил известный и спорный тезис о влия-
нии Соловьева на философию Кожева вопросом, не происходит ли атеизм Кожева из
учения Соловьева о Боге и богочеловечестве и не был ли сам религиозный философ Со-
ловьев атеистом или, мягче, не была ли его философия атеистической. Исследователь
прежде всего вспомнил спор А. Введенского с Соловьевым о том, была ли философия
Спинозы атеистической, как заявил Введенский, или она была все же пантеистической,
как считал Соловьев. Кожев, согласно Николя, своей диссертацией воспроизвел утвер-
ждение Введенского о Спинозе в отношении Соловьева, а рукописью «Атеизм» продол-
жил анализ самого атеизма. Скрупулезным сопоставлением текстов докладчик отстаивает
тезис, что аргументация Кожева в отношении философии Соловьева наследует и воспро-
изводит ключевые ходы спора Соловьева с Введенским, и Кожев, как это делал Соловьев
в отношении Спинозы, находит у религиозного философа, на этот раз у Соловьева, атеи-
стическую философию, а именно атеистическую концепцию мира.
А.В. Ямпольская (НИУ ВШЭ, Москва), автор исследований о Левинасе, постфеноме-
нологии, о природе феноменологического метода и о противоречиях в рамках различных
школ феноменологии, выступила с сообщением «Феноменологический метод согласно
Кожеву: от Гуссерля к Хайдеггеру». А.В. Ямпольская взялась за анализ одного из самых
спорных тезисов французского неогегельянства: гегелевский метод был не диалектиче-
ским, а дескриптивно-феноменологическим в значениях, которые этим терминам прида-
вали Гуссерль и Хайдеггер. Удалось установить, что, согласно Кожеву, успешность фе-
номенологической работы зависит от наступления «конца истории» – только он дает
вступить в свои права особой фигуре философии Кожева – «Мудрецу»: всякое феноме-
нологическое описание требует отказа от действия и отстранения от мира, прекращения
движения и истории. По мнению Ямпольской, такая экстравагантная гегельянизация
Гуссерля и феноменологизация Гегеля прошла не без влияния ученика Гуссерля, Ойгена
Финка, работавшего с основателем феноменологии в поздний период его творчества при
разработке генетической феноменологии конституирования смысла. В ней трансценден-
тальная субъективность раздваивается на сознание, конституирующее мир, и на незаин-
тересованного наблюдателя, субъекта трансцендентальной рефлексии. Соответственно,
эмпирический субъект, определенный феноменолог, существует в этой расщепленности.
Кожев же в лекциях 1934-35 гг. тоже говорит о расщеплении субъекта истории на агента
феноменализации, через которого происходит конституирование самого исторического
процесса, и незаинтересованного наблюдателя феноменализации, «Мудреца». Однако к
лекциям 1938-39 гг. «Мудрец» Кожева уже не гуссерлевский, не интеллектуалистский
наблюдатель, но деятельный, хайдеггерианский, конституирующий мир и анализирую-
щий его. Таким образом, произошедшая в 1934-1939 гг. трансформация взглядов Кожева
на феноменологический метод может быть описана как «от Гуссерля к Хайдеггеру»,
утверждает А.В. Ямпольская. Сообщение о методе Кожева вызвало живейший интерес,
и не последнюю роль здесь сыграли разные оценки исследователей того, к какой тради-
ции мысли необходимо отнести Кожева, какие конвенциональные самопонятности реле-
вантны при интерпретации его идей и, в частности, его философского метода.
Последнее выступление на коллоквиуме принадлежало Жану-Кассьену Биллье (Jean-
Cassien Billier, Université-Sorbonne, Париж, Франция). Из его доклада «Вопрос международ-
218
ного права в мысли Кожева» участники коллоквиума узнали, как знаменитый «Набросок
доктрины французской политики» Кожева соотносится с основными линиями дискуссии о
статусе международного права. Одна из ключевых позиций того времени была представле-
на неогегельянством Кауфмана, для которого международное право требует суверенности
государства. С другой стороны, выступали различные представители юридического позити-
визма, для которых международное право есть часть внутреннего государственного права
как «внешнего государственного права» или результат самоограничения государства. От-
дельно была представлена дискуссия между Карлом Шмиттом и Гансом Келсеном о про-
блеме взаимодействия внутреннего и международного права. Особым образом была оха-
рактеризована позиция Кожева, который оригинальным образом соединил вопрос о меж-
дународном праве с темой реализации истории в едином мировом государстве с единым
мировым порядком. Тем самым, доклад Ж.-К. Биллье связал разнообразие теоретических
работ Кожева с его практической политической работой, начало его интеллектуальной
биографии в России и Германии и ее окончание в ряду влиятельнейших интеллектуалов во
французской внешней политике эпохи IV и начале V республики.
В завершение участники коллоквиума отметили высокий уровень докладов и живую и
плодотворную дискуссию, которая позволила не на бумаге, а в действительности реали-
зовать мечту о диалоге между исследователями, приехавшими из разных городов и стран,
придерживающихся разных философских взглядов и традиций, но объединенных инте-
ресом к личности и творчеству Александра Кожева, нашего соотечественника, который в
своей жизни и в своем философском наследии объединил Францию и Россию.
А.М. Руткевич, Д.Н. Дроздова, И.С . Курилович
Руткевич Алексей Михайлович – Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, 105066, ул. Старая Басманная, д. 21/4.
Доктор философских наук, профессор, НИУ ВШЭ.
arutkevich@hse.ru
Дроздова Дарья Николаевна – Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, 105066, ул. Старая Басманная, д. 21/4.
Кандидат философских наук, доцент, НИУ ВШЭ.
ddrozdova@hse.ru
Курилович Иван Сергеевич – Российский государственный гуманитарный универ-
ситет, философский факультет, Москва, 125993, ГСП-3, Миусская площадь, д. 6 .
Кандидат философских наук, РГГУ.
kurilovich.i@rggu.ru
Rutkevich Alexey M.
–
National Research University Higher School of Economics,
21/4, Staraya Basmannaya str., Moscow, 105066, Russian Federation.
DSc in Philosophy, Professor, HSE.
arutkevich@hse.ru
Drozdova Daria N.
–
National Research University Higher School of Economics, 21/4,
Staraya Basmannaya str., Moscow, 105066, Russian Federation.
CSc in Philosophy, Associate Professor, HSE.
ddrozdova@hse.ru
Kurilovich Ivan S.
–
Russian State University for the Humanities , Faculty of Philoso-
phy, 6 Miusskaya sq., Moscow, GSP -3, 125993, Russian Federation.
CSc in Philosophy, RSUH.
kurilovich.i@rggu.ru
DOI: 10.31857/S004287440006059-9
219
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Водоразделы секуляризации. Что не так с нашим тысячелетием: взгляд из эпицентра
геополитического клинча
Книга коллектива авторов из Украины (Во-
доразделы секуляризации: Западный цивилиза-
ционный проект и глобальные альтернативы.
Под ред. А .В . Белокобыльского, В.С . Левиц-
кого. М .: Академический проект, 2018. 215 с.)
сначала вышла в Украине, а теперь и в России.
Основные идеи исследования были сформули-
рованы под руководством Александра Белоко-
быльского и Виктора Левицкого (их совмест-
ная статья «Социальная реальность. Институ-
ции интерсубъективности»
опубликована
в «Вопросах философии», 2018, No 10).
Название, вынесенное в заголовок этой ре-
цензии, с моей точки зрения, вполне отражает
общий дух книги. Несмотря на то, что в ней
обсуждаются важные философские, религио-
ведческие, культурологические проблемы, это
не только специальное научное исследование,
но и «документ эпохи», своеобразная летопись
событий истории западного разума (рациональ-
ности) последних десятилетий. Книгу читаешь
с увлечением, следя за «драматургией» и «фа-
булой», хотя ее «героями» выступают теории и
факты, а язык изложения иногда довольно сло-
жен. Анализ процесса секуляризации, связыва-
емой авторами с поступательной «детранцен-
дентизациией» смыслового универсума евро-
пейской культуры, представляется достаточно
убедительной находкой для реализации за-
мысла книги. По крайней мере, в нем геополи-
тические сдвиги нового тысячелетия превраща-
ются в логичные и предсказуемые события.
Главная ценность книги – редкая в наши
дни попытка осмысления «происходящего с
нами» (цитата из авторской аннотации), которая
не сводится к поиску сугубо материальных де-
терминант исторического процесса. Я бы сказал,
что авторы попытались внести определенную
структуру в ту релятивистскую парадигму раци-
ональности, которая утвердилась в философии с
последней четверти ХХ в. Правда, речь идет ско-
рее о теории рациональной относительности,
когда в качестве центра системы координат при-
нимается религиозное мировоззрение (кон-
кретно – латинское христианство), а в качестве
критерия оценки – степень универсальности ка-
тегорий культуры, выработанных разумом на
пути исторического движения. Интересным
следствием такого теоретического подхода ста-
новится тот факт, что социальные, экономиче-
ские, технические, технологические и политиче-
ские новации рассматриваются как производ-
ные от трансформаций культурного разума.
Интересно, что в книге секуляризация не
приравнивается к рационализации, а та, в свою
очередь не выводится за границы религиозного
универсума. Напротив, рационализация рас-
сматривается в качестве атрибута становления
религиозных традиций (см. с . 24), в частности
христианства как мировой религии. Именно
в христианском универсуме, точнее в культур-
ном ареале западного латинского христианства,
проц есс рационализации религии достигает
степени секуляризации – состояния разума,
в котором начинается формирование а-религи-
озного мировоззрения. Собственно, отказ от
«партикулярной» религиозной мифологии, свя-
занной в случае христианства с библейским по-
вествованием, означает рождение мифологии
универсальной – мировоззрения, в центре ко-
торого, согласно авторской интерпретации,
находится человеческий разум. Секуляризация
в таком случае - это процесс переосмысления
религиозного содержания онтологических ка-
тегорий в духе его антропологизации и «дет-
рансцендентализации». Собственно ориента-
ция нового мировоззрения на человеческий ра-
зум и потребности и наделяют его универсаль-
ным характером, т.е . делают применимым
в любом сообществе и к любым ситуациям.
На пути к собственному пониманию сущ-
ности секуляризации, авторы монографии
скрупулезно разбирают существующие под-
ходы к проблеме. Предложенный анализ инте-
ресен не только с точки зрения полученного
результата, но и сам по себе, в смысле включе-
ния в русскоязычный философский дискурс
концепций, которые лишь изредка (а то и ни-
когда) становились предметом научного обсуж-
дения. В частности, разбираются значимые
произведения Роберта Вазнова, Даниэль
Эрвье-Лежер, Давида Мартина, Родни Старка,
Марка Чавеса, Стива Брюса и многих других.
Все это, естественно, в дополнение к «класси-
кам жанра» – Питеру Бергеру, Чарльзу Тей-
лору, Хосе Казанове и т.д.
Во второй части книги («Маркеры секуля-
ризации») показано, что универсальное (читай
секулярное) мышление пробивается в истории
Европы различными всходами – в зарождении
и развитии систематической теологии, прото -
естественнонаучных и социально -политиче-
ских теориях, феномене западного универси-
тета. Впрочем, сама возможность его появле-
ния в книге связывается с христианской глоба-
лизацией – распространением общих форм
220
мышления и действия на обширных террито-
риях, повлекшее формирование достаточно го-
могенного культурного пространства западного
(латинского) христианства. Именно с этим
культурным универсумом связывается уни-
кальное в истории перерождение р елигиозного
разума в секулярно-универсальный; и именно
отсюда начинается его экспансия на другие
культурные миры, в которой авторы книги ви-
дят сущность глобализации как таковой. Пере-
обустройство жизненного пространства в соот-
ветствии с императивами универсального (се-
кулярного!) разума, расширение этого про-
странства до планетарных масштабов с охватом
всего человечества – вот главная идея запад-
ного цивилизационного проекта (об этом –
в третьем разделе книги).
Впрочем, на пути победного шествия секу-
ляризации по планете есть как минимум две
преграды, которые обсуждаются в последую-
щих разделах монографии. Во-первых, религи-
озные культуры, обрамляющие Европу – и чем
дальше распространяется условный «запад»,
тем шире круг противников секуляризации, –
отнюдь не готовые принять максимы ее миро-
воззрения в качестве безальтернативных.
Во-вторых, в сердце универсального разума ле-
жат переосмысленные, но все же религиозные
по своей природе аксиомы. Поэтому распро-
странение секулярной парадигмы из центра ее
зарождения (в авторской интерпретации «мира
первичной секуляризации») порождает универ-
салистские по форме, но религиозные по сути
альтернативы. В монографии подробно рас-
сматривается история трех культурно-мировоз-
зренческих альтернатив западному проекту: ис-
ламский проект (в нескольких вариациях), ки-
тайский проект сердцевинных ценностей и
российский проект «русского мира». Каждый
из них опирается на собственные религиозно -
традиционалистские аксиологии, противопо-
ставляет себя «западу», но при этом в глобаль-
ном противостоянии использует западный же
инструментарий.
Развернутая картина культурного или даже
мировоззренческого противостояния завершает
книгу. В западной Европе оно проявляется в
виде образования в секулярной среде религиоз-
ных (преимущественно мусульманских) анкла-
вов, высекающего в столкновении со свет-
скими европейскими ценностями неожидан-
ную христианскую «искру» и порождающего
волну популистской реакции. Культурное «тре-
ние» в ситуации с Россией и Китаем порождает
зоны «перегрева», одна из которых, по автор-
скому мнению в силу специфики внутриполи-
тической ситуации, привела к конфликту во-
круг Украины. Авторская позиция иллюстриру-
ется достаточно богатым эмпирическим мате-
риалом, малоизвестным в российском научном
сообществе.
Еще раз повторю: книга интересна и с
точки зрения сюжета, что в научных изданиях
встречается нечасто, и в смысле предложенной
теории формирования секулярной рациональ-
ности. Знакомясь с ней, не всегда соглаша-
ешься, иногда удивляешься, но постоянно по-
лу чаешь поводы для собственных рассуждений
и пищу для новых выводов. Изложение разных
разделов книги неоднородно, иногда предло-
женные суждения и интерпретации представ-
ляются несколько резкими, что, впрочем, сви-
детельствует скорее об экзистенциальной во-
влеченности в предмет, нежели о преднамерен-
ной необъективности.
В целом книга «Водоразделы секуляриза-
ции» – это качественно, свежо, иногда увлека-
тельно. Может, именно такой книги не хватает
сегодняшнему дню, раздвоившемуся между не-
сколько абсолютизированным сегодня правом
на собственное мнение и столь же абсолютизи-
рованным требованием научной «самоокупае-
мости». И самоизоляция в «башнях из слоно-
вой кости», и неконтролируемый коммерче-
ский порыв, уводят исследователя с пути по-
иска истины. «Водоразделы секуляризации», по
моему мнению, настойчиво предлагают на него
вернуться.
Член -кор р. РАН В.В . Мироно в
Мироно в Владим ир Васильевич ‒ Мо ско в-
ский го сударственный универси тет им.
М.В . Лом оно сова, фи ло соф ский факу льтет,
Москва, 119991, ГСП -1 , Ломоносовский про-
спект, д. 27, корп. 4 .
Доктор философски х наук, профессор ,
член-ко рр еспо ндент РАН, декан философ-
ского факультета МГУ им. М .В . Ломоносова,
заведующий кафедрой онтологи и и теории
п ознани я.
dean@philos.msu .ru
Mironov Vladimir V. – Faculty of Philosophy,
Lomonosov Mo scow State University, 27/4, Lo -
monosovsky av. GSP -1 , Moscow, 119991, Rus-
si an Fed eration.
DSc in Philos ophy, Prof essor, Ass oci ate
Member of the Russian Academy of Scien ces,
Dean of Faculty of Philosophy, Head of the De-
partment of Ontology and Theory of Kno wledge,
Lomonosov Mos co w State University.
DOI: 10.31857/S004287440006060-1
221
Dragan JAKOVLJEVIĆ. Erkenntnisgestalten und Handlungsanweisungen. Nordhausen:
Verlag Traugott Bautz, 2016. 192 s.
Драган ЯКОВЛЕВИЧ. Образы познания и рекомендации к действиям
Книга Драгана Яковлевича вышла в рамках
серии «Libri nigri», издаваемой немецким изда-
тельством в Праге. Серия дает возможность авто-
рам, пишущим на немецком языке, войти в меж-
дународное философское сообщество. Благодаря
этой возможности, широкому кругу читателей
стала доступна и книга коллеги из Сербии.
Она представляет собой ряд очерков, напи-
санных автором в разное время. Это – «Ошибоч-
ность фаллибилизма», «Предмет и методология
общественных наук», «Методологический мо-
низм в рамках критического рационализма»,
«Нормативный генезис или история воздей-
ствий?», «Идея Поппера о негативном утилита-
ризме», «Умеренная нетолерантность в плюрали-
стично-демократических общественных структу-
рах» и «Обвинения монотеизма в нетолерантно-
сти». Эти статьи указывают на взаимосвязь тео-
рии познания и практической деятельности. Для
широкого круга читателей, знакомого с филосо-
фией К. Маркса, и для более узкого круга, знако-
мого с идеями русского позитивизма от В.В . Ле-
севича до А.А. Богданова, такой подход не нов.
Интересно, однако, что Д. Яковлевич, учившийся
в Германии у одного из известных представителей
критического рационализма, Ханса Альберта,
развивает идеи этой школы и тем самым обосно-
вывает связь между философией науки и теорией
действия на новом понятийном фундаменте.
Свою задачу он видит в том, чтобы, следуя своему
учителю, внести вклад в преодоление разрыва
между научной рациональностью и экзистен-
цией, который зафиксирован в форме выделения
позитивизма и экзистенциализма как несовме-
стимых друг с другом философских течений.
Дуализм,
противопоставляющий фор-
мально-логический рационализм, свойствен-
ный познанию, и иррациональное решение,
свойственное понимаемому как экзистенция
бытию человека, автор книги считает недопу-
стимым. Для снятия его он предлагает ввести
широкое понятие рациональности, которое не
обособляло бы познание от этики и политики,
а, наоборот, сводило бы их воедино. При этом
он исходит из того, что нормы и ценности под-
лежат кри тическому обоснованию и критиче-
ской проверке ничуть не в меньшей степени,
чем основоположения и выводы науки. И для
тех и для других должны действовать такие
принципы, как целерациональность, фаллиби-
ли зм, логическая непротиворечивость и т.д.
И к тем и к другим применим метод проблем-
ного анализа, так что и те и другие попадают в
поле внимания философа прежде всего как
конкретные проблемы, а не как предметы для
метафизических рассуждений à la Хайдеггер.
Д. Яковлевич дискутирует не только со сво-
ими старшими коллегами (Х. Альберт, Ю. Ха-
бермас, К. Поппер, Ю. Миттельштрасс), но и
обращается к философам прошлого (В. Дильтей,
Дж.С. Милль, О. Нейрат, К. Барт). При этом по-
водом для обращения к истории философии
каждый раз служит необходимость решения ка-
кой-либо методологической задачи. Например,
в продолжение методологического спора в ше-
стидесятых годах XX в. между критическим ра-
ционализмом (К. Поппер) и Франкфуртской
школой (Т. Адорно) о взаимосвязи научной тео-
рии и общественной практики, Д. Яковлевич
снова ставит вопрос о методологическом статусе
общественных наук. Обращаясь к Дильтею, он
демонстрирует взаимосвязь обыденного, дона-
учного познания и познания социальных наук,
которые генетически возникают из «жизненного
мира» и являются его продолжением. В силу
этого, категории и понятия общественных наук
не обладают ценностной нейтральностью и объ-
ективностью, поэтому их использование в науч-
ных целях должно сопровождаться критической
рефлексией об их научном статусе. При этом ав-
тор предлагает придерживаться «прагматической
интерпретации» общественных наук, включаю-
щей «прагматику смысла предложений обще-
ственных наук» и основанную на ней «топику
обоснования методологической ориентации
при построении теории отдельными обще-
ственными науками» (s. 73). Разработка науч-
ной теории в общественных науках должна, по
его мнению, опираться на «систематическое
конструирование специфических для данной
конкретной дисциплины исследовательских
программ» (там же). Преимущество такого под-
хода можно видеть в том, что исследователь-
ская программа позволяет объединить матема-
тико-дедуктивные, эмпирические методы ис-
следования с методами, свойственными гума-
нитарным наукам, например, с герменевтиче-
ским подходом, и тем самым подчеркнуть дей-
ствительно «научный», но при этом специфи-
ческий характер общественных наук.
Интересен подход Д. Яковлевича к про-
блеме фаллибилизма, то есть принципиальной
ошибочности человеческого знания. Он харак-
теризует свою позицию как «умеренный фал-
либилизм» (s. 42), который дифференцирует
различные типы познания, различные способы
обоснования познания и, соответственно, раз-
личные типы ошибок. При этом он пытается
двигаться, с одной стороны, против неограни-
ченного фаллибилизма, граничащего со скеп-
тицизмом и агно стицизмом, а с другой сто-
роны, против идеалистического рационализма
222
декартовского типа, принимающего тезис об
абсолютной достоверности истин разума. Ав-
тор считает, что современная эпистемология
может позволить себе «просвещенную скром-
ность» (s. 46), то есть сознание того, что наряду
с неокончательными и фаллибельными исти-
нами существуют истины, которые вполне
можно признать в качестве надежного знания.
Разумеется, в небольшой рецензии невоз-
можно затронуть все семь статей, включенные
в данный сборник. Отметим только, что наряду
с эпистемологической проблематикой автора за-
нимают также этические и политические про-
блемы современности. Так, две статьи посвя-
щены широко и повсевместно обсуждаемой
в настоящее время проблеме толерантности.
Они называются «Умеренная нетолерантность в
плюралистично-демократических
обществен-
ных структурах» и «Обвинения монотеизма в не-
толерантности». В первой статье автор полеми-
зирует с К. Поппером, считающим, что если не-
ограниченно распространить толерантность на
нетолерантных, будучи не готовым к защите то-
лерантного общества от нападок нетолерантных,
то толерантные будут уничтожены, а вместе с
ними и толерантность как таковая. В центре
внимания здесь находится само понятие «толе-
рантность», а также спорное «право на нетоле-
рантность». Во второй статье Д. Яковлевич пы-
тается доказать, что монотеизм не подразумевает
с необходимостью нетолерантность, ссылаясь
при этом на культурно-историческое значение
монотеистических религий.
В заключение хочется отметить, что автор,
сам того не сознавая, прекрасно вписывается
в традицию теории науки, разрабатываемую
в России. Так, В.А. Лекторского интересует
связь проблем эпистемологии с проблемами
социологии, философии и культуры. В своих
работах, таких, как «Рациональность, крити-
цизм и принципы либерализма» (1995), «О то-
лерантности, плюрализме и критицизме»
(1997), «Возможна ли интеграция естествозна-
ния и наук о человеке?» (2004) и «Рациональ-
ность как ценность культуры» (2005), он разра-
батывал такие темы, как гуманизм, плюрализм,
толер антность, критицизм в их связи с темами
рациональности в культуре, взаим освязи веры
и знания, вопроса о типах реальности и видах
знания. В .А. Лекторский также ставил вопрос о
включении науки в общекультурный познава-
тельный процесс и проанализировал различные
способы такого включения. В.С . Степин разра-
ботал концепцию генезиса и структуры науч-
ной теории и предложил идею построения тео-
рии как конструктивного введения теоретиче-
ских объектов (см., например, «Современный
позитивизм и частные науки», 1963). В рамках
этих исследований он изучал вопросы основа-
ний науки и их взаимосвязи с донаучным опы-
том (см., например, «Основания науки и их со-
циокультурная размерность», 1996). Его инте-
ресовала роль культуры в выработке типов
научной рациональности, а также более широ-
кая связь универсалий культуры и типа циви-
лизации (см., например, «Ценностные основы
и перспективы техногенной цивилизации»,
1999). Уже простое указание на работы этих ав-
торов свидетельствует о параллельном разви-
тии философии науки и культуры в России и
за рубежом. Для читателей, знакомых с отече-
ственной традицией философии науки и куль-
туры, сборник статей Д. Яковлевича дает воз-
можность сравнительного анализа подходов,
которые, как кажется, не столько отличаются,
сколько дополняют друг друга.
М.Е. Соболева
(г. Марбург, Германия)
Соболева Майя Евгеньевна – Марбургский
университет имени Филиппа, Марбург, Германия.
Доктор философских наук, экстраординар-
ный профессор Марбургского университета
имени Филиппа.
Soboleva Maja E. – Ph i lipps University of Mar-
burg, 10, Biegenstraße, Marburg, 35037, Germany.
Doctor Habil., associate professor at the
Philipps University of Marburg.
soboleva@staff..uni-marburg.de
DOI: 10.31857/S004287440006061-2
CONTENTS
“Science as a Vocation”
On the 100th Anniversary of Max Weber’s Lecture (Symposium Materials)
Boris I. Pruzhinin ‒ Science as a vocation and as a cultural phenomenon................
Alexander Yu. Antonovskiy, Raisa Ed. Barash ‒ How do We Criticize Max Weber
Today?........................................................................................................ ..
Anton V. Dolmatov, Evgeniy V. Maslanov ‒ Ethical Dimension of Scientific Activity
in M. Weber’s Speech..................................................................................
Karen Kh. Momdzhyan ‒ M. Weber: Does Social Science need Freedom from As-
sessments?.....................................................................................................
Tatiana D. Sokolova ‒ Science as a Profession: In Search of Self-Determination.....
Svetlana V. Shibarshina ‒ Interactions between scientists and society in the 21st
century: Revisiting the work by Max Weber.................................................
Tatiana G. Shchedrina ‒ Vocation or Profession? To the Question of the Cultural-
historical Sense of Scientific Knowledge in the Report of M. Weber............
Philosophy and Society
Alexander N. Savenkov ‒ Philosophy of Law and Legal Thinking: History and Mo-
dernity..........................................................................................................
Aleksandr S. Mishura ‒ Freedom in the World: the Defense of Externalist Libertar-
ianism...........................................................................................................
Philosophy and Culture
Vladimir V. Maliavin ‒ Phenomenon of Body Knowledge in Chinese Philosophy
and Culture...................................................................................................
Andrei L. Andreev1, Tatiana V. Kuznetsova ‒ How Do We Define Art?...................
Mats Rosengren ‒ On Creation, Cave Art and Perception: a Doxological Approach
Roman V. Gulyaev ‒ Rebels and Freebooters: Political Struggle in ‘Demons’ by
Dostoevsky...................................................................................................
Philosophy and Science
Arcadiy D. Ursul ‒ New Global Revolution in Science............................................
Anton P. Popov ‒ Conflict of human self-references.................................................
History of Russian Philosophy
Vladimir K. Kantor ‒ Merezhkovsky, or Actualization of Religious and Philosophi-
cal Meanings of European Culture...............................................................
5
10
15
19
24
29
33
38
49
59
72
80
94
104
113
124
224
Marina S. Kiseleva ‒ Russian intelligentsia about the “depths” of the Russian rev-
olution: hysterics and illusions in the context of time..................................
Yuriy V. Puschaev ‒ Again about the Unlearned Lessons of the Zagorsk Experi-
ment (an Answer to A. D. Maidanskiy).......................................................
Rustem R. Vakhitov ‒ Results of the Zagorsky Experiment in Terms of the Philos-
ophy of Concrete Idealism (Florensky versus Ilyenkov)...............................
History of Philosophy
Dmitry V. Bugai ‒ Plato and his religion. To the interpretation of Euthyphro dialogue
Vladimir K. Shokhin ‒ The philosophical struggle of early Advaita with Indian
atheism.........................................................................................................
Shankara ‒ Fragments, Translation and Commentary by Vladimir K. Shokhin.......
Letter to Editors
Konstantin Yu. Burmistrov ‒ “Light Charisma of the Führer.” Islamic element in
the Propaganda of the Third Reich..............................................................
Scientific Life
Irina V. Silakova ‒ Encyclopedia of Methodologies of Political Science..................
Rutkevich Alexey M., Drozdova Daria N., Kurilovich Ivan S. – Alexandre Kojève:
Russian-French dialogue..............................................................................
Book Reviews
Vladimir V. Mironov ‒ Watersheeds of Secularization. What’s Wrong with Our Mil-
lennium: a View from Epicenter of Geopolitical Clinch..............................
Maja E. Soboleva ‒ Dragan Jakovljević. Erkenntnisgestalten und Handlungsan-
weisungen.....................................................................................................
134
146
158
168
185
193
198
207
215
219
221