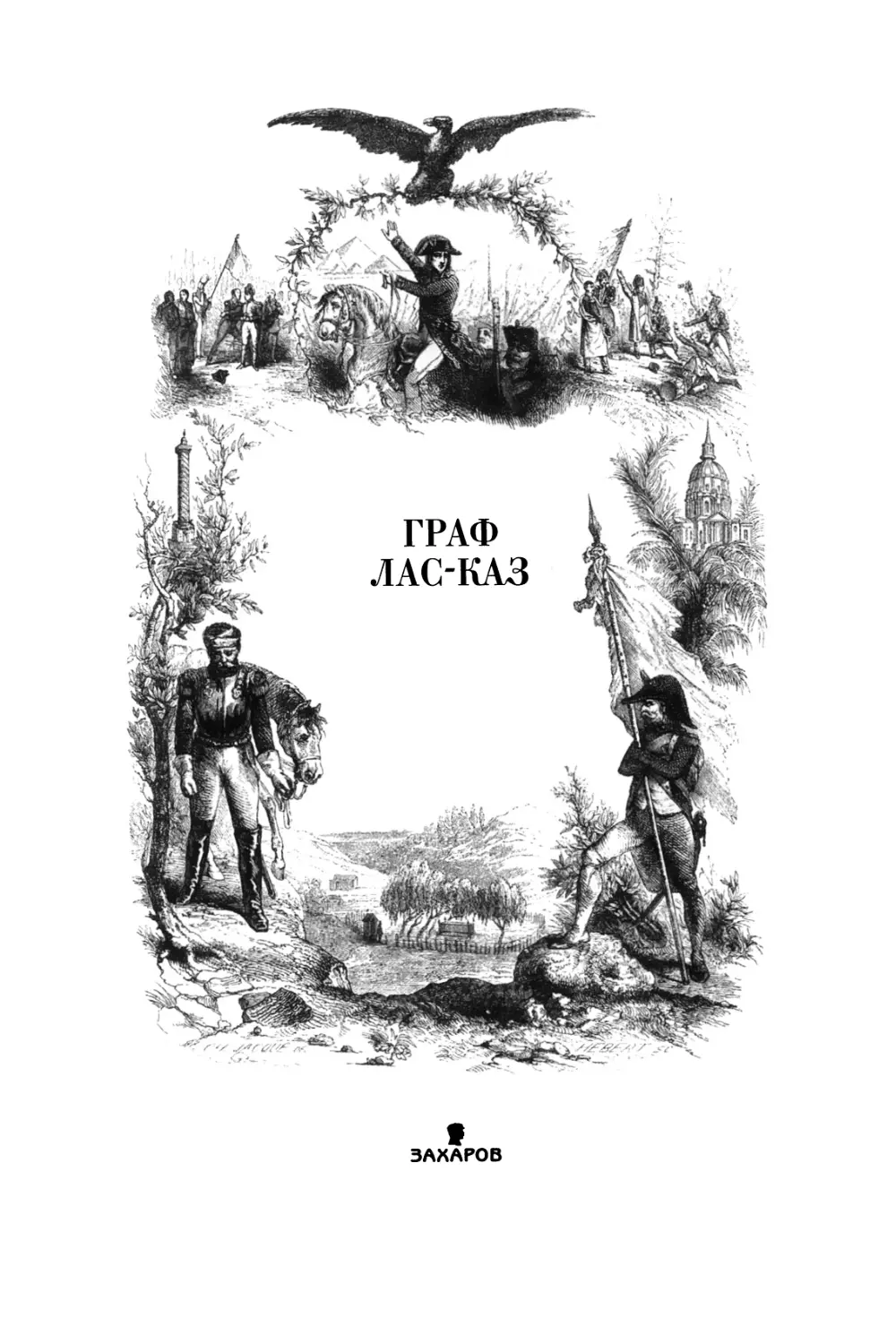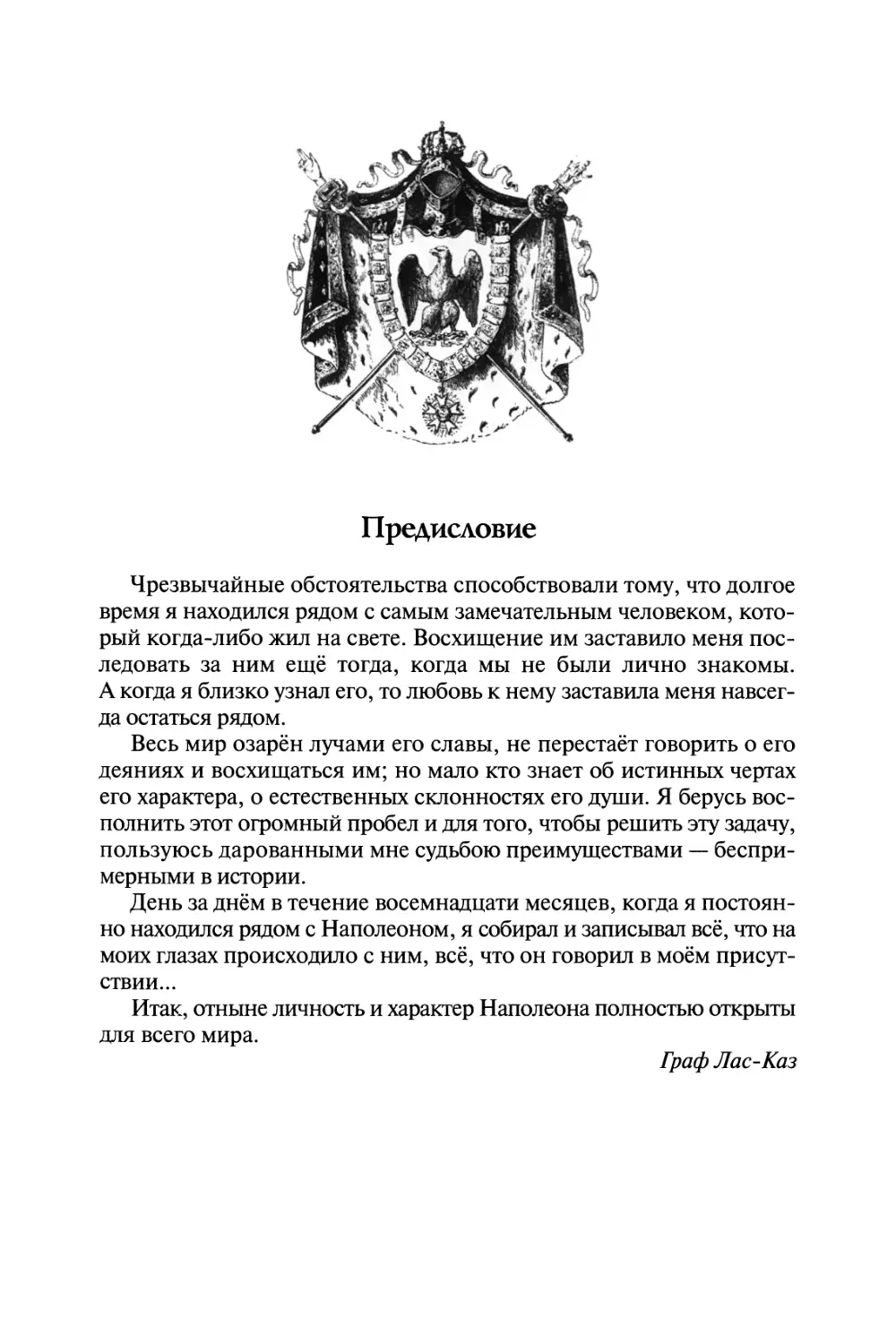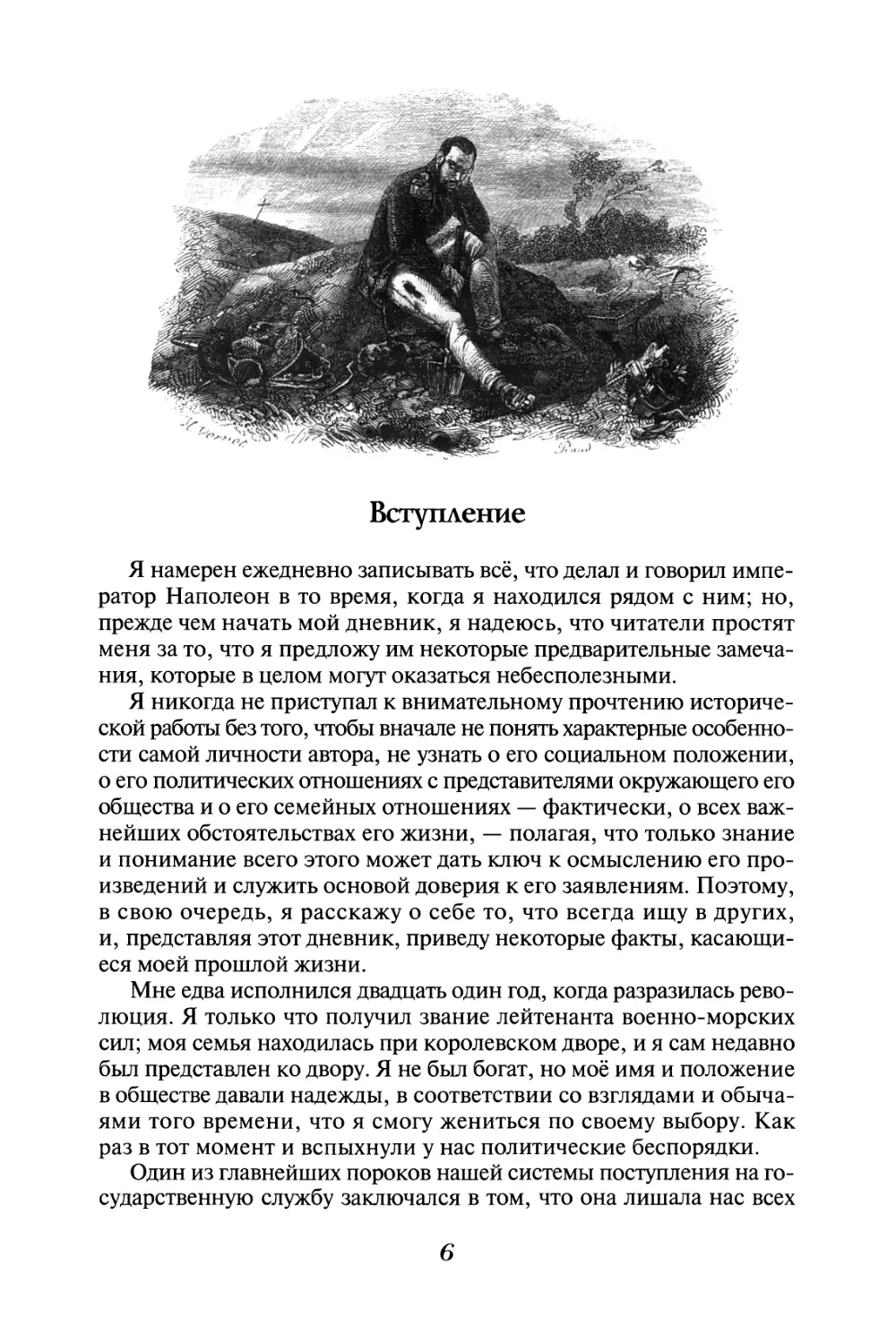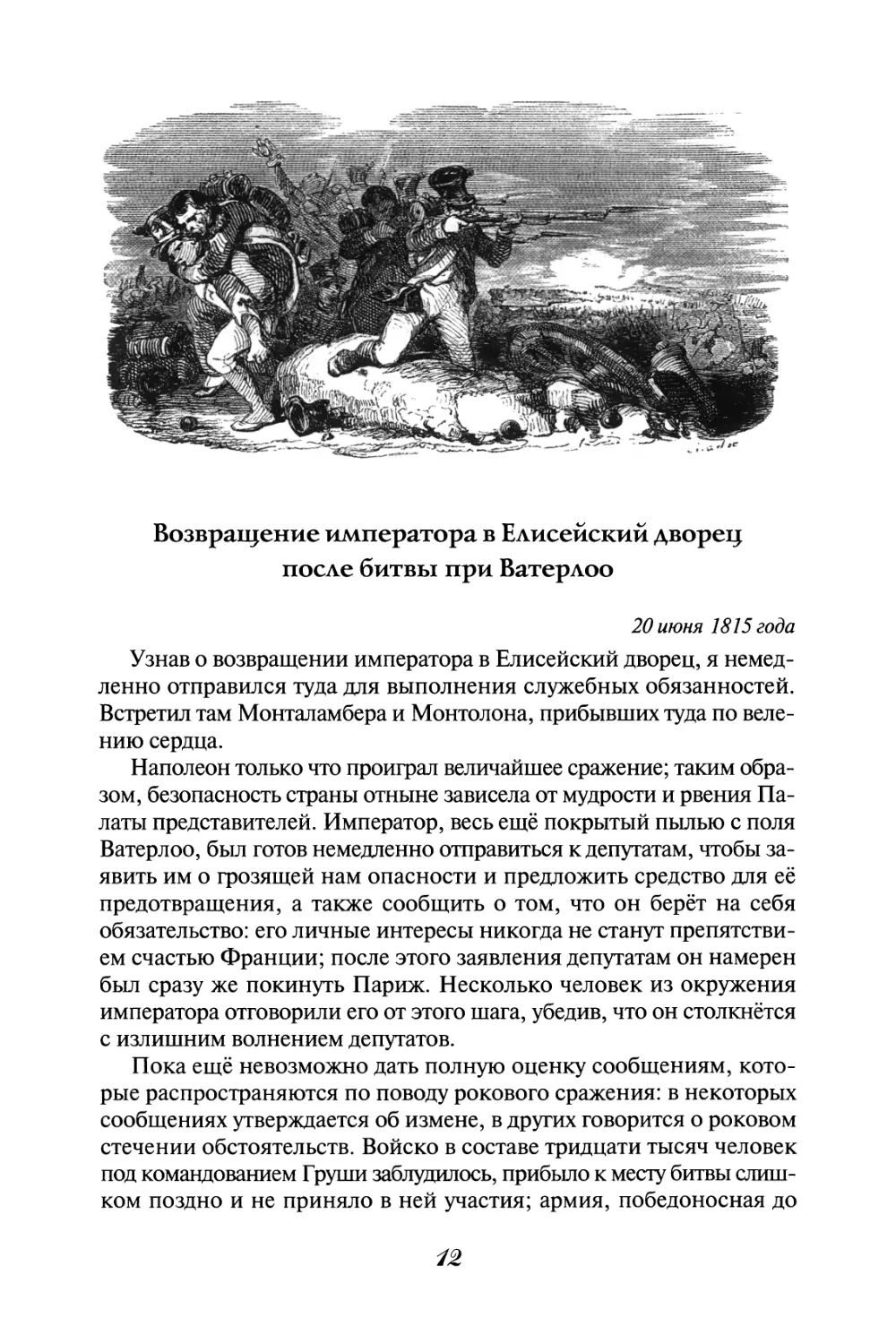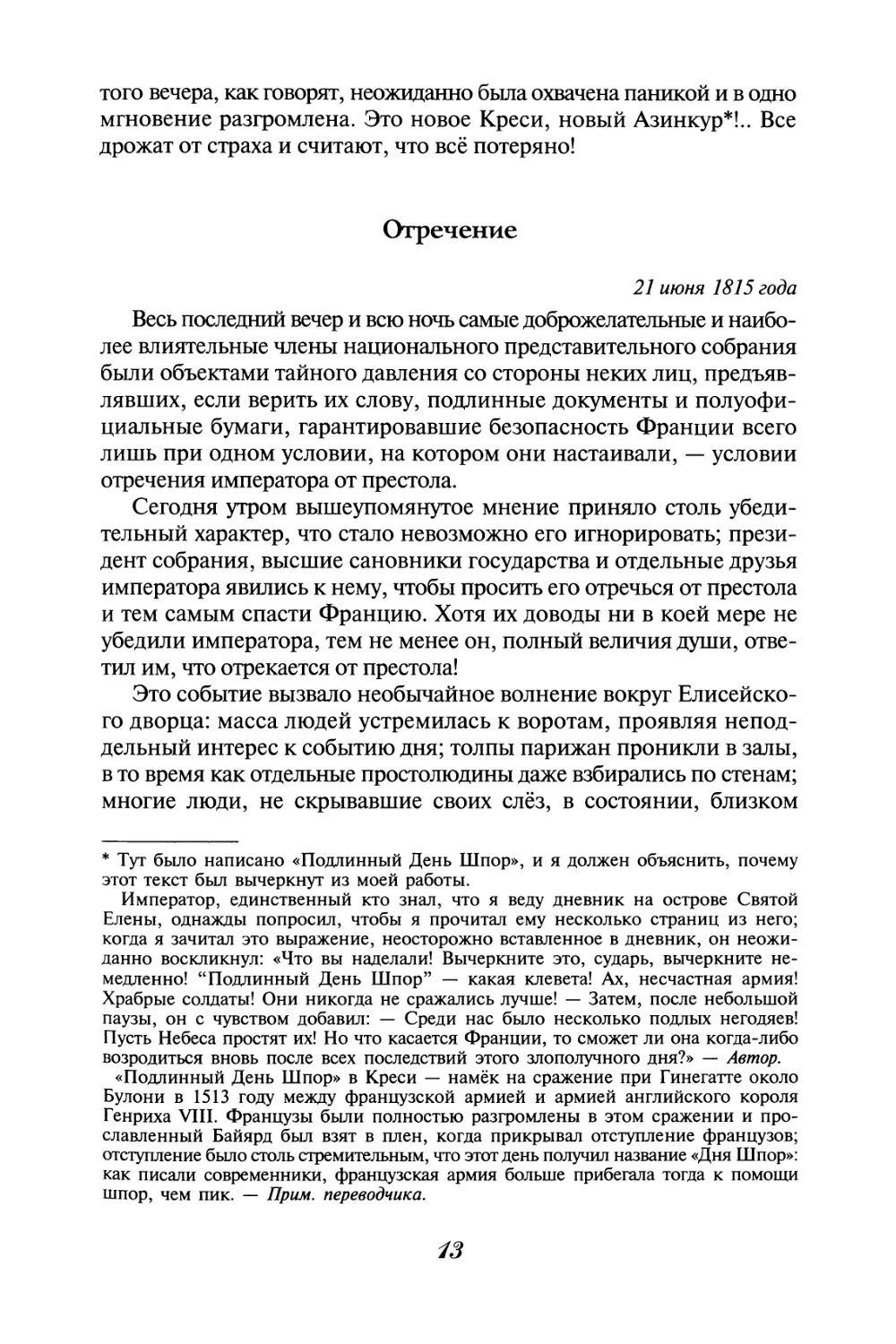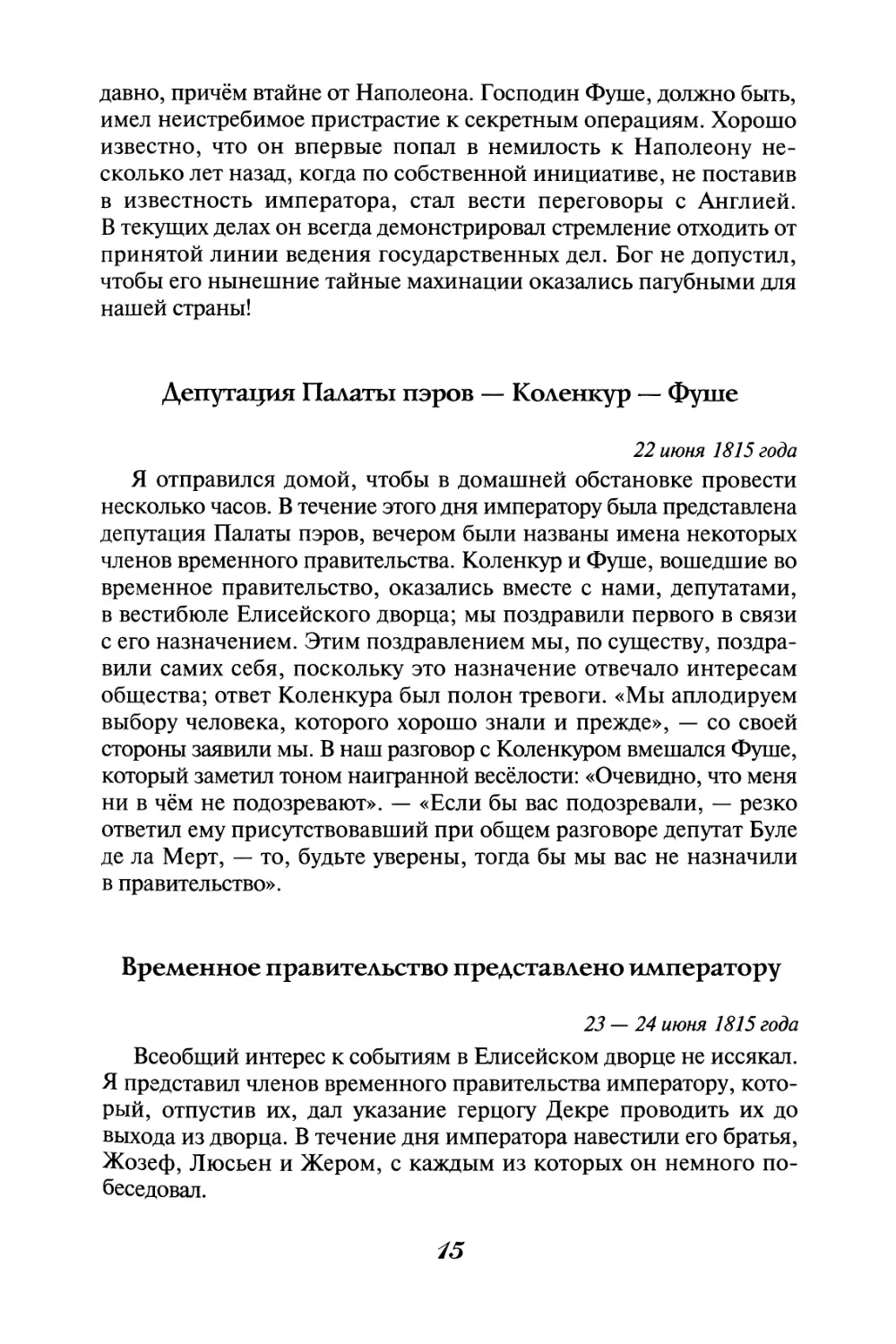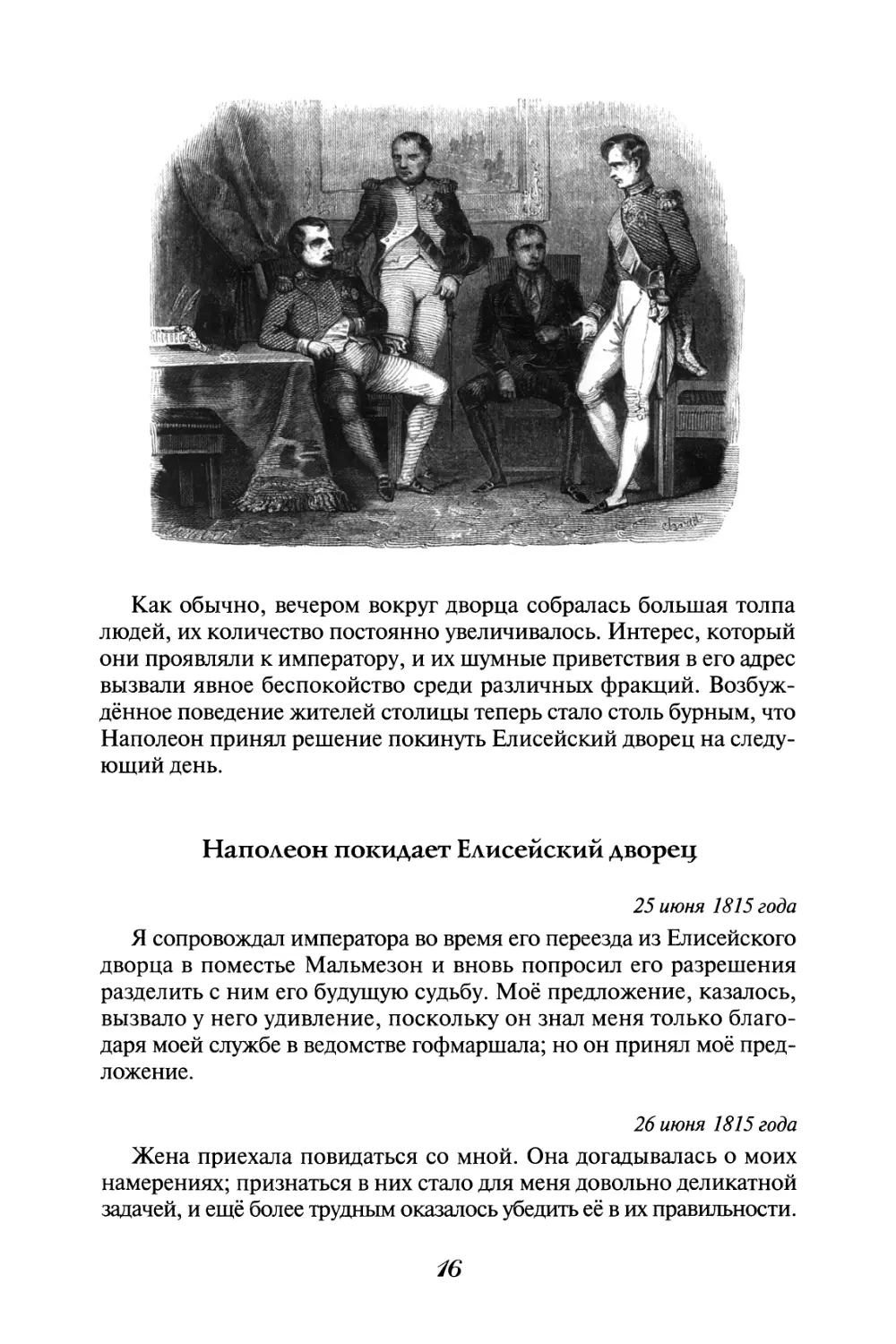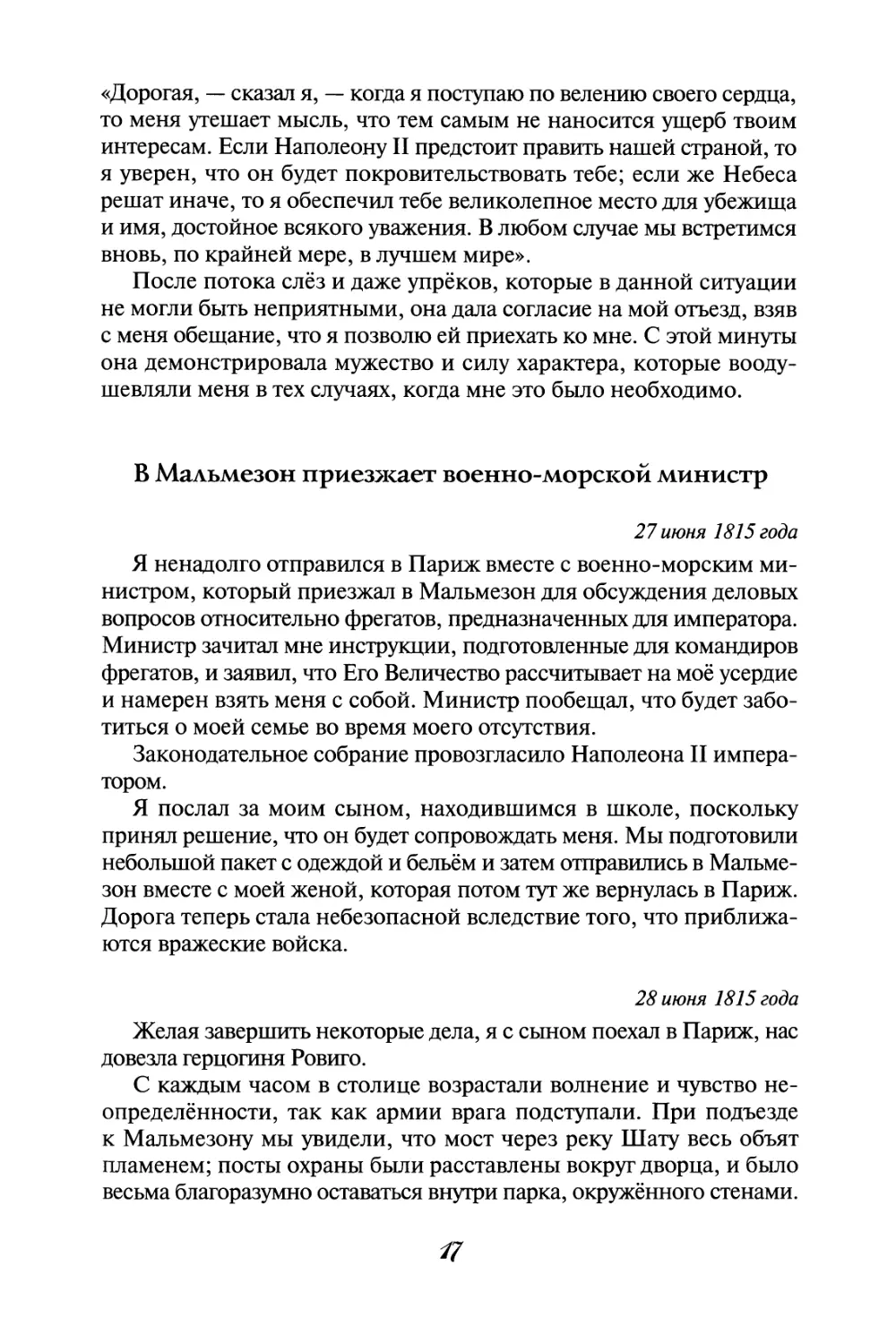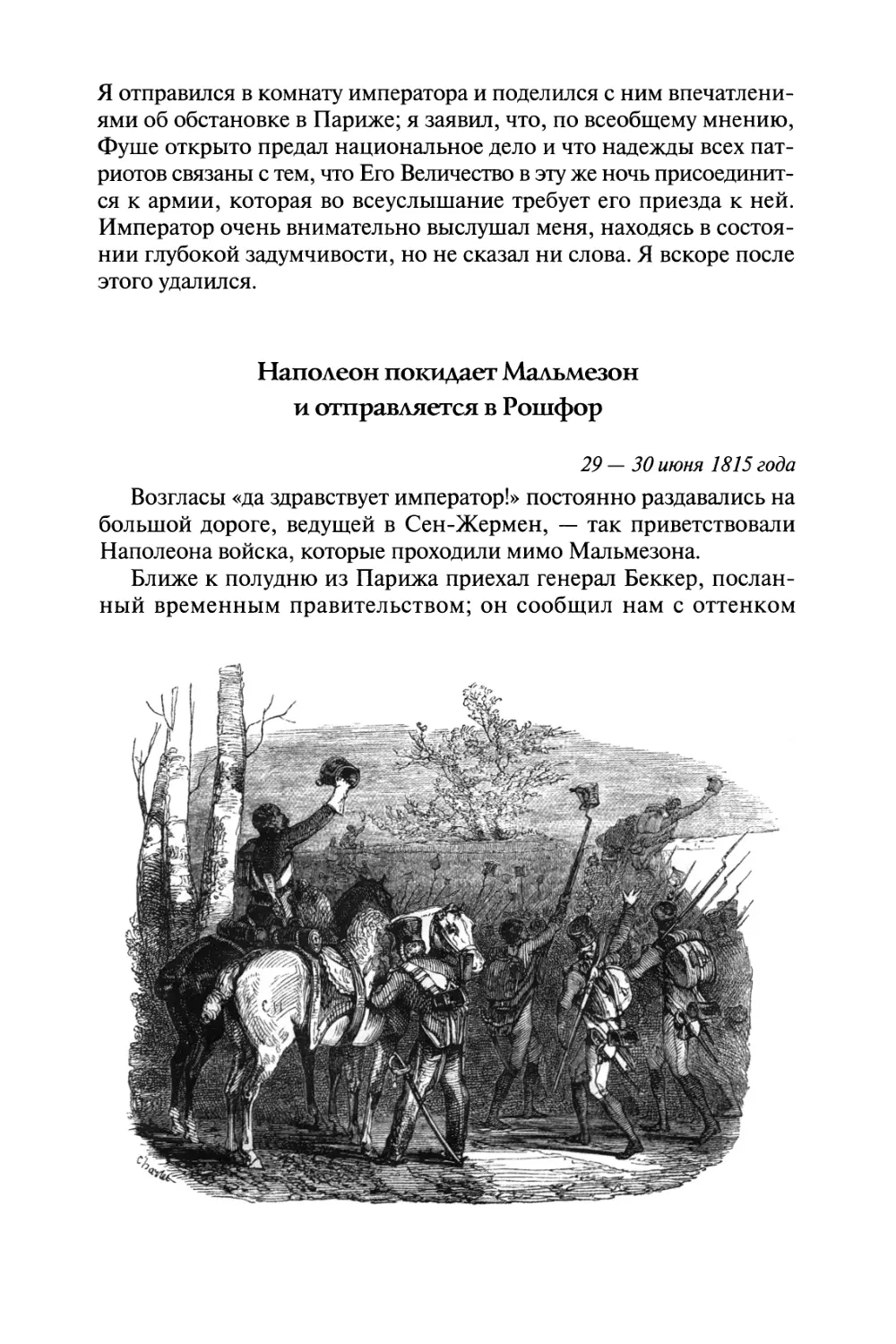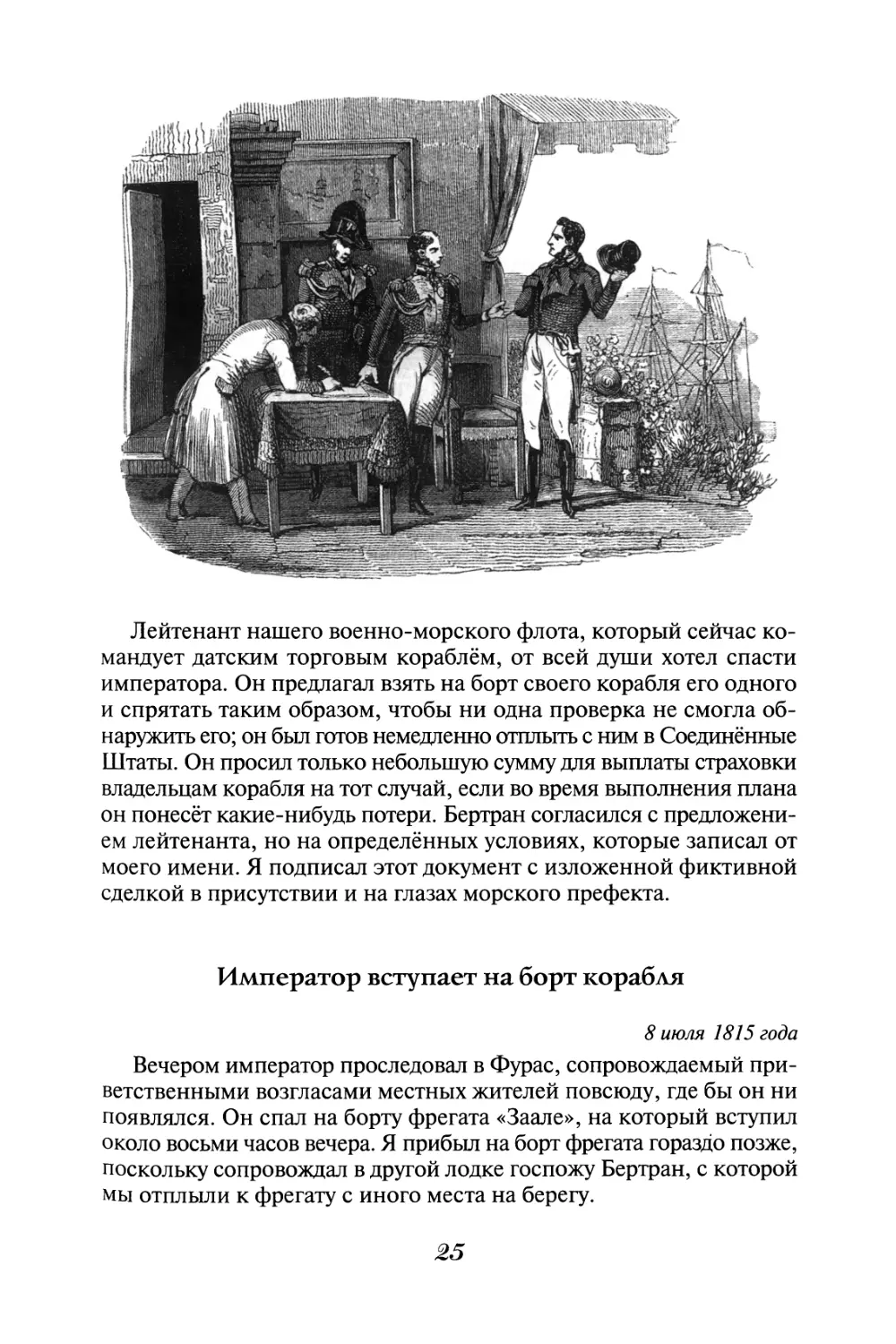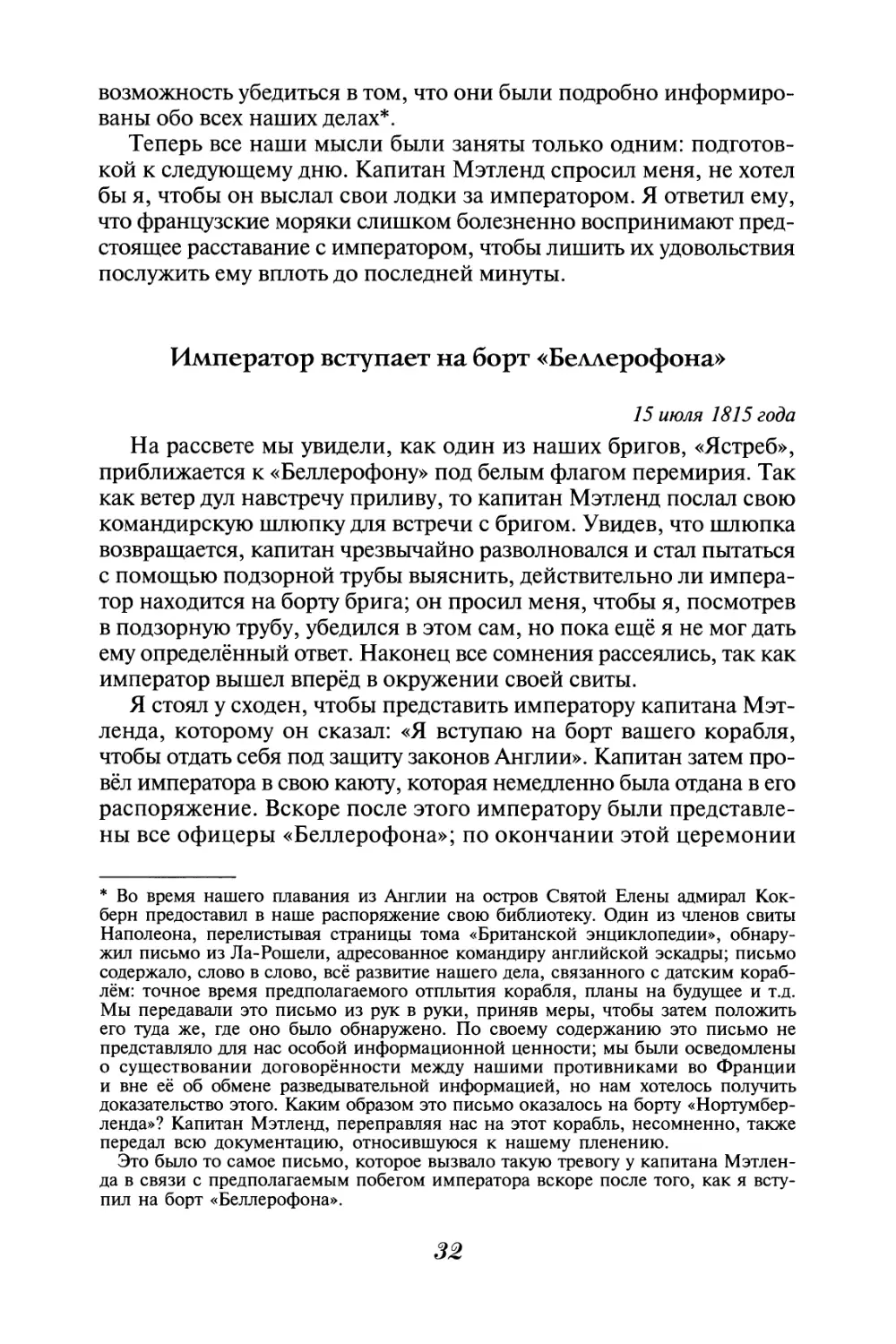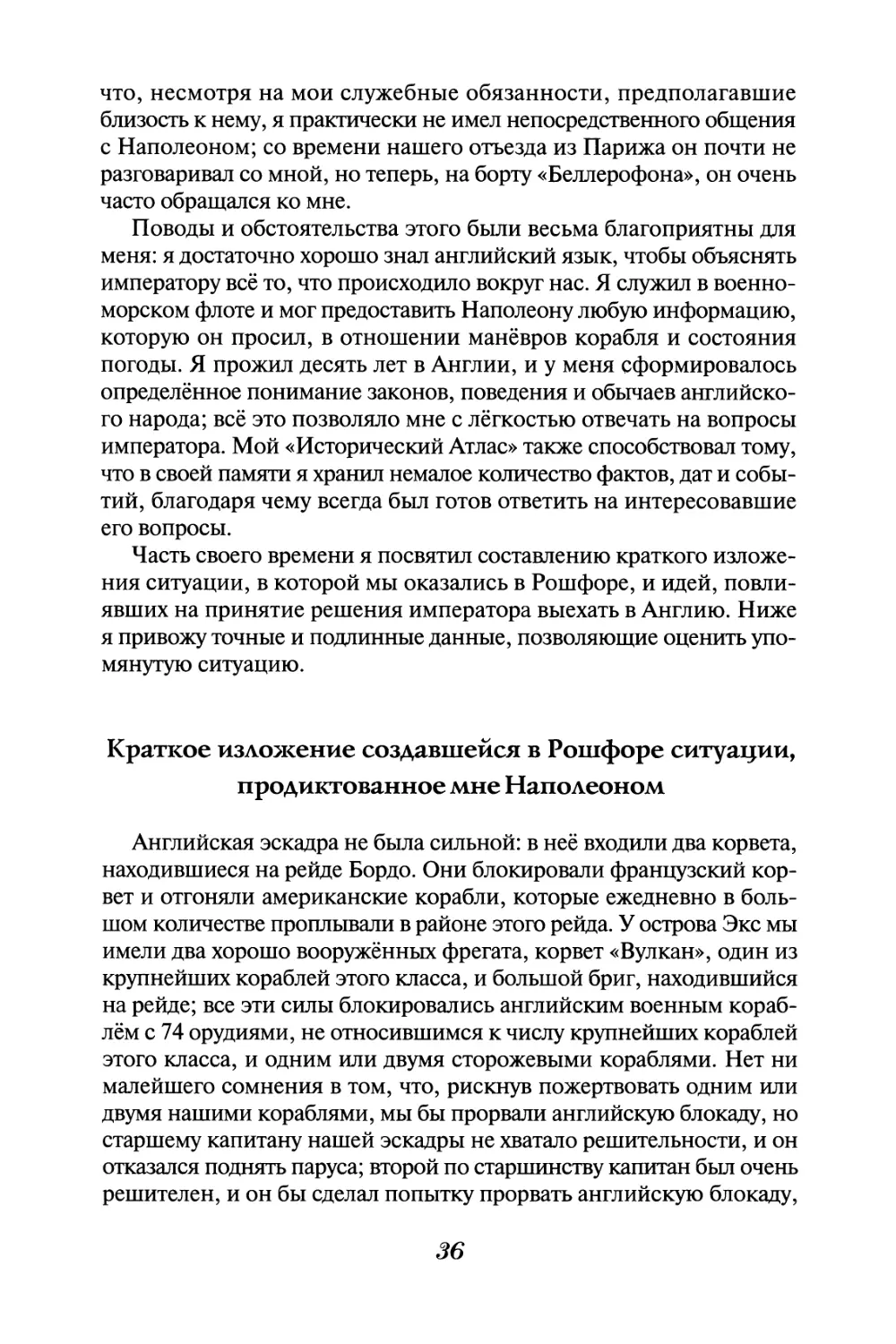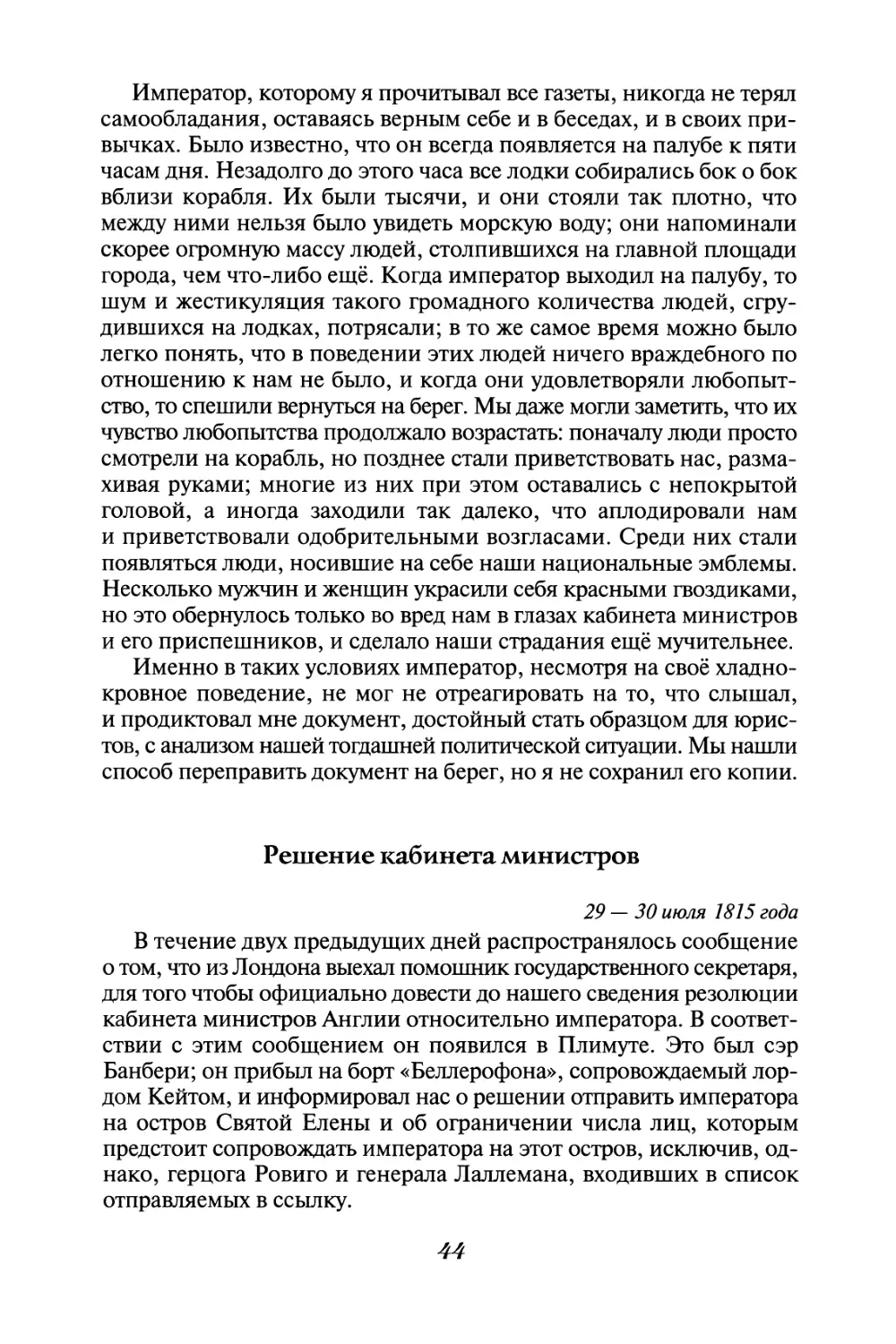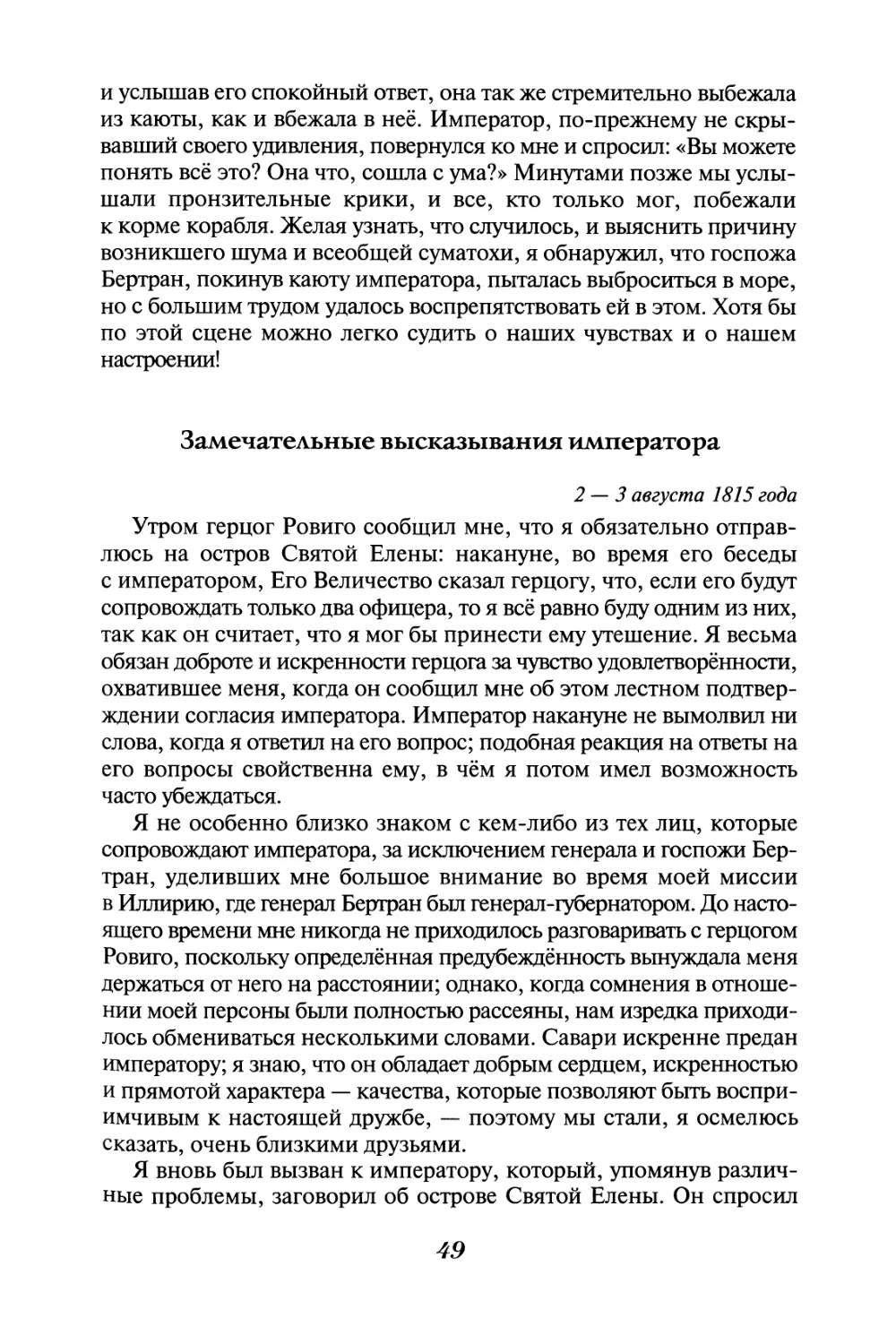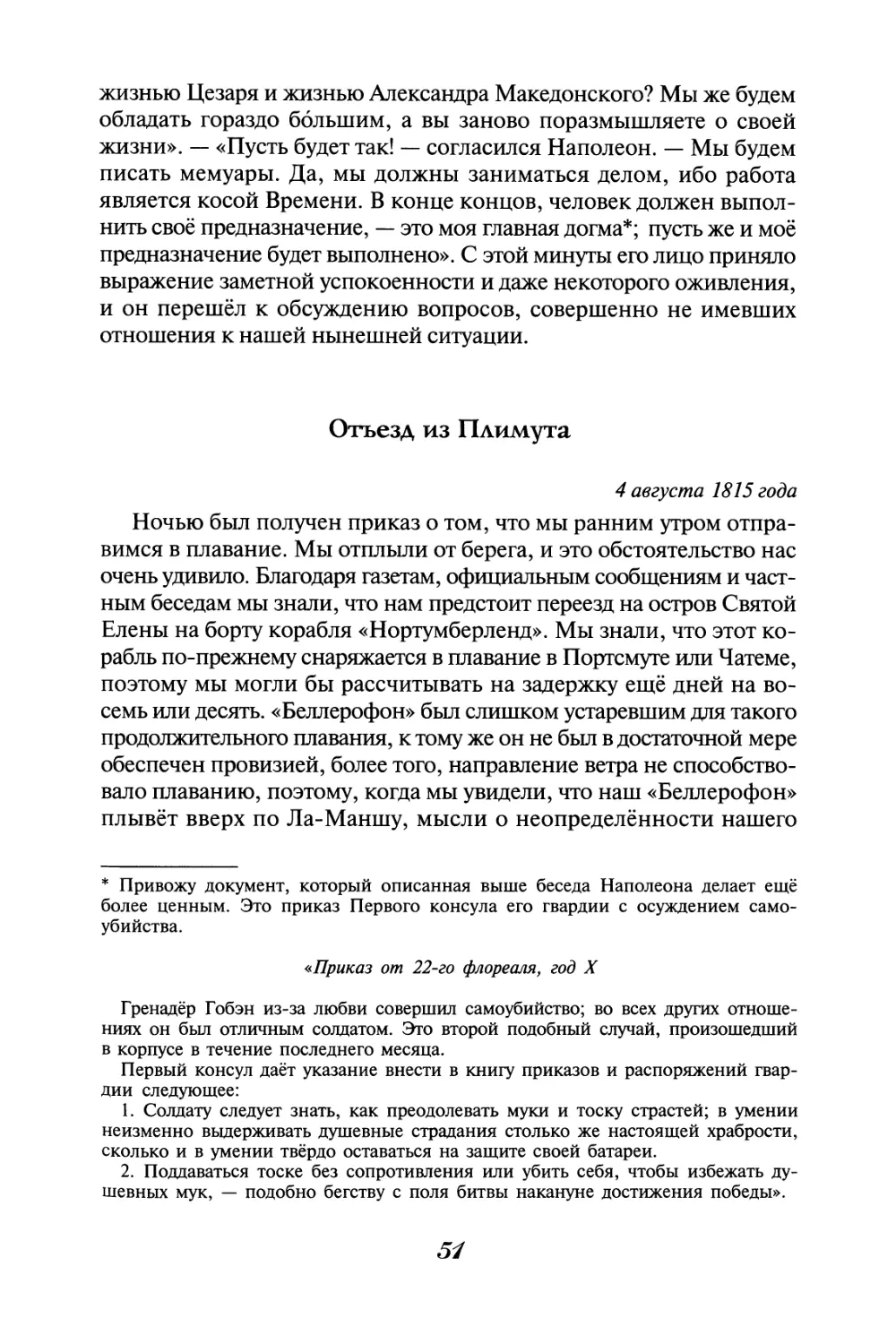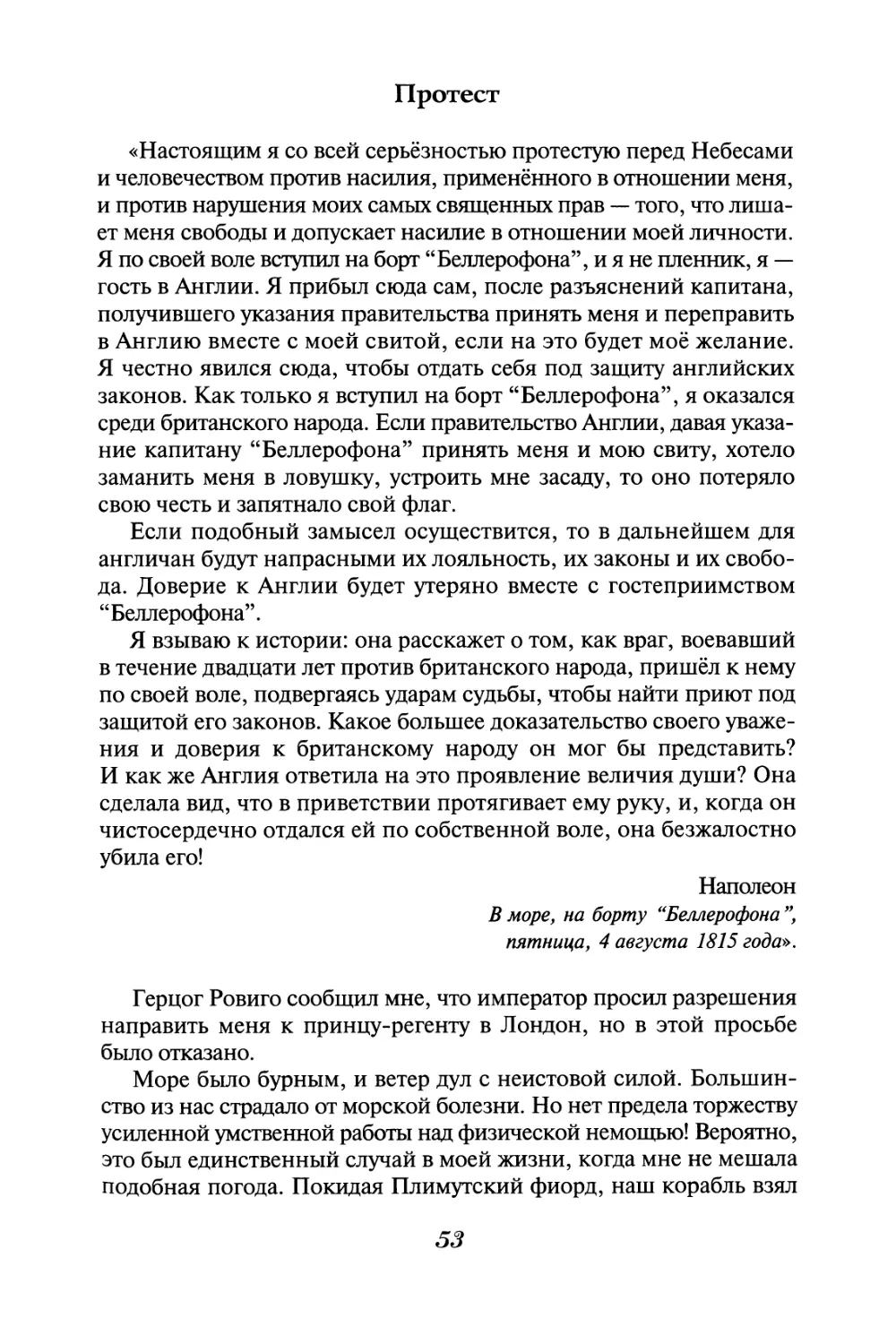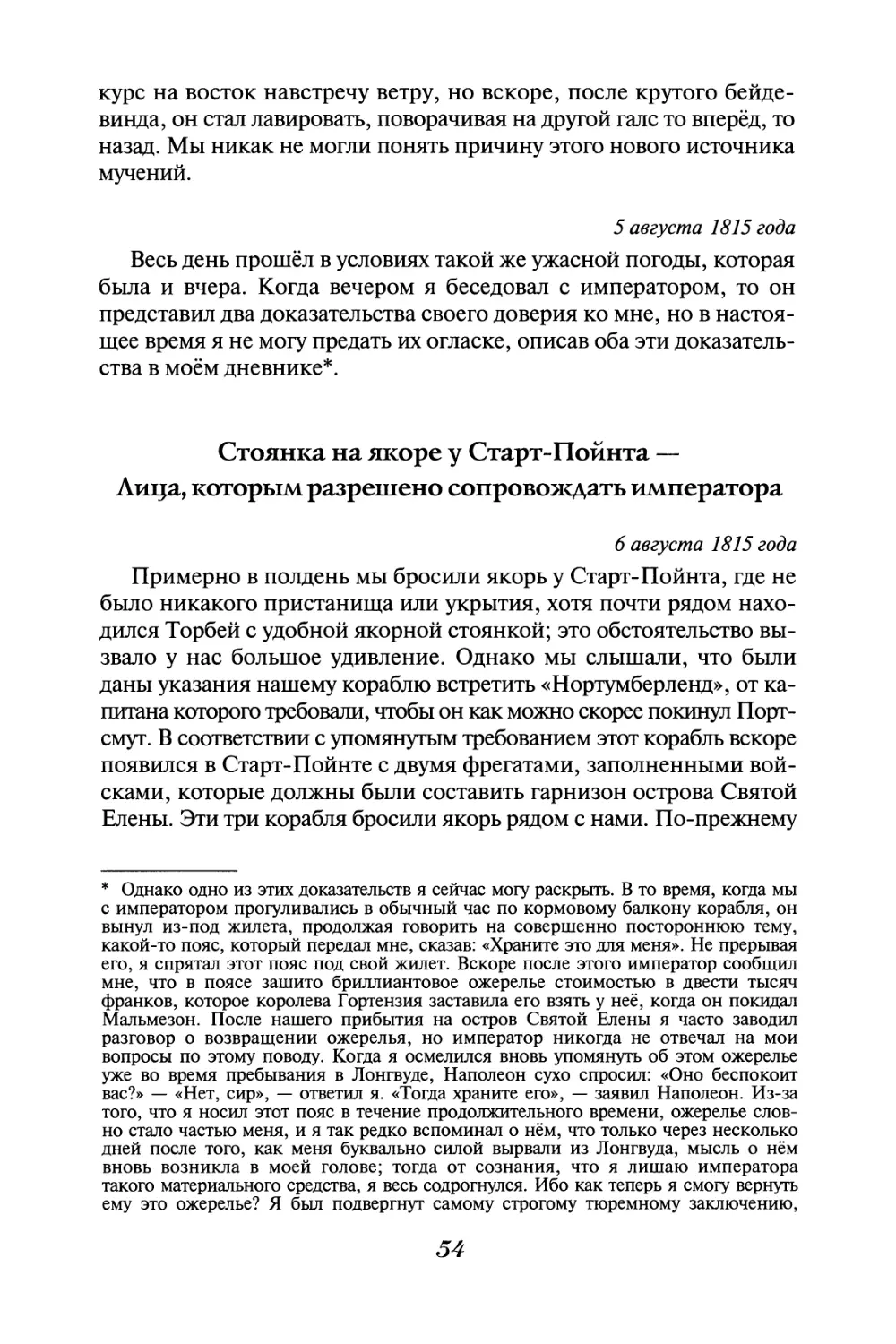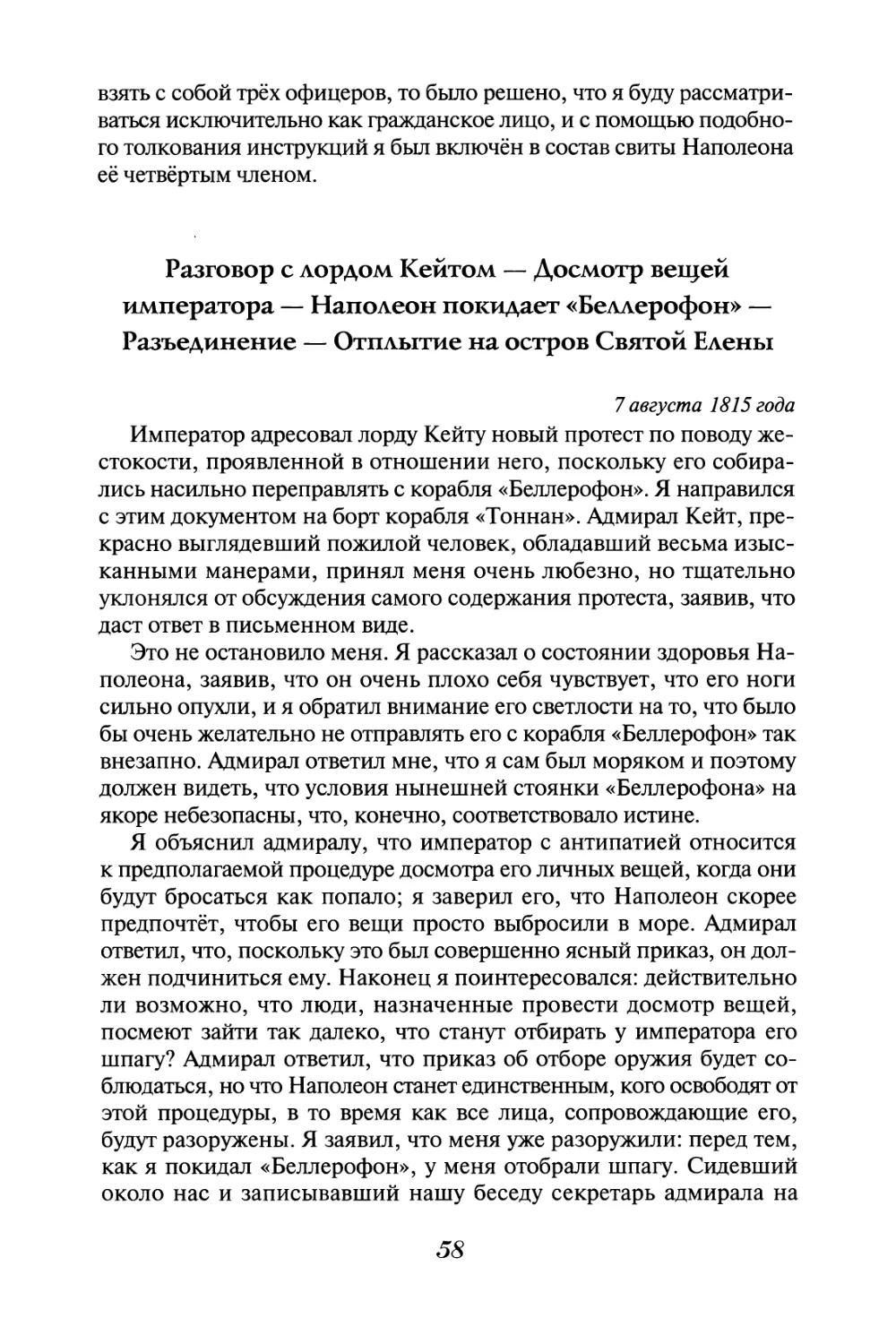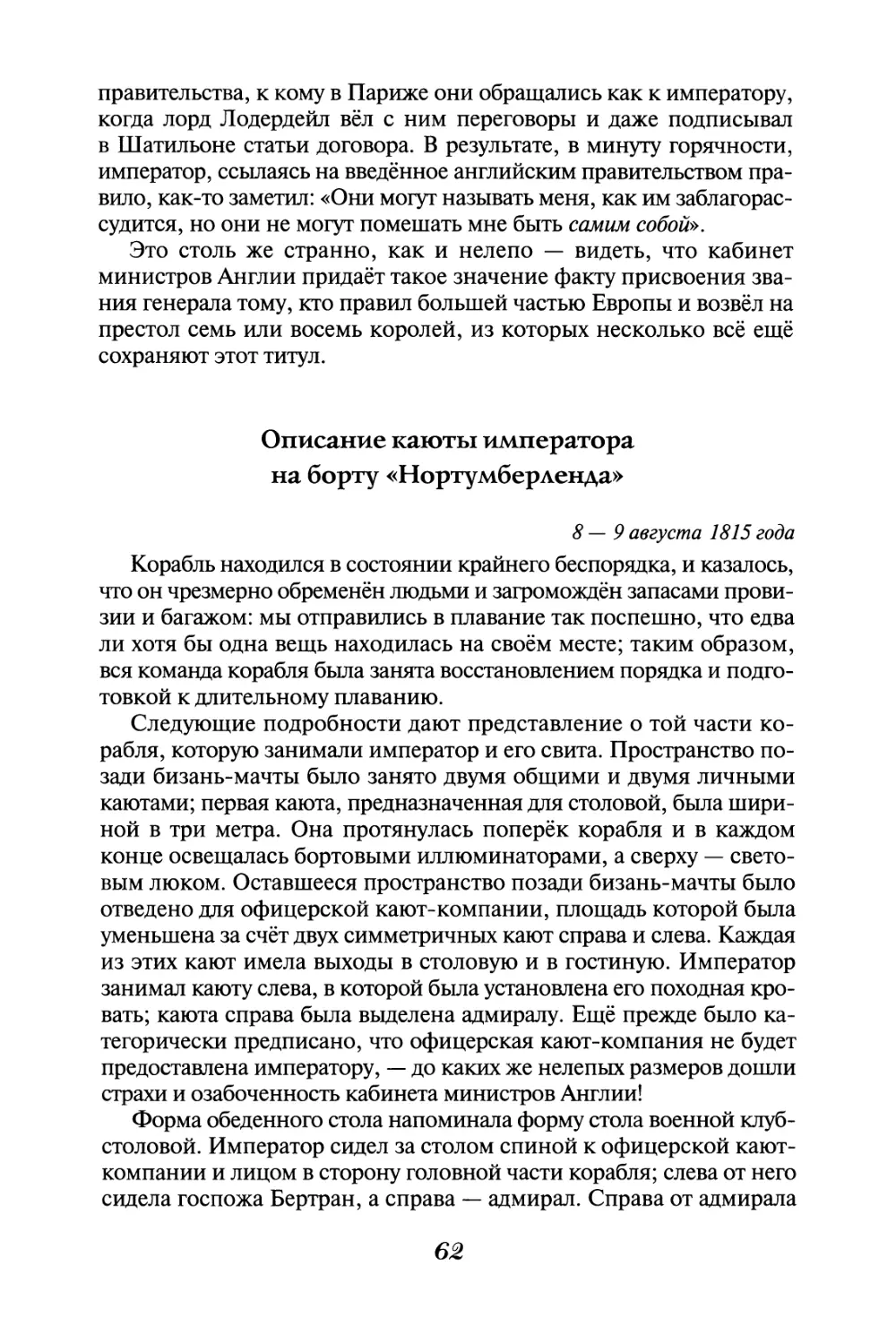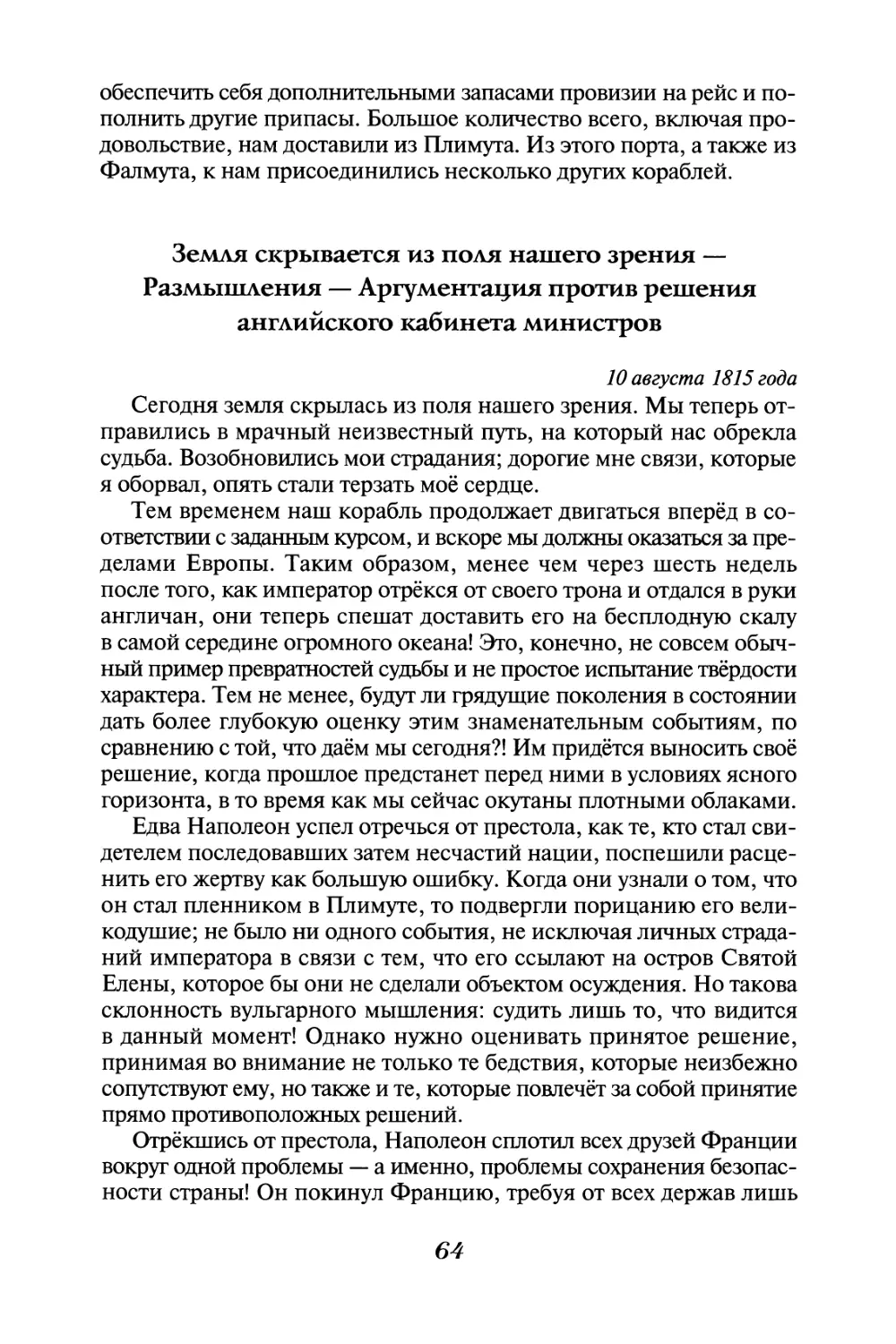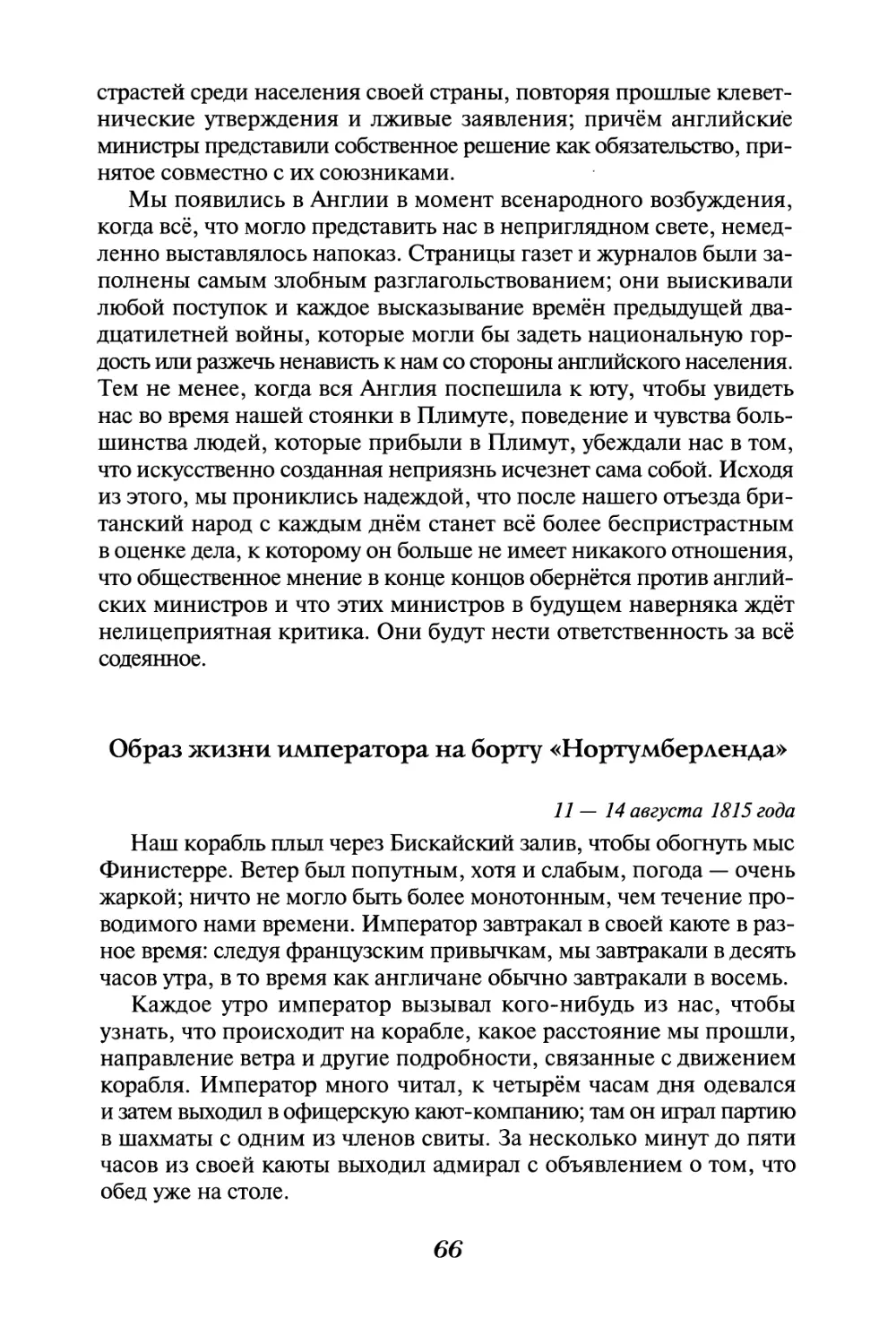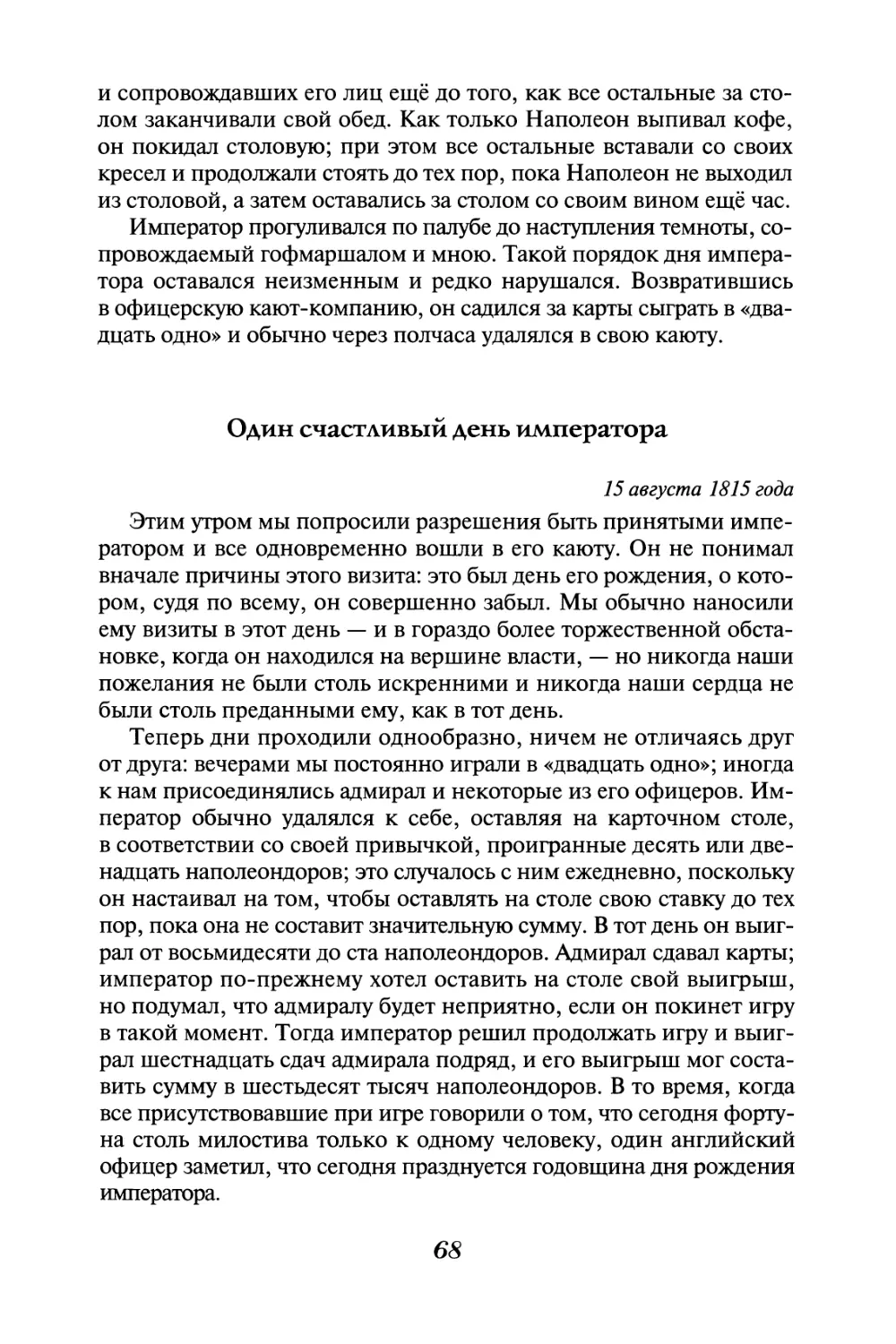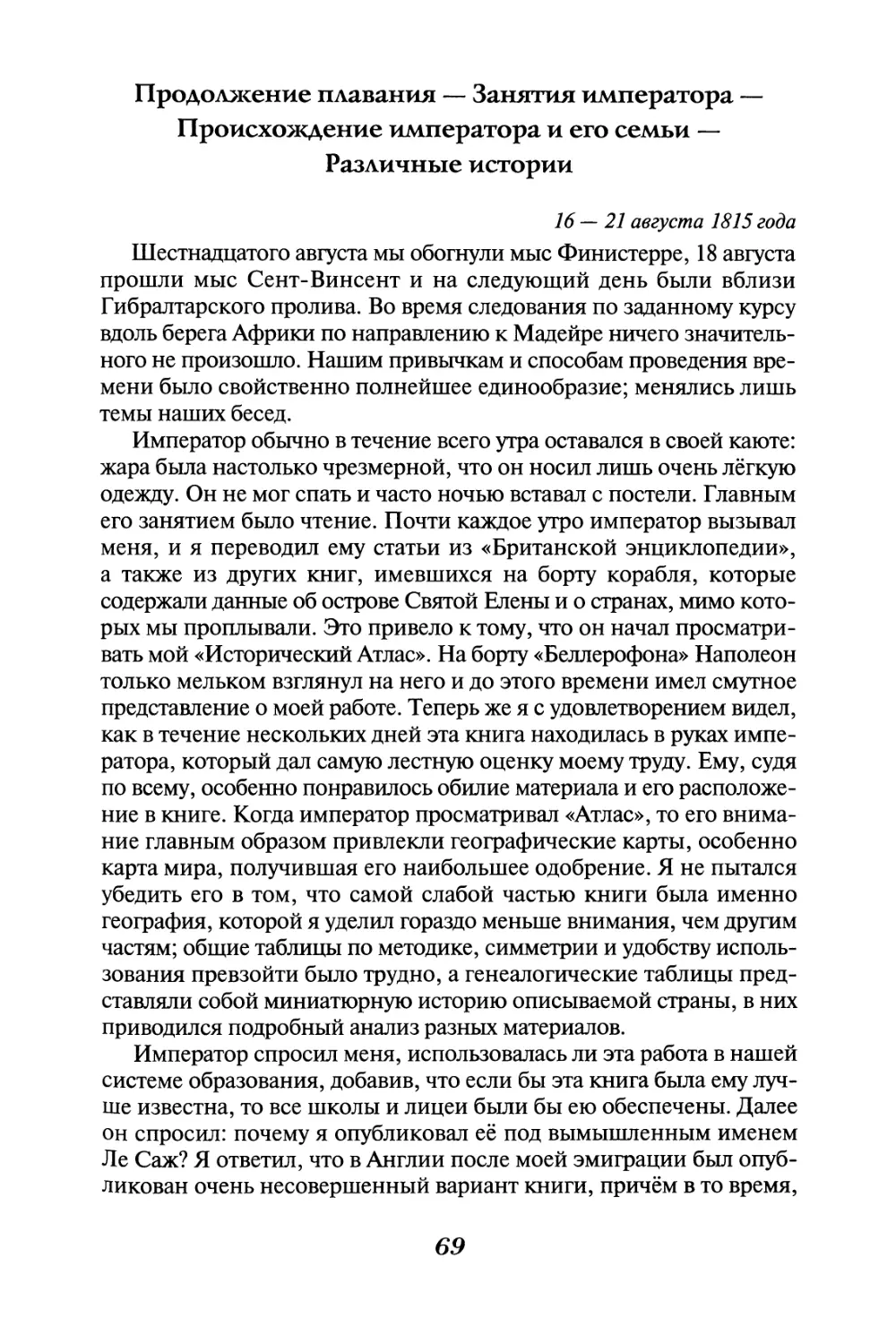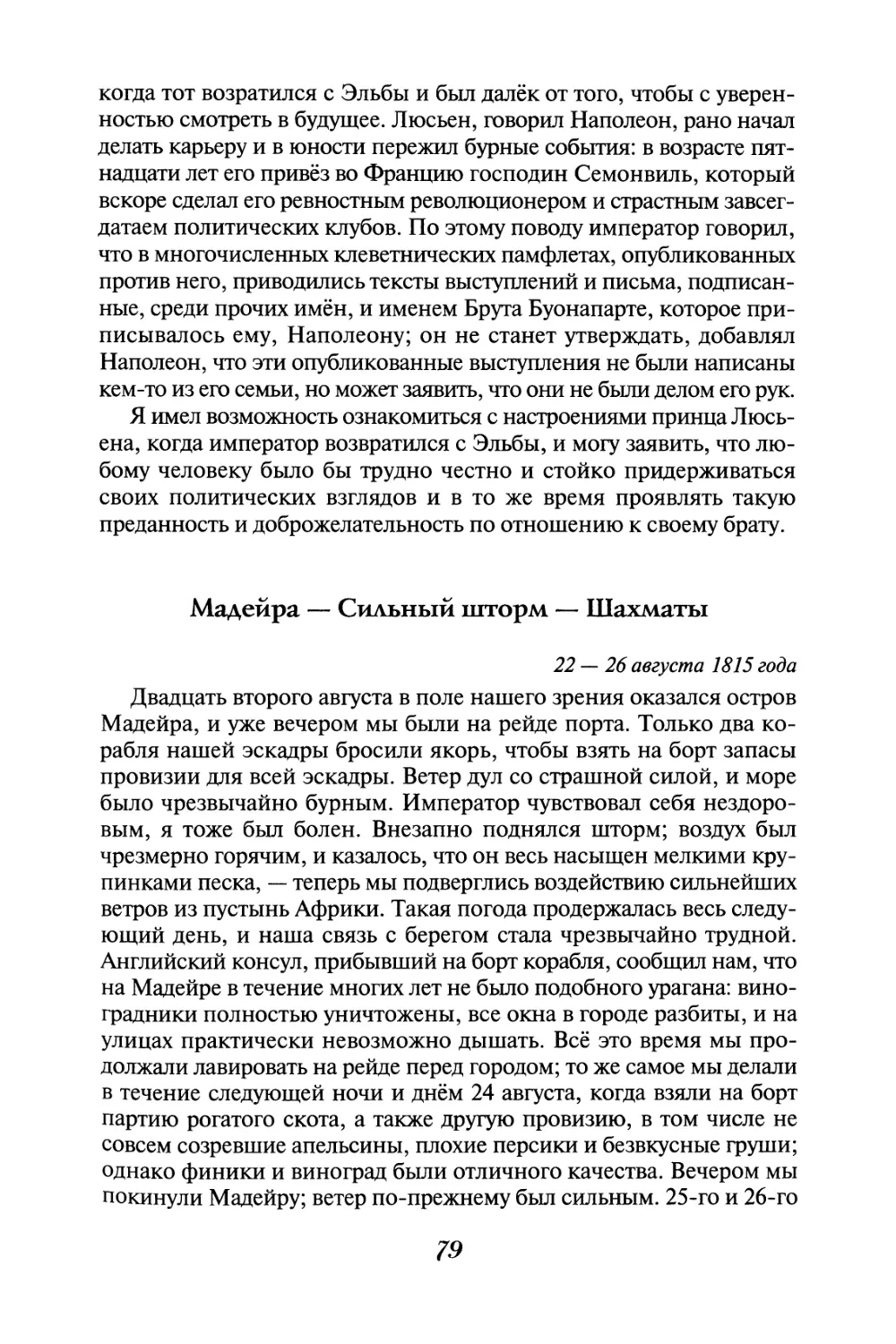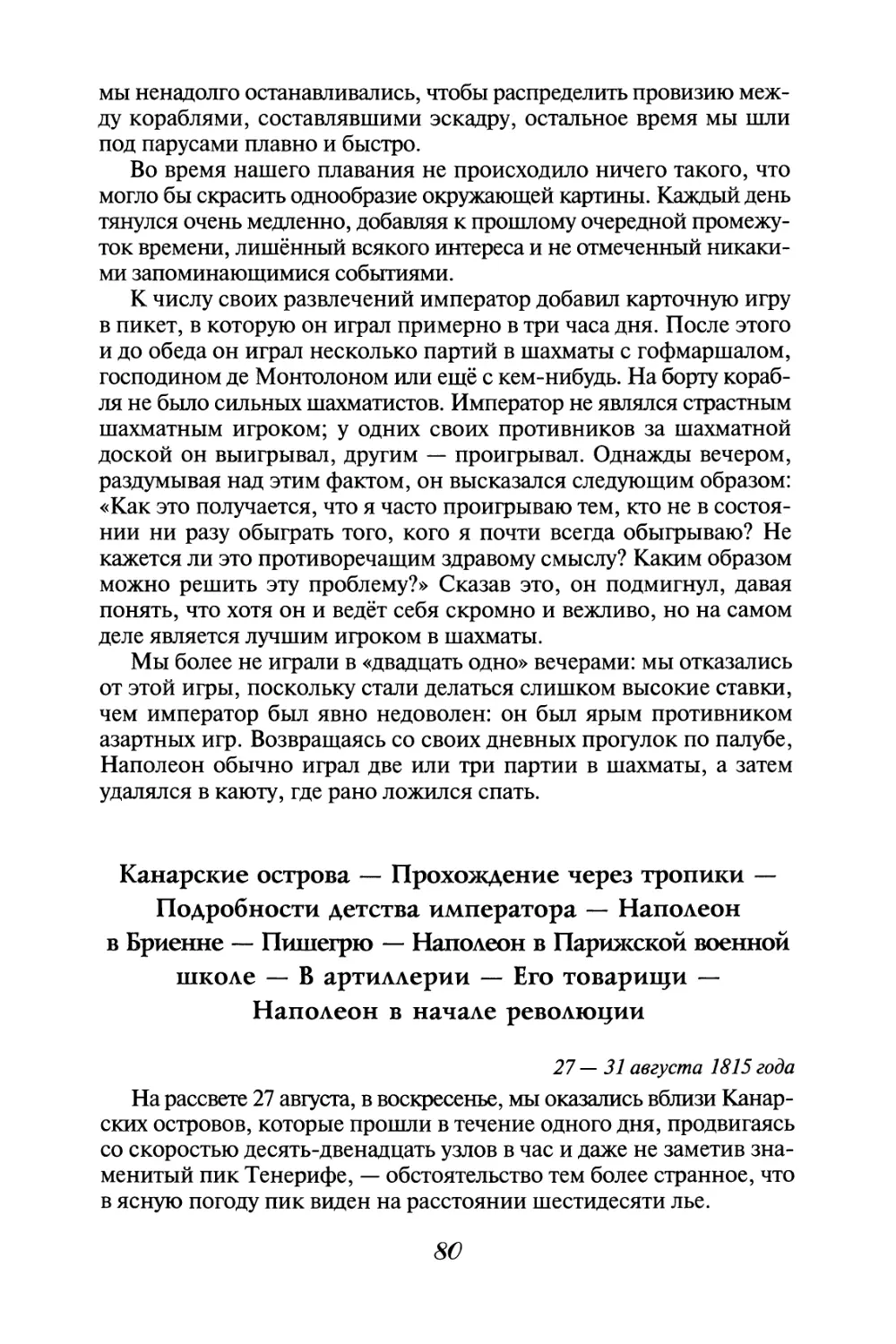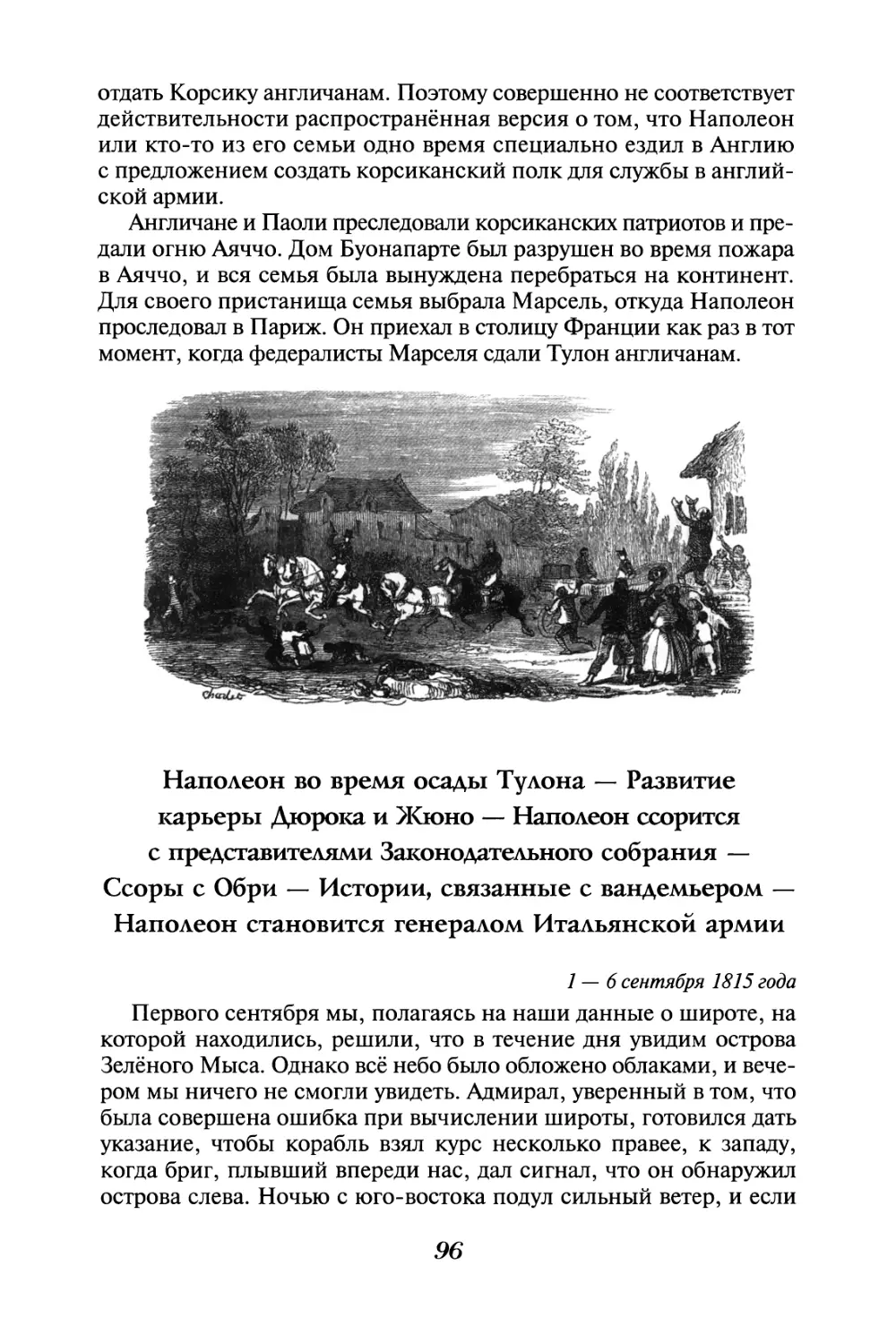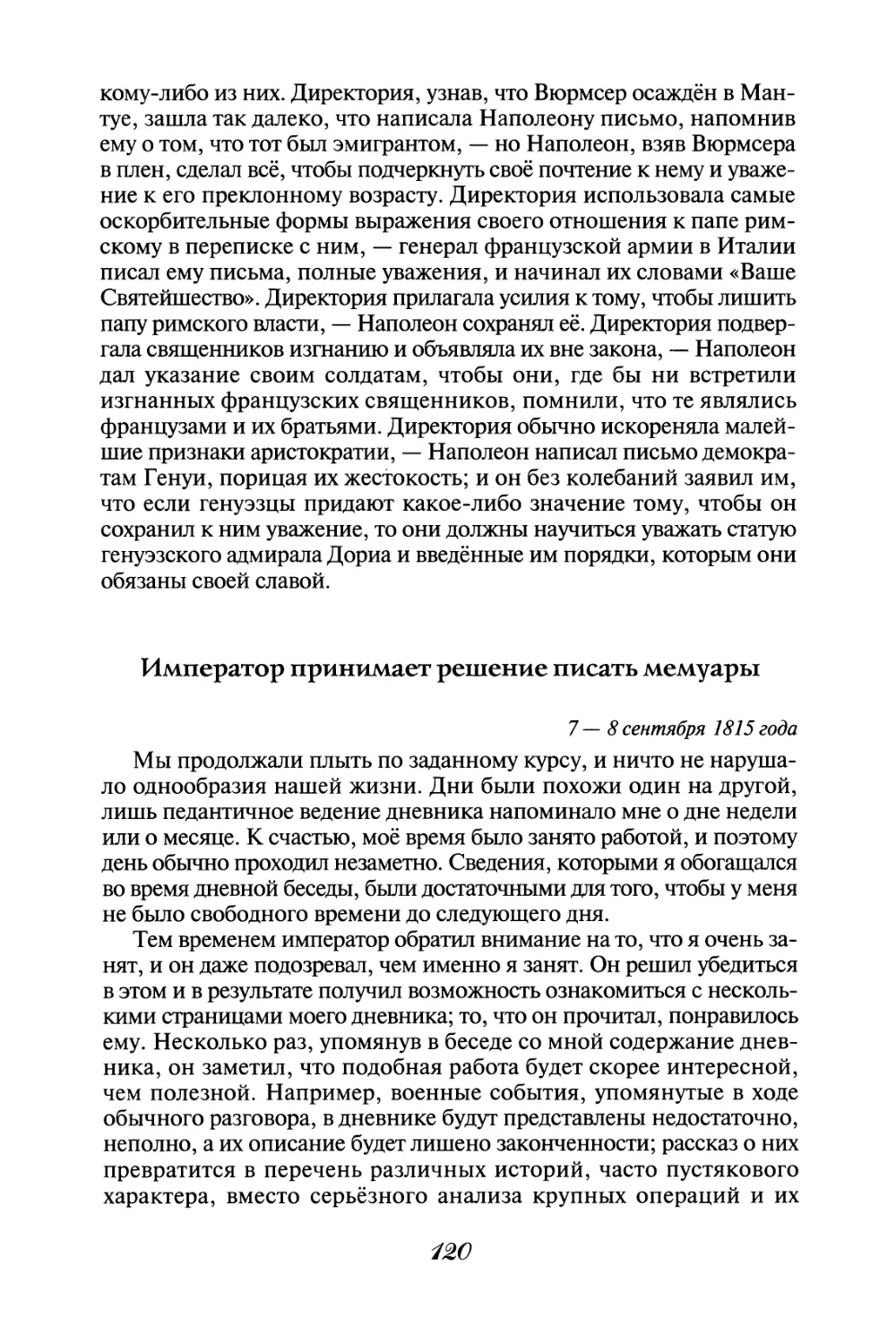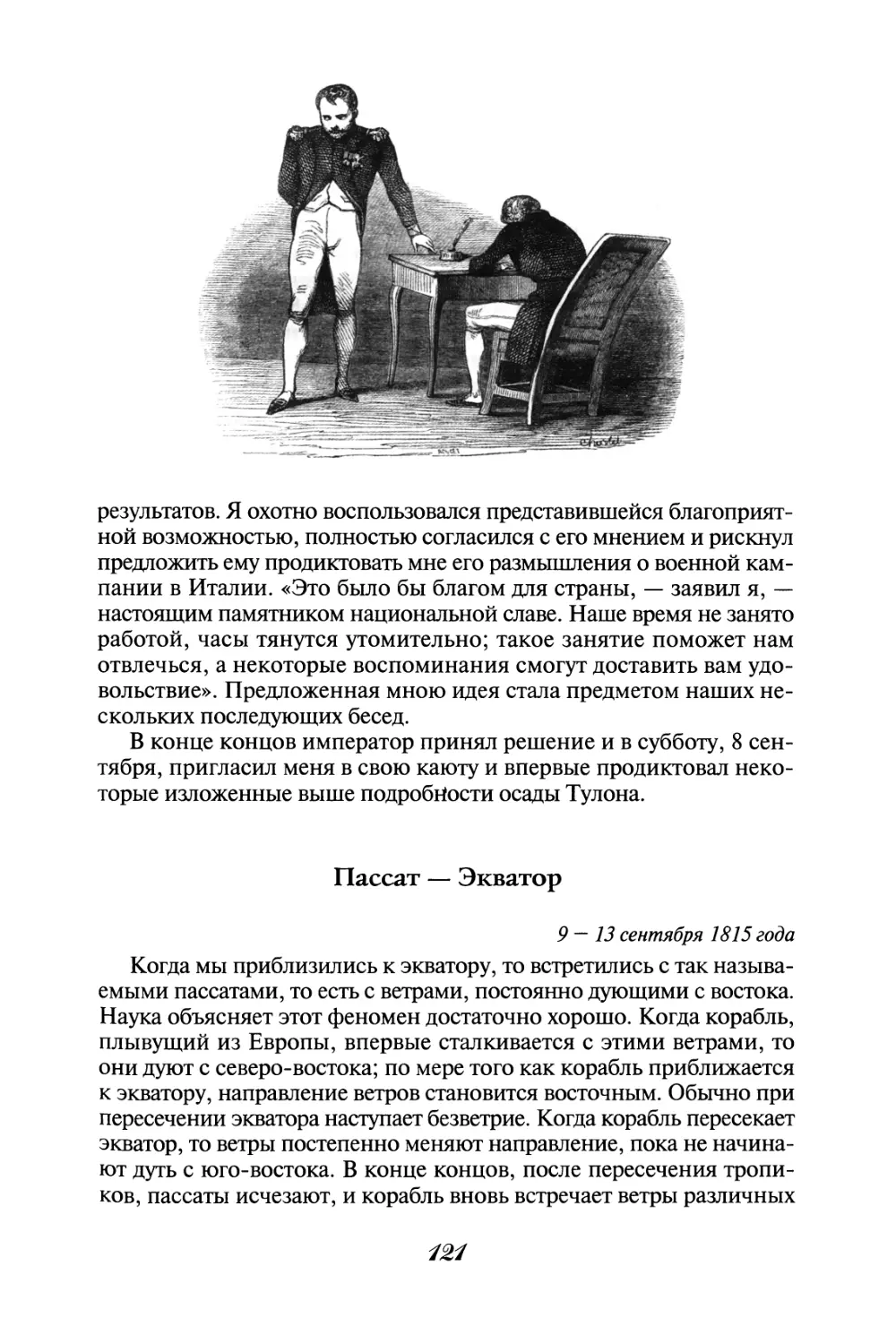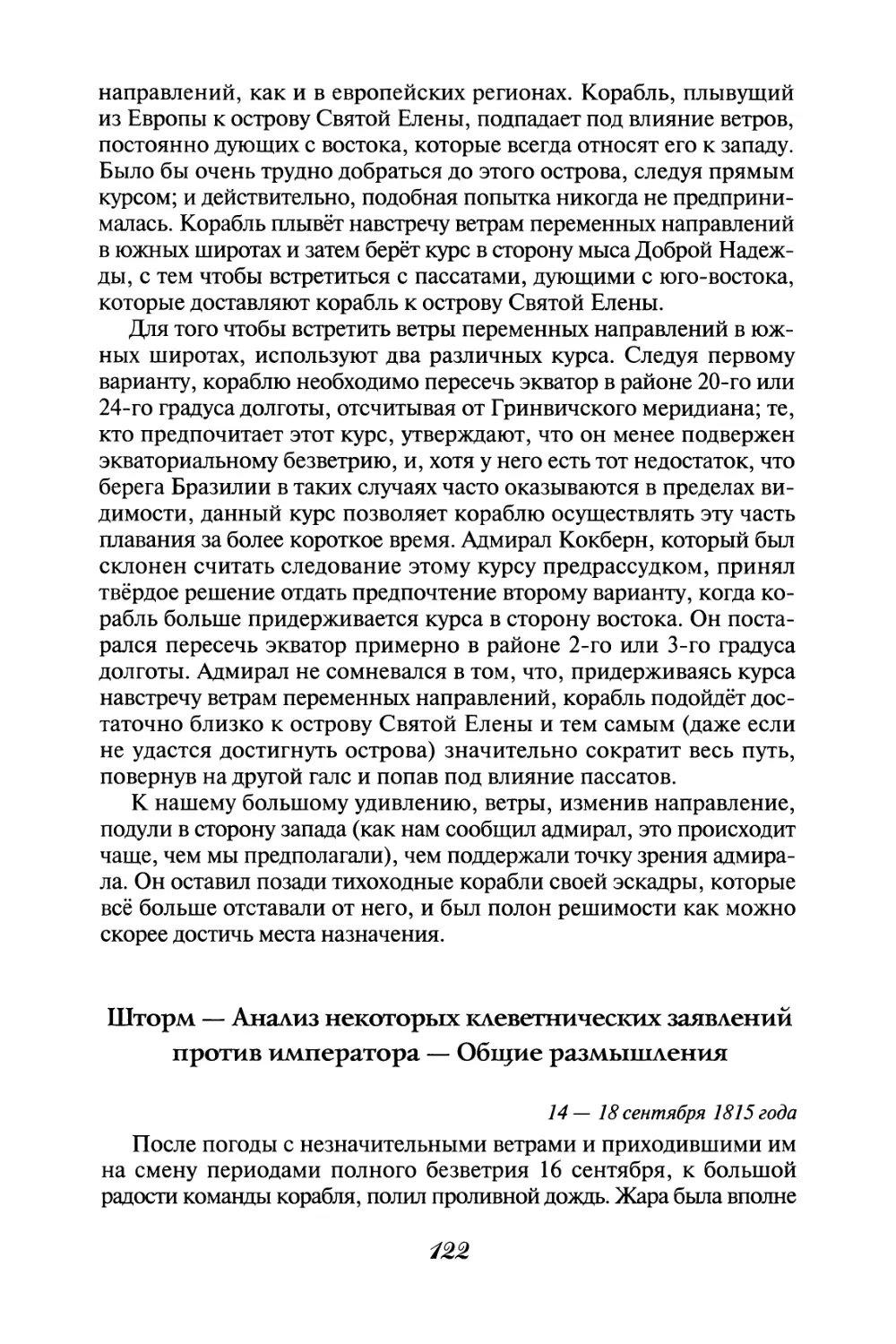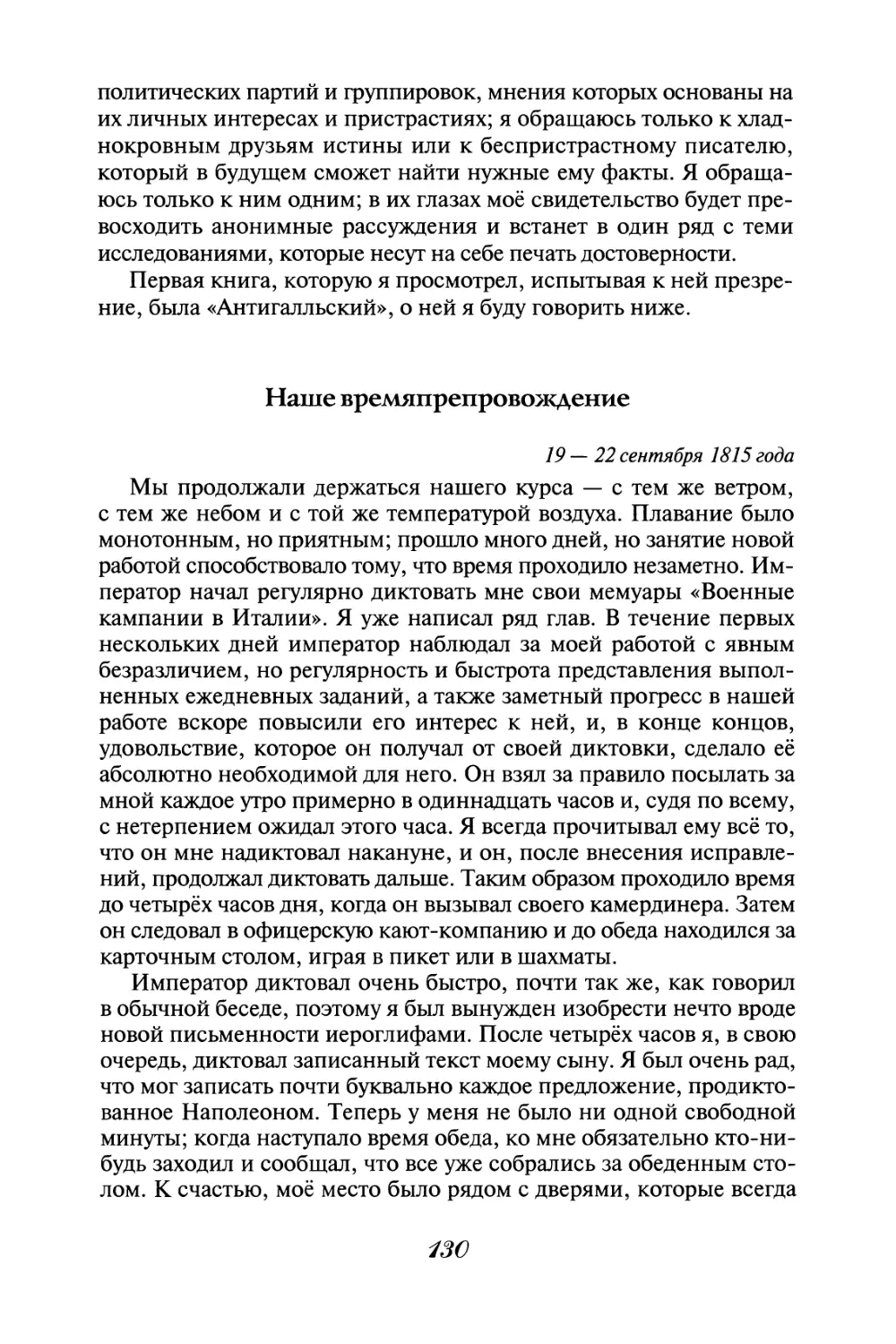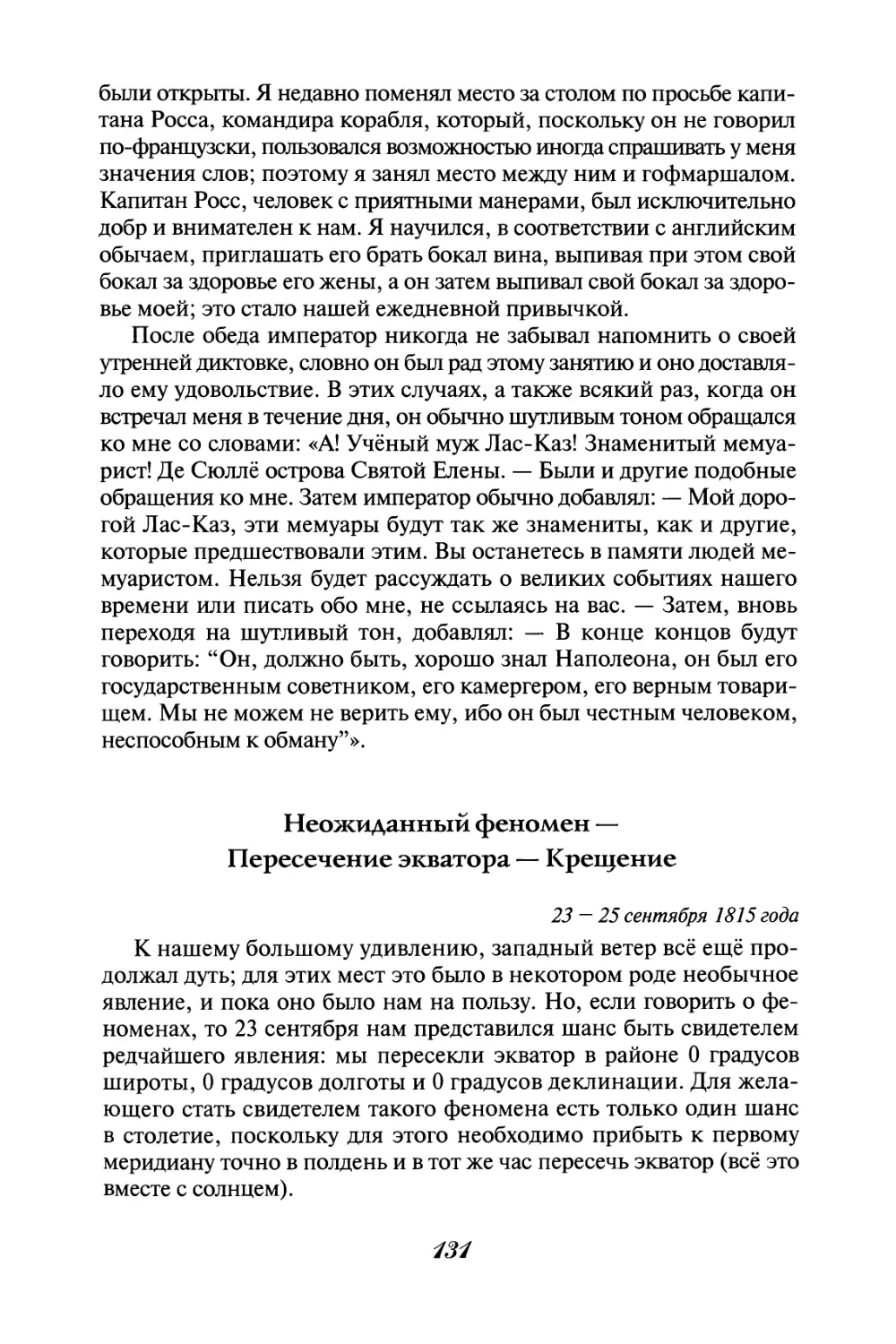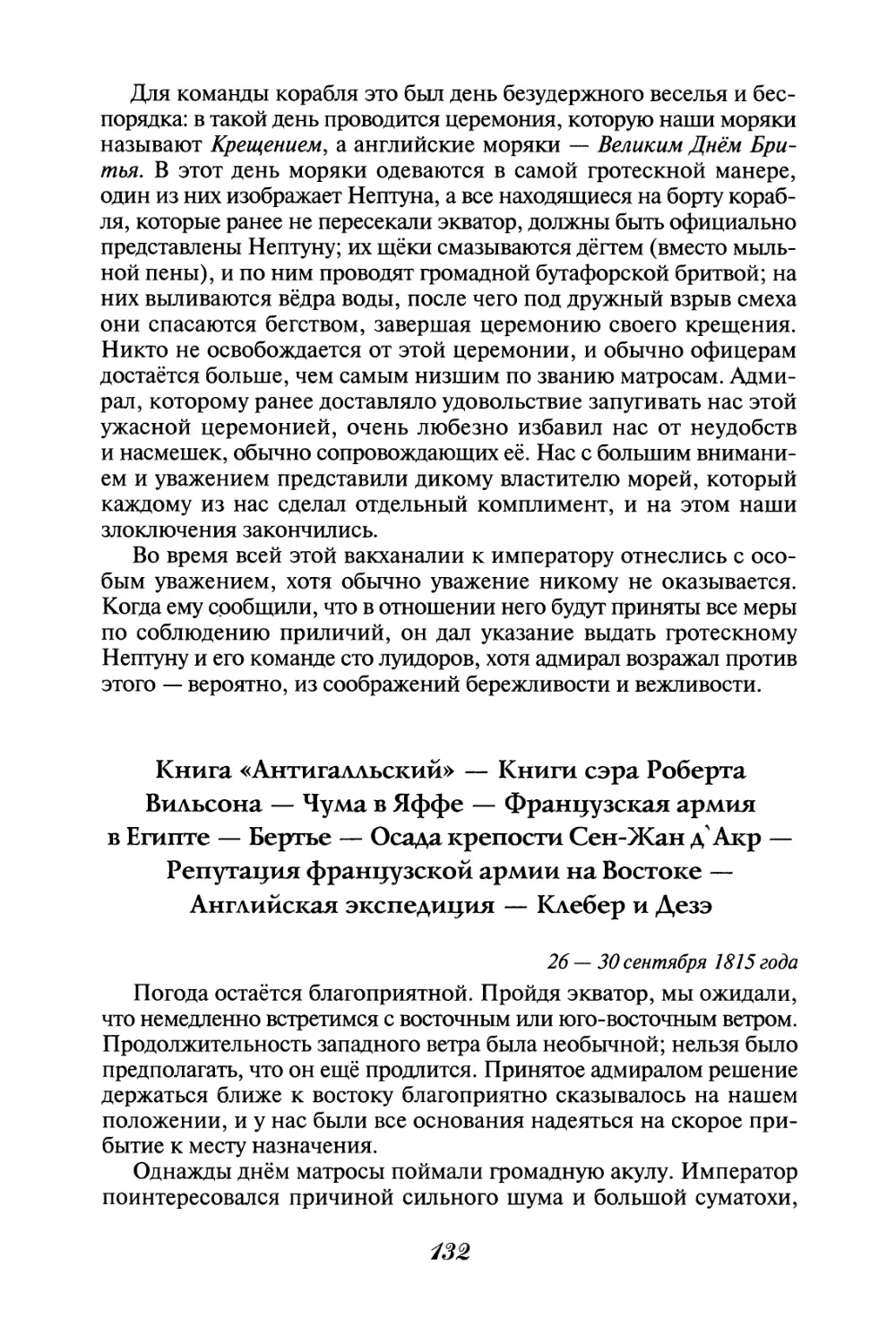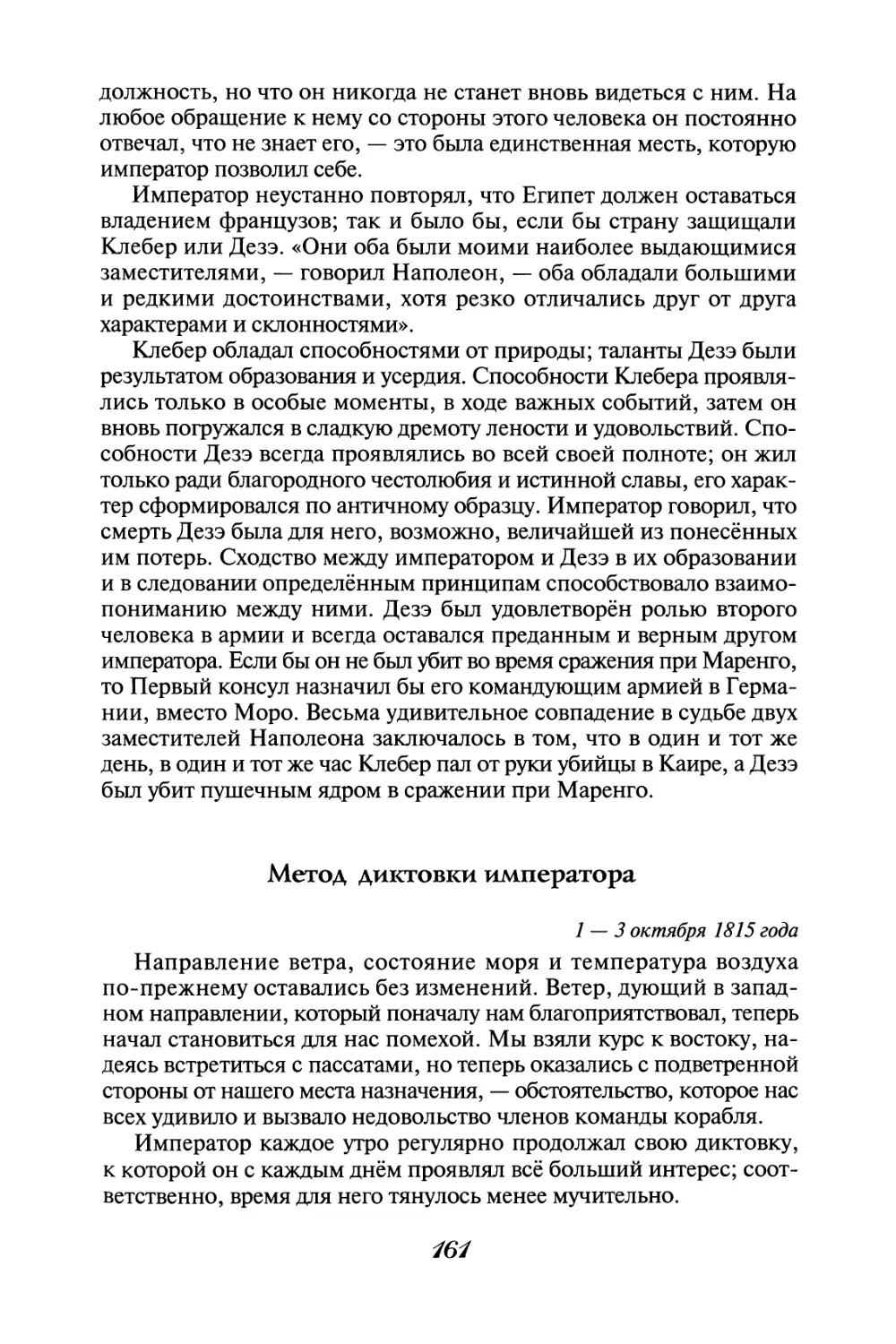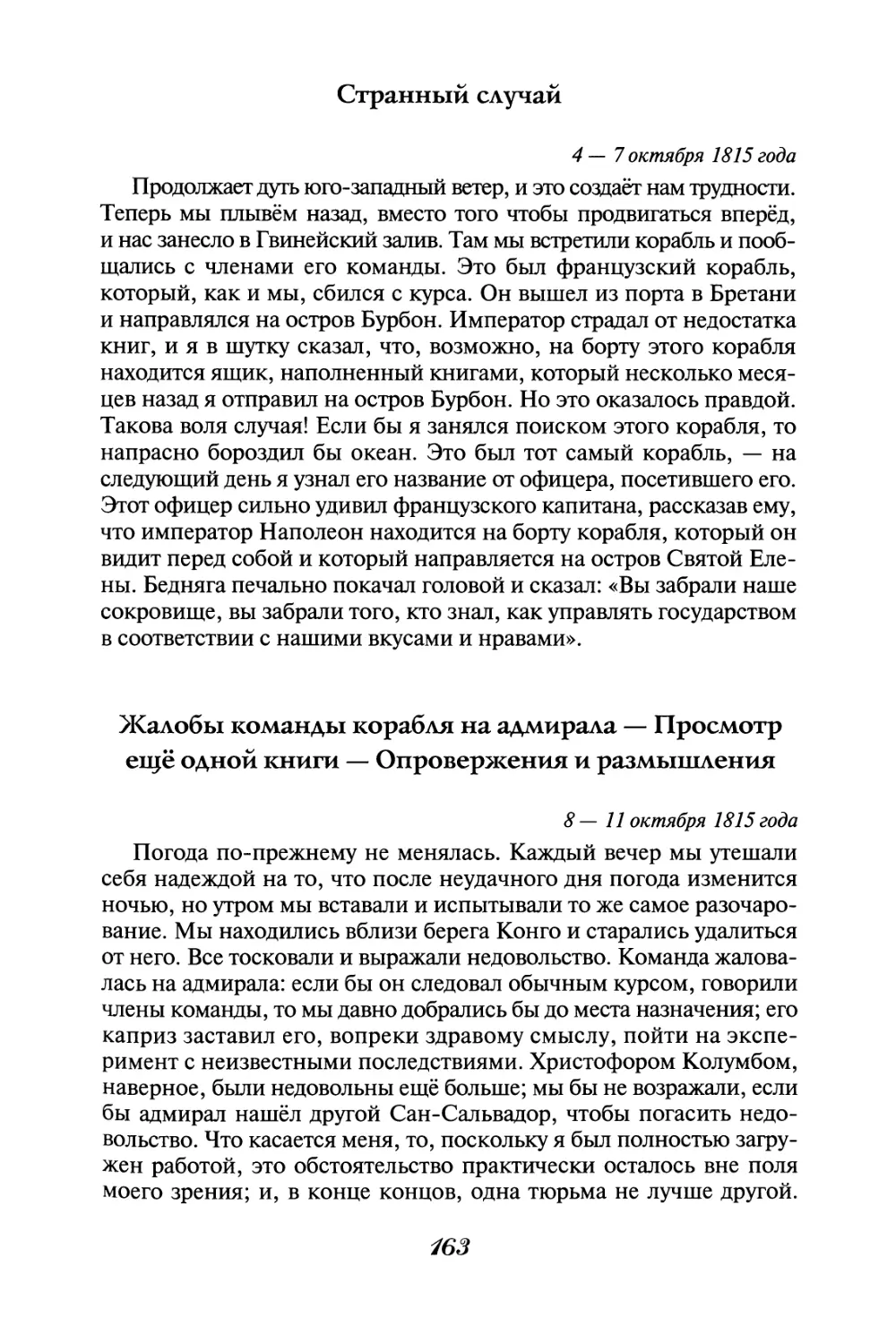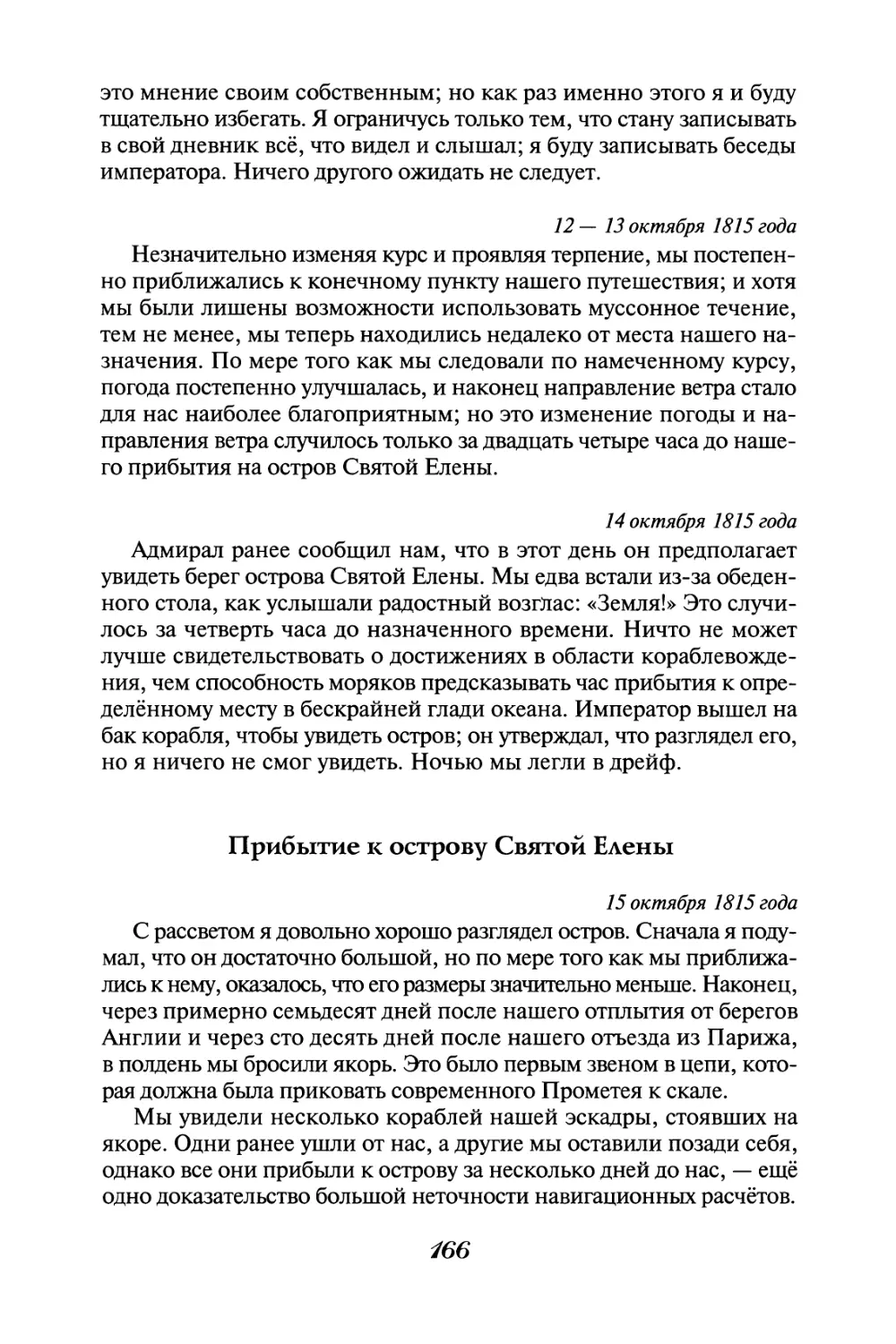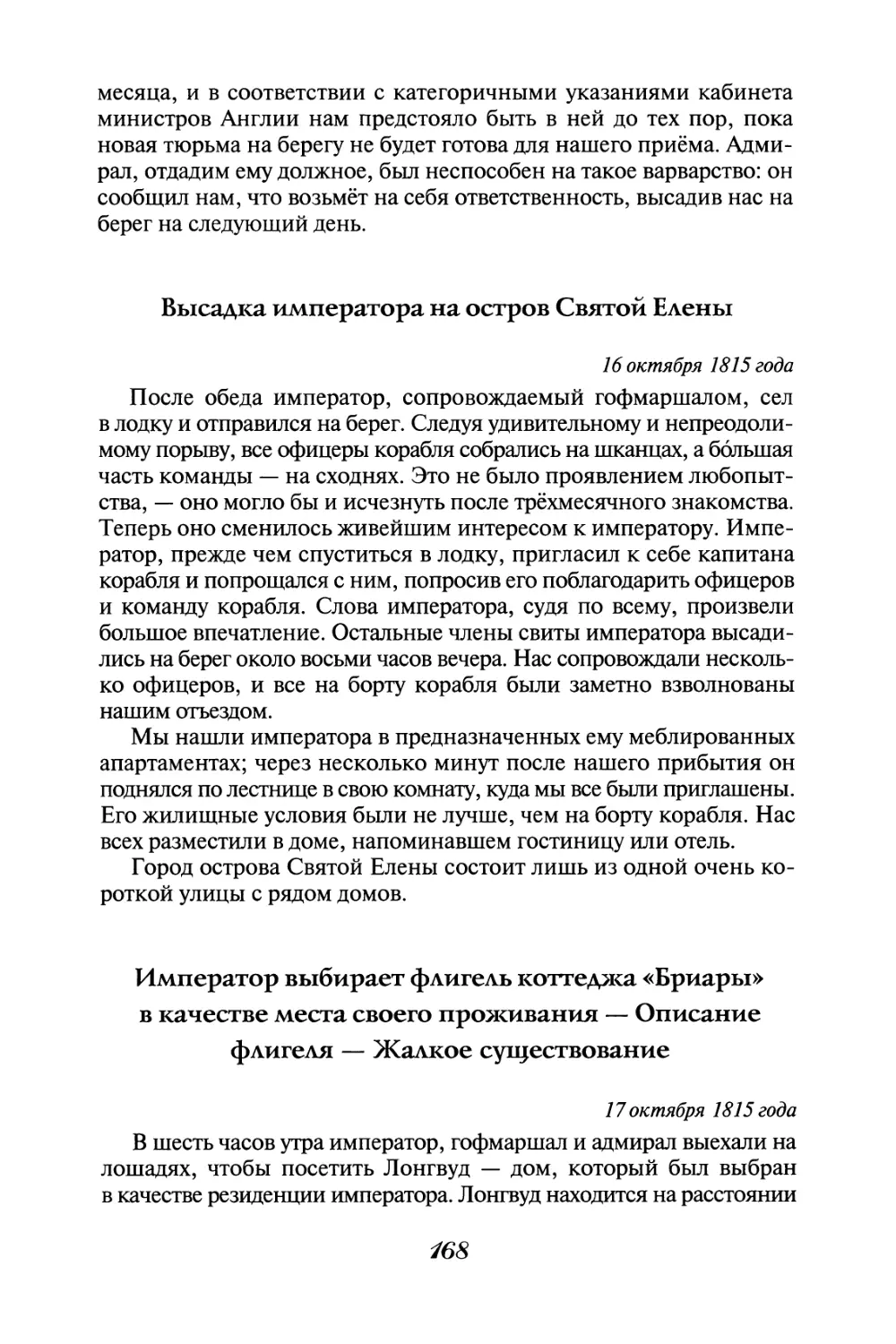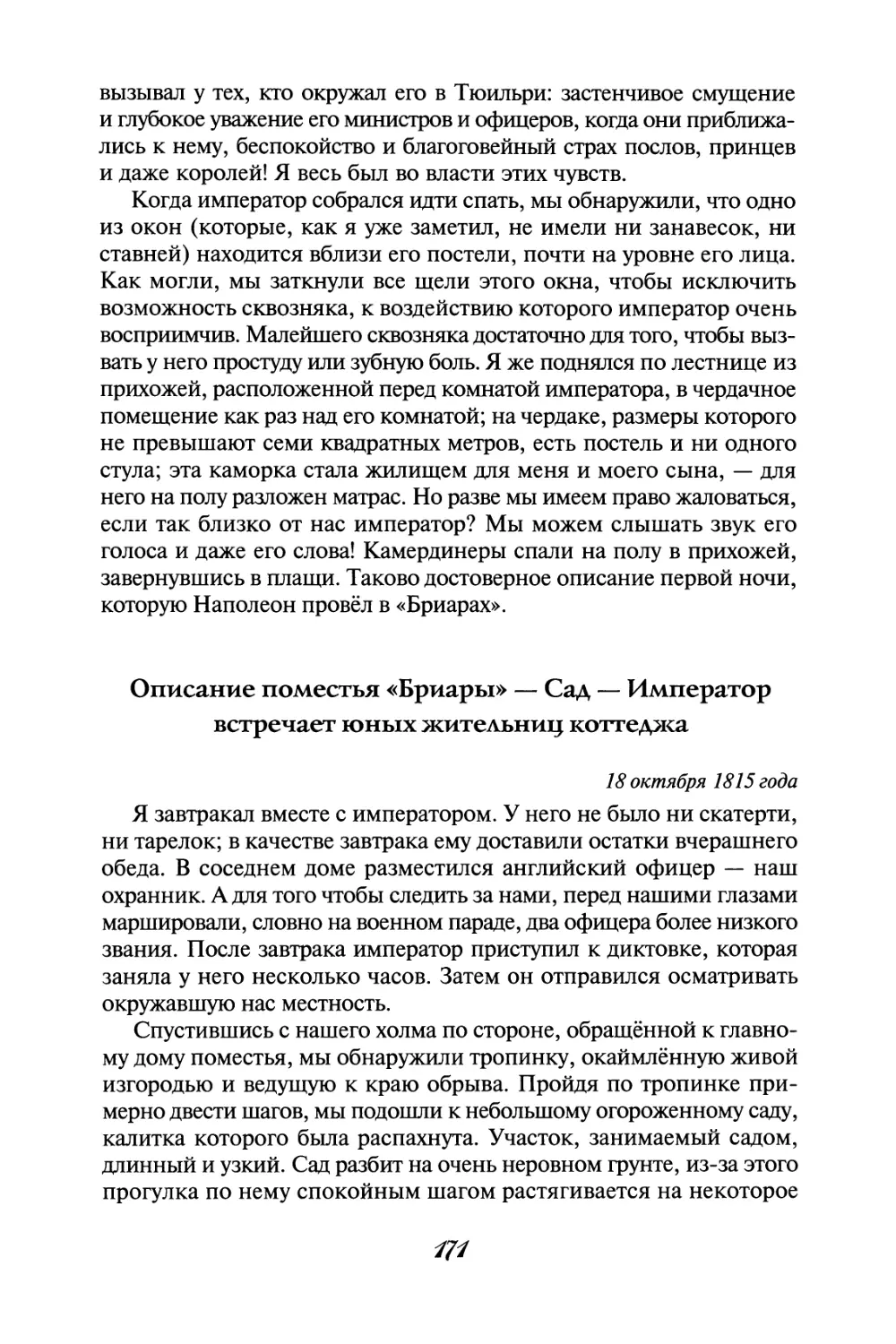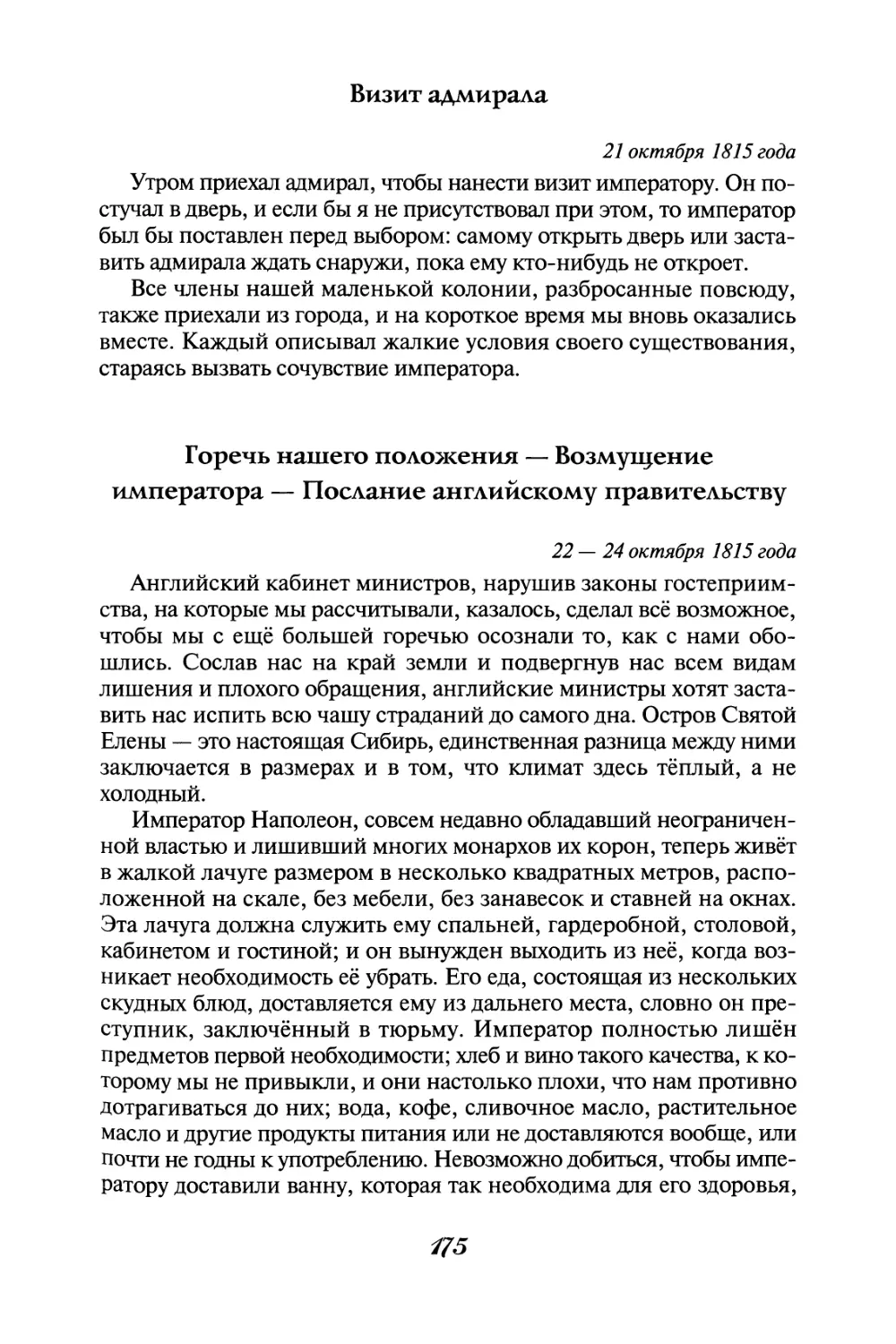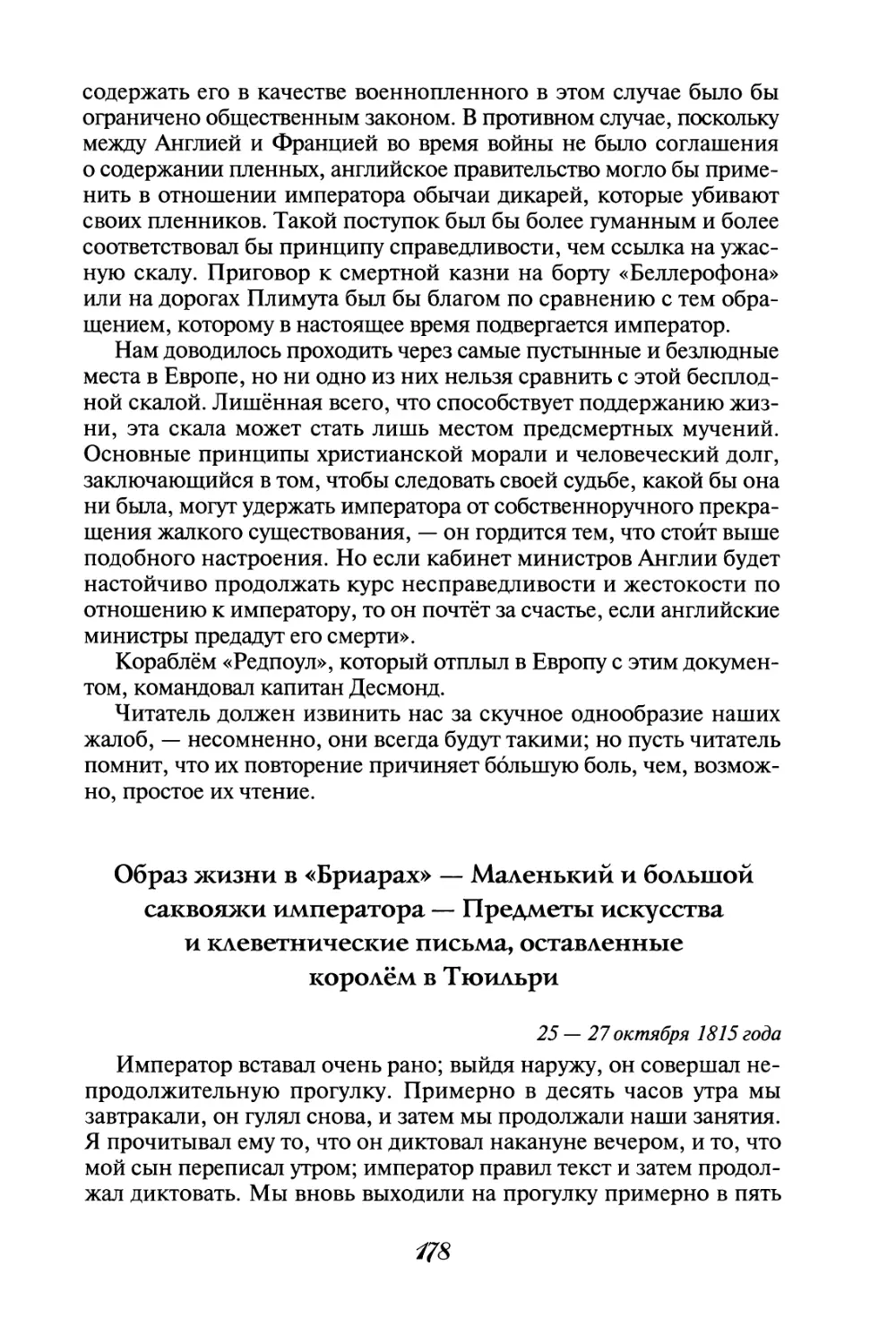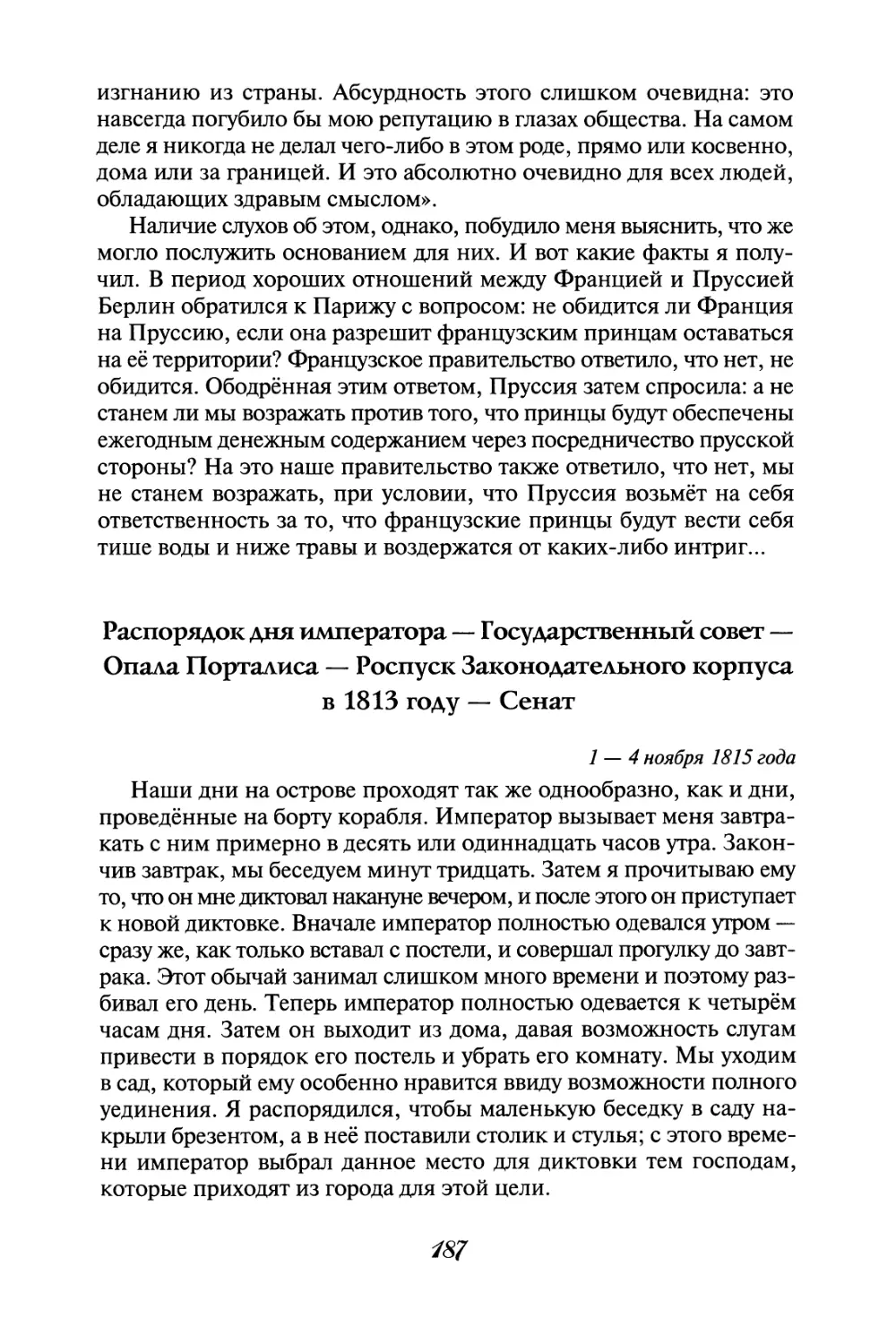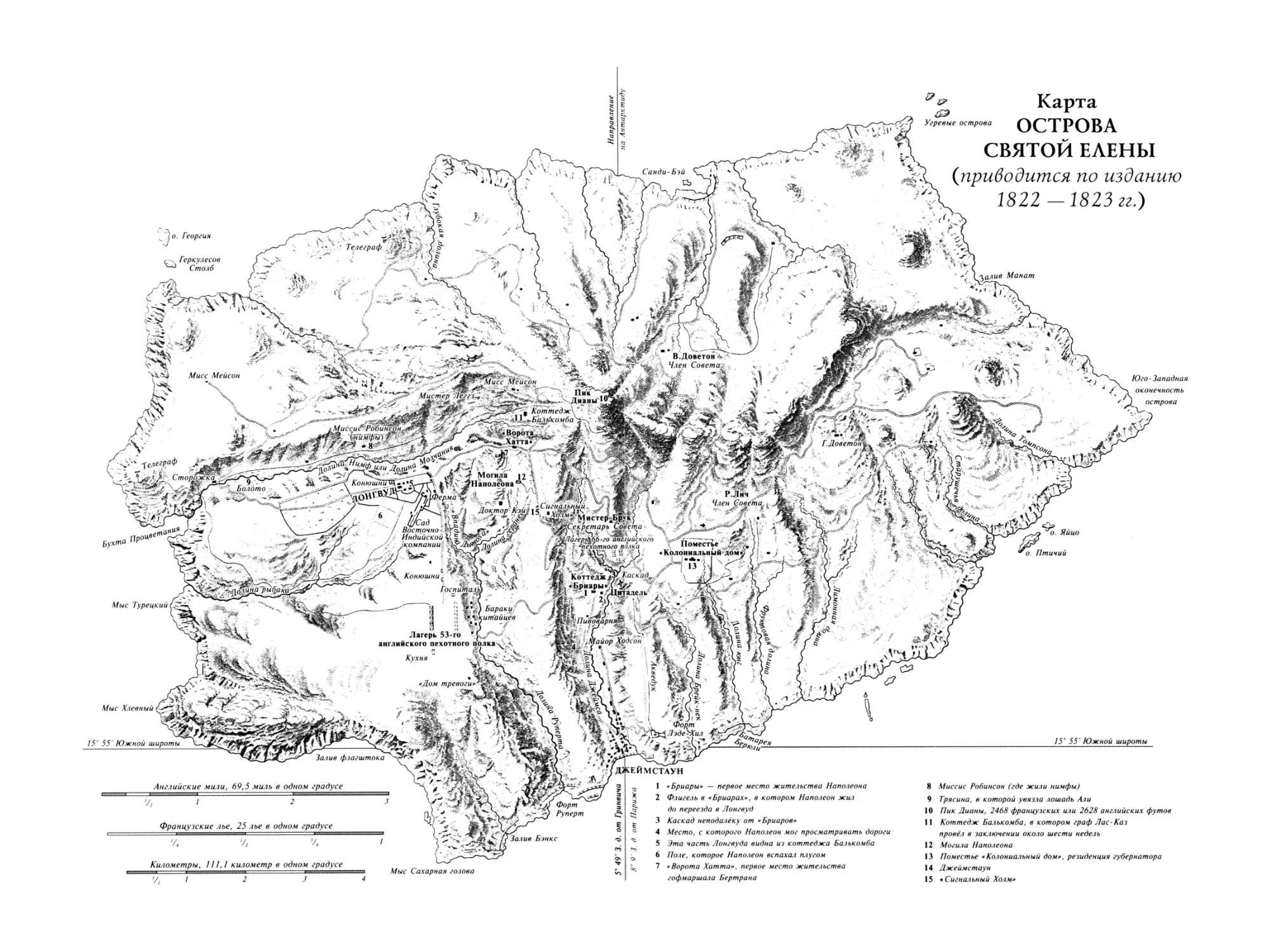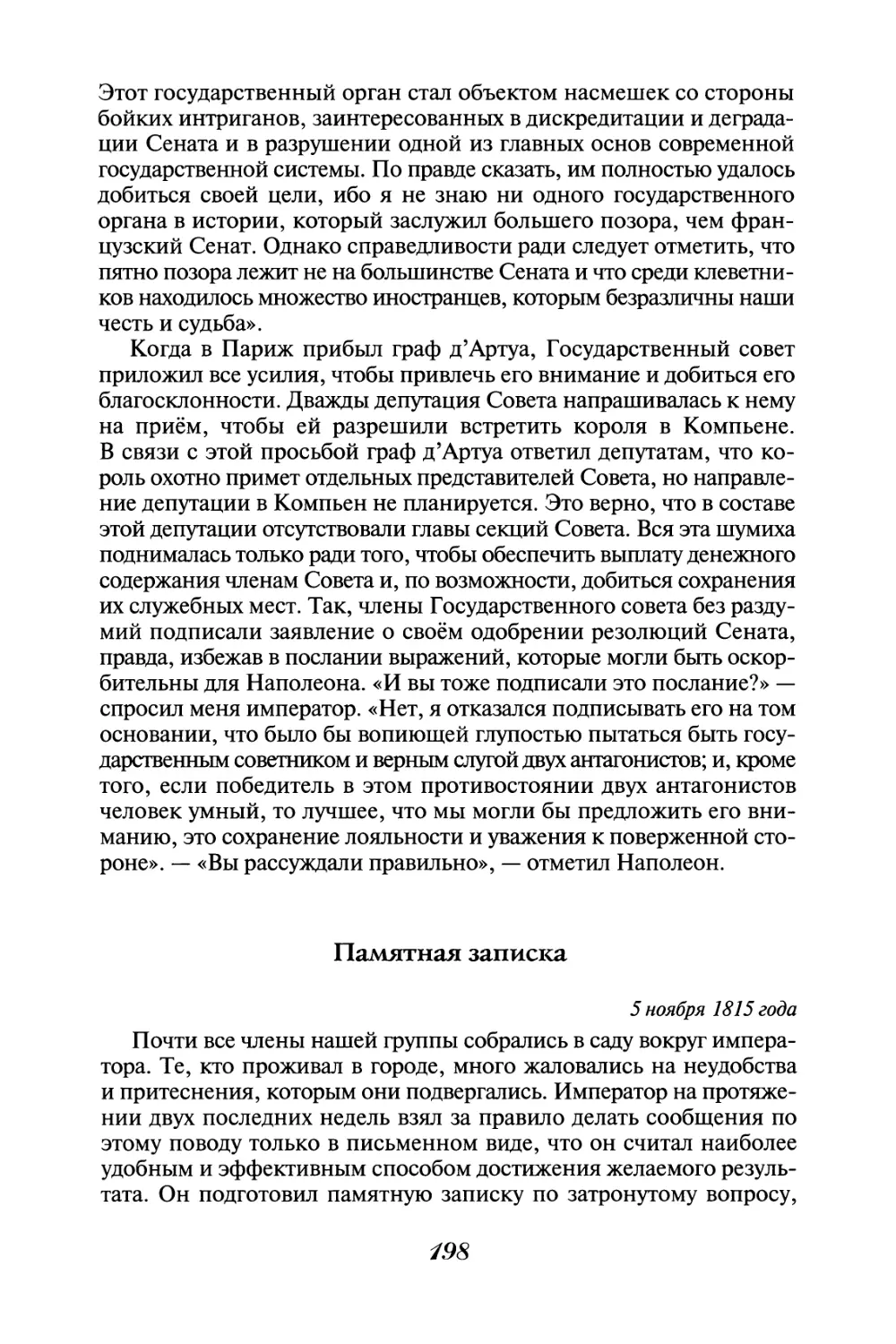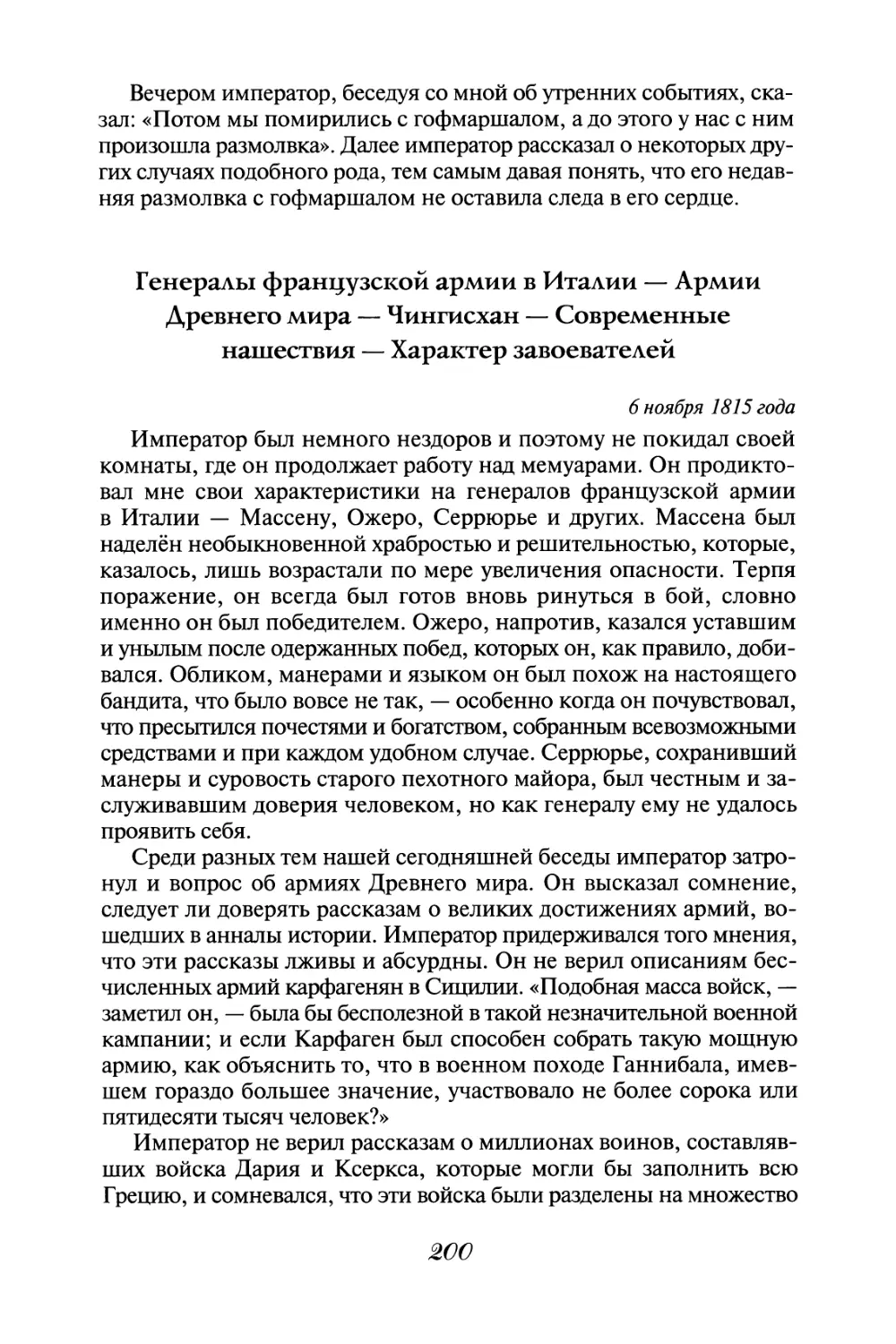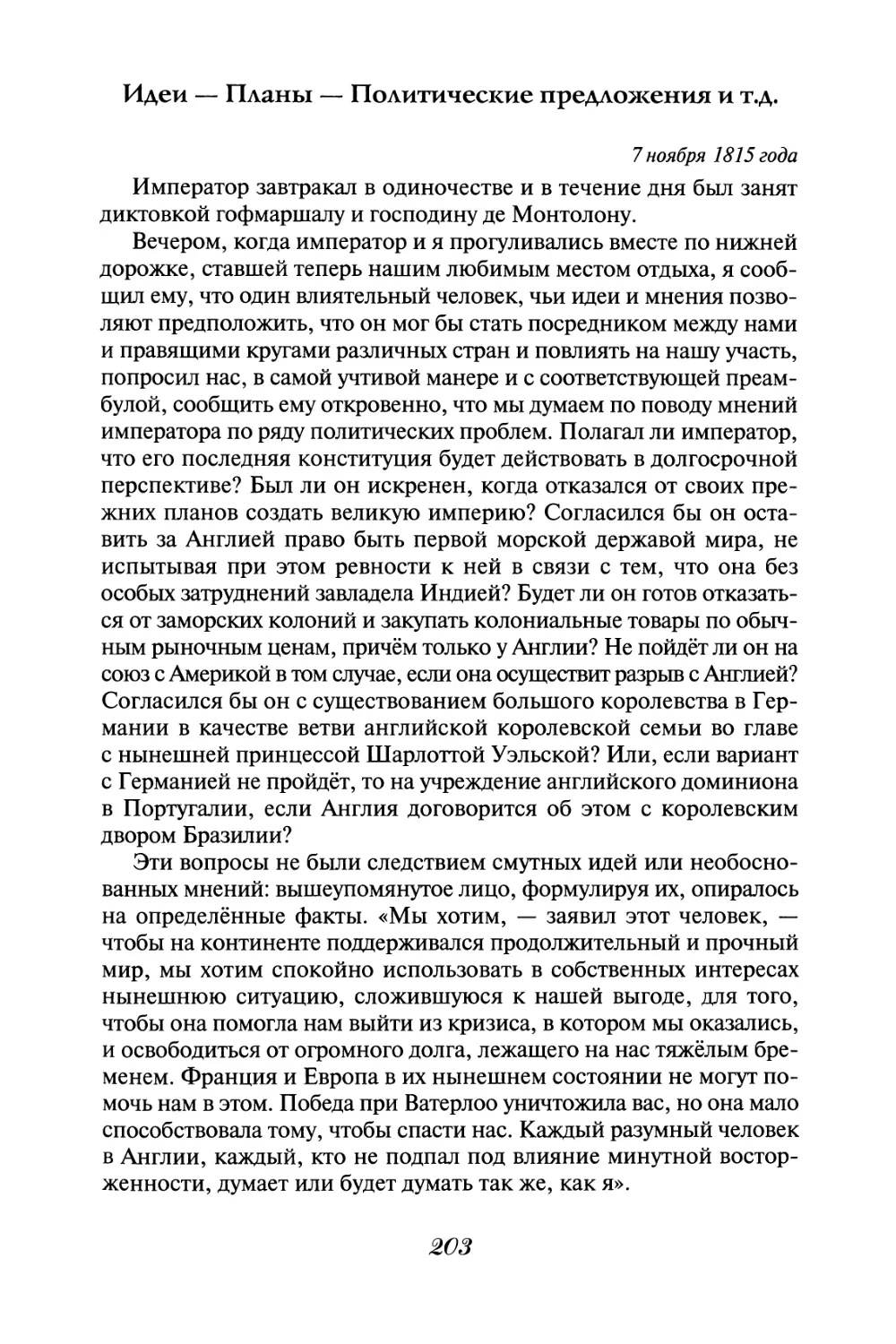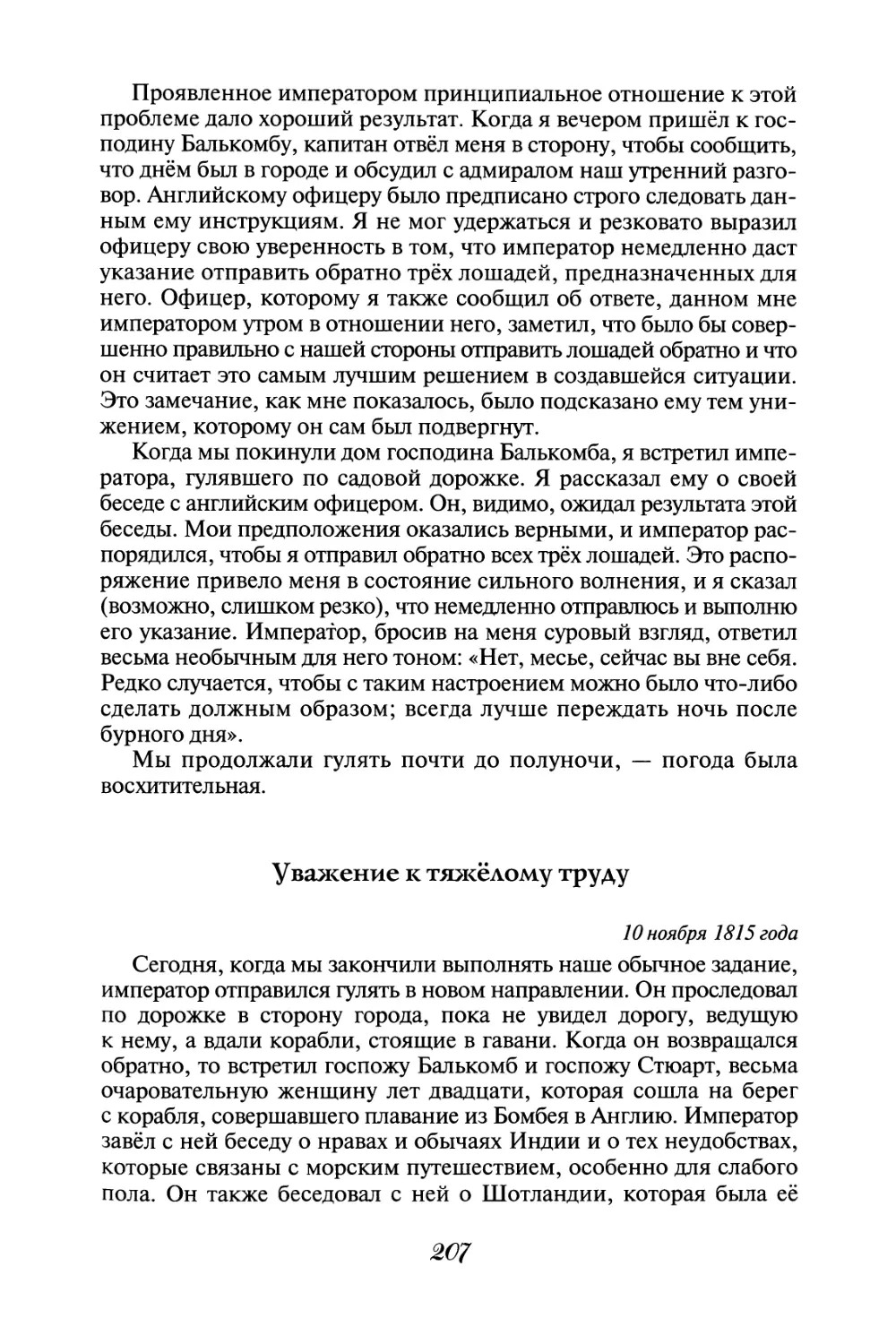Автор: Лас Каз Э.О.
Теги: история как литературный жанр исторические произведения хроники анналы мемуары дневники воспоминания жизнеописания биографии художественная литература наполеон военные дневники
ISBN: 978-5-8159-0997-7
Год: 2010
ГРАФ
ЛАСКАЗ
ЗАХАРОВ
Граф Лас-Каз (1766—1842)
ГРАФ ЛАС-КАЗ
МЕМОРИАЛ
СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
i
ЗАХАРОВ
МОСКВА
УДК 82-94 ББК 84.4Фр Л26
Mémorial de Sainte-Hélène par le ctede Las Cases: suivi de Napoléon dans l'exil.
Первое издание «Мемориала» увидело свет в 1822—1823 годах.
В 1831 году вышло последнее прижизненное дополненное издание;
оно и приводится с некоторыми сокращениями чрезмерных подробностей военных сражений, а также последних 100 страниц, описывающих жизнь Лас-Каза после изгнания со Святой Елены. Гравюры на дереве, воспроизведённые в этой книге, взяты из первого иллюстрированного издания 1842 года.
Лас-Каз граф
Л26 Мемориал Святой Елены, или Воспоминания об императоре Наполеоне : в 2 кн. / Граф Лас-Каз ; [пер. Л.Н.Зайцева.] ;
[илл. Н.Шарле, О.Верне и др. фр. худож. первой пол. XIX в.]. — М. : «Захаров», 2010. — 800 с. : ил.
ISBN 978-5-8159-0996-0 (общий)
ISBN 978-5-8159-0997-7 (кн. I)
«Мемориал Святой Елены» — культовая книга, в своё время потрясшая современников, — дневник, который вёл граф Лас-Каз, последовавший за Наполеоном в изгнание на остров Святой Елены. Лас-Каз день за днём записывал всё, что делал и говорил император. Часть дневника продиктована самим Наполеоном.
Впервые «Мемориал» вышел после смерти Наполеона в 1822—1823 годах и сразу же стал бестселлером. Почти все историки, как бы они ни оценивали Наполеона и его роль в построении европейской цивилизации, цитируют эту книгу, — поистине бесценную для тех, кого интересует французский император и его время.
В России книга издаётся впервые.
© Л.Н. Зайцев, перевод, 2004—2007 © «Захаров», 2010
Предисловие
Чрезвычайные обстоятельства способствовали тому, что долгое время я находился рядом с самым замечательным человеком, который когда-либо жил на свете. Восхищение им заставило меня последовать за ним ещё тогда, когда мы не были лично знакомы. А когда я близко узнал его, то любовь к нему заставила меня навсегда остаться рядом.
Весь мир озарён лучами его славы, не перестаёт говорить о его деяниях и восхищаться им; но мало кто знает об истинных чертах его характера, о естественных склонностях его души. Я берусь восполнить этот огромный пробел и для того, чтобы решить эту задачу, пользуюсь дарованными мне судьбою преимуществами — беспримерными в истории.
День за днём в течение восемнадцати месяцев, когда я постоянно находился рядом с Наполеоном, я собирал и записывал всё, что на моих глазах происходило с ним, всё, что он говорил в моём присутствии...
Итак, отныне личность и характер Наполеона полностью открыты для всего мира.
Граф Лас-Каз
Вступление
Я намерен ежедневно записывать всё, что делал и говорил император Наполеон в то время, когда я находился рядом с ним; но, прежде чем начать мой дневник, я надеюсь, что читатели простят меня за то, что я предложу им некоторые предварительные замечания, которые в целом могут оказаться небесполезными.
Я никогда не приступал к внимательному прочтению исторической работы без того, чтобы вначале не понять характерные особенности самой личности автора, не узнать о его социальном положении, о его политических отношениях с представителями окружающего его общества и о его семейных отношениях — фактически, о всех важнейших обстоятельствах его жизни, — полагая, что только знание и понимание всего этого может дать ключ к осмыслению его произведений и служить основой доверия к его заявлениям. Поэтому, в свою очередь, я расскажу о себе то, что всегда ищу в других, и, представляя этот дневник, приведу некоторые факты, касающиеся моей прошлой жизни.
Мне едва исполнился двадцать один год, когда разразилась революция. Я только что получил звание лейтенанта военно-морских сил; моя семья находилась при королевском дворе, и я сам недавно был представлен ко двору. Я не был богат, но моё имя и положение в обществе давали надежды, в соответствии со взглядами и обычаями того времени, что я смогу жениться по своему выбору. Как раз в тот момент и вспыхнули у нас политические беспорядки.
Один из главнейших пороков нашей системы поступления на государственную службу заключался в том, что она лишала нас всех
6
преимуществ фундаментального и законченного образования. Взятый из школы в возрасте четырнадцати лет, предоставленный с этой минуты самому себе и отправленный в неясный жизненный путь, как я мог приобрести хотя бы малейшее понятие о социальной организации общества, о правах и обязанностях гражданской жизни?
Таким образом, побуждаемый великодушными предвзятыми мнениями, а не справедливым чувством долга, движимый естественной склонностью к благородным намерениям, я был первым среди тех, кто поспешил за границу и встал на сторону наших принцев, — чтобы, как говорилось, спасти монарха от революционного гнева и защитить наши наследственные права, от которых мы всё же не могли, как утверждалось, отказаться, не испытывая стыда. Тот образ жизни, в соответствии с которым нас воспитывали, требовал от нас или на редкость здравого мышления, или очень слабого разума, чтобы противостоять надвигавшейся стремительной лавине жизненных событий.
Вскоре эмиграция — это роковое событие — стала всеобщей; за исключением плохо информированных и упрямых личностей, большинство тех, кто принимал в ней участие, не может сегодня найти оправдания этому безумию. Эмиграция была политической ошибкой и социальным преступлением.
Потерпевшие поражение на наших собственных границах, разоружённые и расформированные иностранцами, отвергнутые и объявленные вне закона в собственной стране, многие из нас добрались до Англии только для того, чтобы британские министры, не моргнув глазом, тут же высадили нас на побережье полуострова Киберон1* французской Бретани, где нас ожидало позорное поражение от французских войск. Поскольку мне очень повезло в том, что я не участвовал в высадке французских эмигрантов на побережье Кибе- рона, то я, отправившись в Лондон, посвятил своё время размышлениям над ужасной альтернативой — сражаться против собственной страны под иностранными знамёнами; и с этого момента мои мысли, принципы и планы были или полностью расстроены, или кардинально изменены.
Впав в отчаяние от произошедших событий, отрешившись от всего мира и от окружавшей меня привычной среды, я полностью посвятил себя самообразованию и под вымышленным именем вторично прошёл весь образовательный круг, чтобы в результате попытаться быть полезным для других.
По прошествии ряда лет Амьенский мир и амнистия, предложенная Первым консулом, вновь открыли нам ворота во Францию.
* Редакционные комментарии см. в конце книги.
7
Никакой собственности во Франции у меня более не было, законы лишили меня права на наследственное имущество; но ничто не может заставить забыть родную землю или уничтожить очарование возможности дышать воздухом собственной страны!
Я поспешил обратно во Францию и был благодарен за предоставление мне амнистии, воспринятой мною с ещё большей радостью оттого, что я мог с гордостью заявить: я получил её без малейшего повода для угрызений совести. Когда вскоре была провозглашена монархия, я был охвачен весьма своеобразными чувствами, да и моё положение стало очень необычным. Я словно был солдатом, наказанным задело, которое в итоге восторжествовало. Каждый новый день возвращал нас к прошлым идеям, которыми мы всегда руководствовались: восстанавливалось всё то, что было для нас дорого в наших принципах и убеждениях; и тем не менее, щекотливость положения и свойственное нам чувство чести обязывали нас держаться от всего этого несколько в стороне.
Тщетно новое правительство громогласно призывало к объединению всех противоборствовавших сторон, также тщетным было заявление его главы о том, что всякий живущий во Франции принадлежит к единой нации, и иного он не признаёт; напрасно мои старые друзья и бывшие товарищи предлагали мне воспользоваться всеми выгодами той новой карьеры, которую я выберу по своему вкусу. Будучи не в состоянии усмирить противоречивые чувства, будоражившие мой разум, я упорно продолжал придерживаться системы самоотречения и, посвятив всё своё время литературе, написал под вымышленным именем труд, посвящённый историческим проблемам. Благодаря этой книге я восстановил своё благосостояние и прожил пять или шесть самых счастливых лет своей жизни.
Тем временем беспрецедентные события следовали одно за другим с чрезвычайной быстротой; они были такого рода и столь необычного характера, что ни один человек, чьё сердце обладало склонностью к чему-то высокому и благородному, не мог безразлично наблюдать за ними. Слава нашей страны вознеслась до высот, неведомых в истории любого другого народа; управление всеми делами в стране было беспримерным как в силу проявляемой энергии, так и вследствие достигнутых результатов; одновременный порыв к совершенствованию, который неожиданно охватил все отрасли промышленности, в одно и то же время пробудил у всех стремление к честному соперничеству; армия не имела себе равных, вызывая страх за границей и справедливую гордость на родине.
Каждый день приносил новые победы, а возводимые многочисленные памятники возвещали о наших подвигах; победы в сражениях под Аустерлицем, Йеной и Фридландом, договоры в Пресбурге
8
и Тильзите поставили Францию впереди других держав и сделали её вершительницей судеб Европы. Быть французом означало, что человек удостоился великой чести; и, тем не менее, все эти подвиги, все эти достижения и все эти чудеса были результатом деяний одного человека. Что касалось моих личных чувств, то какие бы ранее у меня ни были предубеждения и предвзятые мнения, теперь меня переполняло чувство обожания к этому человеку; а как мы все хорошо знаем, всего лишь один шаг отделяет обожание от любви.
Именно в этот период император призвал на службу к своему трону несколько первых семей Франции и велел распространить среди остальных информацию о том, что он будет рассматривать представителей тех аристократических семей, которые останутся в стороне, как плохих французов. Я не колебался ни минуты. Я сказал себе, что выполнил обязательства своей естественной присяги, обязательства перед своим происхождением и полученным мною образованием и оставался верен им, пока они не исчерпали себя. О наших принцах мы более не думали, мы даже сомневались в их существовании. С этого времени серьёзное следование религиозным убеждениям, союзнические связи королей, пример Европы и величие Франции полностью убедили меня в том, что у меня появился новый монарх. Долго ли колебались наши предки, когда решили сплотиться вокруг первого монарха из династии Капетингов? Поэтому я ответил самому себе, что мне повезло, что таким образом я имею право откликнуться на призыв, с честью позволявший мне выйти из затруднительной ситуации, в которой я оказался, и я по собственной воле, не теряя времени на размышления, безо всяких оговорок вручил новому монарху весь свой энтузиазм, а также преданность и привязанность, которые хранил по отношению к моему прежнему королю. В результате этого решения я немедленно получил доступ к императорскому двору.
Теперь я испытывал страстное стремление, чтобы мои торжественные заявления о верности новому монарху были подтверждены практическими деяниями. Англичане вторглись на территорию Флюшинга2 и создали непосредственную угрозу Антверпену, поэтому я поспешил принять участие в защите последнего в качестве добровольца; и после освобождения Флюшинга моё назначение в ведомство гофмаршала императорского двора определило мою близость к персоне императора. Желая присовокупить к обязанностям этой почётной должности дополнительное полезное занятие, я ходатайствовал о месте в Государственном совете и получил его. Затем последовал ряд конфиденциальных миссий. Сначала я был направлен в Голландию, когда она объединилась с Французской империей, — чтобы принять под свою ответственность всё то, что относилось к военно-морскому ведомству. Потом я отправился
9
в Иллирийские провинции, чтобы содействовать там решению некоторых юридических проблем, после чего объехал половину Европы, чтобы прокон- тролировать деятельность благотворительных организаций. Во время наших последних невзгод я получил некоторые утешительные для меня доказательства того, что жители стран, которые я тогда посетил, остались довольны моими действиями.
Провидение, однако, положило предел нашему процветанию. Хорошо известны катастрофа в Москве, военные бедствия под Лейпцигом и осада Парижа. В Париже я командовал одним из полков, который 31 марта 1814 года, несмотря на жестокие потери, снискал уважение своим доблестным поведением в сражении. Когда капитулировал Париж, я сдал командование полком, полагая, что должен выполнять другие обязанности, находясь рядом с моим монархом. Но я не успел вовремя добраться до Фонтенбло, — император отрёкся от престола, и трон Франции занял король.
В результате моё положение стало ещё более своеобразным, чем оно было двенадцать лет тому назад. Дело, ради которого я пожертвовал своим благосостоянием, ради которого я так долго пребывал в ссылке и затем ещё шесть лет в состоянии самоотречения, в конце концов восторжествовало; тем не менее, вопрос чести и ряд других соображений воспрепятствовали тому, чтобы я извлёк из этого события какую-нибудь личную для себя пользу. Что могло быть более своенравным, чем моя собственная судьба? Свершились две революции, прямо противоположные по своим целям: в результате первой я потерял свои наследственные права, в результате второй — мог лишиться жизни. Ни первая революция, ни вторая не были благосклонны к моей судьбе.
Пошлые умы и любители интриги будут утверждать, что я дважды проявил себя заурядным простофилей, и только немногие поймут, что я дважды с честью выполнил свой долг. Друзья моей молодости, чьё уважение ко мне не уменьшилось из-за той линии поведения, которой я следовал, оказавшись теперь в числе вершителей власти, пригласили меня присоединиться к ним, но подчиниться всеобщему призыву было невозможно; чувствуя отвращение к самому себе, надломленный и лишённый мужества, я принял решение прекратить всякую общественную деятельность. Разве мог кто-либо понять, что творится в моей душе?
Неспособный выносить национальную деградацию, свидетелем которой я был каждый день в окружении вражеских штыков, я решился направить мои мысли в сторону от всех этих картин бедствий в собственной стране и отправился провести несколько месяцев в Англии. Как сильно, казалось, всё там изменилось! Подумав, я пришёл к выводу, что это моя личность претерпела большие изменения.
10
Едва я вернулся во Францию, как пришла новость о том, что на побережье нашей страны появился Наполеон; он проделал путь до столицы словно по мановению волшебной палочки — без единого сражения, не вызвав никаких беспорядков и пролития крови. Я думал, что стал свидетелем того, как пятно бесчестья на нашей стране от вражеских рук стёрто и наше величие восстановлено. Но судьба решила иначе!
Как только я узнал о прибытии императора, то немедленно отправился ко двору, чтобы служить его персоне. Я был непосредственным свидетелем отречения Наполеона от трона; и когда стали обсуждать вопрос о его смещении с престола, я попросил разрешения принять участие в его дальнейшей судьбе. До этого момента в императорском дворце царила атмосфера такого безразличия и опустошённости, что некоторые лица потом сочли мой поступок безрассудным, поскольку, несмотря на моё ежедневное пребывание во дворце в качестве офицера ведомства гофмаршала и на мой статус члена его Государственного совета, Наполеон практически меня не знал. «Вы понимаете, куда может привести вас ваше предложение?» — не скрывая своего удивления, спросил меня Наполеон. «Об этом я не думал», — ответил я.
Наполеон принял моё предложение, и вот сейчас я нахожусь на острове Святой Елены.
Итак, я рассказал о самом себе; в руках читателя находятся данные, удостоверяющие мою личность, множество моих современников живы, — посмотрим, сможет ли хотя бы один человек подвергнуть сомнению эти факты. Поэтому я приступаю к решению моей задачи.
Возвращение императора в Елисейский дворец после битвы при Ватерлоо
20 июня 1815 года
Узнав о возвращении императора в Елисейский дворец, я немедленно отправился туда для выполнения служебных обязанностей. Встретил там Монталамбера и Монтолона, прибывших туда по велению сердца.
Наполеон только что проиграл величайшее сражение; таким образом, безопасность страны отныне зависела от мудрости и рвения Палаты представителей. Император, весь ещё покрытый пылью с поля Ватерлоо, был готов немедленно отправиться к депутатам, чтобы заявить им о грозящей нам опасности и предложить средство для её предотвращения, а также сообщить о том, что он берёт на себя обязательство: его личные интересы никогда не станут препятствием счастью Франции; после этого заявления депутатам он намерен был сразу же покинуть Париж. Несколько человек из окружения императора отговорили его от этого шага, убедив, что он столкнётся с излишним волнением депутатов.
Пока ещё невозможно дать полную оценку сообщениям, которые распространяются по поводу рокового сражения: в некоторых сообщениях утверждается об измене, в других говорится о роковом стечении обстоятельств. Войско в составе тридцати тысяч человек под командованием Груши заблудилось, прибыло к месту битвы слишком поздно и не приняло в ней участия; армия, победоносная до
/2
того вечера, как говорят, неожиданно была охвачена паникой и в одно мгновение разгромлена. Это новое Креси, новый Азинкур*!.. Все дрожат от страха и считают, что всё потеряно!
Отречение
21 июня 1815 года
Весь последний вечер и всю ночь самые доброжелательные и наиболее влиятельные члены национального представительного собрания были объектами тайного давления со стороны неких лиц, предъявлявших, если верить их слову, подлинные документы и полуофициальные бумаги, гарантировавшие безопасность Франции всего лишь при одном условии, на котором они настаивали, — условии отречения императора от престола.
Сегодня утром вышеупомянутое мнение приняло столь убедительный характер, что стало невозможно его игнорировать; президент собрания, высшие сановники государства и отдельные друзья императора явились к нему, чтобы просить его отречься от престола и тем самым спасти Францию. Хотя их доводы ни в коей мере не убедили императора, тем не менее он, полный величия души, ответил им, что отрекается от престола!
Это событие вызвало необычайное волнение вокруг Елисейского дворца: масса людей устремилась к воротам, проявляя неподдельный интерес к событию дня; толпы парижан проникли в залы, в то время как отдельные простолюдины даже взбирались по стенам; многие люди, не скрывавшие своих слёз, в состоянии, близком
* Тут было написано «Подлинный День Шпор», и я должен объяснить, почему этот текст был вычеркнут из моей работы.
Император, единственный кто знал, что я веду дневник на острове Святой Елены, однажды попросил, чтобы я прочитал ему несколько страниц из него; когда я зачитал это выражение, неосторожно вставленное в дневник, он неожиданно воскликнул: «Что вы наделали! Вычеркните это, сударь, вычеркните немедленно! “Подлинный День Шпор” — какая клевета! Ах, несчастная армия! Храбрые солдаты! Они никогда не сражались лучше! — Затем, после небольшой паузы, он с чувством добавил: — Среди нас было несколько подлых негодяев! Пусть Небеса простят их! Но что касается Франции, то сможет ли она когда-либо возродиться вновь после всех последствий этого злополучного дня?» — Автор.
«Подлинный День Шпор» в Креси — намёк на сражение при Гинегатте около Булони в 1513 году между французской армией и армией английского короля Генриха VIIL Французы были полностью разгромлены в этом сражении и прославленный Байярд был взят в плен, когда прикрывал отступление французов; отступление было столь стремительным, что этот день получил название «Дня Шпор»: как писали современники, французская армия больше прибегала тогда к помощи шпор, чем пик. — Прим, переводчика.
13
к помешательству, стремились протолкнуться поближе к императору, который спокойно прохаживался в саду дворца, оказывая людям моральную поддержку. Наполеон один сохранял спокойствие, постоянно советуя собеседникам употребить в будущем на пользу своей стране проявляемые сейчас рвение и чуткость.
В течение дня я представил императору депутацию Палаты представителей; они пришли, чтобы поблагодарить императора за его преданность национальным интересам.
Документы и государственные бумаги, которые произвели настоящую сенсацию и стали основным событием дня, оказались, как выяснилось, официальными посланиями господ Фуше и Метгерни- ха, в которых последний гарантировал восхождение на престол Наполеона II и регентство — в том случае, если император отречётся от престола. Эти послания, судя по всему, были подготовлены уже
14
давно, причём втайне от Наполеона. Господин Фуше, должно быть, имел неистребимое пристрастие к секретным операциям. Хорошо известно, что он впервые попал в немилость к Наполеону несколько лет назад, когда по собственной инициативе, не поставив в известность императора, стал вести переговоры с Англией. В текущих делах он всегда демонстрировал стремление отходить от принятой линии ведения государственных дел. Бог не допустил, чтобы его нынешние тайные махинации оказались пагубными для нашей страны!
Депутация Палаты пэров — Коленкур — Фуше
22 июня 1815 года
Я отправился домой, чтобы в домашней обстановке провести несколько часов. В течение этого дня императору была представлена депутация Палаты пэров, вечером были названы имена некоторых членов временного правительства. Коленкур и Фуше, вошедшие во временное правительство, оказались вместе с нами, депутатами, в вестибюле Елисейского дворца; мы поздравили первого в связи с его назначением. Этим поздравлением мы, по существу, поздравили самих себя, поскольку это назначение отвечало интересам общества; ответ Коленкура был полон тревоги. «Мы аплодируем выбору человека, которого хорошо знали и прежде», — со своей стороны заявили мы. В наш разговор с Коленкуром вмешался Фуше, который заметил тоном наигранной весёлости: «Очевидно, что меня ни в чём не подозревают». — «Если бы вас подозревали, — резко ответил ему присутствовавший при общем разговоре депутат Буле де ла Мерт, — то, будьте уверены, тогда бы мы вас не назначили в правительство».
Временное правительство представлено императору
23 — 24 июня 1815 года
Всеобщий интерес к событиям в Елисейском дворце не иссякал. Я представил членов временного правительства императору, который, отпустив их, дал указание герцогу Декре проводить их до выхода из дворца. В течение дня императора навестили его братья, Жозеф, Люсьен и Жером, с каждым из которых он немного побеседовал.
15
Как обычно, вечером вокруг дворца собралась большая толпа людей, их количество постоянно увеличивалось. Интерес, который они проявляли к императору, и их шумные приветствия в его адрес вызвали явное беспокойство среди различных фракций. Возбуждённое поведение жителей столицы теперь стало столь бурным, что Наполеон принял решение покинуть Елисейский дворец на следующий день.
Наполеон покидает Елисейский дворец
25 июня 1815 года
Я сопровождал императора во время его переезда из Елисейского дворца в поместье Мальмезон и вновь попросил его разрешения разделить с ним его будущую судьбу. Моё предложение, казалось, вызвало у него удивление, поскольку он знал меня только благодаря моей службе в ведомстве гофмаршала; но он принял моё предложение.
26 июня 1815 года
Жена приехала повидаться со мной. Она догадывалась о моих намерениях; признаться в них стало для меня довольно деликатной задачей, и ещё более трудным оказалось убедить её в их правильности.
16
«Дорогая, — сказал я, — когда я поступаю по велению своего сердца, то меня утешает мысль, что тем самым не наносится ущерб твоим интересам. Если Наполеону II предстоит править нашей страной, то я уверен, что он будет покровительствовать тебе; если же Небеса решат иначе, то я обеспечил тебе великолепное место для убежища и имя, достойное всякого уважения. В любом случае мы встретимся вновь, по крайней мере, в лучшем мире».
После потока слёз и даже упрёков, которые в данной ситуации не могли быть неприятными, она дала согласие на мой отъезд, взяв с меня обещание, что я позволю ей приехать ко мне. С этой минуты она демонстрировала мужество и силу характера, которые воодушевляли меня в тех случаях, когда мне это было необходимо.
В Мальмезон приезжает военно-морской министр
27 июня 1815 года
Я ненадолго отправился в Париж вместе с военно-морским министром, который приезжал в Мальмезон для обсуждения деловых вопросов относительно фрегатов, предназначенных для императора. Министр зачитал мне инструкции, подготовленные для командиров фрегатов, и заявил, что Его Величество рассчитывает на моё усердие и намерен взять меня с собой. Министр пообещал, что будет заботиться о моей семье во время моего отсутствия.
Законодательное собрание провозгласило Наполеона II императором.
Я послал за моим сыном, находившимся в школе, поскольку принял решение, что он будет сопровождать меня. Мы подготовили небольшой пакет с одеждой и бельём и затем отправились в Мальмезон вместе с моей женой, которая потом тут же вернулась в Париж. Дорога теперь стала небезопасной вследствие того, что приближаются вражеские войска.
28 июня 1815 года
Желая завершить некоторые дела, я с сыном поехал в Париж, нас довезла герцогиня Ровиго.
С каждым часом в столице возрастали волнение и чувство неопределённое™, так как армии врага подступали. При подъезде к Мальмезону мы увидели, что мост через реку Шату весь объят пламенем; посты охраны были расставлены вокруг дворца, и было весьма благоразумно оставаться внутри парка, окружённого стенами.
/7
Я отправился в комнату императора и поделился с ним впечатлениями об обстановке в Париже; я заявил, что, по всеобщему мнению, Фуше открыто предал национальное дело и что надежды всех патриотов связаны с тем, что Его Величество в эту же ночь присоединится к армии, которая во всеуслышание требует его приезда к ней. Император очень внимательно выслушал меня, находясь в состоянии глубокой задумчивости, но не сказал ни слова. Я вскоре после этого удалился.
Наполеон покидает Мальмезон и отправляется в Рошфор
29 — 30 июня 1815 года
Возгласы «да здравствует император!» постоянно раздавались на большой дороге, ведущей в Сен-Жермен, — так приветствовали Наполеона войска, которые проходили мимо Мальмезона.
Ближе к полудню из Парижа приехал генерал Беккер, посланный временным правительством; он сообщил нам с оттенком
возмущения в голосе, что получил поручение охранять Наполеона и наблюдать за ним*.
Самые низменные чувства диктовали необходимость сделать выбор в пользу генерала Беккера: Фуше было известно, что генерал Беккер затаил личную обиду против императора, и поэтому Фуше не сомневался, что в генерале Беккере он нашёл человека, готового к мести. Но Фуше сильно подвели его ожидания, ибо генерал Беккер постоянно проявлял высокую степень уважения и привязанности к императору, показывая благородство своего характера.
Между тем времени почти не оставалось. Когда пришла пора отъезда из Мальмезона, император направил через генерала Беккера
* Когда я вернулся в Европу, мне представился случай ознакомиться со следующими документами, которые имеют отношение к упомянутому выше обстоятельству. Я переписываю их в свой дневник, поскольку, как я думаю, они неизвестны широкой общественности.
«От правительственной комиссии маршалу князю д’Экмюлю, военному министру:
Париж, 27 июня 1815 года
Положение дел сейчас таково, что Наполеону необходимо решить вопрос о своём отъезде и следовании на остров Экс. Если он не примет этого решения после того, как вы ознакомите его с прилагаемыми резолюциями, то вам следует принять меры по наблюдению за ним в Мальмезоне, чтобы помешать его побегу. С этой целью вы предоставите в распоряжение генерала Беккера необходимое количество жандармов и подразделений действующей армии, с тем чтобы они охраняли все дороги, ведущие к Мальмезону во всех направлениях. Вы должны дать соответствующие указания главному инспектору жандармерии. Сведения об этих мерах должны храниться в полнейшей тайне.
Это письмо направляется только вам лично; но генерал Беккер, которому будет поручено вручить упомянутые резолюции Наполеону, получит от вашего превосходительства особые инструкции и информирует Наполеона о том, что эти резолюции были подготовлены с целью соблюдения интересов государства и для обеспечения безопасности его персоны, что их скорейшее выполнение крайне необходимо и, наконец, что они абсолютно необходимы для интересов его будущего.
Герцог Отрантский».
«Государственная комиссия принимает следующие резолюции:
1. Военно-морской министр отдаст приказы двум фрегатам подготовиться в Рошфоре, чтобы переправить Наполеона Бонапарта в Соединённые Штаты.
2. В том случае, если он потребует этого, то до места посадки на борт корабля его будет сопровождать эскорт под командованием генерал-лейтенанта Беккера, которому будет поручено принять соответствующие меры по обеспечению его безопасности.
3. Генеральный директор почтового ведомства даст, со своей стороны, необходимые указания относительно постов летучей почты.
4. Военно-морской министр даст необходимые указания о немедленном возвращении фрегатов после высадки Наполеона Бонапарта на берег Соединённых Штатов.
5. Фрегаты не должны покидать Рошфор до прибытия охранных свидетельств и эскорта.
6. Военно-морскому министру, военному министру и министру финансов вменяется каждому выполнение той части настоящих резолюций, которая касается их непосредственно».
послание временному правительству, предлагая поставить себя во главе армии в качестве частного гражданина и добавив, что после того, как будет дан отпор Блюхеру, он продолжит свой путь по намеченному маршруту. Получив отказ на это предложение, мы покинули Мальмезон; император и часть его свиты отправились в Рошфор через Тур, я и мой сын вместе с Монтолоном, Плана и Резиньи проследовали к Орлеану, так же, как и ещё два или три других экипажа. Мы прибыли в Орлеан рано утром 30 июня и добрались до Шательро в полночь.
«Герцог Отрантский — военному министру:
Париж, 27 июня 1815 года, полдень
Направляю вам копию письма, которое я только что написал военно-морскому министру относительно Наполеона. Внимательное прочтение этого письма должно убедить вас в том, что вам необходимо отдать приказание генералу Беккеру не отходить ни на шаг от персоны Наполеона в то время, когда последний остаётся на дорогах острова Экс».
«Военно-морскому министру:
Париж, 27 июня 1815 года, полдень
Комиссия напоминает вам об инструкциях, переданных вам час тому назад. Резолюции должны быть исполнены именно так, как они были предписаны комиссией вчера, и в соответствии с ними Наполеон Бонапарт должен оставаться на острове Экс до прибытия его паспортов. Благополучие государства, которое ему не может быть безразличным, требует, чтобы он оставался на острове до тех пор, пока не будет определённым образом решена его судьба и судьба его семьи. Будут приняты все меры и использованы все средства, чтобы обеспечить для него удовлетворительный результат переговоров. От этого зависит честь Франции; но тем временем должны быть приняты все меры предосторожности по обеспечению личной безопасности Наполеона, а также для того, чтобы он не покидал место, которое временно предназначено для него.
Президент правительственной комиссии герцог Отрантский».
«Военный министр — генералу Беккеру:
Париж, 27 июня 1815 года
Имею честь направить вам прилагаемые резолюции, с которыми правительственная комиссия обязывает вас ознакомить императора Наполеона; скажите Его Величеству, что обстоятельства приняли столь неотложный характер, что стало совершенно необходимым, чтобы он принял решение в настоящее время находиться на острове Экс. Эти резолюции, как отмечает комиссия, были подготовлены в равной степени и для личной безопасности его персоны, и в интересах государства, которые всегда должны быть для него дороги.
Если, после ознакомления Его Величества с этими резолюциями, он не согласится с ними, то государственная комиссия намерена принять все необходимые меры, чтобы предотвратить побег Его Величества, а также любую попытку, враждебную для его персоны».
Приведённое выше письмо осталось без подписи: когда оно готовилось к отправке, князь д'Экмюль заявил своему секретарю: «Я никогда не подпишу это письмо, подпишите его сами, этого будет достаточно». Было оно послано или нет? На этот вопрос я ответить не могу.
20
1 — 2 июля 1815 года
Мы проехали Лимож 1 июля в четыре часа дня; обедали в Ла Рош- фуко 2 июля и добрались до Жарнака около семи часов вечера. В Жарнаке мы ночевали из-за упрямства начальника почтовой станции, который заставил нас остаться там до следующего дня.
3 июля 1815 года
Мы не могли выехать из Жарнака до пяти часов вечера. Из-за недружелюбного отношения к нам начальника почтовой станции, который был недоволен тем, что ему пришлось держать нас всю ночь, и использовал известные ему тайные средства, чтобы задерживать нас ещё дольше, мы были вынуждены медленно добираться до Коньяка, где начальник почтовой станции и жители городка приняли нас совсем иначе. Было легко понять, что наше путешествие вызвало большое волнение у всех французов. Приехав в Сент к одиннадцати часам вечера, мы чуть не стали жертвами враждебной ярости нескольких негодяев, собранных офицером королевской гвардии, жителем этого городка. Этот человек подготовил нам засаду и даже замышлял убить нас. Собравшаяся толпа арестовала нас, но вмешался отряд национальной гвардии и препроводил нас, в качестве пленников, в соседнюю с почтовой станцией гостиницу.
21
Были распространены слухи, что мы везём с собой государственные сокровища и поэтому заслуживаем смерти. Некоторые люди из толпы, которые вели себя так, словно они были самыми знатными жителями городка, в основном женщины, были настроены особенно агрессивно, требуя, чтобы нас немедленно казнили.
Мы наблюдали за этими женщинами, когда они шествовали одна за другой вблизи открытых окон нашей временной тюрьмы, — видимо, для того, чтобы их оскорбления в наш адрес не пропадали даром. Едва ли можно было поверить, что в проявлении своей ненависти к нам и своей досады при виде нашего безразличия к ним они ограничились бы только тем, что в ярости кусали губы; тем не менее, именно эти женщины составляли самый фешенебельный круг светского общества городка Сент! Может быть, Реаль был прав, когда в период Ста дней говорил императору, что кое-что знает о якобинцах? Он уверял, что единственная разница между бедными и богатыми якобинцами состояла в том, что первые носили деревянные башмаки, а вторые — шёлковые чулки.
Принц Жозеф, проезжавший через Сент, о чём нам не было известно, своим появлением в городке вызвал у местных жителей дополнительный интерес к нашему приключению. Он также был арестован и затем препровождён в местную префектуру, но к нему относились с величайшим уважением.
22
Окна нашей гостиницы выходили на большую площадь, которая беспрестанно заполнялась возбуждённой и враждебно настроенной к нам толпой, которая вела себя чрезвычайно воинственно и оскорбительно. Карета, в которой мы путешествовали, была подвергнута обыску, а нас самих в это время содержали в чём-то похожем на камеру одиночного заключения. Однако я получил разрешение навестить принца Жозефа примерно в четыре часа дня.
Пока я шёл в префектуру, несколько человек обратились ко мне с разговором, хотя меня и сопровождал сержант: некоторые передавали мне записки, другие шептали какие-то дружеские слова; все они заверяли меня в том, что мы можем чувствовать себя совершенно спокойно, так как патриоты и благоразумные жители защитят нас.
Ближе к вечеру нам разрешили продолжить наш путь, и к этому времени обстановка в городе настолько изменилась, что мы покидали гостиницу, сопровождаемые приветственными возгласами. Женщины из числа бедной части населения в слезах целовали наши руки, многие местные жители предлагали сопровождать нас, чтобы избежать встречи с врагами императора, которые, как нас уверяли, недалеко от города поджидали наш кортеж, чтобы убить нас. Эта
23
своеобразная смена настроения в Сенте была в некоторой степени вызвана тем, что в город пришли крестьяне из близлежащих деревень, а также отряды федеральных войск.
4 июля 1815 года
Мы прибыли в Рошфор около двух часов ночи, император приехал в Рошфор накануне вечером*. Принц Жозеф прибыл в Рошфор днём 4 июля; я тут же провёл его к императору.
Воспользовавшись первой же минутой отдыха, я сообщил президенту Государственного совета о причине своего отсутствия. «Срочные и важные события, — писал я, — вынудили меня покинуть Париж, не спросив необходимого разрешения. Исключительная важность события привела к этому нарушению соответствующих правил: я находился в составе свиты императора в момент его отъезда и не мог оставить великого человека, который так доблестно правил нами и который подверг себя изгнанию, чтобы способствовать спокойствию Франции, от былой мощи которой сейчас ничего не осталось, кроме её славы и имени; повторяю, что я не мог позволить ему уехать, не уступив моему желанию следовать за ним. В те дни, когда он преуспевал, он удостоил меня чести выказать мне свою благосклонность; теперь я обязан отплатить ему всем, на что я способен, будь то мои чувства или мои поступки».
5—7 июля 1815 года
В Рошфоре император не стал надевать свой военный мундир. Он жил в префектуре; вокруг этого дома постоянно толпилась масса народа, часто повторялись приветственные возгласы в его честь. Император два или три раза появлялся на балконе.
Во время своего пребывания в Рошфоре император вёл такой же образ жизни, как и в Тюильри; мы не приближались к его особе чаще обычного; он редко принимал кого-либо, за исключением Бертрана и Савари; таким образом, нам приходилось удовлетворяться только сообщениями и догадками обо всём том, что касалось его. Однако было очевидно, что, находясь в самом центре всеобщего волнения и возбуждения, он сохранял спокойствие и решительность, продолжая оставаться даже несколько безразличным к происходившему вокруг него.
* Маршрут императора после выезда из Парижа был следующим: выехал из Парижа 29 июня и ночь спал в Рамбуйе; в Туре был 30 июня, в Ньоре — 1 июля; выехал из Ньора 2 июля и приехал в Рошфор 3 июля; оставался там до 8 июля и вступил на борт «Беллерофона» 15 июля.
24
Лейтенант нашего военно-морского флота, который сейчас командует датским торговым кораблём, от всей души хотел спасти императора. Он предлагал взять на борт своего корабля его одного и спрятать таким образом, чтобы ни одна проверка не смогла обнаружить его; он был готов немедленно отплыть с ним в Соединённые Штаты. Он просил только небольшую сумму для выплаты страховки владельцам корабля на тот случай, если во время выполнения плана он понесёт какие-нибудь потери. Бертран согласился с предложением лейтенанта, но на определённых условиях, которые записал от моего имени. Я подписал этот документ с изложенной фиктивной сделкой в присутствии и на глазах морского префекта.
Император вступает на борт корабля
8 июля 1815 года
Вечером император проследовал в Фурас, сопровождаемый приветственными возгласами местных жителей повсюду, где бы он ни появлялся. Он спал на борту фрегата «Заале», на который вступил около восьми часов вечера. Я прибыл на борт фрегата гораздо позже, поскольку сопровождал в другой лодке госпожу Бертран, с которой мы отплыли к фрегату с иного места на берегу.
25
9 июля 1815 года
Я сопровождал императора, когда он рано утром сошёл с борта фрегата на берег острова Экс; он осмотрел фортификационные сооружения острова и вернулся на борт фрегата к завтраку.
10 июля 1815 года
Рано утром вместе с герцогом Ровиго я отправился к британским военным кораблям, чтобы выяснить, получили ли они охранные грамоты и пропуска, обещанные нам временным правительством, для того чтобы Наполеон мог проследовать в Соединённые Штаты. Нам ответили, что они охранных грамот и пропусков не получали, но что этот вопрос будет немедленно доложен их главнокомандующему. Я уведомил англичан, что император высказал предположение о возможности отплыть в Соединённые Штаты вместе с французской эскадрой из двух фрегатов под белым флагом перемирия; англичане ответили, что в этом случае французская эскадра будет атакована. Затем мы поставили вопрос о возможности отплытия Наполеона в Соединённые Штаты на одном из кораблей нейтральных стран; в ответ нам сообщили, что все корабли нейтральных стран будут подвергнуты строгому досмотру и, возможно, даже отконвоированы в английский порт. В итоге нам было рекомендовано проследовать в Англию; нам заявили, что в этой стране у нас не будет никаких оснований для того, чтобы опасаться чего-либо плохого. Мы вернулись к себе в два часа дня.
Британский корабль «Беллерофон» последовал за нами и вскоре бросил якорь на Баскском рейде, чтобы находиться поближе к нам; таким образом, корабли обеих стран встали почти вплотную друг к другу.
Когда мы поднялись на борт «Беллерофона», капитан этого корабля обратился к нам на французском языке; у меня не было особого желания сообщать ему, что я кое-что понимаю на его собственном языке: некоторые выражения, которыми капитан корабля обменивался со своими офицерами, могли негативно повлиять на ход наших переговоров, если бы оказалось, что я понимаю их. Когда, некоторое время спустя, нас спросили, понимаем ли мы английский язык, я не помешал герцогу Ровиго дать им отрицательный ответ. Наше положение вполне позволяло мне не чувствовать каких-либо угрызений совести, которые возникли бы у меня в иной ситуации, и придавало моему маленькому обману достаточно извинительный характер. Я упоминаю об этом случае только потому, что, поскольку я оставался две недели среди англичан, мне приходилось проявлять утомительную сдержанность, чтобы не выдать себя. Впрочем, хотя я мог с лёгкостью читать английский текст, но
26
из-за того, что я не был в Англии тринадцать лет и, соответственно, не имел разговорной практики, я испытывал большие затруднения в понимании разговоров англичан.
11 июля 1815 года
Английские военные корабли заблокировали все выходы в открытое море. Судя по всему, император находится в состоянии полной неопределенности в отношении того, какого именно плана он должен придерживаться. Для его отплытия из Рошфора ему предлагались и корабли под флагом нейтральных государств, и даже быстроходные береговые шлюпы, укомплектованные молодыми военно-морскими офицерами. Со всей территории Франции императору продолжают поступать предложения о его спасении.
12 июля 1815 года
Император с борта фрегата «Заале» сошёл на берег острова Экс, где его с энтузиазмом приветствовали жители. Он покинул фрегат из-за того, что командир отказался поднять паруса и отплыть в открытое море; неизвестно, был ли его отказ результатом слабости характера или следствием того, что он получил новые приказы от временного правительства. Многие сторонники Наполеона придерживались мнения, что попытка выйти в открытое море и оторваться
27
от преследования англичан могла иметь некоторые шансы на успех; но следует признать, что направление и сила ветра по-прежнему оставались неблагоприятными для осуществления такого плана.
13 июля 1815 года
Днём принц Жозеф навестил своего брата. Около одиннадцати часов вечера император был почти готов к тому, чтобы отправиться в открытое море на быстроходном береговом шлюпе в сопровождении другого шлюпа с багажом и с некоторыми членами его свиты. Одним из них должен был быть господин де Плана.
14 июля 1815 года
Вместе с генералом Лаллеманом я в четыре часа утра отправился на борт английского корабля «Беллерофон», чтобы удостовериться, получен ли какой-нибудь ответ в отношении пропусков. Капитан корабля сообщил, что ожидает ответа в любую минуту, и добавил, что, если император готов немедленно отплыть в Англию, то он, капитан, имеет инструкции привезти его туда. Затем капитан заявил, что он, так же как и другие присутствующие английские капитаны, придерживается мнения, что Наполеону, вне всякого сомнения, в Англии будет оказан радушный приём: он будет встречен с самым большим уважением, и с ним будут обращаться наилучшим образом, поскольку в Англии ни король, ни его министры не осуществляют деспотическую власть, как это делают правители государств европейского континента, а английский народ обладает душевной щедростью и великодушием, стоящими выше мнения самой верховной власти.
Я ответил, что по возвращении сообщу императору о предложении капитана и о содержании всей его речи, и добавил, что в достаточной мере знаком с характером императора Наполеона, чтобы верить: он без колебаний отправится в Англию с такой же уверенностью, с какой смог бы продолжить своё плавание в Соединённые Штаты. В разговоре с английским капитаном я обрисовал часть Франции, расположенную к югу от Луары, как территорию, охваченную пламенным народным гневом, и сообщил, что все свои надежды французский народ связывает с Наполеоном, пока он ещё находится во Франции; я заявил, что отовсюду ежечасно ему шлют предложения возглавить борьбу против вторгнувшихся на территорию страны вражеских войск, что Наполеон полон решимости ни стать причиной, ни дать повода для развязывания гражданской войны, что великодушие, проявленное им при отречении от престола, направлено на то, чтобы способствовать
28
более лёгкому заключению мира, и что он принял твёрдое решение подвергнуть себя добровольному изгнанию, дабы заключение мира было быстрым и полным.
Генерал Лаллеман, будучи приговорённым к смертной казни властью короля Франции и лично заинтересованный в характере принимаемых в настоящее время решений, спросил капитана Мэтленда, которого он ранее знал в Египте и чьим пленником, как я думаю, он был: имеют ли лица, вроде него, вовлечённые в гражданские раздоры в его стране и, таким образом, добровольно следующие в Англию, какие-либо основания для опасений, что их вышлют во Францию? Капитан ответил, что таких оснований нет и что подобные сомнения равносильны оскорблению.
Перед тем, как попрощаться с англичанами, мы подвели итоги переговоров. Я повторил, что, возможно, исходя из сложившихся обстоятельств и из собственных намерений императора, он воспользуется предложением капитана Мэтленда, с тем чтобы получить охранные грамоты и пропуска для поездки в Америку. Капитан Мэтленд просил нас понять, что он не может гарантировать выдачу разрешений на охранные грамоты и пропуска, на получении которых мы настаивали; после этого его заявления мы покинули борт «Беллерофона». Говоря по правде, сам я не считал, что мы получим подобные разрешения, но император, желая в будущем вести свою жизнь в обстановке полного спокойствия, принял решение окончательно отойти от политической деятельности, поэтому мы рассматривали возможность того, что нам не разрешат покинуть Англию, не испытывая особой тревоги по этому поводу, но наши опасения и предположения далее этого не простирались. Вполне вероятно, что капитан Мэтленд придерживался такого же мнения: во всяком случае, я отдаю ему, так же как и другим английским офицерам, должное, полагая, что они были честны и искренни, когда говорили нам о душевных качествах английского народа.
Мы приехали на остров в одиннадцать часов; между тем шторм на море усиливался, и необходимо было принимать то или другое решение. Император собрал нас вместе, чтобы провести некоторое подобие заседания Государственного совета, на котором были бы обсуждены все шансы побега. Попытка прорвать блокаду английской флотилии на датском корабле была признана бесперспективной, а об использовании французских береговых шлюпов уже более никто и не думал. Преодолеть силой блокаду британских военных кораблей не представлялось возможным, — таким образом, судя по всему, оставалось одно из двух: или возобновить войну в полном масштабе, или принять предложение капитана Мэтленда. Было выбрано
29
последнее. Мы руководствовались тем, что, вступив на борт корабля «Беллерофон», мы сразу же окажемся на британской территории; в этом случае англичане свяжут себя узами гостеприимства, которые считаются священными даже среди самых варварских народов. Мы также окажемся под защитой гражданских прав и привилегий этой страны. Народ Англии не будет настолько безразличен к своей славе, чтобы не воспользоваться таким счастливым для него обстоятельством. Исходя из этого предположения, Наполеон написал прин- цу-регенту Великобритании следующее письмо:
«Ваше Королевское Высочество! Являясь жертвой борьбы партий, раздирающей мою страну, и жертвой вражды ко мне великих держав Европы, я завершил свою политическую карьеру. Я, подобно Фемистоклу, пришёл к очагу английского народа. Отдаю себя под защиту его законов, которой я прошу у Вашего Королевского Высочества как наиболее могущественного, наиболее непоколебимого и наиболее великодушного из всех моих противников.
Наполеон».
Около четырёх часов дня я вместе со своим сыном и генералом Гурго взошёл на борт «Беллерофона», откуда мне уже не суждено было вернуться. Мне было поручено объявить капитану Мэтленду,
что Его Величество вступит на борт «Беллерофона» на следующее утро, и, кроме того, я должен был вручить капитану Мэтленду вышеупомянутое письмо; генералу Гурго было поручено немедленно отплыть в Англию, чтобы лично вручить принцу-регенту письмо императора. Капитан Мэтленд, прочитав письмо Наполеона, остался им очень доволен. Двум другим английским капитанам было разрешено сделать копии с письма Наполеона с обязательством сохранять его содержание в тайне до тех пор, пока оно не будет обнародовано; после этого Гурго сразу же был отправлен в Англию на корвете «Слейни», входившем в состав английской эскадры.
Мы с сыном сидели в каюте капитана «Беллерофона». Вскоре после того как «Слейни» покинул эскадру, капитан Мэтленд, выходивший из каюты, чтобы отдать какие-то приказы, неожиданно вернулся и с выражением крайней озабоченности на лице воскликнул: «Граф Лас-Каз, пока я вёл с вами переговоры, меня обманули! Воспользовавшись тем, что один из моих кораблей покинул эскадру, Наполеон, как я об этом только что узнал, сбежал. Если это действительно так, то я буду поставлен в ужасное положение перед моим правительством». Слова капитана сильно удивили меня; я был бы готов отдать всё на свете, чтобы сказанное оказалось правдой. Император никаких договорённостей по этому поводу не имел; в переговорах с капитаном Мэтлендом я был абсолютно искренен и поэтому с готовностью стал бы жертвой подобного развития событий.
Сохраняя полнейшее хладнокровие, я спросил капитана Мэтленда: в котором часу император отплыл, как ему было сказано, в неизвестном направлении? Капитан был настолько потрясён полученным известием, что не удосужился выяснить это. Он вновь вышел из каюты, чтобы уточнить этот вопрос; вернувшись, он сказал мне: «В двенадцать часов дня». — «Если это так, — ответил я, — то отплытие «Слейни» никакого отношения к побегу Наполеона не имеет, так как вы только что отправили этот корвет в Англию; кроме того, у вас нет оснований для беспокойства, так как я расстался с императором на острове Экс в четыре часа дня». — «Вы уверены в этом?» — спросил он. Когда я повторил свои слова, он повернулся к офицерам, сопровождавшим его, и заявил им по-английски, что полученная разведывательная информация, должно быть, не соответствует действительности, так как я веду себя слишком спокойно и, судя по всему, искренен; и, помимо всего, я дал слово говорить только правду по затронутому вопросу.
Англичане с военных кораблей имели большое количество источников информации на нашем побережье: впоследствии я получил
возможность убедиться в том, что они были подробно информированы обо всех наших делах*.
Теперь все наши мысли были заняты только одним: подготовкой к следующему дню. Капитан Мэтленд спросил меня, не хотел бы я, чтобы он выслал свои лодки за императором. Я ответил ему, что французские моряки слишком болезненно воспринимают предстоящее расставание с императором, чтобы лишить их удовольствия послужить ему вплоть до последней минуты.
Император вступает на борт «Беллерофона»
15 июля 1815 года
На рассвете мы увидели, как один из наших бригов, «Ястреб», приближается к «Беллерофону» под белым флагом перемирия. Так как ветер дул навстречу приливу, то капитан Мэтленд послал свою командирскую шлюпку для встречи с бригом. Увидев, что шлюпка возвращается, капитан чрезвычайно разволновался и стал пытаться с помощью подзорной трубы выяснить, действительно ли император находится на борту брига; он просил меня, чтобы я, посмотрев в подзорную трубу, убедился в этом сам, но пока ещё я не мог дать ему определённый ответ. Наконец все сомнения рассеялись, так как император вышел вперёд в окружении своей свиты.
Я стоял у сходен, чтобы представить императору капитана Мэт- ленда, которому он сказал: «Я вступаю на борт вашего корабля, чтобы отдать себя под защиту законов Англии». Капитан затем провёл императора в свою каюту, которая немедленно была отдана в его распоряжение. Вскоре после этого императору были представлены все офицеры «Беллерофона»; по окончании этой церемонии
* Во время нашего плавания из Англии на остров Святой Елены адмирал Кок- берн предоставил в наше распоряжение свою библиотеку. Один из членов свиты Наполеона, перелистывая страницы тома «Британской энциклопедии», обнаружил письмо из Л а-Рошели, адресованное командиру английской эскадры; письмо содержало, слово в слово, всё развитие нашего дела, связанного с датским кораблём: точное время предполагаемого отплытия корабля, планы на будущее и т.д. Мы передавали это письмо из рук в руки, приняв меры, чтобы затем положить его туда же, где оно было обнаружено. По своему содержанию это письмо не представляло для нас особой информационной ценности; мы были осведомлены о существовании договорённости между нашими противниками во Франции и вне её об обмене разведывательной информацией, но нам хотелось получить доказательство этого. Каким образом это письмо оказалось на борту «Нортумберленда»? Капитан Мэтленд, переправляя нас на этот корабль, несомненно, также передал всю документацию, относившуюся к нашему пленению.
Это было то самое письмо, которое вызвало такую тревогу у капитана Мэтлен- да в связи с предполагаемым побегом императора вскоре после того, как я вступил на борт «Беллерофона».
32
император вышел из каюты и в течение утра обошёл весь корабль. Я рассказал императору о том состоянии тревоги, в котором капитан Мэтленд пребывал накануне вечером в связи с предполагаемым побегом императора; Наполеон весь этот эпизод видел в несколько ином свете, чем я. «Чего он боялся? — спросил император властным тоном, выразительно посмотрев на меня. — Разве вы сами не были в его власти?»
Около трёх часов дня британский военный корабль «Величественный» с 74 орудиями, под флагом контр-адмирала Хотэма, командира военно-морской базы, бросил якорь вплотную к «Беллерофону». Адмирал перешёл на борт «Беллерофона», чтобы нанести визит императору, и остался отобедать с ним. В связи с тем, что Наполеон проявил интерес к его кораблю, адмирал Хотэм выразил желание узнать, не соизволит ли Его Величество посетить корабль адмирала на следующий день; император ответил, что не возражает посетить корабль «Величественный» вместе со всей своей свитой и позавтракает с адмиралом на его корабле.
16 июля 1815 года
Я сопровождал императора во время его посещения корабля «Величественный». Императору были щедро оказаны все почести, за исключением салюта из пушек; мы осмотрели весь корабль, уделяя
33
внимание каждой мелочи; всё на корабле предстало в идеальном порядке. Адмирал Хотэм во всём проявил утончённость вкуса и такт человека воспитанного и достойного звания адмирала. Когда мы возвратились на борт «Беллерофона», корабль поднял паруса, и мы поплыли в сторону Англии; это событие произошло через двенадцать дней после нашего отъезда из Парижа. Море было почти спокойным.
Покидая утром «Беллерофон», чтобы нанести визит адмиралу Хотэму на корабле «Величественный», император остановился перед матросами, выстроенными на юте для его приветствия. Он попросил их проделать несколько упражнений с оружием, при этом он сам отдавал команду; желая, чтобы они выполнили упражнение по скрещиванию штыков, и поняв, что это упражнение они исполняют несколько иначе, чем французские матросы, император собственноручно раздвинул строй матросов, отвёл в сторону их ружья, преграждавшие ему путь, и взял мушкет у одного из матросов, стоявших в последнем ряду. После этого он проделал упражнение с мушкетом так, как это принято во французской армии. Неожиданное поведение Наполеона, вызвавшее резкое изменение выражения лиц у офицеров корабля и остальных присутствовавших при этой сцене, произвело сильное впечатление на англичан, увидевших, как беззаботно
34
ведёт себя император в окружении английских штыков. Когда мы вернулись с «Величественного», английские офицеры то и дело в разговоре с нами возвращались к обсуждению этого случая, спрашивая, действительно ли император когда-либо вёл себя подобным образом с собственными солдатами; особенно большое впечатление на всех произвели проявленные императором уверенность в своих действиях и его самообладание. Ни один из присутствовавших при этой сцене английских офицеров никогда и помыслить не мог, чтобы какой-либо монарх мог так непринуждённо продемонстрировать воинское упражнение с оружием для исполнения отданной им же команды; поэтому становится ясно, что у них отсутствовало объективное представление о человеке, которого они сейчас видели перед собой.
17 — 18 июля 1815 года
Хотя продолжала стоять почти безветренная погода, мы уже потеряли из виду берег.
19 июля 1815 года
Подул довольно сильный ветер, но он не был благоприятным для плавания, и наш корабль продолжал свой путь со скоростью девять миль в час.
20 — 22 июля 1815 года
Мы шли по намеченному курсу, но ветер ни в коей мере не был благоприятным для парусов нашего корабля.
Императору недолго пришлось находиться среди своих самых заклятых врагов, — тех, кого постоянно пичкали злонамеренными слухами о нём, столь же абсурдными, сколь и раздражающими, — и он вскоре обрёл над ними влияние, которое является следствием славы. Капитан, офицеры и команда корабля переняли этикет, свойственный его свите, демонстрируя по отношению к нему точно такое же внимание и уважение: обращаясь к императору, капитан называл его или «сир», или «Ваше Величество», когда он появлялся на палубе, все снимали шляпы и оставались с непокрытой головой в его присутствии, — такого не было поначалу. Никто не входил в его каюту, за исключением обслуживающего персонала; за его стол садились только те, кого он приглашал. Наполеон оставался императором на борту корабля «Беллерофон».
Он часто появлялся на палубе, беседуя с кем-либо из своей свиты или с офицерами корабля.
Из всех тех лиц, которые сопровождали императора, я, пожалуй, был человеком, которого он знал менее других: уже отмечалось,
35
что, несмотря на мои служебные обязанности, предполагавшие близость к нему, я практически не имел непосредственного общения с Наполеоном; со времени нашего отъезда из Парижа он почти не разговаривал со мной, но теперь, на борту «Беллерофона», он очень часто обращался ко мне.
Поводы и обстоятельства этого были весьма благоприятны для меня: я достаточно хорошо знал английский язык, чтобы объяснять императору всё то, что происходило вокруг нас. Я служил в военно- морском флоте и мог предоставить Наполеону любую информацию, которую он просил, в отношении манёвров корабля и состояния погоды. Я прожил десять лет в Англии, и у меня сформировалось определённое понимание законов, поведения и обычаев английского народа; всё это позволяло мне с лёгкостью отвечать на вопросы императора. Мой «Исторический Атлас» также способствовал тому, что в своей памяти я хранил немалое количество фактов, дат и событий, благодаря чему всегда был готов ответить на интересовавшие его вопросы.
Часть своего времени я посвятил составлению краткого изложения ситуации, в которой мы оказались в Рошфоре, и идей, повлиявших на принятие решения императора выехать в Англию. Ниже я привожу точные и подлинные данные, позволяющие оценить упомянутую ситуацию.
Краткое изложение создавшейся в Рошфоре ситуации, продиктованное мне Наполеоном
Английская эскадра не была сильной: в неё входили два корвета, находившиеся на рейде Бордо. Они блокировали французский корвет и отгоняли американские корабли, которые ежедневно в большом количестве проплывали в районе этого рейда. У острова Экс мы имели два хорошо вооружённых фрегата, корвет «Вулкан», один из крупнейших кораблей этого класса, и большой бриг, находившийся на рейде; все эти силы блокировались английским военным кораблём с 74 орудиями, не относившимся к числу крупнейших кораблей этого класса, и одним или двумя сторожевыми кораблями. Нет ни малейшего сомнения в том, что, рискнув пожертвовать одним или двумя нашими кораблями, мы бы прорвали английскую блокаду, но старшему капитану нашей эскадры не хватало решительности, и он отказался поднять паруса; второй по старшинству капитан был очень решителен, и он бы сделал попытку прорвать английскую блокаду,
36
но старший капитан, вероятно, получил секретные инструкции от Фуше, который уже открыто предал императора и хотел сдать его врагам. Как бы то ни было, но активные действия на море ни к чему бы не привели. Император затем высадился на острове Экс.
«Если бы осуществление операции было поручено адмиралу Ве- руэлю, — заявил Наполеон, — как это было обещано во время нашего отъезда из Парижа, то, по всей вероятности, мы бы подняли паруса и прорвались в открытое море». Преданные нам офицеры и команды наших двух фрегатов были готовы с воодушевлением оказать нам любую поддержку. Гарнизон острова Экс насчитывал тысячу пятьсот человек, составляя прекрасный полк; офицеры гарнизона были до такой степени возмущены тем, что французские фрегаты не поднимают паруса, чтобы выйти в открытое море и прорвать блокаду англичан, что предложили экипировать два сторожевых корабля, водоизмещением по пятнадцать тонн каждый; управлять ими вызвались корабельные гардемарины. Но когда этот план было решено привести в исполнение, выяснилось, что данные сторожевые корабли едва ли доберутся до американского берега без захода в порт Испании или Португалии.
Учитывая эти обстоятельства, император созвал нечто похожее на Государственный совет из своей свиты; на совещании этого совета было высказано мнение, что мы более не можем рассчитывать на использование фрегатов и других вооружённых мелких кораблей и что сторожевые корабли не имеют шанса на успех. Их использование может привести только к тому, что они будут захвачены английскими крейсерами в открытом море или попадут в руки союзников англичан. Оставалось одно из двух: вернуться вглубь территории Франции и вновь испытать судьбу с помощью оружия или искать убежища в Англии. Для того чтобы возобновить вооружённые действия на территории Франции, у императора для начала были тысяча пятьсот моряков, полных рвения и готовых к решительным действиям; комендантом острова Экс был пожилой офицер, воевавший в составе французских войск в Египте и всей душой преданный Наполеону. Император мог проследовать во главе этих моряков в Рошфор, где они были бы усилены местным гарнизоном, готовым расправиться с врагами императора. Гарнизон Ла-Рошели, состоявший из четырёх батальонов федеральных войск, также предложил императору свои услуги. Имея в своём распоряжении подобные силы, мы тогда смогли бы объединиться с генералом Клозелем, твёрдо стоявшим во главе армии в Бордо, или с генералом Ламарком, который проявлял чудеса храбрости в Вандее; оба офицера только и ждали сигнала и жаждали увидеть Наполеона. Было бы очень легко развязать гражданскую войну на территории
37
Франции. Но Париж был взят врагами Франции, а обе палаты распущены; кроме того, на территории страны находились войска вражеских стран в количестве от пятисот до шестисот тысяч человек, поэтому гражданская война могла привести только к гибели всех тех благородных людей, которые были преданы Наполеону. Подобная потеря была бы жестокой и невосполнимой: она бы уничтожила будущее французской нации и не дала бы никаких преимуществ для страны, разве только предоставила бы императору возможность вести переговоры и добиться условий, выгодных ему лично.
Но Наполеон уже отказался от верховной власти в стране. Он хотел всего лишь спокойного прибежища и питал отвращение к мысли о том, что все его друзья погибнут ради достижения столь пустякового результата; он в равной степени не был склонен к тому, чтобы дать повод для разорения ряда провинций страны, а самое главное — он не хотел лишить национальную партию её истинной опоры, которая рано или поздно восстановит честь и независимость Франции. Единственное желание Наполеона заключалось в том, чтобы в будущем жить в качестве частного лица; для этого Америка была наиболее подходящим для него местом, и именно она была его выбором. Но и Англия, благодаря её законам, тоже могла отвечать пожеланиям Наполеона в отношении его будущего.
Казалось, исходя из моей первой беседы с капитаном Мэтлен- дом, что последнему поручено доставить императора и его свиту в Англию, где нас могло ожидать вполне сносное обращение. С этого момента мы бы находились под защитой британских законов, а народ Англии слишком восприимчив к славе, чтобы лишиться
представившейся возможности вписать в свою историю одну из самых величественных её страниц. Поэтому было решено сдаться английским военным кораблям, как только капитан Мэтленд получит ясный приказ принять нас.
Когда переговоры с ним возобновились, он заявил, что уполномочен своим правительством принять императора, если тот вступит на борт корабля «Беллерофон», и доставить его вместе с его свитой в Англию. Наполеон вступил на борт этого корабля не потому, что последние события в стране вынудили его сделать это (он вполне мог остаться во Франции), но потому, что он хотел жить в качестве частного лица, никогда более не заниматься политическими или общественными делами, приняв твёрдое решение не вмешиваться в них, чтобы не вызывать излишнего волнения во Франции. Очевидно, что император не принял бы решения переехать в Англию, если бы подозревал, что англичане отнесутся к нему недостойно, и если бы его свита не была убеждена в обратном. Его письмо принцу-регенту полностью объясняет его уверенность и убеждённость в том, что он будет принят в Англии самым достойным образом. Капитан Мэтленд, которому это письмо было официально вручено ещё до того, как император вступил на борт его корабля, никаких замечаний по поводу этого документа не высказал и, тем самым, согласился и одобрил выраженные в нём мнения императора.
23 июля 1815 года
В четыре часа утра видели вдали остров Уэсан. С момента приближения к Ла-Маншу стали видны линейные корабли и фрегаты, проплывавшие в различных направлениях. Ближе к вечеру показался берег Англии.
24 июля 1815 года
Около восьми часов утра мы бросили якорь в порту Торбей. Император встал с постели в шесть часов утра и отправился на полуют, чтобы обозревать берег и якорную стоянку. Я оставался рядом с ним, чтобы давать ему объяснения в соответствии с задаваемыми им вопросами.
Капитан Мэтленд немедленно направил курьера в Плимут к лорду Кейту, главнокомандующему военно-морским флотом Великобритании. К нам присоединился генерал Гурго; ему было поручено вручить письмо императора принцу-регенту, но ему не только не дали разрешения высадиться на берег, он вообще был лишён возможности общения с кем-либо из англичан. Это было дурное предзнаменование и первый признак всех тех бесчисленных бед, которые последовали позже.
39
Как только стало известно, что император находится на борту «Беллерофона», весь залив заполнился судами и лодками, до отказа набитыми людьми. Владелец одного загородного коттеджа, увидев наш корабль, послал Его Величеству в подарок корзину с различными фруктами.
25 июля 1815 года
Присутствие лодок и многочисленных зрителей продолжалось беспрерывно. Император смотрел на всё происходившее из окон каюты и иногда показывался на палубе. Вернувшись с берега, капитан Мэтленд передал мне письмо от госпожи К., в которое было вложено письмо от моей жены. Моё удивление не имело предела, но оно исчезло, когда я вспомнил о прессе, которая успевала сообщать обо всём, что касалось императора и его свиты, и таким образом в Европе стало известно о наших планах за пять или шесть дней до нашего прибытия в Англию. Моя жена поспешила известить госпожу К. о существе дела, и последняя, не зная капитана Мэтленда, написала ему, приложив к своему письму и письма для меня.
Письмо жены свидетельствовало о чувствах нежной печали; но письмо госпожи К., находившейся в Лондоне и знавшей заранее об уготованной нам судьбе, было полно упрёков: я не был волен поступать, как хотел, я не распоряжаюсь самим собой, я совершил преступление, покинув жену и детей, и т.д. Результат современного образования, которое так мало облагораживает наш ум, в том, что мы не можем понять ни достоинства, ни привлекательности героических решений и жертв! Мы считаем, что всё уже сказано и все просьбы уже удовлетворены, когда возникает опасность для личных интересов и домашнего уюта, мало представляя себе, что первая обязанность по отношению к жене заключается в том, чтобы обеспечить её добрым именем, а самое богатое наследство, которое мы можем оставить нашим детям, заключается в том, чтобы дать им пример нравственности и имя, которого хотя бы немного коснулась слава.
26 июля 1815 года
Ночью были получены указания, чтобы наш корабль «Беллеро- фон» немедленно отправился для ремонта в Плимут; двинувшись в путь ранним утром, мы прибыли в наш новый порт назначения в четыре часа дня, через десять дней после того, как отплыли из Рошфора, через двадцать семь дней после того, как покинули Париж, и через тридцать пять дней после того, как император отрёкся от престола. С этого дня наш горизонт стал весьма мрачным. Лодки с вооружёнными матросами были расставлены вокруг нашего
40
корабля, зато лодки с людьми, любопытство которых к нашим персонам было слишком большим, отгонялись прочь ружейным огнём. Лорд Кейт, находившийся в заливе Плимута, не соизволил появиться на борту «Беллерофона». Два фрегата передали нашему капитану сигнал немедленно поднять паруса; как нам сообщили, срочно прибывший курьер доставил депешу с указанием капитану отвести корабль в отдалённую часть залива. Утром некоторых из нас, прибывших с Наполеоном, перевезли на другие корабли. Теперь нам казалось, что все смотрят на нас со зловещим интересом; до корабля доходили самые дурные новости: упоминались несколько конечных мест назначения, одно страшнее другого.
Заключение в тюрьму лондонского Тауэра было наименьшим злом, — некоторые наши собеседники говорили об острове Святой Елены. Тем временем два фрегата, которые более других привлекали моё внимание, подняли паруса, хотя ветер не был благоприятным для того, чтобы покинуть рейд, направились в нашу сторону и бросили якоря с каждой стороны «Беллерофона», почти касаясь его корпуса. После того, как эти фрегаты завершили свои манёвры, один из членов команды «Беллерофона» прошептал мне на ухо, что именно этим фрегатам было поручено в течение ночи пересадить нас на свои борта и отплыть с нами на остров Святой Елены.
Я никогда не смогу передать эффект, произведённый на меня этими ужасными словами. Всё тело покрылось холодным потом, — это был неожиданный приговор к смертной казни! Безжалостные палачи схватили меня; я был оторван от всего, что привязывало меня к жизни. Я скорбно протянул руки к тем, кто был дорог мне, но напрасно: судьба была неизбежна! Эта мысль, вместе с массой других, беспорядочно заполнивших разум, вызвала настоящую бурю у меня в голове. Это было подобно борьбе души, пытавшейся покинуть своё земное обиталище! Мои волосы поседели!
К счастью, охватившее меня состояние кризиса продолжалось недолго, и, как это уже случалось ранее, разум восторжествовал, и причём до такой степени, что с этой минуты мне всё стало нипочём. Я почувствовал, что теперь способен не поддаваться несправедливости, дурному обращению и страданиям. И я дал себе торжественное обещание не жаловаться и ни о чём не просить.
Но это не относилось к тем моим товарищам, которым я казался слишком спокойным в этой губительной для нас обстановке, и они обвиняли меня в бесчувствии! Их страдания продолжались, доходя до различных степеней по мере получения информации о нашем возможном будущем, — мои же нравственные страдания, в один момент нахлынув на меня, сразу же прекратились.
Похожее стечение обстоятельств уже случалось в моей жизни. Двадцать лет назад, во время эмиграции в Англию, не имея ничего
за душой, я отказался от попытки стать владельцем немалого состояния в Индии, потому что оно находилось в слишком отдалённом месте. Я посчитал себя достаточно пожилым, чтобы заниматься этим делом. Теперь же, когда я постарел на двадцать лет, я собирался покинуть семью, друзей, приобретённое состояние, отказаться от всех удовольствий жизни, и всё для того, чтобы стать добровольным изгнанником на острове посреди океана, абсолютно ничего не получив взамен. Но нет, я ошибаюсь! Бесконечно дорогое чувство, которое теперь побудило меня совершить этот поступок, было намного ценнее тех богатств, которыми я тогда пренебрёг: я сопровождал человека, который правил миром и которому предстояло стать центром внимания грядущих поколений.
Как обычно, император продолжал появляться на палубе. Я иногда посещал императора в его каюте, но не сообщал ему о том, что слышал: мне хотелось утешать его, а не быть источником мучений. Слухи, однако, доходили и до него, — но на борту «Беллерофона» он ходил совершенно раскованно и с уверенным видом: ведь сами англичане столь радушно пригласили его к себе; он всецело полагался на своё письмо принцу-регенту, заранее переданное капитану Мэтленду и подразумевавшее столь многое без всяких слов; в ходе этих событий он вёл себя с таким величием, что с возмущением отвергал все опасения, которые его свита пыталась вызвать у него, и даже не разрешал ей высказывать ему какие-либо сомнения.
27 — 28 июля 1815 года
Трудно описать все муки и тревоги, терзавшие нас в это время: большинство из нас погрузилось в состояние безмолвия и вялой опустошённости. Малейшее событие — какое-либо мнение, высказанное на борту корабля, пусть даже не имеющее важности, малозначащая фраза в ежедневной газете, — становилось предметом наших самых жарких споров и причиной колебаний наших настроений, связанных с надеждами и страхами. Самая пустяковая информация ожидалась и обсуждалась с небывалой горячностью; от каждого, кто появлялся на корабле, требовалось, чтобы он сообщал нам наиболее благоприятную версию развития событий; энтузиазм и активность нашего национального характера лишь в малой степени способствовали тому, чтобы наделить нас тем стоическим смирением, тем хладнокровным самообладанием, которые можно приобрести только на основе установленных принципов, усвоенных с самого раннего детства.
Газетам, особенно тем, которые придерживались политической линии кабинета министров Англии, было позволено буквально сорваться с цепи в своей ненависти к нам; это была предварительная
42
атака министров, подготавливавших удар, который они собирались нам нанести. Было не очень-то легко понять смысл всех тех ужасов, всей той лжи и всех тех проклятий, которые сыпались на наши головы; и в этих газетах всегда находилось место для соответствующей информации, предназначенной для массы населения, однако так умело распределяемой на страницах, что отношение к нам окружавших нас англичан становилось всё более натянутым, им было всё труднее быть вежливыми с нами, а выражение их лиц при встречах с нами становилось всё более холодным. Было очевидно, что нас старательно избегали, а от бесед с нами всячески уклонялись.
Газеты содержали сведения о тех мерах, которые предполагалось принять в отношении нас, но, поскольку никаких официальных сообщений не появлялось, а в слухах, распространяемых газетами, были противоречия в деталях, мы были склонны льстить себя надеждой на благополучный конечный результат; из-за этого наше состояние ожидания и неопределённости было ещё хуже, чем в том случае, если бы мы знали самую страшную правду. Тем не менее, наше пребывание в Англии стало поводом для своеобразной сенсации: присутствие императора вызвало любопытство, близкое к исступлению. Сами газеты информировали нас об этом явлении, хотя и осуждали его. Казалось, вся Англия устремилась в Плимут. Один человек, который выехал из Лондона, услышав о моём приезде, был вынужден остановиться на дороге из-за отсутствия почтовых лошадей и невозможности найти жильё в Плимуте. Плимутский фиорд был заполнен громадным количеством лодок; за некоторые из них, как нам рассказывали, платили более пятидесяти фунтов.
Император, которому я прочитывал все газеты, никогда не терял самообладания, оставаясь верным себе и в беседах, и в своих привычках. Было известно, что он всегда появляется на палубе к пяти часам дня. Незадолго до этого часа все лодки собирались бок о бок вблизи корабля. Их были тысячи, и они стояли так плотно, что между ними нельзя было увидеть морскую воду; они напоминали скорее огромную массу людей, столпившихся на главной площади города, чем что-либо ещё. Когда император выходил на палубу, то шум и жестикуляция такого громадного количества людей, сгрудившихся на лодках, потрясали; в то же самое время можно было легко понять, что в поведении этих людей ничего враждебного по отношению к нам не было, и когда они удовлетворяли любопытство, то спешили вернуться на берег. Мы даже могли заметить, что их чувство любопытства продолжало возрастать: поначалу люди просто смотрели на корабль, но позднее стали приветствовать нас, размахивая руками; многие из них при этом оставались с непокрытой головой, а иногда заходили так далеко, что аплодировали нам и приветствовали одобрительными возгласами. Среди них стали появляться люди, носившие на себе наши национальные эмблемы. Несколько мужчин и женщин украсили себя красными гвоздиками, но это обернулось только во вред нам в глазах кабинета министров и его приспешников, и сделало наши страдания ещё мучительнее.
Именно в таких условиях император, несмотря на своё хладнокровное поведение, не мог не отреагировать на то, что слышал, и продиктовал мне документ, достойный стать образцом для юристов, с анализом нашей тогдашней политической ситуации. Мы нашли способ переправить документ на берег, но я не сохранил его копии.
Решение кабинета министров
29 — 30 июля 1815 года
В течение двух предыдущих дней распространялось сообщение о том, что из Лондона выехал помощник государственного секретаря, для того чтобы официально довести до нашего сведения резолюции кабинета министров Англии относительно императора. В соответствии с этим сообщением он появился в Плимуте. Это был сэр Банбери; он прибыл на борт «Беллерофона», сопровождаемый лордом Кейтом, и информировал нас о решении отправить императора на остров Святой Елены и об ограничении числа лиц, которым предстоит сопровождать императора на этот остров, исключив, однако, герцога Ровиго и генерала Лаллемана, входивших в список отправляемых в ссылку.
44
Меня не позвали к императору во время его разговора с сэром Банбери. Те, кто принёс императору его приговор, говорили и понимали по-французски; император принял их одних. Потом уже я узнал, что император возражал и резко протестовал — так же энергично, как и логично, — против насилия, осуществлённого в отношении его личности. «Я был гостем Англии, — заявил он, — а не её пленником. Я прибыл в Англию по своей воле, чтобы вручить себя под защиту её законов; в отношении моей личности нарушены самые священные права гостеприимства. Я никогда добровольно не подчинюсь насилию, которым мне угрожают; насилие само по себе вынуждает меня поступать именно так...»
Император передал мне документ английского кабинета министров, чтобы я перевёл его для него. Ниже следует копия перевода.
Сообщение, сделанное лордом Кейтом от имени английских министров
«Так как представляется целесообразным, чтобы генерал Буона- парте узнал незамедлительно, без всякой задержки, о намерениях британского правительства относительно его личности, то его светлость (т.е. адмирал Кейт) сообщает ему следующую информацию.
45
Нашему долгу по отношению к нашей стране и к нашим союзникам не соответствовало бы такое положение вещей, при котором генерал Буонапарте сохранит средства или возможность вновь нарушить мир в Европе. Именно поэтому абсолютно необходимо, чтобы он был ограничен в своей личной свободе.
В качестве его будущей резиденции выбран остров Святой Елены; климат острова здоровый, а его местоположение позволит обращаться с генералом с большими привилегиями, чем это было бы возможно где-либо ещё, принимая во внимание обязательные меры предосторожности, которые будут приняты для обеспечения его личной безопасности.
Генералу Буонапарте разрешается выбрать среди людей, которые сопровождали его в Англию, — за исключением генералов Савари и Лаллемана, — трёх офицеров, которым вместе с его врачом и двенадцатью слугами будет разрешено последовать за ним на остров Святой Елены, но которым никогда не будет разрешено покинуть остров без разрешения британского правительства.
Контр-адмиралу сэру Джорджу Кокберну, назначенному главнокомандующим военно-морскими силами на Мысе Доброй Надежды3, поручено доставить генерала Буонапарте и его свиту на остров Святой Елены. Сэр Джордж Кокберн получит подробные инструкции относительно выполнения этой обязанности.
Сэр Джордж Кокберн, возможно, будет готов к отплытию через несколько дней, поэтому желательно, чтобы генерал Буонапарте незамедлительно выбрал лиц сопровождения».
Хотя мы ожидали, что нас отправят на остров Святой Елены, но официальное объявление об этом произвело на нас необычайно сильное удручающее впечатление: оно повергло всех нас в состояние оцепенения. Однако император, как обычно, вышел на палубу, сохраняя полное хладнокровие, и, как и раньше, спокойно наблюдал за толпами людей, стремившихся увидеть его.
31 июля 1815 года
Наше положение теперь стало действительно ужасным. Наши страдания не поддаются никакому описанию: нам предстоит расстаться с нашей европейской жизнью, нашей страной, семьями и друзьями, так же как и с нашими радостями и привычками. Действительно, нас не вынуждают следовать за императором, но наш выбор — это выбор мучеников: или отречение от веры, или смерть. Добавилось ещё одно обстоятельство, которое сильно увеличило наши страдания, — оно связано с решением об исключении из списка
46
сопровождавших императора лиц генералов Савари и Лаллемана, для которых это решение поистине ужасно; впереди они не видят ничего, кроме плахи. Они убеждены, что кабинет министров Англии, не делая никакого различия между политическими актами революции и преступлениями, совершёнными во времена политического спокойствия, выдаст их прежним врагам, чтобы принести в жертву. Это было бы таким насилием над любым законом, таким позором для самой Англии, что можно даже поддаться искушению заставить её испытать этот позор; но говорить подобным образом — удел тех, кто включён в список лиц, подлежащих изгнанию. Во всяком случае, мы все желаем одного — быть среди тех, кого император выберет в качестве своих попутчиков в ссылке, и опасались того, что окажемся исключёнными из числа лиц, отобранных императором.
1 августа 1815 года
Мы продолжаем пребывать в том же самом состоянии. Я получил письмо из Лондона, в котором меня горячо убеждают, что я буду чрезвычайно неправ — более того, совершу преступление, — если последую за императором. То лицо, которое написало мне подобное письмо, также обратилось с письменной просьбой к капитану Мэт- ленду, умоляя его отговорить меня от принятия подобного решения. Но я оборвал капитана Мэтленда на полуслове, заметив, что в моём возрасте люди обычно действуют по зрелом размышлении.
Каждый день я читаю императору газеты. То ли под влиянием чувства благородства, то ли в результате того, что в Англии начались расхождения во мнениях, но среди множества газет нашлись две, защищавшие наше дело с большой горячностью, в какой-то мере компенсируя ту огромную ложь и непристойную брань, которыми были наполнены другие. Мы возлагаем наши надежды на то, что ненависть, инспирированная врагом, уступит место искреннему интересу к нам, который должен быть естественно вызван нашими величественными поступками, и что Англия изобилует благородными сердцами и возвышенными умами, которые несомненно станут нашими ревностными защитниками.
Количество лодок около нашего корабля возрастает ежедневно. Наполеон продолжает появляться на палубе в свой обычный час, и прибывающие на лодках люди оказывают ему всё более лестный приём. Члены свиты императора сопровождают его в зависимости от звания и занимаемого положения; он по-прежнему относится к большинству из нас так, словно мы находимся в Тюильри, только гофмаршал и герцог Ровиго видятся с ним постоянно. Некоторые члены свиты подходят к императору и разговаривают с ним не чаще,
47
чем если бы мы были в Париже. Меня вызывают к нему в течение дня всякий раз, когда возникает необходимость переводить письма и газеты.
Император приобрёл привычку посылать за мной к восьми часам вечера, чтобы немного побеседовать. Сегодня вечером во время нашей беседы, после того как мы затронули ряд других проблем, император спросил меня, буду ли я сопровождать его на остров Святой Елены. Я ответил с предельной искренностью, соответствовавшей моим истинным чувствам, что когда я покидал Париж, то потерял интерес к любой возможности, которую бы мне сулило будущее, и что поэтому на острове Святой Елены нет ничего такого, что могло бы воспрепятствовать моей поездке туда.
В то время, пока мы были заняты этой беседой, госпожа Бертран без приглашения буквально ворвалась в каюту императора, даже не дав возможности его слуге объявить о её визите, и в безумном состоянии стала умолять императора не отправляться на остров Святой Елены и не брать с собой её мужа. Но, столкнувшись с холодным приёмом императора, увидев удивлённое выражение его лица
БОНАПАРТ НА АРКОЛЬСКОМ МОСТУ
и услышав его спокойный ответ, она так же стремительно выбежала из каюты, как и вбежала в неё. Император, по-прежнему не скрывавший своего удивления, повернулся ко мне и спросил: «Вы можете понять всё это? Она что, сошла с ума?» Минутами позже мы услышали пронзительные крики, и все, кто только мог, побежали к корме корабля. Желая узнать, что случилось, и выяснить причину возникшего шума и всеобщей суматохи, я обнаружил, что госпожа Бертран, покинув каюту императора, пыталась выброситься в море, но с большим трудом удалось воспрепятствовать ей в этом. Хотя бы по этой сцене можно легко судить о наших чувствах и о нашем настроении!
Замечательные высказывания императора
2—3 августа 1815 года
Утром герцог Ровиго сообщил мне, что я обязательно отправлюсь на остров Святой Елены: накануне, во время его беседы с императором, Его Величество сказал герцогу, что, если его будут сопровождать только два офицера, то я всё равно буду одним из них, так как он считает, что я мог бы принести ему утешение. Я весьма обязан доброте и искренности герцога за чувство удовлетворённости, охватившее меня, когда он сообщил мне об этом лестном подтверждении согласия императора. Император накануне не вымолвил ни слова, когда я ответил на его вопрос; подобная реакция на ответы на его вопросы свойственна ему, в чём я потом имел возможность часто убеждаться.
Я не особенно близко знаком с кем-либо из тех лиц, которые сопровождают императора, за исключением генерала и госпожи Бертран, уделивших мне большое внимание во время моей миссии в Иллирию, где генерал Бертран был генерал-губернатором. До настоящего времени мне никогда не приходилось разговаривать с герцогом Ровиго, поскольку определённая предубеждённость вынуждала меня держаться от него на расстоянии; однако, когда сомнения в отношении моей персоны были полностью рассеяны, нам изредка приходилось обмениваться несколькими словами. Савари искренне предан императору; я знаю, что он обладает добрым сердцем, искренностью и прямотой характера — качества, которые позволяют быть восприимчивым к настоящей дружбе, — поэтому мы стали, я осмелюсь сказать, очень близкими друзьями.
Я вновь был вызван к императору, который, упомянув различные проблемы, заговорил об острове Святой Елены. Он спросил
49
меня, что из себя представляет это место, можно ли вообще существовать там? И затем он продолжал задавать мне аналогичные вопросы, касавшиеся этого острова. «Но, — заявил он, — в конце концов, разве это так уж определённо, что я отправлюсь туда? Разве человек зависит от других, когда желает, чтобы его зависимость прекратилась?»
Мы продолжали прохаживаться по каюте то в одном, то в другом направлении; сохраняя внешнее спокойствие, с несколько отсутствующим взглядом, император, тем не менее, казался слегка взволнованным.
«Мой друг, — продолжал он, — иногда мне приходит мысль покинуть вас, и это не так уж трудно: для этого необходимо только эмоционально настроиться, и я вскоре освобожусь от бремени жизни. Всё будет кончено, и вы все сможете спокойно воссоединиться со своими семьями. Для меня это будет тем более лёгким делом, что мои душевные принципы не станут препятствием для этого: я один из тех, кто полагает, что ужасы другого мира придуманы только для того, чтобы стать противовесом тех соблазнов, которые предлагаются нам здесь. Бог в своей беспредельной доброте не мог допустить существования такого противоречия, особенно в случае поступка подобного рода; и, в конце концов, что это такое, как не желание вернуться к нему немного раньше?»
Я горячо возражал против подобной точки зрения. Поэты и философы оценили бы это зрелище — видеть, как люди борются с судьбой. Неудачам и постоянству свойственна собственная слава. Такая благородная и великая личность, какой является император, не может опускаться до уровня вульгарного разума; он, который правил нами с беспримерной славой, который вызывал восхищение и оказывал влияние на судьбу всего мира, не может завершить свою жизнь так же, как безрассудный картёжник или разочаровавшийся любовник. Что же тогда станет со всеми теми, кто боготворил его и возлагал на него все свои надежды? Оставит ли он в таком случае поле деятельности своим врагам? Неуёмное стремление последних довести его до самоубийства, несомненно, заставит его устоять; кто может раскрыть секреты времени или взять на себя смелость утверждать, что именно готовит для нас будущее? Чего только не может произойти после простой смены кабинета министров, после смерти принца-ре- гента или его доверенного лица?
«Некоторые из этих доводов достаточно весомы, — согласился император. — Но чем мы можем заняться в этом пустынном месте?» — «Сир, — ответил я, — мы будем жить нашим прошлым: в нём есть достаточно такого, чтобы радовать нас. Разве мы не наслаждаемся
50
жизнью Цезаря и жизнью Александра Македонского? Мы же будем обладать гораздо большим, а вы заново поразмышляете о своей жизни». — «Пусть будет так! — согласился Наполеон. — Мы будем писать мемуары. Да, мы должны заниматься делом, ибо работа является косой Времени. В конце концов, человек должен выполнить своё предназначение, — это моя главная догма*; пусть же и моё предназначение будет выполнено». С этой минуты его лицо приняло выражение заметной успокоенности и даже некоторого оживления, и он перешёл к обсуждению вопросов, совершенно не имевших отношения к нашей нынешней ситуации.
Отъезд из Плимута
4 августа 1815 года
Ночью был получен приказ о том, что мы ранним утром отправимся в плавание. Мы отплыли от берега, и это обстоятельство нас очень удивило. Благодаря газетам, официальным сообщениям и частным беседам мы знали, что нам предстоит переезд на остров Святой Елены на борту корабля «Нортумберленд». Мы знали, что этот корабль по-прежнему снаряжается в плавание в Портсмуте или Чатеме, поэтому мы могли бы рассчитывать на задержку ещё дней на восемь или десять. «Беллерофон» был слишком устаревшим для такого продолжительного плавания, к тому же он не был в достаточной мере обеспечен провизией, более того, направление ветра не способствовало плаванию, поэтому, когда мы увидели, что наш «Беллерофон» плывёт вверх по Ла-Маншу, мысли о неопределённости нашего
* Привожу документ, который описанная выше беседа Наполеона делает ещё более ценным. Это приказ Первого консула его гвардии с осуждением самоубийства.
«Приказ от 22-го флореаля, год X
Гренадёр Гобэн из-за любви совершил самоубийство; во всех других отношениях он был отличным солдатом. Это второй подобный случай, произошедший в корпусе в течение последнего месяца.
Первый консул даёт указание внести в книгу приказов и распоряжений гвардии следующее:
1. Солдату следует знать, как преодолевать муки и тоску страстей; в умении неизменно выдерживать душевные страдания столько же настоящей храбрости, сколько и в умении твёрдо оставаться на защите своей батареи.
2. Поддаваться тоске без сопротивления или убить себя, чтобы избежать душевных мук, — подобно бегству с поля битвы накануне достижения победы».
51
положения возобновились с новой силой. Но каковы бы они ни были, всё же любое изменение нашей ситуации воспринималось с радостью по сравнению с мыслью о том, что нам предстоит отправиться на остров Святой Елены.
Тем не менее, как нам представлялось, в такой решающий для нашей судьбы момент император был обязан продемонстрировать формальное сопротивление тому насилию, которому мы подвергались; что же касалось самого Наполеона, то он не придавал большого значения подобной демонстрации и не собирался затруднять себя думами об этом вопросе. Однако, говорили мы, наш официальный протест английским властям станет оружием в руках наших друзей, оставит повод, чтобы они помнили о нас, и послужит основой для защиты нас со стороны общественности. Поэтому я решился зачитать документ, который подготовил, Его Величеству. Судя по всему, он остался доволен общим содержанием и мыслями, изложенными в документе: зачеркнув несколько фраз и подкорректировав другие, он подписал документ и дал указание отправить его лорду Кейту. Ниже приводится точная копия этого документа.
Протест
«Настоящим я со всей серьёзностью протестую перед Небесами и человечеством против насилия, применённого в отношении меня, и против нарушения моих самых священных прав — того, что лишает меня свободы и допускает насилие в отношении моей личности. Я по своей воле вступил на борт “Беллерофона”, и я не пленник, я — гость в Англии. Я прибыл сюда сам, после разъяснений капитана, получившего указания правительства принять меня и переправить в Англию вместе с моей свитой, если на это будет моё желание. Я честно явился сюда, чтобы отдать себя под защиту английских законов. Как только я вступил на борт “Беллерофона”, я оказался среди британского народа. Если правительство Англии, давая указание капитану “Беллерофона” принять меня и мою свиту, хотело заманить меня в ловушку, устроить мне засаду, то оно потеряло свою честь и запятнало свой флаг.
Если подобный замысел осуществится, то в дальнейшем для англичан будут напрасными их лояльность, их законы и их свобода. Доверие к Англии будет утеряно вместе с гостеприимством “Беллерофона”.
Я взываю к истории: она расскажет о том, как враг, воевавший в течение двадцати лет против британского народа, пришёл к нему по своей воле, подвергаясь ударам судьбы, чтобы найти приют под защитой его законов. Какое большее доказательство своего уважения и доверия к британскому народу он мог бы представить? И как же Англия ответила на это проявление величия души? Она сделала вид, что в приветствии протягивает ему руку, и, когда он чистосердечно отдался ей по собственной воле, она безжалостно убила его!
Наполеон
В море, на борту “Беллерофона ”, пятница, 4 августа 1815 года».
Герцог Ровиго сообщил мне, что император просил разрешения направить меня к принцу-регенту в Лондон, но в этой просьбе было отказано.
Море было бурным, и ветер дул с неистовой силой. Большинство из нас страдало от морской болезни. Но нет предела торжеству усиленной умственной работы над физической немощью! Вероятно, это был единственный случай в моей жизни, когда мне не мешала подобная погода. Покидая Плимутский фиорд, наш корабль взял
53
курс на восток навстречу ветру, но вскоре, после крутого бейдевинда, он стал лавировать, поворачивая на другой галс то вперёд, то назад. Мы никак не могли понять причину этого нового источника мучений.
5 августа 1815 года
Весь день прошёл в условиях такой же ужасной погоды, которая была и вчера. Когда вечером я беседовал с императором, то он представил два доказательства своего доверия ко мне, но в настоящее время я не могу предать их огласке, описав оба эти доказательства в моём дневнике*.
Стоянка на якоре у Старт-Пойнта —
Лица, которым разрешено сопровождать императора
6 августа 1815 года
Примерно в полдень мы бросили якорь у Старт-Пойнта, где не было никакого пристанища или укрытия, хотя почти рядом находился Торбей с удобной якорной стоянкой; это обстоятельство вызвало у нас большое удивление. Однако мы слышали, что были даны указания нашему кораблю встретить «Нортумберленд», от капитана которого требовали, чтобы он как можно скорее покинул Портсмут. В соответствии с упомянутым требованием этот корабль вскоре появился в Старт-Пойнте с двумя фрегатами, заполненными войсками, которые должны были составить гарнизон острова Святой Елены. Эти три корабля бросили якорь радом с нами. По-прежнему
* Однако одно из этих доказательств я сейчас могу раскрыть. В то время, когда мы с императором прогуливались в обычный час по кормовому балкону корабля, он вынул из-под жилета, продолжая говорить на совершенно постороннюю тему, какой-то пояс, который передал мне, сказав: «Храните это для меня». Не прерывая его, я спрятал этот пояс под свой жилет. Вскоре после этого император сообщил мне, что в поясе зашито бриллиантовое ожерелье стоимостью в двести тысяч франков, которое королева Гортензия заставила его взять у неё, когда он покидал Мальмезон. После нашего прибытия на остров Святой Елены я часто заводил разговор о возвращении ожерелья, но император никогда не отвечал на мои вопросы по этому поводу. Когда я осмелился вновь упомянуть об этом ожерелье уже во время пребывания в Лонгвуде, Наполеон сухо спросил: «Оно беспокоит вас?» — «Нет, сир», — ответил я. «Тогда храните его», — заявил Наполеон. Из-за того, что я носил этот пояс в течение продолжительного времени, ожерелье словно стало частью меня, и я так редко вспоминал о нём, что только через несколько дней после того, как меня буквально силой вырвали из Лонгвуда, мысль о нём вновь возникла в моей голове; тогда от сознания, что я лишаю императора такого материального средства, я весь содрогнулся. Ибо как теперь я смогу вернуть ему это ожерелье? Я был подвергнут самому строгому тюремному заключению,
54
принимались все меры предосторожности, чтобы помешать приближению к нашему кораблю посторонних лодок.
Адмиралы Кейт и Кокберн вступили на борт «Беллерофона»; флаг последнего развевался на «Нортумберленде». Они провели совещание с императором, которому вручили выдержку из инструкций относительно нашей транспортировки на остров Святой Елены и условий пребывания на этом острове. В этих инструкциях указывалось, что все наши вещи подлежат досмотру с целью конфискации
окружён тюремщиками и часовыми, поэтому любая связь с внешним миром была неосуществима. Я безуспешно пытался придумать хоть какой-нибудь план; время летело быстро, до отъезда оставалось всего лишь несколько дней, и ничто не могло быть более мучительным, чем мысль о том, что я так и покину остров, не сумев вернуть императору ожерелье. Оказавшись в этом затруднительном положении, я решил пойти на самый отчаянный риск. Англичанин, с которым я прежде часто разговаривал, посетил мою тюрьму, получив какое-то задание; и прямо на глазах губернатора и одного из его самых доверенных агентов, которого он взял с собой, я отважился обратиться к моему знакомому англичанину.
«Я считаю вас принципиальным человеком, — сказал я ему, — и собираюсь подвергнуть вас испытанию, хотя для вас в нём нет ничего опасного и оно не задевает вашу честь. Просто необходимо вернуть Наполеону дорогую ему вещь. Если вы согласитесь исполнить поручение, то мой сын вложит эту вещь в ваш карман».
Англичанин ответил тем, что замедлил свой шаг; мой сын, которому я всё объяснил, последовал за ним, и ожерелье перешло во владение этого человека почти на виду у всех. Перед тем, как покинуть остров, я испытал невыразимое Удовлетворение, узнав, что ожерелье попало в руки императора. Как приятны сердцу эти воспоминания и проявление такого свойства характера у человека, принадлежавшего к стану врага, да ещё при таких обстоятельствах!
55
денег и бриллиантов, принадлежавших императору; мы также узнали, что одновременно у нас отберут личное оружие и после этого нас переведут на борт «Нортумберленда».
Это были следующие документы:
Приказ лорда Кейта капитану Мэтленду, командиру корабля «Беллерофон»
«Всё оружие любого вида должно быть отобрано у французов всех рангов, находящихся на борту корабля, которым вы командуете. Всё это оружие должно быть тщательно собрано и упаковано и находиться под вашим присмотром до тех пор, пока французы, которым принадлежит это оружие, остаются на борту “Беллерофо- на”. Затем оно должно находиться под присмотром капитана того корабля, на который могут быть переведены вышеупомянутые лица».
Инструкции кабинета министров адмиралу Кокберну
«Когда генерала Буонапарте будут переправлять с “Беллерофона” на борт “Нортумберленда”, это будет удобный момент для того, чтобы адмирал Кокберн провёл обыск всех вещей, находящихся у генерала. Адмиралу следует разрешить генералу взять с собой на борт “Нортумберленда” домашние вещи, вина и пищевые продукты. В число домашних вещей включается серебряная посуда, при условии, что она будет в количестве, позволяющем рассматривать её как предназначенную скорее для личного пользования, а не как собственность, конвертируемую в наличные деньги. Он должен сдать свои деньги, бриллианты и все свои ценные бумаги, независимо от их назначения. Адмиралу следует объяснить генералу, что британское правительство не намерено конфисковывать его собственность, но лишь принимает на себя управление ею, с тем чтобы воспрепятствовать ему использовать её в качестве средства для побега.
Обыск должен быть проведён в присутствии лица, названного генералом Буонапарте. Должна быть составлена опись вещей, подписанная этим лицом, а также контр-адмиралом или любым другим лицом, которого мы назначим, чтобы оказать помощь в составлении этой описи. Для удовлетворения нужд генерала будут использоваться, в зависимости от сумм, капиталовложения и денежные средства; их расходование будет в основном осуществляться им
56
самим. По этому вопросу он, время от времени, будет сообщать свои пожелания сначала адмиралу, а потом губернатору, когда тот прибудет на остров Святой Елены; и, если не появятся основания для отказа в удовлетворении этих пожеланий, адмирал и губернатор дадут необходимые указания и оплатят расходы генерала Буонапарте чеками, полученными от казначейства Его Королевского Величества. В случае смерти право распоряжения имуществом генерала Буонапарте будет определено его завещанием, и он может быть уверен в том, что его воля будет строго выполняться. Так как может случиться, что часть его собственности перейдёт в собственность его свиты, то и к ней будут применяться те же правила.
Адмирал не должен брать на борт корабля, направляющегося на остров Святой Елены, ни одного человека из свиты генерала без согласия на то этого человека, и только после объяснений ему, что он должен будет подчиняться любым правилам и решениям, необходимым для обеспечения безопасности генерала. Генерала следует информировать о том, что если он попытается сбежать, то подвергнет себя риску быть заключённым в тюрьму, равно как и тот из его свиты, о котором станет известно, что он пытался содействовать побегу генерала.
Все письма, которые будут адресоваться генералу, а также членам его свиты, сначала будут направляться адмиралу или губернатору, которые прочитают их перед тем, как отдать адресату; это же правило распространяется и на письма, написанные генералом и членами его свиты.
Генерал должен знать, что губернатор и адмирал получили ясное указание переадресовывать правительству Его Величества любую просьбу или жалобу, которую они сочтут приемлемой, — ничто в этом случае не станет препятствием для подобного обращения генерала; но лист бумаги, на котором будут изложены эти просьбы и жалобы, должен быть помещён в незапечатанный конверт, — с тем чтобы можно было добавить замечания адмирала и губернатора, которые те сочтут необходимыми».
Трудно понять всю глубину и характер наших чувств в этот решающий момент, когда насилие, жестокость и несправедливость обрушились на наши головы.
Вынужденный сократить численность своей свиты до трёх человек, император выбрал гофмаршала Бертрана, господина де Монто- лона и меня. Гурго, пришедший в отчаяние от мысли, что его оставляют, вступил в переговоры по этому вопросу и добился своего. Так как инструкции кабинета министров Англии позволяли Наполеону
57
взять с собой трёх офицеров, то было решено, что я буду рассматриваться исключительно как гражданское лицо, и с помощью подобного толкования инструкций я был включён в состав свиты Наполеона её четвёртым членом.
Разговор с лордом Кейтом — Досмотр вещей императора — Наполеон покидает «Беллерофон» — Разъединение — Отплытие на остров Святой Елены
7 августа 1815 года
Император адресовал лорду Кейту новый протест по поводу жестокости, проявленной в отношении него, поскольку его собирались насильно переправлять с корабля «Беллерофон». Я направился с этим документом на борт корабля «Тоннан». Адмирал Кейт, прекрасно выглядевший пожилой человек, обладавший весьма изысканными манерами, принял меня очень любезно, но тщательно уклонялся от обсуждения самого содержания протеста, заявив, что даст ответ в письменном виде.
Это не остановило меня. Я рассказал о состоянии здоровья Наполеона, заявив, что он очень плохо себя чувствует, что его ноги сильно опухли, и я обратил внимание его светлости на то, что было бы очень желательно не отправлять его с корабля «Беллерофон» так внезапно. Адмирал ответил мне, что я сам был моряком и поэтому должен видеть, что условия нынешней стоянки «Беллерофона» на якоре небезопасны, что, конечно, соответствовало истине.
Я объяснил адмиралу, что император с антипатией относится к предполагаемой процедуре досмотра его личных вещей, когда они будут бросаться как попало; я заверил его, что Наполеон скорее предпочтёт, чтобы его вещи просто выбросили в море. Адмирал ответил, что, поскольку это был совершенно ясный приказ, он должен подчиниться ему. Наконец я поинтересовался: действительно ли возможно, что люди, назначенные провести досмотр вещей, посмеют зайти так далеко, что станут отбирать у императора его шпагу? Адмирал ответил, что приказ об отборе оружия будет соблюдаться, но что Наполеон станет единственным, кого освободят от этой процедуры, в то время как все лица, сопровождающие его, будут разоружены. Я заявил, что меня уже разоружили: перед тем, как я покидал «Беллерофон», у меня отобрали шпагу. Сидевший около нас и записывавший нашу беседу секретарь адмирала на
58
английском языке обратил внимание лорда Кейта на то, что в приказе ясно указано, что и сам Наполеон должен быть разоружён; в связи с таким замечанием собственного секретаря адмирал сухим тоном ответил ему, тоже на английском языке (который я понимал): «Занимайтесь своими делами, сударь, а наши дела оставьте нам».
Желая продолжить разговор, я заявил адмиралу, что был участником переговоров с английской стороной и поэтому мне пришлось остро прочувствовать весь процесс этих переговоров, и в связи с этим я имею особое право на то, чтобы меня выслушали. Лорд Кейт слушал меня, всем своим видом выражая явное нетерпение; мы уже встали с кресел, и его частые кивки в мой адрес совершенно явно свидетельствовали о том, что для меня уже давно настало время удалиться. Я сообщил адмиралу, что капитан Мэтленд, сказав нам, что ему поручено привезти нас в Англию, всем своим поведением не вызвал у нас подозрений, что нас будут рассматривать как военнопленных, что он не смог бы отрицать, что мы взошли на борт его корабля по своей воле, доверившись английскому правительству, и что письмо императора принцу Уэльскому, с содержанием которого я заранее ознакомил капитана, никаких замечаний у него не вызвало. После моей речи дурное настроение и даже гнев адмирала дали о себе знать, и он резким тоном ответил мне, что если всё так и было, то капитан Мэтленд, должно быть, — дурак, так как в данных ему инструкциях ничего подобного не содержалось, в чём он абсолютно уверен, поскольку именно от него исходили эти инструкции. «Разрешите мне заметить, в защиту капитана Мэтленда, — возразил я, — что ваша светлость допускает определённую долю грубости, ответственность за которую полностью лежит на вас, ибо не только капитан Мэтленд, но и адмирал Хотэм и другие ваши офицеры, которых мы видели в то время, вели себя по отношению к нам точно так же, как и капитан Мэтленд; было бы их поведение иным, если бы полученные ими инструкции были совершенно ясными?» Сказав это, я освободил адмирала от своего присутствия; он не сделал попытки продолжить разговор на эту тему, которая, вероятно, оказалась для совести его светлости несколько тягостной.
Адмирал Кокберн, которому помогал чиновник таможенного управления, осмотрел личные вещи императора; они конфисковали четыре тысячи наполеондоров и оставили тысячу пятьсот наполеондоров для оплаты работы слуг, — все эти деньги и составляли богатство императора. В проведении этой операции адмиралу с чиновником помогал, или, скорее, мешал, Маршан, камердинер
59
Его Величества. Вся эта процедура чрезвычайно унижала достоинство адмирала, что было явным; хотя нас просили присутствовать при этом, никто из нас не захотел быть свидетелем этой процедуры, которую мы с самого начала посчитали подлой и оскорбительной.
Тем временем настал момент расставания с «Беллерофоном».
Гофмаршал Бертран на некоторое время закрылся с императором в каюте последнего. В течение всего этого времени мы оставались в приёмном помещении каюты; когда двери каюты распахнулись, герцог Ровиго, весь в слезах, бросился к ногам Наполеона и стал целовать его руки. Император, по-прежнему сохраняя спокойствие и собранность, обнял герцога и продолжал свой путь к наружному трапу, благосклонно приветствуя тех, кто оказался в этот момент на юте. Люди из окружения императора, которых мы оставляли, пребывали в состоянии глубоких душевных страданий; я не удержался и сказал лорду Кейту, стоявшему рядом со мной в эту минуту: «Вы видите сами, милорд, что единственные, кто заливается слезами, так это те, которым предстоит остаться здесь».
Мы прибыли на борт «Нортумберленда» примерно в час тридцать дня. Император оставался на палубе, охотно вступая в беседу с теми англичанами, которые подходили к нему.
Я использовал этот момент свободного времени для того, чтобы написать последнее прощальное письмо жене и друзьям; я и в самом деле чувствовал себя нездоровым и очень уставшим.
Когда пришло время сниматься с якоря, посыльное судно, сновавшее вокруг нашего корабля, чтобы не подпускать к нему зрителей, находившихся в лодках, столкнулось с переполненной людьми лодкой, слишком близко подплывшей к кораблю. Казалось, что сам рок доставил этих людей в лодке издалека, чтобы они стали жертвами несчастного случая, — как я узнал, среди погибших были
60
две женщины. Вот при таких обстоятельствах мы наконец отплыли от берега Англии в направлении острова Святой Елены — через тринадцать дней после нашего прибытия в Плимут и через сорок дней после того, как покинули Париж.
Те лица из окружения Наполеона, которых ему не позволили взять с собой, были последними, кто покинул корабль, испытывая смешанные чувства: сожаление и горечь от перенесённых невзгод. Их уход стал вторым гнетущим зрелищем, не менее взволновавшим нас, чем первое. Император удалился в предоставленную ему каюту около семи часов вечера.
Английский кабинет министров с жаром осудил то уважение, которое оказывалось императору на борту «Беллерофона», и, соответственно, дал новые указания; так вот, совершенно иной стиль поведения по отношению к императору и другая манера обращения к нему были предписаны для команды «Нортумберленда». Казалось, что члены команды с трудом подавляют в себе оскорбительный интерес к императору в его присутствии; в обращении к нему они строго придерживались только одного звания, а именно — звания генерала, и относились к нему, соответственно, как к генералу. Это было искусной выдумкой, счастливой концепцией, порождённой дипломатией английских министров; и именно это звание они посчитали уместным пожаловать тому, кого они признавали в качестве Первого консула, кого так часто величали главой французского
6/
правительства, к кому в Париже они обращались как к императору, когда лорд Лодердейл вёл с ним переговоры и даже подписывал в Шатильоне статьи договора. В результате, в минуту горячности, император, ссылаясь на введённое английским правительством правило, как-то заметил: «Они могут называть меня, как им заблагорассудится, но они не могут помешать мне быть самим собой».
Это столь же странно, как и нелепо — видеть, что кабинет министров Англии придаёт такое значение факту присвоения звания генерала тому, кто правил большей частью Европы и возвёл на престол семь или восемь королей, из которых несколько всё ещё сохраняют этот титул.
Описание каюты императора на борту «Нортумберленда»
8—9 августа 1815 года Корабль находился в состоянии крайнего беспорядка, и казалось, что он чрезмерно обременён людьми и загромождён запасами провизии и багажом: мы отправились в плавание так поспешно, что едва ли хотя бы одна вещь находилась на своём месте; таким образом, вся команда корабля была зашгга восстановлением порядка и подготовкой к длительному плаванию.
Следующие подробности дают представление о той части корабля, которую занимали император и его свита. Пространство позади бизань-мачты было занято двумя общими и двумя личными каютами; первая каюта, предназначенная для столовой, была шириной в три метра. Она протянулась поперёк корабля и в каждом конце освещалась бортовыми иллюминаторами, а сверху — световым люком. Оставшееся пространство позади бизань-мачты было отведено для офицерской кают-компании, площадь которой была уменьшена за счёт двух симметричных кают справа и слева. Каждая из этих кают имела выходы в столовую и в гостиную. Император занимал каюту слева, в которой была установлена его походная кровать; каюта справа была выделена адмиралу. Ещё прежде было категорически предписано, что офицерская кают-компания не будет предоставлена императору, — до каких же нелепых размеров дошли страхи и озабоченность кабинета министров Англии!
Форма обеденного стола напоминала форму стола военной клуб- столовой. Император сидел за столом спиной к офицерской кают- компании и лицом в сторону головной части корабля; слева от него сидела госпожа Бертран, а справа — адмирал. Справа от адмирала
62
сидела госпожа де Монтолон; эти персоны занимали одну сторону стола. В конце стола, рядом с госпожой де Монтолон, сидел капитан Росс, который командовал кораблём; напротив него, на противоположном конце стола, — господин де Монтолон, рядом с ним — госпожа Бертран, и далее — секретарь адмирала. На противоположной от императора стороне стола сидели, начиная с капитана Росса, гофмаршал Бертран, генерал, командующий 53-м пехотным полком, потом я и, наконец, барон Гурго.
Каждый день адмирал приглашал на обед одного или двух офицеров, которые размещались за столом среди нас. Я обычно сидел почти напротив императора. Недавно сформированный военный оркестр 53-го пехотного полка во время обеда натужно наигрывал свой будущий репертуар, что было испытанием для наших ушей. Наш обед состоял из двух блюд, но провизии на корабле не хватало; помимо всего прочего, наши вкусы очень отличались от вкусов наших хозяев. Но верно и то, что они старались изо всех сил.
Меня разместили вместе с моим сыном на стороне правого борта корабля, вровень с грот-мачтой, в маленькой каюте, огороженной брезентом, в котором была пушка. Наш корабль плыл с трудом и продвинулся вперёд лишь настолько, насколько ветер позволил ему выбраться из Па-де-Кале, после чего он встал на якорь у побережья Англии, поддерживая контакт с ближайшими портами, чтобы
63
обеспечить себя дополнительными запасами провизии на рейс и пополнить другие припасы. Большое количество всего, включая продовольствие, нам доставили из Плимута. Из этого порта, а также из Фалмута, к нам присоединились несколько других кораблей.
Земля скрывается из поля нашего зрения — Размышления — Аргументация против решения английского кабинета министров
10 августа 1815 года
Сегодня земля скрылась из поля нашего зрения. Мы теперь отправились в мрачный неизвестный путь, на который нас обрекла судьба. Возобновились мои страдания; дорогие мне связи, которые я оборвал, опять стали терзать моё сердце.
Тем временем наш корабль продолжает двигаться вперёд в соответствии с заданным курсом, и вскоре мы должны оказаться за пределами Европы. Таким образом, менее чем через шесть недель после того, как император отрёкся от своего трона и отдался в руки англичан, они теперь спешат доставить его на бесплодную скалу в самой середине огромного океана! Это, конечно, не совсем обычный пример превратностей судьбы и не простое испытание твёрдости характера. Тем не менее, будут ли грядущие поколения в состоянии дать более глубокую оценку этим знаменательным событиям, по сравнению с той, что даём мы сегодня?! Им придётся выносить своё решение, когда прошлое предстанет перед ними в условиях ясного горизонта, в то время как мы сейчас окутаны плотными облаками.
Едва Наполеон успел отречься от престола, как те, кто стал свидетелем последовавших затем несчастий нации, поспешили расценить его жертву как большую ошибку. Когда они узнали о том, что он стал пленником в Плимуте, то подвергли порицанию его великодушие; не было ни одного события, не исключая личных страданий императора в связи с тем, что его ссылают на остров Святой Елены, которое бы они не сделали объектом осуждения. Но такова склонность вульгарного мышления: судить лишь то, что видится в данный момент! Однако нужно оценивать принятое решение, принимая во внимание не только те бедствия, которые неизбежно сопутствуют ему, но также и те, которые повлечёт за собой принятие прямо противоположных решений.
Отрёкшись от престола, Наполеон сплотил всех друзей Франции вокруг одной проблемы — а именно, проблемы сохранения безопасности страны! Он покинул Францию, требуя от всех держав лишь
64
БИТВА ПРИ АБУКИРЕ
соблюдения священных прав национальной независимости; он лишил союзников любого повода для того, чтобы опустошить и расчленить нашу территорию; он полностью отверг всякие личные амбиции; он завершил свою карьеру в качестве мученика дела, героем которого он был. Если не были использованы все те преимущества, которые могли быть получены благодаря его гению и талантам теперь как простого гражданина страны, то в этом виноваты слабость и предательство временного правительства, сменившего его. Когда он прибыл в Рошфор и командир фрегатов отказался поднять паруса, то должен ли он был отказаться от результатов своего отречения? Должен ли он был вернуться в страну и встать во главе отрядов, когда он отрёкся от армий? Следовало ли ему безрассудно поощрять гражданскую войну, которая бы не привела ни к какому положительному результату, но лишь способствовала бы разрушению оставшихся опор, надежд на будущее страны? В подобной ситуации Наполеон принял наиболее великодушное решение, достойное его жизни, опровергнувшее всю ту клевету, которая в течение двадцати лет столь нелепо обрушивалась на его голову. Но что скажет история о тех министрах либеральной страны, стражах и хранителях народных прав, всегда страстно поощряющих Корио- лана и имеющих только цепи для Камиллуса4?
Что же касается осуждения смирения императора в связи с его перемещением на остров Святой Елены, то было бы позором отвечать на подобное обвинение. Сражаться с противником в каюте корабля, — убить кого-нибудь собственной рукой или пытаться поджечь пороховой погреб, — всё это было бы, по меньшей мере, поступком пирата. Сохранение достоинства в условиях бедствия, подчинение необходимости — в этом тоже есть своя слава; именно так люди — жертвы превратностей судьбы — становятся великими.
Когда английские министры поняли, что Наполеон находится в их власти, они оказались в гораздо большей степени под влиянием вспышки эмоций, чем чувства справедливости и разумной политики. Они нарушили свои законы, отвергли права гостеприимства, отреклись от собственной чести и скомпрометировали честь своей страны. Они приняли решение выслать своего гостя на остров посреди океана, содержать его там на скале в качестве пленника в двух тысячах лье от Европы и тем самым прекратить его общение с человечеством. Мучения ссылки, утомительно долгое морское плавание, лишения всякого рода и губительное влияние ужасного климата сделают то, что они сами боялись осуществить, — похоже, таким был их расчёт. Однако, чтобы заручиться поддержкой народа, они спровоцировали газеты на проведение кампании разжигания
65
страстей среди населения своей страны, повторяя прошлые клеветнические утверждения и лживые заявления; причём английские министры представили собственное решение как обязательство, принятое совместно с их союзниками.
Мы появились в Англии в момент всенародного возбуждения, когда всё, что могло представить нас в неприглядном свете, немедленно выставлялось напоказ. Страницы газет и журналов были заполнены самым злобным разглагольствованием; они выискивали любой поступок и каждое высказывание времён предыдущей двадцатилетней войны, которые могли бы задеть национальную гордость или разжечь ненависть к нам со стороны английского населения. Тем не менее, когда вся Англия поспешила к юту, чтобы увидеть нас во время нашей стоянки в Плимуте, поведение и чувства большинства людей, которые прибыли в Плимут, убеждали нас в том, что искусственно созданная неприязнь исчезнет сама собой. Исходя из этого, мы прониклись надеждой, что после нашего отъезда британский народ с каждым днём станет всё более беспристрастным в оценке дела, к которому он больше не имеет никакого отношения, что общественное мнение в конце концов обернётся против английских министров и что этих министров в будущем наверняка ждёт нелицеприятная критика. Они будут нести ответственность за всё содеянное.
Образ жизни императора на борту «Нортумберленда»
11 — 14 августа 1815 года
Наш корабль плыл через Бискайский залив, чтобы обогнуть мыс Финистерре. Ветер был попутным, хотя и слабым, погода — очень жаркой; ничто не могло быть более монотонным, чем течение проводимого нами времени. Император завтракал в своей каюте в разное время: следуя французским привычкам, мы завтракали в десять часов утра, в то время как англичане обычно завтракали в восемь.
Каждое утро император вызывал кого-нибудь из нас, чтобы узнать, что происходит на корабле, какое расстояние мы прошли, направление ветра и другие подробности, связанные с движением корабля. Император много читал, к четырём часам дня одевался и затем выходил в офицерскую кают-компанию; там он играл партию в шахматы с одним из членов свиты. За несколько минут до пяти часов из своей каюты выходил адмирал с объявлением о том, что обед уже на столе.
66
Хорошо известно, что Наполеон редко когда отводил обеду более пятнадцати минут; здесь же, на корабле, подача двух блюд занимала от часа до полутора часов. Наполеона это очень раздражало, хотя он никогда не делал замечаний по этому поводу и выражение его лица, жесты и манеры всегда свидетельствовали о его полном безразличии к подобному порядку за обеденным столом. Новая для него английская кухня, необычная для нас по количеству и качеству приготовляемых блюд, никогда не встречала с его стороны ни осуждения, ни одобрения; он никогда не выражал ни пожеланий, ни возражений по поводу еды. Наполеона обслуживали двое слуг, стоявших за его креслом. Поначалу адмирал имел привычку предлагать свою помощь императору во время обеда, но свою благодарность Наполеон выражал настолько холодным тоном, что адмирал эту практику прекратил. Он продолжал играть роль гостеприимного хозяина, но вскоре стал лишь указывать слугам, какое блюдо более предпочтительно, и они подавали императору выбранное адмиралом блюдо, к чему император оставался полностью безразличным, ничего не видя, ничего не замечая, ни на что не обращая внимания. Он обычно молчал, сохраняя отсутствующий вид, словно совершенно не понимал языка, хотя беседа шла на французском. Если же Наполеон говорил, то только для того, чтобы задать какой-нибудь технический или научный вопрос, или чтобы обратиться с несколькими словами к тем лицам, которых адмирал временами приглашал на обед. Обычно я был тем человеком, кому император адресовал свои вопросы, для того чтобы я переводил их.
Я не сразу заметил, что англичане имеют привычку оставаться после обеда за столом, чтобы выпить и поговорить; император, уже уставший после утомительного обеда, никогда не соблюдал этот обычай и поэтому с первого же дня, сразу после того, как обедавших обносили подносом с чашками кофе, вставал из-за стола и выходил на палубу, сопровождаемый гофмаршалом и мною. Вначале это привело в замешательство адмирала, который выразил удивление своим офицерам; но госпожа Бертран, у которой с материнской стороны родным языком был английский, горячо возразила ему, заявляя: «Не забывайте, адмирал, что ваш гость является человеком, который правил большей частью мира, и что короли, бывало, оспаривали право быть приглашёнными к его столу». — «Совершенно верно», — ответил адмирал. И этот офицер, обладавший здравым смыслом, сговорчивым характером и немалым тактом, с этой минуты делал всё, что было в его силах, чтобы приспособиться к привычкам императора. Он сократил время обеда и заказывал кофе для Наполеона
67
и сопровождавших его лиц ещё до того, как все остальные за столом заканчивали свой обед. Как только Наполеон выпивал кофе, он покидал столовую; при этом все остальные вставали со своих кресел и продолжали стоять до тех пор, пока Наполеон не выходил из столовой, а затем оставались за столом со своим вином ещё час.
Император прогуливался по палубе до наступления темноты, сопровождаемый гофмаршалом и мною. Такой порядок дня императора оставался неизменным и редко нарушался. Возвратившись в офицерскую кают-компанию, он садился за карты сыграть в «двадцать одно» и обычно через полчаса удалялся в свою каюту.
Один счастливый день императора
15 августа 1815 года
Этим утром мы попросили разрешения быть принятыми императором и все одновременно вошли в его каюту. Он не понимал вначале причины этого визита: это был день его рождения, о котором, судя по всему, он совершенно забыл. Мы обычно наносили ему визиты в этот день — и в гораздо более торжественной обстановке, когда он находился на вершине власти, — но никогда наши пожелания не были столь искренними и никогда наши сердца не были столь преданными ему, как в тот день.
Теперь дни проходили однообразно, ничем не отличаясь друг от друга: вечерами мы постоянно играли в «двадцать одно»; иногда к нам присоединялись адмирал и некоторые из его офицеров. Император обычно удалялся к себе, оставляя на карточном столе, в соответствии со своей привычкой, проигранные десять или двенадцать наполеондоров; это случалось с ним ежедневно, поскольку он настаивал на том, чтобы оставлять на столе свою ставку до тех пор, пока она не составит значительную сумму. В тот день он выиграл от восьмидесяти до ста наполеондоров. Адмирал сдавал карты; император по-прежнему хотел оставить на столе свой выигрыш, но подумал, что адмиралу будет неприятно, если он покинет игру в такой момент. Тогда император решил продолжать игру и выиграл шестнадцать сдач адмирала подряд, и его выигрыш мог составить сумму в шестьдесят тысяч наполеондоров. В то время, когда все присутствовавшие при игре говорили о том, что сегодня фортуна столь милостива только к одному человеку, один английский офицер заметил, что сегодня празднуется годовщина дня рождения императора.
68
Продолжение плавания — Занятия императора — Происхождение императора и его семьи — Различные истории
16 — 21 августа 1815 года
Шестнадцатого августа мы обогнули мыс Финистерре, 18 августа прошли мыс Сент-Винсент и на следующий день были вблизи Гибралтарского пролива. Во время следования по заданному курсу вдоль берега Африки по направлению к Мадейре ничего значительного не произошло. Нашим привычкам и способам проведения времени было свойственно полнейшее единообразие; менялись лишь темы наших бесед.
Император обычно в течение всего утра оставался в своей каюте: жара была настолько чрезмерной, что он носил лишь очень лёгкую одежду. Он не мог спать и часто ночью вставал с постели. Главным его занятием было чтение. Почти каждое утро император вызывал меня, и я переводил ему статьи из «Британской энциклопедии», а также из других книг, имевшихся на борту корабля, которые содержали данные об острове Святой Елены и о странах, мимо которых мы проплывали. Это привело к тому, что он начал просматривать мой «Исторический Атлас». На борту «Беллерофона» Наполеон только мельком взглянул на него и до этого времени имел смутное представление о моей работе. Теперь же я с удовлетворением видел, как в течение нескольких дней эта книга находилась в руках императора, который дал самую лестную оценку моему труду. Ему, судя по всему, особенно понравилось обилие материала и его расположение в книге. Когда император просматривал «Атлас», то его внимание главным образом привлекли географические карты, особенно карта мира, получившая его наибольшее одобрение. Я не пытался убедить его в том, что самой слабой частью книги была именно география, которой я уделил гораздо меньше внимания, чем другим частям; общие таблицы по методике, симметрии и удобству использования превзойти было трудно, а генеалогические таблицы представляли собой миниатюрную историю описываемой страны, в них приводился подробный анализ разных материалов.
Император спросил меня, использовалась ли эта работа в нашей системе образования, добавив, что если бы эта книга была ему лучше известна, то все школы и лицеи были бы ею обеспечены. Далее он спросил: почему я опубликовал её под вымышленным именем Ле Саж? Я ответил, что в Англии после моей эмиграции был опубликован очень несовершенный вариант книги, причём в то время,
69
когда мы не могли предавать гласности наши имена из опасения нанести вред родственникам во Франции. «И, — добавил я, рассмеявшись, — возможно, я тогда ещё не избавился от предрассудков юности; я поступил подобно аристократам Бретани, которые, начав заниматься торговлей, оставляли свои шпаги на хранение в регистрационном бюро гражданского суда, чтобы не унизить достоинство своей семьи».
Как я уже ранее писал, император всегда вставал из-за обеденного стола намного раньше всех остальных. Гофмаршал и я следовали за ним на палубу, где я часто оставался с императором наедине, поскольку генерал Бертран обычно вынужден был отправляться в свою каюту, чтобы ухаживать за женой, очень страдавшей от морской болезни.
После предварительных замечаний по поводу погоды, движения корабля и силы ветра Наполеон принимался беседовать на определённую тему или возвращался к обсуждению проблемы, затронутой накануне; и когда он проделывал восемь или девять поворотов, пройдя всю длину палубы, то обычно присаживался на вторую пушку от трапа левого борта корабля. Корабельные гардемарины вскоре обратили внимание на пристрастие Наполеона к этому месту, и с тех пор эту пушку стали называть пушкой императора.
Именно там Наполеон часто беседовал со мной целыми часами, и именно там я впервые узнал часть того, о чём собираюсь рассказать; делая это, я хотел бы обратить внимание, что одновременно буду добавлять и всё то, что слышал в последующих беседах; таким образом, совокупное изложение всего, что я слышал о той или иной проблеме, делает её более достойной внимания.
Фамилия Бонапарте может писаться как Бонапарте или как Буонапарте, — об этом знают все итальянцы. Отец Наполеона всегда писал свою фамилию с “у”, а дядя Наполеона, архидиакон Люсьен (который пережил отца Наполеона, став практически отцом для Наполеона и его братьев), в то же самое время и под той же крышей писал Бонапарте. Во время своей юности Наполеон следовал примеру отца. Приняв командование армией Италии, он предусмотрительно позаботился о том, чтобы не менять орфографию своей фамилии, которая отвечала индивидуальности итальянского языка; но в более поздний период, когда Наполеон стал жить среди французов, он захотел принять их орфографию и с тех пор уже писал свою фамилию — Бонапарт.
Семья в течение многих лет пользовалась широкой известностью на территории Болоньи и в её окрестностях, она обладала значительным
70
влиянием в Тревизо; эту фамилию можно найти вписанной в «Золотую книгу» Болоньи и в список патрициев Флоренции. Когда Наполеон, будучи генералом и командующим армией Италии, вступал в Тревизо во главе своей победоносной армии, самые уважаемые жители города вышли встретить его с официальными документами и архивными записями, подтверждавшими, что его семья была одной из самых знаменитых в их городе.
Во время встречи в Дрездене, перед началом русской кампании, император Франц сообщил Наполеону, который тогда был его зятем, что семья Буонапарте правила в Тревизо в качестве монархов. Этот факт не подлежал сомнению, так как император Франц дал указание, чтобы документы, доказывающие это, были найдены и доставлены ему. Наполеон ответил императору Францу, улыбаясь, что не желает знать об этом, так как предпочитает стать основателем своей собственной династии, как это сделал в своё время Рудольф Габсбургский, основатель династии Габсбургов. Но император Франц придавал этому вопросу гораздо большее значение. Он заявил, что если богатый человек становится бедняком, то этот факт не влечёт за собой каких-то особых последствий, но что дороже всего принадлежность к клану монархов, и факт о принадлежности Наполеона к семье монархов Тревизо должен быть сообщён Марии Луизе, которой это обстоятельство доставит безграничное удовольствие.
71
Когда, во время итальянской кампании, Наполеон вошёл в Болонью, то Марескальки, Капрара и Альдини, хорошо известные во Франции — а в то время они были сенаторами в своём родном городе, — по своей воле представили Наполеону «Золотую книгу» Болоньи, в которой были начертаны имя и герб его предков.
Во Флоренции есть несколько домов, подтверждающих факт проживания в них семьи Буонапарте; на многих домах даже сейчас можно увидеть герб семьи.
Чезаре, корсиканец или болоньезец, проживавший в Лондоне и возмущённый той пренебрежительной манерой, с которой британское правительство отнеслось к письму Наполеона, где он сообщал, что принимает на себя ведение дел Консулата, опубликовал генеалогическую таблицу, в которой установил родословную связь императора с древними династиями домов Эсте и Вельфов, предположительно ставшими родоначальниками нынешней королевской семьи Англии*.
Герцог де Фельтр, французский посол в Тоскане, привёз в Париж из Галереи де Медичи портрет Буонапарте, который был женат на принцессе из семьи великого герцога. Мать папы римского Николая V, родом из Сарцаны, также была Буонапарте.
Был один Буонапарте, который заключил договор об обмене Ливорно на Сарцану. Ещё одному Буонапарте мы обязаны старейшей комедией, написанной в эпоху Возрождения, под названием «Вдова». Это произведение всё ещё можно увидеть в Королевской библиотеке в Париже**.
Когда Наполеон выступил в поход против Рима во главе французской армии и получил предложение от папы римского провести мирные переговоры в Толентино, один из участников переговоров с римской стороны обратил внимание на то, что Наполеон был единственным французом, выступавшим в военный поход против Рима со времени коннетабля Бурбона; но что делает данное обстоятельство ещё более необычным, так это то, что история первого похода французской армии на Рим была написана предком того,
* Этот параграф невольно вызывает сомнение, и я собирался вычеркнуть его из дневника; поэтому я должен объяснить причину, в силу которой я всё же его оставил. Какую цель я тем самым преследую? В основном ту, чтобы оставить после себя исследованные мною материалы. Когда я указываю, каким образом я получил эти данные, и говорю, что получил их во время простого разговора и мог исказить их содержание, с ходу ухватив всего лишь их смысл, когда я признаю их вероятную неточность и предоставляю читателю возможность исправления моих ошибок, разве тогда я в достаточной мере не выполняю свой долг в достижении поставленной цели?
** Проверено в Королевской библиотеке: рукопись действительно там находится, и сама пьеса отпечатана.
72
кто осуществил второй поход, а именно — синьором Никколо Буо- напарте, который действительно оставил нам свою работу под названием «Разграбление Рима коннетаблем Бурбоном»*.
Вероятно, благодаря этому синьору Никколо Буонапарте или вышеупомянутому папе римскому авторы некоторых брошюр используют в качестве предлога присвоение императору имени Никколо вместо имени Наполеон. Эту работу можно обнаружить во многих библиотеках; ей предшествует книга об истории семьи Буонапарте, напечатанная сорок или пятьдесят лет назад, — её издал доктор Вакк, профессор университета Пизы.
Господин де Сетто, посол Баварии, часто говорил мне, что архивы Мюнхена хранили большое количество документов, подтверждавших древность рода Буонапарте и большое влияние, которым эта семья обладала.
В течение всего времени, что Наполеон был у власти, он отказывался предпринимать что-либо для выяснения своих родословных корней и не хотел даже говорить на эту тему. Первая попытка обратить его внимание на данную проблему была сделана во времена Консулата, но он столь резко воспрепятствовал этому, что больше никто не отважился вновь заговорить про его родословную. Некое лицо опубликовало генеалогию Наполеона, в которой ухитрилось связать воедино родственные корни семьи Наполеона и некоторых северных королей. Наполеон приказал осмеять этот образец лести в газетах, и авторы статей, посвящённых опубликованной генеалогии, заканчивали их тем, что утверждали: аристократизм Первого консула ведёт свой отсчёт только с 18-го брюмера.
Семья Буонапарте, как и многие другие семьи, была жертвой многочисленных революций, разорявших города Италии. Беспорядки во Флоренции вынудили Буонапарте эмигрировать. Один из членов семьи сначала отправился в Сарцану, а оттуда поехал на Корсику.
* Также проверено в Королевской библиотеке Парижа, где хранится доклад о разграблении Рима, но автором работы является не Никколо, а Джакопо Буонапарте. Джакопо был современником и непосредственным свидетелем описываемого события, его рукопись была впервые напечатана в Кёльне в 1756 году; и в этой работе фактически содержится генеалогия семьи Буонапарте, начиная с очень давних времён, и даётся описание этой семьи как одной из самых знаменитых семей Тосканы.
Вышеупомянутая генеалогия приводит факт, который, несомненно, представляет своеобразный интерес: дело в том, что один из первых Буонапарте был изгнан из своей страны как гибеллин. Не было ли тогда роком этой семьи во все времена и в каждой эпохе, что она должна была уступать влиянию гвельфов\
Кёльнский издатель иногда пишет Буонапарте, а в других случаях Бонапарт. Никколо Буонапарте, упомянутый в тексте как историк, был дядей Джакопо; он Упомянут в генеалогии как весьма известный писатель и основатель курса юриспруденции в университете Пизы.
73
С этого острова его потомки всегда продолжали посылать своих детей в Тоскану, где они получали образование под надзором ветви семьи, оставшейся в Сан-Миниато. Каждый второй сын этой ветви в течение нескольких поколений носил имя Наполеон — в честь предка, прославленного в исторической хронике Италии.
На пути во Флоренцию после военного похода в Ливорно Наполеон провёл ночь в доме старого аббата Буонапарте в Сан-Миниато, который принял у себя весь штаб Наполеона с большой пышностью. Исчерпав тему семейных воспоминаний, аббат сообщил молодому генералу, что намерен показать ему бесценный документ. Наполеон думал, что ему покажут замечательное генеалогическое древо, прекрасно составленное, чтобы удовлетворить его тщеславие (сказал Наполеон, смеясь), но это была памятная записка о Буонавентуре Буонапарте, монахе ордена капуцинов, уже давно причисленном к лику блаженных, но не канонизированном из-за непомерных расходов, требующихся для проведения этой процедуры. «Папа римский не откажет тебе, — сказал добрый аббат, — если ты попросишь его об этом, а если необходимо будет заплатить, то для тебя это сущий пустяк». Наполеон от всего сердца расхохотался, услышав от старого аббата это наивное суждение, столь не соответствующее реалиям времени: старику не приходило в голову, что святые более не в моде.
Прибыв во Флоренцию, Наполеон подумал, что его однофамильцу было бы очень приятно, если бы ему прислали ленту ордена Святого Стефана, ревностным поклонником которого он был; но благочестивый аббат гораздо меньше стремился к обладанию благами этого мира, чем к религиозной справедливости. Именно этого он так настойчиво добивался, и, как выяснилось позднее, не без причины. Папа римский, когда прибыл в Париж, чтобы возложить императорскую корону на голову Наполеона, помнил об отце Буонавентуре. «Несомненно, — заявил папа римский, — что он, занимая своё место среди блаженных, вёл за руку своего родственника по пути славной земной карьеры, и именно он хранил Наполеона в самой пучине столь многих опасностей и сражений». Наполеон, однако, пропустил мимо ушей эти замечания папы римского, оставив на усмотрение святого отца вопрос о прославлении Буонавентуры. Что же касается старого аббата в Сан-Миниато, то он завещал своё состояние Наполеону, который передал его одному из общественных учреждений в Тоскане.
Однако мне трудно излагать какие-либо генеалогические данные о семье императора, основываясь на беседах с Наполеоном: он часто говорил, что никогда не заглядывал ни в одну из пергаментных рукописей, хранящихся в семье. Они всегда оставались в руках его брата Жозефа, которого Наполеон называл «специалистом по генеалогии семьи». И чтобы не забыть, упомяну здесь об имевшем
74
место факте, когда Наполеон, собираясь вступить на борт корабля, передал брату пакет, содержавший все подлинные письма, адресованные ему монархами Европы. Я часто выражал императору своё сожаление, что он расстался с такими ценными историческими рукописями*.
Карло Буонапарте, отец Наполеона, был очень высокого роста, красавец и хорошо сложён; он получил неплохое образование, поскольку прилежно учился в Риме и в Пизе, где изучал юриспруденцию. О нём говорили, что он обладал незаурядным умом и сильным, энергичным характером. Именно он во время обсуждения в общественной ассамблее Корсики вопроса о её присоединении к Франции выступил с блестящей речью, которая взволновала всю страну, — а ведь в это время ему было не более двадцати лет! «Если бы для того, чтобы стать свободным, — заявил он, — требовалась одна воля, то все страны стали бы свободными; тем не менее, история учит нас, что мало кто добивался благословенной свободы, потому что мало кто обладал для этого необходимой энергией, мужеством и достаточной нравственностью».
Когда остров был покорён Францией, Карло хотел сопровождать Паоли в эмиграцию, но его пожилой дядя, архидиакон Люсьен, родительской власти которого он подчинялся, не разрешил ему покидать Корсику.
* Вернувшись в Европу, я сразу же проявил интерес к бесценным рукописям и поспешил предложить принцу Жозефу, учитывая их важность, сделать копии с них. Каково же было моё горе, когда я узнал, что эти исторические материалы бесследно исчезли, и никто не знает, что произошло с ними! В чьи руки они могли попасть? Пусть же те, к кому они попали, по достоинству оценят их важность и сохранят для истории!
75
В 1779 году Карло Буонапарте был избран депутатом, чтобы представлять Корсику в Париже, и взял с собой юного Наполеона, которому тогда было десять лет. Проезжая по пути Флоренцию, Карло получил рекомендательное письмо от великого герцога Леопольда к его сестре, королеве Франции. Этим знаком внимания он был обязан своему положению на Корсике и почтению к его имени в Тоскане.
В описываемый период на Корсике проживали два французских генерала, настолько ненавидевших друг друга, что их ссоры привели к созданию двух партий. Один из них был господин де Марбёф, обладавший мягким характером и снискавший этим популярность среди местного населения. Вторым генералом был господин де Нар- бонн Пелле, отличавшийся высокомерием и неистовством характера. Последний, из-за своего происхождения и благодаря связям среди высшей знати Франции, должен был быть очень опасен для своего соперника, но, к счастью для господина де Марбёфа, его гораздо больше любили на острове. Когда депутация корсиканцев во главе с Карло Буонапарте прибыла в Версаль, у него спросили его мнение о причине ссоры между двумя французскими генералами. Искренность показаний Карло Буонапарте по этому вопросу способствовала полному триумфу Марбёфа. Архиепископ Лиона, племянник Марбёфа, посчитал своим долгом уделить внимание депутату с Корсики и поблагодарить его за оказанную семье Марбёф услугу. Когда юного Наполеона определили в Бриеннское военное училище, архиепископ дал ему специальное рекомендательное письмо для семьи Бриенн, которая жила там большую часть года, — отсюда проистекает дружеское отношение семей Марбёф и Бриенн к детям семьи Буонапарте. Клеветнические статьи по этому поводу приводят иную причину, но простого изучения дат вполне достаточно для того, чтобы доказать её абсурдность. Старик Марбёф жил тогда в городе Аяччо, где семья Карло Буонапарте занимала одно из главных мест. Госпожа Буонапарте была самой очаровательной и красивой женщиной в городе, поэтому вполне естественно, что генерал часто посещал её дом для приятного времяпровождения, предпочитая его другим местам.
Карло Буонапарте скончался в возрасте тридцати восьми лет от уплотнения лимфатических узлов желудка. Во время одного из своих визитов в Париж он обратился к врачам по поводу своей болезни и в результате почувствовал временное облегчение, но позднее стал жертвой повторного приступа в Монпелье.
Во времена Консулата знатные люди Монпелье, используя посредничество своего земляка Шапталя, министра внутренних дел, обращались с ходатайством к Первому консулу, прося разрешения
76
возвести памятник в честь его отца. Наполеон поблагодарил за проявленные ими добрые намерения, но отказал в их просьбе. «Давайте не будем нарушать покой умершего, — заявил Наполеон, — пусть его прах остаётся в мире. Я также потерял дедушку и прадедушку, так почему бы не возвести памятники и в их честь? Это может завести нас слишком далеко. Если бы мой отец умер вчера, то было бы вполне уместным и естественным, чтобы моё горе сопровождалось каким-нибудь проявлением вашего уважения к умершему. Но его смерть произошла двадцать лет тому назад; это событие не представляет общественного интереса, и бесполезно возрождать память об этом». В последующий период Луи Бонапарт, без ведома Наполеона, откопал из могилы останки своего отца и перезахоронил их в Сен-Лё, где возвёл памятник в его честь.
Карло Буонапарте придерживался взглядов, прямо противоположных религиозным, он даже написал несколько антирелигиозных поэм. В этом отношении он очень отличался от своего брата, архидиакона Люсьена, набожного и ортодоксального священнослужителя, который намного пережил его и умер в преклонном возрасте. На своём смертном одре он очень обиделся на Феша, который, будучи тогда только священником, прибежал к нему в епитрахили и стихаре, чтобы помочь ему в его последние минуты. Люсьен умолял Феша дать ему возможность умереть спокойно. Последние минуты жизни он провёл в окружении членов своей семьи, давая им философские советы старца, умудрённого опытом жизни, и благословляя их.
Император часто говорил о своём старом дяде, который был для него вторым отцом и который продолжительное время являлся главой их семьи. Он был архидиаконом Аяччо, одним из ведущих сановников острова. Его бережливость и умение вести домашнее хозяйство улучшили состояние дел семьи, которые в немалой степени были приведены в беспорядок расточительностью Карло. Старого дядю Наполеона очень почитали, он пользовался значительным авторитетом в Аяччо и его окрестностях. Крестьяне охотно выносили свои разногласия на его суд, и он щедро давал им советы, благословляя на добрые дела.
Карло Буонапарте женился на мадемуазель Летиции Рамолино, чья мать, после смерти её первого мужа, вышла замуж за капитана Феша, офицера одного из швейцарских полков, которые генуэзцы обычно содержали на острове. Кардинал Феш родился в результате этого второго брака и, соответственно, приходился сводным братом госпоже Летиции Буонапарте и дядей императору.
Госпожа Буонапарте была самой красивой женщиной своего времени на острове и славилась по всей Корсике. Паоли, во времена
77
своей власти, открыл на Корсике посольства Алжира и Туниса и захотел дать послам варварских стран представление о привлекательности острова. С этой целью он однажды собрал вместе самых красивых женщин Корсики, среди которых первенствовала госпожа Буона- парте. Впоследствии, когда она ездила в Бриенн, чтобы повидаться с сыном, её очарование было отмечено даже в Париже.
Во время войны за корсиканскую независимость госпожа Буо- напарте разделяла с мужем, который был сторонником свободы острова, все опасности. В его поездках по острову она сопровождала его верхом на лошади, даже будучи беременной Наполеоном. Это была женщина исключительно решительная, большого чувства гордости и возвышенной души. Она была матерью тринадцати детей и могла бы иметь их ещё больше, но стала вдовой в возрасте тридцати лет. Из этих тринадцати детей выжили только пять мальчиков и три девочки, и все они сыграли значительные роли во время правления Наполеона.
Жозеф, старший ребёнок в семье, первоначально готовился к церковной деятельности, благодаря влиянию на семью со стороны Мар- бёфа, архиепископа Лиона, который осуществлял покровительство над многими приходами. Жозеф прошёл обычный курс религиозного обучения, но когда пришло время стать духовным лицом, он отказался. Он последовательно был королём Неаполя и Испании.
Луи был королём Голландии, а Жером — королём Вестфалии. Элиза была великой герцогиней Тосканы, Каролина — королевой Неаполя, а Полина — принцессой Боргезе. Люсьен, из-за своего брака и неуправляемого характера потерявший право на корону, хотел загладить свои прошлые ошибки и бросился в объятия императора,
78
когда тот возратился с Эльбы и был далёк от того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. Люсьен, говорил Наполеон, рано начал делать карьеру и в юности пережил бурные события: в возрасте пятнадцати лет его привёз во Францию господин Семонвиль, который вскоре сделал его ревностным революционером и страстным завсегдатаем политических клубов. По этому поводу император говорил, что в многочисленных клеветнических памфлетах, опубликованных против него, приводились тексты выступлений и письма, подписанные, среди прочих имён, и именем Брута Буонапарте, которое приписывалось ему, Наполеону; он не станет утверждать, добавлял Наполеон, что эти опубликованные выступления не были написаны кем-то из его семьи, но может заявить, что они не были делом его рук.
Я имел возможность ознакомиться с настроениями принца Люсьена, когда император возвратился с Эльбы, и могу заявить, что любому человеку было бы трудно честно и стойко придерживаться своих политических взглядов и в то же время проявлять такую преданность и доброжелательность по отношению к своему брату.
Мадейра — Сильный шторм — Шахматы
22 — 26 августа 1815 года Двадцать второго августа в поле нашего зрения оказался остров Мадейра, и уже вечером мы были на рейде порта. Только два корабля нашей эскадры бросили якорь, чтобы взять на борт запасы провизии для всей эскадры. Ветер дул со страшной силой, и море было чрезвычайно бурным. Император чувствовал себя нездоровым, я тоже был болен. Внезапно поднялся шторм; воздух был чрезмерно горячим, и казалось, что он весь насыщен мелкими крупинками песка, — теперь мы подверглись воздействию сильнейших ветров из пустынь Африки. Такая погода продержалась весь следующий день, и наша связь с берегом стала чрезвычайно трудной. Английский консул, прибывший на борт корабля, сообщил нам, что на Мадейре в течение многих лет не было подобного урагана: виноградники полностью уничтожены, все окна в городе разбиты, и на улицах практически невозможно дышать. Всё это время мы продолжали лавировать на рейде перед городом; то же самое мы делали в течение следующей ночи и днём 24 августа, когда взяли на борт партию рогатого скота, а также другую провизию, в том числе не совсем созревшие апельсины, плохие персики и безвкусные груши; однако финики и виноград были отличного качества. Вечером мы покинули Мадейру; ветер по-прежнему был сильным. 25-го и 26-го
79
мы ненадолго останавливались, чтобы распределить провизию между кораблями, составлявшими эскадру, остальное время мы шли под парусами плавно и быстро.
Во время нашего плавания не происходило ничего такого, что могло бы скрасить однообразие окружающей картины. Каждый день тянулся очень медленно, добавляя к прошлому очередной промежуток времени, лишённый всякого интереса и не отмеченный никакими запоминающимися событиями.
К числу своих развлечений император добавил карточную игру в пикет, в которую он играл примерно в три часа дня. После этого и до обеда он играл несколько партий в шахматы с гофмаршалом, господином де Монтолоном или ещё с кем-нибудь. На борту корабля не было сильных шахматистов. Император не являлся страстным шахматным игроком; у одних своих противников за шахматной доской он выигрывал, другим — проигрывал. Однажды вечером, раздумывая над этим фактом, он высказался следующим образом: «Как это получается, что я часто проигрываю тем, кто не в состоянии ни разу обыграть того, кого я почти всегда обыгрываю? Не кажется ли это противоречащим здравому смыслу? Каким образом можно решить эту проблему?» Сказав это, он подмигнул, давая понять, что хотя он и ведёт себя скромно и вежливо, но на самом деле является лучшим игроком в шахматы.
Мы более не играли в «двадцать одно» вечерами: мы отказались от этой игры, поскольку стали делаться слишком высокие ставки, чем император был явно недоволен: он был ярым противником азартных игр. Возвращаясь со своих дневных прогулок по палубе, Наполеон обычно играл две или три партии в шахматы, а затем удалялся в каюту, где рано ложился спать.
Канарские острова — Прохождение через тропики — Подробности детства императора — Наполеон в Бриенне — Пишегрю — Наполеон в Парижской военной школе — В артиллерии — Его товарищи — Наполеон в начале революции
27 — 31 августа 1815 года
На рассвете 27 августа, в воскресенье, мы оказались вблизи Канарских островов, которые прошли в течение одного дня, продвигаясь со скоростью десять-двенадцать узлов в час и даже не заметив знаменитый пик Тенерифе, — обстоятельство тем более странное, что в ясную погоду пик виден на расстоянии шестидесяти лье.
80
29 августа мы пересекли тропики и наблюдали за множеством летающих рыб. 31 августа в одиннадцать часов вечера один из матросов выбросился за борт; это был негр, который, напившись в очередной раз, боялся порки плетьми, ожидавшей его за пристрастие к выпивке. Он несколько раз в течение вечера пытался прыгнуть за борт, и наконец это ему удалось. Однако он, видимо, вскоре в этом раскаялся, так как в отчаянии начал истошно кричать. Матрос был хорошим пловцом, но, хотя за ним немедленно направили лодку и были приняты все меры, чтобы спасти его, найден он не был. Ночное происшествие в море и крики этого человека взбудоражили всех на борту корабля. Моряки принялись метаться во всех направлениях; шум был страшный, волнение охватило буквально всех.
Когда я спускался с палубы в каюту, один гардемарин, подросток с симпатичным лицом, думая, что я собираюсь сообщить императору о том, что случилось, схватил меня за плащ и голосом, выражавшим нежную озабоченность, воскликнул: «Ах, сэр, не беспокойте его! Скажите ему, что в этом шуме ничего страшного нет; это всего лишь один человек упал за борт». Очаровательная и простодушная юность! Он скорее выразил свои чувства, но не мысли!
Гардемарины, которых на борту корабля было несколько человек, относились к императору с подчёркнутым уважением и вниманием. Каждый вечер повторялась одна и та же сцена, которая вызывала У нас самые доброжелательные чувства к ним. Рано утром матросы
вытаскивали гамаки и складывали их в большие сетки у бортов корабля, и в шесть часов вечера по сигналу свистка они забирали свои гамаки обратно. Тех, кто медлил с выполнением этой обязанности, наказывали. В результате поданного сигнала начиналась невероятная суматоха; и было приятно видеть, как в этот момент всеобщей суеты гардемарины выстраивались в замкнутое кольцо вокруг императора, независимо от того, находился ли он посередине палубы или отдыхал на своей любимой пушке. Гардемарины внимательно следили за движениями императора и знаками или голосом давали знать матросам, чтобы они беготнёй со своими гамаками не беспокоили его. Наполеон часто наблюдал за этими действиями гардемаринов, отмечая, что юные сердца всегда склонны к порывам энтузиазма.
Теперь я приступаю к описанию некоторых подробностей ранних лет жизни императора, которые я собирал в различное время.
Император родился примерно в полдень 15 августа (день Успения) в 1769 году. Его мать, обладавшая большой физической силой и незаурядными умственными способностями, храбро переносившая тяготы и опасности войны, будучи беременной, захотела присутствовать на мессе по случаю религиозного праздника; однако ей стало плохо в церкви, и, вернувшись домой, она родила ребёнка, не успев добраться до постели. Только что родившийся ребёнок оказался на полу, покрытом старомодным ковром, по всей длине которого были изображены герои какой-то старинной легенды или, возможно, герои «Илиады». Этим ребёнком был Наполеон.
В годы отрочества Наполеон отличался беспокойным характером, находчивостью, живостью и крайней подвижностью. Он говорил, что сумел добиться первенства над своим старшим братом Жозефом. Наполеон часто поколачивал старшего брата и был рад любой возможности поиздеваться над ним; Жозеф мчался к матери, чтобы пожаловаться, и она принималась бранить Наполеона, ещё когда Жозеф только собирался раскрыть рот.
В возрасте десяти лет Наполеона послали в военное училище в Бриенне на востоке Франции. Его имя, которое на корсиканский манер он произносил Напойльоне, стало причиной того, что из-за сходства звуков его юные товарищи прозвали его la paille au nez (с соломинкой в носу). В этот период в характере Наполеона произошло большое изменение. Вопреки всем сомнительным историям, содержавшим анекдотические случаи из его жизни, он, когда находился в Бриенне, был мягким по характеру юношей, сдержанным, но впечатлительным. Однажды интендант училища, человек грубого нрава, который никогда не обременял себя мыслями о тонкостях физического и нравственного состояния каждого отдельного
82
воспитанника, заставил Наполеона, в порядке наказания, есть обед, стоя на коленях перед дверью в столовую, — за то, что тот надел китель из саржи. Наполеон, которому были свойственны гордость и самомнение, был настолько унижен этим бесчестьем, что у него началась рвота и затем последовал сильнейший нервный приступ. Директор училища, случайно проходивший мимо, освободил Наполеона от наказания и сделал выговор интенданту за то, что тот не умеет разбираться в людях, а священник Патро, учитель математики, был возмущён до крайности, узнав, что его лучший ученик подвергнут такому унижению*.
Достигнув возраста половой зрелости, Наполеон стал замкнутым и скрытным; его страсть к чтению превзошла все границы: он с жадностью проглатывал любую книгу, которая попадалась ему на глаза. В то время Пишегрю был его надзирателем в училище и его наставником в овладении четырьмя правилами арифметики.
Пишегрю был уроженцем Франш-Конте, где его семья занималась фермерством. Монахи ордена минимов провинции Шампань были назначены надзирать за военным училищем в городе Бриенне. Однако вследствие их бедности желающих вступить в орден было так мало, что их оказалось недостаточно для того, чтобы выполнить возложенную на них задачу; и поэтому они попросили помощи у монахов этого ордена во Франш-Конте, в числе последних был отец Патро. Тётка Пишегрю, монахиня дома призрения, последовала в Бриенн вслед за отцом Патро, чтобы надзирать за лазаретом училища. В Бриенн её сопровождал племянник, который был принят в училище, чтобы получить в нём образование бесплатно. Пишегрю, чрезвычайно умный юноша, достигнув соответствующего возраста, получил должность надзирателя и учителя, находясь в подчинении отца Патро, который обучал его математике. Пишегрю намеревался стать монахом, что было единственной его целью и пожеланием его тётки. Но отец Патро отговорил Пишегрю, убедив в том, что подобная профессия не соответствует его возрасту и ему следует надеяться на что-нибудь лучшее; он уговорил Пишегрю поступить на военную службу в артиллерию, где его застала революция (в звании младшего офицера). Его военная карьера известна: он был завоевателем Голландии. Таким образом, отец Патро имел честь обучать двух величайших генералов современной Франции.
Отец Патро впоследствии выполнял мирские поручения для господина де Бриенна, архиепископа Сена и кардинала де Ломени,
* Приводимые ниже данные (семь абзацев) продиктованы самим Наполеоном; как и когда — об этом будет сказано в дальнейшем.
83
который сделал его одним из своих главных викариев и поручил управление своими многочисленными приходами.
Во время революции отец Патро, хотя его убеждения были прямо противоположными убеждениям его покровителя, тем не менее приложил все усилия, чтобы спасти его, и с этой целью обратился к Дантону, который был уроженцем той же части Франции, что и кардинал и сам отец Патро. Но всё было тщетно; и, как считают, именно Патро, следуя примеру древних, оказал кардиналу услугу, достав для него яд, чтобы спасти от эшафота.
Госпожа де Ломени, племянница кардинала, — до того, как её лишили жизни по решению революционного трибунала, — поручила отцу Патро заботу о двух её дочерях, которые ещё находились в детском возрасте. Время террора прошло, и тётка этих девочек, госпожа де Бриенн, которая избежала участи стать жертвой революционной бури, обратилась к отцу Патро с просьбой вернуть ей девочек; но он отказался отдать их на том основании, что их мать поручила ему удалить их от соблазнов мира и посвятить крестьянским занятиям. Он задумал план буквального осуществления этих иносказательных поручений, собираясь соединить жизнь двух дочерей госпожи де Ломени с жизнью двух своих племянников. «Я был тогда, — рассказывал Наполеон, — генералом внутренних войск и стал посредником в переговорах о восстановлении прав детей, что оказалось довольно трудным делом. Патро принял все возможные меры, чтобы этому воспрепятствовать. Эти дочери госпожи де Ломени стали теми двумя госпожами, которых вы знаете под именами госпожи де Лезе-Марнезиа и прекрасной госпожи де Канизи, герцогини Виченцской».
Отец Патро, возобновив знакомство со своим бывшим учеником, последовал за ним в Италию и присоединился к его армии, где проявил себя гораздо лучшим счётчиком пролетавших пуль, чем их мишенью. В сражениях при Монтенотге, Миллезимо и Дего он проявил себя как самый отъявленный трус. Во время сражения он не молился, как Моисей, а рыдал, словно дитя. Генерал, главнокомандующий армией, назначил его администратором поместий в Милане, где он сколотил значительное состояние. Когда Наполеон вернулся из Египта, Патро нанёс ему визит; он более не был жалким монахом бедного ордена минимов провинции Шампань, но предстал дородным финансистом, обладателем более чем миллионного состояния. Два года спустя он вновь просил аудиенции у Первого консула в Мальмезоне; теперь он выглядел жалким и подавленным, был в поношенной одежде. «Что случилось?» — поинтересовался Первый консул. «Вы видите перед собой разорившегося человека, — ответил Патро, — человека, оказавшегося в нищенском положении,
84
жертву жестокого несчастья». Первый консул решил проверить, соответствует ли истине это заявление; он выяснил, что отец Патро занялся ростовщичеством. Великий счётчик потерял своё состояние и стал банкротом, рискованно давая деньги в долг под большие проценты. «Я уже отдал свой долг, — заявил Первый консул, когда к нему вновь явился Патро. — И больше ничего не могу для вас сделать; я не могу делать человека богатым дважды». Первый консул ограничился тем, что назначил Патро пенсию, достаточную для его существования.
Наполеон плохо помнил Пишегрю. В его памяти осталось, что тот был высокого роста, с красноватым цветом лица. Пишегрю, наоборот, удивительно хорошо запомнил юного Наполеона. Когда он присоединился к роялистской партии, его спросили, нельзя ли переманить на сторону этой партии генерала, главнокомандующего армией в Италии. «Пытаться сделать это было бы только потерей времени, — ответил Пишегрю. — Исходя из того, что я знал о нём, когда он был юношей, я уверен, что он и сейчас должен обладать чрезвычайно непреклонным характером: приняв решение, он никогда не меняет его».
Императора часто забавляли анекдотические истории о его юношеских годах, которые публиковались во многих изданиях; точность этих историй он почти никогда не признавал. Однако была одна публикация, которую он считал правдивой. Она касалась истории
с его конфирмацией при поступлении в Парижскую военную школу. Дело было в следующем: архиепископ, совершавший над Наполеоном обряд конфирмации, не скрыл своего удивления, услышав его имя. Он заявил, что не знает святого с именем Наполеон и что такого имени нет в календаре; юноша тут же пояснил, что это ничего не значит, так как существует множество святых, а в году только 365 дней.
Наполеон стал отмечать свои именины только после Конкордата; имя его святого покровителя не значилось во французском календаре, и даже там, где оно упоминалось, дата празднования именин не была определена. Однако папа римский назначил день именин Наполеона на 15 августа. Эта дата была одновременно и днём рождения императора и днём подписания Конкордата*.
В 1783 году Наполеон был одним из тех учеников, которые по результатам конкурса в Бриенне были отобраны для направления в Парижскую военную школу, чтобы там завершить своё военное образование. Отбор учащихся ежегодно проводился инспектором, который с этой целью посещал двенадцать военных училищ. На эту должность был назначен шевалье де Керальо, генерал и автор работы о военной тактике. Керальо был приятным пожилым человеком, имевшим все данные для того, чтобы выполнять обязанности инспектора военных училищ. Он любил юношей, играл вместе с учениками после сдачи экзаменов и разрешал тем, чьим поведением и успеваемостью был особенно доволен, обедать вместе с ним за одним столом. Он был особенно привязан к юному Наполеону, и ему доставляло удовольствие поощрять его усердие в учёбе. Он выбрал Наполеона для направления в Парижскую военную школу, хотя было ясно, что Наполеон в то время ещё не достиг требуемого возраста для поступления в эту школу. Юноша ещё не был достаточно силён во всех предметах учебного курса училища, кроме математики, и монахи предложили, что было бы лучше подождать до следующего года, чтобы иметь время углубить его знания. Но с этим предложением шевалье де Керальо ни в коем случае не согласился. «Я знаю, что делаю, — заявил он, — и если я нарушаю правила, то не потому, что в этом вопросе подвергаюсь давлению со стороны знакомых его семьи; я никого не знаю из числа друзей этого юноши. Я руководствуюсь только своим мнением о его достоинствах. Я ощущаю в нём искру гения, о которой нельзя говорить, что её не следует поощрять слишком рано».
Неожиданно достойный шевалье скончался, не успев реализовать своё решение; но его преемник, господин де Реньо, не имевший,
* Следующий абзац продиктован императором.
86
возможно, и половины проницательности уважаемого шевалье, тем не менее претворил в жизнь намерение своего предшественника, в результате чего юный Наполеон был послан в Париж.
В этот период у Наполеона стали проявляться качества высшего порядка: решительность характера, глубина мысли и ясное понимание происходящих событий. А ведь ещё с его ранних лет родители все свои надежды связывали именно с ним. Его отец на смертном одре в Монпелье говорил только о Наполеоне, который тогда был в военном училище, хотя рядом с ним находился Жозеф. В бредовом состоянии, в которое Карло Буонапарте впал в последние минуты жизни, он беспрерывно звал Наполеона к себе на помощь. А его дядя Люсьен, находившийся на смертном одре в окружении всех своих родственников, сказал, обращаясь к Жозефу: «Ты — самый старший в семье, но глава семьи — он (указывая на Наполеона). Никогда не теряй его из виду». Вспоминая это указание дяди, император обычно смеялся и говорил: «То было настоящим лишением Жозефа наследства, точное повторение сцены Иакова и Исава».
Поскольку я сам учился в Парижской военной школе, то имел возможность, вернувшись из эмиграции, поговорить об императоре с преподавателями, которые обучали и Наполеона, и меня, но в разное время.
Господин де Лепоиль, наш преподаватель истории, хвалился тем, что архивы военной школы содержат доказательства того, что именно
он предсказывал великую карьеру, предназначенную судьбой его ученику, и что он часто в своих учебных заметках превозносил глубину его размышлений и проницательность его суждений. Он рассказал мне, что Первый консул довольно часто приглашал его на завтрак в Мальмезон, с удовольствием беседуя с ним о его прошлых уроках. «На меня произвели большое впечатление, — заявил однажды Первый консул господину де Лепоилю, — обстоятельства мятежа коннетабля де Бурбона, хотя вы не представили его нам в истинном свете. Вы объясняли нам этот мятеж таким образом, словно главным преступлением коннетабля было то, что он восстал против своего короля. Он действительно восстал против своего короля, но это, конечно, была не главная его вина в те дни, когда знать и верховная власть не были единым целым, и особенно принимая во внимание ту скандальную несправедливость, жертвой которой он стал. Его главное и его единственное преступление — и на этом вы не останавливали своё внимание в достаточной мере, — заключалось в том, что он объединился с иностранцами, чтобы напасть на собственную страну».
Господин Домерон, наш преподаватель литературы, сообщил мне, что его всегда поражали своеобразие мыслей и широта кругозора Наполеона при обсуждении той или иной темы. Эти мысли, как он сказал, были подобны кускам гранита, вылетающим из действующего вулкана.
Только один преподаватель составил о Наполеоне плохое мнение, — это был господин Бауэр, скучный преподаватель немецкого языка. Юный Наполеон никогда не преуспевал в изучении немецкого языка, что очень раздражало Бауэра, который ставил немецкий язык превыше всех остальных предметов и, соответственно, имел весьма низкое мнение о способностях своего ученика. Однажды, когда Наполеон отсутствовал на его уроке, господин Бауэр поинтересовался, где он находится. Ему сказали, что Наполеон сдаёт экзамен в классе артиллерии. «Что? Разве он что-нибудь в этом понимает?» — презрительно спросил господин Бауэр. «Видите ли, господин Бауэр, он является лучшим математиком в школе», — ответили ему. «А! Я часто слышал об этом и всегда считал, что только дурак будет изучать математику».
«Было бы любопытно узнать, — заявил император, — дожил ли господин Бауэр до того времени, когда я достиг вершины мировой власти, и получил ли он полное удовлетворение от того, что его суждение обо мне подтвердилось».
Наполеону едва исполнилось восемнадцать лет, когда аббат Рей- наль, поражённый широтой его знаний, настолько высоко оценил его достоинства, что сделал его одним из украшений своих официальных завтраков, которые он устраивал для представителей научных
88
кругов. Наконец, знаменитый Паоли, чья личность долгое время вызывала у Наполеона чувство, близкое к благоговению, узнав, что последний возглавляет партию, настроенную против него, тем не менее сказал: «Этот молодой человек воспитан по античному образцу. Он — один из героев Плутарха».
В 1787 году Наполеон, одновременно получивший звание кадета и офицера артиллерии, покинул Парижскую военную школу и получил назначение проходить военную службу в полку Ла Фер в звании подпоручика; затем он был повышен в звании до поручика и направлен в полк, который дислоцировался в Гренобле.
Наполеон, покинув военную школу, отправился в свой полк Ла Фер в город Баланс. Первую зиму он провёл в этом городе. Его товарищами по столу в офицерской столовой были: Ларибуазьер, которого Наполеон во времена Империи назначил генерал-инспектором артиллерии; Сорбье, который сменил Ларибуазьера на этом посту; д’Эдувиль-младший — впоследствии ставший чрезвычайным посланником и полномочным министром во Франкфурте; Малле, чей брат возглавлял мятеж в Париже в 1812 году; Мабийе, которого, после его возвращения из эмиграции, император назначил на одну из должностей в почтовом ведомстве; Ролан де Вилларсо, впоследствии префект Нима; Демаззи-младший, товарищ Наполеона по военной школе и его друг в юношеские годы, который, после отречения Наполеона от престола, стал хранителем императорского гардероба.
В полку служили офицеры, более или менее обеспеченные; Наполеон относился к числу первых. От своей семьи он получал ежегодно 1200 франков, что в те времена было равнозначно сумме полного денежного содержания офицера.
В полку служили два офицера, которые могли позволить себе содержать кабриолет, разновидность кареты, и на них смотрели как на людей самого высшего сорта. Сорбье, сын врача в Мулене, был одним из этих двух офицеров; его товарищи пользовались его кабриолетом, чтобы вместе с ним кататься по городу, расплачиваясь с хозяином экипажа шутками и каламбурами.
Вскоре после прибытия в Баланс Наполеон был представлен госпоже де Коломбье, даме примерно пятидесяти лет, наделённой многими редкими и достойными качествами. Будучи наиболее известной личностью в городе, она прониклась большим уважением к молодому артиллерийскому офицеру, и благодаря знакомству с ней он стал бывать в светских кругах Баланса и его окрестностей. Госпожа де Коломбье представила Наполеона аббату де Сен-Рюф, состоятельному пожилому человеку, которого часто посещали самые известные люди в стране. Наполеон считал себя в неоплатном
89
долгу перед ним за ту доброжелательность, с которой аббат делился с ним обширной информацией. Госпожа де Коломбье часто предсказывала, что Наполеон станет выдающейся личностью. Кончина этой дамы совпала с началом революции; она проявляла большой интерес к этому событию и незадолго до своей смерти заявила, что если какая-нибудь беда не случится с молодым Наполеоном, то он, безусловно, сыграет выдающуюся роль в истории. Император всегда говорил о госпоже де Коломбье с чувством нежной благодарности и не стеснялся признать, что ценные знакомства и общение с людьми высшего общества, которые он приобрёл благодаря ей, оказали большое влияние на его дальнейшую судьбу.
Развлечения, которым Наполеон предавался в этот период жизни, вызывали сильную зависть со стороны его товарищей, офицеров полка. Им не нравилось, что они нечасто видят его в своём обществе, хотя ничего оскорбительного для них в его поведении не было. К счастью, его начальник, господин д’Уртуби, справедливо оценивал его характер: он относился к Наполеону с большой добротой, давая ему служебные поручения, которые не мешали молодому офицеру получать удовольствие от общения в светских кругах.
Наполеон почувствовал привязанность к мадемуазель де Коломбье, которая, в свою очередь, не осталась равнодушной к его достоинствам. И для него, и для неё это была первая любовь, — и она была такой, какую и следовало ожидать, принимая во внимание их
90
возраст и их воспитание. «Мы были самыми невинными созданиями, которые только можно вообразить, — бывало, рассказывал император. — Мы вместе придумывали предлоги для наших скоротечных свиданий. Я хорошо помню одно такое свидание в середине лета, утром, когда только начинался рассвет. В это трудно поверить, но всё наше счастье состояло в том, что мы вместе ели вишни».
Утверждалось, что мать мадемуазель де Коломбье хотела довести эту юношескую привязанность до супружеского союза, но её отец воспротивился, считая такой брак губительным для обоих. Впрочем, эта история не соответствует действительности, как и другая история, связанная с супружеством Наполеона и мадемуазель Клари, впоследствии госпожи Бернадотт, ставшей теперь королевой Швеции.
В 1805 году император, направляясь в Италию, где ему предстояло стать королём, проезжал через Лион и вновь встретился там с мадемуазель де Коломбье, носившей теперь имя госпожи де Брессьё. Она с большим трудом добилась доступа к нему, поскольку подобные визиты были ограничены придворным императорским этикетом. Наполеон был рад её видеть, но нашёл, что она сильно подурнела. Он сделал для её мужа то, о чём она просила, а её назначил фрейлиной одной из своих сестёр.
Мадемуазель де Лоренсен и мадемуазель Сен-Жермен в то время были признаны первыми красавицами Баланса и в равной степени вызывали всеобщее восхищение. Последняя вышла замуж за господина де Монталиве, которого император знал в то время и впоследствии назначил министром внутренних дел. «Он был честным человеком, — так отозвался о нём Наполеон, — и, я думаю, оставался искренне преданным мне».
В свои восемнадцать — двадцать лет император выделялся обширными знаниями, быстрым умом и огромной силой убеждения. Он без устали читал, глубоко размышляя над полученным таким образом огромным запасом знаний, немалую часть которого, по его собственному признанию, он с тех пор, вероятно, утратил. Блестящий, острый ум и энергичная речь Наполеона всегда выделяли его, где бы он ни появлялся, и он становился всеобщим любимцем, особенно среди представительниц прекрасного пола, которым импонировали элегантность и новизна его идей, а также смелость его аргументации в спорах. Что же касается мужчин, то они опасались вступать с ним в дискуссии, которые он вёл, опираясь на свою природную уверенность в собственных силах.
Многие люди, которые знали Наполеона в ранний период жизни, предсказывали ему необычайную карьеру, и они наблюдали за последующими событиями без удивления, естественного для других.
91
В юном возрасте Наполеон получил приз от академии Лиона за трактат без подписи, в котором приводился ответ на следующий вопрос, предложенный Рейналем: Какие принципы и институты следует рекомендовать, чтобы сделать человечество наиболее счастливым? Трактат этот привлёк всеобщее внимание в академии; его содержание вполне отвечало идеям времени, и на вопрос: «В чём истинное счастье?» — был ответ: «Оно заключается в абсолютном наслаждении жизнью, при соблюдении того образа действий, который более всего соответствует нашей нравственной и физической организации». После того как Наполеон стал императором, он однажды рассказал об истории с трактатом Талейрану; последний, будучи искусным льстецом, вскоре после этого разговора вручил императору знаменитый трактат, который ему нашли в архивах академии Лиона. Император взял трактат и, прочитав несколько страниц, бросил в огонь камина первое произведение своей юности, заявив при этом: «Нельзя же думать буквально обо всём», — а Та- лейран не принял мер, чтобы сделать копию трактата.
Однажды принц де Конде посетил артиллерийскую школу в городе Оксон. Кадеты посчитали за честь быть проэкзаменованными этим принцем-воином. Начальник школы, презрев иерархию, распорядился поставить юного Наполеона во главе полигона, отдав предпочтение ему, а не другим офицерам — более высокого звания. Накануне этих экзаменов все пушки полигона были забиты клиньями, но Наполеон был слишком бдителен, чтобы угодить в ловушку, подстроенную его товарищами, и подвести прославленного посетителя.
Обычно считается, что Наполеон в юности был неразговорчивым, угрюмым, замкнутым и мрачным, — совсем наоборот, он был очень жизнерадостным и оживлённым. Казалось, что он никогда не был более счастливым, чем тогда, когда рассказывал нам о различных проделках, которые совершал во время учёбы в артиллерийской школе. Описывая радостные моменты своей ранней юности, он словно забывал обо всех тех горестях, которые ему теперь приходилось терпеть, находясь в неволе.
Школой командовал старик, которому перевалило за восемьдесят лет. Хотя он и пользовался большим уважением у кадетов школы, тем не менее был объектом многочисленных шуток с их стороны. Однажды, когда старый генерал проводил с ними тренировочную стрельбу из пушек и оценивал результаты, то он стал утверждать, что ни одно из ядер не поражает мишень. Он спросил стоявших рядом с ним офицеров, видели ли они, что пушки действительно стреляли ядрами. Никто из офицеров не заметил, что кадеты, заряжая пушки, ядра отбрасывали в сторону. Старому генералу нельзя
92
было отказать в сообразительности: он догадался сосчитать количество выстрелов и количество ядер у пушек после пяти или шести выстрелов. Трюк кадетов был раскрыт. Генерал счёл эту проделку юношей хитроумной, но, тем не менее, всех её участников отправил под арест на гауптвахту.
Кадеты иногда обижались на своих командиров или принимали решение отомстить другим кадетам, которыми они были по какой-либо причине недовольны. В таких случаях кадеты подвергали последних обструкции, не допуская в своё общество и вынуждая чувствовать себя в некотором роде изгоями. Для осуществления плана мести назначались пять или шесть кадетов. Они начинали методически травить свою жертву и следовали за ней, когда объект их мести подходил к той или иной группе слушателей школы. Стоило их жертве заговорить, как ей тут же начинали возражать, причём самым вежливым тоном.
«В другой раз, — продолжал рассказывать Наполеон, — один из моих товарищей, живший, к несчастью, в комнате, расположенной как раз над моей комнатой, увлёкся идеей научиться играть на трубе и поднял такой страшный шум, что полностью лишил своих товарищей, живших в ближайших комнатах, возможности заниматься чем-либо. Однажды я встретил его на лестнице. “Ты не устал упражняться?” — спросил я его. “Нисколько”, — ответил он. “Но своим шумом ты утомляешь других людей”. — “Могу лишь сожалеть об этом”. — “Лучше бы ты отправился упражняться в другое место”. — “Я — хозяин в своей комнате”. — “Вероятно, тебя следует научить
93
сомневаться в этом вопросе”. — “Я думаю, что вряд ли найдётся такой смельчак, который попытается научить меня этому”. Вызов был брошен». Но, прежде чем противники встретились, спорный вопрос был представлен на обсуждение совета кадетов, который принял решение, что один будет упражняться в месте, отдалённом от комнат других кадетов, а другой — станет более уживчивым.
Во время кампании 1814 года император вновь встретил игрока на трубе в окрестностях Суассона или Лана: он жил в своём поместье и сообщил важную информацию о позиции врага. Император назначил его своим адъютантом; этим офицером был полковник Бюсси.
Когда Наполеон присоединился к своему артиллерийскому полку, то использовал каждую возможность, чтобы вращаться в обществе, где неизменно производил приятное впечатление. Женщины в то время высоко ценили ум у представителей противоположного пола; это было качество, с помощью которого всегда можно было добиться благосклонности у дамы. В этот период Наполеон совершил, как он выразился, сентиментальное путешествие из Баланса в Мон-Сени в Бургундии и был намерен написать отчёт об этом путешествии в стиле одноимённой книги Стерна. Верный Демаззи составлял ему компанию; он постоянно находился рядом, и если его рассказы о личной жизни Наполеона соединить с подробностями его общественной карьеры, то получилась бы идеальная история жизни императора. Тогда можно было бы видеть, что, какой бы необычной ни была его жизнь, учитывая все события, связанные с его личностью, не было ничего проще и естественнее, чем повседневное течение его жизни.
Обстоятельства и размышления, вызванные ими, в значительной степени изменили характер императора. Даже его стиль выражения своих мыслей, ставший теперь таким чётким и лаконичным, в юные годы был излишне многословным и категоричным. Уже ко времени Законодательного собрания Наполеона отличало серьёзное и строгое поведение, он стал менее общительным, чем раньше. Командование Итальянской армией стало новой вехой в развитии его характера. Его бросавшаяся в глаза молодость в то время, когда он отправился командовать армией, вызывала необходимость проявления сдержанности и предельной строгости нравственного поведения с его стороны. «Это было совершенно необходимо, — объяснял он, — для того чтобы я имел возможность командовать людьми, бывшими намного старше меня по возрасту. Моё поведение должно было быть безупречным и примерным, — такой линии я придерживался. Я оказался кем-то вроде Катона Старшего. В глазах всех я должен был
94
производить впечатление именно такого человека. Я был философом и мудрецом». Именно таким он должен был предстать перед всем миром.
Когда вспыхнула революция, Наполеон находился в гарнизоне Баланса. В это время предпринимались целенаправленные попытки склонить артиллерийских офицеров к эмиграции, и мнения самих офицеров по этому вопросу резко разделились. Сознание Наполеона было насыщено идеями, созвучными его времени. Он обладал природным инстинктом к свершению великих деяний и страстно желал приумножения национальной славы. Поэтому было естественным, что он стал сторонником дела революции; и его пример оказался заразительным для большинства однополчан. В то время он был горячим патриотом, и деятельность Законодательного собрания означала для него новый период в становлении его идей и мнений.
21 июня 1792 года Наполеон находился в Париже, где был свидетелем бунта жителей предместий столицы Франции, которые через парк Тюильри силой ворвались во дворец. Их было 6000 человек, их язык и одежда были признаками того, что они — представители самого низшего слоя общества.
Наполеон также был свидетелем событий 10 августа, когда видел примерно такое же количество бунтовщиков, и тоже из числа черни.
В 1793 году Наполеон находился на Корсике, где командовал национальной гвардией. Он стал противником Паоли, когда у него возникли подозрения, что старый поборник независимости, которого он прежде боготворил и был ему предан, вынашивает замысел
95
отдать Корсику англичанам. Поэтому совершенно не соответствует действительности распространённая версия о том, что Наполеон или кто-то из его семьи одно время специально ездил в Англию с предложением создать корсиканский полк для службы в английской армии.
Англичане и Паоли преследовали корсиканских патриотов и предали огню Аяччо. Дом Буонапарте был разрушен во время пожара в Аяччо, и вся семья была вынуждена перебраться на континент. Для своего пристанища семья выбрала Марсель, откуда Наполеон проследовал в Париж. Он приехал в столицу Франции как раз в тот момент, когда федералисты Марселя сдали Тулон англичанам.
Наполеон во время осады Тулона — Развитие карьеры Дюрока и Жюно — Наполеон ссорится с представителями Законодательного собрания — Ссоры с Обри — Истории, связанные с вандемьером — Наполеон становится генералом Итальянской армии
1—6 сентября 1815 года
Первого сентября мы, полагаясь на наши данные о широте, на которой находились, решили, что в течение дня увидим острова Зелёного Мыса. Однако всё небо было обложено облаками, и вечером мы ничего не смогли увидеть. Адмирал, уверенный в том, что была совершена ошибка при вычислении широты, готовился дать указание, чтобы корабль взял курс несколько правее, к западу, когда бриг, плывший впереди нас, дал сигнал, что он обнаружил острова слева. Ночью с юго-востока подул сильный ветер, и если
96
бы ошибочные результаты вычисления широты были приняты за чистую монету и адмирал в самом деле дал бы указание взять курс правее, то вполне вероятно, что мы сбились бы с правильного пути; это было бы доказательством того, что, несмотря на достижения науки, нам свойственно совершать ошибки и шансы сделать их при вождении кораблей очень велики.
Так как по-прежнему дул сильный ветер и море было бурным, то адмирал предпочёл продолжать двигаться по курсу и не делать остановки для пополнения запасов воды, которой, как он считал, у нас достаточно.
Всё обещало нам удачное плавание; мы уже значительно опережали график нашего следования. Все обстоятельства плавания складывались благоприятно, погода была мягкая, и мы могли бы даже считать путешествие приятным, если бы оно было предпринято с целью выполнения наших собственных планов и в соответствии с нашими собственными желаниями; но как мы могли забыть перенесённые невзгоды и закрывать глаза на наше будущее?
Только занятие каким-нибудь делом могло заставить нас стряхнуть с себя апатию и утомительность вялотекущих дней. Я принялся обучать сына английскому языку, и император, которому я сказал о достигнутом нами прогрессе, также выразил желание учить английский язык. Я составил очень простой план его обучения, чтобы не создавать ему лишних хлопот. В течение двух или трёх дней этот план хорошо оправдывал себя, но скука, навеянная занятиями, оказалась сильнее стремления овладеть английским языком, и обучение отложили в сторону. Император иногда укорял меня за то, что
97
я прекратил давать ему уроки, — я отвечал, что у меня готово лекарство, если у него есть мужество принимать его. Что же касается всего остального, особенно до начала изучения английского языка, то его поведение и привычки оставались неизменными; он никогда не выражал недовольства и никогда ни на что не жаловался, всегда казался всем довольным, спокойным и добродушным.
Адмирал, который довольно жёстко относился к нам в первые дни после того, как мы покинули Англию, постепенно стал всё чаще с нами общаться, и с каждым днём выражал всё больший интерес к своему пленнику. Когда заканчивался обед, он не советовал выходить на палубу для прогулок из-за вечерней сырости; в этом случае император обычно брал его под руку и выводил на палубу для продолжения беседы, которая доставляла адмиралу чрезвычайное удовольствие. Я уверен, что адмирал тщательно брал на заметку каждую подробность, связанную с морским делом, которую он мог услышать из уст императора. Насколько мне помнится, император во время обеда стал высказывать свои замечания, касавшиеся морских дел, — о возможностях морского флота Франции, имевшихся у него на юге страны, о тех, которые он уже создал для французского флота, и о тех, которые предполагал создать, о портах и гаванях Средиземного моря; всё это адмирал слушал с глубоким вниманием, словно боясь прервать речь императора, поскольку всё, о чём говорил Наполеон, могло бы составить целую главу в книге, действительно ценной для моряка.
А сейчас я возвращаюсь к фактам жизни Наполеона, которые я собрал во время наших обычных с ним бесед. Следующие сведения касаются осады Тулона.
В сентябре 1793 года Наполеон Буонапарте, двадцати четырёх лет от роду, был ещё не известен миру, — судьбе было угодно, чтобы его имя прогремело позднее. Он был подполковником, командиром артиллерийского батальона, всего лишь несколько недель находившимся в Париже, поскольку был вынужден покинуть Корсику, где политические события заставили его уступить фракции Паоли. Англичане овладели Тулоном; для руководства операцией по осаде Тулона требовался опытный артиллерийский офицер, и выбор пал на Наполеона. Именно там он оставил первый след в истории и был вознесён для того, чтобы остаться в ней навсегда; именно там началось его бессмертие.
Несомненно, это был грандиозный успех, но чтобы оценить его по достоинству, необходимо сравнить план штурма крепости с отчётом о её сдаче англичанами; первый представляет собой точный прогноз штурма, второй свидетельствует о дословном подтверждении
98
прогноза. С этого момента молодой артиллерийский офицер приобрёл высочайшую репутацию. Император всегда вспоминал этот период своей жизни с удовольствием и считал его самым счастливым. Взятие Тулона было его первым удачным делом, и оно, естественно, вызывает у Наполеона самые приятные воспоминания.
С самого начала революции во французской армии не было ничего, кроме полнейшего беспорядка в её имуществе и невежества тех, кто в ней служил. И то и другое было следствием спешки и неразберихи, свойственных тому времени, а также сумбура в вопросах назначения на должности и повышения в звании военнослужащих. Следующая история даст представление о состоянии дел в армии и о нравах того времени.
Прибыв в штаб, руководивший осадой Тулона, Наполеон представился генералу Карто, человеку с прекрасной фигурой, с головы до ног обвешанному золотыми галунами. Тот спросил Наполеона с каким заданием он прислан сюда. Молодой офицер скромно вручил генералу письмо, в котором он был рекомендован заместителю генерала, ведавшему артиллерией. «В этом нет никакой необходимости, — заявил блестящий генерал, покручивая усы. — Мы не нуждаемся в помощи, чтобы вновь овладеть Тулоном, тем не менее,
99
добро пожаловать, вы сможете разделить славу сожжения города завтра, даже не успев испытать усталости». И генерал пригласил Наполеона задержаться, чтобы поужинать вместе с ним.
За столом во время ужина сидело человек тридцать; генерала обслуживали словно принца, в то время как остальные буквально умирали с голоду; это обстоятельство, во времена действовавшего в стране принципа равенства, неприятно шокировало гостя.
На следующее утро, с рассветом, генерал взял Наполеона в кабриолет, чтобы, как он выразился, полюбоваться подготовкой к штурму Тулона. Как только они проехали через вершину горы и перед ними предстал вид местности с дорогами, генерал приказал покинуть кабриолет и войти в виноградники, посаженные вдоль дороги. Затем начальник артиллерии различил вдали несколько орудий и следы каких-то земляных работ, определить цель проведения которых для него оказалось совершенно невозможным. «Дюпа, — спросил с надменным видом генерал, повернувшись к адъютанту, — это наши батареи?» — «Да, генерал». — «И наш артиллерийский парк?» — «Там же, рукой подать». — «А где наши раскалённые ядра?» — «Там, в других домах, всё утро две роты раскаливали их». — «Но каким образом мы сможем перетащить эти раскалённые ядра?» Это соображение, судя по всему, поставило в тупик и генерала, и его адъютанта. И, повернувшись к артиллерийскому офицеру, они обратились к нему с просьбой: не мог бы он им объяснить, опираясь на свои научные познания, как можно решить эту проблему?
Наполеон, которому показалось, что вся эта сцена была попыткой его разыграть, предложил своим собеседникам сначала решить более лёгкую задачу. Поскольку они находились от объекта штурма на расстоянии большем, чем полтора лье, то Наполеон, призвав на помощь свои знания в области законов тяготения, знатоком которых он был, постарался убедить генерала и его адъютанта, что, прежде чем затруднять себя проблемой раскалённых ядер, необходимо попытаться определить радиус действия пушек, стреляющих холодными ядрами. После длительных дебатов по этому вопросу Наполеон наконец убедил их последовать его совету. Но это удалось сделать лишь после того, как он очень удачно использовал в ходе спора технический термин «пробный выстрел», который поразил воображение его собеседников и склонил их к тому, чтобы согласиться с его мнением. После этого они провели предложенный эксперимент, в результате которого выяснилось, что дальность стрельбы пушки не составляет и трети расстояния, на которое необходимо было стрелять. Тогда генерал и Дюпа принялись поносить марсельцев и аристократов, которые, как они заявили, умышленно портили порох.
Тем временем к ним на лошади подъехал депутат Конвента. Это был Гаспарен, здравомыслящий человек, служивший в армии. Наполеон, увидев, как ведётся осада Тулона, разработал смелый план осады крепости и убедил Гаспарена в том, что именно ему, Наполеону, следует поручить руководство осадой. Без колебаний он выставил напоказ беспримерное невежество тех, кто окружал его, и с этого момента взял на себя всё руководство осадой Тулона.
Карто обладал столь ограниченным интеллектом, что никак не мог понять: для взятия Тулона необходимо начать штурм у съезда с дороги. Когда начальник осадной артиллерии показал на карте это место и сказал ему, что здесь-то и находится Тулон, Карто предположил, что тот плохо разбирается в географии, и когда, несмотря на возражения Карто, депутат Конвента всё же решил начать штурм крепости именно с этого отдалённого места, генерал постоянно заявлял, проявляя при этом немалое беспокойство, что Тулон находится совсем в другом месте.
Однажды Карто хотел заставить начальника осадной артиллерии установить батарею непосредственно перед одним домом. Но в этом случае тыльная часть пушек почти упиралась бы в стену дома, и при выстреле не было бы пространства для отката пушки. В другой раз, возвратившись с утреннего парада, Карто вызвал к себе начальника осадной артиллерии, чтобы сообщить ему, что он только что обнаружил позицию, с которой батарея от шести до двенадцати пушек безусловно вынудит Тулон капитулировать через несколько дней: это был небольшой холмик, с которого молено было бы угрожать трём или четырём фортам крепости и нескольким точкам в городе.
Генерал был в ярости, когда начальник осадной артиллерии забраковал его предложение, объяснив, что хотя батарея могла бы угрожать нескольким точкам в городе, но и её можно уничтожить с любой точки в городе, что двенадцати пушкам батареи на этом холмике противостояли бы сто пятьдесят пушек противника и что простой арифметики достаточно, чтобы доказать всю пагубность предложения генерала. Тогда Карто вызвал к себе начальника инженерно-технической службы, чтобы тот высказал свою точку зрения по этому вопросу. Последний без колебаний согласился с мнением начальника осадной артиллерии. Карто заявил, что просто невозможно работать с этими умниками из армейских технических служб, ибо они действуют рука об руку. В итоге, чтобы положить конец вновь и вновь возникающим разногласиям, Гаспарен решил, что Карто должен сообщить начальнику осадной артиллерии свой генеральный план штурма Тулона, а последний должен разработать детали этого плана. Достопамятный план Карто был следующим: «Генерал артиллерии будет громить Тулон артиллерийским
огнем в течение трех дней, по истечении которых я приступлю к штурму Тулона тремя колоннами и возьму его».
Однако в Париже инженерно-технический комитет Конвента посчитал этот краткий план скорее юмористическим, чем мудрым, и он стал одной из причин, которые привели к отзыву Карто. Правда, в планах штурма Тулона недостатка не было, ибо возвращение Тулона Франции стало предметом борьбы партий, вследствие чего планы направлялись со всех сторон. Наполеон говорил, что во время осады Тулона он получил по меньшей мере шестьсот планов. Наполеон был в неоплатном долгу именно перед Гаспареном за то, что восторжествовал его план (который и привёл к взятию Тулона), вопреки возражениям со стороны комитетов Конвента. Наполеон сохранил самую благодарную память об этом обстоятельстве: именно Гаспа- рен, часто говорил император, был первым, кто способствовал его блестящей карьере*.
Во всех спорах между Карто и начальником осадной артиллерии, которые обычно проходили в присутствии жены генерала, последняя постоянно вставала на сторону артиллерийского офицера, заявляя с большой долей наивности своему мужу: «Оставь в покое молодого человека, он понимает в этом деле больше, чем ты, поскольку он никогда не просит у тебя совета; помимо всего прочего, именно тебе предстоит отчитываться, — все лавры достанутся тебе».
Этой женщине нельзя было отказать в определённой доле здравого смысла. Когда она возвращалась в Париж, после отзыва её супруга, якобинцы Марселя устроили прекрасное празднество в честь попавшей в немилость семьи. Вечером, во время празднества, разговор зашёл о начальнике осадной артиллерии, которого стали восторженно хвалить. «Не рассчитывайте на него, — заявила супруга Карто, — этот молодой человек слишком умён, чтобы долго оставаться санкюлотом». В ответ на это заявление генерал, её супруг, воскликнул голосом Стентора, громогласного глашатая в «Илиаде»: «Жена Карто, ты что, в таком случае считаешь всех нас дураками?» — «Нет, я не говорю этого, мой дорогой, но... я должна сказать тебе, что он явно не принадлежит к вашему числу».
Однажды по Парижской дороге к зданию штаба подкатила роскошная карета, за ней следом прибыла вторая и затем третья, и, в конце концов, у штаба появилось не менее пятнадцати карет. Можно себе представить, какое изумление и любопытство вызвало
* В своём завещании император отдал дань благодарности Гаспарену за особое покровительство, которое тот ему оказал.
Подобным же образом император почтил генерала Дютейля, начальника Оксон- ской артиллерийской школы, и генерала Дюгомье за их внимание и доброту.
102
это обстоятельство в те времена республиканской простоты. Сам великий монарх не мог бы путешествовать с большей помпезностью. Вся кавалькада была обеспечена каретами за счёт реквизиции в столице; несколько карет принадлежали королевскому двору. Из карет вышли около шестидесяти великолепно выглядевших солдат, которые спросили, как им пройти к главному генералу; они промаршировали к Карто с важным видом послов. «Гражданин генерал, — обратился к нему представитель прибывшей компании, — мы приехали из Парижа; патриоты возмущены вашей бездеятельностью и задержкой со взятием Тулона. Землю республики топчут вражеские сапоги; все жители республики охвачены гневом при мысли, что нанесённое им оскорбление до сих пор остаётся безнаказанным. Они спрашивают, почему Тулон всё ещё не освобождён от врага? Почему английский флот до сих пор не уничтожен? Республика, возмущённая всем этим, обратилась с призывом к своим храбрым сынам; мы подчинились её призыву и сгораем от нетерпения оправдать её надежды. Мы — отряд добровольцев-стрелков из Парижа, дайте нам в руки ружья и завтра мы двинемся на врага».
Генерал, смущённый подобным обращением, повернулся к начальнику осадной артиллерии, прося помощи. Тот шёпотом пообещал ему освободить его от этих героев на следующее же утро. Отряд добровольцев из Парижа был хорошо принят, и с рассветом следующего дня начальник осадной артиллерии вывел их на берег моря и вручил им ружья. Удивлённые тем, что они оказались в совершенно открытом месте, они спросили, нет ли здесь какого-нибудь укрытия или окопа. Им объяснили, что подобные вещи вышли из
моды: патриотизм отменил их. Тем временем английский фрегат дал бортовой залп и заставил всех этих хвастунов удариться в бегство. Весь лагерь французских солдат, осаждавших Тулон, был охвачен истошными воплями добровольцев из Парижа; некоторые из них открыто сбежали из лагеря, а оставшиеся постарались незаметно затеряться в общей массе солдат.
В целом же в рядах французского войска, осаждавшего Тулон, в то время царили беспорядок и анархия. Дюпа, адъютант и доверенный человек генерала Карто, был, подобно своему генералу, лишён каких-либо способностей, без толку встревал во все дела и постоянно мешал артиллеристам в их работе по организации транспорта и установке батарей. Чтобы отделаться от него, был составлен специальный план. Артиллеристы сделали Дюпа предметом своих насмешек, стараясь в этом перещеголять друг друга. Это дошло до такой степени, что их шутки приняли крайне резкий характер. Однажды Дюпа неожиданно появился среди них и с присущей ему самонадеянностью принялся указывать направо и налево, в то же время задавая вопросы обо всём, что попадалось ему на глаза. В результате он нарвался на грубость, раздались резкие высказывания в повышенном тоне. Нелестные выкрики в его адрес были слышны со всех сторон вместе с возгласами аристократ! и бей его! Дюпа пришпорил коня и впоследствии более не досаждал артиллеристам.
Начальника осадной артиллерии можно было видеть повсюду. Его активность и знания способствовали тому, что он стал непререкаемым авторитетом не только для своих артиллеристов, но и для всей остальной армии, осаждавшей Тулон. Когда бы враг ни пытался совершить вылазку или заставить французских солдат, участников осады, спасаться бегством, во всех таких случаях командиры колонн и отдельных воинских частей неизменно восклицали: «Бегите к начальнику осадной артиллерии и спрашивайте у него, что нам следует делать; он знает местные условия и разбирается в сложившейся обстановке лучше, чем кто-либо». Этот совет принимался постоянно и беспрекословно. Наполеон не щадил себя; под ним было убито несколько лошадей. В одной из стычек английский солдат ранил его штыком в левое бедро, и была угроза ампутации ноги.
Находясь однажды в расположении батареи, которая вела перестрелку с англичанами, Наполеон стал свидетелем того, как был убит канонир одной из пушек. Он взял банник из рук убитого и собственноручно десять или двенадцать раз заряжал пушку. Через несколько дней после этого Наполеона поразил сильнейший приступ кожного заболевания. Никто не мог понять, где он заразился этой болезнью, пока Мюирон, его адъютант, не выяснил, что от
104
этой болезни страдал убитый канонир. Молодой организм и активное вмешательство сотрудников медицинской службы способствовали тому, что обошлись незначительными лечебными средствами, в результате признаки болезни исчезли; однако яд только глубже проник в организм, долгое время влиял на состояние здоровья Наполеона и чуть не стоил ему жизни. Следствием этой болезни стали худоба, физическая слабость организма и болезненный вид лица, — всё это было свойственно командующему Итальянской армией и армией в Египте.
Лишь гораздо позже, уже в Тюильри, врачу Корвисару удалось, благодаря наложению на грудь множества нарывных пластырей, полностью восстановить здоровье императора, и именно с тех пор у него появилась отличавшая его тучность.
Незадолго до окончания осады Наполеон, занимавший должность начальника осадной артиллерии армии при Тулоне, мог стать генералом, командующим этой армией. В тот самый день, когда был намечен штурм Малого Гибралтара, генерал Дюгомье, ранее откладывавший штурм крепости на несколько дней, захотел вновь отложить его на неопределённое время. Около трёх часов дня депутаты Конвента вызвали Наполеона: они были недовольны Дюгомье, особенно в связи с тем, что он всё время откладывал штурм, и они хотели отстранить его от командования армией и назначить на эту должность Наполеона. Однако Наполеон отказался от этого
i05
предложения. Он отправился к генералу, которого уважал и любил, сообщил ему обо всём, что случилось, и уговорил принять решение начать штурм. Около восьми часов вечера, когда закончилась подготовка к штурму и сам штурм вот-вот должен был начаться, депутаты Конвента отменили приказ о его начале. Однако Дюгомье, по-прежнему находившийся под влиянием Наполеона, стоял на своём; если бы он потерпел поражение, то мог лишиться головы. Такими были положение дел и правосудие того времени.
Служебные донесения о деятельности Наполеона, которые представители комитетов Конвента обнаружили в Париже в департаменте артиллерии, впервые обратили их внимание на поведение начальника осадной артиллерии во время осады Тулона; они убедились в том, что, несмотря на молодость и невысокое воинское звание, он, только появившись в армии, осаждавшей Тулон, стал истинным хозяином положения. Это было естественным результатом превосходства знаний, активной деятельности и энергичных усилий над невежеством и неразберихой, сопутствовавшей осаде Тулона. Фактически именно Наполеон был завоевателем Тулона, и тем не менее он почти не упоминался в официальных депешах, направленных в Париж. Он овладел городом ещё до того, как армия стала помышлять об этом. После того как был взят Малый Гибралтар, который Наполеон всегда считал ключом к Тулону, он сказал старому и сильно уставшему Дюгомье: «Идите и отдыхайте, мы взяли Тулон, вы можете спать до послезавтра». Когда Дюгомье убедился, что дело действительно закончено, когда он осознал, что молодой начальник осадной артиллерии всегда точно предсказывает то, что произойдёт, он пришёл в состояние восторга и восхищения; он без устали хвалил Наполеона.
Абсолютно верно, как об этом сообщали некоторые газеты того времени, что Дюгомье информировал комитеты Конвента в Париже о том, что с ним находился молодой человек, который заслуживает особого внимания. Дюгомье, бесспорно, был выбран судьбой для того, чтобы склонить чашу весов в пользу Наполеона, — какой бы линии в дальнейшем он ни придерживался. Когда Дюгомье получил назначение в армию Восточных Пиренеев, то хотел взять с собой молодого начальника артиллерии, но это ему не удалось. Он, однако, беспрестанно говорил о нём. После заключения мира с Испанией эта армия была направлена для усиления французской армии в Италии, командующим которой вскоре стал Наполеон; последний, прибыв к месту назначения, обнаружил, что, вследствие всего того, что о нём говорил Дюгомье, офицеры армии, по собственному выражению Наполеона, смотрели на него широко открытыми глазами.
106
Что касается самого Наполеона, то успех в Тулоне мало его удивил, хотя он был рад ему и получил большое удовлетворение. Он в равной степени радовался успеху сражения при Саорджио, где проведённая им операция была превосходна: за несколько дней он выполнил то, что безуспешно пытались сделать в течение двух лет. «Вандемьер и даже Монтенотте, — говорил император, — никогда не побуждали меня смотреть на собственную личность как на человека высшего порядка, и только после Лоди меня посетила мысль о возможности того, что я стану ведущим актёром на сцене политических событий. Именно тогда вспыхнула первая искра моих амбиций». Наполеон, однако, упомянул, что после вандемьера, когда он командовал армией внутренних войск, он подготовил план кампании, которой не суждено было состояться из-за мирного договора, подписанного в Зиммеринге. Но этот план он вскоре осуществил в сражении при Леобене. План, вероятно, ещё можно найти в официальных архивах. Хорошо известное безумство того времени ещё раз проявилось под стенами Тулона, когда там собрались двести депутатов от окрестных коммун, которые спровоцировали самые жестокие действия. Именно эти депутаты виноваты в возникших тогда беспорядках, затронувших целую армию. Когда Наполеон стал известен, были сделаны попытки приписать ему ужасные и жестокие действия. «Даже сама мысль о том, чтобы отвечать на эту клевету, — заявил император, — была бы признаком деградации».
Как только Наполеон встал во главе артиллерии в Тулоне, он использовал своё положение для того, чтобы способствовать возвращению в армию старых товарищей, которые оставили службу по причине своего происхождения или по политическим мотивам. Он добился назначения полковника Гассенди начальником арсенала в Марселе. Хорошо известны упрямство и жёсткость характера этого человека, — эти качества часто ставили его в опасное положение; не раз Наполеону приходилось проявлять бдительность и заботу о нём, чтобы спасти его от последствий его поведения, вызывавшего сильное раздражение у многих лиц.
Наполеон смог спасти нескольких несчастных членов эмигрантской семьи Шабрийан, которые были застигнуты штормом в море, и их судно было вынесено на французский берег. Их ожидала смертная казнь, ибо закон был очень строг в отношении эмигрантов, возвращавшихся во Францию. Защищая себя, они утверждали, что их возвращение во Францию было лишь результатом случая и совершенно не соответствовало их желанию. Они просили лишь об одной милости, а именно — разрешить им выехать из Франции, но всё было напрасно: они бы погибли, если бы Наполеон не стал рисковать собственной безопасностью и не предоставил в их распоряжение
крытую брезентом лодку, которую он отправил от французского берега под предлогом выполнения служебного задания. Позже, во время правления Наполеона, эти люди воспользовались возможностью выразить ему свою благодарность и сообщили, что они бережно хранят письменный приказ, который спас их жизни.
Сам Наполеон в различное время становился объектом ненависти революционных убийц.
Всякий раз, когда он устанавливал новую батарею, многочисленные патриотические депутации, находившиеся в лагере армии, ходатайствовали о том, чтобы им была оказана честь и эту батарею назвали их именем. Наполеон назвал одну батарею «батареей патриотов Юга», — это было достаточным основанием для того, чтобы его обвинили в федерализме; и будь он менее полезным для армии, его бы отправили под арест или, иначе говоря, принесли бы в жертву.
Нет слов, чтобы описать безумие и ужас того времени. Например, император рассказал нам, что когда он занимался фортификацией берегов у Марселя, то был свидетелем суда над купцом, человеком восьмидесяти четырёх лет, глухим и почти слепым. Несмотря на его возраст и немощь, жестокие палачи признали его виновным в заговоре: единственное преступление этого человека заключалось в том,
408
что его состояние оценивалось в восемнадцать миллионов. Сам он сознавал это и предложил трибуналу своё богатство — при условии, что ему оставят пятьсот тысяч франков, пользоваться которыми ему долго не придётся. Но его предложение было отвергнуто, и ему отрубили голову. «При виде этого зрелища, — сказал Наполеон, — я подумал, что всему миру пришёл конец!» — выражение, которое он часто использовал в чрезвычайных обстоятельствах.
Баррас и Фрерон были инициаторами всех этих жестокостей. Император отдавал должное Робеспьеру, утверждая, что видел длинные письма, написанные им своему брату, который тогда бьш представителем Конвента в армии Юга. В этих письмах Робеспьер горячо возражал против этих крайностей и, возмущаясь ими, заявлял, что они позорят республику и приведут её к развалу.
Наполеон во время осады Тулона и после его взятия подружился со многими лицами, которые впоследствии стали весьма знаменитыми. Он выделял молодого офицера, способности которого поначалу ему было трудно разглядеть, но который впоследствии блестяще проявил себя на государственной службе; то бьш Дюрок, который в общении не сразу располагал к себе, но бьш наделён талантом самого надёжного и полезного свойства: он любил императора, как никто, бьш предан его интересам и в то же время знал, как в подходящий момент сказать ему правду. Впоследствии он стал герцогом Фриульским и гофмаршалом императорского двора. Он блестяще вёл дела императорского двора, поддерживая образцовый порядок. Когда он умер, император считал, что понёс невосполнимую утрату, и многие другие лица придерживались такого же мнения. Император сказал мне, что Дюрок бьш единственным человеком, с которым он поддерживал близкие дружеские отношения и которому он полностью доверял.
Когда Наполеон прибыл в армию, осаждавшую Тулон, то во время установки одной из первых батарей, обращённых в сторону англичан, спросил, умеет кто-либо писать. Из строя вышел сержант, который стал писать под диктовку Наполеона, стоя у края окопа. Едва он кончил писать, как пушечное ядро, которым англичане выстрелили в сторону батареи, упало около окопа, и весь лист бумаги в руках сержанта тут же покрылся песком, разлетевшимся вокруг от упавшего ядра. «Вот те раз, — с удивлением сказал сержант, — именно песка мне как раз и не хватало». Это замечание, высказанное весьма хладнокровно, обратило на себя внимание Наполеона и решило судьбу сержанта. Это бьш Жюно, впоследствии герцог Абрантес, генерал-полковник корпуса гусаров, командующий армией в Португалии и генерал-губернатор Иллирии, — там у него проявились признаки психического заболевания, которое
109
усилилось по его возвращении во Францию, где он ранил себя самым ужасным образом. Он умер от злоупотребления алкоголем, который разрушил и его здоровье, и его разум.
Наполеон, став артиллерийским генералом и начальником артиллерийской службы армии в Италии, прибыл к месту назначения. Ему были свойственны превосходство над окружающими и умение подчинять их своему влиянию, — эти качества он приобрёл ещё до Тулона; однако он всё ещё терпел неудачи и попадал в опасные жизненные ситуации. На короткое время он был отправлен под арест в Ницце депутатом Конвента Лапортом за то, что отказался унижаться перед депутатом, наделённым верховной властью. Другой депутат Конвента обвинил его в нарушении закона, — и всё из-за того, что Наполеон не позволил ему использовать артиллерийских лошадей для почтовой службы. Наконец, декрет, который так и не был никогда исполнен, вызывал его на судебное заседание Конвента за то, что он предлагал некоторые военные меры при строительстве фортификационных сооружений в Марселе.
Получив назначение в армию сначала в Ниццу, а затем в Италию, Наполеон стал пользоваться большим покровительством со стороны Робеспьера-младшего, депутата Конвента. Наполеон говорил, что тот обладал качествами, весьма отличными от качеств его старшего брата; последнего Наполеон никогда не видел. Незадолго до 9-го термидора Робеспьер-младший, вызванный в Париж
своим братом, прилагал немалые усилия, чтобы уговорить Наполеона сопровождать его. «Если бы я не проявил твёрдость, отказываясь от его предложения, — заметил император, — то кто знает, куда бы привела меня эта поездка в Париж и какая участь была бы мне уготована?»
Во время пребывания Наполеона в армии в Ницце в этом городе был ещё один, помимо Робеспьера-младшего, депутат Конвента — весьма незначительная личность. Его жена, чрезвычайно привлекательная и очаровательная дама, делила с мужем власть и даже узурпировала её; она была уроженкой Версаля. И муж, и его супруга уделяли генералу артиллерии большое внимание; они стали испытывать к нему самые тёплые чувства и вели себя по отношению к нему в высшей степени благородно. Такое отношение к молодому генералу было для него очень выгодно, ибо в то время, когда не действовали законы или их применение было неэффективным, депутат Конвента обладал неограниченной властью.
Этот депутат, о котором здесь идёт речь, был одним из тех, которые в Конвенте во время кризиса вандемьера усиленно способствовали тому, чтобы именно на Наполеона было обращено внимание как на человека, готового спасти положение; подобное поведение депутата Конвента было естественным следствием того глубокого впечатления, которое произвели на него характер и способности молодого генерала.
Император рассказывает, что, после того как он взошёл на трон, он вновь встретился со своей старой знакомой. Она настолько изменилась, что её трудно было узнать; её муж умер, и она находилась в состоянии крайней нищеты. Император с готовностью пожаловал ей всё, о чём она просила. «Он осуществил, — сказал Наполеон сам о себе, — все её мечты, и даже сверх того».
Хотя эта женщина жила в Версале, прошло много времени, прежде чем ей удалось добиться приёма у императора. Письма, петиции, ходатайства всякого рода оказались напрасными. «Очень трудно добиться аудиенции монарха, — заявил император, — даже если он не отказывается от неё». В конце концов, когда Наполеон охотился в Версале, он случайно упомянул об этой даме в беседе с Бертье, который тоже был уроженцем Версаля и знал её, когда она была ещё совсем юной. На следующий день Бертье представил её монарху. «Но почему вы не попытались добиться приёма у меня, используя наших общих знакомых по армии в Ницце? — спросил её император. — Многие из них теперь занимают высокое положение и находятся со мной в близких отношениях». — «Увы, сир, — ответила она, — эти знакомства прекратились, когда эти люди стали занимать высокое положение, а меня постигли несчастья».
///
Однажды император поведал мне некоторые подробности этой старой дружбы. «Я был очень молодым, — рассказывал он, — когда познакомился с этой дамой. Я очень гордился хорошим впечатлением, которое произвёл на неё, и пользовался любой возможностью, чтобы уделить ей максимум внимания. Я упомяну один случай, чтобы показать, как иногда власть используется во зло и от чего может зависеть судьба людей, ибо я не хуже и не лучше других. Однажды я прогуливался с женой депутата Конвента и заодно инспектировал наши позиции в районе Колле ди Тенда, когда неожиданно мне в голову пришла мысль дать ей возможность наглядно представить себе, как происходит боевая стычка. С этой целью я приказал атаковать передовой пост. Конечно, мы победили, но от этого дела никакой пользы не было. Атака передового поста была простой причудой, и тем не менее она стоила жизни нескольких людей. Я никогда не устаю укорять себя, когда вспоминаю об этом».
События термидора вызвали изменение в составе комитетов Конвента. Обри, бывший артиллерийский капитан, был назначен руководителем Военного комитета и принялся реформировать армию. Он не забыл себя: присвоил себе звание артиллерийского генерала и облагодетельствовал нескольких своих старых приятелей за счёт офицеров, которых он отправил в отставку. Наполеон, которому в то время едва исполнилось двадцать пять лет, стал пехотным генералом, и ему было предписано продолжить прохождение воинской службы в Вандее. Это обстоятельство вынудило его покинуть армию в Италии, для того, чтобы самым серьёзным образом выразить протест против этого назначения, которое в любом случае не могло удовлетворить его. Выяснив, что Обри не намерен менять своего решения и даже считает себя оскорблённым непослушанием Наполеона, последний подал рапорт об отставке. Но она не была принята, и вскоре он продолжил военную службу в отделении Комитета, которое ведало перемещениями армий и составлением планов военных кампаний, — именно этим Наполеон и занимался до 13-го вандемьера.
Разговор Наполеона с Обри, когда последний уговаривал его согласиться с новым назначением, достоин того, чтобы стать настоящим театральным спектаклем: Наполеон страстно отстаивал свою позицию, потому что в его руках были факты, которыми он обосновывал собственную точку зрения. Обри был упрям и зол, поскольку в его руках была власть. Он заявил Наполеону, что тот слишком молод и потому должен уступить дорогу старшим по возрасту; Наполеон ответил, что солдат быстро стареет на поле сражения и что он только что вернулся с такого поля. Обри никогда не принимал участия ни в одном сражении. Они стали вести разговор на сильно повышенных тонах.
Я сказал императору, что, вернувшись из эмиграции, я в течение длительного времени снимал ту самую квартиру на улице Святого Флорентина, в которой происходил этот разговор. Мне приходилось часто слышать о нём; и хотя некоторые лица передавали его далеко не в дружественном тоне, тем не менее, каждый из рассказчиков стремился сообщить о нём всевозможные подробности, пытаясь даже приблизительно определить ту часть комнаты, в которой был выполнен тот или иной жест или были сказаны те или иные слова.
История знаменитого дня вандемьера, который оказал столь важное влияние на судьбы революции и Наполеона, свидетельствует о том, что Наполеон некоторое время колебался, прежде чем взял на себя ответственность по защите Конвента.
Вечером следующего дня Наполеон явился в Комитет Сорока, обосновавшийся в Тюильри. Он хотел получить мортиры и боеприпасы из Мёдона; но такова была осмотрительность президента (Кам- басереса), что, несмотря на опасности, которыми был отмечен тот день, он отказался подписать соответствующий приказ, а чтобы уладить дело, просто предложил передать в распоряжение генерала пушки и боеприпасы.
Во время управления Парижем, после 13-го вандемьера, Наполеону пришлось столкнуться с большой нехваткой продовольствия, которая вызвала несколько вспышек народных волнений. Однажды, когда не состоялось обычное распределение продуктов, толпы людей собрались вокруг хлебных лавок. Наполеон объезжал город
с членами своего штаба, чтобы принять меры по сохранению спокойствия среди горожан. Большая толпа, в основном женщины, собралась вокруг Наполеона, громко требуя хлеба. Толпа всё увеличивалась, и крики усиливались. Положение Наполеона и его офицеров становилось критическим. Одна тучная женщина чудовищных размеров обращала на себя особое внимание угрожающими жестами и выкриками. «Эти красавчики с эполетами на плечах, — кричала она, указывая на офицеров, — смеются над нашими страданиями: пока они могут есть и толстеть, им безразлично, что бедный народ умирает с голоду». Наполеон повернулся к ней и сказал: «Послушайте, любезнейшая, посмотрите на меня; кто толще: вы или я? — Наполеон в то время был чрезвычайно худым. — Я же всего лишь листок пергамента», — сказал он. Всеобщий взрыв смеха свёл на нет гнев толпы, и штабные офицеры продолжили объезд города.
Повествование о тринадцатом вандемьере свидетельствует о том, как Наполеон познакомился с госпожой де Богарне, как он заключил с ней супружеский союз и как в то время оценка этой женитьбы была представлена в самом ложном свете. После того как его познакомили с госпожой де Богарне, он почти каждый вечер проводил в её доме, в котором часто бывали самые обаятельные представители светского общества Парижа. Большинство из них постепенно прекратили наносить визиты госпоже де Богарне, и к ней обычно наведывались господин де Монтескье, отец обер-камергера, герцог де Ниверне, столь известный своим изящным остроумием, и некоторые другие её друзья. Они проверяли, плотно ли закрыты все двери, и затем говорили: «Ну что ж, а теперь давайте присядем и поболтаем о старом королевском дворе; давайте совершим мысленную прогулку по Версалю».
Во времена Республики бедность казначейства и дефицит монет были столь огромными, что когда генерал Буонапарте отправился в Итальянскую армию, то, несмотря на все его усилия и усилия Директории, удалось собрать только 2000 луидоров, которые он вёз в своей карете. С этой суммой он и отправился завоёвывать Италию и начал делать шаги по пути создания мировой империи. Известен следующий курьёзный факт: был выпущен очередной приказ по армии, за подписью Бертье, который предписывал генералу, командующему Итальянской армией, по прибытии в штаб армии в Ницце выдать генералам по четыре золотых луидора, чтобы генералы имели возможность начать военную кампанию в Италии. В течение продолжительного времени в стране было практически невозможно увидеть такую вещь, как золотая или серебряная монета. Этот текущий приказ по армии свидетельствует о тогдашних
114
условиях жизни в стране более правдиво и более верно, чем целые тома книг, написанных на эту тему.
Как только Наполеон присоединился к действующей армии, он показал себя человеком, рождённым для того, чтобы командовать. С этой минуты он приковал к себе внимание всего мира; он завоевал всю Европу; он был метеором, сверкнувшим на небесном своде; он стал центром всеобщего внимания, привлёк к своей личности мысли всего человечества и был предметом всех разговоров. С этого времени газеты, публикации, памятники свидетельствовали о его деяниях. Его имя не сходило со страниц газет и журналов и эхом передавалось из уст в уста.
Когда Наполеон стал командующим, то в его манерах, поведении и языке произошла разительная перемена. Декре часто говорил мне, что он был в Тулоне, когда впервые услышал о назначении Наполеона командующим армией в Италии. Он хорошо знал его в Париже и считал, что находится с ним в самых близких приятельских отношениях. «Поэтому, — рассказал он, — когда мы узнали, что новый генерал намерен проехать через наш город, то я немедленно предложил всем моим товарищам представить их Наполеону, гордясь тем, что поддерживаю с ним близкие отношения. Я поспешил к нему, весь переполненный радостным желанием увидеть его; двери его апартаментов распахнулись, и я уже готов был броситься к нему с моей обычной фамильярностью, но его поза, его взгляд, тон его голоса внезапно остановили меня. Ничего оскорбительного в его внешнем виде или манере поведения не было, но впечатление, которое он произвёл на меня, было достаточным для того, чтобы помешать мне когда-либо вновь попытаться перейти границу, которая разделила нас».
Более того, генеральскому званию Наполеона сопутствовали умение, энергия и абсолютная честность в управлении армией, равно как и его постоянная ненависть к казнокрадству любого рода и полнейшее равнодушие к собственным интересам. «Когда я вернулся после кампании в Италии, — рассказывал император, — в моём распоряжении было 300 000 франков. Я легко мог привезти с собой 10 или 12 миллионов; эта сумма могла быть моей. Я никогда не делал финансовых отчётов, и от меня их никогда не требовали. Я ожидал, что когда я вернусь во Францию, то получу какую-то большую национальную награду. Открыто сообщали, что мне дадут замок Шамбор и что я должен радоваться тому, что получу его; но эта идея была отвергнута Директорией. Однако я передал Франции по крайней мере 50 миллионов для нужд государства. Это, как мне кажется, был первый случай в современной истории, когда армия жертвует деньги для укрепления собственной страны, а не является для неё бременем».
115
Когда Наполеон вёл переговоры с герцогом Моденским, к нему в кабинет вошел Саличетти, уполномоченный представитель правительства при армии, с которым у Наполеона до этого были плохие отношения. «Командующий моденскими войсками д’Эсте, брат герцога, — сообщил Саличетти, — находится здесь вместе с четырьмя ящиками, в которых — четыре миллиона золотом. Он прибыл от имени своего брата, чтобы просить вас принять деньги, и я советую вам не отказываться от них. Я ваш земляк, и мне известно положение дел вашей семьи. Директория и Законодательное собрание никогда не оценят по достоинству ваши заслуги. Эти деньги принадлежат вам; берите их не колеблясь и не предавайте это дело огласке. Соразмерное сокращение будет сделано в контрибуции герцога, и он будет очень рад заполучить покровителя». — «Благодарю вас, — холодным тоном ответил Наполеон. — За эту сумму я не отдам себя в распоряжение герцога Моденского, я хочу оставаться свободным».
Уполномоченный представитель правительства при этой армии часто рассказывал, что он был свидетелем того, как правительство Венеции, чтобы спасти её от разрушения, предлагало Наполеону подобным же образом семь миллионов золотом, но Наполеон и от этого предложения отказался.
У императора вызывали улыбку порывы чувства восхищения со стороны его финансиста, для которого отказ его генерала от взяток
Ш
казался сверхчеловеческим поступком, намного более трудным и более величественным, чем достижение побед на полях сражений. Император вспоминал с определённой степенью удовлетворения об этих историях его бескорыстных поступков. Он, однако, заметил, что был не прав, так как подобная линия поведения была самой недальновидной из всех, которых он мог бы придерживаться, если бы планировал встать во главе партии и добиваться достижения политического влияния или оставаться в положении частного лица: когда он вернулся во Францию, то оказался почти нищим; и он продолжал оставаться в состоянии абсолютной бедности, в то время как подчинённые ему генералы и уполномоченные представители правительства накапливали огромные богатства.
«Но, — добавил император, — если бы представитель правительства при моей армии увидел, как я беру взятки, то кто может сказать, до чего он бы дошёл? Мой отказ, по крайней мере, был его проверкой.
Когда я встал во главе государства в качестве консула, то только благодаря демонстрации бескорыстия и проявлению предельной бдительности смог добиться изменений в поведении верховной администрации и сумел положить конец отвратительным случаям казнокрадства в среде Директории. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть склонность к коррупции первых лиц государства, чьё поведение под моим руководством, в конце концов, стало строгим и безупречным. Я был обязан постоянно держать их в страхе. Как часто мне приходилось повторять им на проводимых мною заседаниях Совета, что если бы мой брат был уличён в чём-то, то я без колебаний уволил бы и его!»
Ни один человек в мире не имел в своём распоряжении большего богатства и не использовал его для своих личных целей меньше, чем он. Наполеон, по его собственным подсчётам, имел не менее четырёхсот миллионов золотом в подвалах Тюильри. Стоимость огромных земельных владений превышала семьсот миллионов. Он говорил, что пожертвовал армии до пятисот миллионов. И что самое удивительное — он, который раздавал колоссальные денежные суммы, никогда не владел личной собственностью! Для музея он собрал сокровища, которые невозможно оценить, и, тем не менее, у него никогда не было собственной картины или редкой вещи.
Когда Наполеон вернулся из Италии и собирался отправиться в Египет, то стал владельцем Мальмезона, и именно там он поместил почти всю свою собственность; но он приобрёл Мальмезон на имя своей жены, которая была старше его. Всё дело в том, что, как император сам признавался, он никогда не ощущал вкуса к богатству
или желания обогатиться. «Если сейчас я чем-то и владею*, — продолжал он, — то это всё благодаря мерам, принятым после моего отъезда; но даже в этом случае мои шансы на то, что в этом мире есть что-то, что я мог бы назвать своим, практически сведены к нулю. Но на этот счёт у каждого есть свои мысли. Я склонен к тому, чтобы создавать, а не владеть. Моё богатство состоит из славы и известности: в глазах французского народа и иностранцев Симплон5 и Лувр были в большей мере моей собственностью, чем та личная собственность, которой я мог бы владеть. Я покупал бриллианты для короны, приводил в порядок и украшал императорские дворцы; бывало, я не мог примириться с тем, что расходы Жозефины на её оранжереи и её галерею существенно сокращают средства моего Ботанического сада и моего Парижского музея».
Когда Наполеон стал командовать армией в Италии, то, несмотря на свою чрезвычайную молодость, сразу же внушил солдатам дух воинской субординации, уверенности и абсолютной преданности. Армия скорее была покорена его гением, чем его популярностью; вообще же он был строг и сдержан. В течение всей своей жизни Наполеон постоянно считал ниже своего достоинства добиваться благосклонности масс недостойными средствами; возможно, он следовал этому принципу до такой степени, что это шло ему во вред.
* Имеется ввиду депозит в банкирском доме Лафитта.
Когда император отрёкся от престола во второй раз, некто, любивший его ради него самого и знавший отсутствии в нём склонности к накопительству, решил выяснить, принимались ли какие-либо меры для его финансового обеспечения в будущем. Когда выяснилось, что никаких мер принято не было и Наполеон остался абсолютно нищим, то для него было собрано четыре или пять миллионов, хранителем которых и стал господин Лафитт.
В момент отъезда Наполеона из Мальмезона забота о нём со стороны истинных друзей была для него не менее полезной. Одно лицо, осведомлённое о той путанице и неразберихе, которыми сопровождался наш отъезд, пожелало убедиться в том, что упомянутая сумма денег доставлена по назначению. Каково же было изумление этого человека, когда он узнал, что карета, в которую положили деньги, была оставлена в каретном депо Мальмезона. Возникло новое затруднение: нельзя было найти ключ от каретного депо, и смятение, вызванное этим неожиданным обстоятельством, задержало наш отъезд на некоторое время. Получив деньги, банкир Лафитт хотел немедленно вручить императору расписку, указав в ней соответствующую сумму, но Наполеон не принял расписку, заявив: «Я знаю вас, господин Лафитт, я знаю, что вы не одобряли моё правительство, но я считаю вас честным человеком».
Господин Лафитт, кажется, был обрёчен быть хранителем денежных фондов несчастных монархов. Людовик XVIII, отправляясь в Гент, также отдал значительную сумму на хранение в его руки. Когда, вернувшись с острова Эльба, Наполеон 20 марта прибыл в Париж, то послал за Лафиттом и спросил его о депозите короля. Лафитт подтвердил получение этого депозита. Когда он выразил предположение, что в заданных ему вопросах содержится упрёк в его адрес, то Наполеон ему ответил: «Ничего подобного, эти деньги принадлежат лично королю, а личные дела не имеют никакого отношения к политическим проблемам».
ш
В Итальянской армии закрепился своеобразный обычай: из-за молодости командующего армией, или в силу других причин, после каждого сражения старейшие по возрасту солдаты обычно проводили совет, на котором присваивали новое воинское звание своему молодому генералу, и когда он появлялся в лагере, то ветераны приветствовали его, обращаясь к нему в соответствии с этим новым званием. После сражения у Лоди они произвели его в капралы (а после Кастильоне — в сержанты), и с тех пор в течение долгого времени солдаты употребляли прозвище Маленький капрал, когда имели в виду Наполеона. Насколько тонка нить, связывающая самые незначительные случаи с важнейшими событиями! Возможно, именно это прозвище способствовало удивительному успеху императора, когда он вернулся во Францию с острова Эльба в 1815 году. В то время, как он произносил речь, обращаясь к первому батальону, который он встретил и с которым посчитал необходимым переговорить лично, из рядов солдат раздался возглас: «Да здравствует наш Маленький капрал! Мы никогда не будем сражаться против него!»
Администрация Директории и администрация командующего армией в Италии, казалось, представляли собой два разных правительства. Директория во Франции казнила эмигрантов, — французская армия в Италии ни разу не вынесла смертный приговор
кому-либо из них. Директория, узнав, что Вюрмсер осаждён в Мантуе, зашла так далеко, что написала Наполеону письмо, напомнив ему о том, что тот был эмигрантом, — но Наполеон, взяв Вюрмсера в плен, сделал всё, чтобы подчеркнуть своё почтение к нему и уважение к его преклонному возрасту. Директория использовала самые оскорбительные формы выражения своего отношения к папе римскому в переписке с ним, — генерал французской армии в Италии писал ему письма, полные уважения, и начинал их словами «Ваше Святейшество». Директория прилагала усилия к тому, чтобы лишить папу римского власти, — Наполеон сохранял её. Директория подвергала священников изгнанию и объявляла их вне закона, — Наполеон дал указание своим солдатам, чтобы они, где бы ни встретили изгнанных французских священников, помнили, что те являлись французами и их братьями. Директория обычно искореняла малейшие признаки аристократии, — Наполеон написал письмо демократам Генуи, порицая их жестокость; и он без колебаний заявил им, что если генуэзцы придают какое-либо значение тому, чтобы он сохранил к ним уважение, то они должны научиться уважать статую генуэзского адмирала Дориа и введённые им порядки, которым они обязаны своей славой.
Император принимает решение писать мемуары
7—8 сентября 1815 года
Мы продолжали плыть по заданному курсу, и ничто не нарушало однообразия нашей жизни. Дни были похожи один на другой, лишь педантичное ведение дневника напоминало мне о дне недели или о месяце. К счастью, моё время было занято работой, и поэтому день обычно проходил незаметно. Сведения, которыми я обогащался во время дневной беседы, были достаточными для того, чтобы у меня не было свободного времени до следующего дня.
Тем временем император обратил внимание на то, что я очень занят, и он даже подозревал, чем именно я занят. Он решил убедиться в этом и в результате получил возможность ознакомиться с несколькими страницами моего дневника; то, что он прочитал, понравилось ему. Несколько раз, упомянув в беседе со мной содержание дневника, он заметил, что подобная работа будет скорее интересной, чем полезной. Например, военные события, упомянутые в ходе обычного разговора, в дневнике будут представлены недостаточно, неполно, а их описание будет лишено законченности; рассказ о них превратится в перечень различных историй, часто пустякового характера, вместо серьёзного анализа крупных операций и их
результатов. Я охотно воспользовался представившейся благоприятной возможностью, полностью согласился с его мнением и рискнул предложить ему продиктовать мне его размышления о военной кампании в Италии. «Это было бы благом для страны, — заявил я, — настоящим памятником национальной славе. Наше время не занято работой, часы тянутся утомительно; такое занятие поможет нам отвлечься, а некоторые воспоминания смогут доставить вам удовольствие». Предложенная мною идея стала предметом наших нескольких последующих бесед.
В конце концов император принял решение и в субботу, 8 сентября, пригласил меня в свою каюту и впервые продиктовал некоторые изложенные выше подробности осады Тулона.
Пассат — Экватор
9 — 13 сентября 1815 года
Когда мы приблизились к экватору, то встретились с так называемыми пассатами, то есть с ветрами, постоянно дующими с востока. Наука объясняет этот феномен достаточно хорошо. Когда корабль, плывущий из Европы, впервые сталкивается с этими ветрами, то они дуют с северо-востока; по мере того как корабль приближается к экватору, направление ветров становится восточным. Обычно при пересечении экватора наступает безветрие. Когда корабль пересекает экватор, то ветры постепенно меняют направление, пока не начинают дуть с юго-востока. В конце концов, после пересечения тропиков, пассаты исчезают, и корабль вновь встречает ветры различных
направлений, как и в европейских регионах. Корабль, плывущий из Европы к острову Святой Елены, подпадает под влияние ветров, постоянно дующих с востока, которые всегда относят его к западу. Было бы очень трудно добраться до этого острова, следуя прямым курсом; и действительно, подобная попытка никогда не предпринималась. Корабль плывёт навстречу ветрам переменных направлений в южных широтах и затем берёт курс в сторону мыса Доброй Надежды, с тем чтобы встретиться с пассатами, дующими с юго-востока, которые доставляют корабль к острову Святой Елены.
Для того чтобы встретить ветры переменных направлений в южных широтах, используют два различных курса. Следуя первому варианту, кораблю необходимо пересечь экватор в районе 20-го или 24-го градуса долготы, отсчитывая от Гринвичского меридиана; те, кто предпочитает этот курс, утверждают, что он менее подвержен экваториальному безветрию, и, хотя у него есть тот недостаток, что берега Бразилии в таких случаях часто оказываются в пределах видимости, данный курс позволяет кораблю осуществлять эту часть плавания за более короткое время. Адмирал Кокберн, который был склонен считать следование этому курсу предрассудком, принял твёрдое решение отдать предпочтение второму варианту, когда корабль больше придерживается курса в сторону востока. Он постарался пересечь экватор примерно в районе 2-го или 3-го градуса долготы. Адмирал не сомневался в том, что, придерживаясь курса навстречу ветрам переменных направлений, корабль подойдёт достаточно близко к острову Святой Елены и тем самым (даже если не удастся достигнуть острова) значительно сократит весь путь, повернув на другой галс и попав под влияние пассатов.
К нашему большому удивлению, ветры, изменив направление, подули в сторону запада (как нам сообщил адмирал, это происходит чаще, чем мы предполагали), чем поддержали точку зрения адмирала. Он оставил позади тихоходные корабли своей эскадры, которые всё больше отставали от него, и был полон решимости как можно скорее достичь места назначения.
Шторм — Анализ некоторых клеветнических заявлений против императора — Общие размышления
14—18 сентября 1815 года
После погоды с незначительными ветрами и приходившими им на смену периодами полного безветрия 16 сентября, к большой радости команды корабля, полил проливной дождь. Жара была вполне
122
умеренной; можно было сказать, что, за исключением шторма возле Мадейры, мы постоянно наслаждались приятной погодой. Но на борту корабля ощущалась большая нехватка воды, и с целью её экономии команда корабля воспользовалась возможностью набрать дождевой воды, небольшой запас которой каждый матрос сделал и для себя. Проливной дождь полил как раз в тот момент, когда император вышел на палубу, чтобы совершить ежедневную прогулку. Дождь не заставил его отказаться от этой привычки, — он только послал за своей знаменитой большой серой шинелью, которую англичане рассматривали с нескрываемым интересом. Императора во время его прогулки сопровождали гофмаршал и я. Проливной дождь продолжался больше часа; когда император покинул палубу,
то я у себя в каюте с большим трудом смог снять с тела промокшую одежду, — почти всё, что было на мне надето, промокло насквозь.
В течение нескольких последовавших дней погода продолжала оставаться очень дождливой. Это в некоторой степени задержало мои труды, поскольку сырость проникла в нашу жалкую маленькую каюту, а с другой стороны, было не очень-то приятно гулять под дождём на палубе. С начала нашего плавания впервые так долго стояла дождливая погода, и это обстоятельство нас очень расстраивало. Перерывы в моей работе я заполнял тем, что беседовал с офицерами
123
корабля. Ни с кем из них у меня не было близких отношений, но в наших ежедневных контактах я придерживался линии вежливого и корректного поведения. Они любили обсуждать с нами французские дела, и их незнание всего того, что касалось Франции и французского народа, было почти невероятным. Наши беседы вызывали взаимное удивление: они изумляли нас своими устаревшими политическими принципами, а мы поражали их манерой поведения и нашими новыми идеями, о которых они ранее не имели никакого представления. Они, вне всяких сомнений, знали о Франции меньше, чем о Китае.
Как-то раз один из старших офицеров корабля во время более или менее откровенной беседы сказал: «Я полагаю, вы были бы весьма встревожены, если бы нам пришлось высадить вас на берег Франции?» — «Почему же?» — удивился я. «Потому, — ответил он, — что король, вероятно, заставит вас дорого заплатить за то, что вы покинули свою страну, чтобы последовать за другим монархом, а также потому, что вы носите кокарду, которую он запретил». — «И это говорит англичанин? — заметил я. — Вы, должно быть, в самом деле ничего не понимаете! Вы и правда значительно удалились от времён своей революции, к которой справедливо применяете эпитет «славная»6. Но мы, в отличие от вас, совсем недавно пережили нашу революцию, давшую нам так много, и можем сказать вам, что всё произнесённое вами — ересь. Во-первых, наше наказание не зависит от воли или желания короля, — мы подчиняемся только закону. Ныне не существует закона, направленного против нас; и если бы какой-либо закон был нарушен, чтобы применить его против нас, то ваш долг состоит в том, чтобы защищать нас. При капитуляции Парижа ваш генерал ручался сделать это, и английский кабинет министров покрыл бы себя вечным позором, если бы позволил принести в жертву людские жизни, сохранение которых он торжественно гарантировал обещанием, данным своему народу.
Во-вторых, мы не следуем за другим монархом. То, что император Наполеон был нашим монархом, является неопровержимым фактом; но он отрёкся от престола, и его правление закончилось. Вы путаете личную деятельность с государственными делами, а любовь и преданность — с политическими воззрениями. Наконец, что касается наших кокард, которые, судя по всему, так сильно поразили вас, то они всего лишь остаток нашего старого костюма. Сегодня мы носим их только потому, что носили их вчера. Нельзя с безразличием отказываться от вещей, к которым привыкаешь; это можно сделать только под принуждением или в силу необходимости. Почему вы не лишили нас наших кокард, когда лишали нас нашего оружия? Первый поступок был бы столь же обоснованным, как и второй.
1М
Мы находимся здесь в качестве частных граждан, мы не подстрекаем к бунту. Мы не можем отрицать, что эти кокарды дороги нашим сердцам; мы привязаны к ним потому, что они были свидетелями наших побед над всеми нашими врагами, мы торжественно прошли с ними по всем столицам Европы, и мы носили их, когда были первой нацией в мире».
В другой раз один из английских офицеров заявил, имея в виду чрезвычайную тяжесть недавних событий: «Кто знает, не предназначено ли нам всё же исправить несправедливость, допущенную по отношению к вам, причиной которой оказались мы? Каково же будет ваше изумление, если Веллингтон в один прекрасный день доставит Наполеона обратно в Париж!» — «В этом случае я действительно был бы изумлён, — ответил я, — но, конечно, отказался бы от чести быть участником этого события; я бы тогда без всяких колебаний покинул самого Наполеона! Но я спокоен на этот счёт, поскольку могу поклясться в том, что Наполеон никогда не подвергнет меня подобному испытанию. Благодаря ему я пропитался этими чувствами: именно он вылечил меня от противоположных доктрин, которые я называю ошибками моей молодости».
Англичане очень любили задавать нам вопросы об императоре, характер и склонности которого, как они впоследствии признавали, были представлены им в самом ложном свете. Это не их вина, говорили они, если у них сложилось ошибочное мнение о характере Наполеона: они знали его только по английским газетам и журналам, в которых все сведения о его жизни крайне искажены и преподносятся с большим предубеждением; несколько таких публикаций было у нас на борту корабля. Однажды мне случайно попалась на глаза одна из таких публикаций, отличавшаяся самым злобным характером; в другой раз, когда я собирался взглянуть на книгу, которую читал один из английских офицеров, он внезапно захлопнул её, заявив, что её содержание столь насыщено яростными нападками на императора, что он не может разрешить мне посмотреть её.
Как-то раз адмирал спросил меня о некоторых обвинениях в адрес Наполеона, содержавшихся в различных книгах в его библиотеке. Как заявил адмирал, отдельным обвинениям он в какой-то степени верит, в то время как все вместе они произвели сильное впечатление в Англии. Это обстоятельство подсказало мне идею тщательного просмотра всех работ подобного рода, находившихся на борту корабля: просматривая эти работы, я мог бы записать своё мнение о них в дневник. Я понимал, что подобная счастливая возможность может никогда не повториться. Если же я решусь сделать это, то полученная информация по затронутым вопросам может стоить того, чтобы я изучил эти работы.
125
Прежде чем делать обзор этих работ, я должен предложить читателю несколько общих замечаний, — они будут достаточными для того, чтобы заранее ответить на многие из бесчисленных обвинений, с которыми я встречусь во время просмотра упомянутых работ. Клевета и ложь являются оружием врагов, общественных и политических деятелей, как иностранных, так и отечественных. Они являются средством самозащиты потерпевших поражение и ничтожных личностей, движимых ненавистью и страхом, лакомой пищей гостиных и кухонными отбросами общественных столовых; эти личности негодуют всё яростнее по мере того, как объект их нападок всё более возвеличивается, они готовы затронуть всё на свете. Чем абсурднее, смехотворнее и невероятнее клевета и ложь, тем охотнее они передаются из уст в уста. Триумф и успех являются лишь источниками дополнительного раздражения, — вслед за этим неизбежно последует нравственная буря, и, разразившись в момент появления признаков несчастья, она ускорит и завершит падение и станет огромным средством воздействия на общественное мнение.
Ни один человек никогда не подвергался столь яростной критике и столь многочисленным оскорблениям, как Наполеон. Ни один человек не был объектом столь многих памфлетов, клеветнических заявлений, ложных утверждений и персонажем такого числа гнусных и абсурдных историй. Иначе и не могло быть. Наполеон — выходец из народа, поднявшийся к вершине известности, он возглавил революцию, которую сам же и сделал цивилизованной; он был ввергнут двумя этими обстоятельствами в смертельную схватку со всей остальной Европой — в схватку, в ходе которой он потерпел поражение только потому, что хотел слишком быстро закончить её. Наполеон — гений, известный силой своего характера, чья власть покорила соседние страны, но оказалась временной. В нём есть черты и всемирного монарха, и римского консула Гая Мария в глазах аристократов Европы, и римского полководца Суллы для демагогов, и Цезаря для республиканцев. Наполеон не мог не вызывать настоящего урагана противоречивых чувств в отношении своей личности — и в своём отечестве, и за границей.
В каждой стране отчаяние, политика и ненависть делали из него объект отвращения и страха. Не стоит удивляться тому, что говорилось о нём: скорее, странно, что клевета не распространилась ещё шире, давая свои результаты. Находясь на вершине власти, Наполеон никогда и никому не разрешал отвечать на выпады в свой адрес. «Усилия, потраченные на такие ответы, — пояснял он, — только придали бы дополнительный вес тем обвинениям, которые эти ответы должны были опровергнуть. Стали бы говорить, что всё, что написано в мою защиту, сделано по приказу и оплачено. Неумелое
126
восхваление моей особы теми, кто окружал меня, в некоторых случаях наносило мне больший ущерб, чем все оскорбления, которым я подвергался. Самым убедительным ответом являются факты. Прекрасный памятник, ещё один хороший закон или новая победа достаточны для того, чтобы свести на нет эффект многих тысяч лживых заявлений. Слова уходят, а деяния остаются!»
Это, бесспорно, верно, когда дело касается потомков. Образы великих людей прошлого передаются из поколения в поколение свободными от преходящих обвинений их современников. Но не так обстоит дело во время жизни человека, ставшего исторической личностью, и в 1814 году Наполеон на собственном жестоком опыте убедился в том, что даже подвиги могут быть вычеркнуты из памяти под натиском неистовых обвинений. Во время падения на него буквально обрушился поток оскорблений. Но ему, чья жизнь так богата удивительными событиями, было дано отразить этот враждебный удар судьбы и почти сразу же во всём блеске восстать из руин. Его чудесное возвращение, состоявшееся в 1815 году, беспримерно по своим результатам. Порыв чувств, вызвавший к жизни это возвращение, затронул соседние страны, где молившиеся о его успехе делали это открыто или втайне; и он, который в 1814 году потерпел поражение и подвергся преследованиям, причём его считали бичом рода человеческого, неожиданно возродился через год и стал надеждой.
В этом случае клевета и ложь потеряли свою жертву, промахнувшись мимо цели. Человеческий здравый смысл справедлив к Наполеону, и теперь всем тем оскорблениям, которыми его осыпали, уже не было веры. «Яд уже не действовал на Митридатов7, — сказал на днях Наполеон, просматривая некоторые клеветнические публикации, направленные против него, — и начиная с 1814 года клевета не может принести мне вред».
Когда император находился на вершине власти, Англия играла главную роль во всеобщем хоре озлобленности в его адрес.
В Англии в полной мере применялись два способа распространения клеветы против Наполеона: один из них использовали эмигранты, для которых ничто не было слишком плохим, а второй находился под контролем английских министров, которые полностью освоили систему клеветы и регулярно приводили её в действие. Во всех концах Европы они содержали писак и клеветников, каждому из них были определены задачи; всем им регулярно направлялись планы работ, а точнее — планы выпадов против Наполеона.
Наиболее активно английский кабинет министров вёл эту работу на территории собственной страны. Англичане, которые были более свободными и просвещёнными, чем население других стран, нужда¬
187
лись в сенсациях соответствующего свойства. Благодаря этой системе английские министры извлекали двойную пользу — во-первых, настраивая общественное мнение страны против общего врага и, во- вторых, отвлекая внимание от собственного поведения. Они пытались направить народное возмущение в сторону политики других стран и не допустить того, чтобы их собственные деяния стали предметом расследований и упрёков, что, естественно, было бы для них неприятно. Примерами подобных деяний могут служить убийство императора Павла в Санкт-Петербурге и наших послов в Персии, захват силой ирландского политического деятеля Наппе- ра Танди в вольном городе Гамбурге, пленение в мирное время двух испанских фрегатов, нёсших сокровища, овладение всей Индией, удержание у себя, в нарушение договоров, Мальты и мыса Доброй Надежды, макиавеллиевский разрыв соглашения в Амьене, нечестный захват наших кораблей до нового объявления войны, хладнокровный и вероломный захват датского флота, и т.д. и т.п. Все эти агрессивные действия не были осуждены в Англии из-за того, что весь гнев был искусственно направлен против иностранной державы.
Для того чтобы составить справедливое мнение об обвинениях, которыми Наполеон был буквально завален, следует учитывать все обстоятельства того времени, необходимо с презрением отвергнуть всё то, что является недостоверным, анонимным и чисто риторическим, строго придерживаться фактов и доказательств, которые, несомненно, были доступны тем, которые, после победы над врагом, стали обладать подлинными документами, архивами государственных учреждений и судов, — то есть теми источниками истины, которые обычно можно обнаружить в обществе. Но ничего не было опубликовано, ничего не было предложено к обсуждению. И сколько же чудовищной лжи обрушивается на головы простых людей! Необходимо по-прежнему быть строго беспристрастными, если мы хотим судить Наполеона, сравнивая его с великими людьми, находившимися в аналогичных обстоятельствах, иными словами, с основателями династий или с теми, кто сошёл с трона в результате насилия и народных волнений. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что равных ему нет и звезда его ярче других светил. Было бы потерей времени перечислять бесчисленные примеры из древней и современной истории: они доступны всем. Ограничимся ссылками на примеры из истории двух стран.
Сражался ли Наполеон, подобно Гуго Капету, против своего монарха? Заставил ли он его умереть в неволе?
Действовал ли Наполеон подобно принцам нынешнего правящего дома герцогства Брауншвейг, которые в 1715-м и в 1745-м годах отправили на эшафот великое множество жертв? Нынешние английские
12&
министры, в соответствии со своей непоследовательной политикой и исповедуемыми в настоящее время принципами, называют жертв тех трагедий не иначе как верными подданными, умиравшими за своего законного монарха.
Путь, которым Наполеон шёл к верховной власти, совершенно прост и естественен, он единственный в своём роде во всей истории; сами обстоятельства восхождения Наполеона к трону делают это восхождение беспримерным. «Я не узурпировал корону, — заявил он однажды в Государственном совете, — я вытащил её из болота; народ водрузил её на мою голову, — так давайте же уважать деяния народа!»
Став императором, Наполеон вернул Францию на её место в европейском сообществе, положил конец её ужасам и возродил её характер. Он освободил нас от всех зол нашего рокового кризиса и сберёг для нас все преимущества, полученные в результате этой революции. «Я взошёл на трон, не запятнанный ни одним преступлением, связанным с моим именем, — как-то заявил он. — Кто из основателей династий может гордиться тем же самым?»
Никогда в течение любого периода нашей истории почести не распределялись так справедливо, никогда заслуги человека не определялись и не вознаграждались, невзирая на его происхождение и на его положение в обществе, никогда государственные деньги не расходовались с такой пользой, никогда различные виды искусства и науки так не поощрялись и никогда слава страны не достигала таких вершин. «Моё желание состоит в том, — заявил Наполеон однажды Государственному совету, — чтобы звание француза было лучшим и наиболее желанным на свете, чтобы француз, путешествующий в любой части Европы, мог думать и считать, что он находится дома».
Если свобода изредка подвергалась посягательствам, если власть иногда выходила за пределы своих полномочий, это было необходимо и неизбежно в сложившихся обстоятельствах. Наши нынешние беды заставили нас, хотя и слишком поздно, осознать эту истину; сейчас мы справедливо отдаём должное мужеству, здравому смыслу и предусмотрительности, которые тогда диктовали необходимость таких шагов. Несомненно, что в этом отношении политическое падение Наполеона значительно повысило его влияние. Кто теперь может сомневаться в том, что его беды лишь беспредельно увеличили славу и блеск его личности?
Если книги, попавшиеся мне на глаза, представят какие-либо материалы, связанные с этими общими рассуждениями, то они станут объектом моего особого внимания. Я не намерен вступать в политическую полемику; я не буду обращаться к приверженцам
129
политических партий и группировок, мнения которых основаны на их личных интересах и пристрастиях; я обращаюсь только к хладнокровным друзьям истины или к беспристрастному писателю, который в будущем сможет найти нужные ему факты. Я обращаюсь только к ним одним; в их глазах моё свидетельство будет превосходить анонимные рассуждения и встанет в один ряд с теми исследованиями, которые несут на себе печать достоверности.
Первая книга, которую я просмотрел, испытывая к ней презрение, была «Антигалльский», о ней я буду говорить ниже.
Наше времяпрепровождение
19—22 сентября 1815 года
Мы продолжали держаться нашего курса — с тем же ветром, с тем же небом и с той же температурой воздуха. Плавание было монотонным, но приятным; прошло много дней, но занятие новой работой способствовало тому, что время проходило незаметно. Император начал регулярно диктовать мне свои мемуары «Военные кампании в Италии». Я уже написал ряд глав. В течение первых нескольких дней император наблюдал за моей работой с явным безразличием, но регулярность и быстрота представления выполненных ежедневных заданий, а также заметный прогресс в нашей работе вскоре повысили его интерес к ней, и, в конце концов, удовольствие, которое он получал от своей диктовки, сделало её абсолютно необходимой для него. Он взял за правило посылать за мной каждое утро примерно в одиннадцать часов и, судя по всему, с нетерпением ожидал этого часа. Я всегда прочитывал ему всё то, что он мне надиктовал накануне, и он, после внесения исправлений, продолжал диктовать дальше. Таким образом проходило время до четырёх часов дня, когда он вызывал своего камердинера. Затем он следовал в офицерскую кают-компанию и до обеда находился за карточным столом, играя в пикет или в шахматы.
Император диктовал очень быстро, почти так же, как говорил в обычной беседе, поэтому я был вынужден изобрести нечто вроде новой письменности иероглифами. После четырёх часов я, в свою очередь, диктовал записанный текст моему сыну. Я был очень рад, что мог записать почти буквально каждое предложение, продиктованное Наполеоном. Теперь у меня не было ни одной свободной минуты; когда наступало время обеда, ко мне обязательно кто-нибудь заходил и сообщал, что все уже собрались за обеденным столом. К счастью, моё место было рядом с дверями, которые всегда
13С
были открыты. Я недавно поменял место за столом по просьбе капитана Росса, командира корабля, который, поскольку он не говорил по-французски, пользовался возможностью иногда спрашивать у меня значения слов; поэтому я занял место между ним и гофмаршалом. Капитан Росс, человек с приятными манерами, был исключительно добр и внимателен к нам. Я научился, в соответствии с английским обычаем, приглашать его брать бокал вина, выпивая при этом свой бокал за здоровье его жены, а он затем выпивал свой бокал за здоровье моей; это стало нашей ежедневной привычкой.
После обеда император никогда не забывал напомнить о своей утренней диктовке, словно он был рад этому занятию и оно доставляло ему удовольствие. В этих случаях, а также всякий раз, когда он встречал меня в течение дня, он обычно шутливым тоном обращался ко мне со словами: «А! Учёный муж Лас-Каз! Знаменитый мемуарист! Де Сюллё острова Святой Елены. — Были и другие подобные обращения ко мне. Затем император обычно добавлял: — Мой дорогой Лас-Каз, эти мемуары будут так же знамениты, как и другие, которые предшествовали этим. Вы останетесь в памяти людей мемуаристом. Нельзя будет рассуждать о великих событиях нашего времени или писать обо мне, не ссылаясь на вас. — Затем, вновь переходя на шутливый тон, добавлял: — В конце концов будут говорить: “Он, должно быть, хорошо знал Наполеона, он был его государственным советником, его камергером, его верным товарищем. Мы не можем не верить ему, ибо он был честным человеком, неспособным к обману”».
Неожиданный феномен —
Пересечение экватора — Крещение
23 — 25 сентября 1815 года
К нашему большому удивлению, западный ветер всё ещё продолжал дуть; для этих мест это было в некотором роде необычное явление, и пока оно было нам на пользу. Но, если говорить о феноменах, то 23 сентября нам представился шанс быть свидетелем редчайшего явления: мы пересекли экватор в районе 0 градусов широты, 0 градусов долготы и 0 градусов деклинации. Для желающего стать свидетелем такого феномена есть только один шанс в столетие, поскольку для этого необходимо прибыть к первому меридиану точно в полдень и в тот же час пересечь экватор (всё это вместе с солнцем).
Для команды корабля это был день безудержного веселья и беспорядка: в такой день проводится церемония, которую наши моряки называют Крещением, а английские моряки — Великим Днём Бритья. В этот день моряки одеваются в самой гротескной манере, один из них изображает Нептуна, а все находящиеся на борту корабля, которые ранее не пересекали экватор, должны быть официально представлены Нептуну; их щёки смазываются дёгтем (вместо мыльной пены), и по ним проводят громадной бутафорской бритвой; на них выливаются вёдра воды, после чего под дружный взрыв смеха они спасаются бегством, завершая церемонию своего крещения. Никто не освобождается от этой церемонии, и обычно офицерам достаётся больше, чем самым низшим по званию матросам. Адмирал, которому ранее доставляло удовольствие запугивать нас этой ужасной церемонией, очень любезно избавил нас от неудобств и насмешек, обычно сопровождающих её. Нас с большим вниманием и уважением представили дикому властителю морей, который каждому из нас сделал отдельный комплимент, и на этом наши злоключения закончились.
Во время всей этой вакханалии к императору отнеслись с особым уважением, хотя обычно уважение никому не оказывается. Когда ему сообщили, что в отношении него будут приняты все меры по соблюдению приличий, он дал указание выдать гротескному Нептуну и его команде сто луидоров, хотя адмирал возражал против этого — вероятно, из соображений бережливости и вежливости.
Книга «Антигалльский» — Книги сэра Роберта Вильсона — Чума в Яффе — Французская армия в Египте — Бертье — Осада крепости Сен-Жан д Акр — Репутация французской армии на Востоке — Английская экспедиция — Клебер и Дезэ
26 — 30 сентября 1815 года Погода остаётся благоприятной. Пройдя экватор, мы ожидали, что немедленно встретимся с восточным или юго-восточным ветром. Продолжительность западного ветра была необычной; нельзя было предполагать, что он ещё продлится. Принятое адмиралом решение держаться ближе к востоку благоприятно сказывалось на нашем положении, и у нас были все основания надеяться на скорое прибытие к месту назначения.
Однажды днём матросы поймали громадную акулу. Император поинтересовался причиной сильного шума и большой суматохи,
132
которые он услышал над головой в своей каюте; когда ему сообщили о том, что случилось, он выразил желание посмотреть на морское чудовище. Он поднялся на полуют и слишком близко подошёл к акуле, которая вдруг резким движением сбила с ног четверых или пятерых матросов и чуть было не сломала ноги императору. Он спустился в каюту, и его левый чулок был весь в крови; мы решили, что император серьёзно ранен, но оказалось, что это кровь акулы.
Мои труды продвигаются очень хорошо. Первая книга, «Анти- галльский», которую я стал читать, представляет собой увесистый том в пятьсот страниц и включает в себя всё, что было написано в Англии в то время, когда эта страна находилась под угрозой французского вторжения. Английское правительство поставило перед собой цель придать сопротивлению этой попытке общенациональный характер и поднять всю страну на борьбу против опасного врага. В книге собраны речи государственных деятелей, призывы, патриотические обращения граждан, сатирические песни, полные сарказма публикации, газетные статьи, приукрашенные ложью; всё вместе это представляет собой поток ненависти и насмешек в отношении французов и их Первого консула, мужество, гений и сила которого
вызывали в Англии огромную тревогу. Это вполне естественно и допустимо. Продукция такого рода подобна дождю стрел, пущенных воюющими сторонами до того, как они сходятся в ближнем бою: некоторые стрелы попадают в цель, другие уносятся ветром. Такие писания никогда не предоставят убедительных доказательств человеку, наделённому здравым смыслом, и они едва ли заслуживают опровержения.
На памфлетистов не стоит обращать внимания, потому что их репутация является противоядием их яда; не так обстоит дело с историком. Последний, однако, опускается до уровня памфлетиста, когда теряет чувство собственного достоинства и отказывается от принципа непредвзятости, — поскольку то и другое необходимо для его творчества, — и вместо этого пускается в рассуждения, погружая перо в желчь.
С этими чувствами я встал из-за стола, внимательно прочитав работы сэра Роберта Вильсона, — уже после того, как ознакомился с содержанием книги «Антигалльский». Этот писатель нанёс нам большой вред, поскольку его способности, мужество, многогранная и блестящая служба на благо страны получили всеобщее признание его соотечественников. Одно обстоятельство, о котором я собираюсь рассказать, стало причиной того, что произведения сэра Роберта Вильсона получили особую известность и стали объектом многих разговоров на борту корабля.
Сын сэра Роберта был в числе юных гардемаринов на борту «Нортумберленда», и мой сын, будучи их ровесником, часто общался с этими юношами и мог легко заметить изменение в их мнении о нас. Поначалу они относились к нам с большим предубеждением. Когда император вступил на борт корабля, они считали его людоедом, готовым их съесть. Но после того, как юные гардемарины ближе познакомились с нами, они убедились в ложности первоначальных представлений о нас, и это оказало на них такое же влияние, как и на всех остальных членов команды корабля. При этом досталось молодому Вильсону, который был высмеян своими товарищами, как они говорили, в искупление грехов его отца, распространявшего небылицы о Наполеоне.
Далее в рукописи несколько страниц вычеркнуто; причину этого автор объясняет так:
Из работ сэра Роберта Вильсона я выбрал многочисленные оскорбительные заявления, на которые ответил, возможно, с излишней резкостью; недавние события вынудили меня удалить эту часть работы из моего дневника.
Недавно сэр Роберт Вильсон сыграл заметную роль в одном деле, за что заслужил искреннюю благодарность тех, кто имел отношение
134
к этому: я имею в виду спасение жизни Лавалетта. Когда сэра Роберта Вильсона спросили перед французским трибуналом: разве он раньше не публиковал работы, касавшиеся положения дел во Франции? — он ответил утвердительно, но добавил при этом, что в них он делал заявления, которые тогда считал правдивыми. Эти слова имеют гораздо большее значение, чем всё то, что я мог бы сказать, поэтому я спешу зачеркнуть написанное; таким образом, я счастлив отдать должное сэру Роберту Вильсону, искренность и добрые намерения которого я в порыве чувства возмущения поставил под сомнение*.
Именно поэтому я отложил в сторону труды сэра Роберта Вильсона с различными обвинениями в наш адрес, которые в них содержались; я также изъял из своего дневника многочисленные опровержения этих обвинений, которые я тщательно составлял. Я остановлюсь лишь на одном случае, о котором говорилось в сотне различных публикаций. Отчёт о нём был распространён по всей Европе и даже удостоился похвалы во Франции. Я имею в виду отравление солдат, заражённых чумой в Яффе. Несомненно, никакой другой случай не
* После того как меня выслали из Лонгвуда, губернатор Святой Елены Хадсон Лоу, который конфисковал все мои бумаги, просмотрел с моего разрешения и этот дневник. Он, конечно, прочитал и те страницы, которые ему очень не понравились, поскольку касались лично его; в связи с этим он сказал мне: «Ну и хорошенькое же наследство вы готовите для моих детей, граф!» — «Это не моя вина, — ответил я, — только от вас зависит сделать его другим; я был бы рад иметь основания вычеркнуть всё, что касается вас, как я уже сделал это однажды в отношении сэра Роберта Вильсона». В связи с этим он спросил меня, что же я написал о сэре Роберте, и я показал ему соответствующее место в дневнике. Прочитав то, что было написано, а также мои объяснения причин, в силу которых я зачеркнул строки о сэре Вильсоне, он заявил с задумчивым и мрачным видом: «Да, я понимаю, но я не могу понять, что заставило его пойти на это, ибо я хорошо знаю Вильсона, и он проявлял себя как близкий друг Бурбонов».
Мы прыгали от радости, когда узнали о спасении Лавалетта. Кто-то поинтересовался, как мог Вильсон, его спаситель, написать столько оскорбительных вещей об императоре. «А почему бы и нет? — сказал Наполеон. — Вы мало знаете людей и те чувства, которые руководят ими. Что заставляет вас предполагать, что сэр Роберт Вильсон не является человеком, которому присущи энтузиазм и бурные страсти, человеком, писавшим то, что он считал тогда правдой? Когда мы были врагами, мы сражались друг против друга; но теперь, когда мы находимся в бедственном положении, он стал знать больше и понимать лучше. Он мог быть введён в заблуждение, его могли обмануть, и он может сожалеть об этом; и он, возможно, теперь так же искренен, желая нам всего хорошего, как и раньше, когда старался навредить нам».
То ли дальновидность, то ли счастливая случайность привела императора к этому заключению, которое показывает, что он был в состоянии понять характер другого человека на расстоянии. Сэр Роберт Вильсон в самом деле был тем человеком, который писал сочинения, направленные против Наполеона. Огорчённый при виде того, как великому народу отказывают в уважении его национальных прав, он осудил союзников так же резко, как если бы они заковали в цепи его самого. И никто так сильно, как Вильсон, не выразил своего возмущения по поводу плохого обращения с Наполеоном, никто так горячо не высказал желания положить конец такому обращению.
135
показал столь ясно, как легко клевета может достигнуть своей цели. Если голос клеветы дерзок и могуч и может командовать многочисленными подпевалами, то — независимо от того, до какой степени искажаются факты, теряются здравый смысл и правдоподобие, — желаемый результат будет получен.
Генерал, национальный герой, великий человек, до этого пользовавшийся благосклонностью фортуны и уважением человечества, привлекавший внимание трёх четвертей населения Земного шара, вызывавший восхищение даже у врагов, был обвинён в совершении неслыханного и беспримерного преступления — бесчеловечного, зверского и жестокого поступка; и что самое удивительное — у него не могло быть какой-либо определённой цели совершить это преступление. Были придуманы самые абсурдные подробности, самые неправдоподобные обстоятельства и самые нелепые эпизоды, чтобы приукрасить эту ложь. Вся история этого дела была немедленно распространена по Европе; недоброжелательность подхватила её и преувеличила её чудовищность; эта история была опубликована в каждой газете, нашла место в книгах и с того времени она стала рассматриваться как установленный факт; негодование достигло своего пика, и возмущение стало всеобщим. Напрасно было разубеждать кого-либо, или пытаться сдержать поток лжи, или объяснять, что никаких доказательств факта приведено не было и что распространяемая история дела противоречит сама себе. Бесполезно было приводить противоположные и неопровержимые свидетельства — свидетельства тех самых медиков, которые, как говорили, давали или отказывались давать яд больным. Бесполезно было опровергать бессмысленные обвинения в отсутствии гуманности у человека, который совсем недавно прославил госпитали Яффы поступком величественного героизма: поставив под угрозу собственную жизнь, он дотрагивался до солдат, заражённых чумой, чтобы ввести в заблуждение и успокоить больных людей. Напрасно было утверждать, что мысль о подобном преступлении не может быть приписана человеку, который вёл себя следующим образом: когда он советовался с военными врачами о необходимости сожжения одежды больных или стирки этой одежды и врачи напомнили ему о громадных материальных потерях в случае сожжения одежды, он ответил им: «Господа, я прибыл сюда для того, чтобы обратить внимание Европы на центр Древнего мира и напомнить ей о его значении для неё, а не для того, чтобы заниматься накоплением богатств». Бесполезно объяснять, что у этого «преступления» не было никакой цели и никакого мотива. Разве у французского генерала была какая-либо причина вынашивать замысел о том, чтобы травить своих больных и тем самым превращать их в своих врагов? Разве он надеялся, что при
136
помощи этого варварского поступка полностью избавится от заразы? Он мог бы с равным успехом достигнуть этой цели, бросив своих больных в госпитале, чтобы их захватили вражеские войска, что, кстати, стало бы средством для распространения чумной заразы среди противника. Бесполезно объяснять, что бесчувственный и эгоистичный командующий армией мог бы избавиться от всех затруднений, всего лишь бросив на произвол судьбы несчастных солдат; правда, в этом случае вражеские войска их бы зверски убили, но зато никто и никогда не подумал бы упрекать его.
Эти и другие аргументы напрасны и бесполезны, настолько могущественными и надёжными являются средства клеветы, когда разбуженные людские страсти способствуют её распространению. История о придуманном преступлении передавалась из уст в уста, возбуждая сердца, и для большей части человечества она, вероятно, навсегда останется несомненным и неоспоримым фактом.
Есть одно обстоятельство, которое будет немалым сюрпризом для тех, кому ещё предстоит узнать о том, что не следует доверять всем публикациям подряд, и которое послужит примером того, как ошибки «вползают» в историю: маршал Бертран, который сам находился в армии в Египте (хотя, конечно, не в том ранге, который позволял бы ему иметь непосредственный контакт с главнокомандующим), твёрдо верил в то, что смертельный яд был дан шестидесяти больным, пока не оказался на острове Святой Елены. История об этом событии распространялась, и ей верили даже в нашей армии; поэтому какой ответ можно было бы дать тем, кто торжественно заявлял: «Я заверяю вас, что это действительный факт, — я слышал о нём от офицеров, которые в то время служили во французской армии»?
Тем не менее, вся эта история является лживой. Я собрал следующие факты, узнав их от самого главного источника — Наполеона.
Во-первых, количество больных, которые были заражены чумой, равнялось, в соответствии с докладом, сделанным главнокомандующему, только семи.
Во-вторых, это не главнокомандующий армией, а врач, медицинский профессионал, в момент кризиса предложил дать больным опиум.
В-третьих, опиум не давался ни одному из больных.
В-четвёртых, отступление проводилось медленно, арьергард был оставлен в Яффе на три дня.
В-пятых, когда город покидал арьергард, все больные уже скончались, за исключением одного или двух, которые попали в руки англичан.
Добавление. После моего возвращения в Париж я получил возможность разговаривать с теми людьми, чьё положение и профессия
137
делали их главными действующими лицами этой истории, то есть с теми людьми, свидетельства которых следует рассматривать как официальные и достоверные. Используя эту возможность, я расспрашивал их о мельчайших подробностях дела об отравлении солдат. Ниже приводится результат моих расследований.
Обычные больные, а точнее, раненые, были все без исключения вывезены из госпиталей под присмотром главного врача армии. Для этой цели использовались лошади штаба армии, включая и лошадей главнокомандующего, который, как и вся армия, значительное расстояние прошёл пешком. Таким образом, об этих больных позаботились.
Что же касается остальных больных, примерно двадцати человек, находившихся в ведении главного врача армии и оказавшихся в отчаянном положении, — поскольку в то время, когда враг приближался к городу, их состояние абсолютно не позволяло вывезти их из госпиталя, — то Наполеон спросил главного врача армии, считает ли тот возможным дать больным чумой опиум и будет ли это рассматриваться как акт гуманности. Верно и то, что врач ответил Наполеону, что его дело — лечить, а не убивать. Этот ответ, судя по всему, и стал основой клеветы и лжи, получивших затем широкое распространение.
Наконец, подробности, которые я смог узнать, позволили мне установить следующие бесспорные факты.
Во-первых, не было никакого приказа давать больным опиум.
Во-вторых, в рассматриваемый период в медицинских аптечках армии не было ни одного грамма опиума, который мог бы быть использован для больных.
138
В-третьих, даже если бы и был отдан приказ и даже если бы в армии были запасы опиума, то в сложившихся тогда обстоятельствах, перечислять которые утомительно, исполнение приказа было бы невозможным.
Следующие обстоятельства, возможно, послужили причиной, а также, вероятно, в какой-то степени и оправданием ошибок тех, кто упрямо отстаивал правоту «фактов», противоречивших действительности. Некоторые из наших раненых солдат, посаженных на борт корабля, попали в руки англичан. В лагере французской армии в Египте ощущалась большая нехватка всякого рода лекарств, и мы восполняли этот дефицит за счёт натуральных средств, используя для этого местные деревья и растения. Некоторые подобные лекарства имели ужасный вкус и вид. Пленники, то ли с целью вызвать жалость, то ли узнав об истории с опиумом, поверить которой их заставили качества лекарств, имевшихся во французском лагере, сообщили англичанам, что они чудом избежали смерти после принятия яда, прописанного им военными врачами.
Мы достаточно сказали о больных, которые находились под присмотром главного врача армии.
Теперь скажем о другом. Во французской армии в Египте в качестве главного аптекаря находился негодяй, которому было позволено использовать пять верблюдов для перевозки из Каира необходимого для экспедиции количества лекарств. Этот человек был настолько подлым, что вместо лекарств для армии закупал сахар, кофе, вина и другие продукты, которые затем продавал, получая баснословную прибыль. Когда его мошенничество было раскрыто, возмущение главнокомандующего не знало границ, и преступник был приговорён к расстрелу; но все военные врачи, которые пользовались большим уважением за своё мужество и чей внимательный уход за больными и ранеными сделал их всеобщими любимцами в армии, обратились к Наполеону с просьбой о помиловании негодяя, утверждая, что честь всего медицинского состава армии будет скомпрометирована его наказанием; таким образом преступник избежал смерти. Некоторое время спустя, когда англичане овладели Каиром, этот человек перешёл на их сторону и стал на них работать; но, снова пустившись в рискованные предприятия, он был арестован и приговорён к виселице. Однако ему вновь удалось избежать смерти, когда он оклеветал главнокомандующего, о котором придумал массу ужасных историй, — он выдал себя за того самого человека, который по приказу генерала давал опиум солдатам, заражённым чумою. Его помилование было вознаграждением за эти клеветнические заявления.
Время полностью опровергло эту абсурдную клевету, так же как и многие другие небылицы, направленные на достижение одной
139
и той же определённой цели, причём с такой быстротой, что, вновь просматривая мой дневник, я был удивлён важностью, придаваемой мною необходимости опровержения обвинения, которое в настоящее время никто не посмел бы поддерживать. Всё же я посчитал, что лучше сохранить то, что я написал, как свидетельство восприятия событий в соответствующий момент времени; и если я сейчас добавил некоторые новые подробности, то только потому, что они были у меня под рукой, и я решил, что важно записать их как исторические факты.
Сэр Роберт Вильсон в своей книге с видимым самодовольством хвалится, что он был первым, кто раскопал эту историю и принял меры для распространения крайне негативных обвинений в Европе. Его соотечественник, сэр Сидней Смит, может, вероятно, оспаривать у него эту честь ещё и потому, что он даже в большей мере претендует на заслугу в сочинении этой истории. Европа обязана ему лживыми слухами, которые наводнили её во вред нашей храброй армии в Египте. Эти слухи были порождены системой искажения фактов, которую Смит поощрял.
Хорошо известно, что сэр Сидней Смит делал всё возможное, чтобы подвергнуть нашу армию моральному разложению. Фальшивые разведывательные данные из Европы, стремление оклеветать главнокомандующего французской армией в Египте, крупные взятки, предлагавшиеся нашим офицерам и солдатам, — всё это делалось с его одобрения; документы на этот счёт опубликованы, его воззвания известны. Одно время они вызывали такое раздражение французского генерала, что вынудили его искать способ положить им конец. Что он и сделал, запретив любые контакты с англичанами и заявив в очередном ежедневном приказе, что командующий соединением английских кораблей у берегов Египта просто сошёл с ума. Этому утверждению поверили во французской армии, и оно настолько разъярило сэра Сиднея Смита, что он направил Наполеону вызов на дуэль. Генерал ответил, что он занят слишком важными делами, чтобы тратить время на такие пустяки; если бы он получил вызов на дуэль от великого Мальборо, тогда, конечно, он с достоинством бы принял его, но если английский моряк действительно желает позабавиться старым добрым рыцарским поединком, когда противники в шлемах и в боевых доспехах стремятся копьём сбросить друг друга с лошади, то он готов послать ему кого-нибудь из своей армии и выделить нейтральную полосу шириной в несколько метров на берегу моря, чтобы сумасшедший английский коммодор мог бы, сойдя с корабля, насладиться рыцарским поединком с французом.
140
Поскольку сейчас я занимаюсь темой Египта, то в этом дневнике приведу информацию, которую собрал во время бесед с императором и которую, скорее всего, нельзя будет найти в мемуарах «Кампания в Египте», продиктованных Наполеоном гофмаршалу.
Кампания в Италии дала самые блестящие и решительные результаты, которых когда-либо добивались военный гений и военная концепция. В одном человеке сочетались удивительные таланты полководца, дипломата, законодателя и административные способности. Молодой генерал обрёл непререкаемую власть, и это стало потрясающим итогом событий. Анархия равенства, республиканские принципы — всё исчезло перед ним. Директория правила лишь формально, и её власть выглядела нелепо. Она не требовала никаких отчётов от главнокомандующего армией в Италии, — он сам решал, посылать их Директории или нет; никакого плана, никакой системы действий ему не предписывалось, но от него Директория регулярно получала отчёты о победах и о заключении перемирий, о ликвидации старых государств на территории Италии и о создании новых.
Способности главнокомандующего армией, проявленные в Италии, теперь проверялись в новых обстоятельствах, в стране с иными условиями жизни. Климат Египта, жители этой страны, их религия и нормы поведения — всё было непривычным. В этой кампании применялись методы ведения войны, отличные от методов ведения войны в Европе. Внимательный наблюдатель отметит, что трудности различного рода способствовали новым проявлениям гениальности и изобретательности руководителя экспедиции.
Во-первых, экспедиция в Египет была предпринята в соответствии с искренними желаниями Директории и главнокомандующего армией.
Во-вторых, взятие Мальты не было следствием частного соглашения, но явилось результатом мудрости главнокомандующего. «Именно в Мантуе я взял Мальту, — однажды заявил император, — именно великодушное отношение к Вюрмсеру обеспечило мне покорность гроссмейстера Мальты и его рыцарей».
В-третьих, план завоевания Египта был разработан с большой тщательностью и осуществлён крайне искусно. Если бы крепость Сен-Жан д’Акр сдалась французской армии, то на Востоке вспыхнула бы революция, главнокомандующий создал бы там империю, и судьба Франции была бы иной.
В-четвёртых, когда французская армия вернулась после сирийской кампании, она практически не имела потерь; она осталась такой же могучей, способной добиваться новых успехов.
В-пятых, отъезд главнокомандующего во Францию был выполнением великого и благородного плана. Каким смехотворным представляется тупоумие тех, кто считал этот отъезд побегом или дезертирством!
В-шестых, Клебер пал жертвой мусульманского фанатизма. Нет ни малейшего основания для абсурдной клеветы, которая объясняет эту катастрофу политикой его предшественника или интригами его преемника.
В-седьмых, и это последнее, — достаточно убедительно доказано, что Египет навсегда остался бы провинцией Франции, если бы для его защиты был назначен более способный, чем Мену, руководитель; лишь колоссальные ошибки этого генерала стоили нам потери Египта.
Император сказал, что ни одна армия в мире не была морально хуже готова к экспедиции в Египет, чем французская армия в Италии. Трудно описать чувства раздражения, недовольства, уныния и отчаяния, охватившие армию, когда она прибыла в Египет. Император видел сам, как два драгуна вышли из радов войска и бросились в воды Нила. Бертран был свидетелем того, как такие выдающиеся генералы, как Ланн и Мюрат, в приступе ярости бросили свои отделанные тесьмой шляпы в песок и стали топтать их в присутствии солдат. Император удивительно чётко объяснил проявление подобных чувств: «Эта армия имела всё, что сопутствует успеху, — заявил он. — Все, кто принадлежал к ней, были пресыщены богатством, званиями, наслаждениями и вниманием; они были негодны для пустынь и тягот Египта, и если бы эта армия не попала в мои руки, то трудно сказать, до каких крайностей она могла бы дойти».
В армии один за другим возникали заговоры, чтобы увести войска под знамёнами в Александрию или каким-то иным образом прекратить кампанию в Египте. Только авторитет, характер и слава генерала смогли сдержать войска. Однажды Наполеон, потеряв терпение, устремился к группе недовольных генералов и обратился к одному из них, отличавшемуся самым высоким ростом. «Вы занимались подстрекательством к мятежу, — гневно заявил он. — Не думайте, что, если ваш рост превышает шесть футов, это спасёт вас от расстрела через два часа».
Однако что касается действий французских войск во время схваток с врагом, то, как заявил император, эта армия никогда не переставала быть Итальянской армией: она по-прежнему сохраняла сильный характер. Труднее всего было справиться с группировкой в армии, которую Наполеон обычно называл фракцией сентименталистов: их было почти невозможно держать в узде; их разум помутнел; они
проводили ночь, глядя на луну — в надежде увидеть отражение образов своих идолов, которых они оставили в Европе. Во главе этой группировки был Бертье, который, когда главнокомандующий готовился к отплытию из Тулона, днём и ночью слал ему письма из Парижа, сообщая о том, что он нездоров и не может сопровождать Наполеона, хотя он был начальником штаба его армии. Главнокомандующий не обращал ни малейшего внимания на то, что Бертье писал и говорил. Тот более не мог находиться у ног своей возлюбленной, которая послала его в Тулон, считая это правильным поступком, и отправился в плавание вместе с Наполеоном. Прибыв в Египет, Бертье стал жертвой хандры и был не в состоянии подавить в своей душе нежные воспоминания о недавнем прошлом; он обратился с просьбой разрешить ему вернуться во Францию, и его просьба была удовлетворена. Он официально попрощался с Наполеоном, но вскоре вернулся к нему с глазами, полными слёз, заявив, что не станет позорить себя и не может отделить свою судьбу от судьбы своего генерала.
В отношении Бертье к своей возлюбленной был элемент идолопоклонства. К тенту, выделенному для него, он всегда пристраивал ещё одну палатку, которую обставлял с великолепием самого
из
элегантного будуара; там был портрет его любовницы, и Бертье иногда заходил столь далеко, что зажигал перед этим портретом ладан. Эту палатку он разбивал даже в пустынях Сирии. Наполеон говорил с улыбкой, что этот храм не раз осквернялся, когда в него тайно проникали туземные божества.
Бертье никогда не переставал быть пленником своей страсти, которая иногда доводила его до идиотизма. В первом отчёте о сражении при Маренго его адъютант, молодой Висконти, сын возлюбленной Бертье, который был всего лишь капитаном, упоминался пять или шесть раз. «Можно было подумать, — говорил Наполеон, — что сражение выиграл этот юнец!» Несомненно, главнокомандующий должен был бросить этот отчёт в лицо автора!
Император подсчитал, что обогатил Бертье в течение его жизни сорока миллионами, но предполагал, что из-за слабости характера Бертье, неправильного образа жизни и нелепой страсти тот промотал большую часть денег.
Недовольство, проявляемое войсками в Египте, к счастью, сопровождалось шутками: именно юмор всегда помогал французу переносить трудности. Солдаты были очень недовольны генералом
Каффарелли, которого считали одним из вдохновителей экспедиции в Египет. У Каффарелли была деревянная нога, — свою конечность он потерял на берегах Рейна, — и когда солдаты видели, как он ковыляет мимо них, то обычно говорили достаточно громко, чтобы он услышал: «Этому типу безразлично, что здесь происходит; в любом случае, у него одна нога во Франции».
Учёные, сопровождавшие экспедицию, также не избежали шуток в свой адрес. В Египте было множество ослов; почти у каждого солдата был один, а то и два осла, и солдаты обычно называли их полуучёными.
Главнокомандующий, покидая Францию, издал прокламацию, в которой сообщал войскам, что берёт их в страну, где сделает всех их богатыми, что каждый из них получит там шесть акров земли в своё распоряжение. Солдаты, оказавшись в самом центре пустыни, окружённые безграничным океаном песка, стали подвергать сомнению щедрость своего генерала: они решили, что он проявил исключительную сдержанность, пообещав только шесть акров. «Шутник, — говорили они, — он мог бы совершенно спокойно пообещать нам сколько угодно земли, но мы не должны злоупотреблять его добротой».
Когда армия проходила по Сирии, то не было солдата, который бы не повторял следующие строки из драмы Вольтера «Заира»:
Французы, утомясь, бороться перестали За чуждые, судьбой им не данные дали;
Зачем им покидать зелёный край родной,
Чтоб изнывать в песках Аравии сухой?
(Перевод Г.А.Шенгели.)
Однажды главнокомандующий, имея немного свободного времени, решил ознакомиться с местностью и, воспользовавшись морским отливом, отправился на противоположный берег Красного моря. Когда он возвращался, то неожиданно для него наступили вечерние сумерки и начался морской прилив. Он оказался в большой опасности и чуть было не погиб — как фараон в давние времена. «Случись это, — заметил Наполеон, — все проповедники христианства получили бы прекрасный аргумент против меня». Добравшись до арабского берега Красного моря, он принял депутацию монахов с Синайской горы, которые пришли умолять его о покровительстве и просили его начертать своё имя в древней книге записей. Наполеон написал своё имя на том же листе, где были написаны имена Али, Саладина, Ибрагима8 и других! Вспоминая этот случай, император заметил, что в течение одного года он получил письма из Рима и из
U5
Мекки; папа римский обращался к нему как к «дорогому сыну», а шериф, потомок Мухаммеда, величал его «покровителем священного храма Каабы в Мекке».
Однако это исключительное совпадение вряд ли является удивительным для Наполеона, который вёл свои армии и по раскалённым пескам тропиков, и по заснеженным степям Севера, который едва не был поглощён волнами Красного моря и едва не погиб в пламени пожара в Москве и который угрожал Индии с этих двух крайних точек Земного шара.
Главнокомандующий разделял усталость солдат. Лишения, переносимые всеми без исключения во французской армии, иногда были столь велики, что люди оспаривали друг у друга малейшие радости, которые им дарила жизнь, абсолютно невзирая на различия в армейских званиях. В пустыне солдаты доходили до таких крайностей, что с трудом уступали место генералу, чтобы позволить тому опустить руки в мутный ручей. Один раз, когда армия проходила через руины древнеегипетской крепости Пелузиум и все задыхались от жары, один соддат уступил Наполеону фрагмент двери, под которым главнокомандующий ухитрился на несколько минут спрятать
/46
свою голову в тень. «И это не было, — подтвердил Наполеон, — малой уступкой». Именно на этом месте, когда он отодвигал несколько камней у своих ног, случай помог ему стать обладателем великолепного произведения античного искусства, хорошо известного в учёном мире*.
Следуя в Азию, французская армия должна была пересечь пустыню, которая отделяет этот континент от Африки. Клебер, командовавший авангардом, ошибся в выборе дороги и заблудился в пустыне. Наполеона, следовавшего за Клебером и отстававшего от него на расстояние половины длины суточного перехода, сопровождал небольшой эскорт. С наступлением вечера он неожиданно оказался в самом центре турецкого лагеря, — турки преследовали его по
* Камея Августа, всего лишь набросок, но прекрасно выполненный. Наполеон отдал камею генералу Андреосси, страстному коллекционеру античных произведений; но когда директор Лувра господин Денон увидел эту камею, он был поражён её сходством с Наполеоном. Камея была возвращена Наполеону. Впоследствии камеей стала владеть Жозефина. Господин Денон не знает, что потом стало с камеей. (Эти сведения были мне сообщены господином Деноном после моего возвращения во Францию.)
пятам, и Наполеону удалось избежать опасности только потому, что с приближением ночи преследователи стали подозревать, что их ожидает засада. Другой причиной беспокойства являлась неопределённая судьба Клебера и его отряда, и ночь была весьма тревожной. Наконец главнокомандующий получил информацию о Клебере от встреченных в пустыне арабов, и на дромадере поспешил на поиски своих подчинённых. Наполеон нашёл их в состоянии полного отчаяния и готовыми погибнуть от жажды и усталости; некоторые молодые солдаты в приступах безумия даже разбивали свои мушкеты. При виде своего генерала они словно возродились, и их надежды пробудились. Наполеон сообщил им, что за ним следует транспорт с запасами продовольствия и воды. «Но, — сказал он, обращаясь к отряду Клебера, — если бы подвоз припасов задержался, неужели это стало бы оправданием вашего отчаяния и потери мужества? Нет, солдаты, учитесь умирать с честью».
Для продвижения по пустыне Наполеон в основном использовал дромадера. Физическая выносливость этого животного позволяла не заботиться о нём: животное почти не пило и не ело. Но его чувствительность была чрезвычайной: грубое обращение вызывало у верблюда возмущение и приводило его в ярость. Император заметил, что неровный и быстрый шаг животного вызывает у наездника тошноту, подобную морской болезни во время плавания корабля. Верблюд может проходить в день двадцать лье. Император сформировал несколько полков наездников на дромадерах, и их использование армией способствовало разгрому воинствующих арабов.
Наездник усаживается на спину дромадера и с помощью кольца, продетого сквозь ноздри животного, управляет им. Дромадер — очень послушное животное: по особому сигналу, подаваемому голосом наездника, оно становится на колени и позволяет наезднику спуститься на землю. Он может перевозить на себе очень тяжёлый груз, и его можно не разгружать на привалах. По прибытии на вечернюю стоянку груз подпирается стойками, животное ложится на землю и засыпает; с рассветом животное поднимается, груз вновь оказывается у него на спине, и оно готово продолжать путь. Дромадер является только вьючным животным и совершенно не годится в качестве рабочего скота. В Сирии, однако, местное население сумело впрячь верблюдов в ярмо и использовать их на полевых работах, тем самым значительно повысив их полезную отдачу.
Наполеон стал весьма популярен среди египтян, которые называли его Султаном Кебиром (Отцом Огня). Он вызывал особое уважение: где бы он ни появлялся, люди вставали в его присутствии; и это почтение оказывалось ему одному. Внимание, которое он оказывал шейхам, а также искусная политика помогли ему добиться их доверия и сделали настоящим правителем Египта. Его отношение к шейхам не раз спасало ему жизнь. За свою готовность разоблачать их неправедные дела Наполеон мог стать жертвой фанатизма, как это случилось с Клебером, который, наоборот, вёл себя весьма вызывающе по отношению к шейхам и погиб из-за того, что приказал бить палками по пяткам одного из них. Бертран был одним из судей, вынесших приговор убийце Клебера. Однажды во время обеда, когда Бертран рассказывал об этой истории, император заметал: «Если бы клеветники, которые обвиняют меня в том, что я был причиной смерти Клебера, знали то, о чём вы рассказываете, то они бы без раздумья назвали вас убийцей или сообщником убийцы и, разумеется, посчитали бы, что титул гофмаршала и ваше пребывание на острове Святой Елены являются наградой и наказанием за преступление».
Наполеон охотно беседовал с простыми египтянами и всегда был справедлив, что вызывало у них восторг. Когда он возвращался из Сирии, навстречу ему вышло племя арабов, чтобы выразить ему своё уважение и оказать услугу в качестве проводников.
«Вождь племени был нездоров, и его место занял его сын, юноша такого же возраста и такого же роста, как и ваш сын сейчас, — рассказывал мне император. — Он сидел на дромадере и ехал рядом, разговаривая со мной весьма фамильярным тоном. “Султан Ке- бир, — обратился он ко мне, — когда вы вернётесь в Каир, то можете воспользоваться моим советом. — Ну что ж, говорите, мой друг, и если ваш совет будет хорош, то я действительно воспользуюсь им”. — “Я скажу вам, что бы я сделал, если бы был на вашем месте.
149
Вернувшись в Каир, я тут же приказал бы самым богатым купцам, торгующим рабами, собраться на базаре и выбрал бы для себя двадцать самых красивых женщин; затем я послал бы за самыми богатыми ювелирами и заставил их передать мне значительную часть их драгоценностей; то же самое я сделал бы и с другими купцами. Какая иначе польза от власти, от того, чтобы быть могущественным правителем, если не овладевать богатствами?” — “Но, мой друг, предположим, что было бы более благородно сохранить эти богатства для других”. Это соображение, видимо, заставило юношу немного задуматься, но всё же не убедило его. Этот арабский юноша явно подавал надежды: он был полон жизни и выглядел мужественным. Он вёл за собой своё племя с достоинством, сохраняя в нём порядок. Возможно, ему суждено было на базаре в Каире последовать своему совету для собственной выгоды».
В другой раз несколько арабов, поддерживавших хорошие отношения с французской армией, проникли в пограничную деревню и там убили одного крестьянина. Наполеон был страшно разгневан и, поклявшись, что он отомстит, приказал выгнать всё племя в пустыню, обрекая его на вымирание. Этот приказ был отдан в присутствии главных шейхов, один из которых не мог удержаться от смеха при виде гневного лица Наполеона. «Султан Кебир, — обратился он к Наполеону, — сейчас вы играете с огнём. Не ссорьтесь с этим народом: они могут принести вам вред в десять раз больший, чем вы им. И, кроме того, о чём идёт речь? О том, что они убили несчастного крестьянина? Он кто, ваш двоюродный брат?» (обычная поговорка
150
в тех местах). — «Он был мне больше, чем двоюродный брат, — ответил Наполеон. — Все, кем я управляю, являются моими детьми: мне для того дана власть, чтобы я мог обеспечить их безопасность». Когда шейхи услышали эти слова, все они склонили головы и сказали: «Это замечательно! Вы говорите как Пророк».
Решение Великой мечети Каира в пользу французской армии было следствием дипломатического искусства главнокомандующего, который убедил совет главных шейхов публично объявить, что мусульмане должны подчиняться генералу и уважать его. Это первый и единственный пример подобного рода со времени создания Корана, который запрещает подчинение неверным.
Осада крепости Сен-Жан д’Акр, несомненно, явила собой исключительное зрелище, когда две враждующие европейские армии встретились у небольшого азиатского городка с одинаковой целью — обеспечить себе владение частью Африки; но ещё удивительнее то, что те, кто руководил усилиями каждой из сторон, были из одной и той же страны, одного возраста, одного звания, из одного рода войск и учились в одной и той же военной школе.
Фелиппо, талантам которого англичане и турки обязаны сохранением в своих руках крепости Сен-Жан д’Акр, был товарищем Наполеона в Парижской военной школе; они вместе сдавали экзамены,
/5/
прежде чем их направили в соответствующие армейские корпуса. «Его фигура напоминает вашу», — сказал мне император после того, как продиктовал кусок «Мемуаров», и рассказал про вред, который нанёс ему Фелиппо. «Сир, — ответил я, — есть немало общего между мною и Фелиппо; мы были близкими и неразлучными товарищами в военной школе. Когда Фелиппо находился в Лондоне вместе с сэром Сиднеем Смитом, который с его помощью сбежал из Тампля9, то он повсюду в городе искал меня. Я пришёл в его дом через тридцать минут после его отъезда; если бы не эта случайность, то я, вероятно, сопровождал бы его. В то время я ничем не был занят; перспектива приключения могла соблазнить меня, — и как могла измениться моя жизнь!»
«Мне хорошо известно, — заявил Наполеон, — то влияние, которое случай оказывает на принимаемые нами политические решения, и понимание этого всегда удерживало меня от предвзятого мнения и помогало быть снисходительным в отношении тех решений, которые принимают люди во время политических потрясений. Умение быть хорошим французом или желание быть таковым — это всё, что я ищу в любом из них.
Взять даже меня, — сказал он. — Как я осмеливался заявлять, что не может быть обстоятельств, которые вынудили бы меня эмигрировать? Такими обстоятельствами могут стать, например, близость границы, преданность другу или влияние непосредственного начальника. Во время революций мы можем говорить с уверенностью только о том, что сделали: глупо утверждать, что мы не могли поступить иначе».
Император привёл необычный пример влияния случая на судьбы людей. Серрюрье и Эдувилль, в то время, когда они пешком добирались до границы, чтобы эмигрировать в Испанию, были встречены военным патрулём. Эдувилль, который был моложе и энергичнее своего напарника, перешёл через границу. Он решил, что ему очень повезло, и влачил жалкое существование в Испании. Серрюрье, напротив, был вынужден вернуться обратно, сетовал на свою несчастливую судьбу, однако стал маршалом. Как ненадёжны человеческие расчёты на будущее!
Во время осады крепости Сен-Жан д’Акр главнокомандующий потерял Каффарелли, которого очень любил. Каффарелли испытывал к нему нечто вроде благоговейного уважения. Влияние этого чувства было столь огромным, что когда он в течение нескольких дней перед кончиной находился в бреду и Наполеон пришёл навестить его, то объявление имени главнокомандующего, казалось, вернуло Каффарелли к жизни: он стал более собранным, его душевное состояние улучшилось, и он связно разговаривал; но после ухода Наполеона
152
он сразу же впал в прежнее состояние. Этот феномен повторялся всякий раз, когда главнокомандующий наносил ему визит.
Во время осады Наполеон стал объектом проявления трогательной и героической преданности. Когда он находился в траншее, к его ногам упал снаряд; два гренадёра, увидев это, немедленно бросились к нему, поставили его между собой и, подняв руки над
его головой, полностью прикрыли всё его тело. К счастью, снаряд отнёсся с уважением ко всей группе: никто не пострадал.
Один из этих храбрых гренадёров стал генералом Доменилем, который потерял ногу в московской кампании и командовал крепостью Венсенн во время вторжения вражеских войск во Францию в 1814 году. Столица уже в течение нескольких недель была оккупирована союзниками, но Домениль по-прежнему отстаивал крепость. Тогда в Париже говорили о его мужестве и о его не лишённом юмора ответе русским, призывавшим его сдаться: «Отдайте мне обратно мою ногу, и я отдам вам мою крепость».
Французские солдаты имели чрезвычайно высокую репутацию в Египте, и не без оснований: они побили и разогнали знаменитых мамелюков, самую могущественную военную силу на Востоке. После отступления из Сирии турецкая армия высадилась в Абукире; Му- рад-бей, наиболее влиятельный и храбрый из мамелюков, покинул Верхний Египет, куда сбежал из соображений безопасности, и добрался до турецкого лагеря окружным путём. Когда высадились турки, французский отряд отступил, чтобы сконцентрировать свои силы. Паша, командовавший турками, обрадовался этому манёвру,
154
который он ошибочно принял за проявление страха, и когда он увидел Мурад-бея, то с ликованием воскликнул: «Вот так! Таковы эти ужасные французы, которых ты не смог встретить лицом к лицу; стоило мне появиться у берега, как они стали удирать, не дожидаясь меня». Возмущённый Мурад-бей в ярости ответил: «Паша, благодари Пророка, что он упросил тех французов отступить; если они решат вернуться, то ты исчезнешь до их появления, как пыль, гонимая ветром».
Его слова оказались пророческими: через несколько дней французы атаковали турецкую армию и обратили её в бегство. Мурад- бей, беседовавший с несколькими нашими генералами, был очень удивлён их тщедушным телосложением и неяркой внешностью. Восточные люди придают большое значение телосложению, поэтому они не могли понять, как так много способностей помещаются в теле небольших размеров. Лишь внешность Клебера соответствовала их представлению о правильном соотношении разума и телосложения:
155
он был высокого роста, выглядел блестяще, но его манеры отличались грубостью. Его пренебрежительное отношение к египтянам заставило их считать, что он не француз; действительно, хотя Клебер был уроженцем Эльзаса, свои молодые годы он провёл в прусской армии и вполне мог сойти за немца. Кто-то говорил, что в юности Клебер был янычаром; услышав это, император разразился смехом, сказав, что кто-то наговаривает на него.
Гофмаршал Бертран рассказал императору, что в сражении при Абукире он впервые оказался в расположении его армии и был поблизости от него. Тогда он мало знал о смелости его манёвров и не понимал его приказаний. «Особенно, сир, — добавил он, — в том случае, когда вы крикнули одному офицеру: “Эркюль, дружище, возьми с собой двадцать пять солдат и атакуй этот сброд!” Я тогда подумал, что сошёл с ума: Ваше Величество показали рукой на отряд в тысячу турецких всадников».
Всё же потери, понесённые французской армией в Египте, были далеко не такими значительными, как можно было бы ожидать в стране, к условиям которой войска непривычны, особенно если принимать во внимание вредность климата, нехватку материальных ресурсов, смертоносную эпидемию чумы и многочисленные сражения, обессмертившие эту армию. Когда французская армия высадилась в Египте, то насчитывала 30 000 человек. Это число несколько увеличилось после гибели французской эскадры в битве при Абукире и, возможно, за счёт прибытия из Франции частичного подкрепления, и, тем не менее, общие потери, понесённые армией от начала
156
кампании до момента составления официального доклада начальником отдела армии, ведающего списком личного состава и военного снаряжения, составляли 8915 человек*.
Этот человек, чья жизнь полна чудес, настолько приучил нас к ним, что один из его поступков, не имеющий себе равных в истории, почти не привлекает нашего внимания. Когда Цезарь перешёл Рубикон, то в его руках была армия и он наступал, чтобы защитить себя. Когда Александр Македонский, движимый пылом юности и пламенем гениальности, высадился в Азии, чтобы воевать с великим монархом, то он, Александр, был сыном монарха, сам был монархом и стремился добиться славы и удовлетворения своего честолюбия во главе армии своего царства.
Наполеон был простым смертным, чьё имя не было известно миру ещё тремя годами ранее, ничего не имевшим, кроме репутации победителя в нескольких сражениях, собственного имени и осознания своей гениальности. Потрясённый до глубины души рассказами о бедах своей страны, он воскликнул: «Франция будет потеряна из-за этих краснобаев и пустомель! Пришло время спасать её!» Он покинул свою армию, пересёк моря, рискуя собственной свободой и репутацией, добрался до берегов Франции и поспешил в столицу. Он встал у кормила власти, прекратил беспорядки, будоражившие страну, вернул её на истинный путь здравого смысла и справедливости и с этого момента стал готовить её к невероятному возвышению до положения всесильной державы, овеянной славой. Он встал у руля власти, не пролив ни единой капли крови, — это деяние можно считать одним из самых грандиозных и величественных, о которых когда-либо было известно.
Отъезд Наполеона из Египта будет воспринят беспристрастными потомками с удивлением и восхищением, хотя в своё время некоторыми людьми он был заклеймён как побег и даже как позорное дезертирство.
Однако армия, которую оставил Наполеон, продолжала оккупировать Египет ещё на протяжении двух лет. Император придерживался
* Убито в сражениях 3614
Скончались от ран 854
Скончались в результате различных несчастных случаев 290
Скончались в результате общих заболеваний 2468
Скончались от чумной лихорадки 1689
Всего 8915 Каир, 10-го фримера, год IX
Подписал:
Сартлон, начальник отдела армии, ведающего списком личного состава и военного снаряжения.
157
того мнения, что нельзя отказываться от Египта, и гофмаршал, остававшийся с армией в Египте до последней минуты, был согласен с этим мнением.
После отъезда главнокомандующего его преемником стал Клебер. Обманутый и введённый в заблуждение в результате интриг, он рассматривал вопрос об эвакуации французских войск из Египта. Но, когда активность вражеских войск заставила его искать славу на полях сражений и провести более точную оценку собственных сил, он полностью изменил свою точку зрения и открыто заявил о том, что является сторонником продолжения оккупации Египта. Это его мнение получило всеобщее одобрение в армии. Клебер теперь думал только об укреплении своей власти в стране; он удалил от себя всех тех, кто ранее стремился воздействовать на него, добиваясь эвакуации французской армии из Египта, и окружил себя только теми, кто придерживался прямо противоположного мнения. Если бы он оставался в живых, то Египет был бы сохранён для Франции; потеря Египта должна быть приписана смерти Клебера.
После его кончины командование армией было поделено между Мену и Ренье, затем оно превратилось в настоящее поле для интриг. Высокий боевой дух и мужество французских войск не стали основой новых побед, как то было при Клебере. Мену был совершенно неспособен командовать армией; англичане, которых было двадцать тысяч человек, наступали, собираясь атаковать его армию; силы Мену значительно превышали силы врага, но боевой дух упал. Вследствие непостижимого безрассудства Мену поспешно рассредоточил свои войска, как только узнал о том, что англичане вот-вот появятся. Они продвигались единой массой, подвергаясь редким атакам со стороны небольших французских отрядов. «Насколько слепа фортуна, — сказал император. — Если бы против англичан действовали совершенно иначе, их бы обязательно разгромили».
Как рассказал гофмаршал, высадка англичан на берег Египта представляла собой впечатляющее зрелище: менее чем за пять минут пять тысяч пятьсот английских солдат высадились на берег, готовые к бою. Это было поистине театральное действо, и оно повторилось трижды. Английским войскам противостояли только тысяча двести французов, которые нанесли англичанам значительный урон. Немного позже английская армия, насчитывающая до четырнадцати тысяч человек, была отважно атакована генералом Ланюссом. Генерал имел в своём распоряжении войско, состоящее лишь из трёх тысяч человек; его солдаты сражались со страстным желанием и, несомненно, могли добиться цели, поставленной генералом, если бы он дождался подкрепления; сначала он всё смёл на своем пути и нанёс большой урон врагу, но, в конце концов, всё же потерпел
поражение. Если бы численность его войска была на три тысячи солдат больше, он бы добился своей цели.
Англичане были весьма удивлены, когда получили возможность оценить наше реальное положение в Египте; и они считали, что им чрезвычайно повезло в том, как сложились их дела.
Генерал Хатчинсон, который пожинал плоды победы англичан, заявил, когда вернулся в Европу, что если бы англичанам было известно действительное положение вещей, то они, конечно, никогда бы не пытались осуществить высадку своих войск на берег Египта; но в Англии полагали, что в Египте находится не более шести тысяч французских солдат. Ложная разведывательная информация, собранная в самом Египте, и содержание перехваченных писем французов стали основой ошибочных оценок. «Это так естественно для французов, — заявил Наполеон, — преувеличивать, ворчать и представлять всё в ложном свете всякий раз, когда они чем-то недовольны. Однако все эти донесения о плачевном положении французов в Египте составлялись просто под воздействием дурного настроения или больного воображения; в них сообщалось, что в Египте свирепствует голод, что французы разбиты во всех новых сражениях, что чума поразила всю армию, что не осталось ни одного солдата...»
Питта в конце концов убедили в том, что доклады точно отражают реальность. Первый консул видел донесения, которые его преемник направлял Директории, а также письма различных лиц, находившихся во французской армии. Кто может объяснить содержавшиеся в них противоречия? Кто может впредь доверять частным источникам, чтобы обосновать свою точку зрения? Клебер, главнокомандующий
159
французской армией в Египте, информировал Директорию о том, что в его распоряжении находятся только шесть тысяч солдат, в то время как в тот же пакет, вместе с информацией Клебера, был вложен отчёт инспектора проведённого парада войск, в котором участвовали свыше двадцати тысяч солдат. Клебер объявлял, что остался без денег, но, по данным казначейства, он обладал огромными суммами. Главнокомандующий утверждал, что артиллерия армии представляет собой лишь орудия, лишённые боеприпасов, в то время как данные артиллерийского ведомства говорили о том, что запасов боеприпасов хватило бы на несколько военных кампаний. «Таким образом, если бы Клебер, в результате начатых им переговоров, эвакуировал французскую армию из Египта, — заявил император, — то я, несомненно, отдал бы его под суд по его возвращении во Францию, а все эти противоречивые документы представил бы на рассмотрение Государственного совета».
По письмам Клебера, главнокомандующего французской армией в Египте, можно было судить о тоне писем офицеров более низкого звания и простых солдат. Однако эту корреспонденцию ежедневно перехватывали англичане; они её перепечатывали и использовали в качестве руководства к действию в своих военных операциях. Должно быть, они очень дорожили этой информацией. Император заметил, что во всех своих военных кампаниях он придавал большое значение перехваченным письмам, которые иногда оказывались для него весьма полезными.
Среди писем, попадавших тогда в его руки, Наполеон обнаруживал и такие, которые содержали гнусные нападки на его личность. Некоторые из этих писем он принимал довольно близко к сердцу, потому что они были написаны людьми, которых он осыпал милостями, на которых полностью полагался и которые, как он считал, были безмерно преданы ему. Один из этих людей, которому он помог разбогатеть и которому доверял самым искренним образом, утверждал, что главнокомандующий скрылся после того, как ограбил казначейство на два миллиона. К счастью, среди депеш, присланных той же самой почтой, находились отчёты казначея армии, из которых явствовало, что генерал даже не получил полностью сумму, причитающуюся ему для выплаты. «Когда я прочитал это письмо, — сказал император, — я в самом деле почувствовал отвращение к человечеству. То было первое нравственное разочарование, которое я когда-либо испытал; и если оно и не было единственным, то, по крайней мере, было наиболее жестоким. Многие в армии считали, что со мной покончено...»
Автор вышеупомянутого письма впоследствии пытался вновь добиться благосклонности императора. Наполеон дал понять, что не будет возражать против назначения этого человека на скромную
должность, но что он никогда не станет вновь видеться с ним. На любое обращение к нему со стороны этого человека он постоянно отвечал, что не знает его, — это была единственная месть, которую император позволил себе.
Император неустанно повторял, что Египет должен оставаться владением французов; так и было бы, если бы страну защищали Клебер или Дезэ. «Они оба были моими наиболее выдающимися заместителями, — говорил Наполеон, — оба обладали большими и редкими достоинствами, хотя резко отличались друг от друга характерами и склонностями».
Клебер обладал способностями от природы; таланты Дезэ были результатом образования и усердия. Способности Клебера проявлялись только в особые моменты, в ходе важных событий, затем он вновь погружался в сладкую дремоту лености и удовольствий. Способности Дезэ всегда проявлялись во всей своей полноте; он жил только ради благородного честолюбия и истинной славы, его характер сформировался по античному образцу. Император говорил, что смерть Дезэ была для него, возможно, величайшей из понесённых им потерь. Сходство между императором и Дезэ в их образовании и в следовании определённым принципам способствовало взаимопониманию между ними. Дезэ был удовлетворён ролью второго человека в армии и всегда оставался преданным и верным другом императора. Если бы он не был убит во время сражения при Маренго, то Первый консул назначил бы его командующим армией в Германии, вместо Моро. Весьма удивительное совпадение в судьбе двух заместителей Наполеона заключалось в том, что в один и тот же день, в один и тот же час Клебер пал от руки убийцы в Каире, а Дезэ был убит пушечным ядром в сражении при Маренго.
Метод диктовки императора
1 — 3 октября 1815 года
Направление ветра, состояние моря и температура воздуха по-прежнему оставались без изменений. Ветер, дующий в западном направлении, который поначалу нам благоприятствовал, теперь начал становиться для нас помехой. Мы взяли курс к востоку, надеясь встретиться с пассатами, но теперь оказались с подветренной стороны от нашего места назначения, — обстоятельство, которое нас всех удивило и вызвало недовольство членов команды корабля.
Император каждое утро регулярно продолжал свою диктовку, к которой он с каждым днём проявлял всё больший интерес; соответственно, время для него тянулось менее мучительно.
161
Корабль был отправлен из английского порта с такой поспешностью, что некоторые ремонтные работы остались незавершёнными и покраску корабля заканчивали на ходу. Чувство обоняния у императора чрезвычайно обострено, и запах краски был столь неприятен для него, что в течение двух дней он был вынужден не выходить из своей каюты.
Каждый вечер, когда мы прогуливались по палубе, император любил возвращаться к теме наших утренних занятий. Поначалу он не обращался к каким-либо документам, кроме незначительной работы, озаглавленной «Войны французов в Италии», явно незавершённой, не ставившей перед собой определённой цели и лишённой связного хронологического плана. Император перелистал книгу, и его память восполнила все её недостатки; этот его дар казался мне просто поразительным, поскольку он всегда, видимо, приходил на помощь, когда император в нём нуждался, и исправно служил ему.
Когда император начал свои ежедневные диктовки, он всегда жаловался на то, что события, к которым он мысленно хотел возвратиться, он воспринимает отстранённо. Казалось, что он хотел вернуть себе самоутверждение, когда говорил, что никогда не сможет решить задачу, которую сам себе определил. Поразмышляв несколько минут, император обычно вставал, прогуливался по каюте и затем начинал диктовать. С этого момента он становился совершенно иным человеком: слова лились плавно; он говорил, словно охваченный вдохновением; места, даты, фразы — ничто не вызывало задержки его речи.
На следующий день я прочитывал ему то, что он мне диктовал. После первой же правки текста он продолжал развивать ту же тему, словно накануне не касался её. Разница между первой и второй версией была очень большой: последняя была более ясной и пространной, а также лучше систематизирована.
В день, следовавший за днём первой правки, повторялась та же самая операция, и император начинал свою третью диктовку, с тем чтобы согласовать обе предыдущие. Зато позже, если он диктовал в четвёртый, в седьмой, в десятый раз, это было точным повторением тех же мыслей, тех же конструкций фраз и почти тех же самых слов. Он не обращал никакого внимания на то, что происходило рядом с ним, не интересовался тем, успеваю ли я записать его слова, и продолжал диктовать до самого конца рассматриваемой темы. Было бы напрасно просить его повторить то, что писавший неясно расслышал, — император по-прежнему продолжал диктовать; и так как он диктовал очень быстро, то я никогда не осмеливался прерывать его, чтобы не упустить ещё больше из того, что он диктовал, и окончательно не потерять нить его повествования.
162
Странный случай
4—7 октября 1815 года Продолжает дуть юго-западный ветер, и это создаёт нам трудности. Теперь мы плывём назад, вместо того чтобы продвигаться вперёд, и нас занесло в Гвинейский залив. Там мы встретили корабль и пообщались с членами его команды. Это был французский корабль, который, как и мы, сбился с курса. Он вышел из порта в Бретани и направлялся на остров Бурбон. Император страдал от недостатка книг, и я в шутку сказал, что, возможно, на борту этого корабля находится ящик, наполненный книгами, который несколько месяцев назад я отправил на остров Бурбон. Но это оказалось правдой. Такова воля случая! Если бы я занялся поиском этого корабля, то напрасно бороздил бы океан. Это был тот самый корабль, — на следующий день я узнал его название от офицера, посетившего его. Этот офицер сильно удивил французского капитана, рассказав ему, что император Наполеон находится на борту корабля, который он видит перед собой и который направляется на остров Святой Елены. Бедняга печально покачал головой и сказал: «Вы забрали наше сокровище, вы забрали того, кто знал, как управлять государством в соответствии с нашими вкусами и нравами».
Жалобы команды корабля на адмирала — Просмотр ещё одной книги — Опровержения и размышления
8—11 октября 1815 года
Погода по-прежнему не менялась. Каждый вечер мы утешали себя надеждой на то, что после неудачного дня погода изменится ночью, но утром мы вставали и испытывали то же самое разочарование. Мы находились вблизи берега Конго и старались удалиться от него. Все тосковали и выражали недовольство. Команда жаловалась на адмирала: если бы он следовал обычным курсом, говорили члены команды, то мы давно добрались бы до места назначения; его каприз заставил его, вопреки здравому смыслу, пойти на эксперимент с неизвестными последствиями. Христофором Колумбом, наверное, были недовольны ещё больше; мы бы не возражали, если бы адмирал нашёл другой Сан-Сальвадор, чтобы погасить недовольство. Что касается меня, то, поскольку я был полностью загружен работой, это обстоятельство практически осталось вне поля моего зрения; и, в конце концов, одна тюрьма не лучше другой.
163
Император по-прежнему оставался равнодушным к этой задержке и отмечал лишь количество прошедших дней.
«Мемуары Наполеона Бонапарта, написанные тем, кто в течение пятнадцати лет постоянно находился рядом с ним» — таково название книги, которую я начал изучать после произведений сэра Роберта Вильсона. Эта книга, насчитывающая триста страниц, написана анонимным автором, — обстоятельство само по себе достаточное для того, чтобы вызвать недоверие к ней с самого начала. Но план и стиль работы вскоре вызывают ещё больше сомнений у думающего читателя, способного оценивать книги. Наконец, тот, кто видел и немного знает императора, без колебаний заявит после прочтения первых страниц, что эта работа представляет собой всего лишь выдумку, сочинение, написанное по чьей-то воле, что автор никогда не был близок с императором, что автор не знает ни языка, ни привычек императора, да и всего того, что связано с ним. Император никогда бы не сказал министру: «Граф, сделайте это», «Граф, выполните то». Послы никогда не приглашались на утренние приёмы у императора. Наполеон в возрасте четырнадцати лет не мог находиться в обществе дамы, потому что в возрасте от десяти до шестнадцати лет он учился в военной школе, где не мог быть представлен обществу дам. Читая, отмечаешь: это был не Периньон, — тот не знал Наполеона, — а Дюгомье, который был его генералом и который рекомендовал его Директории; это было письмо о восстановлении демократии, а не Бурбонов, которое Первому консулу адресовал офицер, и т.д.
Вся Европа знала, что император сохранял полнейшую секретность в отношении своих планов и мнений, никогда не прибегал к жестам и тем более к монологам, которые могли бы выдать его мысли, и никогда гнев не вызывал у него приступов безумия или эпилепсии, — абсурдная ложь, которая долго циркулировала в салонах Парижа, но от которой отказались, когда выяснилось, что подобные инциденты никогда не случались. Эти мемуары, безусловно, были результатом определённого заказа, спекуляцией какого-то книгопродавца, который снабдил автора мемуаров их заглавием. Что бы там ни было, можно заметить, что, описывая карьеру императора, столь знаменитую, и лиц из его окружения, автор мог бы проявить большую тщательность исследования и лучшее знание предмета. Он чувствует свою ущербность, давая книге такое название, и стремится защитить себя, заявляя, что вынужден менять имена и что из лучших побуждений он не хотел точно описывать некоторых людей; и он соблюдает ту же осторожность в отношении фактов — с тем чтобы их нельзя было перепроверить. Эти факты в основном являются плодами его фантазии.
164
Сказанное касается историй с потерей документа, что причинило столько головной боли главнокомандующему французской армией в Египте, с советом молодого англичанина, приведшим Бонапарта в состояние восторга в связи с тем, что эта рекомендация открывала перед ним блестящую перспективу обогащения в Константинополе, а также настоящей мелодрамы в стенах Мальмезона, где героизм госпожи Бонапарт (которая преподносится читателю в виде властной амазонки) своевременно обеспечил безопасность её супруга. Все эти истории, возможно, вызовут интерес у читателя, но они являются сплошной выдумкой, а история, касающаяся Мальмезона, свидетельствует о том, что о характере и нравах императрицы Жозефины автор знает не больше, чем о характере и нравах императора. Однако писатель, расхваливая некоторые черты характера императора, отдавая должное некоторым его поступкам и разоблачая отдельные лживые утверждения, создаёт видимость беспристрастности, которая, вместе с его мнимой близостью к императору на протяжении пятнадцати лет, производит неизгладимое впечатление на простых читателей. Большинство англичан на борту корабля воспринимали содержание этой книги как непреложную истину. Их мнение не изменилось даже тогда, когда они поняли, что личность императора сильно отличается от той, которая изображена в этих историях-небылицах. Англичане скорее верили тому, что превратности судьбы и практически тюремное заключение, которому подвергли императора, стали причиной изменения его характера, чем предполагали, что утверждения, приведённые в книге, лживы.
На мои высказывания по этому поводу они постоянно отвечали: «Но автор беспристрастный человек, и к тому же он был рядом с императором в течение пятнадцати лет». — «Но, — возражал я, — разве вам знакомо имя этого человека? Если он оскорбит вас в своей книге, то каким образом вы могли бы привлечь его к судебной ответственности? Любой из вас, находящийся на борту этого корабля, мог бы написать такую книгу!» Конечно, эти аргументы оставались без ответа; англичанам было трудно преодолеть свои первые впечатления — так же, как и общей массе читателей, ибо таково неизбежное следствие напечатанной лжи!
Но я не буду продолжать разбор книги, которая не заслуживает дальнейшего упоминания. Когда я пересматривал эту рукопись в Европе, то понял, что общественное мнение стало настолько развитым, что мне стыдно тратить время на разоблачение лживых утверждений, которые уже давно отвергнуты здравомыслящими людьми и теперь повторяются только глупцами.
Когда я пытаюсь опровергнуть лживое мнение, которое автор вышеупомянутой книги считает нужным создать в отношении личности Наполеона, то можно подумать, что я стремлюсь подменить
165
это мнение своим собственным; но как раз именно этого я и буду тщательно избегать. Я ограничусь только тем, что стану записывать в свой дневник всё, что видел и слышал; я буду записывать беседы императора. Ничего другого ожидать не следует.
12 — 13 октября 1815 года Незначительно изменяя курс и проявляя терпение, мы постепенно приближались к конечному пункту нашего путешествия; и хотя мы были лишены возможности использовать муссонное течение, тем не менее, мы теперь находились недалеко от места нашего назначения. По мере того как мы следовали по намеченному курсу, погода постепенно улучшалась, и наконец направление ветра стало для нас наиболее благоприятным; но это изменение погоды и направления ветра случилось только за двадцать четыре часа до нашего прибытия на остров Святой Елены.
14 октября 1815 года
Адмирал ранее сообщил нам, что в этот день он предполагает увидеть берег острова Святой Елены. Мы едва встали из-за обеденного стола, как услышали радостный возгдас: «Земля!» Это случилось за четверть часа до назначенного времени. Ничто не может лучше свидетельствовать о достижениях в области кораблевождения, чем способность моряков предсказывать час прибытия к определённому месту в бескрайней глади океана. Император вышел на бак корабля, чтобы увидеть остров; он утверждал, что разглядел его, но я ничего не смог увидеть. Ночью мы легли в дрейф.
Прибытие к острову Святой Елены
15 октября 1815 года
С рассветом я довольно хорошо разглядел остров. Сначала я подумал, что он достаточно большой, но по мере того как мы приближались к нему, оказалось, что его размеры значительно меньше. Наконец, через примерно семьдесят дней после нашего отплытия от берегов Англии и через сто десять дней после нашего отъезда из Парижа, в полдень мы бросили якорь. Это было первым звеном в цепи, которая должна была приковать современного Прометея к скале.
Мы увидели несколько кораблей нашей эскадры, стоявших на якоре. Одни ранее ушли от нас, а другие мы оставили позади себя, однако все они прибыли к острову за несколько дней до нас, — ещё одно доказательство большой неточности навигационных расчётов.
166
Император, вопреки своей привычке, оделся рано и вышел на палубу; мы подошли к сходне, чтобы посмотреть на остров. Нашему взору предстала какая-то деревня, окружённая большим количеством бесплодных и голых вершин, поднимавшихся к облакам. На каждой площадке, в проёме или выступе каждой горы можно было заметить пушки. Император рассматривал открывшуюся перед ним панораму в подзорную трубу. Я стоял позади него и не отводил взгляда от его лица, которое, насколько я мог заметить, не меняло своего выражения; и тем не менее он видел перед собой, возможно, свою вечную тюрьму, возможно, свою могилу! Что мне оставалось чувствовать или выражать словами?!
Император вскоре покинул палубу. Он пожелал, чтобы я пошёл с ним в его каюту, чтобы продолжить наши обычные занятия.
Адмирал, отправившийся на берег рано утром, вернулся на борт корабля около шести часов вечера очень уставшим. Он обошёл различные места на острове и, в конце концов, нашёл пристанище, которое, как он считал, удовлетворит нас. Однако это помещение нуждалось в ремонте, который мог занять месяца два. Мы находились в заточении в нашей плавучей деревянной тюрьме почти три
167
месяца, и в соответствии с категоричными указаниями кабинета министров Англии нам предстояло быть в ней до тех пор, пока новая тюрьма на берегу не будет готова для нашего приёма. Адмирал, отдадим ему должное, был неспособен на такое варварство: он сообщил нам, что возьмёт на себя ответственность, высадив нас на берег на следующий день.
Высадка императора на остров Святой Елены
16 октября 1815 года
После обеда император, сопровождаемый гофмаршалом, сел в лодку и отправился на берег. Следуя удивительному и непреодолимому порыву, все офицеры корабля собрались на шканцах, а большая часть команды — на сходнях. Это не было проявлением любопытства, — оно могло бы и исчезнуть после трёхмесячного знакомства. Теперь оно сменилось живейшим интересом к императору. Император, прежде чем спуститься в лодку, пригласил к себе капитана корабля и попрощался с ним, попросив его поблагодарить офицеров и команду корабля. Слова императора, судя по всему, произвели большое впечатление. Остальные члены свиты императора высадились на берег около восьми часов вечера. Нас сопровождали несколько офицеров, и все на борту корабля были заметно взволнованы нашим отъездом.
Мы нашли императора в предназначенных ему меблированных апартаментах; через несколько минут после нашего прибытия он поднялся по лестнице в свою комнату, куда мы все были приглашены. Его жилищные условия были не лучше, чем на борту корабля. Нас всех разместили в доме, напоминавшем гостиницу или отель.
Город острова Святой Елены состоит лишь из одной очень короткой улицы с рядом домов.
Император выбирает флигель коттеджа «Бриары» в качестве места своего проживания — Описание флигеля — Жалкое существование
17 октября 1815 года
В шесть часов утра император, гофмаршал и адмирал выехали на лошадях, чтобы посетить Лонгвуд — дом, который был выбран в качестве резиденции императора. Лонгвуд находится на расстоянии
168
двух лье от города. Возвращаясь обратно, они увидели небольшую виллу, расположенную в долине на расстоянии около двух миль от города. Император с большим нежеланием возвращался к месту, где провёл прошлую ночь и где чувствовал себя в гораздо большей изоляции от внешнего мира, чем на борту корабля. Он был вынужден буквально заточить себя в своей комнате на втором этаже из-за того, что у входа в дом поставили двух часовых, а также потому, что местные жители, сгорая от любопытства, без конца шли к дому, заглядывая в окна первого этажа апартаментов императора. Ему понравился небольшой флигель, примыкавший к вышеупомянутой вилле, и адмирал согласился с тем, что императору будет более приятно жить в этом месте, чем в городе. Выбрав это место для своей резиденции, император сразу же послал за мной. Он настолько втянулся в работу над мемуарами о военных кампаниях в Италии, что не мог даже временно прекратить её. Я сразу же присоединился к императору, чтобы жить вместе с ним.
Долина, в которой расположен единственный город острова Святой Елены Джеймстаун, простирается на значительное расстояние в глубину острова, петляя между двумя цепями бесплодных гор, которые окаймляют её с обеих сторон. По этой долине проложена неплохая дорога для карет, длиной примерно в две мили; затем эта дорога ведёт по горному выступу, поднимаясь по левой стороне горного склона, в то время как справа можно видеть только обрывы и пропасти. Далее суровый вид местности постепенно смягчается, и с дороги внизу видна панорама небольшой долины, в которой разбросаны дома в окружении деревьев и различного рода растительности, — это маленький оазис среди скалистой пустыни. Здесь находится скромная резиденция господина Балькомба, оптового торговца острова Святой Елены.
На расстоянии тридцати-сорока шагов от жилого дома на небольшой возвышенности стоит летний домик, или флигель, в который в хорошую погоду семья владельца коттеджа обычно отправляется пить чай и приятно проводить время. Это скромное пристанище, снятое адмиралом, стало временной резиденцией императора, куда он и переехал утром. Когда я поднимался по петляющей дорожке, ведущей к флигелю, мне показалось, что я увидел императора. Я остановился, чтобы посмотреть на него. Это в самом деле был Наполеон, который слегка наклонился вперёд, заложив руки за спину; он, как обычно, был опрятно одет, на нём были простой мундир и знаменитая шляпа. Когда я подошёл к императору, он стоял на пороге в дверях, насвистывая мотив французской народной песни. «А! — воскликнул он. — Вот и вы! Почему вы не взяли с собой сына?» — «Сир, — ответил я, — уважение, которое я испытываю к вам,
169
не позволило мне сделать это». — «Вы не должны находиться с ним в разлуке, пошлите за ним».
Никогда, ни в одной из своих кампаний и ни в одной из жизненных ситуаций в прошлом, император не жил, кажется, в таком жалком обиталище и не испытывал так много лишений. Первый этаж флигеля занимает одна комната, почти квадратная. Если войти в неё, то прямо напротив, на противоположной стороне, можно увидеть ещё одну дверь. Справа и слева от дверей на каждой из сторон комнаты имеется по паре окон. На них нет ни занавесок, ни ставней. В комнате практически не на что сесть.
Император захотел прогуляться, но вокруг флигеля нет ровной площадки: он окружён обломками скал и большими камнями. Император взял меня под руку и стал говорить в весёлом тоне. Надвигался вечер, и было абсолютно тихо; в условиях никем и ничем не нарушаемого покоя какое множество чувств и настроений овладело мною в ту минуту! Я был в пустыне, наслаждаясь доверительной беседой с человеком, который правил миром! С самим Наполеоном! Какими благоговейными чувствами я был охвачен! Чтобы понять их, следует вспомнить дни его прошлой славы, то время, когда одного его декрета было достаточно, чтобы ниспровергать троны и делать королей! Надо вспомнить о том, какие чувства он
вызывал у тех, кто окружал его в Тюильри: застенчивое смущение и глубокое уважение его министров и офицеров, когда они приближались к нему, беспокойство и благоговейный страх послов, принцев и даже королей! Я весь был во власти этих чувств.
Когда император собрался идти спать, мы обнаружили, что одно из окон (которые, как я уже заметил, не имели ни занавесок, ни ставней) находится вблизи его постели, почти на уровне его лица. Как могли, мы заткнули все щели этого окна, чтобы исключить возможность сквозняка, к воздействию которого император очень восприимчив. Малейшего сквозняка достаточно для того, чтобы вызвать у него простуду или зубную боль. Я же поднялся по лестнице из прихожей, расположенной перед комнатой императора, в чердачное помещение как раз над его комнатой; на чердаке, размеры которого не превышают семи квадратных метров, есть постель и ни одного стула; эта каморка стала жилищем для меня и моего сына, — для него на полу разложен матрас. Но разве мы имеем право жаловаться, если так близко от нас император? Мы можем слышать звук его голоса и даже его слова! Камердинеры спали на полу в прихожей, завернувшись в плащи. Таково достоверное описание первой ночи, которую Наполеон провёл в «Бриарах».
Описание поместья «Бриары» — Сад — Император встречает юных жительниц коттеджа
18 октября 1815 года
Я завтракал вместе с императором. У него не было ни скатерти, ни тарелок; в качестве завтрака ему доставили остатки вчерашнего обеда. В соседнем доме разместился английский офицер — наш охранник. А для того чтобы следить за нами, перед нашими глазами маршировали, словно на военном параде, два офицера более низкого звания. После завтрака император приступил к диктовке, которая заняла у него несколько часов. Затем он отправился осматривать окружавшую нас местность.
Спустившись с нашего холма по стороне, обращённой к главному дому поместья, мы обнаружили тропинку, окаймлённую живой изгородью и ведущую к краю обрыва. Пройдя по тропинке примерно двести шагов, мы подошли к небольшому огороженному саду, калитка которого была распахнута. Участок, занимаемый садом, длинный и узкий. Сад разбит на очень неровном грунте, из-за этого прогулка по нему спокойным шагом растягивается на некоторое
fff
время. От калитки начинается аллея, протянувшаяся до самого конца сада; в этом месте находится другая калитка, около которой стоят две небольшие хижины для негров, присматривающих за садом. В нём — несколько фруктовых деревьев и немного выращенных цветов.
Не успели мы войти в сад, как нас встретили две дочери владельца коттеджа, девушки примерно четырнадцати и пятнадцати лет; одна из них была бойкой и, видимо, легкомысленной и беззаботной, вторая была более уравновешенной, но в то же время отличалась простотой манер; обе девушки немного говорили по-французски. Они прошлись по саду, собирая букет цветов, чтобы затем вручить его императору, которого они забросали самыми эксцентричными и нелепыми вопросами. Императора очень позабавила их фамильярность, к которой он не привык. «Мы словно побывали на бале-маскараде», — сказал император, когда девушки удалились.
Французская молодёжь — Император посещает дом господина Балысомба
19 — 20 октября 1815 года
Император пригласил моего сына на завтрак, — можно легко представить безмерную радость моего сына от оказанной ему чести! Вероятно, первый раз в жизни он оказался рядом с особой императора и говорил с ним; и, несмотря на это, он не выглядел особенно взволнованным.
Стол по-прежнему не был покрыт скатертью; завтрак императору продолжали привозить из города. Утренняя трапеза состояла из двух или трёх скудных блюд. В этот день на завтрак привезли курицу. Император пожелал сам разрезать курицу и поухаживал за нами, положив её куски нам на тарелки. Император был удивлён тем, что успешно справился с этой задачей: как он объяснил, прошло много времени с тех пор, когда ему приходилось заниматься чем-то подобным, ибо, добавил он, вся его учтивость была им потеряна, когда он стал командовать армией в Италии.
Кофе для императора является жизненной необходимостью, но на сей раз он оказался настолько скверным, что, попробовав его, император решил, что кофе отравлен. Он отослал этот кофе обратно и заставил меня сделать то же самое с моим кофе.
После этого император стал нюхать табак из табакерки, украшенной античными медальонами, вокруг которых были надписи на греческом языке. Император не был уверен в том, что знает имя одного из тех, кто был изображён на медальоне, и попросил меня перевести греческую надпись; и когда я ответил, что это не в моих силах, он рассмеялся и сказал: «Я вижу, что вы такой же грамотей, как и я». Тогда мой сын дрожащим от волнения голосом осмелился предложить сделать перевод надписей и прочитал на табакерке имена Митридата, Деметрия, полководца Древней Македонии, и других. Этот успех моего юного сына привлёк внимание императора. «Ваш сын не по годам много знает!» — удивился он и стал подробно расспрашивать моего сына о его лицее, учителях, уроках и т.д. Затем, повернувшись ко мне, император заявил: «Какое подрастающее поколение я оставляю после себя! Это всё — моя работа! Успехи французской молодёжи будут достаточным мщением за меня. Когда пожинаются плоды работы, все должны отдать должное тому, кто её сделал! Превратные суждения и вероломство краснобаев должны отступить перед моими деяниями. Если бы я думал только о себе и о том, чтобы сохранить свою власть, как об этом без конца говорится, если бы я действительно имел в виду достижение любой другой цели, кроме правления здравого смысла, то я бы не страдал от излишней скромности; вместо этого я посвятил себя распространению знания, хотя молодёжь Франции не до конца воспользовалась всеми теми благами, которыми, как я считал, она должна была воспользоваться...»
Вечером император отправился с визитом к своим соседям. Господин Балькомб, страдавший от приступа подагры, лежал, растянувшись на диване; его супруга и две девушки, которых император накануне утром встретил в саду, расположились рядом с больным. Бал-маскарад возобновился с ещё большей энергией. Зашёл разговор
т
о книгах, и гости великодушно поделились своим запасом знаний. Одна из девушек читала роман госпожи Коттен «Матильда» и была очень обрадована, узнав, что император знаком с этой книгой, в которой действуют крестоносцы. Хозяин дома, англичанин с большим круглым лицом, по всей видимости простак, с самым серьёзным видом прислушивался к разговору, пытаясь наилучшим образом применить свои явно небольшие знания французского языка. Он рискнул скромно спросить императора, жива ли ещё обожаемая им принцесса, подруга Матильды. Император с самым торжественным видом ответил: «Нет, сударь, она умерла, и её похоронили». Император думал, что его разыгрывают, пока не увидел, что печальная новость чуть было не вызвала поток слёз из широко раскрытых глаз англичанина.
Девушки проявили не меньшую непосредственность, хотя для них она была в большей степени извинительна; однако я вынужден был сделать вывод, что они поверхностно изучали хронологию. Одна из них, перелистывая страницы книги Флориана «Эстель», чтобы показать нам, что она умеет читать на французском языке, случайно наткнулась на имя Гастона де Фуа и, обнаружив, что тот удостоился звания генерала, спросила императора, остался ли он доволен поведением этого генерала в его армии, удалось ли тому избежать опасностей войны и жив ли он до сих пор.
т
Визит адмирала
21 октября 1815 года
Утром приехал адмирал, чтобы нанести визит императору. Он постучал в дверь, и если бы я не присутствовал при этом, то император был бы поставлен перед выбором: самому открыть дверь или заставить адмирала ждать снаружи, пока ему кто-нибудь не откроет.
Все члены нашей маленькой колонии, разбросанные повсюду, также приехали из города, и на короткое время мы вновь оказались вместе. Каждый описывал жалкие условия своего существования, стараясь вызвать сочувствие императора.
Горечь нашего положения — Возмущение императора — Послание английскому правительству
22 — 24 октября 1815 года
Английский кабинет министров, нарушив законы гостеприимства, на которые мы рассчитывали, казалось, сделал всё возможное, чтобы мы с ещё большей горечью осознали то, как с нами обошлись. Сослав нас на край земли и подвергнув нас всем видам лишения и плохого обращения, английские министры хотят заставить нас испить всю чашу страданий до самого дна. Остров Святой Елены — это настоящая Сибирь, единственная разница между ними заключается в размерах и в том, что климат здесь тёплый, а не холодный.
Император Наполеон, совсем недавно обладавший неограниченной властью и лишивший многих монархов их корон, теперь живёт в жалкой лачуге размером в несколько квадратных метров, расположенной на скале, без мебели, без занавесок и ставней на окнах. Эта лачуга должна служить ему спальней, гардеробной, столовой, кабинетом и гостиной; и он вынужден выходить из неё, когда возникает необходимость её убрать. Его еда, состоящая из нескольких скудных блюд, доставляется ему из дальнего места, словно он преступник, заключённый в тюрьму. Император полностью лишён предметов первой необходимости; хлеб и вино такого качества, к которому мы не привыкли, и они настолько плохи, что нам противно дотрагиваться до них; вода, кофе, сливочное масло, растительное масло и другие продукты питания или не доставляются вообще, или почти не годны к употреблению. Невозможно добиться, чтобы императору доставили ванну, которая так необходима для его здоровья,
175
к тому же он лишён возможности ездить верхом, что крайне важно для поддержания его физического состояния.
Друзья и слуги императора находятся на расстоянии двух миль от него, и им не позволено приближаться к нему без сопровождения английского солдата. Их лишили оружия, и они вынуждены проводить ночь в помещении гауптвахты, если возвращаются в город после установленного часа или если ошибаются, называя пароль, что происходит почти ежедневно. Таким образом, на этой ужасной скале мы в равной степени не защищены от человеческой жестокости и от суровой природы! И как легко было бы предоставить нам более подходящее жилище и обеспечить более учтивое обращение. Несомненно, если монархи Европы сообща дали приказ отправить нас в эту ссылку, то это продиктовано личной неприязнью. Если есть политическая необходимость в подобной акции, то, наверное, было бы лучше, чтобы мир видел, как знаменитую жертву, в отношении которой было признано обязательным нарушить законы и принципы, окружают всякого рода уважением и вниманием?
Мы все собрались вокруг императора, и он с некоторой горячностью повторил все эти факты. «Какое жестокое и постыдное обращение с нами замышлялось с самого начала! — воскликнул он. — Это же предсмертные муки! К несправедливости и жестокости они теперь добавляют оскорбления и длительные мучения. Если я им так ненавистен, то почему они сразу не отделались от меня? Несколько пуль из мушкета в сердце или в голову завершили бы дело; по крайней мере, для совершения преступления необходимо было бы только шевельнуть пальцем! Если бы не вы и, прежде всего, если бы не ваши жёны, то я от них ничего бы не стал получать, кроме денежного содержания простого солдата. Как могут монархи Европы позволить так обращаться с монархом, презирая его священный сан? Разве они не понимают, что они собственными руками здесь, на острове Святой Елены, уничтожают самих себя? Я победоносно входил в их столицы, и если бы меня обуревали такие же чувства, какие обуревают их сейчас, что стало бы с ними? Они называли меня своим братом, — и я стал им благодаря выбору народа, благословению побед, статусу религии и союзу с их политикой и с их кровью. Они что, на самом деле думают, что здравый смысл народов слеп в отношении их поведения? Во всяком случае, жалуйтесь, господа; пусть возмущённая Европа услышит ваши жалобы! Жалобы, непосредственно исходящие от меня, унизили бы моё достоинство и мой характер. Я должен или командовать, или молчать».
На следующее утро английский офицер без лишних церемоний вошёл в комнату императора. Он, однако, явился с добрыми намерениями. Офицер был капитаном одного из небольших кораблей,
т
входивших в состав нашей эскадры. Ему предстояло вернуться в Европу, и он пришёл выяснить, нет ли у императора каких-либо распоряжений. Наполеон немедленно вернулся к предмету нашего вчерашнего разговора и, постепенно всё более возбуждаясь, дал волю чувствам самого величественного и энергичного характера, попросив, чтобы английский офицер выразил их британскому правительству. Я перевёл всё то, что сказал император, стараясь передать его настроение. Офицер, казалось, был поражён всем тем, что услышал, и покинул нас, пообещав в точности выполнить полученное задание. Но он не смог бы воспроизвести выразительность речи императора и описать эмоциональный подъём, сопутствовавший его высказываниям, свидетелем которых я был. Как бы то ни было, но император дал мне указание составить памятную записку на основании всего того, что он сказал, поскольку офицеру, должно быть, не всё было ясно из того, что он услышал. Ниже следует текст памятной записки:
«Император желает получить, вместе со следующим кораблём, сведения о своей жене и о своём сыне. Он пользуется этой возможностью, чтобы повторить и передать британскому правительству протест, который он уже заявлял, против принятых по отношению к нему экстраординарных мер.
Во-первых. Это правительство объявило его военнопленным. Император не является военнопленным. Письмо, написанное им принцу-регенту, которое он передал капитану Мэтленду до того, как вступил на борт «Беллерофона», в достаточной степени свидетельствует всему миру о той решимости и чувстве уверенности, которые побудили его свободно согласиться с тем, чтобы отдать себя под защиту английского флага.
Император мог, если бы хотел, согласиться покинуть Францию только на особых условиях, но он считал ниже своего достоинства смешивать личные соображения с общенациональными интересами, которыми постоянно был занят его ум. Он мог бы отдать себя в распоряжение императора Александра, который был его другом, или в распоряжение императора Франца, который был его тестем. Но, веря в справедливость английской нации, он не захотел никакой другой защиты, кроме той, которая предоставляется её законами, и, отказываясь от общественной деятельности, он не пытался найти какую-либо другую страну, кроме той, которая управляется установленными законами и независима от личной воли.
Во-вторых. Если бы император был на самом деле военнопленным, то права, которые цивилизованные правительства имеют над таким пленником, ограничены законами наций, и их легитимность заканчивается с окончанием самой войны.
В-третьих. Если бы английское правительство считало императора военнопленным, пусть и произвольно, то право этого правительства
содержать его в качестве военнопленного в этом случае было бы ограничено общественным законом. В противном случае, поскольку между Англией и Францией во время войны не было соглашения о содержании пленных, английское правительство могло бы применить в отношении императора обьиаи дикарей, которые убивают своих пленников. Такой поступок был бы более гуманным и более соответствовал бы принципу справедливости, чем ссылка на ужасную скалу. Приговор к смертной казни на борту «Беллерофона» или на дорогах Плимута был бы благом по сравнению с тем обращением, которому в настоящее время подвергается император.
Нам доводилось проходить через самые пустынные и безлюдные места в Европе, но ни одно из них нельзя сравнить с этой бесплодной скалой. Лишённая всего, что способствует поддержанию жизни, эта скала может стать лишь местом предсмертных мучений. Основные принципы христианской морали и человеческий долг, заключающийся в том, чтобы следовать своей судьбе, какой бы она ни была, могут удержать императора от собственноручного прекращения жалкого существования, — он гордится тем, что стоит выше подобного настроения. Но если кабинет министров Англии будет настойчиво продолжать курс несправедливости и жестокости по отношению к императору, то он почтёт за счастье, если английские министры предадут его смерти».
Кораблём «Редпоул», который отплыл в Европу с этим документом, командовал капитан Десмонд.
Читатель должен извинить нас за скучное однообразие наших жалоб, — несомненно, они всегда будут такими; но пусть читатель помнит, что их повторение причиняет большую боль, чем, возможно, простое их чтение.
Образ жизни в «Бриарах» — Маленький и большой саквояжи императора — Предметы искусства и клеветнические письма, оставленные королём в Тюильри
25 — 21 октября 1815 года Император вставал очень рано; выйдя наружу, он совершал непродолжительную прогулку. Примерно в десять часов утра мы завтракали, он гулял снова, и затем мы продолжали наши занятия. Я прочитывал ему то, что он диктовал накануне вечером, и то, что мой сын переписал утром; император правил текст и затем продолжал диктовать. Мы вновь выходили на прогулку примерно в пять
№
часов вечера и возвращались в шесть часов. Это было время, назначенное для обеда, но его не всегда привозили из города к этому часу. Дни были длинными, а вечера — ещё длиннее. К сожалению, я не понимал шахматной игры; одно время у меня была мысль научиться игре в шахматы, но где я мог найти учителя? Я делал вид, что немного знаю карточную игру пикет, но император быстро выяснил, что и в этой игре я полный профан. Он отдавал должное моим добрым намерениям, но, тем не менее, играть в пикет со мной перестал. Недостаточная загруженность работой иногда заставляла его навещать соседний дом, где девушки усаживали его играть в вист. Но обычно император убивал время тем, что после обеда оставался за столом и, не покидая кресла, беседовал с нами; комната была настолько мала, что не позволяла прогуливаться по ней.
Однажды вечером император приказал камердинеру принести небольшой дорожный саквояж и, после того, как он тщательно осмотрел все его отделения, передал его мне со словами: «Этот саквояж долгое время был у меня и послужил мне в утро сражения при Аустерлице. Он должен перейти со временем во владение молодого Эммануэля. — Затем, повернувшись к моему сыну, добавил: — Когда ему будет тридцать или сорок лет, нас уже не будет. Ценность подарка тогда возрастёт; Эммануэль будет говорить, показывая саквояж, что император Наполеон подарил эту вещь его отцу на острове Святой Елены». Я получил драгоценный подарок с чувством настоящего благоговения и теперь храню его как ценнейшую реликвию.
179
После этого император перешёл к осмотру содержимого большого саквояжа, в котором находились табакерки с изображением членов его семьи и подарки, лично полученные им. Там были: портреты Мадам Мер, братьев императора, королевы Неаполя, дочерей Жозефа, Римского короля и т.д.; коробочки с изображением римского императора Августа и историка Ливия, обе чрезвычайно ценные; изображение сцены «Воздержание Сципиона» на табакерке, подаренной императору папой римским; табакерка с портретом Петра Великого, другая с портретом Карла V, ещё с портретом Тюренна и другие табакерки, которыми ежедневно пользовался император, с медальонами Цезаря, Александра Македонского, Суллы и т.д. Затем наступила очередь коробочки для нюхательного табака, украшенной портретом Наполеона в обрамлении бриллиантов. Император стал искать табакерку, на которой было его изображение, но не было бриллиантов, и, не обнаружив её, вызвал для объяснений камердинера; к сожалению, эта коробочка по-прежнему оставалась в городе вместе с большей частью его вещей. Я чувствовал себя подавленным, когда узнал об этом, и не мог смириться с мыслью, что из-за этого невезения мне пришлось так много потерять.
Император затем осмотрел несколько табакерок, которые Людовик XVIII оставил на столе в Тюильри во время поспешного бегства из Парижа. На одной из этих коробочек на чёрном фоне были изображены портреты Людовика XVI, королевы и госпожи Элизабет10, выполненные из мягкой глины с имитацией под слоновую кость. Вся композиция была просто фантастической. Портреты имели форму трёх полумесяцев, помещённых на коробке один рядом с другим в виде равностороннего треугольника. Группы херувимов, сплетённые друг с другом, составляли внешнюю границу композиции. Другая коробочка изображала акварельную зарисовку охоты. Табакерка была примечательна тем, что зарисовка приписывалась карандашу герцогини Ангулемской. Третью коробочку увенчивал портрет, по-видимому, графини Прованской. Эти три коробочки не представляли иной ценности, кроме исторической.
Когда император прибыл в Париж вечером 20 марта, то обнаружил, что в кабинете короля все документы по-прежнему оставались на столах. В соответствии с пожеланием императора эти столы были сдвинуты в угол кабинета, а в середину были поставлены другие. Он приказал ничего не трогать на столах короля, собираясь в свободное время ознакомиться с оставленными на них документами, и так как император сам вскоре покинул Францию, не вернувшись в Тюильри, то король должен был найти свой кабинет и свои документы почти в том же состоянии, в котором он оставил их.
Император лишь бросил быстрый взгляд на некоторые из этих документов. Среди них он увидел несколько писем от короля господину
д’Авари11 на Мадейру, где последний и скончался; письма были написаны королём собственноручно и, несомненно, были отправлены ему обратно. Император обнаружил несколько конфиденциальных писем, также написанных королевской рукой. Но как они оказались в кабинете короля? Каким образом были возвращены ему? Это трудно объяснить. Письма состояли из пяти или шести страниц, написанных очень изящным языком, но весьма абстрактно и метафизически. В одном из них король писал даме: «Судите сами, как сильно я люблю вас: ради вас я снял траур». «И здесь, — сказал император, — за словами о трауре последовал ряд длинных фраз в возвышенном стиле». Император не представлял себе, кому адресовано это письмо и что имелось в виду под словом трауру я не мог объяснить императору значение этих мест в письме.
Через три дня, после того, как император уволил человека, возглавлявшего одно известное заведение, он обнаружил на одном из королевских столов послание от этого самого господина, которое, судя по словам, использованным автором для выражения мнения об императоре и всей его семье, безусловно, не позволило бы императору подписать декрет о его восстановлении в прежней должности.
На королевских столах было много документов подобного рода, но самый полный набор низости, лжи и подлости был обнаружен в апартаментах господина Блака, управляющего королевским двором. Эти документы представляли собой планы, доклады и прошения, в которых их авторы пытались выгородить себя за счёт Наполеона, совершенно не ожидая его возвращения. Этих бумаг было так много, что император был вынужден назначить комитет из четырёх человек для их изучения. Теперь он думает, что ему следовало ограничиться для этой цели одним человеком, — тогда он мог бы быть уверен, что ни один документ не исчезнет. Он имел все основания считать, что эти документы могли предоставить полезные сведения о предательстве, которое окружало его.
Среди прочих документов было длинное письмо от одной служанки принцессы Полины. Это объёмистое письмо было оскорбительным в отношении принцессы и её сестёр, и оно изображало императора, которого автор письма именовал этот человек, в самых чёрных красках. Мало того, часть письма была зачёркнута и переписана другой рукой, чтобы представить Наполеона самым скандальным образом; и на полях письма рукой человека, вписавшего новый текст, было начертано: «Следует опубликовать». Ещё несколько дней, и эта клевета, возможно, была бы опубликована.
Женщина с претензиями, занимавшая высокое положение, которую император осыпал милостями, поспешила написать письмо своей подруге, также выскочке, в котором просила ознакомить её со знаменитым решением Сената о лишении Наполеона всех прав и об
объявлении его вне закона. Письмо содержало следующие фразы: «Моя дорогая подруга, мой муж только что вернулся; он устал до смерти, но его усилия не пропали даром: мы освобождены от этого человека, и Бурбоны возвращаются к власти. Слава Богу, мы теперь станем настоящими графинями!..»
Просматривая эти письма и документы, Наполеон испытывал чувство разочарования, когда ему попадались на глаза письма с весьма непристойными высказываниями о нём лично — особенно те, которые были написаны людьми, ещё вчера окружавшими его и с радостью принимавшими от него милости.
В порыве охватившего его возмущения он сначала решил, что эти письма следует опубликовать и отказаться от дальнейшего покровительства в отношении подобных личностей, но по зрелом размышлении он сдержал себя. «Мы настолько подвержены чувству ожесточения, настолько непостоянны, и нас так легко сбить с толку, — сказал он, — что в конце концов я не мог быть уверен в том, что те же самые люди искренне и добровольно не придут, чтобы служить мне; в этом случае я должен был наказывать их в то время, когда они возвращались к выполнению своих обязанностей. Я решил, что лучше будет, если я сделаю вид, что мне ничего не известно об этих письмах, и приказал, чтобы все эти письма были сожжены».
Император вместе с гофмаршалом Бертраном приступает к работе над мемуарами о кампании в Египте — Письмо графа де Лилля (Людовика XVIII) — Прекрасная герцогиня де Гиш
28 — 31 октября 1815 года
Мой сын и я непрерывно занимаемся нашим трудом. Однако здоровье сына начало ухудшаться: он чувствует боль в груди. Моё зрение стало ослабевать. Всё это явные результаты наших интенсивных занятий. В самом деле, мы проделали удивительно большую работу и уже почти приступили к описанию завершения кампании в Италии. Император, однако, пока ещё считает, что он недостаточно занят. Работа над воспоминаниями — его единственное времяпрепровождение, и интерес к мемуарам, который он проявил с первой же диктовки, стали для него дополнительным стимулом для продолжения этой работы. Вот-вот он должен приступить к мемуарам о кампании в Египте. Император часто говорил о том, что к этой работе следует привлечь гофмаршала Бертрана.
182
Те члены нашей группы, которые остались в городе, живут в ужасных условиях. К тому же они очень недовольны тем, что отдалены от императора. Их также раздражает унижение, которому они подвергаются со стороны английских властей. Я предложил императору, чтобы он привлёк к работе всех членов группы одновременно и мы все сразу занялись мемуарами о кампаниях в Италии и в Египте, историей Консулата, возвращением с острова Эльба и т.д. Тогда, заметил я, эта большая работа во славу Франции станет лучше продвигаться, господа, проживающие в городе, почувствуют себя менее несчастными, да и время будет проходить быстрее. Эта идея понравилась императору, и с того дня один или два человека из его свиты ежедневно приходят к нему, чтобы писать под его диктовку. На следующее утро они приносят ему рукопись в расшифрованном виде, остаются на обед и тем самым дают императору возможность более приятно проводить время.
Мы постарались незаметно навести порядок в жизни императора, чтобы он чувствовал себя более комфортно. Палатка, которую мне дал полковник 53-го пехотного полка, была поставлена так, что стала как бы продолжением комнаты флигеля, в которой проживал император. Его повар поселился в служебных помещениях коттеджа «Бриары». Из дорожных сундуков извлечена скатерть, за ней посуда, и наш первый обед с этими вещами стал настоящим праздником. Однако вечера остаются для нас тяжёлым временем. Император иногда наносит визиты семейству Балькомба, в другие дни он покидает свою комнату, чтобы прогуляться, но чаще всего остаётся внутри флигеля и старался скоротать время беседами с нами до десяти или одиннадцати часов вечера. Он очень не любит ложиться спать слишком рано, поскольку когда он делает это, то просыпался посреди ночи и, для того чтобы отвлечься от грустных воспоминаний, вынужден подниматься с постели и читать.
Однажды за обедом император обратил внимание на одну из тарелок своего походного сервиза. На тарелке был выгравирован императорский герб. «До какой же степени они унизили его!» — эмоционально воскликнул император. И он не мог удержаться от того, чтобы не вспомнить, как король поспешил завладеть императорской посудой (о которой Людовик XVIII, конечно, не мог сказать, что её в своё время отобрали у него, поскольку она принадлежала Наполеону). Император добавил к этому, что когда он взошёл на трон, то не обнаружил и следа от королевской собственности. При своём отречении от престола он оставил короне посуду стоимостью в пять миллионов и мебель стоимостью от сорока до пятидесяти миллионов, которые он приобрёл на средства своего Цивильного листа.
/S3
Однажды в вечерней беседе император затронул вопрос об обстоятельствах, связанных с событиями 18-го брюмера. Я опускаю детали этих событий, поскольку потом они были сообщены генералу Гурго: подробное описание этих знаменательных событий можно будет найти в его книге.
Сийес, который, как и Наполеон, был одним из консулов, с удивлением слушал, как его коллега на их самом первом заседании обсуждал вопросы, связанные с финансами, управлением делами республики, армией, законами и политикой. После той встречи Сийес поспешил к своим друзьям в полном замешательстве и заявил им: «Господа, у вас есть хозяин! Этот человек знает всё, хочет всё и сможет делать всё».
В то время я был в Лондоне, и теперь я рассказал императору, что эмигранты возлагали большие надежды на события 18-го брюмера и на Консулат Наполеона. Несколько эмигрантов, которые раньше были знакомы с госпожой де Богарне, немедленно отправились в Париж, надеясь, что с её помощью они смогут оказывать влияние на ход событий, которые явно приняли новый оборот.
В то время мы все разделяли мнение, что Первый консул ждёт предложений от французских принцев. Мы основывали это мнение на том обстоятельстве, что он долго не раскрывал своих намерений в отношении их; однако позднее он сделал это самым ошеломляющим образом, прибегнув к помощи прокламации. Мы объясняли
подобное решение этого вопроса глупым поведением епископа Арраса, главного поверенного и распорядителя в наших делах, который, по его собственному признанию, отправлялся на службу с закрытыми глазами и хвалился тем, что в течение многих лет не прочитал ни одной газеты, поскольку их страницы были заполнены, по его словам, «ложью тех негодяев». В самом начале учреждения Консулата кто-то пытался уговорить епископа вступить в переговоры с Первым консулом, используя посредничество госпожи де Бо- гарне. Но епископ с возмущением отверг это предложение в столь грубой и отвратительной форме, что человек, обратившийся к епископу, вынужден был сказать ему, что его выражения далеки от епископальных и что он, безусловно, почерпнул их не из католического требника.
Примерно в то же самое время епископ обрушился с непристойной бранью на герцога де Шуазеля, находясь за столом у Людовика XVIII, — за что незамедлительно получил строгий выговор; дело в том, что герцог, который благодаря личному вмешательству Первого консула был освобождён из тюрьмы в Кале и избежал смерти, в ответ на вопрос короля о Бонапарте сообщил, что он всегда будет испытывать чувство личной благодарности к Первому консулу. Это и стало причиной выходки епископа.
На всё это император ответил мне, что никогда не затруднял себя мыслями о принцах и что высказывания, на которые я ссылаюсь, исходили от одного из двух других консулов, и они не имели в виду какую-то особую цель. Те, кто находился за границей, не представляли себе, какого именно мнения придерживались политические деятели во Франции, и если бы даже он благосклонно относился к принцам, то не в его власти было на практике реализовать его намерения. Тем не менее, в тот период пробные шары запускались и из Митавы, и из Лондона12, и он получал эти сигналы.
Король, сказал император, написал ему письмо, которое было передано ему Лебреном, в свою очередь получившим его от аббата де Монтескье, секретного агента короля в Париже. Это письмо, которое было написано весьма тяжеловесным слогом, содержало следующие фразы: «Вы слишком медлите с восстановлением меня на троне. Существует опасность, что вы можете упустить благоприятный момент. Без меня вы не сумеете принести счастье Франции, так же как и я не смогу служить Франции без вас. Так что поторопитесь и сами определите должности, которые бы вы хотели для ваших друзей».
Ответ Первого консула на это письмо был следующим: «Я получил письмо Вашего Величества; я всегда проявлял большое сочувствие к превратностям вашей судьбы и судьбы вашей семьи.
Вы не должны думать о том, чтобы появиться во Франции; вы не можете сделать это, не перешагнув через сотню тысяч трупов. Однако я всегда буду стремиться делать всё, что может облегчить вашу судьбу и помочь вам забыть о превратностях вашей судьбы».
Пробный шар, запущенный графом д’Артуа, отличался большей элегантностью и тактом. Для выполнения этого задания он уполномочил герцогиню де Гиш — даму, чьи обворожительные манеры и присущая ей грациозность должны были, по расчётам графа, помочь ей в важных переговорах. Она легко получила доступ к госпоже Бонапарт, с которой представители старого королевского двора без всяких усилий вступали в контакт. Она завтракала с госпожой Бонапарт в Мальмезоне; их беседа шла о Лондоне, об эмигрантах и о французских принцах. Госпожа де Гиш упомянула о том, что несколько дней назад она оказалась в доме графа д’Артуа и там слышала, как кто-то спросил короля, что он намерен сделать для Первого консула в случае реставрации Бурбонов, на что король ответил: «Я немедленно сделаю его коннетаблем королевства и дам ему всё, что он пожелает. Но даже этого не будет достаточно: мы возведём на площади Карусель высокую и великолепную колонну со статуей Бонапарта, венчающего Бурбонов».
Как только в комнату вошёл Первый консул, а это случилось сразу же после завтрака, Жозефина поспешила повторить ему всё то, что ей поведала герцогиня. «А ты не ответила, — спросил её Бонапарт, — что пьедесталом колонны станет труп Первого консула?»
Очаровательная герцогиня всё ещё находилась в комнате; её красота, её глаза и её сладкие речи — всё это должно было способствовать успеху её миссии. Она сказала, что настолько восхищена любезностью госпожи Бонапарт, давшей ей возможность увидеть и услышать такого знаменитого человека, такого великого героя, что даже не знает, сможет ли в должной мере оценить её великодушие. Но всё было напрасно: герцогиня де Гиш в тот же вечер получила предписание покинуть Париж. На следующий день она уже спешила в сторону границы Франции.
Однако заявление о том, что Наполеон, со своей стороны, делал негласные предложения членам семьи Бурбонов о передаче ему их прав и об их отказе от короны, является абсолютной ложью, хотя утверждения об этом содержались в некоторых декларациях, активно распространявшихся по всей Европе.
«С какой стати об этом вообще могла идти речь? — удивлялся император. — Я, который мог править только в соответствии с принципом, исключавшим эти права, а именно — с принципом верховенства народа, как мог я стремиться получить от них права, осуждённые в их лице! Это означало бы, что я сам себя подвергаю
изгнанию из страны. Абсурдность этого слишком очевидна: это навсегда погубило бы мою репутацию в глазах общества. На самом деле я никогда не делал чего-либо в этом роде, прямо или косвенно, дома или за границей. И это абсолютно очевидно для всех людей, обладающих здравым смыслом».
Наличие слухов об этом, однако, побудило меня выяснить, что же могло послужить основанием для них. И вот какие факты я получил. В период хороших отношений между Францией и Пруссией Берлин обратился к Парижу с вопросом: не обидится ли Франция на Пруссию, если она разрешит французским принцам оставаться на её территории? Французское правительство ответило, что нет, не обидится. Ободрённая этим ответом, Пруссия затем спросила: а не станем ли мы возражать против того, что принцы будут обеспечены ежегодным денежным содержанием через посредничество прусской стороны? На это наше правительство также ответило, что нет, мы не станем возражать, при условии, что Пруссия возьмёт на себя ответственность за то, что французские принцы будут вести себя тише воды и ниже травы и воздержатся от каких-либо интриг...
Распорядок дня императора — Государственный совет — Опала Порталиса — Роспуск Законодательного корпуса в 1813 году — Сенат
1 — 4 ноября 1815 года
Наши дни на острове проходят так же однообразно, как и дни, проведённые на борту корабля. Император вызывает меня завтракать с ним примерно в десять или одиннадцать часов утра. Закончив завтрак, мы беседуем минут тридцать. Затем я прочитываю ему то, что он мне диктовал накануне вечером, и после этого он приступает к новой диктовке. Вначале император полностью одевался утром — сразу же, как только вставал с постели, и совершал прогулку до завтрака. Этот обычай занимал слишком много времени и поэтому разбивал его день. Теперь император полностью одевается к четырём часам дня. Затем он выходит из дома, давая возможность слугам привести в порядок его постель и убрать его комнату. Мы уходим в сад, который ему особенно нравится ввиду возможности полного уединения. Я распорядился, чтобы маленькую беседку в саду накрыли брезентом, а в неё поставили столик и стулья; с этого времени император выбрал данное место для диктовки тем господам, которые приходят из города для этой цели.
187
Перед домом господина Балькомба есть пешеходная дорожка, обсаженная с обеих сторон деревьями. Именно на ней обосновались два английских солдата, чтобы наблюдать за нами. Однако это раздражало господина Балькомба, и их отозвали с этого поста по его требованию. Тем не менее они некоторое время по-прежнему продолжали ходить по дорожке, не выпуская императора из поля своего зрения, — то ли из любопытства, то ли подчиняясь полученному приказу. В конце концов они окончательно исчезли, и император постепенно приобрёл привычку прогуливаться по этой находившейся недалеко от флигеля дорожке. Это было неплохим приобретением для его владений, и он ежедневно перед обедом совершает прогулку. Две девушки и их мать присоединяются к нему и рассказывают новости. Иногда, когда позволяет погода, император после обеда возвращается в сад и проводит вечер без визита к своим соседям Балькомбам; он никогда не заходит к ним, если может избежать этого или когда уверен, что к ним зашли посторонние люди, в чём я заранее убеждаюсь, заглядывая в окно гостиной.
Во время одной из прогулок император долго беседовал со мной о Сенате, о Законодательном корпусе и особенно о Государственном совете. Последний, как заявил император, был для него весьма полезным государственным органом в течение всего времени его правления страной. Здесь, в дневнике, я приведу ряд его замечаний о деятельности Государственного совета, и сделаю это тем более
Ш
охотно, что в свое время эту деятельность плохо понимали в гостиных Парижа. Так как в настоящее время Государственный совет не обладает прежними функциями, то я далее добавлю несколько строк о механизме его деятельности и о его прерогативах.
«Государственный совет, — рассказал император, — в целом состоял из хорошо информированных, опытных и честных людей. Например, Фермой и Буле определённо были именно такими людьми. Несмотря на большое количество судебных процессов, которые они вели, и значительное жалованье, которое они получали, я не буду удивлён, если узнаю, что в настоящее время их положение является далеко не блестящим». В каждом отдельном случае император использовал государственных советников индивидуально и с пользой; они действительно были его Государственным советом — его умом для размышления, равно как министры были его умом для исполнения. В Государственном совете готовились законы, которые император представлял в Законодательный корпус — государственный орган, который являлся одной из составных частей законодательной власти. В Государственном совете разрабатывались декреты императора по общественному управлению; там же рассматривались, обсуждались и корректировались планы министров.
Государственный совет получал апелляции и выносил окончательное решение по всем вопросам управления, по приговорам всех других судов и даже по приговорам Кассационного суда. На нём рассматривались жалобы на министров и запросы императора, когда ему требовалась более подробная информация. Таким образом, Государственный совет, на заседаниях которого всегда председательствовал император, часто был в прямой оппозиции к министрам или занимался преобразованием их актов и исправлением их ошибок. Естественно, этот государственный орган стал приютом для тех лиц, которые были обижены властью. Все, кто когда-либо присутствовал на заседаниях Совета, наверняка помнят, с каким усердием там защищались права граждан. Специальный комитет Государственного совета получал петиции со всей империи и направлял монарху те, которые заслуживали его внимания.
Общество, за исключением юристов и лиц, работавших в управленческом аппарате, проявляло удивительную неосведомлённость в вопросах нашего политического законодательства. Никто правильно не представлял себе, чем же занимались Государственный совет, Законодательный корпус и Сенат. Например, Законодательный корпус воспринимался как собрание немых, пассивно принимавшее, без малейшего возражения, все представляемые ему законы. Однако, прежде чем обвинять членов Законодательного корпуса в услужливости и раболепии, следует изучить природу и функции этого государственного органа.
Законы, подготовленные в Государственном совете, представлялись специальными уполномоченными, выбранными из числа членов этого Совета, в комитет Законодательного корпуса, назначенный для их рассмотрения; в этом комитете проекты законов детально обсуждались и часто отсылались обратно в Государственный совет для дальнейшей доработки. Когда две стороны не могли достигнуть взаимопонимания, они проводили совместные заседания под председательством великого канцлера или верховного казначея; таким образом, ещё до того, как законы поступали в Законодательный корпус, они уже получали согласие двух разных сторон. Если возникали разногласия во мнении, то они обсуждались двумя комитетами в присутствии всего Законодательного корпуса, выполнявшего функции жюри, которое после достаточного ознакомления с фактами принимало решение тайным голосованием. Таким образом, каждый член жюри имел возможность свободно отстаивать своё мнение, так как невозможно было узнать, положил он чёрный или белый шар. «Ни один план, — отметил император, — не мог быть лучше разработан для того, чтобы направить в нужное русло наш национальный подъём и скорректировать нашу неопытность в вопросах политической свободы».
Император спросил меня, считаю ли я, что дискуссии в Государственном совете проходили абсолютно свободно, и не вызывало ли его присутствие на заседаниях Государственного совета сдержанность его членов при обсуждении различных вопросов. Я напомнил ему об одной очень длительной дискуссии на заседании Государственного совета, во время которой он остался в одиночестве со своим мнением и наконец вынужден был уступить. «А, да, — вспомнил император, — это, должно быть, дело женщины из Амстердама, которую судили за преступление, наказуемое смертной казнью, и затем трижды оправдывали в имперских судах, и в отношении которой Кассационный суд потребовал нового суда». Император надеялся, что это трижды высказанное мнение блюстителей закона в имперских судах поможет уменьшить строгость приговора заключённой. Отвечая ему, государственные советники обращали его внимание на то, что он обладает привилегией даровать помилование, но что сам закон суров и его надо соблюдать. Дискуссия была очень долгой. С большой речью выступил господин Мюрюир, который говорил исключительно по существу дела; он убедил всех, за исключением императора, который в одиночестве отстаивал свою точку зрения, но в конце концов уступил большинству, сделав следующее примечательное заявление: «Господа, здесь решение принимается большинством голосов, я остался в одиночестве и должен уступить; но я заявляю, считая это делом моей совести, что уступаю
190
лишь по форме. Вы заставили меня замолчать, но ни в коем случае не убедили меня».
В целом народ мало понимал характер деятельности Государственного совета, и считалось, что никто в нём не смеет оспаривать мнение императора. Поэтому я сильно удивлял многих своих собеседников, когда рассказывал, как однажды, во время очень горячей дискуссии, император, после того, как его выступление трижды прерывалось, повернулся в сторону одного члена Государственного совета, довольно грубо пытавшегося прервать его речь, и резким тоном сказал: «Я ещё не закончил, прошу вас разрешить мне продолжить выступление. Я считаю, что здесь каждый имеет право высказать свою точку зрения». Едкость этого остроумного ответа на фоне серьёзности обстановки, сопутствовавшей дискуссии, вызвала общий дружный смех, к которому присоединился и сам император.
«Да, — сказал я императору, — ораторы, очевидно, стремились выяснить, какой могла бы быть точка зрения Вашего Величества; они, видимо, поздравляли себя, когда их точка зрения совпадала с вашей, и приходили в смятение, обнаружив, что их мнение вызвало вашу отрицательную реакцию. Вас также обвиняли в том, что вы заманивали нас в ловушку, чтобы выяснить наше истинное мнение». Однако, как только начиналось обсуждение проблемы, каждый проявлял горячее желание высказать свою точку зрения в духе свободной дискуссии, которую поощрял император. «Я ничего не имею против того, чтобы мне возражали, — говорил он, — я стремлюсь к тому,
чтобы меня хорошо информировали об обсуждаемой проблеме. Говорите смело, — повторял он всякий раз, когда оратор выражал свои мысли в уклончивой манере или когда предмет обсуждения имел деликатный характер, — не стесняйтесь сказать то, что думаете: мы здесь одни, мы все — одна семья».
Мне рассказывали, что однажды, во времена Консулата или начала Империи, император не соглашался с точкой зрения одного из членов Государственного совета, и из-за горячности и упрямства последнего обсуждение проблемы зашло в тупик. Наполеон обуздал свой нрав и просто замолчал, но через несколько дней, встретив своего оппонента на одном общественном мероприятии, сказал ему полусерьёзным тоном: «Вы невероятно упрямый человек, если бы и я был таким же... Во всяком случае, вы действуете неправильно, прилагая усилия, чтобы подвергнуть меня испытанию! Вы не должны забывать о человеческих слабостях!»
В другой раз в разговоре тет-а-тет с одним из членов Государственного совета, который подобным же образом довёл его до состояния крайнего раздражения, император сказал: «Вы должны быть более осторожны, испытывая моё терпение. Недавно вы немного перешли границы благоразумия — вынудили меня почесать лоб. Это очень зловещий признак моего настроения; в будущем старайтесь не заставлять меня заходить так далеко».
Ничто не могло сравниться с тем интересом, который вызывали у членов Государственного совета присутствие и выступления императора. Он председательствовал на заседаниях Совета регулярно, дважды в неделю, если находился в столице, и тогда ничто на свете не могло заставить нас отсутствовать на этих заседаниях.
Я рассказал императору, что на меня произвели глубочайшее впечатление два заседания: первое, когда он исключил из состава Государственного совета одного из его членов, и второе, когда принималось конституционное решение о роспуске Законодательного корпуса.
Клерикальная партия занималась подстрекательством к гражданскому неповиновению, тайно распространяя папские буллы и письма папы римского. Они были показаны члену Государственного совета, которому предписывалось осуществлять контроль за религиозной деятельностью. Этот человек если сам и не распространял указанные документы, то, по крайней мере, не препятствовал их распространению и не осуждал его. Когда всё это выяснилось, император неожиданно на заседании Совета открыто обвинил его в этом. «По какой причине вы так поступили? — спросил Наполеон. — По религиозным принципам вашим? Так зачем же вы здесь заседаете? Я не
192
стесняю ничьей совести. Разве я силой принудил вас быть моим государственным советником? Эту значительную милость вы сами выпросили. Вы здесь моложе всех и, может быть, только один без личных прав на такое звание: я видел в вас только заслуги вашего отца. Вы лично принесли мне присягу. Как ваши религиозные чувства могли разрешить вам открыто нарушить эту присягу, что вы и сделали только что? Тем не менее говорите, всё останется между нами, ваши коллеги будут вашими судьями. Вы совершили огромное преступление. С заговором, направленным на совершение преступного деяния, будет покончено, как только мы схватим руку, держащую кинжал. Но заговор, организованный с целью повлиять на общественное сознание, не имеет границ и распространяется как пороховой дым. Возможно, в эту самую минуту все города охвачены волнением по вашей вине!»
Член Государственного совета, весь в растерянности, ничего не сказал в ответ. Члены Совета, для большинства из которых это выступление императора стало совершенно неожиданным, молчали, поражённые случившимся.
«Почему, — продолжал император, — вы, в соответствии с обязательством, данным под присягой, не сообщили мне о преступнике и его заговоре? Разве я не доступен для каждого из вас в любое время?»
«Сир, — сказал член Государственного совета, отважившийся наконец отвечать, — это был мой двоюродный брат».
193
«В этом случае ваше преступление становится ещё большим, — резким тоном ответил император. — Ваш кровный родственник мог действовать только с вашего одобрения, и вся ответственность лежит на вас. Когда я считаю человека полностью преданным мне, — а ваше служебное положение предполагает именно это, — то все, за кого он несёт ответственность, больше не подлежат наблюдению. Это мой принцип».
Обвиняемый член Совета по-прежнему хранил молчание, и император продолжал: «Моральные обязательства члена Государственного совета передо мною огромны. Вы, сударь, нарушили эти обязательства и более не являетесь членом Государственного совета. Вон! Чтобы я вас здесь никогда больше не видел!»
Опозоренный член Государственного совета, теперь уже бывший, покидая зал заседания, проходил очень близко от императора; последний посмотрел на него и сказал: «Я искренне огорчён всем этим, ибо верная служба вашего отца по-прежнему свежа в моей памяти».
Когда тот удалился, император добавил: «Я надеюсь, что сцена, подобная этой, никогда здесь больше не повторится; она меня очень огорчила. Я не недоверчивый человек, но я могу стать таким! Я окружил себя разными людьми, я допустил до себя даже эмигрантов и солдат армии Конде; и хотя их хотели заставить убить меня, они, надо отдать им должное, продолжали оставаться мне верными. С тех пор как я взял в свои руки управление государством, этот человек, находившийся на моей службе, стал первым, кто предал меня». И затем, повернувшись в сторону господина Локре, который вёл протоколы заседаний Государственного совета, император сказал: «Так и запишите: предал, — вы слышите?»
До чего же интересны эти протоколы господина Локре! Что с ними стало? Всё, что я здесь рассказал, можно найти в них слово в слово.
Что же касается роспуска Законодательного корпуса, то по этому поводу заседание Государственного совета было созвано или в последний день декабря 1813 года, или за день до него. Мы знали, что предстоит очень важная дискуссия, но, однако, не знали её цели: кризис принимал самый серьёзный характер, вражеские войска вступали на французскую территорию.
«Господа, — заявил император, — вы осведомлены о положении дел в стране и об опасностях, которые угрожают ей. Я посчитал правильным, хотя и не был обязан делать это, лично информировать депутатов Законодательного корпуса по данному вопросу. Тем самым я хотел, чтобы они сплотились во имя защиты интересов страны, но они превратили этот акт моего доверия в орудие, направленное против меня, другими словами — против страны. Вместо того,
194
чтобы помогать мне, приложив для этого все свои усилия, они стремятся помешать моим усилиям. Нашего единства было бы достаточно для того, чтобы сдержать натиск врага, в то время как их поведение только способствует его наступлению; вместо того, чтобы продемонстрировать перед лицом врага нашу сплочённость, крепкую как сталь, они показывают ему все наши раны. Они оглушают меня своими крикливыми требованиями о мире, в то время как единственным средством для его достижения была бы победоносная война; они жалуются на меня и говорят о своих обидах. Но какое время, какое место они выбрали для этого? Об этом следует говорить конфиденциально, а не в присутствии врага. Разве я был для них недоступен? Разве когда-либо я дал повод для разговоров о том, что я неспособен спорить разумно? Однако настало время для принятия решения: Законодательный корпус, вместо того, чтобы помогать мне спасать Францию, хочет ускорить её развал. Законодательный корпус нарушил свой долг, я же выполняю свой: я распускаю Законодательный корпус».
Затем император приказал зачитать декрет, суть которого состояла в том, что полномочия двух пятых состава депутатов Законодательного корпуса истекли, что первого января ещё одна пятая окажется в такой же ситуации и что таким образом большинство Законодательного корпуса будет состоять из депутатов, которые не имеют права быть в нём; учитывая эти обстоятельства, в работе корпуса был назначен перерыв и все его заседания откладывались до новых выборов.
После того как был зачитан этот документ, император продолжал: «Таков декрет, который я издал; и даже если бы я был уверен в том, что подобный декрет заставит парижский народ толпами пойти на штурм Тюильри, чтобы убить меня, я всё равно издал бы его, ибо таков мой долг. Когда народ Франции вручил свою судьбу в мои руки, я рассмотрел законы, с помощью которых мне предстояло править страной, но посчитал эти законы недостаточными. Я — не Людовик XVI. От меня не следует ожидать ежедневного проявления нерешительности. Став императором, я не перестал быть гражданином. Если вновь начнёт властвовать анархия, то я скорее отрекусь от престола и сольюсь с толпой, чтобы насладиться своей долей независимости, чем останусь во главе системы, при которой обязан идти на компромисс буквально со всем, не имея возможности хоть что-то защитить... Кроме того, — в заключение сказал он, — моя решимость соответствует закону; и если каждый из присутствующих здесь выполнит свой долг, чего требует от нас сложившаяся на сегодняшний день ситуация, то я буду непобедим под защитой закона и перед лицом врага».
Но увы! Никто из присутствовавших не выполнил своего долга!
195
Вопреки существовавшему мнению, император вовсе не обладал деспотичным нравом. Он был готов соглашаться с мнением Государственного совета, и известно много случаев, когда он подчинялся принимаемому решению Совета и даже отказывался от сделанных им ранее предложений, если один из членов Совета выдвигал новые доводы или намекал на то, что личное мнение императора оказывает влияние на большинство членов Совета. Пусть главы секций Совета обратятся на сей счёт к собственной совести.
У императора была привычка сообщать членам Института каждую научную идею, которая приходила ему в голову, и представлять свои политические идеи Государственному совету; он часто поступал так с конфиденциальными и даже с секретными планами. Самый верный путь, говорил он, заключается в том, чтобы добраться до сути проблемы, чтобы убедиться в возможностях человека и выяснить его политические пристрастия, чтобы принять меры для предоставления ему права свободного выбора и т.д. Я знаю, что в XII году по республиканскому календарю император представил на рассмотрение трёх государственных советников своеобразное предложение, а именно — о ликвидации Законодательного корпуса. Два советника поддержали это предложение, но третий самым энергичным образом возражал против него; он произнёс длинную речь, причём весьма основательную. Император, очень внимательно и серьёзно слушавший участников проходившей дискуссии, не вымолвил ни единого слова и никак не высказал собственную точку зрения. Он закрыл заседание, сказав следующее: «Вопрос по своей сути столь серьёзен, что заслуживает здравого размышления; мы ещё возобновим разговор на эту тему». Но подобный разговор больше никогда не вёлся.
Было бы неплохо, если бы такая же предосторожность соблюдалась во время ликвидации Трибуната, ибо эта мера стала предметом бесконечных разговоров и осуждения. Что же касается императора, то он рассматривал это решение всего лишь как ликвидацию дорогостоящих излишеств и важную экономическую меру.
«Нет сомнений, — говорил он, — что Трибунат был абсолютно бесполезен, тогда как его содержание обходилось в полмиллиона; поэтому я ликвидировал его. Мне было хорошо известно, что поднимется крик против нарушения закона, но я был непоколебим: я обладал полным доверием народа и считал себя реформатором. По крайней мере, безусловно то, что это были действия во благо. Если бы я был злонамеренным лицемером, то, наоборот, учредил бы Трибунат, ибо кто станет сомневаться в том, что Трибунат соглашался бы со всеми моими планами и намерениями и при необходимости санкционировал бы их? Но именно к этому я никогда не стремился в течение всех лет моего правления. Я никогда не покупал
196
ни одного голоса во время выборов или нужного мне решения в правительственных учреждениях обещаниями, деньгами и раздачей должностей; и если я раздавал милости министрам, государственным советникам и законодателям, то только потому, что было что раздавать, а также потому, что это было естественно и справедливо.
В моё время все конституционные учреждения были бескорыстны и безупречны, и я могу твёрдо заявить, что они работали по убеждению. Недоброжелательность и глупость могут утверждать обратное, но без оснований. Если эти учреждения подвергались порицанию, то это делалось людьми, которые не были осведомлены об их деятельности; упрёки и обвинения, выдвигавшиеся в их адрес, должны быть отнесены на счёт недовольства и оппозиции, присущих тому времени, но прежде всего они порождались духом зависти, злословия и иронии, которые так свойственны французскому народу. Без конца поносили Сенат из-за его якобы рабской покорности и подлого поведения, но клевета не является доказательством. Чего можно было ожидать от Сената? Отказа от воинской повинности? Или чтобы комитеты Сената по свободе личности и по свободе печати навлекли позор на правительство? Или чтобы Сенат поступил так же, как Законодательный корпус в 1813 году? Но к чему это нас привело? Я сомневаюсь, что французский народ в настоящее время испытывает за это чувство благодарности. Всё дело в вынужденных и неестественных обстоятельствах, в которых мы оказались; понимающие люди знали это и приспосабливались к требованиям времени. Мало кто знает, что при рассмотрении почти каждого важного предложения сенаторы, прежде чем подать голос за него, приходили ко мне, чтобы лично высказать, и порой самым решительным образом, свои возражения и даже заявить о своём отказе принять участие в голосовании; и они уходили от меня, убеждённые моими аргументами о необходимости срочно принять предложения, учитывая положение дел в стране. Если я не предавал эту практику гласности, то только потому, что я добросовестно правил страной, презирая шарлатанство и подобные ему явления.
Голосование в Сенате всегда было единодушным, потому что убеждённость сенаторов была всеобщей. В то время делались попытки превозносить незначительное меньшинство, у представителей которого лицемерие и недоброжелательность, вкупе с тщеславием и некоторыми другими порочными чертами характера, вызывали безобидную оппозицию. Но разве представители этого меньшинства продемонстрировали во время последнего кризиса здравое мышление и искренность своих сердец? Я ещё раз повторяю, что деятельность Сената была безупречной; лишь во время его падения он заслужил порицание и позор. Не имея на то права и власти, нарушая все принципы, Сенат сдал Францию и завершил её разрушение.
Этот государственный орган стал объектом насмешек со стороны бойких интриганов, заинтересованных в дискредитации и деградации Сената и в разрушении одной из главных основ современной государственной системы. По правде сказать, им полностью удалось добиться своей цели, ибо я не знаю ни одного государственного органа в истории, который заслужил большего позора, чем французский Сенат. Однако справедливости ради следует отметить, что пятно позора лежит не на большинстве Сената и что среди клеветников находилось множество иностранцев, которым безразличны наши честь и судьба».
Когда в Париж прибыл граф д’Артуа, Государственный совет приложил все усилия, чтобы привлечь его внимание и добиться его благосклонности. Дважды депутация Совета напрашивалась к нему на приём, чтобы ей разрешили встретить короля в Компьене. В связи с этой просьбой граф д’Артуа ответил депутатам, что король охотно примет отдельных представителей Совета, но направление депутации в Компьен не планируется. Это верно, что в составе этой депутации отсутствовали главы секций Совета. Вся эта шумиха поднималась только ради того, чтобы обеспечить выплату денежного содержания членам Совета и, по возможности, добиться сохранения их служебных мест. Так, члены Государственного совета без раздумий подписали заявление о своём одобрении резолюций Сената, правда, избежав в послании выражений, которые могли быть оскорбительны для Наполеона. «И вы тоже подписали это послание?» — спросил меня император. «Нет, я отказался подписывать его на том основании, что было бы вопиющей глупостью пытаться быть государственным советником и верным слугой двух антагонистов; и, кроме того, если победитель в этом противостоянии двух антагонистов человек умный, то лучшее, что мы могли бы предложить его вниманию, это сохранение лояльности и уважения к поверженной стороне». — «Вы рассуждали правильно», — отметил Наполеон.
Памятная записка
5 ноября 1815 года
Почти все члены нашей группы собрались в саду вокруг императора. Те, кто проживал в городе, много жаловались на неудобства и притеснения, которым они подвергались. Император на протяжении двух последних недель взял за правило делать сообщения по этому поводу только в письменном виде, что он считал наиболее удобным и эффективным способом достижения желаемого результата. Он подготовил памятную записку по затронутому вопросу,
198
которую должны были отправить ещё несколько дней тому назад, но это сделано не было. Император несколько раз с раздражением в голосе возвращался к этому вопросу. Все его намёки и замечания относились к гофмаршалу Бертрану. Последний в итоге обиделся, — у кого невзгоды не вызывают раздражения? Он выражал свои мысли довольно едко. Его жена, стоявшая около садовой калитки, отчаявшись предотвратить бурю, удалилась. Во время этой сцены я имел возможность наблюдать за тем, как император, с его острым умом, быстро реагировал на высказывания гофмаршала. В этих ответах проявлялись здравый смысл, логика, а также, можно было бы добавить, и настроение императора.
«Если, — сказал император, — вы не отправили памятную записку только потому, что посчитали, что её следовало составить в более резком тоне, то вы — настоящий друг; но, конечно, это не должно было вызвать задержку с её отправкой более чем на двадцать четыре часа. Прошло целых две недели, а вы даже не упомянули об этом. Если сама идея была ошибочной, если памятная записка плохо составлена, то почему вы не сказали мне об этом? Мне пришлось собрать вас всех вместе, чтобы обсудить этот вопрос».
Мы все стояли около беседки в самом конце садовой дорожки, а император в это время прохаживался перед нашей группой взад и вперёд. В тот момент, когда он немного отошёл и не мог нас слышать, гофмаршал, обратившись ко мне, сказал: «Боюсь, что я выразился не совсем удачно, и очень сожалею об этом». — «Мы оставим вас наедине с императором, — ответил я, — и вы вскоре заставите его забыть вашу резкость». И я кивком головы дал понять всем остальным присутствующим, что следует покинуть сад.
Вечером император, беседуя со мной об утренних событиях, сказал: «Потом мы помирились с гофмаршалом, а до этого у нас с ним произошла размолвка». Далее император рассказал о некоторых других случаях подобного рода, тем самым давая понять, что его недавняя размолвка с гофмаршалом не оставила следа в его сердце.
Генералы французской армии в Италии — Армии Древнего мира — Чингисхан — Современные нашествия — Характер завоевателей
6 ноября 1815 года
Император был немного нездоров и поэтому не покидал своей комнаты, где он продолжает работу над мемуарами. Он продиктовал мне свои характеристики на генералов французской армии в Италии — Массену, Ожеро, Серрюрье и других. Массена был наделён необыкновенной храбростью и решительностью, которые, казалось, лишь возрастали по мере увеличения опасности. Терпя поражение, он всегда был готов вновь ринуться в бой, словно именно он был победителем. Ожеро, напротив, казался уставшим и унылым после одержанных побед, которых он, как правило, добивался. Обликом, манерами и языком он был похож на настоящего бандита, что было вовсе не так, — особенно когда он почувствовал, что пресытился почестями и богатством, собранным всевозможными средствами и при каждом удобном случае. Серрюрье, сохранивший манеры и суровость старого пехотного майора, был честным и заслуживавшим доверия человеком, но как генералу ему не удалось проявить себя.
Среди разных тем нашей сегодняшней беседы император затронул и вопрос об армиях Древнего мира. Он высказал сомнение, следует ли доверять рассказам о великих достижениях армий, вошедших в анналы истории. Император придерживался того мнения, что эти рассказы лживы и абсурдны. Он не верил описаниям бесчисленных армий карфагенян в Сицилии. «Подобная масса войск, — заметил он, — была бы бесполезной в такой незначительной военной кампании; и если Карфаген был способен собрать такую мощную армию, как объяснить то, что в военном походе Ганнибала, имевшем гораздо большее значение, участвовало не более сорока или пятидесяти тысяч человек?»
Император не верил рассказам о миллионах воинов, составлявших войска Дария и Ксеркса, которые могли бы заполнить всю Грецию, и сомневался, что эти войска были разделены на множество
200
отдельных армий. Император даже усомнился в достоверности того блестящего периода в истории Греции и считал, что знаменитая Персидская война — лишь ряд сражений с неясным исходом, в которых каждая сторона приписывала себе победы. Ксеркс триумфально вернулся в Персию после того, как взял Афины, сжёг и разрушил город, а греки праздновали свою победу, потому что они не уступили персам в морском сражении при острове Саламин. «Что касается помпезных описаний греческих побед и поражения их бесчисленных врагов, то следует помнить, — заметил император, — что греки, описывавшие эти победы, были тщеславными людьми, склонными к преувеличению, и что до нас не дошла персидская летопись со своими, надо думать, противоположными оценками, которая помогла бы нам составить правильное представление о событиях».
Но император не подвергал сомнению летописи древнеримской истории, если не во всех её подробностях, то в её фактических результатах, поскольку эти факты были ясны как дневной солнечный свет. Он также верил описаниям войск Чингисхана и Тамерлана: они были столь многочисленны, судя по рассказам, потому что за ними следовали кочующие племена, к которым, по мере их продвижения, присоединялись и другие народности. «И вполне возможно, — заметил император, — что из-за этого в один прекрасный день с Европой было бы покончено. Крутой перелом в истории, вызванный гуннами, причина которого неизвестна, так как она затеряна в безграничной пустыне, может повториться в будущем.
Условия, которые налицо в России, могут стать причиной подобной катастрофы, и наиболее вероятно, что именно оттуда следует её ждать. Эта страна может заполонить всю Европу кочующими племенами севера, лучше других подготовленными к нашествию. Они будут ждать его с большим нетерпением, тем более что есть пример успехов их соотечественников, которые недавно посетили нас, и этот пример воспламеняет их воображение и возбуждает алчность».
Затем говорили о завоеваниях и завоевателях, и император заявил: чтобы быть успешным завоевателем, необходимо быть жестоким и что если бы он был таким, то мог бы завоевать весь мир. Я позволил себе не согласиться с этой точкой зрения, которая, несомненно, была высказана в минуту раздражения. Я сказал, что он, Наполеон, определённо был доказательством обратного: он не был жестоким и, тем не менее, завоевал мир, — и что, учитывая нравы нынешнего века, жестокость, конечно, никогда бы не позволила ему достичь таких высот. Я добавил, что в наши дни невозможно добиться контроля над свободной личностью методами террора, — суверенное право должно быть обеспечено только хорошими законами
вкупе с величием характера и запасом энергии, помогающей выдержать любые испытания, в человеке, долгом которого является соблюдение исполнения законов. Именно это, утверждал я, и было причиной успехов Наполеона, покорности и послушания народов, которыми он правил.
Конвент был жестоким и держался на терроре; ему подчинялись, но его не могли терпеть. Если бы власть принадлежала одному человеку, то его бы вскоре свергли. Но Конвент был злом, с которым трудно было бороться, и, тем не менее, сколько раз пытались уничтожить его, рискуя при этом! Скольких опасностей он удивительным образом избежал! Он был вынужден похоронить самого себя среди собственных триумфов.
Для того, чтобы жестокому завоевателю добиться успеха, он должен командовать войсками такими же жестокими, и он может властвовать только над непросвещённым народом. В этом отношении Россия обладает громадным превосходством над остальной Европой. У неё есть редкое преимущество, состоящее в том, что цивилизованное правительство этой страны властвует над поддан- ными-варварами. Там, в России, знание руководит и командует, в то время как невежество исполняет и разрушает. Турецкий султан не смог бы долго править какой-нибудь просвещённой страной: империя, обогащённая знаниями, не потерпела бы его власти.
Затронув другую проблему, император заметил, что хотя французы менее энергичны, чем римляне, но они, по крайней мере, проявляли большую внешнюю благопристойность. Нам не приходилось убивать самих себя, как это делали римляне при первых императорах, и в то же время мы не давали примеров развращённости и раболепия, которыми были отмечены последние периоды Римской империи. «Даже в самые продажные времена, — сказал император, — наша низость была подвержена определённым ограничениям: придворные, с которыми у монарха в его дворце было принято делать всё, что ему угодно, обычно отказывались склонять колено перед ним, когда он устраивал приёмы гостей».
Я уже упоминал, что у нас не было практически ни одного документа, касающегося деятельности императора во Франции. Книги, привезённые вместе с его личными вещами, были произведениями классиков, он брал их с собой во все военные походы. От майора Ходсона, жителя острова, я получил книгу с летописью политических событий с 1793-го по 1807 год под заголовком «Ежегодный альманах». Она содержала описание политических событий, произошедших за эти годы, и некоторые весьма важные официальные документы. В наших нищенских условиях этот альманах был ценным приобретением.
Идеи — Планы — Политические предложения и т.д.
7 ноября 1815 года
Император завтракал в одиночестве и в течение дня был занят диктовкой гофмаршалу и господину де Монтолону.
Вечером, когда император и я прогуливались вместе по нижней дорожке, ставшей теперь нашим любимым местом отдыха, я сообщил ему, что один влиятельный человек, чьи идеи и мнения позволяют предположить, что он мог бы стать посредником между нами и правящими кругами различных стран и повлиять на нашу участь, попросил нас, в самой учтивой манере и с соответствующей преамбулой, сообщить ему откровенно, что мы думаем по поводу мнений императора по ряду политических проблем. Полагал ли император, что его последняя конституция будет действовать в долгосрочной перспективе? Был ли он искренен, когда отказался от своих прежних планов создать великую империю? Согласился бы он оставить за Англией право быть первой морской державой мира, не испытывая при этом ревности к ней в связи с тем, что она без особых затруднений завладела Индией? Будет ли он готов отказаться от заморских колоний и закупать колониальные товары по обычным рыночным ценам, причём только у Англии? Не пойдёт ли он на союз с Америкой в том случае, если она осуществит разрыв с Англией? Согласился бы он с существованием большого королевства в Германии в качестве ветви английской королевской семьи во главе с нынешней принцессой Шарлоттой Уэльской? Или, если вариант с Германией не пройдёт, то на учреждение английского доминиона в Португалии, если Англия договорится об этом с королевским двором Бразилии?
Эти вопросы не были следствием смутных идей или необоснованных мнений: вышеупомянутое лицо, формулируя их, опиралось на определённые факты. «Мы хотим, — заявил этот человек, — чтобы на континенте поддерживался продолжительный и прочный мир, мы хотим спокойно использовать в собственных интересах нынешнюю ситуацию, сложившуюся к нашей выгоде, для того, чтобы она помогла нам выйти из кризиса, в котором мы оказались, и освободиться от огромного долга, лежащего на нас тяжёлым бременем. Франция и Европа в их нынешнем состоянии не могут помочь нам в этом. Победа при Ватерлоо уничтожила вас, но она мало способствовала тому, чтобы спасти нас. Каждый разумный человек в Англии, каждый, кто не подпал под влияние минутной восторженности, думает или будет думать так же, как я».
203
Император подверг сомнению часть этого заявления, а то, что осталось, он посчитал фантазией; затем, изменив свой тон, он спросил меня: «Ладно, а каково ваше мнение в отношении всего этого? Давайте, сударь, высказывайтесь, ведь вы же сейчас находитесь на заседании Государственного совета». — «Сир, — ответил я, — люди часто позволяют себе фантазии, имея дело с самыми серьёзными вещами; и то, что мы содержимся под стражей на острове Святой Елены, не мешает нам предаваться мечтам. Хорошо, пусть мы сейчас имеем дело именно с мечтой. Почему бы нам не заключить между двумя странами политический брачный союз, в котором одна страна в качестве приданого предоставит свою армию, а другая — свой военно-морской флот? Такая идея, бесспорно, покажется абсурдной в глазах простого народа и, вероятно, слишком смелой для образованных людей, потому что она абсолютно необычна и выходит за рамки привычного шаблона. Но она может стать одной из тех неожиданных, блестящих и полезных идей, воплощённых в реальных планах, которые так характерны для Вашего Величества. Вы один можете заставить прислушиваться к ней и осуществить её».
Выходя за пределы идей нашего английского посредника, я предложил: «Если бы вы могли, разве вы не отдали бы весь французский флот, чтобы приобрести Бельгию и территорию до Рейна? Разве вы не отдали бы сто пятьдесят миллионов, чтобы приобрести десятки тысяч миллионов? Кроме того, подобная сделка сразу бы позволила обеим странам добиться цели, ради которой они ожесточённо спорили и сражались в течение многих лет; она бы привела обе страны к необходимости взаимно помогать друг другу, вместо того чтобы продолжать вражду. Разве не существенно для Франции, если впредь её купцы в английских колониях окажутся в равном положении с англичанами и тем самым без борьбы обеспечат для себя возможность торговли со всем миром? С другой стороны, разве не существенно для Англии, ради обеспечения безопасности своего господства на океанах и универсальности торговли (для поддержания которой она подвергается столь многим опасностям), поставить Францию во главе системы, которая позволит последней стать координатором событий на континенте и их третейским судьёй?
Защищённая от опасностей и усиленная всей мощью союзника, Англия сможет распустить свою армию в ответ на согласие Франции принести в жертву свой военно-морской флот. Англия даже сможет в значительной мере уменьшить количество своих кораблей. Она, таким образом, выплатит свой долг, даст возможность своему народу свободно вздохнуть, её экономика станет процветать; и вместо того, чтобы завидовать Франции, Англия будет стремиться (как только система будет ясно понята и все страсти улягутся, чтобы уступить место истинным интересам) укрепить авторитет своего
204
соседа на континенте, ибо Франция тогда будет авангардом, а Англия — её резервом и её ресурсами. Единство законодательств двух стран, их общие интересы, столь очевидная выгода — всё это в полной мере компенсирует трудности и необходимость преодоления препятствий, которые могут возникнуть на пути осуществления этого плана по прихоти правителей этих стран».
Император выслушал меня, но ничего не сказал: как правило, редко кому удаётся выяснить его мнение. Император нечасто вступает в полемику по политическим вопросам. Опасаясь, что я недостаточно ясно выразил свои мысли, я попросил его разрешения более подробно развить эти идеи в письменном виде. Он согласился, но больше ничего не сказал. Было уже поздно, и он удалился в свою комнату, чтобы лечь спать.
Конные прогулки императора — Разговор с английским капитаном
8—9 ноября 1815 года
Император диктовал в саду господам Монтолону и Гурго, а затем совершил прогулку по своей любимой дорожке. Он чувствовал себя уставшим и нездоровым. Он заметил нескольких женщин, готовых вступить на дорожку и пойти навстречу ему, чтобы познакомиться; это вызвало у него раздражение, и он повернул назад, чтобы избежать встречи.
Я предположил, что конная прогулка была бы полезной для него, — в нашем распоряжении три лошади. Император ответил, что никогда не сможет смириться с тем, что постоянно рядом с ним едет английский офицер, что он самым решительным образом отказывается совершать конные прогулки на таких условиях. Он добавил, что всё в жизни должно подвергаться оценке, и если неприятные ощущения, возникающие при виде тюремщика, сильнее удовольствия от конной прогулки, то, конечно, разумно вообще отказаться от развлечения.
Император удовольствовался весьма скромным обедом. Во время десерта он стал рассматривать изображения на некоторых тарелках из восхитительного севрского фарфора. Они были шедеврами в своём роде, и каждая стоила тридцать наполеондоров. Изображения на них представляли собой виды и предметы Древнего Египта.
Император завершил день прогулкой по своей любимой дорожке. Он признался, что весь день находился в очень подавленном настроении. Произнеся несколько несвязных фраз, он взглянул на часы и с радостью обнаружил, что уже половина одиннадцатого.
205
Погода была прекрасная, и к императору незаметно вернулось его обычное настроение. Он пожаловался на свой характер, который в целом энергичный, но порой является причиной приступов плохого настроения и нежелания общаться. Он, однако, утешал себя мыслью, что если, в подражание древним, он когда-либо почувствует склонность отрешиться от неприятностей и мерзостей жизни, то его нравственные убеждения не будут препятствовать этому. Он сказал, что иногда не может без ужаса размышлять о многих годах, которые, возможно, ему ещё предстоит прожить, и о бесполезности долгих лет старости, и что если бы он был уверен в том, что Франция пребывает в спокойствии и не нуждается в его помощи, то жил бы достаточно долго.
Мы поднялись к флигелю уже за полночь и сочли, что одержали знаменательную победу над временем.
Рано утром я навестил господина Балькомба, чтобы передать ему мои письма для отправки в Европу, поскольку корабль вот-вот должен был отплыть от острова. В доме господина Балькомба я встретил английского офицера, назначенного нашим охранником. Поражённый тем подавленным настроением, которое я накануне наблюдал у императора, и уверенный в необходимости для него конных прогулок, я сообщил офицеру, что подозреваю о причине нежелания императора заниматься верховой ездой; я добавил, что буду говорить с ним открыто и откровенно, поскольку я обратил внимание на то, с какой деликатностью этот английский офицер выполняет свои обязанности. Я поинтересовался, каковы были его инструкции и действительно ли необходимо следовать им буквально, если император проедет верхом на лошади вокруг дома. Я сослался на то отвращение, которое император, естественно, должен чувствовать к заведённым порядкам, когда каждую минуту он должен помнить о той ситуации, в которой мы оказались. Я заверил офицера, что мы не намерены винить его лично и что я уверен: если император пожелает совершить длительную верховую прогулку, то предпочтёт, чтобы именно он сопровождал его. Офицер ответил, что в соответствии с инструкциями он обязан следовать за императором, но что он взял за правило не делать ничего такого, что может быть оскорбительным для императора, и он готов нести личную ответственность за то, что не будет сопровождать императора.
Во время завтрака я сообщил императору о своём разговоре с английским капитаном. Император ответил, что капитан руководствовался добрыми намерениями, но он, Наполеон, не сможет принять эту услугу, поскольку принципиально не желает пользоваться поблажкой, которая может стать причиной компрометации этого офицера.
206
Проявленное императором принципиальное отношение к этой проблеме дало хороший результат. Когда я вечером пришёл к господину Балькомбу, капитан отвёл меня в сторону, чтобы сообщить, что днём был в городе и обсудил с адмиралом наш утренний разговор. Английскому офицеру было предписано строго следовать данным ему инструкциям. Я не мог удержаться и резковато выразил офицеру свою уверенность в том, что император немедленно даст указание отправить обратно трёх лошадей, предназначенных для него. Офицер, которому я также сообщил об ответе, данном мне императором утром в отношении него, заметил, что было бы совершенно правильно с нашей стороны отправить лошадей обратно и что он считает это самым лучшим решением в создавшейся ситуации. Это замечание, как мне показалось, было подсказано ему тем унижением, которому он сам был подвергнут.
Когда мы покинули дом господина Балькомба, я встретил императора, гулявшего по садовой дорожке. Я рассказал ему о своей беседе с английским офицером. Он, видимо, ожидал результата этой беседы. Мои предположения оказались верными, и император распорядился, чтобы я отправил обратно всех трёх лошадей. Это распоряжение привело меня в состояние сильного волнения, и я сказал (возможно, слишком резко), что немедленно отправлюсь и выполню его указание. Император, бросив на меня суровый взгляд, ответил весьма необычным для него тоном: «Нет, месье, сейчас вы вне себя. Редко случается, чтобы с таким настроением можно было что-либо сделать должным образом; всегда лучше переждать ночь после бурного дня».
Мы продолжали гулять почти до полуночи, — погода была восхитительная.
Уважение к тяжёлому труду
10 ноября 1815 года
Сегодня, когда мы закончили выполнять наше обычное задание, император отправился гулять в новом направлении. Он проследовал по дорожке в сторону города, пока не увидел дорогу, ведущую к нему, а вдали корабли, стоящие в гавани. Когда он возвращался обратно, то встретил госпожу Балькомб и госпожу Стюарт, весьма очаровательную женщину лет двадцати, которая сошла на берег с корабля, совершавшего плавание из Бомбея в Англию. Император завёл с ней беседу о нравах и обычаях Индии и о тех неудобствах, которые связаны с морским путешествием, особенно для слабого пола. Он также беседовал с ней о Шотландии, которая была её
родиной, много говорил об Оссиане и поздравил молодую даму с тем, что климат Индии не повлиял на светлый цвет её лица, свойственный шотландцам.
В эту минуту мимо нас проходила группа невольников с тяжёлыми ящиками на плечах; госпожа Балькомб рассерженным тоном велела им, чтобы они держались позади нас, но император, вмешавшись, сказал: «Уважайте тяжёлый труд, мадам!» При этих словах госпожа Стюарт, внимательно наблюдавшая за лицом императора, сказала, понизив голос, своей приятельнице: «Боже мой! Какое лицо и какая личность! Как всё это отличается от того, что я предполагала увидеть».
Полуночные разговоры при лунном свете — Две императрицы — Брачный союз с Марией Луизой — Её императорский двор — Госпожа де Монтескью — Мёдонский институт — Отношение императорского двора Австрии к Наполеону — Истории, собранные в Германии после моего возвращения в Европу
11—13 ноября 1815 года
Наша жизнь в «Бриарах» протекала весьма однообразно. Ежедневно, закончив диктовать мне, император выходил на прогулку между тремя и четырьмя часами дня. Затем он спускался в сад, где мы прогуливались взад и вперёд. Потом он диктовал в маленькой
беседке одному из господ, приезжавших из города специально для этого. Примерно в половине шестого император проходил мимо дома Балькомба и направлялся в сторону нижней дорожки, к которой он с каждым днём всё больше и больше привыкал. В это время семья Балькомба обедала, и император мог совершать прогулку без помех. Я составлял компанию императору, и мы прогуливались до тех пор, пока из нашего флигеля не сообщали, что нас ждёт обед.
После обеда император вновь возвращался в сад, и иногда ему в беседку подавали кофе. Потом мой сын наносил визит семье господина Балькомба, а мы с императором продолжали прогулку, часто оставаясь в саду до глубокой ночи, когда светила луна. Под покровом погожей и безмятежной ночи мы забывали о дневной жаре. Император никогда не был столь разговорчив и, казалось, никогда до такой степени не забывал о своих невзгодах, как во время этих прогулок при лунном свете. Поэтому я имел возможность беседовать с ним в очень доверительном ключе, и император с удовольствием рассказывал о своём детстве, описывал те чувства и несбыточные мечты, которые придавали такое очарование ранним годам его юности, и приводил разные подробности своей личной жизни, когда он стал играть выдающуюся роль на мировой сцене. Подчас я брал на себя смелость просить его повторить то, что я хотел более точно записать в своём дневнике. Иногда императору казалось, что он говорит слишком пространно и приводит излишние подробности событий. В таких случаях он обычно говорил мне: «Ну-ка, теперь настал ваш черёд, — расскажите мне немного о своей жизни; хотя вам не очень-то удаётся роль рассказчика». Действительно, во время наших бесед я старался больше молчать: слишком боялся потерять то из услышанного, что так сильно интересовало меня.
209
Во время одной из наших ночных прогулок император сказал мне, что в своей жизни он был привязан к двум женщинам, обладавшим совершенно разными характерами. Одна была страстной почитательницей искусства и олицетворением изящества, другая была сама простота и наивность, и каждая, заметил император, заслуживала самой высокой степени уважения.
Первая никогда, ни в одну минуту своей жизни, не переставала быть приятной и обаятельной; было невозможно обнаружить в ней что-либо неприятное. Она прибегала к любой возможности, чтобы усилить своё очарование и обаяние, присущие ей от природы, и это делалось с такой изобретательностью и умением, что следы этих действий были совершенно незаметны. Другую, наоборот, никогда нельзя было даже заподозрить в том, что она способна что-либо выиграть, прибегая к хитрости, и её хитрость была простодушной. Первая всегда избегала говорить правду, её первый ответ всегда был отрицательным; вторая была предельно откровенной и открытой, и такие приёмы, как увиливание или уловки, были ей незнакомы. Первая никогда ни о чём не просила мужа, но была кругом в долгах; вторая не стеснялась просить у мужа денег на то, чего ей хотелось, что, однако, случалось очень редко; и она всегда сразу же оплачивала покупку. Характер у обеих был мягкий и нежный, и обе были очень привязаны к своему мужу. Но уже пора догадаться, кто эти две женщины, и те, кто когда-либо видел их, безошибочно узнают в них двух императриц.
Наполеон заявил, что они в одинаковой степени проявляли по отношению к нему величайшую сдержанность характера и безусловную покорность.
Брачные отношения с Марией Луизой начались в Фонтенбло сразу же после её прибытия. Император, презрев весь оговорённый ранее этикет, выехал навстречу ей и незаметно пересел в её карету, чем она была радостно удивлена. До этого ей внушали, что Бертье, который формально венчался с ней в Вене по брачной доверенности, одного возраста с императором и внешне очень похож на него; однако, встретив последнего, она дала понять, что заметила приятную разницу между ними.
Император хотел, чтобы она пренебрегла этикетом, принятым в её семье и обычным при подобных случаях; она, однако, получила в Вене определённые инструкции на этот счёт. Император поинтересовался, какие указания в отношении него она получила от своих коронованных родственников. Ответ был следующим: быть полностью преданной ему и подчиняться во всём. Именно это заявление, а не решение ряда кардиналов и епископов (как сообщалось) избавило императора от всяких угрызений совести. Кроме того,
МО
французский король Генрих IV действовал таким же образом в подобной ситуации.
Брачный союз Марии Луизы, рассказал мне император, был предложен и заключён в том же виде и на тех же условиях, что и брачный союз Марии-Антуанетты, чей контракт был принят в качестве образца. После развода императора с Жозефиной велись переговоры с императором России с целью добиться руки одной из его сестёр, но в ходе их возникли трудности, связанные с некоторыми религиозными проблемами. В это время принц Евгений узнал из беседы с господином Шварценбергом, что император Австрии не будет возражать против брачного союза между Наполеоном и его дочерью; эта информация была доведена до сведения императора. Был созван совет, чтобы решить, какой союз — с Россией или с Австрией — будет более выгодным для Франции. Евгений и Талейран выступали за союз с Австрией, а Камбасерес был против него. Большинство высказалось за великую герцогиню. Евгению поручили подготовить письмо с официальным предложением, а министр иностранных дел был наделён правом подписать его, как только представится благоприятная возможность; так и было сделано.
Россия обиделась на императора в связи с этим; она посчитала, что с ней поступили легкомысленно, хотя для этого не было весомых оснований. Ничего из того, что накладывало бы обязательства,
ещё не было сделано, обе стороны оставались абсолютно свободными. Над всем превалировали политические интересы.
Император назначил герцогиню де Монтебелло главной фрейлиной Марии Луизы, графа де Богарне — её главным камергером и князя Альдобрандини — её конюшим. Во время несчастий 1814 года, рассказывает император, все эти лица не проявили той преданности, которую императрица была вправе ожидать от них. Её конюший покинул её без разрешения, её главный камергер отказался следовать за ней, её главная фрейлина, несмотря на большую привязанность к ней со стороны императрицы, посчитала, что она уже выполнила свой долг по отношению к своей госпоже ещё до прибытия последней в Вену.
Назначение герцогини де Монтебелло на должность главной фрейлины явилось одним из тех удачных решений, которое в то время, когда оно было принято, вызвало всеобщее одобрение. Герцогиня, молодая и красивая женщина, обладавшая безупречным характером, была вдовой храброго маршала, который недавно погиб на поле битвы. Этот выбор нашёл благоприятный отклик в армии и несколько поднял настроение французских националистов, обеспокоенных самим фактом брачного союза их императора с дочерью австрийского монарха, а также количеством и титулами камергеров, назначенных в её свиту. Создание такой свиты рассматривалось многими как шаг в сторону контрреволюции, и были попытки открыто говорить об этом. Что касается императора, то он оставался в неведении относительно характера Марии Луизы и опасался, что у неё, как и у всего императорского двора Вены, может быть предвзятое мнение о его происхождении. Когда же он узнал её ближе и обнаружил, что она, с её характером, живёт во власти мнений сегодняшнего дня, то пожалел, что не сделал иного выбора на должность главной фрейлины императрицы. Он понял, что ему следовало назначить на эту должность графиню де Бово, женщину с приятным и мягким характером, на которую могли повлиять только семейные советы её многочисленных родственников и которая, тем самым, могла бы познакомить императрицу с полезными обычаями Франции и способствовать назначению к ней обслуживающего персонала, обладавшего хорошими рекомендациями. Она могла бы также обеспечить доступ к императорскому двору многих достойных людей, находившихся в отдалении от него, причём, минуя затруднения, связанные с тем, что подобная мера могла быть осуществлена только с санкции императора (который был не из тех, кто позволил бы ввести себя в заблуждение).
Императрица чувствовала нежную привязанность к герцогине Монтебелло. Одно время эта герцогиня имела возможность стать
королевой Испании. Испанский король Фердинанд VII, находясь в Балансе, в замке князя Талейрана, попросил разрешения императора жениться на мадемуазель Жозефине де Таше, двоюродной племяннице императрицы Жозефины, следуя примеру князя Баденского, который женился на мадемуазель де Богарне. Император, который в это время уже размышлял о разводе с Жозефиной, отказался дать ему своё согласие на брачный союз, не желая этой семейной связью приумножить трудности, стоявшие на пути к его разводу с императрицей. Тогда Фердинанд стал просить руки герцогини де Монтебелло или любой другой именитой французской дамы, которую император счёл бы приемлемой кандидатурой для этого брачного союза. Впоследствии император выдал мадемуазель де Таше замуж за герцога д’Аремберга, которого он хотел сделать губернатором Нидерландов, собираясь решить наконец вопрос о возмещении Брюсселю потери его старого королевского двора.
Более того, император хотел назначить графа Нарбонна, принимавшего. участие в организации брачного союза императрицы, её главным камергером — вместо графа де Богарне; но крайне негативное отношение Марии Луизы к этому назначению вынудило императора воздержаться от своего намерения. Неприязнь императрицы к графу Нарбонну была, однако, вызвана всего лишь интригами лиц из её окружения, которым нечего было опасаться господина Богарне, но которые очень боялись влияния господина де Нарбонна, обладавшего незаурядными дарованиями.
Император рассказал нам, что когда ему нужно было сделать назначения на наиболее ответственные должности, то он обычно просил лиц из своего окружения дать ему список кандидатур на эти должности и, основываясь на этом списке и на информации, полученной им о кандидатах, размышлял над тем, какой сделать выбор. Он сказал нам о нескольких кандидатурах, предложенных ему на должность главной фрейлины императрицы: это были княгиня Водемон, госпожа Ларошфуко, потом госпожа де Кастеллан и некоторые другие. Затем император предложил нам назвать наши кандидатуры на эту должность; эта просьба дала нам повод вспомнить добрую часть императорского двора. Один из нас упомянул госпожу де Монтескью, в связи с чем император сказал: «Она была бы прекрасной главной фрейлиной, но уже занимала должность, которая подходила ей ещё больше. Она была женщиной исключительных достоинств: её благочестие было искренним, а её нравственные принципы были выше всяких похвал; моё уважение к ней было самым глубоким. Я хотел бы иметь около себя хотя бы пять человек, ей подобных, я бы назначил их на должности, соответствующие их достоинствам. Она превосходно выполняла свои обязанности, когда была с моим сыном в Вене».
2J3
Следующая история может дать полное представление о том, как госпожа де Монтескью справлялась с Римским королём. Апартаменты юного принца были на первом этаже и выходили окнами во внутренний двор дворца Тюильри. Почти ежечасно в течение дня люди заглядывали в окна дворца в надежде увидеть юного принца. Однажды, когда он был охвачен порывом ярости и в этом гневе не хотел подчиняться распоряжениям госпожи де Монтескью, она приказала закрыть все ставни. Ребёнок, удивлённый внезапно наступившей темнотой, спросил Маман Кью — так обычно он называл её, — что всё это значит. «Я слишком люблю тебя, — ответила она, — чтобы давать этим людям во дворе возможность быть свидетелями твоего гнева. Возможно, в один прекрасный день ты станешь править всеми этими людьми. И что же они скажут, если видели тебя в таком состоянии гнева? Ты думаешь, что они станут слушаться тебя, зная, что ты можешь быть таким капризным?» После этих слов ребёнок попросил у неё прощения и обещал больше никогда не поддаваться подобным приступам гнева.
«Эти слова, — заметил император, — весьма отличны от тех, с которыми господин де Виллеруа обратился к Людовику XV. “Смотрите на всех этих людей, мой принц, — сказал он, — они принадлежат вам; все те люди там, которых вы видите, они ваши”».
Юный Римский король обожал госпожу де Монтескью. Во время её отъезда из Вены пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы обмануть ребёнка: были опасения, что его здоровье окажется под угрозой в результате разлуки с ней.
Император обдумывал много новых идей относительно воспитания и образования Римского короля. Для выполнения этой важной задачи он решил основать Мёдонский институт, главные принципы работы которого он уже утвердил, собираясь подробнее разработать их в свободное время. В этом институте он предлагал собрать принцев императорского дома, особенно сыновей монархов, представлявших ветви его семьи, которых растили для того, чтобы они со временем стали монархами иностранных держав. Этот план, объяснил император, должен был совместить индивидуальное воспитание с преимуществами общественного образования. «Эти дети, — сказал император, — которым было предназначено занять различные престолы и править разными странами, таким образом освоили бы общие идеи, единые принципы и правильные манеры поведения. Чтобы способствовать объединению и единообразию федеративных частей империи, каждый принц должен был привезти с собой из своей страны десять или двенадцать юношей примерно такого же возраста, как и он сам, выходцев из наиболее знатных семей государства. Нетрудно представить себе, какое влияние они оказали бы на развитие своей страны по возвращении домой! Я не сомневаюсь в том, что принцы других династий, не связанных с моей семьёй, вскоре ходатайствовали бы, чтобы их сыновья получили возможность быть принятыми в Мёдонский институт, считая это большой честью для себя. Какую пользу получили бы страны, входящие в европейскую ассоциацию! Все эти юные принцы были бы собраны вместе и связаны крепкими и нежными узами юношеской дружбы, к тому же в этом возрасте они были бы ограждены от пагубного влияния пороков — пылких пристрастий, тщеславия, ревности».
Император хотел, чтобы образование принцев было основано на обширных знаниях, аргументированных мнениях, на глубоком анализе и фактическом опыте. Он хотел, чтобы они овладевали знаниями, а не занимались заучиванием, обретали бы не просто навыки, но рассудительность; изучению теорий он предпочитал анализ реальных фактов. Больше всего он возражал против чрезмерно глубокого овладения каким-либо специфическим знанием, поскольку считал, что совершенствование в чём-то одном или достижение большого успеха в определённой профессии, будь то в области искусства или в отрасли науки, наносит вред молодому принцу. Страна, говорил император, никогда много не выиграет от того, что ею правит поэт, музыкальный виртуоз, естествоиспытатель, химик, токарь, слесарь и т.п.
215
Мария Луиза призналась императору, что, когда впервые зашла речь о её брачном союзе с ним, она пришла в ужас из-за тех рассказов о нём, которых она наслушалась от членов своей семьи. Когда она поделилась тем, что услышала о Наполеоне, со своими дядями, великими герцогами, которые очень настаивали на этом брачном союзе, они ей ответили: «Да, это было правдой, пока он был нашим врагом, но теперь всё изменилось».
«Чтобы иметь представление о том, как разных членов австрийской императорской семьи учили проявлять сочувствие и доброжелательность к моей персоне, — продолжал император, — достаточно напомнить о том факте, что один из юных великих герцогов часто сжигал своих кукол, называя эту забаву поджариванием Наполеона. Но потом этот юнец объявил, что больше не будет поджаривать меня, так как он меня очень любит, потому что я дал его сестре Луизе много денег, чтобы покупать ему игрушки».
Вернувшись в Европу, я имел возможность узнать о том, какие чувства императорский двор Австрии питает к Наполеону. В Германии один знатный человек сообщил мне, что у него была личная беседа с императором Францем, когда в 1816 году оба совершали поездку по Италии. Во время беседы речь зашла о Наполеоне. Франц отзывался о нём самым уважительным образом. Это выглядело так, заявил мой собеседник, будто император Франц по-прежнему считает Наполеона правителем Франции и не знает о том, что он находится в неволе на острове Святой Елены. Говоря о Наполеоне, Франц всегда называл его императором.
От этого же собеседника я узнал, что великий герцог Иоанн, находясь в Италии, посетил ротонду, на куполообразном потолке которой была нарисована картина, изображавшая Наполеона как героя, одерживающего победу в сражении. Когда он поднял голову, чтобы рассмотреть картину, у него слетела шляпа, и один из служителей ротонды нагнулся, чтобы подашь её. «Не трогайте её, — заявил великий герцог. — Именно так, с непокрытой головой, следует созерцать человека, который изображён там».
Теперь, когда я затронул эту тему, я расскажу об отдельных случаях, о которых мне удалось узнать в Германии после возвращения в Европу, и, чтобы подчеркнуть их безусловную достоверность, добавлю, что о них мне рассказывали люди, занимавшие высокие дипломатические посты. Всем хорошо известно, что члены дипломатического корпуса составляют особую касту, что-то вроде сообщества масонов, и их информаторы предоставляют им самые достоверные сведения.
Императрица Мария Луиза жаловалась, что, когда она покидала Францию, господин Талейран присвоил право лично потребовать от неё возвращения драгоценных камней императорской короны и сам скрупулёзно проверял, возвращены ли они все до единого.
В 1814 году, в самый разгар крушения Франции, принц Евгений получил много заманчивых и блестящих предложений. Австрийский генерал предложил ему, от имени союзников, корону Италии, при условии, что он присоединится к ним. Ещё более высокопоставленные особы затем неоднократно повторяли это предложение. Кстати, во время правления Наполеона рассматривалась идея о возведении принца на один из европейских престолов, при этом назывались Португалия, Неаполь и Польша.
В 1815 году весьма влиятельные в сфере европейской дипломатии люди осторожно пытались узнать о том, согласится ли Евгений принять французскую корону, если Наполеону придётся вновь отречься от престола. Однако принц Евгений твёрдо придерживался принципов долга и чести, и эта преданность увековечит его имя. Честь и Верность были его постоянными ответами на это и на другие предложения, и потомки сделают эти слова его девизом.
В 1814 году, когда перекраивалась карта Европы и перераспределялись территории её государств, император Александр, часто наносивший визиты императрице Жозефине в Мальмезон, дал ей понять о своём желании зарезервировать для её сына владение Генуей. Она, однако, отклонила это предложение, поддавшись влиянию одного обходительного дипломата, который льстил её самолюбию надеждой на нечто лучшее для принца Евгения.
На Венском конгрессе император Александр, оказывавший принцу особые знаки внимания и уважения, настаивал на том, чтобы
2*7
сделать его монархом государства с количеством подданных минимум в триста тысяч человек. Он публично демонстрировал свою искреннюю дружбу с принцем, и их ежедневно можно было видеть гулявшими вместе под руку. Высадка Наполеона на берег Франции под Каннами положила конец если не чувству императора Александра, то, по крайней мере, упомянутой демонстрации. Эта высадка изменила политические интересы императора России.
Австрийское правительство даже вынашивало идею пленения принца Евгения и заточения его в качестве пленника в одну из венгерских крепостей, но король Баварии, тесть принца, с возмущением напомнил императору Австрии, что Евгений приехал в Вену под его защиту и гарантии и что они не должны нарушаться. Таким образом, Евгений оставался в Вене на свободе под своё честное слово и слово своего тестя.
В 1814 году в Милане были отчеканены золотые монеты номиналом двадцать и сорок франков с головой Наполеона и с датой «1814 год», однако то ли по экономическим соображениям, то ли по иным причинам монеты с новым штампом не были выгравированы.
После падения Наполеона император Александр в ряде случаев демонстрировал явную неприязнь к нему. В 1815 году он был зачинщиком второго крестового похода против Наполеона, руководил всеми враждебными мероприятиями против него, видимо, считал их почти личным делом и утверждал, что причина его антипатии в том, что его обманывали и над ним подшучивали. Если это продолжительное чувство озлобления против Наполеона не было простым притворством, то есть все основания предполагать, что оно было раздуто одним старым наперсником Наполеона, который в личных беседах с русским императором искусно задевал самолюбие Александра рассказами, правдивыми или лживыми, о мнении Наполеона о его русском друге.
В 1814 году были основания верить тому, что Александр не возражал бы видеть на французском троне сына Наполеона. После второго отречения императора он уже гораздо менее был настроен на продолжение династии Наполеона.
Во время второго крестового похода император Александр возглавлял многочисленное войско. В то время говорили, что он заявил: война может продолжаться хоть три года, но Наполеон всё равно будет побеждён.
Когда были получены первые сведения о сражении при Флёрю- се, командующие русских войск немедленно получили приказ остановиться; в то же время австрийские и баварские корпуса тут же повернули назад, чтобы отделиться от русской армии и сформировать отдельную от неё собственную армию. Если бы Венский конгресс
закрыли 20 марта, то, почти очевидно, нашествие союзников не возобновилось бы; и если бы Наполеон одержал победу при Ватерлоо, тоже вполне очевидно, что вторжение союзников во Францию не состоялось бы.
Французский полномочный представитель в Вене господин Талей- ран был как громом поражён сообщением о высадке Наполеона в Каннах. Он в самом деле составил проект знаменитой декларации от 13 марта, объявлявшей Наполеона вне закона; хотя эта декларация была полна яда, но её первый проект был ещё более злобным, — он был изменён министрами других стран. Выражение лица полномочного представителя Франции вызывало дружный смех всех участников Венского конгресса. Впечатление было такое, что у него повышалась температура по мере того, как он получал всё новую информацию о продвижении Наполеона к Парижу.
Австрия вскоре узнала о действительном положении вещей: её курьеры информировали Вену достаточно точно. Только члены французской дипломатической миссии не знали, что делать: они по-прежнему продолжали направлять величественное письмо французского короля другим монархам, в котором сообщалось, что король полон решимости умереть в Тюильри, хотя уже было известно, что Людовик покинул столицу и находится на пути к границе страны.
Один из участников Венского конгресса и лорд Веллингтон в конфиденциальной беседе с членами французской дипломатической миссии с картой в руках обозначили 20-е или 21 марта как дату вступления Наполеона в Париж.
По мере того как император Франц получал официальные донесения из Гренобля и Лиона, он регулярно переправлял их в Шенбрунн Марии Луизе, которой эти донесения доставляли чрезвычайную радость. Соответствует действительности тот факт, что несколько позднее вынашивалась идея отвезти сына Наполеона в Париж.
Талейран в конце концов покинул Вену и проследовал сначала во Франкфурт, а затем в Висбаден, откуда ему было удобно вести переговоры с Гентом или с Парижем. Никогда ещё этот приспособленец не был в таком состоянии смятения. Весь пыл, которым он был охвачен, когда получил донесение о высадке Наполеона в Каннах, полностью иссяк, когда он узнал о прибытии императора в Париж. Он заключил соглашение с Фуше, в соответствии с которым последний должен был стать его гарантом у Наполеона, а со своей стороны, он бы стал гарантом Фуше у Бурбонов. Есть все основания верить тому, что предложения, сделанные этим полномочным представителем новому монарху, были весьма пространными, но Наполеон с презрением отверг их, чтобы, как он заявил, не подвергать столь большому унижению собственную политику.
219
В 1814 году, до того, как Талейран объявил о своём решении перейти на сторону Бурбонов, он выступал за учреждение в стране регентства, в котором отводил себе ведущую роль. События, ставшие фатальными для династии Наполеона, воспрепятствовали тому, чтобы этот исторический отрезок времени, отмеченный полной не- определённостью, привёл к чему-нибудь хорошему. Всё склонялось к тому, что достигнутые в этот период времени результаты мало соответствовали намерениям Австрии; эта держава оказалась жертвой обмана, предательства и, по меньшей мере, объектом резких выступлений и нападок.
Фатальность хода военных действий была такова, что союзники вступили в Париж без согласования этого решения с австрийским кабинетом министров. Александр выступил со своей знаменитой декларацией против Наполеона Буонапарте и его семьи, не проконсультировавшись с австрийской державой; и граф д’Артуа лишь тайно ухитрился проникнуть во Францию, в нарушение приказа австрийского главного командования, отказавшего ему в выдаче паспортов.
Как выяснилось, Австрия, после отступления Наполеона из Москвы, прилагала искренние усилия в Лондоне для того, чтобы начать мирные переговоры с Наполеоном, но влияние русского кабинета министров было настолько сильным, что никто в Лондоне и слышать не хотел о каких-либо мирных предложениях. Затем настало время перемирия в Дрездене, и Австрия объявила Франции войну.
В течение всего этого отрезка времени посол Австрии в Лондоне так и не смог добиться того, чтобы его выслушали. Однако он, тем не менее, продолжал довольно долго оставаться в английской столице, пока войска союзников не подошли к самому Парижу. Тогда лорд Каслри сделал намёк о возможности переговоров, поскольку последние героические успехи Наполеона в сражениях на территории Франции могли бы сделать их обязательными.
Если бы австрийского посла ранее не направили в Лондон, то он бы получил назначение в Париж; и там он, вероятно, своим влиянием изменил бы ход переговоров, которые велись между Тюильри и Веной во время его отсутствия.
В самый пик кризиса его удерживали в Лондоне. Сгораемый от нетерпения оказаться в центре переговорного процесса, он покинул свой пост в Лондоне и отправился морем в Голландию, несмотря на сильнейший шторм. Но не успел он появиться на театре военных действий, как попал в руки Наполеона в Сен-Дизье; но тогда судьба Франции уже была решена, хотя об этом ещё не знали во французской ставке. В то время император Александр во главе своих войск вступал в Париж.
220
Австрийский посол в Лондоне ранее предпринимал всё возможное, чтобы получить паспорт, который позволил бы ему присоединиться к своему монарху, следуя в Вену через Кале и Париж, но это ему не удалось. Вольно или невольно, это стало ещё одним фатальным обстоятельством. Если бы не эта неудача, то австрийский посол прибыл бы в Париж, опередив союзников, присоединился к Марии Луизе, расстроил комбинации Талейрана и разработал новые политические планы.
В австрийском кабинете министров мнения разделились. Одна сторона выступала за союз с Францией, другая предпочитала альянс с Россией. Интрига или случай способствовали объединению с Россией, и с этой минуты Австрию вели на политическом поводке.
Размышления — Небольшие детали
14 — 15 ноября 1815 года
Сегодня утром кофе, который нам подавали во время завтрака, был лучше, чем обычно; он был, можно сказать, хорошим. Император заявил, что получил удовольствие от него. Через несколько минут он заметил, положив руку на живот, что кофе благоприятно подействовал на него. Трудно выразить мои чувства в тот момент, когда я услышал это простое замечание. Тем, что он так высоко оценил полученное им столь обыденное удовольствие, император, вопреки своим привычкам, невольно подчеркнул то, что он долго испытывал лишения. Он терпел их, но никогда не жаловался.
Мы вернулись после нашей вечерней прогулки, и император прочитал мне главу из своей рукописи о временных консулах, которую он диктовал господину де Монтолону. Закончив читать, император взял кусок ленты и принялся связывать вместе разрозненные листы бумаги. Было уже поздно, вокруг нас царила ночная тишина. В этот момент моё настроение приняло меланхолический оттенок. Я взглянул на императора. Я смотрел на его руки, которые держали так много скипетров, а теперь неторопливо выполняли простую работу, нанизывая один за другим листы бумаги, и, вероятно, император испытывал при этом определённое удовольствие. На этих листах описаны события, которые никогда не будут забыты. Это была рукопись, дававшая жизнь одним людям, чьи имена упоминались в ней, и объявлявшая смертный приговор другим. Таковы были мысли, промелькнувшие в моей голове. «И император, — подумал я, — читает мне то, что он пишет; он попросту беседует со мной, спрашивает моё мнение, и я откровенно делюсь им. Да разве после
221
всего этого следует жалеть меня за то, что я нахожусь в ссылке на острове Святой Елены?!»
Сразу же после обеда император отправился гулять по своей любимой дорожке. Он распорядился принести ему в сад кофе и, прогуливаясь там, пил его. Разговор зашёл о любви. Я, должно быть, позволил себе сделать ряд возвышенных и сентиментальных заявлений по этой важной теме, ибо император стал смеяться над тем, что он назвал моей болтовнёй. Он заявил, что ничего не понял из моего романтического словоизвержения. Затем, заговорив с некоторым налётом легкомыслия, он хотел убедить меня в том, что ему более понятны ощущения, а не чувства. Я осмелился заметить ему, что он старается, чтобы о нём думали хуже, чем он был тогда, когда о нём велись, в большом секрете, разговоры по всему дворцу. «И что же говорили обо мне?» — спросил император несколько наигранным весёлым тоном.
«Сир, — ответил я, — говорилось, что когда вы достигли вершин власти, то вдруг позволили себе влюбиться. Что вы стали героем одной любовной истории, что, воспламенённый неожиданным сопротивлением, почувствовали привязанность к одной госпоже, что вы написали ей примерно дюжину любовных писем и что она возымела над вами такую власть, что вынудила вас, предварительно переодевшись, чтобы вас не узнали посторонние, тайно её навещать в её доме в самом центре Парижа». — «И каким образом это стало известно? — спросил император, улыбаясь. (Конечно, этот вопрос по существу явился признанием факта.) — И, несомненно, при этом добавляли, — продолжал он, — что этот случай стал самым опрометчивым поступком всей моей жизни. Поскольку, если бы
222
моя любовница предала меня, то какова была бы моя судьба? Всеми покинутый и выставленный в ложном свете при тех обстоятельствах, в которых я оказался, окружённый бесчисленными ловушками... Но что ещё говорили обо мне?» — «Сир, утверждалось, что ваше потомство не ограничилось одним Римским королём. Тайная летопись констатирует, что у него есть два старших брата: один — отпрыск прекрасной иностранки, которую вы любили в далёкой стране, другой — плод любовной связи здесь, в центре Парижа. Утверждалось, что и того и другого ребёнка привозили в Маль- мезон накануне нашего отъезда. Одного привезла его мать, а другого вам представил его наставник; и что оба были живой копией своего отца»*.
Император от души посмеялся над сообщённой мною «информацией», как он выразился, и, придя в отличное настроение, стал откровенно рассказывать о ранних годах своей жизни, приводя примеры своих любовных похождений и многих приключений, в которых участвовал. Я опускаю его любовные дела, что же касается приключений, то среди них он упомянул ужин в районе реки Соны в начале революции, на котором он присутствовал вместе со своим верным другом де Мази. Император с большим удовольствием описывал этот ужин. По его словам, он оказался в самом настоящем осином гнезде, где его патриотическое красноречие стало оружием в бою против совершенно противоположных доктрин других гостей и чуть было не привело его к самым серьёзным неприятностям.
«В то время, — продолжал император, — вы и я были очень далеки друг от друга». — «Не так уж далеки с точки зрения расстояния, — возразил я, — хотя, конечно, мы были очень разными в отношении политических пристрастий. В то время я был недалеко от реки Соны, на одной из набережных Лиона, где толпы патриотов произносили речи против пушек, которые они только что обнаружили в нескольких лодках. Этот факт они посчитали контрреволюцией. Я очень некстати предложил, чтобы они убедились, что это действительно пушки, дав для этого гражданскую присягу. После этого я чудом избежал виселицы из-за своей глупости. Как видите, сир, в тот момент я оказался в ситуации, подобной вашей, ведь и ваше поведение в компании аристократов, участников ужина, могло привести вас к беде».
Эти два происшествия были не последними забавными совпадениями, о которых мы говорили в тот вечер. Император рассказал об
* Говорят, что дополнительное распоряжение в завещании императора, которое, однако, должно оставаться секретным, полностью подтверждает вышеупомянутое предположение.
223
одном интересном случае, который произошёл в 1788 году. «Где вы были в то время?» — спросил он меня. «Сир, — ответил я, поразмыслив несколько секунд, — в то время я был на острове Мартиника, каждый вечер ужиная с будущей императрицей Жозефиной».
Стал накрапывать дождь, и мы вынуждены были покинуть нашу любимую дорожку, которую, как заметил император, мы, возможно, в будущем будем вспоминать с большим удовольствием. «Может быть, и так, — согласился я. — Но пока мы должны удовольствоваться тем, что назовём её “Тропой Философии”, поскольку не можем назвать её “Тропой Забвения”».
Сен-Жерменское предместье — Независимость императора от предрассудков и от недоброжелательности
16 ноября 1815 года
Сегодня император задал мне несколько вопросов о Сен-Жер- менском предместье — об этом последнем бастионе старой аристократии, об этом прибежище старомодных предрассудков, или, как он называл его, Тевтонской Лиге. Я отвечал, что, до последних неудач, перед властью императора предместье не устояло: эта власть пленила его, вытеснив всё остальное и оставив только его имя; слава императора встряхнула и покорила предместье, а победы при Аустерлице и Йене, а также триумф Тильзита, завершили его завоевание. Молодые жители предместья и все те, кто обладал благородным сердцем, не могли оставаться равнодушными к славе своей страны.
224
НАПОЛЕОН В ГОСПИТАЛЕ ЧУМНЫХ В ЯФФЕ
Брачный союз императора с Марией Луизой нанёс предместью последний удар. Оставшиеся там малочисленные оппозиционеры представляли собой или тех, чьи амбиции не были удовлетворены (таких можно обнаружить среди любого класса населения страны), или нескольких упрямых стариков и глупых старух, сожалевших о своём потерянном прошлом влиянии. Все разумные и здравомыслящие люди отступили перед исключительными талантами главы государства и, не забывая о потерях, старались всё же утешить себя надеждой на лучшую долю своих детей. Это стало их главной целью, на достижение которой были направлены все их помыслы. Они отдавали должное императору за его почтение к именам старых аристократических семей, они не сомневались, что другой на его месте полностью уничтожил бы их. Они высоко ценили то доверие, с которым император приближал к своей особе представителей старых аристократических семей, и в неменьшей степени они оценили его слова, когда он отбирал их сыновей для службы в своей армии: «Эти имена принадлежат Франции и истории. Я являюсь охранителем их славы и не позволю, чтобы они канули в вечность». Это и другие подобные заявления намного увеличили количество новых и горячих приверженцев императора.
Наполеон выразил сожаление, что таким людям не была оказана достаточная поддержка. «Моя система объединения страны, — заявил он, — требовала этого: я хотел и даже приказывал оказывать им поддержку, но министры, искусные посредники, никогда в должной мере не выполняли мои планы в этом отношении — или потому, что они не обладали в достаточной степени даром предвидения, или потому, что они опасались того, что эти люди станут их соперниками при раздаче мною милостей и уменьшат их собственные шансы. Талейран, в частности, всегда был категорически против подобной меры и всегда противодействовал моим великодушным намерениям в отношении старой знати».
Я, тем не менее, отметил, что большая часть тех лиц, которых император приблизил к себе, вскоре продемонстрировали свою преданность его особе, что они добросовестно служили ему и в целом оставались верными ему в самые критические минуты. Император не отрицал этого и даже зашёл так далеко, что сказал, что двойное событие — возвращение короля и его отречение — должно было, естественно, оказать сильное влияние на определённые доктрины и что, со своей стороны, он мог видеть большую разницу между поведением этих лиц в 1814-м ив 1815 году.
И здесь я обязан заявить, что с того времени, когда я ближе узнал характер императора, я никогда не был свидетелем того, чтобы он, даже на минуту, проявлял малейшее чувство гнева или враждебности к тем лицам, которых следует осуждать за их поведение по
225
отношению к нему. Он не стремился отдавать должное тем, кто отличался хорошим поведением: они только выполняли свой долг. Он не проявлял сильного гнева в отношении тех, кто поступал низко, практически видя насквозь их характер: они уступали порывам своей натуры. Он говорил о них холодно, не проявляя враждебности и объясняя их поведение отчасти возникшими обстоятельствами, которые, как он признавал, были сложного свойства, а в остальном — человеческой слабостью. Тщеславие уничтожило Мармона. «Потомки увидят тёмные стороны его характера, — заявил император. — Тем не менее, его сердце будет цениться больше, чем память о его карьере. Поведение Ожеро было результатом недостатка его образования и подлости тех, кто окружал его; что касается Бертье, то его поведение явилось следствием недостатка боевого духа и полного отсутствия характера».
Я отметил, что последний упустил самую благоприятную и самую лёгкую возможность навсегда стать знаменитым — из-за того, что откровенно подчинился королю и вымаливал у того разрешение полностью замкнуться в себе и скорбеть в одиночестве о судьбе человека, который удостоил его чести называть своим товарищем по оружию и своим другом. «Да, — сказал император, — сделать даже этот шаг, уж такой простой, было превыше его сил». — «Мы всегда подвергали сомнению его способности и его сообразительность, — сказал я. — Нас чрезвычайно удивляли выбор Вашего Величества, ваше доверие и ваша беспримерная привязанность к нему». — «По правде говоря, — ответил император, — Бертье был не без способностей, и я далёк от того, чтобы не признавать его заслуг или отрицать моё пристрастие к нему; но его способности и его заслуги были особого рода и чисто технического плана. Вне определённого предела он вообще ничего не смыслил, и к тому же он был на редкость нерешительным человеком». — «Несмотря на это, — заметил я, — в общении с другими он был весьма претенциозным и высокомерным». — «Так что же, в этом случае вы считаете, что право называться фаворитом достаётся ни за что?» — добавил император. Я сказал, что Бертье был грубым и властным человеком. «А что, — спросил император, — является более властным, мой дорогой Лас-Каз, чем слабость, которая чувствует, что она защищена силой? Посмотрите, например, на женщин».
Бертье сопровождал императора в его карете во время военных кампаний. Пока они ехали, император обычно изучал журнал приказов и доклады о положении войск и, основываясь на них, составлял распоряжения, разрабатывал планы и указания о необходимых передвижениях войск. Бертье записывал указания императора, и в первом же пункте расквартирования или при первой же возможности краткого отдыха, будь то ночью или днём, он, в свою очередь,
226
раздавал все приказы и отдельные указания с удивительной регулярностью, точностью и быстротой. Это был тот вид обязанностей, к выполнению которых он всегда был готов, не проявляя никакой усталости. «В этом заключалось особое достоинство Бертье, — заявил император. — Оно было весьма ценным для меня, ни один другой талант не мог заменить этого его достоинства».
Я теперь вновь обращаю внимание читателя на некоторые черты характера императора. Он неизменно говорит с исключительным хладнокровием, абсолютно бесстрастно и без чувства негодования или обиды о событиях и лицах, связанных с его жизнью. Очевидно, что он был бы способен стать союзником самого заклятого врага и жить с человеком, который нанёс ему самый большой вред. Он говорит о событиях своей прошлой жизни, словно они произошли три века тому назад, в своих рассказах и замечаниях он прибегает к языку прошлых веков; он подобен духу, ораторствующему на Елисейских Полях, его беседы представляют собой Диалоги Умершего. Он говорит о себе словно о третьем лице, отмечая поступки императора, указывая на те ошибки, за которые история может осудить его, и анализируя причины и мотивы, которые могли бы быть приведены в его оправдание.
227
Он никогда не сможет извинить себя, сваливая вину на других, поскольку он следует только своему решению. В худшем случае он может пожаловаться на ошибочную информацию, но никогда — на плохой совет. Он окружил себя самыми лучшими советниками, но всегда твёрдо придерживался своего собственного мнения и далёк от того, чтобы раскаиваться в нём. «Именно нерешительность и своеволие посредников, — заявил император, — приводят к анархии и к невыразительности результатов. Чтобы составить справедливое мнение об ошибках, совершённых в результате личного решения императора, необходимо бросить на одну чашу весов те решительные действия, которые помешали бы ему осуществить задуманное, а на другую чашу весов — те промахи, которые он вынужден был бы совершить в результате тех самых советов, которым он не следовал, хотя и был за это подвергнут порицанию».
Анализируя сложные обстоятельства своего падения, он рассматривает вещи настолько обобщённо и настолько свысока, что отдельные личности ускользают от его внимания. Он никогда не проявляет ни малейшего признака озлобления в отношении тех, кем, предположительно, он может быть недоволен. Наиболее знаковым проявлением его порицания кого бы то ни было, и я часто имел возможность замечать это, является сохранение им молчания в отношении подобных личностей всякий раз, когда о них упоминают в его присутствии. «Вы не знаете людей, — говорит он нам. — Их трудно понять, если вы хотите относиться к ним строго по справедливости. Но разве они могут понять или объяснить даже собственный характер? Почти все те, кто покинул меня, никогда бы, если б я продолжал преуспевать, даже и не задумались о том, чтобы оставить меня. Есть пороки и добродетели, которые зависят от обстоятельств. Чтобы выдержать наши последние испытания, необходимы были сверхчеловеческие силы! Кроме того, меня скорее бросили, чем предали. В отношении меня была проявлена в большей степени слабость, а не предательство. Это было отречение Святого Петра\ возможно, были и слёзы раскаяния. И где вы найдёте на страницах истории такого человека, который бы обладал большим количеством друзей и сторонников? Кто был более популярным и более любимым? О ком ещё когда-либо так горячо и глубоко сожалели? Наблюдая за нынешними беспорядками во Франции отсюда, с этой самой скалы, кто не был бы склонен заявить, что я по-прежнему правлю ею? Короли и принцы, мои союзники, остались верны мне, и они были заражены энтузиазмом всего народа, а те, кто были в моём окружении, оказались охвачены и подавлены неудержимым ураганом... Нет! Человеческая натура может показаться на свету ещё более низкой, и тогда я мог бы иметь ещё более основательную причину жаловаться!»
228
Об офицерах императорского двора в 1814 году — План Обращения к королю
17 ноября 1815 года
Сегодня император расспрашивал меня об офицерах его императорского двора. За исключением, самое большее, двух или трёх офицеров, которые вызвали к себе презрение именно тех, на чью сторону они перешли, ничего плохого об остальных сказать было нельзя: большинство офицеров проявляли горячую преданность императору. Затем император задал вопрос об отдельных офицерах, назвав их по именам; о них я мог отозваться только положительно. «Что вы такое мне рассказываете? — торопливо прервал меня император в ту минуту, когда я говорил об одном из офицеров. — Ведь я так плохо принял его, когда вернулся в Тюильри! Ах! Боюсь, что я ненамеренно поступил несправедливо! Получается, что я вынужден был принимать на веру всё, что услышал, не имея ни минуты на то, чтобы установить истину! Боюсь также, что я уехал, так и не отблагодарив многих! Как плохо, что невозможно всё делать самому!»
Я ответил: «Сир, но верно и то, что если следует упрекнуть офицеров вашего императорского двора, то все в равной степени должны разделить этот упрёк между собой. Это тот факт, который должен унизить нас в глазах иностранных государств. Как только король появился, все сразу же поспешили к нему, но не как к монарху, которому нас оставило ваше отречение, но как к королю, который никогда не переставал быть нашим монархом; поспешили не с достоинством людей, гордившихся тем, что они всегда выполняли свой долг, но с вызывающей подозрение растерянностью неловких придворных. Каждый стремился оправдать только себя, и с этой минуты от Вашего Величества отреклись и отступились. С титулом императора было покончено. Министры, аристократы, близкие друзья Вашего Величества стали называть вас просто Буо- напарте и при этом не краснели ни за себя, ни за свою страну. Они оправдывали себя тем, что pix вынуждали служить, что они не могли поступить иначе из-за страха перед жестоким обращением, которому они могли подвергнуться». В этом месте моего рассказа император заявил, что тут он увидел истинную картину нашего национального характера. Он сказал, что мы по-прежнему те же самые люди, что и наши предки, галлы: мы по-прежнему сохраняем то же самое легкомыслие, то же самое непостоянство и, прежде всего, то же самое тщеславие. «Когда же мы, — сказал он, — забудем о тщеславии ради хотя бы небольшой гордости?»
«Офицеры императорского двора Вашего Величества, — заявил я, — упустили благородную возможность приобрести и честь,
229
и популярность. При дворе Вашего Величества служили свыше ста пятидесяти офицеров, большинство из них принадлежали к первым семьям страны и обладали значительными состояниями, позволявшими им чувствовать себя независимыми. Именно они обязаны были дать пример, который, когда ему последовали бы и другие, мог пробудить к ним иное отношение со стороны нации и предоставил бы нам право претендовать на общественное уважение»*.
«Да, — заявил император, — если бы все представители высшего общества поступали подобным образом, дела пошли бы совсем иначе. Издатели газет тогда не разражались бы своими химерами о добрых старых временах, нас тогда не раздражали бы их рассуждения на тему
* С этим душевным состоянием и в подражание примеру других организаций и обществ был составлен план Обращения к королю от имени офицеров императорского двора. Он был следующего содержания:
«Сир! Нижеподписавшиеся, составляющие часть двора императора Наполеона, просят Ваше Величество оказать им честь и уделить им Ваше благосклонное внимание.
Наследники долга своих отцов, они были в прошлом верными защитниками трона; многие из них последовали за Вашим Величеством в чужеземные страны на долгие годы ссылки и закрепили свою преданность утратой своего родового наследства.
Именно эти хорошо известные принципы и это признанное их поведение являются основанием для их просьбы уделить им внимание, когда предполагается создать новый трон и окружить его верными сторонниками.
Ожидания того, кто сплотил нас вокруг себя, не стали и не могут стать разочарованием для него: мы выполнили наш новый долг с честью и верностью. Этих чувств, являющихся надёжным залогом каждого из нас, было бы достаточно для того, сир, чтобы обеспечить безопасность нашей репутации в том случае, если для нас станет возможным оставаться в праздном уединении. Но разве хороший и лояльный француз пожелал бы оказаться в состоянии абсолютного покоя? И всё же, если кто-либо из нас почувствует, движимый мотивами деликатности, что он вынужден ждать, сохраняя полное молчание, того часа, когда он приступит к выполнению новых обязанностей, то разве эти мотивы не могут быть неправильно истолкованы? С другой стороны, разве чувства тех, кто, следуя порывам своих сердец, поспешат получить милости Вашего Величества, также не могут быть превратно поняты?
Такова, сир, своеобразная и деликатная ситуация, в которой мы оказались, но все наши затруднения прекратятся, если Ваше Величество соизволит прислушаться к нашему Обращению. Ваше королевское сердце почувствует деликатность порыва, которым мы руководствуемся в настоящий момент, и оценит наше искреннее желание служить Вашему Величеству и нашей стране с нашим обычным усердием и верностью».
Было трудно собрать подписи под этим скромным Обращением. Может быть, следовало полагать, что это искреннее и открытое признание наших прошлых заслуг и использование, в частности, выражения «император Наполеон» вызвали возражение у многих офицеров двора? Каждый находил в нём недостаток в соответствии со своим характером. Таковы были настроения тех дней. Удалось собрать только семнадцать подписей. Человек восемнадцать или двадцать обещали добавить свои имена под Обращением, когда под ним будет двадцать пять подписей, но никто не согласился дополнить список до этого числа. Два офицера из тех, кто уже подписал Обращение, считая, что приложили руку к документу, который они не совсем поняли, поскольку думали, что ходатайствуют о своём назначении, даже зашли так далеко, что зачеркнули свои подписи. Оригинал этого документа должен находиться в Париже или в Версале в руках одного из тех, кто подписал его.
230
о прямой линии и о кривой линии, король честно придерживался бы своих привилегий, я бы никогда не мечтал о том, чтобы покинуть остров Эльба, глава государства вошёл бы в историю с большей честью и с большим достоинством, и все мы остались бы в выигрыше».
Идея императора о предназначении Корсики —
Его мнение о Робеспьере — Его идеи относительно общественного мнения — Искупительные намерения императора в отношении жертв революции
18 ноября 1815 года
После обычных дневных занятий примерно в четыре часа дня я сопровождал императора в его прогулке по саду. Он только что закончил диктовать рукопись по проблеме Корсики. Продиктовав всё то, что он должен был сказать об этом острове и о Паоли, император коснулся вопроса, который волновал его тогда, когда он был ещё молодым, во времена его размолвки с Паоли. Он сказал, что совсем недавно мог бы, вполне вероятно, объединить, к своей выгоде, желания, чувства и усилия всего населения Корсики и что если бы он уехал на этот остров, покинув Париж, то ни одна иностранная держава не смогла бы добраться до него. Император раздумывал об этом, когда отрекался от престола в пользу сына. Он был близок к тому, чтобы обеспечить для себя владение Корсикой. Ничто не помешало бы ему добраться до острова. Но он отказался от этого плана ради того, чтобы его отречение стало более искренним и более выгодным для Франции. Его нахождение в центре Средиземного моря, в глубине Европы, столь близко от Франции и Италии могло бы предоставить союзникам желанный предлог для враждебных акций против него. По этой же причине он отдавал предпочтение Америке, а не Англии. Это правда, что присущие ему честность и прямота принимаемых им мер лишили его возможности предвидеть, что его ждёт несправедливое и жестокое изгнание на остров Святой Елены.
Затем император перешёл к обсуждению различных событий революции, уделив особое внимание Робеспьеру, с которым он не был знаком, но который, как считал император, не обладал энергичным характером, твёрдостью, необходимой для последовательного решения проблем, и вообще был лишён особых способностей. По мнению императора, Робеспьер был всего лишь козлом отпущения революции, принесённым в жертву, как только он попытался приостановить её развитие, — обычная судьба тех, заметил император, кто
231
отваживался сделать этот шаг до него (Наполеона). Террористы и их доктрина пережили Робеспьера, и если их действия не были продолжены, то только потому, что они были вынуждены подчиниться общественному мнению. Они во всём обвиняли Робеспьера, но последний незадолго до своей смерти заявил, что осуждает недавние смертные казни и что не появлялся в комитетах Конвента на протяжении шести недель. Наполеон признался, что когда он служил в армии в Ницце, то видел несколько многословных писем, адресованных Робеспьером своему брату, в которых подвергались осуждению ужасные и трагические поступки специальных представителей Конвента, которые, как выразился Робеспьер, вели революцию к гибели своей тиранией и жестокостью.
«Камбасерес, — заметил император, — который был хорошим знатоком тех событий, ответил на мой запрос, который я ему однажды направил по поводу ареста Робеспьера, следующими знаменательными словами: “Сир, это был приговор к смертной казни без суда”, — добавив, что Робеспьер обладал большим даром предвидения и пониманием происходивших событий, чем это обычно считалось, и что в его намерения входило, после подавления разнузданных фракций, против которых он выступал, восстановление системы порядка и сдержанности. “Незадолго до своего падения, — заявил Камбасерес, — он выступил с прекрасной речью по этому вопросу, но её посчитали неподходящей для того, чтобы опубликовать в “Мониторе”, и теперь все её следы утеряны”.
Это было уже не в первый раз, когда я слышал об отсутствии аккуратности в работе газеты “Монитор”. В материалах о заседаниях Конвента, опубликованных в этой газете, можно обнаружить целый период, в течение которого работа делалась удивительно небрежно; некоторое время протоколы этих заседаний произвольно готовились комитетами Конвента.
Те, кто был склонен верить, что Робеспьер вдруг сразу был утомлён, пресыщен и встревожен ходом революции, и решили проверить это, утверждают, что он не предпринимал никакого решительного шага до того, как произнёс свою знаменитую речь. Он считал её настолько убедительной, что не сомневался: она произведёт сильное впечатление на Конвент. Если это было именно так, то его ошибка и его тщеславие обошлись ему дорого. Те, кто думают иначе, утверждают, что Дантон и Камилл Демулен разделяли его взгляды и что Робеспьер всё же принёс их в жертву. На это следует ответ, что Робеспьер пожертвовал ими, чтобы сохранить свою популярность, потому что он сделал вывод о том, что решающий момент ещё не наступил, — или потому, что не хотел того, чтобы им досталась вся слава от содеянного.
232
Как бы то ни было, но совершенно ясно, что чем глубже мы изучаем ту катастрофу, тем больше сталкиваемся с неясностью и тайной; и с течением времени эта неопределённость лишь возрастает. Таким образом, эта страница истории станет — как, впрочем, и другие страницы, — повествованием не столько о событиях, которые произошли на самом деле, сколько о заявлениях, сделанных о них».
Во время нашей беседы о Робеспьере император сказал, что он был очень хорошо знаком с его братом, младшим Робеспьером, представителем Конвента во французской армии в Италии. Наполеон хорошо отзывался об этом молодом человеке, которого он брал с собой в дни боевых схваток с врагом. Молодой Робеспьер оказывал Наполеону большое доверие и восторженно отзывался о его личности — до такой степени, что незадолго до 9-го термидора младший Робеспьер, которого отзывал в столицу его старший брат, в то время втайне готовивший свои планы, настойчиво просил Наполеона сопровождать его в Париж. Последний пришагал немалые усилия, чтобы отделаться от этой настойчивости младшего Робеспьера, и, в конце концов, добился своего только тогда, когда по его просьбе в это дело вмешался главнокомандующий армией Дюмерби- он, у которого он пользовался полным доверием и который заявил, что Наполеон должен оставаться там, где он находится.
233
«Если бы я последовал за молодым Робеспьером, — сказал император, — насколько иной была бы моя карьера! От каких тривиальных случаев зависит судьба человека!.. Несомненно, для меня была предназначена какая-то должность, и мне было бы предопределено стать участником своего рода вандемьера. Но тогда я был очень молод, мои политические взгляды ещё не определились. Вполне возможно, что я бы не взял на себя обязательство выполнить какую-нибудь задачу, которую могли возложить на меня; но предположим обратное и даже допустим, что я бы успешно справился с возложенной на меня задачей, — на что я мог бы тогда надеяться? Во время вандемьера революционный порыв был подавлен, во время термидора он ещё был в полном расцвете и достиг своего пика».
«Общественное мнение, — сказал император в другой раз, — является невидимой и таинственной силой, которой невозможно противостоять: нет ничего более неустойчивого, более неопределённого и более могущественного; и каким бы оно ни было своенравным, оно, тем не менее, справедливо и благоразумно намного чаще, чем это считается. Когда я стал временным консулом, то первым актом моего правительства было изгнание из страны пятидесяти анархистов. Общественное мнение, которое поначалу было на редкость враждебно им, неожиданно встало на их сторону, и я был вынужден отступить. Но через некоторое время те же самые анархисты, имевшие склонность к заговорам, были подвергнуты обструкции со стороны того же самого общественного мнения, которое теперь решило поддержать меня. Таким же образом из-за ошибок, совершённых во время Реставрации, популярным стало цареубийство, которое немного раньше было объявлено вне закона большинством населения страны.
Только мне, — продолжал император, — принадлежит идея воскресить во Франции память о Людовике XVI и очистить страну от преступлений, которыми она была замарана в результате безумных поступков и губительных катастроф. Бурбоны, представлявшие королевскую семью и приехавшие из-за границы, стремились взять реванш за свои личные обиды и тем самым лишь увеличили национальный позор. Я, напротив, являясь выходцем из народа, обязан был укрепить характер нации, изгнав из общества тех, чьи преступления опозорили её. Таково было моё намерение, и я осторожно приступил к его осуществлению. Три искупительных алтаря в Сен-Дени были лишь прелюдией моего плана. Храм Славы на месте церкви Святой Магдалены должен был быть посвящён достижению этой цели с ещё большей торжественностью. Там, около гробницы и над самыми костьми политических жертв нашей революции, религиозные
234
церемонии должны будут посвящаться их памяти от имени французского народа. Этот план был секретом, известным не более чем десяти лицам, хотя и признавалось необходимым сделать намёк о плане тем, кому было поручено сооружение здания. Я должен был выполнить свой план не менее чем за десять лет; к каким только мерам предосторожности я не прибегал, как осторожно я устранял все трудности и убирал все препятствия! Все будут восторженно аплодировать, когда завершится сооружение здания, построенного в соответствии с моим проектом, и никому от этого не будет плохо».
Небольшой водопад в «Бриарах»
19 ноября 1815 года
Мой сын и я встали очень рано. Наше задание было выполнено накануне, и поскольку некоторое время император не нуждался в наших услугах, мы воспользовались прекрасным утром, чтобы изучить окрестности нашего обиталища.
При выходе из долины Джеймстауна, с правой стороны от небольшого плато при коттедже «Бриары», находится глубокое ущелье. Мы не без труда спустились в него и оказались у маленького прозрачного ручейка, возле которого в избытке произрастал кресс-салат. Мы с удовольствием собирали его, пока шли вдоль ручейка, и после нескольких поворотов вскоре добрались до конца долины и ручейка, которые были перегорожены большой скальной массой. С вершины этой массы вниз стекает небольшой красивый водопад, в котором собираются воды с ближайших гор. Водопад, низвергающий воды в долину, образует ручеёк, вдоль которого мы только что прошли. В этот день воды водопада рассеивались над нашими головами, принимая вид лёгкого дождя и водяного пара, но в штормовую погоду ручей мощным потоком несёт свои воды в ущелье, устремляясь к морю. Для нас этот водопад с ручейком в ущелье представлял печальную картину, наводящую уныние, и тем не менее нам она показалась настолько интересной, что мы с сожалением покидали это место.
Сегодня — воскресенье, и мы все обедали вместе с императором. Он с юмором отметил, что мы составляем его государственную партию. После обеда круг наших развлечений не был слишком обширным: император спросил нас, что бы мы предпочли — комедию, оперу или трагедию. Мы выбрали комедию, и он сам начал читать нам отрывки из комедии Мольера «Скупой», а затем чтение продолжили члены нашей компании.
235
Император простудился, и его слегка лихорадило. Он рано прекратил свою прогулку в саду и попросил меня навестить его вечером, если к тому времени он ещё не ляжет. Мы с сыном проводили остальных господ в город; когда мы вернулись, император уже лёг спать.
Первая и единственная экскурсия во время нашего проживания в «Бриарах» — Бал адмирала
20 ноября 1815 года
Император, после того как кончил диктовать одному из господ, примерно в пять часов вечера вызвал меня к себе. Он был один: остальные отправились в город, где в тот вечер адмирал давал бал. Император и я пошли на прогулку вдоль дороги, ведущей в город, и мы дошли до места, с которого смогли увидеть море и корабли в гавани. Слева от дороги, в глубине долины, мы увидели прелестный домик. Император довольно долго рассматривал в подзорную трубу домик и примыкавший к нему сад, который, судя по всему, был хорошо ухожен. В это время в саду играла небольшая группа хорошеньких детей под надзором своей матери. Как нам ранее сообщили, этот домик принадлежит майору Ходсону, жителю острова, тому самому господину, который одолжил мне «Ежегодный альманах». Домик расположен в глубине ущелья, начинающегося поблизости от коттеджа «Бриары», и недалеко от живописного водопада,
236
о котором я упоминал ранее. Император захотел спуститься к домику, хотя уже было около шести часов вечера. Дорога, довольно крутая, оказалась более длинной и более трудной при спуске, чем мы ожидали; и когда мы добрались до глубины ущелья, то почти задыхались. Мы осмотрели небольшое поместье, которое, очевидно, планировалось как постоянная резиденция его хозяина, а не как временное прибежище путешественника, собирающегося вскоре отбыть в другую страну. После того как хозяин дома уделил нам соответствующее внимание, а мы, в свою очередь, сказали комплименты его жене, император поспешил откланяться.
Но вечер уже полностью вступил в свои права, а мы чувствовали себя очень уставшими, поэтому не отказались, когда хозяин поместья предложил нам своих лошадей, и постарались поскорее вернуться к нашей хижине и к нашему ужину. Эта маленькая экскурсия и верховая езда — занятие, от которого мы отвыкли, — судя по всему, явно благотворно подействовали на общее состояние императора.
Он пожелал, чтобы я отправился на бал к адмиралу, несмотря на моё нежелание оставить его. В половине девятого император сказал, что вечер очень тёмный, дорога плохая и сейчас самое время, чтобы я отправился в путь. Он настаивал, чтобы я оставил его, и ушёл в свою комнату, в которой, как я увидел, он разделся и улёгся в постель. Я оставил его одного, — таким образом, я нарушил обычай, ставший для меня очень дорогим.
Я пешком направился в город. Адмирал придавал большое значение своему балу, о нём уже долго и много говорили. Адмирал хотел, чтобы это развлечение предназначалось специально для нас, и нас официально пригласили на бал. Принять приглашение или отказаться от него? Можно было в равной степени привести доводы и «за», и «против». Политические соображения и превратности судьбы не были достаточными причинами для того, чтобы мы напустили на себя скорбный вид в связи с положением дел в нашем отечестве; было бы более разумно и полезно с готовностью разделить компанию с нашими тюремщиками. Мы решили принять приглашение на бал. Но как нам следует вести себя там? Должны ли мы принять гордый вид или свободно общаться с гостями? В первом случае это могло бы поставить в неловкое положение устроителей бала, а в нашей ситуации уязвлённая гордость могла быть расценена как оскорбление. Во втором случае были бы соблюдены правила приличия: следовало принимать знаки внимания и вежливости таким образом, словно мы привыкли к этому, словно нам воздают должное, и не придавать значения отсутствию особого почтения к нам. Бесспорно, такая линия поведения была наиболее разумной. Я пришёл на бал очень поздно и покинул его очень рано. Во всех отношениях бал мне понравился.
Моя жизнь во Франции в то время, когда император находился на острове Эльба
21 — 22 ноября 1815 года
Император, который часто расспрашивал меня о том, как вели себя многие его министры, члены Государственного совета и офицеры его императорского двора, когда сам он находился в ссылке на острове Эльба, наконец поинтересовался и моим поведением в этот период времени, спросив:
«Но вы сами, Лас-Каз, чем вы занимались после прибытия короля в Париж? Что происходило с вами всё это время? Давайте, сударь, доложите мне: я должен знать об этом. Кроме того, это пополнит ваш дневник ещё одной главой. И разве вы не понимаете, — добавил он шутливым тоном, — что вашим биографам достаточно будет всего лишь извлечь эту главу из дневника, и написанная вашей рукой автобиография уже в готовом виде попадёт в их руки?»
«Сир, — ответил я, — вы получите точный отчёт обо всём, хотя мне и сказать-то особенно нечего. 31 марта я командовал 10-м полком национальной гвардии Парижа, тем самым полком, который представлял Законодательное собрание. В течение этого дня мы потеряли значительное количество людей. Вечером я узнал о капитуляции и написал записку своему заместителю о том, что передаю ему командование полком. Я сообщил ему, что, хотя в качестве члена Государственного совета и получил указание выехать из Парижа, тем не менее, я не хотел покидать свой полк в минуту опасности, но событие, которое только что произошло, изменило мои планы, и я должен выехать из Парижа, чтобы выполнять новые обязанности.
С рассветом я вышел на дорогу, ведущую в Фонтенбло, и оказался посреди остатков отрядов Мармона и Мортье. Я шёл пешком, но не сомневался, что мне удастся купить лошадь. Однако вскоре я обнаружил, что отступавшие солдаты, к которым я обращался, были людьми не только недобросовестными, но и малоцивилизованными. В это бедственное для Франции время они оскорбляли мой мундир национальной гвардии и поносили меня самыми последними словами.
После часа утомительный ходьбы я не чувствовал ног от навалившейся усталости, ещё более тяжёлой из-за отсутствия отдыха за прошедшие три ночи; не увидев вокруг себя ни одного знакомого лица и потеряв всякую надежду купить лошадь, я решил, со скорбью в сердце, вернуться в столицу.
Национальной гвардии приказали принять участие в триумфальном вступлении армии неприятеля в Париж; была даже вероятность того, что её выберут в качестве почётного караула при монархах,
238
которые победили нас. Я решил не показываться в своём доме. Жену и детей мне удалось благополучно отправить из Парижа, и я воспользовался гостеприимством одного своего друга, проведя у него несколько дней. Я выходил из его дома, накинув большой потрёпанный старый плащ, посещал кафе и общественные места, а также иногда присоединялся к незнакомым людям, собиравшимся группами на улицах. Я хотел лучше узнать обстановку в городе и, прежде всего, истинное настроение народа. Во время этих прогулок мне пришлось стать свидетелем множества странных и удивительных событий!
Перед парадными дверями резиденции императора России я видел высокопоставленных персон, называвших себя французами и при этом прилагавших максимум усилий, чтобы заставить толпу выкрикивать: “Да здравствует Александр, наш освободитель!”
Я видел, как на Вандомской площади несколько мерзавцев из числа самых последних столичных подонков, нанятых известными персонами, пытались сокрушить ваш памятник.
Наконец, на одном из углов этой площади, перед домом коменданта, я увидел офицера вашего императорского двора, пытавшегося в первый же вечер после вашего отъезда убедить молодых новобранцев поступить на службу к вашим врагам, но он получил от них
урок, который мог бы заставить его покраснеть за своё поведение, если бы он был способен испытывать чувство стыда.
Несомненно, что те, кого я здесь упоминаю, воскликнут, что я смешался с плебеями, но я могу с полным основанием утверждать, что все те подлые поступки, которые опозорили Францию, не были совершены толпой. Эти поступки были далеки от того, чтобы получать одобрение со стороны низших слоёв населения страны; наоборот, эти поступки самым решительным образом осуждались прямотой, великодушием и благородством чувств, которые проявлялись на улицах столицы.
Ваше Величество отреклись от трона. Я отказался поставить мою подпись под актом верности Государственного совета, но считал, что мог бы загладить свою вину дополнительным актом верности. “Монитор” ежедневно был заполнен статьями подобного рода, но я, однако, полагал, что моё заявление на эту тему не будет удостоено чести быть напечатанным в газете.
Наконец прибыл король, — впредь именно он будет нашим монархом. Он назначил день для приёма тех лиц, которые в своё время были представлены Людовику XVI. Я отправился в Тюиль- ри, чтобы воспользоваться этой привилегией. Какие только мысли не приходили мне в голову, когда я входил в апартаменты дворца, которые совсем недавно были наполнены славой и властью Вашего Величества! И, тем не менее, я представился королю совершенно искренне и чистосердечно. Мой дар предвидения не позволял мне даже на мгновение подумать о возможности вашего возвращения. Депутациям к королю не было числа, была предложена встреча офицеров военно-морского ведомства с королём. Тому лицу, которое сообщило мне об этом, я ответил, что ничто не может быть более лестным для моего сердца, чем возможность оказаться вместе с моими старыми товарищами, ни один из которых не испытывает более бескорыстных и чистых чувств, чем я; но те должности, которые я занимал ранее, поставили меня в своеобразное и деликатное положение, и благоразумие не позволяет мне появиться там, где рвение главы нашей депутации может заставить его прибегнуть к выражениям, которые я не стал бы одобрять ни своим мнением, ни своим присутствием.
Однако впоследствии, несмотря на испытываемые мною чувства стыда и отвращения, я решил, по настойчивым советам некоторых моих друзей, подумать о чём-нибудь и для себя. Государственный совет был восстановлен; несколько членов последнего состава Совета заверили меня в том, что, несмотря на мои недавние предположения по этому вопросу, нет ничего проще, чем сохранить для меня мою
240
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ СЕН-БЕРНАР
прежнюю должность, и что они сами добились этого для себя, всего лишь подав заявление на имя министра юстиции Франции. Я не осмелился посягнуть даже на одну минуту времени его светлости для личной аудиенции и поэтому удовольствовался тем, что адресовал ему письмо, в котором сообщал, что я занимался рассмотрением прошений в составе прежнего Государственного совета и что если это обстоятельство не является достаточным препятствием для того, чтобы стать членом новой ассамблеи, то я прошу его светлость рекомендовать меня в качестве государственного советника. Я отметил, что не прошу принимать во внимание мои одиннадцать лет эмиграции и потерю моего наследства, чтобы претендовать на милость короля. В то время я делал то, что считал необходимым делать в силу своего долга: во все времена я ревностно выполнял свой долг до самой последней минуты. Эта моя последняя фраза, как можно легко себе представить, лишила меня чести получить хоть какой-нибудь ответ на моё письмо.
Выдержать всё то, что происходило в Париже, — пребывание иностранных войск, шумное одобрение в их адрес, — оказалось выше моих сил. Я принял решение на короткое время уехать в Лондон, чтобы встретить своих старых друзей, которые бы как-то утешили меня, в чём я очень нуждался. Затем я подумал, что в Лондоне могу встретить ту же самую шумиху и то же ликование толпы, которые вынудили меня покинуть Париж. Так оно и оказалось. Весь Лондон от души веселился, празднуя триумф Англии и наше унижение.
В то время, когда я находился в Лондоне, в Париже военно- морское ведомство было реформировано. Шевалье де Гримальди, один из моих старых товарищей, которого я очень давно не видел, был назначен членом комитета по реформированию ведомства. Он навестил мою жену и выразил удивление в связи с тем, что я ни на что не претендую в рамках военно-морской службы. Он пояснил, что по закону я имею право быть восстановленным в прежней своей должности в военно-морском ведомстве или уйти в отставку с соответствующей пенсией. Он посоветовал моей жене помочь мне принять решение по этому вопросу, заверив её в том, что я могу положиться на нашу дружбу с ним. Он добавил, что нельзя терять время. Я в большей степени оценил этот оказанный мне знак внимания, чем те блага, которыми предполагалось меня наделить. Тем не менее я написал комитету письмо, в котором излагал просьбу о том, чтобы мне, поскольку я хочу носить мундир офицера военно-морского флота, к которому привык, присвоили почётное звание “Капитан корабля”, и сообщал, что отказываюсь от пенсии, на которую, по моему мнению, не имею права.
241
Я вернулся в Париж. Разнобой мнений и возбудимость общественного сознания были чрезвычайными. В течение долгого времени я стремился жить в полном уединении. Я ограничил себя жизнью в кругу жены и детей. Никогда раньше я не был лучшим мужем и лучшим отцом, и никогда раньше я, вероятно, не чувствовал себя более счастливым с точки зрения своего физического состояния.
Однажды, когда я читал статью господина Бошана в “Журналь де Деба”, я обнаружил в ней упоминание имён нескольких господ, которые, как утверждалось в статье, собрались 31 марта на площади Людовика XV, чтобы призвать народ поддержать королевскую власть; среди прочих было упомянуто и моё имя. Несомненно, я оказался в неплохой компании, но в то же время это утверждение не соответствовало действительности, и если бы ему поверили, то мнение многих людей обо мне значительно ухудшилось бы. Я написал в газету письмо с просьбой исправить ошибку, допущенную, видимо, с целью оказать мне любезность, на которую я никоим образом не имел права.
В своём письме я подчеркнул, что какие бы у меня ни были намерения, но в тот период времени я не мог поступить так, как это описано в статье. В качестве командира полка национальной
242
гвардии я взял на себя обязательства, от которых никакие земные соображения меня освободить не могли, и т.д. Я направил письмо депутату Клабо-Латуру, одному из владельцев “Журналь де Деба”, человеку, к которому я испытывал глубокое уважение. Он отказался опубликовать моё письмо, исходя из самых добрых побуждений в отношении меня. Тогда я адресовал письмо редактору газеты, но он также отказался поместить его в газете, не согласившись с моей точкой зрения по этому вопросу.
Тем временем состояние общественного сознания указывало на наступление скорой и неизбежной катастрофы. Всё служило предзнаменованием того, что Бурбоны разделят судьбу Стюартов. Моя жена и я каждый вечер обычно коротали свой досуг тем, что читали работу Юма “История Англии”. Мы начали с Карла I и не успели добраться до Якова II, как Ваше Величество высадились на берег Франции, покинув остров Эльба. (В этом месте моего повествования император не мог удержаться от смеха.)
Продвижение Вашего Величества по территории страны и ваше прибытие в Париж, — продолжал я, — вызвали у нас чувства величайшего удивления и волнения. Я был далёк от того, чтобы предвидеть почётную добровольную ссылку, которую, в конце концов, мне уготовит ваше возвращение во Францию, ибо тогда я был мало известен Вашему Величеству. Если бы я получил самую заурядную должность при короле, если бы я всего лишь посещал Тюильри, — что было бы вполне естественным и соответствовало бы правилам приличия, — то я в течение длительного времени не оказался бы в числе лиц, составивших окружение Вашего Величества. Не потому, что я мог бы в чём-то себя упрекнуть, и не потому, что моя преданность вам была бы менее искренней, но потому, что мне не захотелось бы оказаться частью дворцовой мебели и делать вид, что я всегда готов воскурять фимиам в храме власти. Я просто дожидался той минуты, когда мне предложат назначение на должность, вместо того чтобы принимать всевозможные меры, чтобы получить это назначение. К тому же я чувствовал себя настолько свободным, всё вокруг меня находилось в такой абсолютной гармонии, что мне казалось, что я являюсь участником великого события. Поэтому мне очень хотелось приблизить тот момент, когда на мне впервые остановится взгляд Вашего Величества. Я чувствовал себя так, словно имел право на вашу доброту и на ваше любезное внимание.
Когда вы вернулись после Ватерлоо, те же самые чувства сразу же и спонтанно привели меня к вашей особе, которую я с тех пор никогда не покидал. Если тогда меня влекла к вам ваша национальная слава, то теперь я предан вам в силу ваших добродетелей;
243
и если верно, что вознаграждение моих чувств стоило мне тогда определённых жертв, то теперь я оказался вознаграждённым во сто крат тем счастьем, которое испытываю, когда могу говорить вам об этом.
Однако трудно описать то чрезвычайное отвращение, которое я испытывал от всего происходившего вокруг в течение тех десяти месяцев, когда вы не были во Франции. Я испытывал полнейшее презрение к человечеству и к мирскому тщеславию. Все иллюзии были разрушены, всякий интерес пропал. Казалось, всё в жизни подошло к концу и не имеет никакого значения. Во время моей эмиграции я был награждён крестом Святого Людовика; в соответствии с изданным указом эта награда была узаконена новым предписанием. У меня не было душевных сил, чтобы претендовать на неё. Другой указ предусматривал, чтобы о званиях, присвоенных Вашим Величеством, сообщалось для их подтверждения; но мне было безразлично, буду ли я скомпрометирован теми званиями, которые я получил во времена Империи. В конце концов я получил письмо от военно-морского департамента, информировавшего меня, что им получена документация о присвоении мне звания капитана.
Отсутствие Вашего Величества было для меня своего рода вдовством. Присущие ему горе и скорбь я ни от кого не скрывал. Но с вашим возвращением я был вознаграждён за всё свидетельством тех, кто состоял в числе вашего окружения и которым я был почти неизвестен. После первого утреннего приёма у Вашего Величества одно официальное лицо, ставшее временным начальником департамента иностранных дел, вернувшись в Государственный совет, отвело меня в сторону и посоветовало идти домой и готовиться к поездке, в которую я должен буду, вероятно, отправиться. Как мне сообщило это официальное лицо, оно только что предложило мою кандидатуру Вашему Величеству и представило меня как сумасшедшего, но сошедшего с ума от любви к вам. Мне хотелось знать, куда я буду направлен, но официальное лицо заявило, что не скажет об этом, да и не может сказать. Более я об этом деле никогда не слышал.
Господин Реньо де Сен-Жан д’Анжели внёс моё имя в список императорских специальных уполномоченных, которых Ваше Величество предложило департаментам Государственного совета. Я заверил господина де Сен-Жан д’Анжели, что готов выполнить любое задание, но при этом напомнил, что являюсь аристократом и эмигрантом и что эти два слова, произнесённые первым же посетителем, будут достаточными для того, чтобы уничтожить меня, в случае необходимости, в любое время и в любом месте. Мой собеседник признал справедливость моего замечания и отказался от своего намерения.
244
Затем сенатор обратился с просьбой к Вашему Величеству, чтобы вы направили меня в префектуру Меца, его родного города. Сенатор попросил меня пожертвовать тремя месяцами для того, чтобы, как он сказал, умиротворить брожение умов местных жителей и привести в порядок дела в городе. В конце концов Декре и герцог Бассано предложили мне должность государственного советника, и на третий день после вашего возвращения вы подписали моё назначение».
23 ноября 1815 года
Император по-прежнему испытывает недомогание. Он находился в одиночестве в своей комнате и никого не хотел видеть. Только в девять часов вечера он послал за мной. Император пребывал в подавленном состоянии, весь охваченный меланхолией, почти не разговаривал со мной, а я, в свою очередь, не отваживался что-либо сказать ему. Если он всего лишь нездоров физически, то это меня искренне огорчает; если же он страдает от душевного недуга, то это огорчает меня в ещё большей степени, так как я не могу использовать все те средства утешения, которыми переполнено сердце для тех, кого мы действительно любим. Через полчаса император отпустил меня.
24 ноября 1815 года
Император продолжает испытывать недомогание и по-прежнему отказывается кого-либо видеть. В довольно позднее время он послал за мной, чтобы я пообедал вместе с ним. Обед был сервирован на маленьком столике рядом с диваном, на котором он лежал. Он ел с аппетитом. По его словам, он нуждается в неожиданном, резком изменении состояния здоровья, которое вскоре должно наступить, — так хорошо он знает собственный организм. После обеда император взял почитать мемуары маршала де Виллара, которые позабавили его. Он вслух прочитал несколько отрывков из книги, которые вызвали у него воспоминания о прошедших годах и связанные с ними различные истории.
Организм императора — Верховые поездки — Мнение о медицине
25 ноября 1815 года
Император продолжает чувствовать себя нездоровым: он провёл бессонную ночь. Он пожелал, чтобы я обедал вместе с ним рядом с диваном, который он не в состоянии покинуть. Однако очевидно,
245
что ему стало лучше. После обеда император захотел читать. На диване вокруг него лежали кипы книг. Быстрота восприятия прочитанных книг, усталость от размышлений на одну и ту же тему, а также от чтения всего того, что он уже знал, — всё это объясняло то, что он брал одну книгу за другой и тут же отбрасывал их. В конце концов он выбрал пьесу Расина «Ифигения». Ему доставляло удовольствие останавливаться на лучших местах этой драмы и обсуждать обнаруженные в ней ошибки. Император отпустил меня довольно рано.
Вопреки общему мнению, которое в своё время разделял и я, телосложение императора далеко не крепкое. У него длинные конечности, но их мышечная масса не упругая. С его расширенной грудной клеткой он постоянно страдает от воздействия холода. Его тело подвержено влиянию самых незначительных раздражителей. Запах краски достаточен для того, чтобы он чувствовал себя нездоровым; некоторые блюда и даже еле уловимые признаки нечистой тарелки сразу же оказывают на него резко отрицательное воздействие. Император обладает далеко не железным здоровьем, как повсеместно считают; вся его сила заключается в мощи интеллекта. Его удивительная выносливость за границей и беспрестанный труд дома известны каждому. Ни один монарх никогда не выдерживал столь огромных физических нагрузок.
Наиболее поразительным примером физической выносливости императора была его верховая поездка из Вальядолида в Бургос (расстояние в тридцать пять испанских лье), когда он преодолел эту дистанцию, не сходя с лошади, за пять с половиной часов; другими
246
словами, император за час преодолевал примерно семь лье*. Император выехал из Вальядолида в сопровождении значительного эскорта, учитывая опасность со стороны местных партизан, но на каждом малом отрезке пути он оставлял позади себя то одного, то другого сопровождавшего, и когда он прибыл в Бургос, с ним осталось всего лишь несколько человек. Часто обсуждалась его поездка верхом из Вены в Зиммеринг на расстояние около двадцати лье: император поехал завтракать в Зиммеринг и сразу же после завтрака вернулся в Вену. Наполеон во время охоты часто проезжал до тридцати восьми лье и никогда меньше пятнадцати. Однажды русский офицер, приехавший из Санкт-Петербурга в качестве курьера, проделал весь путь за тринадцать дней. Он прибыл в Фонтенбло в тот момент, когда император собирался на охоту. Вместо отдыха офицеру была оказана честь быть приглашённым на охоту. Конечно, он принял приглашение, но в лесу, изнемогший от усталости, свалился с лошади, и его нашли только после долгих поисков.
Мне известно, что император занимался делами в Государственном совете, не покидая стола ни на минуту в течение восьми или девяти часов, и вставал из-за стола с такими же свежими мыслями, как и тогда, когда садился за него. Я видел, как на острове Святой Елены он беспрерывно в течение двенадцати часов просматривал книги, после чего не проявлял ни малейших признаков усталости. Император стойко переносил величайшие потрясения, которые когда-либо выпадали на долю человека. Вернувшись из Москвы через Лейпциг, он, после того как сообщил Государственному совету о постигшей французскую армию катастрофе, заявил: «В Париже распространялось сообщение о том, что эта беда сделала меня седым, но вы сами видите (указывая на свою голову), что это не так; и я надеюсь, что смогу опровергнуть и многие другие слухи о моих неудачах».
Но эта удивительная сила воли проявлялась независимо от его физических сил, которые, казалось, действовали в полной мере лишь тогда, когда активность его мышления достигала своего предела.
Император ест весьма нерегулярно и обычно очень мало. Он часто говорит, что человек может навредить себе, если ест много, но никогда не навредит, если ест слишком мало. Он может не есть в течение двадцати четырёх часов, почувствовав аппетит только на следующий
* Этот факт может показаться невероятным. И у меня самого тоже возникли сомнения, когда я прочитал об этом. Но я знаю, что когда в Лонгвуде зашёл разговор об этой поездке, то она стала темой длительного обсуждения, и я постарался письменно зафиксировать все те обстоятельства, которые были признаны достоверными. Кроме того, многие лица, сопровождавшие тогда императора, здравствуют и поныне, и этот факт может быть подтверждён.
247
день. Но если ест он мало, то пьёт ещё меньше. Одного бокала мадеры или шампанского достаточно, чтобы восстановить его силы и повысить настроение. Он спит очень мало и очень нерегулярно, обычно встаёт с постели с рассветом, чтобы читать и писать, а потом вновь укладывается поспать.
Император не доверяет медицинским снадобьям и никогда их не принимает. Он взял на вооружение странный способ самолечения. Всякий раз, когда он чувствует недомогание, он прибегает к крайностям, прямо противоположным его привычкам на тот момент. Он называет это восстановлением равновесия природы. Если, например, в течение продолжительного времени он оставался малоактивным, то после этого проезжал верхом миль шестьдесят или охотился целый день. Если, наоборот, он чувствовал большую усталость, то обычно впадал в состояние абсолютного покоя на целые сутки. Эти неожиданные потрясения неизбежно вызывали внутренний кризис и мгновенно давали желаемый результат: подобное терапевтическое средство, как он утверждает, никогда его не подводило.
Лимфатическая система императора не в порядке, и его кровь циркулирует с трудом. Природа, говорит он, наградила его двумя важными преимуществами. Первое заключается в том, что он может заснуть в любой час и в любом месте всякий раз, когда нуждается в отдыхе. Другим преимуществом он считает то обстоятельство, что никогда не способен нанести себе вред чрезмерной едой и питьём.
«Если я, — говорит он, — допущу в этом малейшее излишество, то мой желудок моментально начнёт бунтовать».
Самые незначительные причины вызывают у него состояние тошноты, иногда для этого достаточно всего лишь небольшого приступа кашля.
Наш образ жизни в «Бриарах» — Моё первое посещение Лонгвуда — Адская машина и её история
26 — 28 ноября 1815 года
Двадцать шестого ноября император встал и оделся очень рано, — он почувствовал себя вполне здоровым, — и пожелал совершить прогулку, поскольку погода была прекрасная; и, кроме того, его комнату не убирали в течение трёх дней. Мы пошли в сад, и император распорядился, чтобы завтрак принесли в беседку. Он пребывал в хорошем настроении, в беседе затронул различные темы и стал вспоминать разных людей.
Здоровье императора теперь полностью восстановилось, и он возобновил свои обычные занятия, которые — его единственное
248
развлечение. Чтение, диктовка и прогулка в саду заполняют всё его время в течение дня. Он по-прежнему иногда посещает свою любимую дорожку, хотя смена сезона и положение луны почти заставили его прекратить наши вечерние прогулки. Многочисленные посетители, приходившие к дому господина Балькомба, сильно раздражали императора и вынудили его совсем прекратить эти прогулки. Поэтому мы оказались в положении затворников в нашем обиталище. Поначалу мы думали, что нам придётся оставаться в коттедже «Бриары» только в течение нескольких дней, но прошло шесть недель, а мы так ничего и не знаем о нашем переезде. Всё это время император находится в таком же положении, как и на борту корабля. Он только однажды предпринял экскурсию, — это было тогда, когда он нанёс визит майору Ходсону; и уже потом мы узнали, что это событие стало причиной тревоги английских властей. Об этом говорили шёпотом на балу у адмирала, и весть о посещении императором дома майора Ходсона достигла ушей наших высоких властей. Это событие привело их в состояние ужаса.
Рабочие продолжают трудиться в Лонгвуде, которому предстоит стать нашей новой резиденцией. Войска, которые приехали с нами из Англии, разбили свой лагерь поблизости от Лонгвуда. Полковник, командир полка, дал бал, на который мы были приглашены. Император пожелал, чтобы я принял приглашение, что я и сделал. Одновременно я получил возможность осмотреть наше будущее жилище. Я выехал вместе с госпожой Бертран в карете, запряжённой шестью быками. В этом экипаже времён франкской династии
Меровингов мы проследовали в Лонгвуд. Это была моя первая возможность увидеть какую-либо часть острова, помимо окрестностей «Бриаров». Дорога, по которой мы проезжали, свидетельствовала о сильнейшем природном катаклизме: мы видели лишь массу громадных скал, полностью лишённых растительности. Если, при каждом повороте, мы, казалось, замечали след растительности или небольшие заросли леса, то, как только мы приближались к этому месту, всё исчезало, словно мираж; мы обнаруживали только растения и кустарники или, что ещё хуже, несколько жалких эвкалиптов. Они были единственным украшением Лонгвуда. Я вернулся верхом на лошади около шести часов вечера. Император задал мне много вопросов относительно нашей новой резиденции. Обнаружив, что я не проявляю никакого энтузиазма по её поводу, он прямо спросил меня: выиграем мы или потеряем в результате смены нашего жилища? Я высказал ему своё мнение одной фразой: «Сир, здесь мы находимся в клетке, там мы будем помещены в загон для овец».
Император поменял свой военный мундир, в котором он вступил на борт «Беллерофона», на элегантное пальто. В этот день, беседуя со мной, он говорил о многих заговорах, которые замышлялись против него. Настал черёд рассказать об адской машине. Это дьявольское изобретение, давшее повод для столь многих помыслов и вызвавшее так много жертв, было делом рук роялистов, которые позаимствовали идею о нём у якобинцев.
Император рассказал, что сотня неистовых якобинцев, действительных организаторов событий сентября, была полна решимости избавиться от Первого консула. С этой целью они изобрели 16-фунто- вое устройство, которое, будучи брошенным в карету, должно было взорваться от собственного сотрясения и вызвать сильнейшие разрушения вокруг себя. Для того чтобы наверняка добиться своей цели, они предполагали загородить часть дороги рогаткой, которая, внезапно остановив лошадей, сделала бы невозможным дальнейшее следование кареты. У человека, которому поручили поставить на улице рогатку, это задание вызвало подозрение, равно как и поведение его работодателей. Он обо всём сообщил полиции. Вскоре заговорщиков выследили, и они были арестованы недалеко от Ботанического сада. Их обвинили в попытке пустить в ход адскую машину, способную произвести мощный взрыв. Первый консул, который был противником разглашения сведений о многочисленных заговорах, направленных против его особы, ограничился тем, что посадил заговорщиков в тюрьму. Вскоре он смягчил собственный приказ о содержании преступников в полной изоляции, и им была предоставлена некоторая свобода. В той же самой тюрьме, в которой содержались якобинцы, находились и роялисты, арестованные
250
за попытку убить Первого консула с помощью духовых ружей. Обе эти группы организовали союз заговорщиков, и роялисты передали своим друзьям, находившимся на свободе, идею адской машины как наиболее предпочтительную для реализации плана уничтожения Первого консула.
Весьма знаменательно, что в вечер покушения император выражал чрезвычайное нежелание покидать дворец, так что Жозефина и близкие друзья чуть ли не силой заставили его отправиться в оперный театр. Они подняли его с дивана, на котором он спал; один из друзей принёс ему его шпагу, а другой — шляпу. Пока они ехали в карете, император вновь заснул и, неожиданно проснувшись, заявил, что ему приснилось, как он тонет в реке Тальяменто. Чтобы объяснить, что именно Наполеон имел в виду, необходимо напомнить, что за несколько лет до этого, когда он командовал французской армией в Италии, он ночью переезжал в карете через реку Тальяменто, вопреки совету всех сопровождавших его лиц. В порыве молодости и не обращая внимания на советы подчинённых, он стал переезжать через реку в окружении сотни солдат, вооружённых шестами и факелами. Вскоре его карету понесло течением, Наполеон подвергся страшной опасности и некоторое время считал, что погибнет. Теперь же, на пути в оперный театр, он проснулся и оказался в самом центре большого пожара. Его карету подбросило в воздух, и он тут же вспомнил о переезде через реку Тальяменто. Но призрак того эпизода тут же исчез, ибо в это мгновение последовал сильнейший взрыв. «Нас взорвали!» — крикнул Первый консул Ланну и Бессьеру, которые были вместе с ним в карете. Тем не менее
251
карета, вновь коснувшись колёсами дороги, продолжала свой путь. Друзья Первого консула предложили остановить её, но он настоял на том, чтобы ни в коем случае не останавливаться. Он благополучно доехал до оперного театра и вошёл в зал, словно ничего не случилось. Он был спасён благодаря отчаянной езде его кучера. Взрыв машины ранил только двоих людей, замыкавших его эскорт.
Самые тривиальные обстоятельства часто приводят к важнейшим последствиям. Кучер был пьян, и, несомненно, именно это обстоятельство спасло жизнь Первого консула. Кучер был настолько пьян, что только на следующее утро смог понять, что же произошло на самом деле: он принял взрыв адской машины за праздничный салют.
Немедленно после этого события были приняты самые жёсткие меры против якобинцев, которых обвинили в том, что именно они замыслили преступление; значительное их количество было подвергнуто ссылке. Однако они не были настоящими преступниками, — настоящих обнаружили благодаря другому неожиданному случаю.
Около четырёхсот кучеров фиакров внесли каждый по луидору или по двенадцать франков для того, чтобы дать обед в честь кучера Первого консула, ставшего героем дня и предметом гордости для людей его профессии. Во время праздничного обеда один из гостей, провозгласив тост в честь кучера Первого консула, заявил, что знает, кто именно сыграл с ним злую шутку со взрывом адской машины. Этот гость был немедленно арестован, и вскоре выяснилось, что в тот самый вечер он со своим фиакром проезжал мимо ворот, откуда на небольшой тележке выкатили взрывное устройство. Полиция направилась к указанному месту и выяснила, что это каретный двор, где можно арендовать кареты различного вида. Содержатели каретного двора не стали отрицать факта с тележкой. Они показали место, где она стояла. Там всё ещё оставались следы от пороха.
252
Содержатели каретного двора заявили, что им дали понять, что тележка арендована несколькими бретонцами, которые занимались контрабандой. Человека, продавшего лошадь, а также всех тех, кто был замешан в этом деле, без труда определили. Выяснилось, что заговор был организован шуанскими роялистами. Их наиболее деятельных главарей захватили прямо в их штаб-квартире в Морбихане. Они даже не пытались отрицать своего непосредственного участия в организации заговора и лишь сожалели о том, что он закончился неудачей. Некоторых из них арестовали и предали суду. Говорят, что главный заговорщик впоследствии вступил в монашеский орден траппистов и старался искупить своё преступление религиозным аскетизмом.
Заговор Жоржа, Пишегрю и других — Герцог Энгиенский — Невольник Тоби — Размышления Наполеона
29 — 30 ноября 1815 года
Готовя данный текст к публикации, я обнаружил в этой части моей рукописи важные подробности, относящиеся к заговору Жоржа, Пишегрю, Моро и к суду над герцогом Энгиенским, но поскольку эти сюжеты повторяются вновь и вновь в моём дневнике, то я переношу описание этих событий в другую часть дневника, для
253
того чтобы представить взору читателя собранную мной информацию по вышеупомянутым вопросам сразу и целиком.
За небольшим садом господина Балькомба, в котором мы так часто гуляем, присматривает старый чернокожий слуга. В первый раз, когда мы увидели его, император, следуя своему обычаю, пожелал, чтобы я расспросил этого человека о его судьбе, и его ответы вызвали у нас большой интерес к нему. Он — малаец, которого силой вывезла с его родины команда английского корабля и продала его на острове Святой Елены; с тех пор он всё время живёт в неволе. Его рассказ — во всех подробностях — абсолютно правдоподобный. У слуги честное и доброжелательное выражение лица, взгляд его глаз живой и искрящийся. Одним словом, он ни в коем случае не выглядит жалким, а, наоборот, очень располагает к себе.
История злоключений, обрушившихся на этого беднягу, вызвала у нас искреннее возмущение, и император выразил желание выкупить его и отправить обратно в его страну. Через несколько дней он упомянул о старом невольнике в беседе с адмиралом. Последний сначала пытался защитить своих соотечественников, заявив, что старый Тоби (так звали несчастного невольника), должно быть, всё выдумал, ибо то, что он рассказал о себе, не могло произойти на самом деле. Адмирал, однако, заинтересовался историей старого невольника и, выяснив, что всё соответствует действительности, разделил наше возмущение случившимся и пообещал, что примет все меры, чтобы наш план осуществился. Когда мы переехали из «Бриа- ров» в Лонгвуд, бедняга Тоби, разделив общую участь всех простых людей, вскоре был забыт; я не знаю о его дальнейшей судьбе.
Когда мы прогуливались в саду, император обычно останавливался около хижины Тоби и просил меня расспрашивать старого невольника о его стране, о днях его молодости, о его семье и о нынешнем положении; можно было предположить, что император хочет понять чувства старого невольника. В соответствии с пожеланием императора мы обычно заканчивали беседу с Тоби тем, что я давал ему наполеондор.
Тоби очень привязался к нам, наше присутствие, казалось, всегда доставляет ему радость. Когда мы входили в сад, он немедленно прекращал работу и, облокотившись на лопату, с довольным видом смотрел на нас. Он не понимал ни слова из нашего разговора с императором, но всегда предвосхищал с первых слов всё то, что я переводил императору. Он называл императора Добрым Господином: это было единственное имя, с которым он обращался к императору, и другого он не знал.
Я упоминаю всё это только потому, что после наших встреч с Тоби следовали новые оживлённые размышления императора, типичные для его характера, — многосторонность его мышления хорошо известна. Всякий раз, когда император обращался к теме несчастий бедного невольника, он всегда по-новому осмысливал его положение. Я удовлетворюсь тем, что занесу в дневник следующие его замечания:
«Бедняга Тоби, — однажды сказал император, — был оторван от своей семьи, от своей родной земли и продан в рабство; что может быть более печальным для него и более преступным для других! Если это было поступком только английского капитана, то, несомненно, он является одним из самых гнусных представителей человеческого рода; но если это было делом рук всей команды корабля, то этот поступок был совершён людьми, возможно, не столь подлыми, как это можно себе представить, ибо подлость всегда индивидуальна и едва ли когда-либо бывает коллективной. Братья Иосифа не могли заставить себя убить его, зато Иуда, хладнокровный, циничный, расчётливый злодей, предал своего Учителя.
Философ утверждает, что все люди рождаются порочными, — трудно и бесполезно пытаться выяснить, является ли это утверждение правильным. Но, по крайней мере, верно то, что в своём большинстве общество не является порочным, ибо если бы это большинство было полно решимости быть преступным и готовым нарушать законы, то кто бы имел в своих руках власть, чтобы сдерживать преступления и предотвращать их? Этот счастливый результат исходит из лона самой цивилизации и вытекает из её природы, и в этом заключается её триумф. Чувства в большей своей части передаются из поколения в поколение: мы испытываем их потому,
255
что они передаются нам теми, кто жил до нас; таким образом, мы должны рассматривать развитие человеческого здравого смысла и способностей человечества как единственный ключ к общественному порядку, как единственную тайную причину успеха деятельности законодателя.
Только те, кто хочет обманывать народ и править им ради собственной выгоды, стремятся держать его в состоянии невежества, ибо чем больше народ просвещается, тем больше он убеждается в полезности законов и в необходимости защищать эти законы. И тогда общество становится более стабильным, счастливым и процветающим. Знание оказывается опасным только тогда, когда правительство, вопреки интересам народа, создаёт противоестественные условия жизни и обрекает низшие слои общества на гибель вследствие бедности. В таком случае знание вдохновляет народ на собственную защиту или на то, чтобы он становился преступным.
Один мой Кодекс, благодаря своей простоте, более полезен Франции, чем вся масса законов, предшествовавших ему. Мои школы и моя система всеобщего образования готовят поколения, которых пока ещё не было. В соответствии с этим во время моего правления количество преступлений быстро уменьшалось, в то время как у наших соседей, в Англии, наоборот, оно увеличивалось в угрожающей степени. Только этого одного достаточно, чтобы составить убедительное мнение о двух соответствующих правительствах*!
* Эти слова подтверждаются фактами, которые содержат доказательства более убедительные, чем это можно было бы ожидать (см. книгу «Положение в Англии» господина де Монтверана):
ФРАНЦИЯ АНГЛИЯ
Количество
жителей
Приговорено к смерти
Годы
Количество
жителей
Приговорено к смерти
34 000 000
882
1801
16 000 000
3 400
42 000 000
392
1811
17 000 000
6 400
Из этих данных очевидно, что в 1801 году во Франции двадцать шесть человек из миллиона жителей были приговорены к смерти, а в 1811 году, десять лет спустя, количество приговорённых к смерти уменьшилось на две трети, то есть пропорция стала равна только девяти приговорённым к смерти на один миллион жителей.
В Англии, наоборот, в 1801 году количество преступников, приговорённых к смерти, равнялось 212 на один миллион жителей, а в 1811 году — 376 на миллион.
Стоит отметить, что пропорция приговорённых к смерти в Англии по сравнению с Францией равнялась триста семьдесят шесть к девяти, или сорок два к одному.
Количество людей, находившихся в состоянии нищеты во Франции, по сравнению с Англией, также говорит о громадной разнице: во французском списке в 1812 году таких было 30 000 из общего числа жителей в 43 миллиона, в то время как в Англии в том же году пособие по бедности получала четверть населения страны, то есть 4 250 000.
256
Посмотрите на Соединённые Штаты, где налицо процветание без всяких усилий: все счастливы и удовлетворены своим положением; и это только потому, что общественные интересы являются там реальной правящей силой. Поставьте то же самое правительство в состояние конфликта с желаниями и интересами народа его страны, и вы вскоре будете свидетелем того, как вслед за этим последуют беспорядки, волнения, неразбериха и, прежде всего, рост преступности.
Когда я получил в свои руки всю власть в стране, то высказывалось пожелание, чтобы я стал новым Вашингтоном. Слова ничего не стоят, и, несомненно, те, кто с готовностью высказывали подобное пожелание, делали это, не понимая и не зная особенностей времени, места, населения страны и положения дел в стране. Если бы я находился в Америке, то с радостью бы стал новым Вашингтоном, и в этом у меня не было бы особой заслуги, ибо я не вижу, как бы иначе я там поступал. Но если бы Вашингтон оказался во Франции, перед лицом полного разлада в стране и вторжения вражеских войск, то ручаюсь, что он не стал бы тем, кем он был в Америке; по крайней мере, он поступил бы глупо, попытавшись быть самим собой, ибо тем самым он только продлил бы существование зла.
Что касается меня, то я мог быть только коронованным Вашингтоном. Я мог стать таким только в сообществе королей, среди королей, готовых к уступкам и к смирению. Только тогда и там я мог бы успешно проявлять сдержанность, бескорыстие и мудрость Вашингтона. Я не мог бы без помех добиться такого положения, не прибегнув к всемирной диктатуре. К этому я стремился. Разве это можно считать преступлением? Можно ли верить тому, что решение отказаться от такой власти подвластно человеческой натуре? Сулла, пресыщенный преступлениями, посмел отречься, преследуемый проклятиями народа! Какая причина могла заставить отречься меня, императора, вслед которому слышались только благословения?..
Но мне оставалось ещё покорить Москву! Как много людей потом сожалели о постигшей меня катастрофе и о моём падении! Но невозможно требовать от меня принесения жертвы, время для которой ещё не настало; и если бы я заявил об отречении или обещал сделать это, то мои слова были бы восприняты как проявление лицемерия или обман, что было не в моём вкусе. Я повторяю, мне ещё оставалось покорить Москву!»
В другой раз, остановившись перед хижиной Тоби, император сказал:
«Что представляет из себя этот бедный человеческий механизм? Нет ни одного человека, чей внешний вид подобен внешнему виду
257
другого человека и чей организм напоминает организм любого другого человека на свете! И вопреки этой истине, мы идём по одному и тому же пути совершения столь многих ошибок! Если бы Тоби был рождён Брутом, то он бы кончил свою жизнь самоубийством, если бы Эзопом — то, вероятно, в наши дни он стал бы советником губернатора, если бы пылким и ревностным христианином — то на глазах у Бога носил бы свои цепи и благословлял их. Что касается бедняги Тоби, то он мужественно переносит свои невзгоды, не гнушается никакой работой и проводит дни в безмятежном спокойствии».
Затем, не отводя взгляда от Тоби в течение нескольких минут, император сказал мне: «Конечно, от короля Ричарда Тоби отделяет громадный шаг! И тем не менее, — продолжал он, возобновляя прогулку, — преступление, совершённое в отношении него, не становится менее жестоким, так как, в конце концов, у этого человека была семья, он был счастлив и свободен. С ним поступили самым жестоким образом, когда привезли его сюда, чтобы он томился в оковах неволи. — Потом, внезапно остановившись, император добавил: — Но я читаю в ваших глазах, что он — не единственный пример подобного рода на острове Святой Елены!»
И то ли потому, что император почувствовал себя оскорблённым, будучи поставленным в один ряд с Тоби, то ли потому, что решил поднять моё настроение, или потому, что на то были какие-то другие причины, он оживлённо сказал с чувством большого достоинства: «Мой дорогой Лас-Каз, здесь нет ни малейшего сходства: хотя насилие огромно, но его жертвы обладают весьма разными возможностями. Мы не подвергаемся телесным страданиям, и если бы была попытка осуществить подобное, то, к разочарованию наших тиранов, у нас есть души! Даже в нашем положении могут быть свои положительные стороны! Внимание всего мира приковано к нам! Мы — мученики за бессмертное дело! Миллионы людей оплакивают нас, наша страна тоскует о нас, и слава скорбит о нашей судьбе! Мы здесь боремся против угнетения богов, и народы молятся за нас! — Сделав небольшую паузу, он продолжал: — Кроме того, не это является источником моих страданий! Если бы я думал только о самом себе, то, возможно, у меня была бы причина радоваться! Несчастья не лишены своего героизма и своей славы! Моей карьере необходимы были превратности судьбы! Если бы я умер на троне, находясь на самой вершине власти, то для многих я остался бы загадкой, но теперь мои несчастья помогут всем судить обо мне объективно».
258
Причина учреждения службы личной охраны — Другая опасность, которой подвергался Наполеон — Немецкий офицер
1 — 3 декабря 1815 года
За эти дни произошло немало различных событий; некоторые из них я опускаю в своём дневнике как не имеющие никакого значения, о других не пишу, потому что считаю неуместным упоминать о них. Поэтому здесь я привожу некоторые истории, приключившиеся с главнокомандующим французской армией во время кампании в Италии.
После переправы через реку Минчо Наполеон, согласовав свои планы с подчинёнными генералами и продолжая преследование противника по всем направлениям, выбрал для своего постоя замок на левом берегу реки. Его мучила головная боль, и он принял ножную ванну. Большой отряд противника, потеряв ориентиры, двигался к истоку реки вдоль её берега и оказался у самого замка. Наполеона сопровождали всего лишь несколько человек; часовой, поставленный У ворот замка, при появлении противника успел захлопнуть ворота и воскликнуть: «К оружию!» — и главнокомандующий французской армией в Италии был вынужден, в торжественный час победы, спасаться с одним сапогом на ноге через чёрный ход в саду замка. Если
259
бы он попал в плен до того, как стал всемирно известен, то все достижения гения, которыми было отмечено начало его карьеры, считались бы заурядными поступками и, в лучшем случае, всего лишь счастливыми событиями. Опасность, которой только что избежал французский генерал (обстоятельство, которое, благодаря его методу проведения военных операций, могло бы, вероятно, повториться вновь), стала причиной учреждения службы личной охраны, обеспечивавшей безопасность его особы. С тех пор служба личной охраны была введена и в других армиях.
Во время этой же военной кампании с Наполеоном произошёл ещё один случай, когда его жизни угрожала непосредственная опасность. Вюрмсер, австрийский генерал, вынужденный под натиском французских войск поспешно отступать к крепости Мантуя, по пути, в открытом поле, узнал от пожилой женщины, что за несколько минут до его прибытия в её деревенском доме с небольшой группой офицеров останавливался французский генерал, который на глазах у австрийцев вскочил на коня и стремглав ускакал прочь. Вюрмсер, уверенный в том, что ему достанется ценная добыча, немедленно отправил кавалерийские отряды в разных направлениях. «Но, — заявил император, — я должен отдать ему должное: он отдал специальный приказ, что меня не следует убивать и даже ранить при взятии в плен». К счастью для молодого генерала, его счастливая звезда и резвость коня спасли его от неприятностей.
Новая система проведения военных операций, введённая в практику Наполеоном, вызывала замешательство у всех его противников. Кампания в Италии только-только началась, а Ломбардия уже
была полна французскими войсками, действовавшими в различных направлениях. Французы, запутав противника своими манёврами, стремительно вышли к крепости Мантуя. В окрестностях Пицциги- тоне к французскому главнокомандующему привели взятого в плен тучного немецкого полковника. Наполеон захотел допросить его и поинтересовался, как идут дела на полях сражений. «Очень плохо, — ответил немецкий офицер, который не узнал Наполеона. — И не представляю, чем всё это закончится. Судя по всему, никто не понимает, что происходит. Нас послали сражаться с молодым болваном, который атакует и справа и слева, и спереди и сзади, так что никто не знает, что делать и как дальше действовать. Такой метод ведения войны просто невыносим, и что касается меня, то я рад, что покончил со всем этим...»
Наполеон однажды рассказал, как после одного крупного сражения в Италии он проезжал по полю битвы в сопровождении трёх офицеров. Тела убитых ещё не были погребены. «В глубоком безмолвии прекрасного лунного вечера, — продолжал рассказывать император, — вдруг из-под шинели своего убитого хозяина выскочила собака. Она бросилась к нам и тут же с жалобным воем вернулась назад. Собака то лизала лицо своего хозяина, то бросалась к нам, словно моля о помощи и требуя мести. Я не знаю, в чём причина этого — то ли моё особое настроение в тот момент, а может быть, вечернее время, своеобразие места и самого сражения, — но, несомненно, ни один случай на полях сражений не произвёл на меня более глубокого впечатления. Я невольно остановился, чтобы созерцать всю эту сцену. У этого убитого, подумал я, вероятно, есть
друзья в лагере или в его отряде, а он лежит здесь, покинутый всеми, за исключением своей собаки! Какой урок преподаёт нам природа через посредство этого животного! Каким странным существом является человек! И как непостижимы его восприятия: ранее, без всяких эмоций, я отдавал приказания, которые должны были решить судьбу армии, я предвидел, не роняя ни слезинки, результат исполнения данных мною приказов, из-за которых будет принесено в жертву множество моих соотечественников, а здесь я был весь взбудоражен жалобным воем собаки! Несомненно, в ту минуту моё сердце могло быть тронуто мольбой противника. Я мог хорошо себе представить, с какими чувствами Ахилл уступал тело Гектора при виде слёз Приама».
Война — Мнения о различных генералах
4—5 декабря 1815 года
Я почти потерял зрение в результате работы над рукописью о военной кампании в Италии, и был вынужден прекратить мои занятия с императором
В последнее время погода претерпела заметное изменение. Мы ничего не знали о порядке смены времён года в том месте, в котором находимся. Всё абсолютно другое по сравнению с тем, к чему мы привыкли; мы должны, находясь в южном полушарии, делать все временные расчёты совершенно противоположным способом по отношению к тому, к чему мы были приучены в Европе, и это ставит нас в полный тупик. Часто идёт дождь, воздух насыщен сыростью, и с каждым днём становится всё холоднее. Император больше не может выходить гулять вечером, он постоянно простужается и плохо спит ночью. Он вынужден был прекратить приём пищи в палатке. Теперь еду ему сервируют в его комнате. Там он чувствует себя лучше, но в маленькой комнате он не может сдвинуться со своего кресла.
Наши беседы продолжаются после того, как со стола убирается обеденная посуда. Сегодня император с пристрастием расспрашивал генерала Гурго об основных элементах и базовых приёмах артиллерийской стрельбы. Генерал принадлежал к этому роду войск, и его профессиональные знания никоим образом не забыты. Дискуссия двух знатоков артиллерии проходила весьма любопытно и очень оживлённо. Наполеон ни в чём не уступал своему оппоненту: казалось, что он только что сдал экзамены по артиллерийской науке в военной академии.
262
Затем беседа плавно перешла к обсуждению проблемы ведения войны в целом и деятельности великих полководцев в частности. «Судьба сражения, — заявил император, — зависит от одной минуты, от одной блестящей мысли: враждующие армии продвигаются вперёд навстречу друг другу с разнообразными планами сражения, они атакуют друг друга и какое-то время сражаются; потом наступает критическая минута, вспышка блестящей мысли решает дело, и сражение завершают находившиеся в резерве самые незначительные силы».
Император говорил о сражениях при Лютцене, при Баутцене и о других. Затем, оценивая сражение при Ватерлоо, он заявил, что если бы он последовал плану обхода сил противника на его правом фланге, то легко добился бы успеха. Он, однако, отдал предпочтение плану прорыва по центру, чтобы расколоть армию союзников на две части. Но в ходе выполнения этого плана всё становилось роковым, события порой принимали, казалось, просто нелепый характер. Тем не менее, Наполеон всё же должен был одержать победу. Он, как никогда, был совершенно уверен в благоприятном исходе этого сражения и до сих пор не может объяснить себе, что же случилось. Груши потерял контроль над войсками; Ней, судя по всему, растерялся, и его лицо сразу же стало выражать раскаяние, которое он чувствовал из-за сделок в Фонтенбло и Лон-ле-Сонье; д’Эрлон был бесполезен. Короче говоря, генералы более не были самими собой. Если бы вечером Наполеону было известно о положении войск Груши и те немедленно пошли ему на помощь, то утром он смог бы, опираясь на эти отличные резервные силы, переломить в свою пользу ход сражения и, вероятно, даже разгромить союзные войска с помощью одного из тех чудес, одного из тех поворотов судьбы, которые всегда сопутствовали ему и которые обычно никого не удивляли. Но он ничего не знал о ситуации с Груши, и к тому же нелегко было действовать решительно среди гибнувшей армии. Трудно даже представить себе положение французской армии в ту катастрофическую ночь: она оказалась беспомощной, попав в стремительный поток, сметавший всё на своём пути.
Обратившись к другой проблеме, император заявил, что опасности, которым подвергались полководцы Древнего мира, несравнимы с теми опасностями, которые подстерегают генералов нынешнего времени. Сейчас, как заметил император, нет такого места, в котором генерал мог бы избежать артиллерийского обстрела, тогда как в Древнем мире полководцы ничем не рисковали, если только лично не участвовали в рукопашной схватке. Подобное случалось с Цезарем всего лишь два или три раза.
«Мы редко, — продолжал император, — обнаруживаем сочетание в одной личности качеств, необходимых для того, чтобы быть
263
великим полководцем. Наиболее желательно, чтобы в человеке сохранялось равновесие между его здравым смыслом и личной храбростью. Такое сочетание качеств у полководца сразу же ставит его выше общего уровня». Это именно то, что император называет «хорошо сбалансированной» по своим умственным и нравственным качествам личностью.
«Если, — продолжал император, — преобладающим качеством характера генерала является его храбрость, то он безрассудно бросается в сражение, не задумываясь о последствиях; с другой стороны, он не отважится реализовать свои блестящие идеи, если его личная храбрость уступает его здравому смыслу».
Потом он в качестве примера привёл вице-короля Италии Евгения Богарне, исключительным достоинством которого было сочетание вышеупомянутых свойств характера, что позволило ему стать выдающейся личностью.
Затем темой беседы стали физическое мужество и нравственная храбрость. «Что касается физического мужества, — заметил император, — то невозможно представить себе более храбрых маршалов, чем Мюрат и Ней, но при этом они всегда отличались отсутствием здравого смысла, особенно Мюрат. Что же касается нравственной храбрости, то я редко встречал человека, обладавшего так называемой нравственной храбростью в два часа после полуночи. Я имею в виду ту храбрость, которая проявляется без всякой подготовки и которая необходима при непредвиденных обстоятельствах, в ту минуту, когда происходят неожиданные события и следует здраво принимать самые верные решения».
Император без колебаний заявил, что сам он был в высшей степени одарён этой нравственной храбростью и что он мало встречал людей, которые были бы равны ему в этом отношении. Император отметил, что сложилось неправильное представление о той силе разума, которая необходима, чтобы начать одно из великих сражений, от которых зависит судьба армии и страны или обладание престолом. «Генералы, — сказал он, — редко готовы дать решительное сражение: они сначала выбирают позиции для своих армий, затем закрепляются на этих позициях и разрабатывают планы военных операций, но потом начинают проявлять полную нерешительность. Ничто не является более трудным и в то же время более важным, чем понимание того, когда следует принять решение».
Затем император высказал своё мнение о некоторых генералах и вкратце ответил на наши вопросы. «Клебер, — сказал он, — был наделён природой огромными способностями, но был всего лишь человеком момента: он добивался славы как единственного средства получить радость в жизни, но у него не было чувства национальной привязанности, и он мог, не испытывая угрызений совести, перейти
264
на службу любого другого государства». Как известно, Клебер в молодости начал свою карьеру в прусской армии, к которой он продолжал испытывать привязанность. Дезэ, по мнению императора, в самой высокой степени обладал тем важным равновесием качеств характера, которое описывалось ранее. Моро едва ли заслуживал того, чтобы быть поставленным в один ряд с лучшими генералами: природа закончила свою работу над ним значительно раньше, чем следовало; он больше обладал инстинктом, чем даром гения. В характере Ланна храбрость сначала превалировала над здравым смыслом, но и то и другое постепенно уравновесилось; накануне своей смерти он уже был очень способным командующим армией. «Я нашёл его карликом, — заявил император, — но потерял великаном».
Говоря о воинской доблести и храбрости генералов, император заявил: «Я знаю, на что способны мои генералы, или, как я называю это, насколько они возвышаются над уровнем воды. Одни, — добавил он, подкрепляя свои слова жестом, — погружены в воду до пояса, у других вода доходит до подбородка. Некоторые с головой уходят под воду, но количество последних, уверяю вас, ничтожно мало».
У Сюше, заявил он, храбрость и здравый смысл удивительным образом росли не по дням, а по часам. Массена был исключительным генералом: благодаря странной особенности его характера равновесие храбрости и здравого смысла наступало у него только в самый разгар сражения, когда над его головой нависала непосредственная опасность. «Жерар, Клозель, Фуа, Ламарк и некоторые другие, — заканчивая беседу, заявил император, — вот те генералы, которым, судя по всему, предназначено в будущем добиться известности. Они были бы моими новыми маршалами».
Положение испанских принцев в Валансэ — Пребывание папы римского в Фонтенбло
6 декабря 1815 года
Сегодня утром император, после того как диктовал мне, продолжил эту работу с другими господами. Затем он немного погулял с ними. Когда они удалились, я сопровождал императора в его прогулке по нижней дорожке; император был мрачен и молчалив, а выражение его лица было несколько суровым и раздражённым.
«Итак, — заявил он, когда мы возвращались к обеду, — под нашими окнами в Лонгвуде будут стоять часовые. Они хотят заставить меня согласиться с тем, чтобы иностранный офицер сидел за моим столом и находился в моей комнате. Я не могу сесть на коня и совершить верховую поездку без того, чтобы меня не сопровождал
265
английский офицер. Одним словом, мы не можем сделать и шага без того, чтобы нас не оскорбляли!..»
Я ответил, что это ещё одна капля страданий, добавленная в нашу горькую чашу, которую нам суждено испить за его былую славу и былую власть, но что достаточно относиться к этому философски, чтобы не поддаваться злобе врагов и заставить их краснеть за свою жестокость перед лицом всего мира. Я рискнул напомнить императору, что испанские принцы в Валансэ, в замке князя Та- лейрана, и папа римский в Фонтенбло никогда не подвергались подобному обращению. «Конечно нет, — подтвердил император, — испанские принцы в Валансэ ездили на охоту и давали балы, они жили, физически не ощущая, что находятся в плену. Все вокруг проявляли к ним уважение и вежливость. Старый король Карл IV ездил куда хотел, сначала по его просьбе он был перевезён из Ком- пьеня в Марсель, а из Марселя — в Рим. И как же отличаются те места от этого острова! С папой римским, что бы там ни писали по всему миру, обходились точно так же. И, тем не менее, сколько людей, несмотря на все привилегии, которыми он пользовался, отказывались быть его охранниками! Обстоятельство, которое ни в малейшей степени не обижало меня, ибо я считал это совершенно естественным. Выполнение подобных обязанностей зависит от врождённого чувства такта, и наши европейские манеры требуют, чтобы власть была ограничена честью». Что же касается его лично, заявил император, то он, как частное лицо и офицер, без колебаний отказался бы охранять папу римского.
Император добавил, что никогда не приказывал отправлять папу римского во Францию. Это признание императора вызвало у меня сильное удивление. «Вы удивлены? — спросил меня император. — Разве вы не знали об этом? Но, тем не менее, это правда, как и многие другие подобные факты, о которых вы узнаете со временем. Впрочем, что касается предмета нашего разговора, то следует отличать поведение монарха, который действует от имени общества, от поведения частного лица, чьи чувства не подвластны принуждению. Политика разрешает одному и более того — часто требует от одного лица то, что было бы непростительно для другого».
Настал обеденный час, что дало возможность обсудить различные темы, рассеяло меланхолию императора и вернуло ему бодрое настроение. Он самым серьёзным образом принял решение покинуть своё нынешнее жалкое обиталище и переехать в новую резиденцию, несмотря на все те неудобства, с которыми мы могли там встретиться. Собираясь провести остаток вечера с нашим хозяином, император распорядился, чтобы я вручил господину Балькомбу шкатулку с его вензелем, а также сказал ему, что мы очень сожалеем о том, что причинили ему массу беспокойства.
266
О «Новой Элоизе» и о любви
7 декабря 1815 года
Император вызвал меня к себе в ранний час и стал читать «Новую Элоизу» Жан-Жака Руссо, часто обращая внимание на искренность, силу аргументации писателя и на элегантность стиля и выражений романа; чтение книги продолжалось примерно часа два. Это чтение произвело на меня сильное впечатление, вызвав глубокую меланхолию — смешанное чувство нежности и печали. Я всегда любил эту книгу, и сейчас она пробудила во мне счастливые воспоминания и вызвала глубокое сожаление; император время от времени бросал на меня взгляд и улыбался. Во время завтрака «Новая Элои- за» была темой нашей беседы.
«Жан-Жак перестарался с нагнетанием чувств, — заявил император. — Он нарисовал картину сумасшествия, тогда как любовь должна быть источником удовольствия, а не страдания». Я же заявил, что Жан-Жак представил в книге всеобъемлющую картину человеческих чувств и что даже страдание, о котором говорил император, на самом деле было счастьем. «Понимаю, — сказал он, — вы не избежали влияния романтики. Разве страдания любви доставляли вам счастье?» — «Я не жалуюсь на свою судьбу, сир, — ответил я. — Если бы мне пришлось начать жить заново, я бы хотел повторить уже пройденный мною путь».
После завтрака император возобновил чтение, но время от времени делал паузу: очарование книги, казалось, не обошло стороной и его. Потом он отложил книгу, и мы вышли в сад. «Действительно, — согласился император, когда мы стали гулять, — это произведение никого не оставляет равнодушным, оно волнует и вызывает чувства». Мы подробнейшим образом обсудили книгу. Мы были весьма многословны в наших высказываниях и, наконец, согласились с тем, что абсолютная любовь подобна идеальному счастью: оба эти состояния в равной степени нереальны, мимолётны, таинственны и необъяснимы, — и что, в конце концов, любовь — это просто временное занятие для праздного человека, развлечение для воина и крах для монарха.
К нам присоединились гофмаршал и господин Гурго, только что приехавшие из Лонгвуда. В последние дни адмирал настаивал на том, чтобы мы переехали туда; император в неменьшей степени стремился перебраться в Лонгвуд, поскольку условия жизни в «Бри- арах» были ужасны. Однако, до его переезда туда, необходимо было, чтобы в новой резиденции полностью исчез запах краски после ремонта дома, поскольку из-за особенностей организма император
267
не мог переносить этот запах. В императорских дворцах принимались все меры, чтобы он не чувствовал этого запаха. Во время различных поездок наличие даже еле заметного запаха краски заставляло менять подготовленные для императора апартаменты, а на борту «Нортумберленда» покраска корабля сделала императора совершенно больным.
Накануне императору сообщили, что всё готово для его переезда в Лонгвуд и что неприятный запах краски полностью исчез. В соответствии с этим император принял решение переезжать в Лонгвуд в следующую субботу, чтобы в это воскресенье ему не досаждала работа строителей; но приехавшие гофмаршал и господин Гурго заявили, что они только что осмотрели дом в Лонгвуде и нашли, что он непригоден для жилья. Император выразил своё крайнее неудовольствие по поводу прежней информации о готовности резиденции в Лонгвуде и был раздражён тем, что эти сведения заставили его принять решение о переезде. Оба господина уехали, а мы пошли гулять по нижней дорожке. Император пребывал в весьма мрачном настроении. В эту минуту совершенно некстати из Лонг- вуда приехал господин де Монтолон, заявивший, что там всё готово и император может переезжать туда, как только пожелает. Эти два сообщения, столь противоречивые и последовавшие одно за другим, привели императора в ещё более дурное настроение. К счастью, в это время было объявлено, что обед уже сервирован. Это отвлекло внимание императора от обсуждения проблемы переезда. Обед сервировали в комнате императора, ибо он был настолько простужен, что не мог обедать на открытом воздухе в палатке. После обеда он возобновил чтение, и день завершился тем же, чем и был начат, а именно — чтением «Новой Элоизы».
Английский лейтенант — Необычный случай — Решение о переезде в Лонгвуд — Положение во Франции — Заметка в газетах об оправдании Нея
8—9 декабря 1815 года
В связи с тем сомнением, которое возникло вчера относительно всё ещё остававшегося запаха краски, я решил отправиться в Лонгвуд и лично убедиться в истинном положении дел в новой резиденции и затем сообщить императору во время завтрака о результатах моего расследования. В соответствии с этим решением я очень рано отправился пешком в Лонгвуд, потому что слуги ещё спали и не могли подготовить для меня лошадь. Я вернулся к девяти часам
268
утра. Конечно, запах краски был очень слабым, но для императора он был бы непереносим.
Девятого декабря император принял в саду капитана корабля «Минден». Капитан прибыл с мыса Доброй Надежды и был готов отплыть в Европу. Двенадцать лет назад он имел честь быть представленным Наполеону ещё во времена Консулата. Капитан попросил у императора разрешения представить ему одного из своих лейтенантов, учитывая некоторые личные обстоятельства, которые мы посчитали весьма необычными. Молодой человек родился в Болонье как раз в то время, когда французская армия вошла в этот город. Французский генерал Бонапарт случайно присутствовал при крещении ребёнка и передал его родителям трёхцветную кокарду для него. С тех пор семья бережно хранила эту кокарду.
После отъезда англичан из Лонгвуда вернулся гофмаршал. Он считал, что неприятный запах краски практически исчез. Поскольку условия нынешнего проживания императора во флигеле коттеджа «Бриары» ещё более ухудшились, так как часть личных вещей императора была уже отправлена в Лонгвуд, то император решил на следующий день проследовать в Лонгвуд, чему я был несказанно рад. В течение последних нескольких дней я имел возможность Убедиться, что было принято решение заставить императора покинуть нынешнее обиталище, но держал при себе все передаваемые мне открыто или секретно сообщения по этому вопросу. Я взял за правило по возможности не давать императору лишнего повода для Раздражения и, соответственно, придерживался наиболее целесообразной, по моему мнению, линии поведения в данной ситуации.
269
Два дня тому назад к нам был прислан английский офицер, который забрал палатку, хотя мы не просили об этом. Офицеру также было дано указание снять наружные ставни с окон комнаты императора, но я воспротивился этому, заявив, что император ещё не встал с постели, и отослал офицера прочь. В другой раз, чтобы напугать меня, мне было сказано, якобы по секрету, что если император немедленно не отправится в Лонгвуд, то у его флигеля будет выставлен пост численностью в сто солдат. «Ну и прекрасно», — равнодушно ответил я, сделав вид, что меня это совершенно не волнует. Что могло быть причиной такой спешки? У меня возникли подозрения, что всё дело заключается в излишней капризности наших тюремщиков и в их желании проявить свою абсолютную власть над нами.
Мы получили газеты, датированные до 15-го сентября, и император внимательно изучил их. Они стали темой нашего разговора. Будущее казалось нам полностью покрытым чёрными тучами.
«Тем не менее, — сказал император, — можно оценить возможности того, что в стране произойдут важные события: будет ли произведён раздел Франции, продолжится ли правление Бурбонов или начнётся правление новой династии? Людовик XVIII мог легко править страной в 1814 году, став национальным монархом. Теперь же у него есть единственная, хотя и сомнительная возможность преодолеть чрезмерные трудности, и она заключается в том, чтобы установить режим террора. Тогда его династия сможет долго удерживать трон, а та династия, которой предстоит прийти на смену нынешней, может по-прежнему лишь гадать о будущем».
Кто-то из присутствовавших при разговоре заметил, что на трон может быть призван герцог Орлеанский, но император, прибегнув к весьма убедительным и красноречивым доводам, доказал, что если герцог Орлеанский не взойдёт на трон, в соответствии с естественным порядком престолонаследия, то общеизвестная заинтересованность всех монархов Европы вынудит их отдать предпочтение ему, Наполеону, а не герцогу Орлеанскому, посягающему на трон с помощью преступления. «Ибо, — заявил император, — какого политического принципа придерживаются монархи Европы в отношении событий настоящего дня? Заключается ли он в том, чтобы предотвратить повторение данного мною примера, нарушающего то, что они называют законностью? Итак, данный мною пример не может быть повторён сверху ещё в течение многих веков. Но пример герцога Орлеанского, ближайшего родственника царствующего монарха, может быть повторён ежедневно, ежечасно и в любой стране. Нет ни одного монарха, который бы не опасался в собственном дворце кузенов, племянников, братьев и других родственников, которые без труда последуют примеру герцога Орлеанского, если когда-нибудь им будет предоставлена такая возможность».
270
В тех же газетах мы прочитали выдержку из заметки, посвящённой оправданию маршала Нея. Император посчитал эту меру весьма жалкой. Она не была рассчитана на то, чтобы спасти жизнь маршала, и уж ни в коем случае на то, чтобы восстановить его честь. Доводы в его защиту были, по меньшей мере, слабы и лишены смысла. После всего того, что он сделал, он по-прежнему заявлял о своей преданности королю и о своей антипатии к императору.
«Абсурдный план, — заявил Наполеон, — но именно такие планы повсеместно принимаются теми, кто рассчитывает на что-то в нынешние достопамятные времена и кто, кажется, не учитывает того, что моё имя полностью отождествляется со всеми достижениями нашей страны, с нашими памятниками и с нашими национальными деяниями, что попытка отделить меня от всего этого равнозначна попытке причинить зло Франции. Слава Франции неотделима от признания моих достижений! И, несмотря на всё коварство, на все уловки и на всю ложь, которые могут быть использованы, чтобы доказать обратное, моя личность будет по-прежнему справедливо оцениваться французской нацией.
План защиты Нея, — продолжал император, — легко прослеживается. Он был увлечён всеобщим народным порывом, который, как он считал, обеспечит благоденствие его стране, он подчинился этому порыву, не раздумывая и не следуя какому-либо замыслу предательства. Однако фортуна переменчива, и он предстал перед трибуналом. В защиту его жизни ничего нельзя было сказать, за исключением, правда, того, что он был защищён актом официальной капитуляции, который гарантировал каждому индивидууму право на молчание и забвение всех его политических поступков и мнений. Если бы он следовал этой линии защиты и если бы, тем не менее, его жизнь принесли в жертву, то это было бы, перед лицом всего мира, грубейшим нарушением самых священных законов. Он бы оставил память о себе как о замечательной личности и унёс бы с собой в могилу сочувствие всех благородных умов, а его убийцы стали бы объектами презрения и порицания. Но подобный порыв вдохновения, видимо, был превыше его нравственных сил. Ней, как никто, наделён храбростью, но не более того».
Совершенно ясно, что, когда Ней покинул Париж, он был полностью предан королю, и только увидев, что всё потеряно, он переметнулся на другую сторону. Если после этого он демонстрировал свой энтузиазм, то только потому, что надеялся, что его поведение полностью окупится. После своего знаменитого обращения к армии Ней написал Наполеону, что то, что он делал, совершалось им главным образом во имя благополучия страны и что, поскольку впредь он лишится расположения императора, он просит, чтобы император
разрешил ему уйти в отставку. Наполеон направил записку, в которой предложил Нею приехать к нему, и добавил при этом, что он примет его так, как принял его на следующий день после сражения под Москвой. Ней приехал к Наполеону и заявил, что после всего, что случилось в Фонтенбло, он понимает, что у имепратора возникли понятные сомнения в отношении его преданности и верности, поэтому он просит чести быть всего лишь рядовым гренадёром
императорской гвардии. Вместо ответа император протянул ему руку и назвал его, как раньше, храбрейшим из храбрых.
Император сравнивал положение Нея с положением Тюренна. Нея можно было защитить, тогда как поступок Тюренна оправдать невозможно. И тем не менее Тюренн был помилован и осыпан почестями, в то время как Ней, вероятно, обречён на смерть.
«В 1649 году, — рассказал император, — Тюренн командовал королевской армией. Это командование было возложено на него Анной Австрийской, регентшей французского королевства. Хотя Тюренн присягал на верность Анне Австрийской, он, однако, подкупил своих солдат, объявил себя сторонником Фронды и двинулся на Париж. Когда его позже признали виновным в тягчайшей измене, то его раскаявшаяся армия отказалась от него. Чтобы избежать судебного преследования, Тюренн нашёл пристанище у принца Гессенского. Ней, наоборот, был вынужден покинуть короля под влиянием единого порыва армии, вставшей на сторону Наполеона. Прошло только девять месяцев с тех пор, как Ней признал короля, который вступил в Париж впереди шестисот тысяч иностранных штыков, — монарха, который не принял конституцию, представленную ему Сенатом в качестве официального и необходимого
272
условия его возвращения во Францию, монарха, который, объявив, что он правит страной уже на протяжении девятнадцати лет, тем самым доказал, что рассматривает все предшествовавшие правительства как незаконные. Ней, воспитание которого научило его уважать национальный суверенитет, сражался во имя этого суверенитета на протяжении двадцати пяти лет; начав служить в армии рядовым солдатом, он вырос до звания маршала. Если его поведение не было достойным, то, по крайней мере, оно было объяснимым и в некотором отношении простительным; но Тюренн был явным преступником, потому что Фронда была союзником Испании, которая тогда находилась в состоянии войны с монархом Франции, и потому что он руководствовался личными интересами и интересами своей семьи в ущерб собственной стране».
Переезд в Лонгвуд — Описание дороги — Вступление во владение домом — Приём императором первой ванны в Лонгвуде
10 декабря 1815 года
Император распорядился, чтобы я посетил его около девяти часов утра для совместной прогулки в саду. Он был вынужден покинуть свою комнату очень рано, так как всю его мебель необходимо было в это утро перевезти в Лонгвуд. Когда мы вошли в сад, он попросил пригласить господина Балькомба, нашего хозяина. Затем
273
император заказал в беседку завтрак и пригласил Балькомба позавтракать с ним. Пребывая в хорошем настроении, император очень оживлённо беседовал с господином Балькомбом.
Около двух часов дня доложили о приезде адмирала; он появился с несколько растерянным видом. То обращение, которому император подвергался во время проживания во флигеле коттеджа «Бриары», и те ограничения, которые были введены для членов свиты императора, проживавших в городе, вызвали определённую холодность в отношениях между Наполеоном и адмиралом; тем не менее император в это утро вёл себя с адмиралом так, словно они познакомились друг с другом только вчера.
Наконец мы покинули «Бриары» и отправились в Лонгвуд. Император ехал верхом на лошади, которую привезли для него с мыса Доброй Надежды. Ранее он не видел эту лошадь — небольшую, бойкую и довольно послушную. На императоре был мундир гвардейских егерей, его изящная фигура и красивое лицо производили на всех сильное впечатление. Его появление на дороге в Лонгвуд привлекло всеобщее внимание, и мне было приятно слышать высказывания по этому поводу. Адмирал был очень внимателен к императору. На дороге собралось много народу, чтобы увидеть, как он проезжает. Эскорт императора состоял из членов его свиты и нескольких английских офицеров.
Дорога из «Бриаров» в Лонгвуд вначале тянется в направлении города, затем неожиданно сворачивает направо и после трёх или четырёх поворотов выходит к цепи гор, возвышающихся по одну
сторону долины. Далее дорога по отлогому подъёму ведёт к плато, с которого открывается прекрасный вид на окружающую местность. Позади себя мы оставили цепь бесплодных гор и скал, которыми отличается часть острова, пригодная для высадки с моря, а перед собой мы увидели группу высоких гор. Самая высокая из них именуется Пиком Дианы, — это основа, или центр, всей окружающей её панорамы. Слева, с восточный стороны, где находится Лонгвуд, горизонт ограничен неровной цепью скал, образующих контур острова. В этом месте почва представляет собой нетронутую никем и ничем, застывшую пустыню, но зато с правой стороны виден приятный пейзаж со следами растительности на сильнопересечённой местности: на ней тут и там видны сельские дома и коттеджи с довольно неплохо обработанной землёй. На этой стороне острова, следует признать, вся картина местности представляется романтичной и приятной.
С плато, налево от дороги, которая находится в хорошем состоянии, открывается вид на довольно глубокую долину, и двумя милями далее, в том месте, где дорога образует угол, стоит коттедж «Ворота Хатта», жалкий домик, который был выбран в качестве резиденции гофмаршала и его семьи. На небольшом расстоянии от этого коттеджа долина слева постепенно углубляется, образуя кругообразную пропасть, которая из-за своих размеров и глубины получила название Впадина Дьявола. Справа от дороги в этом месте находится возвышенность, вдоль которой дорога петляет над пропастью, пока не поворачивает в сторону Лонгвуда, до которого рукой подать.
У въезда в Лонгвуд мы увидели часовых под ружьём, которые оказали предписанные почести августейшему пленнику. Императорская лошадь, не привыкшая к демонстрациям подобного рода, пришла в состояние возбуждения и перестала слушаться своего всадника. Когда же раздался грохот барабанов, то животное испугалось и отказалось въезжать в ворота. Только пришпорив лошадь, императору удалось заставить животное въехать во двор поместья Лонгвуд. В эту минуту я обратил внимание на то, как многозначительно переглядывались между собой лица, составлявшие эскорт императора. Мы въехали в нашу новую резиденцию примерно в четыре часа дня.
Адмирал приложил максимум усилий, чтобы подробнейшим образом ознакомить нас с Лонгвудом. Он непосредственно руководил всеми работами по ремонту дома и даже делал некоторые вещи собственными руками. Император высказал своё удовлетворение по поводу всего, что ему показывали, и адмирал явно был очень рад. Он, очевидно, ожидал, что император выразит неудовольствие увиденным и отнесётся с презрением к своему новому жилищу, но император проявил во время осмотра дома полную доброжелательность.
Попрощавшись со всеми в шесть часов вечера, император кивком пригласил меня последовать за ним в его комнату. Там он осмотрел все предметы мебели и поинтересовался у меня, обеспечен ли я мебелью. Получив отрицательный ответ, он стал настаивать на том, чтобы я взял часть его мебели себе; проявляя заботливость по отношению ко мне, он сказал мягким тоном: «Возьмите себе необходимую вам мебель, мне самому ничего не надо: обо мне будут заботиться лучше, чем о вас». Император чувствовал себя очень уставшим и спросил, заметно ли это. Его усталость была следствием того, что в течение прошедших пяти месяцев он не испытывал больших физических нагрузок. Сегодня же утром он слишком много гулял и, кроме того, несколько миль проехал верхом на лошади.
Наша новая резиденция обеспечена ванной комнатой, которую плотники, по приказу адмирала, постарались оборудовать как можно лучше. Император с тех пор, как покинул Мальмезон, вынужден был обходиться без приёма ванны, которая для него является одной из жизненных потребностей. Он выразил желание немедленно принять ванну и попросил меня на это время остаться с ним. Во время приёма ванны император вновь вернулся к обсуждению самых незначительных проблем нашего обустройства на новом месте; и так как комната, которая была предназначена для меня, оказалась очень плохой и тесной, император высказал пожелание, чтобы днём я занимал комнату, которую он называет своим картографическим кабинетом, поскольку в ней собраны карты. Как заявил император, он хотел бы, чтобы я находился вблизи от него, а этот кабинет
276
непосредственно примыкает к его апартаментам. Меня весьма растрогала та забота, с которой он высказал своё пожелание. В своей доброте император зашёл настолько далеко, что несколько раз повторил, что на следующее утро я должен воспользоваться его ванной; и когда я отказался от этого на том основании, что в наших отношениях, в силу моего уважения к нему и из соображений этикета, должна соблюдаться определённая дистанция, он зажил: «Мой дорогой Лас-Каз, товарищи по плену должны приспосабливаться друг к другу. Я не собираюсь пользоваться ванной в течение всего дня. Кроме того, вам она не менее необходима, чем мне».
Возможно, император хотел этим вознаградить меня за ту потерю, которую мне предстоит понести в связи с тем, что я более не буду единственной персоной при его особе. Это правда, что его доброта радует меня, но она также вызвает чувство сожаления. Доброта императора, несомненно, является наградой за моё усердие и за моё внимание к нему во время пребывания в «Бриарах», но она также даёт мне повод предвидеть окончание того постоянного общения с ним, которому я обязан из-за нашей абсолютной изоляции во флигеле.
После приёма ванны император не пожелал вновь одеваться. Он распорядился, чтобы обед ему сервировали в его комнате, и попросил, чтобы я остался с ним.
Описание Лонгвуда
11 — 14 декабря 1815 года
Итак, перед нами открылась новая страница в книге нашего существования на жалкой скале Святой Елены. Мы обосновались в новом жилище, и границы нашей тюрьмы теперь определены.
277
Лонгвуд, который первоначально был всего лишь жилым домом на ферме Восточно-Индийской компании и который потом передали вице-губернатору острова в качестве его загородной летней резиденции, расположен в самой высокой части острова. Разница температур воздуха в этом месте и в Джеймстауне, где мы высадились, — не более десяти градусов по английскому термометру. Лонгвуд расположен на довольно обширном плато на восточной стороне острова, недалеко от берега океана. Постоянные и часто сильные ветры, всегда дующие в одну и ту же сторону, выметают грунт с поверхности земли. Солнце, хотя и появляется редко, тем не менее оказывает влияние на климат, который имеет свойство вызывать заболевания печени, если не принимать соответствующих мер предосторожности. Сильные и внезапные ливни не дают возможности точно определить, какое сейчас время года. В Лонгвуде нет регулярной смены времён года: весь год представляет собой длительный период ветров, облаков и дождей, а температура воздуха характеризует тот умеренный и однообразный климат, который, я думаю, скорее способствует усилению состояния тоски, чем развитию болезни. Несмотря на обилие дождей, трава здесь быстро исчезает: её вырывает из почвы сильнейший ветер или сжигает жара. Вода, подаваемая в Лонгвуд трубопроводом, настолько вредна, что вице-губернатор острова, когда он проживал в Лонгвуде, никогда не использовал её без кипячения, и мы вынуждены делать то же самое. Деревья, которые издали придают жизнерадостный оттенок всему пейзажу, оказываются всего лишь низкорослыми эвкалиптами — жалкой разновидностью крупного кустарника, неспособного дать тень. С одной стороны горизонт ограничен безбрежным океаном, весь остальной пейзаж представляет собой лишь массу громадных голых скал, глубоких ущелий и пустынных долин, а вдали виднеется зелёная, вся в тумане, гряда гор, над которыми возвышается Пик Дианы.
Другими словами, Лонгвуд может радовать только после утомительного и продолжительного путешествия, когда сам вид любой земли улучшает настроение. Прибыв на остров в один из прекрасных дней, путешественник, вероятно, может быть поражён своеобразием представившейся его взору картины, которая в состоянии вызвать восклицание: «Как красиво!» Путешественник приедет и уедет, но какую боль причиняет его опрометчивый восторг несчастным пленникам, которые обречены проводить свою жизнь на острове Святой Елены!
В течение двух месяцев рабочие были постоянно заняты подготовкой Лонгвуда к нашему приёму, однако результаты их работы
278
вполне незначительны. Входом в дом служит только что пристроенный к зданию холл, который должен использоваться в качестве и прихожей, и столовой. Этот холл ведёт в другую комнату, ставшую гостиной. Позади гостиной находится очень тёмная третья комната. Сначала предполагалось, что она будет служить складом географических карт и книг императора, но впоследствии она стала столовой. Справа находится дверь в комнату императора, которая разделена на две части: одна из них служит кабинетом, а другая — спальней. Небольшая галерея, пристроенная к комнате императора, превращена в его ванную комнату. Напротив комнаты императора, в противоположном конце здания, находятся апартаменты госпожи де Монтолон, её мужа и их сына; эти апартаменты впоследствии использовались в качестве библиотеки императора. Отдельная от этой части дома маленькая квадратная комната на цокольном этаже прилегает к кухне. Эта комната предназначена мне, прежде она была кладовкой для овощей, и в ней нет места для кровати моего сына. Окна в нашем доме без штор, а кровати — без покрывал. Несколько предметов мебели, находящихся в наших комнатах, явно были приобретены у жителей острова, которые, несомненно, охотно воспользовались возможностью избавиться от них, чтобы потом купить себе гораздо лучшую мебель.
Гофмаршал Бертран с женой и детьми поселились в двух милях от Лонгвуда в скромном доме, называемом «Ворота Хатта». Генерал
Гурго и доктор О’Мира (врач с «Нортумберленда»), а также офицер, командующий нашей охраной, спят в палатках рядом с домом, дожидаясь того времени, когда для них будут готовы комнаты в пристройке дома, которую в спешном порядке возводят матросы из команды корабля «Нортумберленд».
Наш дом окружён неким подобием сада, но из-за того, что мы не можем уделять должного внимания его культивированию, а также из-за нехватки воды и особенностей местного климата его можно назвать садом лишь формально. Перед домом, за разделяющим нас довольно глубоким оврагом, находится лагерь 53-го английского пехотного полка, посты которого расставлены на близлежащих высотах. Таково наше новое пристанище.
Двенадцатого декабря императору нанёс визит полковник Уилкс (ранее он был управляющим островом от Восточно-Индийской компании), преемником которого стал адмирал. Во время их беседы я выступал в качестве переводчика.
На следующий день корабль «Минден» отплыл в Европу, и я воспользовался этой возможностью, чтобы отправить письма в Лондон и Париж.
Организация работы в резиденции императора — Отношения между членами его свиты — Черты характера императора — Аббат де Прадт о Наполеоне
15 — 16 декабря 1815 года
Обслуживающий персонал императора, когда он отплыл из Плимута, состоял из одиннадцати человек. Мне доставляет удовольствие назвать их здесь поимённо: это будет служить свидетельством их преданности императору*. Персонал этот может показаться
* Лица, составляющие обслуживающий персонал императора
ОБСЛУГА АПАРТАМЕНТОВ ИМПЕРАТОРА
Маршан уроженец Парижа первый камердинер
Сен-Дени, он же Али уроженец Версаля камердинер
Новерраз швейцарец камердинер
Сантини корсиканец швейцар
ЛИВРЕЙНЫЕ ЛАКЕИ
Аршамбо, старший уроженец Фонтенбло конюх
Аршамбо, младший уроженец Фонтенбло конюх
Жентилини уроженец Эльбы посыльный
280
многочисленным, но после нашего отплытия от берегов Англии, и особенно с момента высадки на острове Святой Елены, он перестал быть полезным императору. Наше рассредоточение, неясность нашего положения, нехватка продовольствия и перебои в его доставке — всё это неизбежно порождало беспорядок.
Как только мы все собрались в Лонгвуде, император принял твёрдое решение навести порядок в резиденции и дать нам поручения, которые бы наилучшим образом соответствовали компетенции каждого члена свиты. За гофмаршалом Бертраном было закреплено общее руководство и контроль над ведением всех дел резиденции, господину Монтолону было поручено руководить всеми хозяйственными делами, господин Гурго был поставлен во главе конюшни императора, а я был обязан заботиться об имуществе и мебели, а также заниматься вопросами поставки продовольствия в резиденцию. Последняя из двух моих обязанностей, как мне показалось, слишком мешала надлежащему руководству хозяйственными делами резиденции, и я посчитал, что эти две обязанности должны выполняться одним лицом; вскоре мне удалось убедить в этом императора.
Все дела теперь велись довольно хорошо, и мы чувствовали себя более спокойно, чем раньше. Но какими бы ни были разумными правила, установленные императором, они, тем не менее, посеяли зёрна недовольства, которые пустили корни, что время от времени давало о себе знать. Один считал себя неудачником в распределении обязанностей; другой, наоборот, придавал слишком большое значение тому, чем он занимается; третий думал, что его вообще обошли при этом распределении. Мы более не были членами одной семьи, и каждый прилагал все усилия, чтобы получить для себя выгоду. Мы не были готовы вести себя так, как нам диктовала необходимость, и остатки роскоши и амбиций часто становились предметами ссоры.
Хотя преданность особе императора объединяла нас вокруг него, наша связь друг с другом была чисто случайной, она не была результатом какой-либо естественной близости или взаимного чувства симпатии. Таким образом, в Лонгвуде мы все объединились вокруг одного центра, но без какой-либо сплочённости друг с другом. И разве могло быть иначе? Все мы были друг для друга почти
ОБСЛУГА СТОЛА ИМПЕРАТОРА
Киприани уроженец Корсики, метрдотель
умер на острове Святой Елены
Пьеррон уроженец Парижа виночерпий
Лепаж повар
Руссо уроженец Фонтенбло стюард
чужими, и, к сожалению, наше различное общественное положение, разница в возрасте и в характерах только усугубляли взаимную отчуждённость.
Эти обстоятельства, по своей сути пустяковые, тем не менее досадным образом лишали нас возможности проявлять наши лучшие побуждения. Они встали на пути доверительности в отношениях между нами, на пути тех взаимных чувств и полного согласия во всём, одним словом, всего того, что способно смягчить даже самые жестокие превратности судьбы. Но, с другой стороны, именно эти обстоятельства помогли выявить многие прекрасные черты характера императора. Они давали о себе знать в его попытках способствовать единству и общему согласию, в его постоянном стремлении не давать повода для малейшего проявления ревности, в его умышленном пребывании в состоянии отвлечённого раздумья, благодаря которому он намеренно не обращал внимания на то, чего не хотел замечать, и, наконец, в его отеческом выражении чувства недовольства, причиной которого мы время от времени становились и которое мы, по мере наших возможностей, старались (отдадим должное) не вызывать у него, но, когда это нам не удавалось, мы смиренно выслушивали его замечания, словно они исходили с трона в Тюильри.
Кто во всём мире может сегодня претендовать на то, что лучше меня знает характер императора как человека? Кто ещё был вместе с ним в течение двух месяцев его изоляции в глуши поместья «Бри- ары»? Кто ещё сопровождал его в прогулках при лунном свете и разделял его общество в течение столь многих часов? Кто, подобно мне, имел возможность выбирать время, место и темы его бесед? Кто, помимо меня, слушал его воспоминания об очаровательных днях его детства, об удовольствиях его юности и о горечи его нынешних бед? Я уверен, что до мелочей знаю его характер и могу теперь объяснить многие обстоятельства, связанные с ним, которые в то время, когда они происходили, многим казались необъяснимыми. Теперь я могу легко понять всё то, что поражало нас с такой силой и что было особенно характерно для него во времена его наивысшей власти, — никто никогда не вызывал у Наполеона чувства постоянного недовольства. Какой бы сильной ни была опала, которой кто-либо подвергался со стороны императора, он всё же мог с уверенностью надеяться на то, что вновь восстановит добрые отношения с императором. Те, кто когда-либо поддерживали близкие отношения с ним, а потом наносили ему обиду, какой бы ни была её причина, никогда полностью не теряли его уважения.
Император от природы наделён двумя прекрасными качествами — большим запасом справедливости и естественной склонностью к привязанности, и я расцениваю это как высший дар. При всех его
282
приступах раздражительности и гнева чувство справедливости всегда остаётся у него главенствующим. Он всегда готов выслушать здравые доводы в дискуссии и, в свою очередь, открыто использует их, когда вспоминает о них. Он никогда не забывает оказанных ему услуг. Рано или поздно, но он обязательно вспоминает о тех, кто вызвал у него недовольство; он размышляет над тем, каким они подвергались страданиям, не было ли их наказание чрезмерным, и возвращает их тогда, когда они, возможно, уже забыты всем миром, и они вновь пользуются его благосклонностью, к удивлению их самих и всех остальных. Таких примеров было много. Император искренен в своих привязанностях, но не демонстрирует при этом свои чувства. Когда он привыкает к человеку, то ему с трудом даётся разрыв с ним. Он видит и осуждает свои недостатки, выражает недовольство своей несдержанностью, порицает собственный выбор приближённых, но всё же оснований для серьёзных опасений нет: ведь существует много других возможностей для того, чтобы вернуть его расположение.
Возможно, вызовет удивление, что я так незатейливо описал в общих чертах характер императора. Всё то, что обычно пишется о нём, столь приукрашено и надуманно: считалось необходимым использовать резкие контрасты, яркие краски, напыщенные фразы, стремиться к эффекту и заставлять усиленно работать воображение. Что же касается меня, — я всего лишь описываю то, что вижу, и выражаю то, что чувствую. Впрочем, подобное восприятие действительности приходит постепенно.
Сегодня император читал о себе в английской газете. Автор статьи, архиепископ Малинский, допустил в ней бесчисленные колкости и использовал резкие контрасты. Император попросил гофмаршала переписать эту статью слово в слово.
Основные положения этой статьи следующие. Наполеон, утверждает аббат де Прадт (т.е. архиепископ Малинский) в своей статье «Посольство в Варшаве в 1812 году», «обладает огромным умом, но в нём много от уроженцев Востока, и из-за его противоречивого нрава он растрачивает свой глубокий ум на малосущественные мелочи. Первоначальная мысль Наполеона всегда величественна, но следующая — посредственна и незначительна. Его ум подобен его кошельку: щедрость и скупость определяются состоянием его финансов. Его гений, заслуживший признание на всемирной сцене, но легко прижившийся и на подмостках, на которых даёт представления шарлатан, напоминает королевскую мантию, наброшенную на куртку паяца. Он человек крайностей; однажды заставив Альпы склонить перед ним свои вершины, перевал Симплон — сгладить свою шероховатую поверхность, а моря — отступить от берегов, этот человек
283
кончил тем, что сдался английскому крейсеру. Одарённый удивительной, безграничной проницательностью и блестящим остроумием, в любом вопросе он обнаруживал и создавал новые, ранее неизвестные связи; он использовал в своей речи полные жизни красочные образы, прибегая к живым и точным характеристикам и выражениям, ещё более выигрышным из-за неправильного языка, который всегда выдавал в нём иностранца. Склонный к софистике, утончённости, непостоянству и к излишеству, он придерживался мировоззрения, отличающегося от мировоззрения других людей. Добавьте к этому головокружение от успеха, привычку пить из волшебной чаши и отравлять себя всеобщей лестью — и вы составите себе представление о человеке, который объединил в себе, в силу собственного каприза, всё то, что является возвышенным и низким в человеческом характере, величественном в блеске верховной власти, способном решительно управлять всем тем, что является низменным и подлым, даже в его грандиозных успехах, достигнутых как устройством вероломных засад, так и мощью, ниспровергавшей троны; и, соединив всё это вместе, мы получим некоего Юпитера-Скапена — существо, которого никогда ранее не было на жизненной сцене».
Конечно, этой статье не откажешь в остроумии, — его там предостаточно, хотя оно несколько вымученно. Я оставляю без внимания общую некорректность поступка и тот постыдный факт, что прелат, в изобилии получавший милости от монарха, которого он обхаживал самым усердным образом и которому он униженно льстил, теперь, когда этот монарх попал в беду, позволил себе удовольствие прибегнуть к тривиальным, абсурдным и оскорбительным выражениям, процитированным выше. Оставив в стороне куртку паяца и Юпитера-Скапена, я задержусь лишь на высказываниях аббата де Прадга, заслуживающих внимания, когда он говорит: «Первоначальная мысль Наполеона всегда величественна, но следующая — посредственна и незначительна... Он человек крайностей; однажды заставив Альпы склонить перед ним свои вершины, перевал Симплон — сгладить свою шероховатую поверхность, а моря — отступить от берегов, этот человек кончил тем, что сдался английскому крейсеру».
Аббат де Прадт имеет слабое представление о величественности, благородстве и великодушии этого замечательного поступка. Удалиться от народа, введённого в заблуждение вероломными интриганами, чтобы устранить все препятствия на пути к его благосостоянию, пожертвовать личными интересами ради того, чтобы избежать бедствий гражданской войны, не обещавшей никаких благ для народа, пренебречь почётными и безопасными, но зависимыми убежищами, предпочесть пристанище среди народа, для которого он на протяжении двадцати лет был закоренелым врагом, предположить, что
284
великодушие этого народа равно его собственному великодушию, чтить законы этого народа до такой степени, чтобы поверить, что они защитят его от остракизма всей Европы, — несомненно, что подобные идеи и чувства не противоречат понятиям величественности, благородства и великодушия.
В этой части моего дневника было несколько страниц, содержавших описание весьма компрометирующих епископа Малинского подробностей, которые я услышал из собственных уст императора и узнал от различных лиц из окружения Наполеона. Я, однако, зачеркнул эти страницы, учитывая то удовлетворение, которое, как мне сообщили, испытал император, пролистав «Конкордат» господина де Прадта. Что же касается меня, то мои сомнения в отношении Прадта полностью развеяны многими другими свидетельствами. Достойное и сознательное «да» в тысячу раз лучше, чем разные «нет», нагромождённые одно на другое. Есть люди, которые сполна платят за искупление и должны расплачиваться полностью, я — один из них.
Как раз тогда, когда я писал предыдущий абзац, мне довелось прочитать несколько строк, вышедших из-под пера аббата де Прадта, которые, безусловно, замечательны с точки зрения стиля выражения мыслей; но они ещё более прекрасны, учитывая их справедливость и правду. Не могу удержаться и переписываю их в мой дневник, поскольку они полностью заглаживают вину за то, что я уже процитировал. Декларация союзных монархов в Лайбахе, в которой Наполеон был объявлен, тоном осуждения, представителем революции, вызвала следующие замечания епископа Малинского:
«Тем, кто в течение столь многих лет пресмыкался у ног Наполеона, теперь слишком поздно подвергать его оскорблениям, когда он беззащитен и лишён верховной власти, чтобы наказывать... Те, кто вооружён, должны уважать безоружного врага. Слава победителя в большей степени зависит от того уважения, которое он оказывает пленнику, особенно тогда, когда последний уступает противнику, превосходящему его в силе, а не в гениальности. Слишком поздно называть Наполеона революционером, после того как в течение длительного времени его называли реставратором порядка во Франции и, тем самым, в Европе. Слишком поздно метать стрелы оскорблений в адрес Наполеона тем, кто когда-то протягивал ему РУку дружбы, давал ему торжественное обещание быть его верным союзником и стремился поддержать свой шатающийся трон за счёт смешения своей крови с его кровью».
Далее Прадт говорит: «Он — представитель революции! Революция разбила цепи союза между Францией и Римом, — Наполеон обновил этот союз. Революция разрушила храмы Всемогущего, — он восстановил их. Революция разделила ранее единое духовенство
285
на две враждующие стороны, — он примирил их. Революция осквернила Сен-Дени, — Наполеон привёл в порядок аббатство и, очистив его, искупил совершённый грех во имя праха усопших королей. Революция ниспровергла трон, — он восстановил его и придал ему новый блеск. Революция изгнала из страны аристократию Франции, — он открыл для неё ворота Франции и своего дворца, хотя знал, что её представители были его непримиримыми врагами и в большинстве своём были врагами общественных институтов; он вновь объединил их с обществом, от которого они были отторгнуты. Этот представитель революции, заклеймённый эпитетом “антиобщественное явление”, привёз из Рима главу католической церкви, чтобы совершить помазание своего чела елеем, который освятил монаршую власть! Этот представитель революции, объявленный противником монаршей власти, наводнил Германию королями, повысил ранг герцогов и принцев, восстановил верховную королевскую власть и воссоздал исковерканную модель монархии. Этот представитель революции, обвинённый в пособничестве анархии, подобно новому Юстиниану воссоздал в условиях громыхавшей войны и острого противоборства хитроумных приёмов внешней политики те законы, которые являются основами человечного законодательства, и создал самый мощный правительственный орган во всём мире. Этот представитель революции, грубо обвинённый в разрушении всех общественных учреждений, восстановил университеты и общественные школы, украсил империю шедеврами искусства и совершил те потрясающие и изумительные деяния, которые делают честь человеческому гению, — об этом свидетельствуют Альпы, склонившие перед ним свои вершины, океан, уступивший ему в Шербуре, во Флюшинге, на реке Хельдер и в Антверпене, реки, плавно текущие под мостами Йены, Серре, Бордо и Турина, каналы, соединившие моря и освобождённые от контроля Нептуна, и, наконец, сам Париж, видоизменённый Наполеоном, — может ли он после всего этого называться представителем всеобщего разрушения?»
Моё положение улучшается
17 декабря 1815 года
Император вызвал меня в два часа дня, когда стал одеваться. При моём появлении он обратил внимание, что я выгляжу бледным. Я ответил, что мой вид — результат состояния воздуха в моей комнате, которая из-за непосредственного соседства с кухней наполнена дымом, и в ней душно, как в настоящей печи. Император
286
тут же высказал пожелание, чтобы я немедленно занял комнату с географическими картами, где днём мог бы писать, а ночью спать в кровати, которую адмирал прислал для самого императора. Наполеон заявил, что он не пользуется этой кроватью, так как предпочитает спать в своей походной кровати. Когда он кончил одеваться и стал выбирать для себя одну из трёх табакерок, лежавших перед ним на столе, то неожиданно дал одну из них камердинеру Марша- ну, сказав при этом: «Отложите эту табакерку подальше, она всегда попадается мне на глаза, и мне больно смотреть на неё». Я не знаю, что изображено на той табакерке, но предполагаю, что это портрет Римского короля.
Император покинул свою комнату, и я последовал за ним; мы обошли весь дом и зашли в мою комнату. Увидев трюмо, император поинтересовался, не то ли это трюмо, которое он мне дал. Затем, приложив руку к стене, нагретой из-за соседства с кухней, он вновь заявил, что мне нельзя оставаться в этой комнате, и самым настоятельным образом потребовал, чтобы я занял его кровать в комнате для географических карт, добавив при этом доброжелательным, но решительным тоном, что «эта кровать предназначена для его друга».
Мы вышли из дома и направились в сторону фермы, которая виднелась вдали и имела жалкий вид. По пути мы увидели бараки
287
китайских рабочих. Этих китайцев привозили на английских кораблях из Макао для работы на острове Святой Елены в течение нескольких лет, по найму Восточно-Индийской компании, после чего их отвозили на родину с небольшим заработком. Подобной работой по найму заняты жители Оверни во Франции. Мы хотели поговорить с этими китайцами, но они нас не понимали. Потом мы посетили то место, которое зовётся фермой Лонгвуда; императора заинтересовало это название. Он ожидал обнаружить одну из очаровательных ферм Фландрии или Англии, но она была не лучше самого захудалого французского хутора. После этого мы спустились в сад Восточно-Индийской компании, разбитый во впадине, которая образовалась в месте пересечения двух оврагов. Император подозвал к себе садовника, одновременно присматривающего за стадом коров и за китайскими рабочими, и задал ему много вопросов. Наконец он вернулся домой, очень устав, хотя прошёл всего одну милю, — это была его первая экскурсия.
Перед обедом император вызвал меня с сыном, чтобы заняться обычной работой. Он заявил, что я бездельничал, и при этом обратил моё внимание на моего сына, который смеялся за спиной. Император спросил, почему он смеётся. Я объяснил, что, вероятно, потому, что Его Величество мстит мне за моего сына. «А! — воскликнул император, улыбаясь. — Понимаю, я сейчас выступаю в роли дедушки».
Привычки и расписание дня императора — Записки императора — Принципы, которых он придерживался в отношении полиции — Перлюстрация писем
18—19 декабря 1815 года
Постепенно привычки и расписание дня императора стали принимать установленный и регулярный характер. Около десяти часов утра император завтракает в своей комнате вместе с одним из членов свиты. Примерно в тот же самый час завтракают за общим столом в резиденции и остальные члены императорской свиты. Наполеон разрешил нам пользоваться этим столом по нашему желанию и приглашать к нему любого гостя, которому мы посчитаем нужным оказать эту честь.
Часы прогулок императора ещё неточно определены. Днём стоит сильная жара, а с наступлением вечера воздух быстро становится чрезвычайно влажным. Некоторое время назад нам сообщили, что высылают лошадей для кареты и для верховой езды, но к обещанному сроку мы их не получили. В течение дня император занимается
288
Беседка, в которой Император часто завтракает или диктует днём, если стоит хорошая погода
План Лонгвуда
Нарисован младшим Лас- Казом для своей матери
10
Аныийские футы 20 30
Французские футы
40
Метры
10
Апартаменты гофмаршала Бертрана расположены в 400 ярдах от Лонгвуда
206 французских футов
<
A. Спальня Императора.
a. Походная кровать, на которой спит Император.
b. Канапе, на котором Император проводит большую часть дня, повернувшись к камину.
c. Маленький стол, за которым Императору подают завтрак. Наполеон часто приглашает моего отца присоединиться к нему, особенно во время уроков английского языка.
d. Секретер между двух окон.
e. Камин, над которым висят два портрета Императрицы, пять портретов Римского короля, один из которых вышит Марией Луизой, а также его маленький бюст.
f. Большой умывальник, привезённый из Елисейского дворца.
B. Кабинет.
g. Книжные полки.
h. Вторая походная кровать. Если Император долго не может заснуть, то он уходит спать сюда.
\. Стол, за которым Иператор пишет. 1 — стул Императора, 2 — стул моего отца, 3 — мой; здесь Император диктует нам хронику Итальянских кампаний, каждый из нас отвечает за свою часть работы и имеет свои часы аудиенции.
C. Чулан, за который отвечает камердинер.
j. Ванна, которую Император пропускает только в условиях острой нехватки воды.
►
D. Столовая *. 1 — место Императора, 2 — моего отца, 3 — моё, 4 — Монто- лона, 5 — Гурго, 6 — мадам Монтолон. Ераф и графиня Бертран живут на некотором расстоянии от Лонгвуда и приходят обедать только по воскресеньям. После обеда, который всегда занимает от 15 до 18 минут, Император отпускает всех слуг, причём, упражняясь, отдаёт распоряжения по-английски. Затем он обычно обращается к нам с вопросом: не желаем ли мы посетить театр, — после чего я отправляюсь в библиотеку за книгой и Император читает нам вслух. Обычно выбирается книга одного из великих авторов: Корнеля, Расина или Мольера; когда чтение заканчивается, он уходит к себе в спальню. Если ему удаётся читать до 9 или даже 12 часов ночи, то он считает день удачным и называет это победой над временем.
E. Спальня моего отца. 1 — его кровать, 2 — моя. Комната настолько крошечная, что кроме кроватей там с трудом помещаются два стула.
F. Наш кабинет. 1 — рабочее место отца, 2 — мой стол, за которым я пишу тебе, матушка, 3 — стол Али, камердинера Наполеона, который помогает отцу расшифровывать записи, 4 — канапе, на котором отец лежит большую часть дня. Эти комнаты такие низкие, что если выпрямиться, то можно руками достать до потолка, они оклеены толем. Когда светит яркое солнце, мы почти задыхаемся, когда идёт дождь — мы практически тонем. Как же часто мы выходим отсюда в поздний час с мыслями о тебе, моя дорогая матушка!
К. Мсыенький стол, за которым Император часто играет в шахматы перед обедом.
* Использовалась также как картографический кабинет.
тем, что диктует свои воспоминания поочерёдно различным членам свиты. Для меня он определил время до обеда, который подаётся между восемью и девятью часами вечера. Император требует, чтобы я являлся к нему около пяти или шести часов вечера вместе с сыном. Из-за плохого состояния моего зрения я не могу ни писать, ни читать, но мой сын вполне способен заменять меня. Он пишет под диктовку императора, а я присутствую только для того, чтобы потом помочь сыну разбирать торопливо нанесённые на бумагу его каракули, поскольку, в силу развившегося у меня навыка, я могу повторить почти буквально и без пропуска всё то, что диктует император.
Воспоминания о кампании в Италии уже продиктованы, и император корректирует рукопись, диктуя заново. Мы обедаем, как я уже отметил, между восемью и девятью часами вечера; стол накрывается в комнате, ближайшей к холлу. Госпожа де Монтолон сидит справа от императора, я — слева, а напротив нас сидят господа Монтолон, Гурго и мой сын. В этой комнате ещё чувствуется запах краски, особенно в сырую погоду; хотя этот запах слабый, он беспокоит императора, поэтому мы не сидим за столом более десяти минут. Десерт подаётся в соседней комнате, которая считается гостиной. Мы вновь рассаживаемся, но на сей раз вокруг стола. После десерта наступает время кофе и общей беседы. Мы читаем пьесы Мольера, Расина и Вольтера, всегда сожалея, что у нас нет книг Корнеля. Потом мы играем в реверси, любимую карточную игру императора в годы его молодости. Воспоминания, связанные с этой игрой, доставляют ему удовольствие, и он поначалу считал, что сможет долго проводить время за этой игрой, но вскоре понял, что заблуждался. Мы играем в эту игру во всех её вариантах, что делает её настолько сложной, что однажды я видел выложенные на стол примерно восемнадцать тысяч фишек. Император ставит перед собой цель сделать реверси, то есть ни разу не получить ни одной взятки, что весьма трудно. Тем не менее ему это иногда удаётся, — его характер проявляется везде и во всём. Мы расходимся по своим комнатам часов в одиннадцать.
Сегодня, 19 декабря, когда я посетил императора, он показал мне английскую клеветническую книгу о нём и попросил меня перевести её вслух. Среди разной чепухи в книге были приведены несколько личных писем, якобы адресованных Наполеоном императрице Жозефине, в которых он использовал официальное обращение «госпожа и дорогая супруга». Ещё в книге упоминались шпионы и агенты, через которых император узнавал о личных делах каждой знатной семьи Франции и получал доступ к секретам всех кабинетов министров Европы. Император попросил меня далее не переводить книгу,
289
а отложить её в сторону, сказав при этом: «Это всё слишком глупо». Начнём с того, что Наполеон в личной переписке всегда обращался к императрице Жозефине на «ты», а письма к Марии Луизе начинал словами «моя дорогая маленькая Луиза».
Впервые мне пришлось увидеть скоропись императора в Сен-Клу, после сражения при Фридланде, когда императрица Жозефина заставила нас читать записку, которую она держала в руке и которая, казалось, была написана иероглифами. Записка содержала следующий текст: «Ребята вновь придали блеск моей карьере: победа при Фридланде будет вписана в историю наравне с победами при Маренго, Аустерлице и Йене. Прикажи произвести пушечный салют. Камбасерес опубликует победный бюллетень».
В следующий раз я имел честь видеть записку, написанную императором собственноручно во время заключения Тильзитского договора. Она сообщала следующее: «Королева Пруссии поистине очаровательная женщина. Она любит кокетничать со мной, но не ревнуй: я как клеёнка, с которой всё соскальзывает, не проникая внутрь. Мне слишком дорого обходится любая попытка сыграть роль дамского угодника».
В связи с этим в салоне Жозефины рассказывали следующую историю. Однажды королева Пруссии держала в руке красивую розу, которую император попросил подарить ему. Немного поколебавшись, королева отдала розу Наполеону, сказав при этом: «Почему я с готовностью дарю вам то, что вы просите, в то время как вы остаётесь глухи к моим мольбам?» Королева имела в виду крепость
Магдебург: она безуспешно просила Наполеона уступить её Пруссии. Такова была суть интимных отношений Наполеона с королевой Пруссии, и именно эта беседа была так бесстыдно искажена в некоторых достаточно солидных английских книгах: Наполеон был представлен там наглым и грубым тираном, стремившимся с помощью своего дикого мамелюка овладеть прекрасной королевой на глазах у её несчастного супруга.
Что же касается грандиозной организации, собравшей под своё крыло шпионов и полицию, о чём говорили все, кому не лень, то какое государство в Европе могло похвастаться тем, что у него намного меньше подобного зла, чем у Франции? И какая ещё страна больше, чем Франция, нуждалась в такой организации? Сложившиеся обстоятельства настоятельно требовали её создания. Однако подобные меры, необходимые вообще, хотя, безусловно, и отвратительные по своей сути, рассматривались императором всего лишь в общем плане и всегда только при условии строгого соблюдения его постоянного принципа: чтобы эти меры применялись лишь тогда, когда это абсолютно необходимо. Во время моей работы в Государственном совете я часто слышал, как император делал запросы о применении этих мер, давал указания об их тщательном расследовании, пресекал злоупотребления, стремился устранять отклонения от законности, назначал комитеты Совета для инспектирования тюрем и требовал, чтобы ему представляли доклады о результатах деятельности этих комитетов. Поскольку я сам участвовал в этой работе, то имел возможность наблюдать за нарушением дисциплины и злоупотреблениями низших чинов полиции и одновременно быть свидетелем желания монарха устранить эти нарушения и злоупотребления.
Император пришёл к выводу, что деятельность этой ветви государственной власти в определённой степени противоречит установленным нормам и мнению общества, и поэтому он хотел повысить значение этой деятельности в глазах народа, поставив её под контроль человека, личность и поведение которого безупречны. В 1810 году он вызвал в Фонтенбло государственного советника барона Паскье. Барон был эмигрантом или почти эмигрантом. Его семья, его воспитание в молодости, его прошлые воззрения — всего этого было достаточно для того, чтобы человек, более склонный к подозрительности, чем Наполеон, не доверял ему. Во время беседы император спросил его: «Если бы сейчас граф де Лилль был обнаружен в Париже, а вы бы управляли полицией, вы бы арестовали его?» — «Да, конечно, — ответил государственный советник, — потому что он тем самым нарушил бы наложенный на него запрет и потому что его появление в столице противоречило бы любому существующему
291
закону». — «Если бы вы были одним из членов комитета, назначенного судить его, вы бы признали его виновным?» — «Да, несомненно, ибо законы, которым я дал присягу подчиняться, требовали бы признания его виновным». — «Отлично! — заявил император. — Возвращайтесь в Париж, — я назначаю вас префектом полиции».
Что касается перлюстрации писем во времена правления Наполеона, то, что бы там ни говорили по этому поводу, заявил император, лишь очень небольшое количество писем вскрывалось и прочитывалось. Те письма, которые направлялись частным лицам, большей частью не читали: читать все без исключения письма было бы непосильной задачей. Система перлюстрации писем была приняла скорее для предотвращения, чем для выявления опасной для государства переписки.
На письмах, которые подвергались перлюстрации, невозможно было обнаружить следов вскрытия, настолько эффективно делалась эта работа. «Ещё со времён правления Людовика XIV, — сказал император, — существовало подразделение политической полиции, занимавшееся выявлением переписки с иностранными подданными внутри страны и за её пределами; и начиная с того времени эта работа стала своего рода семейным делом, передаваемым из поколения в поколение, хотя сами эти лица и их профессиональная деятельность оставались для всех полнейшей тайной. Лицам, руководившим этим подразделением политической полиции, предоставлялись большие суммы для обучения в различных столицах Европы. Им были свойственны собственные специфические правила приличия, и они всегда испытывали отвращение к перлюстрации переписки внутри страны между гражданами Франции, однако эти письма тоже находились под их контролем. Как только имя какого-нибудь лица попадало в списки этого подразделения, там сразу же изготовлялась именная гербовая печатка этого лица, и, таким образом, его письма, после их прочтения, запечатывали вновь, не оставляя никаких следов вмешательства. Серьёзные последствия, к которым могли привести подобные письма, и преступления, которые они могли вызвать, налагали огромную ответственность на ведомство генерального почтмейстера и требовали, чтобы его возглавлял человек, обладавший большой осторожностью, здравым смыслом и незаурядным умом». Император высоко ценил господина де Лавалетта за то умение, с которым последний выполнял такие обязанности.
Император не одобрят идею перлюстрации переписки. Что касается дипломатической информации, полученной с её помощью, то он не считал эту информацию достаточно ценной, чтобы оправдать затраченные на эту цель средства: подразделение перлюстрации обходилось государству в 600 000 франков. Что же касается
292
просмотра писем граждан Франции, то он считал, что эта мера приносит больше вреда, чем пользы.
«Редко бывает, — заявил император, — чтобы идеи и планы заговора обсуждались в переписке; что же касается сведений о мнениях отдельных лиц, которые можно узнать из их переписки, то для монарха они скорее могут быть неприятными, чем полезными, особенно если эти лица являются французами. На кого только не заставляют нас жаловаться свойственные нашей нации легкомыслие и изменчивость! Человек, которого я мог чем-то обидеть во время моего утреннего приёма, уже днём напишет, что я — тиран, хотя ещё вчера он осыпал меня чрезмерными похвалами, а завтра, возможно, будет готов отдать свою жизнь за меня. Нарушение тайны личной переписки может поэтому вынудить монарха расстаться со своими лучшими друзьями из-за несправедливо внушённого ему чувства недоверия и предубеждения по отношению к ним. Учтите, что враги, действительно способные совершить зло, всегда достаточно искусны в том, чтобы избежать возможности выдать себя в переписке. Некоторые мои министры были настолько осторожны в этом отношении, что я никогда не мог выявить среди них хотя бы одного моего врага с помощью перлюстрации их писем».
Кажется, я уже упоминал о том, что когда император вернулся с острова Эльба, то в Тюильри были обнаружены многочисленные послания и письма, в которых содержались весьма неблагопристойные высказывания о нём. Император приказал сжечь все эти бумаги. «Они бы составили весьма любопытную коллекцию, — заметил он по этому поводу. — Одно время у меня была мысль опубликовать некоторые из них в “Мониторе”. Они бы обесчестили отдельных личностей, но не преподали бы никакого нового урока для изучения человеческой души: люди всегда остаются людьми!»
Императору далеко не всё было известно о тех мерах, к которым прибегала полиция от его имени в отношении писем и отдельных лиц, — для этого у него не было ни времени, ни возможности. Теперь же он ежедневно узнавал от нас или из памфлетов, попадавших ему в руки, о произведённых в своё время арестах некоторых лиц и о запрещении ряда книг, о чём он ранее никогда не слышал.
Говоря о книгах, которые были запрещены полицией в годы его правления, император заметил, что, имея много свободного времени на острове Эльба, он с интересом читал эти книги и часто не мог понять, что именно заставило полицию запретить их.
Затем он затронул в беседе тему свободы и ограничения прессы. Это, заявил император, вечный вопрос, который, по его признанию, невозможно решить. Трудность, сказал он, состоит не в самом принципе свободы прессы в абстрактном смысле, но в обращении с обвиняемой стороной и в конкретных обстоятельствах применения
293
указанного принципа. Император был бы склонен придерживаться принципа неограниченной свободы. Во время всех наших бесед на острове Святой Елены он постоянно трактовал каждую важную проблему, придерживаясь этой точки зрения и приводя одни и те же аргументы. Таким образом, Наполеон оставался и должен оставаться в глазах грядущих поколений стойким приверженцем либеральных идей; они принадлежали его сердцу, его принципам, его разуму. Если иногда казалось, что его поступки идут вразрез с этими идеями, то это было в тех случаях, когда обстоятельства диктовали ему свои условия. Это подтверждается следующим фактом, которому я сейчас придаю гораздо большее значение, чем тогда, когда впервые узнал о нём.
Однажды во время вечернего приёма в Тюильри Наполеон, беседуя в отдалении от других приглашённых гостей с четырьмя лицами, принадлежащими к императорскому двору, закончил дискуссию по важному политическому вопросу следующими знаменательными словами: «Что касается меня, то я безусловно и вполне естественно выступаю за умеренное правительство. — И, заметив на лице одного из собеседников выражение большого удивления, он продолжал: — Вы не верите мне? Почему же? Может быть, потому, что мои деяния расходятся с моими словами? Но, мой дорогой, как мало вы знаете людей и их поступки! Разве важность и необходимость конкретного момента ничего не значат для вас? Если бы я только на минуту ослабил вожжи правления, то мы бы имели дело с полнейшим беспорядком в стране, — ни вы, ни я, вероятно, более не провели бы и одной ночи в Тюильри».
Первая верховая прогулка императора — Суровые инструкции кабинета министров Англии — Притеснения властей и наши жалобы
20 — 23 декабря 1815 года После завтрака император совершил верховую прогулку. Мы направили лошадей к ферме Лонгвуда и в саду Восточно-Индийской компании встретили местного фермера, работавшего на компанию, который сопровождал нас по всей территории сада. Император подробно расспрашивал его о делах его фермы. Таким же образом он поступал во время своих верховых прогулок или во время охоты в окрестностях Версаля, когда выяснял у местных фермеров их мнение о Государственном совете, чтобы, в свою очередь, высказать Совету точку зрения фермеров.
294
Мы проехали всю территорию Лонгвуда по дорожке, которая шла параллельно долине, пока не обнаружили, что далее нет пути для наших лошадей, и поэтому мы были вынуждены повернуть обратно. Затем мы пересекли небольшую долину, взобрались на вершину плато, где английский пехотный полк разбил свой лагерь, доехали до «Сигнального Холма» и, проехав через него, оказались позади английского лагеря — на дороге, ведущей из Лонгвуда к резиденции госпожи Бертран. Император сначала предложил нанести ей визит, но, проехав половину пути, изменил своё решение, и мы вернулись в Лонгвуд.
Инструкции английского кабинета министров в отношении правил пребывания императора на острове Святой Елены выдержаны в таком постыдно грубом тоне, который в Европе означал бы формальное нарушение закона международных отношений. За столом императора должен постоянно сидеть английский офицер. Эта бессердечная мера, конечно, рассчитана на то, чтобы лишить нас радости дружеского общения. Этот приказ не выполнен только потому, что, если бы его привели в исполнение, император стал бы есть в своей комнате. У меня есть все основания верить тому, что император очень сожалеет, что не поступил подобным образом на борту корабля «Нортумберленд» и согласился сидеть за обеденным столом вместе с англичанами. Английский офицер должен сопровождать императора во время его верховых прогулок; это тоже
295
весьма неприятное обстоятельство, поскольку присутствие английского офицера постоянно напоминает императору о его положении пленника. Однако этот приказ не имеет силы в пределах определённых границ, которые выделены нам, так как император заявил, что в случае исполнения приказа в его полном объёме он вообще откажется от верховых поездок.
В нашем печальном положении каждый день приносит нам новые неприятности: мы постоянно подвергаемся то одному, то другому ограничению, которое представляется тем более жестоким, что мы обречены вечно страдать от него. С нашими болезненно обострёнными чувствами каждая свежая рана ощущается особенно остро, тем более что повод для обоснования очередных притеснений часто выглядит как издевательство. Под окнами комнаты императора и перед нашими дверями поставили часовых, и это сделано, как нам сообщили, ради нашей же безопасности. Нам запретили общаться с местными жителями, и сказали, что это делается для того, чтобы оградить императора от их излишней назойливости. Без конца меняются слова пароля и указания. Мы живём в постоянной растерянности и опасении стать объектом неожиданного оскорбления.
Император, который чувствительно реагирует на подобные вещи, принял решение направить письменный протест адмиралу, используя в качестве посредника господина де Монтолона. Он говорил запальчиво и сделал ряд замечаний, достойных внимания. «Пусть адмирал не думает, — заявил он, — что я собираюсь объясняться с ним по любому из этих вопросов. В том случае, если он явится ко мне завтра, я, несмотря на моё справедливое возмущение, встречу его как всегда сдержанно и с невозмутимым видом. Такое моё поведение будет не проявлением лицемерия с моей стороны, но следствием горького опыта. Я припоминаю, как однажды лорд Витворт распространил по всей Европе отчёт о продолжительной беседе со мной, в котором едва ли хоть одно слово было правдой. Но виной тому был я сам, и этот случай научил меня вести себя в будущем более осторожно».
Наполеон правил достаточно долго, чтобы знать, что он не должен полагаться на благоразумие кого-либо, кто волен заявить, будто бы император сообщил ему то-то и то-то, в то время как сам император не имеет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть сказанное.
«В этом случае хорош любой свидетель. Поэтому необходимо иметь рядом с собой кого-либо, кто смог бы заявить рассказчику, что, приписывая императору такие-то и такие-то слова, он лжёт и что этот свидетель готов вызвать лжеца на дуэль, поскольку сам император не может сделать этого».
Письмо господина де Монтолона было составлено в очень резких выражениях; ответ на это письмо был оскорбительным и грубым:
296
«Такого понятия, как император, на острове Светой Елены не существует; справедливость и сдержанность английского правительства по отношению к своим пленникам будет предметом восхищения в грядущих веках», — и т.д. Доктору О’Мира было поручено устно дополнить это письменное послание сообщениями самого оскорбительного характера: например, выяснить, не желает ли император, чтобы адмирал направил ему различные чрезвычайно гнусные клеветнические статьи и анонимные письма, полученные адмиралом, но адресованные императору, и т.д.
В ту минуту, когда этот ответ был сообщён императору, я работал вместе с ним над его рукописью. Я не мог скрыть своего удивления и возмущения по поводу некоторых выражений в ответном письме адмирала. Но нам пришлось сменить своё возмущение лишь на философские рассуждения. Мы ограничились тем, что, подумав, пришли к выводу: расплата за всё находится за пределами наших возможностей. Направив жалобу английскому принцу-регенту, мы, возможно, лишь доставили бы ему удовольствие; зачем давать советы тому, кто вас оскорбляет? Императору некому адресовать свои жалобы, — он может взывать лишь к Богу, к нации в целом и к последующим поколениям.
23 декабря с мыса Доброй Надежды прибыл фрегат «Дорис», доставивший семь лошадей, закупленных там для императора.
Пренебрежительное отношение императора к популярности — Беседа о моей жене — Разговор о матери и сестре генерала Гурго
24 декабря 1815 года
Император прочёл статью, в которой утверждается, что он всегда разговаривал в слишком восторженном тоне, и, не сдержавшись, высказал своё отрицательное мнение об авторе статьи. «Как он мог вложить эти слова в мои уста? — удивлялся император. — Они слишком нежны для меня, слишком сентиментальны: всем известно, что я не выражаю свои мысли подобным образом». — «Сир, — возразил я, — автор сделал это, руководствуясь благими намерениями; сами по себе эти слова безобидны и могут вызвать доброжелательную реакцию. Репутация человека, склонного к проявлению дружелюбия и мягкости, то есть тех качеств, которые вы, судя по всему, презираете, могла бы оказать сильное влияние на общественное мнение или нейтрализовать выдумки, к которым прибегают в Европе, чтобы представить вас всему миру в ложном свете. Ваше сердце, которое
297
я узнал, несомненно, такое же доброжелательное, как и сердце Генриха IV; раньше я этого не знал. Доброжелательность его характера вошла ныне в поговорку, и он по-прежнему наш кумир; тем не менее, я подозреваю, что Генрих IV немного притворялся. И почему Ваше Величество не хочет быть похожим на него? У вас слишком сильное отвращение к этому. В конце концов, притворство правит миром, и это счастье, когда оказывается, что оно безвредно».
Император рассмеялся над тем, что он назвал моей прозаичностью. «Какая польза, — спросил он, — от популярности и от доброжелательности характера? Кто обладал этими качествами в большей степени, чем несчастный Людовик XVI? И какова его судьба? Его жизнь была принесена в жертву!.. Нет уж! Монарх должен служить своему народу с достоинством и не стремиться к тому, чтобы быть приятным ему. Самый лучший способ завоевать любовь народа — обеспечить его благосостояние. Нет ничего более опасного для монарха, чем стремление угождать своим подданным: если после этого они не получают то, чего хотят, они раздражаются, полагая, что монарх нарушил свои обещания, а если он не поддаётся, то их ненависть возрастает пропорционально росту их уверенности в том, что их обманывают. Основная обязанность монарха, безусловно, заключается в том, чтобы действовать в соответствии с желаниями народа; но то, что говорит народ, едва ли когда соответствует тому, чего именно он хочет, его желания и потребности нельзя узнать из его уст, — так же, как их нельзя прочитать в сердце его монарха.
Несомненно, можно установить любую политическую систему: и умеренную, и строгую. Каждая имеет свои достоинства и свои недостатки, ибо в этом мире всё взаимно сбалансировано. Если вы спросите меня, ради чего я принимаю суровый вид и прибегаю к сильным выражениям, то я отвечу: ради того, чтобы избавить самого себя от мучения исполнять наказание, которым я лишь угрожал. В конце концов, какой вред я нанёс? Какую кровь я пролил? Кто, окажись он на моём месте, сможет похвастаться тем, что поступил бы лучше? Какой период в истории, отмеченный теми же трудностями, с которыми мне пришлось столкнуться, известен такими же безобидными результатами? За что меня следует упрекать? Мои правительственные архивы и мои личные бумаги были конфискованы; тем не менее, что в них было обнаружено для ознакомления всего мира? Все монархи, оказавшиеся, подобно мне, среди распрей, беспорядков в стране и многочисленных заговоров, окружены убийствами и смертными казнями! В период же моего правления какое всеобщее спокойствие неожиданно для всех воцарилось во Франции! Вы, несомненно, удивлены этими нахлынувшими на меня воспоминаниями, — продолжал Наполеон, улыбаясь, — именно вы, который так часто проявляет мягкость и простоту ребёнка».
298
Я не мог не признать силу его аргументов и в ответ сказал, что обе политические системы могут иметь свои специфические преимущества. «Каждый человек, — заявил я, — формирует свой характер при помощи образования, но при этом он должен учитывать свои природные качества, в противном случае он рискует потерять преимущества того, что он имел от природы, не получив тех черт характера, которые он хотел бы приобрести посредством образования; образование может оказаться тем инструментом, который введёт его в заблуждение. В конце концов, жизненный путь человека является результатом его характера, и, наоборот, по нему можно судить о характере человека. На что тогда я могу жаловаться? Уповая на собственные усилия, я возвысил себя с уровня нищеты до состояния сравнительной независимости, с улиц Лондона я прошёл путь до ступенек вашего трона и до скамьи зала Государственного совета. Причём всё это я осуществил так, чтобы не краснеть за то, что я когда-либо говорил, писал или делал. Разве я мог бы сделать что-нибудь лучше, вдруг получив возможность совершить новый жизненный круг?»
В эту минуту наша беседа была прервана появлением слуги, который доложил, что адмирал и несколько дам, прибывших на фрегате «Дорис», просят оказать им честь быть представленными императору; но последний сухо ответил, что никого не примет, — он не хочет, чтобы его беспокоили.
Учитывая наши нынешние обстоятельства, вежливость адмирала была воспринята как дополнительное оскорбление; что касается тех
299
дам, которые сопровождали адмирала, то император посчитал невозможным принять их, так как никто не имел права общаться с нами без разрешения адмирала. Если предполагалось, что император должен оставаться под строгим арестом, то следовало сообщить ему об этом, если же нет, то ему должны разрешить видеться с теми, кого он хочет видеть, без постороннего вмешательства кого-либо. В конце концов, несправедливо, что английские министры делают в Европе вид, что они оказывают императору всяческое внимание и относятся к нему с уважением, в то время как, напротив, они досаждают ему всякими некорректными причудами.
В пять часов дня император вышел в сад на прогулку. Полковник 53-го пехотного полка поджидал его в саду, чтобы просить разрешения представить ему офицеров полка. Император удовлетворил его просьбу и согласился принять офицеров завтра в три часа дня. Полковник откланялся, и мы возобновили прогулку. Император ненадолго остановился, чтобы полюбоваться необычным цветком на одной из грядок, и спросил меня, не лилия ли это. Цветок был действительно замечательный.
После обеда, пока мы играли в нашу обычную карточную игру реверси, от которой, кстати, император начал уставать, он неожиданно повернулся ко мне и спросил: «Как вы думаете, где в этот момент находится госпожа Лас-Каз?» — «Увы, сир, — ответил я, — об этом известно только Богу!» — «Она находится в Париже, — продолжал император, — сегодня вторник, сейчас девять часов вечера, — она в оперном театре». — «Нет, сир, она слишком хорошая жена, чтобы ходить в театр, пока я нахожусь здесь». — «Это сказано верным мужем, — рассмеявшись, заявил император, — всегда самоуверенным и доверчивым!»
300
Затем, повернувшись к генералу Гурго, он стал подшучивать над ним в том же духе в отношении его матери и сестры. Но Гурго, видимо, не смог оценить шутки императора, и его глаза наполнились слезами. Император заметил это и, бросив в его сторону взгляд, заявил, на сей раз очень серьёзным тоном: «Каким же я должен быть злым, диким и тираном, чтобы подшучивать над нежными чувствами!»*.
Император затем спросил меня, сколько у меня детей и как я познакомился с госпожой Лас-Каз. Я ответил, что жена была моей первой любовью и что наша женитьба стала результатом взаимной привязанности, которая проявилась ещё в нашей юности; тем не менее, прошли многие события революционных лет, прежде чем, наконец, оформился наш брачный союз.
Раны, полученные императором в военных кампаниях
25 декабря 1815 года
Император, чувствовавший себя нездоровым накануне вечером, испытывал недомогание и сегодня утром. В связи с этим он направил сообщение полковнику 53-го пехотного полка о том, что не сможет принять его офицеров в назначенный час. В полдень он вызвал меня, и мы вновь просмотрели несколько глав рукописи о кампании в Италии. Я сравнил трактовку сражения при Арколе с описанием событий в эпической поэме «Илиада». Перед обедом император собрал всех нас в своей комнате. Вошедший слуга объявил, что обед готов; император отпустил нас, но, когда я выходил из комнаты последним, он позвал меня обратно. «Останьтесь, — предложил он, — мы пообедаем вместе. Пусть молодые люди пойдут обедать; мы, старики, составим себе другую компанию». Затем император решил одеться, намереваясь, как он сказал, пойти в гостиную после обеда.
Одеваясь, он положил руку на левое бедро, на то место, где был глубокий шрам, и привлёк к нему моё внимание. Поскольку я не совсем понял, что он имел в виду, император объяснил, что это шрам, оставшийся после удара штыком, в результате которого он
* Генерал Гурго испытывал глубокое чувство любви к матери и к сестре, они отвечали ему тем же. Его забота о них была столь велика, что в своих письмах к ним он описывал остров Святой Елены как очаровательное место, чтобы они меньше беспокоились о нём, сообщал им о рощах с апельсинными и лимонными деревьями и о постоянной весне, — короче, обо всём, что ему могло подсказать романтическое воображение. Однако английские министры, не краснея, впоследствии использовали против него это безобидное искажение истины, плод его сыновней заботы!
301
чуть было не потерял ногу во время осады Тулона. Маршан, который помогал императору одеваться, позволил себе вмешаться в разговор, сказав, что об этом случае было хорошо известно на борту «Нортумберленда»: один из матросов команды корабля сообщил ему, что в жизни нашего императора это была первая рана, полученная от англичанина.
Император заметил в связи с этим, что люди вообще на удивление много говорят о той исключительно счастливой судьбе, которая сохраняла его неуязвимым во множестве сражений. «Они заблуждаются, — сказал император. — Просто я всегда держал в тайне те случаи, когда подвергался серьёзной опасности». И он рассказал, что во время осады Тулона под ним были убиты три лошади, несколько лошадей были убиты или ранены в военных кампаниях в Италии, четыре — при осаде Сен-Жан д’Акра. По его словам, он был ранен несколько раз: в сражении при Ратисбоне пушечное ядро задело его пятку, а в сражении при Эслинге или при Ваграме, не могу сказать точно, другое ядро сорвало с него сапог и чулок и содрало кожу левой ноги. В 1814 году император потерял лошадь и шляпу в окрестностях Арси-сюр-Об. После сражения при Бриенне, когда он вечером в задумчивости возвращался в свой штаб, его неожиданно атаковали несколько казаков, которые пробрались в тыл французской армии. Одного из казаков он сбил с лошади ударом кулака, а затем был вынужден защищаться с помощью шпаги; рядом с ним было убито несколько казаков. «Но самое замечательное в этом
случае было то, — продолжал рассказывать император, — что всё это произошло около дерева, под которым в возрасте двенадцати лет я обычно сидел и читал “Освобождённый Иерусалим” в свободное от занятий в военной школе время». На этом самом месте, под этим деревом Наполеон впервые был поражён стрелой любви к славе!
Император повторил, что он часто подвергался опасности в различных сражениях, но эти случаи тщательно скрывались. Он раз и навсегда решил хранить абсолютное молчание в отношении всех происшествий подобного рода, объяснив, что невозможно представить себе всё то смятение и беспорядок в армии, которые могли бы стать последствиями самых незначительных слухов или малейшего сомнения в отношении его жизни: от неё зависели судьба великой империи и политическая судьба Европы. Привычка держать в тайне обстоятельства подобного рода и запрет сообщать о них во время военных кампаний способствовали тому, что теперь император практически забыл о них. И только случайно, как заявил он, в ходе этой беседы он вновь вернулся к их обсуждению.
Моя беседа с англичанином
26 декабря 1815 года
Император продолжает чувствовать себя нездоровым.
Один англичанин, жене которого позавчера вместе с адмиралом было отказано во встрече с императором, сегодня утром нанёс мне визит, чтобы вновь и в последний раз попытаться быть принятым Наполеоном. Этот человек прекрасно говорит по-французски, так как в течение всей войны жил во Франции. Он из числа тех англичан, которых интернировали в начале войны. Приехав во Францию в качестве путешественника, он был арестован по приказанию Первого консула после разрыва Амьенского договора — в знак ответной меры за захват наших торговых кораблей английским правительством ещё до официального объявления войны. Это происшествие вызвало долгий и эмоциональный спор между двумя правительствами и в течение всей войны было препятствием для достижения соглашения об обмене военнопленными. Английские министры упорно отказывались считать своих интернированных соотечественников военнопленными, лишь бы не пойти на безусловный отказ от того, что могло быть, вероятно, названо их правом на пиратство. Однако подобное упрямство стоило их соотечественникам продолжительного плена: они содержались под стражей во Франции более
303
десяти лет; их отсутствие было долгим и утомительным, хотя и не столь овеянным славой, как разлука с родиной воинов, осаждавших Трою.
Англичанин был шурином недавно скончавшегося адмирала Бертона, командовавшего военно-морской базой в Индии. Это обстоятельство, по всей вероятности, обеспечивало ему незамедлительное общение с английскими министрами по прибытии в Англию, и военно-морской министр, возможно, поручил ему собрать подробную информацию о нашем пребывании на острове Святой Елены. Поэтому, вместо того чтобы уклониться от разговора с этим англичанином, я провёл с ним длительную беседу. Она продолжалась более двух часов. Я вёл её таким образом, чтобы он смог повторить её содержание военно-морскому министру или доложить английскому правительству, а также сообщить о ней общественным кругам Англии. Я не буду утомлять моих читателей пересказом беседы, они бы только ещё раз услышали те же вечные повторения наших упрёков и обид, рассказ о наших жалобах и неприятностях, узнали о постоянных нарушениях наиболее почитаемых и священных законов, о грубом поругании наших честных намерений, о высокомерии, наглости и мелочных придирках английских властей. Особенно подробно я остановился на плохом обращении, которому мы подвергаемся, и на причудах человека, которому поручено надзирать за нами.
«Он должен прославиться, — заявил я, — не тем, что угнетал нас, а тем, что помогал нам. Своим внимательным отношением к нам он должен пытаться заставить нас забыть о безжалостной и несправедливой политике его страны. Разве он может навлечь на себя осуждение человечества, если счастливая судьба дала ему возможность связать своё имя с именем человека столетия, с героем истории? Он возражает, что его действия ограничены инструкциями? Но и в этом случае честь позволяет ему интерпретировать полученные им инструкции в наиболее приемлемой для нас форме».
Англичанин слушал меня с большим вниманием. Иногда, казалось, он проявлял особый интерес к тому, что я говорил, и выражал одобрение некоторым моим замечаниям. Но был ли он искренен? И не выразит ли он совершенно иные чувства в Лондоне?
Всякий раз, когда корабль с острова Святой Елены прибывает в Англию, английские газеты немедленно предоставляют свои страницы различным историям о пленнике Лонгвуда. Историям столь ложным и абсурдным, что для общей массы населения мы неизбежно предстаём в оскорбительном виде. Когда мы выражаем наше возмущение по поводу этих необоснованных историй уважаемым нами англичанам здесь, на острове, они отвечают: «Не заблуждайтесь,
304
эти лживые истории являются плодом воображения не наших соотечественников, которые здесь посещают вас, а наших министров в Лондоне, ибо правительство, которое сейчас правит нами, к чрезмерному превышению власти и к её жестокости добавляет ещё низость подлых и злобных интриг».
О французских эмигрантах
27 декабря 1815 года
Император чувствует себя лучше и около часа дня выехал на верховую прогулку. Вернувшись, он соизволил оказать тёплый и любезный приём офицерам 53-го пехотного полка.
После этого приёма император, пожелавший, чтобы я остался с ним, вышел прогуляться в саду. Во время нашей прогулки я рассказал ему о своей вчерашней беседе с англичанином, и в связи с этой беседой император стал расспрашивать меня о французских эмигрантах, о Лондоне и об англичанах. Я рассказал ему, что, хотя эмигранты в целом не особенно жаловали англичан, были, однако, и такие эмигранты, которые их сторонились. С другой стороны, хотя англичане в целом не испытывали особой любви к французским эмигрантам, однако были и такие английские семьи, которые относились враждебно к французам. Указанные выводы — верный ключ к пониманию тех чувств и слухов, зачастую противоречивых, с которыми приходится сталкиваться при обсуждении этой проблемы. Что касается доброты, с которой к нам относились англичане,
особенно из числа представителей среднего класса, всегда дающего подлинную картину национального характера, то эта доброта оказалась выше наших ожиданий и вызвала у нас огромное чувство неоплатной благодарности. Было бы трудно перечислить всю ту частную помощь, все те благотворительные общества и филантропические мероприятия, которые облегчали наше бедственное существование. Пример частных лиц вынудил английское правительство оказывать нам регулярную денежную помощь, но даже когда мы стали получать её, частная благотворительность не прекратилась.
В этом месте беседы император спросил, получал ли я денежную помощь от английского правительства. Я отвечал, что мне доставляет большее удовольствие полагаться только на собственные усилия и что уровень развития общества и поощрение им развития экономики в Англии таковы, что человек, подобный мне, обязательно должен был бы преуспеть в этой стране. В двух случаях я имел возможность нажить состояние: Кольбер, епископ Родеза, уроженец Шотландии, который весьма благосклонно относился ко мне, предложил, чтобы я сопровождал его брата на Ямайку, где он был одним из самых богатых местных плантаторов и куда его назначили главой исполнительной власти. Он готов был поручить мне управление его собственностью и в дальнейшем содействовать мне в получении аналогичных должностей. Епископ заверял меня, что в течение трёх лет я стану владельцем большого состояния. Однако ему не удалось уговорить меня отправиться на Ямайку: я предпочёл продолжать жить в бедности, но не удаляться на большое расстояние от французского берега.
«В другой раз, — продолжал я, — несколько друзей пытались уговорить меня уехать в Индию, где я должен был получить хорошую работу и находиться под покровительством влиятельных лиц. Меня заверили в том, что я очень быстро буду обладать значительным состоянием. Но я отказался и от этого заманчивого предложения. Я посчитал, что уже слишком стар для такого длительного путешествия. Это было двадцать лет тому назад, и вот теперь я нахожусь здесь, на острове Святой Елены.
Однако среди нас в Англии были такие, кто испытывал гораздо большие трудности, чем я, в начале эмиграции и которые к концу эмиграции были в лучшем материальном положении по сравнению со мной. Я не раз оказывался на краю полной нищеты. Тем не менее, я никогда не впадал в уныние и не чувствовал себя подавленным. Я утешал себя тем, что старался относиться ко всему по-философски, сравнивая своё положение с положением многих других эмигрантов вокруг меня, влачивших ещё более жалкое существование, чем я, — с теми пожилыми мужчинами и женщинами, у которых не было
306
образования, или с теми, у кого не было способностей, необходимых для овладения иностранным языком, и которые, тем самым, были лишены возможностей для улучшения своего положения. Я же был молод, полон надежд и сил, чтобы проявить рвение. Я учил всему, о чём бы меня ни спрашивали, — даже тому, что сам знал недостаточно хорошо. Но по ночам учился тому, чему мог бы научить других на следующий день. Мой “Исторический Атлас” оказался удачной идеей, которая открыла для меня золотую жилу. В тот период времени я ещё только набросал общие контуры моего плана, но в Лондоне всё поощряется, всё продаётся, и, более того, Небеса благословили моё усердие. Я высадился в устье Темзы и добрался пешком до Лондона только с семью луидорами в кармане, не имея в чужой стране ни друга, ни рекомендательного письма, но покинул я Лондон в дилижансе и с 2500 гинеями, оставив в столице Англии многих дорогих моему сердцу друзей, ради которых я с радостью пожертвовал бы своей жизнью».
«Но предположим, что я стал бы эмигрантом, — спросил император. — Какая бы меня ждала участь?» Он перечислил несколько профессий, но сделал выбор в пользу жизни солдата. «В конце концов, это было бы завершением моей карьеры», — заявил он. «Это не так уж очевидно, — возразил я. — Вы бы подчинились закону толпы. Прибыв в Кобленц или в любой французский корпус, вы бы получили должность в соответствии со своим званием в воинском списке и не имели бы возможности выйти за пределы этого списка, ибо в этих делах мы закостенелые бюрократы».
Затем император поинтересовался, как я вернулся во Францию. «После договора в Амьене, — стал рассказывать я, — я воспользовался привилегиями вашей амнистии; но я всё же присоединился к английской семье и проник во Францию как бы контрабандным путём — чтобы попасть в Париж раньше, чем я смог бы это сделать по-другому. Сразу же по прибытии в Париж, чтобы не скомпрометировать ту семью, я пошёл в полицию и получил там бумагу, которую должен был представлять раз в неделю или раз в месяц. Но я этого не делал, и никаких неприятностей из-за этого не произошло. Я решил вести себя осторожно и поэтому считал, что мне нечего опасаться. Однако вскоре я понял, что моё намерение может обойтись мне очень дорого: это было во время критических событий, связанных с делом Жоржа и Пишегрю. Я обычно проводил вечера в своём доме в обществе близких друзей и почти не выходил на улицу. Однако, когда я нарушил это правило, то волею судьбы или, может быть, из-за сильного любопытства к совершавшимся событиям стал прогуливаться в предместье Сен-Жермен в довольно поздний час. Я потерял дорогу к мосту Людовика XVI, которую
307
прекрасно знал, и вышел к бульвару Инвалидов, не представляя себе, где точно нахожусь. Повсюду были усилены посты, и количество часовых удвоено. Я спросил одного из часовых, как мне пройти в мой район, и затем ясно услышал, как его товарищ, другой часовой, находившийся в нескольких ярдах в стороне, спросил моего часового, почему он не остановил меня; тот ответил: потому что я ничего плохого не делал. Я как можно скорее поспешил домой, с ужасом думая об опасности, которой только что избежал. Для полиции формально я был нарушителем закона: обстоятельства моей эмиграции, моё имя, мои привычки и мои политические взгляды — всё это позволяло причислить меня к числу мятежников. Я не мог сослаться на кого бы то ни было, но более всего меня страшил тот факт, что часовые могли найти в моём кармане пять гиней. Верно то, что я находился во Франции уже два года, но эти гинеи были последними плодами моего усердия; я всегда носил их с собой, да и сейчас они у меня. Мне доставляет удовольствие смотреть на них: они напоминают мне о периоде моего бедственного положения, который прошёл. Легко представить себе те выводы, которые можно было сделать на основании столь многих сопутствующих обстоятельств. Все мои возражения и утверждения были бы тщетны; мне никто бы ни в чём не поверил. Несомненно, я бы сильно пострадал; и тем не менее я не чувствовал за собой ни малейшей вины, — таково человеческое чувство справедливости!
Когда я был представлен к императорскому двору Вашего Величества, эмигранты, бывшие в таком же положении, как и я, и находившиеся под надзором полиции в течение десяти лет, подали заявление об освобождении их от опеки полиции, и их просьба была удовлетворена; что же касается меня, то я решил: пусть наблюдение за мной завершится само собой. Будучи приглашённым на бал в Фонтенбло от имени Вашего Величества, я подумал, что было бы неплохо обратиться в полицию с просьбой о выдаче паспорта. Они согласились с тем, что он, строго говоря, необходим, но отказались выдать мне его на том основании, что этот факт поставит правительство в нелепое положение. В дальнейшем я стал камергером Вашего Величества, и мне пришлось отправиться в путешествие в качестве частного лица; и тогда полиция уладила все формальности.
Когда в 1815 году вы вернулись в Париж с Эльбы, я, желая помочь эмигрантам, приехавшим с королём, от их имени обратился в полицию. Так как я был государственным советником, то в полиции мне показали все официальные реестры об эмигрантах. Просмотрев материалы, касавшиеся моих друзей, я из любопытства решил ознакомиться и с собственным досье и обнаружил, что я в нём числюсь известным придворным графа д’Артуа в Лондоне. Я не мог
308
не поразмышлять о различии времён и об изменениях, вызванных революцией. Однако в моём досье была принципиальная ошибка. Конечно, я наносил визиты графу д’Артуа, но не чаще, чем раз в месяц. Что же касается того, чтобы быть придворным, то даже если бы мне очень хотелось этого, всё равно для меня это было невозможным делом. В то время я вынужден был думать о том, как мне ежедневно собственными усилиями поддерживать своё существование, и весьма гордился тем, что веду самостоятельную жизнь; поэтому моё время было для меня особенно ценным».
Императора развлёк рассказ о моей жизни, а я с большим удовольствием рассказывал ему о ней.
Сегодня фрегат «Дорис» отплыл в Европу.
28 декабря 1815 года
Нас навестила семья господина Балькомба в надежде увидеться с императором, но он опять нездоров. Состояние его здоровья ухудшается: климат Лонгвуда неблагоприятен для него, и это совершенно очевидно. Он вызвал меня в три часа дня. Его слегка лихорадило, но чувствовал он себя немного лучше, чем утром. Император много говорил о состоянии домашних дел в Лонгвуде, которым он явно недоволен. Затем император оделся, намереваясь выйти на прогулку. Я уговорил его надеть фланелевый жилет, который он опрометчиво отложил в сторону, не учитывая местный сырой и изменчивый климат. Мы стали прогуливаться в саду, и наш разговор коснулся той же темы, что и вчера. Император прогуливался без определённого плана, и мы вышли к эвкалиптам, которые росли вдоль парка. Мы беседовали о нашем положении, об отношениях с местными властями и размышляли о политических событиях в Европе. Вскоре пошёл дождь, и мы вынуждены были укрыться под деревом. К нам присоединились гофмаршал Бертран и господин де Монтолон, и император предложил мне вернуться домой. Войдя в дом, мы стали в гостиной играть в пикет вместе с госпожой де Монтолон. Так как было очень сыро, император приказал зажечь камин, но пока разгорались дрова, дым от них заставил нас искать прибежище в комнате императора. Там карточная игра возобновилась, но вскоре была прервана рассказами императора. Он развлекал нас различными историями и подробностями своей семейной жизни, подтверждал и исправлял те истории, которые ему рассказывали госпожа де Монтолон и я и которые повсеместно распространялись, а также иногда возражал нам. Всё было очень приятно, ибо беседа приняла весьма доверительный характер, и мы искренне сожалели, когда её прервало объявление об обеде.
309
Верховая поездка в долину — Болото — Англичане, не поддавшиеся обману
29 декабря 1815 года
В окрестностях Лонгвуда есть место, с высоты которого далеко просматривается та часть океана, в которой видны только что появившиеся корабли, плывущие в гавань острова; в этом месте также есть дерево, расположившись у подножия которого, можно в своё удовольствие обозревать океан. В течение нескольких дней у меня вошло в привычку проводить в этом месте несколько свободных минут, чтобы, давая волю фантазии, пытаться разглядеть тот корабль, которому суждено прекратить нашу ссылку. Знаменитый русский генерал-фельдмаршал Миних в течение двадцати лет влачил жалкое существование в ссылке в самом центре Сибири, ежедневно выпивая за своё возвращение в Санкт-Петербург, и, в конце концов, был осчастливлен исполнением этого желания. Я буду обладать его мужеством, но, боюсь, не смогу проявить его терпение.
В течение нескольких дней корабли появляются один за другим. Сегодня рано утром в пределах видимости показались три корабля, два из которых, по моему мнению, военные. Когда я вернулся домой, то мне сообщили, что император уже встал; я пошёл в сад, чтобы встретить его и сообщить о моём открытии. Он приказал, чтобы завтрак ему подали под деревом, и пожелал, чтобы я составил ему компанию.
После завтрака император распорядился, чтобы я сопровождал его во время верховой прогулки. Мы проехали вдоль ряда эвкалиптов за пределами Лонгвуда и затем предприняли попытку спуститься по очень крутой тропе в долину, всю испещрённую глубокими бороздами. Обе стороны долины покрыты песком и отдельными камнями, чудом державшимися на её обрывистых склонах, а также кустами колючей ежевики. Мы были вынуждены спешиться. Император велел генералу Гурго свернуть с лошадьми и с двумя конюхами, сопровождавшими нас, на тот склон, где была тропа, и настоял на том, чтобы мы с ним продолжили путь пешком, преодолевая трудности, встречавшиеся нам на каждом шагу. Я подал императору руку, и с превеликим трудом нам удавалось буквально карабкаться через гребни борозд. Император сокрушался по поводу потери им юношеской ловкости и шутливо упрекал меня в том, что я более ловкий, чем он. Он считал, что в этом отношении проявилась гораздо большая разница между нами, чем та, которую можно объяснить простой разницей в возрасте. Я отвечал, что удовольствие оказать ему услугу заставляет меня забыть о моём возрасте. По мере
310
того, как мы с большими усилиями преодолевали препятствия, воздвигнутые на нашем пути самой природой, император заявил, что любой человек, который смог бы увидеть нас в это время, тут же отметил бы неугомонность и нетерпение французского характера.
«Согласитесь, — заметил император, — что никто, кроме французов, и не подумал бы делать то, что делаем мы сейчас». В конце концов, еле переводя дыхание, мы добрались до самого низа долины. То, что издалека мы ошибочно приняли за протоптанную дорожку, оказалось всего лишь маленьким ручейком, шириной не более полуметра. Мы решили перейти через ручей и подождать наших лошадей, но его берега оказались весьма обманчивыми. Мы думали, что они состоят из сухой твёрдой породы, которая вначале поддерживала нас, но вскоре мы неожиданно стали увязать в трясине, словно под нами раскололась ледяная поверхность озера. Я уже провалился в болото и увяз выше колен, но сумел резким движением освободиться и повернулся в сторону императора, чьи ноги полностью увязли в болотной грязи. Чтобы помочь ему, я взял его за обе руки и, приложив усилия, стал вытаскивать из болота. Наконец, оба в грязи, мы вновь добрались до твёрдой земли, и я не мог не вспомнить об Аркольском болоте, которое несколько дней тому назад мы описали в мемуарах о военных кампаниях в Италии: в том болоте Наполеон чуть было не погиб. Император посмотрел на свою грязную одежду и сказал: «Лас-Каз, это была поистине грязная авантюра. Если бы мы погибли в этом болоте, что бы тогда говорили в Европе? Лицемерные ханжи, несомненно, стали бы доказывать, что нас поглотила земля за наши преступления».
Лошади наконец были приведены к нам, и мы продолжили наше путешествие, преодолевая препятствия и перескакивая через гребни борозд. С большим трудом мы проехали всю долину, которая отделяет Лонгвуд от Пика Дианы. Обратно мы возвращались по дороге мимо резиденции госпожи Бертран; было три часа дня, когда мы приехали домой. Тогда же мы узнали, что корабли, увиденные утром, оказались бригом, транспортным судном из Англии, а также американским кораблём.
Император вызвал меня около семи часов вечера; он был с гофмаршалом Бертраном, который читал ему газеты, датированные от 9-го до 16 октября. Чтение газет продолжалось до девяти часов вечера. Император, удивлённый тем, что уже так поздно, резко встал с кресла и пошёл к обеденному столу, выражая недовольство, что его заставили дожидаться обеда. Слуги не могли внятно объяснить причину задержки. Неорганизованность домашних дел вызвала У императора сильное раздражение, но потом он был явно недоволен
5//
уже самим собой из-за того, что дал волю гневу, поэтому обед прошёл при полном молчании.
Однако, вернувшись в гостиную, когда был подан десерт, император стал обсуждать новости, о которых сообщалось в газетах: об условиях мира, об уступках крепостей иностранным державам и о волнениях в больших городах Европы. Он обсуждал эти проблемы со знанием дела. Император удалился в свою комнату довольно рано; очевидно, он не забыл задержку с обедом.
Вскоре он вызвал меня к себе, желая продолжить чтение газет. Пока я разбирал их, чтобы приступить к чтению, император вспомнил о состоянии моих глаз и не разрешил мне читать. Я просил его позволить мне всё же заняться просмотром газет, сказав, что я читаю быстро и вскоре закончу эту работу. Но он отобрал у меня все газеты, заявив: «Мы не должны насиловать природу. Я запрещаю вам; я подожду до завтра». Затем, походив немного по комнате, он дал волю чувствам, которые испортили ему настроение. Как он был прекрасен, когда с жаром высказывал свои упрёки и жалобы! Насколько справедливы и верны были все его высказывания! Это были немногие из тех драгоценных минут, когда сама природа, застигнутая врасплох, раскрывает самые сокровенные тайны человеческого сердца и характера. Я покинул его, подумав, и уже не первый раз: «Боже мой! Как мало мир знает истинный характер императора!»
Тем не менее здесь, на острове Святой Елены, люди понемногу начали составлять правильное представление об императоре. Англичане, чьё сильнейшее предубеждение против него в большей степени простительно, учитывая ложные сведения, которые они получали о нём, теперь начали понимать его истинный характер. Они признают, что их ежедневно вводили в заблуждение и что император совсем не похож на того Наполеона, образ которого им навязывался с помощью лжи, исходя из политических интересов. Все без исключения, кто имеет возможность видеть и слышать его, придерживаются этого мнения. Адмирал не раз, в самый разгар наших споров с ним, запальчиво восклицал, что император, безусловно, самый благожелательный, справедливый и благоразумный из всех нас. И он прав.
В другом случае один англичанин, с которым мы часто встречаемся, признался Наполеону, что он всем сердцем хочет искупить свою вину и упрекает свою совесть за то, что безоговорочно верил всей гнусной лжи, распространяемой о личности императора. Он верил всем рассказам о массовых убийствах, осуществлявшихся по приказу Наполеона, и о его отвратительной жестокости; он даже верил слухам об уродливости его тела и об ужасных чертах его лица.
312
«И разве я мог не верить всему этому? — искренне признался он. — Наши английские газеты были заполнены подобными утверждениями, они были у всех на устах, и не было ни одного человека, который опроверг бы их». — «Да, — сказал Наполеон, улыбаясь, — именно вашим министрам я обязан всем этим: они наводнили Европу пасквилями и клеветническими заявлениями в отношении моей персоны. Возможно, они могли бы сказать в своё оправдание, что делали это на основании информации, полученной из Франции; и по справедливости следует признать, что те французы, которые теперь бурно радуются развалу своей страны, без колебаний и в изобилии снабжали ваших министров подобными материалами.
Пока я правил, от меня постоянно требовали принятия мер против этих закулисных махинаций, но я всегда отказывался делать это. Чего бы я добился, прибегая к подобного рода защите? Только того, что стали бы говорить, что я заплатил за неё. В результате я был бы ещё более скомпрометирован. Я заявлял, что моей лучшей защитой были бы новая победа, новый памятник. Ложь уходит, а правда остаётся. Разумная часть моих современников и особенно грядущих поколений будет формировать своё мнение на основании только фактов. А каковы последствия всей той лжи? Уже сейчас тучи расходятся, свет пробивается сквозь них, и с каждым днём моя личность становится всё более понятной. Вскоре в Европе станет модно отдавать мне должное. Те, кто пришёл на смену мне, получили в свои руки архивы моего правительства и моей полиции, а также протоколы моих судов и трибуналов; в их распоряжении все те лица, которые должны были быть виновниками и сообщниками моих жестокостей и преступлений. И что же, какие доказательства всего этого они предъявили? Что они предали гласности?
Первые минуты неистовства уже прошли, теперь все честные и разумные люди отдают должное моей личности. Моими врагами будут негодяи и дураки. Я могу отдыхать спокойно: цепь событий, споры противоборствующих партий и результаты их деятельности с каждым днём очищают дорогу для достоверных и славных материалов истории моей жизни. А какова выгода от тех громадных сумм, которые они потратили на оплату клеветнических статей против меня? Все их следы вскоре будут стёрты, в то время как мои деяния, мои институты и мои памятники во весь голос будут говорить в мою пользу самым отдалённым поколениям.
Более того, уже сейчас слишком поздно осыпать меня оскорблениями. Яд клеветы в мой адрес выдохся». Император повторил мысль, которую он не раз высказывал ранее: «Клевета действует только подобно яду Митридата».
Император пашет — Лепта вдовицы — Беседа с адмиралом — Новые договорённости — Польский капитан Пионтковский
30 декабря 1815 года
Император пожелал, чтобы я явился к нему к восьми часам утра. Пока он одевался, я закончил чтение ему газет, которые просматривал накануне. Одевшись, он отправился в конюшню, попросил свою лошадь и выехал на прогулку со мной одним: другие члены его свиты были ещё не совсем готовы. Мы ехали, не ставя перед собой определённой цели, и вскоре приехали на поле, где пахали несколько крестьян. Император спешился, взялся за плуг и, к большому удивлению владельца плуга, сам пропахал довольно длинную борозду. Затем он вновь сел на лошадь и продолжил верховую прогулку по окрестностям Лонгвуда, пока к нему не присоединился генерал Гурго с конюхами.
Вернувшись домой, император выразил желание позавтракать под деревом в саду и пригласил нас остаться с ним. Во время верховой прогулки он упомянул о небольшом подарке, подготовленном для нас. «Конечно, это пустяк, — заметил он, — но всё должно соотноситься с обстоятельствами, и для меня это настоящая лепта вдовицы». Он имел в виду ежемесячное денежное содержание, которое он решил выплачивать каждому из нас. Это денежное содержание должно вычитаться из незначительной суммы, которую ему удалось спрятать,
несмотря на бдительность англичан, и это единственные денежные средства Наполеона на острове. Легко представить себе, каким драгоценным был этот «пустяк». В следующий раз, оставшись с ним наедине, я воспользовался представившейся возможностью, чтобы высказать своё мнение по этому вопросу и сообщить императору своё личное решение отказаться от предполагаемого вознаграждения. В ответ он рассмеялся и, поскольку я настаивал на своём решении, сказал, ущипнув меня за ухо: «Хорошо, если вам не нужны эти деньги сейчас, то храните их для меня; я буду знать, где их найти, когда возникнет нужда».
После завтрака император вернулся в дом и попросил меня закончить чтение газет. Я ещё читал, когда господин де Монтолон попросил императора принять его. Он только что долго беседовал с адмиралом, который очень хотел видеть императора. Мне было сказано прервать мой перевод газет. Император некоторое время ходил по комнате в раздумье, словно решая, как ему следует поступить; наконец, взяв шляпу, он вышел в гостиную, чтобы принять адмирала. Я воспринял это обстоятельство с большим удовлетворением, ибо знал, что оно означает окончание периода враждебных отношений с адмиралом. Я был уверен, что две минуты беседы с императором устранят больше затруднений, чем переписка в течение двух дней с кем-либо ещё. И действительно, мне вскоре сообщили, что убедительные доводы императора и его благожелательная манера разговаривать привели к желаемому результату. Мне сказали, что адмирал уехал, воодушевлённый результатами своего визита; что же касается императора, то он весьма доволен произошедшим: в этот раз адмирал ему очень понравился, в какой-то момент он даже проникся к нему симпатией.
«Возможно, вы очень хороший моряк, — заявил ему император, — но вы ничего не знаете о нашем положении. Мы ничего не просим у вас. Мы можем переносить наши страдания и лишения молча и в уединении. Мы можем найти дополнительные силы в нас самих, но всё же мы заслуживаем того, чтобы нас уважали». Адмирал сослался на свои инструкции. «Но, — ответил император, — вы не принимаете во внимание громадную дистанцию между сочинением этих инструкций и их исполнением! Тот же самый человек, который даёт распоряжение о них на другом конце Земного шара, будет возражать против них, если увидит, как они исполняются. Кроме того, нет сомнений, что при малейшем возражении со стороны общественного мнения, при его малейшей оппозиции и тем более при его открытом несогласии с этими инструкциями ваши министры отрекутся от них и резко осудят тех, кто не дал им положительной интерпретации».
315
Во время беседы адмирал вёл себя прекрасно, и император имел все основания быть им довольным: все шероховатости в отношениях были сглажены, и по каждому вопросу было достигнуто взаимопонимание. По обоюдному согласию было решено, что отныне император будет свободно разъезжать верхом по острову, что офицер, которому было поручено сопровождать его во время этих верховых поездок, будет всего лишь издали наблюдать за ним, с тем чтобы императора не раздражало близкое присутствие надзирателя, что посетители будут приниматься императором с разрешения не адмирала, а гофмаршала Бертрана, который отвечает за протокол императора.
Сегодня наша маленькая колония увеличилась за счёт прибытия капитана Пионтковского, уроженца Польши. Он был одним из тех, кого мы оставили в Плимуте. Его преданность императору и его страдания из-за того, что его отлучили от императора, смягчили английский кабинет министров, и он получил разрешение проследовать на остров Святой Елены.
Вице-губернатор Скелтон
31 декабря 1815 года
Вице-губернатор острова Скелтон и его супруга, которые всегда относились к нам очень любезно, нанесли визит императору, который, после часовой беседы с ними, попросил меня передать полковнику приглашение совершить с ним верховую прогулку. Приглашение было с радостью принято, и мы отправились в путь, проехав по долине, которая разделяет Лонгвуд и Пик Дианы. Эта дорога очень удивила полковника, для которого поездка по ней стала первой. Он посчитал её утомительной и в некоторых местах даже опасной. Император затем пригласил полковника и госпожу Скелтон на обед, во время которого он оказывал им всяческое внимание.
Празднование Нового года — Охотничьи ружья — Полковник Уилкс
1 — 3 января 1816 года
В день Нового года мы все собрались в десять часов утра, чтобы передать наши искренние новогодние поздравления императору, и через несколько минут он принял нас. Мы высказывали ему скорее пожелания, нежели поздравления. Император пожелал, чтобы
316
мы вместе позавтракали и вместе провели весь день. Он заявил, что мы представляем собой небольшую группу людей, оказавшихся в отдалённом уголке Земного шара, и что нашим единственным утешением должно быть взаимное внимание друг к другу. Мы все сопровождали императора в его прогулке по саду, пока не приготовили завтрак. В этот момент императорские охотничьи ружья, которые до этого хранились у адмирала, были наконец возвращены императору. Этот поступок со стороны адмирала был ещё одним доказательством нового характера его отношения к нам. Ружья не представляли никакого интереса для императора, ибо местная природа и полное отсутствие какой-либо дичи на острове делали невозможным хоть сколько-нибудь разнообразить нашу жизнь за счёт охоты. Эвкалипты прежде служили прибежищем для нескольких голубей, но часть их была убита, а остальные разогнаны немногими выстрелами генерала Гурго и моего сына.
Казалось, что какой-то рок преследует этот поступок, продиктованный самыми лучшими и добрыми намерениями адмирала, так как сама процедура возвращения ружей подчеркнула имеющиеся в отношении нас ограничения и полностью уничтожила предполагаемый эффект от этого шага адмирала. Вместе с ружьями императора английские власти держали у себя и три ружья, принадлежавшие членам его свиты. Они были возвращены их владельцам, но при Условии, что ежедневно вечером ружья надо сдавать на ночь в палатку английского дежурного офицера. Совершенно ясно, что подобное Условие заставит нас вообще отказаться от них; в итоге ружья нам
317
всё же отдали без всяких условий, но лишь после того, как по этому поводу были проведены соответствующие переговоры. Неужели вопрос о них был действительно настолько важным, что требовались специальные переговоры? Ведь это всего лишь несколько охотничьих ружей, а их владельцы — несчастные существа, окружённые часовыми и находящиеся под охраной целого пехотного полка. Я привожу в дневнике этот пустяковый факт только потому, что он хорошо демонстрирует наше истинное положение и то обращение, которому мы подвергаемся.
Третьего января я завтракал с госпожой Бертран, которую должен был сопровождать во время званого обеда в резиденции губернатора. От дома госпожи Бертран до «Колониального дома» (резиденции губернатора) полтора часа езды в карете, запряжённой шестью волами, так как использовать лошадей на этой дороге опасно. Мы пересекли шесть перевалов, сжатых с обеих сторон крутыми скалами высотой примерно сто метров. Когда дорога шла под уклон, возницы выпрягали четырёх волов и запрягали их вновь при подъёме в гору. Проехав примерно три четверти пути, мы остановились, чтобы нанести визит приятной пожилой даме, которой исполнилось девяносто три года, — ей очень нравились дети госпожи Бертран. Её дом расположен в прекрасной местности; она не покидала его в течение шестнадцати лет, но когда узнала о прибытии императора на остров, то отправилась в город, заявив, что даже если это будет стоить ей жизни, она всё равно полна решимости увидеть его. Пожилая дама была счастлива, когда добилась своего.
«Колониальный дом» находится в самом лучшем месте острова и является самым лучшим его зданием. Сам дом, его пристройки, парк и сад вокруг него — всё это похоже на резиденцию семьи с доходом в 25 или 30 тысяч ливров в одной из провинций Франции. Земельный участок вокруг дома ухожен с большим вниманием и вкусом, так что хозяин может представить себя живущим где-то в Европе, даже не подозревая о полнейшем запустении, которое характерно для всех других частей острова. В «Колониальном доме» проживает губернатор, полковник Уилкс, чьи полномочия исполнительной власти на острове в настоящее время переданы адмиралу. Полковника Уилкса отличают изысканные манеры, у него очень приятная жена, а их дочь — очаровательная молодая девушка.
Губернатор пригласил на обед около тридцати персон; манеры и поведение приглашённых были чисто европейскими. Мы провели в «Колониальном доме» несколько часов, и они, надо смело признаться, были единственным, хотя и коротким, временем забвения и отвлечения от всего, что нам пришлось испытать после того, как мы покинули Францию. Полковник Уилкс проявил особую заботу
и доброту к моей персоне. Мы проявили взаимную симпатию двух писателей, довольных достижениями друг друга, и обменялись нашими произведениями. Полковник осыпал комплиментами господина Ле Сажа (это, напомню, мой псевдоним), мои же комплименты были не менее искренними: он — автор романа и интересного описания Индии, где он провёл значительное время на дипломатической службе. Пронизанные духом философии, сообщающие читателю много нового, отмеченные чистотой стиля, его книги представляют собой произведения самого высокого достоинства. Политические воззрения полковника Уилкса отличаются объективной оценкой событий и беспристрастностью, о текущих событиях он судит спокойно и непредвзято. Он придерживается трезвых идей и либеральных мнений информированного и независимого англичанина.
Мы уже собирались сесть за обеденный стол, когда нам, к нашему большому удивлению, сообщили, что император, сопровождаемый адмиралом, только что проехал вблизи ворот «Колониального дома», и один из гостей (господин Доветон из Санди-Бэя) заявил, что Наполеон почтил его визитом и провёл три четверти часа у него в доме.
Жизнь в Лонгвуде — Верховая езда императора — Наша нимфа — Прозвшца — Об островах и их защите — Управление Святой Еленой —
Энтузиазм простых людей
4—8 января 1816 года
Когда я пришёл в комнату императора и рассказал ему о нашем вчерашнем посещении «Колониального дома», он взял меня за ухо и сказал: «Ну что, вчера вы бросили меня; несмотря на это, я хорошо провёл вечер. Не воображайте, что я не могу обойтись без вас». Восхитительные слова! Они особенно трогательны, учитывая тон, которым он их произнёс, а также моё знание характера этого человека.
Все эти дни погода была хорошая, дождя не было; сильная жара, как обычно, резко спадала к шести часам вечера.
После переезда в Лонгвуд император прекратил свою обычную диктовку; он проводит время за чтением в своём кабинете, одевается между тремя и четырьмя часами дня и затем отправляется на верховую прогулку в сопровождении двух-трёх членов свиты. Каждое утро прогулка становится всё более продолжительной, и это хорошо для его здоровья. Мы обычно направляемся в сторону ближней
319
долины, о которой я уже говорил. Мы проезжаем её снизу вверх и выезжаем к дому гофмаршала или, наоборот, подъезжаем к её верхней части, чтобы при возвращении спуститься в неё; один или два раза мы ездили по другим долинам. Таким образом, мы изучили окрестности Лонгвуда и навестили некоторых жителей в этих долинах; почти все их дома бедные и жалкие. Изредка дороги оказываются непроезжими, и мы вынуждены поворачивать лошадей назад. А иногда мы заставляем лошадей прыжком преодолевать гребни борозд и затем взбираться по крутым отрогам, которые довольно часто встречаются на нашем пути; но обычно ничто не останавливает нас.
Во время этих поездок, ставших для нас привычными, мы несколько дней останавливались в одном и том же месте в середине долины, чтобы немного отдохнуть. Там, среди голых скал, нам предстала неожиданная картина: под неказистой крышей жалкой хижины мы увидели очаровательную девушку, ей было лет пятнадцать или шестнадцать. В первый день нашего знакомства мы застали её врасплох, в её обычном бедном одеянии. На следующее утро мы заметили, что она приложила немало усилий, чтобы в лучшем виде представить свой туалет, но в результате наш очаровательный полевой цветок теперь выглядел самым заурядным садовым цветком.
Тем не менее, мы с этого времени каждое утро на несколько минут останавливались около её хижины. Она всегда приближалась к нам на расстояние в несколько шагов, чтобы услышать две-три фразы, которые ей адресовал император. Затем мы продолжали наш путь, говоря о её чарах. Она стала дополнением к нашему особому списку имён Лонгвуда: она стала Нашей нимфой.
Тем, кто был близок к нему, император любил придумывать новые имена и он по-новому называл предметы, которые привлекали его внимание. Долина, через которую мы обычно проезжали, получила название Долины Молчания', наш хозяин в «Бриарах» был нашим Амфитрионом', его сосед, майор, ростом под два метра, — Геркулесом', сэр Джордж Кокберн — Лордом-адмиралом, когда у императора хорошее настроение, но когда его настроение ухудшалось, то для адмирала не находилось иного прозвища, чем Акула, и т.д.
Наша нимфа стала точной копией героини небольшого пасторального очерка, которым доктор Уорден постарался украсить свои «Письма с острова Святой Елены». Я хотел исправить его ошибки, когда он дал мне прочитать свою рукопись перед отъездом в Европу, сказав: «Если вы хотели написать сказку, то всё в порядке; но если вы хотели описать правдивые события, то нужно коренным образом изменить этот текст». По-видимому, он посчитал, что его сказка представляет больший интерес, и, соответственно, ничего не изменил в своём очерке. Но вернёмся к Нашей нимфе: мне рассказали, что благодаря Наполеону её ожидала счастливая судьба. Известность, приобретённая благодаря ему, вызвала большой интерес к ней со стороны лиц, приезжавших на остров, и большинство из них подпадали под влияние её чар; ей суждено было стать женой очень богатого человека, купца или капитана, служившего в Восточно-Индийской компании.
По возвращении с верховых прогулок мы застаём людей, которых император приглашал к себе на обед. Он последовательно принял полковника 53-го пехотного полка, нескольких офицеров полка с их жёнами, адмирала, прекрасную и очаровательную госпожу Ходсон, супругу нашего Геркулеса, которому император однажды нанёс визит в долине Бриары и у детей которого он вызвал такой неописуемый восторг, и т.д.
После обеда император присоединяется к группе игроков в карты, а все остальные составляют другую группу.
В тот день, когда адмирал обедал в Лонгвуде, император, пока он пил кофе, несколько минут посвятил обсуждению положения дел на острове. Адмирал сообщил, что для усиления 53-го пехотного полка на остров прибывает 66-й пехотный полк. Услышав это,
321
император рассмеялся и спросил: разве адмирал не думает, что он уже достаточно силён? Затем, размышляя вслух на эту тему, император сказал, что для укрепления острова корабль с семьюдесятью четырьмя пушками будет более полезен, чем дополнительный пехотный полк, что безопасность острова обеспечивают не пехотные полки, а военные корабли, что береговые укрепления только оттягивают время захвата острова, что полный успех в захвате острова обеспечивается высадкой превосходящих сил с моря, хотя их успех может зависеть от времени, — при том условии, конечно, что большое расстояние не позволит вспомогательным войскам подойти в нужный момент.
Адмирал спросил императора, какая, по его мнению, крепость во всём мире наиболее мощная. Император ответил, что назвать такую крепость невозможно, так как её мощь зависит и от средств её обороны, и от непредвиденных обстоятельств. Всё же император назвал ряд крепостей, в том числе Страсбург, Лилль, Мец, Мантую, Антверпен, Мальту и Гибралтар. Адмирал сообщил императору, что его одно время подозревали в том, что он замышляет нападение на Гибралтар. «В этом вопросе мы пошли дальше, чем вы, — ответил император. — В наших интересах было, чтобы вы продолжали владеть Гибралтаром: он не приносит никакой пользы вам и ничего не защищает, это только объект национальной гордости, который обходится Англии очень дорого и является предметом большой обиды для Испании. С нашей стороны было бы весьма неблагоразумно разрушать такую выгодную нам во всех отношениях крепость».
Шестого января меня с сыном и с госпожой Бертран пригласили на обед в коттедж «Бриары», куда наш бывший хозяин созвал много гостей. Мы вернулись очень поздно, подвергнувшись немалой опасности из-за трудной дороги и тёмной ночи; часть пути мы совершили пешком ради госпожи Бертран.
Седьмого января император принял секретаря местного правительства и одного из членов городского совета. Он задавал им, как обычно, много вопросов, в том числе о возделывании почвы острова, о его экономическом процветании и о том, как можно добиться улучшения уровня жизни на Святой Елене. В 1772 году была принята система снабжения местных жителей мясом за полцены из магазинов Восточно-Индийской компании, — в результате этого сельское хозяйство острова пришло в упадок, а островитяне стали больше предаваться праздности. Пять лет назад эту систему изменили, и это, вкупе с другими обстоятельствами, возродило конкуренцию и намного повысило благосостояние жителей острова по сравнению с прежним их положением. Теперь на острове опасались,
322
что наш приезд может нанести смертельный удар растущему благосостоянию населения.
Остров Святой Елены, который в окружности равен восьми лье (то есть по своим размерам примерно равен Парижу), подчиняется общим законам Англии и также местным, островным, законам; местные законы принимаются Советом острова и утверждаются в Англии правлением директоров Восточно-Индийской компании. Совет острова состоит из губернатора, двух гражданских членов и секретаря, который хранит реестры и протоколы; весь состав Совета назначается Восточно-Индийской компанией и подлежит изменению по решению компании. Члены Совета подбираются из числа законодателей, администраторов и судей; они принимают решения по гражданским и уголовным делам, не подлежащим обжалованию, с помощью суда присяжных. В настоящее время население острова насчитывает примерно пять-шесть тысяч человек, включая негров и солдат гарнизона.
Однажды днём мы прогуливались с императором в саду, когда матрос лет двадцати трёх, с искренним и открытым лицом, подошёл к нам и выразительными жестами стал демонстрировать свою радость по поводу того, что его не задержали на пути к нам. Он говорил только по-английски и торопливо рассказал мне, что дважды храбро преодолел препятствия со стороны часовых и презрел все опасности жестокого наказания, лишь бы вблизи увидеть императора. Ему очень повезло, заявил матрос, не сводя глаз с лица императора, и теперь он может умереть спокойно; он молит Небеса, чтобы
323
Наполеон был в добром здравии и чтобы в один прекрасный день его жизнь стала более счастливой. Я отпустил его, и он, отойдя, спрятался за деревьями и кустарниками, чтобы подольше видеть нас.
Мы часто встречали подобные примеры доброжелательности со стороны моряков. Моряки «Нортумберленда» считали, что подружились с императором, и когда мы жили в «Бриарах», где наша изоляция была не столь строгой, они часто навещали нас по воскресеньям, заявляя, что пришли ещё раз взглянуть на своих товарищей по плаванию. В тот день, когда мы уезжали из «Бриаров» и я был с императором в саду, один из моряков появился у ворот коттеджа и спросил меня, не обидится ли на него император, если он войдёт во двор. Я спросил его, кто он по национальности и какую исповедует религию. В ответ он стал многократно креститься в знак того, что он понял меня и что мы оба принадлежим к одной религии. Затем, посмотрев в упор на императора, перед которым он стоял, он вознёс свой взор к небесам и начал говорить как будто сам с собой, жестикулируя, при этом его большое и живое лицо приобрело несколько нелепое и сентиментальное выражение. Было бы трудно выразить более естественно восхищение, уважение, добрые пожелания и сострадание; огромные слёзы катились у него из глаз. «Скажите этому уважаемому человеку, — заявил он мне, — что я желаю ему лишь всевозможного счастья. Этого же желают ему многие из нас. Долгой ему жизни и крепкого здоровья». В руке он держал букетик полевых цветов, который, по-видимому, хотел подарить императору. Но то ли он забыл об этих цветах, то ли оцепенел в присутствии императора,
переполненный самыми восторженными чувствами. Он стоял на одном месте, покачиваясь из стороны в сторону, как бы стараясь в чём-то перебороть самого себя; наконец он неожиданно поклонился нам и исчез.
Император не мог сдержать своих эмоций в этих двух случаях, настолько искренними были выражения лиц, слова и жесты этих моряков. «Вы только посмотрите на этот эффект воображения! — сказал он. — Насколько велико его влияние! Вот вам два человека, которые не знают меня и никогда не видели, — они только слышали то, что говорилось обо мне. И чего только они не чувствовали! И чего бы только они не сделали ради меня! Подобную странность можно обнаружить во всех странах, у людей разных возрастов и обоих полов! Это же настоящий фанатизм! Да, фантазия правит миром!»
Придирки — Новые разногласия с адмиралом
9 января 1816 года
Участок земли вокруг Лонгвуда, в пределах которого мы можем свободно прогуливаться, не выходит за рамки получасовой езды верхом; это обстоятельство вынудило императора — чтобы увеличить время верховой прогулки, — спускаться в долины по очень плохим и опасным тропам.
Поскольку окружность острова не превышает и тридцати миль, то было бы желательно расширить территорию, предназначенную для наших поездок, на одну милю к берегу; тогда бы мы могли совершать верховые прогулки длиной от пятнадцати до восемнадцати миль и даже менять их маршруты. Наблюдение за нашими передвижениями не было бы ни обременительным, ни менее эффективным, если расставить часовых на берегу моря и в начале долин: они могли бы следить за каждым шагом императора и сигналить с горных вершин. Правда, нам сказали, что император может свободно разъезжать по всему острову в сопровождении английского офицера, но император решил, что никогда не станет совершать такой верховой прогулки, раз он лишён возможности ездить в одиночку или только в обществе своих друзей. Во время последней беседы с императором адмирал весьма деликатно урегулировал эту проблему. Теперь всякий раз, когда император захочет выехать за пределы предписанных ему границ, он должен сообщать об этом дежурному английскому капитану в Лонгвуде; тот обязан открыть ворота Лонгвуда для проезда императора, и наблюдение за императором,
325
если оно необходимо, будет проводиться в этом случае так, чтобы он не замечал его. В соответствии с этой договорённостью император предполагал отправиться на верховую прогулку в семь часов утра; он распорядился приготовить лёгкий завтрак и был намерен поехать в направлении Санди-Бэя, чтобы посмотреть на местный ручей и провести утро в красивом парке (чего мы лишены в Лонг- вуде), и в этом месте он планировал в течение нескольких часов диктовать мне свои воспоминания.
Лошади были готовы, и я пошёл ознакомить с нашими планами поездки дежурного английского капитана, который, к большому моему удивлению, заявил о своём решении сопровождать нас. Он сказал, что император не должен болезненно воспринимать такое его решение, поскольку он не намерен играть роль слуги, который всё время едет сзади. Я ответил, что император, несомненно, сочувственно отнесётся к подобному объяснению, но всё равно немедленно откажется от поездки. «Вы должны понять, — заявил я, — что реакция императора на ваше решение вполне естественна для него и ни в коей мере не оскорбительна для вас; просто император не расположен находиться в обществе персоны, которой поручено охранять его».
Английский офицер проявил должное понимание всего того, что я сказал ему, и признался, что находится в весьма затруднительном положении. «Не принимайте это близко к сердцу, — постарался успокоить его я. — Вы всего лишь выполняете приказ, а мы ничего не просим у вас; вам не следует ни оправдываться перед нами, ни объяснять что-либо. Для вас и для нас желательно, чтобы границы нашего передвижения по острову были расширены до берега моря, — тогда вы будете освобождены от обременительной обязанности, которая не делает вам чести. Подобная договорённость не станет препятствием для достижения поставленной перед вами цели. Рискну сказать, что она будет только способствовать выполнению вашего задания: всякий раз, когда мы хотим наблюдать за человеком, мы должны следить за наружной дверью его комнаты или воротами помещения, в котором он находится; следить за промежуточными дверьми — напрасный труд. Император ежедневно исчезает из поля вашего зрения, когда спускается в глубокие лощины в пределах очерченной нам территории, и вы убеждаетесь в его существовании только во время его возвращения домой. Что ж, тогда поставьте себе в заслугу ту уступку, сделать которую требует положение вещей. Расширьте границы нашего передвижения по острову на одну милю в сторону морского берега; в этом случае вы сможете постоянно следить за ним, подавая сигналы с вершин гор».
На всё это офицер только повторял, что ему не нужно, чтобы император видел его или разговаривал с ним, и что ему необходимо
326
быть с нами, но так, словно его нет в нашем обществе. Казалось, он был не в состоянии понять, что сам его вид оскорбителен для императора. Я пытался объяснить капитану, что существуют различные способы выражения чувств и что один и тот же подход неприемлем для всего мира. Он, видимо, считал, что мы по-своему интерпретируем чувства императора и что если бы мы объяснили его доводы императору, то последний согласился бы с ними. Капитан сказал, что намерен написать императору об этом. Я заверил его, что он не сможет сказать императору больше того, что скажу ему я, а я пойду к императору и повторю слово в слово наш разговор. Я действительно пошёл к императору и вскоре вернулся, чтобы подтвердить всё, ранее мною сказанное, а император отказался от идеи совершить запланированную прогулку.
Однако, желая, со своей стороны, избежать какого-либо недопонимания, которое могло возникнуть во время нашей дискуссии, временами малоприятной, я спросил английского офицера, не будет ли он возражать против того, чтобы ознакомить меня с его докладом адмиралу по поводу нашего разговора. Капитан ответил, что не будет возражать, но что он собирается доложить о нашем разговоре только устно. Тогда, резюмируя наш продолжительный разговор, я предложил выразить его суть несколькими словами в двух очень ясных предложениях: с его стороны — что он сообщил мне о своём желании сопровождать императора во время его верховой поезд™, а с моей стороны — что я ответил на это, что император тогда отказывается совершать эту поездку и не будет выезжать за пределы определённых ему границ. Такое резюме нашего разговора было принято.
Император приказал мне явиться в его комнату. Размышляя в полной тишине об унижении, которому он только что был подвергнут, он разделся и набросил на себя утренний халат. Он задержал меня до второго завтрака, во время которого заявил мне, что, по-видимому, сегодня следует ожидать дождливую погоду и что это был бы плохой день для поездки, но что это слабое утешение после того жестокого принуждения, в результате которого он лишился безобидного удовольствия.
Оказывается, дело было в том, что английский офицер получил новые указания, а император основывал план нашей маленькой экскурсии на предыдущих обещаниях адмирала, за которые император имел удовольствие выразить адмиралу своё удовлетворение. Новое изменение правил передвижения, о котором императору ничего не сообщили, стало для него чрезвычайно неприятным. Или было нарушено данное ему слово, или была сделана попытка обмануть его. Эта обида, нанесённая адмиралом, была из тех, которые особенно задевали чувства императора.
327
Император принял ванну и не обедал вместе с нами. В девять часов вечера он вызвал меня к себе в комнату. Он читал «Дон Кихота», и в связи с этим мы заговорили об испанской литературе. Император пребывал в меланхолическом настроении и скупо ронял слова; он отпустил меня через три четверти часа.
Комната Маршана — Одежда и другие личные вещи императора — Его шпоры
10 января 1816 года
Примерно в десять часов утра император пожелал, чтобы я явился в его комнату. Он был одет и уже был в сапогах: он намеревался совершить верховую прогулку или просто прогуляться в саду, но в это время начался небольшой дождь. Мы стали беседовать, ожидая, когда улучшится погода. Император открыл дверь своей комнаты в картографический кабинет, чтобы мы могли, беседуя, прохаживаться по всей длине обоих помещений. Когда мы подошли к кровати, установленной в картографическом кабинете, император спросил меня, всегда ли я ночую тут. Я ответил, что перестал спать в ней, как только узнал о его привычке вставать со своей постели рано утром и выходить из дома. «Какое это имеет отношение к вашему сну? — удивлённо спросил император. — Продолжайте спать в этом кабинете; я буду выходить из дома, когда захочу, через чёрный вход». Дверь в гостиную была полуоткрыта, и мы вошли в неё. Там находились Монтолон и Гурго. Они пытались повесить небольшую изящную люстру и закрепить зеркало над каминной доской, — император хотел, чтобы зеркало висело прямо, а оно слегка наклонилось в одну сторону. Он был очень доволен улучшением интерьера в гостиной комнате, — доказательство того, что всё в этом мире относительно! Что могли значить эти предметы в глазах человека, который всего лишь несколько лет назад обладал дворцовой мебелью, стоившей сорок миллионов?
Мы вернулись в картографический кабинет. Дождь не переставал, и император отказался от идеи совершить прогулку. Он выразил сожаление, что не приехал гофмаршал, — император почувствовал желание возобновить работу над своими мемуарами, которыми он не занимался уже две недели. Поджидая Бертрана, он старался хоть как-то убить время. «Давайте навестим госпожу де Монтолон», — предложил он мне. Я объявил госпоже де Монтолон о приходе императора. Он сел в кресло и заставил меня сделать то же самое; мы говорили о мебели и о домашних делах. Затем император принялся
328
составлять список мебели в комнате, вещь за вещью; мы пришли к выводу, что вся мебель госпожи де Монтолон стоит не более тридцати наполеондоров. Покинув апартаменты госпожи де Монтолон, император стал обходить другие комнаты дома и остановился в коридоре перед очень крутой лестницей, которая вела на чердак в помещение для слуг.
«Давайте посмотрим на апартаменты Маршана, — предложил император. — Говорят, он превратил их в комнатку молоденькой любовницы». Мы взобрались вверх по лестнице, — в комнате был Маршан. Его маленькая комната блистала чистотой; он сам оклеил стены красивыми обоями. Его кровать была без покрывала: Маршан всегда спал недалеко от дверей комнаты его хозяина. Во время пребывания императора во флигеле коттеджа «Бриары» Маршан и два других камердинера постоянно спали прямо на полу настолько близко к дверям флигеля императора, что всякий раз, когда я приходил поздно ночью, мне приходилось перешагивать через тела спящих.
Император приказал Маршану открыть шкаф с полками, встроенный в стену. Все полки были заняты бельём, одеждой и другими личными вещами императора. Хотя на вид их было немного, император всё же удивился их количеству. «Сколько же у меня шпор?» — спросил он, взяв с полки одну пару. «Четыре пары», — ответил Маршан. «Среди них есть какая-нибудь пара, чем-то знаменательная?» — «Нет, сир». — «Хорошо, я отдам эти шпоры Лас-Казу. Они старые?» — «Да, сир, они почти изношены; Ваше Величество надевали их в сражении при Дрездене и при Париже». — «Вот эти, — заявил император, передавая мне шпоры, — для вас». Мне захотелось,
чтобы он разрешил мне преклонить перед ним колено, получая эту пару шпор. Я весь был проникнут таким чувством, словно получал что-то, связанное с блистательными днями Шампобера, Монмира- ля, Краоне, Нанжиса, Монтеро! Был ли во времена Амадиса более достойный памятник рыцарству? «Ваше Величество посвящает меня в рыцари, — заявил я, — но каким образом я смогу заслужить эти шпоры? Я не могу претендовать на какие-либо военные заслуги; что же касается моей любви к вам и преданности, сир, то это я уже давно доказал».
Хотя гофмаршал так и не приехал, император всё же решил заняться диктовкой своих мемуаров. «Вы более не в состоянии писать? — спросил он меня. — Вы же почти потеряли зрение». С тех пор, как мы переехали в Лонгвуд, я полностью прекратил писать под его диктовку, так как стал очень плохо видеть; это обстоятельство меня чрезвычайно огорчало. «Да, сир, — ответил я, — зрение сильно ухудшилось, и я весьма опечален этим, ибо я потерял его в “Кампаниях в Италии”, не испытав счастья и славы непосредственно участвовать в них». Император старался утешить меня, сказав, что я, отдохнув, обязательно восстановлю зрение. Затем он добавил: «Ох! Почему же они не оставили мне господина Плана! Этот славный молодой человек оказался бы мне сейчас очень полезным». Император вызвал к себе генерала Гурго, чтобы начать диктовать ему.
Адмирал Тейлор
11 января 1816 года
Когда я прогуливался после завтрака, примерно в половине первого, у ворот Лонгвуда, то обратил внимание на приближавшуюся большую группу всадников во главе с полковником 53-го пехотного полка. Оказалось, что они сопровождали адмирала Тейлора, который накануне вечером прибыл с мыса Доброй Надежды со своей эскадрой и на следующий день собирался отплыть в Европу. Среди капитанов кораблей эскадры был его сын, потерявший руку в морском сражении при Трафальгаре. В том сражении сам адмирал Тейлор командовал кораблём «Тоннан».
Адмирал Тейлор заявил, что приехал в Лонгвуд, чтобы выразить своё уважение императору, но только что получил известие, что император нездоров. Адмирал был очень расстроен. Я объяснил ему, что климат Лонгвуда оказался весьма неблагоприятным для Наполеона. Я выбрал очень неудачное время для того, чтобы сделать это замечание, поскольку погода стояла прекрасная, небо было чистым,
330
а сам Лонгвуд в этот момент создавал иллюзию замечательного места. Адмирал не преминул заметить, что Лонгвуд находится в очаровательной местности. Тоном искреннего сожаления я пояснил: «Да, адмирал, она такая сегодня, и именно для вас, который останется здесь минут на пятнадцать». При этих словах адмирал явно смутился и стал приносить свои извинения. Он попросил у меня прощения за то, что использовал, как он сказал, неуместное выражение. Я обязан отдать должное той особой учтивости, которую адмирал проявил в данном случае.
Часовой наводит ружьё на императора — Наши вечерние развлечения — Романы — Замечания политического характера
12 — 14 января 1816 года
В течение нескольких дней император не совершал верховых поездок. Попытка возобновить их 12 января не возродила его склонности к этому развлечению и не содействовала тому, чтобы эти поездки вновь стали его привычкой. Мы, как обычно, проехали нашу долину и стали взбираться вверх по склону горы, противоположной Лонгвуду, когда часовой с вершины одной из ближайших гор, где ранее не было никакого поста, стал что-то кричать и делать нам
331
какие-то знаки. Так как мы находились в самой середине нашего пути, то не стали обращать никакого внимания на этого часового. Затем он побежал, задыхаясь, навстречу нам, на ходу заряжая своё ружьё. Генерал Гурго остался, чтобы выяснить, что надо этому часовому, а мы продолжали наш путь. Мне удалось увидеть, как генерал Гурго, после того как часовой несколько раз отбегал от него, всё же задержал его, ухватив за шиворот. Генерал Гурго вынудил этого часового пойти с ним до ближайшего английского поста, расположенного у дома гофмаршала. Генерал пытался заставить часового войти в помещение поста, но тому всё же удалось сбежать от генерала. Как выяснил Гурго, этим часовым был пьяный капрал, который неправильно понял данный ему приказ; вот почему часовой
со своего поста целился в нас из ружья. Этот случай, который запросто мог повториться, заставил нас опасаться за жизнь императора, а последний рассматривал его как очередное оскорбление и новое препятствие для продолжения верховых поездок.
Наполеон перестал рассылать приглашения на обед: часы, расстояние, форма одежды были неудобны для гостей, нам же эти приёмы приносили одни хлопоты и не доставляли удовольствия.
Император постепенно возобновил свои труды по подготовке мемуаров. Теперь он ежедневно диктует гофмаршалу воспоминания
332
об экспедиции в Египет. Незадолго до обеда он вызывает к себе меня с сыном, чтобы перечитать различные главы мемуаров о кампаниях в Италии и разбить эти главы на параграфы. Карточная игра реверси вышла из моды, император прекратил играть в неё. Отныне время после обеда посвящено чтению книг, — император сам читает вслух; когда же он устаёт, то чтение продолжает кто-нибудь из его свиты, но он не может выдержать их чтение более пятнадцати минут. Теперь мы читаем романы, но никогда не дочитываем их до конца. Мы отвергли «Манон Леско», так как эта книга больше отвечает вкусам горничных; затем последовали «Мемуары Граммона», которые весьма остроумны, но не делают чести нравам общества того времени; «Шевалье де Фоблаз» можно терпеть только в двадцатилетием возрасте, и т.д. Всякий раз, когда эти чтения можно продлить до одиннадцати или двенадцати часов вечера, император искренне радуется. Он называет это победой над временем и считает, что такие победы даются с трудом.
Дождались своей очереди и вопросы политики. Каждые три-четыре недели мы получаем из Европы большой пакет с газетами; они, словно удар хлыста, приводят нас в состояние сильного волнения на несколько дней, в течение которых мы обсуждаем, анализируем и вновь обсуждаем новости, после чего опять незаметно впадаем в обычное состояние уныния. Последние газеты были доставлены нам сторожевым кораблём «Грейхаунд», прибывшим на остров несколько дней назад. Чтение газет заняло у нас один из вечеров и стало причиной того, что император не смог сдержать порывов страсти и вдохновения, свидетелем которых я иногда бывал во время заседаний Государственного совета и которые время от времени случаются и здесь, на острове Святой Елены.
Он прохаживался большими шагами среди нас, постепенно всё более и более воодушевляясь и иногда приостанавливая свою речь, чтобы несколько минут спокойно поразмышлять.
«Бедная Франция, — восклицал он, — какова будет твоя участь! И, прежде всего, что станет с твоей славой!»
Остальную часть его продолжительной речи я опускаю: я должен это сделать.
Газеты делали намёки, что Англия вынашивает план раздела Франции на части, но что Россия противится этому. Император заявил, что ожидал этого: вполне естественно, что Россия должна быть недовольна идеей расчленения Франции, потому что тогда России придётся опасаться, что различные государства и княжества Германии объединятся против неё; с другой стороны, английская аристократия хочет довести Францию до состояния крайней слабости и на её развалинах установить правление деспотизма. «Я знаю, — заявил император, обращаясь ко мне, — что вы не придерживаетесь этой
333
точки зрения, хотя вы и англичанин». Я ответил, что мне очень трудно спорить с ним, но, как мне кажется, можно допустить, что среди той же английской аристократии есть люди с ясным умом и справедливым сердцем, которые понимают, что, одержав победу над противником, угрожавшим их существованию, нередко бывает выгодно поддержать тех, кто более не представляет для них какой-либо угрозы. Сейчас сложились исключительно благоприятные обстоятельства для установления новой политической системы, которая на вечные времена могла бы объединить обе нации на основе их взаимных интересов и сделать их необходимыми друг другу, вместо того чтобы они всегда оставались врагами.
Император завершил разговор, заявив, что он, несомненно, очень упрямый человек и, рассматривая обсуждаемую проблему со всех сторон, ничего не может предсказать в будущем, кроме катастроф, массовых убийств и кровопролития.
О секретной истории кабинета Бонапарта, изложенной Голдсмитом
15 января 1816 года
Когда я плыл на борту корабля «Нортумберленд», мне приходилось слышать разговоры о написанной Голдсмитом книге «Секретная история кабинета Бонапарта». Здесь, на острове, когда у меня выдались первые свободные минуты, мне захотелось хотя бы бегло просмотреть эту книгу. Но заполучить её оказалось весьма трудным делом, поскольку в течение продолжительного времени мои знакомые англичане отказывались дать её мне, заявляя, что она содержит столько отвратительной клеветы, что они сами испытывают стыд за неё. Я вынужден был долго убеждать их в том, что мы не поддаёмся подобной клевете, что тот, кто является объектом клеветнических утверждений, обычно смеётся над подобными утверждениями всякий раз, когда на его глаза попадаются печатные издания, напичканные ими, и, более того, если эта книга действительно столь плоха, как об этом говорят, то она не может достигнуть своей цели и вообще должна быть абсолютно безвредной. На вопрос, кто такой сам Голдсмит, автор этой книги, мне пояснили, что он англичанин, который выполнял для Наполеона некоторые секретные задания в Париже и который, вернувшись в Англию, пытался избежать ареста и в то же время заработать побольше денег, осыпая оскорблениями и проклятиями того самого кумира, которому так долго курил фимиам.
334
Наконец мне удалось заполучить эту книгу. Следует признать, что трудно нагородить больше ужасных и оскорбительных мерзостей, чем те, которыми угощают читателя уже на первых страницах этого сочинения: изнасилования, отравления ядом, кровосмешение, убийства, — и всё это приписано автором герою, причём начиная с его раннего детства. Верно и то, что автор не затрудняет себя заботой придать всей этой лжи хотя бы подобие достоверности и в одних случаях демонстрирует полную неспособность привести доказательства своих утверждений, а в других — опровергает их с помощью анахронизмов, алиби и противоречий всякого рода: ошибок в именах, в описании личностей и в изложении самых простых и неопровержимых фактов.
Так, например, когда Наполеону было лет десять или двенадцать и его общение с миром не выходило за пределы военной школы, автор заставляет его совершать насилия, требующие способностей мужчины зрелого возраста, к тому же обладающего определённой свободой действий. Автор заставляет Наполеона заниматься тем, что он называет грабежом Италии во главе восьми тысяч каторжников, сбежавших из тюрем Тулона. Затем автор принуждает двадцать тысяч поляков покинуть ряды австрийской армии, чтобы выступить под флагом французского генерала. Тот же автор заставляет Наполеона приехать в Париж во фрюктидоре, хотя весь мир знает, что он никогда не покидал своей армии. Голдсмит заставляет Наполеона общаться с принцем Конде и просить руки королевской принцессы в качестве цены за свою измену. Я опускаю другие клеветнические утверждения, в равной степени абсурдные и бесстыдные. Очевидно, что свои безответственные и нелепые истории автор собрал, доверяясь только смехотворным слухам; но из каких источников он черпал свою информацию? Большая часть приведённых в книге историй явно исходила из определённых кругов Парижа, представители которых — злобные клеветники; но раз уж подобные истории исходили из этих кругов, то они всё же должны были сохранить хотя бы видимость некоторого смысла, остроумия, живости и изящества изложения! Однако истории, рассказанные в этой книге, явно попали из гостиных на улицу, затем прошли через сточные трубы, — и только оттуда их извлёк автор. Англичане признали эти истории настолько непристойными, что, за исключением самых вульгарных представителей низших слоёв общества, они считают эту книгу ядом, который несёт в себе и противоядие.
Возможно, вызовет удивление тот факт, что я не отложил в сторону это произведение сразу же после прочтения первой страницы. Но его непристойность и вульгарность настолько велики, что оно не может вызвать чувства гнева. С другой стороны, ничто не может
335
вызвать столь сильного чувства раздражения, которое невозможно преодолеть, и это помогает отвлечься от тяжёлой тоски пребывания на острове Святой Елены. Мы считаем себя счастливчиками, поскольку имеем в своём распоряжении хотя бы что-то для чтения. Как недавно сказал император: «Время — это единственное, чего у нас слишком много». Поэтому я продолжаю читать книгу Голдсмита. И, кроме того, мне, возможно, позволительно заявить, что я теперь не без некоторого чувства удовольствия читаю абсурдные выдумки, лживые и клеветнические заявления, которые, как утверждает автор, он черпает из самых достоверных и высокопоставленных источников, рассуждая о проблемах, так хорошо мне известных и ставших для меня настолько близкими, словно они касаются подробностей моей собственной жизни. Я испытываю удовольствие, презирая эти лживые утверждения, с помощью которых создан фальшивый образ, в то время как рядом со мной находится реальный человек, который в своих беседах всегда блистает множеством великих и свежих идей.
Сегодня утром, после завтрака, император пожелал, чтобы я явился к нему. Когда я пришёл, то увидел, что он лежит на диване в утреннем халате. В разговоре со мной он поинтересовался, что я читаю в настоящее время. Я ответил, что читаю, пожалуй, самую непристойную клеветническую книгу о нём, и пересказал некоторые самые отвратительные истории, приведённые в этой книге. В ответ император от всего сердца рассмеялся и пожелал увидеть эту книгу. Я послал за ней, и мы стали вместе просматривать её. Каждый раз, когда он слышал в моём переводе очередную ужасную клевету, он восклицал «Боже мой!» и несколько раз крестился. Я заметил, что, когда император находится в узком кругу близких друзей, у него есть привычка креститься всякий раз, когда он слышит чудовищно бесстыдные и циничные утверждения, которые вызывают у него возмущение и удивление, но не гнев.
По мере того, как мы продолжали пролистывать книгу, император давал оценки некоторым фактам и корректировал описания событий. Иногда, из чувства сострадания, он пожимал плечами, в других случаях смеялся от всего сердца, но не проявлял ни малейшего признака гнева. Когда я читал отрывок, в котором описываются его шумные оргии и чрезмерная невоздержанность, а также творимые им насилие и произвол, император заявил, что автор книги, безусловно, хотел сделать из него героя во всех отношениях и удовлетворить потребность тех господ, которые обвиняли его в импотенции. Однако, продолжал он, они ошибаются, когда нападают на него с позиций нравственности, — на него, который, и это известно всему миру, существенно укрепил её устои. Они не могли не знать, что он по
336
своей природе абсолютно не был склонен устраивать дебоши и участвовать в оргиях и что, кроме того, обилие разных дел и чрезмерная занятость не позволяли ему развлекаться подобным образом. Когда мы перешли к страницам, на которых его мать изображена как женщина, игравшая самую презренную и омерзительную роль в Марселе, император стал повторять с оттенком возмущения и скорби: «Ах, Мадам Мер! Бедная Мадам Мер! С её возвышенной натурой! Не приведи Бог ей читать это! Боже мой!»
Таким образом мы провели более двух часов, после чего император стал одеваться. К нему пришёл доктор О’Мира: это был его обычный час для посещения императора. «Дотторе, — обратился к нему на итальянском языке император, бреясь без помощи камердинера, — мне только что прочитали одну из ваших лондонских
публикаций, которая обливает меня грязью». Доктор выразил желание узнать, какая именно это публикация. Я издали показал доктору книгу, ведь это он сам одолжил мне её; доктор был явно смущён. «Справедливо говорится, — продолжал император, — что только правда способна оскорбить. Я и минуты не гневался на то, что написано в этой книге, но она часто заставляла меня смеяться». Несколько растерявшийся доктор старался скрыть своё смущение высокопарной фразеологией: эта книга, заявил он, полностью состоит из гнусных, отвратительных клеветнических утверждений, — все знают это, и никто не обращает на неё никакого внимания; тем не
337
менее есть люди, поверившие ей, ибо никто не стал опровергать её утверждения. «Но разве с этим можно что-либо поделать? — спросил император. — Ведь если кому придёт в голову напечатать, что я оброс шерстью и хожу на четвереньках, то найдутся люди, которые поверят этому и скажут, что Бог наказал меня, как он уже сделал это с Навуходоносором. И что тогда мне остаётся? Для подобных случаев лекарства не существует». Доктор ушёл, отказываясь верить в то, что император явно безразличен к оскорбительным выпадам гнусной книги и сохраняет при этом добродушие, чему он только что был свидетелем. Что касается нас, то мы уже привыкли к подобной реакции императора на клевету в его адрес.
Император принимает решение заниматься английским языком
16 января 1816 года
Около трёх часов дня император пожелал, чтобы я явился к нему для разговора, пока он одевается. Затем мы отправились гулять в саду. Во время нашей беседы он неожиданно заявил, что, к своему стыду, он до сих пор не умеет читать по-английски. Я заверил его, что если бы он продолжал брать уроки английского языка после тех двух занятий, которые мы провели с ним, отплыв с Мадейры, то сейчас он смог бы читать самые разные английские книги. Императора убедила моя настойчивость, и он приказал мне впредь давать ему по одному уроку в день.
Поскольку наш разговор коснулся темы образования, я сообщил императору, что только что дал сыну первый урок математики. Император очень любил именно эту отрасль науки, в которой он был особенно силён. Он весьма удивился, что я могу обучать сына математике, не имея соответствующего учебника, и заявил, что не знал, что я сведущ в этой области, пригрозив, что проэкзаменует и преподавателя, и ученика в тот момент, когда мы меньше всего будем ожидать этого. Во время обеда император стал критиковать некоего профессора математики, которого он в своё время почти поставил в тупик своими вопросами. Император никогда не переставал сожалеть, что в лицеях не преподают математику с самого раннего возраста. Он сказал, что все его планы, которые он составил в отношении университетов, были нарушены, и с горечью жаловался на господина де Фонтане, сокрушаясь о том, что в то время, когда он должен был сражаться с врагами вдали от родины, дома
338
было испорчено всё, что он сделал для образования. В связи с этим император вспоминал о ранних годах своей жизни и о преподобном отце Патро, которого я уже упоминал в этом дневнике.
Первый урок английского
17 января 1816 года
Сегодня император получил первый урок английского языка. Так как я был намерен сразу же научить его свободно читать газеты, то первый урок был посвящён ознакомлению с английской газетой: изучению её структуры и размещения в ней материалов, определению страниц, которые отводятся различным проблемам, умению отличать материалы, посвящённые объявлениям и местным новостям, от политических статей и, что касается последних, умению отбирать достоверный материал в общей массе статей, основанных на догадках и слухах.
Я убедил императора, что если он сможет выдержать подобные ежедневные занятия, то через месяц будет в состоянии читать английские газеты, не прибегая к помощи кого-либо из нас. Император затем сам захотел выполнять письменные упражнения: он записывал под диктовку отдельные фразы и потом переводил их на английский язык. Для этого он пользовался небольшой таблицей вспомогательных глаголов и артиклей, которую я составил для него, и словарём. Я объяснял императору правила синтаксиса и грамматики, и он составлял различные предложения; это занятие ему нравилось больше, чем анализ текстов, отобранных из материалов газеты. После урока, в два часа дня, мы отправились на прогулку в сад.
В это время раздались выстрелы из мушкета; они прозвучали настолько близко, что мы решили, что стреляют прямо в саду. Император сказал мне, что моего сына (мы думали, что стрелял он), видимо, следует поздравить с удачной охотой; я ответил, что это будет в последний раз, когда он охотится так близко от императора. «Вы можете пойти и сказать ему, — предложил император, — чтобы он охотился только на расстоянии пушечного выстрела от нас». Я немедленно побежал к сыну, — как выяснилось, мы напрасно обвиняли его, поскольку стреляли слуги, тренировавшие лошадей императора.
После обеда, когда мы пили кофе, император подвёл меня к углу каминной доски, положил руку мне на голову, чтобы измерить мой Рост, и сказал: «Я великан по сравнению с вами». — «Вы, Ваше
339
Величество, великан по сравнению со многими людьми, — ответил я ему, — так что сравнение вас со мною меня совсем не беспокоит». Император немедленно перевёл разговор на другую тему, поскольку не любил, когда ему льстят.
Наши ежедневные привычки — Беседа с губернатором Уилксом — Госпожа де Сталь и господин Неккер
18 — 20 января 1816 года Наша жизнь приняла крайне однообразный характер. Император утром не выходит из дома. Урок английского языка регулярно начинается в два часа дня, затем следует или прогулка в саду, или приём гостей, что бывает, однако, очень редко, потом недолгая поездка в карете, так как лошадей наконец доставили. Перед обедом мы продолжаем просмотр рукописи воспоминаний о кампаниях в Италии и в Египте, после обеда читаем романы.
Двадцатого января император принял губернатора Уилкса, с которым обстоятельно беседовал об армии, науках, правительстве и об Индии. Говоря об организационной структуре английской армии, император уделил внимание принципам продвижения по службе. Он выразил удивление по поводу того, что в стране, соблюдающей равенство прав, солдаты редко становятся офицерами.
Полковник Уилкс признал, что английских солдат не подготавливают для того, чтобы они становились офицерами. Он сказал, что англичане, в свою очередь, удивлены большой разницей между
340
английской и французской армиями, поскольку в последней каждый солдат проявляет прирождённые качества офицера. «Это обстоятельство, — пояснил император, — является одним из главных результатов системы воинской повинности: она сделала французскую армию самой конструктивной и организованной из всех тех, которые когда-либо существовали. Армия Франции в высшей степени национальна, её отличает сильнейшая привязанность к обычаям своей страны, она перестала быть источником огорчения, особенно для матерей, и не за горами то время, когда девушка не станет интересоваться молодым человеком, если он не выполнил своего долга перед страной. И только тогда, когда настанет это время, воинская повинность в полной мере проявит все свои преимущества. Когда служба в армии более не будет считаться одним из видов наказания или принудительной обязанностью, но станет делом чести и предметом всеобщей зависти, только тогда и страна станет великой, знаменитой и могущественной, только тогда она стойко выдержит любые неудачи и вторжения врага — одним словом, все безжалостные испытания времени!
Кроме того, — продолжал он, — можно уверенно сказать, что нельзя чего-либо добиться от французов, прибегая к угрозе; эту черту характера они унаследовали от своих галльских предков.
Храбрость, любовь к славе у французов становятся инстинктом, неким шестым чувством. Как часто в самый разгар сражения моё внимание невольно привлекали молодые новобранцы, которые, впервые в жизни участвуя в нём, бросались безоглядно в самую гущу схватки с противником, проявляя безграничное честолюбие и безоглядное мужество».
После разговора на тему армий император, зная, что губернатор Уилкс — знаток химии, завёл с ним беседу о достижениях в этой области науки. Он говорил об огромном прогрессе, достигнутом нашими фабриками, по роду деятельности связанными с химией. Он отметил, что обе страны, Англия и Франция, несомненно, обладают великими химиками, но что химия в целом более развита во Франции и, в частности, там она больше нацелена на достижение полезных результатов: в Англии химия остаётся чистой наукой, в то время как во Франции она всё больше используется для практического применения. Губернатор признал, что эти замечания императора абсолютно правильны, и великодушно добавил, что всё это во Франции было достигнуто благодаря ему, императору, и что всякий раз, когда развитию науки помогает правительство, это приводит к весомым и удачным для благосостояния общества результатам. Император обратил внимание губернатора на то, что недавно во Франции удалось получить сахар из корнеплодов свёклы и что он так же хорош по своим вкусовым качествам и так же дёшев, как сахар, получаемый после переработки сахарного тростника. Губернатора удивила эта информация, — он даже не подозревал об этом. Император заверил его, что это установленный факт, хотя новый процесс производства сахара противоречил укоренившимся и предвзятым мнениям во всей Европе, не исключая и саму Францию. Он добавил, что подобное случилось и с красителем, получаемым из вайды, заменившей индигоноску, и со всеми колониальными продуктами, за исключением красильного дерева. Беседу о достижениях в области химии император завершил заявлением о том, что если изобретение компаса вызвало революцию в торговле, то прогресс в области химии, вероятно, вызовет новую революцию в развитии торговых связей.
Затем беседа коснулась проблемы массовой эмиграции ремесленников и мастеровых Франции и Англии в Америку. Император высказал мысль, что эта благодатная страна богатеет благодаря нашим глупостям. Губернатор улыбнулся и сказал, что в списке эмигрантов ремесленники Англии занимают первое место из-за многочисленных ошибок правительства, которые привели к протесту и последующей эмансипации колоний. Император заявил, что освобождение колоний в Америке неизбежно: когда дети достигают размера своих отцов, трудно держать их в повиновении.
342
Затем собеседники заговорили об Индии. Губернатор прожил там много лет, занимая высокие должности, и провёл в этой стране важные исследования; он оказался в состоянии ответить на многочисленные вопросы императора относительно законов, нравов, обычаев индусов, характера правления англичанами этой страной, природы и толкования существующих там законов и т.д.
Англичане подчиняются законам Англии; уроженцы Индии руководствуются местными актами, составленными советами, члены которых находятся на службе Восточно-Индийской компании. Основой этих актов являются законы самого населения страны.
Хайдар Али был весьма одарённым человеком; Типу Султан, его сын, был надменным, невежественным и безрассудным. В распоряжении первого было свыше ста тысяч воинов, второй же едва ли имел когда-либо свыше пятидесяти тысяч. Этим людям нельзя отказать в мужестве, но они не обладали физической силой и ничего не знали ни о дисциплине, ни об основах тактики. Семнадцати тысяч солдат, находившихся на английской военной службе, из которых только четыре тысячи были европейцами, хватило для того, чтобы уничтожить княжество Майсур. Однако следует ожидать, что рано или поздно национальный дух индусов освободит регионы Индии от владычества европейцев. Соединение европейской крови с кровью местных жителей ведёт к созданию смешанной расы, численность и характер которой, несомненно, создали основу для великой революции. Тем не менее, в своём нынешнем состоянии народ Индии чувствует себя более счастливым, чем ранее при полном господстве англичан: справедливая система правосудия и сдержанная политика правительства стали в настоящее время сильнейшей поддержкой местного самоуправления. Было также признано целесообразным запретить англичанам и другим европейцам скупать там земельные участки и практиковать наследственное право на землю.
Во время наших вечерних бесед предметом разговора стала книга госпожи де Сталь «Дельфина». Император внимательно прочитал книгу, ничто в ней не избежало его критической оценки. Его критику вызвала беспорядочность в выражении мысли и творческого воображения, которая характерна для этого сочинения. Как сказал император, на протяжении всей книги прослеживаются те же самые недостатки характера автора, которые заставляли императора держать госпожу де Сталь на расстоянии, несмотря на самые недвусмысленные заигрывания и непрестанную лесть в его адрес с её стороны. Как только военные победы обессмертили имя молодого генерала, главнокомандующего французской армией в Италии, так сразу же госпожа де Сталь, незнакомая с ним, из чувства преклонения
343
перед славой заявила во всеуслышание о своём восторженном отношении к нему, достойном героини её романа «Коринна». Она принялась писать генералу многочисленные и длинные послания, отмеченные остроумием, творческим воображением и глубокой эрудицией. Соединение Наполеона со смиренной и спокойной госпожой Бонапарт — это ошибка, писала она, и лишь следствие физического влечения; именно госпоже де Сталь, с её пламенной душой, природой предназначено стать верной спутницей героя Наполеона.
С настойчивостью и пылом, который невозможно было охладить, ей удалось позднее завязать знакомство с Наполеоном, и ей даже разрешено было наносить ему визиты. И она, как рассказывал император, пользовалась этой привилегией без меры. Не подлежит никакому сомнению тот факт, что однажды генерал, желая заставить её понять это, во время её очередного визита к нему передал ей через слугу, что он извиняется, но принять её не может, так как практически полностью раздет. Она тут же совершенно серьёзно попросила передать Наполеону, что это не имеет никакого значения, поскольку у гениев нет пола.
От нашего разговора о госпоже де Сталь мы естественным образом перешли к воспоминаниям о её отце, Неккере. Император рассказал, что в Женеве, во время его следования в Маренго, ему нанёс визит господин Неккер и в довольно неуклюжей форме выразил желание вновь войти в состав правительства. Между прочим, Калонн, соперник Неккера, впоследствии приезжал в Париж, чтобы выразить то же самое желание, причём в самой легкомысленной форме, совершенно недоступной для понимания. Потом господин Неккер написал опасную книгу о политике Франции, которая, как он доказывал, более не может существовать ни в качестве монархии, ни в качестве республики. В этой книге он назвал Первого консула необходимым человеком. Первый консул осудил эту книгу, которая в то время могла нанести ему немалый ущерб, и поручил консулу Лебрену выступить с её опровержением. Лебрен, как сказал император, «в свойственной ему элегантной манере» должным образом выполнил поручение, дав быструю и пространную оценку произведения Неккера, и она вызвала сильное раздражение в окружении последнего.
Госпожа де Сталь, замешанная в некоторых интригах, получила приказ покинуть Францию и с тех пор стала ярым и ревностным врагом Наполеона. Тем не менее, когда он вернулся с острова Эльба, она направила ему письмо, в котором сообщила, в свойственном ей стиле, об энтузиазме, охватившем её в связи со столь замечательным событием. Она заявила, что этот его последний подвиг не мог быть совершён простым смертным, что этот поступок сразу же причислил его к небожителям. Затем, поостыв от нахлынувших на неё
344
чувств и вспомнив о себе, она закончила письмо тем, что недвусмысленно дала понять, что если император соизволит разрешить ей получить два миллиона, приказ о выплате которых уже подписан королём, то её перо и её принципы будут всегда служить его интересам. Император велел сообщить ей в ответ, что ничто не может польстить ему больше, чем её одобрение его последнего подвига, поскольку он высоко ценит её таланты, но он не настолько богат, чтобы купить её одобрение за такую цену.
Описание моего нового жилища — Мои предки
21 января 1816 года
Наконец я получил в своё распоряжение новое жилище, построенное вместо бывшей кладовки. На грунт, не просыхающий от сырости, был положен дощатый настил размером шесть метров в длину и три метра в ширину. Этот помост окружён стеной из глины, толщиной в полметра. Её легко можно свалить ударом ноги. На высоте двух метров вся постройка накрыта крышей из досок, щели между ними заполнены бумагой и смолой. Такова конструкция и размеры моего нового дворца, разделённого на две комнаты. В одну комнату поставлены две кровати, между которыми находится комод и с трудом нашлось место для единственного стула. Вторая комната, служащая мне и салоном, и библиотекой, имеет одно окно, плотно закрытое, учитывая сильный ветер и проливной дождь. Справа и слева от окна стоят два письменных стола — для меня и для сына. Напротив — кушетка и два стула. Вот и вся моя мебель и все мои удобства. Добавьте к этому то, что оба окна обращены в сторону постоянно дующего в одном и том же направлении ветра, обычно сопровождаемого дождём, часто проливным. Незадолго до нашего вселения в это жилище проливной дождь проник сквозь щели в стене и в крыше.
Я только что провёл первую ночь в этих новых апартаментах. Я чувствую себя нездоровым, смена кровати мешала мне уснуть. Около семи часов утра мне сообщили, что император собирается совершить верховую прогулку. Я ответил, что нездоров и попытаюсь немного отдохнуть. Но не прошло и нескольких минут, как какой-то человек быстрым шагом вошёл в мою комнату, решительно раздвинул занавески на окнах, пожурил меня за то, что я бездельничаю, и заявил, что я должен избавляться от своих болезней. Затем, почувствовав неприятный запах свежей краски и обратив внимание на чрезвычайную тесноту моей комнатушки, в которой вплотную стоят две кровати, он решил, что мы с сыном более не должны страдать от того, что нам приходится спать чуть ли не прижавшись
345
друг к другу. Он заявил, что нам вредно жить в такой обстановке и я должен вернуться спать в картографическую комнату, от которой мне не следует отказываться из чувства ложной деликатности, и что если и там я столкнусь с неудобствами, то должен буду сказать об этом. Нетрудно догадаться, что этим человеком был сам император.
Конечно, я вскоре покинул постель, оделся и почувствовал себя лучше. Император, однако, был уже далеко, и я пошёл искать его в саду. Когда я догнал его, мы завели разговор о том продолжительном приёме, который накануне император оказал губернатору Уилксу. Пребывая в очень хорошем настроении, император принялся рассуждать о том, что, видимо, благодаря изданной мною книге я в глазах губернатора предстал весьма важной персоной и поэтому он относится ко мне с чрезвычайной благожелательностью. «Конечно, — продолжал он, — понятно, что эти чувства должны быть взаимными: это же обычное взаимное уважение и братство авторов, которое существует до тех пор, пока они не критикуют друг друга. А известно ли ему о ваших родственных отношениях с преподобным Лас-Казасом?»
Я ответил, что ничего не знаю об этом, но генерал Гурго, который шёл по другую руку от императора, подтвердил, что губернатору это известно. «А каким образом вам самому стало известно об этом? — спросил меня император. — Может быть, вы всё преувеличиваете?» — «Сир, следующие факты являются моими доказательствами, — отвечал я. — Наша семья уже двести лет проживала во Франции, когда имя Бартелеми де Лас-Казас стало хорошо известно в Испании, и все испанские историки описывают его как уроженца того же самого города, выходцами из которого были и мы сами, а именно — Севильи. Все они пишут, что он родом из древней семьи французского происхождения и что его предки появились в Испании в то же самое время, когда наша семья прибыла в эту страну». — «Что? Значит, вы не испанец? Он был французом, как и вы!» — «Совершенно верно, сир». — «Так расскажите нам всё об этом, приступайте же, сир Кастелян, смотритель замка, сир Странствующий Рыцарь, сир Доблестный Рыцарь, — покажите себя во всей своей славе, разверните свои старые пергаментные грамоты! Давайте же, наслаждайтесь моментом». — «Сир, один из моих предков сопровождал Анри, графа Бургундского, когда тот во главе крестоносцев примерно в 1100 году завоевал Португалию. Мой предок был знаменосцем графа Бургундского во время знаменитого сражения при Урике, в результате которого была основана португальская монархия. Впоследствии наша семья вернулась во Францию вместе с королевой Бланш, когда она прибыла туда, чтобы выйти замуж за Людовика IX. Сир, это всё».
346
Чтение императора — Госпожа де Севинье — Карл XII — «Поль и Виргиния» — Французские писатели и историки
22 — 26января 1816 года
Все эти дни стоит неприятная погода из-за почти непрерывных дождей. Император смог только дважды выезжать верхом — один раз утром в парк и один раз днём в нашу долину, которую дождливая погода сделала почти непроезжей. Нельзя было использовать карету, поэтому мы были вынуждены ограничиться прогулкой в саду, в дурном настроении, в унисон с сумрачной погодой, прошествовав по садовой дорожке взад и вперёд. Но из-за плохой погоды мы уделили гораздо больше времени нашей работе. Император с большим усердием регулярно брал продолжительные уроки английского языка. У него вошло в привычку всё утро посвящать чтению. Он прочитывал целиком книги значительного объёма, не испытывая ни малейшей усталости. Перед началом английского урока он всегда читал мне отрывки из прочитанной им книги.
Одной из таких книг были «Письма» госпожи де Севинье. Книга отличалась простотой стиля и достоверным описанием нравов того времени. Прочитав в книге о смерти Тюренна и о суде над Фуке, император сказал о последнем, что госпожа де Севинье, судя по всему, проявила к нему слишком много доброты, искренности и нежности, поскольку он был её другом.
Другой книгой был «Карл XII». Читая страницы, посвящённые тому, как Карл защищался от турок в своём доме в Бендерах, император не мог удержаться от смеха, повторяя при этом: «Какая сильная личность! Какая сильная личность!» Он спросил меня, установлена ли причина смерти этого монарха. Я рассказал императору, что слышал из уст самого Густава III, будто Карл XII был убит его же сторонниками. Густав III осматривал тело Карла XII в склепе; пуля, убившая его, была пистолетной, — в него стреляли с близкого расстояния, причём сзади.
В начале революции я близко познакомился с Густавом III на курорте минеральных вод в Э-ла-Шапель, и, хотя тогда я был очень молод, я не раз имел честь беседовать с ним; он даже обещал мне должность в его военно-морском флоте, если события во Франции будут развиваться неблагоприятным для меня образом.
На днях император читал «Поля и Виргинию». Он отдал должное описанию трогательных сцен в романе, которые подкупают своей простотой и естественностью. Те же места в романе, которые полны пафоса, абстрактных и ложных идей, столь модных в то время, когда он был опубликован, — все они, по мнению императора,
347
плохи и искусственны и вызывают лишь равнодушие. Он сказал, что в юности был сильно увлечён этой книгой, но что касается её автора, то он никогда не испытывал к нему личного уважения. Император никогда не мог простить его за то, что тот нагло воспользовался его щедростью, когда он вернулся во Францию из армии в Италии. «Бернарден де Сен-Пьер, — заявил император, — как раз и был лишён чувствительности и деликатности, и его характер не соответствует очаровательным образам героев его романа, Поля и Виргинии. Он был скверным человеком. Он очень плохо обращался со своей женой, дочерью Дидо, владельца типографии, всегда был готов попрошайничать, не испытывая ни малейшего стыда. Когда я вернулся из Италии, Бернарден нанёс мне визит и почти сразу же стал жаловаться на своё бедственное положение. Я, который в ранней юности только и бредил о Поле и Виргинии и который чувствовал себя польщённым его доверием, оказанным, как я представлял себе, только мне одному, поспешил к нему с ответным визитом и, никем не замеченный, оставил на углу его каминной доски небольшую стопку монет, каждая в двадцать пять луидоров. Но каким же я чувствовал себя оскорблённым, когда увидел, что все кому не лень смеялись над моим деликатным поведением, и понял, что так поступать не следует, когда имеешь дело с господином Бернарде- ном, у которого попрошайничество у всех приезжих стало обычным занятием. Я навсегда сохранил презрительное отношение к нему за то, что он обвёл меня вокруг пальца. Что же касается моей семьи, то её члены относились к нему по-другому. Жозеф назначил ему большую пенсию, а Луи постоянно делал ему подарки».
Но если императору нравится роман «Поль и Виргиния», то работа того же автора «Исследования природы» вызывает у него смех и чувство жалости. «Хотя Бернарден сведущ в области художественной литературы, — говорит он, — но мало что понимает в геометрии; эта его последняя работа настолько плоха, что люди науки считают ниже своего достоинства даже замечать её. Бернарден во всеуслышание жаловался на то, что они игнорируют его. Знаменитый математик Лагранж, высказываясь по этому поводу, всегда заявлял, ссылаясь на Институт: “Если бы Бернарден был нашего уровня, если бы он на равных рассуждал с нами о научных проблемах, то мы бы пригласили его к нам”».
Однажды, когда Бернарден, как обычно, жаловался Первому консулу на учёных, которые замалчивают его работы, Наполеон спросил его: «Господин Бернарден, вы понимаете дифференциальный метод?» — «Нет». — «Ну что ж, идите и изучите его, и тогда вы сможете постоять за себя». Впоследствии, всякий раз, когда император встречал Сен-Пьера, он обычно говорил ему: «Господин
348
Бернарден, когда же мы дождёмся новых “Поля и Виргинию” или “Индийскую хижину”? Вы должны снабжать нас ими каждые шесть месяцев».
Читая книгу Верто «Римские революции», император высказал мнение, что её повествование слишком растянуто, хотя в других отношениях он высоко ценит эту работу. Это — его постоянное замечание о каждой книге, которую он берёт в руки; но, как он говорит, в годы своей юности он сам страдал этим недостатком, когда занимался письменной работой. Будет справедливо сказать, что позднее император успешно справился с этим недостатком. Он развлекался тем, что сокращал в книге Верто чрезмерно многословные фразы; в результате повествование обретало, не теряя сути, энергичный и живой стиль. «Несомненно, — заявил император, — это был бы ценный и благодарный труд, если бы какой-нибудь человек, обладающий вкусом и проницательностью, посвятил своё время сокращению подобным же образом основных произведений французской литературы. Едва ли я могу вспомнить какого-либо нашего писателя, за исключением Монтескье, который не нуждается в таком сокращении».
Император часто листает работы Роллена, которого считает излишне многословным и поверхностным. Кревье, последователь Роллена, кажется Наполеону отвратительным. Император жалуется на авторов французской классической литературы и сожалеет о том времени, которое наши молодые люди вынуждены терять только потому, что читают такие плохие книги. Император утверждает, что эти произведения писались краснобаями и всего лишь любителями литературы, тогда как книги, затрагивающие извечные темы об основах нашего познания жизни во всех её проявлениях, обязаны исходить из-под пера государственных деятелей и людей, умудрённых жизненным опытом. На этот счёт император вынашивал блестящие идеи, и только нехватка времени помешала ему осуществить их на практике.
Император ещё более разочарован нашими французскими историками; он терпеть не может читать их работы. «Велли — словоохотлив, но значение его работ ничтожно; его последователи и того хуже. Наша история, — заявлял император, — должна быть изложена или в четырёх-пяти, или в ста томах». Он был знаком с Гарнье, который продолжал дело Велли и Вилларе. Гарнье был стариком восьмидесяти лет, проживавшим в небольшой квартире на первом этаже дома у дороги, рядом с Мальмезоном. Удивлённый тем назойливым вниманием, которое проявлял этот старец всякий раз, когда Первый консул проезжал мимо его дома, он поинтересовался, кто же этот человек. Узнав, что это Гарнье, Наполеон догадался
349
о причинах его поведения. «Он, несомненно, вообразил себе, — шутливо объяснил император, — что Первый консул является его, как историка, личной собственностью. Однако я рискну сказать, что он был удивлён тем, что обнаружил консулов там, где привык видеть королей». Об этом Наполеон, смеясь, рассказал ему сам, когда пригласил Гарнье к себе и назначил ему неплохую пенсию. «С этого времени, — продолжал император, — бедняга в порыве благодарности заявил, что готов с радостью писать от всего сердца всё, чего бы я ни пожелал».
Опасности, которым подвергался император во время сражений при Эйлау, Иене и др. — Молодой Жильбер — Корбино — Ланн — Бессьер — Дюрок
27 января 1816 года
Около пяти часов дня император отправился на прогулку в карете. Погода была прекрасная. Мы ехали быстро, а расстояние, которое нам предстояло преодолеть, было очень небольшим. Император приказал слугам уменьшить скорость, чтобы продлить поездку. Когда мы возвращались, император, бросив взгляд на английский военный лагерь, от которого нас отделял только овраг, спросил, почему бы нам не переехать через овраг на другую сторону, — в этом случае мы бы удвоили время нашей поездки. Ему сказали, что это невозможно. Тогда, словно раздражённый этим словом «невозможно», о котором он часто говорит, что оно не французское, император приказал провести разведку дороги через овраг. Мы все вышли из кареты, и она проследовала дальше без пассажиров через овраг, благополучно преодолев все препятствия на своём пути. Мы вернулись домой с торжеством, словно только что увеличили вдвое наши владения.
Во время обеда и после него разговор коснулся различных боевых подвигов. Гофмаршал рассказал, что из жизни императора его более всего поразил случай во время сражения при Эйлау. Тогда колонна из пяти тысяч русских вплотную приблизилась к императору, рядом с которым были только несколько офицеров его штаба. Бертье, князь Невшательский, немедленно распорядился, чтобы подали лошадей. Император, укоризненно взглянув на него, приказал, чтобы поторопили батальон его охраны, который значительно отстал, а сам продолжал стоять неподвижно. По мере того как русские солдаты приближались к нему, он несколько раз повторил: «Какая наглость! Какая наглость!» При виде подоспевших гренадёров
350
императорской охраны русские немедленно остановились. Император в течение всего этого эпизода даже не шевельнулся, а все, кто были вокруг него, не скрывали своего беспокойства.
Император в ответ сказал, что, на его памяти, самыми замечательными манёврами его войск отмечено сражение при Экмюле. К сожалению, он не стал распространяться на эту тему и не привёл никаких подробностей. «Успех в войне, — далее продолжал он, — в огромной степени зависит от проницательности и от выбора правильного момента для начала решительных действий. Битва при Аустерлице, закончившаяся полнейшей победой, была бы мною проиграна, если бы я бросил свои войска в атаку на шесть часов раньше. В той битве русские войска, как никогда впоследствии, блестяще проявили себя. Русская армия, сражавшаяся при Аустерлице, не проиграла бы сражение под Москвой».
«Маренго, — заявил император, — вот битва, в которой австрийцы сражались лучше всего: их войска там вели себя на редкость мужественно; но эта битва стала могилой их героизма, которого они впоследствии никогда не демонстрировали».
«В сражении при Йене прусские войска не оказали того сопротивления, которого можно было от них ожидать, судя по их репутации. Что же касается всей массы прусских войск в сражениях 1814 -го и 1815 годов, то они были всего лишь сбродом по сравнению с солдатами, участвовавшими в сражениях при Маренго, Аустерлице и Йене».
В ночь накануне сражения при Йене император подверг себя величайшему риску. Он мог бы умереть, и обстоятельства его гибели
351
так бы и остались полностью не раскрытыми. В темноте он вплотную приблизился к расположению войск противника, чтобы провести разведку их позиций; с ним было всего лишь несколько офицеров. В то время существовало мнение, что прусская армия отличается бдительностью и готовностью к боевым действиям; считалось, что пруссаки особенно склонны к проведению ночных атак. Когда император возвращался, его обстрелял часовой, выставленный у лагеря французских войск; этот выстрел послужил сигналом для беспорядочной стрельбы со стороны французских позиций. Императору ничего не оставалось делать, как упасть на землю и ждать, когда обнаружат ошибку. Но он более всего опасался, что прусские солдаты, чьи позиции были почти рядом с ним, поведут себя так же, как французские стрелки.
Под Маренго австрийские солдаты хорошо помнили, кто был победителем в сражениях при Кастильоне, Арколе и Риволи; само имя Наполеона влияло на их настроение угнетающе. Но здесь, под Маренго, они были уверены, что его нет с французской армией; они считали, что его нет в живых. Со стороны руководства австрийской армии были приняты меры, чтобы убедить своих солдат в том, что Наполеон погиб в Египте, а командующий французской армией, о котором много говорилось в Маренго, это только брат Первого консула. Этим слухам настолько верили повсюду в Италии, что Наполеон вынужден был появиться в Милане на публике, чтобы развеять их.
Рассказав эти истории, император стал вспоминать многочисленных офицеров и адъютантов, расхваливая одних и порицая других по ходу своего рассказа; он досконально знал каждого из них. Как он сообщил, на полях сражений на него более всего подействовали два
352
трагических случая, связанных со смертью молодого Жильбера и генерала Корбино. В сражении при Абукире пуля прошла насквозь через грудь Жильбера, не убив его сразу. Император, сказав ему несколько слов, был вынужден, под влиянием нахлынувших чувств, покинуть его. В сражении при Эйлау, в тот момент, когда император отдавал распоряжения генералу Корбино, вражеское пушечное ядро, попав прямо в генерала, разорвало его в клочья на глазах Наполеона.
Император рассказал также о последних минутах жизни маршала Ланна, доблестного герцога Монтебелло, справедливо прозванного «Орландо» французской армии. Когда император навестил умирающего Ланна, маршал, казалось, забыл о собственном состоянии,
из последних сил проявляя сочувствие к императору, которого любил превыше всех. Император глубоко уважал Ланна. «Долгое время, — заявил он, — Ланн был простым солдатом, но потом стал высококлассным офицером». Кто-то из нас заметил, что он хотел бы знать, как бы повёл себя Ланн в последующие времена, если бы остался в живых. «Мы научены опытом, — ответил император, — не загадывать вперёд. Тем не менее, я не могу допустить, чтобы Ланн отклонился от пути долга и чести. Кроме того, трудно представить себе, что он смог бы долго прожить. При всей его храбрости он, несомненно, был бы убит в одном из последующих сражений или настолько серьёзно ранен, что не стал бы принимать участия в дальнейших битвах. Но если бы он остался годным для службы, то это был бы человек, способный изменить ход событий благодаря своему авторитету и влиянию».
Затем император заговорил о Дюроке. «Дюрок, — сказал он, — обладал живым и нежным характером и скрытыми страстями, которые мало соответствовали его строгим манерам. Я долго об этом и не подозревал, настолько точно и педантично он исполнял свои обязанности. Пока я не заканчивал свои занятия и не отправлялся отдыхать, Дюрок не начинал свою работу. Только благодаря случаю я смог узнать его характер. Он был честным и добродетельным человеком, абсолютно бескорыстным и чрезвычайно щедрым».
Император рассказал, что в начале Дрезденской кампании он самым глупейшим образом потерял двух людей, чрезвычайно ценных для него: Бессьера и Дюрока. Вспоминая обстоятельства их
гибели, император демонстрировал стоицизм, который явно не был для него естественным. Когда он пошёл повидаться с Дюроком после того, как тот получил смертельную рану, он попытался обнадёжить его; но Дюрок, сознавая своё положение, ответил только тем, что попросил императора распорядиться дать ему смертельную дозу опиума. Император, взволнованный до крайности, не смог более оставаться с Дюроком и быстро ушёл, чтобы не быть свидетелем его мучений.
Один из нас напомнил императору, что, покинув Дюрока, он стал в одиночестве ходить взад и вперёд около штабной палатки; никто не посмел заговорить с ним. Но поскольку было необходимо получить от императора распоряжения на следующий день, кто-то рискнул спросить его, где следует расположить батареи его гвардии. «Ни о чём не спрашивайте меня до завтрашнего дня», — таков был ответ императора.
При воспоминании об этом император, с заметным усилием, резко перевёл разговор на другую тему.
Дюрок был одной из тех личностей, которых по достоинству оценивают только после их кончины. После его смерти об этом только и говорилось при дворе императора и в столице Франции, и чувство утраты было повсеместным.
Дюрок был родом из Нанси, департамент Мёрт. Наполеон встретил его в тылу войск, осаждавших Тулон, и сразу же проявил к нему большой интерес. Его привязанность к Дюроку возрастала с каждым днём, и можно сказать, что они никогда не расставались. Я не раз упоминал о том, что слышал слова императора: в течение всей своей карьеры Дюрок был единственным человеком, к которому император испытывал неограниченное доверие и которому он мог свободно раскрыть свою душу. У Дюрока был далеко не лёгкий характер, но он обладал исключительным здравым смыслом и оказывал императору существенные услуги, о которых мало кто знал благодаря их характеру и сдержанности самого Дюрока.
Дюрок любил императора ради него самого: он был привязан к нему скорее как к человеку, а не как к монарху. Его повелитель доверял ему свои чувства, и Дюрок обрёл искусство и, возможно, право умиротворять и направлять их. Как часто он шептал на ухо людям, оцепеневшим от страха в результате гнева императора: «Оставьте его в покое: сейчас говорят его чувства, а не здравый смысл; завтра он будет вести себя по-другому». Какой слуга! Какой Друг! Какое сокровище! Как много бурь он успокоил! Как много было опрометчивых распоряжений и приказов, отданных в минуту Раздражения, исполнение которых Дюрок приостановил, зная, что
355
на следующий день его хозяин будет его за это благодарить! Император приспособился к этому, так сказать, молчаливому соглашению и по этой причине с большей готовностью шёл на уступки тем сильнейшим проявлениям вспыльчивого характера, которые помогают отвести душу.
Дюрок умер наиболее прискорбным образом и в самый критический момент; его смерть была одной из тех катастроф для Наполеона, которые составили целую цепь несчастий в его карьере.
На следующий день после сражения при Вурцене около Рейхен- баха произошла небольшая стычка. К вечеру перестрелка с обеих сторон совсем стихла. Дюрок, поднявшись на вершину холма, беседовал с генералом Кирхнером и наблюдал за отступлением последних отрядов противника. Прицел вражеской пушки был наведён на
небольшую группу французских генералов в мундирах, блестевших на солнце, которое уже заходило за горизонт. Выпущенное из пушки роковое ядро убило обоих генералов*.
Дюрок обладал большим, чем предполагалось, влиянием на принятие императором решений. В этом отношении его смерть была, вероятно, национальным бедствием. Есть все основания считать, что, если бы он был жив, перемирие в Дрездене, которое погубило нас, не было бы заключено; тогда бы мы вышли к берегам Одера и могли двинуться и дальше. В этом случае противник немедленно согласился бы подписать мирное соглашение, и мы бы избежали его
* Генерал Кирхнер был известным офицером инженерной службы; он был шурином маршала Ланна, который выбрал его для своей армии, учитывая мужество и способности Кирхнера.
356
махинаций, интриг и, прежде всего, подлого и отвратительного вероломства австрийского кабинета министров, которое привело нас к гибели.
В последующий период времени Дюрок по-прежнему мог бы оказывать влияние на развитие событий, имевших судьбоносное значение, и, возможно, способствовал бы тому, чтобы дела приняли иной характер. Наконец, даже при дальнейшем стечении обстоятельств, во времена падения Наполеона он всегда бы делил свою судьбу с судьбой императора: он был бы с нами на острове Святой Елены, и одного этого было бы достаточно, чтобы нейтрализовать ужасные притеснения, которым непрестанно подвергался Наполеон.
Бессьер, уроженец департамента Ло, стал военным по воле революционных событий. Он начал свою карьеру рядовым солдатом в конституционной гвардии Людовика XVI. Впоследствии, став капитаном батальона стрелков, он привлёк внимание главнокомандующего французской армией в Италии своей беспримерной личной отвагой; и, когда генерал учредил корпус личной охраны, он выбрал Бессьера в качестве командира корпуса. Потом мы видим его уже главой консульской и императорской гвардии. Он возглавлял авангард армии, решал судьбу сражений, и фортуна благосклонно относилась к нему, даря победы. Его имя неразрывно связано со славой всех наших великих сражений.
Своей карьерой он полностью обязан человеку, который смог распознать суть его личности. Император весьма щедро осыпал его почестями. Бессьер получил звание маршала империи, стал герцогом Истрийским, полковником кавалерийской гвардии и т.д.
Прекрасные качества его личности совершенствовались по мере того, как развивалась его военная карьера, и он был достоин своей счастливой судьбы до последних минут жизни. Он всегда был добрым, гуманным и щедрым, ему были присущи старомодные, в хорошем смысле этого слова, преданность и чистота чувств. Был ли он гражданином или солдатом, он всегда оставался честным и достойным человеком. Те милости, которыми его осыпал император, он часто использовал для того, чтобы оказать, в силу доброты своего характера, различную помощь людям. Я знаю некоторых из них, и если у них сохранилась к нему хоть толика признательности, то они подтвердят это моё утверждение и будут свидетельствовать о его благородных, возвышенных чувствах.
Гвардейцы, среди которых Бессьер провёл свою жизнь, обожали его. Во время битвы при Ваграме вражеское пушечное ядро на излёте сбросило его с лошади, не причинив никакого вреда. Весь батальон гвардии вскрикнул в едином порыве скорби. Когда после этого Наполеон встретил Бессьера, он заметил: «Бессьер, ядро, сбившее
357
вас с лошади, вызвало слёзы у всей моей гвардии. Поблагодарите его: это ядро должно быть вам очень дорого».
Но фортуна изменила ему в начале военной кампании в Саксонии. Накануне сражения при Лютцене произошла незначительная схватка с отрядом противника. Бессьер, оказавшийся в самой её гуще, был убит на месте пулей из мушкета, попавшей ему в грудь. Таким образом, прожив жизнь как Баярд, он умер как Тюренн.
Незадолго до этого рокового события мне пришлось беседовать с ним. Случай свёл нас вместе в одной частной ложе в театре. Мы говорили об общественных делах, которые глубоко интересовали его, поскольку он боготворил свою страну. Его последние слова, когда он покидал меня, были о том, что он в ночь выезжает в армию, но надеется встретиться вновь. «В нынешнем кризисе, — сказал он, — когда нам приходится сражаться вместе с нашими молодыми солдатами, мы, командиры, не должны щадить себя». Увы! Ему не суждено было вернуться.
Бессьер был искренне предан императору, он почти боготворил его; он, подобно Дюроку, несомненно, никогда бы не покинул его и разделил бы с ним его участь. Можно подумать, что судьба, явно оказавшаяся неблагосклонной к Наполеону в последнее время, решила лишить его сладостных минут утешения, отняв двух таких ценных друзей, и, с другой стороны, помешала этим верным слугам претендовать на высочайшее право приобщиться к славе, а именно — иметь возможность отблагодарить несчастного человека за всё то, что он сделал для них.
358
Император приказал перевезти в Дом инвалидов в Париже останки этих двух людей, которых он так высоко ценил и благодаря которым узнал, что его могут сильно любить. Император предполагал возвести в Париже большой памятник в их честь, но последовавшие события помешали ему осуществить этот план. Но История, которая лучше хранит прошлое, чем мрамор или бронза, освятила их и навсегда защитила их имена от забвения*.
Изучение английского языка — Верховая прогулка
31 января 1816 года
Дни проходят, как и можно было предположить, чрезвычайно однообразно. Наши грозные враги — скука, воспоминания и меланхолическое настроение, единственное и главное спасение — наши
* Вот отрывок из дневника барона Оделебена «Военная кампания в Саксонии в 1813 году». Барон был непосредственным свидетелем описываемого события, датированного 10-м августа, днём возобновления военных действий, через три месяца после смерти Дюрока.
«Во время похода из Райхенбаха в Гёрлиц Наполеон остановился в Макерсдорфе и показал королю Неаполитанскому то место, где был смертельно ранен Дюрок. Наполеон вызвал к себе хозяина небольшой фермы, где скончался гофмаршал, и ассигновал ему сумму в размере 20 000 франков, из которых 4000 были предназначены для возведения памятника в честь погибшего, а 16 000 были дарованы хозяину фермы и его жене. Дар был вручён им вечером в присутствии пастора и судьи Макерсдорфа: деньги были пересчитаны перед ними, и им было поручено проследить за возведением памятника».
359
регулярные занятия. С упорным постоянством император продолжает занятия английским языком, это стало для него делом немалой важности. Прошло уже почти две недели с тех пор, как он приступил к первому уроку. Он ежедневно посвящает этому занятию два часа, начиная с полудня. Иногда он занимается английским языком с завидным рвением, а иногда — с заметным отвращением. Подобные смены его настроения всегда держат меня в напряжении. Я придаю огромное значение достижению успеха в наших занятиях. Каждый день я беспокоюсь о том, что император не усвоил как следует тот материал, который мы прошли накануне, и, соответственно, я считаю, что напрасно обременял его утомительной работой, не получая желаемого результата, на который надеялся.
С другой стороны, меня не оставляет чувство, что мы приближаемся к намеченной цели. Овладение английским языком является для императора серьёзным делом. Прежде, как он заявлял, только переводы с английского языка обходились ему в сто тысяч франков в год, а каким образом он мог узнать, что получаемые им переводы — точные, и можно ли на них полагаться? Теперь же мы находимся, можно сказать, в тюремном заключении, среди носителей этого языка и имеем дело с публикациями только на этом языке. Следует добавить, что в нашем распоряжении очень мало книг на французском языке; император все эти книги уже прочитал. В то же время мы можем без всякого труда получать множество английских книг, абсолютно новых для него. Кроме того, изучение языка иностранца всегда располагает его к нам, доставляет удовольствие, облегчает общение и способствует началу связи между двумя сторонами.
Как бы то ни было, но я уже вижу конец наших трудностей; я предчувствую тот момент, когда император будет справляться со всеми теми неизбежными неприятностями, которые знакомы новичкам, приступившим к изучению иностранного языка. Но пусть каждый, если возможно, представит себе, что должно означать для императора оторванное от практики изучение спряжений, склонений и артиклей. Оно никогда бы не было доведено до конца без огромной настойчивости ученика и, в какой-то степени, изобретательности учителя. Император часто спрашивает меня, не заслуживает ли он теперь скипетра византийских императоров — после того как получил огромную пользу от обучения. Он в шутку заявил, что добился бы гораздо большего прогресса, если бы не боялся, что его будут поправлять. Он жалуется на то, что не продвигается в изучении английского языка, но на самом деле тот прогресс, которого он добился, для любого другого человека был бы выдающимся.
Чем грандиозней разум человека, чем быстрее и легче он вникает в суть сложнейших проблем, тем меньше он обращает внимания
360
на обыденные, мелкие детали. Император, который продемонстрировал поразительную способность понимания всего, что касается философии иностранного языка, оказался не в состоянии усвоить грамматические законы. Он обладает мгновенной сообразительностью и очень плохой памятью. Его сильно раздражает это обстоятельство, и он повторяет, что не продвигается ни на шаг в наших занятиях. Всякий раз, когда я могу подвести обсуждение к какому-нибудь грамматическому правилу и привести примеры его действия, император мгновенно схватывает суть проблемы. Ученик даже опережает учителя, делая соответствующие умозаключения и предлагая собственные примеры. Но заучивать наизусть — трудная задача. Император сохраняет в памяти простые элементы английского языка, но путает одно правило с другим.
Поначалу я решил, что не буду слишком настойчиво требовать от него безупречного подхода к регулярной работе. Дело в том, что те же самые гласные, что и у нас, требуют в английском языке совершенно другого произношения. Но ученик признаёт только наше произношение, и учитель увеличил бы десятикратно трудности и неприятности, настаивая на правильном произношении. Помимо всего прочего, ученик даже во французском языке привык к искажению имён собственных и иностранных слов. Он произносит их как заблагорассудится, и, раз слетев с его губ, они навсегда остаются такими же, несмотря ни на что, потому что они раз и навсегда запечатлеваются в его памяти именно в таком виде. Подобная вещь происходит и с произношением большинства английских слов, и учитель счёл меньшим злом проявить благоразумие и терпение, оставив пока всё как есть; я отложил на будущее исправление всех этих дефектов, если это вообще когда-либо будет возможно. Благодаря всем этим обстоятельствам возник практически совершенно новый язык. Верно и то, что всё это понимаю лишь я; но зато этот новый язык доставляет императору удовольствие при чтении английских газет и даёт ему возможность понять то, что он сам пишет по-английски. Это большое достижение, вернее, это — всё, что требуется.
Тем временем император регулярно продолжает работать с гофмаршалом над воспоминаниями о своих военных кампаниях в Египте. Моя «Кампания в Италии» давно завершена; мы вновь и вновь возвращаемся к ней, уточняя типографский формат, размещение отдельных глав работы, разбивку на параграфы и т.д.
Изредка император также диктует свои отдельные воспоминания господам Гурго и Монтолону. Работая над всем этим, он уделяет
361
очень мало внимания физической нагрузке: остались лишь небольшие прогулки в саду, иногда поездка в карете и очень редко верховая прогулка. Однако 30 января он решил вернуться в нашу «Долину Молчания», которую давно не посещал. Мы все вместе доехали приблизительно до середины долины; дальше дорога была завалена сухим кустарником, видимо, для того, чтобы он служил изгородью для стада домашнего скота. Слуга, верный Али, спешился, чтобы, как обычно, расчистить для нас путь. Мы поехали дальше, но, пока слуга помогал нам, его лошадь отошла в сторону, а когда он попытался поймать её, вообще ускакала прочь. Накануне лил проливной дождь, и лошадь угодила в трясину, подобную той, в которой император, через несколько дней после нашего прибытия в Лонгвуд, увяз настолько сильно, что едва смог выбраться. Слуга побежал за нами и, догнав, сказал, что останется, чтобы высвободить лошадь из трясины. Мы оказались на очень трудной узкой тропе, которая вынудила нас двигаться друг за другом. Только по прошествии некоторого времени император услышал, как мы переговариваемся между собой об инциденте со слугой. Император рассердился на нас за то, что мы не подождали Али, и распорядился, чтобы гофмаршал Бертран и генерал Гурго вернулись к нему. Император спешился и, поднявшись на небольшое возвышение, стал похож на статую на пьедестале среди руин. Уздечку своей лошади он обернул вокруг руки и стал насвистывать мотив какой-то арии; безмолвная природа
отозвалась эхом. «А ведь совсем недавно, — подумал я, — сколькими престолами он владел! Сколько корон принадлежало ему! Сколько королей было у его ног! Но верно и то, что в глазах тех, кто приближается к нему, кто ежедневно видит и слышит его, он по-прежнему велик! Все, кто окружают его, разделяют это чувство. Мы продолжаем служить ему с прежним рвением, мы любим его сильнее, чем когда-либо».
Возвратившиеся гофмаршал Бертран и генерал Гурго помогли императору сесть на лошадь, и мы продолжили наш путь. Эти господа подтвердили, что без их помощи лошадь Али никогда бы не удалось спасти: только объединив усилия, гофмаршал, генерал и Али с трудом смогли вытащить её из трясины. Через некоторое время, проезжая поворот дороги, император обратил внимание на то, что за нами не следует Али, и сказал, что гофмаршал и генерал могли бы остаться со слугой до тех пор, пока не убедятся, что он в состоянии ехать дальше. Те пояснили, что думали, что Али остался, чтобы немного счистить с лошади налипшую на неё грязь. В течение нашей дальнейшей поездки император не раз повторял своё замечание. Мы подъехали к дому гофмаршала, вошли в него и немного отдохнули там; когда мы выходили из дома, император спросил, не проезжал ли мимо дома отставший от нас слуга, но никто его не видел. Когда мы приехали в Лонгвуд, император сразу же спросил, вернулся ли слуга. Оказалось, что Али уже некоторое время был дома и что он вернулся из долины другой дорогой. Я, возможно, уделил слишком много внимания этому малозначащему случаю, но я сделал это, поскольку он показался мне весьма характерным для императора. Зная про заботу императора о простых людях, читатель вряд ли будет считать его бесчувственным, чёрствым и злым, жестоким чудовищем и тираном, — каким его так часто и так долго считали.
Император хвалит Святую Елену — Скудные ресурсы острова
1 февраля 1816 года
Самая счастливая и мудрая философия — та, которая иногда даёт нам возможность терпимо смотреть на самые неприятные вещи. Император, который, несомненно, в тот момент был под влиянием этого философского настроения, заявил, когда мы гуляли с ним в саду, что, в конце концов, остров Святой Елены, вполне возможно, — лучшее место ссылки. В северных широтах мы сильно страдали бы от холода, а на тропических островах влачили бы жалкое
363
существование под палящими лучами солнца. «Эта скала, — продолжал император, — несомненно, дикая и бесплодная, здешний климат — унылый и вредный, но температура, следует признать, мягкая и приятная».
Потом он спросил меня, что предпочтительнее — Англия или Америка, если бы мы были свободны в выборе места ссылки и поступили в соответствии с нашим желанием. Я ответил, что если бы император пожелал провести свои дни в уединении, предаваясь философским размышлениям вдали от треволнений мира, то он должен был выбрать Америку, но если бы он испытывал интерес и лелеял какую-нибудь мысль в отношении общественных дел, то следовало предпочесть Англию. И, не желая отказать себе в удовольствии добавить дополнительный штрих к приукрашенной картине нашей жалкой скалы, нарисованной императором, я даже рискнул сказать, что, возможно, есть обстоятельства, в силу которых остров Святой Елены не следует считать наихудшим местом ссылки. Здесь мы можем находиться под надёжной защитой, в то время как штормовой ветер завывает в других частях Земного шара; для нас выбрали такое место, где нет кипящих политических страстей. Это обстоятельство во всех отношениях благоприятно с точки зрения будущего, возможно, счастливого. Мои высказывания исходили из желания представить наше положение в самом благоприятном свете; я стремился дать максимальный выход своему воображению.
Впрочем, чтобы получить реальное представление о нашем месте ссылки и о скудости его ресурсов, следует сказать, что именно в этот день нам сообщили, что будут приняты, в целях экономии, необходимые меры по сокращению поставок нам различных продовольственных товаров для ежедневного потребления. А поставки некоторых из них, возможно, будут временно прекращены. Нам сказали, что быстро уменьшаются запасы кофе на острове и вскоре они могут быть полностью исчерпаны. В течение продолжительного времени мы отказывали себе в рафинированном сахаре: его нам поставляли очень мало, причём плохого качества, и мы его предназначали исключительно для стола императора. Теперь можно ожидать, что в перспективе нас ждёт полное прекращение поставок сахара, пока его новые запасы не доставят на остров. Такое же положение складывается и с другими предметами первой необходимости. Наш остров подобен кораблю в море: запасы продовольствия на корабле быстро истощаются, если увеличивается время его плавания или количество ртов на борту. Наш приезд привёл к нехватке продуктов питания на острове Святой Елены. К тому же торговые суда теперь опасаются приближаться к острову; мы могли бы думать, что они избегают его, считая несчастливой скалой, если бы нам не было
364
известно, что это английский крейсер не подпускает их к острову. Из всех лишений, которыми нам угрожали, более всего нас удивила нехватка писчей бумаги, что стало самой большой неприятностью для нашей колонии. Нам сказали, что за три месяца нашего пребывания в Лонгвуде мы использовали всю писчую бумагу на острове; это свидетельствует о том, что или остров Святой Елены вообще очень скудно снабжается данным предметом первой необходимости, или что мы израсходовали непомерно много этой бумаги. Обитатели Лонгвуда должны были извести в шесть или в восемь раз больше писчей бумаги, чем все остальные жители острова, вместе взятые.
Кроме того, следует принять во внимание наши физические и моральные лишения. Необходимо помнить, что мы не в полной мере пользуемся даже теми малыми ресурсами, которыми обладает остров и к которым нас не допускают из-за произвола и каприза английских властей. Нам не разрешают радоваться видом зелёной травы и листвы деревьев за пределами Лонгвуда. Что же касается физического существования, то наше положение весьма жалкое из-за плохого ведения властями хозяйственных дел. Только ничтожное количество поставляемых нам продуктов полностью пригодно для употребления. Вино просто отвратительно, растительное масло непригодно для использования, поставка кофе и сахара почти прекращена, и вообще оказывается, что мы практически вызвали голод на острове. Конечно, мы можем вынести все эти лишения и будем продолжать своё существование и при новых ограничениях. Но когда утверждают, что с нами обращаются просто великолепно, когда заявляют, что мы прекрасно живём, тогда мы вынуждены сказать правду о нашем истинном положении и показать, что мы лишены элементарного комфорта. И чтобы наше молчание не давало повода думать, что мы счастливы, пусть будет ясно, что лишь моральные силы могут помочь нам вынести все те страдания, которые невозможно выразить словами.
Ухудшение состояния здоровья моего сына — Император передаёт мне лошадь — Прогресс императора в изучении английского языка
2—6 февраля 1816 года
В последнее время мой сын стал жаловаться на боли в груди, сопровождаемые сильным сердцебиением. Я пригласил трёх врачей, и все они рекомендовали ему кровопускание. Кровопускание у англичан — излюбленный метод лечения; они считают его универсальной панацеей и применяют при всех заболеваниях, и даже тогда,
365
когда заболевание вообще отсутствует. Они смеются над нами из-за того, что этот метод лечения нам абсолютно неизвестен.
Примерно в середине дня мы предприняли поездку в карете. Вернувшись домой, император пожелал увидеть лошадь, только что купленную для него. Ему понравились её вид и физическое состояние. Император немного проехал на ней, после чего заявил, что лошадь необычайно хороша. Затем он с подкупающим великодушием заставил меня принять её в качестве подарка. Однако я не мог ездить на ней, — она была с норовом, — и её передали генералу Гурго, который гораздо лучший всадник, чем я.
Третьего февраля был ужасный день: дождь лил непрерывно и не позволил нам выйти наружу. Погода продолжает оставаться дождливой на протяжении нескольких дней кряду. Я никогда не представлял себе, что мы можем не выходить из дома в течение столь долгого времени. Сырость проникает отовсюду в комнаты нашего жилища, и дождь просачивается сквозь крышу. Скверная погода, мешающая выходить из дома, оказывает на нас неблагоприятное влияние. У меня весьма унылый вид, император чувствует себя неважно, да и я — не лучше. Однажды утром он спросил меня: «Что с вами? Вы, судя по всему, сильно изменились за прошедшие дни. Голова в порядке? Демоны не преследуют?» — «Сир, — ответил я, — моё заболевание чисто телесное. Меня очень беспокоят глаза. Что же касается моего разума, то я знаю, как обуздать воображение. Если будет необходимо, я могу воспользоваться уздечкой, а ещё вы, Ваше Величество, подарили мне пару шпор, которые при крайней нужде будут моими последними, но выигрышными ресурсами».
Император посвящает три, четыре и даже пять часов подряд изучению английского языка. Его прогресс в занятиях поистине впечатляет; он чувствует это и радуется. Он часто говорит, что находится в неоплатном долгу передо мной за это достижение и считает его очень важным. Что касается меня, то я могу поставить себе в заслугу только метод, который я принял в отношении занятий императора. Сначала я предложил идею, потом постоянно обращался к ней, и когда, наконец, её приняли, я начал проводить её в жизнь с аккуратной и ежедневной регулярностью, которая стимулирует желание императора продолжать занятия. Если кто-либо из его свиты оказывается не готовым к тому, чтобы заниматься с ним тогда, когда ему этого хочется, если необходимо отложить какое-нибудь дело до следующего дня, то он немедленно приходит в состояние раздражения и его занятия откладываются до тех пор, пока какое-нибудь обстоятельство не побуждает его возобновить их. «Мне необходим во всём стимул, — заявил император во время одного из таких вынужденных перерывов. — Ничто, кроме удовольствия продвижения
366
вперёд, не может стимулировать меня, ибо, между нами говоря, следует признать, что здесь, на острове, нет ничего привлекательного. Фактически во всей рутине нашего нынешнего положения очень мало такого, что могло бы нас как-то развлечь».
Император по-прежнему продолжает играть перед обедом два или три раза в шахматы; днём мы возобновили карточную игру реверси, которую прежде забросили. Раньше мы не всегда отдавали карточный долг и теперь договорились, что впредь будем складывать проигрыш в общий банк. Мы стали обдумывать, каким образом сможем распорядиться собранными деньгами. Император попросил нас высказаться по этому поводу, и кто-то из нас предложил, чтобы собранные деньги были использованы для освобождения самой привлекательной невольницы на острове. Эта идея была всеми одобрена, и мы засели за карты с большим воодушевлением и в первый же вечер положили в копилку два с половиной наполеондора.
Император узнаёт о смерти Мюрата
7—8 февраля 1816 года
С мыса Доброй Надежды прибыл фрегат, доставивший нам газеты, и во время прогулки в саду я переводил их императору. Одна из этих газет принесла известие о большом несчастье. Я прочитал, что Мюрат, высадившийся в Калабрии с небольшим отрядом, был схвачен и расстрелян. Услышав это неожиданное известие, император прервал меня и воскликнул: «Калабрийцы оказались более гуманными и более благородными, чем те, кто выслал меня сюда». Это было всё, что он сказал, и после нескольких минут общего молчания я продолжил чтение газеты вслух.
Мюрат, не полагаясь на здравый смысл, не обладая твёрдым характером и убеждениями, соразмерными обстоятельствам, в которых он оказался, погиб, решившись на отчаянную попытку. Вполне возможно, что возвращение императора с острова Эльба повлияло на его психику и вселило в него надежду на повторение чуда в отношении его собственной персоны. Таков печальный конец того, кто был одной из самых главных причин наших неудач! В 1814 году его храбрость и отвага могли вытащить нас из той бездны, в которую мы были низвергнуты из-за его предательства. Он остановил войска вице-короля Италии Евгения Богарне у реки По и сражался против него, хотя он и вице-король могли объединить силы, преодолеть Тирольский перевал, спуститься в Германию и выйти к Базелю и к берегам Рейна, чтобы разгромить войска арьергарда союзников и перерезать пути их передвижения.
367
Император, пока он находился на острове Эльба, прервал всякую связь с королём Неаполитанским. Но, отправляясь во Францию, император направил Мюрату письмо, в котором сообщал, что собирается вновь занять свой престол и, в связи с этим, с удовольствием заявляет ему, что всем их прошлым разногласиям пришёл конец: он простил Мюрату его недавнее поведение, с уважением относится к дружбе с ним и направил одного из своих приближённых к нему, чтобы подписать декларацию о гарантии его итальянских владений. В этом письме император также рекомендовал ему добиться взаимопонимания с австрийцами и удовлетвориться лишь контролем их поведения в том случае, если они попытаются двинуться против Франции. Воодушевлённый Мюрат, вновь испытавший чувства своей ранней молодости, объявил, что не нуждается ни в гарантиях, ни в подписях. Он заявил, что обещание императора и дружба с ним достаточны для него и что он докажет, что был скорее несчастным, чем виновным. Его преданность и усердие, добавил Мюрат, даруют ему помилование за прошлое.
«Мюрат, — сказал император, — был обречён стать причиной нашей гибели. Он погубил нас тем, что бросил нас, и тем, что слишком горячо отдавался нашему делу. Мюрат не проявлял никакого чувства благоразумия. Он бросился на австрийцев, не имея разумного плана и достаточных сил, и в результате был побеждён ими, не успев нанести им удар».
Австрийцы, разделавшись с Мюратом, приводили в пример его поведение как причину и как предлог того, чтобы приписать Наполеону амбициозные настроения, когда он вновь появился на мировой политической сцене. Они ссылались на Мюрата всякий раз, когда император делал торжественные заявления о своей сдержанности.
Перед тем как Неаполитанский король начал свои неудачные военные действия, император уже подготовил почву для переговоров с Австрией, в то время как более слабые государства, которые, я думаю, не нужно перечислять здесь поимённо, дали знать императору, что он может рассчитывать на их нейтралитет. Безусловно, что падение Неаполитанского короля привело к совершенно иному повороту событий.
Предпринимались попытки представить Наполеона как человека необузданного и крутого нрава, но правда состоит в том, что ему было чуждо проявление чувства мести и он никогда не вынашивал мстительных планов, несмотря на причинённые ему обиды. Он обычно давал волю своему гневу в сильных порывах чувств, которые вскоре заканчивались. Мюрат скандальным образом предавал его; как я уже отметил, он дважды ломал планы императора и, тем не менее,
368
приехал во Францию, чтобы найти прибежище в Тулоне. «Я должен был взять его с собой на поле Ватерлоо, — заявил Наполеон, — но патриотический и моральный настрой французской армии был таков, что сомнительно, чтобы войска преодолели своё отвращение и омерзение к человеку, предавшему и потерявшему Францию. Я не считал себя достаточно сильным, чтобы защитить его. И всё же он мог помочь нам одержать победу. Каким бы он был полезным в некоторые моменты битвы при Ватерлоо! Ведь что требовалось для того, чтобы обеспечить наш успех? Прорвать оборону трёх или четырёх английских каре. И Мюрат был незаменим для решения такой задачи, — он был именно тем человеком, который способен сделать это. Во главе кавалерийской атаки не было офицера более решительного, более храброго и более блистательного, чем Мюрат.
Что касается проведения параллели, — продолжал император, — между событиями, связанными с судьбами Наполеона и Мюрата, — между высадкой первого на побережье Франции и вступлением второго на территорию Неаполитанского королевства, — то такой параллели не существует. Мюрат не мог иметь солидных доводов в свою пользу, за исключением возможного успеха, но успех этот был абсолютно призрачным, учитывая характер его действий, когда он начинал своё предприятие. Наполеон же был избранным правителем народа, он был его законным монархом, в соответствии с современными доктринами. Мюрат не был неаполитанцем, неаполитанцы не выбирали Мюрата. Поэтому как можно было ожидать, что он вызовет у них интерес в пользу своего дела? Его прокламация была насквозь фальшивой и лишена фактов. Неаполитанский король Фердинанд мог рассматривать его лишь как подстрекателя мятежа; он так и делал и, соответственно, относился к нему как к таковому.
Совершенно по-другому было со мной! Перед моим прибытием вся Франция была во власти страстного желания добиться изменения положения в стране. И когда я высадился, моя прокламация была пропитана этим чувством, — каждый француз понимал, что это эхо чувств его собственного сердца. Франция была охвачена недовольством; я был её надеждой и последним ресурсом. Для излечения болезни сразу же нашлось лекарство. В этом заключается секрет бури чувств, мгновенно приведшей в движение всю страну, чему нет примеров в истории. Причину следует искать только в естественном положении вещей. Никакого заговора не существовало, и порыв чувств был всеобщим; не было произнесено ни одного слова, однако вся страна прониклась общим пониманием ситуации. Города один за другим склонялись к ногам освободителя. Когда первый батальон, встретив меня, тут же перешёл на мою сторону,
369
вся армия незамедлительно оказалась в моей власти, и я без промедления устремился к Парижу. Однако если бы я потерпел неудачу, если бы попал в руки врагов, то я не был бы жалким главарём мятежников, — я бы оставался монархом, признанным всей Европой. Я обладал монаршим титулом и знаменем, я был во главе своих войск, и я устремился к Парижу, чтобы вести войну против моих врагов».
Порлиер и Фердинанд
9 февраля 1816 года
В газетах, которые я переводил императору, я обнаружил статью об испанском генерале Порлиере, одном из самых знаменитых руководителей повстанческого движения в Испании. Он попытался поднять восстание испанцев против тирании короля Фердинанда, но его попытка не удалась; он был арестован и повешен.
Император сказал: «Я нисколько не удивлён, что такая попытка была предпринята именно в Испании. Как раз те испанцы, которые оказались моими самыми непримиримыми врагами после вторжения французских войск в их страну и покрыли себя беспримерной славой, оказывая им стойкое сопротивление, эти же испанцы сразу обратились ко мне, когда я вернулся с Эльбы. Они заявили, что сражались против меня, считая меня их тираном; теперь же они пришли, чтобы умолять меня стать их освободителем. Они просили небольшую сумму, необходимую им для борьбы за своё освобождение и для совершения революции на Пиренейском полуострове — такой же, какую совершил я. Если бы я выиграл битву при Ватерлоо, то немедленно помог бы испанцам. Эта встреча с ними в достаточной мере объясняет мне причину попытки Порлиера. Безусловно, что подобная попытка будет предпринята вновь. Сумасшедший Фердинанд будет стремиться, по мере своих сил, удерживать скипетр, но в один или другой прекрасный день скипетр, как угорь, выскользнет из его пальцев».
Около четырёх часов дня я представил императору капитана фрегата, которому предстояло отплыть в Европу на следующий день, и полковника Маккоя, командира цейлонского полка. Этот храбрый солдат выглядел как изуродованный памятник: он потерял одну ногу, а его лицо было обезображено шрамами, в том числе шрамом, оставшимся после удара сабли. Он был ранен в сражении в Калабрии и взят в плен генералом Партуно. Император принял его с особым вниманием; легко можно было заметить, что они испытывали друг
370
к другу взаимную симпатию. Ранее полковник Маккой служил в звании майора в корсиканском полку под командованием будущего губернатора острова Святой Елены, приезда которого мы ждали. Полковник сказал нам, что, по его мнению, здесь, на Святой Елене, с императором дурно обращаются, и он не считает, что Хадсон Лоу настроен либерально, и, став губернатором острова, будет стараться улучшить наше положение.
Потом император совершил верховую прогулку по долине и вернулся домой к семи часам вечера, после чего погулял в саду. Погода была очень приятная, и в безоблачном небе ярко сияла луна, — наконец наступил период хорошей погоды.
План изменения течения Нила
10 февраля 1816 года
Император быстро прогрессирует в изучении английского языка и, используя словарь, вполне может обходиться без моей помощи. Он очень доволен достигнутым успехом. Сегодня на уроке ему была предложена задача прочитать статью в «Британской энциклопедии» о реке Нил. Иногда он делал выписки из статьи, которые будут полезны ему, когда он начнёт диктовать гофмаршалу мемуары о кампании в Египте. В этой статье император ознакомился с фактом, о котором я ранее рассказывал ему, но тогда император посчитал его абсурдным. Великий португальский мореплаватель Альбукерк
371
предложил королю Португалии повернуть течение реки Нил и заставить её впадать в Красное море, тем самым сделав Египет непроходимой пустыней, а мыс Доброй Надежды — единственным путём для торговли с Индией. Эта идея сильно поразила императора.
Около пяти часов дня император отправился на прогулку в карете; поездка была чрезвычайно приятной. Мы выяснили, что целый ряд деревьев вырубили, и, таким образом, в нашем распоряжении оказалось несколько окольных дорог. Благодаря этому наша территория для прогулок увеличилась в три раза. Вернувшись домой, мы наслаждались прекрасным вечером и долго гуляли по саду. Наша беседа оказалась весьма интересной. Она коснулась важных тем, в том числе разнообразия религий, причин, которые порождают религию, нелепостей, которые встречаются в религиозных учениях, излишеств, благодаря которым деградирует религия, и мер по ограничению этих излишеств. Император трактовал все эти проблемы с присущим ему глубоким знанием предмета.
Однообразие и скука — Уединение императора — Карикатуры
11 февраля 1816 года
Сегодня утром император читал в «Британской энциклопедии» статью, посвящённую Египту, и опять сделал ряд выписок, полезных для его мемуаров. Это занятие доставило ему большое удовольствие, и в течение дня он несколько раз повторял, что его радует собственный прогресс в овладении английским языком. Он уже настолько продвинулся, что читает по-английски без посторонней помощи.
Примерно в четыре часа мы с императором вышли на прогулку в сад; некоторое время мы гуляли вдвоём, но вскоре к нам присоединились остальные члены свиты. Стояла прекрасная тёплая погода. Император обратил внимание на тишину, сопровождавшую наше уединение: сегодня, в воскресенье, рабочих не было видно. Он сказал, что нас в любом случае нельзя обвинить в том, что мы развлекаемся или ищем повод для разгула. И действительно, трудно представить себе большее однообразие, которое сопутствовало бы нашей жизни, или, иначе говоря, более полное отсутствие у нас каких-либо развлечений.
Император стойко переносит эти условия жизни. Он превосходит всех нас в выдержке и спокойствии характера. Он сам говорит, что трудно быть более философски настроенным и спокойным, чем он...
372
Он ложится спать в десять часов вечера и не выходит из дома ранее шести часов вечера следующего дня, — следовательно, он не покидает своих апартаментов более чем на четыре часа; этим он подобен заключённому, которого выводят из камеры на прогулку подышать свежим воздухом один раз в день. Но в то же время как интенсивно он работает каждый день! Как разнообразны темы размышлений, которыми занят его разум в течение долгих часов, проводимых в одиночестве! Император заявил, что способен переносить умственное напряжение так же, как и всегда: он ни в малейшей степени не чувствует себя изнурённым или истощённым. Он сам удивляется тому, что все последние события, в которых он был главным действующим лицом, так мало сказались на нём. Это можно сравнить с тем, как свинец, скользнув по поверхности мрамора, не причиняет ему никакого вреда. Пружина могла быть на время сжата, но она не сломалась и вновь выпрямилась со всей своей прежней упругостью. Он считает, что никто в мире не знает лучше него, как примириться с необходимостью. В этом, говорит император, и заключается истинная победа здравого смысла и сила разума.
Пришёл час нашей поездки в карете. Мы подъехали к дому гофмаршала, где император увидел дочь госпожи Бертран, маленькую Гортензию, которую он очень любит. Император подозвал её к себе и, погладив раза три по головке, взял в карету вместе с маленьким
Тристаном де Монтолоном. Во время поездки гофмаршал Бертран, просматривавший газеты, пересказал несколько каламбуров, вычитанных в газетах, и показал напечатанные в них карикатуры. Одна карикатура удостоилась особого внимания. Рисунок состоял из двух частей; первая изображала Наполеона, вручающего княгине Ацфельд письмо с предложением ей бросить его в огонь камина. Уничтожение этого письма означало спасение жизни её мужа; под рисунком была надпись: «Деспотичный поступок похитителя престола»13. Вторая часть рисунка была совершенно иного характера.
Мы описали императору содержание некоторых карикатур на него, которые во множестве появлялись в газетах после Реставрации. Отдельные карикатуры весьма позабавили его. Одна из них заставила его улыбнуться особенно: она касалась смены династий.
Император заметил, что иногда карикатуры могут стать источником продолжительного раздражения для власти. «Думаю, что и на мою долю достались подобные карикатуры», — сказал он. Затем император пожелал, чтобы продолжился показ карикатур на него. К одной из них он отнёсся с одобрением, заметив, что она не лишена определённого вкуса. Это был рисунок, изображающий короля Георга III на берегу Англии, который в сердцах метит огромной свёклой в голову Наполеона, стоящего на противоположном берегу пролива Ла-Манш, и кричит ему: «Проваливай и занимайся своим сахаром!»
Продолжительная прогулка императора
12 февраля 1816 года
В четыре часа дня император вышел погулять в саду. Погода была восхитительная, и мы все признали, что она такая же, как погода прекрасным вечером в Европе. Ничего подобного мы не испытывали с тех пор, как прибыли на остров. Император распорядился, чтобы подали карету, и, ради разнообразия, вместо того чтобы ехать по дороге, обсаженной эвкалиптами и ведущей прямо к дому гофмаршала, он пожелал ехать по дороге в объезд нашей любимой долины и, минуя дом гофмаршала, добраться до места, где находится резиденция мисс Мейсон, — как раз напротив Лонгвуда, но на противоположной стороне долины. Император пригласил госпожу Бертран в карету, где уже были госпожа де Монтолон и я. Вся остальная свита императора следовала за нами верхом на лошадях. Таким образом, мы все собрались вместе и, отъехав немного,
374
оказались у военного поста, установленного вблизи дома гофмаршала. В этом месте идущая вверх дорога была очень неровной. Лошади отказались взять крутой подъём, и мы вынуждены были выйти из кареты. Дальше дорога была настолько узкой, что еле-еле позволяла карете проехать, но нам на помощь пришли английские солдаты и в одну минуту перетащили карету на руках. Дойдя до спуска к долине, мы решили, что прогулка пешком очень приятна; император захотел и далее продолжить её и распорядился, чтобы карету отправили к воротам дома мисс Мейсон, пока мы будем идти по долине. Вечер был действительно восхитительный; сумрак ночи стал постепенно заполнять небо, но луна по-прежнему ярко светила. Наша прогулка напомнила нам аналогичные удовольствия, которыми мы привыкли наслаждаться в прекрасные летние вечера в окрестностях наших загородных резиденций в Европе.
Вернулась наша карета, но император отказался от неё и распорядился, чтобы она ждала нас у дверей дома гофмаршала, но, когда мы с императором добрались туда, он решил идти пешком в Лонг- вуд. Туда он добрался очень уставшим, пройдя пешком почти шесть миль. Для него это было большим расстоянием, так как он никогда в жизни так много не ходил пешком.
375
По поводу содержания моего дневника — Мнение императора о французской политике
13 — 17 февраля 1816 года
Я уже писал о том, что на острове Святой Елены не бывает обычной для нас смены времён года, но существует нерегулярная последовательность хорошей и плохой погоды.
Трудно подобрать хотя бы несколько слов для того, чтобы сообщить о каком-нибудь отклонении от привычной рутины в течение этих четырёх дней нашей жизни. И поэтому я сейчас пользуюсь возможностью заявить, что если в моём дневнике события нескольких дней иногда отображаются единой записью, то это потому, что я исключал часть заметок, относящихся отдельно к каждому дню. Я вынужден делать это в силу различных причин. Иногда мои заметки представляются мне слишком пустыми, а иногда, напротив, они оказываются слишком серьёзными и рассчитанными на описание продолжительного отрезка времени; временами они касаются других людей, а я взял за правило умышленно избегать того, чтобы посвящать им страницы моего дневника. Если, несмотря на всю мою щепетильность, я всё же допускаю это, то только тогда, когда руководствуюсь наиболее важной целью моего дневника, а именно — описать личность и характер императора. Но даже тогда я оправдываю себя тем, что эти люди относятся к категории значимых персон, а связанные с ними факты известны всему миру.
Я ясно сознаю, что задача, которую я решаю, может стать причиной многих моих неприятностей, но считаю решение этой задачи своим священным долгом и буду стараться выполнить его в меру своих способностей, невзирая ни на что.
В шесть часов утра император оседлал лошадь, и мы объехали всю территорию, начиная с нашей долины и продолжая путь по дороге, ведущей от лагеря 53-го пехотного полка к резиденции гофмаршала. Отряд в составе ста пятидесяти или двухсот моряков с корабля «Нортумберленд», которые ежедневно носили доски и камни для Лонгвуда и английского лагеря, выстроился перед домом госпожи Бертран, пока император проезжал мимо. Он поговорил с офицерами и с довольным видом улыбался, встретив своих старых друзей с корабля. Они явно были рады видеть императора.
Я уже упоминал, что мы время от времени получаем пакеты с газетами из Европы, содержание которых вызывает у нас живейший интерес и служит поводом для ярких и оживлённых рассуждений императора. Обсуждая сегодня информацию, которую мы недавно
376
получили, император заявил, что положение дел во Франции ни в коей мере не улучшилось. «Сейчас у Бурбонов, — не раз повторял он, — в запасе нет никаких ресурсов, кроме ужесточения режима. Прошло уже четыре месяца; войска союзников собираются покинуть страну, а для улучшения положения Франции приняты только полумеры. Страна управляется скверно. Правительство может существовать, только определив для себя основной принцип своей деятельности. Основной принцип деятельности нынешнего французского правительства состоит, очевидно, в том, чтобы вернуться к старым правилам поведения; и оно должно будет делать это открыто. При сегодняшних обстоятельствах роль Палаты депутатов окажется роковой: депутаты внушат королю ложную уверенность, никакого веса у нации они не будут иметь. Король вскоре будет лишён всех средств связи с ними. Они более не будут придерживаться одной и той же религии, не будут говорить на одном и том же языке. Никто впредь не будет иметь права открыть народу глаза на всякие распространяющиеся глупости, даже если будет признано желательным заставить народ поверить, что все источники воды отравлены ядом и что под поверхностью земли закопаны обозы с порохом». Император закончил свой анализ положения во Франции тем, что сказал, что в стране следует ожидать ужесточения
377
судебных законов, которое заставит проявить ответную реакцию, достаточно сильную для того, чтобы вызвать у народа раздражение, но не более того.
Что касается Европы, то, как считает император, по ней прокатится волна мощных, как никогда, потрясений. Европейские державы разгромили Францию, но она может в один прекрасный день возродиться благодаря волнениям среди народов различных стран, на отчуждение которых друг от друга направлена политика европейских монархов; слава Франции также может быть восстановлена из-за разногласий между самими союзными державами, которые, возможно, вскоре появятся.
Что же касается положения наших личных дел, то оно может быть улучшено только благодаря действиям Англии, а её могли бы вынудить выступить в нашу пользу лишь политические интересы, смена министров и монарха, а также чувство национальной гордости, вызванное мощной волной общественного мнения. Говоря о политических интересах, следует иметь в виду, что существуют обстоятельства, способные повлиять на них, — смена министров зависит от этих обстоятельств; наконец, что касается чувства национальной гордости, то хотя нынешний кабинет министров Англии отрёкся от него, но для нового кабинета оно, возможно, будет дорого.
Картина счастья домашнего очага в представлении императора — Две молодые островитянки
18— 19 февраля 1816 года Император послал за мной в десять часов утра, — он только что вернулся домой. Кто-то сообщил мне, что он вышел, чтобы пострелять из ружья, но сам император сказал, что не стрелял. Он совершил верховую прогулку спозаранку, в шесть часов утра, но заранее распорядился, чтобы сон его превосходительства (т.е. мой) не был потревожен. Мы стали заниматься английским языком. Был подан завтрак, но еда была настолько отвратительной, что я не удержался от замечаний по этому поводу. Император высказал сожаление, что мне пришлось есть такую плохую пищу, и добавил, что, безусловно, необходимо обладать громадным аппетитом, чтобы одолеть подобный завтрак. Мы продолжали урок до часа дня, пока чрезмерная жара не вынудила нас прекратить его и немного отдохнуть.
Примерно в пять часов дня император вышел погулять в саду. Он принялся рисовать своё представление о счастье простого человека, беззаботно живущего возле домашнего очага, мирно
378
наслаждающегося жизнью в родных краях, в собственном доме, на земле, которую он унаследовал от своих предков. Ясно, что его размышления были чисто умозрительными. Мы не могли удержаться и улыбались, слушая эти рассуждения о тихом домашнем счастье; за это некоторым из нас достались порции щипков за уши. «Блаженство подобного рода, — продолжал император, — теперь известно во Франции только по воспоминаниям. Старинные семьи лишились этого счастья из-за революции, а новые семьи пока ещё недостаточно окрепли, чтобы наслаждаться им. Картины, которую я набросал, сейчас нет в реальности».
Он высказался в том смысле, что, будучи оторванными от нашего родного дома, от полей, по которым мы бродили в детстве, не владея отеческим жилищем, мы на самом деле лишились родной страны. Один из нас, в свою очередь, заметил, что человек, у которого разграбили дом, построенный им для себя после той бури, что пронеслась по стране, которого вместе с женой выгнали из этого дома, где родились его дети, может с полной уверенностью сказать, что он потерял и вторую родину. Как много людей доведено до этой крайности! И какие только злоключения не выпали на долю нынешнего поколения!
Затем мы совершили нашу привычную поездку на свежем воздухе. Во время обеда разговор зашёл о двух молодых женщинах, жительницах острова. Одна была статной, красивой и очаровательной; другая — не такой красивой, но хорошо воспитанной, с приятными манерами, проявлявшей умение держать себя в обществе. Наши мнения о них разделились. Император, знакомый только с первой молодой женщиной, высказался в её пользу. Один из нас сказал, что если бы император познакомился со второй молодой женщиной, то ему бы не пришлось менять своего мнения. Тогда император пожелал узнать собственное мнение этого господина и о первой, и о второй женщине. Тот ответил, что он является поклонником второй молодой женщины. Смысл этого ответа показался императору довольно противоречивым, и он попросил собеседника объяснить свои слова. «Видите ли, — пояснил этот господин, — если бы мне захотелось купить невольницу, то, конечно, мой выбор остановился бы на первой; но если бы я посчитал, что должен искать своё счастье в том, чтобы самому стать рабом, то я бы обратился ко второй». — «Короче говоря, — сказал император, быстро сделав вывод, — вы не очень высокого мнения о моём вкусе?» — «О нет, сир, но я предполагаю, что мы придерживаемся разных точек зрения».
Сегодня утром император поехал на верховую прогулку очень рано: ещё не было и шести часов, когда он вышел из дома. Я был вполне готов сопровождать его, поскольку попросил слугу предупредить
379
меня заранее о желании императора выехать на прогулку. Император был весьма удивлён моей расторопностью. Мы ездили по парку без всякого маршрута и вернулись к девяти часам утра; солнце уже припекало.
В четыре часа дня император пожелал заняться английским языком, но урок проходил очень вяло. Император заявил, что сегодня у него всё выходит не так, как надо, и ничто не доставляет удовольствия. Прогулка в саду не улучшила его настроения, во время обеда он чувствовал себя неважно. Император не стал играть обычное количество партий в шахматы; чувствуя себя нездоровым, он ушёл к себе после первой же игры.
Благожелательное отношение алжирских пиратов к императору
20 февраля 1816 года
Погода чрезвычайно плохая. Всю ночь император чувствовал себя несколько нездоровым, но утром ему стало гораздо лучше. Он не покидал своей комнаты до пяти часов дня. В шесть часов мы воспользовались проблеском хорошей погоды, чтобы покататься в карете по парку. Лошади, которых нам предоставили, оказались норовистыми и пугливыми. Несколько раз во время поездки они останавливались как вкопанные. Проливные дожди сделали дороги очень трудными для езды в карете, и в одном случае нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы избежать необходимости продолжать путь пешком. Гофмаршал Бертран и генерал Гурго вышли из кареты и, упёршись плечами в колёса, помогли лошадям вытащить карету из грязи. В конце концов нам удалось добраться до дома.
Во время поездки наша беседа была посвящена воспоминаниям императора об острове Эльба. Император рассказал, как в соответствии с его указаниями на острове пролагали дороги и возводили здания. Лучшие итальянские художники считали за честь украсить эти здания своими работами.
Император напомнил, что его флаг стал первым на Средиземном море. Он был неприкосновенен, сказал император, для алжирских пиратов, которые обычно делали подарки капитанам кораблей, плававших под флагом острова Эльба, говоря при этом, что они оплачивают долг Москвы. Гофмаршал рассказал нам, как однажды несколько кораблей алжирских пиратов бросили якорь у берега Эльбы. Это вызвало сильную тревогу среди местных жителей, которые расспрашивали пиратов об их намерениях и, в конце концов,
380
прямо спросили их, не приплыли ли они к острову с враждебными планами. «Против великого Наполеона? — воскликнули алжирцы. — О, никогда... Мы не воюем против Аллаха!»
Всякий раз, когда корабль под флагом острова Эльба заходил в какой-нибудь порт Средиземного моря, включая Ливорно, его встречали бурным одобрением: казалось, что возродились все национальные чувства. Команды французских кораблей из Бретани и Фландрии, бросавших якорь у Эльбы, проявляли те же чувства.
«В этом мире обо всём следует судить, прибегая к сравнению, — заявил император. — Остров Эльба, который мы считали малоприятным местом, является раем по сравнению со Святой Еленой. Что касается этого острова, то хуже него трудно что-нибудь найти».
Пионтковский
21 — 23 февраля 1816 года
Император продолжает вставать рано и сразу же выезжает на верховую прогулку в парке и среди эвкалиптов. Он обычно ездит шагом, и это лёгкое физическое упражнение полезно ему, так как позволяет наслаждаться свежим воздухом. Он возвращается
384
с лучшим аппетитом и в хорошем настроении проводит свои ежедневные занятия. Он завтракает в саду под деревьями, их ветки обеспечивают ему тень. Однажды, когда он усаживался завтракать, то вдали увидел поляка Пионтковского и послал за ним, чтобы пригласить позавтракать вместе. Всякий раз, когда император встречает Пионтковского, он с удовольствием беседует с ним.
Пионтковский, чьё происхождение не было нам точно известно, приехал к императору ещё на острове Эльба и получил разрешение служить рядовым в императорской гвардии. Когда император вернулся с острова Эльба, Пионтковский получил звание лейтенанта. Затем, когда мы покидали Париж, он получил разрешение последовать за нами; мы оставили его в Плимуте среди тех, кого разлучили с нами по приказу английских министров. Пионтковский, проявив большую преданность императору или большую ловкость, чем его товарищи, добился разрешения приехать на остров Святой Елены. Император прежде не знал его и никогда лично не говорил с ним, пока тот не появился на острове Святой Елены.
Все мы также не знали Пионтковского. Англичане удивились, что мы не оказали ему тёплого приёма, когда он приехал на остров. Некоторые лица, которые пользовались любым случаем, чтобы сделать нам неприятное, написали в Англию, что мы очень плохо встретили Пионтковского. Это абсолютно противоречит истине, но сам факт приезда Пионтковского на остров предоставил возможность английским газетам, являвшимся рупором лондонского кабинета министров, проявить так называемые учтивость и остроумие, свойственные им. Они утверждали, что император избивает Пионтковского, и мне рассказывали о помещённой на их страницах карикатуре, изображавшей Наполеона, вцепившегося в польского офицера когтями, в то время как я бросился на поляка, чтобы жадно пожирать его, и только палка смотрителя зверинца, втиснутая мне в зубы, помешала мне откусить кусок плеча несчастной жертвы. Таковы были изысканные оценки, данные нам.
Возвращение императора с острова Эльба
24 февраля 1816 года
После обеда, когда мы пили кофе, император сказал, что в прошлом году, примерно в это же время, он покинул остров Эльба. Гофмаршал напомнил ему, что это случилось 26 февраля, в воскресенье. «Сир, — сказал он, — вы распорядились прослужить воскресную
382
мессу в более ранний час, чтобы иметь больше времени для передачи вашим людям необходимых указаний».
Они подняли паруса после полудня, но на следующее утро, в десять часов, их ещё можно было видеть в море, что вызвало сильное беспокойство у тех на острове, кто желал им успеха.
Император вступил в разговор на эту тему и почти час приводил подробности этого события, которое не знает себе подобных в истории как по смелости задуманного плана, так и по чудесному его исполнению. Я помещу в другую часть моего дневника собранные мною подробности этого события.
Уроки английского языка — Военные кампании в Италии и в Египте — Мнение императора о французских поэтах и писателях — Тальма
25 — 28 февраля 1816 года Наши дни похожи один на другой. Они не имеют своего лица и отличаются лишь скукой, оставляя после себя только неясные воспоминания.
Мы с императором постепенно продвигаемся вперёд в изучении английского языка. Император признался, что в какие-то моменты у него возникает чувство отвращения к английскому языку; как он говорит, иногда даёт о себе знать его неистовый французский язык. Но он добавил, что я вдохнул в него новую жизнь благодаря плану занятий, который он считает наиболее верным и безошибочным по сравнению с любым другим, а именно: чтение и анализ одной страницы вновь и вновь, пока она не будет досконально выучена. Грамматические правила я объясняю ему по ходу дела. При таком методе занятий не теряется ни одной минуты для изучения языка и запоминания лексического материала. Поначалу прогресс казался небольшим, ученик продвигался медленно. Но к тому времени, когда мы подошли к пятидесятой странице, император с удивлением обнаружил, что разбирается в английском языке. Мы добавили страницу о Телемахе из «Одиссеи» к остальному материалу наших уроков, и это оказалось на пользу изучению языка. К настоящему времени император, хотя он взял только двадцать пять полных уроков, может читать любую книгу и понимать письма на английском языке. Верно и то, что он понимает в них не всё, но, как он заявил, в будущем ничего нельзя будет скрыть от него. Это прекрасно — явная победа!
383
С помощью Бертрана император завершил работу над воспоминаниями о кампании в Египте, — насколько это позволяла ему нехватка дополнительных материалов. Теперь император приступил к работе над воспоминаниями о другом очень важном периоде его жизни — со времени отъезда из Фонтенбло до возвращения в Париж и второго отречения от престола. У императора нет никаких документальных материалов, относящихся к этим недавним событиям, но именно это обстоятельство побудило меня умолять его напрячь память и подробно вспомнить обстоятельства того времени, которые в суете последующих событий могут быть забыты или искажены.
Император часто занимается со мной, чтобы ещё раз просмотреть различные главы мемуаров о кампании в Италии; обычно мы делаем это непосредственно перед обедом. Он дал мне указание переработать все главы таким образом, чтобы они были выдержаны в едином стиле, разметить надлежащим образом все абзацы и сделать необходимые примечания. Эту работу он называет делом рук редактора. «В этом вы сами непосредственно заинтересованы, — однажды сказал он мне дружелюбным тоном, чем особенно тронул меня. — Отныне эта рукопись является вашей собственностью: под мемуарами “Итальянская кампания” будет стоять ваше имя, а под мемуарами “Египетская кампания” — имя Бертрана. Я хочу, чтобы эта работа улучшила ваше благосостояние и сделала ваше имя знаменитым. В вашем кармане окажется минимум сто тысяч франков, а ваше имя будут помнить так же долго, как и мои сражения».
Что касается наших вечеров, то карточная игра реверси заброшена во второй раз. Мы возобновили чтения. Запас романов исчерпан, и нашим вниманием завладели пьесы, особенно трагедии. Императору необычайно нравится анализировать их, что он делает исключительно основательно и с большим вкусом. Он помнит наизусть громадное количество стихов, которые выучил в восемнадцать лет, и знал тогда их ещё больше, чем теперь. Император в восхищении от Расина, в произведениях которого он находит множество прекрасных мест. Он восторгается Корнелем, но невысоко ценит Вольтера, которому, как он говорит, присущи напыщенность и показной блеск. По мнению императора, Вольтер всегда отходил от жизненной правды, поскольку не знал ни людей и творимые ими дела, ни истину, ни возвышенность страстей рода человеческого.
Однажды поздним вечером в Сен-Клу император внимательно прочитал только что написанную трагедию, — это было произведение Лансиваля «Гектор». Оно очень понравилось императору; действующие лица трагедии обладали теплотой и силой характера.
384
МАРЕНГО
Император назвал это произведение «Наставлением для штаба любого подразделения армии», заявив, что, прочитав его или увидев на сцене, каждый солдат будет лучше готов для встречи с врагом. Он добавил, что было бы неплохо, если бы большая часть драматических произведений была написана в таком же духе.
Далее, заговорив о пьесах, которые во Франции называют драмами, а император определяет как трагедии на потребу горничным, он сказал, что они не выдерживают более одного представления на сцене: к ним пропадает интерес. Хорошая трагедия, наоборот, с каждым представлением набирает силу. Свою наивысшую значимость трагедия приобретает тогда, когда становится школой для великих людей; монарх должен поощрять и популяризировать такие трагедии; чтобы судить о достоинствах трагедии, не надо быть поэтом, достаточно знать людей и их дела, обладать рассудком и быть умелым государственным деятелем. Постепенно всё более воодушевляясь, император сказал: «Трагедия воспламеняет душу, возвышает сердце и порождает героев. Вот почему Франция обязана Корнелю частью своих великих дел; и, господа, если бы он жил в моё время, я бы сделал его князем».
В другом случае он подверг критике трагедию «Государство Блуа», которая в первый раз была поставлена на сцене Императорского театра. Император, заметив среди присутствовавших зрителей верховного казначея Лебрена, который был известен своими познаниями в области литературы, спросил его мнение о трагедии. Лебрен, явно симпатизируя автору, ограничился заявлением о том, что сам по себе сюжет трагедии неудачен. «Да, — сказал император, — это первая ошибка Ренуара. Он сам выбрал сюжет, никто его ему не навязывал. Кроме того, любой сюжет, каким бы плохим он ни был, талантливый драматург может сделать вполне приемлемым. Корнель по-прежнему остался бы Корнелем, даже взявшись за написание трагедии с подобным сюжетом. Что касается господина Ренуара, то он потерпел полную неудачу. Он ни в чём не проявил таланта, за исключением изложения текста трагедии в стихотворной форме. Всё остальное плохо, очень плохо. Замысел, отдельные детали произведения, общий результат — всё несовершенно. Он нарушает правду истории, характеры действующих лиц трагедии насквозь фальшивы, а их политическая тенденциозность опасна и, возможно, пагубна. В этом заключается дополнительное доказательство того малоизвестного факта, что существует большая разница между содержанием текста трагедии и её представлением на сцене. Прежде я полагал, что эту трагедию можно исполнить на сцене, и только в этот вечер я осознал всю её непригодность в целом и пагубность её отдельных
385
мест. Из них похвала в адрес Бурбонов является наименьшим злом; гораздо хуже, когда автор разглагольствует по поводу революционеров. Господин Ренуар делает главой “Шестнадцати” члена Трибуната капуцина Шабо. Это произведение ставит перед собой цель воспламенить страсти и взбудоражить противоборствующие стороны; если бы я разрешил представление этой трагедии в Париже, то, вероятно, вскоре узнал бы, что пятьдесят человек убили друг друга. Кроме того, автор изображает французского короля Генриха IV истинным “Филинтом”, а герцога де Гиза — “Фигаро”, что является слишком большим насилием над историей. Герцог де Гиз был одним из самых знаменитых людей своего времени; если бы он захотел, то мог бы основать четвёртую династию. Помимо всего прочего, у него были родственные связи с императрицей. Он был принцем австрийского императорского дома, с которым мы поддерживали дружеские отношения и посол которого присутствовал в тот вечер на представлении трагедии. Автор проявил странное неуважение к правилам приличия».
Далее император заявил, что он, как никогда, был полон решимости не разрешать ставить на сцене общественных театров новые трагедии, пока они не будут показаны на сцене дворцового театра. Поэтому он запретил дальнейшие представления трагедии «Государство Блуа». Этот факт достоин упоминания ещё и потому, что после Реставрации эта трагедия вновь с большой помпезностью появилась на сцене парижских театров и была всячески поддержана именно потому, что император запретил её представление. Но, несмотря на всё это, её новое представление провалилось. Насколько же правильной была её оценка Наполеоном!
Тальма, знаменитый трагик, часто беседовал с императором, который высоко ценил его талант и щедро одаривал его. Когда Первый консул стал императором, в Париже стали распространяться слухи, что он обратился к Тальма с просьбой давать ему уроки правильных царственных поз и умения носить монаршую одежду. Император, знавший всё, что говорили о нём, вызвал Тальма на разговор по этому поводу. Когда император увидел, что эта тема беседы расстроила и смутила Тальма, он сказал ему: «Не расстраивайтесь, я бы с большим удовольствием занялся всем этим, будь у меня больше свободного времени». Наоборот, именно император давал Тальма уроки в искусстве трагика. «Расин, — сказал ему император, — наградил Ореста слабоумием, а вы только подчёркиваете его сумасбродство. В “Гибели Помпеи” вы лишаете Цезаря образа героя, в “Британике” ваш Нерон не предстаёт в виде тирана». Всем известно, что Тальма, играя этих прославленных личностей, исправил ошибки, о которых говорил ему император.
386
Подрядчики во время революции — Получение императором финансового кредита после возвращения с острова Эльба — Репутация императора в расследовании положения дел в государственных службах — Министр финансов и казначей — Кадастр
29 февраля — 1 марта 1816 года В шесть часов вечера император, завершив свои дневные занятия, вышел на прогулку в сад. После прогулки мы поехали кататься в карете; стало совсем темно, полил сильный дождь, и мы вернулись домой. После обеда, пока мы пили кофе, мы завели разговор о так называемых деловых людях времён революции, которые тогда сумели сколотить огромные состояния. Император знал каждого из этих людей по имени, знал их семьи, их профессию, их характер.
Как только император стал консулом, у него сразу же возник конфликт со знаменитой госпожой Рекамье, отец которой занимал высокое положение в почтовом ведомстве. Наполеон, взяв в свои руки руководство деятельностью правительства, был обязан подписывать большое количество секретных документов; в связи с этим он вскоре установил тщательное наблюдение за прохождением этих документов во всех ведомствах. Он выяснил, что при попустительстве господина Бернара, отца госпожи Рекамье, осуществлялась активная переписка с шуанами. Господина Бернара немедленно сняли с должности, и он чудом избежал суда, который, безусловно, приговорил бы его к смертной казни. Его дочь немедленно бросилась к Первому консулу, и по её ходатайству Наполеон освободил Бернара от предания суду, но был твёрд в своём решении изгнать его с должности в почтовом ведомстве. Госпожа Рекамье, привыкшая просить обо всём и получать всё, была бы удовлетворена, только если бы её отца восстановили в прежней должности. Таковы были нравы того времени. Строгость Первого консула вызвала резкую критику в его адрес. Госпожа Рекамье и её многочисленные сторонники не простили Наполеону его поступка.
Подрядчики и прочие деловые люди были представителями кругов общества, вызывавших беспокойство у нового правительства, которое называло их бедствием и чумой нации. Император заявил, что вся Франция не может удовлетворить честолюбивые замыслы парижских дельцов; когда он встал во главе правительства, власть в стране фактически была полностью в их руках. Они были весьма опасны для правительства, выполнение решений которого затруднялось из-за их интриг и их многочисленных прихлебателей. По правде говоря, заявил император, к ним всегда следовало относиться как
387
к источникам коррупции и разорения страны. Они опозорили Директорию, хотели контролировать деятельность Консулата. Можно было сказать, что в то время они подчинили верхушку власти своим интересам и оказывали беспримерное влияние на общество.
«Одна из главных мер, — заявил император, — которые я принял, чтобы восстановить государство и нравственный облик общества, заключалась в том, чтобы сбросить с вершин власти эту прослойку с фальшивой позолотой и поставить её на прежнее место в толпе. Я никогда бы не удостоил эту прослойку общества какого-либо почёта: из всех разновидностей старой и новой знати они были наихудшими её представителями». Император отдал должное Лебрену, который оказал ему поддержку, претворяя в жизнь упомянутую меру. «Дельцы не любили меня за принятую мною меру, — продолжал император, — но они ещё меньше были готовы простить мне жёсткие расследования, которые я проводил в отношении их мошеннических дел с правительством».
Император сказал, что к этим расследованиям он с большой пользой привлекал членов Государственного совета. Он обычно назначал комиссию в составе четырёх-пяти человек из их числа, людей неподкупных и разумных. Они представляли ему свой доклад и, если дело требовало дальнейшего расследования, в конце доклада писали: «Для передачи Главному судье для действий в соответствии с законом». Лица, замешанные в делах подобного рода, обычно пытались уладить их прежде, чем итоги расследования могли быть переданы Главному судье. Они возвращали один, два, три или четыре миллиона, чтобы не стать объектами судебного разбирательства. Императору было хорошо известно, что все эти факты намеренно искажались в различных общественных кругах столицы, в результате чего у него появлялось много врагов и его обвиняли в произволе и тирании. Но он выполнял свой долг, и страна должна быть благодарна ему за принятые им меры против этих паразитов, сосущих народную кровь.
«Люди в своей сути не меняются, — заявил император. — Со времён фараонов и до наших дней дельцы всегда поступали подобным образом, и народ всегда относился к ним с предубеждением. Но ни в один из периодов монархической власти во Франции их не призывали к порядку на основе закона и не расследовали их деятельность так энергично и открыто, как это делал я. Даже среди самих деловых людей некоторые, люди честные и неподкупные, находили в моей строгости гарантию их собственной деятельности. Знаменательный пример подобного рода случился после моего возвращения с острова Эльба. Некоторые банкирские дома Лондона и Амстердама тайно провели со мной переговоры о восьмипроцентном займе на сумму от восмидесяти до ста миллионов франков. Эта сумма, внесённая
388
в казначейство в Париже, выплачивалась банкирам бессрочными государственными облигациями, согласно реестру ценных бумаг, по пятьдесят франков за облигацию. Эти облигации потом продавались населению по пятьдесят шесть и по пятьдесят семь франков за каждую».
Эта финансовая поддержка, столь полезная для императора в период кризиса, охватившего страну, и в то же время столь лестная для него лично, свидетельствует об истинном отношении к Наполеону в Европе и о том доверии, которое он вызывал. Эти переговоры, в своё время неизвестные публике, объясняют, каким образом император получил большие денежные суммы, оказавшиеся в его распоряжении после возвращения с Эльбы. Это обстоятельство было тогда предметом немалых домыслов и предположений.
По словам императора, он пользовался большим авторитетом среди глав финансовых учреждений и простых бухгалтеров. Всесторонняя проверка финансовой отчётности была той деятельностью, которую он очень хорошо понимал. «Случай, который впервые способствовал утверждению моей репутации в финансовых сферах, произошёл в то время, когда я проверял ежегодный отчёт во время Консулата. Я обнаружил ошибку в 2 000 000 франков в ущерб республики. Возглавлявший тогда казначейство господин Дюфрень, безукоризненно честный человек, поначалу не поверил, что произошла ошибка. Однако цифры не лгали, и факт существования ошибки нельзя было отрицать. Всё казначейство несколько месяцев было занято тем, что пыталось обнаружить недостачу. Наконец она была найдена в финансовом отчёте подрядчика Сегена, который, когда ему показали все расчёты, тут же вернул деньги, заявив, что ошибся».
В другой раз, когда император проверял ведомости выплаты денежного содержания гарнизону Парижа, он увидел статью расходов в размере шестидесяти с лишним тысяч франков, выданных одному военному подразделению, которого никогда не было в столице. Министр был уверен, что Наполеон ошибся, однако император оказался прав, и указанную сумму возвратили в казну.
Император придавал огромное значение разделению деятельности двух ведомств — министерства финансов и казначейства, чтобы каждое из них работало отдельно и имело возможность проверять другое. При таком монархе, как Наполеон, руководитель казначейства являлся очень важным государственным деятелем империи не только в качестве министра, но и в качестве генерального контролёра финансов страны. Ему предоставлялась вся финансовая отчётность империи, и он, таким образом, имел возможность выявлять все случаи казнокрадства и злоупотреблений, а затем — ежедневно — сообщать о них монарху. Наполеон также придавал большое значение
389
целевому ассигнованию специальных денежных сумм, рассматривая их как необходимое побудительное средство для успешной деятельности правительства.
Говоря о кадастре, то есть о систематизированном описании земельной, водной и прочей собственности, император сказал, что в соответствии с разработанным им планом кадастр следовало рассматривать как основной закон империи. Кадастр являлся действенным гарантом собственности, обеспечивавшим независимость каждого отдельного лица страны, поскольку после того, как законодательные органы решали ввести налог и устанавливали его, каждый человек мог, опираясь на кадастр, сам определить для себя его размер. В этом случае ему не надо было опасаться произвола налоговых чиновников, чья деятельность всегда воспринимается болезненно и усиливает степень зависимости человека от властей.
Во время этой беседы император высказал своё мнение о способностях господ Годена, Молльена, Луи и о многих других министрах и государственных советниках. Император закончил заявлением, что ему удалось создать, несомненно, самую безупречную и эффективную в Европе систему правления. В своём распоряжении он имел столько подробных данных о деятельности правительства, что, и в этом он был уверен, мог бы и сейчас, всего лишь с помощью «Монитора», проследить все детали проведения финансовых сделок в Европе во времена его правления.
Сегодня с мыса Доброй Надежды прибыли два корабля. Один из них был корабль «Уэлсли», оснащённый семьюдесятью четырьмя пушками. Другой корабль изрядно потрепало во время плавания по океану. Оба корабля были построены в Индии из тикового дерева, что на три четверти дешевле по сравнению с тем, если бы их строили в Англии. Это прекрасная порода дерева; и корабли, построенные из тика, как говорят, держатся на воде намного дольше, чем корабли европейской постройки, хотя моряки жалуются, что кораблями из тикового дерева труднее управлять. Вполне возможно, однако, что тиковое дерево может совершить революцию в английском кораблестроении.
«Китайская флотилия»
2 марта 1816 года
На остров прибыла «китайская флотилия» — английские корабли, которые регулярно плавают из Англии в Китай и обратно, поэтому их так называют. В течение дня несколько кораблей один за другим вошли в гавань, остальные были видны в океане на подходе к острову.
390
Для жителей Святой Елены прибытие этой флотилии всегда праздник, поскольку оно даёт им возможность прибавки к заработку: деньги, которые временные гости с флотилии оставляют на острове, являются значительной частью доходов местных жителей.
В пять часов дня император проследовал в сад и пешком дошёл до впадины между двумя высокими холмами, откуда он смог обозревать корабли, на всех парусах спешившие к острову. С последним кораблём, прибывшим с мыса Доброй Надежды, для императора был доставлен фаэтон. Сегодня вечером император пожелал проверить его. Он сел в фаэтон вместе с гофмаршалом и, сделав круг по парку, пришёл к выводу, что этот экипаж в нынешних условиях бесполезен и неудобен.
После обеда император чувствовал себя уставшим; в течение нескольких дней он был нездоров и в этот вечер отправился спать довольно рано.
План вторжения в Англию
3 марта 1816 года
Император послал за мной в два часа дня. Я вошёл в его комнату, когда он брился. Он сообщил мне, что я вижу перед собой человека, который вот-вот умрёт и находится на краю могилы. Он добавил, что я должен знать о том, что он очень болен, потому что он будет часто будить меня ночью. Я действительно стал свидетелем того, что он беспрестанно кашлял и чихал: он сильно простудился из-за того, что слишком долго находился на сыром воздухе в предыдущий вечер. Император выразил твёрдую решимость всегда в будущем возвращаться в дом в шесть часов вечера. Одевшись, он стал заниматься английским языком, но вскоре прекратил урок, пожаловавшись на сильнейшую головную боль. Он велел мне сесть рядом с ним и заставил в течение двух часов рассказывать ему о том, что я видел в Лондоне во время моей эмиграции. Среди прочего он спросил, сильно ли боялись англичане французского вторжения и каково было общее настроение в Англии в то время. «Сир, — ответил я, — об этом я ничего вам сказать не могу: в то время я уже вернулся во Францию. Но в парижских светских салонах мы от всего сердца смеялись над идеей вторжения в Англию; и англичане, находившиеся тогда в Париже, смеялись вместе с нами. Рассказывали, что даже актёр Брюне смеялся над этим планом и вы посадили его в тюрьму за то, что он был настолько дерзок, что в одной из своих ролей позволил себе положить ореховую скорлупу в таз с водой,
назвав всё это манёврами своей маленькой флотилии». — «Ну что ж! — ответил император. — Вы могли смеяться в Париже, но Питт в Лондоне не смеялся. Он вскоре понял всю опасность, нависшую над Англией, и поэтому противопоставил мне коалицию войск союзников в тот момент, когда я собрал свою армию для нанесения решающего удара. Никогда английская олигархия не подвергалась большей опасности.
Я принял все меры, чтобы обеспечить высадку французских войск на побережье Англии. У меня была лучшая армия в мире, — достаточно сказать, что это была армия Аустерлица. Через четыре дня я был бы в Лондоне, вступив в английскую столицу не как завоеватель, но как освободитель. Я был бы новым Вильгельмом III Оранским, но я бы вёл себя с большим великодушием и бескорыстием. Дисциплина в моей армии была идеальна, так что мои войска вели бы себя в Лондоне точно так же, как они вели себя в Париже. От англичан не потребовалось бы ни жертв, ни даже контрибуции. Для них мои солдаты были бы не завоевателями, а братьями, которые пришли к ним восстановить их права и свободы. Я бы собрал граждан и определил им задачу — работать над их возрождением; англичане уже опередили нас в политическом законодательстве. Я бы объявил, что мы хотим только радоваться счастью и процветанию английского народа, и я бы строго придерживался этих заявлений. Через несколько месяцев обе нации, до того непреклонные враги, составили бы единый народ с совпадающими принципами, правилами поведения и общими интересами.
Затем я бы отправился из Англии, чтобы осуществить под республиканскими знамёнами (ибо тогда я был Первым консулом) возрождение Европы с севера до юга; в более поздний период я собирался осуществить то же самое под монархическими знамёнами. Обе системы были в равной степени хороши, поскольку обе они приводили к одному и тому же результату и действовали с той же твёрдостью, выдержкой и честностью. Скольких бедствий, которые сейчас приходится терпеть, и скольких невзгод, которые ещё придётся испытать, избежала бы несчастная Европа! Никогда ранее план, столь благоприятный для интересов цивилизации, не замышлялся с более бескорыстными намерениями и не был столь близок к выполнению. Удивительно, но факт, что все препятствия на моём пути, ставшие причинами моих неудач, не были делом рук людей, — они были результатом природных условий. Море расстроило мои планы; позже московский пожар, снег и холод завершили мою гибель на севере. Таким образом, только природа была враждебна всеобщему возрождению!.. Неисповедимы пути Господни!»
392
Помолчав несколько минут, император вернулся к обсуждению темы вторжения в Англию. «Считалось, — сказал он, — что мой проект вторжения в Англию всего лишь пустая угроза, поскольку я будто бы не обладал средствами осуществить его. Но я тщательно разработал мой план, и подготовка к его осуществлению проходила почти незамеченной. Я отправил французские корабли по всем направлениям, и англичане следовали за ними в различных частях Земного шара. Наши корабли должны были внезапно вернуться в одно и то же время и собраться вместе вблизи французского побережья. В проливе Ла-Манш у меня находилось около восьмидесяти французских и испанских кораблей. Я рассчитал, что вся операция по их выходу в океан и возвращению обратно займёт два месяца. К их прибытию в пролив там же наготове были бы уже четыре тысячи мелких судёнышек. Сто тысяч солдат ежедневно обучались посадке в эти плавательные средства и высадке с них, в соответствии с планом подготовки к вторжению. Солдаты были охвачены рвением и горячим желанием выполнить мой план, который был очень популярен у французов и поддерживался многими англичанами. После высадки моих войск на побережье Англии я, по моим расчётам, должен был дать только одно генеральное сражение английским войскам, в исходе которого нельзя было сомневаться; победа в этом сражении привела бы нас в Лондон. Природные условия Англии не позволили бы вести войну, связанную с маневрированием войск. Моё поведение и отношение к населению страны довершили бы остальную часть дела. Народ Англии стонал под игом олигархов. Почувствовав, что их национальную гордость не унижают, простые англичане встали бы на нашу сторону. Нас бы рассматривали как союзников, которые пришли, чтобы осуществить их освобождение. Мы бы предстали перед англичанами с волшебными словами о свободе и равенстве».
Обратившись ко множеству подробностей своего проекта, которые были все без исключения превосходны, и ещё раз отметив, что он был очень близок к его реализации, император внезапно остановился и предложил мне выйти погулять.
Мы немного погуляли в саду; последние три дня всё время идёт дождь, но сейчас погода была прекрасная. Император, не забывая о своём решении всегда приходить домой к шести часам вечера, немедленно заказал карету. Мы покатались и вернулись домой вовремя. Мой сын следовал за нами верхом на лошади, — он впервые Удостоился этой чести. Он хорошо справился со своими обязанностями, и император в связи с этим поздравил его.
Император продолжает чувствовать себя нездоровым и очень рано Удалился отдыхать.
393
Император принимает офицеров «китайской флотилии»
4 марта 1816 года
Сегодня император принял нескольких капитанов английских кораблей «китайской флотилии». Он долго беседовал с ними об их торговле, об их умении устанавливать контакт с туземцами, о нравах и обычаях китайского народа и т.д. Почти шестьдесят четыре английских судна осуществляют торговые связи с Китаем. Их грузоподъёмность колеблется от 1400 до 1500 тонн. Они берут на борт почти исключительно чай, и один из только что прибывших кораблей имеет на борту около 1500 тонн чая. Общий груз шести кораблей, прибывших вчера вечером к острову на пути в Англию, оценивается примерно в шестьдесят миллионов. Так как по прибытии в Англию их груз облагается стопроцентной пошлиной, то получается, что за свой товар они получат минимум сто двадцать миллионов.
В Кантоне у европейцев очень мало свободы. Они постоянно ощущают на себе презрительное отношение со стороны китайцев, которые смотрят на всех иностранцев свысока, абсолютно не считаясь с ними. В целом китайский народ очень смышлёный, трудолюбивый и энергичный. Но китайцы вороваты, и их всегда можно подкупить. Они ведут все дела на европейских языках, хорошо владея ими.
Прибытие кораблей «китайской флотилии» на остров Святой Елены полезно и приятно в равной степени и для экипажей кораблей, и для жителей острова. Последние продают свои товары и покупают китайские; моряки, со своей стороны, получают возможность ступить на твёрдую землю и немного развлечься. Обычно их стоянка длится две, а иногда и три недели. Но с учётом нынешней ситуации адмирал, ко всеобщему разочарованию, ограничил этот срок двумя днями для первых двух кораблей, бросивших якорь в гавани острова. Другим кораблям приказано оставаться на рейде под парусами и заходить в гавань по очереди, одновременно не более двух. Говорят, что адмирал получил на этот счёт весьма строгие указания и чего-то очень опасается, но мы не знаем, чего именно.
Император прогуливался в саду перед тем, как сесть в карету. Мы заметили за деревьями офицеров с недавно прибывших на остров кораблей: они пытались увидеть императора, что, видимо, было для них очень важно.
394
Этикет императорского двора — Разговор императора с крестьянкой в окрестностях Лиона — Беспримерное великолепие императорского двора в Тюильри — Утренние приёмы императора — Государственные обеды — Двор и Город
5 марта 1816 года
Сегодня император много говорил об императорском дворе и придворном этикете. Ниже приводится краткое содержание нашей беседы на эту тему.
В период революции королевские дворы Испании и Неаполя по-прежнему копировали дворцовый церемониал и великолепие двора Людовика XIV, добавляя к нему чрезмерную помпезность кастильцев и мавров. Эти дворы отличались безвкусицей и нелепостями. Императорский двор Санкт-Петербурга принял обстановку и манеры гостиной. Императорский двор Вены превратился в простой мещанский дом. Нигде более не осталось и следа от остроумия, изящества и тонкого вкуса двора Версаля.
Поэтому, когда Наполеон обрёл монаршую власть, он увидел перед собой открытую и чистую дорогу и имел возможность сформировать императорский двор в соответствии с собственным вкусом. Он хотел пойти по рациональному пути, сочетая величие трона и современные обычаи, чтобы содействовать улучшению людских нравов и поощрять трудолюбие народных масс. Конечно, совсем не просто было воссоздать трон на том самом месте, где был низложен правящий монарх и где народ на конституции поклялся ненавидеть королей. Было нелегко восстановить звания, титулы, знаки отличия среди народа, который на протяжении пятнадцати лет вёл войну, чтобы уничтожить всё это. Однако Наполеон, который обладает удивительным умением добиваться всего, чего он хочет, — возможно, потому, что ему свойственно желать того, что справедливо и необходимо, — после упорной борьбы преодолел все эти трудности. Когда он стал императором, то возродил класс аристократии и создал императорский двор. Казалось, что его военные победы сделали всё, что можно, чтобы объединить общество и придать блеск новому порядку вещей. Вся Европа признала императора, и все монаршие дворы континента ринулись в Париж, чтобы собственным присутствием усилить величие Тюильри, который стал самым блестящим и многочисленным монаршим двором, подобного которому никогда ещё не было. В Тюильри бесконечно проводились приёмы, балы
395
и давались представления, и императорский двор в Париже стал навсегда знаменит своим великолепием и величием. Личность монарха была сама по себе исключительна благодаря его чрезвычайной скромности, выделявшей его среди всей окружающей пышности. По словам императора, он культивировал всё это великолепие, исходя из политических мотивов, а не потому, что оно отвечало его вкусам; оно было рассчитано на то, чтобы поощрять деятельность производителей и развитие национальной промышленности. Торжества и празднества по случаю брачного союза с императрицей и рождения Римского короля намного превзошли своим размахом все аналогичные празднества в прошлом, и, вероятно, подобные торжества в будущем никогда не будут им равны.
Во внешней политике император стремился поставить себя в один ряд с другими монаршими дворами Европы, но в своей собственной стране он постоянно старался применить старые формы к новым нравам.
Он восстановил церемониал утренних выходов и отходов ко сну прошлых королей Франции, но у него эти протокольные мероприятия имели всего лишь номинальный характер и реально не проводились. Вместо того чтобы тратить часы на мельчайшие и незначительные детали своего туалета, император посвящал их приёму утром и вечером лиц из обслуживающего персонала императорского двора для отдачи им соответствующих распоряжений, а также приёму тех персон, которые имели право находиться в его обществе в эти часы.
Император также устраивал специальные приёмы в своих апартаментах и во дворцах императорского двора; но, вместо того чтобы удостаивать этой чести только персон знатного происхождения, он принимал у себя посетителей на основании их общественных и государственных заслуг.
Более того, Наполеон восстановил титулы и звания, а условия их присвоения были примерно такими же, как и при старой феодальной системе. Однако эти титулы не имели никакой реальной ценности и были учреждены чисто в национальных интересах. Те из них, присвоение которых не сопровождалось какими-либо прерогативами или привилегиями, могли быть пожалованы лицам любого социального положения и любой профессии в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Император считал, что в иностранных государствах эти титулы и звания производили полезное впечатление тем, что в какой-то мере соответствовали старым порядкам и нравам Европы. В то же время у себя, во Франции, они служили игрушками, которые тешили тщеславие многих лиц, ибо, как говорил
396
император, «трудно представить себе, как много неординарных личностей превращаются в настоящих детей чаще, чем раз в день!»
Император возродил знаки отличия и ордена и сам вручал кресты Почётного легиона и орденские ленты. Но, вместо того чтобы награждать ими исключительно представителей определённого класса, он значительно расширил круг награждаемых, и награды вручались за успехи, достигнутые в любой сфере деятельности. По счастливому стечению обстоятельств — и это характерно для Наполеона, — ценность этих наград возрастала соразмерно количеству награждённых. Император подсчитал, что пожаловал около 25 000 знаков Почётного легиона; и, как он говорит, желание получить эту награду возросло до такой степени, что стало своего рода манией.
После победного сражения при Ваграме император направил знак отличия Почётного легиона потерпевшему поражение австрийскому эрцгерцогу Карлу, послав, со свойственной ему изысканностью комплиментов, всего лишь серебряный крест Почётного легиона, которым обычно награждались рядовые солдаты.
Император говорит, что только благодаря тому, что он действовал строго и принципиально, он стал истинно национальным монархом; и приверженность такому курсу делает четвёртую династию по-настоящему конституционной. Он говорит, что простые люди часто инстинктивно проявляли понимание этого факта.
Император рассказал следующую историю. Когда он возвращался во Францию после коронации в Италии, то, подъезжая к Лиону, обнаружил, что всё население окрестностей города собралось, чтобы увидеть его. Он захотел подняться на вершину холма Татаре и, распорядившись, чтобы никто не сопровождал его, смешался с толпой людей и заговорил со старой женщиной. Он спросил её, почему поднялась такая суматоха. Она ответила, что ожидается проезд императора. После недолгого разговора он спросил: «Моя добрая женщина, раньше у вас был тиран Капет, теперь над вами властвует тиран Наполеон. Что вы выиграли от такой перемены?» Убедительность этого аргумента на секунду привела пожилую женщину в замешательство, но она тут же пришла в себя и ответила: «Извините меня, господин, но есть большая разница. Этого мы выбрали сами, а того получили случайно».
«Старуха была права, — заявил император, — и она инстинктивно проявила больше здравого смысла, чем многие мужчины, обладающие знаниями и способностями».
Император окружил себя офицерами из числа самых знатных семей. Он сформировал персонал императорского двора в составе камергеров, конюших и т.д. На эти должности он подбирал лиц, не
397
делая различий, — и среди тех, кого возвысила революция, и среди тех, чьи старинные дворянские семьи пострадали от неё. Первые считали, что они по праву заняли высокое положение в государстве, вторые считали, что вернули потерянное. Император думал, что, соединяя на службе при дворе людей разного социального происхождения, он сможет добиться ликвидации ненависти между противоборствовавшими сторонами. Однако, как говорит император, было легко видеть различие манер. Лица, принадлежавшие к старинным дворянским семьям, выполняли свои служебные обязанности при дворе с большей учтивостью и прилежанием. Так, госпожа де Монморанси обычно низко наклонялась, чтобы завязать шнурки на туфле императрицы, тогда как фрейлины из числа новой знати старались не делать этого, чтобы их не приняли за простых горничных; Монморанси этого не опасалась. Почётные должности при дворе в большинстве случаев не предусматривали какого-либо жалованья, они даже влекли за собой личные затраты тех, кто их занимал. Но эти должности предоставляли людям возможность находиться на виду у монарха, всемогущего монарха, источника почестей и наград, монарха, заявившего, что любой придворный может в случае необходимости обратиться за помощью только к нему.
398
Женившись на Марии Луизе, император резко увеличил количество камергеров из представителей самых родовитых и старинных аристократических семей Франции; он сделал это, чтобы показать Европе: во Франции нет противоборствующих сторон. Поэтому он окружил императрицу теми людьми, чьи имена были знакомы ей. Говорили, что император вначале хотел выбрать и первую фрейлину императрицы из числа представительниц этих старинных семей Франции, но опасение, что императрица, чей характер ему не был знаком, может попасть под влияние предрассудков этого класса, что повлечёт за собой слишком большое усиление роли старой аристократии в императорском дворе, вынудило его остановиться на другой персоне.
С этого момента и до начала нашей катастрофы отпрыски самых старинных и блистательных аристократических семей Франции усердно домогались должностей императорского двора; да и как могло быть иначе? Император правил всем миром, он вознёс Францию и французский народ над всеми другими нациями. За ним следовали власть и слава. Как счастливы были те, кто дышал воздухом императорского двора! Возможность непосредственного общения с особой императора обеспечивала, и за границей и дома, право на внимание, почтение и уважение.
Когда после первого отречения императора на престол вернулся Людовик XVIII, один роялист, честный и тактичный человек, сказал мне самым серьёзным тоном (ибо разница во мнениях не влияет на характер отношений), что с моим именем и безупречным поведением я не должен отчаиваться, ибо смогу получить должность в окружении короля или в штате принцев и принцесс. Каково же было его удивление, когда я ответил ему: «Мой друг, я считаю это невозможным: я служил самому могущественному хозяину на Земном шаре; в будущем я не смогу, не деградируя, служить кому-либо ещё. Знайте же, что, когда мы, облачённые в мундиры французского императорского двора, направлялись с приказами императора в монаршие дворы других стран, то считали себя равными тамошним принцам, и с нами повсюду обращались как с принцами. Император удостаивал нас чести быть свидетелями таких моментов, когда не менее семи королей вместе с нами и среди нас ждут его выхода в салон императорского дворца. Во время его брачной церемонии четыре королевы несли шлейф императрицы; один из нас был её сопровождающим, а другой — её конюшим. Поверьте, мой друг, что благородные амбиции полностью удовлетворяются подобными почестями».
Великолепие и пышность, свойственные непревзойдённому императорскому двору, основывались на системе и правилах, которые
399
вызывали удивление и восхищение тех, кто изучал его. Несколько раз в году император лично проверял финансовые счета. Все его дворцы были отремонтированы и заново декорированы: они были обставлены мебелью стоимостью почти в сорок миллионов, в них было столового серебра на четыре миллиона. Если бы судьба даровала ему несколько лет мира, то трудно представить себе, говорит император, что бы он смог ещё совершить.
Император рассказал, что задумал блестящую идею, и очень сожалел, что не смог претворить её в жизнь: поручить нескольким лицам заняться сбором наиболее важных прошений. «Мои порученцы, — объяснил император, — должны были ежедневно выбирать трёх или четырёх человек из провинции, которых бы приглашали на утренний приём для объяснения лично мне их проблем; после соответствующего обсуждения я немедленно принимал бы решения».
Я напомнил императору, что Комиссия по прошениям, которую он учредил, была очень близка к этой идее и своей деятельностью принесла немало добра. Я был главой этой комиссии, когда император вернулся с острова Эльба, и за первый месяц работы мы удовлетворили более четырёх тысяч прошений. Ряд обстоятельств не позволили комиссии воспользоваться исключительным правом,
400
КОРОНАЦИЯ
которое, несомненно, произвело бы большое впечатление на общественное мнение, а именно — представлять императору официально каждое воскресенье в присутствии большой аудитории результаты недельной работы. Но постоянные отъезды императора из столицы и, прежде всего, ревность министров лишили комиссию этой высокой привилегии.
Император также выразил сожаление, что не дополнил правила этикета императорского двора положением о том, что все лица, представляемые ему, особенно женщины, а также те лица, которые добивались аудиенции у него, должны получить право входа в передний зал его дворца. Император, проходя по этому залу несколько раз в течение дня, мог бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы удовлетворить хотя бы несколько их просьб. Таким образом он мог бы избавиться от необходимости отказывать им в аудиенции или, в ином случае, терять на неё время.
Некоторое время император раздумывал над тем, чтобы восстановить обычай большого стола королей Франции, то есть публичного обеда всей императорской семьи каждое воскресенье. Он спросил наше мнение об этом, и наши точки зрения оказались различными. Одни одобрили эту идею, утверждая, что зрелище императорской семьи благотворно скажется на общественной морали и будет способствовать улучшению настроения общества; кроме того, говорили они, этот обычай даст возможность любому человеку увидеть воочию своего монарха. Другие выступали против этой идеи, утверждая, что такая церемония несёт в себе элементы феодализма, невежества и раболепия, которые отсутствуют в наших обычаях и не соответствуют современным понятиям. Люди могут пойти в церковь или в театр, чтобы увидеть монарха, но решение пойти посмотреть, как он ест, только поставит в неудобное положение и подданных, и монарха. Верховная власть, став теперь, как хорошо об этом высказался император, государственной должностью, должна на публике проявлять себя активной деятельностью: раздачей почестей, разрешением конфликтов, заключением выгодных сделок, заботой об армии и, прежде всего, разоблачением недостатков и пороков человеческой натуры. Её полезность, её преимущества должны сделать верховную власть более привлекательной; образ монарха должен присутствовать постоянно и являться неожиданно, подобно Провидению. Таково было новое направление мышления, считали мы.
«Ну что ж, — согласился император, — может быть, правда следует ограничиться подобной церемонией для императорского наследника, и только пока он находится в юном возрасте, ибо он является дитём всей нации; именно его следует впредь делать объектом почитания людей, которые должны видеть его».
401
Вернувшись с Эльбы, император сказал, что у него есть идея устраивать каждое воскресенье званые обеды в галерее Дианы во дворце Тюильри с приглашением до пятисот гостей, — как считал император, это мероприятие должно было произвести сильное впечатление на общественность, особенно в дни Майского поля14, когда в Париже собираются депутаты; но важные дела и отсутствие свободного времени помешали осуществить эту идею. Кроме того, император не исключал того, что такое мероприятие могли бы рассматривать как его стремление добиться ложной популярности в стране и что его зарубежные враги могли обвинить его в том, что он устраивает эти обеды из чувства страха перед собственным народом.
Император заявил, что вошло в привычку говорить о влиянии обстановки в императорском дворе и его нравов на положение страны и настроение людей; он был далёк от того, чтобы способствовать этому, но виной были сложившиеся обстоятельства. Император раздумывал над этим и пришёл к выводу, что время всё поставит на своё место.
«Императорский двор, — продолжал он, — если рассматривать его в целом, не оказывает прямого влияния на общество, но отдельные элементы, составляющие двор, каждый в своей сфере деятельности, могут оказывать такое влияние. Иными словами, императорский двор не задаёт тон всей стране, но даёт ей пример. Теперь у нас не было светских обществ, и мы уже не могли иметь их. Те восхитительные светские общества, которые давали возможность в полной мере пользоваться преимуществами цивилизации, внезапно исчезли в революцию и возрождаются весьма медленно в ожидании того времени, когда утихнет революционная буря. Обязательными основами светского общества являются праздность и роскошь; но мы все по-прежнему находились в положении постоянной нестабильности, и большие состояния пока ещё не имели почвы под ногами. Кроме того, масса театров, множество общественных развлекательных заведений гораздо больше были готовы доставить удовольствие, они были более раскованны и намного сильнее возбуждали. Женщины того времени, если говорить в целом, были молоды; им больше нравилось выходить из дома, показывать себя на публике, чем оставаться в узком кругу домашних. Но им предстоит становиться старше, и со временем всё обретёт свой естественный облик. Будет, вероятно, ошибкой судить о современном монаршем дворе, вспоминая прошлый двор. Конечно, вся власть находилась в руках прошлых монарших дворов, — как тогда говорилось, есть Монарший Двор, и есть Город. В настоящее время корректнее сказать: есть Город, и есть Монарший Двор. Феодальные властители, теряя власть, стремились компенсировать эту потерю тем, что предавались
402
удовольствиям. Сами монархи, судя по всему, в будущем будут подчиняться этому же закону: обладатель трона, в соответствии с нашими либеральными идеями, перестал быть владыкой (даже не сознавая этого) и превратился просто в государственного чиновника. Принц должен стремиться отойти от трона, чтобы стать простым гражданином и получить свою долю общественных удовольствий».
Среди большого количества новых мероприятий, запланированных императором для более спокойного будущего, у него была любимая идея. Она заключалась в том, чтобы после того, как настанет мир на Земле и будет обеспечен покой, посвятить свою жизнь очищению всех форм правления и улучшению деятельности местного управления. Тогда бы император совершал постоянные поездки в провинции страны. Он бы посещал их без всякой спешки и не мчался во весь опор по провинциям, а временно жил в них. Он совершал бы эти поездки на собственных лошадях в сопровождении императрицы, Римского короля и всех членов императорского двора. В то же время император хотел, чтобы весь этот большой выезд не становился обременительным для местного населения, но был бы благом для него. Места его отдыха украшались бы комплектом свисающих гобеленов, перевозимых вслед за ним. Другие члены его свиты, вслух мечтал император, размещались бы в домах местных жителей; последние считали бы приезд этих гостей благом для себя, а не бременем, поскольку такой приезд был бы всегда для них выгоден. «Наверняка, — продолжал император, — я бы смог в каждом месте предотвращать мошенничество, наказывать за растраты, возводить здания, мосты, строить дороги, высушивать болота, обогащать почву и т.д. Если бы Небеса даровали мне несколько лишних лет, я бы, безусловно, сделал Париж столицей всего мира, а Францию — настоящей сказочной страной». Император часто повторяет эти последние слова, — как много людей уже говорили это и будут говорить после него!
Комплект шахмат из Китая — Приём капитанов английской флотилии, ведущей торговлю с Китаем
6 марта 1816 года
Император оседлал свою лошадь в семь часов утра; он сказал мне, чтобы я позвал сына, который будет сопровождать нас. Это было большой честью для моего сына. Во время нашей поездки император пять или шесть раз слезал с лошади, чтобы в подзорную трубу наблюдать корабли, приплывшие в гавань острова. Он удостоверился
403
в том, что один из кораблей был голландским, плывущим под трёхцветным флагом, что для нас всегда было поводом для понятного волнения. Во время одной из таких остановок самая ретивая из наших лошадей вырвалась на свободу и стала причиной продолжительной погони за ней. Мой сын догнал лошадь и, торжествуя, привёл её обратно. Император заметил, что в конных состязаниях мой сын был бы победителем.
Вернувшись, император стал завтракать в помещении, пригласив меня с сыном присоединиться к нему.
До и после завтрака император провёл со мной конфиденциальную беседу, обсудив при этом важные вопросы, которые я не могу доверить бумаге.
Жара стала невыносимой, и император удалился в свою комнату. В половине пятого он вновь послал за мной, — в это время он уже заканчивал одеваться. Доктор принёс ему комплект шахмат, который он купил на борту одного из кораблей, прибывших из Китая; императору хотелось приобрести такой комплект. Он заплатил за него тридцать наполеондоров. Шахматные фигурки привели в восхищение почтенного доктора, а император посчитал их на редкость нелепыми. Фигуры, абсолютно не напоминавшие наши, представляли собой крупные и топорно исполненные образы персонажей, обозначенных поимённо: так, конь на пьедестале был весь в военных доспехах, а ладья была на громадном слоне. Император не смог играть этими фигурами, шутливо заметив, что для того, чтобы передвинуть по доске такую фигуру, нужна помощь подъёмного крана.
Тем временем многие офицеры и матросы английской флотилии, прибывшей из Китая, фланировали в саду: к нашему жилищу их несколько часов назад привело любопытство. Мы оказались буквально в осаде в наших комнатах. Один английский моряк заявил, что будет гордиться всю свою жизнь, если ему удастся увидеть Наполеона, другой утверждал, что не посмеет вернуться к жене, если не сможет сказать ей, что созерцал черты лица Наполеона. Ещё один моряк поклялся, что охотно откажется от заработка, полученного за последнее плавание, ради того, чтобы хотя бы на мгновение увидеть Наполеона.
Император распорядился, чтобы их впустили в дом. Трудно описать охватившие их чувства радости и удовлетворения, — они даже не смели надеяться на нечто подобное. Император, как обычно, много расспрашивал их о Китае и его жителях: он интересовался источниками доходов, поведением и нравами китайцев, деятельностью миссионеров в Китае и т.д. Император отпустил моряков только через полчаса. Когда они ушли, мы рассказали ему об охватившем английских офицеров в результате встречи с ним энтузиазме,
404
свидетелями которого мы были. Мы также повторили императору их восторженные высказывания о его особе. «Я думаю, — заявил император, — вы не понимаете, что они — наши друзья. Всё, что вы заметили в них, принадлежит английскому характеру. Они — естественные враги, возможно, не сознавая этого, своей старинной и высокомерной аристократии».
За обедом император почти не притрагивался к еде, — он чувствовал себя нездоровым; после кофе он попытался сыграть партию в шахматы, но ему захотелось спать, и он почти сразу же удалился.
Шутка императора
7 марта 1816 года
Рано утром император отправился на верховую прогулку; он вновь попросил меня, чтобы его сопровождал мой сын. Накануне вечером император, увидев его верхом на лошади, спросил меня, обучал ли я своего сына, как за ней ухаживать; он говорил, что ничего нет полезнее этого и что на сей счёт он в своё время дал специальный приказ военной школе в Сен-Жермене. Я был огорчён тем, что такая простая идея прошла мимо моего внимания; теперь я охотно поддержал её, а мой сын пришёл от неё в восторг. В тот момент он был на лошади, на которой ездил он один. Когда я сообщил императору о желании сына самому ухаживать за своей лошадью, император был явно рад и удостоил моего сына своего рода небольшим экзаменом. Наша верховая прогулка продолжалась почти два с половиной часа и всё время проходила в окрестностях Лонгвуда.
405
Вернувшись, император завтракал в саду, пригласив всех нас составить ему компанию.
Вскоре после обеда я зашёл в гостиную, — император играл в шахматы с гофмаршалом Бертраном. Камердинер, стоявший у дверей в гостиную, передал мне письмо, на котором по-английски было написано «Весьма срочно». Стараясь не беспокоить императора, я отошёл в сторону, чтобы прочитать письмо. Оно было написано на английском языке, и в нём сообщалось, что я создал прекрасное литературное произведение, но, тем не менее, в него вкрались ошибки, и что если я исправлю их в новой редакции, то, несомненно, оно станет ещё более ценным; далее в письме выражалось пожелание, чтобы Бог продолжал оказывать мне своё милосердное и священное покровительство. Письмо изумило и несколько рассердило меня; я покраснел. Поначалу я не обратил внимания на почерк, которым было написано письмо. Перечитав его вновь, я узнал почерк, несмотря на то, что оно было написано гораздо лучше обычного, и не мог удержаться от смеха. Император, бросив взгляд в мою сторону, спросил, от кого пришло письмо, которое мне передали. Я ответил, что это письмо вызвало у меня сначала совершенно иные чувства, чем те, которые владеют мною постоянно. Я сказал это с таким простодушием, что император рассмеялся до слёз. Мистификация удалась, письмо было от него. Ученик решил подшутить над своим учителем и попытаться оценить свои успехи в занятиях английским языком за счёт своего учителя. Я бережно храню это письмо; его юмор, стиль и все обстоятельства, связанные с ним, делают его для меня более ценным, чем любой диплом, который император мог вручить мне, когда он был на вершине власти.
Польза от английского языка —
О медицине — Корвисар — Чума — Медицинская практика в Вавилоне
8 марта 1816 года
Император не мог заснуть всю ночь, поэтому развлекался тем, что писал мне новое письмо на английском языке. Он отправил его мне в запечатанном виде. С тем же курьером, который доставил мне его письмо, я отправил императору мой ответ, а также его письмо с исправленными ошибками. Он прекрасно понял всё, что я написал ему; это убедило его в том, что он сделал значительный прогресс в изучении английского языка. Император удвлетворён тем, что в будущем сможет переписываться на новом для него языке.
406
Последние две недели генерал Гурго чувствует себя нездоровым. Его болезнь оказалась острой формой дизентерии, что вызвало у нас большую тревогу. Адмирал прислал ему врача с корабля «Нортумберленд» (доктора Уордена). Император пригласил этого господина на обед. Во время обеда и долгое время после него разговор касался исключительно вопросов медицины. Беседа проходила очень живо, иногда принимая серьёзный и глубокий характер. Император находился в хорошем настроении и говорил весьма непринуждённо. Он забросал врача многочисленными вопросами, прибегая в споре с ним к столь остроумной и искусной аргументации, что не раз ставил его в тупик. Доктор Уорден был так поражён подобным блеском ума, что после беседы с императором отвёл меня в сторону и спросил, как это получилось, что император столь информирован по всем медицинским проблемам. Врач не сомневался, что они являлись предметом повседневных разговоров императора. «Не чаще, чем любые другие проблемы, — ответил я, не покривив душой. — Мало найдётся тем для обсуждения, с которыми незнаком император, и он трактует их всегда обстоятельно и интересно».
Император не доверяет медицине и её лечебным средствам; он ими не пользуется. «Доктор, — сказал он, — наше тело является машиной, обеспечивающей жизнь: оно создано для этой цели, в этом заключается его природа. Оставьте тело в покое, пусть оно само позаботится о себе. Это лучше, чем парализовать его, нагрузив лекарствами. Оно подобно хорошо отрегулированным часам, предназначенным ходить в течение определённого времени. Часовщик не вправе вскрывать такие часы; он вмешивается в их ход только наугад и с повязкой на глазах. На одного умельца, который с помощью своих грубых инструментов, напрягая все свои силы, всё же добивается успеха в работе, приходится толпа невежд, которые полностью ломают механизм часов!»
Император признаёт пользу медицины только в тех случаях, когда болезни известны и точно изучены благодаря времени и опыту. Он сравнивает в этих случаях искусство врача с искусством военного инженера во время регулярной осады крепости, когда теоретические принципы Вобана вкупе с правилами, основанными на практическом опыте, соединяют воедино все возможности в рамках известных законов. В соответствии с этими принципами император раздумывал о введении закона, который разрешал бы всем практикующим врачам во Франции использовать только простые медицинские средства и запрещал бы им применять рискованные лекарства, то есть те, которые могут привести к смертельному исходу, — до тех пор, пока эти медики, опираясь на свою профессию, не заработают по крайней мере три или четыре тысячи франков. Это, заявил император, обеспечит им возможность дальнейшего обучения и упрочения
407
репутации. «Эта мера, — сказал он, — безусловно, оказалась бы справедливой и полезной, но в моё время она была несвоевременной: информация о ней ещё не была достаточно распространена среди населения страны, в своей массе народ увидел бы в ней только акт тирании, а не закон, который спасает население от палачей».
Император часто спорил со знаменитым Корвисаром, своим личным врачом, о медицинских проблемах. Последний, защищая честь своей профессии и честь своих коллег, тем не менее признавался, что во многом разделяет мнения императора, и даже поступал, следуя им. Он был страстным противником медицинских лекарств и использовал их очень умеренно. Когда императрица Мария Луиза, сильно страдавшая во время беременности, выпрашивала у него обезболивающие средства, он ловко подсовывал ей пилюли, скатанные из мякиша хлеба. Приняв их, императрица утверждала, что эти пилюли сильно облегчают её болезненное состояние.
Император говорил, что вынудил Корвисара признать, что медицина как таковая хороша только для немногих, что она может принести некоторую пользу богатым, но является несчастьем для бедных. «Разве вы не считаете, — спрашивал император, — сознавая сомнительную значимость самого искусства врачевания и невежество практикующих врачей, что результаты врачевания, взятые в целом, скорее вредны, чем полезны для народа?» Корвисар с готовностью соглашался с императором. «И разве вы сами никогда не убивали кого-нибудь? — продолжал император. — То есть, разве у вас не было пациентов, которые очевидно умерли в результате прописанных вами лекарств?» — «Несомненно, что и так, — ответил Корвисар. — Но я не должен возлагать на мою совесть большую тяжесть, чем вы, Ваше Величество, возлагаете на свою в том случае, если ваши солдаты гибнут не потому, что вы совершили неудачный манёвр, но потому, что на пути войска оказалась пропасть, о которой вам ничего не было известно заранее, но в которую солдаты провалились».
Император предложил доктору Уордену обсудить некоторые проблемы и определения. «Что есть жизнь? — спросил он его. — Когда и каким образом мы получаем её? Или это только тайна?» Затем он определил безобидную форму сумасшествия как нестыковку между правильными мыслями и их практической реализацией. Например, душевнобольной человек ест виноград в чужом винограднике, и в ответ на упрёки владельца виноградника он говорит: «Здесь нас двое; солнце сияет для обоих, поэтому я имею право есть виноград». Опасный сумасшедший — это тот, у которого произошёл разрыв между мыслями и поступками: этот сумасшедший отрезает голову у спящего человека и затем, спрятавшись за оградой, хочет получить удовольствие от растерянности мёртвого тела, когда оно проснётся.
408
Император затем спросил доктора Уордена, в чём заключается разница между сном и смертью, и сам ответил на этот вопрос, сказав, что сон является кратковременным прекращением способностей, которыми обладает наша сила воли, а смерть представляет собой устойчивое прекращение не только этих способностей, но также и тех, которые не находятся под контролем нашей воли.
Потом темой беседы стала чума. Император утверждал, что ею заболевают и в результате физического контакта с больным чумой, и под влиянием психологического воздействия. Он подчеркнул, что чувство страха перед чумой способствует её опасному и широкому распространению. Её главные зародыши кроются в самом воображении человека, в его мнительности. В Египте все те, кто был подвержен этой мнительности, погибали. Наиболее разумным лечебным средством против чумы было нравственное мужество. Император без вреда для себя, как он рассказывал, в Яффе дотрагивался до заражённых чумой и в течение двух месяцев спас жизни многих солдат, сообщая им неправду о постигшей их болезни: он говорил им, что они больны не чумой, а всего лишь лихорадкой, сопровождаемой язвами. Более того, он пришёл к выводу, что лучшее средство предохранения армии от чумы заключается в том, чтобы солдаты испытывали в походах максимальную физическую нагрузку: физическая усталость и занятость ума раздумьями о различных предметах — вот наиболее верная защита от чумы*.
Император также спросил доктора Уордена: «Если бы Гиппократ неожиданно вошёл в ваш госпиталь, не был бы он весьма удивлён всем увиденным? Согласился бы он с вашими принципами и методами? Не нашёл бы он недостатков в вашей работе? А вы, со своей стороны, поняли бы его язык? И вообще, пришли бы вы оба к взаимопониманию?» Император закончил беседу тем, что шутливо похвалил практику медицинского лечения в Вавилоне, где пациентов помещали у дверей госпиталя, и их родственники, сидевшие рядом с ними, останавливали прохожих, чтобы спросить у последних, не страдали ли они от аналогичных болезней и что именно помогло
* В «Мемуарах» господина Ларрея упоминается как феномен или, по крайней мере, как нечто необыкновенное то обстоятельство, что в сложившихся во время отступления французских войск от крепости Сен-Жан д’Акр условиях было признано необходимым сократить питание больных солдат до нескольких тонких сухариков с солоноватой водой. Эти больные пересекли песчаную пустыню, преодолев расстояние в шестьдесят лье, без единого смертного случая и прибыли в Египет в большинстве своём абсолютно здоровыми. Господин Ларрей объясняет ото чудо прямой или косвенной физической нагрузкой, сухими и жаркими погодными условиями пустыни и, прежде всего, радостью возвращения в страну, которой предстояло временно стать новым домом для солдат.
409
им вылечиться. По крайней мере один из таких больных, сказал император, наверняка избежал участи тех, кто был убит прописанными им лекарствами.
9 марта 1816 года
После нашего английского урока я завтракал с императором, когда мне принесли письмо от жены. Оно обогрело мою душу радостью и чувством признательности. Она писала, что ни страх, ни усталость, ни громадное расстояние не могут помешать ей приехать ко мне, что в разлуке со мной она лишена счастья и только ждёт благоприятного времени года для поездки на Святую Елену. Изумительная преданность! Преодолевающая всё то, с чем мы сталкиваемся здесь, если учесть, что она проявляется с абсолютным пониманием всех последствий. Я не могу думать, что в Англии будут столь жестоки, что откажут ей в просьбе. Чего она просит? Милостей, какой-то выгоды? Нет, она просит разделить участь ссыльного на уединённой скале, чтобы выполнить свой долг и вновь проявить свою любовь!.. Как я далёк от того, чтобы справедливо судить о сердцах и мышлении тех, кто незаконно держит нас в ссылке! Госпоже де Лас-Каз постоянно отказывали в её просьбе: иногда под различными предлогами, иногда даже не удосуживаясь ответить ей. Наконец, словно стараясь отделаться от её назойливости, лорд Батхерст дал указание сообщить ей, что в начале 1817 года ей будет разрешено отправиться на Мыс Доброй Надежды (500 лье ниже острова Святой Елены), откуда, «если губернатор острова Святой Елены (сэр Хадсон Лоу) не будет возражать, ей позволят выехать к мужу».
Я оставляю без комментариев этот образчик ответа и выношу его на рассмотрение любого человека с чувствами. Письмо было доставлено на борту фрегата «Оуэн Глендауэр»; он прибыл с мыса Доброй Надежды и привёз нам европейские газеты, датированные до 4-го декабря.
Суд над Неем — Карета императора, захваченная у Ватерлоо — Беседа в Дрездене — О женском капризе — Две императрицы — Принцесса Полина — Красноречие императора
10 — 12 марта 1816 года Погода теперь резко изменилась: льёт проливной дождь, не позволяющий нам гулять по саду. К счастью, чтобы занять время, в нашем распоряжении есть газеты. Наконец я получаю удовольствие от того, что император читает их, не прибегая к чьей-либо помощи.
410
В этих газетах сообщается много подробностей о суде над маршалом Неем. Касаясь этого судебного процесса, император заявил, что над головой Нея сгущаются тучи, что несчастный маршал, безусловно, находится в большой опасности, но что мы не должны, однако, приходить в отчаяние. «Король, несомненно, полностью положился на Палату пэров, — сказал император. — Пэры, конечно, настроены очень резко по отношению к Нею, они полны решимости вынести ему самый строгий приговор, они просто кипят от ярости; но, несмотря на это, следует предположить, что Нею поможет какой-нибудь ничтожный случай, что-то, о чём я не знаю. Тогда вы увидите, что, несмотря на все усилия короля и на то, что они считают интересами их дела, Палата пэров неожиданно примет решение признать Нея невиновным и Ней, таким образом, будет спасён».
Эти мысли привели императора к рассуждениям о нашем изменчивом и неустойчивом положении. «Всем французам, — заявил он, — свойственен беспокойный характер, они склонны браниться между собой, но они неохотно прибегают к открытому мятежу и ещё менее охотно — к серьёзному тайному заговору. Их легкомыслие настолько естественно для них, их изменчивость настолько внезапна, что можно сказать: эти качества характера являются их национальным позором. Они подобны флюгеру, их несёт туда, куда дует ветер, — это всё верно; но этот их порок абсолютно бескорыстен, и это их главное оправдание. Надо только помнить, что мы говорим здесь об общей массе народа, той самой, которая и составляет общественное мнение, тогда как отдельные примеры обратного свойства, которые мы видим в стране в последнее время, представляют некоторые слои общества в самом отвратительном и неприглядном виде».
Именно это знание национального характера, продолжал император, всегда мешало ему обращаться за помощью к Верховной судебной палате. Она была учреждена в соответствии с нашей конституцией, Государственный совет декретировал её организацию, но император ощущал всю опасность заседаний Палаты в обстановке той шумихи и всеобщего возбуждения, которые всегда превращали эти заседания в настоящий спектакль. «Подобное поведение, — заявил император, — является попыткой заигрывать с публикой и было всегда чрезвычайно оскорбительно для высшей власти, когда обвинённый в совершении доказанного преступления выигрывает процесс. Кабинет министров Англии может претерпеть, без каких-либо лишних забот для себя, последствия неугодного для него решения судебного ведомства при подобных обстоятельствах, но такой монарх, как я, да к тому же находившийся в ситуации, в которой находился я, не мог терпеть их, не подвергая серьёзнейшей опасности общественные дела. По этой причине я предпочитал обращаться
к простым трибуналам. Этот мой шаг часто встречал откровенное недоброжелательство; тем не менее, среди всех тех, кого было угодно называть жертвами, кто, спрошу я вас, сохранил популярность в наших недавних схватках? Они полностью потеряли уважение в масштабах всей страны».
Из полученных газет император сохранил одну статью, чтобы с моей помощью сделать её точный перевод; в ней сообщались подробности о его карете, которую император потерял в окрестностях Ватерлоо. Большое количество технических терминов в статье сделало её трудной для самостоятельного перевода императора. Автор статьи даёт очень обстоятельное описание этой кареты, не упуская малейших деталей в рассказе о предметах, находившихся в ней. Иногда, описывая их, он от себя добавляет самые пустяковые замечания. Упоминая небольшой ящик для хранения бутылок со спиртным, он заявляет, что император никогда не забывал себя, принимая меры к тому, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Заметив некоторые элегантные принадлежности в дорожном несессере императора, он добавляет, что, по-видимому, Наполеон хотел выглядеть комилъ- фо (это выражение было напечатано на французском языке). Эти последние слова вызвали неудовольствие императора, которое, несомненно, он не проявил бы и по более важной причине. «Вот тебе раз! — воскликнул он с оттенком раздражения и горечи. — Эти англичане, следовательно, принимают меня за какое-то дикое животное. Неужели их одурачили до такой степени? Или их собственный монарх, который уподобляет себя священному белому быку, как у древних египтян, не уделяет должного внимания своему туалету (а ведь это свойственно всякому воспитанному человеку)?»
Мне пришлось немало поломать голову над тем, чтобы объяснить ему, что имел в виду автор статьи. Кроме того, известно, что император меньше всех на свете дорожил своими личными удобствами и ещё менее заботился о них. Но, с другой стороны, и он не без удовольствия признавал это, его слуги были самыми преданными, самыми внимательными и усердными. Для еды у него не было точно отведённых часов, и ел он когда придётся, но слуги ухитрялись во время его поездок и военных кампаний подавать ему именно тот обед, к которому он привык в Тюильри. Ему достаточно было лишь заикнуться об обеде, и ему тут же сервировали стол; император сам говорил, что это было подобно чуду. В течение пятнадцати лет он постоянно пил особый сорт бургундского вина (Шамбертен), который ему нравился и который он считал полезным для себя. Это вино доставлялось ему повсюду — в Германию, в самые отдалённые уголки Испании и даже в Москву. Можно с полным основанием сказать, что умение, роскошь, утончённая изысканность и тонкий
412
вкус соперничали вокруг него, чтобы доставить ему удовольствие, причём без всяких усилий с его стороны. Английские журналисты тщательно описывают множество предметов, которые находились в карете, но о которых император не имел ни малейшего понятия; как он заявил, это обстоятельство его совсем не удивило.
Плохая погода, заставлявшая нас не выходить из дома, не оказывала влияния на настроение императора, который в это время казался более откровенным и больше, чем обычно, разговаривал с нами. Он, в частности, говорил подробно, не упуская мельчайших деталей, о знаменитой встрече в Дрездене. Я привожу отрывки из его рассказа.
Это было время, когда власть Наполеона достигла своего пика. Там, в Дрездене, он казался королём королей; он фактически был вынужден принять меры для того, чтобы хоть какое-то внимание было уделено императору Австрии, его тестю. Ни этот монарх, ни король Пруссии не имели соответствующего обслуживающего персонала, равным образом как и император Александр в Тильзите и в Эрфурте; все они питались за столом Наполеона. «Эти монаршие дворы, — сказал император, — имели жалкий и плебейский вид». Именно Наполеон устанавливал этикет и следил за соблюдением его правил. Он уступил первоочерёдность императору Францу,
к безграничному удовольствию последнего. Роскошь и великолепие Наполеона, наверное, заставляли европейских монархов считать его азиатским властителем: в Дрездене, как и в Тильзите, он осыпал Всех, кто оказывался рядом с ним, бриллиантами. Мы рассказали
413
ему, что в Дрездене радом с ним не было ни одного французского солдата, и императорский двор иногда беспокоился о безопасности его особы. Он не мог нам поверить, но мы заверили его в том, что это действительно было так: его безопасность обеспечивала только саксонская охрана. «Да неважно, — ответил император. — Я тогда находился в кругу доброй семьи и с такими достойными людьми, что мне нечего было опасаться. Меня все любили; и в то время, я уверен, король Саксонии ежедневно молился Всевышнему и Божьей матери о моём благополучии».
Далее он сказал: «Я испортил жизнь этой бедняжке, принцессе Августе, я поступил очень плохо. Вернувшись из Тильзита, я принял в Мариенвердере камергера короля Саксонии, вручившего мне письмо от своего хозяина. Король Саксонии писал мне следующее: “Я только что получил письмо от императора Австрии, который хочет жениться на моей дочери; я сообщаю вам об этом, чтобы вы смогли информировать меня, что я должен ответить императору Австрии”. Я ответил, что буду в Дрездене через несколько дней. И, прибыв в Дрезден, высказался против этого брачного союза и сделал всё, чтобы помешать ему. Я был неправ, я опасался, что император Франц отдалит короля Саксонии от меня; на самом деле всё было бы наоборот: принцесса Августа склонила бы императора Франца на мою сторону, и я бы сейчас не был здесь, на острове Святой Елены».
В Дрездене Наполеон был очень занят важными делами, и императрица Мария Луиза, желая быть со своим мужем в краткие мгновения его отдыха, практически не покидала дворец. Император Франц,
414
который ничего не делал и весь день бродил по городу, не мог понять причины затворничества его семьи во дворце. Он полагал, что такое затворничество негативно скажется на мнении европейских монарших дворов о манерах и значении императорского двора Парижа. Императрица Австрии старалась убедить Марию Луизу в необходимости выходить в свет; она говорила, что её постоянное уединение выглядит нелепо. Императрица Австрии охотно выполняла бы в полной мере роль мачехи, каковой она и приходилась Марии Луизе, но последняя не была расположена подыгрывать ей в этом, поскольку они были примерно одного возраста.
«Правление императрицы Марии Луизы было недолгим, — отметил император, — но она в полной мере наслаждалась им; весь мир был у её ног». Один из нас взял на себя смелость спросить, не была ли императрица Австрии заклятым врагом Марии Луизы. «Не более чем обычная небольшая дворцовая недоброжелательность, — ответил император, — спрятанная глубоко в сердце неприязнь, приукрашенная ежедневными письмами на четырёх страницах, заполненными задабриванием и нежными фразами».
Императрица Австрии была подчёркнуто внимательна к Наполеону и всячески старалась угождать ему, когда он находился в её присутствии, но как только он удалялся, она стремилась отдалить Марию Луизу от него, прибегая к самым злонамеренным и недоброжелательным инсинуациям; её раздражало, что она не могла влиять
415
на падцерицу. «Однако она обладала тактом и способностями, — заявил император, — достаточными для того, чтобы приводить в замешательство своего мужа, который проникся убеждением, что она придерживается низкого мнения о нём. У неё была приятная внешность, располагающая к себе каким-то своеобразием, свойственным только ей; на вид она была привлекательной маленькой монахиней.
Что касается императора Франца, то хорошо известно его добродушие, которое часто делало его жертвой интриг.
По своим личным качествам король Пруссии — порядочный, честный и достойный человек; но, занимая политическое положение, он, как и следовало ожидать, склонен к тому, чтобы уступать силе обстоятельств: пока сила на вашей стороне, вы неизбежно становитесь его полным хозяином, если ваша рука готова ударить его.
Что же касается императора России, то по своим качествам он бесконечно превосходит других европейских монархов: он обладает острым умом, тактом, большими знаниями. Он сумеет обворожить вас, но ему не следует доверять: он неискренен, как типичный византиец. В то же самое время надо признать, что он придерживается определённых убеждений, истинных или напускных; в конце концов, это может быть только результатом поверхностного воспитания и дурного влияния его наставника. Вы не поверите, что именно мне приходилось обсуждать с ним. Он утверждал, что наследование власти при монархическом правлении является злоупотреблением. Мне пришлось, используя всё моё красноречие и логику, более часа доказывать ему, что право наследования гарантирует мир и счастье народа. Вполне возможно, что он интригует, поскольку он хитёр, лжив и своего добьётся. Если я умру здесь, то он станет моим настоящим наследником в Европе. Только один я мог остановить Александра с его татарской ордой. Кризис в Европе, связанный с его именем, велик и будет оказывать длительное влияние на положение в Европе, особенно на судьбу Константинополя. Александр обращался ко мне с просьбой о передаче Константинополя России, долго уговаривал меня об этом, но я постоянно пропускал мимо ушей его просьбу. Было необходимо, чтобы Османская империя, какой бы она ни была шаткой, постоянно оставалась между нами: она была тем самым болотом, которое мешало Александру обойти мой правый фланг. Что же касается Греции, то это другое дело!»
Поговорив немного об этой стране, император сказал: «Греция ждёт освободителя! Это будет блестящая корона славы! Освободитель Греции навечно впишет своё имя в летопись истории наряду с именами Гомера, Платона и Эпаминонда!.. Я, вероятно, был недалёк от этого, когда во время военной кампании в Италии вышел на берега Адриатического моря и написал Директории, что перед моими глазами находится царство Александра Македонского!.. Позднее
416
нас связывали с Али-пашой договорные обязательства; и когда у нас отобрали Корфу, там обнаружили амуницию и полное снаряжение для армии в пятьдесят тысяч солдат. Я приказал составить подробные географические карты Македонии, Сербии, Албании... Греция или, по крайней мере, Пелопоннес должны быть тем трамплином, используя который, европейская держава станет обладать Египтом. Египет должен быть нашим».
Однажды вечером в эти дни император рассуждал о характере женщин. «Ничто, — заявил он, — так ясно не свидетельствует о занимаемом женщиной положении в обществе, её образовании и воспитании, как уравновешенность её характера и постоянное желание нравиться». Он добавил, что обстоятельства обязывают её всё время делать вид, что она умеет владеть собой и всегда способна играть эту роль на жизненной сцене. Как заметил император, обе его супруги были именно такими. Конечно, они очень отличались по своим личным качествам и внешне не походили одна на другую, но обе полностью соответствовали предназначенной им роли. Никогда ни одна из них не демонстрировала ему своего дурного настроения; угодить ему — такова была их постоянная цель.
Однако кто-то из нас рискнул заметить, что Мария Луиза гордилась тем, что всякий раз, когда ей хотелось что-либо получить, как бы это ни было трудно, ей достаточно было всего лишь заплакать, чтобы добиться своего. Выслушав подобное замечание, император рассмеялся и заявил, что это для него новость. Он мог ожидать нечто подобное от Жозефины, но не от Марии Луизы. Затем, обращаясь к госпожам Бертран и Монтолон, он заявил: «Так всегда обстоит дело со всеми вами, женщинами: в некоторых вопросах вы всегда находите общий язык».
Император довольно долго говорил о двух императрицах, повторяя, как обычно, что одна была самой наивностью, а вторая олицетворяла собой изящество. Затем он перевёл разговор на своих сестёр, уделив особое внимание привлекательным чертам характера и очаровательной внешности принцессы Полины. Все признали, что она, бесспорно, была красивейшей женщиной в Париже. Император заявил, что художники единогласно считали её безупречной копией Венеры Медицейской. Присутствовавшие при разговоре члены свиты императора рискнули невинно пошутить по поводу того впечатления, которое принцесса Полина произвела на генерала Друо на острове Эльба. Настойчивое внимание к ней со стороны этого человека с грубыми чертами лица, который был старше её, не осталось ею незамеченным. Как говорили, принцесса именно от него узнала тайну запланированного отплытия императора с острова Эльба за восемь дней до того, как это произошло. Генерал Друо повторил
417
ошибку Тюренна, и в связи с этим император заявил: «Таковы женщины, и такова их опасная сила!» Вмешавшись в разговор, госпожа Бертран, в свою очередь, уверенно объявила, что гофмаршал при тех же обстоятельствах проявил себя более скрытным. «Мадам, — улыбнувшись, возразил ей император, — он был всего лишь вашим мужем». Когда кто-то из нас заметил, что принцесса Полина, находясь в Ницце, приказала поставить на дороге специальный почтовый фургон, куда ежедневно из Парижа доставлялись для неё модная одежда и вещи, император заявил: «Если бы я знал об этом, то немедленно прекратил бы подобную практику. Она бы получила строгий выговор. Да, так уж случается в жизни: достаточно стать императором, чтобы ничего не знать о подобных вещах».
После разговора о принцессе Полине император спросил: «Какое сегодня число?» Ему ответили, что 11 марта. «А! — воскликнул император. — Ровно год назад у меня был прекрасный день; я был в Лионе и устроил смотр войскам. Я пригласил мэра города к себе на обед. Мэр, между прочим, впоследствии утверждал, что это был самый скверный обед в его жизни». Император заметно оживился и начал быстро шагать по комнате. «Я тогда вновь обрёл огромную власть... — После этих слов император глубоко вздохнул и тут же подавил вздох, а затем с тёплым чувством в голосе, которое трудно поддаётся описанию, продолжал: — Я основал самую прекрасную империю в мире, и я был столь необходим ей, что, несмотря на все последние невзгоды здесь, на этой скале, у меня такое ощущение, что я по-прежнему остаюсь властелином Франции. Посмотрите, что
Ш
происходит там, почитайте газеты, и каждая их строка убедит вас в этом. Если я вновь ступлю на её землю, то все увидят, какой страной является Франция и что я смогу сделать для неё!» И он представил нашему воображению прекрасные идеи, замечательные планы, которые способствовали бы славе и счастью Франции! Он говорил долго, с таким пылом и с такой откровенностью, что заставил нас забыть и о времени, и о погоде, и о месте, в котором мы находимся. Часть того, что он сказал, приводится ниже.
«Это какой-то рок, — воскликнул он, — что моё возвращение с острова Эльба не было воспринято должным образом, что никто не понял, что моё правление Францией было желательным и необходимым для стабильности и спокойствия Европы! Но и короли, и народы Европы боялись меня, — они ошибались и могут дорого заплатить за это. Я вернулся с острова Эльба совершенно иным человеком, но они не смогли поверить этому, не смогли представить себе, что человек может обладать достаточной силой разума, чтобы изменить свой характер и уступить власти обстоятельств. А ведь я представил им доказательства этого и принял ряд соответствующих обязательств. Разве не известно всем, что я не сторонник полумер? Я был бы столь же искренен в качестве монарха, соблюдающего конституцию и обеспечивающего мир между народами, как и тогда, когда я обладал абсолютной властью и совершал великие деяния.
Давайте теперь немного поразмышляем о том страхе, который я внушаю королям и народам. Чего могли бы опасаться короли? Они всё ещё боялись моих амбициозных замыслов, моих новых
419
завоеваний, моей абсолютной власти над всем миром? Но мои силы и ресурсы уже не были прежними; и, кроме того, я одерживал победы и завоёвывал страны лишь ради собственной защиты, — эта простая истина становится всё более ясной с каждым днём. Европа никогда не прекращала военных действий против Франции, против её принципов и против меня, и мы были вынуждены разрушать, чтобы спасти самих себя от разрушений. Коалиция существовала всегда, открыто или тайно, не опасаясь быть признанной и не стараясь отрицать своё существование; она была постоянной, союзники по коалиции только пережидали, дав нам передышку. Что же касается нас, то мы были истощены: французы боялись новых завоеваний. Что касается меня самого, то разве можно предположить, что я безразличен к радостям отдыха и к состоянию безопасности, если только слава и честь не требуют иного? С нашими двумя палатами они могли бы запретить мне в будущем переправляться через Рейн; да и ради чего мне захотелось бы пойти на это? Ради моей монаршей власти над всем миром? Но я ни разу не дал убедительного доказательства для обвинения меня в сумасшествии; и разве главным свидетельством потери разума не является несоответствие цели средствам для её достижения? Если мне и предстояло взять последний рубеж перед тем, как добиться монаршей власти над всем миром, то я подошёл к нему, не имея какого-либо первоначального плана; я подошёл к нему, продвигаясь шаг за шагом. Если последние усилия, необходимые для того, чтобы преодолеть этот рубеж, казались такими ничтожными, то разве попытка предпринять их была неразумным решением? Но когда я вернулся с острова Эльба, могла ли подобная мысль, столь сумасшедшая идея, столь недостижимая цель прийти в голову даже самому глупому человеку на Земле? Следовательно, монархам не стоило опасаться моих войск.
Разве они боялись, что я могу справиться с ними при помощи принципов анархии? Но они знали мою точку зрения по этому вопросу. Все они были свидетелями моей оккупации их территорий, — как часто меня охватывало желание революционизировать их государства, наделить их города муниципальными функциями и вызвать мятежные настроения среди их подданных! Однако сколько бы они ни пытались заклеймить меня как современного Аттилу, как Робеспьера на коне и т.д., они всё знают обо мне в глубине своей души; пусть они заглянут туда! Если бы я был таким, то я, возможно, мог бы по-прежнему править страной; зато они, вне всяких сомнений, давно бы потеряли возможность править. В великом деле, главой и вершителем которого я видел самого себя, можно было следовать одной из двух систем: заставить королей прислушаться к разуму народов или вести народы к счастливому будущему по
420
воле их королей. Но хорошо известно, что очень трудно сдерживать народ, когда его страсти выплёскиваются наружу; гораздо разумнее полагаться на мудрость и здравый смысл правителей. Я всегда пред- полагал, что правители обладают достаточным разумом для понимания столь очевидных истин. В этих предположениях я был обманут: они вообще никогда не задумывались над этим и в своей слепой ярости дали волю тому, от чего я воздерживался, когда противостоял им. Они увидят, что их ждёт!
И, наконец, обиделись ли монархи, увидев, что на голову простого солдата возложили корону? Разве они опасались, что это событие послужит примером для других? Торжественные церемонии, обстоятельства моего возвышения, моё стремление приспособиться к их обычаям, солидаризироваться с их существованием, породниться с ними кровью и стать их политическим союзником — всё это плотно закрыло дверь перед новыми соискателями короны — выходцами из народа. Кроме того, раз уж возникла насущная необходимость в восстановлении временно прерванной законной власти, то я утверждаю, что в интересах монархов Европы было лучше, что подобная власть воплотилась в лице человека из народа, каким являлся я, а не в лице какого-нибудь принца, члена их собственной семьи. Пройдут тысячи лет, прежде чем в мире сложатся обстоятельства, похожие на те, что выдвинули меня, и появится мне подобный. И в то же время не существует ни одного монарха, у которого во дворце нет кузенов, племянников, братьев и других родственников, которые находятся рядом с ним и легко могут бы последовать подобному примеру.
С другой стороны, случилось ли нечто такое, что напугало народ? Разве люди боялись, что я иду грабить их и накладывать на них цепи? Совсем наоборот, я пришёл мессией мира и их прав; в этом новом принципе заключалась вся моя сила, его нарушение означало бы мой конец. Но даже французы не доверяли мне; они, словно безумные, предались болтовне и спорам, когда необходимо было только сражаться, они оказались разобщёнными, когда должны были объединяться на любых условиях. И не лучше ли было для них пойти на риск и вновь сделать меня властелином страны — вместо того чтобы безропотно подчиняться иностранному гнёту? Разве не легче избавиться от единственного деспота, от одного тирана, чем стараться сбросить с себя цепи всех объединившихся иностранных государств? И более того, откуда возникло это недоверие ко мне? Не потому ли, что они уже видели, как я объединил все силы и стал править твёрдой рукой? Но разве теперь они на собственном опыте не убедились, насколько это было необходимо? Ну что ж! В любом случае существовала одна и та же опасность: схватка
предстояла ужасная, и кризис был неминуем. Разве абсолютная власть не была необходимой и обязательной в подобном положении? Когда я вернулся из Лейпцига, то ради благополучия страны я должен был открыто заявить об этом. Я должен был поступить таким же образом вновь, когда вернулся с острова Эльба. Я нуждался в постоянстве и доверии французов, потому что многие из них более не доверяли мне, и это причиняло мне большую боль. Если люди ограниченного ума и пошлых мыслей во всех моих усилиях и стараниях видели только стремление к усилению моей власти, то разве не должны были личности, обладавшие широким умственным кругозором, демонстрировать и доказывать — при создавшихся условиях и обстоятельствах, в которых мы оказались, — что укрепление моей власти на самом деле лишь укрепляет нашу страну? Неужели потребовались такие огромные и неисправимые бедствия, чтобы они получили возможность понять меня? История будет ко мне более справедливой: она оценит меня как бескорыстного человека, способного к самопожертвованию. Каким только искушениям я не подвергался, когда командовал французской армией в Италии! Англия предлагала мне корону Франции во время переговоров в Амьене. Я отказался от мирных предложений в Шатильоне. Я пренебрёг всеми договорённостями для себя в Ватерлоо. И всё почему? Потому, что всё это не имело никакого отношения к моей стране, а мои честолюбивые устремления были неотделимы от её славы, её верховенства над всем миром, её величия. Именно в этом заключается причина того, что, несмотря на громадное число клеветнических утверждений, я по-прежнему столь популярен среди французов. С их стороны это обстоятельство свидетельствует об их врождённой склонности к запоздалому признанию справедливости.
Кто ещё в мире когда-либо имел в своём распоряжении больше сокровищ? В моих хранилищах лежали сотни миллионов, мои частные владения составляли ещё сотни миллионов, — и всё это было моей собственностью. И что же стало со всем этим? Всё ушло на исправление бедственного положения страны. Пусть они поразмышляют над моим нынешним положением здесь: я живу нищим на этой скале. Всё моё состояние принадлежит Франции. В необычайной ситуации, в которой я оказался волею судьбы, мои сокровища были сокровищами моей страны: я полностью отождествлял свою участь с участью Франции. Какой другой расчёт совместим с тем высоким положением, которого я достиг? Разве когда-нибудь видели, чтобы я занимался делами, связанными лишь с моими личными интересами? Только то, что принадлежало народу, только его богатства доставляли мне удовольствие, причём до такой степени, что когда Жозефине с её изысканным вкусом к искусству удавалось от
моего имени приобрести истинные шедевры и разместить их в моём дворце, то, хотя они были перед моими глазами в mopix семейных апартаментах, при виде их я чувствовал себя оскорблённым, словно меня ограбили: эти шедевры не были выставлены в музее.
Французский народ, несомненно, многое сделал для меня! Больше, чем когда-либо для любого человека! Но в то же время кто ещё когда-либо сделал так много для французского народа? Кто ещё когда-либо в такой степени отождествлял себя с ним? Но вернёмся назад. В конце концов, чего французы могли бы опасаться? Разве обе палаты и новая конституция не были достаточными гарантами будущего? Разве дополнительные акты, против которых было столько возмущения, не содержали в себе надёжные меры саморегуляции? Каким образом я мог бы нарушить их? Я не представлял собой миллионную армию вооружённых солдат, я представлял только одного человека, а именно — самого себя. Общественное мнение вновь вознесло меня; в равной степени оно могло вновь низвергнуть меня. И чего я должен был добиться, чтобы уничтожить эти опасения?
Но что касается окружающих нас государств (в частности, я имею в виду Англию), то чего могла бы бояться Англия, каковы могли бы быть её мотивы, чему она могла бы завидовать? Мы напрасно задаём эти вопросы. С нашей новой конституцией, с нашими двумя палатами, разве мы не заслужили её доверия на будущие времена? Разве это доверие не способствовало достижению взаимопонимания с Англией и установлению общности интересов в будущем? С прекращением капризов и вспышек гнева её правителей, усложнявших отношения между двумя нациями, взаимные интересы наших народов, не встречая более препятствий, развиваются своим естественным путём. Посмотрите на поведение купцов враждующих наций: они продолжают свои взаимовыгодные контакты и придерживаются установленных деловых отношений, несмотря на то, что их правительства могут вести войну друг против друга. Обе нации подошли к этой черте. Благодаря деятельности обоих парламентов, каждая из них стала гарантом другой; и кто может сказать, какой уровень отношений мог бы быть достигнут союзом двух наций и их взаимными интересами, какие новые взаимовыгодные действия могли бы быть предприняты? Какие возможности мог увидеть кабинет министров Англии с учреждением наших двух палат и принятием нашей конституции? Очевидно, славу и процветание своей страны, благоденствие всего мира. Если бы я разбил английскую армию и одержал победу в моём последнем сражении, то вызвал бы огромное и радостное изумление тем, что на следующий день предложил бы мирный договор и, в кои-то веки, именно я был бы тем, кто раздаёт блага щедрой рукой. Вместо этого, возможно, англичане
423
в один прекрасный день будут вынуждены горько сожалеть, что они одержали победу при Ватерлоо.
Я повторяю, народ и монархи не были правы: я восстановил троны и восстановил в правах безобидную аристократию, — теперь и троны, и аристократия могут вновь оказаться в опасности. Я установил и освятил в разумных пределах права народов, — теперь вновь могут возникнуть смутные, безапелляционные и неопределённые притязания.
Если бы моё возвращение, моё восстановление на троне, приём, оказанный мне обществом, были бы свободно восприняты монархами, то проблемы королей и народа были бы решены: от этого выиграли бы и короли, и народ. Теперь же они вновь должны делать это: и те и другие могут проиграть. Они могли бы всё завершить, но должны начать всё заново; они могли бы обеспечить продолжительное и устойчивое спокойствие и наслаждаться им, — и вместо этого достаточно сейчас одной искры, чтобы вновь вызвать всеобщий мировой пожар! Бедное слабое человечество!»
Тронутый до глубины души речью Наполеона на этой ссыльной скале и высказанными им мнениями и соображениями, безоговорочно убеждённый их безграничной искренностью, я также испытываю чрезвычайное удовлетворение всякий раз, когда свидетельство другого источника подтверждает правдивость мыслей императора; и я обязан сказать, что всегда ощущаю удовлетворение, когда мне предоставляется возможность получить новое подобное свидетельство.
Читатель только что ознакомился с замечательными высказываниями, в которых Наполеон выразил свои мысли, свои намерения, свои чувства. Какую ценность приобретают эти мысли, высказанные на острове Святой Елены, когда они, словно эхом, повторяются в Европе, за 2000 лье отсюда, знаменитым писателем. Какой счастливый случай для истории! Я действительно не могу удержаться и привожу здесь выдержку из произведения господина Бенжамена Констана. Не буду скрывать что испытываю удовольствие из-за того, что написанные Констаном слова точно совпадают с теми мыслями, которые я сам слышал в другом полушарии планеты. И здесь и там высказываются те же намерения, присутствуют те же чувства.
«Я отправился в Тюильри, — пишет Бенжамен Констан, — и встретил Бонапарта, когда он был один. Он начал разговор, который продолжался долго. Я приведу лишь его суть, ибо не намерен создать портрет несчастного человека. Я не стану развлекать моих читателей в ущерб падшему величию; я не отдам недоброжелательному любопытству того, кому я служил, и буду использовать его собственные слова.
424
Он не пытался обманывать меня ни в отношении его взглядов, ни в отношении положения дел в стране. В нём нельзя было признать человека, которого многому научил горький опыт превратностей судьбы: он не стремился ставить себе в заслугу возвращение к либеральным воззрениям по убеждению. Что касалось его собственных интересов, то он говорил о них спокойно, останавливаясь с видимым беспристрастием, близким к равнодушию, на том, что можно было сделать и чему следовало отдать предпочтение.
“Страна, — сказал он, — в течение двенадцати лет отдыхала от всех политических волнений, и уже год её покой не нарушала война, — эта двойная мирная передышка породила необходимость активной деятельности. Она хочет — или полагает, что хочет, — использовать общественную трибуну для самовыражения и созыва народных собраний. Страна не всегда хотела этого. Когда я пришёл к власти, она бросилась к моим ногам; вы должны помнить это, ведь именно вы формировали общественное мнение страны. Где же была ваша поддержка, ваша сила? Нигде. Я взял гораздо меньше власти, чем мне предлагали. Теперь всё изменилось. Слабое правительство, пренебрегающее интересами нации, привило народу привычку не выступать в защиту этих интересов и не верить власти. Судя по всему, возвращается вкус к конституциям, к пустым дискуссиям и к разглагольствованиям. Но не заблуждайтесь, этого желает только меньшинство. Народ, или, если это нравится вам больше,
толпа, желает меня одного; вы не видели этих людей, эту толпу, огромной массой следующую за мной, стремящуюся ко мне с вершин гор, взывающую ко мне, ищущую меня, приветствующую меня*. Когда я вернулся сюда из Канн, то не покорял страну, — я руководил ею. Я не являюсь, как утверждали, только императором солдат: я являюсь императором крестьян, представителей самого низшего слоя населения Франции. Таким образом, несмотря на всё прошлое, вы видите сами, что народ вернулся ко мне, — нас объединяет взаимное чувство симпатии.
Не совсем так обстоит дело с представителями привилегированных классов: аристократы служили мне, они толпами спешили ко мне в прихожую и в приёмную, — не было таких должностей, от которых они отказывались, которых они не просили и не добивались. У меня были мои Монморанси, Ноайли, Роганы, Бово, Морт- ремары. Но между нами не было сходства. Боевой конь скакал подо мной, он был хорошо натренирован, но я чувствовал его норов. С народом дело обстояло совсем по-другому; характер народа соответствовал моему характеру: я вышел из простого народа, моё слово имело влияние на него. Посмотрите на этих новобранцев, на этих сыновей крестьян. Я не льстил им, я обращался с ними со всей строгостью; тем не менее они стремились при каждом удобном случае оказаться поближе ко мне, приветствуя меня возгласами: «Да здравствует император!» Это всё потому, что наши природные свойства идентичны; они видят во мне свою жизненную опору, рассматривают меня как защитника от притеснений знати. Достаточно мне сделать знак или бросить многозначительный взгляд, и аристократы во всех департаментах страны будут тут же растерзаны простым народом. В течение этих шести месяцев они наплели сети таких замечательных интриг! Но я не буду предводителем Жакерии. Если есть возможность управлять страной с помощью конституции, то я готов к этому.
Я хотел стать главой всемирной империи; чтобы добиться этого, мне нужна была неограниченная власть. Чтобы править одной
* Примечание Б.Констана: «Бонапарт придавал большое значение доказательствам того, что его возвращение не было осуществлено с помощью военных действий. Я очень сожалею, что у меня нет шести страниц текста по этому вопросу, который он написал или продиктовал и затем тщательно отредактировал. Он вручил мне этот текст во время той беседы, что я описываю. Он хотел, чтобы я ответил лорду Каслри, который, выступая с речью в парламенте, приписал весь успех армии.
Решив ничего не писать, пока не буду убеждён в том, что я не содействую восстановлению власти деспота во Франции, я отказался от данного мне поручения. В 1815 году я передал упомянутый текст на хранение одному из моих друзей, который отправлялся в Англию и от которого я до сих пор не получил этот текст обратно. Он был написан с большой теплотой и содержал исключительные по силе выражения образцы быстроты мышления и истинного красноречия».
426
Францией, лучше будет воспользоваться конституцией. Я хотел править всемирной империей, и кто в моём положении не хотел бы этого? Весь мир приглашал меня править им: монархи и их подданные соперничали друг с другом, стараясь поскорее встать под мой скипетр. Я редко сталкивался с какой-либо оппозицией во Франции; мне приходилось встречать её больше со стороны кучки малоизвестных безоружных французов, чем со стороны всех этих королей, ныне столь тщеславных, поскольку среди них больше нет человека, равного им по популярности. Подумайте, что, по вашему мнению, можно сделать в стране. Поделитесь со мной своими идеями. Свободные выборы, публичные дискуссии, ответственные министры, свобода личности — это всё, чего я хочу. В особенности свободы прессы: было бы абсурдом стремиться задушить её, — я убеждён в этом. Я человек народа; если народ искренне желает свободы, — я должен даровать народу свободу. Я признал его независимость; я обязан прислушиваться к желаниям народа, даже к его капризам. Я никогда не хотел угнетать народ ради собственного удовольствия. У меня были великие планы. Судьба распорядилась ими по-своему; я более не являюсь завоевателем, я более не могу быть им. Я знаю, что можно сделать и чего сделать нельзя; теперь у меня есть только одна обязанность — облегчить положение Франции и дать ей правительство, которое достойно её. Я не враг свободы: я не считался с ней, когда она преграждала мне дорогу, но я понимаю её важность, я был воспитан на её принципах.
В то же время работа пятнадцати лет уничтожена, и нельзя вернуть утраченное. Для этого потребовались бы ещё двадцать лет и два миллиона человеческих жертв. Кроме того, я желаю мира на Земле и добьюсь его только при помощи новых побед. Я не буду давать вам ложных надежд; я велел распространить сообщения о том, что ведутся мирные переговоры, но они не ведутся. Я предвижу трудную борьбу, долгую войну. Для её ведения необходимо, чтобы страна меня поддержала; но в ответ ей требуется свобода, — и она получит её. Сложилась совершенно новая ситуация. Более всего необходимо, чтобы я получал информацию. Я старею, а человек в сорок пять лет уже не тот, что в тридцать. Отдых конституционного монарха может быть очень полезным для меня. Для моего сына, несомненно, он будет ещё более полезен”».
13 марта 1816 года
Император дал указание гофмаршалу направить адмиралу письменный запрос о том, будет ли переправлено принцу-регенту письмо, которое Наполеон намерен послать на его имя.
Около четырёх часов дня вице-губернатор острова Скелтон с супругой пожелали нанести императору визит вежливости. Император
427
принял их, погулял с ними в саду и затем совершил с ними поездку в карете. Весь день погода была исключительно туманная. В те несколько минут, когда небо слегка прояснилось, мы вдруг увидели близко от берега фрегат, который на всех парусах приближался к острову.
Оскорбление, нанесённое императору и принцу Уэльскому — Казнь Нея — Побег Лавалетта
14 — 15 марта 1816 года
Мы получили ответ адмирала. Начав своё письмо традиционным заявлением о том, что ему неизвестно лицо с титулом император, находящееся на острове Святой Елены, адмирал сообщал, что он, несомненно, направит письмо Наполеона принцу-регенту. Но при этом он должен твёрдо придерживаться положений полученных им инструкций, которые предписывают ему не разрешать отправки любых французских писем или документов в Англию без предварительного их вскрытия.
Этот ответ адмирала, следует признать, вызвал у нас немалое удивление: в инструкциях, упомянутых адмиралом в его письме, есть два процедурных вопроса, которые не имеют ничего общего с той интерпретацией, которую им дал адмирал.
Первый вопрос заключается в том, что при подаче нами жалобы местные власти могут добавлять свои замечания по существу дела; в этом случае правительство в Лондоне может быстрее решить проблему, — без того, чтобы запрашивать дополнительную информацию с острова; подобная предусмотрительность целиком в наших интересах. Второй вопрос состоит в том, что в соответствии с теми же инструкциями наша переписка не должна наносить ущерба интересам английского правительства и политике Англии. Но мы же пишем монарху, главе государства, той самой особе, которая олицетворяет собой эти интересы политики Англии и интересы английского правительства. И если в процедуре письменного обращения к главе английского государства предполагается какой-либо элемент тайного заговора, то он имеет отношение не к нам, обращающимся к английскому монарху, а скорее к тому лицу, которое перехватывает наше письмо и принимает решение нарушить тайну переписки. Англичане приставили к нам своих тюремщиков и считают это приемлемым. Тюремщики выполняют свои функции, следуя правилам, действие которых распространяется даже на их собственного монарха, — такому поступку и названия подобрать нельзя! Это всё
428
равно что полностью лишить короля какой-либо власти или заточить султана в тайниках сераля! Таковы нравы этих европейцев, и это просто чудовищно!
В течение длительного времени у нас почти не было какого-либо контакта с адмиралом. Кто-то из нас высказал мысль, что его ответ нам был продиктован его дурным настроением; другой член свиты императора предположил, что адмирал опасается, что наше письмо может содержать жалобы в его адрес. Но адмирал слишком хорошо знает императора, чтобы не понимать, что император никогда не будет апеллировать со своими жалобами к любому суду, за исключением суда наций. Я был особенно возмущён ответом адмирала, ибо именно мне было известно содержание письма императора! Император был намерен воспользоваться таким способом отправки письма в Европу лишь потому, что он казался ему единственно совместимым с его достоинством; он хотел написать своей жене и получить вести о сыне. Гофмаршал Бертран ответил адмиралу, что тот или превысил свои полномочия, или неверно толкует имеющиеся у него инструкции, что его прямолинейный подход к решению данного вопроса можно рассматривать как ещё один пример вопиющих придирок со стороны английских властей, что условие, навязанное императору для ведения им какой-либо переписки, настолько ущемляет его достоинство и достоинство принца-регента, что вынуждает императора вообще воздержаться от намерения писать письма.
Только что прибывший фрегат «Спей» доставил европейские газеты, последняя из них была от 31 декабря. В газетах сообщалось о казни несчастного маршала Нея и о побеге Лавалетга.
«Ней, — заявил император, — подвергнутый чрезмерному осуждению и лишённый умелой защиты, был признан виновным Палатой пэров, несмотря на то, что он официально капитулировал. Решение казнить Нея стало ещё одной ошибкой: с этого момента Ней сделался в глазах общества мучеником. То, что Лабедуайер не должен был быть помилован, так как проявление милосердия по отношению к нему могло быть воспринято как благосклонность к представителям старой аристократии, — это можно понять. Но помилование Нея стало бы только доказательством силы правительства и сдержанности короля. Возможно, говорили, что необходим пример строгости! Но более чем вероятно, что маршал Ней стал бы таким примером благодаря помилованию, дарованному после того, как он был унижен смертным приговором. Помилование стало бы для него политической смертью, лишив всякого влияния; при этом власть достигла бы своей цели, монарх был бы удовлетворён, и строгость была бы проявлена в полной мере. Отказ Лавалетту в помиловании и его
429
побег стали новыми поводами для недовольства и не добавили популярности правительству в глазах общества.
Но парижские светские салоны, — продолжал император, — проявили такой же энтузиазм, как и политические клубы; знать стала новой версией якобинцев. Более того, Европа оказалась в состоянии полнейшей анархии, принцип политической безнравственности открыто получил широкое распространение; всё, что попадает в руки монархов, используется в интересах каждого из них. По крайней мере, в моё время я был мишенью для обвинений подобного рода. Тогда монархи только и говорили, что о принципах и о добродетели, но сейчас, когда они выступают в роли победителей и действуют бесконтрольно, они беззастенчиво занимаются неправедными делами, которые сами же тогда порицали. Какие возможности и какие надежды остаются тогда нынешним правителям Европы для возрождения наций и нравственности? По крайней мере, наши соотечественницы ярко проявляют свои благородные чувства: госпожа Лабедуайер оказалась на грани смерти от горя, и газеты сообщают нам, что госпожа Ней проявила самую мужественную и безграничную преданность своему мужу. Госпожа Лавалетт является настоящей героиней Европы».
Послание принцу-регенту
16 марта 1816 года
Около четырёх часов дня императору были представлены капитан фрегата «Спей», только что прибывшего из Европы, и капитан корабля «Цейлон», готового к отплытию в Англию. Император пребывал в плохом настроении, — он чувствовал себя нездоровым. Приём первого посетителя был очень кратким. Что же касается второго посетителя, то его приём также не стал бы продолжительным, если бы капитан «Цейлона» не вывел императора из состояния апатии своим вопросом, не желает ли император направить с ним какие-нибудь письма в Европу. В ответ император попросил меня узнать у капитана, встретится ли он в Лондоне с принцем-регентом. Получив от капитана утвердительный ответ, император поручил мне сообщить капитану, что он имел желание написать письмо принцу- регенту. Однако вследствие заявления адмирала о том, что он предварительно вскроет это письмо, император воздержался от написания оного, поскольку намерение адмирала несовместимо с чувством собственного достоинства и императора, и самого принца-регента. Он, император, действительно слышал, что об английских законах
430
отзываются с большой похвалой, но сам он никак не может шцу- тить пользу от них. Теперь ему следует ожидать прибытия палача, сказал он. И он, император, не только ожидает, но и желает этого. Пытка, которой он, император, подвергается здесь, на острове, просто бесчеловечна и свойственна дикарям. Было бы гораздо честнее, добавил он, сразу лишить его жизни, не затрачивая лишнего времени. Император попросил меня сказать капитану «Цейлона», чтобы тот передал эти его слова в Лондоне. После этого император попрощался с капитаном. Последний выглядел весьма смущённым, когда покидал императора, и сильно покраснел.
Настроение жителей острова Иль-де-Франс
17 марта 1816 года
Английский полковник, прибывший на остров Святой Елены с мыса Доброй Надежды по возвращении с острова Иль-де-Франс, сегодня приехал в Лонгвуд и обратился ко мне с просьбой, чтобы его принял император. Адмирал разрешил его кораблю по пути в Европу задержаться в гавани Джеймстауна только на три часа. Чтобы уговорить императора принять его в четыре часа дня, полковник заверил меня, что он скорее опоздает на корабль, чем упустит возможность встречи с императором. Император был не совсем здоров, он провёл несколько часов в ванне, но, тем не менее, в четыре часа дня принял английского полковника.
Император задал ему много вопросов о положении дел на острове Иль-де-Франс, недавно отданном Англии. Судя по всему, смена верховной власти плохо повлияла на экономическое положение и развитие торговли острова.
Оставшись с императором наедине в саду после отъезда английского полковника, я сообщил императору, что он по-прежнему очень любим жителями острова Иль-де-Франс; полковник рассказал мне, что жители острова теперь всегда произносят имя Наполеона с чувством сожаления. Как раз в день большого праздника в колонии жители острова узнали о том, что император покинул Францию и прибыл в Плимут. Большинство участников праздника собрались У здания местного театра. Новость об императоре пришла днём, а вечером не было ни одного колониста, ни белого, ни представителя Другой расы, который бы остался у себя дома. Только несколько англичан проявили недовольство и раздражение, став свидетелями подобной реакции островитян на полученную ими новость. Император
431
внимательно выслушал меня. «Совершенно очевидно, — сказал он после нескольких минут молчания, — что жители острова Иль-де- Франс остались французами. Я представляю собой саму Францию; островитяне любят её. Она была ранена в моём лице; островитяне опечалены этим».
Я добавил, что смена государственной власти заставляет островитян сдерживать чувства и следить за своим языком. Они не смеют ныне открыто поднять бокал вина за здоровье императора. Но, как рассказал полковник, островитяне не забыли этот обычай. Они пьют за его здоровье, — этими словами они посвящают свой тост Наполеону. Императора явно тронули такие подробности. «Бедные французы! — воскликнул император. — Бедный народ! Бедная нация! Я заслужил всё это. Я люблю тебя, моя страна! Но ты, ты не заслужила все те беды, которые обрушились на тебя! Ты полностью заслужила то, чтобы любящий тебя целиком отдал тебе свою жизнь! Но, следует признать, какому бесчестью, какой низости, какому унижению подвергнуто моё имя!» И, обратившись ко мне, он добавил: «Сейчас я не имею в виду ваших друзей из предместья Сен-Жермен, что касается их, то это другой вопрос».
До нас часто доходят истории о выражениях чувств, подобных тем, что наблюдались на острове Иль-де-Франс; всё это не может не волновать наши сердца. Остров Вознесения, наш ближайший сосед, всегда был заброшенным и пустынным. С тех пор как мы
оказались на острове Святой Елены, англичане посчитали нужным основать там небольшое поселение. Английский капитан, который отправился туда, чтобы вступить во владение этим поселением, рассказал нам по возвращении, что был весьма удивлён тем, что, высадившись на острове, обнаружил на пляже надпись: «Да здравствует Наполеон!»
В последних газетах, полученных нами, среди многих забавных историй обратил на себя внимание один остроумный каламбур, перепечатанный несколькими изданиями на различных языках. Его суть заключалась в том, что сын греческого царя Трои Парис (Париж) никогда не будет счастливым, пока ему не будет возвращена его прекрасная Елена (узник острова Святой Елены). Отмеченные выше истории были лишь каплями мёда в нашей чаше, до краёв наполненной горечью.
Намерения императора в отношении Рима — Ужасная пища — «Британии»
18— 19 марта 1816 года
В восемь часов утра император отправился на верховую прогулку. Он воздерживался от этого уже довольно продолжительное время: причина была в том, что разрешённая ему территория для передвижения по острову по своим размерам явно недостаточна для верховой езды. Вследствие этого состояние здоровья императора ухудшается на глазах. Можно только удивляться, что его малоподвижный образ жизни не нанёс ему ещё большего вреда, поскольку в его жизни быстрая и энергичная верховая езда всегда была ежедневной привычкой. Возвратившись с прогулки, император пригласил всех сопровождавших его лиц позавтракать вместе с ним в саду около дома. После завтрака разговор зашёл о Геркулануме и Помпее: о трагедии и времени их гибели, о случайных обстоятельствах открытия их руин, о памятниках и древнеримских античных предметах, ставших теперь доступными для изучения. Император заявил, что если бы Рим оставался под его властью, то древний город вновь возродился бы из своих руин. Он очистил бы его от всего хлама и восстановил во всей красе, насколько это возможно. Император не сомневался, что подобную работу он осуществил бы и в окрестностях Рима. Она могла коснуться также и Геркуланума с Помпеей.
После завтрака император послал моего сына за книгой Кревье, которая описывала катастрофу, случившуюся с этими городами.
433
Император стал читать нам вслух отрывки из этой книги, включая описание личности древнеримского писателя Плиния и его смерти. Примерно в полдень император отправился в свою комнату, чтобы отдохнуть. В шесть часов вечера мы совершили нашу обычную поездку в карете. Император пригласил проехаться в карете также господина и госпожу Скелтон, которые пришли к нему с визитом.
Вернувшись с прогулки, император из-за тумана не стал задерживаться в саду и отправился навестить генерала Гурго, здоровье которого быстро шло на поправку. После обеда, встав из-за стола и вернувшись в гостиную, мы не удержались и стали говорить о пище, которую только что отведали. Буквально всё, что было нам подано, мало годилось для еды: хлеб был ужасным, вино невозможно пить, мясо отвратительное, — мы были вынуждены время от времени отправлять его на кухню. Несмотря на наши протесты, нам продолжали присылать мясо павших животных и, тем самым, лишали нас возможности иметь свежее мясо от только что забитых животных.
Император, возмущённый этим обстоятельством, с жаром воскликнул: «Несомненно, есть люди, которые находятся в ещё более худшем положении, чем мы; но это не лишает нас права высказать своё мнение о нашем положении и о постыдном обращении с нами. Английское правительство, не довольствуясь тем, что отправило нас на этот остров, ещё более ужесточает несправедливое отношение к нам посредством специфического подбора лиц, которым оно поручило опеку над нами и снабжение нас предметами первой необходимости! Что касается меня, то я бы страдал меньше, если бы был уверен, что несправедливое отношение к нам в один прекрасный день будет известно всему миру и это пригвоздит к позорному столбу всех тех, кто сейчас виновен в нём. Но давайте поговорим о чём-нибудь другом, — предложил император. — Какое сегодня число?» Ему напомнили, что сегодня 19 марта. «Что! — воскликнул он. — Это же канун 20 марта! — И через несколько секунд добавил: — Всё же поговорим ещё о чём-нибудь другом».
Он послал за одним из томов Расина и сначала принялся читать комедию «Сутяги», но после одной или двух сцен этой комедии стал читать нам трагедию «Британик». Когда чтение закончилось и трагедии Расина была отдана соответствующая дань восхищения, император сказал, что Расина порицали за то, что развязка сюжета в этой драме слишком неожиданна, и если следовать логике развития событий в драме, то отравление Британика произошло слишком рано. Император высоко оценил правдивое описание личности Нарцисса, заметив, что монархи всегда действуют решительно, когда затронуто их себялюбие.
434
Двадцатое марта — Роды императрицы
20 марта 1816 года
После обеда один из нас напомнил императору, что в этот час двенадцать месяцев назад о нём нельзя было сказать, что ему грозят одиночество и душевный покой. «Я только собрался отправиться пообедать в Тюильри, — стал рассказывать император, — как оказалось, что добраться туда было весьма трудным делом: опасности, подстерегавшие меня на пути в Тюильри, были сравнимы разве что
с теми опасностями, которые всегда поджидали меня во время сражений». И действительно, когда он прибыл в этот день в Париж, то отбоя не было от тысяч офицеров и граждан столицы, пытавшихся заключить его в объятия; толпы восторженных людей понесли его на плечах во дворец среди сильнейшего хаоса, похожего на тот, что охватывает неуправляемую толпу, готовую разорвать человека на части. Происходившее нельзя было назвать организованной демонстрацией почитания исторической личности, хотя мы обязаны принять во внимание чувства и намерения людей в тот момент: люди были охвачены энтузиазмом и любовью, достигшими степеней неистовства и сумасшествия.
Император добавил, что, по всей вероятности, в тот вечер немало людей в Европе говорили о нём и, несмотря на то, что при этом высказывались самые противоречивые мнения, в его честь была осушена не одна бутылка вина.
435
Затем говорили о Римском короле: сегодня был день его рождения. Император подсчитал, что ему должно исполниться пять лет. Потом он заговорил о родах императрицы. Казалось, что императору доставляло удовольствие гордиться тем, что во время родов он проявил себя как никакой другой муж на свете. Всю ночь он помогал императрице ходить по комнате. Мы, служащие императорского двора, были более или менее в курсе событий; всех нас вызвали во дворец в десять часов вечера; всю ночь мы провели во дворце, и до нас иногда доносились крики императрицы. Ближе к утру Дюбуа, акушер, сообщил императору, что боли прекратились, но роды, тем не менее, могут быть трудными и мучительными. Император отпустил нас, попросив, однако, оставаться дома, а сам отправился принять ванну. Тут у императрицы вновь начались боли, и потерявший самообладание акушер бросился к императору со словами, что он — самый несчастный акушер, поскольку ни одни из тысячи родов в Париже не были столь трудными, как эти. Император очень быстро оделся и стал успокаивать акушера, сказав, что человек, опытный в своей профессии, никогда не должен терять голову и в данном случае нет ничего, что могло бы поставить опытного акушера в тупик. Пусть акушер лишь представит себе, что он принимает роды у жены обычного горожанина с улицы Сен-Дени. У природы один для всех закон, и он, император, уверен, что акушер всё будет делать наилучшим образом; прежде всего он не должен опасаться каких-либо упрёков. Затем императору сообщили, что существует большая опасность для жизни матери или ребёнка. «Если мать будет жить, — без колебаний заявил император, — то у меня будет другой ребёнок. В данном случае поступайте так, словно вы присутствуете при рождении сына простого сапожника».
436
Когда император подошёл к императрице, то её состояние действительно было опасным для жизни. Ребёнок во время родов находился в неудачной позиции, и были все основания опасаться, что он может погибнуть от удушья.
Император спросил Дюбуа, почему он не начинает принимать роды*. В ответ Дюбуа извинился за то, что не хочет начинать без Корвисара, который пока ещё не прибыл. «Но что он может сказать вам? — спросил император. — Если вы хотите обеспечить для себя свидетеля, то он перед вами, это я». Тогда Дюбуа, сбросив сюртук, приступил к делу. Когда императрица увидела медицинские инструменты в руках Дюбуа, она жалобно вскрикнула, что её собираются убить. Император, госпожа де Монтескью и только что прибывший Корвисар крепко держали императрицу, все втроём. Госпожа де Монтескью, умело улучив момент, успокоила императрицу, сказав ей, что она сама не раз бывала в подобной ситуации.
Однако императрица по-прежнему была убеждена, что к ней относятся не так, как к другим женщинам, и часто повторяла: «Неужели меня должны принести в жертву только потому, что я императрица?» Впоследствии она говорила императору, что испытывала настоящий страх за свою жизнь. Наконец императрица разрешилась от бремени. Опасность для её жизни была столь велика, сказал нам император, что совершенно забыли об этикете, подготовленном на
* Это событие произошло в присутствии двадцати двух лиц: император; Дюбуа, Корвисар, Бурдье и Юван; госпожи де Монтебелло, де Люкей и де Монтескью; шесть первых фрейлин: Баллан, Дешан, Дюран, Юро, Набюссон и Жерар; пять гувернанток спальной императрицы: мадемуазели Оноре, Эдуард, Барбье, Обер и Джоффрой; хранительница гардероба императрицы госпожа Блэз и две горничные гардероба императрицы.
437
случай рождения наследника. Только что рождённого ребёнка положили на пол, а все присутствовавшие при родах были заняты матерью. Ребёнок некоторое время оставался в этом положении, все считали его мертворождённым. Корвисар взял его с пола, стал растирать и заставил испустить первый крик*.
Заговор Катилины — Братья Гракхи — Сон во время сражения — О различных военных системах
21 — 22 марта 1816 года
Император выехал на верховую прогулку рано утром; мы объехали нашу территорию, двигаясь в разных направлениях. Теперь император берёт уроки английского языка во время этих поездок: я иду рядом с медленно едущим верхом императором, он говорит фразу на английском языке, а я синхронно перевожу слова по мере того, как он их произносит. Благодаря этому методу он запоминает то, что я понимаю. Когда он заканчивает фразу, я повторяю её на английском языке целиком: это помогает ему воспринимать английскую речь на слух.
Сегодня, читая историю Древнего Рима, он уделил внимание заговору Катилины; император не может понять причины заговора в том виде, в каком он описан. «Каким бы Каталина ни был злодеем, — сказал император, — он должен был иметь какую-то цель, и она не могла заключаться в том, чтобы стать правителем Рима, поскольку его обвиняли в намерении поджечь четыре квартала города». Император считал гораздо более вероятным то, что Каталина стоял во главе некой антаримской фракции, подобной тем, что были организованы Марием и Суллой. Когда фракция Катилины была разгромлена, все обвинения, рассчитанные на то, чтобы вызвать страх у патриотов Древнего Рима, были выдвинуты против её лидера. В связи с этим Бертран высказал мысль, что в подобной ситуации мог оказаться сам император, если бы он потерпел поражение в результате событий вандемьера, фрюкгидора и брюмера, — до того, как он ярко озарил ослепительным блеском горизонт, очищенный от облаков.
* В одной интересной книге, опубликованной несколько лет спустя после возвращения императора с Эльбы, приводится следующий отрывок: «Когда младенец Наполеон появился на свет, сочли, что он мёртв: его тело было холодным, он был неподвижен и бездыханен. Стали делать попытки вызвать у ребёнка признаки жизни. В этот момент начали стрелять пушки, провозглашая рождение императорского наследника. Пушечные выстрелы подействовали на жизненные органы младенца столь сильно, что привели его в чувство».
438
Император сказал, что случившееся с братьями Гракхами вызвало у него сомнения и подозрения совершенно иного рода и что эти подозрения переросли почти в уверенность в отношении тех, кто занимается политикой в наше время. «История, — пояснил он, — представляет этих Гракхов как мятежников, как противников существовавших государственных порядков и как преступников; и, тем не менее, она снисходит до того, что не отказывает им в добродетелях: она признаёт их мягкосердечными, бескорыстными и нравственными людьми. Помимо всего прочего, они были сыновьями знаменитой Корнелии, что для мыслящих людей должно было являться весомым основанием для положительной оценки братьев Гракхов. Благодаря чему возникло такое противоречие? Дело вот в чём. Братья Гракхи со свойственным им благородством посвятили себя борьбе за права угнетённого народа против деспотичного римского сената. Их недюжинные способности и благородный характер стали опасны для жестокой аристократии, которая свергла, убила и оклеветала их. Историки, раболепствовавшие перед победившей стороной, передали новым поколениям характеристику этих личностей в том духе, который устраивал тогдашний правящий деспотичный режим. Во времена древнеримских императоров было необходимо придерживаться оценки братьев Гракхов в прежнем виде; малейшее упоминание о правах народа в условиях деспотической власти являлось богохульством и преступлением. Дело обстояло таким же образом и при феодальной системе, которая произвела множество ничтожных деспотов. Несомненно, именно такие фатальные обстоятельства извратили память о братьях Гракхах. В дальнейшем, в течение столетий, их добродетели преподносились в виде преступлений. Но в наши дни, когда мы стали владеть более достоверной информацией, мы сочли целесообразным положиться на здравый смысл: братья Гракхи могут и обязаны получить положительную оценку в наших глазах.
Эта беспощадная борьба между аристократией и демократией, которая возобновилась в наше время, это вечное чувство озлобления, присущее древней системе земельной собственности по отношению к современной промышленности, что по-прежнему будоражит всю Европу, не оставляет никаких сомнений в том, что если бы аристократия силой одержала победу, то она всюду нашла бы множество братьев Гракхов и обращалась бы с ними так же беспощадно, как и её предшественники с подлинными братьями Гракхами в Древнем Риме».
Император добавил, что можно легко сделать следующий вывод: античные писатели допустили пробел в описании этого периода всемирной истории, а современные историки представили нашему
439
вниманию лишь обрывочные сведения по данному вопросу. Затем он возобновил свои прежние обвинения против почтенного Роллена и его ученика Кревье. Император считает, что оба лишены способностей, чёткой системы в своей работе и что, описывая исторические события, они не умеют придавать им собственный колорит. Следует признать, что античные историки в этом намного превосходили современных авторов; и это потому, что в античные времена государственные деятели были любителями и знатоками литературы, а писатели — государственными деятелями. Они совмещали эти две профессии, в то время как мы резко разделяем их. Это знаменитое разделение труда, которое в наше время приводит к такому совершенству в технике, играет роковую роль в гуманитарной сфере. Ведь если универсальный разум создаёт гениальное произведение, то чем шире этот разум, тем лучше его творение. Мы находимся в долгу перед императором за его попытку осуществить на практике указанный принцип: он часто привлекал к решению различных задач людей, совершенно не связанных друг с другом; это была его система. Однажды он направил одного из своих камергеров в Иллирию, чтобы ликвидировать австрийскую задолженность, — это задание было очень важным и чрезвычайно сложным. Камергер, которому ранее никогда в жизни не приходилось заниматься решением подобных задач, был не на шутку взволнован. Министр, недовольный тем, что его отстранили от выполнения этого поручения, отважился заявить императору, что в данном случае выбор пал на человека, совершенно незнакомого с подобными проблемами, и поэтому можно опасаться, что он не справится с заданием. «Сударь, — ответил ему император, — у меня счастливая рука, и те, к кому я прикасаюсь, способны на всё».
Император, продолжая критиковать историков, резко порицает то, что он называет историческими глупостями: переводчики и комментаторы порой склонны придавать преувеличенное значение тому, что не заслуживает особого внимания. «Подобные случаи прежде всего доказывают, — говорит Наполеон, — что историки формируют ошибочное мнение о людях и обстоятельствах. Например, они не правы, когда чрезмерно восхищаются половым воздержанием римского полководца Сципиона или когда их охватывает исступлённый восторг от хладнокровия Александра Македонского, Юлия Цезаря и других полководцев, которые были способны спать накануне сражения. Только отлучённый от женщин монах, лицо которого буквально озаряется при упоминании их имени и который нервно хохочет за решётками своей кельи при их приближении, мог бы ставить Сципиону в заслугу его способность удержаться от того, чтобы овладеть женщиной, оказавшейся по воле случая в его
440
власти, в то время как в его полном распоряжении имелось множество других женщин. Подобным же образом изголодавшийся бедняк мог бы восхвалять насытившегося человека как героя только за то, что тот спокойно проходит мимо стола с обильными яствами, вместо того чтобы жадно наброситься на них». Что касается сна накануне сражения, то, как заверил нас император, не было ни одного солдата или генерала, который не совершил бы этого чуда множество раз: их героизм был вызван главным образом усталостью, накопившейся в течение прошедшего дня.
При этом гофмаршал Бертран добавил, что может с уверенностью сказать: он видел Наполеона спящим не только накануне предстоящей битвы, но даже и во время самого сражения. «Я вынужден был делать это, — пояснил император, — когда руководил ходом
сражений, продолжавшихся три дня; следует также отдать должное природе: я пользовался малейшими передышками в сражении и спал где придётся, когда имел такую возможность». Он спал на полях сражений при Ваграме и при Баутцене и даже во время самих сражений, в пределах досягаемости вражеских пушечных ядер. Такой кратковременный сон, заявил император, — не только необходимость подчиняться природе. Он предоставлял генералу, командовавшему большой армией, важное преимущество, позволявшее ему
441
спокойно ждать донесений о манёврах всех его дивизий и отчётов о результатах их боевых действий, — вместо того чтобы спешить к месту, где идёт только один бой, для наблюдения за его ходом.
Далее император сказал, что и у Роллена, и у Цезаря он обнаружил описания обстоятельств Галльской войны, которые не может понять. Ему совершенно неясно, каким образом осуществлялось вторжение гельветов, предков нынешних швейцарцев: какой дорогой они шли, к какой цели стремились, сколько времени потратили на переправу через Сону. Он не понимает, зачем Цезарь тратил время на то, чтобы вернуться со своим войском в Италию, где он дошёл до самой Аквилеи, древнеримской столицы административных регионов Венеции и Истрии, в поисках пополнения для своих легионов; затем, вновь достигнув Франции, он смог догнать вторгнувшихся гельветов ещё до того, как они переправились через Сону. В равной степени ему трудно понять смысл организации зимних квартир от Трева (нынешний город Трир в Западной Германии) до Вана (город на побережье французской Бретани). И поскольку мы выразили удивление по поводу огромных и трудоёмких работ, проводившихся в то время по приказу полководцев при строительстве дамб, защитных стен, высоких башен, рытье траншей, рвов и т.д., то император заметил, что в те времена все усилия прилагались для строительства сооружений в одном месте, а в наше время строительные работы осуществляются по ходу движения армий. Император также считает, что в древние времена солдаты трудились гораздо больше, чем наши солдаты.
У императора родилась идея продиктовать специальный материал по этому вопросу. «Античная история, — заметил он, — охватывает продолжительный период, и система ведения войны часто менялась. В наши дни она уже совсем не та, что во времена Тюренна и Вобана: оборонительные сооружения теряют всякий смысл, система военных крепостей стала проблематичной и ненужной; всё изменило громадное количество ядер и гаубиц. Защита теперь необходима не только против горизонтального ведения атаки, но и против её ведения по кривой и рефлекторной линиям. Отныне ни одна из древних крепостей не может гарантировать безопасность: они перестали быть обороноспособными; ни одна страна не в состоянии содержать старые военные крепости. Государственные доходы Франции недостаточны для содержания линии крепостей во Фландрии, а на сохранение и обеспечение их внешних фортификаций расходовалось не более одной пятой необходимых средств. В обязательном порядке требовалось строительство казематов, складов вооружения, мест укрытия от артиллерийского огня, а это всё слишком дорого». Император особенно жаловался на низкое качество современной
442
кирпичной кладки: инженерный департамент полностью запустил развитие этой отрасли строительной индустрии; она стоила императору громадных денег, выброшенных на ветер.
Поражённый этими новыми реалиями, император разработал систему, во всех отношениях противоречившую аксиомам, которые никто прежде не подвергал никаким сомнениям. В соответствии с этой системой, позади основной линии обороны устанавливаются лицом к врагу артиллерийские батареи, оснащённые орудиями самого крупного калибра. Сама же основная линия обороны, наоборот, защищается большим количеством небольших подвижных орудий. В результате враг, предприняв неожиданное наступление, столь же внезапно остановлен. Для того чтобы противостоять мощным пушкам, в распоряжении врага оказываются только пушки мелкого калибра. Он находится под обстрелом артиллерийских орудий, превосходящих по мощности его пушки. Кроме того, для отражения наступления врага используются ресурсы крепости, подвергшейся атаке. Её лёгкие пушки мелкого калибра, объединённые в подвижные батареи, установленные впереди, завязав перестрелку с противником, держат под прицелом все его передвижения благодаря своей мобильности. Противнику тогда требуются осадные орудия, он вынужден рыть траншеи; таким образом выиграно время, и главная цель сооружения фортификаций достигнута.
Император весьма успешно использовал этот метод, к явному удивлению военных инженеров, при защите Вены и Дрездена. Он намерен был применить его при обороне Парижа. Как считал император, этот город не мог быть защищён другими средствами от атак противника, и у него не было сомнений в том, что данный метод принёс бы успех.
Дни в Лонгвуде — Суд над Друо — Сульт — Массена — Товарищи императора в артиллерийской школе
23 — 26 марта 1816 года
Все эти дни, особенно в утренние часы, погода была очень плохая из-за ливневых дождей. В связи с этим мы были вынуждены не выходить из дома. Император читал книгу некой мисс Вильямс о своём возвращении с острова Эльба, — книга только что получена нами из Англии. Это сочинение вызвало у императора сильное недовольство. И не без оснований: оно щедро напичкано клеветой и ложными высказываниями и представляет собой подборку слухов, выдуманных в своё время в светских кругах Парижа, настроенных недоброжелательно.
443
Что касается вечеров, то погодные условия не имеют для нас никакого значения: идёт ли дождь или ярко светит луна, мы всё равно чувствуем себя узниками. К девяти часам вечера наш Лонг- вуд окружают часовые; видеть их в высшей степени неприятно. Император и мы можем выйти из дома в более поздний час, но только в сопровождении английского офицера. Подобная прогулка стала бы для нас скорее наказанием, чем удовольствием, хотя офицер никак не может понять наших чувств. Поначалу он считал эту изоляцию результатом нашего дурного настроения, которое, по его мнению, не должно долго продолжаться. Я не знаю, что он думал о нашем упрямстве впоследствии.
Император, как я уже упоминал, обычно садится за обеденный стол в восемь часов вечера. Он никогда не остаётся за ним более тридцати минут; иногда он тратит на обед всего лишь минут пятнадцать. Когда он возвращается в гостиную, если он нездоров или не склонен поддерживать разговор, то самым трудным делом на свете для нас оказывается необходимость оставаться в гостиной до половины десятого или до десяти часов вечера. Мы можем выдержать этот тягостный отрезок времени только читая. Но когда он в хорошем расположении духа и с живостью вступает в общий разговор, то время, проведённое нами в гостиной, пролетает незаметно, и мы с удивлением узнаём, что уже одиннадцать часов вечера или даже позже, — для нас это приятные вечера. В таких случаях император покидает нас с заметным чувством удовлетворения и говорит, что на сей раз ему удалось одержать победу над временем. И именно в такие дни он, обычно довольно грустным тоном, заявляет, что мы должны призвать всё наше мужество, чтобы выдержать подобную жизнь.
Во время одного из таких вечеров мы повели разговор о судах над военными, которые в настоящее время проходят во Франции. Император считает, что генерал Друо не может быть осуждён за то, что последовал за одним признанным монархом, который вёл войну против другого монарха. В связи с этим было отмечено, что сегодняшние аргументы в его защиту могут стать величайшей опасностью для него в будущем трибунале.
Император допускает, что обвинительные доктрины, выдвинутые в настоящее время, не подлежат обсуждению; но, с другой стороны, осуждая генерала Друо, они тем самым осуждают эмиграцию и узаконивают осуждение эмигрантов. Для любого, кто был признан поднявшим оружие против Франции, республиканские доктрины предусматривают наказание смертной казнью, но не так обстоит дело с королевской доктриной. Если они в этом случае позаимствуют республиканскую доктрину, то эмигранты и другие приверженцы короля приговорят к смертной казни самих себя.
444
Судебное дело Друо, по общему мнению, ничем не похоже на дело Нея; и, кроме того, Ней проявил злополучное непостоянство, в котором Друо никогда не был виновен. Дело Нея — в центре внимания общества, дело Друо — сугубо личное.
Император пространно рассуждал об опасностях и трудностях, с которыми должны сталкиваться суды и исполнители правосудия при рассмотрении дел, связанных с его возвращением с острова Эльба. Прежде всего, он до глубины души поражён известием о том, что Сульт предстанет перед судом. Наполеон знает, что Сульт совершенно невиновен; и, тем не менее, если бы он входил в состав присяжных на суде, рассматривающем дело Сульта, то, несомненно, признал бы Сульта виновным, поскольку улики против него очень сильны. Ней, защищая себя на суде и поддавшись чувству, которое трудно объяснить, заявил вопреки истине, что император якобы говорил о том, что Сульт поддерживал с ним связь. Ныне все обстоятельства поведения Сульта во время правления императора, доверие, которое император оказывал ему после возвращения с острова Эльба, подтверждают эти показания Нея. Кто бы не признал Сульта виновным? «И, тем не менее, Сульт невиновен, — заявил император. — Он даже признавался мне, что испытывал истинную симпатию к королю. Сульт стал сторонником короля и с восторгом принял полномочия, которыми его наделили».
Массена, об опале которого также сообщалось в полученных нами газетах, по мнению императора, — ещё один его маршал, которого, вероятно, признают виновным в измене. Весь Марсель был против него, улик против него множество; и, тем не менее, он выполнял свой долг до самой последней минуты, когда открыл своё истинное лицо. Вернувшись в Париж, он был далёк от того, чтобы требовать к себе уважения со стороны императора, когда последний спросил, мог бы он рассчитывать на него. «Дело в том, — сказал император, — что все командиры выполняли свой долг, но они не могли противостоять общественному мнению, проявившемуся столь бурно, и ни один из них не оценил в достаточной мере чувства всего народа и национальный порыв. Карно, Фуше, Маре и Камбасерес признавались мне в Париже, что развитие событий в те дни полностью ввело их в заблуждение. И никто не понимает их хорошо даже сейчас.
Если бы король задержался во Франции, — продолжал император, — то он, вероятно, лишился бы жизни, попав в руки каких-нибудь бунтовщиков. Но если бы он попал в мои руки, то я был бы весьма склонен позволить ему уединиться в каком-нибудь убежище соответственно его выбору; с ним обращались бы так же, как с испанским королём Фердинандом VII в Баланса, замке Талейрана».
Непосредственно перед этим разговором император играл в шахматы, и во время партии фигурка его шахматного короля свалилась
445
на пол. Император воскликнул: «Ах! Мой бедный король, ты упал!» Кто-то из наблюдавших за игрой подобрал фигурку шахматного короля, которая была повреждена, и поставил её назад на доску. «Ужасно! — воскликнул император. — Я, конечно, не верю в предзнаменования и далёк от того, чтобы желать чего-либо подобного: моя враждебность не заходит столь далеко».
Этот случай обязательно должен быть описан в моём дневнике, хотя он и может показаться мелочью, недостойной внимания, — он характерен для императора во многих отношениях. Мы же, когда император удалился в свою комнату, вернулись к обсуждению этого случая. «Какая бодрость, какая свобода мышления в подобных ужасных обстоятельствах! — говорили мы. — Какое душевное спокойствие! Ни злобы, ни раздражения, ни ненависти! Кто мог бы обнаружить в нём человека, которого враждебность и клевета изображают чудовищем!»
В другой вечер император вспоминал годы учёбы в артиллерийской школе и своих товарищей, с которыми он тогда делил стол. Император всегда с удовольствием вспоминает те дни. Было упомянуто имя одного из его товарищей в артиллерийской школе, который был префектом одного и того же департамента и при Наполеоне, и при короле, но не смог сохранить свой пост после возвращения Наполеона с острова Эльба. Император, вспомнив этого человека, сказал, что тот в определённый период времени упустил возможность обеспечить своё будущее, используя знакомство с ним. Когда
446
Наполеон встал во главе внутренних войск страны, он осыпал этого человека милостями, назначил его своим адъютантом и был готов оказать ему самое искреннее доверие. Но осыпанный всеми благами адъютант Наполеона повёл себя плохо по отношению к нему, когда Наполеон стал командующим французской армией в Италии. Этот человек предал молодого генерала, встав на сторону Директории.
«Тем не менее, — заявил император, — когда я уже занял трон, он мог бы многого добиться от меня, если бы знал, как ему следует себя вести. Он обладал правом дружбы в юные годы, которое никогда не теряет силы своего влияния. Конечно, я никогда бы не устоял против попытки примирения во время, например, выезда на охоту вместе со своей свитой или во время беседы о добрых старых школьных временах при каких-нибудь других обстоятельствах. Я бы простил ему его поведение, — для меня уже не было важным, был ли он на моей стороне или нет: став императором, я объединил все противостоящие стороны. Те люди, которые постигли суть моего характера, хорошо знали об этом... Если мне хотелось устоять против таких людей, то я использовал свой последний ресурс — отказывался принимать их».
Император упомянул другого своего товарища школьных лет, который, действуя умело и с необходимыми оговорками, мог делать с ним всё, что хотел. Император также сказал, что он никогда бы не отдалил от себя ещё одного товарища, если бы тот не был таким жадным.
Между собой мы спорили о том, подозревали ли когда-нибудь эти люди, что существует секрет установления доверительных отношений с императором, и о своих собственных шансах, и позволяли ли им высокое положение и царственное величие Наполеона добиваться его благосклонного отношения к ним.
Что касается величия царственной власти, то, как заявил гофмаршал Бертран, каким бы великим и величественным ни казался ему Наполеон, восседавший на троне, он никогда не производил на него большего впечатления, чем в те времена, когда был во главе французской армии в Италии. Гофмаршал подробно объяснил и успешно защитил высказанное им мнение по этому вопросу, вызвав тем самым явное удовольствие императора. Мы напомнили гофмаршалу, что после военной кампании в Италии последовали новые грандиозные события. Какого величия достиг Наполеон! Какое благородство он проявлял! Какую известность во всём мире он заслужил! Император внимательно слушал нас. «При всём при этом, — сказал он, — Париж настолько большой город, в нём так много всякого рода людей, среди них так много своеобразных личностей, что, я думаю, могут быть и такие, кто никогда не видел
447
меня, и такие, кто никогда не слышал, чтобы упоминали моё имя. Вы так не считаете?»
Любопытно было видеть, с какой искренностью он отстаивал это утверждение, которое, как он сам прекрасно понимал, не выдерживало никакой критики. Не жалея голоса, мы настаивали на том, что нет ни одного города или деревни в Европе и, вероятно, на всём свете, где бы не произносилось его имя. Один из участников этой беседы добавил: «Сир, до того как я вернулся во Францию в соответствии с мирным договором в Амьене, а тогда Ваше Величество были Первым консулом, я решил совершить поездку в Уэльс, одну из наиболее своеобразных частей Великобритании. Я взбирался на вершины самых диких гор, некоторые из них отличались огромной высотой; в горах я посещал хижины, которые, как мне казалось, принадлежали другому миру. Когда мы вошли в одно из этих уединённых жилищ, я сказал своему попутчику, что в этом месте можно будет найти отдых и избежать шума революционных бурь. Хозяин хижины, заподозрив в нас французов из-за нашего акцента, сразу же стал расспрашивать о новостях из Франции и поинтересовался, что замышляет Бонапарт, Первый консул».
«Сир, — вступил в разговор второй собеседник, — из любопытства мы спросили китайских морских офицеров, доходят ли слухи о наших, европейских, делах до их империи. “Конечно, — ответили они. — Разумеется, в искажённом виде, поскольку нам совершенно неинтересны эти дела, но имя вашего императора известно в нашей стране, так как оно связано с завоеваниями и революцией. Точно так же, как у нас знамениты имена тех, кто изменил лицо той части мира, которая стала нашей, — имена Чингисхана, Тамерлана и других”».
Политический самоанализ — О процветании империи — Либеральные идеи императора — Мармон — Мюрат — Бертье
27 марта 1816 года
Сегодня император гулял в саду с гофмаршалом Бертраном и со мною. Затем мы обсудили политические взгляды каждого из нас.
Император сказал нам, что он со всем пылом воспринял начало революции, искренне поверив в её идеи, но его пыл стал постепенно остывать по мере того, как он проникался более справедливыми и основательными идеями. Его патриотизм не выдержал тяжести
448
политических нелепостей и чудовищных крайностей наших органов власти. В конце концов его республиканская вера исчезла под влиянием нарушения Директорией права выбора народа (это произошло примерно в те же дни, что и сражение при Абукире).
Когда настал черёд гофмаршала, тот заявил, что никогда не был республиканцем, но был очень пылким приверженцем конституционализма до 10 августа. Ужасы этого дня полностью избавили его от всех иллюзий. Его чуть было не убили, когда он защищал короля в Тюильри.
Что касается меня, то известно, что я начал политическую карьеру как правоверный и весьма ревностный роялист.
«Вот так, господа, — не без юмора заметил император, — по- видимому, я — единственный среди нас, кто был республиканцем». — «И не просто республиканцем, сир», — в один голос заявили Бертран и я. «Да, — повторил император, — республиканцем и патриотом». — «И я был патриотом, сир, — сказал я, — несмотря на мою приверженность к роялизму; но вот что необычно: я стал роялистом, лишь когда наступил период императорского правления». — «Как же так, плутишка?! Вы признаётесь, что не всегда любили свою страну?»
«Сир, мы занимаемся политическим самоанализом, не так ли? Я признаюсь в своих грехах. Когда я вернулся в Париж благодаря вашей амнистии, то разве я мог смотреть на самого себя как на француза, когда каждый закон страны, каждый декрет, каждое постановление муниципалитета, которыми были обклеены все стены домов, неизменно добавляли самые оскорбительные эпитеты к моему несчастному ярлыку эмигранта. Тогда, во время моего первого возвращения во Францию, я не думал остаться в стране. Но меня влекло к ней естественное чувство любопытства, и я не мог не уступить непреодолимому желанию вновь дышать её воздухом. Тогда у меня не было никакой собственности: чтобы только увидеть Францию ещё раз, я согласился с законами, которые предопределили потерю моего родового имущественного наследства, — ведь на границе меня вынудили подписать отказ от него. Я чувствовал себя всего лишь путешественником в стране, которая когда-то была моей. Я был настоящим иностранцем, недовольным всем и даже озлобленным. Затем была провозглашена империя, — это было великое событие. Отныне, — заявил я, — мои манеры и пристрастия находятся в гармонии с окружающим миром, а мои принципы торжествуют; единственное несоответствие заключается в личности монарха. Когда началась кампания, завершившаяся битвой при Аустерлице, моё сердце вновь стало французским, к моему собственному удивлению. Моё положение было мучительным: я чувствовал себя словно разорванным на части. То меня охватывал слепой энтузиазм, то
449
я оказывался в плену национального чувства. Триумфальные победы французской армии и её генерала вызывали у меня недовольство; тем не менее, её поражение унизило бы меня. В конце концов чудеса Ульма и величие Аустерлица положили конец моему смятению; я был покорён славой. Я восторгался Наполеоном, я признал и полюбил его; и с той минуты я стал восторженным французом. Впредь у меня не было других раздумий, я не говорил на другом языке, я не испытывал иных чувств. И вот я здесь, рядом с вами».
Император задал мне массу вопросов об эмигрантах, их количестве и их нравах. Я рассказал много любопытного о наших принцах, герцоге Брауншвейгском и короле Пруссии. Я вызвал у императора смех, когда рассказывал о напыщенности нашего самомнения, о нашей безграничной уверенности в конечном успехе, о беспорядке в наших делах и о несостоятельности наших лидеров. «Люди, — сказал я, — в то время не были такими, какими они стали потом. К счастью, те, с кем нам предстояло сражаться, вначале были равны нам по силам. Прежде всего, как мы считали и повторяли это друг другу, в своём подавляющем большинстве французская нация была на нашей стороне; что касается меня, я твёрдо верил в это. Однако вскоре я прозрел: когда наши люди прибыли в Верден и проследовали дальше, то ни один человек не пожелал вступить в наши ряды, — наоборот, все стремились спастись бегством при нашем приближении. Тем не менее, я по-прежнему верил в то, что французский народ поддержит нас, даже после моего возвращения из Англии; и позднее мы продолжали искренне обманывать себя теми глупостями, которыми делились друг с другом. Мы говорили, что правительство представляет собой лишь ничтожную горстку людей, что оно удерживается у власти только благодаря силе, что страна ненавидит его и что во Франции немало таких, кто думает именно так. Я убеждён, что среди тех, кто сейчас делает подобные заявления в Законодательном собрании, есть немало таких, которые говорят то, что думают; я безошибочно узнаю дух, идеи и выражения эмигрантов, обосновавшихся в Кобленце после того, как революция изгнала их из Франции».
«Но когда же вы перестали заблуждаться?» — спросил император.
«Когда прошло достаточно много времени, сир. Даже когда я встал на вашу сторону и пришёл на службу при вашем дворе, мои действия в гораздо большей степени диктовались чувствами и восхищением вами лично, чем убеждением, что вы действительно сильны и что ваше положение в стране прочно и стабильно. Однако когда я стал членом вашего Государственного совета и почувствовал ту свободу, с которой члены Совета участвуют в голосовании при принятии важнейших декретов, не допуская мысли о вашем возможном противодействии, когда я увидел вокруг себя только полнейшую
450
убеждённость, то для меня стало очевидным, что дела в стране неуклонно улучшаются, а ваша власть набирает силу настолько быстро, что я не в состоянии дать объяснение этому феномену. Размышляя о его причине, я, в конце концов, сделал большое и важное открытие: дела давно обстояли именно таким образом, но я или не знал об этом, или не хотел этого признать; я, как страус, прятал голову в песок, чтобы не видеть. И когда в силу обстоятельств я оказался в самом центре сияния, то был поражён его великолепием. С этой минуты все мои предубеждения исчезли, и пелена спала с моих глаз.
В соответствии с распоряжением Вашего Величества я получил задание посетить ряд провинций страны, чтобы на месте проверить состояние дел. По пути следования мне пришлось пересечь более шестидесяти департаментов Франции. Выполняя задание, я проявил самое тщательное внимание и абсолютную прямоту при выяснении истинного положения дел в стране, которое так долго вызывало у меня сомнения. Я с пристрастием расспрашивал префектов и представителей местной власти; я требовал, чтобы мне предъявляли соответствующие документы, официальные реестры и протокольные записи; я задавал различные вопросы частным лицам, которым я не был известен; я использовал всевозможные средства, стараясь подкрепить мои выводы реальными фактами. В результате я безоговорочно убедился в том, что правительство являлось истинно национальным и сформированным по воле народа. Я убедился, что Франция ни в один из периодов её истории не была более могущественной, более процветающей и более счастливой; дороги на её территории никогда не были в лучшем состоянии; производительность в сельском хозяйстве выросла в восемь, девять, десять раз*.
Активность и энтузиазм были всеобщими, люди с воодушевлением прилагали все свои усилия, каждый француз постоянно стремился к самосовершенствованию и новым целям. Французским химикам удалось наладить производство отечественной краски индиго; процесс разработки способа получения сахара из свёклы был близок к успеху. Никогда, ни в какой период истории страны развитие внутренней торговли и всех отраслей промышленности не достигало такого уровня. Вместо четырёх миллионов ливров, которые давало до революции производство хлопчатобумажной продукции, теперь она вырабатывалась на сумму более тридцати миллионов, хотя мы не могли получать хлопок морским путём, и нам его доставляли по суше из далёкого Константинополя. Руан превратился едва ли не
* Примечательно, что человек, от которого я получил информацию о состоянии сельского хозяйства в Лангедоке, был тот самый господин де Виллель, который позднее стал известен в качестве главы правительства короля Карла X.
451
в чудо хлопчатобумажного производства. Налоги повсюду выплачивались; воинская повинность осуществлялась в национальном масштабе; Франция, вместо того чтобы истощаться, увеличивала численность своего населения с каждым днём.
Когда я вновь появился среди своих прошлых знакомых с этими данными, против меня поднялся настоящий бунт. Они смеялись мне в лицо и чуть ли не освистывали меня. Тем не менее, среди них были и разумные люди, и во время споров я опирался на реальные данные; мне удалось вызвать сомнения у многих и убедить нескольких, и здесь я добился своей цели».
Император заявил, что перед нами поистине уникальное явление: на острове Святой Елены собрались люди с различными политическими взглядами, которые до этого шли разными дорогами, соответствующими их убеждениям. Блуждая в лабиринте революции в условиях неопределенности, справедливые и честные сердца могут соединиться лишь благодаря счастливому случаю.
Восстановить согласие в обществе после продолжительного хаоса можно, лишь проявляя терпимость и разумные убеждения. Именно эти качества характера и эти принципы, заявил император, отличали его как человека, наиболее подходящего для того, чтобы найти правильные решения в ситуации, сложившейся в брюмере; и именно эти качества характера и эти принципы по-прежнему делают его наиболее подходящей личностью для того, чтобы справиться с проблемами современной Франции. В связи с этим он не испытывает чувств недоверия, предубеждения или гнева; ему всегда было свойственно использовать для полезных дел представителей всех классов общества, всех противоборствовавших сторон, не интересуясь тем, что они делали, говорили, что замышляли и о чём думали в прошлом. От них лишь требовалось, заявил император, чтобы они в будущем честно стремились к достижению общей цели — поддерживать благосостояние и славу Франции. Он никогда не заигрывал с лидерами политических партий, чтобы привлечь на свою сторону их рядовых членов; наоборот, он стремился распространить своё влияние на рядовых членов партий, и когда это достигнуто, то можно не обращать внимания на партийных лидеров. Такой системы внутренней политики он постоянно придерживался, и, несмотря на последние события, он далёк от того, чтобы сожалеть о ней. Если бы пришлось начинать всё сначала, он бы повторил весь пройденный путь.
«Нет абсолютно никаких оснований, — заявил император, — порицать меня за то, что я привлекал на свою службу аристократов и эмигрантов. Это совершенно банальное и вульгарное обвинение! Я придавал значение только личным мнениям и пристрастиям.
452
И не аристократы с эмигрантами стали причиной Реставрации; скорее сама Реставрация была тем событием, которое вновь призвало на службу Франции аристократов и эмигрантов. Они способствовали нашей гибели не больше других: её действительными виновниками являются интриганы, представлявшие все политические группировки с самыми различными политическими убеждениями. Фуше не принадлежал к числу аристократов, Талейран не принадлежал к числу эмигрантов, Ожеро и Мармон не были ни теми, ни другими. И наконец, хотите получить последнее доказательство того, что несправедливо обвинять отдельные классы общества, когда революция, подобная нашей, касалась всех? Поразмышляйте о самих себе: среди вас четверых вы обнаружите двух аристократов, один из которых даже был эмигрантом. Уважаемый господин Сегюр, несмотря на свой возраст, предложил мне свои услуги и готов был сопровождать меня. Я мог бы привести бесконечное множество подобных примеров. Нет никакой причины обвинять меня в том, что я не обращал внимания на поступки некоторых влиятельных персон. Я обладал слишком большой властью и мог себе позволить не обращать внимания на интриги и ставшие достоянием гласности факты аморального поведения большей части этих персон. Поэтому вовсе не это стало настоящей причиной моего падения. Причин моего падения несколько, и они таковы: непредвиденные и неслыханные катастрофы и связанные с ними обстоятельства, 500 000 иностранных солдат у ворот столицы, отголоски недавней революции — всё это породило кризис, слишком мощный для умов французов. Но первая причина — слишком малый срок моей императорской династии! Если бы я был собственным внуком, то смог бы подняться с новой силой с подножий Пиренеев.
Но, боже мой, какое удовольствие вспоминать прошлые времена! Нет никаких сомнений, что я был избран французами: их новый культ являлся творением их собственных рук. Именно так! Но вы только посмотрите, что произошло в дальнейшем: сразу же после возврата к их прежнему состоянию с какой лёгкостью они вернулись к своим старым идолам!
В конце концов, каким образом другая политическая сила могла бы помешать всему тому, что стало причиной моей гибели? Меня предал Мармон, которого я мог бы называть своим сыном, своим отпрыском, делом моих рук. Я вручил ему свою судьбу, направив в Париж, но он изменил мне и способствовал моей гибели. Я был предан Мюратом, которого из солдата сделал королём и женил на моей сестре. Я был предан маршалом Бертье, которого превратил из гуся чуть ли не в орла. Я был предан Сенатом — теми самыми
453
людьми из национальной партии, которые были обязаны мне всем. Всё это, в таком случае, никоим образом не зависело от моей системы внутренней политики. Несомненно, меня должны были бы обвинять мои старые враги, всегда готовые на это, будь то аристократы или эмигранты, — Макдональд, Баланс*, Монтескью, — но они были верны мне. Пусть они возразят мне, сославшись на глупость Мюрата. В этом случае я могу противопоставить им ум Мармона. Так что у меня нет причин сожалеть о моей системе внутренней политики».
Степень вероятности людских потерь в сражении — Достоверность армейских оперативных сводок
28 марта 1816 года
Во время обеда император говорил о степени опасности плавания на китайских кораблях. В соответствии с подсчётами, полученными им от нескольких английских капитанов, во время плавания китайских кораблей в среднем один корабль из тридцати погибает. Эти данные привели императора к размышлениям о степени вероятности людских потерь во время сражения, которых, как заключил император, на поле брани было меньше. Императору напомнили, что битва при Ваграме была особенно кровопролитной. Император ответил, что, по его расчётам, во время этой битвы было убито не более трёх тысяч французов из общего числа французской армии в составе 160 000 человек. Таким образом, в среднем тогда был убит один человек из пятидесяти. В сражении при Эслинге убито было четыре тысячи человек из общего состава французских войск в 40 000 человек, то есть, погибал один человек из десяти, но это было самое жестокое сражение. Людские потери в других сражениях были гораздо меньшими.
В ходе этого обсуждения разговор коснулся вопроса о достоверности армейских оперативных сводок. Император заявил, что они были весьма точными. Он заверил нас, что, за исключением тех данных, которые он был вынужден скрывать, учитывая близость противника, — чтобы, попав в руки врагов, они не могли стать
* Однажды в Лонгвуде, просматривая список сенаторов, которые подписали документ о свержении императора с престола, один из нас указал на имя де Баланса, подписавшегося в качестве секретаря. Но другой член свиты императора объяснил, что подпись де Баланса была подделана и что де Баланс пожаловался на это и протестовал по поводу этой фальшивки. «Совершенно верно, — заявил император, — я знал об этом; господин де Баланс вёл себя достойно, он был верен нации».
454
источником информации, наносившей вред французской армии, — всё остальное в сводках отличалось большой достоверностью. В Вене и по всей Германии эти оперативные сводки оценивались даже выше, чем в нашей армии. Если иногда в нашей армии они не пользовались должной репутацией (существовала поговорка: врёт как оперативная сводка), то всё это результат личного соперничества и принадлежности к определённой партийной или классовой группировке, следствие уязвлённого самолюбия тех, которые не были упомянуты в оперативной сводке, но считали, что их имена должны быть в ней обязательно. И, в первую очередь, это результат нашего нелепого национального порока, когда для нас не существует большего врага для наших успехов и для нашей славы, чем мы сами.
После обеда сыграли несколько партий в шахматы. Весь день лил проливной дождь; император чувствовал себя нездоровым и рано удалился в свою комнату.
Нездоровый климат острова
29 марта 1816 года
Погода по-прежнему плохая; невозможно ступить ногой за порог дома. Дождевая влага и сырой воздух без помех проникают к нам в комнаты, стены которых оклеены картоном. В результате наносится ущерб здоровью каждого из нас. Конечно, температура воздуха на острове умеренная, но климат — на редкость отвратительный. Установлено, что на острове мало кто доживает до пятидесяти лет, и едва ли кто — до шестидесяти. Добавьте к этому нашу полнейшую обособленность от всего остального мира, физические лишения, бестактное обращение с нами, и тогда будет ясно, что тюрьмы в Европе намного предпочтительнее, чем свобода на острове Святой Елены.
Около четырёх часов дня ко мне явились несколько капитанов английских кораблей, прибывших из Китая. Капитаны хотели, чтобы их представили императору. Они получили возможность увидеть крайнюю тесноту моего жалкого обиталища, насквозь пропитанного сыростью. Их интересовало состояние здоровья императора, и я сообщил им, что оно ухудшается на глазах. Но не было случая, чтобы он пожаловался нам на своё плохое самочувствие. Его великая душа готова терпеть всё, нисколько не жалуясь, и даже помогает ему обманывать самого себя в отношении состояния своего здоровья. Но мы видим, как заметно оно ослабевает. Вскоре после нашего разговора я провёл английских капитанов к императору, который прогуливался в саду. Мне показалось, что его состояние ещё хуже,
455
чем обычно. Император отпустил капитанов через полчаса. После беседы с ними он вернулся к себе и принял ванну.
До и после обеда он явно пребывал в плохом настроении из-за болезненного состояния. Он начал читать нам комедию «Учёные женщины», но после первого акта передал книгу гофмаршалу. Во время дальнейшего чтения комедии император, устроившись на диване, дремал.
Некоторые замечания императора по поводу его военной экспедиции на Востоке
30 — 31 марта 1816 года
Погода продолжает оставаться плохой, и это сильно огорчает нас. Кроме того, нам не дают покоя крысы, блохи и клопы. Они нарушают наш сон, так что ночные неприятности ничуть не меньше, чем дневные.
Погода резко изменилась к лучшему 31 марта; мы воспользовались этим и отправились на прогулку в карете. Во время последовавшей беседы император заметил, говоря о Египте и Сирии, что, если бы он взял крепость Сен-Жан д’Акр, как и следовало ожидать, то он бы вызвал революцию на Востоке. «Самые ничтожные обстоятельства, — заявил император, — приводят к важнейшим последствиям. Нерешительность капитана фрегата, стоявшего на рейде в море и не сумевшего прорваться в гавань, ряд пустяковых помех на пути лёгких кораблей — всё это помешало изменить лицо мира. Овладев крепостью Сен-Жан д’Акр, французская армия устремилась бы к Дамаску и Алеппо; в мгновение ока она бы оказалась на берегах Евфрата; христиане Сирии, друзы, христиане Армении присоединились бы к нам; страны Востока оказались бы на грани всеобщего революционного взрыва». Один из нас сказал, что французская армия моментально бы усилилась за счёт дополнительных 100 000 солдат. «Скажите лучше, за счёт 600 000 солдат, — ответил император. — Кто может рассчитать, что могло произойти? Я бы достиг Константинополя и дошёл до Индии. Я бы изменил лицо мира».
Краткое изложение событий последних девяти месяцев
Уже прошло девять месяцев с тех пор, как я начал вести мой дневник; и я опасаюсь, что, говоря о разных предметах, излагаемых в дневнике без надлежащего порядка, я могу упускать из виду мою
456
главную, мою единственную задачу, касающуюся Наполеона. Решение этой задачи поможет читателю лучше представить личность императора. Именно для этого я сейчас пытаюсь кратко изложить в дневнике события прошедших девяти месяцев. Более того, я намерен в будущем кратко резюмировать прошедшие события с интервалом в три месяца.
Покинув Францию, мы в течение месяца находились в распоряжении грубого и жестокого кабинета министров Англии; затем мы отправились на остров Святой Елены, и наше плавание заняло три месяца.
Высадившись на этом острове, мы провели в «Бриарах» почти два месяца.
И, наконец, вот уже три месяца мы находимся в Лонгвуде.
Таким образом, эти девять месяцев вместили четыре резко отличающихся друг от друга периода, и во время одного из них мне посчастливилось вплотную наблюдать за Наполеоном.
В течение всего времени, проведённого в Плимуте, Наполеон пребывал в задумчивом настроении, пассивно воспринимая все связанные с ним события и проявляя стоическое терпение. Перенесённые им невзгоды огромны, изменить что-либо к лучшему было совершенно невозможно, и он относился к текущим событиям с абсолютным безразличием.
Во время всего плавания он сохранял полнейшую невозмутимость и безграничное равнодушие; он не выражал никаких желаний и не демонстрировал никакого недовольства. Правда, ему оказывали большое уважение, но он как будто не сознавал, что оно относится к нему. Он говорил мало, и его никогда не интересовала тема разговора. Если бы кто-нибудь неожиданно оказался на борту корабля и стал свидетелем беседы с участием императора, то он вряд ли бы догадался, с кем говорит: ничто не выдавало в собеседнике императора. Всё выглядело так, будто знатных пассажиров доставляют к месту назначения, проявляя величайшее почтение.
Наше пребывание в «Бриарах» дало основание думать, что в жизни императора наступил новый период, отличный от предыдущих. Наполеон, почти полностью предоставленный самому себе, никого не принимавший, постоянно занятый делом, будто забывший о событиях и о людях, очевидно наслаждался тишиной и покоем полного уединения. То ли из-за того, что он был практически всегда погружён в собственные мысли, то ли потому, что считал ниже своего Достоинства придавать значение новым жизненным обстоятельствам, он не снисходил до того, чтобы замечать бытовые неудобства и лишения, с которыми сталкивался на каждом шагу. Если же он иногда и ронял, как бы между прочим, фразу относительно этих неудобств
457
и лишений, то это происходило только тогда, когда к этому его побуждала назойливость некоторых англичан или когда его к этому вынуждали случаи грубого произвола по отношению к членам его свиты. Весь его день был занят диктовкой, остальное время посвящалось отдыху в обстановке непринуждённой беседы. Он никогда не говорил о делах в Европе, очень редко вспоминал о временах Империи, ещё реже о днях Консулата, но много говорил о своём положении в качестве генерала французской армии в Италии; ещё чаще, можно сказать — почти постоянно, он говорил в мельчайших подробностях о днях своего детства и юности. В это время, казалось, воспоминания о них приобрели для него особенное очарование. Можно сказать, что эти воспоминания предоставили ему возможность предаться полнейшему забвению; вспоминая эти дни, он иногда даже заметно оживлялся. Многие часы своих вечерних прогулок при лунном свете он почти целиком посвящал беседам об этих днях.
Наконец, переезд в Лонгвуд стал четвёртым и последним изменением нашего образа жизни. До сих пор наше пребывание в каждом из мест, в которых нам пришлось находиться, было недолгим, а связанные с этим обстоятельства были преходящими. Теперь же наше положение сделалось устойчивым и обещало быть продолжительным. Именно Лонгвуду предстояло стать нашей ссылкой и новой судьбой для каждого из нас. Там, в Лонгвуде, история определит нам место; взоры всего мира будут обращены на Лонгвуд, чтобы дать нам соответствующую оценку. Император, видимо, предвидел это, поскольку принимает меры, чтобы привести в порядок всё, что связано с ним, и всем своим видом демонстрирует величие, угнетаемое грубой силой. Вокруг себя император очерчивает нравственную границу, внутри которой он определённым образом защищает себя от унижений и оскорблений. Он более ни в чём не уступает своим гонителям; для него становится привычным открыто проявлять бдительность и враждебность при любом посягательстве на его честь. Ничего другого англичане и не ожидали. С первого же дня император дал им понять, что будет твёрдо отстаивать свои позиции, и англичане теперь проявляют глубокое уважение к императору.
Мы с большим удовлетворением и с немалым удивлением отмечаем очевидную перемену: мнение англичан об императоре и их уважение к нему заметно повысились и продолжают повышаться с каждым днём. В беседах с нами император возобновил обсуждение европейских дел. Он анализирует планы и поведение монархов, сравнивает их с собственными планами и поведением, оценивает и говорит о своём правлении и о своих деяниях, — одним словом, мы вновь видим в нём императора, перед нами истинный
458
Наполеон во всём своём величии. Нельзя сказать, что он когда-либо, хотя бы на миг, переставал быть таковым, и наша преданность и любовь к нему неизменны; одним словом, наши отношения остаются прежними.
Никогда ранее нам не приходилось наблюдать более ровного настроения, более постоянной доброты и привязанности к нам. Именно с нами, словно в кругу собственной семьи, он договаривается о своих выпадах против общего врага; однако те выпады, которые представляются наиболее резкими и кажутся продиктованными приступами гнева, при их обсуждении всегда сопровождаются смехом и шутками.
Здоровье императора в течение шести месяцев, предшествовавших нашему переезду в Лонгвуд, казалось, не претерпело какого-либо изменения, хотя его режим кардинальным образом изменился. Его распорядок дня, его режим питания более не были прежними; его привычки пришли в полное расстройство. Ранее он регулярно выполнял физические упражнения на свежем воздухе, а теперь вынужден всё время находиться в жилом помещении. Приём ванны был частью его образа жизни, но он был временно лишён этой процедуры. Только после переезда в Лонгвуд, когда он вновь получил возможность совершать верховые прогулки и пользоваться ванной, мы стали замечать ощутимые перемены к лучшему в состоянии его здоровья.
Любопытно, что, пока бытовые условия императора не отличались комфортабельностью, это, казалось, его не мучило. Только после того, как они улучшились, стали заметны его страдания. Если физическая система подвергается некоторому воздействию, то последствия видны не сразу. Возможно, сказанное верно и для нравственной системы?
Описание апартаментов императора — Подробности его туалета и описание одежды — Абсурдные слухи об императоре — Заговоры Жоржа и Чераки — Попытка покушения фанатика в Шенбрунне
1 — 2 апреля 1816 года
Всё, что как-то связано с личностью императора Наполеона, должно быть достойно изучения и бережного хранения в памяти тысяч людей. Глубоко убеждённый в этом, я приступаю к скрупулёзному описанию его апартаментов, мебели, подробностей его туалета и т.д. И не может ли так получиться с течением времени, что в один
459
прекрасный день его сыну доставит удовольствие воспроизвести в своём воображении все эти подробности, представив себе внешний вид старых предметов, и удержать в памяти мимолётные тени, которые для него станут реальностью?
Апартаменты императора состоят из двух комнат, каждая размером пять метров в длину, четыре метра в ширину и высотой около двух метров. Пол комнат покрыт весьма скромным ковром. Стены комнат вместо обоев украшены хлопчатобумажной тканью «китайкой».
В спальной комнате поставлены походная кровать, на которой спит император, и канапе. Этот диванчик, на котором император проводит полулёжа большую часть дня, завален книгами. Они, кажется, оспаривают у императора право на владение канапе. Рядом с канапе стоит небольшой стол, за которым император завтракает и обедает, когда он предпочитает есть в собственной комнате. Вечером на этот стол ставится увенчанный большим украшением канделябр с тремя подсвечниками. Между двумя окнами и напротив двери стоит небольшой комод с бельём императора. На комод поставлен большой императорский дорожный саквояж.
Над камином висит маленькое зеркало, по обеим сторонам которого на стене прикреплены небольшие портреты. Справа от зеркала на портрете кисти Эме Тибо изображён Римский король, сидящий на овце. Слева от зеркала, в качестве пары к первому портрету, висит
другой портрет юного Римского короля, сидящего на диванной подушке и надевающего комнатную туфлю. Это также работа кисти Эме Тибо. Несколько ниже, на каминной доске, стоит маленький мраморный бюст Римского короля. Два светильника, позолоченная чаша и горелка для ладана из того же металла — всё взятое из императорского дорожного саквояжа, — завершают украшение каминной доски. Наконец, на стене, прямо перед взором императора, когда он отдыхает на канапе, висит портрет Марии Луизы, выполненный Изабе; она держит на руках своего маленького сына. Таким образом, эта часть личных апартаментов императора стала семейным святилищем. Я обязан упомянуть большие серебряные часы — будильник Фридриха Великого. Он был взят в Потсдаме и теперь висит слева от каминной доски, за портретами. Часы императора, которые висят справа от камина, — те самые, которыми он пользовался во время кампании в Италии, — вложены в золотой футляр, помеченный монограммой «Б»*. Такова обстановка первой комнаты.
Во второй комнате апартаментов императора, которая служит своего рода кабинетом, радом с окнами вдоль стен протянуты несколько грубо обструганных досок, поддерживаемых подмостями. На досках в беспорядке расставлено множество книг и рукописей, написанных под диктовку императора. Между двумя окнами стоит книжный шкаф; на противоположной стороне поместилась другая походная кровать, такая же, как и в первой комнате. На этой кровати император иногда отдыхает в дневное время; порой он ложится спать на ней, когда в бессонные ночи встаёт с кровати в спальной комнате или когда устаёт от диктовки и начинает в одиночестве ходить по комнате. Наконец, в центре комнаты поставлен письменный стол, за которым сидит император, когда диктует нам; каждый из нас также сидит за этим столом во время диктовки.
Император одевается в своей спальне. Когда же он раздевается для сна, что он делает без помощи слуг, то бросает всю одежду на пол, если при этом не присутствует кто-либо из слуг, чтобы забрать её у него. Как часто мне приходится нагибаться, чтобы подобрать ленту ордена Почётного легиона, небрежно брошенную на пол!
Процедура бритья, которой заканчивается ритуал утреннего туалета императора, не начинается до тех пор, пока он не наденет чулки, туфли и т.д. Император бреется сам. Сначала он снимает
* Потом я узнал, что эти часы, свидетели замечательных достижений Наполеона во время кампаний в Италии и Египте, перешли в руки гофмаршала. Император жаловался, что его часы сломались, и мы безуспешно пытались починить их. Однажды император сказал, взглянув на часы, которые гофмаршал Бертран только что получил с мыса Доброй Надежды: «Я возьму у вас эти часы, а мои отдам вам: они сейчас не идут, но они пробили два часа на возвышенности Риволи, когда я отдавал в тот день боевой приказ».
461
с себя рубашку, оставаясь в одной фланелевой жилетке, от которой он отказался во время чрезмерной жары при пересечении экватора, но потом был вынужден надевать её вновь из-за острых болей в желчном пузыре: фланелевая жилетка помогает ему избавляться от этих болей.
Император бреется в алькове окна, ближайшего к камину. Первый камердинер императора передаёт ему мыло и бритву, второй держит перед ним зеркальце дорожного несессера таким образом, чтобы император мог повернуть к свету ту сторону щеки, которую
он бреет. На второго камердинера возложена обязанность сообщать императору, чисто ли он побрился. Закончив бритьё одной щеки, император поворачивается, чтобы приступить к бритью другой щеки. Второй камердинер, соответственно, переходит на другую сторону.
Затем император моет лицо, а довольно часто и голову, в большом серебряном тазу, который стоит в углу комнаты, — он был вывезен из Елисейского дворца. Тело у императора довольно дородное, с белой кожей и небольшой порослью волос. Груди у него слегка округлые, что необычно для мужского пола. Император иногда подшучивает над этим, растирая грудь и руки очень жёсткой щёткой. После этого он отдаёт щётку камердинеру, который растирает ею спину и плечи императора. Когда император находится в хорошем настроении, он обычно говорит: «Три сильнее — как если бы ты скрёб осла».
462
Раньше император обильно обливал себя одеколоном, по крайней мере, пока он был у него; но запасы одеколона быстро закончились, и, так как его нельзя купить на острове, император был вынужден заменить одеколон лавандовой водой. Отсутствие одеколона сильно огорчает его.
Иногда, после того как ему разотрут щёткой спину или после бритья, он несколько секунд пристально и с добродушной улыбкой смотрит в лицо камердинеру и затем слегка щиплет его за ухо, не забывая при этом что-то сказать в шутку. Клеветниками и памфлетистами это истолковывалось как привычка жестоко избивать тех, кто рядом с ним. Он и нас иногда щиплет за ухо, но это всегда сопровождается доброй шуткой; и мы считали себя счастливыми, когда удостаивались этой милости, особенно во время его пребывания на троне.
Эта привычка императора вызывает у меня определённые воспоминания и объясняет мне ряд высказываний, которые я однажды слышал от герцога Декре, одного из министров императора. Он беседовал со мной о своих шансах на успешное продвижение по службе и сказал: «Я в конце концов получу это место, после того как моим ушам сильно достанется от императора. — И, заметив на моём лице выражение удивления, добавил с многозначительной улыбкой: — Но, мой дорогой друг, это вовсе не такая ужасная вещь, как вы себе представляете; многие были бы счастливы, чтобы с ними обращались подобным образом, уверяю вас...»
Император никогда не покидает своей комнаты, пока полностью не оденется. Утром он носит туфли и не надевает сапоги, пока не отправляется на верховую прогулку. Когда он впервые прибыл в Лонгвуд, то сразу же отложил в сторону зелёный гвардейский мундир и стал носить охотничью шинель без галунов. Шинель бысгро износилась, и его слуги были в растерянности, не зная, чем заменить её. Однако эта шинель — не единственная причина затруднений, с которыми он сталкивается в связи с состоянием его гардероба. Например, нас весьма расстраивает то обстоятельство, что император вынужден подчиняться необходимости носить одну пару шёлковых чулок в течение нескольких дней без перерыва; но всякий раз, когда мы выражаем сожаление по этому поводу, он или смеётся, или отвечает, что теперь ему легко подсчитывать количество дней, когда он носил чулки, по тем следам, которые на них оставляют туфли. Что касается других предметов туалета, то он придерживается своей обычной одежды: жилет и бриджи императора — из белого кашемира, а галстук — чёрный. Когда император выходит из дома, то один из членов его свиты, который оказывается в комнате, вручает ему шляпу. Эта шляпа стала отождествляться с его особой. С тех пор как мы появились на острове Святой Елены,
463
несколько императорских шляп были украдены, поскольку все, кого он принимал или кому удаётся оказаться вблизи него, стремятся заполучить какой-нибудь сувенир на память о нём. Как часто нас осаждают даже высокопоставленные особы, прося добыть для них пуговицу с его шинели или любую другую мелочь, принадлежащую ему!
Я почти всегда присутствую при одевании императора; иногда я задерживаюсь, закончив писать под его диктовку, а иногда император выражает желание, чтобы я пришёл побеседовать с ним. Однажды я пристально смотрел на него в тот момент, когда он надевал свою фланелевую жилетку. Видимо, моё лицо выражало нечто особенное, поскольку он добродушным тоном спросил меня: «Итак, что вызвало улыбку его превосходительства? О чём вы думаете в эту минуту?» — «Сир, в брошюре, которую я недавно прочитал, написано, что на ваше тело надевают кольчугу ради безопасности вашей особы. В определённых кругах Парижа циркулировали подобные слухи, и в доказательство этого утверждения ссылались на внезапно появившуюся полноту Вашего Величества, которая, как говорили, была неестественной. Я как раз сейчас думал, что мог бы представить убедительное свидетельство обратного и что по крайней мере на острове Светой Елены меры, обеспечивающие вашу личную безопасность, не принимаются».
«Это одна из тысячи глупостей, которые были напечатаны обо мне, — заявил император. — Но история, о которой вы только что рассказали, тем более нелепа, что все близкие мне люди хорошо знают, насколько я беспечен в отношении собственной безопасности. Привыкнув с восемнадцати лет находиться под градом вражеских пушечных ядер и зная о бесполезности мер предосторожности, я отдался на волю судьбы. Возглавив страну, я мог бы по-прежнему представлять себе, что окружён со всех сторон смертельной опасностью, как на поле сражения; я мог бы рассматривать организованные против меня заговоры как те же пушечные ядра, направленные в мою сторону. Но я следовал однажды выбранному мною пути: я верил в свою счастливую звезду и оставлял полиции все заботы по обеспечению безопасности. Вероятно, я был единственным монархом в Европе, который обходился без телохранителя. Кто угодно мог свободно приблизиться ко мне без помех, минуя военную комендатуру; любой мог пройти мимо часовых у внешних ворот дворца, все имели свободный доступ к любой части моего дворца. Мария Луиза была весьма удивлена тем, что меня так плохо охраняют, и она часто говорила, что её отец окружён штыками. Что касается меня, то в Тюильри я был защищён не лучше, чем здесь: я даже не знаю, где находится моя шпага. Вы её не видите? — спросил он, оглядывая комнату в поисках шпаги. — Разумеется, я подвергался большим
464
опасностям. Против меня было организовано свыше тридцати заговоров, — это доказано документальными свидетельствами. Я не говорю уже о многих других, которые навсегда остались в тени. Некоторые монархи инсценируют заговоры против них самих; что касается меня, то я взял за правило, по мере возможности, тщательно скрывать их от глаз общественности. Для меня наиболее кризисным периодом был интервал времени между битвой при Маренго и попыткой покушения Жоржа, а также делом герцога д’Энгиенского».
Наполеон рассказал, что примерно за неделю до ареста Жоржа ему лично во время парада одним из самых непримиримых заговорщиков была вручена петиция. Другие заговорщики внедрились в крут дворцовых служащих Сен-Клу и Мальмезона; наконец, сам Жорж сумел приблизиться к особе императора до такой степени, что оказался с ним в одной квартире. Кроме везения, император объясняет свою сохранность некоторыми обстоятельствами, которые казались странными и ему самому. По его словам, то, что он жил, не придерживаясь постоянных правил и не следуя утверждённым планам, несомненно способствовало его безопасности. Его чрезмерная занятость служебными делами заставляла его уделять наибольшее внимание дому, и поэтому всё свободное время он почти всегда проводил в личных императорских апартаментах. Он никогда не обедал вне дома, редко посещал театры и появлялся только в тех местах и в то время, где и когда его никто не ожидал.
Император сказал, что в наибольшей опасности он оказывался дважды — в результате заговоров, разработанных в первом случае скульптором Чераки и во втором случае фанатиком в Шенбрунне. Чераки и несколько других отчаянных негодяев составили план убийства Первого консула. Они договорились привести в исполнение свой план в тот момент, когда Первый консул будет покидать ложу в театре. Наполеон, получивший заранее сведения о заговоре, тем не менее отправился в театр и бесстрашно прошёл мимо заговорщиков, которые торопились занять места, намеченные по плану покушения. Незадолго до окончания спектакля их арестовали.
Чераки, рассказал император, ранее обожал Первого консула, но поклялся принести его в жертву, когда решил, что Наполеон оказался тираном. Этот скульптор был осыпан милостями генерала Бонапарта, чей бюст он выполнил в мраморе. Когда он стал участником заговора против своего благодетеля, то всеми возможными способами старался добиться нового сеанса под предлогом необходимости улучшить бюст. В то время, к счастью, консул не имел ни минуты свободного времени и, считая, что финансовые затруднения скульптора являются истинной причиной его настойчивой просьбы о сеансе, выслал ему шесть тысяч франков. Как он ошибался! Действительным
465
мотивом просьбы Чераки было его намерение нанести Наполеону удар кинжалом во время сеанса.
Заговор был раскрыт строевым капитаном, который сам входил в число сообщников Чераки. «Вот, — заявил Наполеон, — доказательство того, что человеческий разум подвержен странным переменам, и пример того, до чего может довести глупость, граничащая с безумием! Этот офицер с ужасом воспринимал меня как Первого консула, хотя обожал меня как генерала. Он хотел, чтобы я был смещён с моего поста, но он полностью отвергал идею убийства. Он хотел, чтобы меня взяли под стражу, но при этом никоим образом не нанесли мне телесных повреждений. Он предлагал, чтобы меня отправили обратно в армию сражаться с врагом ради славы Франции. Это предложение вызвало смех у остальных заговорщиков; когда же он увидел, что они раздают участникам заговора кинжалы и готовы пойти гораздо дальше его намерений, то пришёл ко мне и раскрыл весь заговор».
Когда мы обсуждали заговор Чераки, один из участников беседы вспомнил случай, свидетелем которого он был в театре Фейдо. Тогда это происшествие привело часть зрителей в состояние настоящего шока. Император вошёл в ложу императрицы Жозефины и едва успел занять своё место, как некий молодой человек торопливо вскочил на скамью под императорской ложей и приложил руку к груди Наполеона. Зрители, сидевшие на противоположной стороне зала, увидев это, пришли в ужас. К счастью, молодой человек всего лишь хотел вручить императору петицию. Император взял её и, сохраняя полнейшее хладнокровие, прочитал.
Император рассказал, что «фанатик Шенбрунна» был сыном протестантского священника в Эрфурте. Этот человек задумал план убийства Наполеона, когда тот будет принимать парад. Сын священника дважды или трижды проходил сквозь строй часовых неподалёку от императора, но его препровождали обратно. Когда же он в очередной раз прошёл мимо часовых, то генерал Рапп, пытаясь оттолкнуть его рукой назад, почувствовал какой-то твёрдый предмет у него под плащом. Оказалось, что это заострённый нож длиной в полметра, тщательно отточенный с обеих сторон. «При виде ножа я содрогнулся, — признался император. — Он был завёрнут в лист газеты».
Наполеон приказал привести убийцу в его личные апартаменты. Он вызвал врача Корвисара и попросил его проверять пульс преступника в то время, пока сам будет разговаривать с последним. Убийца стоял неподвижно, признался в своём намерении совершить преступление и часто вставлял в речь цитаты из Библии. «Что вы собирались здесь сделать?» — спросил император. «Убить вас». — «Что же такое я сделал, чем я так обидел вас? Кто уполномочил вас
466
стать моим судьёй?» — «Я хотел положить конец войне». — «А почему вы для этой цели не выбрали императора Франца?» — «Его? — удивился убийца. — И для чего? Он всего лишь ничтожество. И потом, если его убить, то его место займёт другой. Но если бы умерли вы, то Франция немедленно покинула бы Германию».
Все попытки императора разубедить упрямца были безуспешными. «Вы раскаиваетесь?» — спросил он. — «Нет». — «Попытаетесь ли вы вновь совершить задуманное преступление?» — «Да». — «А что, если я прощу вас?» В этот момент, сказал император, природа на мгновение взяла своё; выражение лица и голос сына священника
резко изменились. «Даже если вы сделаете это, — заявил он, — то Бог не простит меня». Но он тут же возобновил свои угрозы. Его поместили в одиночную камеру и сутки продержали без пищи. Врач обследовал его ещё раз. Он был вновь допрошен, но всё было бесполезно: он остался самим собой, или, строго говоря, тем же жестоким и тупым человеком. В конце концов преступник не миновал своей участи.
Меры, которые можно было принять после сражения при Ватерлоо
3 апреля 1816 года
Утром император занимался диктовкой в тенистой части сада. День был восхитительно ясный и безоблачный. Затем он стал читать о походе Александра Македонского в работе Роллена «История», разложив перед собой несколько географических карт. Император выразил недовольство, что в изложении отсутствует понимание предмета исследования и не виден соответствующий план. Он заявил, что изложение не даёт чёткого представления о грандиозных замыслах Александра Македонского. Император выразил пожелание лично заняться описанием похода Александра.
Примерно в пять часов дня я направился к нему в сад, где он гулял в сопровождении всех членов свиты. Как только он увидел меня, то сказал: «Подходите, мы должны знать вашу точку зрения по вопросу, который обсуждаем в течение последнего часа. Как вы считаете, когда я вернулся после сражения при Ватерлоо, мог ли я распустить Законодательный корпус и спасти Францию без этого органа государственной власти?» — «Нет, — ответил я, — он бы добровольно не согласился на то, чтобы его распустили. Вы бы признали необходимым в этом случае применить силу, что вызвало бы протесты и рассматривалось бы как скандальный поступок. Недовольство, вызванное в Законодательном корпусе этим поступком, распространилось бы по всей стране. Тем временем войска противника вступили бы в страну, и Ваше Величество должны были бы уступить, оказавшись под градом обвинений со стороны всей Европы, всех иностранцев и даже со стороны французов, все осыпали бы вас проклятиями как авантюриста, который всё совершает с помощью насилия. Но при сложившихся обстоятельствах Ваше Величество вышли из конфликта честным и незапятнанным, и память о вас будет вечно храниться в сердцах тех, кто с уважением относится к делу народа. Своей выдержкой вы, Ваше Величество, заслужили мнение о себе как о самой яркой личности в истории, в то время как, поведя себя по-другому, вы могли бы подвергнуться
468
риску осуждения. Это правда, что вы лишились власти, но вы достигли пика славы».
«Ну что же, частично это и моё мнение, — заявил император. — Но, в конце концов, уверен ли я в том, что французский народ оценит меня по достоинству? Не станет ли он обвинять меня в том, что я бросил его? Всё решит история! Вместо того чтобы бояться её решения, я молю о нём! Я часто спрашиваю себя, сделал ли я для французского народа всё то, что он мог ожидать от меня, ибо этот народ сделал для меня очень много. Узнает ли он когда-нибудь о всех страданиях, которые я испытал той ночью накануне принятия окончательного решения?
В ту ночь страданий и колебаний мне предстояло сделать выбор между двумя путями: в соответствии с первым — я должен был попытаться спасти Францию с помощью насилия, в соответствии со вторым — я должен был уступить всеобщему порыву. Решение, которое я принял, было, я думаю, наиболее разумным. Друзья и враги, добро и зло — всё было против меня. Я остался в одиночестве. Я не мог не уступить, и моё решение, раз я его принял, невозможно было отменить. Я не из тех, кто принимает полумеры; и, кроме того, верховную власть нельзя сбросить с плеч как простой плащ. Другой путь требовал применения чрезвычайной жёсткости. Необходимо было бы привлекать к суду крупных преступников и выносить судебные постановления о суровых наказаниях. Пролилась бы кровь, и тогда кто может сказать, где мы должны были бы остановиться! Какие ужасные события могли бы повториться! Следуя этой линии поведения, не утопил бы я память о себе в потоках крови, ведь этими потоками клеветники уже залили меня выше головы? Не подтвердил бы я таким образом то, что они с удовольствием выдумали? Потомки и история стали бы считать меня вторым Нероном или вторым Тиберием. И смог бы я такой ценой спасти Францию? У меня было достаточно сил, чтобы справиться с любыми трудностями! Но можно ли быть уверенным, что я добился бы своего? Не все опасности, угрожавшие нам, пришли извне, — наибольшие из них были результатом наших внутренних разногласий. Разве безумцы не пререкались по поводу оттенков цвета ещё до того, как они договорились о самом цвете? Как можно было убедить их в том, что я не прилагаю усилий ради самого себя, ради моих личных выгод? Как я мог убедить их в своём бескорыстии и доказать им, что все мои усилия направлены на то, чтобы спасти страну? Кому я мог указать на те опасности и беды, от которых я стремился спасти французский народ? Для меня эти опасности и беды были очевидны, но простонародье всегда останется в полном неведении в отношении них, пока не будет раздавлено под их тяжестью.
469
Какой ответ можно было дать тем, кто восклицал: “Посмотрите на этого деспота, на этого тирана! Он опять нарушает клятвы, которые дал только вчера!” И кто знает, не пал бы я от руки француза в разгар этих беспорядков, в запутанных обстоятельствах гражданской войны, пытаясь преодолеть неразрешимые трудности? Тогда в каком виде предстала бы Франция в глазах всего мира при её оценке будущими поколениями? Слава Франции неразрывно связана с моим именем. Я не смог бы совершить так много подвигов ради её чести без помощи нации и вопреки самой нации. Франция была предрасположена к тому, чтобы вознести меня на недосягаемую высоту! Как я говорил раньше, всё решит суд истории!..»
Мы продолжали разговор, и император коснулся плана и подробностей ведения последней военной кампании во Франции, вспоминая с удовольствием её славное начало и с сожалением — ужасную катастрофу, которой был отмечен её конец.
«Всё же, — продолжал он, — я бы ни в коем случае не считал сложившееся положение дел отчаянным, получи я ожидавшуюся мною помощь. Все наши ресурсы оставались в распоряжении палат. Я поспешил убедить их в этом, но они немедленно выступили против меня под тем предлогом, что я прибыл к ним, чтобы их распустить. Какая глупость! С этой минуты всё было потеряно*.
Возможно, было бы несправедливо, — добавил император, — обвинять большинство членов палат, но такова природа всех многолюдных организаций, что они должны погибнуть в случае раскола в их рядах. Подобно армиям, они должны иметь лидеров. Командующие
* Время всё расставляет по местам: стали известны некоторые причины одной из наших великих катастроф. Я узнал подробности событий от человека, принимавшего в них непосредственное участие.
Получив сведения о том, что Наполеон прибыл в Елисейский дворец после битвы при Ватерлоо, Фуше ринулся к разочарованным и полным подозрения членам Палаты с возгласом: «К оружию! Он вернулся, доведённый до отчаяния, и намерен распустить палаты и установить диктатуру в стране. Мы не можем терпеть восстановления тирании». Затем Фуше поспешил к лучшим друзьям Наполеона. «Известно ли вам, — заявил он, — какое сильнейшее волнение поднялось против Наполеона среди некоторых депутатов? Мы можем спасти Наполеона только тем, что смело выступим против них, продемонстрировав всю нашу мощь и пригрозив, что палаты будут распущены».
Друзья Наполеона, легко одураченные и находившиеся под впечатлением внезапною кризиса, слепо поверили Фуше, который, в свою очередь, вернулся к депутатам и заявил им: «Вы же видите, что его лучшие друзья согласны распустить палаты. Опасность уже на пороге, через несколько часов положение уже нельзя будет спасти никакими средствами. Палаты перестанут существовать, и мы будем виновны в том, что упустили единственную возможность противостоять ему». Таким образом, стойкая оппозиция палат, вынужденное отречение императора от престола и падение великой империи были вызваны мелкой интригой и сплетнями в светской гостиной. Ах, Фуше! Как хорошо император знал тебя, когда говорил, что твоя мерзкая нога готова влезть в любую туфлю!
470
армиями назначаются, но в конституционных органах и организациях люди с выдающимися способностями и гении выдвигаются из их среды и становятся лидерами. Этого нам недоставало, и, несмотря на хорошее настроение, которое могло воодушевить большинство депутатов, все в один миг оказались охвачены общим смятением. Предательство и коррупция стояли у порога Законодательного корпуса, в то время как неспособность к работе, беспорядок и порочность преобладали в душах его членов. Поэтому Франция стала добычей иностранцев.
Какое-то время я думал организовать сопротивление. Я был готов объявить себя главой движения сопротивления и постоянно пребывать в стенах дворца Тюильри вместе с моими министрами и государственными советниками. Я думал о том, чтобы объединить вокруг себя шесть тысяч гвардейцев, находившихся в Париже, усилив их довольно значительной частью национальной гвардии, благожелательно относившейся ко мне, и федеральными войсками, дислоцированными в предместьях Парижа. Я думал перевести Законодательный корпус в Тур или в Блуа, восстановить боевой порядок среди остатков армии у стен Парижа и, таким образом, стать диктатором ради благополучия страны. Но подчинится ли мне Законодательный корпус? Да, я мог силой добиться, чтобы он подчинился мне, но это стало бы причиной нового скандала и источником новых трудностей. Разделил бы народ со мной судьбу? И осталась бы армия мне верной? Не могло ли получиться так, что по мере развития событий и народ, и армия покинули бы меня? Не могло ли так случиться, что были бы приняты меры для разработки плана в ущерб моим интересам?
Да, — продолжал император, — я долго колебался. Я взвешивал каждый аргумент за и против. И, в конце концов, я пришёл к выводу, что не смогу успешно действовать против коалиции вне страны и против роялистов внутри страны; не смогу противодействовать многочисленным группировкам, которые возникнут в результате сильнейшего волнения в Законодательном корпусе, контролировать большую часть этого корпуса, и противостоять обвинению в том, что я источник всех бед, постигших страну. Поэтому отречение от престола было абсолютно верным и единственным решением. Всё было потеряно, несмотря на все мои усилия. Я предвидел и предсказал это, и у меня не было иного выбора.
Союзники всегда придерживались одной и той же системы против меня. Они начали применять её в Праге, продолжили во Франкфурте, Шатильоне, Париже и Фонтенбло. Их поведение в значительной степени отличалось здравым смыслом. Французов можно было одурачить в 1814 году, но трудно понять, как их удалось обмануть в 1815-м.
471
История навсегда предаст позору тех, кто позволил обмануть себя. Я предсказал их судьбу, когда покидал Париж, чтобы вернуться к армии. “Давайте не будем походить, — сказал я, — на греков Восточной Римской империи, которые занимались спорами, в то время как стенобитные орудия крушили стены их города”. И, когда меня вынудили отречься от престола, я заявил: “Наши враги хотят разлучить меня с армией, когда им удастся сделать это, они разлучат армию с вами. Тогда вы станете всего лишь жалкой толпой, добычей диких зверей”».
Мы спросили императора, считает ли он, что, действуя сообща с Законодательным корпусом, он мог спасти Францию? Император решительно ответил, что он, несомненно, в этом случае был готов спасти страну и взять на себя ответственность за успешное решение этой задачи.
«Менее чем за две недели, — продолжал он, — то есть до того как основная масса вражеских войск подошла к Парижу, я бы закончил строительство фортификационных сооружений и собрал из остатков армии у стен столицы и вне её боеспособное войско до восьмидесяти тысяч человек и до трёхсот пушек конной артиллерии. После нескольких дней сражения, когда для защиты фортификационных сооружений вокруг Парижа было бы достаточно объединённых сил национальной гвардии, федерального войска и жителей Парижа, я бы ещё имел под своим командованием боеспособную армию численностью до восьмидесяти тысяч человек. Хорошо известно, с какой выгодой я был способен использовать такое войско... Мои военные достижения 1814 года были ещё свежи в памяти. Шампобер, Монмираль, Краон, Монтеро по-прежнему стояли перед глазами наших врагов; аналогичные победы напомнили бы о чудесах предшествовавшего года. Мне тогда дали прозвище Стотысячный.
Быстрота и убедительность наших успехов были причинами того, что мне дали такое прозвище. Не было слов, чтобы выразить восхищение активными действиями французских войск. Никогда ещё горстка храбрых солдат не совершала столько чудес. Если их огромные достижения не стали достоянием гласности ввиду обстоятельств, сопутствовавших нашим бедствиям, то они, по крайней мере, были должным образом оценены нашими врагами: мы атаковали и неизменно побеждали. Мы действительно были сказочными героями!
Париж, — заявил император, — через несколько дней стал бы неприступным. Обращение к нации, опасность, нависшая над страной, возбуждение общественного сознания, грандиозность данного исторического события — всё это привлекло бы множество людей в столицу. Несомненно, я мог бы собрать под французские знамёна
472
более четырёхсот тысяч солдат, и я полагаю, что численность войск союзников не превышала пятисот тысяч солдат. Таким образом, наше противостояние с врагом ограничилось бы только одним сражением, которого противник стал бы опасаться в такой же степени, как и мы. Он бы заколебался, и я, таким образом, обрёл бы доверие большинства народа.
Тем временем я бы окружил себя членами национального сената или совещательного собрания, выбранными из числа членов Законодательного корпуса, — людьми, хорошо известными в стране и достойными всеобщего доверия. Я бы укрепил военную диктатуру всей силой общественного мнения. Я бы имел трибуну, с которой провозглашал бы мои принципы для всей Европы. Монархи затряслись бы от страха, видя, как мои идеи распространяются среди их подданных. Они были бы вынуждены вступить со мной в деловые отношения или, в противном случае, сдаться на милость победителя».
«Но, сир, — воскликнули мы, — почему же вы не сделали попытку, которая безусловно привела бы к успеху? Почему мы тогда находимся здесь?»
«Ну вот, — отвечал император, — теперь вы обвиняете и порицаете меня! Но если бы вы рассмотрели возможность противоположного развития событий, то вы бы изменили свой тон. Кроме того, мы строили нашу гипотезу на основании того, что Законодательный корпус переходит на мою сторону; но вы же знаете, какой линии поведения он придерживался. Конечно, я мог распустить его. Франция и Европа, возможно, осуждают меня, и грядущие поколения, несомненно, будут порицать мою слабость, обвиняя меня в том, что я не разогнал Законодательный корпус, вставший в оппозицию. Будет сказано, что мне не следовало отделять свою судьбу от судьбы народа, который так много сделал для меня. Но, разогнав Законодательный корпус, я мог добиться, самое большее, капитуляции врага. В этом случае, я повторяю вновь, кровь полилась бы рекой, и я должен был бы стать тираном. В ночь с 20-го на 21-е я подготовил план, предусматривавший самые жестокие меры; но перед рассветом гуманизм и благоразумие взяли верх в моём сознании, я понял, что о подобном шаге не следует и думать, что, принимая подобные меры, я ничего не добьюсь, что все слепо стремятся только приспособиться к обстоятельствам. Но я не буду повторять всё заново. Я уже и так сказал слишком много о событиях, которые неизменно пробуждают болезненные воспоминания. Ещё раз скажу: всё рассудит история».
Император отправился в свою комнату, пожелав, чтобы я последовал за ним.
473
4 апреля 1816 года
В пять часов дня я пошёл в сад, чтобы встретить там императора. Он принял слишком горячую ванну и в результате почувствовал себя больным. Мы совершили поездку в карете; погода была прекрасная: в течение нескольких дней было тепло и сухо. Перед обедом император диктовал гофмаршалу. Госпожу Бертран пригласили на обед адмирал и его супруга. После обеда император немедленно удалился в свою комнату.
Особенности характера императора
5—8 апреля 1816 года
В течение этих четырёх дней император неизменно выезжал на верховую прогулку в шесть или в семь часов вечера. Его сопровождали только я и мой сын.
Я никогда не видел, чтобы Наполеон подпадал под влияние предвзятых мнений. Другими словами, я никогда не слышал, чтобы он высказывал суждение о людях и вещах, которое не было вызвано той или иной конкретной причиной. Даже когда он проявляет то, что, вероятно, можно назвать гневом, подобное его состояние является лишь результатом преходящего чувства, и оно никогда не влияет на его поступки. Но я могу искренне сказать, что, имея возможность изучать его характер в течение восемнадцати лет, я не знаю ни одного случая, чтобы он совершил поступок, который бы вступил в противоречие со здравым смыслом.
Очевидно и то, что император почти всегда подавляет и скрывает и мучения, которые испытывает, и — что гораздо удивительнее — добрые побуждения своего сердца. Я часто наблюдал, как он подавлял в себе проявления чувствительности, словно считал, что они его компрометируют; ниже я приведу этому доказательства.
Следующая особенность характера императора идеально отвечает цели этого дневника — показать человека таким, каков он есть на самом деле, — и раскрывает сущность его личности. Я не могу удержаться, чтобы не упомянуть её.
В течение нескольких последних дней стало видно, что Наполеоном овладели серьёзные душевные переживания. Неприятности, возникшие в эти дни во взаимоотношениях между обитателями Лонгвуда, чрезмерно огорчали и раздражали его. Последние три дня, во время наших верховых прогулок, он несколько раз с повышенной горячностью говорил об этих неприятностях. При этом он просил меня, чтобы мой сын ехал впереди нас, а я оставался рядом
474
с ним. Как-то во время разговора на эту тему из его уст вырвалось следующее признание: «Я знаю, что со мной всё кончено. Но чувствовать это, находясь среди вас!» Эти слова и голос, которым они были произнесены, жесты, сопровождавшие их, глубоко проникли в моё сердце. Я готов был спрыгнуть с лошади, чтобы броситься к его ногам и обнять их. «Я знаю, — продолжал он, — что человек часто бывает безрассудным и чрезмерно восприимчивым. Поэтому, когда меня одолевают сомнения, я спрашиваю себя: должен ли я был подвергаться такому же обращению в Тюильри? Несомненно, это испытание для меня».
Затем он стал говорить о самом себе, о нас, членах его свиты, о наших взаимоотношениях, о нашем положении на острове и о влиянии, которое наши личные обстоятельства могут оказывать на наше существование. Его размышления обо всём этом были продолжительными, убедительными и справедливыми. В порыве чувства, вызванном этим разговором, я воскликнул: «Сир, разрешите мне самому разобраться с неприятностями, которые случились. Их, конечно, не следует рассматривать под этим углом зрения. Если они получат должное объяснение, то я уверен, что они вызовут только глубокое сожаление и искреннее раскаяние! Я всего лишь прошу сказать одно-единственное слово». Император с достоинством ответил: «Нет, сударь, я запрещаю это. Я открыл вам моё сердце. Всё должно решиться естественным путём. Я забуду об этих неприятностях, а вы должны вести себя так, словно ничего не знаете о них».
Вернувшись с верховой прогулки, мы вместе с остальными членами свиты завтракали в саду. Казалось, что император был более оживлённым, чем обычно. Вечером он обедал в своих апартаментах.
Политические события — Положение дел в Европе — Непреодолимое господство либеральных идей
9—10 апреля 1816 года
Девятого апреля из Англии прибыл корабль, доставивший газеты, последние из которых датированы 21-м января. Император продолжает свои утренние верховые прогулки. Остальное время он читает газеты у себя в комнате. Новости, содержащиеся в этих последних газетах, не менее интересные, чем те, о которых мы прочитали ранее. Во Франции усиливаются волнения, король Пруссии обнародовал воззвания относительно секретных обществ, между Австрией и Баварией возникла конфликтная ситуация, в Англии гонения на французских протестантов и жестокость правящей политической
475
партии возбудили общественное сознание и вооружили оппозицию. Европа никогда ранее не пребывала в более бурном состоянии.
Прочитав сообщения о потоке бедствий и кровавых событий, хлынувшем на все департаменты Франции, император поднялся с канапе и, в сердцах топнув ногой, гневно воскликнул: «Как же мне не повезло, что я не проследовал в Америку! Находясь в другом полушарии, я смог бы защитить Францию от реакции! Постоянный страх моего возвращения в страну стал бы препятствием для их жестокости и безрассудства. Моего имени было бы достаточно, чтобы обуздать их эксцессы и заставить их дрожать в ужасе».
Продолжая развивать эту тему, он заговорил горячо и вдохновенно:
«Контрреволюция должна неизбежно проиграть великой революции. Старые феодалы задохнутся в атмосфере современных идей, ибо впредь ничто не сможет уничтожить или отменить величественные принципы нашей революции. Эти великие и замечательные истины будут жить вечно, настолько они слились с нашей славой, нашими памятниками и нашими чудесными достижениями. Их первые позорные пятна мы смыли потоком славы, отныне они бессмертны!
Провозглашённые с французской трибуны, сцементированные кровью сражений, украшенные лаврами победы, шумно одобряемые и приветствуемые народом, санкционированные договорами и союзническими обязательствами монархов и ставшие привычными для ушей и уст королей, эти принципы никогда не исчезнут!
Либеральные идеи, рождённые во Франции, процветают в Великобритании и просвещают Америку. Либеральные идеи будут править миром. Они станут верой, религией, основой морали всех наций; и, несмотря на противодействия, эта памятная эра будет неразрывно связана с моим именем, ибо, в конце концов, нельзя отрицать, что я зажёг факел и освятил эти принципы, и теперь гонения делают меня почти мессией этих принципов. Друзья и враги, все должны признать меня своим первым солдатом, своим великим представителем. Таким образом, даже тогда, когда меня больше не будет, я останусь путеводной звездой народов».
Мнение императора о некоторых знаменитых личностях
11 — 12 апреля 1816 года
Каждое погожее утро император совершает верховые прогулки. Он завтракает в саду; после завтрака мы ведём оживлённый разговор о событиях его личной жизни, о государственных делах, о личностях, которые окружали его, и о тех людях, которые играли заметную роль в других монарших дворах Европы.
476
Нет больше систематических уроков английского языка; уроки продолжаются лишь во время верховой езды или дневных пеших прогулок. Получается, что император теряет в одном месте, не изучая грамматику, но приобретает в другом месте, уделяя внимание устной речи.
Около пяти часов дня 11 апреля мы отправились в обычную поездку в карете, а вечером возобновили разговор о служебных делах и о знаменитых личностях. Наполеон рассказал нам о Поццо ди Борго, своём земляке, который был членом Законодательного корпуса. Говорят, что именно он посоветовал императору Александру совершить марш на Париж, несмотря на то, что Наполеон мог атаковать его с тыла. «Таким образом, — заявил император, — именно он решил судьбу Франции, европейской цивилизации и всего мира. Он имел большое влияние на членов русского кабинета министров».
Затем император рассказал нам о деятельности Каподистрии, русского посланника в Швейцарии, ставшего впоследствии президентом возродившейся Греции. Император говорил также о Мет- тернихе и о своих министрах, о Бассано, министре иностранных дел Франции, которого он считал своим другом, искренне преданным ему; о маршале Кларке, военном министре, личности которого, как сказал Наполеон, «время сторицею воздаст должное»; о Коленкуре, недостаточно активном во время последних событий. Император последовательно назначал его послом в Вене, министром внутренних дел и министром иностранных дел. Император вспомнил умную и злую характеристику личности Коленкура, данную Талейраном. Тот сказал, в своей обычной манере, что Коленкур — это человек, который может показать себя подходящим для занятия любой должности за день до своего назначения на эту должность.
Затем разговор коснулся Камбасереса, которого Наполеон считал человеком, склонным к злоупотреблениям. Камбасерес, заметил Наполеон, был явно неравнодушен к старому режиму. Лебрен, напротив, по своим пристрастиям резко отличался от Камбасереса. Он, как сказал император, был человеком, склонным к идеализму. Эти два человека, продолжал император, уравновешивали друг друга, а между ними находился Первый консул. Наполеон с юмором называл себя консолидирующим третьим.
Темой следующего обсуждения стали Талейран и Фуше. Дав подробные характеристики и того и другого, император далее высказал рад существенных замечаний о моральном облике личностей, связанных с деятельностью кабинета министров Франции, и вообще всех функционеров и лиц, находившихся на государственной службе, об их недостаточной политической честности и об отсутствии у них национального чувства, что в совокупности позволяло им равнодушно
477
служить сначала одной особе, а на следующий день новому хозяину. «Эго наше непостоянство, эта непоследовательность, — заявил император, — имеют древние корни. Мы по-прежнему остаёмся галлами, и наш характер никогда не будет полноценным, пока мы не научимся заменять изменчивость — принципиальностью, тщеславие — гордостью и, особенно, любовь к насиженному месту и к должности — любовью к учреждениям и к обществу».
Император закончил это высказывание мыслью о том, что после наших последних событий монархи Европы должны были бы непременно сохранить чувство пренебрежения и презрения к великому народу, который высмеивал верховную власть. «Но, — заявил он, — оправдание этому можно найти в самой природе вещей и в силе обстоятельств. Демократия создаёт верховную власть, аристократия сохраняет её. Моя верховная власть не пустила достаточно глубоких корней и не приобрела моральной силы. В момент кризиса она всё ещё была связана с демократией; и она смешалась с массой, вместо того чтобы стать якорем спасения для народа, обезопасив его от яростной бури, и быть ему проводником в том состоянии слепоты, в котором он пребывал».
Ниже следуют некоторые новые подробности данных императором характеристик Талейрана и Фуше, имена которых часто упоминаются в этом дневнике. Я постараюсь избегать повторений, насколько это возможно.
«Талейран, — сказал император, — в течение двух дней и двух ночей ждал в Вене полномочий на ведение переговоров от моего имени, но мне было стыдно таким образом торговать своим именем и своей политикой; и всё же, возможно, моё поведение в данном случае стоило мне ссылки на остров Святой Елены, ибо я не могу не признать, что Талейран обладает исключительными способностями и в любое время может повлиять на решение вопроса в нужном направлении.
Талейран, — продолжал император, — был готов в любую минуту совершить измену, но такую, которая бы принесла ему материальную выгоду. Его осторожность была чрезвычайной; он относился к своим друзьям так, словно они могли в будущем стать его врагами, и он вёл себя по отношению к своим врагам так, будто они могут стать его друзьями. С моей точки зрения, Талейран всегда относился враждебно к Сен-Жерменскому предместью. Во время моего развода с императрицей Жозефиной он принял её сторону. Именно он настаивал на войне с Испанией, хотя на публике со свойственным ему искусством делал вид, что резко настроен против этой войны. Именно поэтому я в отместку ему выбрал его замок Валансэ в качестве резиденции испанского короля Фердинанда.
478
Именно Талейран был главным действующим лицом в деле, связанном с гибелью герцога Энгиенского, и основной причиной тех событий».
Наполеон рассказал, что знаменитая актриса (мадемуазель Ро- кур) дала очень точную и достоверную характеристику личности Талейрана. «Если вы задаёте ему вопрос, — сказала она, — то он превращается в сейф, из которого нельзя ничего вытянуть; но если вы ни о чём его не спрашиваете, то вскоре будете не в состоянии заткнуть ему рот, — он становится обычным сплетником».
Это был тот самый недостаток Талейрана, из-за которого император потерял к нему доверие и изменил к худшему мнение о нём. «Я доверил ему, — рассказывал Наполеон, — очень важное дело, и уже через несколько часов Жозефина пересказала мне слово в слово всё, чем я поделился с ним. Я немедленно послал за Талейраном, чтобы сказать ему, что я только что услышал от императрицы о том деле, о котором я конфиденциально сообщил ему одному, однако к тому времени сведения об этом деле уже прошли через четыре или пять промежуточных каналов.
Выражение лица Талейрана, — добавил император, — всегда неизменно, и невозможно что-либо и когда-либо прочитать на этом лице. Ланн и Мюрат, бывало, в шутку говорили о Талейране, что если ты разговариваешь с ним и в это время кто-то сзади даст ему пинка, то по выражению его лица никогда не догадаешься, что его только что оскорбили».
Талейран мягок и даже привлекателен, когда дело касается его Домашних привычек. Его слуги и хозяйственный персонал его дома преданы ему. В кругу близких друзей он охотно и с юмором говорит
479
о своей духовной профессии. Однажды он выразил неудовольствие, когда услышал, что кто-то напевает одну мелодию. Он заявил, что приходит в ужас от этой мелодии: она напоминает ему о том времени, когда он был вынужден заниматься церковной музыкой и петь под неё, стоя за аналоем. В другой раз один из его близких друзей за ужином рассказывал какую-то историю, а в это время господин Талейран погрузился в раздумья и, видимо, не прислушивался к рассказу. По ходу повествования рассказчик случайно упомянул одного человека, которого он назвал по имени, и добавил, что это — явный плут, женатый священник. Талейран, которого эти слова
пробудили от дум, схватил ложку, резко погрузил её в стоявшее рядом с ним блюдо и с угрожающим видом обратился к рассказчику: «Господин Такой-то, не желаете ли вы ещё порцию этого шпината?» Рассказчик был явно смущён, а все гости разразились приступом хохота. Талейран присоединился к ним.
Во времена Конкордата император хотел сделать Талейрана кардиналом и поставить его во главе церковных дел. Наполеон заявил Талейрану, что его истинная судьба заключается в том, чтобы вернуться в лоно церкви, освежить в памяти знание культа и закрыть рот болтунам. Однако Талейран категорически отказался от предложения Наполеона: его отвращение к церковной профессии было непреодолимым.
Наполеон был очень близок к тому, чтобы назначить Талейрана послом в Варшаве (этот высокий пост император впоследствии пожаловал аббату де Прадту), но грязные мошеннические биржевые сделки Талейрана, как называл император его биржевую игру, вынудили его отказаться от этого намерения. По этим же причинам
и по просьбе нескольких германских монархов император был вынужден лишить Талейрана портфеля министра иностранных дел.
Император высказал мнение, что Футе был Талейраном общественных клубов, а Талейран был Фуше светских гостиных. «Для Футе, — сказал он, — интрига была жизненной необходимостью. Он интриговал всё время, повсюду, всеми возможными способами и со всеми. Что бы ни появлялось на свет Божий, во всём чувствовалась его рука. Всю свою жизнь он посвятил единственному занятию — находить новые объекты для своих интриг. Желание иметь отношение буквально ко всему на свете стало его манией, он всегда готов был сунуть нос в чужие дела». Последнюю фразу император повторяет довольно часто.
Когда во время заговора Жоржа был арестован Моро, Фуше более не являлся главой полиции, но старался дать понять, что в нём очень нуждаются. «Какая глупость! — восклицал он. — Они арестовали Моро, когда он возвращался в Париж из своего загородного поместья. Это обстоятельство является доказательством того, что Моро был уверен в своей невиновности. Наоборот, его должны были схватить, когда он отправлялся в Гробуа, ибо тогда было бы очевидно, что он хочет сбежать».
Хорошо известно замечание, которое он высказал (хотя, возможно, ему это приписали) по поводу дела герцога Энгиенского: «Это больше чем преступление, это — ошибка». Подобные высказывания отражают характер человека лучше, чем целые книжные тома.
Император прекрасно знал Фуше и никогда не поддавался на его обман. Императора сильно порицали за то, что он взял Фуше на службу в 1815 году, когда, действительно, Фуше подло предал его. Наполеону был известен характер Фуше, но он знал и то, что опасность больше зависит от обстоятельств, чем от отдельной личности. «Одержи я победу, — сказал он, — и Фуше был бы мне верен. Это правда, что он принял немалые меры предосторожности, чтобы быть готовым ко всему, что могло произойти. Мне следовало одержать победу».
Однако императору были известны тайные происки Фуше, и он не щадил его. После возвращения Наполеона в Париж с острова Эльба в 1815 году один из ведущих банкиров столицы явился в Елисейский дворец, чтобы сообщить императору, что несколько дней назад некий человек, только что приехавший из Вены, пришёл к нему с аккредитивами и стал расспрашивать о возможностях встретиться с Фуше. То ли интуитивно, то ли в силу какого-то предчувствия, но у банкира возникли сомнения в отношении визитёра и его миссии, и, соответственно, он пришёл к императору, чтобы лично доложить ему об этом деле. Император был удивлён, что Фуше скрыл
от него свои контакты с Веной. Через несколько часов Реаль разыскал венского визитёра и немедленно доставил его в Елисейский дворец, где его заперли в маленькой комнате. Император приказал привести его в сад. «Вы знаете меня?» — спросил он этого человека. Подобное начало разговора и чувство, вызванное внезапным появлением императора, сильно напугали незнакомца. «Мне известны все ваши действия в Париже, — продолжал суровым тоном Наполеон. — Если вы сейчас признаетесь во всём, что знаете, то я могу помиловать вас; если нет, то вас выведут из этого сада и расстреляют». — «Я всё расскажу, — поспешил ответить незнакомец. — Я послан господином де Метгернихом к герцогу Отрантскому, чтобы предложить ему направить своего гонца в Базель для встречи с нарочным, посланным Метгернихом из Вены. Вот документы для опознания, которые гонцы должны иметь при себе, встретившись в Базеле». — «Вы выполнили своё задание, встретившись с Фуше?» спросил император. — «Да». — «Он направил своего гонца?» — «Я не знаю». Незнакомец был помещён в тюрьму, а через час доверенный человек императора (господин Ф.) находился на пути в Базель. Он представился австрийскому гонцу и даже провёл с ним четыре встречи.
Тем временем Фуше, обеспокоенный тем, что никак не появляется посланный к нему гонец из Вены, нанёс визит императору, пытаясь в разговоре с ним скрыть своё нервозное состояние за наигранной весёлостью.
482
«В комнате висело несколько больших зеркал, — рассказывал император, вспоминая этот разговор с Фуше, — и меня немало позабавил его вид, когда я украдкой наблюдал за ним; выражение его лица было ужасным: он не знал, как начать разговор на столь интересовавшую его тему».
«Сир, — наконец обратился Фуше к императору с виноватым видом, — пять дней назад со мной произошёл один случай, о котором, — боюсь, что я был не прав, — я своевременно не сообщил Вашему Величеству. Но у меня накопилось столько дел... Я весь завален донесениями, мне приходится распутывать такую массу интриг... Ко мне из Вены явился некий человек с самыми смехотворными предложениями, а теперь он куда-то пропал, и его нигде нельзя найти!»
«Господин Фуше, — сказал ему император, — вы можете сильно навредить себе, если будете принимать меня за дурака. Я надёжно охраняю человека, о котором вы говорите, и мне уже несколько дней известна вся эта интрига. Вы послали своего гонца в Базель?» — «Нет, сир». — «Вам повезло. Если же это не так, то я получу доказательства этого, и тогда они будут стоить вам жизни».
Последовавшие события подтвердили, что такое решение императора было бы справедливым. Однако, как выяснилось, Фуше действительно не посылал своего гонца в Базель, и это дело было закрыто.
Газеты из Европы — Размышления о политике
13 апреля 1816 года
Император завтракал в саду и распорядился, чтобы мы все пришли к нему. Он возобновил чтение газет, которые просматривал утром, и затем приступил к обсуждению политических вопросов. Ниже я привожу те его высказывания, которые произвели на меня наибольшее впечатление.
«Тринадцатого вандемьера жители Парижа испытывали полнейшее отвращение к правительству, — стал рассказывать император, — но вся армия и подавляющее большинство людей из низших слоёв населения за пределами столицы Франции оставались преданными ему. Таким образом, можно сказать, что революции удалось с триумфом одержать победу над контрреволюцией, хотя прошло только пять лет с тех пор, как по стране стали распространяться новые принципы. Страна стала свидетелем ужасающих и катастрофических событий, но она жила в ожидании счастливого будущего.
483
Однако как всё изменилось потом! Если солдаты в казармах стремятся коротать долгие часы разговорами о сражениях, то они не могут говорить о сражениях при Фонтенуа или при Праге, свидетелями которых они не были. Они должны говорить о победах при Маренго, Аустерлице и Йене, о том человеке, который обеспечил эти победы, то есть обо мне и моей славе, живущей во всех сердцах.
Сложившаяся ситуация не имеет аналогов в истории. С какой стороны ни посмотри, взору предстаёт лишь картина бедствий. Каков будет результат всего этого? Два противостоящих друг другу класса общества, живущих на одной и той же земле, станут смертельными, непримиримыми врагами, будут постоянно враждовать и, возможно, в конечном счёте истребят друг друга.
Это безумие вскоре распространится по всей Европе. Весь континент будет состоять не из наций и территорий, но из двух враждебных партий с их знамёнами и убеждениями, он будет разделён на эти партии. Кто может предвидеть, к чему приведёт этот кризис и как долго продлятся связанные с ним беды и волнения! Однако нынешний просвещённый век не повернёт назад в развитии знания! Каким неудачным было моё падение! Я заставил утихнуть политические ветры и держал их под контролем, но война вновь позволила страстям выплеснуться наружу. Я мог бы и дальше спокойно двигаться по пути всемирного обновления, но теперь оно может происходить только среди бурь! Цель, которую я ставил перед собой, заключалась в объединении. Целью других, вероятно, будет истребление!»
Прибытие губернатора — Император делает прогресс в изучении английского языка — Первый визит губернатора — Письменное заявление, которое потребовали от всех нас
14 — 16 апреля 1816 года
Вернулась дождливая погода, в течение двух дней льёт проливной дождь. В океане видны несколько кораблей, которые только что появились; мы узнали, благодаря сигналам с них, что на одном из кораблей на остров Святой Елены прибыл новый губернатор, сэр Хадсон Лоу.
Во время обеда император хранил молчание и выглядел печальным. Он чувствует себя нездоровым и очень рано удалился в свою комнату.
Примерно в полдень я получил четыре письма из Европы, которые сделали меня счастливым настолько, насколько может быть счастлив человек, находящийся на этом острове.
484
В пять часов вечера я увидел императора в саду. Он вышел на прогулку, воспользовавшись тем, что установилась хорошая погода; до этого весь день лил дождь. Я сообщил ему о содержании полученных мною писем. Все члены нашей группы получили письма из Европы. Они были переданы нам вскрытыми и не содержали никаких новостей, но сами по себе были свидетельствами того, что наши друзья по-прежнему помнят о нас. Уверенность в этом особенно приятна в нашем положении.
Во время обеда император рассказал нам о содержании некоторых французских газет, которые он захватил с собой, — в них приводятся сведения о кораблекрушении мореплавателя Лаперуза, о его различных приключениях, о его смерти и о его дневнике. В своём рассказе император привёл весьма любопытные, поразительные и романтические подробности, которые вызвали у нас повышенный интерес. Император отметил, что у нас чрезвычайно развито любопытство, после чего от души рассмеялся. Весь его рассказ оказался всего лишь фантазией.
Новый губернатор прибыл в Лонгвуд около десяти часов утра, несмотря на то, что продолжал лить дождь. Губернатора сопровождал адмирал, который должен был представить его императору. Несомненно, адмирал подсказал губернатору, что это время наиболее подходящее для визита. Император не принял губернатора: он плохо себя чувствовал, но даже если бы был здоров, то всё равно не стал бы встречаться с ним. Во время этого внезапного визита губернатор пренебрёг обычными правилами хорошего тона. Можно было легко понять, что губернатор действовал по подсказке адмирала. Губернатор, который, возможно, не имел намерения показать себя с неприятной стороны, выглядел весьма смущённым. Мы все смеялись в кулак. Что же касается адмирала, то он явно торжествовал.
Губернатор, который долго пребывал в состоянии нерешительности, в конце концов покинул Лонгвуд в весьма дурном настроении. Мы размышляли о том, не был ли визит спланирован адмиралом с той целью, чтобы с самого начала у нас с губернатором сложились неприязненные отношения. Возможно, сам губернатор был инициатором визита, а если нет, то возникло ли у него подозрение, что визит подстроен адмиралом; это станет ясно лишь со временем.
Около половины шестого вечера император, гулявший в саду, послал за мной. Он был один. Император сказал мне, что возникло обстоятельство, которое касается каждого из нас, но в индивидуальном порядке. Было принято решение потребовать от каждого из нас письменное заявление, в котором следовало сообщить о выборе, сделанном подписавшим заявление, а именно, готов ли он связать свою судьбу с императором или, в противном случае, покинуть остров Святой Елены и тем самым получить свободу.
485
Мы не могли понять мотива этого решения. Было ли оно принято английским кабинетом министров ради того, чтобы привести в порядок официальные документы? Но, когда мы готовились к отплытию из Портсмута, это предварительное условие было полностью согласовано обеими сторонами. Надеялась ли английская сторона подобным образом ещё больше изолировать императора от всего мира? Но разве было у них хотя бы малейшее основание предполагать, что мы бросим императора?
Он спросил меня, каково будет моё решение по этому вопросу. Я ответил, что оно ни на минуту не может вызвать сомнения, что если бы меня когда-либо одолевали мучительные раздумья, то это должно было случиться в момент принятия мною первоначального решения, что с той минуты моя судьба бесповоротно решена. Поначалу я подчинялся только велению славы и чести, но с каждым последующим днём я всё больше оказывался во власти естественных чувств любви. Голос императора заметно смягчился; так он выражал свою благодарность. Я знал его сердце и понимал всю степень его признательности.
Я добавил, что в моём решении нет ничего особенного. Наше положение никак не изменится, и на следующий день после подписания этого заявления мы будем такими же, как и накануне. Наша судьба зависит не от человеческих замыслов, а от хода текущих событий, и неразумно размышлять о том, что находится вне пределов человеческого предвидения, к тому же эти размышления для нас неприятны. Наш долг заключается в том, чтобы смириться с непостижимыми велениями судьбы и в условиях этих беспримерных невзгод утешать себя мыслью о том, что наши души свободны от угрызений совести. Это то высшее утешение, которое не подвластно человеку, его нельзя ослабить или уничтожить.
Поучительная беседа — Официальное знакомство с губернатором — Унижение, испытанное адмиралом — Причины нашего недовольства адмиралом — Описание внешности Хадсона Лоу
17 апреля 1816 года
Император вызвал меня в девять часов утра и прочитал мне статью из газеты «Портсмутский курьер», в которой было пространное и достоверное описание жизни императора в коттедже «Бриары».
Он вновь послал за мной в середине дня, приглашая к разговору. Беседа дала настолько ценный материал для понимания особенностей характера Наполеона, что я не могу не привести её частично.
486
Время от времени в отношениях между членами свиты возникают небольшие размолвки и ссоры, которые досаждают императору и раздражают его. В беседе он коснулся этой темы. Он проанализировал наше положение со свойственной ему логикой. Он размышлял о страданиях и ужасах нашей ссылки и указал лучший способ облегчить их. Он сказал, что нам следует идти на взаимные уступки и игнорировать многие поводы для недовольства, что человек может наслаждаться жизнью только тогда, когда он контролирует характер, данный ему природой, или когда он вырабатывает в себе новые черты характера с помощью воспитания и образования и учится видоизменять его в соответствии с теми препятствиями, с которыми он может столкнуться.
«Вы должны стараться создать здесь одну семью, — заявил он. — Вы последовали за мной для того, чтобы смягчить моё горе. Разве это желание не должно подчинить себе все остальные соображения? Разве оно не достаточно сильно, чтобы благоразумие стало направлять ваши поступки? Вы должны научиться вести подсчёт вашим бедам, вашим жертвам и вашим удовольствиям, чтобы получать искомый результат, — точно так же, как мы складываем и вычитаем во всякого рода расчётах. Все обстоятельства нашей жизни должны подчиняться этому правилу... Мы должны научиться побеждать дурной нрав. Вполне естественно, что между вами возникают мелкие недоразумения, но вы должны объясняться друг с другом, а не поддаваться дурному настроению; первое должно дать положительный результат, последнее только усложнит дело. Благоразумие и логика должны стать нашей постоянной путеводной звездой в этом мире».
Затем он продолжил беседу рассказом о том, как он следовал этим принципам, хотя иногда отходил от них. Он добавил, что мы должны научиться прощать и не подпадать под влияние враждебности и желчности, которые могут быть неприятны соседу и наносят ущерб нашему счастью, что нам следует быть снисходительными к человеческим слабостям и привычкам, а не относиться к ним враждебно.
«Что стало бы со мной, — продолжал он, — если бы я не следовал этим принципам? Часто говорилось, что я был слишком добрым и доверчивым, но для меня было бы намного хуже, если бы мой характер оказался прямой противоположностью этому. Верно и то, что меня дважды предавали; меня могли предать и в третий раз. Но моё знание человеческой природы и дух разумной снисходительности, которому я следовал, помогли мне править Францией; всё это по-прежнему делает меня, возможно, наиболее подходящей кандидатурой для того, чтобы при существующих обстоятельствах править этой страной. Когда я покидал Фонтенбло, разве я не сказал всем тем, кто просил меня указать им линию поведения, которой они
487
должны следовать: “Идите и служите королю”? Я хотел предоставить им возможность воспользоваться законными полномочиями и делать то, что другие совершили бы без колебаний. Я не позволил, чтобы преданность мне некоторых лиц стала причиной их гибели; наконец, и это главное, я не хотел порицать кого-либо по возвращении во Францию».
В этом месте я позволил себе, вопреки моей привычке быть сдержанным во время бесед с императором, довольно эмоционально воскликнуть: «Как, сир?! Покидая Фонтенбло, вы, Ваше Величество, уже вынашивали идею возвращения во Францию?» — «Да, конечно, в силу самых простых соображений. Если Бурбоны, подумал я, намерены приступить к созданию пятой династии, тогда мне нечего делать во Франции, свою роль я сыграл. Но если они упрямо будут пытаться вновь удерживать у власти третью династию, то я вскоре опять появлюсь здесь. Можно было утверждать, что Бурбоны получат в своё распоряжение и мою славу, и мои достижения. В их силах по-прежнему было представить меня в глазах всего человечества этаким выскочкой, тираном, смутьяном и карой Божьей. Сколько же здравого смысла и хладнокровного размышления необходимо для того, чтобы оценить по достоинству мой истинный характер и воздать мне должное! Но люди, которые были в окружении Бурбонов, и ошибочная политическая линия, которой они придерживались, сделали моё присутствие желательным: они восстановили мою популярность и предопределили моё возвращение. В противном случае я бы закончил свои дни на острове Эльба, что было в интересах всех сторон. Я вернулся, чтобы погасить большой долг, а не ради того, чтобы вновь обрести трон. Возможно, мало кто поймёт мотив, которым я руководствовался, но это не имеет значения. Я взвалил на свои плечи тяжёлый груз, но тем самым я возвращал мой долг французскому народу. Я узнал о его недовольстве своей судьбой, и как же я мог не прислушаться к нему?
В целом моё положение на острове Эльба было достаточно завидным и приятным. Я бы вскоре создал для себя некоторое подобие верховной власти. Всё, что было наиболее значительным в Европе, проходило перед моими глазами. Должно быть, я представлял собой уникальное зрелище, неизвестное истории, а именно — зрелище монарха, сошедшего со своего трона и взирающего на цивилизованный мир, толпящийся перед ним.
На это можно возразить, что союзники постарались бы убрать меня с моего острова, и я признаю, что это обстоятельство ускорило моё возвращение во Францию. Но если бы Францией правили с умом, если бы французский народ был всем доволен, то моё влияние прекратилось бы; впредь я бы принадлежал только истории, и кабинет
488
министров Вены не стал бы носиться с идеей о моём изгнании с острова Эльба. Но неспокойная обстановка, сложившаяся во Франции, подтолкнула меня к мысли о том, чтобы покинуть остров».
В этот момент в комнату императора вошёл гофмаршал и объявил о прибытии губернатора в сопровождении всех членов его штаба и адмирала.
После краткого разговора Бертран остался наедине с императором, а я проследовал в приёмную комнату дома; там уже собралась вся императорская свита. Мы старались обменяться друг с другом хотя бы несколькими фразами, но больше наблюдали за развитием дальнейших событий, чем поддерживали разговор.
Примерно через полчаса в гостиную вошёл император. Дежурный камердинер, стоявший у дверей в гостиную, пригласил губернатора войти и представиться императору. Вслед за губернатором в гостиную направился адмирал. Когда последовало приглашение войти
в гостиную, камердинер, который услышал только имя губернатора, внезапно закрыл двери перед адмиралом, который не был допущен в гостиную, несмотря на его протест. Заметно расстроенный, адмирал отошёл от дверей и направился в сторону одного из окон приёмной. Камердинером, ставшим причиной оскорбления, нанесённого адмиралу, оказался Новерраз. Швейцарец по национальности, он был прилежным и верным слугой, о котором император часто говорил, нто весь его разум ограничивается преданностью своему хозяину.
489
Мы были удивлены этим неожиданным происшествием; сначала мы подумали, что Новерраз действовал, подчиняясь желанию императора. Хотя у нас были вполне достаточные причины для недовольства адмиралом, мы, тем не менее, огорчились и делали всё возможное, чтобы как-то облегчить состояние напряжённости, охватившее адмирала, который попал в затруднительное положение. Тем временем в гостиную были вызваны члены губернаторского штаба для представления императору, и дурное настроение адмирала стало ещё хуже. Через пятнадцать минут император попрощался с гостями. Из гостиной вышел губернатор, и адмирал бросился ему навстречу. С некоторой горячностью они обменялись несколькими фразами, а затем попрощались с нами и уехали. Мы присоединились к императору в саду и рассказали ему о состоянии полного замешательства, в котором пребывал адмирал. Император ничего не знал о произошедшем, которое было результатом чистой случайности. Судя по тому, что наш рассказ позабавил императора, он воспринял всё происшествие как удачную шутку. Его охватил приступ смеха. Потирая руки от удовольствия, он радовался как ребёнок, школьник младших классов, которому удалось обвести вокруг пальца учителя.
«Ах, мой добрый Новерраз! — воскликнул он. — Ему удалось хотя бы раз в жизни сделать что-то умное. Он же слышал, как я однажды сказал, что не хочу видеть адмирала никогда, и он подумал, что ему следует захлопнуть двери перед самым его лицом. Но этот честный швейцарец, возможно, в своей шутке зашёл слишком далеко: если я вдруг скажу, что мы должны отделаться от губернатора, то Новерраз, чего доброго, будет готов убить его прямо на моих глазах. В конце концов, — заявил император, вновь принимая более серьёзный тон, — во всём полностью виноват губернатор. Он должен был обратиться ко мне с просьбой принять одновременно с ним и адмирала, тем более, что ранее он информировал меня, что его может представить мне только адмирал. Почему же тогда он не попросил, чтобы адмирал был принят мною, когда он представлял мне членов своего штаба? Он единственный, кто виноват во всём. Но адмирал ничего не потерял из-за этой ошибки. Я бы без колебаний высказал ему всё, что думаю о нём, в присутствии его соотечественников. Я бы сказал ему, что, поскольку мы оба в течение сорока лет носили мундир чести, я обвиняю его в том, что он в глазах всего мира унизил свою страну и своего монарха, не прожив уважения к одному из старейших солдат Европы; это бесцельно и глупо. Я бы упрекнул его в том, что он высадил меня на берег острова Святой Елены, будто преступника на место каторги. Я бы убедил его в том, что человек истинной чести проявил бы ко мне больше уважения здесь, на этой
490
скале, чем если бы я по-прежнему находился на троне в окружении моих армий». Эти слова императора положили конец нашей весёлости и завершили обсуждение этого эпизода.
Поскольку я коснулся проблемы наших отношений с адмиралом, а он теперь собирается покинуть нас, то я решил резюмировать нанесённые нам оскорбления и обиды, которые мы должны поставить ему в упрёк. Сделать это я постараюсь с максимально возможной беспристрастностью, насколько это позволяют наше положение и наши чувства.
Мы не можем извинить показную фамильярность, с которой адмирал обращался с нами, хотя мы не давали повода и никак не поощряли её. Ещё менее мы можем простить его за попытку фамильярно относиться к императору. Мы никогда не сможем забыть тот высокомерный и самодовольный тон, которым он обращался к императору, используя титул генерал. Правда и то, что император обессмертил этот титул, однако в данном случае тон и намерения адмирала были достаточно оскорбительными.
Когда мы прибыли на остров Святой Елены, он разместил императора в маленькой комнате размером всего лишь в несколько квадратных метров и содержал его там в течение двух месяцев, хотя мог предоставить императору другие резиденции. И та резиденция, в которую затем переехал император, была выбрана самим адмиралом. Он косвенно запретил императору совершать верховые прогулки даже по территории, окружавшей «Бриары», и когда члены императорской свиты наносили ежедневные визиты императору в его маленькой клетушке, они подвергались унижению и им чинили всяческие помехи.
Когда мы переехали в Лонгвуд, адмирал поставил часовых под самыми окнами комнаты императора, а затем сослался на несуществующую причину, что имело привкус горчайшей иронии, голословно утверждая, что эта мера принята исключительно для пользы самого генерала и с целью обеспечения его безопасности. Он никому не позволял появляться вблизи нас без специального пропуска, подписанного им, и тем самым поместил нас под строгий арест. Он объявил, что все эти меры приняты единственно для того, чтобы защитить императора от докучливых посетителей, и что он (адмирал) всего лишь выполняет обязанности гофмаршала. Он давал бал и направил письменное приглашение генералу Бонапарту в той же форме, что и всем членам свиты императора. С самыми неподобающими колкостями он ответил на послание гофмаршала Бертрана, который называл Наполеона императором. В своём ответе адмирал заявил, что не знает никакого императора на острове Святой Елены. Адмирал отказался направить письмо императора принцу-регенту,
491
если оно будет запечатано и ему не будет разрешено прочитать его. Он даже подавлял чувство уважения, которое другие лица проявляли по отношению к Наполеону. Нам говорили, что он отдавал под арест лиц, ниже его по званию и положению, только за то, что они в разговоре называли Наполеона императором, хотя это было вполне обычным для офицеров 53-го пехотного полка, которые, как отметил император, испытывали по отношению к нему непреодолимое чувство уважения.
Адмирал по собственной прихоти ограничил протяжённость наших верховых поездок и пеших прогулок. По этому вопросу он даже нарушил своё слово, данное императору. Император отказался от дальнейших встреч с адмиралом. Последний, следует добавить, пренебрегал самыми обычными формами приличия, назначая неудобное время дня для своих посещений Лонгвуда и советуя чужестранцам, которые прибывали на остров, посещать императора в самое неподходящее для него время. Нет никаких сомнений, что всё это делалось с той целью, чтобы помешать людям встречаться с Наполеоном, который постоянно отказывался принимать кого-либо в подобных обстоятельствах. Ранее уже отмечалось, что адмирал действовал таким же образом, когда губернатор впервые посетил Лонгвуд. И то удовлетворение, которое адмирал не мог скрыть, когда губернатор не был принят Наполеоном, слишком явно выдавало его замысел.
Однако если мы хотим высказать беспристрастное мнение об адмирале, учитывая нашу собственную раздражительность и деликатность его служебного положения, то мы должны, не колеблясь, заявить, что наше недовольство им скорее проистекает из практики наших отношений с ним, чем опирается на факты. Мы должны сказать, вместе с императором, который, несмотря ни на что, испытывает явное чувство симпатии к нему, что адмирал Кокберн далеко не злой человек, что он даже восприимчив к благородным и нежным чувствам, но что он в то же время капризен, вспыльчив, тщеславен и склонен к проявлению властных манер; он привык к власти и применяет её без всяких церемоний, зачастую подменяя достоинство силой. Чтобы несколькими словами выразить суть наших отношений с ним, мы должны сказать, что в качестве тюремщика он был мягок, человечен и великодушен и что у нас есть основания быть благодарными ему, но что в качестве хозяина, принимающего гостей, он был невежлив, часто груб и что у нас были причины, в связи с этими чертами его характера, оставаться недовольными им.
Примерно в три часа дня император совершил обычную прогулку на свежем воздухе. Во время этой прогулки в саду и последовавшей затем поездки в карете он много говорил о событиях сегодняшнего утра; разговор об этом возобновился после обеда. Один из
492
нас в шутку заметил, что первые два дня пребывания губернатора на острове были подобны дням сражения, в течение которых мы проявили себя очень стойкими, хотя, естественно, выдержанными и сговорчивыми. Услышав эти слова, император улыбнулся и ущипнул ухо того, кто сделал это замечание.
Затем разговор коснулся личности Хадсона Лоу. Мы определили, что ему примерно сорок пять лет. Он среднего роста, у него стройное телосложение, рыжие волосы, его румяное лицо осыпано веснушками. Он смотрит на собеседника искоса, словно в чём-то
подозревает его, и редко прямо ему в лицо; у него очень густые, резко выделяющиеся на лице брови. «Он отвратителен, — заявил император, — у него просто зверская физиономия. Но не будем спешить с выводами; характер человека может компенсировать то неблагоприятное впечатление, которое производит его лицо; так бывает».
Соглашение монархов союзных держав в отношении Наполеона — Впечатляющие соображения императора
18 апреля 1816 года
В последние дни стоит ужасная погода, но сегодня небо немного прояснилось. Рано утром император выходил на прогулку в сад; °коло четырёх часов дня он сел в карету и наслаждался свежим воздухом немного дольше, чем обычно. Перед обедом император
493
пожелал, чтобы я перевёл ему «Соглашение монархов союзных держав», касавшееся его плена. Ниже следует его текст.
«В связи с тем, что Наполеон Бонапарт находится во власти союзнических монархов, Их Величества король Объединённого королевства Великобритании и Ирландии, император Австрии, император России и король Пруссии решили в соответствии с условиями договора от 25 марта 1815 года принять необходимые меры для того, чтобы сделать для него невозможным осуществление любой попытки выступления против мира в Европе.
Статья 1. Наполеон Бонапарт рассматривается державами, подписавшими договор от 25 марта 1815 года, в качестве их пленника.
Статья 2. Его охрана специально поручается британскому правительству. Выбор места и мер, которые лучше всего могут обеспечить достижение целей настоящего соглашения, предоставляется Его Величеству королю Великобритании.
Статья 3. Императорские дворы Австрии и России и королевский двор Пруссии назначат своих представителей, которые проследуют в место, назначенное британским правительством в качестве резиденции Бонапарта, и будут проживать там, не неся ответственности за его безопасность, но обеспечивая все необходимые меры для того, чтобы он там оставался.
Статья 4. Его Христианнейшему Величеству (т.е. Людовику XVIII) предлагается от имени четырёх монарших дворов, упомянутых выше, направить представителя Франции в место содержания под арестом Наполеона Бонапарта.
Статья 5. Его Величество король Объединённого королевства Великобритании и Ирландии берёт на себя выполнение обязательств, порученных ему данным соглашением.
Статья 6. Настоящее соглашение подлежит ратификации, и ратификационные грамоты подлежат обмену в течение ближайших двух недель или ранее, если представится такая возможность.
В утверждение вышеизложенного полномочные представители подписали настоящее соглашение и скрепили его своими печатями.
Исполнено в Париже 20 августа 1815 года».
Когда я закончил переводить этот документ, император спросил меня, что я думаю о нём. «Сир, — ответил я, — в том положении, в которое нас поставили, я бы предпочёл зависеть от интересов одной державы, чем от совместного взаимоувязанного решения четырёх держав. Очевидно, что именно Англия продиктовала текст соглашения своим союзникам. Вы же видите, как тщательно она оговаривает то, что она одна будет отвечать за пленника и за контроль над ним. Англия стремилась обеспечить себя рычагом Архимеда,
494
и поэтому маловероятно, что она пойдёт на какой-либо риск, в результате чего рычаг может быть сломан».
Император, не раскрыв своих мыслей по этому вопросу, стал рассматривать возможные шансы освобождения с острова Святой Елены и в связи с этим высказал следующие впечатляющие соображения: «Если монархи Европы будут действовать с умом и им удастся полностью восстановить порядок в Европе, то мы не будем стоить тех денег и усилий, которые им приходится тратить на нас, чтобы содержать здесь, на острове, и они постараются отделаться от нас. Но наш плен может всё же продолжаться ещё несколько лет, возможно, три-четыре года, а то и пять лет. В противном случае, оставляя в стороне случайные события, которые нельзя предугадать, я могу рассчитывать только на две сомнительные возможности нашего освобождения: во-первых, на то, что монархи будут нуждаться во мне, чтобы помочь им подавить мятеж их подданных, и, во- вторых, на то, что народам Европы может потребоваться моя помощь в конфликте, который, возможно, возникнет между ними и их монархами. Я являюсь естественным арбитром и посредником в великом конфликте между настоящим и прошлым. Я всегда стремился стать верховным судьёй в этом конфликте. Моё управление делами страны и моя дипломатия за границей были направлены к достижению этой великой цели. Вопрос мог быть решён проще и быстрее, но судьба распорядилась по-иному. Наконец, есть ещё одна возможность, наиболее вероятная из всех: я стану нужен, чтобы сдержать натиск русских, ибо менее чем через десять лет вся Европа может бьггь опустошена казаками или подчинена республиканскому правительству. Именно до этого могут довести государственные мужи, свергнувшие меня с престола».
Вновь заговорив затем о соглашении монархов в отношении его особы, император заметил, что трудно объяснить стиль этого документа и злобный дух, которым пропитана каждая его фраза.
«Император Франц, — заявил он, — набожный монарх, и я его зять. Что касается императора Александра, то мы когда-то относились с любовью друг к другу. Королю Пруссии я, несомненно, сделал немало зла, но мог бы сделать гораздо больше; и, в конце концов, он мог бы обрести истинную славу и самоуважение, проявив великодушие. Что касается Англии, то здесь всё дело во враждебности её министров. Но последнее слово оставалось за прин- Цем-регентом: он мог вмешаться или, в противном случае, оказаться опозоренным как неумный человек и покровитель грубой недоброжелательности. Ясно, однако, одно: союзные монархи своим отношением ко мне скомпрометировали и унизили себя и полностью потеряли своё лицо».
495
Губернатор требует от нас письменное заявление
19 апреля 1816 года
Этим утром гофмаршал и госпожа Бертран пришли в сад, потому что накануне император пожелал, чтобы именно там ему подали завтрак; но так как император провёл бессонную ночь, то завтракал в своей комнате.
Губернатор официально уведомил нас о том, что каждый должен представить ему заявление, выражающее наше добровольное решение оставаться в Лонгвуде и подчиняться всем ограничениям, обусловленным пребыванием Наполеона в плену. Моё заявление было следующим:
«Я, нижеподписавшийся, повторяю заявление, которое я сделал, когда находился на рейде Плимута: а именно, что я намерен посвятить мою жизнь императору Наполеону, сопровождать его и следовать за ним. Я намерен, насколько это будет в моих силах, облегчать его страдания от несправедливого обращения, которому он подвергается в результате неслыханного нарушения закона наций. Я особенно чувствительно отношусь к этому нарушению, поскольку именно я передал императору предложение и заверения капитана Мэтленда, командовавшего кораблём “Беллерофон”, означавшие, что он получил указания принять императора и его свиту под покровительство британского флага, если это приемлемо для императора, и перевезти его в Англию.
Письмо императора Наполеона принцу-регенту, известное всей Англии, содержание которого я предварительно сообщил капитану Мэтленду, не сделавшему ни малейших замечаний по его поводу, объясняет всему миру, причём намного лучше, чем я сам способен выразить, насколько искренне император принял это предложение гостеприимства и до какой степени его чистосердечие и доверие были обмануты.
Несмотря на приобретённый мною опыт проживания в ужасных условиях острова Святой Елены, которые столь пагубны для здоровья императора и для здоровья каждого европейца, несмотря на то, что в течение шести месяцев нашего пребывания на острове я подвергался всем видам лишений, которые я сам старался ежедневно умножать для того, чтобы уважение к моей личности, моему достоинству и привычкам не стало предметом оскорбительного отношения, я, оставаясь верным своим первоначальным чувствам и однажды принятому решению, повторяю моё желание оставаться с императором Наполеоном и подчиняться незаконным ограничениям по отношению к императору. Ни страх перед невзгодами, ни надежда на личное благополучие не разлучат меня с ним».
496
Прощальный визит прежнего губернатора — Высказывание пожилого английского солдата — Острота французского гренадёра
20 апреля 1816 года
Полковник Уилкс накануне отъезда в Европу вместе с дочерью нанёс визит императору, чтобы попрощаться с ним. Госпожа Бертран представила девушку императору. Я уже упоминал о том, что полковник Уилкс был губернатором острова Святой Елены от Восточно-Индийской компании; именем короля его сменил адмирал, когда, вследствие нашей отправки на остров Святой Елены, остров был передан в управление правительству Англии.
Император находился в прекрасном настроении. Некоторое время он беседовал с дамами, а затем отвёл полковника Уилкса к одной из оконных ниш, куда последовал и я, чтобы выступить в роли переводчика.
Полковник Уилкс, как я уже, возможно, упоминал ранее, в течение длительного времени был дипломатическим представителем Восточно-Индийской компании на полуострове Индостан. Он написал историю Индии. Полковник является весьма эрудированным человеком и обладает большими познаниями в области химии. Таким образом, он одновременно был солдатом, литератором, дипломатом и химиком. Император с воодушевлением задавал ему вопросы по всем этим предметам, проявив себя большим знатоком каждого из них. Во время беседы, проходившей очень живо более двух часов, были обсуждены разнообразные проблемы. Ниже я привожу основное содержание этой беседы. Я, вероятно, в какой-то мере повторю
то, о чём писал прежде, так как император и полковник Уилкс несколько месяцев назад в беседе затрагивали те же темы, но это не имеет значения: они настолько интересны, что я предпочитаю повторить сказанное, поскольку боюсь потерять что-либо, связанное с обсуждением этих тем.
Император начал беседу, заговорив об английской армии, её организационной структуре и особенно о системе продвижения по службе. Он сравнил английскую армию с французской и повторил то, о чём говорил ранее, — об отличной структуре наших вооружённых сил, о преимуществах воинской повинности и о храбрости наших солдат. Затем он перешёл к обсуждению проблем политики, сказав: «Вы потеряли Америку, освободив её; вы потеряете Индию в результате того, что вторглись в неё. Первая потеря была абсолютно естественна: по мере того как дети взрослеют, они порывают узы, связывающие их с родителями. Но что касается индусов, то они совсем не взрослеют. Они по-прежнему остаются детьми. Поэтому катастрофа может прийти только извне. Что касается моей континентальной системы, то вы, вероятно, смеялись над ней?» — «Сир, — ответил полковник, — мы делали вид, что смеёмся, но все люди со здравым смыслом сознавали всю её силу». — «Ну что ж, — продолжал император, — на континенте никто не разделял моего мнения; и я был вынужден какое-то время повсюду применять насилие. В конце концов мой план стали понимать. Дерево уже приносит свои плоды. Я начал, время довершит остальное... Удержи я власть в своих руках, я бы изменил вектор развития торговли и промышленности. Я наладил производство сахара и индиго во Франции и наладил бы производство хлопчатобумажной продукции и многих других товаров иностранного производства. Я бы приобрёл колонии, если бы ими со мной по-прежнему не делились.
Созидательный порыв французской нации был необыкновенно мощным. Рост благосостояния и развитие науки в стране достигли высоких степеней. Тем не менее, ваши министры объявляли по всей Европе, что французов одолела нищета и они опустились до варварского состояния. Реальная картина нашего общенационального процветания необыкновенно удивляла народные массы и приводила в замешательство мыслящую часть европейского общества. Успехи развития различных областей науки во Франции были гигантскими. Повсюду распространялись идеи французского народа. Мы прилагали все усилия, чтобы сделать науку популярной. Мне сообщали, что ваши соотечественники прославились достижениями в области химии; и, тем не менее, я не решусь сказать, на какой стороне пролива Ла-Манш можно найти более способных химиков». — «На французской стороне», — поспешил сказать полковник.
498
«Это не имеет большого значения, — продолжал император, — но я утверждаю, что в своей массе французский народ обладает знаниями в области химии в десять, а возможно, и в сто раз большими, чем английский народ, поскольку класс производителей во Франции ежедневно использует в своей работе достижения науки. Это одна из особенностей моей школы. Если бы судьба предоставила мне достаточно времени, то вскоре во Франции не осталось бы понятия “ремесленничество”: оно было бы превращено в искусство».
Император закончил беседу следующими замечательными словами: «Англия и Франция держат в своих руках судьбу всего мира, и в особенности судьбу европейской цивилизации. Какого только вреда мы не наделали друг другу! Сколько добра мы могли бы принести! При системе Питта мы опустошили весь мир, и каков результат? Вы обложили Францию налогом в размере полутора миллиардов франков и повысили его с помощью казаков. Я вынудил вас обложить свою страну налогом в размере семи миллиардов и заставил повысить его вашими собственными руками с помощью вашего парламента. Даже теперь, после одержанной вами победы, кто может сказать, сумеете ли вы, рано или поздно, устоять под тяжестью такого бремени? При системе Фокса мы бы пришли к взаимопониманию, мы бы завершили процессы эмансипации наций и сохранили бы верность единым принципам. Европу представляли бы единый флот и единая армия. Мы могли бы править всем миром. Мы могли бы повсюду обеспечить мир и процветание — или силой, или убеждением. Да, я повторяю вновь: какого только вреда мы не наделали друг другу! Сколько добра мы могли бы принести!»
Никогда Наполеон не был столь разговорчивым. Что касается полковника, то он попрощался с императором, поражённый и сбитый с толку тем, что услышал.
Когда он ушёл, император ещё довольно долго вёл беседы в гостиной. Затем он отправился в сад, несмотря на плохую погоду, и вызвал всех нас. Он хотел прочитать заявления, которые мы написали губернатору; они стали предметом нашего разговора.
Сегодня из Европы прибыли четыре корабля, доставившие на остров 66-й английский пехотный полк. Эти корабли отплыли от берега Англии раньше корабля «Фаэтон», на котором прибыл новый губернатор сэр Хадсон Лоу.
После обеда император добродушно процитировал пожилого солдата 53-го английского пехотного полка, который, увидев его в первый раз, вернулся к своим товарищам и сказал им: «Какую ложь мне наговорили о возрасте Наполеона, — он совсем не старый; этот парень ещё достаточно молод по крайней мере для шестидесяти
499
сражений». Мы решили, что такое высказывание гораздо больше присуще французскому солдату, и предъявили права на то, что оно принадлежит на самом деле одному из наших гренадёров.
Потом мы пересказали императору несколько острот, произнесённых нашими солдатами во время его отсутствия и по возвращении с острова Эльба; они весьма позабавили императора. Он особенно смеялся над ответом одного гренадёра в Лионе, где проходил большой смотр войскам, как раз после высадки императора на берег Франции по возвращении с острова Эльба. Офицер, командовавший смотром, заявил солдатам, что они прекрасно одеты, выглядят сытыми, получают жалованье и это можно видеть по их лицам. «Так точно», — ответил гренадёр, к которому обратился офицер. «Совсем по-другому обстояло дело при Бонапарте, — продолжал
уверенным тоном офицер. — Вам задерживали выплату жалованья, а это значит, что он был у вас в долгу». — «И какое это имеет значение, — нашёлся гренадёр, — если мы решим открыть ему кредит?»
Послание императора принцу-регенту — Портфель, потерянный во время сражения при Ватерлоо —
О послах — Стоимость гардероба императора — Расходы на содержание членов императорской семьи в различных столицах Европы — Меблировка императорских дворцов — Императорский метод проверки счетов
21 апреля 1816 года
Около четырёх часов дня император, находившийся в саду, послал за мной, чтобы я помог ему в качестве переводчика в беседе с английским капитаном. Капитан Гамильтон, командир фрегата «Гавана», отплывающего на следующий день в Европу, вместе со своими офицерами посетил Лонгвуд, чтобы попрощаться с императором. Капитан Гамильтон говорил по-французски. Когда я пришёл в сад, то стал свидетелем того, как император с жаром заявил капитану:
«Они желают знать, чего я хочу?.. Я требую свободы или смерти. Передайте эти слова вашему принцу-регенту. Я более не прошу известий о сыне, поскольку они поступили бесчеловечно, оставив мою просьбу об этом без ответа. Я не был вашим пленником. Дикари отнеслись бы с большим уважением к моему положению. В отношении меня ваши министры подло нарушили священные права гостеприимства. Они навсегда опозорили Англию!»
Когда капитан Гамильтон отважился заметить, что Наполеон — пленник не одной Англии, но всех союзных держав, то император горячо возразил: «Я не отдался в руки России, где, несомненно, меня бы хорошо приняли; я не сдался Австрии, где со мной обращались бы тоже хорошо; по своей воле и по своему выбору я отдался в руки Англии, поскольку доверял её законам и её общественной нравственности. Я был жестоко обманут! Но Провидение отомстит за причинённое мне зло, и рано или поздно вы будете наказаны за поступок, который всё человечество уже осуждает! Повторите всё это принцу-регенту, сэр». Эти последние слова он сопроводил энергичным взмахом руки, после чего откланялся капитану.
Мы погуляли несколько минут, и, когда вернулся гофмаршал, который в это время провожал капитана Гамильтона, я посчитал
501
правильным оставить его наедине с императором. Но едва я ушёл к себе в комнату, как император вызвал меня. Он был один в своей комнате и спросил, не слишком ли много я отдыхал сегодня. Я ответил, что только чувство уважения и соображения благоразумия побудили меня покинуть его. Он возразил, что для этого не было никаких оснований, так как не произошло ничего, что он хотел бы сохранить в тайне. «Кроме того, — добавил он, — некоторая доля свободы и непринуждённости не лишена своего очарования». Эти слова, нечаянно сорвавшиеся с его уст, дают лучшее представление о его характере, чем сотни страниц.
Затем мы стали просматривать английские газеты, в которых давалось описание официальных документов, обнаруженных англичанами в портфеле императора, в его карете, брошенной после сражения при Ватерлоо. Император был удивлён тем количеством распоряжений и приказов, которые он отдал за столь короткий отрезок времени, и бесчисленными подробными указаниями, которые он направлял по всей империи. «В конце концов, — заявил он, — публикация этих документов не может причинить мне никакого вреда. Она, по крайней мере, предоставит всем возможность удостовериться в том, что эти документы являются делом рук не бездельника. Читатели этой публикации будут сравнивать меня с другими монархами, и сравнение окажется не в их пользу».
После обеда император беседовал на различные, не связанные между собой темы. Говоря о своих послах, он заявил, что считал Нарбонна единственным человеком, который заслуживал этой должности и добросовестно выполнял свои служебные обязанности. «Всё здесь играет роль, — сказал император, — не только его способности, но и его старомодная аристократическая мораль, его манеры и его имя. Когда посол должен только указывать, на эту должность можно назначать кого угодно, — любой человек будет хорош, выполняя
502
только эту функцию; возможно, при выборе кандидата на такой пост следует предпочесть адъютанта. Но когда необходимо вести переговоры, дело принимает совершенно иной оборот. В этом случае, чтобы найти общий язык со старой аристократией, представленной при европейских дворах, необходим такой же аристократ, поскольку аристократия является своего рода масонской ложей. Если какие-нибудь Отто или Андреосси войдут в аристократический салон в Вене, то при их появлении сразу же воцарится полная тишина; обычные правила приличия будут забыты. Они будут рассматриваться как незваные гости или как нечестивцы. Но по-другому обстояло дело с Нарбонном, обладавшим преимуществами духовной близости, взаимного понимания и принадлежности к аристократии! Представительница старой знати может отдаться плебею, но она не раскроет ему секретов аристократии».
Император очень любил Нарбонна и глубоко сожалел, что императрица Мария Луиза, из-за интриг её свиты, отказалась от того, чтобы император назначил его её камергером; тогда император назначил Нарбонна своим адъютантом. Между тем должность камергера ему вполне подходила. «До его назначения послом в Вену, — продолжал император, — Австрия всё время обманывала нас. Менее чем за две недели Нарбонн раскрыл все секреты венского кабинета министров. Меттерних был в подавленном настроении, узнав о назначении Нарбонна. Однако, благодаря странному стечению обстоятельств, возможно, что именно дипломатический успех Нарбонна сорвал мои планы. Как выяснилось, его способности в большей степени сыграли роковую роль, чем были полезными. Австрия, предположив, что о её планах догадались, сбросила маску и приняла быстрые ответные меры. Если бы мы не дали знать о нашей проницательности, то Австрия действовала бы с большей осторожностью и не так поспешно. Она продолжала бы проявлять свойственную ей нерешительность, и тем временем могли бы возникнуть другие возможности».
Когда один из присутствующих, сославшись на службу наших посольств в Дрездене и Берлине, был склонен к тому, чтобы обвинить дипломатических сотрудников этих посольств в плохой работе во время отступления французов из России, император на это ответил, что вину следует возлагать не на личности, а на обстоятельства, что любой человек с первого взгляда мог предвидеть то, что случится, и что касается его, то он ни на минуту не заблуждался в отношении этого. Он добавил, что лично не руководил отступлением французской армии из Москвы в Вильну и далее в Германию только из опасения, что сам будет не в состоянии добраться до Франции. Император хотел, как он заявил, избежать этой надвигавшейся опасности,
503
в одиночку пересекая Германию и делая это быстро и смело. Он чуть не попал в плен в Силезии. «Но, к счастью, — сказал он, — пруссаки предавались дискуссиям в тот момент, когда им следовало действовать. Они вели себя, как саксонцы, имевшие дело со шведским королём Карлом XII. Последний, покидая Дрезден в аналогичной ситуации, заявил: “Вот увидите, завтра они проведут консультации по поводу целесообразности моего ареста сегодня”».
Перед обедом император вызвал меня к себе в кабинет, желая выполнить упражнения по английскому языку. Он сообщил мне, что только что подсчитал расходы на свой гардероб. Оказалось, его гардероб обходится ему примерно в четыре наполеондора в месяц. Мы посмеялись над величиной его бюджета. Император сообщил, что подумывает о заказе одежды, туфель, сапог и т.д. тем торговцам в Европе, которые знают его размеры. Я посчитал, что это будет связано с серьёзными затруднениями, и после некоторого размышления мы пришли к выводу, что сделать такой заказ ему никогда не разрешат.
«Тем не менее, — заметил император, — чрезвычайно неприятно чувствовать себя в безденежной ситуации, и я хочу как-то урегулировать эту проблему. Как только мне сообщат о правительственном указе, который должен определить наше положение здесь, я намерен принять меры для того, чтобы получать ежегодный заём в размере семи или восьми миллионов наполеондоров от Евгения. Он не может отказать мне. Он получил от меня, возможно, до сорока миллионов, и было бы оскорблением его чувств сомневаться в его готовности помочь мне. Кроме того, мы с ним должны урегулировать наши счета, накопившиеся за долгое время. Я уверен, что если бы я назначил комиссию из государственных советников для составления доклада по этому вопросу, то они бы представили мне активный баланс в мою пользу по расчётам с Евгением в размере по крайней мере в десять—двенадцать миллионов».
Во время обеда император задавал нам вопросы относительно суммы денег, необходимой для проживания холостяка в столице европейской страны, для проживания семьи среднего достатка и для семьи, которая может позволить себе жить в условиях роскоши. Он любит заниматься решением финансовых вопросов и подсчётами, делая это со свойственной ему дотошностью и не пренебрегая мельчайшими подробностями.
Все мы представили свои финансовые сметы и в результате согласились, что для проживания в Париже каждой из трёх вышеупомянутых категорий лиц требуется соответственно 15 тысяч, 40 тысяч и 100 тысяч франков. Император подробно рассуждал о ценах различных предметов и даже разбросе цен в зависимости от того, кто покупает и при каких обстоятельствах.
504
«Когда я собирался покинуть французскую армию в Италии и возвратиться в Париж, — рассказал он, — госпожа Бонапарт написала мне, что обставила самой изысканной мебелью наш небольшой дом на улице де ла Виктюар. Сам дом стоил не более сорока тысяч франков. Каково же было моё удивление и возмущение, когда я узнал, что за предметы мебели в гостиной, которые, на мой взгляд, были далеки от того, чтобы считаться самыми изысканными, торговцы запросили чудовищную сумму — между 120 000 и 130 000 франков. Тщетно я протестовал; я был вынужден заплатить эту сумму. Драпировщик показал мне полученные им указания, которые предусматривали, что все предметы мебели должны быть лучшими в своём роде. Каждая вещь была сделана по новым эскизам, а сами эскизы были составлены таким образом, чтобы сделанная по ним мебель соответствовала моему дому. Я бы проиграл это дело у любого судьи».
Император затем упомянул непомерные счета, предъявленные за меблировку императорских дворцов, и огромные суммы, которые ему удалось сэкономить после того, как он вмешался. Он назвал нам цену трона, императорских украшений и т.п. Было чрезвычайно любопытно слушать, как он со всеми подробностями рассказывал об этих счетах и о своих мерах по экономии средств. Как я сожалею, что сразу не записал этот его рассказ! Приводимые ниже частные факты помогут составить представление о применявшихся им методах корректировки счетов, которые ему предъявляли.
В одном случае, когда император возвратился во дворец Тюиль- ри, который в его отсутствие был заново меблирован, придворные обратили его внимание на новую мебель и убранство дворца. После того как он выразил своё удовлетворение всем увиденным, он подошёл к окну с роскошными шторами и, попросив ножницы, отрезал великолепную золотую кисть, свисавшую со штор. Невозмутимо положив её в карман, он продолжил осмотр нового убранства дворца. Поведение императора вызвало большое удивление у всех присут- ствовующих, которые не могли понять мотива его поступка. Через несколько дней, во время утреннего приёма во дворце, император вынул отрезанную от штор золотую кисть и передал её лицу, отвечавшему за меблировку дворца. «Послушайте, — заявил он, — Боже меня упаси подумать, что вы обкрадываете меня, но кто-то, несомненно, обокрал вас. Вы заплатили за эту вещь на треть больше её стоимости. Они обошлись с вами, словно вы дворецкий у нувориша. Вы бы сделали более выгодную покупку, если бы они не знали, кто вы такой». Оказалось, что Наполеон, переодевшись в простое платье (что он часто делал, следуя своей привычке), однажды утром вышел из дворца и посетил несколько магазинов на улице Сен-Дени. В этих магазинах он интересовался ценами разных украшений, включая ту золотую кисть, которую он срезал во дворце, а также ценами
505
на различные предметы мебели, очень похожие на те, которые были закуплены для дворца. Таким образом, сказал император, он и пришёл к своему выводу. Все знали о его склонности к строгим проверкам финансовой отчётности. Именно они, заявил император, являлись важнейшим рычагом, обеспечивавшим надлежащую экономию в расходовании средств на содержание императорского двора, которую, невзирая на величественность его статуса императора, он очень аккуратно соблюдал.
Несмотря на чрезвычайную занятость, он сам проверял все предъявляемые счета и при этом придерживался собственного метода. Он обычно сразу смотрел на сумму, потраченную на покупку товара или предмета, указанного в предъявленном счёте первым, например, на покупку сахара, и, найдя в счёте общую величину стоимости нескольких тысяч фунтов сахара, брал перо и спрашивал того, кто представил ему счета: «Какова численность персонала моего императорского двора?» — «Сир, она такова». (Необходимо было немедленно давать точный ответ.) — «И сколько фунтов сахара, как вы полагаете, этот персонал потребляет в среднем за день?» — «Столько-то, сир». Император немедленно производил вычисления и отдавал счёт назад со словами: «Сударь, я увеличил вдвое то количество ежедневно потребляемого сахара, которое вы назвали, и тем не менее его стоимость, указанная в счёте, значительно превышает сумму, полученную мною при расчёте. Ваш счёт неверен. Рассчитайте всё снова и затем представьте мне скорректированный вариант».
506
Подобный выговор способствовал установлению строгого режима расходования средств на содержание двора. Император следующим образом высказался о ведении им личных и государственных дел: «Я установил такой порядок и проводил постоянные проверки для того, чтобы меня нельзя было обмануть. Если меня всё же обманывали, то я оставлял это на совести виновного. Он не утонет под тяжестью своего преступления, ибо оно не может оказаться очень тяжёлым».
Посещение губернатором моей комнаты — «Магомет» Вольтера — Наполеон о Магомете — Гретри
22 — 25 апреля 1816 года
На протяжении последних нескольких дней погода была очень плохая. Император прекратил утренние прогулки и посвящал своё время другим занятиям. Каждое утро он диктовал воспоминания о событиях 1814 года.
В Лонгвуд с визитом приезжал сэр Хадсон Лоу. Он заглянул в мою комнату и оставался в ней минут пятнадцать. Он выразил сожаление по поводу неудобств, которые мы испытываем, и заметил, что нам было бы лучше разместиться на биваках, чем в таких комнатах. Он был прав: осмолённые обои, которые были использованы для комнат, уже не выдерживают воздействия жаркого климата; когда сияет солнце, я задыхаюсь, когда идёт дождь, нашу комнату заливает. Сэр Хадсон Лоу пообещал, что даст указание улучшить наши жилищные условия. Он любезно добавил, что привёз с собой из Англии около 2000 французских книг, которые он с большим удовольствием передаст в наше распоряжение, как только они будут приведены в порядок.
В течение последних трёх вечеров мы занимались чтением произведений Расина и Вольтера. Драмы Расина «Федра» и «Атали», которые читал нам император, доставили нам огромное удовольствие; его замечания и комментарии удвоили наш интерес к тому, что он читал.
«Магомет» Вольтера стал предметом его жестокой критики. «Вольтер, — заявил император, — неправильно описал личность и поведение своего героя и пренебрёг фактами. Он унизил Магомета, сделав его участником самой низкопробной интриги. Он изобразил великого человека, который изменил лицо мира, как некоего негодяя, заслуживавшего виселицы. Столь же нелепо он исказил личность Омара, которого преподнёс читателю как головореза из мелодрамы.
507
Вольтер совершил существенную ошибку, приписывая интриге то, что было результатом религиозного убеждения. Те, кто совершал великие перевороты в истории мира, никогда не добивались успеха, опираясь исключительно на поддержку правителей, но всегда — воздействуя на настроение масс. В первом случае подобная политика тождественна интриге и в конечном счёте приносит лишь второстепенные результаты; во втором случае такая политика помогает гению изменить лицо вселенной!»
Император, коснувшись проблемы достоверности исторических сведений, высказал сомнение по поводу всего того, что приписывается Магомету. «Он, несомненно, был одним из основателей религиозных сект, — заявил император. — Коран, написанный через тридцать лет после смерти Магомета, может включать в себя много неправды. Когда империя Магомета и его доктрина утвердились, а его миссия завершилась, народ мог и должен был действовать соответствующим образом. Всё же остаётся неясным, как выдающееся событие, которое, несомненно, совершилось (мы говорим о завоевании мира), могло произойти в короткий исторический промежуток времени, в течение каких-то пятидесяти или шестидесяти лет. Кто всё это совершил? Орды кочевников из пустынь, которые, как мы знаем, были немногочисленны, миролюбивы, недисциплинированны; у них не было плана действий. И тем не менее они противостояли цивилизованному миру, который изобиловал ресурсами. Фанатизм не мог совершить это чудо, поскольку фанатизм утвердился бы надолго, а деятельность Магомета продолжалась только тринадцать лет».
Император полагает, что, независимо от случайных событий, благодаря которым происходят чудеса, в данном случае должны были быть какие-то скрытые, неизвестные нам обстоятельства. Он придерживается того мнения, что упадок Европы, несомненно, был результатом каких-то первоначальных причин, о которых мы совсем не знаем; племена различных национальностей и рас, внезапно появившись из пустынь, вероятно, были втянуты в продолжительные междоусобные войны, в результате которых люди с героическим характером и с большими способностями вышли на историческую сцену и вызвали всеобщий порыв, который нельзя было сдержать.
Во всём, что касается событий в восточных странах, Наполеон существенно отходит от общепринятых воззрений. Авторы книг в этой области знаний не являются для него непререкаемыми авторитетами. Он говорит, что в этом вопросе придерживается своих собственных идей, хотя, вероятно, они не определены до конца им самим. Его экспедиция в Египет во многом повлияла на его мнение об упомянутых событиях.
508
«Но вернёмся к Вольтеру, — предложил император. — Удивительно, как мало его драмы пригодны для чтения. Когда справедливая критика и хороший вкус не вводятся в заблуждение блеском изысканной декламации и сценическими иллюзорными эффектами, привлекательность его драм очень сильно падает. В это трудно поверить, но во время революции Вольтер затмил Корнеля и Расина. Прекрасные произведения двух великих драматургов пылились на полках и были преданы забвению, пока я не стряхнул с них пыль, чтобы они вновь заблистали на сценах театров».
Император говорил правду. Совершенно очевидно, что, когда он вернул нас к цивилизации, он вместе с тем восстановил хороший вкус. Он возродил наши драматические и лирические шедевры — даже те, которые были осуждены по политическим причинам. Таким образом опера «Ричард Львиное Сердце» вновь появилась на сценических подмостках, хотя повышенный интерес к ней объяснялся тем, что она якобы была посвящена Бурбонам.
«Бедняга Гретри15, — сказал император, — долго упрашивал меня разрешить представление этой оперы. Это был довольно опасный эксперимент, и предсказывали, что следует ожидать грандиозного шума. Однако представление оперы прошло без каких-либо осложнений, и я дал указание повторять её раз в две недели, пока она не надоест зрителям. Чары развеялись, представление оперы продолжалось наряду с другими операми, — до тех пор, пока Бурбоны, в свою очередь, не запретили её, поскольку она возрождала интерес ко мне».
Позднее всё это странным образом повторилось: император запретил драму «Принц Эдуард, претендент на трон» из-за Бурбонов, а Бурбоны недавно наложили на неё запрет из-за императора.
Моё посещение «Колониального дома» — Выпады Хадсона Лоу и его первый недоброжелательный поступок — Заявления Наполеона — Его политика в Египте — Признание императора в совершении незаконного деяния
26 апреля 1816 года
Я отправился нанести мой первый визит в «Колониальный дом». Госпожа Лоу показалась мне очаровательной и приятной женщиной, хотя в ней было что-то искусственное. Хадсон Лоу женился на ней Незадолго до своего отъезда из Европы, как говорят, со специальной
509
целью иметь жену, которая помогала бы ему проявлять гостеприимство на острове. Как я узнал, эта дама была вдовой офицера полка, которым ранее командовал Лоу, и сестрой полковника, убитого в сражении при Ватерлоо.
Губернатор был подчёркнуто внимателен ко мне. Он заявил, что мы с ним старые знакомые, хотя это оказалось для меня новостью. Он рассказал, что ему доставляло большое удовольствие перелистывать «Атлас» Ле Сажа, хотя ему никогда не приходило в голову, что в один прекрасный день он будет представлен самому автору. Впервые Лоу познакомился с этой книгой в Сицилии, куда её контрабандой привезли из Неаполя; он произнёс великое множество комплиментов в адрес книги. Он часто перечитывал в книге описание сражения при Йене, где Наполеону противостоял генерал Блюхер16. Во время кампании 1814 года Лоу был уполномоченным представителем Англии при штабе генерала Блюхера. Губернатор сказал, что у него всегда вызывало восхищение великодушное, сдержанное и непредвзятое отношение автора книги к Англии; но когда губернатор в первый раз просматривал книгу, его сильно поразили несколько неясных фраз, которые, казалось, дышали враждебностью к тому, кто тогда правил нами. Он добавил, что в своё время объяснял эти фразы тем, что они соответствовали характеру и убеждениям французского эмигранта, но теперь, когда он видит меня здесь в составе свиты «этой персоны», он усматривает во всём этом пример странного противоречия.
Только что нам стало известно, что Хадсон Лоу во время своей служебной деятельности в Италии был своего рода главным полицейским офицером и активным агентом в шпионской системе. У меня не могло не вызвать подозрения то, что высказывания губернатора содержали намерение сделать мне какой-то намёк. Если это действительно было так (и император нисколько не сомневался в этом), то тогда губернатор умело провёл беседу со мной; и если бы я меньше уважал самого себя, чем это было на самом деле, то мог резко ответить ему, и дело зашло бы слишком далеко. Я, однако, всего лишь сказал, что он абсолютно неправильно понял смысл вышеупомянутых неясных фраз и что они не имеют никакого отношения к Наполеону, так как и тогда, и сейчас я предан его особе.
Когда я вернулся домой, то обнаружил у себя две французские книги, которые утром губернатор прислал мне вместе с запиской, выражавшей надежду, что их чтение доставит удовольствие императору. Можно ли этому поверить? Одна из книг принадлежала перу аббата де Прадта, французского посла в Варшаве. Тот факт, что эта книга была прислана нам, я могу расценить как первый
510
недоброжелательный поступок сэра Хадсона Лоу. Верно, что эта книга была новинкой, но она была клеветой, направленной исключительно против Наполеона.
Что касается второй книги, то, увидев её, я подумал, что нашёл сокровище. Я вообразил, что она компенсирует нам отсутствие «Монитора» и предоставит нам материалы, в которых мы очень нуждались. Название книги предполагало, что она представляет собой сборник заявлений, воззваний, прокламаций и официальных документов Наполеона в качестве генерала, Первого консула и императора. Но сборник был опубликован Голдсмитом, известным клеветником, и был очень неполным. Самые замечательные оперативные сводки и воззвания были изъяты, обращения к Законодательному корпусу искажены, и т.д. Но даже в таком несовершенном виде этот сборник по-прежнему остаётся самым величественным памятником, который когда-либо оставлял после себя человек.
После обеда император занялся чтением собственных воззваний и прокламаций к французской армии в Италии, опубликованных Голдсмитом в его сборнике. Эти документы произвели на императора сильное впечатление; он с большим интересом и волнением прочитал их. «И они ещё, — заявил он, — имеют наглость говорить, что я не умел писать!»
Затем он прочитал собственное воззвание к египетской армии и вдоволь посмеялся над тем, как он в этом воззвании представил себя посланником Бога, который вдохновлял его. «Это было шаманство, — сказал он, — но шаманство высшего порядка. Кроме того, воззвание было сочинено только с той целью, чтобы один из мудрейших шейхов сделал его перевод и представил его в виде высокопарных арабских стихов. Моя французская армия от души хохотала над этим воззванием; душевный настрой солдат был таким, что для того, чтобы заставить их спокойно выслушивать простое упоминание о религии, я вынужден был говорить весьма легковесно о ней, поставив евреев в один ряд с христианами, а раввина рядом с епископом...»
Голословное утверждение Голдсмита о том, что Наполеон обратился в мусульманскую веру, является абсолютной ложью. Если он когда-либо и заходил в мечеть, пояснил император, то всегда как победитель, а не как молящийся правоверный. Он был слишком серьёзен для того, чтобы поменять веру, и он достаточно уважал себя, чтобы совершать сомнительные поступки в этом вопросе.
«В конце концов, — продолжал он весёлым тоном, — это не было бы столь необычным, даже если бы обстоятельства заставили меня оказаться в объятиях ислама; и, как сказала одна славная французская королева: “Если вы будете настаивать на этом!” Но у меня
5//
были весомые причины для обращения в другую веру. Я должен был овладеть всем, по крайней мере вплоть до Евфрата. Смена религии ради частной выгоды является непростительной, но её можно простить, принимая во внимание колоссальные политические перспективы. Генрих IV сказал: “Париж стоит мессы”. Будут ли говорить, что власть над Востоком и, возможно, покорение всей Азии не стоит тюрбана и шаровар? По правде говоря, всё дело сводилось к этому, а добрые шейхи думали о том, как нам облегчить работу. Они устранили немалые препятствия: разрешили нам пить вино и освободили от всех религиозных формальностей. В итоге мы лишились бы только наших коротких штанов в обтяжку и армейских головных уборов. Я говорю мы, поскольку армия, в том положении, в котором она тогда находилась, едва ли испытывала бы угрызения совести по этому поводу и постаралась бы сделать всю эту историю поводом для шуток и насмешек. Но какие могли быть последствия? Я повернулся бы спиной к Европе, и старая цивилизация континента застыла бы в своём развитии. И кто бы тогда стал беспокоиться о судьбе Франции и о полном обновлении мира?! Кто бы попытался сделать это? Кто бы смог добиться успеха?»
Продолжая просматривать книгу Голдсмита, император случайно остановил взгляд на решении консулов, в соответствии с которым генерал Латур-Фуассак был разжалован за сдачу крепости Мантуя. «Несомненно, — заявил император, — это было незаконное и жестокое решение, но оно было необходимым злом. Генерал был сто и тысячу раз виновен, и тем не менее сомнительно, что мы должны были предать его суду: это был изъян существовавших законов. Его оправдание судьями привело бы к роковым последствиям. Поэтому мы нанесли удар оружием нашей чести и наших убеждений. Но я повторяю, это было суровое и жестокое решение — из разряда тех, которые порой обязательно следует принимать в великой стране при важных обстоятельствах».
Первое оскорбление и первый случай жестокости со стороны губернатора — Выговор императора
27 апреля 1816 года
Около двух часов дня в Лонгвуд явился губернатор, попросивший у императора разрешения вызвать к нему для беседы всех членов обслуживающего персонала Наполеона. Это было первое оскорбление, нанесённое губернатором императору.
Он, вероятно, хотел убедиться в том, что заявления о решении остаться вместе с императором на острове Светой Елены подписаны
512
добровольно. Господин де Монтолон, руководивший обслуживающим персоналом императора, сообщил сэру Хадсону Лоу от имени императора, что Его Величество не представляет себе, что может существовать какой-либо предлог для вмешательства в существующие отношения между ним и его камердинером, что если у него спрашивают на это его разрешения, то он категорически отказывается дать его, что если инструкции, полученные губернатором от правительства Англии, требуют принятия подобной меры, то губернатор имеет власть и может употребить её, но это станет ещё одним актом грубого произвола английского кабинета министров в отношении императора.
В этот момент я присоединился к переговорам между господином де Монтолоном и губернатором. Я сразу понял, что участники переговоров весьма далеки от того, чтобы быть довольными друг другом. После нескольких минут молчания губернатор, пребывавший в состоянии явного раздражения, повернулся ко мне и высказался в том смысле, что, судя по всему, приходится прилагать усилия, чтобы преодолевать затруднения во всём, что касается императора.
На это я ответил губернатору, что состав обслуживающего персонала Наполеона был определён без его участия. Совершенно естественно, продолжал я, что Наполеон будет протестовать против любого вмешательства в отношения между ним и его слугами, что если у губернатора возникли какие-то сомнения и он желает узнать истинное мнение слуг императора по вопросу подписанного ими заявления, то тогда у губернатора есть два возможных варианта дальнейших действий. Он может прибегнуть к косвенным и тайным средствам, которые, по крайней мере, не будут ранить наши чувства, или он может применить силу и власть; он обладает тем и другим, и ничто
513
не мешает ему использовать любые средства. Но, добавил я, подобные действия являются крайне враждебными по отношению к нам и нарушают порядок нашей жизни. Я заверил губернатора, что император желает быть сговорчивым, насколько это возможно, в том новом положении, в котором он вынужденно находится, что он желает, чтобы его оставили в покое, и он ни о чём не просит, кроме того, чтобы ему не досаждали, что судьба лишила его власти, но ничто не сможет лишить его самоуважения, и, наконец, что чувство собственного достоинства — единственное, что осталось у него в полном и единоличном владении.
Тем временем к губернатору привели слуг императора, и мы с Монтолоном удалились, чтобы наше присутствие не выглядело как поддержка проводимого мероприятия. Губернатор переговорил с каждым из слуг императора и затем, выйдя к нам, сказал: «Теперь я удовлетворён. Я могу сообщить английскому правительству, что все они подписали заявления свободно и добровольно».
Его скверный характер проявился и в том, что он вдруг начал совершенно неуместно расхваливать местоположение Лонгвуда, заметив, что, в конце концов, мы живём в неплохих условиях. Мы сказали ему в ответ, что в этом жарком климате мы крайне нуждаемся в том, чтобы находиться в тени деревьев, а здесь практически нет ни одного дерева. Губернатор заявил: «О, я посажу и деревья!» Можно ли было сказать что-либо более язвительное? Этот визит губернатора в Лонгвуд можно считать первым проявлением жестокости с его стороны. Затем он покинул Лонгвуд.
Вечером, в начале шестого, император отправился на прогулку в карете. Когда мы выехали, император сказал: «Господа, если бы не один человек, я был бы властелином мира! И как вы думаете, кто этот человек?» Мы ждали ответа с огромным нетерпением. «Аббат де Прадт, — продолжал император, — раздающий милостыню бога войны!» Когда мы услышали это, то не смогли удержаться от смеха. «Я вполне серьёзен, — продолжал император, — аббат именно так назвал себя в своей книге “Посольство в Варшаве”; вы сами можете прочитать об этом. Кнша представляет собой злобные нападки на меня, абсолютную клевету, осыпает меня ложью и оскорблениями. То ли я находился в особенно хорошем настроении, когда читал её, то ли потому, что только правда оскорбляет, — я не знаю, — но, во всяком случае, я смеялся от всего сердца, когда читал эту книгу, и она доставила мне огромное удовольствие».
Между двумя персонами из свиты императора время от времени происходят нешуточные ссоры. Их причины и обстоятельства я не буду излагать в этом дневнике, но они помогают представить некоторые характерные особенности ума и сердца того, кому мы так
514
преданы. Современные газеты предали гласности всё это дело. К тому же один из двух господ уже вернулся в Европу вследствие этих ссор.
Когда я вошёл в гостиную, чтобы ждать объявления об обеде, то услышал, как император с крайней горячностью говорил об этих ссорах, которые его чрезвычайно огорчают. Его речь была весьма энергичной.
«Вы последовали за мной, — взволнованно говорил он, — чтобы поддержать меня в условиях плена! Так будьте же братьями! В противном случае вы будете мне в тягость. Если вы хотите, чтобы я был счастлив, то будьте братьями, иначе вы принесёте мне одни мучения! Вы говорите о дуэли непосредственно в моём присутствии. Тогда я значу для вас не более, чем просто объект вашего внимания. Вы забываете о том, что иностранцы не спускают с вас глаз. Я хотел бы, чтобы вы все воодушевились моим присутствием духа. Я хотел бы, чтобы все в моём окружении были счастливы и делили со мной те немногие радости, которые пока ещё остаются у нас. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, включая маленького Эммануэля, имел свою и равную с другими долю радостей».
Объявление об обеде положило конец выговору императора. Он хранил молчание во время еды; когда подали десерт, он распорядился, чтобы ему принесли книгу Вольтера, и начал читать одну из его драм, но вскоре отложил книгу в сторону. С каждым днём мы всё больше устаём от Вольтера.
Император очень рано удалился в свои апартаменты и вскоре после этого пожелал, чтобы я пришёл в его спальню; я оставался с ним до позднего часа.
Аббат де Прадт и его книга «Посольство в Варшаве» — Русская война и её причины
28 апреля 1816 года
Император вновь вернулся к аббату де Прадту и его книге, весь смысл которой он видит только в первой и в последней страницах. «На первой странице он утверждает, что он тот самый человек, который положил конец карьере Наполеона; на последней странице он пишет о том, как император по пути из Москвы уволил его с должности посла в Варшаве, что является правдой; его уязвлённое самолюбие требовало мести и вынудило представить всё в ложном свете. Вот в этом и заключается вся его книга.
Но аббат не выполнил в Варшаве ни одного из данных ему поручений; наоборот, он причинил там массу вреда. Сведения о наделанных
5/5
им глупостях доходили до меня буквально отовсюду. Даже молодые люди, клерки, работавшие в посольстве, были удивлены его поведением и зашли так далеко, что обвиняли его в установлении сотрудничества с врагом, чему, однако, я ни в коем случае не верил. Но он имел со мной продолжительный разговор, который он, как можно было ожидать, представит в исключительно ложном свете. И именно в тот самый момент, когда он произносил длинную и нудную речь, которая показалась мне лишь смесью абсурда и нахальства, я на углу каминной доски написал указ о лишении его должности посла и о его отправке во Францию в кратчайший срок. В своё время этот факт, который аббат, судя по всему, всячески пытался скрыть, стал причиной всеобщего веселья».
Я позволю себе привести описание императорского двора Наполеона в Дрездене, взятое из книги Прадта. Высказывания Прадта по этому поводу производят большое впечатление и дают точную картину людей и событий того периода.
«Тот, кто захочет, — пишет Прадт, — получить правильное представление о высшей степени могущества, достигнутой императором Наполеоном в Европе, тот, кто пожелает познать всю глубину страха, который испытывал почти каждый европейский монарх, должен мысленно перенестись в Дрезден и там созерцать этого величественного императора, находившегося на пике славы и в то же время на грани своего падения!
Император Наполеон занимал официальные апартаменты королевского дворца, куда он перевёз значительную часть своего императорского двора. Здесь он устраивал грандиозные обеды; и, за исключением первого воскресенья, когда король Саксонии давал гала-представление, на праздничных приёмах Наполеона всегда присутствовали монархи и члены их семей в соответствии с приглашениями, которые рассылал гофмаршал двора. На эти приёмы приглашались и частные лица. Я имел честь быть приглашённым в день моего назначения послом в Варшаву.
Утренние приёмы императора проводились там же, в королевском дворце, и, как и в Тюильри, в девять часов утра. В этот час множество монархов и принцев, смешавшись с придворными и часто оставаясь едва замеченными среди них, с робким смирением и волнением ожидали момента, когда их представят новому вершителю их судеб!»
Эти места в книге и несколько других, равных им по красоте выражения мыслей и столь же правдивых, теряются среди множества подробных описаний, полных злобы. «Все эти подробности представляют собой искажённые факты и неверно пересказанные разговоры, — заявил император. И, ссылаясь на описание императрицы
516
Австрии, полное подхалимства, и нарисованный автором портрет императора Александра, чьи привлекательные достоинства и блестящие личные качества превозносятся в ущерб Наполеону, он воскликнул: — Конечно, это не французский епископ, а восточный маг, молящийся восходящему солнцу». Сейчас и в будущем я не стану добиваться справедливости, цитируя отрывки из других книг. Однако я должен опровергнуть утверждения аббата де Прадта, который пытался доказать, что французы были нечестными агрессорами в войне с Россией.
Император сказал о русской войне: «Никакие события нельзя считать пустяковыми, если они касаются наций и монархов; их судьбу определяют именно такие события. С некоторых пор в отношениях между Францией и Россией не было взаимопонимания. Франция укоряла Россию, что та нарушает условия континентальной системы; Россия требовала возмещения ущерба, нанесённого герцогу Ольденбургскому, и выступала с другими претензиями. Русские войска выдвигались к границам герцогства Варшавского, а французская армия концентрировала силы на севере Германии. Тем не менее, мы были далеки от того, чтобы урегулировать разногласия военными средствами. Внезапно русская армия начала марш в сторону герцогства Варшавского, а в Париже русский посол вручил нам дерзкую ноту, представлявшую собой ультиматум. Русский посол пригрозил, что покинет Париж через восемь дней в случае невыполнения требований, изложенных в ноте. Я расценил эту ноту как официальное объявление войны. Я уже давно отвык от того, чтобы ко мне обращались подобным образом, и я не позволял кому-либо грозно предупреждать меня. Я мог двинуться на Россию во главе всей остальной Европы: идея вторжения в Россию была популярной и вызывала интерес в Европе. Для Франции эта война должна была стать последним усилием: судьбы Франции и новой европейской системы зависели от этой войны. Россия была последним ресурсом Англии. Решающее слово в деле сохранения мира оставалось за Россией, в этом нет сомнений. Я двинулся в поход; но когда я достиг границы, я, которому Россия объявила войну отзывом из Парижа своего посла, по-прежнему считал своим долгом направить посла (Лористона) к императору Александру в Вильну. Мой посол не был принят, и война началась!
Всё же, кто зачинщик? Мы с Александром оказались в положении двух задир, которые, не желая драться, пытались напугать друг друга. Я бы охотно сохранил мир с Россией, поскольку испытывал воздействие множества негативных факторов. С другой стороны, всё, что я в то время знал, убеждало меня в том, что Александр хочет войны ещё меньше, чем я.
5/7
Господин Румянцев, который установил связи в Париже и который уже потом, когда русских стали преследовать неудачи, попал в немилость к Александру за то, что склонил русского императора следовать провальному политическому курсу, до этого заверял Александра, что наступил момент, когда Наполеон, запутавшись в своих делах, будет готов пойти на жертвы, чтобы избежать войны. Господин Румянцев настаивал на том, что не следует упускать возникшие благоприятные возможности, что необходимо только занять твёрдую позицию и быть настойчивым в переговорах, что для герцога Ольденбургского будет получена компенсация за нанесённый ему ущерб, что можно будет заполучить Данциг и что Россия, таким образом, приобретёт колоссальный политический вес в Европе.
Такова была причина передислокации русских войск к границам Польши и дерзкой ноты русского посла в Париже князя Куракина, который, несомненно, был в полном неведении относительно советов господина Румянцева императору России и который оказался в дураках, выполнив данное ему поручение слишком буквально. Те же самые ошибочные соображения и тот же самый провальный политический курс вызвали отказ принять Лористона в Вильне. Это был тот случай, когда ошибки и неудачи сопутствовали моей новой дипломатии. Она как бы пребывала в изоляции от окружающего мира, не имея тесных связей и контактов. Если бы мой министр иностранных дел был представителем старой аристократии и человеком, обладавшим большими способностями, то, несомненно, он бы заметил, что над Францией сгущаются тучи, и смог бы предотвратить наше вступление в войну.
Талейран, возможно, смог бы сделать то, что оказалось не под силу представителям новой школы дипломатии. Сам я не мог прояснить ситуацию, а чувство собственного достоинства не позволяло мне тратить время на то, чтобы объяснять моим дипломатам суть дела. Я мог сформировать своё окончательное мнение, только знакомясь с документами. И я бы напрасно перелистывал их вновь и вновь, поскольку обязательно пришёл бы к выводу, что они не в состоянии дать мне ответы на мои вопросы.
Стоило мне только начать военную кампанию против России, как сразу же всё прояснилось и истинные настроения противника были раскрыты. По прошествии двух или трёх дней Александр, встревоженный нашими первыми успехами, направил ко мне посла с предложением, что если я отведу мои войска с занятой ими территории обратно к Неману, то он будет готов вступить со мной в переговоры. Я, в свою очередь, воспринял его предложение как уловку. У меня было приподнятое настроение от достигнутых успехов; я застал русскую армию врасплох, поставив её в критическое положение,
я отрезал войско Багратиона от остальной русской армии, и у меня были все основания надеяться, что я разгромлю его. Поэтому я полагал, что противник своим предложением о переговорах всего лишь хочет выиграть время, чтобы привести в порядок свои силы. Будь я уверен в искренности Александра, то, несомненно, согласился бы с его предложением отвести войска назад к Неману. В этом случае русская армия не переправилась бы через Двину, Вильна осталась бы в нейтральной зоне, и там мы с Александром, каждый из нас в сопровождении нескольких батальонов гвардии, лично провели бы переговоры. Сколько разных соглашений предложил бы я ему! Александр должен был только сделать правильный выбор, и мы бы расстались добрыми друзьями.
Однако последовали события, приведшие к триумфу противника, а потому стоит ещё раз подумать о возможных и фактически принятых мерах и их последствиях. Действительно, Александр вступил в Париж, но вместе с силами всей Европы. Он получил Польшу. Но каковы последствия удара, нанесённого всей европейской системе? Она пребывает в постоянном беспорядке, и в это состояние были ввергнуты все её страны; европейское влияние на Россию возросло благодаря её новым территориальным приобретениям; русские войска осуществляют дальние военные экспедиции; новые люди и народы, оказавшиеся в составе России, а также иностранцы оказывают своё влияние.
Удовлетворится ли русская монархия лишь консолидацией всего того, что она получила? Или, наоборот, Россия подпадёт под влияние самодержавных амбиций, и какие только нелепые идеи она тогда не попытается осуществить! А ведь она потеряла Москву с её богатствами и ресурсами, а также богатства и ресурсы многих других городов! России нанесены раны, которые будут кровоточить в течение полувека, тогда как в Вильне мы могли бы договориться на благо подданных обеих стран и их монархов!»
В другой раз император сказал: «Я мог бы разделить с Россией Османскую империю. Мы не раз размышляли над этой идеей, но Константинополь всегда становился препятствием на пути её осуществления. Турецкая столица была огромным камнем преткновения в отношениях между нами. Россия хотела получить её, а я не мог уступить Константинополь: он стоит целой империи. Он является основой могущества, ибо тот, кто владеет им, может править всем миром. И что в итоге? Что получил Александр, чего он не мог бы Добиться, к своей выгоде, в Вильне?»
Один из нас ответил императору: «Сир, он победил, и он остаётся триумфатором». — «Выскажу вульгарное мнение, — воскликнул
519
император, — что ни один монарх не должен лелеять подобную мысль. Монарх, если он правит сам, или его советники, если они правят за него, — все они должны в грандиозных мероприятиях такого рода придавать меньше значения победе, чем её результатам. И если даже всё дело сводится к вульгарным соображениям, то я всё же утверждаю, что желаемая цель не была достигнута. Даже здесь пальма первенства должна быть отдана побеждённой стороне... Но выскажут ли здравомыслящие люди и историки подобное мнение?
Когда союзники вступили на территорию Франции, имея в своём обозе всю Европу, им противостояло войско, численность которого почти равнялась нулю. У союзников было 600 000 солдат в строю и почти столько же в резерве. Если бы они потерпели поражение, то им нечего было опасаться, они могли бы отступить назад. Я же в Германии, находясь в пятистах лье от дома, наоборот, имел в своём распоряжении войска, едва ли равные по численности войскам противника. Я был окружён монархами и народами, удерживаемыми только страхом, которые при первой же моей серьёзной неудаче готовы были выступить против меня. Но я праздновал победу среди постоянно возраставших опасностей; я был вынужден всё время проявлять и энергию, и гибкость. Во всех моих военных кампаниях я обязан был действовать нестандартно, мыслить нетрадиционно и выражать уверенность в реальности своих планов, которые, возможно, не одобрял никто в моём окружении.
Какие подвиги союзников могут быть сравнимы с моими деяниями? Если бы я не одержал победу при Аустерлице, то против меня выступила бы вся Пруссия. Если бы я не оказался победителем в сражении при Йене, то Австрия и Испания нанесли бы мне удар с тыла. Если бы я не праздновал победу в сражении при Ваграме, которая, между прочим, была менее убедительной, чем при Аустерлице и Йене, то я должен был опасаться, что Россия покинет меня и Пруссия выступит против меня; а тем временем англичане уже были под Антверпеном.
Однако как же я вёл себя после этих побед? Под Аустерлицем я подарил Александру свободу, хотя мог сделать его своим пленником*. После Йены я оставил королю Пруссии его трон, который я завоевал; после Ваграма я не стал делить на части австрийскую монархию.
* После моего возвращения в Европу меня заверили в том, что существуют две карандашные записки, написанные императором Александром, в которых он настоятельно просит, чтобы ему разрешили выйти из окружения. Если это правда, то каковы превратности судеб исторических личностей! Великодушный победитель обречён погибать в плену вдали от Европы, разлучённый с семьёй, по воле побеждённой стороны, чьи просьбы он так благородно выслушивал.
520
Если всё это будет приписываться великодушию, то хладнокровные и расчётливые политиканы, несомненно, будут порицать меня. Это чувство, которое мне не чуждо, сыграло здесь свою роль, однако я имел в виду более высокие цели. Я хотел объединить интересы различных европейских стран таким же способом, каким я примирил разные партии во Франции. У меня была амбициозная цель — в один прекрасный день стать третейским судьёй в великом деле объединения наций и королей, поэтому было необходимо, чтобы я закрепил за собой право на благодарность с их стороны; я добивался личной популярности среди них. А этого нельзя сделать, не потеряв что-либо в оценке французами моей личности; я сознавал это. Но я был полон сил и бесстрашен. Меня мало беспокоили мимолётные сомнения, быстро забываемые народом, поскольку я был уверен, что достигнутые мною результаты безусловно привлекут народ на мою сторону.
Я совершил большую ошибку после сражения при Ваграме, — надо было решительнее ослабить мощь Австрии. Она оставалась слишком сильной для нашей безопасности, и именно ей мы обязаны нашим крушением. На следующий день после сражения мне следовало официально заявить, что я буду вести мирные переговоры с Австрией только при условии предварительного раздела австрийской монархии на три независимые короны — Австрии, Венгрии и Богемии. Реально ли это? Один принц австрийского императорского двора несколько раз делился со мной идеей о передаче ему одной из двух последних упомянутых корон или даже о его восхождении на австрийский императорский трон, который занимал его родственник, под тем предлогом, что только таким образом можно будет заставить Австрию искренно вести себя со мной. Он даже предложил передать мне своего сына в качестве заложника и давал мне всевозможные гарантии».
Император сказал, что он самым серьёзным образом обдумывал эту идею. Какое-то время, до женитьбы на Марии Луизе, он колебался, принять ли ему предложение этого австрийского принца или отказаться от него; но после заключения брачного союза с Марией Луизой эта идея стала неосуществимой. Он высказал мнение, что его взгляды на этот брачный союз были слишком обывательскими. «Австрия, — заявил он, — стала частью моей семьи; и всё же моя женитьба погубила меня. Если бы я не чувствовал себя в безопасности и защищённым этим брачным союзом, то я бы отложил на три года возрождение Польши; я бы подождал, пока Испания не станет покорной и спокойной. Я упал в прикрытую цветами пропасть».
521
Нездоровье императора — Его первый день полного уединения — Послы Персии и Турции — Забавные истории
29 апреля 1816 года
Около пяти часов дня меня посетил гофмаршал. Ему не разрешили нанести визит императору, который из-за плохого самочувствия весь день провёл один в своих апартаментах; он отказался принимать кого бы то ни было. С наступлением вечера я вышел прогуляться по тем тропинкам, по которым император обычно гулял в это время суток. Находясь в одиночестве, я пребывал в печали. Наш обед прошёл без императора.
Около девяти часов вечера, когда я сокрушался по поводу того, что в течение всего дня мне не пришлось увидеться с императором, он вызвал меня. Я выразил беспокойство в связи с его плохим самочувствием. Император ответил, что он вполне здоров, но ему нравится оставаться одному: он весь день читал и время прошло быстро и незаметно.
Тем не менее он выглядел подавленным и вялым. Он взял мой «Атлас», который лежал рядом с ним, и, открыв его на той странице, на которой была помещена карта мира, бросил взгляд на Персию. «У меня были отличные планы в отношении этой страны, — заявил император. — Каким хорошим подспорьем, каким дополнительным средством воздействия стала бы она, если бы я хотел потревожить Россию или осуществить вторжение в Индию. Я начал налаживать отношения с Персией и надеялся, что они станут очень близкими, как и отношения с Турцией. Можно было предположить, что эти страны достаточно хорошо понимали свои жизненные интересы, для того чтобы согласиться с моими предложениями, но в решающий момент и персы, и турки ускользнули от меня. Английское золото оказалось более могущественным, чем мои планы. Вероломные министры за горсть гиней пожертвовали процветанием своей страны; это обычно для гаремных монархов и слабоумных королей».
Затем император, оставив в покое политику, стал рассказывать забавные истории из жизни гарема, вспомнив о книге Монтескье «Персидские письма», которая, как он сказал, отличалась остроумием, точными наблюдениями и, прежде всего, острой сатирой на современников. Потом он заговорил о послах Турции и Персии в Париже во время его правления. Император спросил меня, какое впечатление они производили во французской столице, наносили ли они визиты, устраивали ли они приёмы у себя, и т.д.
522
Я ответил, что во время своего пребывания в Париже они завладели всеобщим вниманием, устраивая нечто вроде балагана каждый раз при посещении мероприятий императорского двора. Особое любопытство вызывал персидский посол. Приехав в Париж, он с готовностью принимал гостей, а так как он одаривал их духами и даже шалями, то был фаворитом дам. Но вскоре он был вынужден ограничить проявляемую щедрость, поскольку слишком много людей охотно наносили ему визиты, и с тех пор стремление посетить его дом исчезло, а персидский посол был забыт. Я добавил, что в императорском дворце, когда сам император отсутствовал, мы осмеливались — разумеется, весьма доброжелательно — подшучивать над восточными послами. На концерте, который однажды был дан в императорском дворце по распоряжению императрицы Жозефины, присутствовал персидский посол Аскер-хан, который выделялся среди гостей своей длинной крашеной бородой. Он, видимо, сильно устал от музыки и заснул стоя, прислонившись спиной к стене и опираясь на кресло, стоявшее в углу около камина. Кто-то, решив подшутить над ним, осторожно подвинул кресло, и его превосходительство, до этого стоявший в полный рост, свалился на пол. Оказавшись на полу, персидский посол проснулся и оглушительно завопил. Обычно Аскер-хан лучше воспринимал шутки, чем турецкий посол, но в этот раз он сильно рассердился, а так как мы могли объясняться с ним только жестами, то вся сцена выглядела весьма нелепой. Вечером императрица поинтересовалась причиной шума,
который она услышала во время концерта, и когда ей рассказали всю историю, она от души рассмеялась, но потом всё же основательно пожурила нас.
«Конечно, вы поступили плохо, — отреагировал император, — но ради чего он явился на этот концерт?» — «Сир, — ответил я, — он и турецкий посол явились на концерт, чтобы тем самым выразить вам свою любовь и уважение. Они надеялись, что Ваше Величество осведомлены о концерте, хотя вы в это время находились в пятистах лье от Парижа». Я добавил, что и в других случаях они оба проявили себя искусными льстецами, и их желание снискать расположение императора переходило всяческие границы. «Мы часто видели, — сказал я, — как они появляются по окончании дипломатических приёмов, проводимых в воскресенье, чтобы затем последовать за Вашим Величеством на мессу и занять скамьи в том месте, которое отведено для кардиналов святой католической церкви». — «Что за чудовищное зрелище! — воскликнул император. — Что за нарушение их собственных принципов и обычаев! Да, я стал причиной странных вещей и поступков! А ведь им никто не приказывал, даже не намекал. Никому это и в голову не приходило».
Наша беседа о двух восточных послах продолжалась. Я вспомнил о том, что великий канцлер империи Камбасерес, как мне рассказали, однажды в их честь дал пышный обед. Хотя они оба были из одного и того же региона Земного шара и принадлежали к одной и той же религии, они, тем не менее, проявляли совершенно разные черты характера. Турок, являясь приверженцем Омара, напоминал янсениста, а перс, ярый последователь Али, — иезуита. Рассказывали, что во время обеда у Камбасереса оба восточных посла внимательно следили друг за другом, когда слуги наливали в бокалы вино; так два католических епископа, если бы они сидели за одним столом, бдительно наблюдали бы друг за другом (вдруг кто-то из них соблазнится мясным блюдом в пятницу). Турок был невежественным человеком с мрачным характером и внешне мало отличался от животного. Перс был знаком с литературой, отличался говорливостью и имел репутацию умного человека. Во время обеда заметили, что он не пользуется ножом и вилкой, когда ест со своей тарелки или берёт еду с подноса. Его особенное внимание привлекла наша привычка есть хлеб с каждым блюдом. Он заявил, что не может понять, почему мы должны всегда есть одно и то же с каждым кушаньем.
Думаю, что я уже писал о том, что ничто так не забавляло императора, как рассказы о светской жизни в Париже, забавные истории наших гостиных и т.д.
Когда мы бывали наедине, ему очень нравилось беседовать со мной на темы об эмигрантах и о Сен-Жерменском предместье.
524
Однажды он объяснил свой интерес к этим темам следующим образом: «Я хорошо знаю всё, что имеет отношение к моей личности, но я никогда не знал подробностей жизни эмигрантов и аристократов Сен-Жерменского предместья». Император сказал, что ему свойственно естественное желание знать всё, что происходит рядом с ним, а также то, о чём говорят в провинции. «Я выслушивал многое из всего этого, — добавил он, — во времена моего правления, но всякий раз, когда мне говорили что-то приятное, я сразу настораживался, опасаясь вкрадчивости; и если, наоборот, мне докладывали о чём-то неприятном, связанном с тем или иным человеком, то я не доверял рассказу и старался избежать чувства презрения. Здесь, на острове, мой дорогой Лас-Каз, нет ни первого, ни второго. Мы с вами, вы и я, уже принадлежим к иному миру; мы беседуем, словно находимся в загробном мире блаженных: у вас нет цели чего-то домогаться ради корыстных интересов, а я лишён подозрений». Поэтому я стремился воспользоваться каждым предоставленным мне удобным случаем, чтобы улучшить настроение императора. Он сознавал это и отдавал мне должное за мои старания. Когда я закончил рассказывать одну забавную историю, он ущипнул меня за ухо и доброжелательным тоном, доставившим мне радость, сказал: «В вашем “Атласе” я прочитал рассказ об одном северном монархе, который был заточён в тюрьму. Один из его солдат добился разрешения разделить его заключение, чтобы ободрять своего монарха, вести с ним беседы и читать ему забавные истории. Мой дорогой Лас-Каз, вы и есть тот самый солдат».
В этот раз я описал императору один конфуз, нечаянной жертвой которого оказался господин де Марбуа. Император ранее не слышал этой истории. Дело заключалось в следующем: однажды, как рассказывают, Аскер-хан, почувствовав сильное недомогание и потеряв доверие к своему персидскому врачу, распорядился, чтобы к нему пригласили господина Бурдуа, одного из лучших врачей Парижа. Посыльный по ошибке отправился к господину де Марбуа, бывшему министру казначейства, который в то время был председателем высшего суда по финансовым делам. «Его превосходительство посол Персии очень болен, — сказал посыльный, — он хочет видеть вас». Марбуа не мог понять, какое дело может иметь к нему персидский посол; но Аскер-хан являлся послом великой Персии, и тщеславие Марбуа заставило его смириться с абсурдом ситуации. Полный самомнения, он проследовал в резиденцию персидского посла. Надо заметить, что в его одежде, в выражении его лица и в его манерах не было ничего такого, что могло бы вызвать подозрение У перса, который, едва увидев Марбуа, тут же показал ему язык и, протянув вперёд руку, дал ему понять взглядом, что нужно проверить пульс. Эти странные жесты удивили Марбуа, но он подумал,
525
что так проявляются какие-то восточные манеры. Он взял предложенную ему руку и стал сердечно пожимать её. В эту минуту четверо слуг посла торжественно вошли в комнату и вручили бывшему министру сосуд, имевший весьма недвусмысленное назначение, что должно было дать информацию о состоянии здоровья пациента. При виде всего этого спектакля высокопоставленный вельможа, господин де Марбуа, пришёл в неописуемую ярость и спросил, что означает вся эта странная комедия. Наконец выяснилась причина недоразумения: персидский посол ждал прихода Бурдуа, и ошибка произошла из-за сходства двух фамилий. Бедняга Марбуа стал посмешищем Парижа и долгое время нигде не мог показаться без того, чтобы не вызвать весёлого оживления у окружающих.
«Гостиные Парижа действительно горазды на потрясающие шутки! — подтвердил император. — И в большей своей части они едкие и остроумные. Они всегда пробивают брешь в защите врага, и обычным следствием этого является его полное поражение». — «Это правда, — согласился я, — они никого и ничего не щадят. Даже религия не оставалась для них неприкосновенной, и Ваше Величество может без труда предположить, что ни вы, ни императрица не избежали их стрел». — «Полагаю, что нет, — не стал возражать император, — но неважно; так что же говорили о нас?» — «Ходили слухи, сир, что однажды Ваше Величество, прочитав донесение из Вены, вызвавшее ваше недовольство, сказали императрице в минуту плохого настроения: “Ваш отец — настоящий болван”. Мария Луиза, которая не знала значений многих французских слов, повернулась к придворному, стоявшему около неё, и, вполголоса сказав ему, что император назвал её отца болваном, спросила, что означает это слово. Придворный, застигнутый врасплох этим неожиданным вопросом, пробормотал, что этим словом называют умного человека, обладающего здравым смыслом и чрезвычайными способностями. Некоторое время спустя, когда это новое слово, выученное ею, ещё было свежо в её памяти, императрица присутствовала на заседании Государственного совета, на котором с жаром обсуждали одну текущую проблему. Для того, чтобы утихомирить членов Государственного совета, императрица во весь голос обратилась к Камбасересу, сидевшему рядом с ней и пытавшемуся скрыть зевоту, со следующими словами: “Вы должны показать нам правильную дорогу к решению этой важной проблемы. Вы будете нашим судьёй, ибо я считаю вас величайшим болваном империи”».
При этих словах император, как ни старался, не мог удержаться от смеха. «Какая жалость, — воскликнул он, — что эта забавная история не соответствует истине! Только представьте себе всю эту сцену. Оскорблённое достоинство Камбасереса, веселье всего
526
Государственного совета и замешательство бедняжки Марии Луизы, встревоженной успехом её непроизвольной остроты».
Ещё долго наша беседа продолжалась в том же духе, и я провёл с императором почти два часа; я старался по возможности приложить все усилия, чтобы развлечь его, и мне удалось это сделать. У императора поднялось настроение, и он не раз от души смеялся. Отпуская меня, он чувствовал себя гораздо лучше, чему я был несказанно рад.
Второй день уединения — Император принимает губернатора
30 апреля 1816 года
Сегодня мы с сыном были приглашены господином Балькомбом на обед в коттедж «Бриары». Примерно в половине четвёртого мы отправились туда по настоянию императора: как и вчера, он чувствовал себя нездоровым и не собирался покидать своих апартаментов.
Перед самым коттеджем «Ворота Хатта», резиденцией госпожи Бертран, я встретил губернатора, ехавшего в Лонгвуд, и он спросил меня о самочувствии императора. Я ответил губернатору, что у меня вызывает беспокойство состояние здоровья императора и что вчера он никого из членов свиты не принимал. Я добавил, что сегодня утром, отвечая мне, он сказал, что здоров, однако его лицо выражало совершенно другое.
Около половины десятого вечера мы покинули «Бриары» и отправились обратно в Лонгвуд; было очень темно. Полил дождь, сильный и резкий, как град. Наш путь был чрезвычайно неприятным и опасным, и мы испугались не на шутку. Каждую минуту мы могли ожидать, что свалимся вместе с лошадьми в ту или иную пропасть, поскольку были вынуждены гнать их галопом наугад, не видя в кромешной тьме, куда едем. Мы приехали в Лонгвуд, промокнув до нитки.
Император распорядился, чтобы я сразу же по возвращении посетил его. Он чувствовал себя вполне сносно, но продолжал, как и вчера, оставаться в своих апартаментах. Император сказал, что Ждал меня и что ему надо многое сообщить мне.
Когда император узнал, что приехал губернатор, он принял его в своей комнате, хотя не был полностью одет и не мог подняться с канапе. Император сказал, что совершенно спокойно обсуждал с губернатором все проблемы, которые волновали его. Он говорил о своём протесте по поводу соглашения, подписанного второго августа, в котором союзные монархи объявили, что он является ссыльным
527
и пленником. Император спросил, какое право имели эти монархи, не спрашивая на то его согласия, отправить его в ссылку, — его, который был равным им и, бывало, повелевал ими. Он заявил губернатору, что если бы он посчитал нужным отправиться в Россию, то Александр, называвший себя его другом и имевший с ним только политические разногласия, если даже более не признавал бы его как монарха, то, по крайней мере, принял бы его по-королевски. Этого губернатор не мог отрицать. Император сказал, что если бы он посчитал нужным искать прибежище в Австрии, то император Франц не мог, не покрыв себя позором, отказать ему в приёме не только в его империи, но даже в его доме и в его семье, членом которой он, Наполеон, является. С этим губернатор также согласился.
«Наконец, — сказал император, — если бы я, исходя из личных корыстных интересов, настойчиво продолжал защищать их во Франции силой оружия, то, вне всяких сомнений, союзники одарили бы меня огромными благами, возможно, даже и территорией». Губернатор, некоторое время не знавший, что ему сказать по этому поводу, в конце концов согласился с тем, что император, несомненно, мог бы без труда получить во владение территорию. «Я не хотел этого, — продолжал император, — я принял твёрдое решение отойти от государственных дел, возмущённый тем, как ведущие государственные мужи Франции предавали свою страну или, по меньшей мере, совершали ошибки, нанёсшие колоссальный ущерб её интересам; я был возмущён, узнав, что большинство депутатов Франции предпочли бесчестье смерти и унизились до такой степени, что стали торговать независимостью, то есть священной категорией; независимость, как и честь, должна быть подобна скале, неприступному
528
острову. На что же я решился при таком состоянии дел? Какое решение я принял? Я искал приюта в стране, в которой, как считалось, правит закон, среди народа, для которого я в течение двадцати лет был злейшим врагом! Но как вы поступили? Вечный позор вам! Ваше поведение будет отражено в анналах истории, и Провидение отомстит за меня: рано или поздно вы будете наказаны! Не за горами то время, когда ваши последующие поколения, ваши законы искупят ваше преступление! Ваши министры своими инструкциями в достаточной мере доказали, что они хотят избавиться от меня! Почему же тогда монархи, объявившие меня вне закона, открыто не издают декрета о моей смерти? Этот их поступок был бы таким же законным, как и любой другой. Действуя более решительно, они приблизили бы конец моим мучениям, теперь же они обрекли меня на медленную смерть. Калабрийцы, казнив Мюрата, проявили себя более гуманными и великодушными, чем союзные монархи и ваши министры. Я не стану самоубийцей. Это был бы трусливый поступок. Стремление преодолевать трудности и переносить несчастья — качества благородного и мужественного человека. Мы, смертные, обязаны подчиняться своей судьбе. Но если хотят держать меня здесь до конца моих дней, то я думаю, что вы окажете мне большую услугу, лишив меня жизни, ибо на этом острове я ежедневно испытываю агонию! Остров Святой Елены слишком мал для меня, я привык ездить верхом десять, пятнадцать и двадцать лье. Местный климат не имеет ничего общего с нашим климатом: ни здешнее солнце, ни природа в разные времена года не похожи на то, к чему мы привыкли. Всё здесь чуждо счастью и уюту. Вредные для здоровья жизненные условия этого острова усугубляются нехваткой воды. Часть острова, в которой находится Лонгвуд, абсолютно бесплодна. Местные жители её покинули».
Губернатор заявил, что в соответствии с данными ему инструкциями верховые поездки императора по острову ограничены определённой зоной передвижения и что во время этих поездок императора должен сопровождать офицер. «Если эти инструкции будут проводиться в жизнь именно таким образом, — ответил император, — то я никогда не выйду из комнаты. Если ваши инструкции не допустят расширения зоны моего передвижения по острову, то впредь вам не нужно что-либо делать для нас. Хотя я и не прошу ничего для себя. Передайте всё, что я вам сказал, английскому правительству».
«Сложившаяся ситуация, — сказал губернатор, — является следствием того, что инструкции, направленные издалека, касаются человека, о котором те, кто готовил эти инструкции, знают очень мало». Затем губернатор постарался изменить тему разговора, коротко сказав о том, что с прибытием на остров находящегося в пути
529
корабля, везущего деревянный дом для императора, возможно, будут улучшены условия его жизни. Ожидаемый корабль доставит также мебель и запасы провизии, что, как предполагается, поднимет настроение императора. Английское правительство прилагает все усилия, чтобы облегчить положение императора, и т.д.
Император ответил, что их усилия ни к чему не приводят, что он просил направлять ему газеты «Морнинг Кроникл» и «Стейтсмэн», чтобы он мог читать то, что пишут о нём в наиболее приемлемом тоне, но его просьба так и не была удовлетворена. Он просил книги, которые являются его единственным утешением, — прошло девять месяцев, но ни одной книги он не получил. Он хотел получить известие о жене и сыне, но его просьба осталась без ответа.
«Что касается провизии, мебели и нового дома, предназначенного для меня, — продолжал император, — то и вы, сэр, и я — солдаты; мы знаем цену этим вещам. Вы были в моём родном городе, возможно, в доме моей семьи. Он не самый худший на острове, у меня нет причин стыдиться его; тем не менее вы видели его, — он небольшой. Хотя я занимал трон и правил монархами, я не забыл тех условий, в которых мне приходилось жить в ранние годы; как вы сейчас видите, мне по-прежнему достаточно канапе и походной кровати».
Губернатор заявил, что деревянный дом с мебелью по крайней мере свидетельствует о том внимании, которое английское правительство уделяет императору. «Он свидетельствует о вашем желании предстать в лучшем виде в глазах Европы, — возразил император, — но мне этот дом абсолютно безразличен. Мне должны прислать не дом, не мебель, но палача и гроб. Первые являются издевательством, вторые были бы для меня благом. Я повторяю вновь, что инструкции ваших министров приведут именно к такому результату, и это то, чего я хочу. Адмирал, по сути неплохой человек, смягчал, как теперь мне представляется, полученные им инструкции; у меня нет жалоб в связи с его действиями, но меня оскорбляли способы их совершения».
В этом месте разговора губернатор спросил, не совершал ли невольно он, губернатор, каких-либо ошибок. «Нет, сэр, со времени вашего приезда у нас не было жалоб. Тем не менее один ваш поступок оскорбил нас, а именно — ваш допрос, учинённый нашим слугам. Он был оскорбителен для господина де Монтолона тем, что явно бросил тень на его честность; а мелочный и неприятный характер этого допроса был оскорбителен, возможно, и для вас — английского генерала, который пришёл вмешиваться в личные отношения между мною и моим камердинером».
Губернатор сидел в кресле, сбоку от императора, который лежал, растянувшись на канапе. Надвигался вечер, и было трудно в темноте
530
различать отдельные предметы в комнате. «Поэтому, — признался император, — напрасно я старался понять смену настроения губернатора, разглядывая его лицо, и увидеть впечатление, которое производили на него мои слова».
Во время разговора император, читавший сегодня утром работу Альфонса де Бошана «Военная кампания 1814 года», в которой все английские оперативные бюллетени подписывались именем некоего Лоу, спросил губернатора, не его ли подпись стоит под бюллетенями. Сэр Хадсон Лоу пришёл в явное замешательство и ответил утвердительно. Он добавил, что в бюллетенях представлены его взгляды и мнения. Губернатор, уже несколько раз предлагавший, чтобы императора лечил, по его словам, очень опытный врач, находившийся в подчинении губернатора, вновь предложил прислать своего врача в Лонгвуд, покидая императора. Но император, прекрасно понимая мотивы, которыми руководствуется губернатор, когда предлагает своего врача, как всегда решительно отказался принять это предложение.
Рассказав мне все эти подробности состоявшегося разговора с губернатором, император несколько минут провёл в молчании. Затем, очевидно, что-то взвешивая в уме, он заговорил вновь: «Какое неприятное и подлое лицо у губернатора! Ничего подобного я в своей жизни не видел! Я бы не смог пить кофе, если бы этот человек остался наедине со мной хотя бы на минуту. Мой дорогой Лас-Каз, они прислали ко мне нечто хуже, чем просто тюремщика!»
Третий день уединения —
Краткое изложение истории деяний императора
1 мая 1816 года
Как и вчера, император сегодня не выходит из своей комнаты. После моей поездки в «Бриары» я чувствую себя нездоровым: меня слегка лихорадит, и я впал в состояние апатии. В семь часов вечера меня вызвал император. Когда я пришёл к нему в комнату, то застал его читающим работу Роллена, которого, как обычно, он обвинил в вольном обращении с фактами, неприемлемом для историка. Он не казался нездоровым и даже заявил, что прекрасно себя чувствует, но это заявление заставило меня ещё больше тревожиться о состоянии его здоровья. Оно явно не улучшится в условиях добровольного уединения и малоподвижного образа жизни. Император перенёс обед на час позже, чем обычно, и задержал меня, чтобы я обедал вместе с ним. Перед обедом он выпил бокал кон- станского вина, — он обычно так делает, когда хочет поднять настроение.
После обеда он просмотрел свои воззвания, прокламации и приказы, опубликованные в несовершенном сборнике Голдсмита. Чтение некоторых из этих документов, видимо, вызвало у него интерес; он отложил в сторону книгу и, прохаживаясь по комнате, сказал: «В конце концов, пусть они сокращают и искажают тексты моих документов сколько им заблагорассудится, а отдельные документы утаивают. Они обнаружат, что всё равно будет очень трудно держать меня в тени. Историк Франции не может оставить без внимания Империю, и если он будет хотя бы немного честен, то воздаст мне должное. Его задача будет лёгкой, ибо факты говорят сами за себя, они сияют подобно солнцу. Я прекратил анархию и упорядочил хаос. Я обуздал революцию, возвеличил нации и укрепил троны королей. Я стимулировал все виды соперничества, вознаграждал каждого по заслугам и расширил границы славы! Всё это что-то да значит! В чём бы меня ни обвинили, историк сможет меня защитить. Меня обвинят в моих намерениях? Но даже в этом я могу найти оправдание. Может быть, в моём деспотизме? Будет доказано, что диктатура была абсолютно необходима. Скажут ли, что я ограничил свободу? Но со временем станет ясно, что распущенность, анархия и массовые беспорядки по-прежнему стояли на пути свободы. Буду ли я обвинён в том, что слишком любил войну? Факты свидетельствуют, что я всегда первым подвергался нападению. Станут ли говорить, что я стремился к всемирной монархии?
532
Можно доказать, что это стремление было всего лишь результатом случайных обстоятельств и что наши враги сами вели меня шаг за шагом к этой цели. Наконец, будут ли меня обвинять в том, что я был честолюбив? Несомненно, надо признать, что я обладал этим качеством, причём в немалой степени; но в то же время мои амбиции были самыми высокими и благородными из всех, которые когда-либо существовали, — потому, что моё честолюбие было направлено на создание Империи Разума и служение этой империи ради полного претворения в жизнь и использования всех физических и умственных способностей человека! И в этом случае историк, вероятно, будет вынужден сожалеть, что подобное честолюбие не нашло выражения и не было удовлетворено!» Через несколько минут молчаливого раздумья император заявил: «Вот в нескольких словах вся история моих деяний».
Четвёртый день уединения — Положительное отношение газеты «Монитор» к императору
2 мая 1816 года
Как и в предыдущие дни, император по-прежнему не покидает свою комнату. Он вызвал меня к себе в девять часов вечера, после того, как я закончил обедать. Днём он никого не принимал. Я оставался с ним до одиннадцати часов; он был в хорошем настроении и выглядел неплохо. Я уверял его, что дни, в течение которых мы не видим его, кажутся нам очень скучными, и мы боимся, что его здоровье ухудшится из-за постоянного пребывания в четырёх стенах и отсутствия свежего воздуха. Добровольное заточение императора вызывает у меня большое беспокойство и печаль. За полчаса до того, как император отпустил меня, он лёг, сказав, что ноги отказываются ему служить. Он чувствует усталость от хождения, хотя он только несколько раз прошёлся со мной взад и вперёд по комнате.
Император много говорил о Почётном легионе, о сборнике Голдсмита и о газете «Монитор». В отношении этой газеты он сказал, что она, несомненно, играла весьма значительную роль в общественной жизни страны. Мало кто, помимо него, мог похвастаться, что прошёл всю революцию с самого её начала, сохраняя популярность и совершенно не опасаясь «Монитора». «Нет ни одного предложения в газете, — заявил император, — которое я хотел бы стереть с её страниц. Напротив, “Монитор” будет безошибочно служить мне в качестве оправдательного документа всякий раз, когда у меня возникнет в этом необходимость».
533
Пятый день уединения
3 мая 1816 года
Император по-прежнему ведёт жизнь затворника в четырёх стенах, никого не принимая из членов своей свиты; это пятый день его уединения. Никто из членов его свиты не знает, чем он занимается в своей комнате. Он «тайно» послал за мной, и я пришёл к нему в шесть часов вечера. Я вновь выразил ему нашу горечь и боль по поводу того, что он ведёт жизнь затворника. Он сказал мне, что хорошо переносит своё затворничество, но что дни кажутся ему длинными, а ночи ещё более продолжительными. В течение всего дня он ничем не занимался: он сказал, что чувствовал себя неважно; и действительно, в моём присутствии он всё ещё оставался молчаливым и угрюмым. Я помог ему принять ванну. Этот вечер он завершил разговором на весьма важную тему.
Шестой день уединения
4 мая 1816 года
Император по-прежнему не покидает своей комнаты. Он выразил желание совершить верховую прогулку в четыре часа, но дождь помешал ему осуществить этот план. В своей комнате он принял гофмаршала Бертрана.
В восемь часов он послал за мной, чтобы я обедал вместе с ним. Он рассказал мне, что губернатор посетил гофмаршала и оставался у него более часа. Разговор между ними часто принимал неприятный характер и иногда шёл на повышенных тонах. Губернатор говорил на различные темы, проявляя дурное настроение и непочтительность к собеседнику. Он изъяснялся в очень туманной и неконкретной манере. Как выяснилось, он очень недоволен, в частности, тем, что мы слишком часто жалуемся, не имея на то оснований. Он утверждал, что мы всем очень хорошо обеспечены и нам следует быть довольными нашим положением, что мы глубоко заблуждаемся в отношении нас самих и условий, в которых находимся. Губернатор добавил — по крайней мере, именно так мы его поняли, — что он желает воочию видеть императора каждый день, чтобы лично убеждаться в его существовании и физическом присутствии в Лонгвуде.
Несомненно, что именно эта проблема была действительной причиной плохого настроения губернатора и его возбуждённого состояния. Прошло несколько дней, в течение которых он не мог получить никакого донесения от английского дежурного офицера и от своих
534
шпионов об императоре, поскольку последний не выходил из своих апартаментов и никого не принимал.
Но какие меры примет губернатор? Этот вопрос занимает нас всех. Император никогда не примирится, даже под угрозой своей жизни, с регулярными визитами губернатора, который может, следуя капризу, появиться в жилище императора в любое время дня и ночи. Применит ли губернатор силу, лишая императора права на уединение в маленькой комнате, что даёт ему несколько часов отдыха? Инструкции, данные губернатору, должны предусматривать такие варианты развития событий. Грубое нарушение закона, полное отсутствие уважения, любое проявление жестокости — что бы ни случилось, меня это не удивит.
Что касается замечания губернатора по поводу того, что мы глубоко заблуждаемся в отношении нас самих и нашего положения, то мы очень хорошо сознаём, что вместо того, чтобы находиться в Тюильри, мы находимся на острове Святой Елены, и что вместо того, чтобы каждый из нас был хозяином своего положения, мы являемся пленниками. Как же мы можем в этом заблуждаться?
О Китае и России — Сходство и различия между великими революциями во Франции и в Англии
5 мая 1816 года
Около десяти часов утра император впервые после долгого перерыва отправился на верховую прогулку. Когда он собирался оседлать лошадь, ему сообщили, что представитель Восточно-Индийской компании в Китае приехал в Лонгвуд и попросил оказать ему честь быть представленным императору. Император пригласил его и задал ему несколько вопросов, ответы на которые он выслушал с большим вниманием. Затем мы выехали, чтобы навестить госпожу Бертран. Император оставался у неё около часа. Он выглядел ослабевшим, его внешний вид заметно изменился; беседа императора с госпожой Бертран прошла вяло. Мы вернулись в Лонгвуд, и император захотел, чтобы ему подали завтрак на свежем воздухе.
На завтрак он пригласил нашего хозяина в коттедже «Бриары» почтенного господина Балькомба и представителя Восточно-Индийской компании в Китае, который всё ещё находился в Лонгвуде. Всё время завтрака было посвящено вопросам, касавшимся Китая, его населения, законов, обычаев и торговли.
Представитель компании заявил, что несколько лет назад в отношениях между русскими и китайцами произошло одно событие,
535
которое могло бы привести к важным результатам, если бы Россия не была целиком занята европейскими проблемами.
Русский мореплаватель Крузенштерн, совершавший кругосветное плавание во главе эскадры из двух кораблей, остановился в Кантоне. Там он был принят условно, до получения соответствующего указания от императорского двора в Пекине, а пока ему разрешили продать меха с его кораблей и взамен погрузить на борт закупленный чай. Указаний китайского императорского двора ждали более месяца; Крузенштерн покинул гавань Кантона за два дня до их получения. Указания предусматривали, что русские корабли должны были немедленно покинуть порт Кантона, что вся торговля с русскими на юге Китая запрещалась, что им уже уступили большую территорию на севере Китайской империи, так что со стороны русского императора было бы чудовищной ошибкой пытаться расширить своё влияние на юге Китая, используя море, и что те лица, которые будут способствовать расширению этого влияния, будут строго наказаны. Далее следовало предписание: в случае, если русские корабли покинут порт Кантона до прибытия данных указаний из Пекина, английской фактории в Кантоне будет предложено передать их содержание императору России по каналам связи в Европе.
Наполеон чувствовал себя очень уставшим от своей краткой верховой прогулки, — до неё он не покидал своих апартаментов в течение шести дней; сегодня он в первый раз появился в кругу своей свиты после добровольного заточения. Мы увидели заметное изменение черт его лица.
536
Он вызвал меня в пять часов дня; с ним был гофмаршал. Император был не одет; он безуспешно пытался немного отдохнуть. Он полагал, что его лихорадит, — это состояние было результатом его чрезмерной усталости. Император распорядился, чтобы разожгли камин, но не хотел, чтобы у него в комнате горели свечи. Мы сидели в темноте, беседуя на различные темы. Это продолжалось до восьми часов вечера, затем император отпустил нас на обед.
Днём мы говорили о двух великих революциях, произошедших в Англии и во Франции. «Между этими двумя великими событиями, — заявил император, — много различий, но много и общего; они дают обильную пищу для раздумий». Затем он сделал ряд весьма любопытных и ценных замечаний. Я привожу их наряду с другими его мыслями по тому же поводу, высказанными в течение дня.
«Во Франции и в Англии тучи сгустились во времена слабых королей — Людовика XV и Якова I, но громы революций грянули над головами несчастных Людовика XVI и Карла I.
Эти монархи пали жертвами революций: оба погибли на плахе, а их семьи были объявлены вне закона и подвергнуты изгнанию.
Оба монархических государства стали республиками, и в периоды республик обе страны были ввергнуты в состояние крайней невоздержанности, которая приводит к деградации человеческого сердца и разума. Обе страны пережили позор, сопровождавшийся сценами безумия, кровопролития и насилия. Все человеческие узы были разорваны, и все принципы нарушены.
Два человека — один в Англии, другой во Франции — положили конец стихийному развитию событий и открыли новые эпохи управления своими странами. После них троны были возвращены двум королевским династиям, но обе следовали ошибочному курсу и допускали промахи. Вдруг обе династии были вновь сметены мощными волнами событий, не оказав сопротивления своим противникам.
Наполеон во Франции был, по-видимому, одновременно и Кромвелем, и Вильгельмом III Оранским, королём Англии, — таковы своеобразные параллели. Но поскольку всякое сравнение с Кромвелем является в некоторой степени одиозным, то я должен добавить, что если эти две выдающиеся личности и были однажды очень похожи друг на друга, то во всех других случаях они проявили себя как совершенно разные люди.
Кромвель появился на мировой политической сцене в зрелом возрасте. Он достиг вершины власти, проявляя ловкость, двуличие и лицемерие.
Наполеон отличился ещё в юности, а его первые шаги на мировой политической сцене принесли ему заслуженную и неувядаемую славу.
537
Кромвель достиг вершины власти, преодолевая сопротивление и испытывая ненависть со стороны всех политических партий. Он покрыл несмываемыми пятнами позора английскую революцию.
Наполеон, наоборот, взошёл на трон благодаря согласованности действий всех политических партий, стремившихся видеть его в качестве их лидера, и стёр пятна позора со знамени французской революции.
Слава Кромвеля была куплена ценой английской крови, его триумфы часто становились причинами национальной скорби; победы Наполеона были одержаны над иноземными врагами, и они наполняли душу французского народа чувствами радости и восторга.
Наконец, смерть Кромвеля вызвала чувство ликования по всей Англии; в этом событии видели общее спасение. Ничего подобного нельзя сказать о падении Наполеона.
В Англии революция приняла форму восстания народа против короля: король нарушил законы, узурпировал власть, и народ хотел вернуть свои права.
Во Франции революция произошла в виде восстания одной части населения страны против другой её части, а именно, восстания третьего сословия против аристократии — галлы против франков, только в новой исторической реальности. Король подвергся нападениям восставших не столько потому, что он монарх, но скорее потому, что он стоял во главе феодальной системы. Ему не ставили в вину нарушение законов, но люди хотели освободить себя и заявляли о правах нации.
В Англии, если бы Карл I добровольно уступил требованиям восставших, если бы он обладал кротким и нерешительным характером Людовика XVI, то он бы остался в живых.
Во Франции, наоборот, если бы Людовик XVI открыто оказал сопротивление, если бы он обладал мужеством, энергией и страстностью Карла I, то он бы с успехом подавил восстание.
В течение всего политического конфликта Карла I защищали те, кто составлял узкий круг его сторонников, он не имел связей с другими сословиями королевства и находился в изоляции от своих подданных.
Людовика XVI поддерживали иностранные монархи, регулярная армия и два сословия его подданных — аристократия и духовенство. Кроме того, в распоряжении Людовика XVI оставался ещё один важнейший ресурс, которого не было у Карла I: он мог перестать быть феодальным лидером, для того чтобы стать национальным лидером. Но, к сожалению, Людовик XVI не мог ни на что решиться.
Карл I погиб потому, что оказывал сопротивление, а Людовик XVI — потому, что не сопротивлялся. Первый был твёрдо уверен
538
в том, что обладает исключительным правом на привилегии; но маловероятно, чтобы второй имел подобные убеждения, — он понимал лишь необходимость использовать свои привилегии.
В Англии смерть Карла I была результатом коварных, жестоких и честолюбивых помыслов одного человека.
Во Франции смерть короля была делом рук слепой толпы, неорганизованного сборища простонародья.
В Англии представители народа проявили подобие внешних приличий, воздержавшись от того, чтобы стать судьями и исполнителями убийства, которое было предопределено ими: они назначили специальный трибунал для суда над королём.
Во Франции представители народа позволили себе стать одновременно обвинителями, судьями и исполнителями смертного приговора.
В Англии казнь была осуществлена невидимой рукой; вся церемония казни проходила в условиях полной тишины и будто в тени. Во Франции короля казнила толпа, чьё неистовство не знало границ.
В Англии смерть короля породила республику. Во Франции, наоборот, рождение республики стало причиной смерти короля.
В Англии политический взрыв был вызван усилиями самого ревностного религиозного фанатизма. Во Франции он произошёл в обстановке бурного одобрения циничного безбожия.
Крайняя нетерпимость религиозной системы Кальвина стала источником и причиной английской революции. Современные вольнодумные доктрины вызвали революционную бурю во Франции.
В Англии революция слилась в единый поток с гражданской войной. Во Франции революция сопровождалась войной с иностранными державами. Именно эту войну французы могут назвать причиной своих эксцессов, англичане не имеют подобных оправданий.
В Англии армия показала себя способной на любые акты насилия и неистовства, граждане страны страдали от её действий.
Во Франции, наоборот, именно армии мы обязаны всеми благами. Её победы за границей приуменьшали или даже заставляли забывать наши ужасы внутри страны. Армия обеспечила независимость Франции и её славу.
В Англии Реставрация была делом рук английского народа, который приветствовал это событие с величайшим энтузиазмом. Страна избежала рабства и, казалось, обрела свободу. Не так обстояло дело во Франции.
В Англии зять свергнул тестя с престола. Его поддержала вся Европа, и память об этом поступке чтима и нетленна.
Во Франции, наоборот, избранный народом монарх, который правил страной на протяжении пятнадцати лет с согласия своих
539
подданных и иностранных монархов, вновь появился на мировой политической сцене, чтобы взять в свои руки скипетр, который он считал своим. Чуть ли не вся Европа поднялась против него и объявила его вне закона. Против него выступили многочисленные иностранные армии; он уступил силе и попал в плен, и теперь его хотят лишить с блеском завоёванной славы!»
Объяснение с доктором О’Мира — Консулат — Мнение эмигрантов о Первом консуле — Совпадение счастливых обстоятельств в карьере императора — Мнение итальянцев о Наполеоне — Результат мирных переговоров в Тильзите — Испанские Бурбоны
6 мая 1816 года
Император вызвал меня в девять часов утра. Он был раздражён поведением нового губернатора, и его не оставляет мысль о том, что губернатор намерен нарушать своими посещениями Лонгвуда свободу пребывания императора в его скромной обители. Император предпочитает смерть, чем это последнее оскорбление; он полон решимости пойти на любой рискованный шаг, лишь бы не позволить губернатору осуществить его намерение. Катастрофа кажется неизбежной. Император считает, что губернатор принял решение осуществить свою угрозу и только подыскивает благовидный предлог. Император решил, что судьбы не избежать. «Будь что будет. Я готов ко всему, — заявил он в минуту откровения. — Вне всяких сомнений, они убьют меня здесь».
Император послал за доктором О’Мира, чтобы узнать его мнение по этому вопросу. Он попросил меня сказать доктору, на английском языке, что до сегодняшнего дня у императора не было причины жаловаться на него, что он считает его честным человеком и в доказательство этого готов полностью доверять его ответам на те вопросы, которые он собирается ему задать. Нам следует объясниться, заявил император. Должен ли он считать доктора своим личным врачом или всего лишь тюремным лекарем, назначенным английским правительством? Является ли доктор его доверенным лицом или его надзирателем? Делал ли он письменные сообщения об императоре и будет ли он делать их, если ему прикажут? В том случае, если доктор О’Мира не делал этого, то, как заявил император, он с радостью будет и впредь принимать его услуги врача, и он благодарен ему за те услуги, которые уже оказаны; в противном случае император поблагодарит его и попросит прекратить посещения.
540
Доктор отвечал очень уверенно и искренне. Он заявил, что его назначение в качестве врача императора было чисто профессиональным и к политике никакого отношения не имело, что он считает себя личным врачом императора и ему чужды какие-либо иные соображения, что никаких письменных донесений об императоре он не делал и никто пока не требовал от него подобных вещей, что он не может представить себе обстоятельств, которые бы вынудили его писать такое донесение, за исключением той ситуации, в которой серьёзное заболевание императора могло бы вызвать необходимость официально призвать на помощь другого профессионального врача.
В три часа дня император вышел в сад, чтобы, оседлав лошадь, отправиться на верховую прогулку. До этого он достаточно долго диктовал генералу Гурго и почти завершил рукопись о событиях 1815 года. Он весьма доволен результатами этой работы.
Я позволил себе порекомендовать ему приступить теперь к рукописи о Консулате, этом блестящем периоде истории Франции, когда страна, находившаяся в состоянии полного распада, чудесным образом и в кратчайший срок вернулась к законности, восстановила церковь в её правах, вновь стала следовать нормам нравственного поведения, уважать подлинные принципы и честные убеждения, — и всё это при всеобщем одобрении и восхищении удивлённой Европы.
В это время я находился в Англии. Я сказал императору, что большинство эмигрантов были потрясены этими событиями во Франции. Амнистия священников и эмигрантов была воспринята как благо, и большинство из них воспользовались предоставленной возможностью.
541
Император спросил меня: не шокировало ли нас слово амнистия? «Нет, — ответил я, — мы знали обо всех трудностях, которые в связи с этим испытывал Первый консул. Мы знали, что всеми преимуществами этой меры мы обязаны ему, что он был нашим единственным защитником и что все наши неприятности возникали по вине тех, с кем Первому консулу приходилось спорить. Впоследствии, — добавил я, — когда мы вернулись во Францию, выяснилось, что Первый консул мог бы обойтись с нами гораздо лучше при решении вопроса о нашей собственности. Для этого ему не надо было прилагать особых усилий, достаточно было занять молчаливую и пассивную позицию. На наш взгляд, этого было бы достаточно, чтобы полюбовно решить все спорные вопросы между прежними владельцами собственности и её нынешними покупателями».
«Несомненно, я мог бы так поступить, — согласился император, — но мог ли я в достаточной мере доверять эмигрантам? Ответьте мне на этот вопрос».
«Сир, — ответил я, — теперь, когда я лучше разбираюсь в общественных и государственных делах и даю им более всестороннюю оценку, я с готовностью признаю: политическая ситуация в стране требовала, чтобы вы поступали именно так, как поступали. Последние события подтвердили, насколько благоразумным был путь, которому вы следовали. Было бы плохой политикой принимать меры, которые разочаровали бы страну. Справедливое решение вопроса о собственности — один из главных оплотов моральной силы общества и национального единения».
«Вы правы, — согласился император, — но, тем не менее, я мог бы пожаловать вам всё, чего бы вы от меня не захотели. Какое-то время я вынашивал идею поступить подобным образом, и я совершил ошибку, не претворив её в жизнь. Я планировал образовать синдикат, сосредоточив в нём всю непроданную собственность эмигрантов, и после её реализации распределить между ними полученную выручку. Но я стал раздавать собственность во владение отдельным лицам и вскоре убедился, что создал слишком много богачей, которые отплачивали мне за мои милости чёрной неблагодарностью и вели себя дерзко. Те, кто благодаря личным прошениям и низкопоклонству стали получать ежегодный доход в размере от пятидесяти до ста тысяч, более не снимали шляп передо мной; мало того, что они не проявляли ни малейшей благодарности, так они ещё имели наглость делать вид, что тайно отплатили мне за те милости, которыми пользовались. Таково было поведение всего предместья Сен-Жермен. Я восстановил благополучие этих людей, но они по-прежнему оставались столь же враждебными национальным интересам. Тогда, несмотря на акт об амнистии, я запретил реституцию непроданных
542
лесов, если их стоимость превышала определённый уровень. Несомненно, если следовать букве закона, то это был несправедливый поступок, но проводимая мною политика настоятельно требовала этого; само недальновидное принятие соответствующего закона было ошибкой. Вернувшиеся эмигранты были разочарованы, а я более не мог рассчитывать на преданность первых семей нации. Я мог бы принять меры предосторожности против этого зла, нейтрализовав его созданием синдиката. И даже если бы первые аристократические семьи отдалились от меня, я бы обеспечил преданность сотен провинциальных аристократов, и такой поступок строго соответствовал бы принципу справедливости, который требовал, чтобы эмигранты, которые все одинаково рисковали, погрузив своё имущество на борт одного и того же корабля, потерпели одно и то же крушение и получили одинаковое наказание, теперь должны были получить одну и ту же компенсацию за свои убытки. Именно тогда я совершил ошибку, которая тем более непростительна, поскольку я уже вынашивал идею, только что мною упомянутую. Но в этом деле я был одинок, мне приходилось преодолевать трудности, и меня окружали оппозиционеры. Все политические партии были настроены враждебно по отношению к эмигрантам, я был занят и другими важными делами, а между тем время шло, и нужно было что-то предпринимать.
Вернувшись с острова Эльба, — продолжал император, — я был почти готов осуществить проект подобного рода. Если бы у меня было время, я бы обратил внимание на бедных эмигрантов из провинции, которые были забыты императорским двором. Довольно необычно, что эта идея была мне подсказана бывшим министром Людовика XVI, за чьи услуги королевские принцы отплатили неблагодарностью; это он предлагал мне различные планы, с помощью которых можно было бы с выгодой избавиться от других зол подобного рода».
«Сир, — заверил я императора, — здравомыслящая часть эмигрантов хорошо знала, что немногие благородные и либеральные идеи, имевшие отношение к ним, исходили только от вас. Этим эмигрантам было известно, что лица из вашего окружения резко настроены против них. Мы знали, что сама идея аристократии была ненавистна им, и мы воздавали вам должное за то, что вы не разделяли их мнение».
Император затем спросил меня, что именно думали эмигранты о его происхождении, об отдельных событиях его жизни и т.д. Я ответил, что впервые эмигранты обратили на него внимание, когда он возглавил французскую армию в Италии, и что мы абсолютно ничего не знали о его прежней жизни. Поэтому мы никогда не могли бы называть его Буонапарте. Услышав эти слова, император
543
рассмеялся. Мы сменили тему беседы, и император заметил, что часто думал о том, как странное стечение обстоятельств, которые могут показаться малозначительными, становилось причиной знаменательных поворотов в его карьере.
«Во-первых, если бы мой отец, — сказал император, — не доживший до сорока лет, прожил бы дольше, его бы назначили депутатом от корсиканской знати в Законодательное собрание. Он был очень предан аристократии; с другой стороны, он был горячим сторонником благородных и либеральных идей. Поэтому он наверняка оказался бы среди депутатов правого крыла Собрания или, по крайней мере, среди аристократического меньшинства. Во всяком случае, каковы бы ни были мои личные убеждения, я бы пошёл по стопам отца, и, таким образом, моя карьера не состоялась бы.
Во-вторых, если бы во время революции я был старше, то, вероятно, меня самого выбрали бы депутатом. Поскольку я обладаю энергичным характером, то я бы обязательно проникся определёнными убеждениями и пылко следовал им. Но, во всяком случае, я не поступил бы на военную службу, и, таким образом, моя карьера была бы иной.
В-третьих, если бы моя семья была более известной, богатой и знаменитой, то мой статус аристократа, несмотря на то, что я был сторонником революции, превратил бы меня в ничто и поставил вне закона. Я никогда бы не смог пользоваться доверием; я никогда бы не смог командовать армией, и если бы даже получил её под своё командование, то не отважился бы делать то, что я сделал.
В-четвёртых, большое количество моих сестёр и братьев также является тем благоприятным фактором, который действовал в мою пользу, поскольку все они умножали мои связи и средства влияния.
В-пятых, мой брачный союз с госпожой де Богарне способствовал тому, что я вошёл в контакт с парижским высшим обществом, чья помощь была необходима в деле объединения нации, а это объединение было одним из основных принципов моего правления. Не имея такой жены, я не смог бы столь естественным образом войти в это общество.
В-шестых, даже моё иностранное происхождение, хотя из-за него во Франции пытались было организовать шумный протест против меня, принесло мне определённую выгоду. Итальянцы считали меня своим соотечественником, и это обстоятельство во многом способствовало моему успеху в Италии. Как только я добился этого успеха, сразу начали изучать родословную нашей семьи, которая в течение многих лет пребывала в забвении. Итальянцы подтвердили, что моя семья играла важную роль в истории их страны; они считали её итальянской семьёй. Так, например, когда возник вопрос о брачном
544
АУСТЕРЛИЦ
союзе моей сестры Полины с князем Боргезе, члены семьи Боргезе и её сторонники в Риме и Тоскане не подали ни одного голоса против. “Ну что же, — говорили они, — это семейный союз; они наши родственники”».
Впоследствии, когда обсуждали предложение короновать императора в Париже, причём в этом случае корону на голову императора должен был возложить папа римский, возникли, как потом выяснилось, большие препятствия на пути его реализации. Австрийские представители на тайном совещании кардиналов выступили с резким возражением против этого мероприятия, но итальянские представители высказались в его поддержку, добавив к политическим соображениям чувство национального эгоизма. «Мы возводим на трон итальянскую семью, — заявили они, — чтобы она правила этими варварами; тем самым мы отомстим галлам за Рим».
Эти воспоминания повлекли за собой другие, и император стал говорить о папе римском, который, как заявил император, относился к нему весьма благосклонно. Папа римский не обвинял Наполеона в том, что тот приказал перевезти его из Ватикана во Францию. Папа был очень возмущён, когда прочитал в некоторых газетах, что император обращается с ним без должного уважения. В Фонтенбло папа римский не жаловался на отсутствие почтительного внимания к своей особе, и он получал всё, что только мог пожелать. Когда он узнал о возвращении императора во Францию с острова Эльба, то заявил Люсьену, брату Наполеона, тоном, выражавшим доверительность и беспристрастность: «Он высадился, он прибыл». Потом он сказал Люсьену: «Вы отправляетесь в Париж; сообщите ему, что между нами сохраняются мирные отношения. Я в Риме, никаких разногласий между нами не возникнет».
«Нет сомнений, — заявил император, — что Рим предоставит пристанище для моей семьи; это будет хорошо и естественно, и там члены семьи почувствуют себя как дома. Наконец, — добавил он, улыбаясь, — даже моё имя — Наполеон, которое в Италии считается необычным, поэтичным и звучным, способствовало моему величию».
Я напомнил императору сказанное мною ранее: в своём большинстве эмигранты судили о нём справедливо. Это правда, что заметная часть старой аристократии испытывала к нему неприязнь, но только потому, что их взгляды сильно отличались от его взглядов. Несмотря на это, они по достоинству оценили его достижения и способности и восхищались ими. Даже фанатично настроенные эмигранты признавали, что у Наполеона есть всего лишь один недостаток. «Почему он незаконно сел на трон?» — часто вопрошали они. Аустерлиц стал потрясением для нас, хотя и не примирил с императором, но
545
Тильзит сломил нас окончательно. «Ваше Величество, — сказал я, — вы сами могли судить об этом, когда, вернувшись во Францию, наслаждались всеобщим благоговением перед вами, шумным одобрением ваших деяний и наилучшими пожеланиями в ваш адрес».
«Другими словами, — заметил император, улыбнувшись, — если бы в то время я доставил себе удовольствие предаться отдыху и наслаждениям, если бы я предался праздности, если бы всё продолжалось в соответствии со старым курсом, то тогда вы стали бы обожать меня? Но даже если бы всё это соответствовало моим вкусам, убеждениям и моему нраву, то обстоятельства всё же не позволили бы мне поступать так, как мне хотелось».
Затем император заговорил о различных неблагоприятных обстоятельствах, которые ему всё время сопутствовали. Об испанской войне он сказал: «Эта неудачная война принесла мне одни несчастья; она разобщила мои силы, вынудила меня умножить мои усилия и поставила под удар мои принципы. И, тем не менее, опасности были велики: козни англичан, интриги и притязания Бурбонов; нельзя было принести Пиренейский полуостров им в жертву. При этом испанские Бурбоны сами по себе не представляли какой-либо опасности. Они были чужды нам, а мы им. В замке Марраш и в Байонне я обратил внимание, что Карл IV и королева не видели разницы между госпожой де Монморанси и новыми придворными дамами; имена последних были больше знакомы им из газет и государственных документов. Императрица Жозефина, весьма чувствительно относившаяся к делам подобного рода, всё время ссылалась на это обстоятельство. Испанская королевская семья умоляла меня, чтобы я удочерил какую-нибудь девушку аристократического происхождения и выдал её замуж за члена этой семьи, сделав принцессой Астурийской. Для этой цели они выбрали мадемуазель де Таше, впоследствии ставшую герцогиней Арембергской, но в силу личных причин я не согласился с этим выбором. В какой-то момент я принял решение в пользу мадемуазель де Ларошфуко, впоследствии ставшей княгиней Альдобрандини; но мне хотелось выбрать девушку, искренне преданную мне и моему делу, истинную француженку, обладавшую способностями и знаниями. Я не мог найти кандидатку, наделённую всеми желаемыми качествами».
Затем, вернувшись к обсуждению темы войны в Испании, император продолжал: «Эта испанская клика практически погубила меня. Эта группа людей роковым образом довела меня до катастрофы: она нанесла непоправимый ущерб моей нравственной силе в Европе, значительно увеличила мои затруднения и создала у себя в стране учебный полигон для английских солдат. Получилось, что именно я натренировал английскую армию на Пиренейском полуострове.
546
События доказали, что я совершил большую ошибку в выборе средств; она заключалась именно в средствах, а не в принципах. Нет сомнений, что в том кризисе, в котором тогда находилась Франция, в борьбе старых и новых идей, в нашем великом противостоянии с остальной Европой мы не могли оставить Испанию в распоряжении наших врагов у себя за спиной: было абсолютно необходимо связать Испанию с нашей системой. Это могло произойти, если бы мы действовали силой или добровольно с её стороны. Этого требовала судьба Франции; принципы благополучия наций не всегда совпадают с принципами благополучия отдельных лиц. В данном случае я имел два основания для решительных действий: политическая необходимость и сила права. Когда Испания увидела, что я нахожусь в опасности, когда она узнала, что мои руки связаны в Йене, то почти объявила мне войну. Оскорбление не должно было оставаться безнаказанным: я мог, в свою очередь, объявить войну, и, конечно, в моём успехе нельзя было сомневаться. Именно эта лёгкость и ввела меня в заблуждение.
Страна презирала своё правительство, она во весь голос требовала полного обновления. С той высоты, на которую меня вознесла судьба, я считал себя призванным испанским народом, я считал себя достойным того, чтобы мирным путём урегулировать возникший в Испании общенациональный конфликт. Я стремился избежать кровопролития, я хотел, чтобы ни одна капля крови не запятнала знамя освобождения Кастилии. Поэтому я избавил испанцев от их ужасных государственных органов власти, я одарил их либеральной конституцией, я посчитал необходимым поменять им королевскую династию, — возможно, это было слишком беспечно. Во главе испанцев я поставил одного из моих братьев, но он был единственным иностранцем среди них. Я уважал целостность их территории, их независимость, их обычаи, их законы, пусть несовершенные. Новый монарх получил столицу государства, не имея других министров, других советников и других придворных, кроме тех, которые служили при прежнем королевском дворе. Мои войска собирались покинуть страну; я дал испанцам величайшее из всех благ, которыми когда-либо одаривались нации, — именно это я говорил самому себе тогда, и именно это я говорю сейчас. Сами испанцы, как меня заверяли, в душе соглашались со мной и никогда ни на что не жаловались, за исключением тех случаев, когда возникали формальные поводы. Я надеялся на то, что они благословят меня, но меня ожидало разочарование: презрев свои интересы, они думали только об оскорблениях в мой адрес. Их охватывало чувство возмущения при одной только мысли, что их оскорбляют: они приходили в ярость при виде чужеземных вооружённых солдат, и сами брались за оружие. Испанцы как нация вели себя мужественно, — это бесспорно,
547
но если они добивались военных успехов, то их за это жестоко наказывали. Возможно, их следует жалеть... Они заслуживали лучшей судьбы».
Сегодня император обедал вместе с нами; уже давно мы не наслаждались его обществом. После обеда он читал нам роман Флориа- на «Клодина» и отрывки из романа «Поль и Виргиния», который ему очень нравится из-за воспоминаний о днях юности.
В гавани бросил якорь транспортный корабль «Адамант». Этот корабль некоторое время назад по ошибке проплыл мимо острова. Он входит в состав конвоя, другие корабли которого прибыли на остров почти месяц назад. Эти корабли привезли знаменитый деревянный дом, предназначенный для императора. В Англии и, возможно, во всей Европе газеты заполнены сообщениями об этом доме. Корабли доставили и мебель, которой газеты также уделяли большое внимание. Деревянный дом, или, как его называют в газетах, деревянный дворец, пока представляет собой множество необработанных толстых досок, сложенных штабелями. Никто на острове Святой Елены не знает, как из этих досок построить дом. Потребуется несколько лет, чтобы соорудить из них что-либо. Великолепие других привезённых вещей, конечно, полностью соответствует нашему положению. Выставленное напоказ богатство, пышность и роскошь предназначены Европе, а жизненная правда и нищета — острову Святой Елены.
«Илиада» и её автор
7 мая 1816 года
Около четырёх часов дня в Лонгвуд приехал губернатор. Он обошёл всё поместье, не пожелав с кем-либо общаться. Его дурное настроение проявлялось всё заметнее, а его манеры приняли более жёсткий и грубый характер.
В пять часов меня вызвал к себе император; некоторое время с ним был гофмаршал. Когда он ушёл, император стал беседовать со мной о литературе; мы коротко поговорили почти о каждой эпической поэме, античной и современной. Когда мы дошли до «Илиады», император взял с книжной полки том Гомера и прочитал вслух несколько отрывков из поэмы. Император очень любит «Илиаду». «Подобно Библии Моисея, — заявил он, — это символ и отражение духа той эпохи. Гомер в своей эпической поэме проявил себя поэтом, оратором, историком, законодателем, географом и богословом. Он справедливо может быть назван энциклопедистом времени, в котором расцвёл его талант».
548
Император считает Гомера неподражаемым. Отец Гардуин осмелился поставить под сомнение подлинность «Илиады» и приписал авторство священного памятника античности некоему монаху, жившему в десятом столетии. Как заявил император, это утверждение является совершенным абсурдом. Он добавил, что те поразительные места поэмы, которые дают описание эпохи Гомера, наиболее красивы и что чувства, охватывающие его при чтении этих мест «Илиады», полностью убеждают его в справедливости всеобщего одобрения этой поэмы. Как отметил император, его особенно поражает сочетание грубости манер с изысканностью мыслей. В поэме её герои сами убивают животных, чтобы утолить голод, и готовят пищу собственными руками. В то же время они исключительно красноречивы, это люди высокой культуры.
Император пожелал, чтобы я задержался у него и разделил с ним обед. «Впрочем, — сказал он, — вас, вероятно, накормят лучше за общим столом; со мной вы встанете из-за стола голодным». — «Сир, — ответил я, — я знаю, что вас скудно снабжают провизией, но я предпочитаю делить лишения с вами, чем где-либо наслаждаться роскошью».
В течение дня император и некоторые члены его свиты, включая меня, страдали от головной боли. Я очень сожалел, что император не мог выйти на свежий воздух, поскольку погода была прекрасная. После обеда император пригласил в свои апартаменты всю свиту, и мы оставались с ним до десяти часов вечера.
8 мая 1816 года
В пять часов дня император отправился на прогулку в карете. Вернувшись, он принял нескольких англичан, которым, как обычно, задавал множество вопросов. Эти господа прибыли на остров на борту корабля «Корнуолл»; они следуют в Китай, и их вновь ждут на острове Святой Елены в январе следующего года, когда они будут возвращаться в Англию.
После обеда один из членов свиты сказал императору, что сегодня утром, когда он переписывал набело описание сражения при Ватерлоо, продиктованное императором, его глубоко взволновал тот факт, что исход сражения, можно сказать, висел на волоске. Император, не ответив ему, повернулся к Эммануэлю, моему сыну, и голосом, выдававшим сильное волнение, обратился к нему с просьбой: «Мой сын (это обычная форма обращения императора к Эммануэлю), пойдите и принесите “Ифигению в Авлиде”, эта трагедия Еврипида будет более приятной темой для обсуждения». Затем император стал читать нам эту прекрасную трагедию, которая ему чрезвычайно нравилась.
549
Характерные высказывания императора
9 мая 1816 года
Вместе с генералом Гурго и моим сыном я отправился в коттедж «Бриары» на обед, после которого мы остались на небольшой бал. Там я встретил адмирала, которого никогда прежде не видел в столь хорошем настроении. После того случая с Новерразом я видел адмирала впервые; мне было известно, как сильно обиделся адмирал в связи с этим происшествием. Он должен был вот-вот отправиться в Европу, и я знал, какие чувства в связи с этим обуревают императора. Раз двадцать у меня возникало желание вступить в непринуждённую беседу с адмиралом по этому вопросу, и она стала бы средством его примирения с Наполеоном. Истина, справедливость и наши интересы требовали этого, но меня останавливали соображения, которые, несомненно, были тривиальными. Как часто потом я укорял себя! Но мне не поручали эту деликатную миссию, и я не мог отважиться взять на себя ответственность. Адмирал вполне мог предать гласности это дело и, возможно, представить его таким образом, что это не понравилось бы императору и, вероятно, привело бы к новым огорчениям. Я приведу высказывания императора по этому поводу: они настолько хорошо его характеризуют, что опустить их невозможно.
Однажды император описал мне те неприятности, которые возникают из-за слабости и легковерия монарха, интриги, которые рождаются внутри императорского дворца, и непостоянство, которое является следствием интриг. Он неопровержимо доказал, что монарх, характеризуемый указанными выше качествами, неизбежно должен стать простофилей в глазах придворных и жертвой ложных обвинений. «Я вам докажу это, — заявил император. — Вы пожертвовали всем, чтобы последовать за мной. Вы проявили благородную и трогательную преданность мне. Скажите мне, как, по вашему мнению, расценивают ваше поведение? Представляете ли вы себе, как судят о вашем характере? Вас рассматривают лишь как одного из представителей старой аристократии, эмигранта, агента Бурбонов, поддерживающего связь с англичанами. Говорят, что вы действуете сообща с ними, чтобы предать меня, что вы последовали за мной сюда только для того, чтобы шпионить за мной и продать меня моим врагам. Антипатия и враждебность, которые вы проявляете по отношению к губернатору, на их взгляд, являются просто видимостью, согласованной вами с губернатором с той целью, чтобы прикрыть ваше предательство».
Когда же я улыбнулся, став свидетелем необычного полёта его фантазии и той лёгкости, с которой он говорил о серьёзных вещах,
550
он заявил: «Вы можете смеяться, но заверяю вас, что я ничего не выдумываю. Я только повторяю то, что становится достоянием моих ушей. И вы можете легко представить себе, как глупое, слабое и доверчивое существо окажется под влиянием подобных слухов и выдумок! Мой дорогой Лас-Каз, если бы я не был выше большинства законных правителей, то мог бы здесь, на острове, отказаться от ваших услуг, и ваше честное сердце было бы обречено страдать от жестоких мук, вызванных неблагодарностью». Свой монолог император закончил словами: «Се человек! Он один и тот же повсюду: на вершине скалы или в стенах дворца! Человек всегда остаётся человеком!..»
Гош и другие генералы
10 мая 1816 года
Погода стояла ужасная, и император, считая невозможным покинуть стены дома, ходил взад и вперёд по столовой. Потом он распорядился, чтобы разожгли камин в гостиной, и сел играть в шахматы с гофмаршалом. После обеда он читал историю Иосифа в Библии и трагедию Расина «Андромаха».
Вчера вечером из Бенгалии прибыла английская флотилия. Среди её пассажиров была графиня Лоудон, она же госпожа Мойра, супруга генерал-губернатора Индии.
Сегодня в ходе беседы было упомянуто имя Гоша. Один из участников беседы заметил, что в самом начале своей военной карьеры он подавал большие надежды. «И что ещё лучше, — заявил император, — он оправдал эти надежды». Гош и Наполеон встречались и раза три беседовали друг с другом. Гош высоко оценивал Наполеона и даже восхищался им. Наполеон без колебаний заявил, что он, по сравнению с Гошем, получил хорошее образование и обладал обширными знаниями. Между ними, добавил император, были и другие существенные отличия. «Гош, — заявил он, — пытался создать партию для себя, но сумел обрести лишь раболепных приверженцев. Что касается меня, то я привлёк на свою сторону громадное число сторонников, ни в коем случае не добиваясь популярности ради самой популярности. Гош обладал той разновидностью честолюбия, которая вызывает враждебность; он был из тех людей, у которых могла зародиться идея прибыть в столицу из Страсбурга с 25 000 солдат и силой взять власть. Моя же политика всегда отличалась хладнокровием, она соответствовала духу времени и обстоятельствам текущего момента».
Император добавил, что Гош кончил бы тем, что либо сам подчинился бы ему, либо пришлось бы заставить его подчиниться. Но поскольку Гош любил деньги и удовольствия, то император сомневался, что этот человек подчинился бы ему по своей воле. Моро, сказал он, в подобной ситуации не знал бы, как поступить. Наполеон, таким образом, был невысокого мнения о Моро, считая, что у него, помимо военных, не было других способностей. «Он был слабовольным человеком, — сказал император, — он был на поводу у тех, кто окружал его, и рабски подчинялся контролю жены; он был генералом старой монархии.
Гош, — продолжал император, — умер совершенно неожиданно и при странных обстоятельствах; и так как существует группа людей, которые считают, что все преступления совершил я один, то были предприняты попытки распространять слухи, что это я отравил Гоша. Было время, когда не могло случиться ни одной беды без того, чтобы её не приписали мне. Таким образом, находясь в Париже, я подослал убийцу к Клеберу в Каире; я застрелил Дезэ в Маренго; я душил и резал тех, кто был заключён в тюрьмах; папу римского я таскал за волосы; известна сотня подобных глупостей. Однако, поскольку на всё это я не обращал ни малейшего внимания, то мода приписывать мне все преступления прошла, и я не вижу, чтобы мои преемники стремились возродить её. И, тем не менее, если приписываемые мне преступления действительно были совершены, то можно было бы поднять соответствующие документы,
552
вынести приговор истинным преступникам и их сообщникам. Однако природа слухов такова, что этим россказням, какими бы они ни были абсурдными, верят и простой народ, и немало образованных людей. Счастлив тот историк, чьи работы лишены пагубного влияния подобных слухов».
Затем, вернувшись к предыдущему предмету обсуждения, император сказал: «Как много великих генералов неожиданно выдвинулось во время революции: Пишегрю, Клебер, Массена, Марсо, Дезэ, Гош и т.д., и почти все они начинали военную карьеру простыми солдатами. Но в настоящее время силы природы, видимо, истощены, ибо с тех пор она ничего не создала, — по крайней мере, ничего столь же великого. В то время всё было подчинено духу соревнования, в котором участвовали тридцать миллионов человек, и природа неизбежно предъявляла свои права, тогда как впоследствии мы были вновь заключены в узкие рамки регламентированного порядка и социальных форм. Меня обвиняли даже в том, что на военные и гражданские должности вокруг себя я назначал людей с небольшими способностями, для того чтобы моё превосходство выглядело более явным. Но теперь, когда конкуренции явно нет, право лучшего выбора остаётся у тех, которые первыми пришли к власти. Посмотрим, что они сумеют сделать.
Другое замечательное обстоятельство заключалось в чрезвычайной молодости большинства этих генералов. Казалось, что сама природа подготовила их к военной карьере. Их характер полностью соответствовал тем жизненным условиям, в которых они оказались, за исключением Гоша, нравственность которого была далека от совершенства. У них не было иных целей в жизни, кроме достижения славы и проявления патриотизма, и эти цели объединяли их. Они были мужчинами античного образца.
Арабы дали Дезэ прозвище Справедливый Султан; во время похорон Марсо австрийцы прекратили военные действия в знак уважения к нему; молодой Дюфо был примером идеальной добродетели. Но такой похвалы не заслужили те, кто достиг в жизни большего, ибо в какой-то мере они принадлежали времени, которое уже прошло. Массена, Ожеро, Брюн и многие другие были неустрашимыми ворами. Массена, кроме того, отличался самой отвратительной жадностью. Утверждали, что я сыграл с ним злую шутку, которая могла окончиться для него виселицей: однажды я, разгневанный его последними хищениями, затребовал у его банкира три миллиона франков. Это требование вызвало у банкира сильнейшее замешательство, ибо моё имя что-то да значило. Банкир в ответном письме заявил, что не может выплатить указанную сумму без санкции
553
Массены. Однако от него требовали незамедлительно выдать эту сумму, и Массена, если бы банкир сделал это, мог подать на него в суд. Впрочем, Массена не настаивал на соблюдении закона и распорядился выдать деньги...
Мюрат и Ней были генералами, не имевшими иных достоинств, кроме личной храбрости. Монсей был честным человеком. Макдональда отличала твёрдая неподкупность, и я заблуждался в отношении характера Б. У С. были не только недостатки, но и достоинства17. Всю военную кампанию на юге Франции он провёл блестяще. Трудно поверить, что этот человек, чьё умение вести себя свидетельствовало о мужественном характере, был рабом своей жены. Когда в Дрездене я узнал о нашей неудаче в сражении при Витгории и о потере всей Испании из-за скверного управления страной беднягой Жозефом, моим братом, чьи планы и их исполнение не соответствовали требованиям дня и казались скорее принадлежавшими не мне, а генералу Субису18, то я, рассматривая кандидатуры военачальников, способных исправить катастрофическое положение в Испании, остановил свой выбор на С. Он сказал, что готов решить мою задачу, но при этом умолял меня поговорить с его женой, которая будет бранить его за то, что он согласился на моё предложение. Я велел прислать её ко мне. Она стала говорить со мной во враждебном тоне и решительно заявила, что её муж ни за что не вернётся в Испанию, что он уже выполнил множество важных заданий и теперь имеет право на небольшой отдых. “Мадам, — сказал
я ей, — я вызвал вас к себе не для того, чтобы слушать ваш выговор. Я не являюсь вашим мужем, но если бы я им был, то не стал бы терпеть вас”. Этих слов было достаточно, чтобы смутить её; она стала как шёлковая, это было само послушание, и теперь она лишь старалась добиться рада выгодных условий. Но и здесь, однако, я не пошёл ей навстречу и подвёл итог, поздравляя её с тем, что она прислушалась к голосу здравого смысла. “В критических ситуациях, — сказал я ей, — долг жены заключается в том, чтобы стараться приуменьшать трудности; идите домой к мужу и не мучайте его своими протестами”».
Оскорбительное приглашение, направленное сэром Хадсоном Лоу
11 мая 1816 года
В четыре часа дня я посетил императора. В это время в комнату вошёл гофмаршал и передал ему записку. Император, просмотрев её, вернул записку гофмаршалу и, пожав плечами, сказал: «Это же нелепо! Ответа не будет, записку передайте Лас-Казу».
Невероятно! Это была записка от губернатора гофмаршалу, приглашавшая генерала Буонапарте на обед в «Колониальный дом», чтобы встретиться с графиней Лоудон, супругой лорда Мойра. От подобной некорректности я покраснел. Что может быть более оскорбительным?! Несомненно, что сэр Хадсон Лоу считал подобное поведение вполне естественным, а ведь он в течение продолжительного времени состоял при штабах армий на континенте, он участвовал в делах дипломатии!
Вице-губернатор острова господин Скелтон, который готовится к отъезду в Европу, приехал в Лонгвуд вместе с женой, чтобы попрощаться с императором. Они остались на обед с ним.
Эта почтенная семья, которую, помимо нашего желания, мы вытеснили из Лонгвуда, чьи виды на будущее мы поставили под сомнение из-за того, что после нашего приезда на остров пост вице- губернатора был упразднён, — эта прекрасная семья, для которой мы стали причиной большой личной обиды, остаётся, однако, единственной семьёй на острове, которая оказывает нам глубокое уважение и относится к нам со всей возможной вежливостью. Поэтому мы попрощались с ними, искренне пожелав им всяческого благополучия. Мы всегда будем помнить эту семью с чувством самого глубокого уважения.
555
Наполеон в Институте и в Государственном совете — Гражданский кодекс — Послание лорду Сент-Винсенту — О внутренних районах Африки — Министерство военно-морского флота — Декре
12 мая 1816 года
Император, прогуливаясь по саду и обсуждая различные темы, завёл разговор об Институте, о том, как он был организован, о настроении членов Института и т.д. Когда, вернувшись из французской армии в Италии, Наполеон стал членом Института, то, как он сказал, он мог бы считаться десятым членом отделения Института, которое состояло из пятидесяти членов; Лагранж, Лаплас и Монж стояли во главе этого отделения. Такое довольно необычное явление в то время привлекло к себе немалое внимание: молодой генерал французской армии в Италии занял место в Институте и прилюдно обсуждал сложные метафизические проблемы со своими коллегами. Его тогда прозвали Геометром сражений и Конструктором побед.
Наполеон, став Первым консулом, произвёл неменьшую сенсацию в Государственном совете. Он постоянно председательствовал на заседаниях Совета при выработке Гражданского кодекса. «Труше, — заявил император, — был душой этого кодекса, а я был его демонстратором». Труше от природы был одарён необыкновенно глубоким и правильным пониманием сути вещей, но он не мог перейти от понимания к изложению. Он говорил на ужасном языке и был не
556
в состоянии защитить то, что предлагал. Совет, как правило, сначала отвергал предложения Труше, но Наполеон, со свойственной ему проницательностью и способностью схватывать суть проблем и создавать новые и ощутимые связи между ними, вставал с кресла и, ничего не зная о проблеме, но правильно понимая её основу, о чём позаботился Труше, развивал его идеи, опровергал возражения и убеждал каждого в своём мнении.
Протоколы заседаний Государственного совета передали нам содержание импровизированных речей Первого консула во время обсуждения большинства статей Гражданского кодекса. Каждая его фраза поражает нас точностью наблюдений, глубиной суждений и широтой взглядов. Приведу пример: мы находимся в неоплатном долгу перед ним за ту статью Гражданского кодекса, которая предусматривает, что любой человек, рождённый во Франции, является французом. Многие в Совете возражали против этой статьи. «Я хотел бы знать, — спрашивал Наполеон, — какое неудобство может возникнуть от признания того, что любой человек, рождённый во Франции, является французом? Расширение действия французских гражданских законов может быть достигнуто только при благоприятных обстоятельствах; таким образом, вместо того, чтобы устанавливать в законодательном порядке, что лица, рождённые во Франции от иностранцев, получают гражданские права только тогда, когда они сами заявят о своём желании пользоваться ими, можно записать в законе, что они будут лишены этих прав только тогда, когда официально откажутся от них.
Если лиц, рождённых во Франции от иностранного отца, лишают права пользоваться всеми правами французов, то мы не можем призвать к воинской повинности и другим общественным обязанностям сыновей тех иностранцев, которые женились во Франции в результате военных событий.
Я придерживаюсь той точки зрения, что эта проблема должна рассматриваться только с учётом интересов Франции. Хотя вышеупомянутые лица, рождённые во Франции, никакой собственностью не владеют, они, по крайней мере, проникнуты французским духом и следуют французским обычаям. Они чувствуют привязанность, которую испытывает каждый человек к той стране, где он родился; наконец, они разделяют с французами общественные тяготы».
Столь же ярко Первый консул проявил себя, когда выступил в поддержку статьи Гражданского кодекса, которая сохраняет права Французских граждан для детей, рождённых французами, живущими в Других странах. Этот закон он тоже включил в Кодекс, несмотря на мощную оппозицию. «Все французы, — сказал он, — принадлежат к многочисленному и трудолюбивому народу, они разбросаны
557
по всем частям света, и с течением времени они будут рассеиваться повсюду в ещё больших количествах. Но французы отправляются в иностранные государства только для того, чтобы нажить состояние. Законы, в соответствии с которыми они временно подпадают под юрисдикцию иностранных правительств, используются ими для того, чтобы получить правовую защиту, необходимую для совершения выгодных сделок. Если они пожелают вернуться во Францию, нажив состояние, то будет ли правильным не впускать их обратно в свою страну?
Если случится так, что одна из стран, подвластных Франции, станет объектом вторжения вражеских войск и затем будет отдана врагу в соответствии с мирным договором, то будет ли справедливым сказать французам, ранее поселившимся на её территории, что они отныне потеряли права французских граждан, поскольку не покинули эту страну в тот момент, когда она стала предметом уступки, или потому, что они временно присягнули на верность новому монарху для того, чтобы выиграть время, необходимое для урегулирования вопросов, связанных с их собственностью, и для отправки своих материальных ценностей во Францию?»
Когда во время другой дискуссии, затронувшей проблему болезни солдат, не могли понять, как поступать с теми, кто мог бы умереть в иностранном государстве, то Первый консул с пылом воскликнул: «Солдат под национальным знаменем никогда не находится за границей! Место, где развёрнуто знамя Франции, становится французской землёй!»
Во время обсуждения вопроса о разводе Первый консул высказался в пользу принятия закона, разрешающего развод; он тоже встретил сильные возражения. Тогда он выступил с продолжительной речью, обосновывая своё мнение принципом несовместимости характеров двух сторон брачного союза.
«Существует предвзятая точка зрения, — заявил он, — что развод противоречит интересам женщин и детей и сущности самой семьи; но ничто более не противоречит интересам супругов, несовместимых по своим характерам, чем попытка свести их жизнь к альтернативе: или жить вместе, или жить раздельно в обстановке публичного скандала. Ничто так не противопоказано домашнему счастью, как разделённая семья. Прежде раздельное жительство супругов имело почти такой же отрицательный результат для жены, мужа и детей, как и развод, но, тем не менее, оно не было таким частым, каким стал развод в наши дни. Оно только сопровождалось дополнительным неудобством для супруга, поскольку женщина с плохим характером могла продолжать позорить имя мужа, так как ей было разрешено сохранять его имя».
558
Возражая против формулировки статьи о разводе, перечислявшей причины, в силу которых закон о разводе мог бы быть принят, Первый консул говорил: «Но разве это не огромное несчастье, когда человек вынужден выставлять напоказ эти причины и раскрывать мельчайшие и интимные семейные подробности? Кроме того, если даже указанные причины действительно существуют, то всегда ли можно обосновать их для получения развода? Что касается, например, такой причины, как прелюбодеяние, то оно может быть успешно доказано только фактами, представить которые бывает очень трудно, а иногда и невозможно. Тогда муж, который не сможет представить эти доказательства, будет вынужден жить с женщиной, которую он ненавидит и презирает и которая вводит в его семью незаконнорождённых детей. Его единственными возможностями выхода из создавшегося положения станут раздельная постель и раздельное питание, но это не защитит его имя от бесчестья».
Вновь выступая в поддержку закона о разводе и возражая против некоторых ограничений в этом законе, он продолжал: «Предполагается, что женитьба является результатом любви, но так бывает не всегда. Молодая женщина соглашается выйти замуж ради того, чтобы не отставать от моды, получить независимость от опеки родителей, а также ради самоутверждения. Она соглашается на брачный союз с мужчиной иного возраста, чьи вкусы и привычки не совпадают с её вкусами и привычками. Закон должен предусмотреть для неё возможность выхода из создавшейся ситуации — в случае, если исчезнут её иллюзии и она начнёт сознавать, что её брак неудачен и её ожидания принесли одни разочарования.
Брачный союз обретает форму в зависимости от норм поведения, обычаев и религии каждою народа. Таким образом, его формы всюду различны и не похожи друг на друга. В некоторых странах жёны и наложницы живут под одной крышей, и с рабами обращаются как с детьми, — поэтому не везде семьи формируются естественным образом. Брачные союзы римлян не похожи на брачные союзы французов.
Меры предосторожности, предусмотренные законом, не позволяющие лицам в возрасте пятнадцати — восемнадцати лет легкомысленно вступать в пожизненный брак, конечно, разумны. Но являются ли они достаточными?
Норма, согласно которой после десяти лет, прожитых в законном браке, согласия на развод не следует давать, кроме случаев, когда приводятся веские причины, также является правильным положением. Однако поскольку брачные союзы, заключённые в молодые годы супругов, часто являются не результатом их собственного выбора, а следствием договорённостей их семей, преследующих свои
559
корыстные цели, то было бы правильным, если сами супруги, сознавая, что они не созданы друг для друга, могли бы расторгнуть брачный союз, не продуманный ими. Однако такая возможность не должна привести к крайностям — легкомысленным решениям или приступам гнева. Процесс расторжения брака должен быть тщательно продуман и сопровождаться всеми мерами предосторожности, для того чтобы избежать возможных злоупотреблений. Например, можно было бы заслушать супругов на тайном семейном совете под председательством магистрата. В дополнение к этому можно было бы, если это признают необходимым, установить, что женщине разрешается получать право на развод только один раз и что она не должна выходить замуж ранее, чем через пять лет после развода, чтобы мысль о втором замужестве не заставляла её расторгнуть первый брак; что после того, как супруги прожили вместе десять лет, расторжение их брака стало бы очень трудным делом, и т.д.
Следует полностью исключить возможность расторжения брака по причине факта прелюбодеяния, преданного публичной огласке, ибо, с одной стороны, не много случаев прелюбодеяния могут быть доказаны, и, с другой стороны, лишь немногие мужчины были бы достаточно нескромны для того, чтобы публично разоблачать бесчестье своих жён. Кроме того, было бы скандальным и противоречащим чести нации предавать гласности семейные происшествия; в этом случае можно было бы прийти к выводу, хотя и ошибочному, что именно подобные сцены дают истинную картину наших французских нравов».
Лучшие юристы Государственного совета придерживались того мнения, что поражение в правах гражданства должно повлечь за собой расторжение гражданского брачного союза. Этот вопрос вызвал горячую дискуссию. Первый консул с большим воодушевлением стал оспаривать это мнение следующим образом: «В этом случае женщине будет запрещено, хотя она полностью убеждена в невиновности её мужа, следовать в ссылку с человеком, с которым она связана самыми нежными узами; и если она всё же поступит по долгу и убеждению и последует вместе с любимым человеком в изгнание, то она будет считаться только его любовницей! Почему мы лишаем несчастную супружескую пару права жить вместе на основании почётного звания законных супругов? Если же закон разрешает женщине следовать за своим мужем, лишая её звания жены, то, значит, этот закон разрешает прелюбодеяние.
Общество отомщено в достаточной степени, когда преступник арестован, лишён собственности и оторван от друзей и родственников. Есть ли необходимость распространять наказание преступника и на его жену и жестоким образом расторгать союз, который объединяет
560
БУРГОМИСТР ВЕНЫ ПОДНОСИТ НАПОЛЕОНУ КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА
жизнь жены с жизнью её мужа? “Вам лучше забрать его жизнь, — скажет она, — тогда, по крайней мере, я бы могла хранить память о нём. Но вы приняли решение, чтобы он жил, и не разрешаете мне утешать его, когда он страдает”. Увы! Как много мужчин стали преступниками из-за привязанности к своим жёнам! Поэтому тем, кто явился причиной их несчастий, следует позволить разделять с ними эти несчастья. Если женщина выполняет этот долг, то вы чтите её добродетель, и всё же вы оказываете ей не большую милость, чем ту, которая была бы оказана постыдной проститутке, продающей себя за деньги!»
Цитатами подобного рода можно было бы заполнить многие тома.
В 1815 году, после Реставрации, когда я беседовал с господином Бертраном де Моллевилем, министром военно-морского флота при Людовике XVI, человеком незаурядных способностей, не раз блистательно проявлявшим себя, он сказал: «Следует признать, что ваш Бонапарт, ваш Наполеон, — необыкновенная личность. Как мы мало знали о нём, когда находились по другую сторону Ла-Манша. Нас не могли не убедить его победы и его завоевания, это правда; но король вандалов Гейзерих, король вестготов Аларих и предводитель гуннов Аттила славились своими победами так же, как и он. Поэтому он скорее внушал мне страх, чем производил впечатление и вызывал восхищение. Но после того, как я вернулся в Париж, я не поленился ознакомиться с дебатами по Гражданскому кодексу, и с тех пор я преисполнен глубоким чувством преклонения перед ним. И где это он, интересно, приобрёл такие обширные знания? С каждым днём я обнаруживаю что-то новое. Какой человек был у вас во главе правительства! В самом деле, он чудо!»
В пять часов император принял капитана Боуэна, командира фрегата «Сальсетг», отплывающего завтра. Он был очень обходителен с ним и во время беседы, когда было упомянуто имя лорда Сент-Винсента, который, как обмолвился капитан, был его шефом, император сказал: «Когда вы встретитесь с ним по возвращении в Англию, я поручаю вам передать мои приветствия этому прекрасному моряку, мужественному и достойному всяческого уважения ветерану».
Примерно в семь часов вечера император принял ванну. Он вызвал меня, и мы долго беседовали о событиях дня, затем на литературную тему и, наконец, о географии. Император выразил удивление по поводу наших поверхностных знаний о внутренней территории Африки. Я сообщил императору, что несколько лет назад я обдумывал идею представления министру военно-морского флота плана путешествия в центр Африки — не секретной и авантюрной экскурсии,
561
но регулярной военной экспедиции, во всех отношениях достойной нашего времени и императора. Министр рассмеялся мне в лицо, когда я впервые заговорил с ним об этой идее: он счёл её абсурдной.
Мой план заключался в том, чтобы одновременно вступить на территорию Африки с севера, с юга, с востока и с запада и всем участникам экспедиции встретиться в центре её территории, или, если начать экспедицию только с востока и с запада, оба отряда встретились бы в центре африканского континента и затем, вновь разбившись на два отряда, проследовали бы на юг и на север. Я считал вполне вероятным, что, получив от королевского двора Португалии всю информацию об Африке, которая была в его распоряжении, можно найти возможности для передвижения отрядов с востока и с запада или, во всяком случае, без особых усилий создать такие возможности. Эмоциональный подъём, который испытывало общество в то время, наш энтузиазм, смелость нашего предприятия, наши чудесные люди — всё это способствовало бы успеху. Мы бы легко набрали 500—600 хороших солдат, добавив к ним необходимое количество врачей, ботаников, химиков, астрономов и натуралистов, которые с большим желанием участвовали бы в нашем предприятии; и мы бы, несомненно, совершили нечто такое, что достойно нашего времени. Необходимое количество вьючных животных, небольшие кожаные лодки для переправ через реки, бурдюки для транспортировки воды при переходах через пустыни и самые лёгкие полевые пушки помогли бы без особого труда осуществить задуманное предприятие.
«Несомненно, — заявил император, — мне бы понравилась ваша идея. Я бы занялся ею, передал её на рассмотрение специально назначенной для этого комиссии и довёл до логического завершения».
Он очень сожалел, что в Египте у него не было времени совершить нечто подобное. В его распоряжении были войска, во всех отношениях способные справиться с опасностями пустыни. Он получил тогда подарки от правительницы Дарфурского султаната (занимавшего территорию к югу от Египта) и в ответ послал ей свои подарки. Если бы он дольше оставался в Египте, то провёл бы географические исследования в северной части Африки самым простым способом: вместе с караванами были бы отправлены знающие офицеры, а их безопасность была бы обеспечена удержанием заложников из числа местных влиятельных лиц.
Затем наш разговор коснулся темы министерства военно-морского флота. Император подверг этот предмет тщательному анализу. Он не был удовлетворён службой Декре на посту министра военно- морского флота и даже считал, что доверие, которое он оказывал этому министру, не всегда было полностью заслуженным. Трудно было подыскать замену Декре, поэтому он оставался на посту
562
министра; в конце концов, сказал император, Декре всё же был лучшим из тех, кого можно было найти. Гантом — моряк, не имевший других способностей. Каффарелли утратил доверие императора потому, что, как сообщили Наполеону, жена Каффарелли занималась политическими интригами19; император считал это непростительным. Миссиесси не был человеком, на которого можно было бы положиться, поскольку члены его семьи входили в число тех, кто сдал Тулон. Одно время император приглядывался к Эмерю; но, поразмыслив, он пришёл к выводу, что Эмерю не обладает необходимыми способностями. Император спрашивал себя, не мог бы Трюге занять указанный пост, но решил, что тот не готов стать министром военно-морского флота. Да, он прекрасно разбирался в экономических вопросах, но слишком глубоко погряз в делах революции; и император убедился в правильности своего отрицательного решения в отношении этого человека, когда впоследствии ознакомился с его личными письмами, из которых стало очевидно, что Трюге по-прежнему придерживается своих старых якобинских воззрений.
«Я сделал обязанности министров настолько лёгкими, — заметил император, — что почти всякий был способен выполнять их, если был верен мне и предан делу, а также обладал рвением и энергичным характером. Исключение составляла должность министра иностранных дел, от которого требовалась природная способность убеждать собеседника. От министра военно-морских дел особенно многого не требовалось, и Декре, вероятно, был лучшей кандидатурой на этот пост из всех, кого я мог найти. Он обладал авторитетом среди подчинённых и выполнял служебные обязанно- сти тщательно и честно. Он был наделён немалой сметливостью, но это проявлялось только в беседах с ним и в его личном поведении. Он никогда сам не разрабатывал планы и не был способен претворять в жизнь идеи других с большим размахом; он мог ходить пешком, но его никогда нельзя было заставить бежать. Ему следовало проводить половину служебного времени в морских портах или на бортах кораблей во время учебных манёвров. Поступай он так, и я всегда был бы расположен к нему. Но он был придворным и боялся лишиться портфеля министра. Это говорит о том, как мало он знал и понимал меня. Покидая на время императорский двор, он ничего бы не потерял; наоборот, его отсутствие стало бы огромным плюсом в его пользу».
Император сказал, что ему очень недоставало Латуш-Тревилля, в котором он видел человека, обладавшего большими способностями. Император придерживался той точки зрения, что адмирал придал бы новый импульс военно-морским делам. Он, по крайней мере, попытался бы осуществить вторжение с моря в Индию и в Англию и, вероятно, сделал бы это успешно.
563
Император корил себя за то, что не использовал полубаркасы в Булони. Он сказал, что было бы лучше, если бы он применил линейные корабли в Шербуре. Он считал, что, прояви Вильнёв большую решительность во время атаки у мыса Финистерре, она могла бы оказаться более полезной. «Я тщательно рассчитал её для Вильнёва, но её подготовка была проведена по плану, который не нашёл понимания у окружавших меня морских офицеров, привыкших к шаблону. Всё происходило по моему плану, но в решающий момент пассивность Вильнёва всё погубила. Но, — добавил император, — одному Богу известно, какие инструкции он мог получить от Декре* и какие письма, о которых я никогда не знал, могли быть тайно направлены ему. Ибо, хотя я обладал большой властью и любил выяснять всё до мелочей, я уверен, что был далёк от того, чтобы знать обо всём, что происходило вокруг меня.
Как недавно сказал гофмаршал, в гостиной императорского дворца было замечено, что ко мне обычно нельзя было подступиться непосредственно после того, как я принимал военно-морского министра. Причина заключалась в том, что он всегда приходил ко мне только с плохими новостями. Я махнул рукой на флот после катастрофы у Трафальгара: я не могу быть повсюду, и мне достаточно того, что я уделяю всё моё внимание армии.
Я долго обдумывал, как провести решающую кампанию в Индии, но мои планы постоянно срывались. Я планировал разместить войско в 16 000 человек на бортах линейных кораблей; каждый корабль, оснащённый семьюдесятью четырьмя пушками, должен был взять на свой борт 500 человек, — следовательно, потребовалось бы тридцать два корабля. Я предложил, чтобы они запаслись водой на четыре месяца; эти запасы можно было бы пополнить на острове Иль-де-Франс или в любом обитаемом месте Африки и Индийского океана. В случае необходимости они могли бы набрать воды всюду, где можно бросить якорь. Достигнув места назначения и высадив войско, корабли немедленно отплыли бы от берега Индии, при этом семь или восемь кораблей были бы брошены как непригодные, а их экипажи были бы переведены на борта других кораблей эскадры. Поэтому, когда английская эскадра позже прибыла бы к берегам Индии, она не нашла бы следов наших кораблей.
* Прочитав это высказывание Наполеона, морской офицер, порученец адмирала Вильнёва, написал мне, что письмо Декре адмиралу, полученное последним до прибытия господина де Росилли, назначенного на замену Вильнёву, заканчивалось следующим образом: «Поднимайте паруса и полный вперёд, как только вам будет благоприятствовать погода; не избегайте врага, — напротив, атакуйте его всякий раз, когда столкнётесь с ним; императора мало волнует потеря кораблей, если они погибают со славой». Из всех писем, хранившихся в адмиральском портфеле, упомянутый офицер спас только это письмо: он вынул его оттуда и бросил портфель в море в тот момент, когда адмирал сдался противнику в плен.
564
Что же касается нашей армии, то предоставленная самой себе, но отданная под командование умного военачальника, пользовавшегося авторитетом среди солдат, она вновь сотворила бы чудеса, которые для нас привычны, и Европа созерцала бы наше завоевание Индии точно так же, как она наблюдала за тем, как мы покоряли Египет».
Я хорошо знал Декре, — мы вместе начинали карьеру на флоте. Я думаю, что он испытывал ко мне самые глубокие дружеские чувства, на которые был способен. Я, со своей стороны, был нежно привязан к нему. Но, как я обычно говорил, когда в связи с этим надо мной подшучивали, моя дружба с Декре не сказывалась на моём служебном положении, поскольку моряки не любили его, и я нередко думал, что по какой-то причине непопулярность Декре доставляла ему удовольствие. На острове Святой Елены, впрочем, как и всюду, я оказывался почти единственным его защитником. Я часто виделся с ним, когда император находился на Эльбе, и Декре, время от времени вспоминая Наполеона, всегда в этих случаях отзывался о нём положительно. Мы откровенно высказывали своё мнение об императоре, и у меня есть все основания считать, что Декре полностью доверял мне.
«Как только Ваше Величество вернулись в Тюильри, — сказал я императору, — Декре и я сразу же бросились друг к другу в объятия, одновременно воскликнув: “Он вернулся! Он вновь с нами!” Глаза Декре были полны слёз; я должен свидетельствовать о его чувствах. “Ну что же, — сказал он мне в присутствии своей жены, — теперь я убедился, что часто был несправедлив к вам и должен загладить перед вами свою вину; ваши прошлые склонности и связи обусловили вашу близость с теми, кто сейчас собирается покинуть нас, и у меня нет сомнений, что вы рано или поздно без помех найдёте с ними общий язык, хотя вас, возможно, часто задевало выражение моих истинных чувств”».
«И вы всему этому верили? Вот уж истинный простачок! — воскликнул император, разразившись приступом смеха. — Это был, — продолжал он, — отличный образец проявления характерных черт настоящего придворного искусства; прекрасный материал для сатирических произведений Лабрюйера. Со стороны Декре это была действительно неплохая мысль, так как если бы во время моего отсутствия что-нибудь неприятное для меня случайно ускользнуло от его внимания, то он, сославшись на вас, сразу бы искупил свою вину».
«Хорошо, сир, — продолжал я, — то, что я вам только что рассказал, возможно, всего лишь развлекло вас, но то, что я собираюсь теперь вам сообщить, действительно важно. Во время кризиса 1814 года, перед падением Парижа, у Декре очень искусно и осторожно спросили о возможности его участия в заговоре против
565
Вашего Величества, и он самым решительным образом отверг это предложение. Декре можно было без труда вывести из состояния равновесия, и этим часто пользовались его недоброжелатели, но его твёрдость и умение говорить авторитетным тоном оказывались весьма полезными в тех случаях, когда судьба сталкивала его с подобными людьми. В то несчастливое время, о котором я только что говорил, Декре пришлось нанести визит одному весьма известному лицу, непревзойдённому мастеру интриг. Этот человек, во время приёма в своём доме, подошёл к Декре и, взяв его под локоть, отвёл в сторону. Они удалились от гостей и подошли к камину. Там этот человек
взял книгу и сказал: “Я только что прочёл нечто такое, что произвело на меня сильнейшее впечатление, вы только послушайте. Монтескье в такой-то главе и на такой-то странице говорит, что когда монарх попирает законы, когда тирания становится невыносимой, то у угнетённого народа не остаётся никакой альтернативы, кроме...” — “Хватит! — воскликнул Декре, прикрыв своей ладонью рот собеседника. — Я более не желаю вас слушать, закройте книгу”. Тогда собеседник Декре абсолютно спокойно, словно ничего особенного не случилось, положил книгу на место и стал говорить на совершенно иную тему.
В другом случае один маршал, после своего рокового дезертирства обеспокоенный тем, что его поведение произведёт неблагоприятное впечатление на общественное мнение, и тщетно стараясь добиться одобрения и поддержки у окружавших его лиц, пытался склонить Декре на свою сторону. “Я никогда не забывал, — сказал
566
он Декре, — одну из наших бесед, во время которой вы так красочно обрисовали все беды и затруднения, обрушившиеся на страну. Сила ваших аргументов заставила меня сделать шаг с целью облегчить наши страдания”. — “Да, мой любезный друг, — ответил Декре, — но не кажется ли вам, что при этом вы промахнулись и шагнули так, что зашли слишком далеко?”
Для того чтобы эти истории могли быть оценены по достоинству, — сказал я императору, — я должен сообщить Вашему Величеству, что о них мне рассказал сам Декре в то время, когда вы были на острове Эльба и когда он, конечно, не имел никакого понятия о том, что вы вернётесь во Францию».
Император поддерживал беседу со мной почти два часа, не покидая ванну. Он заказал обед в девять часов вечера и пожелал, чтобы я оставался с ним. Мы разговорились о нашей военной школе в Париже. Я окончил школу за год до того, как Наполеон поступил в неё, и поэтому мы имели общих знакомых среди офицеров, наставников и учеников. Императору доставило особое удовольствие в беседе со мной вновь обратиться к этому периоду нашей молодости и вспоминать наши занятия, ребяческие проделки, игры и т.д.
Пребывая в этом приподнятом настроении, он заказал бокал шампанского, что довольно необычно, поскольку его привычное воздержание от спиртного приводит к тому, что после одного бокала выпитого вина его лицо покрывается румянцем, а сам он становится словоохотливым. Хорошо известно, что император редко засиживается за обеденным столом более пятнадцати — тридцати минут; но сегодня мы провели за столом почти два часа. Император был очень удивлён, когда Маршан сообщил ему, что уже одиннадцать часов. «Как быстро прошло время, — сказал он с чувством удовлетворения. — Почему я не могу проводить мои часы так приятно?! Мой дорогой Лас-Каз, — сказал он, отпуская меня, — вы оставляете меня счастливым».
Опасное заболевание моего сына — Знаменательные высказывания — «Алфавитный справочник флюгеров»
13 мая 1816 года
Приехал доктор Уорден с двумя другими врачами, чтобы провести консультацию по поводу заболевания моего сына, чьё здоровье вызывает у меня тревогу.
Император, по моей просьбе, согласился принять доктора Уордена, нашего старого знакомого со времени плавания на корабле
567
«Нортумберленд». Император беседовал с ним почти два часа, критически и со знанием дела рассмотрев те официальные постановления английского правительства, в которых проявлялась враждебность, присутствовали ложь и клевета, направленные против него. Как потом признался мне доктор, было бы невозможно более точно, ясно, доступно, искусно и убедительно представить на суд общественного мнения эти постановления.
Император закончил свою беседу с доктором Уорденом следующими знаменательными словами: «Меня совершенно не беспокоят разного рода измышления, выходящие из-под пера клеветников и направленные против меня. Мои поступки и дела моего правления опровергают их более убедительно, чем самые искусные доводы. Я занял трон, который был свободен. Я достиг вершины власти, будучи незапятнанным преступлениями, которыми обычно опозорены главы монархических династий. Пусть призовут в свидетели саму историю, пусть меня сравнят с другими монархами! Последующие поколения и сама история могут справедливо осудить меня не за то, что я был слишком суров, но за то, что я был слишком снисходителен!»
После обеда император принялся перелистывать страницы «Алфавитного справочника флюгеров». Эта работа была задумана как юмористическое произведение, но план был выполнен далеко не лучшим образом. Она представляет собой подборку, в алфавитном порядке, данных о наших современниках, которые играли ту или иную роль в событиях общественной жизни со времени начала революции и чьи убеждения и поведение были подобны флюгеру, меняющему направление под действием политических ветров. Прозвище «флюгер» прикреплялось к их именам вместе с кратким обзором их речей и описанием их поступков. Раскрыв книгу, император спросил, упомянут ли кто-либо из нас в этой книге. «Нет, сир, никто, за исключением Вашего Величества», — шутливо ответил один из присутствующих. Имя Наполеона действительно было внесено в упомянутый список, поскольку, как утверждалось, он сначала поддерживал республику, но затем присвоил прерогативы монарха.
Император зачитал нам несколько отрывков из этого «Справочника». Контрасты в языке и поведении некоторых лиц в разное время действительно были курьёзными; и в отдельных случаях и то и другое менялось с таким хладнокровием и бесстыдством, что император несколько раз прекращал чтение и от всей души смеялся. Однако, прочитав несколько страниц, он закрыл книгу. Его лицо выражало чувства отвращения и сожаления, и он заявил, что публикация такой книги — настоящий позор для общества, пример его развращённости и летопись нашего бесчестья. Судя по всему,
568
императора особенно огорчила статья о Бертолле, которого он осыпал милостями и на которого, по его словам, имел все основания полагаться.
Здесь можно вспомнить об одной замечательной черте характера императора, хотя она достаточно широко известна. Бертолле потерпел убытки и испытывал большие финансовые затруднения. Когда император узнал об этом, то послал Бертолле 100 000 экю. При этом он добавил, что у него есть причина обижаться на Бертолле: тот забыл, что Наполеон всегда готов помочь своим друзьям. Однако в то время, когда императора постигли неудачи, Бертолле вёл себя по отношению к нему весьма неблагодарно. Такое поведение Бертолле глубоко огорчило императора, который не раз восклицал в разговоре с другими людьми: «И это тот самый Бертолле, о котором я думал, что могу на него полностью положиться!»
Когда император вернулся с Эльбы, Бертолле, казалось, был вновь склонен проявлять чувства преданности к своему благодетелю. Он отважился появиться в Тюильри, попросив Монжа доложить императору, что если он, Бертолле, не увидит императора, то покончит с собой сразу же, как только покинет дворец. Император не мог отказать Бертолле в его просьбе и, проходя мимо него, с улыбкой поздоровался с ним.
Во времена своего правления император постоянно осыпал милостями нескольких ведущих промышленников страны, в том числе Оберкампа, Ришара-Ленуара и других. Он хотел найти их имена в «Справочнике», но все присутствующие дружно пожелали стать свидетелями хорошего поведения упомянутых лиц.
Приём пассажиров кораблей английской флотилии, прибывшей из Бенгалии
14 мая 1816 года
В четыре часа дня в Лонгвуд прибыли посетители, в большом количестве. Это были пассажиры кораблей английской Восточно- Индийской флотилии, и император дал понять, что готов принять их. Группа прибывших состояла из господина Стрейнджа, шурина лорда Мелвилла, первого лорда английского военно-морского министерства господина Арбатно, сэра Вильяма Барро, одного из судей Верховного суда Калькутты, двух адъютантов лорда Мойра и ещё нескольких человек, включая дам. Мы все беседовали в прихожей, когда император из своих апартаментов проследовал прямо в сад. Это вызвало немалое любопытство у наших посетителей, которые
569
бросились к окнам, чтобы наблюдать за проходившим мимо императором; вся эта сцена напомнила нам Плимут. В сопровождении гофмаршала Бертрана посетители направились к императору, который принял их чрезвычайно любезно и с той подкупающей улыбкой, которая обезоруживающе действует на его собеседников. На лицах прибывших в Лонгвуд англичан читалось любопытство, все они были в приподнятом настроении.
Император поговорил с каждым из них и, как только ему объявляли имя и должность представляемого посетителя, он в своей привычной манере сразу же задавал ему вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью. С судьёй Верховного суда Калькутты он обсуждал проблемы законодательства и вопросы, связанные с отправлением правосудия, с чиновниками Восточно-Индийской компании он говорил о торговле и внутренней политике правительства Индии. У военнослужащих он спрашивал, сколько лет они прослужили в армии или во флоте и много ли получили ранений. Он осыпал дам комплиментами, отметив, что климат Бенгалии не сказался на их нежных щёчках, и т.д. Затем, обратившись к одному из двух адъютантов лорда Мойра, он сказал, что, по словам гофмаршала, госпожа Лоудон, жена лорда Мойра, находится на острове и что если бы она находилась в границах зоны его передвижения по
570
острову, то он с громадным удовольствием нанёс бы ей визит вежливости. Но поскольку, как оказалось, она проживает вне этой зоны, то у него имеется столько же возможностей навестить её, как если бы она по-прежнему находилась в Бенгалии.
Во время этих бесед императора, в которых я выступал в качестве переводчика, господин Стрейндж, ухватив меня за полу плаща, отвёл меня в сторону и с явным удивлением и чувством удовлетворения произнёс: «Какое изящество и достоинство манер проявляет император! Он демонстрирует, что ему привычен этикет утренних приёмов, проводимых монархами в своих дворцах!»
Мы проводили всю группу посетителей в гостиную, и по пути любопытство заставило их заглянуть через окна в апартаменты императора. Сэр Вильям Барро, который, как можно предположить, в силу занимаемой им должности поддерживает связь с английским кабинетом министров, спросил меня, войдя в гостиную, не служит ли она нам столовой. Я сообщил ему, что это наша единственная общая комната в доме. Он был очень удивлён моим ответом. Тогда я показал ему через дверь две комнатушки, составлявшие апартаменты императора, — это было всё, что предназначено для его личного пользования. На лице моего собеседника отразилось чувство сожаления, и казалось, что он мысленно проводит сравнение между бывшими и нынешними апартаментами императора. Обратив внимание на жалкий вид мебели и тесноту помещений нашего обиталища, он заявил заботливым тоном: «Вскоре ваши жилищные условия будут намного лучше». — «Каким образом? — спросил я. — Разве есть намерение вывезти нас с острова?» — «Нет, но предполагается направить вам элегантную мебель и просторный дом». — «Мы не жалуемся, — ответил я, — ни на мебель, ни на дом. Мы недовольны скалой, на которую нас сослали, и географической широтой, на которой она расположена. Эту широту нельзя изменить, и здесь наше здоровье никогда не будет хорошим».
Я повторил ему всё то, что несколькими днями ранее император сказал губернатору по этому поводу. Выслушав меня, сэр Вильям был крайне изумлён и, сжимая мою руку, довольно сочувственным тоном сказал: «Мой дорогой граф, он слишком великий и слишком одарённый человек; у нас есть много причин испытывать страх перед ним». — «Но, — сказал я в свою очередь, — почему бы нам не везти колесницу славы вместе, а не взаимно уничтожать друг друга, стараясь тянуть её в разных направлениях? Её путь может быть иным!» Он посмотрел на меня и, вновь сжав мне руку, сказал с задумчивым видом: «Да, это было бы несомненно лучше, но...»
Всех посетителей особенно поразили свобода манер императора и спокойное выражение его лица; я не знаю, какими были их ожидания
57/
на этот счёт. Один из посетителей сказал, что он едва может представить себе ту силу интеллекта, которая позволяет Наполеону выдерживать удивительные превратности судьбы. «Это потому, — ответил я, — что пока ещё никто хорошо не знает характер императора. Недавно он сказал нам, что в его жизни происходили великие события, но сам он при этом похож на отполированную глыбу мрамора: все они скользили по нему, не оставляя никаких следов на его нравственных и физических способностях».
После обеда император спросил нас, как он это часто делает, что бы мы хотели читать. Кто-то из нас предложил возобновить чтение «Справочника флюгеров», но император не согласился по той причине, что чтение указанной книги испортит ему настроение на весь вечер. «Давайте лучше развлечёмся художественным произведением», — сказал он и, попросив принести поэму Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим», прочёл нам несколько отрывков из этой поэмы, часть из которых он переводил с итальянского языка на французский. Затем он перешёл к чтению главных мест в трагедиях «Федра» и «Атали», во время которого он выражал восхищение этими произведениями Расина.
Равенство наказаний — Император просит меня подробно рассказать историю создания моего «Атласа»
15 мая 1816 года
Во время прогулки император беседовал со мной на различные темы, в том числе подробно остановившись на проблеме преступлений и наказаний. По его словам, среди лучших юристов, находившихся под влиянием идей эпохи, существовало расхождение мнений в отношении принципа уравнивания приговоров смертной казни. При работе над сводом законов император собирался выразить отрицательное отношение к этому принципу, если его не убедили бы в правильности противоположной точки зрения. Он спросил меня, какого мнения я придерживаюсь по этому вопросу. «Я решительно выступаю, — заявил я, — в пользу неравенства наказаний. Наши убеждения требуют соблюдения этого принципа, в соответствии с той классификацией преступлений, которой мы придерживаемся. Так проявляются наши представления о гармонии. Я никогда не соглашусь приравнять негодяя, убившего своего отца, к тому преступнику, который пошёл на мелкий грабёж, даже сопровождаемый насилием. Разве следует этих двух преступников наказывать одинаково?
572
Следует подумать и о самом преступнике, — продолжал я. — Ведь его наказание имеет прямое отношение к нему самому; и у людей есть много способов облегчить его физические страдания. Ход его мыслей до совершения преступления, чувства, которые вызывает его преступление у свидетелей, и эффект, который производит совершённое преступление на общество, — вот основные слагаемые, которые должны привлечь внимание законодателя при решении вопроса о равенстве наказаний. Сама возможность смертной казни как способа наказания за преступление, к сожалению, не останавливает преступника, но угроза смертной казни всё же влияет на его помыслы, когда он планирует преступление; и если бы существовали разные виды наказания, то не нашлось бы осуждённого, который бы не стал делать выбора вида наказания, если бы ему это разрешили. Пусть каждый член общества прислушается к своим чувствам: он бы содрогнулся, мысленно представив некоторые виды наказания, но остался бы совершенно безразличным к другим способам приведения в исполнение приговора о смертной казни. Неравенство наказаний и способы смертной казни являются вопросами правосудия и политики. Тем не менее я понимаю, что не может быть единого мнения по данному вопросу»*.
Император полностью согласился с этими мыслями. Он назвал цареубийство величайшим преступлением, имея в виду его возможные последствия. «Человек, — сказал он, — который убил бы меня во Франции, тем самым способствовал бы разрушению всей Европы; и подумать только, сколько было попыток покушения на мою жизнь!»
Графиня Лоудон, жена лорда Мойра, генерал-губернатора Индии, уже несколько дней находится на острове Святой Елены, привлекая всеобщее внимание. Она является представительницей высшего общества Англии, и при старом режиме Франции она вела доверительную переписку с одной нашей герцогиней. Английские офицеры относятся к ней с величайшим уважением. Сегодня адмирал пригласил её на небольшой приём на борту корабля «Нортумберленд». Адмирал направил ко мне верхового посыльного с просьбой на один вечер одолжить ему мой «Атлас». Он хотел показать его графине Лоудон, поскольку в книге приводятся данные о том, что её муж был первым представителем королевской династии Планта- генетов и, соответственно, законным наследником трона Англии.
* Однако я должен признаться, что моё мнение, вероятно, является ошибочным, если, как мне сообщили, данные официального реестра Франции со времени введения равенства наказания по сравнению с теми данными, которые были получены за такой же период при старом уголовном кодексе, свидетельствуют о снижении количества преступников.
573
Адмирал и я не поддерживаем друг с другом никаких отношений; мы практически не общались с тех пор, как он высадил меня на берег острова. Его просьба являлась не столько знаком вежливости по отношению к моей персоне, сколько выражением положительной оценки самой книги. Во время приёма на борту корабля мой «Атлас» стал предметом беседы, графиня пожелала увидеть мою работу, и адмирал вознамерился показать ей книгу. Однако я не мог удовлетворить просьбу графини: книга находится в комнате императора, и именно об этом я сообщил адмиралу через его посыльного.
Когда император узнал об этом, он улыбнулся. Я же не мог не сожалеть, что ожидания графини и адмирала оказались напрасными. Этот случай дал повод императору самому заговорить об «Атласе» и повторить ранее высказанные им суждения о книге. Он сказал, что неоднократно слышал об этой книге, причём от разных людей; ему говорили, что ею интересуются как иностранцы, так и французы. Он слышал, как о ней вспоминали и на борту «Беллерофона», и на борту «Нортумберленда», и на острове Святой Елены; повсюду о ней знали или хотели с ней ознакомиться образованные люди, высокопоставленные лица. «Вот что я называю достижением настоящего триумфа и приобретением широкой известности в литературном мире, — заявил император с улыбкой. — Я хотел бы услышать от вас историю создания “Атласа”. Расскажите мне, как у вас созрела идея создать его, как вы работали над ним и чего вы добились, написав его; почему вы сначала опубликовали его под вымышленным именем и почему впоследствии не издали его под вашим настоящим именем; короче говоря, представьте мне точный и подробный отчёт о проделанной работе. Вы понимаете меня, господин государственный советник?»
Я ответил, что мой рассказ будет довольно долгим и доставит мне истинное удовольствие: работе над «Атласом» я посвятил значительную часть своей жизни, и ей я обязан счастьем находиться рядом с особой императора.
Ниже следует повествование о работе над моим «Атласом» — в том виде, в котором оно оказалось после того, как я отредактировал свои первые сделанные наспех заметки. Его пространность, несомненно, требует снисходительного отношения читателя, которое, я верю, он проявит ко мне: все подробности, которые я здесь привожу, напоминают о моих счастливых годах, о том времени, когда я был молодым, здоровым и сильным, одним словом, о дорогом моему сердцу, хотя и кратком периоде моей жизни. Я ещё раз прошу читателя простить многословие, которое я позволяю себе, но этот рассказ вновь и вновь пробуждает мои воспоминания
574
о прошедшем счастье; я перечитываю его, и у меня не поднимается рука, чтобы хоть что-то вычеркнуть.
«Эта моя работа отчасти является делом случая, но прежде всего следствием необходимости, которая, как говорит известная поговорка, является матерью прилежания... В те времена, когда невзгоды французских эмигрантов только начинались, я был выброшен политическим ураганом на улицы Лондона без друзей, без денег и без всяких средств к существованию; но я обладал необходимым мужеством и готовностью к действию. В то время Лондон предоставлял человеку, имевшему подобные настроения, определённые возможности для того, чтобы заработать себе на жизнь.
После нескольких неудачных попыток найти оплачиваемую работу я принял твёрдое решение положиться исключительно на самого себя и, подобно Фигаро, стать автором книги. Некоторое время я раздумывал над тем, чтобы начать писать роман; эту идею мне подбросил один книготорговец, но он требовал слишком многого и был склонен платить мне слишком мало. Тогда я стал думать о том, чтобы написать книгу по истории, что, во всяком случае, доставило бы мне определённое моральное удовлетворение и дало бы пищу для ума. Именно тогда у меня впервые возникла идея создания моего “Атласа”; эту идею я теперь рассматриваю как откровение, ниспосланное Небесами, ибо ей я обязан своей жизнью. Поначалу я сделал набросок, перечень тем и проблем. Эта работа сразу же освободила меня от тягостных дум о будущем и обеспечила меня тем, что можно было назвать небольшим состоянием. Я находился в значительно лучших условиях по сравнению с другими эмигрантами, которые просто нищенствовали. Затем, сир, был подписан мирный договор в Амьене, и благодаря вашей амнистии нам, эмигрантам, были возвращены права. Я получил возможность совершить поездку во Францию в качестве путешественника, не имея в виду никакой иной цели, кроме как подышать родным воздухом и увидеть французскую столицу. Приехав в Париж, я понял, что могу без стеснения выражать свои чувства; собирать материалы было легко, и мои планы и взгляды расширились; я был хозяином своего времени и предпринял попытку привести в порядок мой “Атлас”. Постепенно он прибретал тот вид, в котором существует сегодня. Я регулярно, раз в квартал, публиковал четыре печатных листа, — положение моих дел и настроение резко улучшились. Интерес и внимание к моей личности, выгодные предложения, деньги и полезные связи — всё это буквально свалилось на меня, и я могу с уверенностью утверждать, что это был самый счастливый период моей жизни.
В Англии я опубликовал мой “Атлас” под вымышленным именем, чтобы не оказаться скомпрометированным. Случилось так, что
575
я остановился на имени Ле Саж, но с таким же успехом я мог выбрать имена Леблан, Легри или Ленуар. Но более неудачного выбора я не мог бы сделать, или, по крайней мере, не сумел бы найти более распространённого имени. Некоторое время спустя письмо, направленное мне лично, с трудом нашло своего адресата, которого искали буквально во всех французских сообществах в Лондоне, поочерёдно вручая послание двадцати двум священникам, каждый из которых носил имя Ле Саж. В конце концов один из них выяснил, что это не настоящее моё имя, и переслал мне злополучное письмо, сопроводив его запиской ядовитого содержания. В ней говорилось, что когда люди находят уместным менять свои имена, то они, по крайней мере, не должны выбирать имён, принадлежащих другим.
Во Франции я всё же сохранил для себя имя Ле Саж, которое стало известным как имя автора “Атласа”. Если бы книгу издали под новым именем, то можно было бы предположить, что это новая работа. Кроме того, я не хотел, чтобы “Атлас” носил моё имя, — а вдруг работа окажется неудачной, станет предметом нападок и объектом критики? И хотя меня заверяли в полном успехе моей работы, я не был склонен публиковать её под своим настоящим именем из- за старых предрассудков, от которых я не мог до конца избавиться.
Конечно, литературная известность льстила моему самолюбию, но мои предки были военными, и я считал своим долгом добиться известности именно в этой сфере. Однако обстоятельства сделали это невозможным. У меня никогда не было причины сожалеть о моём двойном имени. Мотив, которым я руководствовался, когда принимал решение о псевдониме, был одним, но последствия оказались другими: вокруг моей персоны возникла атмосфера некоторого авантюризма и романтики, что меня вовсе не смущает; более того, всё это соответствует моему характеру и темпераменту. Моё двойное имя послужило причиной многих ошибок и забавных недоразумений, которые доставили мне немалое удовольствие. В Англии, например, у меня часто самым серьёзным образом спрашивали моё мнение о достоинствах произведения господина Ле Сажа, не подозревая, что я автор этого произведения; однажды, находясь в школе, я последовательно критиковал свой собственный “Атлас” и стал мишенью самых невежливых нападок.
Пока я занимался изданием своей книги, я лично общался с потенциальными подписчиками на “Атлас”. Теперь я не просил одолжений; более того, в некоторых случаях я отказывался от предложений, которые мне делали. Во Франции я вообще скоро потерял счёт добрым услугам, которые мне оказывали, и лестным комплиментам. Некоторые лица были внимательны ко мне потому, что
576
знали меня, а другие потому, что не знали меня; я же вёл себя одинаково по отношению к каждому из них и наслаждался любопытным спектаклем, который теперь разыгрывался передо мной. Каждый человек, желавший стать моим подписчиком, должен был вручить мне письменное заявление от своего имени, — так я продолжал заочное знакомство со многими людьми, которых хорошо знал, и в тиши кабинета анализировал их характеры. Я мог свободно размышлять об удивительном разнообразии мнений, суждений и вкусов. Предмет, который со стороны одного человека подвергался порицанию, одобрялся другим. Что для одних обязательно, для других неприемлемо. Каждый, в соответствии со своим вкусом, считал своё мнение самым важным, как будто оно выражало мнение всего Парижа и каждого парижанина.
Теперь я имел возможность убедиться в важности учтивости и вежливых манер во всех жизненных ситуациях, а также понять то, что человек, руководящий своим делом, достигает громадных результатов. Я соглашался со всем, что мне предлагали, я внимательно прислушивался к любому совету, и моя обязательность щедро вознаграждалась. Часто случалось, что человек, навещавший меня, вовсе не планировал покупать моё сочинение, а в результате не только покидал меня с книгой, но и направлял потом ко мне десять, двадцать, а то и сто новых подписчиков.
Один из них расхвалил мой “Атлас” министру внутренних дел как классическое произведение, затем другой посетитель рекомендовал книгу министру иностранных дел, третий обещал ходатайствовать о награждении меня орденом Почётного легиона, а четвёртый написал лестный отзыв о книге, который он поместил в популярной газете. Некоторые просто восторгались книгой и в том же духе проявляли интерес и привязанность ко мне. Вот несколько примеров. Один из подписчиков, проживавший в провинции и незнакомый со мной лично, написал мне письмо с просьбой, чтобы я, в качестве особого одолжения, украсил книгу моим гравированным портретом, предлагая при этом, в случае моего согласия с его просьбой, оплатить половину расходов, связанных с гравированием.
Другой мой подписчик, владелец замка Монморанси, являлся ко мне с визитом каждую неделю будто бы для того, чтобы узнать, подготовил ли я к изданию очередной печатный лист, хотя настоящая причина его посещений моего дома была совсем иной: как он сам признался мне, он хотел провести время в моём обществе и называл эти часы самыми счастливыми часами своей жизни. Он добавил, что если я когда-либо пожелаю опубликовать содержание моих бесед с ним и продать публикацию, как я это делал с печатными листами моей работы, то это его погубит: у него был весьма эксцентричный склад ума, как у одного из героев книг Лабрюйера,
577
и он вполне соответствовал стилю Жан-Жака Руссо. Долгое время он, казалось, только и думал о том, чтобы оказывать мне всевозможные услуги, и зашёл так далеко, что в перспективе видел себя моим отцом! “Господин Ле Саж, — не раз говорил он мне, — вам следует жениться. Вы обладаете качествами, которые необходимы для того, чтобы обеспечить счастье вашей жены и, более того, счастье вашего тестя”. Следует добавить, что этот пожилой господин имел единственную дочь, и она была богатой наследницей. Однако пыл нашей дружбы постепенно охладел, и в конце концов наше знакомство полностью прекратилось.
По прошествии длительного времени, когда я совершал загородную прогулку с группой дам, вид замка Монморанси оживил воспоминания о моём старом друге. Я рассказал дамам, сопровождавшим меня, о его эксцентричных поступках; мой рассказ возбудил их любопытство, и мы решили посетить замок. Привратник отказался впустить нас. Когда же я спросил, здесь ли его хозяин, пребывает ли он в своей резиденции, то получил ответ, что хозяин находится в замке и именно по этой причине нас нельзя впустить. Мне показалось весьма странным, что он подверг себя заточению и стал столь недоступным. С большим трудом я убедил привратника объявить хозяину о прибытии господина Ле Сажа. Громко произнесённое имя подействовало подобно волшебству; обида, нанесённая посетителям в богатых нарядах, прибывшим в элегантной карете, была немедленно заглажена. К немалому удивлению привратника, ворота замка распахнулись, слуги получили указания показать нам весь замок и немедленно угостить нас лёгкими закусками. В карете у нас была провизия для небольшого пикника, но теперь в замке для нас приготовили роскошный обед, и мы не могли отклонить то, что столь вежливо и тактично нам предложили. Это было совершенно бескорыстное гостеприимство достойного пожилого господина, который не покидал своей спальни из-за подагры. Он был вне себя от радости, когда увидел меня; похоже, он рассматривал мой визит как возвращение блудного сына. Он пожелал увидеть дам, которые сопровождали меня, и слуги перенесли его в обеденный зал, где он оказал честь гостям, разделив с ними десерт. Нас забавляло то, что он, видимо, не понял, с кем имеет дело: он обращался с сопровождавшими меня светскими дамами как с лицами низкого происхождения, хотя это были знатные особы. Хозяин замка делал всё, чтобы удержать меня; он настаивал на том, чтобы я вновь навестил его, и уверял, что мне и моим друзьям всегда будут рады в его резиденции. Но увы! Я не смог воспользоваться его добротой: через несколько дней я прочитал в газетах сообщение о смерти моего доброго и искреннего друга.
578
Я имел успех, однако золотое время моего “Атласа” прошло. Когда я был привлечён на службу при вашем дворе и стал приближённым к особе Вашего Величества, то осознал, что теперь не смогу уделять должное внимание “Атласу”, который до этого занимал всё моё время. Я поручил ведение дел, связанных с авторским правом, одному из моих прежних товарищей по колледжу, который, как и я, был эмигрантом, но не смог добиться литературного успеха.
Когда я стал исполнять обязанности при императорском дворе, меня всё время осыпали комплиментами по поводу моего “Атласа», но к ним я относился с полным безразличием; так человек, которому наскучил бал, сбрасывает с лица надоевшую маску. Когда выяснилось, что я не хвалюсь своим “Атласом”, никогда его не цитирую и вообще избегаю обсуждения этой темы, все разговоры со мной об этом сочинении разом прекратились; с течением времени у людей даже стало возникать сомнение в том, что именно я когда-то составил этот “Атлас”».
Выслушав историю, император сказал: «Дорогой Лас-Каз, это сомнение достигло даже берега Святой Елены. Мне доказывали, что эта работа написана не вами, что вы просто купили рукопись у настоящего её автора; это утверждение обосновывают тем, что вы ничего не знаете о содержании книги, поскольку никогда не говорите о ней. В ответ на эти утверждения, — продолжал император, — я лишь говорил: “Разве вы не знаете о том, что на любой вопрос нет исчерпывающего ответа? Кроме того, просматривая всю работу от начала до конца, я всюду узнаю стиль и выражения самого Лас-Каза”».
«Многие, — заметил я, возобновляя своё повествование, — будут думать, что я наношу себе вред, замалчивая своё авторство; но я сторонник хорошего вкуса, а не хвастовства, и моё поведение соответствует моему природному нраву. Недавно Ваше Величество описывали, как Сийес обычно выступал перед аудиторией с кипой подготовленных планов, но при первом же возражении, когда ему необходимо было отстаивать свою точку зрения, он обычно собирал со стола бумаги и тут же уходил. Я его прекрасно понимаю. Я тоже никогда не мог отстаивать своё мнение перед обширной аудиторией. Для того, чтобы быть в состоянии выступить перед ней, я должен получить поддержку авторитетной особы или знать, что эта аудитория состоит из близких мне друзей, среди которых я буду чувствовать себя свободным; в противном случае я обрекаю себя на полное молчание, если, конечно, меня не подвергают допросу и не требуют прямого ответа. Но вернёмся к моему “Атласу”.
Пока я пребывал в неизвестности, ко мне относились доброжелательно, но моё возвышение сделало меня объектом неприязни,
579
зависти и злорадства, которые всегда сопровождают счастливчиков, наживших состояние. Газеты и журналы, которые прежде не скупились на лестные и благожелательные отзывы об “Историческом Атласе”, теперь опубликовали несколько весьма недоброжелательных статей о моей работе; а когда мне удавалось выяснить, кто именно писал их, авторы статей откровенно признавались мне, что единственным поводом для их написания были изменения, произошедшие во взглядах на политику и дела общества.
Для Института был подготовлен доклад обо всех работах, которые появились в течение последних нескольких лет; в этом докладе “Атлас” был подвергнут жестокой критике. Оказавшись однажды в компании с автором этого доклада, которому я был известен только по имени Ле Саж, я выразил ему своё неудовольствие по поводу того, что написано в докладе об “Атласе”. Он искренне признался мне, что ни само сочинение, ни его автор не были ему знакомы; труд по подготовке доклада был слишком велик для него одного, поэтому он разделил работу между несколькими своими коллегами. Когда отзыв о книге Ле Сажа “Исторический Атлас” попал в его руки, он был гораздо более критическим, чем окончательный текст этой статьи, опубликованный в составе доклада: автор значительно смягчил критику в адрес “Атласа”. “Я прекрасно понимаю, — продолжал он, — что у вас в литературном мире есть враги, и причинами этого являются ваш образ жизни и положение в обществе. Ваше имя связывают с именем некоего графа, который состоит на важной должности при дворе; но придворные и писатели никогда не находят общего языка. Господа придворные в большинстве своём отличаются от нас и являются людьми другого сорта. Говорят, что в вашем странном содружестве с ним он эксплуатирует ваш талант и снабжает вас деньгами. Для чего всё это? Граф всего лишь использует вас к своей выгоде; вы создали хорошее произведение, и книготорговцы неплохо вознаграждают вас за него. Однако я повторяю только то, что слышал, и советую вам то, что будет, как я полагаю, служить вашим интересам. Если вы хотите получить одобрение членов Института, то вы должны быть с нами, разделять наши убеждения и оставить высокопоставленных лиц в покое”.
Я ответил ему, стараясь быть предельно вежливым, что, бесспорно, я нахожусь перед ним в неоплатном долгу за его добрый совет, хотя бессилен воспользоваться им. Я стремился убедить его в том, что у него сложилось несправедливое мнение о моём друге: мы с ним живём общей жизнью и делим общий кошелёк, наша дружба и близкие отношения никогда не прекратятся, мы дали обет жить и умереть вместе, и ничто на свете не сможет заставить нас нарушить этот обет. Короче, вся наша беседа представляла собой поистине комическую сцену.
580
Через несколько дней я был приглашён на обед к графу; за столом я сидел рядом со своим знаменитым хозяином, на мне был офицерский мундир с галунами. Одним из приглашённых на обед гостей был вышеупомянутый член Института, и с его лица не сходило выражение удивления и замешательства. Несколько раз я пытался заговорить с ним, но он каждый раз пододвигался поближе к соседям по столу, говоря с ними шёпотом и, судя по всему, задавая им какие-то вопросы. Когда закончился обед и все вышли из-за стола, он подошёл ко мне и нарочито добродушным тоном обратился с просьбой объяснить возникшее недоразумение. Он заявил, что прекрасно помнит, что имел честь ранее встречаться со мной, но не понял тогда, что я разыгрывал его. Я отрицал, что у меня было намерение подшутить над ним. “Всё, что вы видели, — заявил я, — и всё, что я сказал вам, было чистейшей правдой. Тайна легко разгадывается. Тогда вы видели господина Ле Сажа, который делится со мной своими талантами и знанием, а теперь видите господина графа, который снабжает его деньгами. Вы теперь понимаете, как пишется история, а я узнал, как готовятся доклады в Институте”.
В равной степени смехотворное недоразумение обеспечило Ле Сажу честь быть включённым в пресловутое печатное издание “Жёлтый гном” в разряд беспринципных флюгеров — в качестве специалиста по генеалогии под насмешливым именем “Малыш Ле Саж”. Этой чести, как я впоследствии узнал, я был удостоен за то, что якобы проследил генеалогию Наполеона вплоть до Энея и его сына Аска- ниуса, в то время как при правлении короля в 1814 году родословная императора была под запретом. Трудно понять, что всё это означало, так как в “Историческом Атласе” не было ничего такого, что могло прямо или косвенно указывать на мои поиски генеалогических корней Наполеона. Однако всякий раз, когда “Атлас” и его автор подвергались нападкам, их многочисленные ревностные сторонники спрашивали меня, не буду ли я любезен разрешить им выступить в мою защиту. Я неизменно отвечал, что хотел бы, чтобы этот вопрос был закрыт; я сознавал, что, тем самым привлекая к себе внимание общественности, я бы поставил под угрозу своё душевное спокойствие. У меня вызывали лишь улыбку злобные нападки на беднягу Ле Сажа, но я бы очень сожалел, если бы они затронули того, кто скрывался под этим именем.
Однако, если мой “Атлас” имел всеобщий успех, то он, бесспорно, этого заслуживал. Это сочинение подходит для любого возраста, любой страны и для каждого периода времени; оно соответствует любым убеждениям, требованиям всех общественных классов и планам образования. Это помощник для тех, кто хочет учиться, и средство напоминания для тех, кто уже отучился. Это справочник для
55/
учёного и иллюстратор для учителя. “Атлас” включает в себя данные хронологии, истории, географии, политики и проч. Для тех, кто знает, как пользоваться им, он представляет собой целую библиотеку. Это путеводитель для школьника и для учителя, для учёного и для делового человека.
Вследствие этого он немедленно стал пользоваться повышенным спросом на книжном рынке, и никогда ещё, как мне представляется, ни одна литературная работа не оказывалась столь выгодной для её автора. При первом появлении “Атласа” в продаже ежедневная выручка зачастую составляла от 200 до 300 луидоров. Пока я лично руководил его выпуском, доходы от его продажи, по моим подсчётам, ежегодно составляли 60 000 — 80 000 франков. Благодаря этому я нажил целое состояние. Другого состояния у меня не было, так как революция лишила меня наследственного имущества, и не было никакой надежды в будущем вернуть его, поскольку я был вынужден под клятвой отказаться от него ради того, чтобы мне разрешили вновь вступить на французскую землю.
Различные издательства выпустили от восьми до десяти тысяч экземпляров моего “Атласа”, и выручка от продажи книги достигла 800 000 — 900 000, а возможно, и одного миллиона франков, из которых чистый доход в размере 300 000 франков оказался в моих руках. Помимо реализации моего “Атласа”, других источников дохода у меня не было. Когда я покидал с вами Европу, мне оставались должны сумму в 150 000 франков, половина которой была безнадёжным долгом, и я обладал собранием книг, приобретённых путём обмена, стоимостью в 200 000 франков; эти книги я разделил на отдельные партии и отправил в другие страны, надеясь, что они принесут мне определённую выручку. Но, к сожалению, из всего этого блестящего состояния я теперь мог рассчитывать только на то, что уже было в моих руках; всё остальное оказалось настолько эфемерным, что я могу считать те деньги потерянными. В Европе у меня нет юридического поверенного, который мог бы управлять моими делами, так как у меня не было времени, чтобы заняться этим. Перед моим отъездом накопилось такое множество нерешённых проблем, дела находились в таком беспорядке и были столь разнообразны, что, вероятнее всего, я в любом случае не смог бы толком объяснить кому-либо всё, что нужно сделать. Неуплаченные долги давно просрочены, некоторые из моих должников умерли, другие покинули страну, а что касается книг, то они оказались или неизвестно куда отправленными, или испорченными, или просто утерянными.
Одно время положение дел с моим “Атласом” было близко к тому, чтобы обеспечить меня действительно блестящим финансовым состоянием, но мои планы достижения этого были разрушены
582
гнуснейшим обманом. Подробности этого дела настолько любопытны, что я расскажу о них Вашему Величеству.
В начале 1813 года два оптовых торговца, узнав, что именно я являюсь Ле Сажем, автором “Исторического Атласа”, нанесли мне визит и сделали предложение: если я предоставлю им экземпляры “Атласа” на общую сумму в два миллиона франков, то они готовы немедленно выплатить мне наличными 20 процентов их стоимости и переправить книги бесплатно в Лондон, где они по-прежнему будут моей собственностью и останутся в моём распоряжении. Это предложение привело меня в замешательство: я не мог понять, что именно оно означает, и у меня появилось подозрение, что оптовые торговцы обманывают меня. Они, со своей стороны, пытались объяснить своё предложение тем, что делают его мне ради получения лицензии, то есть ради того дела, в котором, как они выяснили, я абсолютно ничего не смыслю. Передав впоследствии содержание моей беседы с оптовиками одному из своих друзей, я узнал, что французские корабли, получавшие лицензию на плавание в Англию, чтобы привезти оттуда назад колониальные товары, не могли покидать берег Франции без экспортируемых товаров, по своей стоимости равных стоимости тех товаров, которые они намерены импортировать. Книги были включены в список разрешённых экспортируемых товаров, и оптовые торговцы пытались заполучить лёгкий фрахт с высокой ценой, что позволило бы им с небольшими затратами привезти обратно значительное количество импортного товара. Мой “Атлас” отлично подходил для такой спекуляции. Тем не менее, прежде чем дать оптовым торговцам согласие на предложенную ими сделку, я проконсультировался с генеральным директором таможенного управления и с председателем комитета по экспорту, которые заверили меня в том, что она совершенно законна.
Получив это заверение, я немедленно принялся за дело, осуществляя одну из самых курьёзных спекулятивных операций, которую только можно было придумать, тем более что мне определили очень сжатые сроки для подготовки дела. Сто образцов книги в большом формате были распределены среди тридцати основных типографий Парижа, и с этой минуты печатные станки стали работать без перерыва. Была закуплена вся веленевая бумага определённого формата, которая стала ежедневно повышаться в цене, пока эта цена не выросла вдвое. Среди владельцев типографий в Париже возник ажиотаж, который обеспокоил полицию; причина подобной суматохи была специально расследована и выяснена. Прямо или косвенно я обеспечил работой от двухсот до трёхсот сотрудников типографий. По истечении двадцати одного дня мне отпечатали тираж стоимостью Два миллиона франков, и я готов был получить 400 000 франков наличными. Я, возможно, был единственным в мире человеком,
583
которого сумели склонить к участию в подобной спекулятивной сделке! В моём распоряжении имелись все готовые типографские формы моего “Атласа” — благодаря тому, что я выкупил их по большой цене. Теперь я пожинал плоды десяти лет усердия и инвестиций. Впереди был главный выигрыш в лотерее, и я пребывал вне себя от радости, предвкушая сказочное богатство. Но увы! План был построен на песке, и в результате я дорого заплатил за несколько счастливых минут иллюзии.
Циничный господин де П., генеральный директор книготорговли, который был моим коллегой в Государственном совете, казалось, решил погубить меня, хотя я не мог догадаться о причине его враждебности ко мне. Он заверял меня в своей готовности оказать мне любую услугу, но одновременно за моей спиной прилагал все усилия, чтобы нанести мне всяческий ущерб; он восстанавливал против меня всех наиболее влиятельных книготорговцев, которых склонял к тому, чтобы сделать из них доверенных лиц его операции по разрушению моей сделки. У меня нет никаких сомнений в достоверности этого, поскольку письма господина П. по этому поводу были конфиденциально переданы мне; но деликатность дела мешала мне получить удовлетворение и наказать его за подлость.
Сначала он пытался запугать меня тем, что несброшюрован- ные печатные листы моего “Атласа” нельзя вывозить из Франции, поскольку закон разрешает экспортировать только книги, но я объяснил ему, что мои печатные листы следует рассматривать как несброшюрованные книги. Тогда П. заявил, что разрешение на экспорт книг распространяется только на торговцев книгами, а не на их авторов, но господин де Монталиве, министр внутренних дел, выразил несогласие с подобной субъективной интерпретацией императорского указа и тем самым заставил господина П. уступить в этом специфическом вопросе. Тогда П. стал утверждать, что цена на каждый печатный лист моего “Атласа” сильно завышена, но я доказал, ссылаясь на двести рекламных объявлений о моей книге, помещённых в газетах в течение последних десяти лет, что эта цена всегда была неизменной. Следующим шагом моего оппонента явилась его ссылка на разницу между производственной и продажной ценой моей книги. Он утверждал, что товар, который я продаю за 100 су, стоил мне не более пяти или шести су. Не успокоившись на этом, он продолжал чинить мне множество других абсурдных препятствий.
Между тем время шло очень быстро. Арендованные корабли загружались, а условия сделки, предложенной мне оптовыми торговцами, становились для меня всё менее и менее выгодными. Наконец были получены решения арбитражного комитета, и я, продолжавший, несмотря на все трудности и препятствия, свои деловые операции,
584
оказался перед лицом тысячи неприятностей и считал себя счастливым, что избежал полного финансового крушения, поскольку мне удалось частично возвратить истраченные мною суммы (расходы превысили 80 000 франков)».
«Но, — сказал император, — всё это представляется почти невероятным, я едва могу понять, как всё это могло произойти. В вашей деловой операции я не вижу ничего плохого, — она бы только повысила моё мнение о вас; мне нравится ваша деловая активность и те методы, которые вы применяли для осуществления операции с вашей книгой. Ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем способность лиц из моего окружения делать состояние честными способами. Почему вы не обратились ко мне? Почему вы не стали разоблачать поведение П.? Вы бы увидели, как я поступил бы с ним». — «Сир, — ответил я, — эта мысль никогда не приходила мне в голову; я находился в критическом положении, но ваше время драгоценно. Как я мог надеяться на то, что Ваше Величество выслушает меня и что я смогу удовлетворительно объяснить столь запутанное и деликатное дело? Как я смог бы убедить вас в том, что именно я автор книги, которая издана под другим именем? Что можно было бы подумать о человеке из близкого окружения Вашего Величества, который активно занимался делами, связанными с коммерческими лицензиями и спекуляциями в области книжной торговли? Я считал себя малоизвестным Вашему Величеству и содрогался от страха при мысли о том, что известие о моей деловой сделке дойдёт до ваших ушей. Таким образом, хотя я активно занимался этим делом, я предпринимал всё возможное, чтобы оно не было предано широкой огласке, и готовился к худшему». — «Вы поступили неправильно, — заявил император. — Вы вели себя довольно неумно по отношению ко мне и, возможно, также по отношению к П. Я не могу иначе объяснить неестественную враждебность, которую он проявлял по отношению к вам».
Визит губернатора — Его разговор с императором
16 мая 1816 года
Разрыв отношений между губернатором и нами определился с тех пор, когда произошли случаи, которые я описал в дневнике: его первый недоброжелательный поступок, его первое оскорбление, нанесённое нам, и т.д. Наша обоюдная строгость и взаимная антипатия возрастали с каждым днём; короче говоря, мы находились в очень плохих отношениях друг с другом.
585
Губернатор появился в Лонгвуде около трёх часов дня в сопровождении своего военного секретаря и выразил пожелание встретиться с императором, чтобы обсудить с ним деловые вопросы. Император был не совсем здоров и ещё не полностью оделся, однако он сказал, что встретится с губернатором, как только закончит одеваться. Через несколько минут он вошёл в гостиную, и я представил ему сэра Хадсона Лоу.
Пока я вместе с военным секретарём ждал в передней окончания беседы императора с губернатором, я мог понять, судя по тону императора, что он раздражён и вся беседа проходит достаточно бурно. Она была продолжительной и очень шумной. Когда губернатор уехал, император удалился в сад и оттуда послал за мной. Последние два дня он чувствует себя нездоровым, и этот разговор с губернатором полностью вывел его из душевного равновесия.
«Итак, Лас-Каз, — сказал он, увидев меня, — у нас состоялся резкий разговор. Я вне себя! Они прислали мне нечто худшее, чем просто тюремщика! Лоу — явный палач! Я принял его сегодня крайне настороженно, однако испытал сильное чувство негодования. Мы с яростью смотрели друг на друга. Мой гнев готов был перейти все границы, поскольку я ощущал дрожь в икре моей левой ноги. Это ощущение — несомненный признак моего крайне нервного состояния, в котором я уже очень давно не пребывал».
Губернатор начал разговор несвязными фразами, он был явно растерян. Он сказал, что на остров привезли деревянные доски... Из газет Наполеон, должно быть, уже знает об этом... Эти доски предназначены для сооружения его резиденции... Губернатор был бы рад узнать, что Наполеон думает об этом... И так далее. В ответ император только многозначительно посмотрел на губернатора. Затем он, поспешив сменить тему разговора, с горячностью заявил губернатору, что ни о чём его не просил и из его рук ничего не возьмёт, он желает всего лишь, чтобы его оставили в покое. Император добавил, что хотя у него имелось достаточно оснований жаловаться на адмирала, но никогда не было причины считать адмирала абсолютно бесчувственным человеком, и что хотя поведению адмирала были свойственны недостатки, он всегда принимал его с должным уважением, но что в течение того месяца, когда сэр Хадсон Лоу находится на острове, у него возникло больше причин для недовольства, чем в течение шести предыдущих месяцев.
Когда же губернатор заявил, что приехал в Лонгвуд не для того, чтобы получить урок, император ответил ему: «Но это не является доказательством того, что вы в нём не нуждаетесь. Вы говорите мне, сэр, что ваши инструкции являются более строгими, чем те, которые были даны адмиралу. Предусматривают ли они, что я буду
586
казнён с помощью меча или буду отравлен ядом? Меня не удивит любой жестокий поступок со стороны ваших министров! Если принято решение умертвить меня, то выполняйте полученный вами приказ. Я не знаю, как вы станете применять яд, но если я должен погибнуть от меча, то вы уже нашли способ, как это сделать. Если вы попытаетесь, в соответствии с вашей угрозой, нарушить уединение моего дома, то я честно предупреждаю вас, что храбрые солдаты вашего 53-го пехотного полка войдут в него, только переступив через мой труп.
Узнав о вашем приезде, я поздравил себя, надеясь встретиться с генералом, который, проведя часть своей жизни в Европе и приняв участие в решении важных государственных дел, должен понимать, как вести себя со мной подобающим образом; но я глубоко ошибся».
Губернатор в этом месте заявил, что он солдат и его поведение соответствует интересам и обычаям его страны. На это император ответил: «Ваша страна, ваше правительство и вы сами будете опозорены за своё поведение в отношении меня; этот позор ляжет чёрным пятном и на ваши последующие поколения. Существовал ли когда-либо пример более утончённой жестокости, чем ваш поступок, когда вы, сэр, несколько дней назад пригласили меня к вашему столу в звании генерала Бонапарта, имея в виду сделать из меня посмешище для ваших гостей? Соизмеряли ли вы степень своего уважения ко мне тем званием, которым вам было угодно наградить меня? Для вас я не генерал Бонапарт. Ни вам, ни кому-либо ещё на свете не дано право лишать меня тех званий, которые справедливо являются моей собственностью. Если бы графиня Лоудон находилась в пределах зоны передвижения, ограниченной для меня, то я, несомненно, нанёс бы ей визит сам, поскольку я не придерживаюсь строгого этикета монаршего двора, если вопрос касается женщины; но всё равно я считал бы, что тем самым оказываю ей честь. Мне сообщили, что вы предлагаете, чтобы некоторые офицеры вашего штаба сопровождали меня, вместо офицера, приставленного ко мне в Лонгвуде, во время моих верховых прогулок по острову. Сэр, когда солдаты получают крещение огнём во время сражения, то в моих глазах все они имеют одно звание. Здесь меня оскорбляет не вид чьего-либо мундира, но обязанность вообще видеть солдат, так как её следует рассматривать в качестве молчаливой уступки в том вопросе, который я считаю спорным: я не являюсь военнопленным, поэтому не обязан подчиняться правилам, установленным для них. Я оказался в вашей власти в результате того, что принцип доверия был ужасным образом нарушен».
Губернатор в конце разговора попросил разрешения представить своего военного секретаря императору, но последний ответил, что
587
в этом нет никакой необходимости, и если офицер обладает малейшим чувством такта, то он сам не захочет этого; император, со своей стороны, предпочёл бы отклонить это предложение. Он добавил, что между тюремщиками и заключёнными не может существовать каких-либо светских отношений и что поэтому представление офицера губернатора императору полностью лишено смысла. Затем император попрощался с губернатором.
К нам присоединился гофмаршал; он приехал из своего дома, где губернатор останавливался до и после визита к императору. Гофмаршал подробно рассказал об этих двух посещениях и сообщил, что губернатор покинул Лонгвуд в очень плохом настроении и жаловался на характер императора. Не полагаясь на собственные способности выражать мысли, губернатор процитировал отрывок из остроумной книги аббата де Прадта, которая недавно побывала в наших руках. Губернатор заявил гофмаршалу, что «Наполеон, не удовлетворившись тем, что создал для себя нереальную Францию, нереальную Испанию и нереальную Польшу, теперь решил создать для себя нереальный остров Святой Елены». Услышав это, император не мог удержаться от смеха.
Затем мы отправились на прогулку в карете. Вернувшись с прогулки, император принял ванну. Он послал за мной и, вскользь заметив, что он обычно не обедает до девяти часов вечера, задержал меня у себя. Он говорил о событиях дня, подробно остановился на гнусном обращении, которому он подвергается, отметив озлобленность, с которой оно планировалось, и жестокость, с которой оно осуществляляется. После нескольких минут молчания и раздумий император воскликнул: «Мой дорогой Лас-Каз, они убьют меня здесь! Это неизбежно!» Какое зловещее пророчество!
Он отпустил меня в половине десятого вечера.
17 мая 1816 года
Всю ночь я чувствовал себя нездоровым; император завтракал в саду и послал за мной, чтобы я разделил с ним трапезу. Он пребывал в плохом настроении и, как и я, неважно себя чувствовал. После завтрака мы довольно долго гуляли в саду; за всё это время император не произнёс ни слова. Жаркая погода вынудила его вернуться в дом в десять часов утра: он очень остро ощущает отсутствие тени от деревьев.
Около четырёх часов дня император послал ко мне слугу, чтобы узнать о моём самочувствии. Он только что вернулся с прогулки в карете, в которой я не мог сопровождать его. Я покинул свою комнату и гулял с ним и с гофмаршалом Бертраном до половины шестого. Императора по-прежнему не покидало мрачное настроение,
588
и он поддерживал общий разговор с рассеянным видом. Он попросил Бертрана рассказать нам о его пребывании в Константинополе в 1796 году, о посещении Афин и поездке по Албании. Гофмаршал подробно рассказал нам о турецком султане Селиме III, о принятых им мерах по улучшению состояния страны, о бароне де Тотте, который был послом Франции в Константинополе, и т.д.
Повествование гофмаршала было очень интересным, но, к сожалению, в своей рукописи я обнаружил лишь отрывочные заметки и уже не в состоянии составить по памяти полное изложение рассказа Бертрана.
Император после обеда, во время которого он едва прикоснулся к еде, попытался читать нам вслух протоколы заседания древнегреческой академии, записанные Анахарсисом. Голос императора и его внешний вид заметно изменились: казалось, он утратил свойственные ему живость и энергию. Нарушив свою привычку, он, закончив чтение текста, не стал его обсуждать и комментировать, а сразу же удалился в свои апартаменты.
Жена маршала Лефевра
18 мая 1816 года
Состояние здоровья императора не улучшается. Совершив прогулку в карете, он принял ванну и послал за мной. Он старался казаться бодрым, и мы беседовали до половины девятого вечера. Император распорядился подать ему обед в его кабинете и пожелал, чтобы я обедал вместе с ним. Место, где мы обедали, беседа наедине, прекрасное обслуживание во время обеда, изящество, с которым был накрыт стол, — всё это дало мне повод сказать императору, что во время обеда меня не покидало ощущение изысканного комфорта. Моё замечание вызвало у императора улыбку. Он задал мне много вопросов о Лондоне, о днях моей эмиграции, о французских принцах и о епископе Арраса. Со своей стороны, он вновь вспоминал основные события консульства, рассказав некоторые любопытные подробности. Затем мы стали говорить о старом королевском дворе и о новом императорском дворе Франции. Многое из нашего разговора было лишь повторением прежде сказанного, и я уже писал об этом ранее. Я внесу в этот дневник только те подробности, которые неизвестны читателю.
Я развлекал императора забавными историями, которые необоснованно связывались с именем госпожи Лефевр и долгое время передавались из уст в уста в гостиных Парижа и даже в гостиной
589
дворца Тюильри; госпожа Лефевр была предметом насмешек. «Я, как и все, — сказал я, — потешался над ней, но потом раз и навсегда перестал делать это, узнав одну историю, которая подтвердила благородство её чувств и её сердечную доброту.
Госпожа Лефевр, чей муж когда-то был рядовым гвардейцем, получала удовольствие от воспоминаний о тех обстоятельствах, которые были связаны с её прошлым скромным положением в обществе и тяжёлой работой, которой она вынуждена была заниматься. Она и её муж были бедными людьми и работали в качестве домашней прислуги в семье маркиза де Валади, капитана корпуса, в котором Лефевр служил рядовым солдатом. Маркиз, человек благородных чувств и крёстный отец ребёнка Лефевра, играл заметную роль в тогдашнем дезертирстве из гвардии и был не менее знаменит своим фанатическим рвением в защиту республиканской свободы. Он был членом Конвента и погиб потому, что выступал против казни Людовика XVI. Он во всеуслышание заявил, что считает эту казнь явным убийством, и добавил, что Людовик настолько неудачливый король, что нет необходимости дополнительно наказывать его.
Когда жена маркиза вернулась во Францию из эмиграции, семья Лефевра, которая в то время жила в роскоши, немедленно и от всей души предложила ей помощь.
В один прекрасный день госпожа Лефевр навестила маркизу и обычным для неё грубоватым голосом заявила ей: “У вас, людей высокого происхождения, мало доброжелательности и сердечной доброты. Мы, люди, поднявшиеся из низов, гораздо лучше знаем свой долг. Мы только что узнали, что М., один из наших старых офицеров и товарищ вашего мужа, вернулся из эмиграции и сейчас буквально умирает от нищеты. Какой стыд! Мы боимся оскорбить его, предлагая ему материальную помощь, но совсем другое дело вы. Помощь от вас только доставит ему удовольствие. Прошу вас, передайте ему это, словно оно исходит от вас”. С этими словами госпожа Лефевр передала маркизе кошелёк с сотней луидоров. С той минуты, когда я узнал об этом, сир, — продолжал я, — у меня исчезло всякое желание подшучивать вместе с другими над госпожой Лефевр; впредь я испытывал к ней только чувство глубокого уважения. Всякий раз, когда я встречал её в Тюильри, я спешил предложить ей свою руку, чтобы с чувством гордости провести её в гостиную дворца, невзирая на приглушённые насмешки придворных, свидетелей этой сцены».
Затем мы с императором обсудили несколько примеров проявления великодушия со стороны новых избранников судьбы по отношению к семьям старой аристократии, попавшим в бедственное положение. Мы обратили наше внимание на один случай необычного
590
и, возможно, несколько неестественного поведения со стороны военного, который, начав карьеру рядовым солдатом, достиг звания маршала или должности главнокомандующего армией, — я точно не помню. Однажды, когда он только что добился своего блестящего положения, он пригласил на семейный обед своего бывшего полковника и пятерых офицеров полка, которых он принял, надев старый мундир рядового. Во время обеда он обращался к своим гостям, используя те же выражения, которые обычно употреблял, когда был солдатом.
«И это, — заметил император, — было единственным средством утихомирить страсти, поскольку подобные случаи должны были непременно вызвать у членов разных партий взаимную доброжелательность; и естественно предположить, что во время недавних событий те лица, которые были таким образом облагодетельствованы, должны были вернуть долг, чтобы расквитаться».
Это слово «расквитаться», произнесённое императором, напомнило мне об одной черте его характера, которую я не должен обойти вниманием.
Один генерал был обвинён в плохом ведении дел в своём департаменте, которое, если бы его судил военный трибунал, могло стоить ему чести и, возможно, жизни. До этого генерал оказал весьма важную услугу Наполеону в день брюмера. Император вызвал его к себе и резко отчитал за дурное поведение. «Однако, — заявил он, — вы оказали мне услугу, и я не забыл об этом. Вероятно, мне предстоит нарушить закон и поступиться своим долгом. Я оставляю ваш проступок без наказания, сударь; убирайтесь вон! Но знайте, что начиная с этого дня мы с вами квиты. В будущем ведите себя осторожно, я буду внимательно следить за вами».
Губернатор Явы — Доктор Уорден — Доверительная беседа с императором о его семье
19 мая 1816 года
Сегодня со мной завтракал доктор Уорден. Когда мы сидели за столом, в Лонгвуд со своим штабом приехал губернатор Явы сэр Стэмфорд Раффлз, который сделал остановку на острове Святой Елены по пути в Европу. Губернатор Раффлз был хорошо знаком с теми голландскими господами, с которыми я встречался в 1810 году во время моей миссии в Амстердаме. Император сообщил мне, что он, возможно, примет прибывших в Лонгвуд посетителей между тремя и четырьмя часами дня. Тем временем я в течение нескольких часов беседовал с доктором Уорденом, которому рассказал содержание
591
некоторых исторических событий, имевших отношение к императору, о которых, как я предположил, он собирается написать книгу*.
В три часа дня император принял этих английских господ, а потом совершил прогулку в карете.
Вернувшись с прогулки примерно в шесть часов вечера, он пожелал, чтобы я проследовал в его кабинет. Он послал за гофмаршалом и его женой и затем до самого обеда довольно откровенно говорил с нами на различные темы, касавшиеся его семьи и обстоятельств его семейной жизни в тот период, когда он находился у власти. Особенно подробно он говорил об императрице Жозефине.
«Мы жили вместе, — сказал он, — как обычные люди, как нежная и дружная супружеская пара, которая долгое время делила одну комнату и одну постель. Именно такие условия семейной жизни оказывают большое влияние на счастье семьи, сохраняя репутацию жены, доверие мужа, семейные узы в целом и способствуя пристойному поведению обеих сторон брачного союза. Можно сказать, что муж и жена никогда не теряют друг друга из виду, если они вместе проводят ночь; в противном случае они вскоре начинают жить врозь. Таким образом, пока это продолжалось, ни одна из моих мыслей и ни один из моих поступков не ускользали от внимания Жозефины. Она всё замечала, всё понимала и всё постигала. Иногда это обстоятельство причиняло мне неудобство и могло влиять на государственные дела. В то время, когда мы были в лагере в Булони, минута плохого настроения положила конец этому порядку семейной жизни».
Это случилось однажды, когда в течение всего дня и большей части ночи внимание Наполеона было полностью сосредоточено на политических событиях, произошедших в 1805 году в Вене, а также на сообщении о создании коалиции против Франции. Он отправился спать в не очень хорошем состоянии духа. Его встретила разгневанная Жозефина, которая была недовольна тем, что он долго отсутствовал. Действительной или надуманной причиной её настроения была ревность. Наполеон рассердился в свою очередь. Он отказался от послушания, и с тех пор Жозефина более не могла вернуть прежний порядок семейной жизни. Во время второй женитьбы император опасался, как он сказал, «что Мария Луиза сможет добиться такого же послушания с его стороны, так как в этом случае он должен был бы уступить. Это законное право супруги и её привилегия».
«Сын от Жозефины, — продолжал император, — сделал бы меня совершенно счастливым и с политической, и с семейной точек зрения.
* К большому сожалению, я обнаружил, просматривая книгу доктора Уордена, что он полностью проигнорировал мои замечания и поправки; он также странным образом исказил те подробности, о которых я сообщил ему.
592
Политическим результатом рождения сына от Жозефины стало бы прочное владение троном; французский народ был бы так же сильно привязан к сыну Жозефины, как он был привязан к Римскому королю, и я не ступил бы в пропасть, прикрытую цветами. Но напрасны все человеческие расчёты! Кто способен судить о том, что именно может привести к счастью или к несчастью в этой жизни!
И всё же я верю, что такой залог нашего брачного союза оказался бы источником семейного счастья: рождение сына положило бы конец чувству ревности Жозефины, которое постоянно не давало мне покоя и которое, в конце концов, скорее было результатом политики, а не чувства. Жозефина была в отчаянии от того, что у неё нет от меня ребёнка, и из-за этого она с ужасом смотрела в будущее. Она прекрасно понимала, что ни один брачный союз без детей не является идеальным, но в период её второго брака у неё уже не было никакой возможности стать матерью. По мере того, как возрастало её благополучие, усиливалась её тревога. Она использовала все средства медицины и иногда почти убеждала себя в том, что её лечение окажется успешным. Когда, в конце концов, она была вынуждена отказаться от всех надежд, то заговорила со мной о целесообразности грандиозного политического обмана; и она зашла настолько далеко, что прямо предложила принять эту меру.
У Жозефины была большая склонность к роскоши, развлечениям и к расточительности, что естественно для креолки. Было просто невозможно навести порядок в её расходах; она постоянно была в долгах, и когда наступал день оплаты её счетов, между нами всегда возникали шумные ссоры. Известно, что она часто давала указания торговцам присыпать ей счета, в которых ставилась половина номинальной стоимости купленных ею товаров. Даже когда я находился на острове Эльба, счета Жозефины приходили ко мне со всей Италии».
Один из присутствовавших при этой беседе, который был знаком с Жозефиной ещё на острове Мартиника, рассказал императору о многих подробностях, связанных с её семьёй и с её юностью. Когда она была ребёнком, ей неоднократно предсказывали, что она будет носить корону. Другой случай, не менее любопытный и знаменательный, касался первого мужа Жозефины, генерала Богарне. Он якобы разбил пиалу, в которой находилось священное масло для помазания при коронации королей Франции, в то время, когда общественное мнение было настроено против него; этим поступком он надеялся создать себе лучшую репутацию*.
О женитьбе Наполеона и Жозефины рассказаны и написаны тысячи историй. Необычные обстоятельства их знакомства, их брачный
* Эта история является как минимум противоречивой. Судя по всему, она при- Думана из-за любви к чудесам.
593
союз, заключённый перед самым началом военной кампании в Италии, — всё вызывало повышенный интерес. После вандемьера Евгений Богарне, который был ещё в юном возрасте, добился приёма у генерала Бонапарта, являвшегося тогда главнокомандующим внутренними войсками, и попросил вернуть ему саблю отца. Лемарруа, один из адъютантов Наполеона, представил генералу мальчика, который, получив в руки саблю отца, не мог удержаться от слёз. Главнокомандующий, тронутый этой сценой, приласкал подростка. Когда Евгений рассказал матери о том, как вёл себя с ним молодой генерал, она, не теряя времени, сама пришла на приём к Наполеону.
«Хорошо известно, — сказал император, — что она верила в предчувствия и пророчества. В её детские годы какая-то гадалка предсказала, что она достигнет высокого положения и даже взойдёт на трон. Она замечательно владела искусством обольщения; когда мы познакомились, она часто уверяла меня в том, что её сердце учащённо забилось, когда Евгений впервые описал ей меня, и что уже тогда её озарило видение будущего величия и она поверила в исполнение пророчества относительно своей судьбы.
Другой особенной чертой характера Жозефины, — продолжал император, — была её постоянная привычка всё отрицать. Какой бы я ни задавал ей вопрос, её первая реакция всегда была отрицательная, её первый ответ был: нет; и это нет было не обманом, но лишь мерой предосторожности, своего рода защитной реакцией». — «Именно в этом, — заметила госпожа Бертран, — и заключается характерное отличие нашего пола от вашего». — «Но ведь это отличие, — возразил ей император, — возникает только в связи с разницей в воспитании. Вы любите, но не говорите этого, поскольку вас учили говорить нет; мы, напротив, гордимся, уверяя окружающих, что мы любим, неважно, действительно ли мы любим или нет. В этом случае манеры поведения наших двух полов прямо противоположны. Мы не похожи друг на друга и никогда не сможем быть одинаковыми».
«Во время господства террора, — сказал император, — Жозефина была брошена в тюрьму, а её муж погиб на эшафоте. Её сын Евгений был отдан в учение столяру, он овладел этим ремеслом. Гортензию, дочь Жозефины, ожидала не лучшая доля, — она была отправлена, если я не ошибаюсь, обучаться мастерству белошвейки»*.
Фуше первым рискнул затронуть роковую струну императорского развода. Не получив на этот счёт никаких инструкций, он самовольно предложил Жозефине разрушить её брак ради блага Франции. Наполеон, однако, полагал, что подходящий момент для
* Меня уверяли, что эта информация является ошибочной, а та, что касается принца Евгения, неточной.
594
этого ещё не наступил. Шаг, предпринятый Фуше, стал источником немалых неприятностей: его инициатива вызвала крайнее недовольство императора, и если, несмотря на категоричное требование Жозефины, он всё же оставил Фуше на прежнем посту, то только потому, что сам в душе решился на развод и не хотел, наказав министра, тем самым преждевременно предать огласке эту проблему.
Но справедливости ради надо отметить, что, как только император объявил ей своё решение о разводе, Жозефина без промедления дала на это своё согласие. Правда, тем самым она пожертвовала многим, но безропотно подчинилась принятому решению и не пыталась использовать те препятствия, с помощью которых могла бы, пусть и безуспешно, противостоять ему*. Она вела себя в высшей степени достойно и тактично. Она хотела, чтобы во главе дела о бракоразводном процессе стоял наместник царственной особы, и сама указывала на императорский двор Австрии.
Жозефина охотно бы встретилась с Марией Луизой. Она проявляла повышенный интерес к ней, а также к юному Римскому королю. Мария Луиза, со своей стороны, относилась исключительно тепло к Евгению и Гортензии, но не скрывала неприязни и даже чувства ревности по отношению к Жозефине. «Однажды я хотел повезти её в Мальмезон, — рассказывал император, — но она разразилась
* Из уст самого князя-примаса церкви (т.е. первого епископа страны) мне довелось услышать любопытные подробности замужества и развода Жозефины. Бракосочетание госпожи де Богарне с генералом Бонапартом было совершено священником, не принявшим присягу, который, по чистой случайности, забыл получить необходимые полномочия от священника церковного прихода. Это нарушение, а также другие нарушения формальностей при совершении церемонии бракосочетания впоследствии привлекли внимание кардинала Феша, и то ли благодаря возникшим у него сомнениям, то ли по другим причинам, но Фешу перед коронацией удалось убедить императора и императрицу в том, что необходимо обвенчаться, пусть и без свидетелей, и провести церемонию бракосочетания так, как он считал необходимым. Решение о разводе было оглашено Сенатом. Что же касается церковного развода, то император не стал обращаться к папе римскому, и в этом не было необходимости. Поскольку кардинал Феш без свидетелей сочетал супругов браком, то председатель церковного суда Парижа заявил, что никакого брака совершено не было. Когда это решение было объявлено, императрица Жозефина пригласила кардинала Феша в Мальмезон и спросила его, может ли он дать свидетельские показания и подписать заявление о том, что она сочеталась браком с Наполеоном и была его законной супругой. «Несомненно, — ответил кардинал, — я могу дать свидетельские показания и подпишу заявление». Это он и сделал.
«Но, — спросил я примаса, — было ли тогда правильным решение председателя церковного суда Парижа?» — «Оно было единственно правильным», — ответил примас. «Что же тогда означало заявление кардинала Феша? Оно недействительно?» — «Но не с точки зрения самого кардинала, — заявил примас. — Он поступил в соответствии с итальянской церковной доктриной, благодаря которой кардиналы имеют право совершать церемонию бракосочетания без свидетелей, но которая, однако, не признаётся во Франции, где бракосочетание без свидетелей аннулируется».
Таким образом, Жозефина просила у кардинала Феша заявление о своём браке лишь для собственного удовлетворения. Она никогда не использовала это заявление Феша.
595
слезами, когда я предложил ей это. Она сказала, что ничего не имеет против того, чтобы я навещал Жозефину, но только сама она не хочет знать об этом. Но всякий раз, когда у неё возникали подозрения о моих намерениях отправиться в Мальмезон, она пускалась на все хитрости, чтобы досадить мне. Она ни на шаг не отходила от меня; и так как эти визиты сильно раздражали её, то я не хотел поступать вопреки своим чувствам, и мои визиты в Мальмезон стали редкостью. Однако, когда всё же случалось, что я ездил туда, я был уверен, что, вернувшись, застану Марию Луизу всю в слезах и она разыграет множество неприятных сцен. Жозефина никогда не забывала пример супруги Генриха IV, которая, как говорила Жозефина, жила в Париже, навещала королевский двор и присутствовала при коронации после своего развода. Но при этом Жозефина отмечала, что она всё же находится в лучшем положении, поскольку у неё уже есть дети и она не может надеяться вновь иметь ребёнка».
Жозефина прекрасно знала различные черты характера императора и проявляла самый утончённый такт, когда ей надо было использовать это знание для своей пользы. «Например, — заявил император, — она никогда ничего не просила для Евгения и никогда не благодарила меня за то, что я чем-то одаривал его. Она даже никогда не демонстрировала какой-либо дополнительной услужливости или усердия в тех случаях, когда Евгений удостаивался высочайших почестей. Она ставила перед собой цель доказать, что всё это было моим личным делом, которое её совсем не касается, и что достижения Евгения в первую очередь выгодны мне самому. Несомненно, она вынашивала идею, что в один прекрасный день я сделаю Евгения своим наследником».
Император сказал, что он был тем человеком, которого Жозефина любила больше всех на свете, и он убеждён в этом; он добавил с улыбкой, что она отказалась бы от всего ради того, чтобы быть с ним. Во всех его поездках она всегда сопровождала его. Ни усталость, ни лишения не могли запугать её; и она использовала любую возможность и прибегала к любой хитрости, чтобы добиться своего.
«Если я в полночь садился в карету, чтобы отправиться в продолжительную поездку, то, к своему удивлению, обнаруживал Жозефину, полностью готовую к путешествию, хотя я и не думал брать её с собой. Тогда я обычно говорил ей, что ей нельзя ехать со мной, что поездка будет продолжительной и слишком утомительной для неё. “Ничего подобного”, — обычно отвечала она. “Кроме того, — убеждал я её, — я должен уезжать сию минуту”. — “Ну что же, я вполне готова». — “Но ведь нужно собрать большой багаж”. — “О нет! Всё уже упаковано”. И обычно я был вынужден уступать ей. Одним словом, Жозефина делала всё, чтобы осчастливить своего мужа, и она постоянно доказывала, что является его самым искренним
596
другом. Всегда, в любых обстоятельствах она демонстрировала идеальные качества смирения и преданности, так что я никогда не перестаю вспоминать о ней с нежностью и благодарностью.
Жозефина, — продолжал император, — проявляла свои женские качества покорности, послушания и услужливости настолько искусно, что её поведение можно было приравнять к искусству политика; и она часто порицала поведение дочери Гортензии и своей племянницы Стефании Богарне, у которых были очень напряжённые отношения с мужьями и которые часто позволяли себе капризничать и отстаивать свою независимость.
Моему брату Луи принесло вред чтение книг Руссо. Он умудрился прожить в согласии с женой только несколько месяцев. В этом были виноваты они оба. Луи, в силу своего характера, был слишком нудным, а Гортензия, в свою очередь, слишком капризной. Они были привязаны друг к другу в период женитьбы, которая отвечала их обоюдному желанию. Однако этот брачный союз был задуман Жозефиной, которая, поощряя его, имела в виду собственные цели. Я, напротив, предпочёл бы расширить свои родственные связи с другими семьями, и какое-то время у меня был план брачного союза между Луи и племянницей Талейрана — той, которая впоследствии стала госпожой Жюст де Ноайль».
Речь зашла об имевших хождение крайне нелепых слухах о непристойной связи между Наполеоном и Гортензией. Утверждалось даже, что она имела ребёнка от императора. «Подобная связь, — заявил он, — была бы полностью несовместима с моими понятиями о морали; и тем, кто хотя бы немного знал о принципах поведения в Тюильри, должно быть известно, что меня не нужно унижать, приписывая мне совершение столь неестественного и отвратительного поступка. Луи прекрасно знал цену подобным слухам; но они, тем не менее, били по его тщеславию, вызывали раздражение, и он часто говорил о них, попрекая при этом свою жену.
Но Гортензия, — продолжал император, — целомудренная, благородная, преданная Гортензия не была полностью безупречной в своём поведении по отношению к мужу. Я должен признать это, несмотря на всё моё доброе расположение к ней и искреннюю привязанность, которую, я уверен, она испытывала ко мне. Хотя эксцентричные чудачества Луи, по всей вероятности, весьма надоедливы, тем не менее он любил Гортензию; и в подобном случае женщина должна научиться усмирять свой нрав и пытаться вернуть привязанность мужа. Если бы она знала, как сдерживать свой нрав, она бы не стала навлекать на себя неприятности её последнего судебного процесса. У неё была бы счастливая жизнь; она бы отправилась вместе с мужем в Голландию и оставалась бы там. Тогда бы Луи не сбежал из Амстердама, а я не был бы вынужден объединять его королевство
597
с моей империей, то есть не принял бы той меры, которая немало способствовала гибели моей репутации в Европе. Ход многих других событий мог бы быть совершенно иным.
Герцогиня Баденская (племянница Жозефины) поступила намного умнее. Развод Жозефины заставил её одуматься, и она сделала всё возможное, чтобы завоевать любовь мужа. Впоследствии она и Евгений стали вполне счастливой супружеской парой.
Полина была слишком беззаботной и расточительной. Она могла бы быть необычайно богатой, учитывая всё, что я давал ей, но она, в свою очередь, раздавала всё направо и налево. Наша мать часто отчитывала её за это и говорила, что она закончит свои дни в приюте для бедных. Зато сама Мадам Мер доводила свою скупость до невероятной крайности. Я предложил ежемесячно обеспечивать её значительной суммой при том условии, что она будет полностью тратить полученные ею деньги. Со своей стороны, она рада была получать от меня деньги, но при условии, что ей будет разрешено их копить. Это желание вовсе не было следствием её природной алчности, но скорее проявлением чрезмерной предусмотрительности: она более всего опасалась, что однажды окажется в нищете. Она знала ужасы крайней бедности, и эти воспоминания не давали ей покоя. Однако надо признать, что она часто тайно снабжала деньгами своих детей. Её действительно можно назвать доброй матерью.
Тем не менее, — продолжал император, — моя мать, которая так неохотно расставалась даже с одним экю, готова была от всей души отдать мне всё, что у неё было, когда я вернулся с острова Эльба; а после сражения при Ватерлоо она бы предоставила в моё распоряжение всё, чем обладала, чтобы помочь мне поправить мои дела. Именно это она мне и предложила, безропотно обрекая себя на один хлеб и воду*. Благородство чувств по-прежнему являлось главным
* Как верно император обрисовал характер своей матери! Когда я вернулся в Европу, мне доставило большое удовольствие стать очевидцем точного подтверждения всего того, что говорил о ней император.
Как только я описал Мадам Мер истинное материальное положение императора и заявил о своей решимости приложить все усилия для облегчения его бедствий, она через посыльного сообщила мне, что всё её состояние находится в распоряжении сына и что сама она готова, если это будет необходимо, устроиться на любую работу. Одновременно она поручила мне, хотя лично не знала меня, немедленно от её имени взять в банке сумму, которую я мог бы посчитать необходимой для императора. Кардинал Феш тоже самым благожелательным образом выразил свою готовность оказать денежную помощь императору; и я должен здесь воспользоваться возможностью и сказать о том, что все члены императорской семьи проявили к Наполеону любовь и преданность. Пока состояние здоровья позволяло мне поддерживать с ними переписку, я получал от них множество писем; собранные вместе, они составляют весьма интересную коллекцию. Они отражают благородство сердец их авторов, и эти письма могли бы стать источником утешения для императора, если бы ограничительные инструкции английского правительства позволили мне направить их ему.
598
свойством её сердца; гордость и величественное честолюбие всё ещё не были подавлены алчностью».
В этом месте рассказа император обратил наше внимание на то, что он по-прежнему хранит в памяти уроки гордого поведения, которые получил от матери в детстве и которые влияли на всю его жизнь. Её недюжинный природный ум был закалён великими событиями, свидетельницей которых она была: перед её глазами прошли пять или шесть революций, её дом трижды сжигали дотла враждующие фракции Корсики.
«Жозеф, — заявил император, — не оказывал мне помощи, но он всё же очень хороший человек; его жена Юлия является на редкость прекрасным созданием. Жозеф и я всегда были очень близки друг другу и поддерживали тесные отношения. Он искренне любит меня, и я не сомневаюсь, что он сделал бы всё на свете, чтобы помочь мне. Но лучшие качества его характера проявляются только в личной жизни. У него кроткий и добрый характер, он обладает способностями и знаниями; вообще это очень приятный человек. Когда я поручал ему наиважнейшие задания, он делал всё, на что был способен. Намерения у него были хорошие, а главная причина того, что не всё у него получалось, была связана не с ним, а со мной, — я переоценивал его возможности. Если ему нужно было действовать в трудных обстоятельствах, то оказывалось, что его силы несоразмерны с той задачей, которую я просил его решить.
Неаполитанская королева сформировалась как личность благодаря непосредственному участию в великих событиях. Каролина обладала здравым смыслом, силой характера и безграничным честолюбием. Она, как и следовало ожидать, жестоко страдала от собственных неудач, и во многом потому, что была, можно сказать, прирождённой королевой. Ей не пришлось, как остальным моим младшим братьям и сёстрам, — заметил император, — жить в среде простых людей. Каролина, Полина и Жером были ещё детьми, когда я добился верховной власти во Франции; они не знали иного образа жизни, чем тот, который они вели в период моего правления страной.
Жером был абсолютным мотом. Он пускался в бесконечные сумасбродства и позволял себе самое отвратительное распутство. Такое поведение, вероятно, можно объяснить его молодостью и соблазнами, поджидавшими его на каждом шагу. Когда я вернулся с Эльбы, он производил впечатление человека, изменившего к лучшему своё отношение к жизни и подававшего большие надежды. Лучшим доказательством этого стала любовь, которую он внушил своей жене. Она вела себя просто замечательно, когда, после моего падения, её отец, деспотичный и расточительный король Вюртемберга, хотел
599
добиться её развода с Жеромом. Принцесса резко воспротивилась этому и, можно сказать, собственными руками вписала своё имя в историю».
В этот момент, к нашему большому сожалению, был объявлен обед; но в течение всего вечера император продолжал охотно беседовать с нами. Как обычно, он много размышлял о прошлом и подробно говорил о поведении известных людей во время его отсутствия и возвращения. Он оставался с нами до полуночи и закончил беседу следующими словами: «Что делается во Франции и в Париже в эту минуту? И что мы будем делать сами ровно через год?»
Император в состоянии сна — Размышления о морали
20 мая 1816 года
Император очень рано выехал на прогулку в карете. Вернувшись около трёх часов дня, он пожелал, чтобы я последовал за ним в его комнату. «У меня плохое настроение, и я неважно себя чувствую, — сказал он. — Усаживайтесь в это кресло и составьте мне компанию». Он растянулся во весь рост на кушетке и вскоре заснул. Я, сидя в кресле в нескольких шагах от него, наблюдал за ним. Он ничем не прикрыл голову, и я устремил взгляд на его чело. Передо мною был человек, в памяти которого запечатлены Маренго, Аустерлиц и сотня других бессмертных побед. Какие в эту минуту мне пришли в голову мысли, какие чувства обуревали меня? Это можно легко себе представить, но я не берусь описать их.
Примерно через три четверти часа император проснулся. Он несколько раз прошёлся по комнате, и ему захотелось посетить
апартаменты всех членов его свиты. Подробно ознакомившись со всеми неудобствами моей комнаты, он, усмехнувшись, возмущённо заявил: «Да, не думаю, что хотя бы один христианин на Земле мог быть размещён хуже, чем вы».
После обеда император предпринял попытку почитать отрывок из «Караван-сарая» Сарацина. Пробежав взглядом несколько рассказов и прочитав страницу одного из них, он сказал: «Мораль этого рассказа, несомненно, заключается в том, что люди никогда не меняются. Это не совсем так: они меняются и к лучшему и к худшему. Тысячи других принципов, которые авторы пытаются установить, все в равной степени фальшивы. Они утверждают, что люди по своей сути неблагодарны; но нет, они не так уж неблагодарны, как предполагают, и если часто жалуются на неблагодарность, то это случается потому, что благодетель требует больше, чем даёт.
Также говорится, что когда вы знаете характер человека, то в ваших руках находится ключ к пониманию его поведения. Это ошибочное мнение. Человек может совершить плохой поступок, хотя в своей основе он хороший человек; его можно подтолкнуть к совершению злого поступка, хотя у него добрый характер. Это происходит потому, что человек обычно не руководствуется естественными склонностями своего характера, но следует вспышкам тайных страстей, которые дремлют, притаившись в самых укромных уголках его сердца. Другое ошибочное мнение заключается в том, что лицо является зеркалом души. В действительности очень трудно познать характер человека. Для того чтобы не оказаться в заблуждении на этот счёт, необходимо судить человека только по его поступкам, и это должны быть поступки, совершённые в конкретный момент и только ради этого момента.
На самом деле в характере одного и того же человека заложены и добродетели и пороки, он способен совершать и героические и извращённые поступки; люди не являются в целом хорошими или в целом плохими, — они обладают тем и другим и осуществляют на практике всё то, что является на этом свете и хорошим и плохим. Это всеобщий закон; характер, данный от природы, воспитание и случайные обстоятельства — всё это представляет собой только приложение к главному закону жизни. Я всегда руководствовался этим законом и в основном находил его правильным. Однако я обманулся в 1814 году, когда поверил, что Франция, осознав угрозу надвигавшихся на неё опасностей, в едином порыве объединится со мной ради общего дела; но я не обманывался в 1815 году, когда вернулся в Париж после Ватерлоо».
Император чувствовал себя нездоровым и очень рано удалился в свою комнату.
Губернатор арестовывает одного из наших слуг — Библия
21 мая 1816 года
Состояние здоровья императора не улучшается; тем не менее мы совершили обычную прогулку в карете. Когда мы вернулись с прогулки, нам сообщили, что в Лонгвуде побывал губернатор, который лично арестовал одного из наших слуг. Этот слуга оставил службу у вице-губернатора Скелтона и всего лишь несколько дней проработал в услужении у генерала Монтолона. Узнав об этом, император воскликнул: «Какой позор! Какая низость! Губернатор, английский генерал-лейтенант, лично арестовывает слугу! Вот уж действительно, подобное поведение не может не вызвать крайнего отвращения!»
В Лонгвуд приехал гофмаршал, он сообщил о прибытии на остров грузового корабля, который отплыл из Англии 8 марта.
После обеда император спросил, что именно мы будем читать, и мы все решили в пользу Библии. «Это очень поучительно, — с оттенком иронии заметил император. — В Европе об этом никогда не догадаются». Он стал читать нам книгу Осии. При упоминании большинства городов и деревень он замечал: «Я овладел этой местностью, я брал этот город штурмом, я сражался в этом месте», — и т.д.
Примеры каприза властей —
Стефания, принцесса Баденская
22 мая 1816 года
В этот день было много разговоров о матросах корабля «Нортумберленд», присланных в Лонгвуд в качестве домашних слуг, которых, как нам дали понять, собираются отозвать обратно. Они были наняты в соответствии с двусторонним договором со сроком действия один год. Но мы вне закона. По утверждению губернатора, адмирал хотел, чтобы матросы вернулись на корабль, но сказал, что он позволит матросам оставаться в Лонгвуде, если этого пожелает губернатор. Матросов отозвали, а вместо них в Лонгвуд прислали солдат, но эти солдаты тоже были отозваны, а потом возвращены в Лонгвуд; затем им во второй раз приказали покинуть Лонгвуд, после чего вновь прислали нам. Мы не могли понять значения этих действий.
Пока я находился в апартаментах императора в ожидании объявления об обеде, наш разговор зашёл об учебном заведении госпожи Кампан, о молодых девушках, получавших там воспитание, и о судьбах,
602
которые император уготовил для некоторых воспитанниц этого заведения. Он особенно подробно говорил о судьбе Стефании де Бо- гарне, впоследствии ставшей принцессой Баденской, к которой он был очень привязан.
Стефания ещё в детские годы потеряла свою мать, и о ней стала заботиться одна английская дама, близкая подруга её матери. Англичанка была очень богата и не имела детей. Она доверила воспитание своей протеже монахиням на юге Франции, кажется, в Монтобане.
Наполеон, когда был Первым консулом, однажды услышал, как Жозефина упомянула это обстоятельство, рассказывая о своей юной племяннице Стефании. «Как вы могли позволить это? — возмутился Наполеон. — Как вы могли терпеть, что ваша родственница получает материальную поддержку от иностранки, англичанки, которая в данный момент должна рассматриваться как наш враг? Разве вы не боитесь, что от этого пострадает ваша репутация?» В Монтобан немедленно был послан курьер, чтобы привезти молодую девушку в Тюильри, но монахини наотрез отказались расстаться с нею. Наполеон, однако, подготовил необходимые документы, и к префекту округа Монтобан срочно был направлен второй курьер с поручением немедленно забрать её, именем закона.
Стефания была так воспитана, что отъезд из Монтобана стал для неё источником огромного сожаления, и она с ужасом предстала перед тем, кто объявил себя её родственником и намеревался стать её покровителем. Её поместили в учебное заведение госпожи Кам- пан в Сен-Жерменском предместье, лучших учителей назначили руководить её воспитанием и образованием. Когда она была представлена свету, её красота, ум, достоинства и добродетели сделали её объектом всеобщего восхищения.
Император удочерил её и выдал замуж за наследника герцогства Баденского. В течение нескольких лет этот брачный союз вряд ли можно было назвать счастливым. Однако со временем причины, осложнявшие отношения молодых супругов, постепенно исчезли; принц и принцесса привязались друг к другу и начали сожалеть о том, что отказывались от такого счастья во время первых лет супружеской жизни.
Во время конференции в Эрфурте принцесса Баденская стала предметом весьма заметного внимания со стороны её свояка, императора Александра. Во время наших бедствий в 1813 году лица, ставшие вершителями политических судеб Европы, опасаясь возможных последствий будущей встречи в Мангейме между императором Александром и принцессой Баденской, распространили лживые сообщения, в которых был предвзято описан характер принцессы, и добились того, что она лишилась расположения со стороны своего августейшего родственника. Поэтому, когда Александр прибыл
603
в Мангейм во время триумфального похода на Париж, он не оказал принцессе Стефании должного уважения. Его поведение ранило её чувства, но её гордость не позволила ей унизиться. Позиция принца Баденского, занятая им в этом случае, показала истинное величие его характера. В кругу монархов, к которому принадлежал принц, самые высокопоставленные августейшие особы требовали, чтобы он развёлся с женой, полученной им из рук Наполеона. Но принц отверг требование, заявив, что никогда не совершит этого позорного поступка, который отвратителен для его чувств и его чести. Этот благородный принц, по отношению к которому мы в Париже не были достаточно справедливыми, впоследствии стал жертвой продолжительной и мучительной болезни. Принцесса лично ухаживала за больным мужем во время его страданий, собственноручно выполняя все необходимые процедуры, включая самые тривиальные, по уходу за больным; её преданность мужу вызвала восхищение её родственников и подданных.
Стефания, принцесса Баденская, прославила своё высокое положение и заслужила величайшее уважение как жена и как дочь. При каждом удобном случае она всегда открыто выражала чувство глубочайшего благоговения перед тем человеком, который в период своей безграничной власти великодушно удочерил её.
Принципы императора относительно верховной власти — Исключение Порталиса из состава Государственного совета — Происшествия, случившиеся с императором в Сен-Клу, Оксонне и Марли
23 мая 1816 года
Император пожелал, чтобы я составил ему компанию и пришёл к нему в комнату в два часа дня. Он обратил внимание на то, что я плохо выгляжу. Он и сам чувствовал себя неважно и провёл прошедшую ночь практически без сна. Он стал одеваться, сказав, что, возможно, станет чувствовать себя лучше, когда закончит свой туалет. Затем мы отправились на прогулку в сад. Во время беседы император сказал, что в свете наших нравов монарх — всегда благо для народа, а его суровые меры простительны, поскольку уравновешиваются актами милосердия; однако милосердие должно быть главной отличительной чертой его деятельности. В Париже, по признанию императора, его иногда упрекали в том, что он позволял себе вести разговор в резком тоне и произносить слова, которые, строго
604
говоря, не должны были исходить из его уст. Но император добавил, что объяснить это можно его положением, а его чрезвычайно активная деятельность и большинство начинаний, предпринятых по его инициативе, должны многое компенсировать. Он отдавал должное деликатности, которая отличает жителей французской столицы; более нигде не встретишь, сказал император, столько острословия и такого тонкого вкуса. Он упрекал себя за исключение Порталиса из состава Государственного совета. Поскольку я присутствовал при этом событии, то позволил себе заметить, что, на мой взгляд, в поведении императора чувствовалась отеческая забота.
«Вероятно, я был слишком строг, — возразил император, — мне следовало до того, как я приказал ему покинуть Совет, взять себя в руки. Порталис не пытался оправдываться, и поэтому мне следовало ограничиться устным порицанием, в то время как наказание должно было поджидать его дома. Монарху никогда не следует поддаваться собственному гневу. Возможно, моё поведение тогда было простительно, поскольку я считал, что нахожусь в кругу своей семьи, но меня могли вполне справедливо порицать за этот поступок. У каждого есть свои недостатки; природа проявляет свою власть над всеми нами».
Император сказал, что он также порицает себя за своё поведение в отношении некоего господина во время одного из больших воскресных приёмов в Тюильри в присутствии всего императорского двора. «Но я тогда, — заявил он, — был рассержен до крайности. Мой гнев вырвался наружу, и это противоречило моему нраву. Из войска, которым я собирался защищать столицу, я отдал один полк под командование этого человека. Впоследствии я узнал, что он радовался нашим бедствиям и накликал их, хотя я не ведал об этом в то время, о котором сейчас рассказываю. Враг приближался к столице, когда он письменно и вполне невозмутимо сообщил мне, что состояние его здоровья не позволит ему взять предложенный полк под своё командование; тем не менее, будучи придворным, он предстал передо мной в полном здравии и в хорошем настроении. Я был весьма возмущён его поведением, но постарался не замечать его и подавил в себе вспышку гнева. Он, тем не менее, умудрился четыре или пять раз оказаться на моём пути. Я более не мог сдержать свой гнев, и бомба взорвалась.
Это тем более огорчительно, поскольку сын Г. служил у меня камергером и в отношении него у меня не было никаких причин Для нареканий».
Затем император заговорил о Сен-Жерменском предместье. Он расспрашивал меня о многих семьях и об отдельных лицах, проживавших там. Случайно он упомянул имя госпожи де С. Я отметил,
605
что она постоянно проявляла по отношению к императору сильнейшую преданность, из-за которой сейчас, несомненно, испытывает массу неприятностей. Император не знал об этой искренней преданности и готовности госпожи де С. с огромным усердием служить ему, хотя он был глубоко тронут её благородным решением остаться с императрицей Жозефиной. Он сказал, что должен порицать себя за то, что ничего не сделал для госпожи де С. Она, должно быть, неудачно выбрала момент для того, чтобы ходатайствовать о назначении её мужа членом Сената.
Начиная с детских лет я был близко знаком с госпожой де С., и она сделала меня своим другом, построив наши отношения на основе полного доверия. Я рассказал императору историю её назначения на должность придворной дамы. Однажды во время утреннего приёма во дворце её муж представил её императрице Жозефине, которая поблагодарила её за то, что та обращалась с просьбой стать членом свиты императрицы. Эта благодарность императрицы Жозефины прозвучала как гром средь ясного неба для госпожи де С., которая никогда и не мечтала о том, чтобы обращаться с подобной просьбой; она была настолько скромной, что не вымолвила ни слова в ответ. В то время я, конечно, был далёк от того, чтобы одобрить её решение согласиться занять предложенную должность или чтобы что-либо советовать ей по этому поводу. Я, тем не менее, оказал ей немалую услугу, утаив письмо с её отказом от должности, которое она доверила мне, не сообщив об этом своим друзьям; оно могло оказаться роковым для тех интриганов, которые затеяли всё это дело.
606
Император спросил меня, что могло служить причиной нежелания госпожи де С. стать членом свиты императрицы. Я ответил, что это нежелание объяснялось её связью с королевской семьёй. «Она была права, — заявил император. — Как мог её муж допустить, чтобы она оказалась в ситуации, столь враждебной её чувствам? Подобный случай произошёл, когда я принимал решение о назначении одной персоны на должность камергера императорского двора. Этот человек обратился ко мне с просьбой, чтобы я оказал ему любезность разрешить отказаться от предложенной ему чести, поскольку, как он заявил, он был камергером при дворе Людовика XVI и Людовика XVIII. С его стороны это был вполне разумный шаг, но каким образом я мог реагировать на его просьбу? Со стороны тех, кто ходатайствовал об этом назначении, это было свидетельством отсутствия такта и деликатности, но как мне следовало поступать в данном случае? Должен ли я был вникать во все детали этого дела? Важнейшие проблемы, занимавшие моё внимание в то время, не позволяли мне снизойти до того, чтобы заниматься подобными делами.
Если бы госпожа де С., — продолжал император, — избрала правильный способ поведения, она бы получила всё то, о чём просила. Но она никогда не умела вызвать особого интереса к тому, о чём просила, и ходатайствовала только о тех лицах, которые этого не заслуживали; например, она старалась обратить моё внимание на одного человека, который уже был пэром у короля, а теперь хотел бы стать и моим пэром. Когда я вернулся с Эльбы, дочь этого человека пришла ко мне на приём, чтобы заверить меня в том, что если бы я сделал его своим пэром, то он дал бы слово ревностно служить мне, как он заявил, только во имя интересов страны. Вот это правильное отношение к делу».
Около четырёх часов дня император отправился на прогулку в карете. Во время этой поездки он упомянул о нескольких серьёзных происшествиях, в результате которых его жизнь подвергалась опасности.
Однажды в Сен-Клу он попытался сам править каретой, запряжённой шестеркой лошадей. В тот момент, когда его адъютант Каф- фарелли неосторожно пустил свою лошадь в галоп через дорогу прямо перед каретой императора, его лошади сильно испугались. Прежде чем император успел подхватить вожжи, неуправляемые лошади понеслись на предельной скорости, и карета врезалась в изгородь. Император был сброшен наземь и упал примерно в трёх метрах от кареты лицом вниз. Как сказал император, несколько секунд он лежал как мёртвый. В этот момент, который он назвал отключением от жизни, он потерял способность что-либо ощущать.
607
Но как только человек из его свиты, соскочив с лошади, дотронулся до него, он сразу же вернулся к жизни. Император сказал, что это было похоже на то, как во время страшного сна спящий человек немедленно пробуждается от собственного крика.
Во время другого происшествия, рассказал император, он чуть было не утонул. Когда в 1786 году он служил в гарнизоне Оксонна, он однажды решил поплавать в реке. Во время плавания его тело неожиданно онемело; Наполеон потерял самообладание и был подхвачен быстрым течением. Он был один в воде и чувствовал, как жизнь покидает его, хотя и слышал, как друзья на берегу кричат, что он тонет, и спешат найти лодку, чтобы добраться до него. Его спас сильный удар. Наполеон грудью ударился о песчаную отмель; буквально чудом он смог вынырнуть и, держа голову над водой, доплыть до берега. Он наглотался речной воды, и теперь она выходила наружу; из последних сил он нашёл место, где оставил одежду, оделся и, пошатываясь, пошёл домой. В это время друзья всё ещё продолжали искать в реке его тело.
В другой раз, во время охоты на диких кабанов в Марли, вся императорская свита при виде зверей бросилась врассыпную; это было похоже на то, как армия спасается бегством после поражения. Император с Сультом и Бертье остались одни против трёх громадных кабанов. «Мы убили всех трёх, но мой кабан ранил меня, и я чуть не потерял этот палец, — сказал император, показывая средний палец левой руки, на котором действительно остался заметный шрам. — Но самым забавным в этой истории было поведение членов многочисленной свиты, которые, окружённые своими собаками, постарались
608
спрятаться от трёх кабанов под сенью деревьев и при этом во весь голос кричали: “Спасите императора! Спасите императора!” — хотя ни один из них не поспешил мне на помощь».
Размышления на политические темы
24 мая 1816 года
Император вышел из дома только для того, чтобы совершить прогулку на свежем воздухе в карете; она заняла у нас почти полтора часа. Перемещались мы медленно и тем самым продлили пребывание на свежем воздухе, дважды проехав отведённую нам зону передвижения. В разговоре император затронул политические темы: газеты, которые мы получили три дня назад, дали необходимую пищу для размышлений на политические темы.
Император обратил внимание на то, что во Франции быстро растёт число патриотов, желающих эмигрировать; в стране ощущается стремление поощрять их эмиграцию разными способами, в том числе тем, что их собственность не конфискуют.
Император, ознакомившись с содержанием дебатов в английском парламенте, предположил, что существует скрытая идея относительно расчленения Франции; мысль об этом глубоко потрясла императора. «Каждый, в ком бьётся сердце истинного француза, — заявил он, — сейчас должен быть преисполнен отчаянием. Подавляющее большинство населения Франции должно быть ввергнуто в состояние
609
глубочайшей скорби. Эх! Почему меня не поместили в какое-нибудь глухое место, по-настоящему свободное и независимое, где не нужно было бы опасаться никакого внешнего влияния! Как бы я удивил всю вселенную! Я бы обратился к французам с воззванием; я бы сказал им: “Вы погибнете, если не объединитесь. Ненавистный, надменный иностранец собирается разделить на части вашу страну и уничтожить вас. Французы, восстаньте; объединяйтесь любой ценой, даже, если потребуется, вокруг Бурбонов! Озаботьтесь в первую очередь существованием и безопасностью Франции!”»
Однако император считал, что Россия должна противодействовать расчленению Франции, поскольку России следует опасаться возрастающей силы и консолидации Германии. Кто-то из участников беседы высказал мнение, что Австрия также должна противиться разделу Франции, которая сможет оказать необходимую поддержку Австрии в случае возникновения опасности для последней со стороны России. Более того, в этом случае Австрия могла бы выступить сторонницей Римского короля, поддержав его притязания на французский трон. «Да, — скептически заметил император, — возможно, она сделает его оружием устрашения, но никогда он не станет объектом её добрых намерений. У Австрии слишком много причин, чтобы опасаться его. Римский король будет представителем народа, он будет защитником Италии. Следовательно, политической целью Австрии станет стремление лишить его жизни. Вероятно, попытка ликвидировать его не будет предпринята, пока на австрийском троне находится его дед, — он хороший человек. Но император Франц не может жить вечно. Если, однако, нравы нынешнего времени воспрепятствуют попыткам убить Римского короля, то они попытаются ограничить его права и подвергнут его жестокому обращению. И, наконец, если он сможет избежать физического и нравственного убийства, — если забота его матери и его собственные природные способности спасут его от всех этих опасностей, — тогда... тогда (он несколько раз повторил это слово, как будто впав в глубокое раздумье)... что же тогда? Но кто возьмётся предсказать судьбу любого из нас, живущего здесь, под небесами?!»
Император перевёл разговор на Англию, заметив, что она одна заинтересована в уничтожении Франции. Англия не может усилить Бельгию, сказал он, ибо, в противном случае, Антверпен стал бы столь же могущественным, каким он был, когда находился под его властью, то есть властью императора Франции. Англия должна будет, сказал император, сохранить Бурбонов в центре страны с населением лишь в восемь—десять миллионов человек и в окружении принцев, герцогов и королей Нормандии, Бретани, Аквитании и Прованса; таким образом, Шербур, Брест, река Гаронна и побережье Средиземного моря станут владениями различных монархов. Это, заявил
император, отбросит французскую монархию на несколько веков назад и поставит её в положение, в котором Франция находилась при первых Капетингах; Бурбонам в течение нескольких веков придётся прилагать новые и напряжённые усилия.
«Но, к счастью, — заметил император, — прежде чем Англия сможет добиться всего этого, она должна будет преодолеть непреодолимые препятствия — единство территории, разделённой на департаменты, общность языка, сходство нравов, универсальность законов, единую систему обучения в лицеях и ту славу и величие, которые я оставил после себя, — то есть массу неразрывных тугих узлов и истинно национальных институтов. Великую страну, подобную Франции, нельзя с лёгкостью раздробить на части, но если это и удастся, то в ней начнётся процесс воссоединения и возрождения её величия; словно великан, образ которого создал поэт Ариосто, она, как и он, тоже помчится вслед за отрубленными частями своего тела и даже за своей головой, чтобы, воссоединившись, начать вновь сражаться». — «Но, сир, — возразил один из участников беседы, — сила великана зависела от одного вырванного волоска; и, следуя вашему сравнению, можно сказать, что Наполеон и есть тот самый волосок, от которого зависит существование Франции». — «Не совсем так, — ответил император. — Память обо мне и мои идеи всё же сохранятся... Но Англия, напротив, со временем стала бы всего лишь придатком Франции, если бы последняя продолжала оставаться под моей властью. Англии самой природой предназначено быть одним из наших островов, как Олерон и Корсика. От каких мелочей зависит судьба империй! Насколько мелки и незначительны наши революции во всеобщей грандиозной структуре Вселенной! Если бы вместо экспедиции в Египет я бы вторгся в Ирландию, если бы некоторые малозначительные отклонения от моих планов не стали препятствием для осуществления моей Булонской операции, то чем бы была сегодня Англия? Какая бы сложилась ситуация на континенте и во всём мире?»
«Брут» Вольтера
25 мая 1816 года
После обеда император читал «Эдипа». Эта трагедия Софокла ему чрезвычайно нравится. Затем он взял в руки трагедию Вольтера «Брут» и дал нам её обстоятельный анализ. По мнению императора, Вольтер неправильно понял суть описываемых им событий. «Римлян, — заявил он, — вело за собой чувство патриотизма, так же как нас вело чувство чести. Вольтер не дал картину истинного величия Брута, пожертвовавшего собственными сыновьями ради блага своей
<5//
страны, несмотря на муки отцовской любви. Вольтер сотворил из него какого-то изверга, обуреваемого гордостью, приказавшего убить своих детей ради сохранения собственной власти и собственной славы. Другие персонажи трагедии, — добавил император, — тоже представлены в ложном свете. Туллия описывается как фурия, пользующаяся своим положением, а не как женщина с нежными чувствами, которую можно подтолкнуть к совершению преступления, совратив её и оказав на неё пагубное влияние».
Французская колония на берегах реки Св. Лаврентия — Император мог уехать в Америку — Поведение Карно во время отречения императора от престола
26 мая 1816 года
Император вызвал меня в два часа дня. Он плохо себя чувствовал и выглядел уставшим. Мы просмотрели несколько газет.
В этих газетах сообщалось, что Жозеф Бонапарт купил значительные участки земли на севере штата Нью-Йорк вдоль берегов реки Св. Лаврентия и что вокруг него собралось большое количество французских семей, которые вскоре сформируют там многочисленную колонию. В газетах отмечалось, что это место было определено с учётом интересов Соединённых Штатов и вопреки желанию Англии. На юге Соединённых Штатов, в Луизиане, например, французские эмигранты могли иметь лишь слабые надежды на отдых и на счастье домашних очагов, но поселения эмигрантов на берегах реки Св. Лаврентия должны были вскоре стать естественным объектом внимания со стороны населения Канады, которое уже было французским. Эти поселения со временем должны образовать на границе двух стран своего рода буфер против англичан, которые владеют канадской частью Северной Америки. Император считает, что через несколько лет население этих французских поселений значительно возрастёт и будет сообществом людей, обладающих всякого рода полезными знаниями. Если они выполнят свой долг, заявил он, то французская колония породит блестящие документы, с успехом опровергающие ту политическую систему, которая сейчас торжествует в Европе. Когда император находился на острове Эльба, он уже размышлял на эту тему.
Затем император стал подсчитывать, сколько денег он передал различным членам его семьи, и пришёл к выводу, что они могли бы скопить значительные суммы. Что же касается его самого, то у него ничего не осталось; если бы по прошествии времени он оказался
владельцем какой-либо собственности в Европе, то этим он был бы целиком обязан лишь предусмотрительности и изобретательности некоторых из его друзей.
Если бы император отправился в Америку, то там он собрал бы вокруг себя всех своих родственников; он полагает, что они могут владеть общим капиталом в размере не менее сорока миллионов франков. Эта французская колония стала бы ядром национального объединения, второй Францией. События в Европе способствовали бы тому, что ещё до конца года французская колония в Америке возросла бы до шестидесяти тысяч человек, большинство из которых обладали бы способностями, знаниями и общим состоянием в размере до ста миллионов франков. Император заявил, что ему бы хотелось реализовать эту мечту: это было бы возрождением его славы.
«Америка, — продолжал он, — во всех отношениях была бы наиболее подходящим местом для нашего пристанища. Она представляет собой своеобразное явление, это необъятный и свободный континент. Если человеком овладевает тоскливое состояние духа, то он волен занять место в дилижансе и проехать тысячу лье, не думая ни о чём и предаваясь приятным заботам простого путешественника. В Америке вы можете быть на равной ноге с любым встречным; вы можете, если пожелаете, без затруднений смешаться с толпой, не отказываясь от своих манер, родного языка, религии и т.д.».
Император заявил, что больше не может считать себя частным лицом в Европе, — его имя слишком известно по всему континенту. Тем или иным образом он связан со всеми народами Европы и принадлежит всем европейским странам.
«Что касается вас, — сказал он мне, улыбаясь, — то ваша судьба, видимо, естественным образом приведёт вас к берегам Мексики, где имя доброго Лас-Каза пока ещё не изгладилось из памяти. Вы получили бы там всё, что только пожелали. Участь некоторых людей решена заранее. Например, ревностному республиканцу Грегуару достаточно отправиться в Гаити, чтобы там его немедленно сделали священником».
В период второго отречения императора от престола один американец, находившийся в Париже, в своём письме сделал ему следующее предложение: «Пока вы были во главе страны, вы могли сотворить любое чудо, вы могли породить любые надежды, но теперь вы больше ничего не сможете сделать в Европе. Спасайтесь бегством в Соединённые Штаты! Я знаю о настроениях лидеров страны и о чувствах народа Америки. Там вы найдёте для себя вторую родину и источник утешения».
Император не стал прислушиваться к подобным предложениям. Несомненно, он мог бы бежать открыто или переодевшись, тайком
613
добраться до Бреста, Нанта, Бордо или Тулона, и, по всей вероятности, он достиг бы Америки. Но он считал, что бегство и отъезд из Парижа в чужом платье унизили бы его достоинство. Он считал себя обязанным продемонстрировать всей Европе своё полное доверие к французскому народу, испытывавшему к нему большую преданность, и проехал через свои владения в момент чрезвычайного политического кризиса в качестве простого частного лица и без эскорта. Но в этот критический для страны час он надеялся прежде всего на то, что опасности, грозящие нации, откроют глаза его подданным, что они сплотятся вокруг него и он сможет спасти страну. Именно эта надежда удерживала его в Мальмезоне, именно поэтому он откладывал свой отъезд из Франции, прибыв в Рошфор. Если он и находится в настоящее время на острове Святой Елены, то своим положением пленника он обязан именно этой надежде, которую никак не мог оставить. Соответственно, когда у него не осталось иного выбора, кроме как воспользоваться гостеприимством «Беллерофона», то, вероятно, не без некоторого внутреннего удовлетворения он неожиданно для себя, в силу обстоятельств, почувствовал непреодолимое желание поселиться в Англии, где он мог быть счастливым благодаря тому, что находится рядом с Францией. Император прекрасно понимал, что не может быть свободным в Англии, но надеялся, что его сумеют услышать, и тогда, по крайней мере, появился бы шанс оказывать влияние на положение во Франции.
«Английские министры, — заявил император, — которые являются врагами своей страны и которые продали её иностранцам, считают, что у них есть немало причин опасаться моего присутствия в Англии. Они сознают, что моё мнение имело бы больше веса, чем политика всей оппозиции в парламенте, — оно вынудило бы их или сменить политическую систему, или подать в отставку; и для того, чтобы удержаться на своих должностях, они подло пожертвовали истинными интересами своей страны, величием своих законов, миром во всём мире, благополучием Европы, счастьем и благословением последующих поколений».
В ходе разговора вечером император вновь обратился к теме Ватерлоо и обрисовал состояние тревоги и нерешительности, овладевшее им до того, как он принял окончательное решение отречься от трона. Я опускаю множество высказанных им в разговоре подробностей, чтобы не повторяться; ниже я приведу главное.
В своей речи перед министрами император точно предсказал все последовавшие события. Из всех министров только Карно, казалось, правильно представлял себе истинное положение вещей. Он высказался против отречения императора от престола, которое, как он заявил, было бы смертельным ударом для Франции. Карно
614
хотел, чтобы мы защищались до конца. Он был единственным, кто придерживался подобного мнения, все остальные высказались за отречение. Решение было принято, и Карно, закрыв лицо руками, разразился рыданиями.
Сменив тему разговора, император заявил: «Я — не бог: я не могу совершать всё, полагаясь только на собственные усилия, я не могу спасти страну без помощи самой страны. Я уверен, что народ тогда разделял это моё мнение, и теперь он незаслуженно страдает. Страна стала пристанищем интриганов, обладающих титулами и занимающих высокие должности. Они — истинные виновники сложившегося положения. Именно неопределённая политическая система 1814 года и умеренность Реставрации ввели их в заблуждение и погубили меня: они надеялись на то, что вновь будет установлен мягкий политический режим. Смена монархов стала простым фарсом. Все эти интриганы рассчитывали на то, что всё останется таким же, как и прежде, независимо от того, буду ли я сменён Людовиком XVIII или кем-либо ещё. Эти глупые, себялюбивые и эгоистичные люди рассматривали великие события лишь как простое соперничество монархов, до которого им мало дела; они думали только о своих личных интересах в тот момент, когда вот-вот должна была начаться смертельная схватка принципов. И почему я должен был скрывать правду? Среди тех, кого я вознёс и кто окружал меня, немало гордецов... — Тут, обратившись ко мне, император добавил: — Я не имею в виду ваше Сен-Жерменское предместье, в отношении которого дело обстояло совершенно иначе и для которого можно было
615
кое в чём найти какое-то оправдание. Во время моих первых неудач в 1814 году главные мои предатели не были связаны с людьми из этого предместья, и жаловаться на последних у меня нет причины: они, когда я вернулся, не были связаны со мной узами признательности. Я отрёкся от престола, и король вступил на трон. Они всего лишь восстановили свою прежнюю преданность королю и возобновили лояльность к нему».
Положение дел французских фабрикантов — Рассуждения о физиогномике
27 мая 1816 года
В два часа дня император вышел на прогулку; погода была великолепная. Она заметно изменилась по сравнению с тем, какой была во время нашего прибытия на остров: воздух стал гораздо чище. Тем не менее император чувствовал себя больным и пребывал в плохом настроении. В ожидании кареты мы подошли к границе нашего сада, а затем отправились на обычную прогулку.
Разговор коснулся положения дел фабрикантов во Франции. Император заявил, что обеспечил им такую степень экономического процветания, которая до тех пор была неизвестна; её едва ли сразу оценили должным образом в Европе и даже во Франции. Это процветание становилось предметом восхищения иностранцев, когда они прибывали во Францию, а аббат де Монтескье, сказал император, постоянно выражал удивление по поводу прекрасного экономического положения страны, доказательства которого он видел воочию, когда стал министром внутренних дел.
Император был первым человеком во Франции, который сказал: во-первых — сельское хозяйство, во-вторых — промышленность, то есть положение дел французских фабрикантов, и, наконец, торговля — умелое использование результатов двух первых сфер. Он также утвердил и ввёл в практику ясным и продуманным способом системы, наиболее благоприятные для интересов промышленников и купцов. Мы в неоплатном долгу перед ним за то, что во Франции начали производить сахар, краску индиго и хлопок. Император установил премию в размере миллиона франков для человека, который откроет метод получения пряжи изо льна, как из хлопка; и он не сомневался, что это открытие будет сделано. Только роковые обстоятельства помешали осуществить эту грандиозную идею.
«Наша старая аристократия, этот враг экономического процветания, — сказал император, — всё своё остроумие тратила на глупые
616
шутки и фривольные карикатуры по этому поводу. Но у англичан не было причин для смеха: они ощутили удар по своей экономике и по сей день не оправились от него».
Незадолго до наступления часа обеда император вызвал меня в свою комнату. Он чувствовал себя очень плохо; он пытался говорить со мной, но на это у него не было сил. Своё скверное состояние здоровья император приписывал тому, что выпил плохое вино, которое только что прислали нам. Он рассказал, что Корвисар, Бертолле и другие врачи и химики часто говорили, что если он ощущает неприятный привкус вина, когда пробует его, то он ни в коем случае не должен его пить.
Позднее император всё же завёл разговор о том, что у него вызывает удивление контраст между складом ума человека и выражением его лица, наблюдаемый у некоторых персон. «Это обстоятельство доказывает, — заявил он, — что мы не должны судить о человеке по выражению его лица; мы должны понимать человека только по его поведению. С какими только выражениями лиц мне не приходилось сталкиваться в течение жизни при попытке оценить характер их владельцев! Какие странные образцы физиономий были объектами моего наблюдения! И какие поспешные мнения мне приходилось слышать при этом! В результате я взял за правило никогда не придавать значения чертам лица и не подпадать под влияние произнесённых слов. Однако следует признать, что мы иногда находим странное сходство между выражением лица человека и его характером. Например, вглядываясь в лицо нашего монсеньора (он имел в виду губернатора), кто бы не признал в нём черты куницы! Я приведу другой пример. Среди моих слуг был один человек, который обслуживал непосредственно меня. Мне он очень нравился, но я был вынужден уволить его, так как несколько раз заставал его в тот момент, когда он обшаривал мои карманы. Он воровал слишком дерзко; достаточно было только раз посмотреть на него, чтобы сказать, что у него глаза сороки».
В процессе разговора о физиогномике один из нас вспомнил, что граф Оноре Мирабо, член Национальной ассамблеи, говоря о лице Пасторе, сказал: «В его лице есть черты тигра и телёнка, но черты телёнка преобладают». При этих словах император от всего сердца рассмеялся и признал, что это абсолютно верное наблюдение.
Император пожелал обедать в одиночестве в своей комнате. Он вызвал меня в десять часов вечера. Придя к нему, я заметил, что ему стало гораздо лучше; он занимался тем, что перебирал книги, которые лежали в беспорядке на его канапе. Он начал читать «Александра» Расина, — книга ему не понравилась, после чего он взял «Андромаху», одну из самых любимых им книг.
617
Знаки уважения, оказываемые императору со стороны английских солдат
28 мая 1816 года
Император вышел из дома в два часа дня. Погода была на редкость хорошая, и почти час мы ездили в карете. Сначала императору предложили совершить верховую прогулку, поскольку недостаток этого физического упражнения сказывался на состоянии его здоровья. Но он не согласился, объяснив нам, что поездка верхом на лошади в пределах ограниченной для него зоны передвижения равнозначна поездке по кругу в манеже школы верховой езды и ему это не по нраву. Однако, когда мы вернулись после прогулки в карете, нам удалось уговорить его изменить принятое им решение. В верховой поездке его сопровождала вся императорская свита. Мы доехали до вершины Козьей горы, которая отделяет Джеймстаун от Лонгву- да. Возвращаясь обратно, мы проезжали вдоль лагеря английского
пехотного полка; со времени нашего переселения в Лонгвуд мы впервые проезжали вблизи этого лагеря. Солдаты немедленно прекратили заниматься своими делами и поспешили выстроиться в одну шеренгу, когда мы проезжали мимо них, отдавая дань уважения императору. «Какого европейского солдата, — воскликнул император, — не охватило бы чувство воодушевления при моём приближении!» Он знал об этом и поэтому старался не проезжать вблизи лагеря английского пехотного полка, чтобы его не стали обвинять в том, что он хочет вызвать это чувство у английских солдат. Мы
все остались весьма довольны верховой прогулкой и вернулись домой к пяти часам дня. Император выглядел немного уставшим.
В течение нескольких последних дней он прекратил регулярную диктовку своих воспоминаний. Он ненароком увидел, что наши слуги, ради забавы, играют в кегли. Император распорядился, чтобы и ему принесли кегли. Мы сыграли в них несколько партий, и он выиграл у меня полтора наполеондора. Император потребовал у меня проигранную мною сумму и затем отдал деньги слуге, который во время игры бегал для нас за шаром и ставил кегли.
Корсика — Паоли — Мадам Мер — Двор в Тюильри — Госпожа де Шеврез — Император получает письмо от матери
29 мая 1816 года
В последние дни, уступая нашим настойчивым просьбам, император каждый вечер даёт обещание, что на следующее утро отправится на верховую прогулку; но всякий раз, когда наступает назначенный час, император неизменно меняет своё решение. Утром этого дня он вышел в сад в половине девятого и послал за мной. Наш разговор, занявший почти час, был посвящён Корсике.
«Для человека, — заявил император, — родная страна всегда дорога сердцу. Даже остров Святой Елены может иметь своё очарование для тех, кто здесь родился». Поэтому для императора Корсика
обладает множеством привлекательных особенностей. Он отметил, что жителей Корсики отличает самобытный характер, так как обособленное положение острова защищает их от вражеского вторжения и препятствует постоянному общению с иностранцами, которое свойственно жителям континентальных государств. Жители горных местностей острова, сказал император, отличаются особой силой характера и своеобразным складом ума. Император много говорил о красотах острова, который, с самых ранних дней его детства, он всегда считал лучшим местом на Земле. По его словам, он узнал бы родной остров по запаху, если бы его высадили на Корсику с завязанными глазами; в этом запахе было нечто особенное, чего он никогда и нигде не ощущал. Корсика была местом его ранних привязанностей и увлечений; там он провёл счастливые годы детства, безмятежно скитаясь среди её холмов и долин и ощущая теплоту гостеприимства местных жителей. Император прослеживал родственные связи различных семей, как он заявил, до седьмого колена, и всё это время они сохраняли дух вражды и мести; девушки на Корсике, как он заметил, считают, что они придают дополнительный вес своему приданому, если преувеличивают количество своих кузенов.
Император с гордостью вспоминал, что, когда ему было всего двенадцать лет, он сопровождал Паоли в знаменитом походе в Порт
ди Нуово20. Кортеж Паоли был внушительным; он насчитывал до пятисот всадников, его сторонников. Наполеон ехал рядом с ним, и Паоли показывал юному Наполеону различные оборонительные рубежи и места, в которых происходили стычки и одерживались победы во время войны за свободу Корсики. Он подробно рассказывал мальчику о той эпохе и, слушая в ответ замечания и высказывания своего юного собеседника, воскликнул: «О, Наполеон! В твоём характере нет ничего современного! Ты один из героев Плутарха».
Даже когда Паоли объявил о своём решении сдать остров англичанам, семья Бонапарта продолжала возглавлять профранцузскую партию, и ей была оказана малоприятная честь стать объектом вооружённого нападения местных жителей. Собственно говоря, она была атакована набранными рекрутами: до 15 000 крестьян спустились с гор, чтобы атаковать Аяччо. Дом, который занимала семья Наполеона, был разграблен и сожжён, виноградники уничтожены, а домашний скот захвачен грабителями. Мать Наполеона, сопровождаемая несколькими верными друзьями, некоторое время скиталась по побережью острова, пока, в конце концов, не сумела перебраться во Францию.
Семья Бонапарта всегда была привязана к Паоли, а он, в свою очередь, открыто заявлял о своём глубоком уважении к Летиции Бонапарт. Как бы то ни было, следует отметить, что Паоли, прежде чем прибегнуть к силе, пытался убедить её в бесполезности её приверженности к Франции. «Откажитесь от своего сопротивления, — убеждал её Паоли. — Оно погубит вас, вашу семью и ваше будущее; вы причините себе напрасные страдания». Император считает, что если бы не революция во Франции, его семья никогда не смогла бы оправиться от несчастий. Госпожа Бонапарт, словно новоявленная Корнелия, отважно ответила Паоли, что она, её дети и её родственники будут подчиняться только двум законам, а именно: закону долга и закону чести. Если бы старый архидиакон Люсьен был жив в это время, заявила она, то его сердце обливалось бы кровью при мысли об опасности, угрожавшей его овцам, козам и рогатому скоту, и его бережливость укротила бы бурю.
Госпожа Бонапарт, жертва собственного патриотизма и преданности Франции, ожидала, что в Марселе её примут как знаменитую эмигрантку, но в этом французском городе она почти не чувствовала себя в безопасности; и, к её удивлению, она обнаружила, что дух патриотизма жив только среди низших классов местного общества.
Наполеон в юности написал книгу «История Корсики», которую посвятил аббату Рейналю. Этому произведению Наполеон обязан тем, что получил письмо с лестным отзывом от аббата, который в те Дни был модным писателем. Рукопись юного Наполеона была безвозвратно потеряна.
Император отметил, что во время войны на Корсике французы, приехавшие на остров, сформировали неоднозначное мнение о характере местных горцев. Одни французы считали, что горцы отличаются силой своего энтузиазма, другие же полагали, что те всего лишь бандиты.
В Париже в Сенате как-то было сказано, что Франция выбрала себе властелина из среды того народа, из которого древние римляне никогда не брали себе рабов. «Сенатор, заявивший это, хотел своим высказыванием нанести мне оскорбление, — сказал император, — но он тем самым сделал высочайший комплимент в адрес корсиканцев. Он невольно сказал правду: древние римляне никогда не покупали корсиканских рабов, — они знали, что нельзя принудить корсиканцев к рабству».
Во время войны за свободу Корсики кто-то предложил оригинальный план: вырубить и сжечь все каштановые деревья, плоды которых кормили горцев. Автор этого плана надеялся, что в результате горцы будут вынуждены спуститься на равнины и просить пищу и мир. К счастью, сказал император, это был один из тех нереальных планов, которые можно выполнить только на бумаге. По самым различным причинам Наполеон, в ранний период своей жизни, всегда резко выступал против разведения коз, поскольку на острове их было много и они объедали листву деревьев. Наполеону хотелось, чтобы всех коз на острове истребили. По этому поводу у него возникали серьёзные ссоры с его дядей, архидиаконом Люсьеном, который владел большим количеством коз и защищал их как патриарх. В гневе он бранил своего племянника, называя его вольнодумцем, и поносил его философские идеи, которые, по его мнению, и были причиной опасности, угрожавшей его козам.
Паоли умер в Лондоне в весьма почтенном возрасте; он застал то время, когда Наполеон стал Первым консулом, а затем и императором. Наполеон выражал сожаление, что ему не удалось привлечь Паоли на свою сторону. «Для меня это было бы очень приятно, — сказал император. — Подобный поступок был бы истинной победой моего уважения к нему. Но моя голова была полностью занята важными делами, и я редко имел время потакать собственным чувствам».
По возвращении императора в Париж в 1815 году, когда Люсьен тоже прибыл в столицу Франции, Жозеф советовал императору назначить Люсьена генерал-губернатором Корсики. Решение об этом назначении даже было принято, но стремительный ход событий помешал его выполнению. «Если бы Люсьен отправился на Корсику, — заявил император, — он бы по-прежнему оставался хозяином острова, и сколько возможностей было бы предоставлено нашим патриотам, подвергаемым гонениям! Какому множеству несчастных
622
семей дала бы Корсика своё убежище!» Император повторил, что он, вероятно, совершил ошибку, когда отрекался от престола, не обеспечив для себя суверенитет Корсики, несколько миллионов франков, в соответствии с цивильным листом, и не отправив свои драгоценности в Тулон. На Корсике он бы чувствовал себя как дома: всё население острова было бы, можно сказать, его собственной семьёй. Корсиканцы, их души всецело принадлежали бы ему. Его не могли бы покорить тридцать и даже пятьдесят тысяч солдат союзных войск. Ни один монарх в Европе не взялся бы за выполнение подобной миссии. Но именно удачное положение Корсики, которое обеспечивает её безопасность, и стало причиной отказа от идеи. Император не хотел, чтобы говорили, что, когда французы гибнут (а он ясно предвидел такое положение), он один оказался достаточно хитрым, чтобы найти безопасное пристанище.
Кто-то из нас напомнил, что он мог бы в 1814 году добиться, чтобы его отправили в ссылку на Корсику вместо Эльбы (и тогда так считали многие). «Конечно, я мог добиться этого, — ответил император, — и те, кто хорошо изучит то, что происходило в Фонтенбло, будут удивлены, что я этого не сделал. В то время я мог добиться для себя всего, чего бы мне ни захотелось. Мой душевный настрой в тот момент заставил меня принять решение в пользу Эльбы. Если бы я получил Корсику, то, вполне вероятно, никогда бы не стал думать о возвращении в 1815 году. Даже когда я находился на Эльбе, те, кто был заинтересован в том, чтобы держать меня там, сами предопределили моё возвращение собственным плохим управлением страной и невыполнением наших договорённостей».
Мы напомнили императору о его намерении совершать верховые прогулки, но он заявил, что предпочитает пешие прогулки и беседы. Он заказал себе второй завтрак, после которого мы некоторое время вели разговор о прежнем королевском дворе, о придворных и их претензиях, об экипажах короля и т.д.; и всё это сравнивалось с эпохой императора Наполеона.
Затем император вновь обратился к временам Консулата и говорил о трудностях, с которыми он столкнулся, формируя свой двор в Тюильри. Обосновавшись в этом дворце, он был полон решимости Уничтожить память о нравах и конфликтах предыдущего периода. Но до этого он проводил свою жизнь в армейских лагерях; он только пто вернулся из Египта, куда отправился молодым и неопытным человеком. Для всех в Тюильри он был незнакомцем, и поначалу это обстоятельство оказалось для него источником немалых затруднений.
В течение первых лет его консульства Лебрен выступал в роли его наставника. В то время его главную озабоченность вызывали
623
банкиры и финансовые спекулянты. Как только Первый консул приступил к выполнению своих обязанностей, к нему сразу же устремились толпы этих людей, наперебой предлагая значительные суммы денег. Их поведение казалось продиктованным проявлением щедрости, но на самом деле они руководствовались небескорыстными целями. В своём большинстве они не отличались честностью, и их предложения были отвергнуты. У Первого консула была естественная неприязнь к людям этой профессии. Император сказал, что он тогда принял твёрдое решение действовать на основе принципов, крайне отличных от принципов Шерера, Барраса и Директории. Он стремился к тому, чтобы честность и неподкупность стали основными пружинами деятельности нового правительства и его главными чертами. Первого консула немедленно окружили жёны этих ростовщиков, все как на подбор красивые и элегантные женщины: ростовщики того времени считали необходимым, чтобы их жены обладали изысканными манерами и тем самым способствовали их финансовым спекуляциям. Но осторожный Лебрен находился рядом, чтобы руководить действиями молодого Телемаха. Он проявлял твёрдость, изгоняя подобных людей из Тюильри. Однако задача собрать вокруг Первого консула подходящих лиц оказалась более сложным делом: аристократы были отвергнуты, чтобы не оскорблять общественное мнение, прежних подрядчиков изгнали из Тюильри, чтобы очистить нравы новой эпохи. Естественно, в результате во дворце остались представители не очень изысканного общества; и какое-то время Тюильри представлял собой подобие волшебного фонаря, светящегося непостоянным светом и составленного из частей разного калибра.
В Москве Наполеону довелось ознакомиться с некоторыми письмами, написанными княгиней Долгорукой, которая находилась в Париже в период Консулата. Письма в положительном свете представляли картину Тюильри того времени. Княгиня писала, что двор Тюильри не совсем ещё монарший двор, но одновременно он уже и не типичный армейский лагерь; это нечто совершенно новое в своём роде. Она добавляла, что Первый консул не носит шляпу под мышкой и ножны сабли — на боку, но, тем не менее, он явно остаётся военным. «Однако, — продолжал император, — с княгиней Долгорукой дурно обошлись, и эта несправедливость стала следствием злонамеренного и ложного сообщения, — я распорядился, чтобы она покинула Францию. Мы решили, что она враждебно относится к законам нашего правительства; но, как оказалось, мы ошибались. Госпожа Гран, любовница господина Талейрана, разозлённая тем, что он не женится на ней, во многом способствовала тому, чтобы охладить тёплое отношение к нам со стороны русских».
624
Император отметил, что по возвращении с Эльбы он испытал намного меньше трудностей при формировании своего императорского двора. «На самом деле, — сказал он, — императорский двор уже был сформирован дамами, которых я называл мои вдовы. Это были госпожа Дюрок, герцогиня Фриульская, госпожи Ренье, Ла- гран и другие вдовы моих первых генералов. Я посоветовал принцессам, которые обращались ко мне по вопросу формирования своих свит, следовать моему примеру. Что могло быть более естественным и правильным? Эти вдовы, хотя ещё молодые, были уже достаточно искушёнными в том, что касалось светской жизни; и среди них было несколько очаровательных красавиц. Большинство из них уже потеряли своё состояние, некоторые, как мне сообщили, вновь вышли замуж и поменяли фамилию; таким образом, вероятно, от состояний, мною созданных, и моего порядка не осталось и следа, даже имена исчезли. Если всё это действительно так, то не напрашивается ли вывод, что я совершил радикальную ошибку в выборе людей? Но для них это ещё хуже: старая аристократия может торжествовать и относиться к ним с чувством высокомерия».
Мы вновь напомнили императору о его намерении совершить верховую прогулку: мы настаивали на том, чтобы он не отказывался от неё, поскольку она абсолютно необходима для его здоровья. Но мы не могли убедить его покинуть сад. «Нам здесь неплохо, — уверял он нас, — мы тут установим тенты». Мы завели разговор о Сен-Жерменском предместье и об отеле де Люинь, который император назвал своей метрополией. Он объяснил нам причину изгнания госпожи де Шеврез. По его словам, он часто угрожал ей наказанием за её поведение. Госпожа де Шеврез отличалась весьма злонамеренным и дерзким характером и однажды довела императора до крайности. Тогда он обратился к ней со следующими словами: «Мадам, в соответствии с вашими убеждениями и феодальными доктринами, которых придерживаетесь вы и ваши друзья, вы претендуете на то, чтобы быть абсолютной властительницей вашего поместья! Следуя тем же принципам, я могу теперь величать себя верховным властелином Франции. Я могу претендовать на то, чтобы считать Париж моим поместьем, и могу изгнать из него любое лицо, которое неприятно мне. Я осуждаю вас в соответствии с вашими же законами. Убирайтесь вон! И никогда не пытайтесь вернуться в Париж!» Приказав изгнать её, император принял твёрдое решение никогда не поддаваться уговорам вернуть её в Париж, поскольку, заявил он, ему пришлось многое вытерпеть от неё, прежде чем он приказал её наказать, и он, безусловно, должен был дать пример строгости, чтобы избежать необходимости повторять подобную меру в отношении Других. Это был один из главных принципов его поведения.
625
Я сказал императору, что часто посещал отель де Люинь и был хорошо знаком с госпожой де Шеврез и её свекровью, к которой испытывал большое уважение. Последняя проявляла очень сильную привязанность к своей невестке, разделила её ссылку и сопровождала её во всех переездах с места на место. Когда я следовал в Иллирию для выполнения порученной мне миссии, я однажды вечером встретился с ними в гостинице у подножья Симплонского перевала. Возможность узнать о самых тривиальных подробностях жизни Парижа и императорского двора оказалась для них, пребывавших в положении отшельниц в пустыне, источником неподдельной радости и неожиданным счастливым случаем, ниспосланным им судьбой. Они слушали меня с неменьшим пылом, чем тот, который проявил Фуке, слушая рассказы Лозана. Изгнание из столицы стало для них настоящим смертным приговором; оно повергло их в состояние безмерного отчаяния!
Я заверил императора, что в течение продолжительного времени находил отель де Люинь если не совсем покорённым, то, по крайней мере, умиротворённым и в состоянии почти полного безразличия; но наши неожиданные катастрофы возродили его прежний дух.
Что касается самой госпожи де Шеврез, красивой, разумной и приятной женщины с несколько романтическим складом ума, то она явно оказалась жертвой собственной известности, в которой её убеждали её многочисленные льстецы и поклонники, в большинстве своём не стоившие её уважения. «Я знаю это, — заявил император, — она надеялась возобновить Фронду; но я не был второстепенным монархом».
Бриг «Москито», отплывший из Англии 23 марта, доставил номера «Журналь де Деба» (последний номер датирован 5 марта) и подборку лондонских газет (самые свежие из них — от 21 марта). Возвращаясь в свои апартаменты, император пожелал, чтобы я последовал за ним. Он принялся просматривать «Журналь де Деба», и тут гофмаршал передал мне свежее письмо из Европы, адресованное императору. Я вручил ему письмо. Он читал его, вздыхая; затем, перечитав его во второй раз, он порвал его на мелкие части и бросил их под стол. Это письмо было передано нам вскрытым! После этого император возобновил чтение французских газет и, неожиданно остановившись, недолго помолчал и затем сказал мне: «Это письмо от моей матери; она здорова и хочет приехать на остров Святой Елены, чтобы жить со мной!» Сказав это, он вновь приступил к чтению газет. Это письмо, первое из полученных императором от кого-либо из членов его семьи, было написано рукой кардинала Феша. Император явно огорчён тем, что письмо ему доставили распечатанным.
626
Моро, Жорж и Пишегрю — Различие мнений в «Булонском лагере» и в Париже по поводу их заговора
30 мая 1816 года
Император вышел на прогулку в два часа дня, и мы все сопровождали его. Он начал обсуждать информацию, содержавшуюся во французских газетах, которые он только что получил, и обратил внимание на сообщение о том, что существует намерение воздвигнуть статуи в память о Моро и Пишегрю. «Статуя Моро! — воскликнул император. — Чей заговор в 1803 году теперь полностью доказан! Моро, который погиб в 1813 году, сражаясь под русским
флагом! Статуя в память о Пишегрю, который виновен в совершении одного из самых гнусных преступлений! Который специально делал всё, чтобы потерпеть поражение, и который потворствовал врагу в уничтожении собственных войск! А ведь история пишется на основании данных, которые становятся достоверными благодаря тому, что их вновь и вновь повторяют, — продолжал он. — Поскольку постоянно утверждалось, что они великие люди, что у них большие заслуги перед страной, то, в конце концов, их и стали воспринимать именно такими, а их противников — достойными только лишь презрения».
Кто-то из присутствующих высказался в том смысле, что такое могло случиться в те мрачные времена, когда господствовало невежество, но что теперь множество исторических и общественных
627
документов, искусство книгопечатания и гравирования, а также всеобщее распространение знаний всегда донесут правду до тех, кто хочет познать истину; и так как различные политические партии имеют собственных историков, то думающий читатель может составить непредвзятое мнение.
Император затем подробно изложил существо дел, связанных с именами Моро, Жоржа и Пишегрю, которых я ранее уже упоминал (позднее я сообщу новые подробности). Император теперь рассказал нам, что человек, который дал первые признания, указал на одно лицо (не называя его по имени), с которым Жорж и другие главари заговора никогда не говорили, не сняв перед ним своих шляп, и к которому они относились с предельным вниманием и уважением. Поначалу предположили, что этим человеком мог быть герцог Беррийский; другие решили, что это герцог Энгиенский, который ненадолго посещал Париж. Итог неожиданно подвёл Шарль д’Озье, один из заговорщиков: через несколько дней после того, как его арестовали, он, пребывая в состоянии сильнейшей подавленности, повесился в тюремной камере. Подняли тревогу и, перерезав верёвку, вынули его из петли. Распростёртый на тюремной кровати и находившийся между жизнью и смертью, он не переставал извергать проклятия в адрес Моро, обвиняя его в том, что тот предательски совратил многих достойных людей, обещая им помощь, которую никогда не оказывал. Кроме того, он упоминал имена Жоржа и Пишегрю. Так возникло подозрение в отношении Жоржа и Пишегрю; ранее и мысли не было о том, что тот и другой участвуют в заговоре. Реаль, поспешивший выслушать признания д’Озье на смертном одре, предложил Первому консулу, чтобы тот приказал арестовать Моро.
«Это событие стало величайшей сенсацией, — сказал император, — общество было возбуждено до крайности. Возникли сомнения в отношении правдивости заявлений, сделанных правительством о масштабе заговора и о численности заговорщиков, — только в Париже их было около сорока. Их имена были опубликованы, и я дал слово, что они будут взяты под стражу. Я вызвал Бессьера и отдал ему приказание, чтобы тот своим корпусом окружил Париж и охранял стены столицы. На протяжении шести недель никому не разрешалось покидать столицу без специального разрешения. В Париже воцарилось всеобщее подавленное настроение, газета “Монитор” ежедневно объявляла об аресте одного-двух человек, и утверждалось, что они имели отношение к заговору. Общественное мнение стало склоняться на мою сторону; и возмущение против заговорщиков нарастало по мере того, как их брали под стражу. Ни одному из них не удалось сбежать».
628
Газеты того времени приводили подробности ареста Жоржа, которому удалось убить двух человек, прежде чем его обезоружили и взяли под стражу. Сообщалось, что он был предан своим же товарищем, правившим кабриолетом, в котором они ехали вдвоём.
Что же касается Пишегрю, то он оказался жертвой самого низкого предательства. «Это обстоятельство, — заявил император, — стало настоящим позором для человеческой натуры. Его предал близкий друг, человек, имени которого я не назову, по причине ужаса и отвращения, которые вызывает его поведение». Мы сказали императору, что имя этого человека было упомянуто в «Мониторе». Император был удивлён этим. «Этот человек, — продолжал он, — ранее был армейским офицером, а потом стал заниматься торговлей в Лионе. Он предложил выдать Пишегрю за 100 000 франков. В тот день, когда он сделал это предложение, он рассказал, что они с Пишегрю ужинали вместе и что Пишегрю, узнав, что его имя ежедневно упоминается в “Мониторе”, и чувствуя, что критический момент неумолимо приближается, сказал: “Если я и несколько других генералов смело выйдем к войскам, сможем ли мы добиться, чтобы войска перешли на нашу сторону?” — “Нет, — ответил его друг, — у тебя ложное представление о настроении народа: на вашу сторону не перейдёт ни один солдат”. Он говорил правду. Ночью вероломный друг провёл офицеров полиции к двери Пишегрю; он
629
передал им подробное описание комнаты Пишегрю и сообщил о способах защиты, к которым тот мог прибегнуть. Пишегрю хранил пистолеты в ящике стола в спальне и поставил на стол свечу, горевшую всё время, пока он спал. Офицеры осторожно открыли дверь, используя дубликаты ключей, которые были предоставлены полиции вероломным другом. Стол перевернули, свеча погасла, и офицеры схватили проснувшегося Пишегрю, вскочившего с постели. Он был физически очень сильным человеком и отчаянно сопротивлялся, офицеры были вынуждены связать его и в таком виде препроводить в тюрьму, не позволив одеться».
Возглавив правительство, Первый консул считал одной из своих первоочередных задач принятие решительных мер по умиротворению западных департаментов страны. Он вызвал к себе почти всех руководителей этих департаментов, и ему удалось пробудить во многих из них неподдельное чувство заинтересованности в наведении порядка в стране ради упрочения славы Франции; он добавил, что его призыв к ним даже вызвал слёзы у некоторых приглашённых к нему лиц.
Жорж, в отличие от всех других, оставался непреклонным. Император сказал, что пытался воздействовать на Жоржа эмоционально, но всё было напрасно, все попытки Первого консула затронуть самые сокровенные струны души Жоржа не нашли ответа. Первому консулу противостоял амбициозный и расчётливый человек, которому были
630
чужды благородные чувства и который был намерен хладнокровно добиваться своей цели. Жорж упорствовал в твёрдом решении продолжать командовать своими округами. Первый консул, исчерпав все примирительные аргументы, в конце концов прибегнул к языку первого магистрата Франции. Он отпустил Жоржа, порекомендовав ему отправиться домой и вести там спокойную и смиренную жизнь, и, прежде всего, не заблуждаться по поводу политического курса, который взят Первым консулом, и не считать слабостью Первого консула то, что является результатом его сдержанности и сознания собственной силы. Первый консул пожелал, чтобы Жорж повторял себе и всем, кто связан с ним, что, пока Первый консул держит бразды правления страной в своих руках, у тех, кто посмеет стать участником заговора против страны, не будет никаких шансов чувствовать себя в безопасности. Жорж попрощался с Первым консулом, но, как показали последовавшие события, ничего не усвоил из этой беседы, и у него не возникло чувство уважения к Наполеону. Более того, он по-прежнему хотел продолжать свою деятельность, целью которой было физическое устранение Первого консула.
Моро был центральной фигурой, вокруг которой объединились заговорщики, прибывшие из Лондона, чтобы осуществить переворот. Лажолэ, адъютант Моро, судя по всему, обманывал этих людей, когда обращался к ним от имени Моро и говорил, что генерала поддерживает вся Франция и что он может располагать всей армией. Моро постоянно заверял их в том, что он не может командовать кем-либо и даже управлять своим адъютантом, но если они убьют Первого консула, то тогда они могут делать всё, что угодно.
Сам по себе Моро был неплохим человеком. Но он легко поддавался чужому влиянию, и это обстоятельство объясняет непоследовательность его поступков. Он обычно покидал дворец Тюильри в состоянии полнейшего восторга, а возвращался во дворец раздражённым и озлобленным: во время, прошедшее между двумя событиями, он встречался с тёщей и женой. Первый консул, который был бы очень рад иметь его на своей стороне, однажды добился этого, но их дружба продолжалась всего лишь четыре дня. Первый консул тогда дал слово, что никогда не возобновит её. И правда, впоследствии часто предпринимались попытки примирить их, но Наполеон никогда не соглашался. Он предвидел, что Моро совершит какую- нибудь ошибку, которая станет для него роковой; и, безусловно, Моро не мог бы выбрать для этого путь, более выгодный для Первого консула.
За несколько дней до битвы при Лейпциге в Виттенберге были перехвачены кареты, в которых находились вещи и бумаги, принадлежавшие Моро; их переправляли его жене в Англию. Среди
631
этих бумаг было письмо от самой госпожи Моро, в котором она советовала мужу прекратить его глупое нерешительное поведение и смело принять окончательное решение. Она настаивала на том, чтобы он способствовал торжеству законного дела, то есть победе Бурбонов. В ответном письме, которое Моро написал за несколько дней до своей смерти, он просил её не беспокоить его своими химерами. «Я достаточно близко к Франции, — писал он, — чтобы знать всё, что там происходит. Я попал в настоящее осиное гнездо».
Император собирался опубликовать эти письма в «Мониторе», но во Франции по-прежнему были люди, слепо считавшие Моро жертвой тирании. Контрреволюция пока ещё не предоставила возможность предать гласности те поступки, которые в то время отрицались и которые требовали возмездия. Обстоятельства личной вражды воспрепятствовали императору выполнить его намерение: он посчитал, что неприлично возрождать личную неприязнь ради собственной выгоды и очернять память человека, который только что пал на поле битвы.
Суд над Моро и Пишегрю, занявший длительное время, сильно взволновал общественность страны. Дополнительную известность и больший интерес этому суду придала его связь с делом герцога Энгиенского. «Меня упрекали в том, — заявил император, — что я совершил большую ошибку с этим судом. Его сравнивали с делом об ожерелье королевы во времена правления Людовика XVI, — он поручил парламенту решить это дело, вместо того чтобы им занимался суд. Политики утверждали, что и я должен был довольствоваться передачей преступников военному суду, — он бы закончился через
632
сорок восемь часов. Я мог сделать это. Это было законно, и от меня бы ничего более не требовалось; я бы избежал ненужного риска, которому подвергся. Но я считал свою власть безграничной, и в то же время я был настолько уверен в справедливости моего дела, что принял твёрдое решение сделать этот суд открытым всему миру. По этой причине на судебных заседаниях присутствовали послы и агенты иностранных держав!»
Один из присутствовавших при разговоре сказал императору, что принятое им по этому вопросу решение оказалось полезным для истории, а сам он заслужил почёт. В результате этого решения мир получил три тома достоверных документов, касавшихся суда.
Другой член императорской свиты, который во время этого знаменитого суда находился в армии в Булони, сказал, что все события, связанные с судом, и даже дело герцога Энгиенского, в Булони не вызвали особого интереса и что по возвращении в Париж он был удивлён ажиотажем, который вызвал этот суд в столице.
Император подтвердил, что общественность страны была крайне возбуждена, особенно в связи с гибелью герцога Энгиенского. Это событие, заявил император, судя по всему, по-прежнему слепо и с пристрастием осуждается в Европе. Он отстаивал своё право осуществить принятые им меры и перечислил причины, которые вынудили его пойти на это. Затем император сослался на многие попытки его физического уничтожения и заявил, что обязан быть справедливым к Людовику XVIII: он никогда не обнаруживал и тени участия последнего в каком-либо прямом заговоре против его жизни, хотя подобные заговоры вновь и вновь замышлялись со всех других сторон. Что касается короля, то императору приходилось слышать, что тот увлечён составлением систематических планов, разработкой абстрактных операций и т.д.
«Если бы я, — заявил император, — продолжал править Францией в 1815 году, я бы предал гласности некоторые последние попытки покушений на мою жизнь. В частности, суд провёл бы тщательное расследование дела Мобрея, и Европа с содроганием увидела бы, как далеко зашли планы тайного покушения».
Разговор о внутреннем положении Англии — Письма, задержанные губернатором — Характерные высказывания императора
31 мая 1816 года
В пять часов дня я вышел в сад, чтобы встретиться с императором; там собралась вся его свита. Зашёл разговор о политике. Император коснулся проблемы плачевного внутреннего положения Англии, обострения кризиса на фоне её внешнеполитических успехов. Он сослался на её огромный государственный долг, на безрассудство правительства, на невозможность стать континентальной державой, на опасности, которые подстерегают её конституцию, на растерянность её министров и на справедливые и шумные протесты народа. Англия с её армией в 150 или в 200 тысяч солдат прилагала такие же усилия, какие прилагал император, находясь на вершине власти, а возможно, даже и большие, — он же никогда не использовал менее 500 тысяч французских солдат. Характерные черты его континентальной системы брались на вооружение другими европейскими правительствами, и она будет применяться во всё большем масштабе по мере того, как эти державы будут укрепляться. Он заявлял и он доказал, что Англии было выгоднее оставаться верной мирному договору в Амьене; её поведение в этом случае пошло бы на пользу всей Европе, хотя сам Наполеон и его слава от этого бы пострадали. Тем не менее, не он нарушил договор; его нарушила Англия.
Англии, продолжал он, следовало придерживаться только одного политического курса, а именно: вернуться к строгому соблюдению собственной конституции и отказаться от своей военной системы, которая состоит в том, чтобы влиять на континент, лишь используя превосходство её военно-морского флота. Легко предвидеть, заявил император, что на неё обрушатся огромные бедствия, если она будет придерживаться нынешнего политического курса; и это неизбежно произойдёт, поскольку её старая аристократия подталкивает страну именно в этом направлении, а также потому, что безрассудство, гордыня и продажность её нынешнего кабинета министров вынуждают Англию продолжать следовать этому курсу.
634
Потом император вернулся в свой кабинет, попросив, чтобы я следовал за ним. Он сообщил мне, что из Англии обычной почтой ему было направлено письмо, которое задержал губернатор, чтобы отослать его обратно в Англию, поскольку оно официально не было адресовано ему; по этой же причине губернатор задержал письмо, посланное гофмаршалу Бертрану. Император сказал, что если этот факт соответствует действительности, то поведение губернатора, отправляющего наши письма обратно с острова, даже не оповещая нас о них и не давая нам возможности найти утешение в том, чтобы просто знать, от кого они, отличается особой жестокостью. Оплошность, допущенную в отношении порядка направления корреспонденции, можно легко исправить здесь, на острове, но её не так-то легко заметить на расстоянии 2000 лье от острова.
Я, в свою очередь, рассказал императору о случае, произошедшем со мной десять дней назад, по сути, почти таком же, как тот, о котором он мне только что поведал. «Один человек, направлявшийся в Европу, досаждал мне бесконечными предложениями оказать мне услугу. Я не устоял перед его настойчивыми просьбами и поручил ему заказать мне туфли и поменять мои часы, так как здесь, на острове, нет специалиста, который мог бы их починить. Губернатор запретил выполнение этих поручений на том основании, что о них сначала не было доложено ему лично. Об этом случае, сир, я никому ничего не сказал, так как придерживаюсь принципа умалчивать об оскорблениях, за которые не могу получить сатисфакции; но я найду возможность сказать губернатору всё, что думаю о нём.
После обеда император говорил о нашем положении и о поведении губернатора, который сегодня быстро объехал вокруг Лонгвуда. Император коснулся своей последней беседы с губернатором, сделав ряд метких замечаний. «Я, несомненно, вёл себя очень дурно по отношению к нему, — заявил император, — и только нынешнее моё положение может извинить моё поведение. Но я был в плохом настроении и ничего не мог с собой поделать; в любой другой ситуации мне бы пришлось основательно краснеть за себя. Если бы подобная сцена произошла в Тюильри, я был бы обязан по долгу совести предложить какую-нибудь компенсацию. Никогда во времена моей власти я ни с кем не разговаривал грубо, без того чтобы потом не загладить свою вину. Но здесь я не произнёс ни одного слова в знак примирения, и у меня не было никакого желания делать это. Однако губернатор проявил полнейшее равнодушие к моей резкости; она, судя по всему, нисколько не затронула его чувства и его гордость. Мне бы хотелось, ради него же, стать свидетелем его, пусть даже незначительного, гнева или хотя бы того, чтобы он хлопнул дверью, покидая меня. Это, по крайней мере, показало бы,
635
что у него есть характер и способность реагировать на происходящее; но ничего подобного я у него не обнаружил».
Император возобновил разговор о политических делах и вёл его с таким воодушевлением и такой заинтересованностью, что я на время забыл, в какой части света пребываю. Я мог представить себе, что по-прежнему нахожусь в Тюильри или на улице Бургонь в Париже.
Вольтер — Жан-Жак Руссо — Характерное различие между английской нацией и французской — Шатобриан — Показной гнев императора
1 июня 1816 года
Император вызвал меня к себе. Он только что вышел из ванны, в которой находился три часа. Он попросил меня догадаться, какую книгу он читал, сидя в ванне. Это была книга Руссо «Новая Элои- за». Когда он впервые прочитал её во время пребывания в «Бриа- рах», она произвела на него весьма благоприятное впечатление; но, внимательно просмотрев её вновь, он теперь подверг её безжалостной критике. Император сказал, что, по его мнению, упоминаемую в книге скалу Мельери разрушили, когда он приказал построить дорогу через перевал Симплон. Но я заверил императора, что её сохранившиеся остатки достаточны для того, чтобы иметь полное представление о скале, которую описывал Руссо: она выступает над дорогой и, подобно древним скалам лагуны Л окат в Лионском заливе, даёт возможность доведённым до отчаяния любовникам совершить роковой прыжок.
Император считает, что тем высоким мнением об английском характере, которое укоренилось во Франции, мы обязаны главным образом Руссо, наделившему благородством лорда Эдуарда в «Новой Элоизе», и Вольтеру, своими пьесами создавшему благоприятное впечатление об англичанах. Лёгкость, с которой в те дни манипулировали общественным мнением, не могла не вызвать удивления у императора; Руссо и особенно Вольтер, которые тогда делали с этим мнением всё, что им хотелось, не смогли бы, считал император, сделать теперь то же самое, и Вольтер оказывал столь сильное влияние на своих современников, считавших его величайшим человеком того времени, только потому, что все окружавшие его были пигмеями.
Император затем стал сравнивать характер английской и французской наций. «Высшие слои английского общества, — отметил
636
он, — отличаются гордостью. Что же касается наших аристократов, то им, к сожалению, свойственно тщеславие; в этом заключается главное характерное отличие между двумя нациями. В своей массе народ Франции, конечно, обладает большим национальным чувством, чем любой другой современный европейский народ; французский народ усвоил опыт своей двадцатипятилетней революции, но, к сожалению, тот слой французского общества, который революция выдвинула на передний план, оказался не соответствующим той жизненной высоте, на которую он был вознесён; он проявил себя изменчивым и склонным к коррупции. В последних схватках франции с врагом представители этого слоя общества не отличались ни способностями, ни твёрдой решимостью, ни нравственностью. Они способствовали упадку чести нации».
Императору прочитали опубликованную в газетах речь Шатобри- ана, выступавшего за то, чтобы разрешить духовенству наследовать частную земельную собственность. Император заявил, что эта речь была скорее выступлением академика от литературы, чем мнением законодателя, — она остроумна, но в ней мало смысла, и она не содержит каких-либо обоснованных суждений. «Предоставьте духовенству это право наследования, — заявил он, — и никто не умрёт без того, чтобы не оказаться вынужденным отказать что-либо духовнику за отпущение грехов, поскольку, каких бы убеждений мы ни придерживались, никто из нас не знает, куда мы отправимся, когда покинем этот мир. В этом случае мы должны помнить всё совершённое нами, и никто не сможет поручиться за свои чувства в этот последний час и за силу своего рассудка в этот ужасный момент. Кто может утверждать, что я не умру на руках духовника? И что он не заставит меня признаться в грехах, которых я не совершал, и вымаливать прощение за них?» В данном случае, как заметил один из нас, о Шатобриане можно сказать, что он скорее выражал своё чувство, а не мнение; есть достаточно веские основания считать, что он часто проповедовал политические и религиозные доктрины, которые не являлись его убеждениями.
Если говорить о религии, то хорошо известно, что, прежде чем он написал книгу «Гений христианства», он опубликовал в Лондоне эссе «О революциях древних и современных», в котором были весьма заметны антирелигиозные тенденции. Книготорговцем, которому он поручил продажу этой работы, был Дюло, бывший бенедиктинский монах из Сореза, эмигрировавший в Лондон во время революции. Дюло, человек умный, не лишённый здравого смысла, позволил себе дать Шатобриану хороший совет. Он объяснил ему, что место и время для того, чтобы выступать против религии, выбраны неудачно, что прошло то время, когда положительно воспринимались
637
выпады против религии, что подобные выпады стали банальными и их теперь считают признаком дурного вкуса, что верный способ привлечь внимание общественности — высказать противоположное мнение о религии и выступить в её защиту. Шатобриан последовал этому совету и написал своего «Гения христианства», и последовавшие события подтвердили, что Дюло не ошибся в выборе момента: если бы книга появилась сейчас, то, несмотря на большие достоинства, которыми она, безусловно, обладает, весьма сомнительно, что ей сопутствовал бы такой блестящий успех, какой она имела во время её выхода в свет.
Назначение автора «Гения христианства» в посольство в Риме в то время рассматривалось как признак весьма благосклонного внимания Первого консула к Шатобриану, который, со своей стороны, восторженно воспринял это назначение как первое своё достижение и как предзнаменование ещё более значимых достижений, которые ждут его в столице христианского мира среди духовных лидеров. Но вскоре ему пришлось признаться, что он горько ошибался, поскольку столица христианского мира была чрезвычайно шокирована тем, что Шатобриан пытается превратить религию в подобие романтической литературы, и римские священники без колебаний осудили «Гения христианства», объявив, что эта книга полна ереси.
Однако Шатобриан, глубоко уверенный в собственных достоинствах, утешал себя тем, что снисходительно посмеивался над подобной реакцией. Став в то время крёстным отцом одной девочки, он дал ей имя Атала, но священник категорически отказался крестить ребёнка с таким именем, хотя Шатобриан настаивал на нём со всем своим упрямством писателя и гордыней посла Франции. Эта история вызвала большой шум в Риме, и тогда Шатобриан обратился к кардиналу-губернатору с жалобой на священника. Однако кардинал-губернатор встал на сторону священника и, более того, воспринял жалобу Шатобриана как оскорбление церкви. Поскольку Шатобриан полагал, что его услуги делу религии давали ему право говорить тоном человека, посвящённого в тайны церкви, он закончил свой спор с кардиналом следующим высказыванием: «Очень странно, что именно таким образом мне ставятся препятствия, ибо, между нами говоря, вы, ваше преосвященство, должны знать, что между Аталой и любым другим святым нет никакой разницы».
Императора весьма позабавила эта история, которая, как он сказал, не была ему известна. Член свиты императора, рассказавший эту историю, добавил, что, хотя он не может ручаться за её точность, тем не менее он не сомневается в её достоверности, так как слышал её из уст одного из преемников Шатобриана на его посту в Риме.
Шатобриана можно было видеть поочерёдно в стане сторонников и противников Наполеона; и император обвинял Шатобриана, когда
638
хот был у него на службе, в недоброжелательности и нечестности, в частности, в то время, когда его послали к старому королю Сардинии в Рим.
Во время катастрофических событий 1814 года Шатобриан обратил на себя внимание тем, что стал писать резкие, злобные и постыдные памфлеты, полные беззастенчивой клеветы и вызывавшие чувство отвращения.
Он, несомненно, должен сожалеть о том, что был автором этих памфлетов и тратил свой талант на сочинение подобных вещей.
Как-то раз император (а это было в те годы, когда удача ещё не покинула нас), прочитав отрывки из произведений Шатобриана, выразил удивление, что тот не член Института. Шатобриан был убеждён, что эти слова можно считать высшей рекомендацией. Он поспешил внести своё имя в список кандидатов в члены Института и почти немедленно был избран его полноправным членом.
В соответствии с одним из неизменных правил Института вновь избранный его член должен был произнести хвалебную речь в честь своего предшественника; но Шатобриан был убеждён в том, что человеку, однажды побывавшему в центре внимания общественности, следует избегать проторённого пути и проложить новую дорогу к славе. Он нарушил обычай, посвятив часть своей речи тому, чтобы опозорить своего предшественника Шенье, заклеймить его как цареубийцу и осудить его политические принципы. Речь Шатобриана была направлена на то, чтобы навязать слушателям политическую дискуссию по вопросам восстановления монархии, суда над Людовиком XVI и его смерти. Весь Институт был охвачен волнением; некоторые его члены отказались слушать речь, которая показалась им некорректной, но другие, напротив, требовали, чтобы чтение продолжалось.
В общественных кругах Парижа моментально узнали о споре в Институте, и мнения разделились поровну; наконец, молва о нём достигла ушей императора, которому всё докладывалось и который хотел знать все подробности. Он приказал, чтобы ему показали текст речи. Прочитав его, император объявил, что речь Шатобриана крайне нелепа, и немедленно запретил её публикацию. Так случилось, что один из членов Института, принимавший активное участие в дискуссии и голосовавший за то, чтобы чтение речи продолжалось, одновременно был одним из высокопоставленных офицеров императорского двора21. Император воспользовался этим обстоятельством, чтобы высказать собственное мнение о речи Шатобриана, обратившись к этому офицеру на одном из приёмов со следующими словами: «С каких это пор, сударь, — спросил он крайне резким тоном, — Институт принял на себя функции политической ассамблеи?
639
Сфера деятельности Института ограничена тем, чтобы способствовать развитию литературы и следить за чистотой французского языка; либо он останется в этих пределах, либо мне придётся принять меры, чтобы он туда вернулся. И возможно ли, чтобы вы, сударь, одобрили столь невоздержанную публичную речь, дав на это свою санкцию? Если Шатобриан не в своём уме или склонен к проявлениям недоброжелательности, то сумасшедший дом его излечит; в противном случае его исправит наказание. Проблема, возможно, состоит в том, что высказанные им мнения являются его убеждениями и он не обязан согласовывать их с моей политикой, которая ему неизвестна. Но с вами всё иначе: вы постоянно находитесь рядом со мной, вам известны все мои поступки, вы знаете, чего именно я хочу; можно найти оправдание поступку господина де Ша- тобриана, вашему же поведению оправданий нет.
Сударь, я признаю вас виновным, я рассматриваю ваше поведение как преступное: оно направлено к тому, что к нам вернутся беспорядки и волнения, всеобщая анархия и кровопролитие. Кто мы тогда, бандиты? А я всего лишь похититель чужого престола? Сударь, я не вступал на престол, свергнув с него другого: я нашёл корону в грязи, и французский народ водрузил её на мою голову. Уважайте же выбор нации. Публикация этой речи, при существующих ныне обстоятельствах, — это подготовка почвы для новых политических потрясений и нарушение общественного спокойствия. Проблема восстановления монархии будто не существует, и она должна оставаться в этом же положении. Почему же тогда, я вас спрашиваю, нам вновь напоминают о цареубийствах? Почему деликатные по своей природе вопросы задаются в столь явном виде? Оставьте Богу Богово! Разве вы безупречны? Возьмём императрицу: ей больше пристало задаваться этими вопросами, однако она проявляет сдержанность и не проводит никаких расследований, так берите с неё пример. Разве я уже потерял плоды всех моих трудов? Неужели все мои усилия значили так мало, что, как только моё присутствие перестало вас стеснять, вы тут же готовы перерезать друг другу глотки?»
И, продолжая говорить в том же тоне, император быстрыми широкими шагами ходил взад и вперёд по комнате. Потерев рукой лоб, он воскликнул: «Увы! Бедная Франция, как же ещё долго ты должна нуждаться в заботе опекуна. Я сделал всё, что в моих силах, чтобы прекратить ваши разногласия; объединение всех противостоящих сторон было моей постоянной целью, предметом моей повседневной заботы. Я заставил всех встретиться под одной крышей, сесть за один стол и пить из одной чаши. Я имею право ожидать, что вы поддержите мои усилия.
640
С тех пор, как я встал во главе правительства, разве я когда-либо пытался выяснять подробности чьей-либо жизни, чьих-либо поступков, уточнять политические взгляды кого-либо, хотел ли я знать, что именно тот или иной человек пишет? Моё терпение, моя снисходительность будут вам примерами...
У меня всегда была только одна цель, я всегда задавал только один вопрос: будете ли вы искренне помогать мне, служа истинным интересам Франции? И всех тех, кто ответил утвердительно, я повёл за собой по ущелью из гранита, которое не имело боковых выходов, я настоял на том, чтобы мои спутники вместе со мной шли до конца этого ущелья, где моя рука указала на ту цель, к которой мы стремились, а именно — свято хранить честь Франции, добиваться её славы и величия».
Этот выговор оказался настолько суровым, что высокопоставленный офицер, которому он был адресован, человек весьма честный и деликатный, на следующий день настоятельно просил принять его, чтобы подать в отставку. Император принял его и сразу же сказал: «Мой дорогой, вы пришли ко мне по поводу вчерашнего разговора. Этот разговор вас глубоко обидел, но и меня он задел в неменьшей степени; с моей стороны это был совет, который я посчитал правильным дать не только вам одному. Если он достиг желаемой цели и оказался полезным и для других, то мы оба не должны сожалеть о том, что произошло. Прошу вас забыть о вчерашнем разговоре». И император тут же заговорил о чём-то другом.
641
Подобным образом император порицал многих; обычно он обращался к одному человеку, но, чтобы вызвать общий благоговейный страх, делал это в самой внушительной и впечатляющей манере. Но гнев, который он демонстрировал на публике и о котором так много говорилось, был наигранным и всегда был направлен на достижение определённой цели. Император утверждал, что таким способом он часто уберегал людей от возможных ошибок и избавлял себя от необходимости прибегать к наказанию.
Однажды во время одного из больших приёмов он также проявил гнев и подверг резкой критике некоего полковника в связи с тем, что солдаты его полка совершили незначительные проступки по отношению к жителям стран, через которые проходил полк, возвращаясь во Францию. Во время выговора, учинённою императором, полковник, полагая, что предъявляемые ему гневные обвинения не соразмерны допущенному им мелкому проступку, пытался в ответ оправдываться, но император, не прерывая свою речь, сказал ему вполголоса: «Ладно-ладно, прикусите свой язык, я верю вам, но только замолчите». Встретившись потом с полковником наедине, император объяснил ему: «Когда я резко говорил с вами, то, обращаясь к вам, я стремился преподать урок некоторым генералам, которые стояли недалеко от вас и которых, если бы я обратился непосредственно к ним, потом пришлось бы понижать в звании, а возможно, наказать ещё строже».
Но иногда и самому императору приходилось выслушивать на публике просьбы, высказанные если не в резкой, то в достаточно настойчивой форме. Я был свидетелем нескольких примеров такого рода.
Однажды в Сен-Клу во время многолюдной аудиенции, которая проводилась императором каждое воскресенье, один из чиновников префектуры Пьемонта, возможно, помощник префекта, стоявший рядом со мной, громким голосом обратился к императору, потребовав восстановить справедливость по отношению к нему. Он говорил возбуждённым тоном и утверждал, что стал жертвой ложного обвинения, в результате которого его несправедливо уволили со службы. «Обратитесь к моим министрам», — посоветовал ему император. «Нет, сир, я хочу, чтобы моё дело было решено лично вами». — «Это невозможно, моё время полностью занято глобальными интересами империи, а мои министры назначаются именно для того, чтобы заниматься конкретными делами отдельных лиц». — «Но они объявят, что я виновен». — «Почему же?» — «Потому что все настроены против меня». — «За что?» — «За то, что я предан вам. Если человек предан вам, это является достаточной причиной для того, чтобы у всех вызвать ненависть к этому человеку».
642
Свидетели этого разговора пришли в замешательство от такого ответа, некоторые даже покраснели от смущения, но император невозмутимо заявил: «Это довольно странное утверждение, сударь, и мне хотелось бы надеяться, что вы ошибаетесь», — и затем обратился к другому участнику аудиенции.
В другой раз, во время военного парада, из строя вышел молодой офицер, находившийся в состоянии сильного возбуждения, и пожаловался императору, что с ним плохо обращаются, что его третируют, обходят по службе, что он уже пять лет как лейтенант и не может надеяться на повышение в звании. «Успокойтесь, — сказал ему император, — я семь лет был лейтенантом, и, тем не менее, вы видите, что, несмотря на это, человек может выслужиться». Все рассмеялись, и молодой офицер, сразу же остывший после этих слов, вернулся в строй. Привычно было видеть, как отдельные люди бесцеремонно приставали с различными претензиями к императору, не давая ему покоя, и я часто замечал, как в таких случаях он резко и горячо спорил с ними. Когда же ему не удавалось убедить оппонента, он прекращал спор, обратившись к другому лицу или сменив тему разговора.
Общее правило таково, что, какими бы суровыми ни были поступки императора, они всегда являлись результатом трезвого расчёта. «Когда один из моих министров, — сказал он, — или кто-либо из других высокопоставленных персон оказывался виновным в совершении настолько тяжкого проступка, что было совершенно необходимо говорить с ним в предельно резком тоне, я всегда стремился к тому, чтобы во время разговора присутствовал кто-либо
643
третий. Для меня было обычным правилом, что когда я принимал решение нанести удар, то его одновременно должны были почувствовать многие; это не делало сцену более страшной для наказуемого, но её свидетель, чьё лицо при этом обычно выглядело растерянным и нелепым, старался поскорее сбежать прочь и распространить свежую новость. Он рассказывал обо всём, что видел и слышал, проявляя необходимую в таких случаях осторожность. Именно так всё и происходило: образно говоря, благотворный страх растекался по венам общественного организма, и это было мощным импульсом, — в результате дела шли лучше, хотя я при этом не тратил много сил и значительно реже наказывал подчинённых».
Размышления о губернаторе — Расходы на содержание императорского двора в Тюильри — О правильной системе ведения финансов — Молльен и Лабульери
2 июня 1816 года
В восемь часов утра император отправился на верховую прогулку; он уже давно не ездил на лошади. Возвращаясь с прогулки по долине, в которой находился сад Восточно-Индийской компании, он посетил дом одного из чиновников компании. Жена чиновника была католичкой. В этом доме император задержался всего на несколько минут. Он пребывал в прекрасном настроении. Затем мы
644
поехали к дому госпожи Бертран, которой император нанёс продолжительный визит. Используя самые резкие выражения, сдобренные искрящимся юмором, он обсудил поведение губернатора по отношению к нам: его ничтожные меры, направленные на поддержание нашего существования на острове, полное отсутствие у него внимания к нашим житейским проблемам, его нелепую манеру администрирования и его абсолютное невежество в деловых вопросах и в вопросах этикета. «Конечно, у нас были веские причины жаловаться на адмирала, — заявил император, — но он, по крайней мере, был англичанином, а этот является всего лишь мелким итальянским шпионом. У нас разное воспитание, — добавил он, — мы не можем понять друг друга; мы говорим на разных языках. Например, он не может понять, что груды бриллиантов будет недостаточно для того, чтобы возместить оскорбление, которое он нанёс, приказав арестовать одного из моих слуг (и это происходило рядом со мной!). С того дня весь мой обслуживающий персонал находится в оцепенении от страха».
Вернувшись с верховой прогулки, мы решили завтракать в саду. Вечером, совершая поездку в карете и делая то, что мы называем двойной круг, мы коротали время, подсчитывая расходы человека, проживающего в Париже и обладающего доходом в 150 000 ливров. Император сказал, что шестая часть этой суммы должна идти на содержание конюшни, четвёртая часть — на питание, и т.д. Я уже говорил, что он любил делать подобные расчёты, которые он всегда умел представлять в новом и неожиданном свете.
Этот разговор естественным образом привёл нас к обсуждению некоторых подробностей, достойных внимания и касавшихся цивильного листа, то есть суммы, выделяемой на содержание императора и его семьи и оплату расходов на содержание обслуживающего персонала императора. Ниже приводятся те подробности, которые я запомнил.
На питание выделялся один миллион франков, хотя расходы на собственный стол императора не превышали ста франков в день. Невозможно было определить, когда подавать ему горячий обед, ибо если он уединялся в своём кабинете, то нельзя было узнать, в какой момент он покинет его. Поэтому с наступлением обеденного времени каждые полчаса новую курицу насаживали на вертел; и иногда случалось так, что зажаривалась дюжина куриц, прежде чем обед наконец подавался императору.
Затем говорили об управлении финансами и о тех выгодах, которые можно иметь, если распоряжаться ими умело. Император высоко ценил способности господина де Молльена и господина Лабульери, работавших в казначействе. В частности, господин де Молльен организовал работу казначейства по типу работы простого банка, и император постоянно имел под рукой небольшую записную книжку,
645
в которой содержались полные данные о государственных доходах, денежных поступлениях, расходах, долгах и т.д.
Император добавил, что в подвалах дворца Тюильри хранилось золото на сумму до четырёхсот миллионов франков, которое целиком было его собственностью; причём точные данные о наличии этого золота содержались только в небольшой записной книжке личного казначея императора. Всё это богатство постепенно исчезло, поскольку было израсходовано на нужды империи, особенно во времена наших катастроф. «Как я мог думать о том, — сказал император, — чтобы держать его для себя лично! Я полностью отождествлял себя со страной». Далее он добавил, что направил во Францию более двух миллиардов наличными, не думая о том, что кто-то мог бы положить на свой счёт часть этой суммы.
Император заявил, что его больно задело поведение господина де Лабульери, который, находясь в Орлеане в 1814 году и имея на хранении несколько миллионов франков, принадлежавших ему (Наполеону), отвёз эти деньги в Париж графу д’Артуа, вместо того чтобы по долгу совести доставить их в Фонтенбло. «И тем не менее Лабульери был неплохим человеком, — заявил император, — я любил и ценил его. Когда я вернулся в Париж в 1815 году, он искренне умолял меня принять его и выслушать то, что он хотел сказать в свою защиту; он, несомненно, убедил бы меня, что его ошибочное поведение было результатом его неосведомлённости, а не умысла. Он знал меня и понимал, что если ему удастся попасть ко мне на приём, то дело закончится несколькими сердитыми выражениями с моей стороны. Но я также знал слабости своего характера и решил более не брать его на службу. Поэтому я отказался принять его. Это был единственный способ, с помощью которого я мог в тот момент проявить твёрдость в отношении него и ряда других лиц. Эстев, предшественник Лабульери, действовал бы иначе; он был бесконечно мне предан, поэтому доставил бы мою казну в Фонтенбло любой ценой, или, если бы ему это не удалось, он бы бросил деньги в реку, или раздал их, но ни в коем случае не отдал бы их графу д’Артуа».
О женщинах
3 июня 1816 года
Император принимал ванну в течение трёх часов и вышел из дома в пять часов пополудни, чтобы прогуляться в саду. Он был молчалив и пребывал в подавленном состоянии, весь его вид выражал явное
646
страдание. После прогулки в саду мы отправились кататься в карете, его настроение постепенно улучшилось, и он стал более разговорчивым.
Вернувшись, он некоторое время вновь погулял в саду; и для того чтобы затеять шутливый спор с одной из присутствовавших дам, он принялся осуждать женщин. «Мы, мужчины Запада, — заявил он, одновременно незаметно для неё подмигивая нам, чтобы мы поняли, что он шутит, — ничего не понимаем в женщинах, мы поступаем очень неразумно, обращаясь с ними слишком хорошо; мы опрометчиво позволили им считать себя почти равными нам. На Востоке народ обладает большим здравым смыслом; женщины объявлены там фактически собственностью мужчин, такими они и являются на самом деле. Природа создала их для того, чтобы они были нашими рабынями. И только благодаря нашему безрассудству они могут стремиться к власти над нами, а злоупотребляя преимуществами, которыми обладают, они околдовывают нас и добиваются этой власти. На одну женщину, которая вдохновляет нас на проявление настоящих чувств, приходится сто других, которые заставляют нас делать ошибки».
Затем он принялся с одобрением высказываться о нравах восточных народов, расхваливая их практику полигамии, которую он считал подсказанной самой природой, и проявляя при этом изобретательность и богатство мысли в подборе аргументов в пользу своей точки зрения. «Женщина, — заявил он, — дана мужчине для того, чтобы рожать ему детей; но одна женщина не может полностью удовлетворить одного мужчину, поскольку она не в состоянии выполнять обязанности жены в период беременности, пока она кормит своего ребёнка или когда она больна; и её функции жены полностью прекращаются, когда она уже не может рожать детей. Мужчине, напротив, природа не ставит подобных препятствий, поэтому мужчина должен иметь несколько жён.
В конце концов, — продолжал он, многозначительно улыбаясь, на что вы, дамы, тогда жалуетесь? Разве мы не признаём, что вы обладаете душой? Хотя некоторые философы, как вы знаете, сомневаются в этом. Вы требуете равенства с мужчинами, но это нелепо: женщина является нашей собственностью, мы же не принадлежим ей; это она даёт нам детей, а не мы ей, поэтому она является собственностью мужчины в том же смысле, в каком фруктовое дерево является собственностью садовника. Если муж изменяет жене, признаёт свою вину и раскаивается в нарушении супружеской верности, то вопрос можно считать решённым, никакого следа эта измена в супружеской жизни не оставляет; жена сначала гневается, потом прощает мужа и смиряется со своей судьбой, а нередко извлекает
647
для себя выгоду из случившегося. Но дело приобретает совершенно иной оборот, когда жена забывает о брачном обете; для неё нет никакой пользы в том, что она раскается: последствия её вины не поддаются исчислению, пришедшая беда непоправима; жена никогда не должна сознаваться в измене, ей нельзя делать этого. Поэтому вы, дамы, согласитесь со мной, что только ошибочные суждения, недостаток воспитания или вульгарные мнения могут побудить жену увериться в том, что она во всех отношениях является равной своему мужу. Однако в неравенстве нет ничего унизительного: каждый пол имеет свои отличительные черты и свои обязанности; вашими отличительными чертами, дамы, являются красота, изящество, очарование, а вашими обязанностями являются покорность и зависимость».
После обеда император попросил моего сына принести ему «Мемуары» шевалье де Граммона и том трагедий Вольтера. Император заявил, что должен оставаться на ногах до одиннадцати часов вечера, и некоторое время читал «Мемуары». Он заметил по поводу этой книги, что даже слабое произведение может стать занимательным, если оно сдобрено подлинным остроумием. Потом он стал перелистывать страницы «Магомета», «Семирамиды» и других трагедий Вольтера, указывая на их недостатки и ошибки, и закончил чтение обычным заявлением о том, что Вольтер не знал ни фактов, ни людей, ни истинных страстей, свойственных человеческой природе.
Император возобновляет диктовку своих мемуаров
4 июня 1816 года
Император вызвал меня в четыре часа дня, чтобы вместе совершить прогулку в карете. Он сообщил мне, что наконец возобновил диктовку и то, что он уже сделал, не будет лишено интереса. Он добавил, что в течение всего утра пребывал в дурном настроении; сначала он попытался погулять в час дня, но вынужден был тут же вернуться в дом, испытывая чувства раздражения и тоски, и, не зная, что делать с самим собой, подумал о возобновлении диктовки своих мемуаров.
Император давно не занимается этой работой регулярно. Уже прошло несколько месяцев с тех пор, как закончены воспоминания о кампаниях в Италии, мемуары о кампании в Египте, которые он диктовал генералу Бертрану, также закончены, а работа над воспоминаниями, которые он диктовал генералу Гурго, приостановилась, поскольку последний был очень болен. Все эти обстоятельства вызвали
648
перерыв в работе над мемуарами, чем император недоволен, но он не может заставить себя собраться с силами, чтобы продолжить её.
Я стал убеждать императора, что для него диктовка воспоминаний является единственным и самым верным средством борьбы против тоски и скуки, а для нас его мемуары — бесценные сокровища. Я настаивал, чтобы ради чести и славы Франции он продолжил работать над историей своей жизни. «Каждый из нас, — сказал я, — охотно посвятит свою жизнь этой работе; она будет делаться в память о вас, она необходима для вашей семьи, для нас. Где ещё ваш сын прочтёт историю жизни своего отца в правильном изложении? К тому же без этих бесценных свидетельств времени какое множество событий останется неизвестным!» Император ответил, что он продолжит работу над «Мемуарами», и обсудил со мной план их дальнейшего построения. Должны ли воспоминания стать книгой по истории или летописью событий, изложенных в хронологическом порядке? Мы довольно долго обсуждали эту проблему, но так и не пришли к какому-то окончательному решению.
Во время обеда он заявил: «Сегодня я получил суровый выговор за то, что пребываю в состоянии праздности, поэтому я намерен возобновить работу над моими воспоминаниями и одновременно буду описывать несколько периодов моей жизни; каждый из вас получит свою долю работы, которая будет делаться под мою диктовку. Разве Геродот, — спросил он, посмотрев в мою сторону, — не давал своим книгам имена муз? Я хочу, чтобы каждая моя книга была названа именем одного из вас. Даже маленький Эммануэль даст своё имя одной из моих книг. Я начну работу вместе с Монто- лоном над историей Консулата, Гурго будет записывать историю других событий и отдельных сражений, а Эммануэль подготовит документы и материалы времени коронации».
Военные школы — План военного обучения — Наполеон и ветераны
5 июня 1816 года
Император вышел из дома в четыре часа дня; до этого он три часа принимал ванну, так как чувствовал себя не очень хорошо. Погода стояла изумительная, — она была похожа на прекрасный полдень в Европе. Мы гуляли в саду, пока не подошли к карете, и потом отправились в ней по нашему обычному маршруту. Темой разговора стала военная школа в Париже до революции, и мы сопоставляли те роскошные условия, в которых мы тогда жили, с суровой
649
дисциплиной, введённой императором в подобных учебных заведениях во времена его правления страной.
В военной школе Парижа с нами обращались как с баловнями судьбы, нас обслуживали и предоставляли полный пансион. Это было великолепно во всех отношениях, материальное положение большинства наших семей не позволяло обеспечить условия столь роскошные, да и в позднейший период жизни мы не могли надеяться их иметь. Император сказал, что стремился избежать подобной ошибки; прежде всего он хотел, чтобы его молодые офицеры, которым предстояло в будущем командовать солдатами, вначале сами оказались в положении солдат и до мелочей познали на собственном опыте характер военной службы. Император создал такую систему военного обучения, которая должна была приносить огромную пользу офицеру для его будущей военной карьеры, обязывая его на практике применять полученные технические навыки; те же, кому предстояло служить под командованием этого офицера, должны были
учиться у него. Именно благодаря этому принципу молодые курсанты Сен-Жерменской военной школы были обязаны ухаживать за своими лошадьми, учиться тому, как подковывать их, и т.д.
Тот же дух был воплощён в правилах обучения в Сен-Сирской школе: там несколько курсантов размещались в одной большой комнате, для всех без исключения предусматривалась общая столовая, и т.д.
650
Внимание, оказываемое техническим мелочам, было не в ущерб профессиональному обучению курсантов; и они не покидали стен Сен-Сирской школы, пока не заслуживали звания офицера и пока их не признавали способными командовать солдатами. «И следует признать, — отметил император, — что если молодые офицеры сразу же после окончания этой школы получали назначение на службу в армейские корпуса и к ним там поначалу относились с определённой долей настороженности, то их дисциплинированное поведение и способность выносить тяготы воинской службы вскоре заставляли оценивать их должным образом».
Женские учебные заведения Экуана, Сен-Дени и ряд других, учреждённые благодаря великодушной заботе Наполеона для дочерей кавалеров ордена Почётного легиона, в своей деятельности руководствовались схожими принципами. Правила устава каждого заведения, разработанные самим императором, предусматривали, чтобы необходимые вещи, предназначенные для использования таким заведением, были сделаны руками самих учениц. Эти же правила запрещали ученицам иметь предметы роскоши, носить дорогую одежду и тратить время на экстравагантные игры. Император говорил, что правила предусматривали, чтобы воспитанницы этих заведений становились хорошими хозяйками и уважаемыми жёнами.
Во времена восхождения Наполеона к вершинам власти он приобрёл репутацию человека, обладавшего резким характером и лишённого чувствительности; однако не подлежит сомнению тот факт, что никто из монархов так часто не следовал велению искренних чувств, как он; но таков был склад его ума, что он скрывал все сердечные проявления, в то время как другие монархи стремились показать их.
Он усыновил всех детей солдат и офицеров, убитых в сражении при Аустерлице, и для него этот поступок не был простой формальностью: он обеспечивал их всем необходимым.
Когда я вернулся в Европу, то услышал из уст одного молодого человека следующую историю, которую он рассказывал мне со слезами благодарности. Ему, когда он был совсем юным, посчастливилось обратить на себя внимание императора явным доказательством своей преданности ему; император спросил его, какую профессию он хотел бы для себя выбрать, и, не дожидаясь ответа юноши, сам назвал одну профессию. Юноша ответил, что материальное положение его отца не позволяет ему последовать совету императора. «Какое это имеет значение? — перебил его император. — Разве я не твой отец?» Те, кто знал частную жизнь Наполеона, кто жил рядом с ним, могут рассказать тысячи историй подобного рода.
Он многое сделал для армии и для ветеранов и намерен был сделать ещё больше. Однажды нам в Государственном совете был
651
представлен план декрета, который предусматривал, чтобы в будущем все вакантные должности в таможенном управлении, в департаменте налогов и сборов, а также в департаменте акцизных сборов отдавались раненым солдатам или ветеранам, способным служить на этих должностях, от рядовых солдат до высших офицеров. Так как этот план декрета встретил довольно прохладное отношение членов Совета, то император обратился в своей обычной энергичной манере к одному из тех членов Совета, кто выступал против предлагаемого плана, настаивая, чтобы тот прямо высказал свою точку зрения.
«Сир, — ответил господин Малуэ, — я выступаю против этого плана потому, что опасаюсь, что другие общественные слои нации будут чувствовать себя обиженными из-за того, что предпочтение отдаётся армии». — «Сударь, — горячо возразил император, — вы говорите о различии, которого не существует; армия более не представляет собой отдельного общественного слоя нации. В том положении, в котором мы сейчас оказались, ни один человек в стране не освобождён от того, чтобы быть солдатом; военная карьера более не является делом выбора, она является необходимостью. Подавляющее большинство вступивших на этот путь были вынуждены отказаться от своей прежней профессии против своей воли, поэтому справедливо, что они получат за это хоть какую-то компенсацию». — «Но, — вновь возразил оппонент императора, — не означает ли это, что Ваше Величество намерены в будущем почти все вакантные должности отдать солдатам?» — «Это действительно является моим намерением, — подтвердил император. — Единственный вопрос заключается в том, имею ли я право поступить так, не совершу ли я тем самым несправедливый поступок? Конституция даёт мне право назначать на любую государственную должность, и я считаю, что те, кто пострадал более всех, имеют право на компенсацию, — это строгий принцип справедливости. — Затем, возвысив голос, он добавил: — Господа, война не является той профессией, которая обеспечивает покой и комфорт; удобно узнавать о ней, сидя здесь, в зале Государственного совета, читая военные бюллетени или слушая о наших военных победах. Вам ничего не известно о наших ночных дозорах, о наших форсированных походах и маршах, о страданиях и лишениях всякого рода, которым мы подвергаемся. Но я знаю об этом, так как я свидетель, а иногда и участник всего этого».
Однако этот план, как и многие другие, не был принят, хотя он неоднократно обсуждался и по-разному модифицировался; и благородные намерения императора, я думаю, даже не стали известны обществу, хотя император проявлял живейший интерес к тому, чтобы этот декрет был принят Советом, и всячески защищал его.
652
В самом начале обсуждения плана высказывались следующие сомнения: «Предоставите ли вы, Ваше Величество, подобные должности солдату, который не умеет читать?» — «Почему бы и нет?» — «Но каким образом он будет в состоянии выполнять свои обязанности? Как он сможет вести счета?» — «Он обратится к соседу, он призовёт родственников, и благодеяние, предназначенное для одного, будет ощущаться многими. Кроме того, я не считаю ваше возражение обоснованным: главное условие — человек, назначаемый на подобную должность, должен быть компетентен для того, чтобы занять её».
С наступлением вечера император вызвал меня в свою комнату. Я увидел его одного, стоявшего у камина почти в темноте, поскольку свечи были зажжены только в соседней комнате. Эта темнота в комнате, сказал он, гармонирует с его мрачным настроением. Он был немногословен и находился в подавленном состоянии.
После обеда он взял в руки «Мемуары» де Граммона, но ему не захотелось читать их. Тогда он завёл разговор о том, как проводилось время в Париже. Мы стали сравнивать привычки и обычаи светского общества в прошлые времена и теперь. Император заявил, что он часто и много думал, как привнести разнообразие в жизнь светского общества. Он давал балы и концерты во дворце Тюильри, приглашал туда актёров для спектаклей, проводил экскурсии в Фонтенбло, но все эти мероприятия, сказал он, в результате только доставляли хлопоты представителям императорского двора, не оказывая никакого влияния на жизнь населения столицы Франции. Пока ещё не было достаточной степени сплочённости отдельных частей населения столицы, чтобы эти разнородные части воздействовали друг на друга с должным эффектом; но это воздействие, утверждал император, будет достигнуто со временем.
Императору напомнили, что все работавшие в правительстве и имевшие большое количество заданий были вынуждены утром вставать очень рано и поэтому рано ложились спать; можно сказать, что он сам способствовал сокращению свободного времени парижан. «Когда Первый консул потребовал, — вспомнил император, — чтобы на приёмы к нему являлись не в сапогах, а в туфлях, и чтобы те, кто появлялся в обществе, хотя бы небольшое внимание уделяли одежде, это вызвало немалое удивление в Париже и привело чуть ли не к революции в манерах поведения и почти к бунту в некоторых кругах столицы».
Император с большим удовольствием подробно остановился на источниках хорошего воспитания и приятных манер, которые отличали общество в наши молодые годы. Он особенно выделил то, что
653
способствовало созданию атмосферы ненавязчивых и приятных дружеских отношений, — лёгкое проявление лести с обеих сторон вовсе им не мешало, а несогласие если порой и выражалось, то неизменно смягчалось проявлением такта и вежливости.
Антипатия к лекарствам — «Жиль Блаз» — Героические подвиги французов
6 июня 1816 года
До шести часов вечера я не видел императора: чувствуя себя нездоровым, он оставался в своей комнате и в течение всего дня ничего не ел. Он занимался тем, что просматривал лондонские газеты, которые одолжил ему его лечащий врач, ирландский доктор О’Мира. Доктор имел честь быть у него в течение дня, они беседовали, что порой сопровождалось смехом императора. «Узнав, что я нездоров, — сказал Наполеон, — он счёл меня своей жертвой, немедленно посоветовав принять пилюли. А я, если мне не изменяет память, за всю жизнь не принял ни одной пилюли!»
Наступил уже восьмой час; император сказал, что человек, чувствующий себя голодным, не может быть очень больным. Он велел принести ему что-нибудь из еды, и ему принесли жареного цыплёнка, которого он съел с большим удовольствием. Это немного подняло его настроение, он стал более разговорчивым и высказал ряд замечаний о французских романах. Большую часть дня он провёл за чтением «Жиля Блаза». Император нашёл роман достаточно остроумным, но сам герой романа и другие действующие лица, сказал император, достойны того, чтобы отправить их на каторжные работы на галерах. Затем он стал перелистывать «Хронологический альманах» и остановился на блестящей военной операции, проведённой генералом Бизане в голландском порту Берген-оп-Зом.
«Как много доблестных военных операций, — заявил император, — было предано забвению из-за общей неразберихи наших катастроф или осталось в тени наших военных подвигов. Операция в Берген- оп-Зоме одна из них. Гарнизон в этом городе должен был насчитывать от восьми до десяти тысяч человек, но в действительности его численность не превышала двух тысяч семисот солдат. Английский генерал, используя темноту ночи и разведывательные данные, которые он постоянно получал от местных жителей, сумел проникнуть в город во главе четырёх тысяч восьмисот отборных солдат, причём местные жители были на их стороне. Но ничто не смогло сломить сопротивления доблестных французских солдат! Улицы города стали
654
свидетелями отчаянной схватки, в результате которой почти весь английский отряд был уничтожен или взят в плен. Это была, воскликнул император, — блестящая военная операция! Генерал Бизане поистине является доблестным офицером!
Среди других забытых военных подвигов, — сказал Наполеон, — выдающаяся и замечательная оборона Гюнингена отважным Барба- негром и доблестное сопротивление французских солдат во главе с генералом Тестом в Намюре, где в открытом городе он с горсткой храбрецов приостановил быстрое продвижение пруссаков и тем самым помог Груши выиграть время, чтобы вновь войти в этот город. Таким подвигом была блестящая экспедиция храброго Эксельмана в Версаль22, которая могла бы дать важнейшие результаты, если бы была поддержана, и многие другие блистательные операции.
Во всяком случае, эти доблестные подвиги в то критическое время прославили скорее рядовой состав армии, чем её главных военачальников. Было бы замечательно, если бы в дни той ужасной катастрофы, во время того рокового кризиса некоторые генералы вновь обрели бы способность совершать мужественные поступки и проявлять поразительные усилия, которыми были отмечены наши первые победы и которые за время моего правления стали почти национальной привычкой. И каков бы ни был конечный результат, всё равно славная попытка оказалась бы источником утешения,
655
и Франция в своей агонии с удовлетворением созерцала бы эти героические конвульсии. Нам не следовало завершать нашу карьеру столь заурядно.
В течение всего этого злополучного периода мы имели больше войск за границей, чем дома, на территории Франции: Дрезден содержал целую армию, вторая армия была заперта в Гамбурге, третья — в Данциге; и можно было бы легко создать четвёртую армию, собрав воедино огромное количество солдат, которые находились в составе различных промежуточных гарнизонов. Все усилия наших врагов были направлены на то, чтобы блокировать наши храбрые войска вдали от Франции и препятствовать их возвращению на родину. Ах! Если бы кому-нибудь из командующих этими войсками пришла в голову мысль извлечь выгоду из сложившихся обстоятельств, смело атаковать врага, заставить его отступить из Франции и тем самым освободить священную землю! Разве невозможно было объединить эти разрозненные корпуса?
Разве объединение гарнизонов Дрездена, Торгау, Магдебурга, Гамбурга не привело бы к созданию грозной армии в тылу врага, способной прорвать фронт его обороны и поставить его в критическое положение? Разве такая армия не смогла бы овладеть Берлином, освободить от осады гарнизоны вдоль реки Одер, прийти на помощь нашим войскам в Данциге, поднять восстание в Польше, вполне готовой к этому?
Что же тогда требовалось, чтобы дать толчок к счастливому повороту в нашей судьбе? Самого незначительного события — до того, как войска союзников вступили во Францию, — было бы достаточно, чтобы мы получили возможность заключить мирное соглашение на приемлемых условиях во Франкфурте; и в более поздний период, когда враг уже находился на нашей территории, малейшая причина для беспокойства в тылу врага во времена наших героических подвигов в сражениях при Шампобере, Монмирале, Бошане, Краонне, Монтеро, вероятно, вызвала бы поспешное отступление союзников и обеспечила бы нашу победу, а также, возможно, их разгром. И если генерал, который таким образом рискнул бы целиком отдаться делу спасения родины, потерпел бы неудачу в своей попытке, то это не стало бы худшим злом для нас, поскольку мы, в конечном счёте, всё равно пали под натиском врага; но этот генерал, действуя в лучших традициях нашего национального характера, приобрёл бы репутацию героя и сделал бы своё имя бессмертным.
Вместо этого Франция потеряла около ста тысяч человеческих жизней из-за покорного следования букве инструкций, — из-за той системы, от которой мы уже давно отказались. Но, возможно, я говорю необдуманно и без должного знания обсуждаемой проблемы;
656
возможно, знание обстоятельств на местах и имевшихся препятствий, о которых мне совершенно неизвестно, таких, как состояние духа и физическое состояние войск, бедственное положение, в котором они находились, невозможность получения моих приказов, которые я пытался довести до них, опасение нарушить главный план военных действий, боязнь взять на себя слишком большую ответственность и т.д., позволило бы обоснованно мне возразить. Но разве сам Наполеон не был источником величайших идей и не претворял их в жизнь героическим образом? И разве не верно то, что там, где его не было, действовали без энтузиазма? Как бы то ни было, но я знаю только об одном предложении совершить нечто героическое: оно было сделано командующему французской армией в Данциге во время капитуляции этого города. Правда, предложение исходило от офицера, не имевшего высокого звания, но он был человеком мужественным и бесстрашным и имел опыт успешных действий, что служит основанием для того, чтобы придерживаться о нём именно такого мнения, — это был капитан де Шамбюр, командир прославленной роты партизан, которая покрыла себя славой во время осады Данцига. Эта рота была создана для выполнения специальных партизанских заданий и состояла из ста человек, отобранных из числа наиболее бесстрашных солдат из всех корпусов армии; она оправдала и даже превзошла все ожидания, связанные с ней; враги, осаждавшие город, приходили в ужас от её подвигов и наградили её эпитетом дьявольская рота. Эта рота иногда ночью высаживалась в тылу русской армии, убивала её часовых, поджигала её воинские склады, выводила из строя её пушки, даже угрожала жизни её генералов и возвращалась в осаждённый город через вражеский лагерь, идя по телам тех, кто пытался помешать французским партизанам. Подобные факты нашли своё отражение в общих приказах по этой армии.
Нельзя отрицать, что в обычные времена, предшествовавшие нашим дням, каждая такая военная операция обессмертила бы любого её участника, и даже в наше время удивительных чудес эти люди заслуживают особого внимания. Когда я вернулся с острова Эльба, то пожелал увидеть мужественного Шамбюра, который к тому времени был весь изранен. Шамбюр был представлен мне военным министром, его немедленно назначили командиром партизанского корпуса на восточных границах Франции, где он вновь проявил себя достойным своей славы. В дни сильнейшего обострения ситуации в стране, вызванного недавними военными катастрофами, вновь выпавшими на нашу долю, в самом центре Франции в руки Шамбюра попали два английских офицера. Шамбюр защитил этих офицеров от ярости своих солдат и сохранил для англичан их
657
экипажи и даже их багаж. Вы можете этому поверить? Некоторое время спустя Шамбюр, мужество, преданность Франции и благородное поведение которого заслуживали самого высокого вознаграждения, был приговорён французским военным трибуналом к пожизненным каторжным работам на галерах, заклеймён и опозорен за то, что, как было сказано, он остановил и ограбил на проезжей дороге двух офицеров вражеской армии! Такова справедливость пособников врага! Таково чудовищное помрачение разума в период всеобщего смятения и волнения, когда сама совесть замолкает!
В этих условиях для полковника Шамбюра не оставалось никакого выбора, кроме немедленного отъезда из собственной страны. Из своей ссылки он напрасно пытался донести правду до общественности; напрасно два английских офицера во весь голос приводили свидетельства своей благодарности ему, — прошло немало времени, прежде чем Шамбюр смог воспользоваться моментом политического затишья и лично предстать перед военным трибуналом, чтобы потребовать пересмотра приговора суда. Этот пересмотр состоялся, и на этот раз результатом расследования военного трибунала стало решение об отсутствии малейших оснований для обвинений Шамбюра! Вот уж действительно пример, типичный для своего времени!»
Нереальные планы императора в отношении своего будущего — Императора плохо знали даже его придворные — Религиозные воззрения Наполеона
7—8 июня 1816 года
Во время продолжительной беседы с глазу на глаз сегодня утром император вновь говорил об ужасах нашего нынешнего положения и шансах на то, что в нашей жизни настанут лучшие дни.
Высказываясь по этому поводу (я не могу повторить сказанное им в моём дневнике), он дал волю воображению и заявил, что единственные страны, в которых он мог бы жить в будущем, — это Англия и Америка. Император добавил, что более всего он склонен жить в Америке, поскольку там будет чувствовать себя действительно свободным. Независимость, а также покой — вот всё, о чём он теперь мечтает. Затем он изложил нереальный план своей будущей жизни, вообразив, что будет жить вместе с братом Жозефом в самом центре Маленькой Франции на территории Америки. Однако, заявил он, политические причины могли бы сделать местом его будущего проживания Англию. Вероятно, он вынужден оставаться рабом обстоятельств: он обязан пожертвовать собой ради страны,
658
которая сделала для него больше, чем он в ответ сделал для неё; и затем последовал новый нереальный план его будущей жизни.
В ходе последовавшей беседы император не мог в достаточной степени выразить своего удивления по поводу убеждения, к которому он пришёл: несколько персон из его окружения, составлявшие часть его императорского двора, верили многим абсурдным и необоснованным слухам о нём, которые гуляли по стране; эти люди заходили столь далеко, что готовы были поверить всяким гнусностям, с помощью которых враги Наполеона стремились запятнать его репутацию. Так, некоторые представители императорского двора верили, что он носит кольчугу под одеждой, когда находится в их среде, что он склонен верить предчувствиям и року, что он подвержен приступам сумасшествия и эпилепсии, что он задушил Пишегрю, что он приказал перерезать горло одному несчастному английскому капитану, и т.д.
Слушая речь императора, мы не могли не согласиться с тем, что, обвиняя представителей императорского двора, он в данном случае прав. Всё, что мы могли привести в оправдание, заключалось в том, что люди из окружения императора пребывали в таком же неведении относительно истинного положения дел, как и большинство нации, и в этом положении они находились вплоть до того дня, когда покидали императорский двор. Я сказал, что мы часто видели императора, но никогда не разговаривали с ним; всё для нас оставалось тайной. Не было ни одного голоса, который бы опроверг измышления в отношении императора, в то время как многие лица, в том числе находившиеся вблизи его особы, казалось, были заняты только тем, что распространяли злостные измышления о нём, — или в силу своей испорченности, или имея дурные намерения. Что касается меня лично, то я откровенно признался, что не имел ясного представления о характере императора до приезда на Святую Елену, хотя я мог бы поздравить себя с тем, что мои догадки о его сути были во многом верными. «Однако, — заметил император мне в ответ, — вы часто видели и слышали меня в Государственном совете».
Вечером, после обеда, разговор коснулся вопросов религии. Император подробно остановился на этом предмете. Ниже следует краткое изложение его аргументов; я привожу их, так как они достаточно характерны для его взглядов в целом, которые, вероятно, интересны многим.
Император, некоторое время поговорив на эту тему довольно оживлённо и с обычной для него горячностью, в итоге заявил: «Всё свидетельствует о существовании Бога, это не может подвергаться сомнению; но все наши религии являются, очевидно, продуктом деятельности человеческого разума. Почему же так много различных
659
вероисповеданий? Почему не всегда существовала наша религия? Почему она считает правильной одну себя? Что станет в этом случае со всеми добродетельными людьми, которые ушли из жизни до нашего появления? Почему все эти культы поносят друг друга, противоборствуют и стремятся друг друга искоренить? Почему это никогда и нигде не прекращалось? Потому что люди всегда остаются людьми; потому что священники всегда и повсюду несли с собой обман и ложь. Тем не менее, как только я пришёл к власти, я немедленно восстановил религию. Я сделал её основой и базисом всего, что я строил. Я рассматривал религию в качестве поддержки разумных принципов и нравственного поведения в теории и на практике. Кроме того, такова уж неугомонная людская натура, что душа человека требует чего-то неопределённого и непостижимого, что и предлагает ему религия; и гораздо лучше для него найти это нечто в религии, чем искать его у Калиостро, мадемуазель Ленорман или у гадалок и шарлатанов».
Кто-то из нас решился сказать императору, что он мог бы, в конце концов, стать религиозным. Император ответил с известной долей убеждения в голосе, что он опасается, что всё же им не станет, и что он сожалеет об этом, поскольку религия является большим источником утешения; но его неверие — следствие силы его разума, а не порочности души.
«Однако, — добавил он, — ни один человек не может знать, что с ним произойдёт, особенно в последние минуты его жизни. Сейчас я твёрдо уверен в том, что, умирая, не призову духовника; и всё же среди вас есть один человек (и он указал на одного из нас), который, возможно, примет мою исповедь. Я, несомненно, очень далёк от того, чтобы быть атеистом, но я не могу верить всему тому, чему меня учили, — мой разум, который видит и ложь, и ханжество, противится этому. Когда я стал императором, и особенно после моей женитьбы на Марии Луизе, прилагались немалые усилия, чтобы я торжественно отправился, по примеру королей Франции, в собор Парижской Богоматери для причастия; но я решительно отказался делать это: я не верил этому обряду в достаточной мере, чтобы извлечь какую-либо пользу из него, и, тем не менее, я слишком уважал его, чтобы пойти на риск и совершить акт профанации».
В связи с этими словами императора один из нас сослался на одного человека, который хвастался тем, что никогда не причащался. «Это очень плохо, — заявил император. — Или этот человек не стремился воспользоваться благами своего воспитания, или он вообще не воспитывался».
Затем, возобновив разговор на тему религии, он сказал: «Вопросы “кто я, откуда и куда иду?” выше моего понимания; однако всё
660
это есть. Меня можно сравнить с часами, которые существуют, не сознавая своего существования. Однако религиозное чувство настолько утешительно по своей природе, что его следует рассматривать как благодеяние свыше: что было бы с нами здесь, если б мы были лишены его! Не люди и не события влияли на меня: под напором невзгод, словно ниспосланных мне Богом, я ожидал воздаяния в виде счастья в загробной жизни! Какого ещё воздаяния я вправе ожидать? Я, который сделал столь выдающуюся и столь бурную карьеру, не совершив ни единого преступления. И, тем не менее, в каких только преступлениях меня не обвиняли! Я могу предстать перед судом Божьим, я могу без страха ждать Его приговора. Он увидит, что моя совесть не отягощена думами об умышленных и жестоких убийствах, об отравлениях — обычных делах для тех, чьи жизни напоминали мою жизнь. Я думал лишь о славе, мощи и величии Франции. Все мои умственные и физические способности, все мои усилия были направлены на достижение этой цели, и всё моё время было посвящено исключительно этому. Всё это не назовёшь преступлением, и я считаю это проявлениями добродетели. И как счастлив буду я, если последние минуты моего существования озарит новая надежда!»
После небольшой паузы император возобновил свои размышления. «Могут ли наши сердца наполниться верой, когда мы слушаем абсурдную речь и видим неправедные поступки тех, кто читает нам проповеди? Я окружён священниками, которые непрестанно повторяют, что их власть находится вне пределов этого мира, и, тем не менее, они прибирают к своим рукам всё, к чему ни прикоснутся. Папа римский является главой религии, которая ниспослана свыше, но он думает только об этом мире. Чего только не предлагал нынешний главный понтифик, — несомненно, добрый и праведный человек, — чтобы ему разрешили вернуться в Рим! Отказ от правления Церкви, от института епископов не был для него слишком высокой ценой за то, чтобы стать владетельным принцем. Даже сейчас он является другом всех протестантов, которые всё ему разрешают, так как не боятся его. Он является врагом только католической Австрии, поскольку её территория окружает его собственную.
Тем не менее, — заметил он вновь, — нельзя сомневаться в том, что неверие, которое я чувствовал как император, было выгодно тем нациям, которыми я должен был править. Разве я мог бы одинаково относиться к различным религиям, противостоящим друг Другу, находись я под влиянием одной из них? Разве я смог бы сохранить независимость моего мышления и моих действий под контролем духовника, который руководил бы мной, пугая адом? Какую власть может обрести безнравственный человек над теми,
66/
кто правит целыми нациями! Разве в этом случае он не похож на рабочего сцены в оперном театре, который из-за кулис управляет Геркулесом? Кто может сомневаться в том, что последние годы Людовика XIV были бы совершенно иными, если бы у него был другой духовник? Я считал эту точку зрения совершенно правильной и обещал всеми средствами воспитывать моего сына в духе моих собственных религиозных убеждений».
Император закончил беседу тем, что попросил моего сына принести ему Евангелие; он стал читать его нам с самого начала и завершил чтение Нагорной проповедью Иисуса. Император выразил своё восхищение чистотой слога, великой и прекрасной нравственностью проповеди Спасителя; мы все испытали такое же чувство восхищения.
Описание личностей директоров Директории — 18-е фрюктидора
9 июня 1816 года
Император много рассказывал о создании Директории и о том времени, когда он был главнокомандующим внутренними войсками. Затем он описал личности и характеры пяти директоров Директории. Он нарисовал яркую картину их причуд и ошибочных поступков, после чего перешёл к рассказу о событиях фрюктидора, сообщив много любопытных подробностей. Я привожу их ниже, собрав воедино отдельные высказывания императора и фрагменты рукописи о кампаниях в Италии.
«Баррас, — рассказывал император, — происходил из добропорядочной семьи, проживавшей в Провансе. Он был офицером полка Иль-де-Франс. Во время революции он был избран депутатом национального Конвента от департамента Вар. Баррас не обладал ораторским талантом, но у него были склонности к коммерческой деятельности. После 31 мая он вместе с Фрероном был назначен представителем Конвента во французской армии в Италии и в Провансе, в котором тогда началась гражданская война. Вернувшись в Париж, он вступил в термидорианскую партию; когда Робеспьер стал угрозой для термидорианцев, Баррас, объединившись с Таллье- ном и с последними сторонниками Дантона, совершил переворот 9-го термидора. В разгар политического кризиса Конвент направил Барраса руководить подавлением восстания коммуны, поддерживавшей Робеспьера; Баррас успешно выполнил задание. Это событие прославило его. После падения Робеспьера термидорианцы стали руководящей партией Франции.
662
В критические часы 12-го вандемьера было принято решение одновременно избавиться от трёх представителей Конвента во внутренней армии и в лице Барраса объединить власть представителя Конвента и командующего этой армией. Но порученные ему обязанности оказались для него слишком сложными; они были явно ему не под силу. У Барраса не было военного опыта, он невысоко поднялся по ступеням карьеры, оставив службу в звании капитана; он ничего не понимал в военных делах.
События термидора и вандемьера способствовали выдвижению Барраса на руководящие роли в Директории; он не обладал качествами, необходимыми для этого, но справлялся с порученной ему задачей лучше, чем ожидали от него те, кто знал его.
Баррас содержал роскошный особняк, имел свору гончих и вёл расточительный образ жизни. Когда 18-го брюмера он покинул Директорию, он всё ещё обладал большим состоянием и не пытался этого скрывать. Его состояние не было настолько большим, чтобы привести в расстройство государственные финансы, но он приобрёл богатство, деля прибыль с поставщиками и тем самым нанося ущерб общественной нравственности.
Баррас был высокого роста; иногда, в минуты возбуждения, он начинал говорить громко, и тогда его голос звучал на весь дом. Его интеллектуальных способностей хватало лишь на то, чтобы
663
изъясняться краткими фразами, но воодушевление, с которым он говорил, обычно оставляло впечатление, что он решительный человек, но этого в действительности не было: он никогда не имел собственного мнения по вопросам управления страной.
Во время фрюктидора он сформировал с Ревбелем и Ларевельер- Лепо большинство против Карно и Бартелеми; после этого события он казался всем наиболее влиятельным членом Директории, но на самом деле таковым был Ревбель. На публике Баррас всегда стремился показать, что они с Наполеоном — близкие друзья. В день 30-го прериаля он сумел умиротворить господствовавшую партию ассамблеи и не разделил позора своих коллег23.
Ларевельер-Лепо родился в Анже в семье, относившейся к низам среднего сословия. Он был маленького роста, и трудно было представить себе менее располагающую внешность, чем у этого человека; он был настоящим Эзопом. Ларевельер писал довольно сносно, но обладал ограниченным умом и мало разбирался в делах и в людях. В зависимости от обстоятельств им управляли поочерёдно Карно и Ревбель. Всё его время занимали зоологический сад в Париже и теофилантропия (он имел глупость стать основателем этой “новой религии”). Он был искренним и пылким патриотом своей страны, честным человеком и неподкупным гражданином, стремившимся к знаниям; он был беден, когда стал членом Директории, и оставался таким же бедным, когда покинул её. Природа не наградила его качествами, достаточными для того, чтобы занимать более высокую должность, чем должность мирового судьи в маленьком провинциальном городке».
Наполеон по возвращении из французской армии в Италии оказался, не зная почему, объектом особого внимания со стороны члена Директории Ларевельера, который всячески обхаживал его и не скупился на комплименты в его адрес. Однажды Ларевельер пригласил Наполеона к себе на обед в семейном кругу, для того чтобы, как он заявил, они могли вместе свободно побеседовать. Молодой генерал принял приглашение и обнаружил, как и обещал Ларевельер, что на обеде присутствуют только сам член Директории, его жена и дочь, «которые, между прочим, — добавил император, — были тремя образцами уродства». После десерта дамы удалились, и разговор принял серьёзный оборот. Ларевельер долго рассуждал о недостатках нашей религии и о необходимости иметь новую религию, которую он хотел основать, — теофилантропию, — расхваливая её и перечисляя её преимущества.
«Я начал находить затянувшуюся беседу довольно утомительной и скучной, — рассказывал император, — когда, совсем неожиданно, Ларевельер, удовлетворённо потирая руки, жеманно заявил мне,
664
игриво взглянув на меня: “Каким ценным приобретением для нас будет человек, подобный вам! Какие преимущества принесёт нам ваше имя, какой вес оно придаст сторонникам нашей религии! И каким чудесным событием оно будет для вас! Итак, что вы скажете по этому поводу?”».
Молодой генерал совершенно не ожидал подобного предложения, однако он скромно ответил, что не думает, что достоин такой чести. И объяснил, что когда он шагает по незнакомой тропе, то придерживается правила следовать за теми, кто до него шёл по ней. В области религии он полон решимости следовать дорогой, проложенной его отцом и матерью. Этот ясный ответ убедил первосвященника, что все его дальнейшие попытки обратить Наполеона в новую веру безуспешны, и он не стал настаивать; но с этой минуты пришёл конец особому вниманию Ларевельера к молодому генералу и комплиментам в его адрес.
«Ревбель, родившийся в Эльзасе, — рассказывал император, — был одним из лучших адвокатов в городе Кольмар. Он обладал той разновидностью интеллекта, которая отличает человека, искусного в адвокатской практике, — его влияние всегда чувствовалось в ходе дискуссий, он легко воодушевлялся, когда сталкивался с предвзятыми мнениями, он не особенно верил в существование добродетели, а его патриотизм был слегка окрашен определённым энтузиазмом. Однако и он нажил состояние, пока был членом Директории. Ревбель всегда был окружён подрядчиками, — по складу ума, вполне
665
вероятно, ему доставляло удовольствие беседовать с предприимчивыми людьми, обладавшими деловой хваткой; он благосклонно относился к лести с их стороны, не заставляя их оплачивать ту любезность, с которой он принимал их. Он питал особую ненависть к тевтонской системе, проявлял огромную энергию как член различных законодательных органов до и после того, как был мировым судьёй, и его всегда привлекала жизнь, требовавшая усердия и активности. Ревбель был членом Законодательного собрания и Конвента; последний назначил его представителем в Меце, где он не добился успехов из-за отсутствия военных способностей; в итоге город капитулировал, хотя мог бы продержаться намного дольше. Подобно всем юристам, Ревбель с предубеждением относился к армии.
Карно, родом из Бургундии, в молодые годы поступил на службу в инженерный корпус и проявил себя ревностным сторонником системы Монталамбера24. Товарищи Карно отмечали эксцентричность его характера. Он уже был кавалером ордена Святого Людовика, когда началась революция, принципы которой он воспринял с воодушевлением. Он стал членом Конвента и входил в состав Комитета общественного спасения вместе с Робеспьером, Баррером, Кутоном, Сен-Жюстом, Билло-Варенном, Колло-д’Эрбуа и другими. Он был закоренелым врагом знати и из-за этого часто ссорился с Робеспьером, который в конце своей жизни защитил многих аристократов.
Карно был трудолюбивым человеком, проявлявшим искренность во всём, но он чуждался интриг, и его можно было легко обмануть. Его направили к Журдану в качестве представителя Конвента в то время, когда Журдану было поручено оказать помощь осаждённому городу Мец; и там Карно оказался небесполезным. В Комитете общественного спасения он ведал военными операциями и своей работой приносил определённую пользу, но в военных делах не имел никакого опыта. При любых обстоятельствах он проявлял стойкость духа.
После событий термидора, когда Конвент приказал арестовать всех членов Комитета общественного спасения, за исключением Карно, последний потребовал, чтобы и он разделил участь членов Комитета. Общественное мнение было настроено крайне враждебно по отношению к Комитету, что делает поступок Карно ещё более благородным. После вандемьера его назначили членом Директории, но после 9-го термидора он находился в крайне подавленном настроении, так как общественное мнение приписывало Комитету общественного спасения вину за всю кровь, пролитую на эшафотах. Карно чувствовал необходимость укрепить свою пошатнувшуюся репутацию и позволил себе пойти на поводу у тех, кто руководил
666
деятельностью его партии, находясь за границей. Его заслуги были превознесены до небес, но он не заслужил похвал от врагов Франции; он оказался в критической ситуации и пал в результате событий фрюктидора».
После 18-го брюмера Первый консул вспомнил о Карно и назначил его военным министром. Карно поссорился с министром финансов и с Дюфренем, директором казначейства. В этих ссорах он, следует признать по справедливости, был не прав. В конце концов он оставил военное министерство, посчитав, что оно более не может работать из-за нехватки денег.
Став членом Трибуната, Карно выступал и голосовал против создания империи; но его открытое и мужественное поведение не давало повода для беспокойства со стороны правительства. Позднее он был назначен главным инспектором военных парадов и смотров. Когда же он подал в отставку, император определил ему пенсию в двадцать тысяч франков. Пока государственные дела шли хорошо, император ничего не слышал о нём, но после кампании в России и во время наших катастроф на территории Франции Карно вновь предложил свои услуги; он был назначен командующим гарнизоном в Антверпене и прекрасно проявил себя на этом посту. В 1815 году, вернувшись во Францию с острова Эльба, император, после некоторого колебания, назначил Карно министром внутренних дел и не
667
имел причины сожалеть об этом: в этой новой для него должности Карно проявил себя трудолюбивым, абсолютно честным и искренним человеком. В июне Карно вошёл в состав одной из комиссий временного правительства, но он явно не подходил для этой работы и вскоре стал жертвой обмана.
Летурнер де ла Манш родился в Нормандии; до революции он служил офицером в инженерных войсках. Не поддаётся объяснению, почему он был выбран для назначения в Директорию; работа больших государственных собраний часто приводит к принятию непостижимых решений, и назначение Летурнера, возможно, стало одной из таких причуд. Он был малообразованным человеком со слабым характером и без способностей. В Конвенте было не менее пятисот депутатов, которые лучше подходили для этой должности; однако он был исключительно честным человеком и покинул Директорию, не нажив никакого состояния.
Летурнер сразу же стал предметом толков и посмешищем всего Парижа; говорили, что он приехал из своей Нормандии, чтобы занять пост в Директории, в повозке со своей экономкой, с кухонными принадлежностями и домашней птицей. Столичные острословы немедленно запомнили его и сделали объектом своих бесконечных шуток и насмешек. Например, ему якобы приказали вернуться из зоологического сада, куда он немедленно направился по приезде
668
в Париж, чтобы представить отчёт обо всех редких вещах, которые он там обнаружил; и когда его спросили, видел ли он Ласепеда (профессора истории естественных наук), то он с удивлением ответил, что не заметил в саду такого животного, и заявил, что ему показали только жирафа*.
Сразу после учреждения Директория стала падать в глазах общественного мнения из-за своих причуд, безнравственного поведения её членов и неудачных мер, принятых ею. Ошибки и глупости, которые она ежедневно совершала, скомпрометировали её окончательно, и она быстро потеряла всякую репутацию. Одурманенные своим взлётом по карьерной лестнице, директора считали, что им следует принять особый вид и своеобразные манеры хорошего тона. Чтобы преуспеть в этом, каждый из директоров сформировал вокруг себя маленький двор, подобный королевскому двору, принимал и приветствовал представителей высшего света Парижа, прежде находившихся в опале (которые, естественно, были их врагами). Из этих своих директорских дворов они исключили большую часть прежних знакомых и бывших товарищей, якобы за излишнюю вульгарность. Все те, кто во время революции проявлял активность и шёл одной дорогой с директорами, превратились для них в одиозные фигуры и немедленно подверглись отчуждению. Таким образом, Директория нелепо выглядела в глазах членов одной партии и стала чуждой для другой. Эти пять маленьких директорских дворов стремились добиться большей степени раболепия одновременно с тем, как они становились всё более ничтожными и нелепыми; но нашлись люди, которые не могли заставить себя преклоняться перед директорами и подчиняться новым придворным правилам: воспоминания о недавних событиях, природа нового правительства и характер новых правителей делали их неприемлемыми.
Однако все попытки Директории переманить на свою сторону салоны Парижа оказались безуспешными: она не сумела добиться никакого влияния на них, а партия Бурбонов постепенно усиливалась. Как только директора осознали это, они поспешили вернуться назад; но было слишком поздно восстанавливать доброе отношение республиканцев, которых директора отстранили от себя собственным поведением. Всё это привело к колебаниям, и такая политика выглядела глупой причудой: не было выработано единого курса, которого следовало держаться, не было поставлено ясной цели, и не было никакой общности интересов. Правление террора и королевская
* Впоследствии мне рассказали, что часть этих шуток не имела никакого отношения к Летурнеру, но касалась человека по имени Летурнё, который был министром внутренних дел Франции примерно в то же время.
669
власть были в равной степени антипатичны, но дорога, которая вела к цели, всё ещё оставалась неведомой. Директория решила положить конец этому состоянию неопределённости и избежать постоянных колебаний, нанеся удар по обеим крайним партиям, независимо от того, заслуживали они этого или нет; поэтому роялист, который участвовал в заговоре или был помехой для общественного спокойствия, подвергался аресту по приказу Директории, но одновременно она арестовывала и республиканца, вне зависимости от того, был ли он виновен. Эта система получила название Политических Качелей; несправедливость и обман, которые характеризовали данную систему, полностью скомпрометировали это позорное правительство. Все честные и благородные люди отвернулись от Директории.
Дельцы, биржевые маклеры и интриганы, добившись доступа к правительству, приобрели неслыханное влияние. Все должности были розданы ничтожным личностям, протеже или родственникам. Коррупция проникла во все ветви правительства. Те, кто получил право тратить общественные деньги, могли действовать, ничего не опасаясь: международные отношения, армия, финансы, министерство внутренних дел — все чувствовали пагубный эффект столь порочной системы. Подобное положение вещей привело к появлению грозных туч, предвещавших шторм на политическом горизонте, быстро приближался кризис, в итоге разразившийся во фрюктидоре.
Меры, принимаемые Директорией, были слабыми, непостоянными и нерешительными; эмигранты вернулись во Францию, и газеты, оплачиваемые иностранцами, посмели открыто клеймить позором наиболее заслуженных патриотов. Ярость врагов нашей национальной славы выводила из себя солдат французской армии в Италии, и эта армия во всеуслышание высказалась против них; в то же время Совет пятисот и Совет старейшин, со своей стороны, действуя как настоящие контрреволюционеры, говорили только о священниках, колоколах и эмигрантах. Офицерский корпус чувствовал себя уязвлённым и всё более и более воспламенял гнев своих солдат; все партии пребывали в состоянии сильнейшего возбуждения. Какие действия мог предпринять в минуту столь неистового волнения генерал французской армии в Италии? Он имел следующие три возможности.
Во-первых, встать на сторону доминировавших группировок в Совете пятисот и в Совете старейшин, но делать это было слишком поздно: армия уже высказалась, а лидеры этих группировок и их официальные представители беспрестанно нападали на генерала и на армию, не оставляя ему возможности принять такое решение.
Во-вторых, встать на сторону партии Директории и республики. Это был наиболее простой путь, который указал ему его долг,
670
к которому была склонна сама армия и которому он ранее следовал, ибо все те, кто оставался верным делу революции, проявили себя, в соответствии с собственным желанием, ревностными защитниками и горячими сторонниками армии и её командиров.
В-третьих, свергнуть оба противоборствовавших органа правительственной власти, выступив смело и открыто в борьбе за сохранение республики. Но, несмотря на силу, которую Наполеон чувствовал, получая поддержку армии, несмотря на то, что его личность пользовалась огромным уважением во Франции, он не считал, что дух времени и общественное мнение позволяют ему решиться на столь смелый шаг. И, кроме того, даже если эта третья мера была именно той, к которой он склонялся в душе, он не мог немедленно осуществить её, предварительно не встав на сторону одного из двух противоборствовавших органов правительственной власти, которые в тот момент являлись ведущими политическими силами. Было совершенно необходимо — даже для того, чтобы создать третью партию, — вначале встать на сторону Совета пятисот и Совета старейшин или на сторону Директории.
Из трёх возможностей предстояло выбрать одну, причём третья возможность практически сливалась с первыми двумя, и он не мог принять первую, учитывая состав Совета пятисот и Совета старейшин и нападки на него со стороны этих советов.
«Эти соображения и выводы, — говорил император, — были естественным результатом глубоких размышлений о тогдашнем состоянии Франции». Поэтому генералу ничего не оставалось, кроме как следить за развитием событий и поддерживать эмоциональный под ъём его войск. Мнение генерала о создавшемся положении было выражено в его воззвании к французской армии в Италии и знаменитом приказе по армии.
«Солдаты! — обратился он к армии. — Я знаю, что ваши сердца наполнены скорбью по поводу бедствий, обрушившихся на нашу страну; но если бы иностранные армии начали побеждать, то мы бы устремились на родину с вершин Альп со скоростью орла, чтобы вновь защитить дело, за которое пролили столько крови».
Эти слова решили дело: солдаты, охваченные воодушевлением, были готовы сразу же двинуться на Париж. Слухи о произошедшем немедленно дошли до столицы и вызвали там сильнейшее волнение. Директория, которую все считали проигравшей стороной и которая осталась в одиночестве и была всеми заброшена, сразу же ощутила поддержку общественного мнения; она немедленно встала в боевую позицию и теперь следовала победным курсом, громя своих врагов.
Командующий французской армией в Италии послал Директории текст воззвания к своим солдатам, направив его вместе с Ожеро,
поскольку тот был парижанином и горячим сторонником господствовавшей в то время идеологии.
Тогдашние политики обсуждали, что станет делать Наполеон в случае победы Совета пятисот и Совета старейшин и низвержения Директории. В этом случае, по-видимому, Наполеон будет полон решимости двинуться с пятнадцатью тысячами солдат в Лион и Мир- бель, где к нему присоединятся все республиканцы юга страны и Бургундии. Победоносный Совет пятисот не продержался бы и трёх-четырёх дней и стал бы жертвой собственных разногласий: известно, что если члены этого Совета были едины в своих действиях против Директории, то всё было совсем иначе, когда дело касалось дальнейшего курса, которого они предполагали придерживаться. Политические лидеры, такие как Пишегрю, Имбер-Колонн и другие, продавшись иностранным державам, использовали всё своё влияние, чтобы восстановить королевскую власть и вызвать контрреволюцию, в то время, как Карно и другие стремились добиться прямо противоположного результата. Поэтому Франция немедленно стала бы жертвой беспорядков и анархии, и в этом случае все политические фракции с удовлетворением восприняли бы появление Наполеона в качестве объединяющего центра, якоря спасения, способного обезопасить их одновременно и от террора королевской власти, и от террора демагогов. Тогда Наполеон, естественно, направился бы в Париж и встал во главе правительства, в соответствии с единодушным желанием и при поддержке всех партий. Верно и то, что Совет пятисот и Совет старейшин были сильны и решительны только в борьбе против директоров Директории; члены обоих советов оказались бы в состоянии разброда сразу, как только их противники были бы свергнуты.
Выборы трёх новых директоров Директории прояснили истинные планы контрреволюционеров. Большинство граждан страны были охвачены тревогой и готовы броситься навстречу Наполеону с развёрнутыми орифламмами25, ибо истинные контрреволюционеры были малочисленны, а их притязания слишком нелепы. Наполеон не встретил бы препятствий на своём пути. Если бы его назвали Цезарем или Кромвелем, то он всё равно бы двинулся вперёд, вооружённый идеями, одобренными всенародно. Солдаты подчинялись ему, денежные сундуки армии были наполнены до отказа, и он был в состоянии обеспечить верность солдат в будущем. Если сейчас задать вопрос, хотел ли Наполеон, чтобы события приняли именно такой оборот, то наш ответ будет положительным; и благодаря следующему факту у нас есть основания верить, что он хотел победы большинства Совета пятисот и Совета старейшин и надеялся на это. В тот момент, когда разразился кризис в отношениях между
672
Советом пятисот и Советом старейшин с одной стороны и Директорией, три директора Директории направили Наполеону секретное письмо с просьбой выделить три миллиона франков, чтобы отразить нападение Совета пятисот и Совета старейшин, но Наполеон, под различными предлогами, не послал в Париж эти деньги, хотя сделать это ему ничего не стоило; хорошо известно, что нерешительность в денежных делах ему несвойственна.
Поэтому, когда схватка в Париже закончилась и Директория открыто и с удовольствием признала, что своим существованием она обязана Наполеону, её члены всё же имели смутные подозрения, что Наполеон поддерживал Директорию только в надежде увидеть её свергнутой, чтобы в итоге занять её место.
Как бы то ни было, но после 18-го фрюктидора энтузиазм армии достиг своего пика, и триумф Наполеона был полным. Но Директория, несмотря на внешнее проявление своей признательности Наполеону, с этой минуты окружила его многочисленными агентами, которые наблюдали за его передвижениями и пытались угадать его мысли.
Положение Наполеона стало весьма деликатным, однако он хорошо контролировал свои действия и никак не проявлял своих намерений, — даже теперь мы можем только строить догадки по этому вопросу. Мы также можем назвать основные причины последовавших событий: заключение мира в Кампо-Формио, отказ Наполеона от того, чтобы остаться на конгрессе в Раштадте и, наконец, предпринятая военная экспедиция в Египет.
Как всегда случается во Франции, немедленно после 18-го фрюктидора свергнутая партия внезапно исчезла, и большинство Директории, презрев сдержанность, открыто праздновало свою победу. Директория стала всем, полностью лишив власти Совет пятисот и Совет старейшин.
В то время Наполеон чувствовал необходимость мира, который, положив конец тогдашнему состоянию дел, повысил бы его популярность; продолжение войны не обещало ему ничего хорошего, оно могло дать в руки тех, кто должен был опасаться его, готовые предлоги для того, чтобы навредить ему, поставить его в затруднительное положение и настроить против него других генералов.
Моро и Гош были теми двумя генералами, которые пользовались большим авторитетом и открыто проявляли свои чувства в отношении великой победы фрюктидора.
Моро решительно высказывался против Директории. Своим трусливым и заслуживавшим наказания поведением он скомпрометировал свою честь и не выполнил своего долга перед страной.
Гош безоговорочно поддерживал Директорию. Он проявил свойственную ему горячность, действовал слишком поспешно, направил
673
часть своей армии в Париж и потерпел неудачу. Попав под влияние представителей Совета пятисот и Совета старейшин, его войска отошли от столицы, а сам Гош был вынужден покинуть Париж, чтобы избежать ареста по приказу этих советов. Поэтому он ничего не сделал, чтобы способствовать успеху 18-го фрюктидора, — напротив, он навредил делу своим излишним рвением, хотя и проявил себя человеком, целиком преданным Директории. Большинство её членов могли смело положиться на него, хотя его опрометчивость чуть не стала причиной гибели Директории.
С другой стороны, большинство Директории с сомнением относилось к Наполеону, который обеспечил её триумф; её члены по-прежнему считали, что командующий французской армией в Италии рассчитывает на то, что Директория падёт в схватке с Советом пятисот и Советом старейшин и он вознесётся на её руинах.
Но как Директория могла соотнести это предположение с действиями Наполеона, который сделал всё, чтобы обеспечить её победу? Ибо совершенно очевидно, что без воззвания Наполеона к армии и без его приказа по армии Директория была бы погублена.
Некоторые лица, хорошо осведомлённые в этом вопросе, думают, что Наполеон на самом деле не имел ясного представления о степени влияния, которое он оказывал на народ Франции, что он позволил газетам, нападавшим на него, ввести себя в заблуждение клеветническими заявлениями и статьями и полагал, что принятыми им мерами он не обеспечит полный триумф Директории, но окажет необходимую поддержку республике. Те же лица добавляют, что когда Наполеон узнал о том, что его воззвание в одну минуту полностью изменило общественные настроения в стране, то тогда и только тогда он понял, что сделал слишком многое. А узнал он это от офицеров, которых послал в Париж, и из писем, приходивших со всех концов Франции. Мы тем более готовы согласиться с этой точкой зрения, поскольку не можем понять, почему Наполеон должен был думать о сохранении трёх директоров Директории, которые ему были безразличны. Единственный из этих троих, кого он уважал (Карно), принадлежал к оппозиционной фракции, и мы знаем, что он возмущался коррумпированностью и безволием двух других директоров.
К Наполеону с секретным заданием был направлен человек по имени Ботто, личный агент Барраса. Ботто должен был попытаться выяснить мнение Наполеона о ситуации во Франции и установить, почему он не выслал Директории три миллиона франков, в которых она так нуждалась. Ботто нашёл французского генерала в Пассариано и немедленно принялся интриговать с теми, кто входил в окружение Наполеона; но все, с кем ему приходилось иметь дело, оказались горячими сторонниками Директории, и, заинтересованный
674
в решении личных проблем, Ботго в ходе бесед с Наполеоном выдал тайну своего задания и сообщил ему о смутных подозрениях Директории в отношении него. Ботто был введён в заблуждение внешним простодушием, которым отличались люди из окружения Наполеона, и искренностью самого Наполеона; прежде всего его поразили энтузиазм французской армии и благожелательность всей Италии по отношению к генералу. Но даже если и имелись веские основания для подозрений Директории, то, оказав Ботго некоторые знаки внимания и заняв его откровенными и непринуждёнными беседами с людьми из окружения Наполеона, было нетрудно развеять все его подозрения, не оставив и тени сомнения относительно преданности Наполеона руководителям Директории.
Ботто написал в Париж, что все страхи, которые нагнетаются в столице, абсолютно беспочвенны и что следует в большей мере опасаться тех, кто стремится стимулировать эти страхи. Но три миллиона франков, возразили ему, почему в них было отказано? Наполеон объяснил, что приказ, посланный Директорией, был выражен в туманной и непонятной форме и он, окружённый со всех сторон мошенниками, которые уже ограбили общественное казначейство, посчитал разумным сначала разобраться в положении дел; он немедленно отправил Лавалетта, своего адъютанта по конфиденциальным поручениям, в Париж с тем, что, как только Лавалетт информирует его о действительном состоянии дел, он тут же будет готов выслать три миллиона франков.
Английская дипломатия — Лорд Витворт — Чатам — Каслри — Корнуэльс — Фокс
10 июня 1816 года
Во время сегодняшнего разговора император заявил, что ничто не было столь опасным и вероломным, как поведение дипломатических представителей Великобритании во время официальных бесед с ними. «Английские министры, — сказал он, — никогда не представляют обсуждаемое дело как проблему отношений их страны с другой страной, а лишь как вопрос, который касается только их и их собственной страны. Их мало беспокоит то, что сказали или что говорят им представители другой стороны; они безапелляционно повторяют только то, что сказали их дипломатические представители, или лишь то, что они заставили сказать своих дипломатических представителей, — на том основании, что следует полностью верить каждому
675
сказанному ими слову, поскольку, на взгляд этих министров, английские дипломаты, преданные своей стране, могут сообщать только достоверные сведения. Следуя этому принципу, английские министры в своё время опубликовали текст продолжительной беседы между мною и Витвортом, подписанный именем лорда Витворта и содержавший абсолютную ложь»*.
Этот английский посол в Париже обратился с просьбой о встрече с Первым консулом для беседы наедине. Первый консул, который любил решать возникавшие проблемы без посредников, охотно удовлетворил просьбу английского посла. «Но эта беседа, — сказал император, — послужила для меня уроком, который навсегда изменил мой метод. С этого момента я никогда не занимался решением официальных политических вопросов без присутствия моего министра иностранных дел. Во всяком случае, он мог бы дать решительное и официальное опровержение — иначе говоря, делать свою работу.
Это абсолютная ложь, — добавил император, — что всё, что происходило во время нашей приватной беседы, не соответствовало общепринятым правилам этикета. Лорд Витворт сам после нашей беседы, находясь в обществе других послов, выразил полное удовлетворение её результатами. Нет сомнений, добавил он, что все проблемы будут урегулированы с учётом интересов обеих сторон. Но каково же было удивление тех же самых послов, когда они некоторое время спустя прочитали в английских газетах отчёт о приватной беседе лорда Витворта, в котором он обвинял меня в том, что во время беседы я вёл себя в неподобающе грубой манере! Среди этих послов у нас были близкие друзья, и некоторые из них решились выразить своё удивление английскому дипломату и прямо сказали ему, что содержание его опубликованного отчёта далеко от того, что он сообщил им сразу же после встречи со мной. Лорд Витворт оправдывался как мог, но продолжал упорно отстаивать положения английского официального документа.
Всё дело в том, — пояснил император, — что у всех политических представителей Великобритании вошло в привычку составлять два отчётных документа по одному и тому же предмету. Один, лживый, — для широкой общественности своей страны и для министерских архивов, а другой, конфиденциальный и правдивый, — для
* Все мы, находившиеся на острове Святой Елены, свидетели, имевшие отношение к фактам, которые голословно приводил лорд Батхерст, выступая перед парламентом Великобритании, можем подтвердить перед Богом и человечеством, что британские министры в этом случае полностью заслужили то осуждение, которому они были подвергнуты в деле, связанном с лордом Витвортом. Многие англичане, которые тогда были на острове Святой Елены, разделяли это осуждение и признавались, что им стыдно за свою страну!
676
самих министров, и только для них одних; и когда министры вынуждены отвечать за свои действия, они предъявляют первый из этих двух документов, который, хотя и лживый, отвечает любой цели и служит для того, чтобы их оправдать. Таким образом, получается, что лучшие общественные и государственные учреждения начинают придерживаться порочной линии поведения, их деятельность более не основана на принципах нравственности, а их представители руководствуются мотивами эгоизма, тщеславия и высокомерия. Абсолютная власть не нуждается в лицемерии, она молчалива. А здесь выходит, что ответственные правительства, когда их вынуждают говорить, прибегают к выдумкам и беззастенчиво лгут.
Достойно упоминания то обстоятельство, что в моей продолжительной схватке с Англией правительство этой страны постоянно нагнетало атмосферу недоброжелательного отношения ко мне и к моим поступкам; оно нагло и громогласно обвиняло меня в деспотизме, себялюбии, властолюбии и вероломстве, хотя только оно было виновно во всём том, в чём обвиняло меня. Английский народ должен был слушать эту ложь, мотивами которой были огромное предубеждение против меня и страх, который я внушал английскому правительству. Я могу понять, что короли и их правительства проявляли эти чувства, поскольку на карту было поставлено их существование; но мог ли их проявлять народ?
Британские министры беспрестанно говорили о моей двуличности; но могло ли что-либо сравниться с их макиавеллизмом и эгоизмом во время массовых беспорядков и волнений в стране, которым эти министры не давали угаснуть?
В 1805 году они пожертвовали несчастной Австрией, чтобы избежать угрозы вторжения моих войск в их страну.
Они вновь пожертвовали ею в 1809 году, чтобы развязать себе руки на Пиренейском полуострове.
В 1806 году они пожертвовали Пруссией, надеясь вновь заполучить Ганновер.
В 1807 году они не помогли России, но при этом захватывали отдалённые колонии и пытались овладеть Египтом.
Они явили всему свету позорное зрелище, в мирное время подвергнув бомбардировке Копенгаген и устроив засаду, чтобы захватить датский флот. Они проделывали это ранее и тоже в мирное время, когда, как разбойники на большой дороге, захватили четыре испанских фрегата, нагруженных сокровищами.
Наконец, во время войны на Пиренейском полуострове, где они пытались продлить состояние анархии и беспорядков, они наживались на крови испанского народа, обязывая его платить золотом и делать политические уступки за предоставляемые ими услуги и продовольствие.
677
В то время, как вся Европа буквально купалась в крови из-за интриг этих торговцев пушечным мясом, они стремились лишь обеспечить собственную безопасность, добиться преимуществ в торговле, установить своё господство на морях и над всем миром. Что касается меня, то могу заявить, что я никогда не делал ничего подобного и до неудачной военной операции в Испании (которую, в конце концов, нельзя сравнивать с постыдной английской агрессией против Копенгагена) моё поведение с нравственной точки зрения было безупречным. Мои действия, возможно, были диктаторскими, я не допускал возражений, но не запятнал себя вероломством. Разве может кто-либо удивляться тому, что в 1814 году, когда Англия считалась освободительницей Европы, любой англичанин, появившийся на континенте, на каждом шагу встречал проклятия в свой адрес, ненависть и отвращение? Отчего всё это произошло? Каждое дерево приносит свои плоды, мы пожинаем только то, что посеяли.
В течение последних пятидесяти лет правительство Великобритании постепенно теряло уважение мировой общественности. Ранее за власть боролись крупные национальные партии, каждая из которых предлагала ясную и величественную политическую программу; теперь же происходят лишь мелочные ссоры внутри одной и той же олигархической группировки. На самом деле её членов объединяет одна неизменная цель, и они улаживают свои разногласия с помощью компромиссов и уступок; они превратили Сент-Джеймский дворец в меняльную лавку.
Политика лорда Чатама, несомненно, была отмечена неправедными поступками, но ему, по крайней мере, хватало смелости не скрывать их; им был присущ определённый оттенок величия. Питт привнёс в деятельность кабинета министров элементы систематического лицемерия. Лорд Каслри, самозваный наследник Питта, довёл до крайности все виды порока и безнравственности в деятельности кабинета. Чатам прославился как купец; лорд Каслри не отказал себе в удовольствии поступать как истинный джентльмен, действуя при этом во вред своей стране: он пожертвовал своей страной, чтобы связать себя братскими узами с первыми людьми континента, и с этого момента он объединил в своём лице пороки светского салона и алчность финансиста, двуличие и раболепие придворного с кичливостью и высокомерием выскочки. Несчастной английской конституции грозит опасность, и она уже надвигается. Как далеки эти ничтожества от фоксов, шериданов и греев, людей с блестящими способностями и благородными характерами, настоящих представителей оппозиции, которые стали предметом насмешек со стороны олигархии, прибравшей к рукам всю власть!
Лорд Корнуэльс, — продолжал император, — я говорю вполне серьёзно, является первым англичанином, благодаря которому у меня
678
сложилось положительное мнение о его нации; после него таким был Фокс, и я могу добавить к ним, если надо, нашего нынешнего адмирала Малькольма.
Корнуэльс во всех смыслах был достойным, добрым и честным человеком. Во время мирных переговоров в Амьене, когда все условия договора были согласованы, он пообещал подписать утверждённый текст на следующий день в определённый час; какие-то обстоятельства задержали его дома, но он всё же сдержал своё слово. Вечером того же дня из Лондона прибыл курьер с уведомлением, что несколько статей договора должны быть изъяты. Но Корнуэльс ответил, что он уже подписал договор, и, немедленно приехав ко мне, действительно подписал ранее утверждённый текст договора. Мы отлично понимали друг друга; я направил полк в его распоряжение, и он с удовольствием наблюдал за его манёврами. Я сохранил самые приятные воспоминания о нём, и, вне всяких сомнений, его просьба имела бы для меня большее значение, чем, скажем, аналогичная просьба коронованной особы. Его семья, видимо, догадывалась об этом: ко мне обращались с просьбами от его имени; все они были удовлетворены.
Фокс приехал во Францию после подписания мирного договора в Амьене. Он занимался тем, что писал историю династии Стюартов, и обратился ко мне с просьбой разрешить ему ознакомиться с нашими дипломатическими архивами. Я распорядился, чтобы всё, что ему было нужно, ему предоставили. Я часто принимал Фокса. До меня дошла молва о его способностях, и я вскоре убедился, что он великодушен и у него доброе сердце; что же касается его убеждений, то они либеральные и благородные, он человек просвещённый. Я считал его настоящим украшением человеческого рода и был к нему очень привязан. Мы часто, без малейшего предубеждения, беседовали вместе на различные темы; когда я хотел втянуть его в небольшую полемику, то затевал разговор о покушении на меня с помощью адской машины и говорил, что его министры пытались убить меня. В этом случае он обычно принимался горячо возражать мне на своём плохом французском языке и неизбежно заканчивал разговор следующими словами: “Первый консул, умоляю вас, выбрасывайте это из вашей головы”. Но он не был уверен в правоте дела, которое взялся защищать, и есть все основания полагать, что он спорил со мной, скорее защищая свою страну, чем нравственность её министров».
Император завершил разговор следующим заявлением: «Полдюжины таких людей, как Фокс и Корнуэльс, было бы достаточно, чтобы должным образом сформировать характер нации и воспитать её нравственно. С такими людьми я всегда бы нашёл взаимопонимание:
679
мы вскоре устранили бы наши разногласия, Франция жила бы в мире со страной, в своей основе достойной всяческого уважения, и мы бы вместе совершили грандиозные дела».
История Конвента, написанная Лакретеллем — Статистические данные о быках — Каламбуры — О статистике
11 июня 1816 года
Сегодня один из обычных для острова дождливых дней с ветром. Император, воспользовавшись тем, что дождь на какое-то время прекратился, вышел в сад и послал за мной. Он только что читал историю Конвента, написанную Лакретеллем. Конечно, заметил император, книга написана неплохо, но она плохо воспринимается и не оставляет следа в памяти; вообще книга довольно поверхностна, в ней нет ничего такого, на чём можно было бы остановить взгляд. Автор книги не затруднил себя тщательным изучением истории Конвента, не отдал должное многим знаменитым личностям Конвента, не оценил соответствующим образом серьёзность преступлений ряда депутатов Конвента и т.д.
Возобновившийся дождь заставил нас вернуться в дом, и мы прохаживались по гостиной комнате и столовой.
Нам сообщили, что на острове имеется четыре тысячи быков и что ежегодно пятьсот быков идут на убой (для потребления), из этого числа сто пятьдесят предназначены для нас, пятьдесят для жителей острова и триста для снабжения прибывающих на остров кораблей. Нам также сообщили, что для восстановления стада требуется четыре года. Эти данные дали нам возможность занять время расчётами, — хорошо известно особое пристрастие императора к этому занятию.
Содержание быков, потребление бычьего мяса — то и другое важно для населения острова. Ни одного быка нельзя убить без предварительного разрешения губернатора. Один из наших товарищей по ссылке как-то рассказал, что во время его беседы на эту тему с местным жителем, владельцем дома, тот сказал следующее: «Ходят слухи, что вы, французы, жалуетесь, что очень плохо живёте (он говорил о Лонгвуде), однако именно мы с трудом сводим концы с концами; говорят, что вы каждый день едите свежее мясо, в то время как мы можем получить его три или четыре раза в год, и даже тогда оно обходится нам в пятнадцать-двадцать пенсов за фунт».
680
Император, от души посмеявшись над этим рассказом, заметил: «Вам следовало заверить его в том, что это мясо стоит нам короны». (Игра слов: в английском языке одно слово имеет два значения: корона и денежная единица крона.)
Некоторое время спустя я заметил, что это был единственный каламбур императора, других я до сих пор не слышал; однако человек, которому я это сказал, сообщил мне, что он уже слышал от императора похожий каламбур на ту же тему на острове Эльба. Один каменщик, нанятый на работу во время строительства дома, воздвигавшегося по приказу императора, упал с лесов и сильно ушибся; император, желая подбодрить каменщика, заверил его, что он скоро поправится и его ушибы останутся без последствий. «Моё падение, — сказал император каменщику, — было намного серьёзнее, чем твоё; но посмотри на меня: я вновь крепко стою на ногах, и я вполне здоров».
На какое-то время внимание императора привлекла статистика. Он высоко оценивал развитие и полезность этой новой области науки, которая, как он заметил, имеет особенную важность для того, чтобы указать правильный путь, установить и подтвердить истину. Император называл статистику числовой моделью явлений, и «без такой модели, — сказал он весело, — нельзя чувствовать себя в безопасности».
Один из участников этого разговора рассказал о своеобразном использовании статистики одним англичанином или немцем, который обладал редким терпением и настойчивостью. Он применил эти качества для того, чтобы подсчитать, сколько раз каждая буква алфавита встречается в Библии. Собеседник императора также вспомнил другой случай применения статистики, менее интересный, но не менее своеобразный. Речь шла об одном восьмидесятилетием немце, который занимался подсчётом того, какое количество говядины, баранины, домашней птицы, овощей и т.д. он съел в течение своей жизни, а также сколько он выпил. Подсчёт показал, что этот немец съел огромные стада рогатого скота, отары овец и баранов, стаи домашней птицы и массу других продуктов всякого рода. Столичный рынок был бы не в состоянии разместить на своих прилавках всё то, что он поглотил. Человек, применивший научную статистику столь банальным образом, на этом не остановился: ему любопытно было выяснить, как часто он мог бы вновь поглощать те же самые продукты, ибо он рассудил, что их преобразование в его организме должно неизбежно приводить к их воспроизводству. Император от души смеялся над этим расчётом и особенно над идеей фантастического воспроизводства пищи.
681
Байи, Лафайет, Монж, Грегуар и другие — Гаити — Политика, которой следовало придерживаться — Диктовка рукописи о Конвенте
12 июня 1816 года
Мы пережили три дня ужасной погоды, пока не настал момент, обещавший её улучшение; это побудило императора предпринять поездку в карете на свежем воздухе. Он только что закончил читать работу Рабо де Сент-Этьена «История Национального собрания». Его мнения об этом писателе и о Лакретелле были примерно одинаковыми. Чтение вышеназванной работы дало ему возможность дать характеристику некоторым деятелям Национального собрания.
«Байи, — сказал император, — был хорошим человеком, но, вне всяких сомнений, посредственным политиком. Лафайет был таким же простаком в политических вопросах и ни в коем случае не являлся той выдающейся личностью, которой хотел казаться. Он был политическим дураком, вечной жертвой людей и обстоятельств. Его активное участие в расколе обеих палат, когда я вернулся в Париж после Ватерлоо, привело к моей политической гибели. Кто сумел убедить его в том, что я прибыл в Париж лишь для того, чтобы распустить их? Ведь моя единственная надежда на спасение была связана с ними!»
Кто-то из нас, видимо, посчитал, что Лафайет заслуживает извинения или частичного оправдания, и спросил императора: «Но, сир, разве Лафайет не тот человек, который впоследствии, во время переговоров с союзниками, был крайне возмущён их предложением выдать им Ваше Величество и с пылом спросил их, не к пленнику ли Оломоуца они обращаются с подобным предложением?» — «Сударь, — ответил император, — вы спешите перейти от одной обсуждаемой проблемы к другой; вы скорее соглашаетесь с моей точкой зрения, чем оспариваете моё мнение. Я не подвергал сомнению чувства или намерения Лафайета, я лишь выражал недовольство убийственными результатами его действий».
Затем император в характерном для него стиле продолжил давать характеристики ведущим политическим деятелям той эпохи. Он довольно подробно остановился на деле Фабра.
«Что касается остальных, — заявил император, — то люди того времени зачастую говорили и делали нечто такое, что было для них вовсе не характерно. Например, Монж мог бы считаться ужасным человеком. Когда было принято решение о войне, он объявил с якобинской трибуны, что отдаст двух своих дочерей замуж за первых
682
двух солдат, которых ранит неприятель. Он был волен так поступить, но он пошёл дальше, утверждая, что и другие должны последовать его примеру, что всех аристократов следует казнить, и т.д. И при этом Монж был одним из самых кротких и безобидных людей на свете, он не смог бы зарезать курицу или даже вынести зрелище убийства птицы в его присутствии. Этот неистовый республиканец, каким он себя считал, преклонялся передо мной до такой степени, что его почитание практически переросло в чувство обожания. Он любил меня, как человек любит свою любовницу.
Другой пример — Грегуар, чья враждебность к духовенству, которое он хотел низвести до состояния первобытной простоты, была такой сильной, что он мог сойти за поборника атеизма. Тем не менее, когда революционеры отрицали существование Бога и подвергали гонению священников, Грегуара чуть было не убили: он поднялся на церковную кафедру, чтобы бесстрашно выразить свои религиозные чувства и торжественно заявить о том, что готов умереть священником. В самый разгар неистовой кампании по разрушению алтарей в церквях Грегуар поставил алтарь в своей комнате и говорил, что там он ежедневно служит обедню. Судьба этого человека была решена окончательно. Если бы его выслали из Франции, то он должен был бы найти пристанище на острове Гаити. Друг и защитник негров, он восторгался ими и стал бы для них богом или святым».
Естественным образом остров Гаити стал следующей темой нашего разговора. В мои молодые годы мне пришлось видеть эту колонию в состоянии необычайного процветания, поэтому император задал мне массу вопросов об острове. Он с интересом ознакомился со многими обстоятельствами, касавшимися положения на острове в те отдалённые времена. Закончив меня расспрашивать, он сказал: «Несомненно, я удивлю вас своими выводами, но, судя по вашему рассказу, остров не потерял и половины своей ценности, и в самом скором времени он будет процветать, как раньше».
На самом деле император нисколько меня не удивил, ибо все абсурдные истории, распространяемые в Европе о Франции, должны были настроить нас на то, чтобы осторожно отнестись к рассказам об острове Гаити.
Император сказал, что после восстановления королевской власти Бурбонов в 1814 году французское правительство направило на остров своих эмиссаров с предложениями, которые лишь развеселили его чернокожих жителей. «Что касается меня, — добавил он, — то я, вернувшись с Эльбы, должен был урегулировать все разногласия с ними; мне следовало признать их независимость, удовлетвориться несколькими факториями, подобными тем, что созданы на
683
берегу Африки, постараться приблизить их к Франции и установить с ними нечто вроде семейных отношений, которые, с моей точки зрения, можно было легко построить.
Я должен упрекнуть себя за ту попытку, которая была предпринята во времена Консулата в отношении колонии. План силового урегулирования конфликта оказался большой ошибкой. Я должен был ограничиться управлением островом, прибегнув к посредничеству Туссен-Лувертюра. Мир с Англией не был достаточно прочным, и территории, которые я приобрёл бы военным путём, вскоре были бы для нас потеряны и послужили бы на пользу нашим врагам».
Император имел весомые основания осуждать себя за эту ошибку; он предвидел, что в итоге его ждёт неудача, и вся военная операция проводилась вопреки его внутреннему убеждению. Он пошёл на уступки и согласился с предложениями Государственного совета и своих министров, которые, в свою очередь, уступили настойчивым требованиям колонистов, влиятельной партии в Париже; они почти все были роялистами или состояли на содержании английской клики.
Император заверил нас, что направленное на остров войско насчитывало только шестнадцать тысяч солдат, что было вполне достаточным. Провал военной экспедиции — результат случайностей, таких, как эпидемия жёлтой лихорадки и смерть командующего экспедицией; этот провал был предопределён ошибками генерала, начавшего новые военные действия, и т.д.
«Прибытие генерала Леклера, — сказал император, — ознаменовалось полным успехом, но он не сумел развить этот успех. Если бы он последовал секретным инструкциям, которые я лично выработал для него, то он бы спас много жизней и избежал бы горечи унижения. Среди прочего я приказал ему общаться с местными влиятельными мулатами, чтобы лучше держать негров в подчинении; и, как только он завоюет колонию, он должен был направить во Францию чернокожих генералов и высших офицеров в распоряжение военного министра, который бы определил их на службу в соответствии с их званиями. Эта мера оставила бы негритянское население без лидеров и оказалась бы решающей для успешного завершения всей экспедиции, не причинив вреда местным законам и обычаям. Но Леклер сделал всё наоборот: он подавлял влиятельных мулатов и оказывал доверие чернокожим генералам. В результате, как и следовало ожидать, он был обманут последними, столкнулся с трудностями, которые не мог преодолеть, и колония была потеряна. Поначалу он не выслал во Францию Туссен-Лувертюра, который занимал на острове важнейший пост, но спустя некоторое время он был вынужден отдать приказ об аресте Туссена и направить его во
684
францию в качестве пленника. Недоброжелательность наших врагов поспешила представить этот поступок в виде отвратительных деяний тирании и вероломства; при этом Туссен выглядел невинной жертвой, хотя на самом деле он был виновен в совершении великих преступлений.
Туссен был человеком не без достоинств, хотя, конечно, он не был такой личностью, какой его пытались представить в то время. Кроме того, он не был человеком, которому можно доверять; он являлся постоянной причиной нашего недовольства и наших подозрений. Почти всё время он находился под охраной инженерного или артиллерийского офицера, начальника фортификационных сооружений острова Гаити полковника Венсана. Этот офицер прибыл во Францию до начала экспедиции Леклера и в течение продолжительного времени вёл с ним беседы. Он прилагал все усилия к тому, чтобы военная экспедиция не состоялась, перечислял все трудности, с которыми она столкнётся, однако не решался заявить, что она вообще невозможна».
Император считал, что Бурбоны могли добиться успеха в завоевании острова Гаити, применив силу; но в случае с этим островом не следует полагаться на силу оружия, здесь необходимо уповать на развитие торговли и все действия сопровождать тщательным политическим анализом. Например, Франция могла бы инвестировать в эту отдалённую страну капитал в размере трёхсот — четырёхсот миллионов франков, но сколько времени потребуется для того, чтобы созрели плоды подобной инвестиции? Весьма вероятно, что этими плодами воспользуется Англия или что они будут поглощены революцией, — таковы вопросы для размышления. Император завершил свои суждения об острове Гаити следующими словами: «Существование колониальной системы, свидетелями которого мы были, закончено для нас и для всего европейского континента. Мы должны отказаться от этой системы; свободное мореплавание и полная свобода всеобщего обмена — вот будущее».
«История Конвента», о которой Наполеон ранее говорил неодобрительно, вновь стала предметом его размышлений; он не был удовлетворён работой Лакретелля. «Обилие общих фраз и отсутствие ярких мыслей и глубины исследования, — повторял он. — Автор носит звание академика, но ни в каком отношении не является историком». Император попросил меня вызвать к нему моего сына и затем продиктовал ему две записки, которые я привожу в дневнике в их первоначальном виде, хотя они несовершенны; император никогда не возвращался к ним. С моей точки зрения, всё исходящее от него имеет большую ценность.
685
Первая записка
«В соответствии с законом, принятым Законодательным собранием, Конвент должен был выработать для Франции новую конституцию. Он издал декрет об учреждении республики не потому, что наиболее просвещённые умы страны считали, что республиканская система полностью совместима с обычаями Франции, но потому, что монархия могла продолжаться лишь при условии восхождения на трон герцога Орлеанского, что вызывало резкий протест со стороны большей части нации.
Конвент принял решение о создании органа исполнительной власти республики в составе пяти директоров.
Две партии соперничали в борьбе за власть в национальном Конвенте: партия жирондистов, в которую входили депутаты, оказывавшие влияние на деятельность Законодательного собрания, и партия монтаньяров, созданная якобинцами Парижа, которые руководили действиями толпы во время зверств 10 августа и 2 сентября и были политическими вождями парижан.
Лидерами жирондистов были Верньё, Бриссо, Кондорсе, Годе и Ролан; монтаньяров возглавляли Дантон, Робеспьер, Марат, Кол- ло-д’Эрбуа и Билло-Варенн. Обе партии были верны принципам революции и благодаря этому поднялись к вершинам власти. Руководители партий ранее были членами объединений граждан, и они последовательно подчинили эти общества своему влиянию.
Жирондисты были более способными людьми, чем монтаньяры. Они были чрезвычайно популярны в больших провинциальных городах, особенно в Бордо, Монпелье, Марселе, Кане, Лионе и т.д.
Монтаньяры обладали более энергичным характером и большим энтузиазмом. Они были популярны в столице и в общественных клубах департаментов страны.
Партия жирондистов, представители которой в Законодательном собрании были самыми горячими приверженцами принципов революции, в Конвенте вела себя весьма сдержанно, поскольку там ей приходилось соперничать с другой группировкой, более неистовой, хотя и менее влиятельной.
Жирондисты называли своих противников “партией сентября” и постоянно порицали их за те ужасные убийства, в которых они были виновны. Жирондисты обвиняли монтаньяров в том, что они враждебно относятся к Законодательному собранию и стремятся передать управление Францией в руки Парижской коммуны; но тем самым жирондисты восстанавливали против себя якобинцев всех департаментов страны.
Со своей стороны, монтаньяры клеймили жирондистов как федералистов и обвиняли их в том, что они планируют учредить
686
во Франции федеральную систему, подобную той, что существует в Швейцарии. Они также обвиняли жирондистов в попытке разжечь ненависть провинции против столицы и, таким образом, вызвать у населения провинции сильное отвращение к парижанам, в то время как необходимо было объединение страны, единство её граждан, жителей столицы и провинций. Когда жирондисты ругали монтаньяров за резню 2 сентября, последние отвечали тем, что упрекали жирондистов в поспешном и необоснованном объявлении войны всей Европе, что было сделано на заседании Законодательного собрания.
Поначалу жирондисты, казалось, одержали верх в Конвенте и с этих позиций потребовали суда над Маратом и судебного разбирательства против вдохновителей сентябрьской резни. Но Марат, поддерживаемый якобинцами и Парижской коммуной, был оправдан революционным трибуналом и вернулся на заседание Конвента триумфатором.
Суд над королём стал ещё одним яблоком раздора между противоборствующими партиями. Казалось, что они заодно, и обе партии проголосовали за смерть короля; но большая часть жирондистов голосовала и за обращение к народу по этому вопросу, и трудно понять причину такого поведения во время политического кризиса. Если они хотели спасти короля, то могли свободно это сделать: в этом случае им следовало проголосовать за изгнание короля, за его ссылку или за то, чтобы отложить рассмотрение этого вопроса; но решение приговорить короля к смерти и в то же время сделать его судьбу зависимой от воли народа было в высшей степени абсурдным и неразумным. Казалось, жирондисты хотели, чтобы после ликвидации монархии Франция была разорвана на куски гражданской войной.
Эти события подтвердили правоту тех, кто с самого начала революции предсказывал торжество наиболее дерзких и безрассудных политических группировок. Однако жирондисты мужественно продолжали борьбу и в течение марта, апреля и мая в ходе голосования в Конвенте очень часто имели большинство. 31 мая взбунтовались парижские секции, и судьба жирондистов была решена. Двадцать семь жирондистов были арестованы, отданы под суд революционного трибунала и приговорены к смертной казни, семьдесят три жирондиста были брошены в тюрьму; с этого момента победоносные монтаньяры более не имели оппозиции в Конвенте. Однако несколько жирондистских депутатов нашли пристанище в Кане и там подняли знамя восстания. Лион, Марсель, Бордо, Монпелье и несколько городов Бретани встали на сторону жирондистов и тоже подняли оружие против Конвента.
687
Все эти бессвязные попытки сопротивления были бесполезны в борьбе со столичной властью, и монтаньяры продолжали владеть национальной трибуной. Одно обстоятельство, довольно своеобразное, способствовало победе Парижа — выпуск столичных ассигнаций, бывших тогда единственным ресурсом для пополнения казны (в то время никакие налоги не платились).
В провинции крайне эмоционально восприняли новость о событиях 31 мая и о смерти виднейших представителей жирондистов. Армию не волновали эти события; она не принимала участия в мятежах, произошедших в ряде департаментов, и оставалась верной Конвенту и партии, доминировавшей в политическом центре страны.
К тому времени, когда стало известно о разрозненных мятежах сторонников жирондистов, произошедших в ряде городов, все войска уже дали клятву верности монтаньярам; кроме того, в глазах французов Париж был Францией. Департаменты Эльзаса, Мозеля, Фландрии, Франш-Конте и Дофине, на территории которых были расквартированы главные силы армии республики, не проявляли чувства симпатии к федералистским городам.
События 31 мая лишили Францию людей с большими способностями, страстно преданных делу свободы и принципам революции. Катастрофа могла огорчить хорошо осведомлённых людей, но не могла удивить их. Национальное собрание, сумевшее преодолеть кризис, до которого была доведена Франция, не могло заниматься государственными делами, имея в своём составе две группировки, чьё соперничество было столь ожесточённым и непримиримым. Для безопасности республики было необходимо, чтобы одна партия уничтожила другую, и можно не сомневаться в том, что если бы жирондисты одержали победу, то они отправили бы своих соперников на плаху».
В этом месте император, диктовавший в своей обычной манере, то есть полагаясь исключительно на память и не пользуясь никакими вспомогательными материалами, то ли из-за того, что был недоволен продиктованным, то ли по какой-то другой причине внезапно остановился, чтобы, как он сказал, вновь диктовать на ту же самую тему.
Вторая записка
«Конвент был учреждён в сентябре 1792 года и прекратил свою деятельность в октябре 1795 года. Его правление, которое продолжалось почти три года, вместило четыре периода.
688
Первый период, с начала его правления и до 31 мая 1793 года, — уничтожение жирондистов.
Второй, до марта 1794 года, — ниспровержение Парижской коммуны.
Третий, до июля 1794 года, — падение Робеспьера.
Четвёртый, до 14-го вандемьера (4 октября 1795 года), — образование правительства Директории.
Первый период состоял из восьми месяцев, второй — из десяти, третий — из четырёх, четвёртый — из четырнадцати. Всего — три года.
В течение первого периода Конвент был постоянно разделён на партии монтаньяров и жирондистов.
Лидерами монтаньяров были Дантон, Робеспьер, Марат, Кол- ло-д’Эрбуа, Билло-Варенн, Карно, Эро де Сешелль.
Партию жирондистов возглавляли Бриссо, Кондорсе, Верньё, Годе, Жансонне, Петион, Лазурс, Барбару.
Обе партии в равной степени враждебно относились к Бурбонам и к роялистам.
Представители первой группировки отличались чрезвычайно энергичным характером, представители второй — выдающимися способностями. Все они были сторонниками республиканского государственного строя. Монтаньяры всей душой жаждали установления республики, чтобы уничтожить всё, что существовало до революции, включая людей и вещи. Жирондисты, словно пылкие юноши, были полны грёз о величественной античности, о Древних Афинах и Древнем Риме.
Монтаньяры появились с момента образования Учредительного собрания. Они были организаторами политических клубов, широко известных как якобинские клубы. Бунт на Марсовом поле был спланирован ими. Они не получили доступа ни в Учредительное, ни в Законодательное собрание.
Жирондисты, которые доминировали в законодательных органах власти, были настроены враждебно к конституции 1794 года и к королю. Они не выступили в его защиту и позволили принести его в жертву монтаньярам, которые, однако, были врагами жирондистов. Именно монтаньяры вызвали зверства 20 июня, 10 августа и 2 сентября. В то время у них не было отдельной группировки в Национальном собрании, но они вынудили жирондистов присоединиться к ним после своей победы.
Главным содержанием Первой эпохи Конвента стала борьба между жирондистами и монтаньярами; в тот период времени жирондисты превалировали в Конвенте, так как их отличали большие способности,
689
красноречие и уже приобретённая репутация. Руководство Конвента почти сплошь состояло из жирондистов; они обвиняли монтаньяров в том, что те планируют уничтожить Национальное собрание и заменить его парижской диктатурой. Они также ставили монтаньярам в упрёк массовые зверства в сентябре.
Монтаньяры, в свою очередь, обвиняли жирондистов в желании создать федеративную республику по типу Швейцарии, во враждебном отношении к столице Франции и в том, что они, без всякой причины, втянули республику в войну со всей Европой.
Монтаньяры стояли во главе якобинцев Парижа и большей части политических объединений граждан республики; Парижская коммуна, секции столицы и низшие слои населения Парижа разделяли убеждения монтаньяров.
Жирондисты обладали большим влиянием в департаментах страны; просвещённая часть нации, большинство людей, принадлежавших к высших слоям общества, были их сторонниками. Жирондисты, которые ранее занимали левую сторону Законодательного собрания и проявляли большую враждебность к королю, министрам, правым и умеренным, теперь были вынуждены пересесть на другие места в зале заседаний и стать, в свою очередь, правыми, противопоставив себя неистовым и властным монтаньярам, которые заняли левую сторону зала.
Монтаньяры, действуя по плану, который они выработали во время созыва Учредительного собрания, во весь голос требовали смерти короля; всеобщий энтузиазм населения столицы был им только на руку, и они его использовали. Жирондисты могли бы спасти жизнь короля, открыто выступив в его защиту; своеобразный способ его спасения заключался в том, чтобы, осудив короля и уничтожив монархический строй, обратиться к народу с предложением высказать мнение о смертном приговоре королю, — на деле это привело бы к разрушению Франции и гражданской войне. Двойственная позиция жирондистов по вопросу о судьбе короля погубила их. Верньё, один из столпов жирондистов, выступил с воззванием об объявлении смертного приговора королю.
Положение жирондистов в Конвенте было настолько прочным, что потребовались несколько месяцев борьбы с ними и несколько дней настоящего бунта против них, чтобы покончить с их влиянием в Конвенте.
Эта группировка правила бы Конвентом и разгромила бы монтаньяров, будь её поведение более прямым и целеустремлённым, но её члены находились под сильным влиянием метафизиков из числа жирондистов.
Вторая эпоха в истории Конвента ознаменована правлением монтаньяров. Двадцать семь жирондистских лидеров были казнены или
690
покончили жизнь самоубийством; семьдесят три жирондиста были брошены в тюрьму. Монтаньяры имели абсолютную власть. Они сформировали революционное правительство, а Конвент по собственной воле оказался в полном подчинении Комитета общественного спасения и революционного трибунала.
Атмосфера заседаний совершенно изменилась и ничем не напоминала дух первой эпохи: дискуссиям и свободе слова был положен конец, настало время деспотизма децемвиров (правящего органа из десяти человек). Некоторые из депутатов возглавили комитеты общей безопасности, финансов и т.д. Других депутатов Комитет общественного спасения направлял в армии и в департаменты страны, где они становились настоящими проконсулами.
С каждым месяцем, с каждой неделей и с каждым днём правительство становилось всё более жестоким и кровавым. Массы представителей имущего сословия, которые не эмигрировали, были брошены в тюрьмы как подозреваемые, сотни этих людей были отправлены на казнь.
Так поступали с членами семей аристократов, священников, купцов или рантье; данные эксцессы не могли не сказаться на самих монтаньярах. Верхушка партии правила якобинцами и Парижской коммуной железной рукой, эта партия поработила Конвент и угрожала ему полным уничтожением, она превозносила атеизм и объявила вне закона искусство, науку и всякое проявление таланта. Представителей искусства и науки бросали в тюрьмы как подозреваемых, и было время, когда Национальная библиотека и Зоологический сад оказались на грани уничтожения, — их собирались разрушить и сжечь.
Робеспьер и Дантон, до глубины души возмущённые этими актами произвола, объединили свои усилия, чтобы положить конец ужасающим проявлениям всеобщего сумасшествия. Капуцин Шабо, Базир, Фабр д’Эглантин, Эбер, Шомет, Венсан и все их соратники сложили головы на плахе.
Впервые с начала революции народ увидел, как казнили людей за то, что они были сверхреволюционерами, а не за то, что они хотели остановить революцию. Народные идеалы терпели крушение.
Тюрьмы были переполнены санкюлотами и людьми, представлявшими самые низшие слои общества. Среди последних было множество священников, отступившихся от веры.
Народ с чувствами удивления и радости созерцал, как наказывают тех, кто ранее правил им, и эти чувства сами по себе были революцией, незамеченной Робеспьером и Дантоном. Они не знали, как использовать её в своих интересах.
Третья эпоха в истории Конвента представляет собой зрелище, отличное от первых двух. Дантон и Робеспьер без усилий остановили
691
развитие революции и тем самым положили начало периоду власти Парижской коммуны; но после этого их успеха они поссорились между собой.
Дантон, Камиль де Мулэн, Эро де Сешелль и Лакруа хотели пойти дальше и прекратить казни по приговорам революционного трибунала. Дантон и Лакруа разбогатели в результате своей миссии в Бельгии. Камиль де Мулэн, жестокость которого проявилась в том, что в начале революции он присвоил себе звание “Генерального Прокурора Фонарного Столба”26, настолько подпал под влияние своей молодой жены, что его сердце смягчилось. Дантон, Лакруа и Камиль де Мулэн нашли в себе смелость потребовать, чтобы более не выносили смертных приговоров невиновным, чтобы система террора была упразднена и чтобы был учреждён Комитет милосердия.
Билло-Варенн и Колло-д’Эрбуа, которые возглавили Комитет общественного спасения и повели за собой большинство якобинцев, с возмущением и яростью отвергли эти требования; и Робеспьер, поколебавшись, не посмел поддержать Дантона и пожертвовал им. Дантон, Камиль де Мулэн, Эро де Сешелль и другие сложили головы на гильотине, на которую их отправили члены Комитета общественного спасения и разъярённые якобинцы. Народ был охвачен ужасом и впервые не выразил удовлетворения.
Тем не менее то, что Робеспьер не посмел сделать, он мог легко осуществить, если бы поддержал Дантона, и он нашёл в себе мужество сделать это после смерти Дантона. Для того, чтобы положить конец периоду атеизма, он потребовал провозгласить культ Верховного Существа и попытался восстановить нравственность и добродетели, науку и искусство. Билло-Варенн, Колло-д’Эрбуа и Баррер с ужасом взирали на то, что революционное правительство изменилось. Они сформировали коалицию со всеми якобинскими представителями Конвента на местах, которые, выполняя свою миссию, пролили столько человеческой крови, и со всеми многочисленными друзьями Дантона в Конвенте, в том числе с такими, как Талльен, Фрерон, Лежандр. А когда Робеспьер мужественно представил наброски своего плана о ликвидации власти проконсулов и о необходимости придать законности прочную основу, то он, чьи действия скомпрометировали революцию в глазах жителей провинции, был отправлен на плаху.
События 9-го термидора представляли собой триумф Колло-д’Эрбуа и Билло-Варенна, людей более чудовищных и кровавых, чем Робеспьер. Эта победа над якобинцами и Парижской коммуной не могла быть достигнута без призыва всех граждан к содействию; таким образом, для средних слоёв населения смерть Робеспьера
692
означала смерть революционного правительства. Те, кто хотел продолжать систему террора и кто принёс в жертву Робеспьера — точно так же, как тот принёс в жертву Дантона, ибо хотел сделать режим менее жестоким и смягчить революцию, — теперь были вынуждены считаться с общественным мнением, а затем и действовать в соответствии с ним.
В течение последних десяти месяцев Робеспьер часто жаловался, что он становится одиозной фигурой из-за того, что ему приписываются все совершённые в стране кровавые преступления и массовые убийства. Люди, погубившие его, являлись более жестокими и более страшными, чем он сам, но вся страна, которая в течение продолжительного времени обвиняла Робеспьера во всех убийствах, восторженно восклицала, что его смерть была победой над тиранией. Вера в это покончила с самой тиранией».
В этом месте диктовка замечаний об истории Конвента прекратилась. Император присоединился к общему разговору, и так как он никогда не возвращался к этой диктовке, мы не имеем его анализа четвёртого периода в истории Конвента.
Газета «Монитор» и свобода прессы
13 июня 1816 года
Император только что закончил просмотр большого количества номеров газеты «Монитор». «Эта газета, — сказал он, — столь ужасная и опасная для репутации многих людей, для меня всегда полезна. Используя официальные документы, разумные и способные люди будут писать книги по истории; сейчас эти документы пронизаны духом моего правительства, и я считаю, что они заслуживают доверия и самого серьёзного отношения». Император добавил, что он сделал «Монитор» душой и источником жизненной силы своего правительства и что эта газета стала его посредником в общении с народом Франции и других стран. В этом отношении каждое правительство последовало, более или менее, его примеру.
«Каким бы серьёзным ни был проступок, совершённый любым высокопоставленным чиновником, ведавшим внутренними делами страны, — сказал император, — по этому факту немедленно назначалось расследование, проводимое тремя государственными советниками. В своём письменном докладе они представляли мне результаты расследования, подтверждали степень достоверности собранных данных
693
и высказывали своё мнение по существу дела. Мне ничего не оставалось, кроме как в конце представленного доклада наложить резолюцию о “направлении на исполнение в соответствии с законами” (республики или империи). Таким образом, моя роль была исполнена, необходимый для государства результат был достигнут, и общественное мнение могло оценить по достоинству проделанную работу. Оно являлось наиболее грозным и страшным из всех моих трибуналов. Например, за границей интересовались некоторыми политическими проектами или деликатными вопросами дипломатии. Об этом делался косвенный намёк в “Мониторе”. Данные проекты или вопросы немедленно привлекали всеобщее внимание и становились предметами тщательного анализа. Такой метод распространения информации о государственных делах был одновременно и соответствующим сигналом для приверженцев трона и обращением к общественному мнению. “Монитор” порицали за язвительность и резкость его статей, направленных против врага. Но, прежде чем осуждать эти статьи, мы обязаны принять во внимание ту пользу, которую они приносили, ту тревогу, которую они временами вызывали у противника, тот страх, который они нагоняли на тот или иной кабинет министров, то стимулирующее воздействие, которое они оказывали на наших союзников, а также уверенность и отвагу, внушавшиеся нашим войскам».
Затем говорили о свободе прессы, и император поинтересовался нашим мнением на этот счёт. Мы долго и не спеша обсуждали эту проблему и высказали немало банальных идей. Некоторые из нас были настроены против предоставления прессе свободы. «Если дать ей свободу, — заявили они, — то ничто не сможет устоять перед ней. Она в состоянии свергнуть любое правительство, взбудоражить любое общество и очернить репутацию любого человека». — «Опасно именно запрещение свободы прессы, — возражали другие. — Если её ограничить, то она станет миной замедленного действия, но если предоставить ей свободу, то она превратится в лук с ослабленной тетивой, от стрел которого никто не может пострадать».
В связи с последним высказыванием император заявил, что он вовсе не уверен в этом, но данная мысль более не стоит обсуждения: в настоящее время существует множество общественных структур, и их деятельность строится на определённых принципах; в это число входит пресса с её принципом свободы, — она является одним из общественных институтов. Мы более не вправе влиять на деятельность прессы, но обязаны определять возможности ограничения её воздействия на общественное мнение. Император сказал, что запрещение свободы прессы при представительном правительстве является величайшим анахронизмом, очевидной глупостью. Поэтому, когда
694
он вернулся с Эльбы, он предоставил прессе полную свободу и был абсолютно убеждён, что пресса ни в чём не способствовала его падению. Когда на заседании Государственного совета в его присутствии было внесено предложение обсудить меры защиты власти от нападок прессы, он в шутку сделал следующее замечание: «Господа, судя по всему, вы хотите защитить именно себя, ибо что касается меня, то я буду противником подобных мер. Пресса в своих нападках на меня полностью исчерпала себя во время моего отсутствия, и я теперь открыто бросаю ей вызов: пусть она придумает что-нибудь новое и неприятное обо мне».
Война и испанская королевская семья — Фердинанд в Баланса — Ошибки в испанских делах — Письмо Наполеона Мюрату
14 июня 1816 года
Всю ночь и в течение последовавшего дня император был болен. Он принимал ножную ванну и не имел желания выходить из дома; он обедал один в своей комнате и только к вечеру послал за мной.
Император завёл разговор о войне с Испанией. В моих дневниковых записях я уже отмечал, что император всю вину за неудачи в Испании берёт на себя. Я стараюсь, насколько возможно, избежать повторений в описании событий в Испании и поэтому упоминаю только то, что кажется для меня новым.
«В то время, — сказал император, — подданные старого короля Карла IV и королевы Марии Луизы Пармской ненавидели и презирали их. Их сын Фердинанд, принц Астурийский, в результате заговора заставил короля и королеву отречься от престола и сразу же обрёл любовь и надежды Испании. Однако эта страна созрела для больших перемен и настойчиво требовала их осуществления. Я пользовался огромной популярностью в Испании, и в этих политических условиях основные персонажи разыгрываемого спектакля встретились в Байонне: старый король, взывавший ко мне с мольбой о мщении своему сыну, и молодой принц, просивший защиты от собственного отца и умолявший меня, чтобы я лично подыскал ему жену. Я принял решение использовать этот благоприятный случай к своей выгоде, имея в виду избавиться от этой ветви Бурбонов, продолжить семейную систему Людовика XIV в моей собственной династии и связать судьбы Испании и Франции. Фердинанд был отправлен в Валансэ, старый король, как он и хотел, в Марсель, а мой брат Жозеф поехал
695
в Мадрид, чтобы править страной на основе либеральной конституции, одобренной хунтой испанского королевства, приехавшей в Байонну за этой конституцией.
Как мне кажется, — продолжал император, — Европа и даже Франция никогда не имели ясного представления о положении Фердинанда в Валансэ. В мире сложилось странное и неправильное представление о характере обращения с Фердинандом в Валансэ и, тем более, о его пожеланиях и личном мнении о его тогдашнем положении. На самом деле его практически не охраняли в Валансэ, и он сам не хотел совершать побег из этого замка. Если бы и замышлялись какие-нибудь заговоры с целью организовать его побег, то он бы первым сообщил о них. Один ирландец (барон де Колли) добился личной встречи с Фердинандом и от имени Георга III предложил вывезти его из Валансэ; но Фердинанд не только не согласился с этим предложением, но, напротив, поспешил сообщить об этом соответствующим властям.
Он постоянно обращался ко мне с просьбой выбрать для него жену. По собственной инициативе он направлял мне поздравительные письма по случаю каждого радостного для меня события. Он посылал воззвания к испанцам, рекомендуя им проявлять покорность; он признал королевскую власть Жозефа. Такие действия можно было бы считать навязанными ему силой, но это не так. Он обращался к Жозефу с просьбой наградить его высшим орденом Испании, который сам же и учредил; он предлагал мне услуги своего брата Дона Карлоса, чтобы тот возглавил испанские полки для похода в составе моих войск в Россию, — поступок, к которому его никак не могли принудить. И, наконец, он самым серьёзным образом просил разрешения посетить мой императорский двор в Париже, и если я и не устроил подобного спектакля, который привёл бы в изумление Европу и стал бы свидетельством укрепления моей власти, то только потому, что важные события требовали моего присутствия за границей, а не в Париже, что лишило меня соответствующей возможности».
Как-то на одном из утренних приёмов императора я оказался радом с камергером, графом д’Арбергом, которому было поручено находиться в Валансэ при особах испанских принцев. Подойдя к нам, император спросил, ведут ли себя испанские принцы пристойно, и добавил: «Вы привезли мне из Валансэ весьма приятное письмо, но только между нами — признайтесь, что это вы за них написали это письмо». Д’Арберг заверил императора, что ему совершенно неизвестно содержание письма. «Ну и ну, — сказал император, — даже сын не мог бы написать своему отцу более сердечного письма».
696
«Когда наше положение в Испании оказалось опасным, — заметил император, — я неоднократно предлагал Фердинанду вернуться в Испанию и править своим народом; я говорил, что мы должны открыто вести войну друг против друга, что наше противостояние должно быть решено силой оружия. “Нет, — отвечал принц, которому, видимо, давали неплохие советы и который никогда от них не отказывался. — Моя страна находится в состоянии сильнейших политических волнений, я лишь принесу ей ещё большие неприятности. Я останусь во Франции; но если вы выберете для меня жену, если вы дадите согласие покровительствовать мне и поддерживать меня своим оружием, то я отправлюсь в Испанию и докажу, что я ваш верный союзник”.
Позднее, в период наших катастроф и к концу 1813 года, я согласился с этим предложением, и вопрос женитьбы Фердинанда на старшей дочери Жозефа был решён; но обстоятельства к тому времени изменились, и Фердинанд захотел отложить эту свадьбу. “Вы более не можете, — заявил он, — поддерживать меня силой своего оружия, а моя жена станет причиной моего изгнания народом”. Судя по всему, он покинул меня с самыми добрыми намерениями и придерживался принципов, о которых открыто заявил во время своего отъезда, пока не наступили события Фонтенбло».
Прими события 1814 года иной характер, сказал император, Фердинанд, вне всяких сомнений, женился бы на дочери Жозефа.
Обращаясь вновь к событиям в Испании, император сказал, что неразумность его политики ясно доказана её результатами, и он обязан порицать самого себя за серьёзные ошибки при осуществлении своих планов. Одна из крупнейших его ошибок заключалась
697
в том, что он считал низвержение династии Бурбонов делом наибольшей важности и посадил на испанский престол человека, личные данные и характер которого стали явными причинами провала его планов.
Во время встречи в Байонне бывший наставник Фердинанда и его главный советник Эскоикис, сразу же поняв суть обширных планов, задуманных императором, и защищая интересы своего хозяина, сказал Наполеону: «Вы хотите повторить подвиги Геркулеса, но на самом деле в ваших руках всего лишь детская игрушка. Вы хотите отделаться от испанских Бурбонов, но почему вы должны опасаться их? Они прекратили своё существование, они более не являются французами. Вам нечего опасаться их, они совершенно чужды вашей нации и вашим нравам». К сожалению, император принял совершенно другое решение.
Я взял на себя смелость сообщить императору, что, как меня заверяли некоторые испанцы, если бы было проявлено уважение к их национальной гордости, испанская хунта была бы созвана в Мадриде, а не в Байонне, и что если бы при этом Карла IV прогнали, а Фердинанда оставили, то революция стала бы народной, и дела приняли бы совершенно иной оборот. Император не сомневался в этом и согласился, что весь замысел был осуществлён крайне безрассудно и что многие дела можно было сделать гораздо лучше.
«Карл IV, — сказал он, — был, однако, слишком старомодным для испанцев, он утратил всю свою энергию. Да и Фердинанда следовало рассматривать как малопригодного для управления страной человека. Самым достойным планом, который лучше всего отвечал моим замыслам, был план посредничества. Я мог взять на себя роль посредника, подобно тому, как я вёл себя в отношении Швейцарии. Я должен был дать испанскому народу либеральную конституцию и обязать Фердинанда её исполнять. Если бы он действовал честно, то Испания процветала бы и соответствовала нашим новым порядкам. Был бы осуществлён великий замысел, Франция получила бы верного союзника и, несомненно, упрочила бы своё могущество. Если бы, напротив, Фердинанд оказался ненадёжным человеком, неспособным выполнять свои обязанности, то испанцы сами отвергли бы его и обратились бы ко мне с просьбой назначить на его место нового правителя.
Во всяком случае, — заключил император, — эта неудачная война в Испании стала для нас настоящим несчастьем и первой причиной последовавших бедствий Франции. После моей встречи с Александром в Эрфурте Англия была бы вынуждена согласиться подписать мирный договор, принимая во внимание фактор силы и поступая в соответствии со здравым смыслом. Она потеряла уважение всего континента; её нападение на Копенгаген вызвало возмущение во
698
всём мире, тогда как все мои деяния неуклонно повышали мой авторитет. Но катастрофические последствия испанской войны привели к внезапному ухудшению общего мнения обо мне и восстановили общественное уважение к Англии. С этого момента она оказалась в состоянии продолжать войну; для неё были открыты все порты Южной Америки для выгодной торговли; она позволила себе высадить армию на Пиренейском полуострове и затем стала с успехом замышлять заговоры по всей Европе. Всё это привело к моей гибели.
В результате на меня тогда со всех сторон посыпалась масса обвинений, для которых, однако, не было никаких оснований. История будет ко мне справедливой. В связи с испанскими делами меня обвиняли в вероломстве, в устройстве западни, в предательстве, но во всём этом я был совершенно невиновен. Что бы ни говорили против меня, я никогда не нарушал договорённостей и обещаний в отношении Испании или любой другой страны.
Весь мир однажды убедится, что ко всем делам, связанным с Испанией, включая семейные интриги испанского королевского двора, я не имел никакого отношения. Я не нарушал ни обещаний, данных мною Карлу IV и Фердинанду VII, ни обязательств. Я не прибегал к обману, чтобы заманить того и другого в Байонну, хотя каждый из них прилагал все усилия, чтобы оказаться там первым. Когда я увидел их у своих ног и смог составить правильное мнение об их полнейшей несостоятельности, то я с чувством сострадания подумал об участи великого испанского народа; я со всей страстью воспользовался исключительной возможностью, предоставленной мне судьбой, чтобы возродить Испанию, избавить её от ига Англии и, в конечном счёте, объединить её и Францию в рамках нашей политической системы. В соответствии с моей концепцией, тем самым закладывался фундамент спокойствия и безопасности Европы. Но я был далёк от того, чтобы для достижения этой цели прибегать, как об этом сообщалось, к подлым и жалким хитростям. Напротив, если я и совершал ошибки, то они были следствием смелой прямоты и чрезмерной активности. Байонна не была сценой преднамеренной засады, но продуманным и ловким политическим ходом. Я мог бы уберечься от этих обвинений, прибегнув к небольшому лицемерию или сделав Годоя жертвой народного гнева. Но мне показалась ужасной мысль о получении политической выгоды ценой крови. Кроме того, следует признать, что Мюрат нанёс мне большой вред во всём этом деле с Испанией.
Как бы то ни было, я посчитал ниже своего достоинства прибегать к бесчестным и банальным уловкам, — я считал себя таким могущественным! Я не считал нужным наносить удар, занимая столь высокое положение. Я хотел быть инструментом Провидения, которое
699
исправляет жалких представителей рода человеческого, порой используя жестокие средства, непостижимые для человеческого понимания.
Однако я откровенно признаю, что я занимался испанским делом весьма необдуманно; его аморальность должна была проявиться слишком явно, его несправедливость так и бросалась в глаза, и всё это дело, взятое целиком, представляло собой отвратительное зрелище, особенно в связи с тем, что я потерпел в нём неудачу. Безобразие этого дела видится во всей его отвратительной наготе, и никто теперь не вспомнит о величественности идеи и всех тех политических выгодах, которые я намерен был обеспечить для испанского народа. Однако последующие поколения превозносили бы его до небес, добейся я успеха. Это судьба, и именно так о нас судит весь мир! Но ещё раз заявляю, что ни в коем случае я не поступал нечестно, не было никакого вероломства и обмана, и более того — никакого основания для них».
Здесь император возобновил повествование о событиях, связанных с Испанией, назвав их причины и повторив многое из того, что уже обсуждалось им ранее.
«Королевский двор и правящая семья, — сказал император, — раскололись на две противостоящие группировки. В первую входил сам король Карл ГУ, всецело находившийся под влиянием своего фаворита дона Годоя, главы испанского правительства, который именно себя считал настоящим королём. Вторая группировка, в которую входил наследник трона, возглавлялась его наставником Эс- коикисом, который стремился подчинить себе правительство. Обе эти группировки в равной степени домогались моей поддержки, не скупясь на самые щедрые обещания. Я был полон решимости извлечь наибольшую пользу из сложившейся в испанском королевском дворе ситуации.
Фаворит короля, для того чтобы продолжать возглавлять правительство и защитить себя от мести сына короля в случае смерти Карла ГУ, предложил мне от имени Карла ГУ сообща осуществить завоевание Португалии, зарезервировав за собой, в качестве своего прибежища, правление португальской провинцией Алгарви.
Принц Астурийский, со своей стороны, направил мне, без ведома своего отца, личное письмо с просьбой выбрать для него жену и оказать ему покровительство.
Я заключил соглашение с первым и не ответил на письмо второго. Мои войска уже вступили на территорию Пиренейского полуострова, когда наследник престола воспользовался беспорядками в стране, чтобы заставить отца отречься от трона и занять его место. Очень глупо приписывать мне участие во всех этих дворцовых интригах королевского двора Испании. Я был настолько далёк от того, чтобы знать о них, что последнее событие расстроило все мои совместные
700
с Карлом ГУ планы, в соответствии с которыми мои войска уже находились в самом центре Испании. С этого времени обе группировки прекрасно поняли, что я могу и должен стать их арбитром. Свергнутый монарх и его сын обратились ко мне за помощью. Первый — чтобы отомстить сыну, а второй — чтобы я признал его законным королём. Они оба поспешили ко мне, чтобы я встал на защиту их интересов; к этому их подстрекали советники, то есть те самые люди, которые пользовались абсолютной властью над ними, а теперь видели возможность спасения своих жизней лишь в том, чтобы броситься к моим ногам.
Дон Годой, чудом избежавший гибели от рук восставших испанцев, без труда убедил Карла IV и королеву поспешить во Францию, поскольку им угрожала опасность стать жертвами разъярённой толпы.
Со своей стороны, Эскоикис, наставник Фердинанда и действительный виновник всех бедствий Испании, встревоженный протестом Карла IV против насильственного отречения от трона и страшась перспективы виселицы, которая была реальной в том случае, если его ученик не восторжествовал бы, прилагал все усилия, чтобы не лишиться контроля над молодым королём. Этот каноник, который, помимо всего прочего, был очень высокого мнения о своих способностях, не терял надежды на то, что своими доводами он повлияет на мои решения и побудит меня признать Фердинанда в качестве испанского короля. Он предложил назначить его главой испанского правительства, которым он руководил бы, полностью находясь под моим контролем, так же эффективно, как правил дон Годой от имени Карла IV. И следует признать, — заявил император, — что если бы я прислушался к его доводам и принял некоторые его предложения, то от этого я только бы выиграл.
Когда все они собрались в Байонне, я стал действовать в полном соответствии с моей политической системой, и следует добавить, что до того момента я никогда не проявлял высокомерия в политике. Я не стал раздумывать над различными планами, а всего лишь воспользовался сложившимися обстоятельствами и разрубил гордиев узел. Я предложил Карлу IV и королеве передать мне корону Испании, а самим спокойно жить во Франции. Могу сказать, что они согласились с моим предложением почти с радостью, настолько сильно они были озлоблены против собственного сына и настолько искренне они и их фаворит хотели наслаждаться спокойствием и безопасностью. Принц Астурийский не оказал большого сопротивления предложенному плану; к слову сказать, он не подвергался жестокому обращению, и в его адрес не раздавались угрозы. Если он и был подвержен чувству страха, чему я охотно верю, то причина этого была в нём самом.
701
Вот вам в нескольких словах полный исторический обзор испанских событий; что бы там ни говорили и что бы ни писали о них, всё сводится к этим пунктам. И вы видите, что у меня не было никаких причин прибегать к жалким трюкам, действовать вероломно, нечестно и нарушать обязательства. Для того, чтобы меня обвинить, необходимо доказать мою склонность к деградации, но пока я не давал повода считать, что предрасположен к ней.
Что же касается остальных участников этих событий, то, как только стало известно о моём решении, пагубную роль сыграла толпа интриганов, которыми кишит каждый монарший двор, включая тех, кто более всего способствовал несчастьям собственной страны, но при этом старался добиться расположения Жозефа, — так же, как раньше они стремились добиться того же у Карла IV и Фердинанда VII. Они с исключительным усердием наблюдали за развитием событий и меняли свои привязанности по мере увеличения трудностей и приближения наших катастроф. Наиболее успешно следовали этому плану как раз те люди, которые в тот момент управляли Фердинандом. И что действительно ужасно, так это то, что, пытаясь лучше обеспечить своё влияние, они без колебаний приписывали всё самое ужасное и преступное в прошлых бедствиях той массе простаков, которых они осуждали и изгоняли, — людей по своей природе благожелательных, которые решительно осуждали поездку Фердинанда в Байонну. Из этих последних несколько человек, выступавших против поездки Фердинанда, потом дали клятву верности Жозефу, который тогда, казалось, олицетворял собой счастье и спокойствие их страны, и продолжали оставаться верными ему, пока не случилась катастрофа, прогнавшая его с испанского трона.
Трудно представить большую массу бесстыдства и низости, чем та, которую несли эти интриганы, главные исполнители грандиозного спектакля, послужившего оправданием деградации. Той подлой деградации, которая унизила Францию в глазах Европы. Очевидно, что эти поступки совершали не одни французы. Интригующих, амбициозных, ненасытных людей можно встретить повсюду, и повсюду они одинаковы. Виновными бывают только отдельные личности, нации не могут нести ответственность. Они оказываются в неблагоприятном положении, если вынуждены становиться свидетелями подобных преступлений. Несчастна страна, которая становится их сценой!»
В настоящее время события в Испании хорошо известны благодаря мемуарам их главных участников — каноника Эскоикиса, министра Цеваллоса и другим воспоминаниям — прежде всего, работам достойного и уважаемого господина Лоренте, который, под анаграмматическим псевдонимом Неллерто, опубликовал мемуары, относившиеся к тому времени и подтверждённые официальными документами. Противоположные утверждения первых двух мемуаристов, их
702
совместные споры, заявления и возражения их современников придали произведениям этих авторов действительную ценность благодаря тому, что они были очищены от всего ошибочного, ложного и сфабрикованного. В результате, по мнению любого беспристрастного судьи, эти авторы подтверждают, пусть даже непроизвольно, оправдательные аргументы, представленные Наполеоном. Не только потому, что они по-разному оценивают события, что неизбежно вследствие различия партийных интересов, но и потому, что никто из них фактически не обвиняет Наполеона и не предъявляет каких- либо официальных документов, с помощью которых это обвинение может быть доказано, ибо все существующие документы свидетельствуют об обратном.
Англия была совершенно незнакома с подлинной историей тех событий, по крайней мере с их действительными причинами. Этот факт абсолютно не принимался во внимание Наполеоном, который в то время обвинял англичан, считая их главными интриганами. Он не отказывался от своих обвинений в их адрес и на острове Святой Елены, — настолько он привык к тому, чтобы находить их в центре любого заговора против него.
Что касается испанского дела, то я обязан обратить внимание читателей на письмо императора, которое проливает больше света на описываемые события, чем целые тома. Письмо это просто превосходно, и последовавшие события вполне доказывают, что оно является шедевром. Оно демонстрирует быстроту мышления и проницательность, присущие Наполеону, когда он составлял мнение о людях и событиях.
К сожалению, оно также показывает, какой огромный вред самым прекрасным и величественным идеям наносила плохая исполнительность подчинённых Наполеона, и с этой точки зрения письмо остаётся поистине драгоценным историческим документом. Дата письма делает его пророческим.
«29 марта 1808 года
Господин великий герцог Бергский!
Я опасаюсь, как бы вы не начали обманывать меня в отношении сложившегося положения в Испании и как бы вы не обманули самого себя. Ситуация сильно осложнилась в результате дела 20 марта. Не скрою, что эти события меня весьма озадачили.
Не считайте, что ваша задача сводится к тому, чтобы атаковать безоружную страну, и что вы можете парадным маршем своих войск добиться покорения Испании. Революция 20 марта доказывает, что испанцы обладают силой. Вам предстоит сражаться с народом, который ощутил себя по-новому. Он полон мужества и проявит
703
энтузиазм, свойственный мужчинам, не изнурённым политическими страстями.
Испанией правят аристократия и духовенство. Если их привилегии и существование окажутся под угрозой, то они выведут на поле сражения против нас вооружённый народ, что может затянуть войну до бесконечности. У меня есть сторонники, но если я стану завоевателем, то они покинут меня.
Дона Годоя ненавидят, так как его обвиняют в том, что он изменил Испании в пользу Франции. Это стало поводом для народного недовольства, которое помогло Фердинанду узурпировать власть. В политическом плане народ представляет собой неустойчивую массу.
Принц Астурийский не обладает ни одним из качеств, необходимых для того, чтобы стать во главе страны, но это не помешает относиться к нему как к герою, чтобы он мог противостоять нам. Я не намерен применять насилие по отношению к членам этой королевской семьи. Оно может вызвать только ненависть и разжечь вражду. Испания имеет сто тысяч солдат под ружьём, этого более чем достаточно для того, чтобы успешно вести войну на своей территории. Места расположения воинских частей в разных районах страны могут служить сборными пунктами для всеобщего выступления в защиту своей монархии.
Я описываю вам те препятствия, которые неизбежно возникнут. Но есть ещё и другие, о которых вы также должны знать. Англия не позволит себе упустить благоприятную возможность для того, чтобы умножить наши неприятности. Она ежедневно посылает пакетботы своим войскам, которые закрепились на берегах Португалии и Средиземного моря, и она вербует на свою службу сицилийцев и португальцев.
Поскольку королевская семья не покидает Испании, чтобы обосноваться в своих американских колониях, то положение страны может быть изменено только революцией. Из всех стран Европы Испания, вероятно, менее всех готова к революции. Тех, кто сознаёт чудовищные недостатки испанского правительства и видит, что анархия заменила законную власть, можно пересчитать по пальцам. Намного больше тех, кто использует недостатки правительства и анархию для собственной выгоды.
В соответствии с интересами моей империи я могу сделать много хорошего для Испании. Какие средства подходят для этого лучше всего?
Следует ли мне отправиться в Мадрид? Приму ли я на себя обязанности главного покровителя королевской семьи и роль посредника в урегулировании конфликта между отцом и сыном? Мне представляется, что наша поддержка Карла IV в его усилиях, направленных на то, чтобы удержаться на троне, окажется трудным
704
ЙЕНА
делом. Его правительство и его фаворит настолько непопулярны, что они не смогут продержаться и трёх месяцев.
Фердинанд является врагом Франции, и за это надо благодарить короля. Его восшествие на трон было бы выгодно для тех политических фракций, которые на протяжении двадцати пяти лет страстно желали гибели Франции. Альянс двух государств, основанный на семейных узах, был бы жалким союзом. Королева Елизавета и другие французские принцессы погибли ужасным образом, когда их безнаказанно принесли в жертву жестокому духу мщения. Я придерживаюсь того мнения, что нет никакого смысла торопиться и что нам следует принимать меры в зависимости от хода последующих событий. Необходимо усилить армейские корпуса, которым предстоит занять позиции на границах с Португалией, и выжидать.
Я не одобряю поведения вашего высочества в связи с тем, что вы так поспешно взяли на себя роль хозяина Мадрида. Армию следует держать на расстоянии десяти лье от столицы. У вас не было уверенности в том, что народ и городская управа готовы признать Фердинанда без борьбы. Дон Годой, конечно, должен иметь сторонников среди тех, кто занят на государственной службе. Существует также врождённая привязанность населения к старому королю, которая может привести к неприятным последствиям. Ваше вступление в Мадрид во главе армии встревожило испанцев и оказало мощную поддержку Фердинанду. Я приказал Савари посетить нового короля и выяснить, что происходит. Он обсудит все дела с вашим высочеством. После этого я решу, какие меры необходимо принять в дальнейшем. Тем временем, как я полагаю, вам надлежит придерживаться линии поведения, описанной ниже.
Вы не будете давать Фердинанду торжественного обещания о моей встрече с ним в Испании до тех пор, пока не поймёте, что положение вещей складывается таким образом, что мне следует признать его королём Испании. Вы будете уделять внимание и проявлять уважение к королю, королеве и князю Годою. Вы будете оказывать им такие же почести, как и раньше. Вы должны вести все дела так, чтобы не давать испанцам ни малейшего повода для каких-либо подозрений в отношении той линии поведения, которой я буду придерживаться. Вам не трудно будет делать это, поскольку я сам не знаю, как буду вести себя в отношении Испании.
Вы должны дать понять аристократии и духовенству Испании, что если вмешательство Франции в дела Испании станет необходимым, то их привилегии будут сохранены, а их неприкосновенность будет соблюдаться. Вы должны заверить их, что император желает улучшения деятельности политических институтов Испании, для того чтобы она встала в один ряд с цивилизованными странами Европы и отказалась от методов управления, основанных на фаворитизме.
705
Вы должны сказать городским властям, жителям городов и просвещённым людям, принадлежащим к высшим слоям общества, что государственная машина нуждается в реорганизации, что Испании необходима система законов, обеспечивающая защиту народа от тирании и феодалов-узурпаторов и направленная на создание учреждений, которые могут возродить промышленность, сельское хозяйство и изящные искусства. Вы должны описать им состояние спокойствия и непринуждённости, в котором пребывает Франция, несмотря на войны, в которые её постоянно вовлекают, и то высокое положение, которое занимает религия в нашей стране. Объясните, что этим положением она обязана Конкордату, подписанному мною с папой римским. Вы должны показать им те преимущества, которые им даст политическое возрождение: порядок и мир в стране, уважение и влияние за границей. Таким духом должны быть пропитаны ваши беседы и ваши письма. Не торопитесь, — это рискованно. Я могу подождать в Байонне, я могу пересечь Пиренейский полуостров и, усилившись за счёт наших войск в Испании, двинуться в направлении Португалии и вести войну в том районе.
О ваших специфических проблемах я позабочусь, не забивайте ими голову. Португалия будет моей. Не принимайтесь за решение сложной задачи, которая может оказать влияние на ваше поведение. Это нанесло бы мне вред и стало бы ещё более болезненным для вас.
Ваши распоряжения от 14-го числа слишком опрометчивы; марш, который предпринял по вашему приказу генерал Дюпон, слишком поспешен, принимая во внимание событие 19 марта. Ваши распоряжения должны быть изменены, составьте новые планы. Вы получите соответствующие инструкции от моего министра иностранных дел.
Я выступаю за установление строжайшей дисциплины; малейшие её нарушения не должны оставаться безнаказанными. Отношение к местным жителям должно быть предельно внимательным. В первую очередь следует проявлять особое уважение к церквям и монастырям.
Необходимо избегать возникновения каких-либо коллизий между нашей армией и частями испанской армии. Нельзя допускать ни единого эксцесса в отношениях между двумя сторонами.
Пусть Солано совершит марш-бросок за Бадахос, но не упускайте из виду передвижения его войск. Лично контролируйте марши армии: необходимо, чтобы они совершались на расстоянии нескольких лье от испанских корпусов. Если произойдёт военное столкновение между двумя сторонами, то всё будет потеряно.
Судьба Испании может быть устроена только посредством сближения политических взглядов и при помощи переговоров. Я приказываю вам избегать любых объяснений с Солано, а также с другими испанскими генералами и губернаторами. Ежедневно направляйте
706
мне двух курьеров с почтой. В случае возникновения событий особой важности посылайте ко мне связного офицера. Немедленно отправляйте обратно камергера де Т., подателя этого письма, и вместе с ним направьте мне подробный доклад.
Молю Бога, господин великий герцог Бергский, и т.д.
Наполеон».
15 июня 1816 года
Погода была превосходная. Мы совершили прогулку в карете и во время поездки обратили внимание на большой корабль, который маневрировал несколько необычным образом, находясь довольно близко от берега. По его внешнему виду мы приняли его за «Ньюкасл», который, как ожидалось, должен был в ближайшее время сменить «Нортумберленд», но он оказался всего лишь одним из кораблей Восточно-Индийской компании.
В течение дня император затрагивал различные темы и подробно говорил о нескольких лицах, которые, как он заявил, по своей воле поехали бы вместе с ним на остров Святой Елены; он назвал причины, которые могли повлиять на решение английских властей (отказ этим лицам в возможности отправиться на остров). Потом он стал обсуждать мотивы, побудившие лиц, присутствовавших в тот момент, сопровождать его в ссылку. «Бертран, — заявил он, — отныне разделяет мою судьбу, это исторический факт. Гурго был моим первым связным офицером, это я сделал его, он — моё дитя. Монтолон — сын Семонвиля, шурин генерала Жубера, дитя революции и военных лагерей. Но вы, мой дорогой друг, — обратился он к четвёртому из присутствовавших при разговоре, — вы... — И после минутного раздумья спросил: — Вы, мой дорогой друг, объясните нам, в силу каких чрезвычайных обстоятельств оказались здесь вы?» Ответ был таков: «Сир, в силу влияния моих счастливых звёзд и в силу вашего благородного отношения к эмигрантам».
Вещи, присланные из Англии — Встречи в Тильзите — Королева и король Пруссии — Император Александр —
Разные истории
16 июня 1816 года
Погода была восхитительная; около десяти часов утра в мою комнату вошёл император. Я в этот момент одевался и одновременно диктовал сыну мой дневник. На несколько минут император задержал на нём взгляд, но ничего не сказал. Затем он стал рассматривать рисунки и чертежи. Это были наброски и схемы, сделанные моим сыном и описывающие некоторые сражения в Италии. Мы собирались сделать императору приятный сюрприз и хранили их в тайне.
Я последовал за императором в сад. Мы довольно подробно поговорили о некоторых вещах, только что присланных нам из Англии в качестве подарков и представляющих собой главным образом предметы мебели. Император не сомневался в недоброжелательности тех, кому поручили переправлять нам эти предметы: даже высылая нам вещи, которые были бы для нас приятны, эти люди находили возможность испортить нам настроение. Поэтому император принял решение не пользоваться этими вещами и отказался принять два охотничьих ружья, которые предназначались для него.
Император завтракал на открытом воздухе в саду и пригласил всех нас за свой стол. Во время завтрака разговор зашёл об одежде и о модах. Император рассказал, что однажды решил запретить
708
использование бумажной ткани во Франции, чтобы поощрить производство льняного батиста в наших городах во Фландрии. Императрица Жозефина пришла в ужас от этого решения, и император отказался от него.
Император пребывал в хорошем настроении и охотно поддерживал беседу. Погода продолжала оставаться тёплой и довольно приятной. Он вышел прогуляться по дорожке, которая была проложена перпендикулярно фасаду дома. Разговор коснулся знаменитых событий Тильзита. Ниже следуют связанные с ними интересные подробности.
Император высказал мысль, что если бы королева Пруссии приехала к началу переговоров, то она могла бы оказать значительное влияние на их исход. К счастью, она прибыла, когда переговоры настолько продвинулись, что император принял решение завершить их в течение двадцати четырёх часов. Как полагали, король Пруссии намеренно помешал королеве приехать раньше из-за возникшего у него чувства ревности к главному участнику переговоров, которое, как заявил император, «не было лишено некоторых оснований».
Как только королева Пруссии прибыла, император сразу же нанёс ей визит. «Королева Пруссии, — сказал император, — была очень красивой женщиной, но она уже начала терять обаяние молодости».
Император рассказал, что королева приняла его так, словно она копировала исполнение актрисой Дюшенуа трагедийной роли Химе- ны. Королева предстала перед ним в величественной позе, откинувшись слегка назад, громко призывала к справедливости и требовала её. Одним словом, это была вполне театральная сцена, а представление
было истинно трагедийным. Император ни на миг не мог прервать её монолог и решил, что единственная возможность для него выйти из затруднительного положения — придать всей сцене комедийный оттенок, что он и попытался сделать, предложив королеве кресло. Соблюдая вежливость, он заставил её сесть в него. Но она продолжала свой монолог самым патетическим тоном. «Пруссия, — восклицала она, — была слепа в отношении своей силы: она посмела состязаться с героем, противопоставив себя судьбам Франции, она пренебрегла его благосклонной дружбой и заслуженно наказана за это. Слава великого Фридриха, память о нём и его наследие — вот источники прусской гордыни, ставшей причиной гибели Пруссии!»
Королева взывала, просила, умоляла. В частности, она сосредоточила внимание на Магдебурге, он был предметом её желаний. Император держался как мог. К счастью для него, появился муж королевы. Она весьма выразительным взглядом выказала явное раздражение несвоевременным вторжением супруга. И действительно, король, попытавшись принять участие в беседе, испортил всё дело. «И я, — заявил император, — был отпущен на свободу».
Император устроил званый обед, на котором уделил особое внимание королеве Пруссии. Она призвала на помощь весь свой ум и всё своё обаяние, чтобы произвести на императора наилучшее впечатление, и старалась как могла: её манеры были на редкость обворожительными, а её кокетству не было предела, она была очаровательна. «Но я был полон решимости не поддаваться соблазну. Я старался во всём себя контролировать, не оказаться связанным какими-нибудь обязательствами и не высказать чего-то лишнего, — ведь за нами внимательно наблюдали, и особенно император Александр». Перед тем, как сесть за обеденный стол, Наполеон вынул из цветочной вазы красивую розу и преподнёс её королеве Луизе. Сначала она движением руки выразила желание отказаться от подарка, но затем, словно внезапно опомнившись, сказала: «Да, благодарю, но только при условии, что вместе с ней вы дарите Магдебург». Император ответил ей: «Но я должен заметить Вашему Величеству, что я как раз тот, кто вручает подарки, а вы — та, кому суждено принимать их». Весь званый обед прошёл под знаком этой словесной дуэли.
Королева сидела за обеденным столом между двумя императорами, которые соперничали друг с другом в искусстве галантности. Кресло Александра стояло рядом с креслом королевы, но его ухо, которым он почти не слышал, было с той же стороны, что и она. Александр почти не понимал содержание беседы королевы с Наполеоном. Наступил вечер, и королева удалилась. Тогда император, уделивший максимум внимания своим гостям, но при этом озабоченный
710
до крайности, как это часто бывало с ним, текущими делами, принял решение не откладывать в долгий ящик завершение переговоров. Он вызвал к себе Талейрана и князя Куракина, стал говорить с ними суровым тоном и, как он сказал, «позволив себе несколько резких выражений», заявил, что, в конце концов, женщина и проявленная к ней галантность не должны стать причинами изменения системы, определяющей политическую судьбу великого народа, и что он настаивает на немедленном завершении переговоров и подписании договора. Это и было сделано в соответствии с его указаниями. «Таким образом, — сказал император, — беседа с королевой Пруссии ускорила подписание договора на одну или две недели».
Королева готовилась следующим утром возобновить штурм ослабленных, как ей казалось, позиций Наполеона и крайне возмутилась, когда узнала, что договор уже подписан. Она долго рыдала и приняла твёрдое решение никогда больше не видеть императора Наполеона. Королева не приняла приглашения на его второй званый обед. Император Александр был вынужден лично уговаривать её всё же принять это приглашение. Она горько жаловалась на Наполеона и утверждала, что он нарушил данное ей слово. Но Александр присутствовал при их разговоре. Более того, он был опасным свидетелем, готовым подтвердить слова Наполеона. «Он ничего вам не обещал, — уверенно заявил Александр королеве. — Если вы можете Доказать обратное, то я даю вам моё слово, что в разговоре с ним,
как мужчина с мужчиной, я заставлю его сдержать данное им обещание, и я уверен, что он выполнит его». — «Но он дал мне понять...» — пыталась объяснить королева. «Нет, — возразил Александр. — У вас нет никаких причин в чём-либо упрекать его».
В конце концов она всё же пришла на званый обед. Император, более не видевший причин быть настороже с королевой Луизой, удвоил своё внимание к ней. Несколько минут она играла роль оскорблённой кокетки, затем, когда обед закончился и она собиралась удалиться, Наполеон предложил ей руку и провёл её до середины парадной лестницы. Там он остановился. Она сжала его руку
и голосом, в котором явно звучала нежность, сказала: «Надеюсь, что после того, как я имела честь находиться так близко к герою века и истории, он не лишит меня удовольствия заверить его, что он расположил меня к себе на всю мою жизнь?» — «Я достоин сожаления, мадам, — ответил император серьёзным тоном, — во всём виновата моя несчастливая звезда». После этих слов он покинул неё. Когда она дошла до своей кареты, то в слезах бросилась внутрь её. Она послала за Дюроком, к которому относилась с большим уважением, и, вновь изложив ему свои жалобы, заявила, указывая на дворец: «Вот место, где меня жестоко обманули!»
«Королева Пруссии, — сказал император, — была, бесспорно, очень одарённой женщиной. Она знала много и была очень начитанной.
Она обладала многими замечательными качествами. По существу, именно она правила страной в течение более пятнадцати лет. Именно она, несмотря на моё искусство ведения переговоров и все мои усилия, держала нить беседы в своих руках и при этом доминировала. Возможно, она слишком часто затрагивала свои любимые темы, однако делала это в доверительной и совершенно непринуждённой манере. Следует признать, что во время переговоров она решала важные задачи, но времени для этого у неё было слишком мало, а те минуты, которыми она располагала, были буквально на вес золота.
Один из представителей высоких договаривавшихся сторон, — продолжал император, — часто убеждал её в том, что ей следовало приехать к самому началу переговоров или вообще не приезжать. Он утверждал, что делал всё, что было в его силах, чтобы уговорить её участвовать в переговорах с самого начала. Можно предположить, что этот представитель был лично заинтересован в её скором приезде. Но, с другой стороны, у мужа королевы были личные причины воспрепятствовать этому». Наполеон считал короля Пруссии очень добрым человеком и искренним партнёром в деловых переговорах.
«Он попросил меня, — сказал император, — принять его в тот же день, чтобы попрощаться со мной, но я отложил встречу с ним на двадцать четыре часа из-за тайной настойчивой просьбы императора Александра. Король Пруссии никогда не простил мне переноса времени этой аудиенции. Дело казалось ему настолько естественным, что Его Королевское Величество оскорбилось моим отказом.
Он также не мог простить мне нарушения нейтралитета подвластной ему территории округа Аншпаг, когда во время аустерлицкой кампании мои войска вторглись туда. В ходе наших последовавших бесед, какими бы важными ни были предметы дискуссии, перед началом обсуждения он всё время старался доказать, что я нарушил нейтралитет территории округа Аншпаг. Он не был прав, но он был твёрд в своём убеждении, и его чувство обиды было чувством честного человека. Его жену, однако, раздражало его упрямство в этом вопросе, и она требовала, чтобы он занимался более серьёзными политическими проблемами».
Наполеон упрекал себя в том, что допустил серьёзную ошибку, позволив королю Пруссии присутствовать в Тильзите во время проходивших там переговоров. Он сначала решил воспрепятствовать приезду короля Пруссии в Тильзит. В этом случае было бы меньше причин для того, чтобы проявлять внимание к политическим интересам короля. Император мог бы удерживать Силезию, а также расширить территорию Саксонии за счёт Силезии и, возможно, тем
713
самым повлиять на собственную судьбу. Далее он заявил: «Я знаю, что нынешние политики считают мой договор в Тильзите большой ошибкой. Они думают, что этим договором я отдал Европу во власть русских. Но если бы я добился военного успеха в Москве — а теперь известно, что я был очень близок к этому, — то, несомненно, они были бы довольны тем, что русские оказались бы во власти Европы (благодаря этому договору). У меня были большие планы в отношении немцев. Но я проиграл, и поэтому я неправ. Это соответствует всем правилам справедливости».
Почти каждый день в Тильзите два императора и прусский король отправлялись вместе на верховую прогулку, но, как отметил Наполеон, «последний был весьма неуклюжим наездником, и он плохо управлял лошадью». Пруссаки были явно смущены этим. Наполеон ехал посередине, но король то отставал от императоров, то, ускоряя движение своей лошади, сталкивался с Наполеоном
и мешал ему. Когда они возвращались с прогулки, прусский король вновь демонстрировал свою неловкость. Обычно оба императора без задержки спешивались и брали друг друга под руки, чтобы вместе подниматься по парадной лестнице. Но поскольку Наполеон исполнял обязанности хозяина, то он не мог войти во дворец, не пропустив вперёд короля. Иногда необходимо было ждать короля довольно долго; а так как погода часто была дождливой, то случалось, что два императора из-за короля промокали до нитки, к большому неудовольствию присутствовавших зрителей.
714
«Неловкость положения, — заметил император, — была тем более очевидной, поскольку Александр обладал большим природным изяществом, по элегантности своих манер он был равен самым изысканным завсегдатаям парижских салонов. Александр иногда настолько уставал от короля, которого, казалось, вечно преследовали личные неурядицы или другие неприятности, что мы с ним договорились прекратить общие встречи, чтобы отделаться от короля. После обеда мы сразу же расставались под предлогом какого-нибудь срочного дела, но вскоре после этого Александр и я встречались, чтобы вдвоём выпить чаю, и затем продолжали беседу до полуночи и даже после неё».
Некоторое время спустя Александр и Наполеон встретились в Эрфурте. Александр искренне выражал чувства нежной дружбы и истинного восхищения, которые он испытывал по отношению к Наполеону. Несколько дней они провели вместе, наслаждаясь атмосферой истинной дружбы и непосредственного общения. «Мы были, — сказал император, — двумя молодыми людьми из высшего общества, которые не имеют секретов друг от друга и испытывают взаимное удовольствие от общения».
Наполеон дал указание направить из Парижа в Эрфурт самых знаменитых актёров и актрис французского театра. Прославленная актриса мадемуазель Б. завладела вниманием императора Александра27, который загорелся желанием познакомиться с ней. Он спросил Наполеона, не возникнут ли какие-нибудь затруднения в результате такого знакомства. «Никаких, — ответил последний. — Но завтра во Францию отправляется почтовая карета, и через пять дней весь Париж будет знать в деталях, как сложены Ваше Величество». Опасность получить подобного рода огласку заставила императора Александра побороть искушение, «ибо, — заметил Наполеон, — он был весьма осторожен на сей счёт. Он, несомненно, вспомнил старинную поговорку: “Когда маска спадает, герой исчезает”».
Император уверял нас, что если бы он захотел, то Александр, конечно, отдал бы свою сестру за него замуж: его политический курс диктовал необходимость подобного брачного союза, даже если он лично не был склонен к этому. Император Александр был ошеломлён, когда узнал о браке Наполеона с австрийской эрцгерцогиней, и в связи с этим воскликнул: «Этот брачный союз отправляет меня вглубь моих родных лесов». Если он, казалось, поначалу хитрил, то это потому, что ему необходимо было время, чтобы принять решение. Его сестра была совсем юной, и требовалось согласие их матери на предполагаемый брак. Такой порядок был предусмотрен в завещании императора Павла. Императрица-мать была одним из самых злейших врагов Наполеона, и она верила всем распространявшимся
нелепостям, всем оскорбительным историям о нём. «Как, — восклицала она, — я могу отдать дочь за мужчину, который неспособен выполнять супружеские обязанности? Должна ли моя дочь разделить постель с другим, если будет необходимо, чтобы она имела детей? Она не создана для такой судьбы». — «Матушка, — спросил её Александр, — неужели вы верите клеветническим утверждениям Лондона и инсинуациям парижских салонов? Если это единственное затруднение, если только это беспокоит вас, то я ручаюсь за него, и многие другие поручатся за него вместе со мной».
«Расположение Александра ко мне было искренним, — заявил император, — но интриганы делали своё дело. Некоторые лица — Меттерних, а также другие, по наущению Талейрана, — не упускали возможностей для того, чтобы сказать Александру, что я якобы выставлял его на посмешище: они уверяли его в том, что в Тильзите и в Эрфурте, как только он поворачивался ко мне спиной, так я сразу же начинал высмеивать его. Александр очень впечатлителен, и им было легко испортить ему настроение. Известно, что он выражал сильное недовольство по этому поводу в Вене во время Конгресса. И тем не менее всё это ложь: он мне нравился, и я любил его».
Савари, один из адъютантов Наполеона, сразу после заключения Тильзитского договора был отправлен в Петербург, где его превосходно принял император. Александр очень старался угодить своему новому союзнику, при этом он проявлял большую щедрость.
Тот же самый адъютант впоследствии стал министром полиции и, как говорят, в 1814 году, вскоре после Реставрации, рассказал о поразительном эпизоде. Господин Б. — вельможа, пользовавшийся полнейшим доверием короля, обратился к Савари в Тюильри в небрежной манере, пытаясь вызвать его на откровенность следующим образом: «Теперь, когда всё позади, вы можете говорить не стесняясь. Прошу вас, скажите, кто был вашим агентом в Хартвелле?» (Хартвелл, как все знают, был резиденцией Людовика XVIH в Англии.) Савари, удивлённый отсутствием деликатности и такта со стороны господина Б., ответил с чувством достоинства: «Господин граф, император считал, что убежище королей неприкосновенно. Этот принцип он внушил полиции, и мы твёрдо придерживались его. Впоследствии мы узнали, что подобное правило не соблюдалось в отношении него самого. Но вы, сударь, должны сомневаться в этом меньше всех. Когда я прибыл в Петербург, вы были там, в свите короля. Император Александр, в своём горячем стремлении содействовать улучшению русско-французских отношений, ознакомил меня со всем, что касалось вас лично, и спросил, не желает ли моё правительство, чтобы он распорядился выслать вас за пределы своей державы. Никаких инструкций на этот счёт я не получал
7/6
и направил императору соответствующий запрос с очередным почтовым курьером, посланным в Париж. С ответным курьером император сообщил мне, что он удовлетворён искренней дружбой с императором Александром и никогда не станет вмешиваться в его дела, что он не вынашивает личной ненависти к Бурбонам и что если они сочтут возможным принять его предложение, то он готов предоставить им прибежище во Франции и передать в их распоряжение любую королевскую резиденцию, которая им подойдёт. Если вам неизвестны эти инструкции, то вы, несомненно, найдёте их в документах министерства иностранных дел».
Прибытие полномочных представителей союзных держав — Вынужденный придворный этикет Наполеона — Разные истории — Подробности о Государственном совете — Хорватский полк — Послы — Национальная гвардия — Университет
17 июня 1816 года
Рано утром император вышел на прогулку. Он распорядился, чтобы ему подали карету до завтрака. Когда он садился в неё, нам сообщили, что военный корабль «Ньюкасл» и фрегат «Оронтес» готовятся войти в гавань. Ночью эти два корабля проскочили мимо острова и теперь были вынуждены плыть против ветра. Они покинули берега Англии 23 апреля и везли с собой указ о содержании императора под арестом. Решение английских министров по этому вопросу было узаконено. На борту кораблей находились полномочные представители Австрии, Франции и России.
Днём император, говоря об образцах военной формы и костюмах придворных императорского двора, которые он утвердил, и о придворном этикете, который он ввёл, заявил: «Я нашёл, что мне трудно отказаться от привычного. С самого начала я понял, что следует управлять общественным мнением. Императорский двор — центр общественного внимания, он должен жить по соответствующим правилам. Одним словом, необходимо было ввести придворный этикет. В противном случае меня бы ежедневно похлопывали по плечу. Французы от природы склонны к фамильярности, и я должен был особенно остерегаться тех, кто получил образование, не научившись при этом правилам хорошего тона. Мы очень легко становимся придворными, нам изначально свойственны раболепие, лесть и подхалимство. Но если всё это не сдерживать, то вскоре появляется
717
определённая фамильярность, которая с большой лёгкостью может перерасти в желание стать влиятельным человеком. Хорошо известно, что наши короли сталкивались с подобными проявлениями».
Император рассказал характерную историю времён Людовика XIV, связанную с одним придворным. Король на утреннем приёме спросил этого придворного, сколько у того детей. «Четверо», — был ответ. В течение дня король трижды встречал этого придворного в обществе других лиц и каждый раз задавал ему тот же вопрос: «Прошу вас, сударь, скажите, сколько у вас детей?» Ответ был неизменным: «Четверо, сир». Наконец, вечером, когда король играл в карты, он повторил тот же вопрос: «Так сколько же у вас детей?» — «Шестеро, сир». — «Какого чёрта, как это может быть? — удивился король. — Ведь, если мне не изменяет память, вы говорили, что у вас их только четверо». — «Это так и есть, сир, но я боялся утомить вас повторением одного и того же ответа».
«Ваше Величество, — обратился к императору один из участников беседы, — я могу рассказать историю, произошедшую в одной из стран, соседних с Францией. Эта история достойна той, которую мы только что услышали. В мире есть не только придворные льстецы и подхалимы, но и люди, способные открыто проявлять свои чувства и не боящиеся своего монарха.
Один джентльмен, принадлежавший к высшим кругам английского общества, имел основание быть недовольным своим монархом, который с ним очень плохо обращался. Он торжественно поклялся
своим друзьям, что добьётся публичного удовлетворения. Узнав, что монарх собирается посетить один из светских приёмов, этот человек прибыл туда одним из первых и находился рядом с хозяйкой дома. Монарх засвидетельствовал своё почтение хозяйке и, сказав ей обычные в таких случаях комплименты, повернулся к ней спиной, чтобы присоединиться к остальным гостям. В тот же миг обиженный им джентльмен громко спросил хозяйку: «Кто он, этот ваш толстый друг?» Хозяйка дома покраснела и, толкнув его локтём, прошептала: «Прошу вас, попридержите язык, разве вы не видите, что это сам государь?» Джентльмен ещё громче переспросил: «Как, сам государь? Клянусь честью, он растолстел как свинья».
Каждый может судить о характерах этих двух людей, проявивших дерзость. Оба, несомненно, заслуживают порицания. Наш соотечественник менее груб, чем англичанин, однако следует признать, что его дерзость бессмысленна и ничем не вызвана.
Во второй половине дня император пространно говорил о заседаниях Государственного совета. Я напомнил о некоторых из них, о других у нас остались смутные воспоминания, а что-то полностью исчезло из нашей памяти. «Ну что ж, — сказал император, — в скором времени от них едва ли останется след».
Мучаясь бессонницей ночью, я думал над этими словами императора и постарался вспомнить, по возможности подробно, всё, что я знал о Государственном совете. Вряд ли я могу лучше использовать свободное время нашего заточения на Святой Елене, чем представить отчёт о работе Совета на страницах моего дневника. От случая к случаю я буду добавлять то, что смогу вспомнить о тех заседаниях Совета, на которых я присутствовал. Для некоторых людей эти подробности будут небезынтересны.
Зал Государственного совета в Тюильри — место, где обычно проводились заседания, — находился в той же части дворца, что и часовня. Это помещение имело такую же длину, как помещение часовни. В стене, разделявшей зал Совета и часовню, было несколько больших дверей, которые широко открывались по воскресеньям, чтобы обеспечить проход в часовню. Часовня занимала красивый зал удлинённой формы. В его конце, со стороны внутренней части дворца, были большие двери, через которые император в сопровождении свиты следовал в часовню, чтобы слушать воскресную мессу. В течение остальных дней недели эти двери были открыты только Для императора, когда он приходил на заседание Государственного совета. Члены Государственного совета по будням входили в зал заседаний из часовни только через специально сделанные для этого две маленькие двери. Они были расположены в другом конце часовни.
719
Вдоль всего зала справа и слева на время заседаний ставились столы; при этом оставлялось достаточное пространство между столами и стенами зала для кресел и для прохода. За столами сидели государственные советники; место, занимаемое каждым из них, определялось его положением. Каждый советник имел именной портфель, в котором лежали документы. У главного входа в зал и поперёк столов советников ставились такие же столы для чиновников, принимавших обращения и иски граждан. Аудиторы сидели на стульях или на креслах позади государственных советников.
На небольшом возвышении в конце зала, прямо напротив главного входа, находилось место императора. К нему вели три ступени. Там стояли кресло с подлокотниками и небольшой стол, покрытый скатертью из декоративной ткани. На столе лежали все необходимые для работы канцелярские принадлежности: бумага, перья, чернила, перочинные ножики. Такие же канцелярские принадлежности раскладывались на столах членов Государственного совета.
Справа от императора, но ниже уровня его места и на уровне мест членов Государственного совета, стоял отдельный небольшой стол великого канцлера (Камбасереса); слева от императора стоял стол верховного казначея (Лебрена), который редко посещал заседания Совета, и, наконец, слева от стола последнего стоял стол господина Локре, который вёл официальные протоколы заседаний.
Когда некоторые члены императорской семьи неожиданно приходили на заседание Совета, их размещали в одном ряду с великим канцлером, в соответствии с их рангом. Если же на заседаниях Совета появлялись министры, — а все они были вправе посещать любое заседание, по своему выбору, — то их приглашали занять места за боковыми столами, но впереди остальных членов Государственного совета. Пространство между местом императора и рядами столов государственных советников всегда пустовало, и его мог пересекать только император, а также тот государственный советник, которому предстояло подойти к императору.
Даже во время дискуссий по залу бесшумно ходили люди из обслуживающего персонала. Государственные советники могли свободно покинуть свои места, чтобы взять у своих коллег документы, или для других целей.
Стены зала являли взору посетителя аллегорические изображения, дававшие представление о функциях Государственного совета — правосудие, торговля, промышленность и т.д., а потолок зала бьш украшен прекрасной картиной сражения при Аустерлице кисти Гро. Таким образом, Наполеон осуществлял руководство внутренними делами страны, находясь под изображением одного из своих наиболее знаменитых сражений, которым он прославил Францию.
720
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЛОВ
Именно в этом месте в течение почти восемнадцати месяцев я пользовался бесценной привилегией и имел несравненное удовольствие дважды в неделю участвовать в заседаниях, посвящённых обсуждению важных проблем. Интерес к ним ещё более возрастал благодаря постоянному присутствию императора. Он был душой всех обсуждений. Именно там я увидел, как он, не расслабляясь ни на минуту, направлял дискуссии с одиннадцати часов утра до девяти часов вечера. В конце он излучал такую же энергию, демонстрировал такое же богатство и свежесть мыслей, а также понимание сути дела, как и в начале, в то время как все мы падали от усталости.
Когда императорский двор находился в Сен-Клу, то заседания Государственного совета проводились там же. Но когда начало заседания назначалось на час раньше, а обсуждение затягивалось, император объявлял перерыв, чтобы члены Совета могли немного подкрепиться в соседнем помещении, где, словно по мановению волшебной палочки, небольшие столы заполнялись яствами. Я могу заявить со всей откровенностью, что невозможно было передать восторг, который мы испытывали от всего виденного во дворце.
Нас заранее письменно оповещали о проведении заседания Государственного совета и времени его начала (как правило, одиннадцать часов утра).
Когда собиралось достаточное количество членов Государственного совета, великий канцлер, который всегда первым появлялся в зале и который в отсутствие императора председательствовал на заседаниях Совета, открывал заседание и объявлял так называемую малую повестку дня. Эта повестка включала вопросы внутреннего распорядка.
721
Обычно примерно через час барабанная дробь внутри дворца объявляла о прибытии императора. Большие парадные двери распахивались, следовало объявление о прибытии Его Величества, и все члены Государственного совета вставали. Затем появлялся сам император, предшествуемый камергером и дежурным адъютантом, который предлагал императору кресло, принимал от него шляпу и продолжал оставаться позади него в течение всего заседания, готовый к тому, чтобы получить и исполнить его указания.
Затем верховный канцлер вручал императору основную повестку дня, которая содержала вопросы, подлежащие обсуждению. Император прочитывал повестку дня и выбирал вопросы, которые он хотел бы обсудить. Государственный советник, которому был поручен соответствующий вопрос, зачитывал свой доклад, и обсуждение проблемы начиналось.
Каждый член Государственного совета имел право на выступление. Если желание выступить высказывалось одновременно несколькими советниками, которые поднимались для этого из-за столов, то император определял порядок выступлений. В соответствии с этим порядком члены Совета вставали и говорили, не сходя при этом со своих мест. Не разрешалось зачитывать подготовленный текст выступления, речи произносились импровизированно. Если император считал, что вопрос, в обсуждении которого он также принимал живое участие, рассмотрен в достаточной мере, то он делал краткое резюме дискуссии, неизменно яркое и часто отличавшееся новизной суждений и точностью формулировок. Затем он подводил итоги обсуждения и ставил вопрос на голосование.
Я уже говорил о свободе, с которой проводились дебаты. Порой ораторы излишне воспламенялись, а дискуссия часто затягивалась, особенно когда император, судя по всему, предавался размышлениям о других делах или когда его внимание чем-то отвлекали и он полностью отключался от того, что происходило в зале. В таких случаях он время от времени бросал отсутствующий взгляд в зал, точил карандаши перочинным ножом, прокалывал остриём отточенного карандаша покрытие стола или подлокотник кресла. Ещё он мог карандашом или пером быстро и небрежно набросать на листе бумаги причудливые знаки и схемы, вызывавшие, после его ухода из зала, сильнейшее любопытство у молодых членов Совета, — каждый стремился первым завладеть этим листом бумаги, отталкивая другого; было интересно наблюдать, как человек, ставший счастливым обладателем листка бумаги с каракулями императора, разобрав среди написанного название какой-нибудь страны или столицы, тут же придавал этому преувеличенное значение и делал далеко идущие выводы.
Иногда император засыпал на заседаниях Совета. Это случалось, если он приходил на заседание, только что пообедав или сильно
устав от утренней работы. Тогда он обычно складывал руки на столе и, положив на них голову, тут же засыпал. Верховный канцлер возобновлял дискуссию, и император, проснувшись, сразу же схватывал суть дебатов, хотя обсуждение предыдущей проблемы могло уже закончиться, а Совет приступил к рассмотрению другого вопроса. Император часто заказывал стакан воды и сахар, в соседней комнате всегда стоял стол с лёгкими закусками для него. В отношении лиц, которым разрешалось подходить к этому столу, никаких мер предосторожности не принималось.
Хорошо известно, что у императора была привычка почти каждую минуту нюхать табак. Эта привычка стала у него своего рода манией, которой он был подвержен главным образом во время глубоких раздумий. Его табакерка быстро опустошалась, но он по-прежнему запускал в неё пальцы или подносил её к носу, особенно когда выступал во время дискуссий. Наиболее опытные и усердные в выполнении своих обязанностей камердинеры подменяли пустую табакерку другой, наполненной табаком, и старались сделать это незаметно для императора. Камердинеры, постоянно обслуживавшие императора, соперничали в том, кто из них окажется наиболее внимательным и обходительным. Это была честь, которой очень завидовали. Этих камердинеров редко меняли — или потому, что они были заинтересованы в сохранении своих мест и для этого прилагали все возможные усилия, или потому, что императора вполне устраивало, чтобы они продолжали выполнять обязанности, с которыми были хорошо знакомы. Подбором камердинеров и контролем выполнения ими своих обязанностей занимался гофмаршал императорского двора Дюрок.
Приведу пример внимательного отношения камердинеров к императору. Один из них, заметив, что император, отправляясь в театр, часто забывает свой театральный бинокль, которым он постоянно пользовался, заказал в магазине точно такой же. Поэтому, когда он после этого увидел, что у императора нет бинокля, то предложил ему свой, и император не заметил, что ему дали другой бинокль. Вернувшись из театра, император очень удивился, обнаружив у себя два абсолютно одинаковых бинокля. На следующий день он спросил, каким образом у него появился новый театральный бинокль. Камердинер ответил, что он держал его про запас на случай надобности.
Император всегда был весьма чувствителен к подобным знакам внимания, которые сами по себе были достаточно бесхитростны и продиктованы лишь любовью и уважением; в этом случае камердинер представал не раболепным придворным в императорском дворце, но ревностным и преданным слугой. Наполеон, что бы там ни говорилось в салонах Парижа, проявлял искреннее уважение
723
к своему обслуживающему персоналу. Когда он уезжал из Парижа в Сен-Клу, Мальмезон или в какую-нибудь другую загородную резиденцию, он обычно приглашал членов его обслуживающего персонала на неформальную вечеринку, и таким образом создавался приятный круг общения, попасть в который было делом большой чести. Находясь в загородной резиденции, он часто приглашал своих камердинеров обедать за его столом. Однажды, обедая в Трианоне, император почувствовал сильнейший насморк от возникшего сквозняка, к которому он был очень чувствителен, и ему потребовался новый носовой платок. Слуги немедленно бросились за новым платком, но тем временем дежурный камердинер, который был родственником императрицы Марии Луизы, вынул из кармана чистый носовой платок и хотел забрать другой платок из рук императора. «Благодарю вас, — сказал Наполеон, — но я никогда не разрешаю Марии Луизе дотрагиваться до носового платка, которым я пользовался». И он бросил платок на пол.
Таков был человек, которого в некоторых светских кругах описывали как грубого и жестокого, плохо обращавшегося со своими придворными и обслуживающим персоналом и даже оскорблявшего дам императорского двора! Напротив, император безукоризненно соблюдал правила этикета. Он был очень чувствителен к малейшим проявлениям внимания к его особе, и хотя он не выражал благодарность каким-либо специальным образом, его глаза и тон его голоса вполне выражали то, что он чувствовал на самом деле. В отличие от тех, кто лишь казался чувствительным, внутри оставаясь равнодушным, Наполеон, похоже, взял за правило подавлять в себе любые эмоции. Думаю, что я уже говорил об этом, но следующие примеры, которые приходят на ум в эту минуту, являются новыми доказательствами сказанного. Эти случаи тем более характерны, поскольку произошли в Лонгвуде, где от Наполеона можно было бы ожидать, что он позволит себе проявлять свои естественные чувства с меньшей сдержанностью, чем тогда, когда он был на вершине власти.
Я обычно сижу рядом со своим сыном в то время, когда он пишет под диктовку императора. Когда император диктует, он всегда прохаживается по комнате и часто останавливается позади моего кресла и бросает взгляд на продиктованный текст, чтобы знать, с какого места следует продолжать диктовку. В этих случаях он неоднократно охватывает мою голову руками и даже слегка прижимает её к своей груди! Затем, тут же стараясь сдержать себя, он делает вид, что всего лишь облокачивается на мои плечи и шутливо наваливается всем своим телом на меня, словно пытаясь проверить мои силы.
Император очень любит моего сына, и я часто вижу, как он гладит мальчика по голове. Затем, как будто стараясь приуменьшить
724
эффект этого ласкового движения руки, он сразу же что-то громко и резко говорит. Однажды, когда он входил в гостиную в минуту хорошего настроения и находился в состоянии некоторой рассеянности, я увидел, как он взял руку госпожи Бертран и нежно поднёс её к своим губам. Вдруг, как будто неожиданно опомнившись, он сделал резкое движение, чтобы повернуться, и это его движение вызвало бы чувство неловкости, если бы госпожа Бертран со свойственным ей утончённым изяществом не устранила возникшее замешательство, поцеловав ту самую руку, которая была протянута к ней. Но все эти истории далеко увели меня от предмета моего повествования. Я должен вернуться к описанию работы Государственного совета.
Все доклады, проекты резолюций и декретов, которые мы должны были обсуждать, печатались и затем развозились по нашим домам. Например, был один проект документа, имевшего отношение к университетским делам, который мы перерабатывали раз двадцать. Были другие проекты документов, которые долгое время отлёживались в портфеле того или иного государственного советника, и в конце концов их вообще выбрасывали, поскольку не могли найти им применение.
Сразу же после того, как я стал членом Государственного совета, меня направили с заданием в Голландию. Вернувшись, я выступил на заседании Совета с речью по вопросу о воинской повинности. Естественно, меня интересовало всё, что касалось морских дел, я был охвачен энтузиазмом, и моя память хранила множество наблюдений и фактов, которые я собрал в Голландии. Я предложил Совету, чтобы всем голландским новобранцам было разрешено, если они этого захотят, пойти на морскую службу, поскольку она больше всего отвечала бы их врождённым склонностям; более того, право этого выбора должно распространяться и на французских новобранцев. Я перечислил те неудобства, которые будут устранены в случае принятия моего предложения, и изложил преимущества, которые оно при этом гарантировало. Я заявил, что у нас нет возможности увеличивать численность наших моряков. Команды наших кораблей, таким образом, станут полками: одни и те же люди будут одновременно моряками и солдатами, артиллеристами и понтонёрами. Мы получим, можно сказать, двойную воинскую службу за одно и то же денежное содержание.
Впервые я рискнул выступить с речью на заседании Совета. Я приложил неимоверные усилия, чтобы преодолеть свою природную застенчивость. Моя речь воспринималась весьма благосклонно, и я уже мысленно поздравлял себя с успехом, когда совершенно
725
неожиданно потерял дар речи. Мои мысли смешались, и я стоял, совершенно онемевший и сбитый с толку, не зная, где я нахожусь и что делаю. В зале заседаний Совета воцарилась гробовая тишина, на меня смотрела целая сотня глаз, и я был готов провалиться сквозь землю от охватившего меня смущения. У меня не было иного выбора, кроме как признаться в том, в каком тяжёлом положении я оказался, и честно сказать императору, что я предпочёл бы в данную минуту оказаться в самой гуще боя на поле сражения. Наконец я попросил разрешения закончить речь чтением нескольких строк из написанного мною доклада, который я принёс с собой. С тех пор я никогда не испытывал желания выступить с речью в Государственном совете: я полностью излечился от страсти проявлять моё красноречие. Но, несмотря на это несчастливое происшествие, моё краткое выступление привлекло внимание императора, и через несколько дней после этого важного для меня события дежурный адъютант (граф Бертран) сообщил мне, что император, играя в бильярд, увидел входившего в комнату министра военно-морского флота и сказал ему: «Знаете, сударь, Лас-Каз прочитал нам на заседании Совета очень хорошую памятную записку о структуре военно-морского флота, и он совсем не разделяет вашего мнения относительно возраста, в котором морякам следует разрешать поступать на службу».
Каждое заседание Государственного совета, на котором председательствовал император, вызывало особый интерес, поскольку он всегда выступал с речью и его замечания оказывались весьма важными. Я всегда восхищался его речами, но одно обстоятельство удивляло и огорчало меня. Дело в том, что некоторые замечания, днём исходившие из уст императора в Государственном совете, вечером искажались в парижских салонах, и зачастую со злобой. Почему такое происходило? Было ли это следствием того, что человек, сообщавший то, что он слышал, был неточен в передаче услышанного, или следствием недоброжелательного отношения этого лица к тому человеку, которому передавалось это сообщение? Так или иначе, но искажения были налицо.
Мне часто тогда приходила в голову мысль записывать речи императора, которые я слышал, и я очень сожалею, что не делал этого. Сейчас я вспоминаю некоторые его выступления в Государственном совете и привожу их ниже.
Однажды император, говоря о политических правах, которые необходимо предоставить французам, родившимся в других странах, сказал: «Во всём мире нет более почётного и благородного звания, чем француз. Это звание даруется свыше, и ни один человек на свете не должен иметь права лишить француза этого звания. Что
726
касается меня, то я хочу, чтобы каждый человек французского происхождения, даже если он иностранец в десятом поколении, по-прежнему был французом, если он желает претендовать на это звание. Если он появится на другом берегу Рейна и скажет, что он хочет быть французом, то я бы считал его желание более важным, чем закон. Все препятствия должны быть устранены, и он, торжествуя, должен вернуться и припасть к груди нашей общей матери».
Как-то император сказал (хотя я теперь не помню, по какому поводу): «Конституционное собрание поступило очень неразумно, полностью отменив дворянские титулы. Эта мера была рассчитана на то, чтобы унизить большое количество людей. Я поступаю лучше. Я жалую французам звания, которыми они вправе гордиться».
В другой раз император произнёс следующие слова (возможно, я уже их цитировал): «Я хочу, чтобы слава самого имени француза стала бы предметом зависти всех наций. С Божьей помощью я добьюсь, что в любом месте Европы, где бы ни путешествовал француз, он будет чувствовать себя как дома».
Однажды в Государственном совете разгорелась дискуссия о проекте какого-то декрета. Я не помню, чем она закончилась, но знаю, что нам предстояло решить, должны ли члены императорской семьи, являвшиеся королями в других странах, лишаться своих титулов и монарших привилегий на границе с Францией и вновь обретать их, покидая территорию Франции. Император, отвечая противнику проекта, который инициировал дискуссию по этому вопросу, и одновременно приводя аргументы в пользу принятия упомянутой меры, сказал: «Для этих монархов я резервирую во Франции самый высокий титул: они будут больше, чем просто королями, — они будут французскими принцами».
Я мог бы приводить цитаты подобного рода до бесконечности: они, должно быть, остались в памяти всех членов Государственного совета, как и в моей памяти. Может вызывать удивление тот факт, что, наблюдая императора так часто и являясь непосредственным свидетелем его выступлений, я не был знаком с ним лично до того времени, когда последовал за ним на остров Святой Елены. Мой ответ будет следующим: в то время я испытывал к императору скорее чувства восхищения и восторга, чем чувство искренней любви, которое возникает в результате близкого знакомства с ним. Находясь в стенах императорского дворца, мы слышали множество нелепых историй о характере и поведении Наполеона. Мы мало непосредственно общались с ним и мало его знали, поэтому эти истории оказывали на меня влияние и не могли не вызвать недоверия к императору. О нём говорили, что он человек лицемерный и коварный, и утверждалось, что на публике он демонстрирует чувства, вовсе ему
727
не свойственные. Одним словом, он обладает красноречием и бесчувственным сердцем. Таким было моё представление об императоре до тех пор, пока я не стал близко с ним знаком. Только тогда я убедился в том, что настоящий Наполеон и Наполеон на публике — один и тот же человек. Вероятно, никогда не было на свете человека, столь самозабвенно преданного Франции, и не было такой жертвы, которую бы он с готовностью не принёс для сохранения её славы. Это в достаточной степени очевидно по его поведению в Шатильоне и после Ватерлоо. Он показал себя в истинном свете на скалистом острове Святой Елены, когда с жаром произнёс следующие знаменательные слова, которые я уже ранее приводил в моём дневнике: «Нет, мои самые глубокие страдания я испытываю не здесь!»
Следующие истории относятся к другим событиям, то печальным, а то даже забавным. Однажды государственный советник генерал Гассенди, принимая участие в обсуждении очередной проблемы, стал подробно излагать доктрины разных экономистов. Император, который очень хорошо относился к своему старому товарищу по артиллерии, прервал его выступление и спросил: «Мой дорогой генерал, где вы набрались всех этих познаний? Откуда взялись эти принципы?» Гассенди, который очень редко выступал на заседаниях Государственного совета, защищался как мог; прижатый к стене, он наконец ответил, что позаимствовал эти знания у самого Наполеона. «Каким образом? — с горячностью воскликнул император. — О чём вы говорите? Разве это возможно? Вы позаимствовали всё это у меня, который всегда считал, что даже если бы монархия
была создана из гранита, то химеры политических экономистов стёрли бы её в порошок!» И после нескольких фраз, отчасти ироничных, он закончил своё выступление следующими словами: «Полноте, генерал! Вы, должно быть, заснули на работе, и всё, что вы нам тут сказали, вам попросту приснилось». Гассенди, который был довольно вспыльчивым человеком, ответил: «О нет! Что касается сна во время заседаний Государственного совета, то клянусь, сир, что никто в этом не сравнится с вами! Вы нас просто замучили своим сном». Члены Государственного совета не могли сдержать смеха, и громче всех смеялся император.
В другой раз обсуждали вопрос об организации управления Иллирийскими провинциями, только что перешедшими под власть Франции. Эти оккупированные полками хорватских войск провинции, граничившие с Турцией, организованы по особому плану — как военные колонии, идея о которых возникла свыше ста лет тому назад у эрцгерцога Евгения с целью создания оборонительного барьера против нашествий и опустошительных набегов турок. Такая организация доказала свою эффективность. Комитет Государственного совета, назначенный для подготовки плана организации управления провинциями, предложил распустить хорватские полки и заменить их национальной гвардией, аналогичной нашей. «Вы что, с ума сошли? — воскликнул император, выслушав доклад комитета. — Разве хорваты являются французами? Понимаете ли вы, что такой важной, полезной и совершенной организации, как национальная гвардия Франции, больше нет нигде?» — «Сир, — ответил член комитета, взявший на себя роль защитника доклада, — турки теперь не посмеют возобновить свои нашествия на эти провинции». — «И почему же?» — «Потому что Ваше Величество станет их соседом». — «Хорошо, ну и что из этого?» — «Сир, они будут бояться силы». — «Послушайте, — резко ответил император, — сейчас же прекратите свои комплименты или, если хотите, отправляйтесь с ними к туркам; если они ответят вам тем, что распустят своих янычар, то вы тогда сможете вернуться и доложить мне об успешном выполнении задания». Император немедленно принял решение о необходимости сохранения хорватских полков.
Однажды Государственному совету был представлен на рассмотрение проект декрета о послах. Этот проект, сам по себе замечательный, никогда, по-моему, не был предан всеобщей огласке. Государственный совет прохладно отнёсся к этому проекту, и работа с ним была прекращена. Многие другие планы постигла та же участь. Это ещё раз подтверждает, что Государственный совет был независимым органом, и свидетельствует о том, что Наполеон обладал большей сдержанностью, чем обычно считалось.
729
Император, который, кажется, был единственным, кто выступал в поддержку проекта декрета и был его твёрдым сторонником, сделал ряд весьма любопытных замечаний в его защиту. Он хотел, чтобы послы не пользовались исключительными правами и привилегиями, которые ставили бы их выше законов страны пребывания. Самое большее, что он готов был предоставить им в случае нарушения ими закона, — специальный порядок судопроизводства; их дела должен был рассматривать специальный трибунал.
«Например, — заявил император, — я не возражаю, чтобы их отдавали под суд только после предварительного решения совместной группы министров и высокопоставленных лиц империи и чтобы их судил только специальный трибунал в составе высших судей и чиновников государства. Возможно, будут говорить, что монархи, увидев, что их достоинство компрометируется их представителями, не будут направлять своих послов на службу при моём императорском дворе. Так что же плохого в этом? В этом случае я смогу отозвать моих послов из других государств, и таким образом страна будет освобождена от бремени выплат им жалований (а ведь это огромные суммы, и сами выплаты зачастую бесполезны). Почему послы должны освобождаться от обязанности подчинения закону? Их направляют с целью способствовать развитию дружеских отношений и взаимных симпатий между их монархами. Если они превышают свои полномочия, то их следует приравнивать к обычным нарушителям закона и обращаться с ними в соответствии с законом, общим для всех. Я не могу позволять иностранным послам шпионить при моём дворе: позволив это, я согласился бы с тем, чтобы меня считали дураком, и примирился бы со всеми последствиями. Всё, что требуется, — хорошо осмыслить проблему, чтобы избежать нарушений принятых обычаев и законов наций.
Когда разразившийся кризис достиг своего пика, — продолжал император, — мне доложили, что одно высокопоставленное лицо получило прибежище в доме господина Кобенцля, австрийского подданного. Этот человек полагал, что он будет защищён иммунитетом австрийского посла. Я вызвал посла Австрии к себе, чтобы убедиться в достоверности полученной информации, и сказал Кобенц- лю, что будет очень неприятно, если имеющиеся у меня сведения верны. Я заявил, что принятый обычай ничего для меня не значит, если дело касается безопасности страны, и что я, не колеблясь ни минуты, прикажу арестовать преступника и его привилегированного покровителя, отдам их обоих под суд трибунала и подвергну образцовому наказанию в соответствии с законом. И я бы это сделал, господа, — подчеркнул император, повышая голос. — Послу было известно о моём твёрдом решении, и поэтому мои приказания были беспрекословно выполнены».
730
Задолго до военной кампании в России, возможно, года за два до её начала, император захотел ввести военную классификацию империи. На заседаниях Государственного совета рассматривалось до двадцати планов организации французской национальной гвардии, которую предполагалось разделить на три категории. Национальная гвардия первой категории (молодые гвардейцы) должна была быть выдвинута к границам страны. Национальная гвардия второй категории (женатые гвардейцы среднего возраста) не должна была покидать территорию своего департамента. Гвардейцы третьей категории должны были оставаться для защиты родного города. Император, твёрдо убеждённый в полезности этого плана, часто возвращался к его обсуждению, обращая внимание на его патриотическую суть. Однако члены Государственного совета не одобряли этот план, хотя их противодействие выражалось в пассивной и молчаливой форме. Император был занят множеством государственных дел, и этот план в итоге выпал из поля его зрения. Между тем он имел огромное значение для безопасности Франции, и будь он осуществлён, то, вероятнее всего, в конечном счёте это спасло бы её. Во время наших катастроф до двух миллионов вооружённых граждан были бы в составе национальной гвардии. Кто бы тогда рискнул напасть на нас?
Во время обсуждения вышеупомянутого вопроса император говорил очень эмоционально и энергично. Один из членов Государственного совета (господин Малуэ) весьма многословно выразил своё неодобрение этого плана организации национальной гвардии. Император, обратившись к нему в своей обычной манере, сказал: «Говорите смело, сударь, выражайте свои мысли прямо. Свободно говорите то, что вы должны сказать: мы у себя дома». Тогда выступивший оратор сказал, что «обсуждаемая мера встревожит всех: любой человек с опаской отнесётся к тому, чтобы его записали в национальную гвардию; он будет считать, что весь план заключается в том, чтобы под предлогом защиты страны на её территории вывести национальную гвардию за пределы Франции».
«Прекрасно! — воскликнул император. — Теперь я понимаю вас. Но, господа, — продолжал он, обращаясь к членам Государственного совета, — вы все отцы семейств, обладаете вполне достаточными состояниями, занимаете важные должности и имеете многочисленных иждивенцев. Вы должны быть или весьма неопытными людьми, или крайне безразличными ко всему, если, имея немалые преимущества, вы не оказываете должного влияния на общественное мнение. Как же это получается, что вы, хорошо зная меня, заставляете меня страдать от того, что другие люди, помимо вас, так мало меня знают? Разве у вас есть факты, что я лгал и мошенничал, управляя государством? Я не робок и потому не привык прибегать к нечестным
731
мерам. Моя ошибка, вероятно, заключается в том, что я выражаю свои мысли слишком резко, слишком лаконично. Я задаю форму, не вдаваясь в детали. Я доверяю человеку, который осуществляет мои намерения. Одному Богу известно, должен ли я в этом случае быть довольным. Если мне нужны войска, то я без колебаний обращаюсь с соответствующим требованием к Сенату, который набирает рекрутов для меня, а если я не смогу получить их от Сената, то я обращусь непосредственно к народу, и вы увидите, что простые люди с радостью двинутся в поход и встанут в мои ряды.
Возможно, вы с удивлением выслушиваете то, что я говорю, ибо иногда кажется, что вы неправильно представляете себе истинное положение вещей. Знайте же, что моя популярность огромна и не поддаётся оценке, ибо, что бы ни говорили, французский народ любит и уважает меня. Его здравый смысл стоит выше злобных заявлений моих врагов и туманных предположений дураков. Народ последует за мной вопреки всему. Вы удивлены этими моими высказываниями, но, тем не менее, они справедливы. Французский народ не знает благодетелей, кроме меня. Благодаря мне французский народ, невзирая на окружающие его опасности, наслаждается всем, что он приобрёл; французы видят, что благодаря мне их братья и сыновья продвигаются по службе, удостаиваются чести и богатеют, благодаря мне французы имеют работу, и их труд должным образом вознаграждается. У французского народа никогда не было причин обвинять меня в несправедливости или в тайных замыслах. Итак, народ видит, чувствует и понимает всё это, но он ничего не понимает в метафизике. Я вовсе не отвергаю истинные и великие принципы: Господь запрещает мне это. Напротив, я поступаю в соответствии с ними, насколько это возможно в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. Но я знаю, что народ ещё не понимает их. Зато французский народ прекрасно понимает меня и безоговорочно верит мне. Следовательно, будьте уверены, что народ Франции всегда будет действовать по планам, которые мы предлагаем для его блага.
Не позволяйте себе быть обманутыми мнимой оппозицией, на которую только что ссылались, — она существует лишь в светских салонах Парижа, но не в стране. Представляя этот план, я торжественно заявляю, что у меня нет тайной цели послать национальную гвардию за границу. В эту минуту мои мысли заняты исключительно тем, что можно сделать дома ради безопасности, спокойствия и благополучия Франции. Так приступайте к организации национальной гвардии, чтобы каждый гражданин мог выполнить свой долг, если в том возникнет необходимость, чтобы даже Камбасерес (вот он, перед вами) мог вскинуть на плечо мушкет, если опасность потребует от него сделать это. Тогда мы будем иметь страну, построенную из камней, скреплённых цементом, и способную выдержать
732
испытание временем. Более того, я подниму национальную гвардию до уровня строевых полков: отставные офицеры станут командирами и отцами корпуса национальной гвардии. В созданной мною национальной гвардии желающие продвинуться будут действовать с таким же рвением, с каким добиваются почестей придворные моего императорского двора».
Все эти высказывания должны содержаться в протоколах господина Локре — частично в протоколах заседаний, посвящённых обсуждению вопроса о национальной гвардии, и частично в протоколах заседаний, посвящённых, насколько мне помнится, обсуждению вопроса об одном из ежегодных призывов на военную службу.
Я помню, что однажды на заседании Государственного совета долго обсуждали вопрос, имеющий отношение к Университету. Император выразил неодобрение медленными темпами улучшения деятельности этого заведения. Он дал неудовлетворительную оценку деятельности всего Университета. Господину Сегюру было поручено представить доклад по этой проблеме, который он и сделал с присущими ему откровенностью и честностью. Он провёл необходимое расследование и выяснил, что планы императора были плохо поняты и скверно осуществлялись. Наполеон хотел, чтобы овладение общими знаниями стало в Университете второстепенной целью, а наибольшее внимание уделялось бы национальным ценностям и доктринам. Однако именно этому уделялось мало внимания.
Император не присутствовал на этом заседании, — обстоятельство, очень огорчившее друзей человека, который более других был заинтересован в том, чтобы обсуждение этого вопроса было конструктивным. Мы виноваты в том, что жертвовали слишком многим в угоду кружковщине. Доклад больше никогда вновь не обсуждался, он был изъят из наших портфелей. Членов Государственного совета, которые унесли доклад с собой, обязали его вернуть.
Тем не менее, вскоре после этого высшие сановники Университета были вызваны на заседание Государственного совета. Император выразил неудовольствие по поводу плохого управления Университетом. Он считал, что в этом важном государственном институте царят апатия и равнодушие. Император заявил, что самые лучшие его идеи были испорчены, что его намерения никогда хорошо не выполнялись, и т.д. Господин Ф. покорно выдерживал настоящую бурю негодования28, направленную в его адрес, но, тем не менее, продолжал гнуть свою линию. Когда император вернулся с Эльбы, то узнал о том, что глава Университета хвастался правительству, пришедшему на смену правительству империи, говоря: он делал всё, что было в его силах, чтобы погасить тот энтузиазм, который Наполеон хотел привить подрастающему поколению.
Воспоминания о Ватерлоо
18 июня 1816 года
Император вызвал меня к себе в кабинет перед обедом. Он был занят чтением только что полученных газет. В это время господин де Монтолон попросил аудиенции. Его жена только что родила дочку, и он обратился к императору, чтобы тот оказал ему честь и стал крёстным отцом ребёнка.
После обеда император вновь принялся читать газеты, которые он уже просматривал, и высказал замечание о том, что Франция по- прежнему остаётся в состоянии волнения и неопределённости. Он также обратил внимание, что последние английские газеты в своих статьях о французской королевской семье используют самые некорректные выражения.
Одна статья вынудила его сказать: «Нынешние обстоятельства и тоска по былым временам — всё это вместе способствует возвращению монахов во Францию. Это характерно и для Франции, и для владений папы римского». Затем, подробно говоря о папе римском, император заметил: «Что касается папы, то он в этом особенно заинтересован, поскольку возвращение монахов способствует восстановлению его власти. Кто бы мог поверить, что, когда он сам был пленником в Фонтенбло и рассматривался вопрос о его существовании в качестве папы римского, он самым серьёзным образом пытался убедить меня в необходимости восстановления института монахов!»
Сегодня годовщина сражения при Ватерлоо. Об этом сказал один из участников беседы, и воспоминание о Ватерлоо заметно повлияло на настроение императора. «Непостижимый день! — воскликнул он с печалью в голосе. — Невероятные совпадения, цепь роковых событий!.. Груши!.. Ней!.. Д’Эрлон!.. Было ли это предательство или только несчастье?.. Увы! Бедная Франция!..» После этих слов император прикрыл глаза рукой. «И тем не менее, — сказал он, — всё, на что способен человек, было сделано! Ничего не было потеряно до самого последнего момента, когда лишь оставалось победить!»
Вскоре после этого разговора император вернулся к теме Ватерлоо, воскликнув: «В той удивительной кампании за время меньшее, чем неделя, я трижды был уверен в безоговорочной победе Франции, но удача ускользнула от меня... Если бы не дезертирство предателя, я бы уничтожил врага в начале кампании. Я бы полностью разгромил его в сражении при Линьи, исполни мой левый фланг свой долг. Я бы вновь разгромил его при Ватерлоо, если бы другой мой
734
фланг не подвёл меня. Катастрофа, и странная: в результате этого поражения слава побеждённого не пострадала, а слава победителя не возросла. Память о первом переживёт его, а о втором, возможно, забудут, невзирая на его триумф!»
Отплытие «Нортумберленда» — О предисловии к рукописи о кампании в Италии и о форме её изложения — История русской кампании, написанная адъютантом вице-короля
19 июня 1816 года
Сегодня «Нортумберленд» отплыл в Европу. Этот корабль доставил нас на остров Святой Елены. Во время нашего плавания мы установили дружеские отношения с офицерами корабля, его команда проявляла к нам доброту, и нас не обходил вниманием сам адмирал Кокберн. Не всё было гладко в отношениях с ним, но мы никогда не испытывали к нему неприязнь, и его поведение не оскорбляло наши чувства. То ли благодаря всем этим обстоятельствам, то ли благодаря другим событиям, уже забытым, а также той естественной силе притяжения между всеми людьми, которая рождает искренние и тёплые чувства, мы не остались равнодушными к тому, что «Нортумберленд» покинул остров. Казалось, что мы что-то потеряли, попрощавшись с нашими старыми товарищами по плаванию.
735
Император провёл очень плохую ночь. Он принял ножную ванну, чтобы избавиться от сильной головной боли.
Около часа дня он вышел прогуляться в саду, захватив с собой первый том английской книги о его жизни. Прогуливаясь, он перелистывал её страницы. Эта книга не такая злобная, как сочинение Голдсмита. Она, несомненно, содержит меньше грубых оскорблений, но в ней присутствуют небылицы, лживые утверждения, невежество, — всё это нам знакомо. Император прочитал главу, посвящённую его детским годам и периоду, который он провёл в военной школе. Вся глава представляет собой цепь искажённых фактов. Прочитав её, он сказал, что я был совершенно прав, когда предлагал ему, чтобы повествование о событиях его жизни, связанных с его молодостью и началом карьеры, было изложено в предисловии рукописи о его кампании в Италии; только что прочитанное окончательно склонило его к этому.
Я, должно быть, ранее упоминал о том, что после завершения диктовки рукописи о кампании в Италии и после того, как вся рукопись была разбита на главы, император всё ещё не решил, в какой форме дать предисловие к рукописи. Он часто менял своё мнение по этому вопросу, обдумывая различные идеи, которые он то отвергал, то принимал вновь. Иногда он был склонен к тому, чтобы в предисловии отразить и другие события его жизни, которые произошли до осады Тулона: военную экспедицию в Сардинию, закончившуюся неудачей, и т.п. В другой раз император принял решение в предисловии к рукописи описать начало французской революции, положение в Европе и походы наших армий. Я всегда относился к этим идеям критически; по моему мнению, это уведёт его повествование в слишком далёкие времена. Он начал диктовать мне
736
свою рукопись, описывая осаду Тулона, и я придерживался той точки зрения, что именно это событие следует считать отправной точкой его повествования, поскольку он намерен был писать не книгу по истории, а личные воспоминания. Осада Тулона — великий исторический эпизод. Участвуя в этих событиях, говорил я, Наполеон появился и на мировой сцене, и на её авансцене, на которой ему суждено остаться навсегда. Как редактор я должен отразить в предисловии, которое здесь необходимо, подробности более раннего периода жизни Наполеона и события, предшествовавшие тем, которых он касался в своих мемуарах. Император одобрил эту идею и, однажды обсудив её детали во время обеда, принял её окончательно. Форма рукописи о кампании в Италии должна соответствовать вышеизложенным соображениям. Именно об этом и говорил сейчас император, коснувшись темы предисловия к рукописи о кампании в Италии.
В три часа дня губернатор представил императору нового адмирала, сэра Пултни Малькольма. Хотя император был нездоров, тем не менее он вёл себя очень любезно и активно участвовал в беседе.
До и после обеда император просматривал книгу о русской кампании, написанную офицером, ранее бывшим одним из адъютантов вице-короля Евгения. Император слышал об этой книге как о весьма одиозном произведении, но он настолько привык к нападкам клеветников, что краснобайство автора книги не произвело на него никакого впечатления. В книгах подобного рода его интересует только фактический материал, и с этой точки зрения он нашёл, что данная работа не так плоха, как отзывы о ней. «Истинный историк, — заявил он, — отберёт из неё только то, что является правдой. Он воспользуется фактами и опустит всякую дребедень, которая рассчитана лишь на то, чтобы доставить удовольствие дуракам. Автор доказывает, что русские сами сожгли Москву, Смоленск и т.д. Он пишет, что французы оказывались победителями во всех сражениях и схватках с русскими. Факты, приведённые в этой книге, доказывают, что её планировали издать во время моего правления, то есть, когда я был у власти. Искажать факты — нелёгкое дело, хотя автор стремился именно к этому, насыщая повествование оскорбительными выражениями, в соответствии с модой дня.
Что касается неудач моего отступления, то я ничего ему не оставил, кроме того, что уже было сказано другими клеветниками. Мой 29-й оперативный бюллетень ввергнул их в отчаяние. В своей ярости они обвинили меня в преувеличениях. Они чуть с ума не сошли. Своим бюллетенем я отнял у них отличный сюжет и лишил смысла их молитвы».
Император процитировал несколько отрывков из этой книги и из книг других французских авторов, которые, все без исключения,
737
выступали против своих соотечественников и представляли в ложном свете их достижения. Это беспримерный случай в истории, заявил император, когда нация стремится резко осудить собственную славу, а её сыны делают всё возможное для того, чтобы лишить её наград. «Но из лона Франции, несомненно, выйдут мстители. Грядущие поколения заклеймят позором сумасшествие нынешнего времени. Разве являются французами те люди, которые говорят и пишут в таком духе? — воскликнул император. — Неужели их сердца мертвы для патриотизма? Нет, они не могут быть французами! Действительно, они говорят на нашем языке, они родились на той же самой земле, что и мы, но они не воодушевлены чувствами и принципами истинных французов!»
Пророческие высказывания — Лорд Холланд — Принцесса Шарлотта Уэльская — Разговор обо мне
21 июня 1816 года
Император в сопровождении своей свиты совершил прогулку в саду. Беседа коснулась возможности нашего возвращения в Европу и свидания с Францией после разлуки с ней. «Мои дорогие друзья, — обратился к нам император таким искренним и выразительным голосом, что он не поддаётся описанию. — Вы вернётесь!» — «Без
вас — нет!» — в один голос воскликнули мы. Мысль о возвращении в Европу вновь привела нас к анализу возможных шансов нашего отъезда с острова Святой Елены. Все согласились, что наш отъезд с острова всецело зависит от действий англичан. Но император не представляет себе, каким образом можно было бы вызвать подобные действия.
«Негативное отношение ко мне, — заявил он, — слишком глубоко укоренилось в умах англичан, и они будут вечно бояться меня. Питт убедил их в том, что они не смогут чувствовать себя в безопасности с человеком, который только и мечтает о вторжении в Англию». — «Но, — возразил один из участников беседы, — предположим, что в Англии возникнут новые обстоятельства. Предположим, что к власти придёт действительно конституционный и либеральный кабинет министров. Разве тогда английское правительство не увидит пользы в том, чтобы, используя ваше посредничество, установить либеральные нормы поведения во Франции и тем самым распространить их по всей Европе?» — «Конечно, — ответил император, — я допускаю всё это». — «Но разве тогда, — продолжал собеседник императора, — это конституционное правительство не найдёт в этих либеральных нормах поведения таких гарантий, которые будут в ваших интересах?» — «Я допускаю также и это, — ответил император. — Я могу предположить, что лорд Холланд, в качестве премьер-министра Англии, напишет мне в Париж: “Если вы поступите так-то, то я буду погублен”. Или, например, принцесса Шарлотта Уэльская скажет мне (после того, как вызволит меня отсюда): “Если вы поступите таким образом, то меня возненавидят, и я буду выглядеть как кара Божья для моей страны”. После этого я должен буду остановиться, и они покончат с моей карьерой эффективнее, чем это могли бы сделать все армии мира.
И, в конце концов, чего они должны бояться? Что я буду воевать с ними? Я слишком стар для этого. Они боятся, что я вновь буду стремиться к славе? Я пресытился славой, вдоволь испытав её. Я купался в ней, и о ней можно сказать, что я сделал её одновременно и обычной, и трудной вещью. Они предполагают, что я вновь начну завоевания? Мои завоевания — не следствие прихоти. Они были результатом великого плана, и, скажу больше, я был вынужден стремиться к ним. Они были разумны в тот момент, когда я добивался их, но теперь они невозможны. Когда-то они были полезны, но теперь стремиться к ним было бы сумасшествием. И, кроме того, потрясения и несчастья, испытанные Францией, с тех пор породили столько трудностей, что их преодоление станет достаточным источником славы и сделает ненужным поиск иных возможностей для её достижения».
739
Двое господ из свиты императора отправились в город, чтобы встретиться с недавно прибывшими на остров людьми и узнать у них последние новости. Когда они вернулись, император, гулявший в саду, сосредоточил внимание на их рассказе. Около шести часов вечера он удалился в свой кабинет, пожелав, чтобы я последовал за ним. Между нами возникла непринуждённая беседа, ставшая для меня в высшей степени интересной и ценной. Хотя предмет беседы касался лично меня, всё же я не могу не отразить её в этом дневнике. Она раскрывает так много характерных черт императора, что это само по себе служит достаточным основанием того, что я предлагаю вниманию читателя изложение этой беседы, если какие-либо объяснения вообще необходимы в данном случае.
Лица, прибывшие на остров на борту корабля «Ньюкасл», много говорили о моём «Историческом Атласе». Их интерес стал причиной того, что император вновь отметил необычайную известность этой книги. Он был удивлён тем, что ему раньше не пришлось внимательно ознакомиться с ней.
«Почему так случилось, — спросил он меня, — что никто из ваших друзей не удосужился доложить мне о том, что представляет собой ваша книга? Я никогда не видел её, пока не оказался на борту “Нортумберленда”, а сейчас узнаю, что она известна каждому. Как случилось, что вы сами не привлекли моё внимание к ней? Я должен был оценить по достоинству ваши заслуги и сделать вас обеспеченным человеком. На основании чужих мнений у меня сложилось искажённое представление о вашей работе, которое, вероятно, повлияло на то, что у меня создалось неблагоприятное мнение о вашей личности. Такова беда всех монархов, ибо, несомненно, никто не руководствовался лучшими намерениями, чем я. Те, кто занимал высокие должности вокруг меня, могли бы без труда помочь мне справедливо оценить достоинства вашей работы: это такая вещь, которую я мог оценить самостоятельно, не обращаясь ни к кому другому. После того, как я ознакомился с вашими таблицами и смог составить правильное представление о принципе системной классификации, на котором они основаны, и об эффективном методе закрепления в памяти дат, мест и взаимосвязей, я могу только сожалеть, что не создал нормальную школу, ученики которой должны были бы постоянно обучаться с помощью “Исторического Атласа”. Все наши лицеи были бы снабжены вашей книгой или её отдельными частями, и я бы обеспечил ей самую громкую известность.
Почему, я спрашиваю вновь, вы не привлекли моё внимание к ней? Пусть это неприятно, но раскрою вам тайну: те, кто стремится добиться благосклонности монархов, должны быть чуточку
740
интриганами; скромное достоинство почти всегда остаётся в тени. Но, возможно, Кларк, Декре, Монталиве, Монтескье и даже Барбье, мой библиотекарь, не сообщили мне то, что, как вы надеялись, они должны были довести до моего сведения. Такова ещё одна унижающая чувство достоинства истина: иногда люди с большим успехом добиваются благосклонности монархов при посредничестве камердинеров, чем с помощью высокопоставленных персон! И как это случилось, что ваш друг, госпожа де С., не говорила мне о вашей книге? Мы часто с ней ездили вместе в одной карете, и она могла бы добиться для вас всего, чего бы захотела, описав мне ваши достоинства». — «Да, сир, — ответил я, — но в то время я...» — «Я понимаю вас. В то время вы, вероятно, не стремились добиться благосклонности императора?» — «Сир, мой час тогда ещё не пробил». Затем последовало долгое описание обстоятельств, сопутствовавших моему первому представлению особе императора, заданий, которые он давал мне, дополненное рассказом о том, как формировалось его мнение обо мне, — всё это он, как обычно, хранил в своей памяти.
Во время этого разговора я стоял около письменного стола в его второй комнате, а император расхаживал по всей длине обеих его комнат. Предмет разговора представлял для меня большой интерес. Но для того, чтобы сформировать точное представление о моих чувствах в этот момент, необходимо вернуться ко времени правления Наполеона, то есть к тому периоду, когда никто не смел надеяться знать его мысли и даже не мог подумать о возможности беседовать с ним конфиденциально и без всяких церемоний. О подобном счастье тогда можно было только мечтать, а сейчас я испытывал такие ощущения, будто беседую с ним, находясь на Елисейских Полях.
«Я не имел о вас правильного представления, — заявил император, — ничего определённого я о вас не знал. У вас не было друга в моём ближайшем окружении, который мог бы рекомендовать вас мне, и вы не стремились к тому, чтобы я обратил на вас внимание. Некоторые из тех лиц, на которых, как вы, возможно, думали, вы могли бы положиться, на самом деле действовали даже в ущерб вашим интересам. Я ничего не знал о вашей работе. Если бы я знал, то это было бы весьма важным обстоятельством, благодаря которому вы могли надеяться на завоевание моей благосклонности. Мне также было неизвестно, что вы, как и я, учились в военной школе в Париже. Если бы я знал, то это обстоятельство было бы существенным поводом обратить на вас внимание. Вы были эмигрантом, поэтому никогда бы не заслужили моего полного доверия. Я знал, что вы в достаточной мере были преданы Бурбонам, поэтому вас никогда бы не ознакомили с особо важными секретами моего правительства».
741
«Но, сир, — ответил я, — Ваше Величество разрешали мне приближаться к вашей особе, вы назначили меня государственным советником и поручали мне различные миссии». — «Это всё потому, что я считал вас честным человеком, и, кроме того, по своему характеру я не склонен к недоверчивости. Не знаю почему, но я считал вас абсолютно неподкупным человеком во всём, что касается финансовых дел. Если бы вы произнесли мне хотя бы одно слово о вашем деле с П. (по поводу коммерческих лицензий), то я сразу же признал бы вашу правоту в этом вопросе. Но, повторяю, я никогда бы не привлёк вас к решению политических вопросов». — «Зато, — заметил я, — какого риска я избежал в Париже и в Голландии, выполняя ваши задания! Англичане тогда в отношении нас придерживались определённых правил — тех, что и мы сейчас придерживаемся в отношении них, — и, поддерживая мои старые связи, я рисковал, пересылая письма моих знакомых: ведь содержание этих писем казалось мне абсолютно безобидным. Какие опасности меня бы подстерегали, стань моё поведение предметом изучения со стороны министра полиции! А ведь я только использовал вполне естественное право действовать в рамках тех полномочий, которыми Ваше Величество, оказав мне доверие, меня наделили. Я настолько был уверен в том, что моя совесть чиста, и настолько убеждён в правильности моих намерений, что посчитал себя свободным от соблюдения правил, которые, как мне казалось, были установлены не только для моей персоны».
«Ну что же, — ответил император, — я мог бы понять всё это, и я с готовностью поверил бы подобному объяснению вашего поведения, ибо никто на свете не готов так прислушиваться к голосу здравого смысла, как это делаю я. Я хотел, чтобы именно таким образом люди выполняли возложенные на них обязанности; и всё же совершенно очевидно, что вас бы признали виновным, если бы ваше поведение стало предметом расследования, так как все безоговорочно выступили бы против вас. Таковы были роковые обстоятельства, а моё положение в то время было бедственным. Кроме того, мне было достаточно хотя бы один раз испытать к кому-либо чувство недоверия, чтобы оно меня уже никогда не покидало: это опять же объяснялось моим бедственным положением и неблагоприятными обстоятельствами. И как могло быть иначе? У меня не было времени рассматривать каждый вопрос в деталях. Я мог рассматривать лишь вопросы, сформулированные в краткой форме. У меня не было сомнений, что иногда меня обманывали, но разве у меня был иной выбор? Не многим монархам удавалось справляться с подобными делами лучше меня».
«Сир, я испытывал глубокое чувство обиды, — признался я, — оттого, что Ваше Величество никогда не обмолвились со мной ни
742
единым словом в императорском дворце и на ваших утренних приёмах. И, тем не менее, вы всегда находили повод поговорить обо мне с моей женой, когда меня при этом не было. Иногда я думал, что я слишком мало известен вам, и боялся, что у Вашего Величества были причины быть недовольным мною». — «Ни в коем случае, — возразил император. — Если я и говорил о вас, когда вы отсутствовали, то это потому, что я сделал правилом говорить с жёнами об их мужьях, когда последние отправлялись куда-нибудь с заданием. Если я и обходил вас, когда вы присутствовали на моих приёмах в императорском дворце, то это потому, что я не слишком высоко ценил вас. То же самое происходило со многими другими лицами. Вы были для меня одним из многих в общей массе; с моей точки зрения, вы ничем не выделялись из неё. Вам было разрешено приближаться ко мне, но вы не использовали эту привилегию. Вам поручали различные миссии, но вы сами упускали возможность использовать их результаты по возвращении домой. Оставаться на задворках монаршего двора — большая ошибка придворных. В моих глазах вы были всего лишь пустым местом. Несмотря на это, я припоминаю, что иногда раздумывал о том, чтобы поручить вам серьёзное дело. Был один человек, от которого вы в какой-то мере зависели, заявлявший, что он является вашим другом; он был связан с министерством и имел возможность и власть для того, чтобы содействовать вам, но он всячески отвлекал моё внимание от вас и способствовал тому, что я продолжал относиться к вам с полным безразличием. Этот человек хорошо вас знал и, вероятно, опасался вас; к тому же хорошо известно, что во всех случаях я принимал скорые решения».
«Сир, — ответил я, — моё положение было тем более печальным, поскольку друзья постоянно поздравляли меня, считая, что я встречаю благосклонное отношение при дворе, и предсказывали мне блестящую карьеру. Постоянно ходили слухи о моём назначении на всякого рода должности: иногда утверждалось, что меня назначат морским префектом Бреста, Тулона или Антверпена, что я получил пост министра внутренних дел или военно-морского флота, или что мне доверили важнейшую должность, связанную с воспитанием Римского короля, и Т.Д.».
«Ну что же, — заявил император, — поскольку вы напомнили мне об этом, то я должен сказать, что некоторые из этих слухов не были полностью лишены основания. Я действительно обдумывал идею привлечь вас к воспитанию Римского короля. Я также был намерен, когда вы вернулись из Голландии, назначить вас морским префектом Тулона, а эту должность я приравнивал к посту министра. В море находились двадцать пять линейных кораблей, и я хотел увеличить их количество. Но ваш друг, министр, отговорил меня от
743
того, чтобы назначить вас на эту должность. По его словам, вы принадлежали к старым кадрам военно-морского флота, и после вашего назначения был бы неизбежен конфликт ваших взглядов с убеждениями нового поколения морских офицеров. Это стало для меня решающим доводом против вашего назначения, и я более не вспоминал о вас; но теперь я узнал вас и нахожу, что вы — тот самый человек, который был мне нужен тогда. Думаю также, что у меня были и некоторые другие планы относительно вашего продвижения по службе, но должен повторить вновь, что вы сами пренебрегли вашими личными интересами. Вы отступали, когда следовало продвигаться вперёд. Нужно ли говорить вам, что, учитывая самые лучшие намерения с моей стороны, шанс на то, чтобы добиться назначения на важный пост, был равен шансу на выигрыш в лотерее. Идея приходила мне в голову, и я принимал решение, но, если это решение немедленно не выполнялось на практике, я забывал об этой идее. Я был слишком занят другими делами. Предлагался более удачливый кандидат на пост, — и его утверждали в должности. Но я прервал вас...»
«Сир, — продолжал я, — поскольку я ничего не знал о добрых намерениях Вашего Величества в отношении моей персоны, то оказался в необычной ситуации, получая указанные поздравления. Я старался выпутаться из этого затруднительного положения с максимально возможным тактом, но чем большие усилия я прилагал для этого, тем сильнее меня обвиняли в излишней скромности. Я никогда ни о чём не просил Ваше Величество, за исключением должности чиновника, принимавшего в Государственном совете запросы и иски граждан, которую я немедленно получил. Кларк бранил меня, утверждая, что я унизил своё достоинство подобной просьбой. Он сказал, что я должен был просить о назначении членом Государственного совета и что Ваше Величество выполнили бы мою просьбу».
«Нет, — ответил император, — для этого я недостаточно хорошо знал вас. Я бы посчитал эту просьбу следствием глупого честолюбия».
«Сир, — заметил я, — я обладал достаточным тактом, чтобы догадаться, каким будет ваше мнение».
«Всё это достаточно странно, — продолжал император. — Но, в конце концов, Кларк, возможно, был прав. Просьба о малозначительной должности в Государственном совете могла унизить вас в моих глазах, она могла окончательно утвердить моё невысокое мнение о вас как о человеке, который ничем не выделяется из общей массы людей с заурядными способностями. Я был очень рад видеть моего камергера занятым каким-то делом, но должность чиновника, принимавшего в Государственном совете запросы и иски граждан, была слишком мелкой. Забавно, — продолжал он, — как сейчас оживает моя память, когда я говорю об обстоятельствах того
744
дела. Вы выполняли отдельные задания, которые быстро выпали из моей памяти, поскольку я никогда не обращал на них внимания. Если бы обо всех этих заданиях мне доложили одновременно, то это помогло бы мне составить о вас совершенно иное мнение. Вы служили добровольцем во Флюшинге. Я знал об этом; и то, что я должен был видеть как само собой разумеющееся в поведении любого другого человека, сильно поразило меня в поведении эмигранта, человека материально обеспеченного, который покинул свою семью ради выполнения долга».
«Сир, я получил самую лестную награду, когда вернулся в Париж. Ваше Величество говорили со мной о Флюшинге».
«Но, — заявил император, — вы позволили предать забвению предмет этого разговора. Вы направили мне несколько письменных сообщений. Я постепенно вспоминаю о них. Однако вы направили мне несколько проектов, касавшихся использования Адриатического моря, которыми я остался доволен. Ваше предложение заключалось в том, чтобы овладеть Адриатическим морем и создать там флот. Корабли можно было построить, не тратя больших сумм и используя дерево громадных лесов Хорватии. Я направил ваши проекты министру военно-морского флота, который никогда более не напоминал мне о них. Но вы представляли и другие проекты на моё рассмотрение...»
«Сир, вы, вероятно, имеете в виду планы военных действий на море против Англии, снабжённые пояснительной картой».
«Да, я вспоминаю. Карта лежала несколько дней на письменном столе в моём кабинете. Я высказал пожелание встретиться с вами, но вы тогда уезжали из Парижа со служебным заданием».
«Сир, примерно в то же время я имел честь послать вам план преобразования Марсова Поля в античный бассейн, который стал бы украшением дворца Римского короля. Я предложил вырыть достаточно глубокий котлован для бассейна, с тем, чтобы наполнив его водой, в него можно было спустить маленькие корветы. Курсанты морского училища, которое, в соответствии с моим планом, следовало учредить при военной школе, могли бы построить, оснастить эти корветы и войти в состав их экипажей. Все принцы императорского дома были бы обязаны в течение двух лет посвящать себя этим морским учениям в бассейне, независимо от их последующей карьеры. Ваше Величество могли бы побудить высокопоставленные семьи империи дать своим сыновьям навыки морского дела. Я не сомневался, что все эти обстоятельства и красочное зрелище, представленное столице, сразу же сделали бы военно-морской флот популярнейшим делом во Франции».
«Ах! Я не был осведомлён о грандиозности вашего плана, — воскликнул император, в мыслях которого любая идея немедленно
745
становилась значительной. — Этот проект мне бы очень понравился. Он мог дать великолепные результаты. После осуществления этого проекта оставался бы всего лишь один шаг, чтобы сделать реку Сену судоходной и прорыть канал от Парижа к морю. Это мероприятие нельзя рассматривать как колоссальное, ибо римляне в античные времена сделали намного больше, равно как и китайцы в наши дни. Оно дало бы армии приятное занятие в условиях мира. Я обдумывал многие планы подобного рода. Но наши враги сковали меня, заставив воевать. Какой славы они лишили меня! Но продолжайте...»
«Сир, я также представил на рассмотрение Вашего Величества некоторые идеи относительно совершенствования системы обучения в военно-морских училищах». — «Но разве я не принял соответствующих мер в военных школах, которые я учредил? — спросил император. — Ваши идеи совпадали с моими?» — «Сир, решение о планах для ваших школ было уже принято. Я всего лишь предложил некоторые идеи для их совершенствования». — «Да, сейчас я припоминаю нечто в этом роде. Но я думаю, что ваши идеи были слишком демократичными, не так ли?» — «Нет, сир, я исходил из принципа, который вы предусматривали исключительно для соперничества переходных классов школ, и предлагал добавить следующее: соперничество переходных классов даёт возможности развития, но, помимо этого, необходимо использовать те возможности, которые могли появиться в результате соперничества моряков, и, более того, все возможности, которые могло дать соперничество лиц, имевших отношение к императорскому двору».
«Да, я припоминаю, — сказал император. — Ваши мысли были свежи и необычны, они привлекли моё внимание. Я передал этот план министру, который или использовал его для своих целей, или высмеял его. Я также помню, что в переписке, связанной с выполнением в Голландии порученного вам задания, которую я приказал представить мне, упоминался план отправки наших кораблей из Северного моря в Балтийское. Для этого предлагалось использовать каналы, которые соединили бы Эльбу, Одер и Вислу. Эта идея понравилась мне: она соответствовала моему вкусу. И, когда вы вернулись в Париж, я, увидев вас на утреннем приёме, готов был предложить вам осуществить некоторые мероприятия для выполнения этого плана. Но вы, видимо, не поняли сути моих вопросов или дали мне неудовлетворительные и неясные ответы. Я пришёл к выводу, что идеи, вероятно, были предложены кем-то другим, а вы их выдали за свои. Поэтому я отвернулся от вас и заговорил с вашим соседом. Меня следует упрекнуть в том, что я поступил так неосмотрительно, но я ничего не мог поделать.
746
Когда я размышляю над всеми этими обстоятельствами, то прихожу к выводу: у меня было так много причин обратить на вас внимание, что я просто поражён тем, что предал вас забвению. Мне не даёт покоя мысль, что вы, должно быть, очень ловко себя вели, раз вам удалось полностью уйти из поля моего зрения. Совершенно определённо, что только сейчас я припомнил все эти факты; и во время нашего отъезда из Европы, и некоторое время после этого вы были для меня незнакомцем: я помнил только ваше имя и узнавал вас по внешнему виду. Я смотрел на вас как на чужака, о котором ничего не знал. Как вы объясняете всё это? Возможно, вы не сможете объяснить, но, тем не менее, всё это правда. Я спрашиваю вас вновь, почему вы не обратились за поддержкой к своим друзьям, почему вы не обратились лично ко мне?»
«Сир, те, кто пользовался привилегией находиться непосредственно в вашем окружении, преследовали только свои интересы. Их дружба ограничивалась лишь общими пожеланиями. Замолвить слово за другого значило для них использовать своё влияние, а они сохраняли подобную возможность только ради собственной выгоды. Кроме того, хотя я и сам имел возможность говорить за себя, я всегда предпочитал, чтобы другие говорили за меня. У вас, сир, было мало свободного времени, ваш распорядок дня был неопределённым, вы требовали, чтобы те, кто вам что-либо объяснял, делали это предельно коротко. А я был очень застенчивым человеком и до того боялся произвести неблагоприятное впечатление, что предпочитал оставаться вне вашего поля зрения. Ибо недостаточно было заинтересовать вас моей персоной: необходимо было, чтобы интерес ко мне дал определённый результат».
«Согласен, это было ещё одной причиной вашего поведения, — сказал император. — Вы дали ему правильную оценку, ибо, если бы даже я знал вас, как я знаю вас сейчас, ваши скромность и застенчивость, вероятно, воспрепятствовали бы вашей карьере. Теперь я вспоминаю одно обстоятельство, которое, возможно, послужило вам во вред. Когда мадам де Монтескье предложила вашу кандидатуру на должность камергера, она представила вас человеком с большим состоянием, но вскоре я узнал, что это не совсем так. Я не хочу сказать, что это обстоятельство каким-то образом навредило вам и стало основанием для того, чтобы воспрепятствовать вашему назначению. Но некоторые люди, которые хотели стать камергерами Римского короля, жаловались на то, что их не приняли на эту должность, несмотря на их большие состояния, другие же приводили ваш пример, если думали, что им отказано из-за их бедности. Таковы пути достижения цели при дворе монарха и трудности, связанные с этим».
747
«Представляется очевидным, сир, что с моим характером мне было суждено всегда оставаться неизвестным Вашему Величеству». — «Да, — сказал император, — и это почти так и произошло. Но, тем не менее, когда я вернулся с острова Эльба, разве я не назначил вас камергером? А ведь их число было очень ограниченным. Разве я не ввёл вас сразу в состав Государственного совета? Вы были представителем старой знати, вы были эмигрантом, и вам пришлось перенести большие испытания. Для меня всё это говорило в вашу пользу. Кроме того, столь многие хвалили ваше поведение, что рано или поздно я должен был узнать вас как следует».
Прибытие библиотеки — Положительный отзыв Хорнеманна о генерале Бонапарте
22 июня 1816 года
Сегодня погода очень скверная. В пять часов вечера меня вызвал император. Он находился в картографической комнате в окружении членов своей свиты, которые были заняты тем, что распаковывали ящики с книгами, доставленные кораблём «Ньюкасл». Император сам принимал участие в работе и, судя по всему, был очень доволен этим занятием. Люди естественным образом приспосабливаются к условиям, в которые попадают: они радуются мелочам соразмерно
увеличению их страданий. Увидев в одном из ящиков подборку газеты «Монитор», которую долго ждали, император взял её и тут же с нетерпением стал просматривать газеты.
После обеда он перелистывал книгу о путешествиях Парка и Хорнеманна в Африке, прослеживая их маршрут по географической карте в моём «Историческом Атласе». В повествовании об этих путешествиях Хорнеманн и «Африканское общество Лондона» привели пространные свидетельства о великодушной помощи, которую Парк и Хорнеманн получали от главнокомандующего французской армией в Египте (то есть от Наполеона), который не упускал ни одной возможности содействовать их научным открытиям. Вежливая и благородная манера, с которой упоминались эти факты, была очень приятна императору, давно привыкшему к тому, что его имя сопровождается оскорбительными эпитетами.
О памяти — О торговле — Идеи и планы Наполеона в отношении некоторых вопросов политической экономии
23 июня 1816 года
Я пришёл к императору около трёх часов дня. Он был настолько рад получить новые книги, что провёл всю ночь, читая их и диктуя Маршану свои замечания о прочитанном. Он очень устал, и мой визит предоставил ему возможность сделать небольшую передышку. Он оделся и вышел погулять в саду.
Во время обеда император рассказал, что в юности прочитал великое множество книг; просматривая сейчас книги, имеющие отношение к Египту, он сделал вывод, что ему едва ли стоит вносить какие-либо поправки в свои воспоминания о кампаниях в Египте, которые он продиктовал здесь, на острове. Он привёл в рукописи много фактов, о которых он не читал, но которые оказались правильными, когда он сверил их с тем, что написано в присланных книгах.
В связи с этим заговорили о возможностях человеческой памяти. Император сказал, что голова без памяти подобна гарнизону крепости без фортификаций. Его голова, как он сказал, обладает полезным видом памяти: эта память не всеобъемлюща и неограничена, но избирательна, достоверна и сохраняет только то, что необходимо. Один из участников беседы заметил, что его память подобна его зрению: чем дальше находятся места и объекты, тем хуже он их видит. На это император ответил, что, по его мнению, его память
749
подобна его сердцу, которое сохраняет правдивый отпечаток всего того, что было для него дорогим.
Что касается хорошей памяти и любимых воспоминаний, то я должен привести слова императора, которые я не внёс в дневник в тот день, когда они были произнесены. Однажды за обедом, рассказывая об одном из своих сражений в Египте, император назвал номера бригад, принимавших в нём участие. Когда госпожа Бертран услышала приведённые императором номера бригад, то не удержалась и спросила, каким образом, по прошествии столь длительного времени, император смог вспомнить все эти числа. «Мадам, это память любовника о его бывших любовницах», — ответил Наполеон.
После обеда император распорядился, чтобы ему принесли «Исторический Атлас». Он хотел перепроверить некоторые факты, о которых прочитал в только что полученных им книгах об Африке, и был удивлён, что все они точно соответствовали данным, приведённым в «Историческом Атласе».
Затем он начал беседу о торговле, о её принципах и системах, которые он ввёл. Он высказался против тех принципов экономистов, которые, как он сказал, были правильными в теории, но ошибочными на практике. Эти принципы несовершенны, поскольку политические системы государств различны, продолжал император; местные условия всё время требуют корректировки общих принципов. Таможенные пошлины, которые так строго осуждаются политическими экономистами, действительно не должны являться самоцелью казначейства: они должны быть гарантом и защитой страны и соответствовать природе и целям её торговли. Голландия, у которой нет собственного промышленного производства и которая занимается только транзитной и комиссионной торговлей, должна быть освобождена от всех пут и ограничений. Франция, которая, наоборот, имеет все отрасли промышленного производства, должна постоянно стоять на страже своих интересов и принимать меры против импорта товаров своего конкурента, который может по-прежнему превосходить её в промышленном производстве, и против корыстолюбия, эгоизма и безразличия маклеров.
«Я не совершил ошибку современных составителей научных систем, — сказал император, — которые воображают, что вся мудрость наций заключена в них. Опыт является истинной мудростью наций. И что означают все рассуждения экономистов? Они неустанно восхищаются экономическим процветанием Англии и приводят её в пример, но английская таможенная система является более обременительной и произвольной, чем в любой другой стране. Они также осуждают экономические запреты; тем не менее именно Англия даёт пример экономических запретов, а они, в действительности,
750
необходимы для производства определённых потребительских товаров. Таможенные пошлины не могут в достаточной степени заменить экономические запреты; всегда найдутся пути для того, чтобы обойти законодательные нормативы. Во Франции мы ещё очень далеки от решения этих деликатных вопросов, которые наше общество в целом всё ещё не воспринимает в должной мере и вообще плохо понимает. Тем не менее, каких впечатляющих успехов мы добились! Какая планомерность была привнесена в развитие экономики страны моей последовательной классификацией сельского хозяйства, промышленности и торговли; эти отрасли народного хозяйства отличаются между собой, но вместе они являют величественную картину постепенного и поступательного развития.
Во-первых, сельское хозяйство — главная основа империи.
Во-вторых, промышленность — достаток, благополучие населения.
В-третьих, внешняя торговля — умелое использование излишков двух первых сфер.
В течение всего времени революции положение сельского хозяйства в стране непрерывно улучшалось. Иностранцы считали, что революция погубила Францию. Однако в 1814 году англичане были вынуждены признать, что мы у них мало чему могли научиться (если вообще было что-то, что имело смысл у них перенять).
Во время моего правления промышленность, производство товаров на экспорт и внутренний рынок добились громадного прогресса. Применение достижений химии способствовало тому, что производство продвигалось вперёд гигантскими шагами. Я дал толчок развитию народного хозяйства страны, результаты которого ощущались по всей Европе.
Внешняя торговля, которая по своим результатам безгранично отстаёт от сельского хозяйства, для меня была предметом второстепенной важности. Внешняя торговля привязана к сельскому хозяйству и промышленности страны, а не наоборот. Интересы этих трёх фундаментальных отраслей экономики не совпадают друг с другом и часто вступают в противоречие. Я всегда содействовал их естественному поступательному развитию, но я не мог и не должен был ставить их в один ряд. Со временем станет очевидным всё то, что я сделал: национальные ресурсы, которые я создал, и независимость от англичан, которой я добился. Теперь мы знаем тайну торгового договора 1783 года. Франция всё ещё ропщет против его автора, но англичане требует его выполнения под страхом возобновления войны. Они хотели сделать то же самое после подписания договора в Амьене, но тогда я был могущественным монархом, я был великаном. Я заявил им, что, даже если они овладеют холмами Монмартра,
751
я всё равно откажусь подписать договор. Эти слова прозвучали эхом по всей Европе.
Теперь англичане стремятся навязать Франции аналогичный договор, если народное возмущение и протест всей нации не вынудят их отступить. Это рабство будет дополнительным позором в глазах французской нации, которая сейчас начинает ясно осознавать свои интересы.
Когда я возглавил правительство, американские корабли, которым разрешили, вследствие их нейтралитета, заходить в наши порты, привозили нам сырьё и имели наглость отплывать из Франции без груза, чтобы забрать английские товары в Лондоне. Более того, они имели наглость оплачивать свои расходы векселями на имя людей в Лондоне. В результате английские промышленники и маклеры извлекали огромную выгоду в ущерб нашим интересам. Я издал закон, в соответствии с которым любой американский корабль, ввозящий товары, должен вывозить французские товары в таком же количестве. Против этого закона был поднят страшный шум, утверждалось, что я погубил внешнюю торговлю. Но каковы были последствия принятия этого закона? Мои порты были закрыты, англичане владели морями, но, несмотря на всё это, американцы вернулись и подчинились моим правилам. При более благоприятных обстоятельствах я мог бы сделать гораздо больше!
Таким образом, я наладил во Франции производство изделий из хлопка, которое включает:
1) бумажную пряжу. Мы ранее не занимались этим, англичане снабжали нас пряжей, делая нам одолжение.
2) хлопчатобумажную ткань. Мы не производили её, а получали из других стран.
3) текстильную набивку. Это был единственный компонент хлопчатобумажного производства, которым мы занимались сами. Я хотел наладить в стране производство первых двух видов изделий и предложил Государственному совету запретить их импорт. Моё предложение вызвало большую тревогу. Я призвал Оберкампа и провёл с ним основательную беседу. Я узнал от него, что это запрещение, несомненно, вызовет настоящий шок, но что после года или двух лет упорного следования моей линии мы добьёмся успеха и получим огромные преимущества. Несмотря на все возражения, я издал такой декрет. Это был настоящий образец искусного управления государственными делами.
Сначала я ограничился запрещением импорта хлопчатобумажной ткани. Затем я расширил запрещение на бумажную пряжу. И теперь мы в стране производим все три компонента хлопчатобумажного производства с большой выгодой для нашего населения и в ущерб
752
англичанам, которые, несомненно, об этом сожалеют. Это доказывает, что в деятельности гражданского правительства — так же, как и во время войны, — решительность характера часто необходима для достижения успеха. Я предложил миллион франков в качестве вознаграждения за открытие метода прядения льна как хлопка, и это открытие, несомненно, было бы сделано*, если бы не наши несчастья.
Я поощрял и производство шёлка: это было ещё одной целью, достичь которой я стремился. Как император Франции и король Италии я рассчитывал получать 120 миллионов франков ежегодного дохода от производства шёлка.
Система торговых лицензий была, несомненно, вредна. Она не годится в качестве принципа. Эта система была изобретением англичан, мне она служила только в качестве кратковременного ресурса. Даже континентальная система, огромная и строгая, рассматривалась мною всего лишь как мера, вызванная войной и временными обстоятельствами.
Трудности, связанные с внешней торговлей, и даже её полный застой во время моего правления были следствиями обстоятельств и катастроф того периода. Достаточно было кратковременной мирной передышки, чтобы внешняя торговля немедленно достигла своего естественного уровня».
Артиллерия — Ветераны-артиллеристы
24 — 25 июня 1816 года
Император сообщил нам, что он провёл полных двадцать четыре часа за чтением статей «Монитора» по вопросу об Учредительном собрании. Он сказал, что нашёл это чтение таким же увлекательным, как чтение романа; статьи отмечали начало возвышения тех лиц, которые в более позднее время стали играть выдающуюся роль в государственных делах страны. Однако, заявил он, необходимо иметь представление о внешних побудительных причинах, так как в противном случае отчёты о заседаниях Учредительного собрания становятся менее интересными и часто непонятными. Эти отчёты передают дух первых заседаний Собрания, представляют первые обсуждавшиеся вопросы, однако проблемы революции при этом остаются скрытыми.
* Лён действительно в настоящее время прядётся как хлопок в Вервье и в Льеже.
753
После обеда император разговаривал об артиллерии. Ему хотелось, чтобы калибры пушек были едиными. Генерал часто не мог понять, как лучше использовать пушки, из-за разности их калибров. Во время боевых действий единообразие технических арсеналов войны становится наиважнейшим фактором успеха.
Император заметил, что во время сражений огневая мощь артиллерии используется в недостаточной степени. Во время военных действий основное внимание уделяется тому, чтобы не было недостатка в боеприпасах. Когда их действительно не хватает, тогда, конечно, в порядке исключения, их следует экономить; но во всех других случаях необходимо поддерживать постоянную интенсивность стрельбы из пушек. Император, который сам часто был на волосок от смерти, стоя под ядрами, знал цену случая с точки зрения судьбы сражения и всей военной кампании. Он подтверждал правильность принципа поддержания постоянной интенсивности артиллерийского огня и не обращал внимания на связанные с этим финансовые затраты. Более того, заявил император, если он хотел выбрать более безопасное место во время сражения, то обычно располагался на расстоянии 600 метров от пушек противника, а не на расстоянии 1200 метров. В первом случае ядра противника часто пролетали над его головой, тогда как во втором случае ядра должны были падать рядом с ним.
Император заметил, что невозможно было заставить артиллерию вести огонь во время наступления колонн собственной пехоты, поскольку тогда сама артиллерия подвергалась огню со стороны батарей противника. Это следствие естественного чувства трусости или непреодолимого инстинкта самосохранения, добродушно заявил император. Артиллерийский офицер, который был среди нас, выразил протест против этого замечания. «Тем не менее это правда, — продолжал император, — вы сразу же принимаете все меры предосторожности, когда вас атакует противник. Вы стремитесь уничтожить его, чтобы он не уничтожил вас. Вы не открываете огонь по врагу, считая, что тогда он перестанет беспокоить вас и направит огонь своих пушек против колонн наступающей пехоты, которая имеет гораздо большее значение для исхода сражения».
Император часто в разговоре затрагивает тему артиллерии, в которой он служил в молодости. Он говорит, что это был самый лучший род войск в Европе. И это было что-то вроде семейной службы. Старшие офицеры обходились с подчинёнными, можно сказать, по-отечески. Это были самые храбрые и достойные люди во всём мире, безупречные, просто золото. Они были довольно пожилыми людьми, поскольку мир был долгим. Молодые офицеры
754
подсмеивались над ними, — сарказм и ирония были тогда в моде; но они обожали своих стариков и всегда по достоинству ценили их заслуги*.
В третий раз мы получили ящик с книгами, доставленными фрегатом «Ньюкасл». Император очень устал, помогая распаковывать ящики и расставлять книги на полках.
Около трёх часов дня императору были представлены несколько человек; среди них были адмирал с супругой.
Император чувствовал себя нездоровым, он обедал в своей комнате вместе с гофмаршалом.
Мнение императора о генерале Друо — Сражение при Гогенлиндене — Моро
26 июня 1816 года
Император вызвал к себе меня и моего сына. Мы принялись просматривать материалы «Монитора», чтобы проверить и дополнить рукопись о военных кампаниях в Италии.
Император поручил нам выбрать из статей «Монитора» все сообщения и официальные документы, подтверждавшие приведённые в рукописи данные о кампаниях в Италии. Император хочет, чтобы они были надлежащим образом классифицированы. Он хочет, чтобы мы подсчитали их объём. Тогда он смог бы сам определить место, которое они займут в книге, когда она будет напечатана. Одновременно он напомнил мне, что публикация книги отныне является моим делом и что я, тем самым, буду заниматься обеспечением своего будущего. Восхитительные слова, ценность которым ещё больше, чем их значение, придавали тон голоса и знакомое выражение лица!
Сегодня во время обеда император вновь говорил о характерах своих генералов. Он с похвалой отозвался об отдельных генералах, большинства из которых в настоящее время уже нет в живых. Он дал высокую оценку способностям генерала Друо. Он уверен, что генерал Друо обладал всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать великим генералом, стоявшим выше многих его маршалов. У императора имелись достаточные причины так считать.
* В своём завещании Наполеон проявил это чувство распоряжением в пользу барона Дютейля, своего бывшего командира Оксоннской школы, и его детей. «С благодарностью, — написал он собственноручно, — за заботы, проявленные им, когда я находился под его командованием в звании лейтенанта и капитана».
755
У него не было и тени сомнений в том, что генерал Друо был способен командовать ста тысячами солдат. «И возможно, — добавил он, — что сам генерал так не считал, но, в конце концов, это можно рассматривать как ещё одно хорошее качество его характера».
Император вновь говорил об изумительном мужестве Мюрата и Нея, храбрость которых, как заявил он, часто опережала их здравый смысл. В этом заключается разгадка некоторых поступков отдельных лиц: несоответствие между характером человека и его разумом объясняет всё.
Разговор зашёл о сражении при Гогенлиндене. Император высказал мнение, что «это была одна из тех крупных военных побед, которые приходят случайно и одерживаются без предварительного плана. Моро, — повторил он, — был лишён изобретательности; он не был в достаточной степени решительным человеком, поэтому он более всего подходил для того, чтобы обороняться. Сражение при Гогенлиндене носило противоречивый характер: враг был неожиданно атакован во время собственного наступления и побеждён войсками, которые он уже разгромил и почти уничтожил. Главная заслуга в этом принадлежала войскам и генералам корпуса, оставшегося в неполном составе, которые оказались перед лицом самой большой опасности во время сражения и проявили себя на поле брани настоящими героями».
Во время обсуждения кампании в Италии мы сказали императору, что ежедневные победы, принёсшие ему всемирную славу, должны были стать для него источником огромного удовлетворения. «Ни в коем случае, — ответил он. — Так полагали только те, кто находился
756
вдали от мест сражений. По обыкновению, те, кто был вдали, знали только о наших успехах, но ничего не знали о нашем положен™. Если бы те победы доставляли мне лишь удовольствие, я бы воспользовался передышкой. Но мне всё время грозила опасность, и победа прошедшего дня быстро забывалась из-за необходимости добиваться новой победы завтра».
Я помню, как слышал весьма характерное мнение о Моро, высказанное известным генералом Ламарком. Ламарк испытывал сильную привязанность к Моро и в течение долгого времени находился у него в подчинении. Он старался объяснить мне разницу в тактике, применявшейся Моро и Наполеоном, и сказал: «Если бы две армии под их командованием находились вместе и у них было бы достаточно времени для того, чтобы двинуться в поход, то я бы встал в ряды армии Моро, которой всегда были свойственны порядок, чёткость и расчёт. В этих вопросах нельзя было превзойти или даже быть равным Моро. Но если бы двум армиям предстояло двинуться навстречу друг другу из разных мест, которые бы разделяли сто лье, то император сумел бы победить своего соперника раньше, чем Моро смог бы ознакомиться с окружающей местностью».
Неприятности от крыс — Мошенничество лорда Каслри — Французские наследницы
27 июня 1816 года
Мы чуть было не остались без завтрака: нашествие крыс, проникших ночью в кухню с разных сторон, лишило нас всего съестного. Дом буквально наводнён этими тварями, большими, дерзкими и злобными; им не потребовалось много времени, чтобы проникнуть в помещение через наши стены и полы. Привлечённые запахом пищи, они пробрались даже в гостиную, где мы обедаем. Несколько раз мы были вынуждены вступать с ними в бой после десерта, а однажды, когда император пожелал удалиться и ему передали его шляпу, из неё выпрыгнула огромная крыса. Наши слуги пытались разводить кур, но были вынуждены отказаться от этой затеи, так как крысы пожирали всех птиц. Они добирались до куриц даже ночью, когда те сидели на насестах.
Сегодня император переводил газетную статью, в которой сообщалось, что лорд Каслри утверждал в публичной речи, будто Наполеон после своего падения не колеблясь заявил, что, сколько бы он ни правил Францией, он продолжал бы воевать против Англии, стремясь добиться только одной цели — уничтожить её.
757
Император не мог удержаться от проявления чувства раздражения. «Лорд Каслри, — возмущённо заявил он, — должно быть, привык лгать и полагаться на доверчивость своих слушателей. Разве их здравый смысл не подскажет им, что я не мог сделать подобное глупое заявление, даже если бы имел такие намерения!»
Далее в статье утверждалось следующее: лорд Каслри сказал в парламенте, что причина, в силу которой французская армия была так предана Бонапарту, заключалась в том, что он ввёл своего рода повинность для всех наследниц в империи, распределяя их между его генералами. «И здесь, — заявил император, — лорд Каслри вновь умышленно лжёт. Он приезжал во Францию, вращался в нашем обществе, имел возможность ознакомиться с нашими нравами и законами и знает всю правду: что-либо подобное во Франции было совершенно неосуществимо и вне моей власти. За кого он принимает французов? Они никогда бы не подчинились подобной тирании. Несомненно, я способствовал заключению большого количества брачных союзов, и я бы с радостью содействовал ещё тысячам таких браков: это был один из наиболее эффективных способов слияния и объединения непримиримых политических партий. Если бы у меня было больше свободного времени, то я бы не пожалел сил для того, чтобы расширить практику заключения таких браков в провинции и даже в Рейнском союзе, — это усилило бы связь отдалённых частей империи с Францией; но в этих делах я влиял на процесс, но никогда не прибегал к власти. Лорд Каслри игнорирует такое различие: для его политики важно представить меня одиозной фигурой. Он не щепетилен в выборе средств, он не отказывается от любой клеветы; он обладает всеми преимуществами передо мной. Я закован в цепи, а он принял все меры, чтобы заткнуть мне рот и не дать возможности ответить ему. К тому же я нахожусь на расстоянии
758
тысячи лье от места событий, а он занимает господствующую позицию: ничто не стоит на его пути. Но, конечно, это его поведение не очень далеко от бесстыдства, низости и трусости».
Ниже я расскажу историю, которая может стать доказательством правдивости вышеупомянутого заявления Наполеона относительно французских наследниц. Рассказ об этом я услышал от заинтересованного лица.
Дочь господина д’Алигра была наследницей огромного состояния. У императора созрела идея выдать её замуж за Коленкура, герцога Виченцского, к которому он испытывал столь глубокое уважение, что герцог считался его фаворитом. Личные качества герцога — не меньше, чем его высокое служебное положение, — делали его одним из первых лиц империи. Поэтому император не мог даже вообразить, что возникнут препятствия на пути к этому брачному союзу. Он вызвал господина д’Алигра, которого часто приглашали на его приёмы, и изложил ему свою идею. Но у господина д’Алигра было иное мнение на этот счёт, и он отклонил предложение императора. Наполеон самым настоятельным образом пытался убедить д’Алигра принять предложение, но последний оставался непоколебимым. Из того, как господин д’Алигр рассказывал мне об этом случае, было очевидно, что он считал, будто в разговоре с императором он проявил большое мужество и заслужил похвалу за своё поведение, так как думал, подобно всем нам, что очень опасно противоречить намерениям императора. Мы все, однако, глубоко заблуждались: мы не знали Наполеона. Сейчас я уверен, что справедливость по отношению к людям и уважение к семейным правам являются священным долгом для него. И я никогда не слышал, чтобы господин д’Алигр каким-либо образом пострадал из-за того, что ответил отказом на предложение императора.
После обеда император попытался читать романы Пиго Лебрена и некоторые другие романы такого же рода, но, как выяснилось, тщетно: перелистав несколько страниц каждого романа, он отбросил их в сторону, заявив, что все они отличаются плохим вкусом.
Заявления губернатора о расходах на содержание Лонгвуда — Голдсмит — Ирландская девушка
28 июня 1816 года
В час дня император вызвал меня и моего сына. Мы принесли ему первую главу рукописи о военных кампаниях в Италии с теми добавлениями, которые мы внесли в неё в последнее время, и он задержал нас почти до шести часов вечера.
759
Губернатор нанёс визит гофмаршалу и в неясной форме дал ему понять, что следует ожидать сокращения расходов на содержание поместья Лонгвуд. Он бесхитростно заявил: в Лондоне ожидают, что разрешение вернуться в Европу лицам, приехавшим с Наполеоном, значительно сократило бы численность свиты императора и его обслуживающего персонала. Он также сделал заявление, не совсем понятое гофмаршалом, что если бы мы обладали личным состоянием, то могли бы использовать собственные векселя, сняв средства со своих счетов, подобно тому, как это уже делал я. Его правительство, заявил губернатор, никогда не собиралось нести расходы на содержание стола императора больше чем на четыре персоны ежедневно и раз в неделю — на приглашённых им лиц. Вот такое заявление! Может быть, он думал сделать нам намёк, что мы должны сами оплачивать расходы на наше содержание, а в будущем и расходы всего поместья Лонгвуд? Пусть это не покажется невероятным: здесь, на острове Святой Елены, мы ежедневно узнаём, что нет ничего невозможного.
Позднее в этот день император в разговоре сослался на книгу, которую он только что читал. В этой книге приводится рассказ об одной ирландской девушке, из-за которой Голдсмит в своей книге подверг императора грубым оскорблениям. Император сказал, что хорошо помнит, как городские власти Бордо устроили в его честь празднество, когда он находился в Байонне, в замке де Марраш. Во время празднества он увидел рядом с императрицей Жозефиной очаровательную молодую девушку, отличавшуюся безукоризненной красотой. Красота этой девушки произвела на императора сильнейшее впечатление. Это впечатление не прошло незамеченным, — его предвидели и вызвали умышленно.
«Одному Богу известно, — сказал император, — с каким намерением. Это была новая чтица императрицы Жозефины, которую она сопровождала в замке де Марраш. Она уже занимала все мои мысли, когда господин де Лавалетт, глава секретного департамента почтового ведомства, разрушил всё очарование первого впечатления. Он переправил мне письмо, адресованное этой молодой девушке. Письмо было послано её матерью или её тёткой, ирландкой. Оно содержало подробные инструкции о том, как должна вести себя со мной эта девушка, и, в частности, автор письма настоятельно просил её всеми средствами ухитриться поддержать мой интерес к ней, чтобы как можно дольше продлить её власть или, по крайней мере, её влияние на меня. Когда я прочитал это письмо, все мои иллюзии исчезли. Вульгарность интриги, развратные подробности, стиль письма, рука, писавшая его, но прежде всего тот факт, что эта девушка была иностранкой, — всё это вызвало немедленное чувство отвращения. Действительно, как пишет Голдсмит, очаровательная ирландская
760
девушка была посажена в почтовый дилижанс и тут же отправлена в Париж. И после всего этого, — продолжал Наполеон, — я обнаружил, что одна клеветническая книжонка обвиняет меня в том, что я тем самым совершил преступление, хотя в действительности это был добродетельный поступок с моей стороны. Это был акт воздержания, которым я мог бы, возможно, гордиться с гораздо большим основанием, чем знаменитый Сципион. Но именно таким образом и пишется история».
После обеда, когда мы спорили о том, что будем читать, император сказал, что поскольку мы сами признались, что недостаточно умны для того, чтобы каждый из нас мог рассказать свою историю, то нас следует приговорить к наказанию по очереди выбирать вечернее чтение. Начиная с меня, добавил он и назвал поэму аббата Делилля «О сострадании». Он считает, что поэма написана хорошими стихами и ясным языком; мысли в ней правильные. Тем не менее, сказал император, ей не хватает воображения и теплоты чувств. Автор, несомненно, превосходит Вольтера в стихосложении, но поэма всё же намного слабее произведений других наших великих мастеров.
29 июня 1816 года
Император завтракал в саду и пригласил всех нас к своему столу. После завтрака он совершил прогулку в карете. Он был в хорошем настроении и подшучивал над каждым из нас по очереди. Одного он поздравил с красотой и элегантностью его апартаментов на острове Святой Елены, другого — с той денежной суммой, которую губернатор тратит на его содержание и которая вскоре будет увеличена за счёт прекрасного набора детского спального белья. Меня он поздравил с тем, что губернатор, видимо, проявил интерес к моим векселям, раз он теперь пожелал, чтобы и все остальные снимали средства со своих счетов подобным образом. Император смеялся и был весьма доволен нашими высказываниями в отношении друг друга. Внезапно погода изменилась к худшему и заставила нас вернуться домой.
После обеда император прочитал несколько отрывков из произведений Мильтона, переведённых аббатом Делилем. Император считает, что стихосложение у Мильтона намного слабее, чем в поэме «О сострадании» самого Делиля; перевод был заказан Делилю во время эмиграции в Лондоне и опубликован по подписке.
В течение утренней поездки мы обсуждали наших королей и их любовниц: Монтеспан, Помпадур, Дюбарри и т.д. Эта тема вызвала живой интерес участников беседы, их мнения разделились, каждый
761
упрямо отстаивал свою точку зрения. Император забавлялся тем, что попеременно поддерживал то одно мнение, то другое. Беседу, однако, он закончил тем, что высказался в пользу нравственного поведения.
Политическая история королевского двора Лондона во время нашей эмиграции — Георг III —
Питт — Принц Уэльский — Знаменательные высказывания Наполеона о себе
30 июня 1816 года
Император пожелал, чтобы я пришёл к нему рано утром и разделил с ним его завтрак. Он был печален, мрачен и не расположен к беседе; он не мог подобрать слов для разговора. Случайно упомянув Лондон и мою эмиграцию, император предложил поговорить на эту тему, чтобы как-то отвлечься. «В Лондоне вы, должно быть, были вхожи в королевский двор, видели короля, принца Уэльского, Питта, Фокса и других высокопоставленных особ, которые играли в то время ведущие роли в мировой политической жизни? Расскажите мне, что вы знаете о них. Что о них думал народ? Поведайте мне обо всём этом в виде краткого исторического очерка».
«Сир, вы забыли или, возможно, никогда не получали точную информацию о положении эмигранта в Лондоне. Я сомневаюсь, чтобы нас когда-либо принимали в королевском дворце. Добрый старый Георг III глубоко сочувствовал нашим личным бедам, но чрезвычайно неохотно шёл на то, чтобы признавать нас в политическом смысле. И если бы даже нас принимали в королевском дворце, то наше финансовое положение не позволило бы нам там появиться. Поэтому я туда и не ходил. Тем не менее я видел многих из тех особ, которых вы упомянули, Ваше Величество, и я также многое слышал о них.
Я видел и слышал короля несколько раз в Палате лордов и находился очень близко от него. Принца Уэльского я видел и слышал там же и во время собраний в городе. Кроме того, в Лондоне всё не так, как во Франции. Там нет громадной пропасти, разделяющей королевский двор и народные массы. Страна настолько многолюдна, обмен информацией настолько интенсивен, система образования настолько равноправна, изобилие настолько широко и бизнес настолько стремителен, что создаётся впечатление единства нации, и вся она будто находится на одном уровне развития. Когда наблюдаешь за всем этим, так и хочется спросить: а где же народ? Именно
762
этот вопрос, говорят, задал император Александр, когда посетил Лондон. Отсюда следует, что, повидав и повстречав множество представителей всех классов английского общества, ознакомившись с условиями их жизни и узнав их мнения, я должен был получить представление об английском народе, по всей вероятности, весьма близкое к истинному. К сожалению, тогда я не очень стремился наблюдать жизнь английского народа и собирать соответствующую информацию. Кроме того, боюсь, что по прошествии столь значительного времени меня сейчас может подвести память.
Георг III был честнейшим человеком во всех смыслах. Его личные добродетели сделали его предметом глубочайшего почитания. Он — человек исключительно высокой морали, неукоснительно соблюдавший законы. Он взошёл на трон в возрасте двадцати лет, когда от всей души был влюблён в очаровательную молодую шотландскую девушку, принадлежавшую к одной из первых семей в стране. Были большие опасения, что он женится на ней, но достаточно было напомнить ему, что этот брак противоречит закону, как он немедленно согласился жениться на особе, которую выбрали для него. Этой особой стала принцесса Мекленбургская. Он считал её весьма заурядной личностью и был опечален. И действительно, она такой и была; тем не менее, Георг III всю свою жизнь оставался примерным мужем: никто и никогда не мог бы заподозрить его в малейшей супружеской неверности.
Восшествие Георга III на престол стало настоящей политической революцией в Англии. Дни претендентов на трон, не имевших законных прав, были сочтены; ганноверская династия утвердилась на престоле. Партия вигов, которая возвела эту династию на трон, была отстранена от власти в стране: виги причиняли беспокойство и больше не были нужны. Власть вновь захватила партия тори, которая с тех пор крепко держит её в своих руках в ущерб общественной свободе.
Однако сам король был далёк от того, чтобы проявлять предвзятость в этом вопросе: он искренне любил законы, справедливость и стремился к благополучию и процветанию страны. Резко отрицательная позиция, занятая Англией в отношении французской революции, была в гораздо меньшей степени виной Георга III, чем Питта. Последнего спровоцировали на это безграничная ненависть к Франции, которую он унаследовал от своего отца, великого Чатама, сильная страсть к власти, а также английская олигархия. Питт был человеком народа; он правил Англией. Он подчинил своему влиянию короля, которого всегда можно было убедить; и необходимо признать, что крайности и преступления начального этапа нашей революции давали обильную пищу для красноречия Питта. Вполне возможно, что если бы несчастный Георг III сохранил свой разум, то вы постепенно склонили бы его на свою сторону, потому что
763
ваше правление открыло бы Георгу III глаза на новые факты и обстоятельства, перед силой которых он бы не устоял. Характер Георга III гармонировал с его интеллектуальными концепциями: для того, чтобы в чём-то убедиться, он сначала хотел знать конкретные вещи и факты. Заставить его изменить уже принятое решение было трудно, но возможно: его здравый смысл предоставлял большие возможности для этого.
Вот почему его болезнь стала бедствием для нас, для Европы и для самих англичан; они начали отказываться от высокого мнения, которое когда-то составили о Питте, а результаты роковых ошибок последнего они сейчас ощущают на себе.
Первый приступ заболевания короля привёл к тому, что Питт приобрёл у англичан репутацию авторитетного государственного деятеля и завоевал их доверие. Этому министру было немногим более двадцати пяти лет, когда он отважился в одиночку противостоять массе тех, кто бросил короля, посчитав его потерянным для страны, и кто стремился объявить о неспособности монарха править государством, чтобы овладеть властью при юном наследнике престола. Это поведение Питта сделало его идолом нации. Это был самый прекрасный период в его жизни, а час его самого величественного триумфа, несомненно, пробил тогда, когда он сопровождал Георга III в собор Святого Павла, чтобы тот возблагодарил Бога за восстановление здоровья. Это происходило посреди огромного стечения народа, объятого радостью и чувством удовлетворения.
Нет никаких сомнений, что в данном случае Питт стал спасителем короля и мира в стране, ибо жизнь показала, что Георг III оказался
способным вновь править государством; можно с уверенностью предположить, что если бы в стране было введено регентство, как того хотела оппозиция, то вернувшаяся способность короля не была бы признана в последующий период и, следовательно, могла разразиться гражданская война.
Мне часто приходилось слышать, что психическое расстройство Георга III не было обычным видом сумасшествия: оно не было результатом непосредственного локального заболевания головного мозга, но произошло из-за перенасыщения кровью сосудов, ведущих к мозгу; психическое расстройство короля было вызвано заболеванием, долгое время характерным для этой королевской семьи. Его заболевание, как говорили, было скорее обморочным состоянием, чем безумием. Когда причина заболевания устранялась, монарх немедленно восстанавливал все свои умственные способности в полном объёме, как если бы и не было никакого перерыва. Это обстоятельство объясняет многочисленные рецидивы его болезни, за которыми следовало выздоровление. В доказательство этого народ часто отмечал силу его разума, которой он, должно быть, обладал. Сразу же после своего первого выздоровления он устроил великолепную процессию с участием жителей Лондона, приветствовавших короля шумными возгласами.
После второго рецидива его заболевания он продемонстрировал ещё одно, не менее удивительное, доказательство своих способностей, проявив хладнокровие и самообладание в той ситуации, когда при входе в ложу театра в него выстрелил убийца. Он сохранил полное душевное равновесие и, повернувшись к королеве, только что подошедшей к двери ложи, попросил её не волноваться, сказав, что шум был вызван взрывом петарды где-то в театре. В течение всего представления он был совершенно спокоен. Он явно не дал повода усомниться в его слабости. Постоянные заболевания в его последние годы, казалось бы, опровергали указанную точку зрения, однако долгие перерывы между рецидивами недуга говорят в её пользу.
Будучи достойным монархом, действовавшим из самых лучших побуждений, Георг III, тем не менее, не раз был на краю гибели от рук убийц. На его жизнь покушались несколько раз; и я не думаю, что все те, кто хотел его убить, были приговорены к смертной казни, так как все они оказывались душевнобольными — религиозными или политическими фанатиками. Последняя и самая знаменитая попытка покушения на жизнь Георга III случилась, по-моему, в 1800 году. В тот критический период его жизни король время от времени посещал театры, чтобы поддерживать свою популярность. Когда он входил в ложу, находившийся в оркестровой яме человек выстрелил в него из кавалерийского пистолета, и пуля не задела короля только потому, что он в тот момент поклонился приветствовавшей
765
его публике. Неудивительно, что в театре после выстрела поднялась страшная суматоха. Человек не пытался отрицать, что именно он совершил преступление; он был точно таким же фанатиком, как и фанатик Шенбрунна, который пытался сделать своей жертвой Ваше Величество и утверждал, что у него нет иной цели, кроме как обеспечить мир и счастье для страны. Суд признал этого человека душевнобольным и приговорил к тюремному заключению.
Во время моего посещения Лондона в 1814 году исключительный случай предоставил мне возможность увидеть этого самого убийцу. Меня по-прежнему не покидали мысли о миссии, которую вы поручили мне годом раньше, — проинспектировать ночлежки для нищих и тюрьмы. В Лондоне мне захотелось посетить английские заведения подобного рода. Когда я совершал подробный осмотр знаменитой Ньюгейтской тюрьмы, то зашёл в общую камеру, в которой обнаружил большое количество заключённых, пользовавшихся определённой свободой. Первым заключённым, на которого обратил моё внимание сопровождавший меня гид, оказался человек по имени Хатфильд. Я немедленно вспомнил это имя и спросил, не тот ли это человек, который совершил покушение на Георга III. Гид ответил, что тот самый. Хатфильд отбывал тюремное заключение в Ньюгейтской тюрьме в соответствии с приговором, как душевнобольной. Я сказал, что в своё время его душевная болезнь подвергалась большому сомнению и оспаривалась общественностью, как это всегда происходит в подобных случаях. Однако гид заверил меня, что Хатфильд бесспорно душевнобольной, но только во время приступов болезни (его болезнь протекает в настолько слабой форме, что ему разрешалось, под его честное слово, выходить в город), и что он немедленно обращается за помощью, когда чувствует приближение приступа. Затем мой гид подозвал к нам Хатфильда. Когда я рискнул задать ему несколько вопросов, он сразу же по акценту признал во мне француза и заявил, что ему часто приходилось сражаться против моих соотечественников во Фландрии. (Он служил драгуном под командованием герцога Йоркского.) Хатфильд сказал, что сохранил память об этих сражениях, и показал несколько шрамов на теле. Тем не менее, добавил он, он далёк от того, чтобы испытывать ненависть к французам, так как они храбрые люди, и не их вина, что им приходилось сражаться: люди любят вмешиваться в чужие дела, которые их совершенно не касаются. Он начал горячиться, и это вынудило моего гида незаметно сделать мне знак, чтобы отослать Хатфильда прочь. Мой гид сказал, что мы затронули главную струну его психики, и если бы мы продолжали беспокоить его вопросами, он пришёл бы в неистовство.
Но я возвращаюсь к Георгу III. Доминирующим чувством этого монарха было желание добиться для своей страны общего блага
766
и процветания. Всё остальное было для него второстепенным; только это чувство объясняет то, что он так долго держал во главе английского правительства Питта, к которому он испытывал сильную антипатию, так как этот премьер-министр стал дурно обращаться с ним. Разразившийся в Европе политический кризис имел важнейшее значение для Англии: над страной нависла угроза, а премьер-министр обладал огромными способностями. Поэтому он был необходим. Оказывая безграничное влияние на короля и злоупотребляя этим обстоятельством, Питт властвовал над ним как тиран, пренебрегая малейшим тактом. Он почти лишил короля права управлять делами. Если появлялась свободная должность и король хотел наградить ею одного из своих верных слуг, то он всегда опаздывал: Питт уже успевал распорядиться этой должностью, как он обычно говорил, ради блага государства и парламента. Если при этом король выказывал слишком большое недовольство, то у Питта всегда был наготове один и тот же ответ: он подаст в отставку и уступит своё место другому. В конце концов возникло одно обстоятельство весьма деликатного свойства, так как оно касалось вероисповедания короля, который был очень религиозным человеком, — вопрос эмансипации католиков Ирландии, на что он упорно отказывался дать согласие. Питт настаивал на этом с обычным упрямством. Он заявил, что поклялся осуществить этот план, и прибегнул к своей обычной угрозе. Но король на этот раз поверил словам Питта и, обрадованный избавлением от своего премьер-министра, в тот же день неоднократно говорил разным людям, что он наконец отделался от человека, который в течение двадцати лет грубо обращался с ним. Георг III во всеуслышание заявил, что из всех его министров Фокс (столь часто обвиняемый в республиканизме, и, вероятно, не без оснований) был тем самым человеком, который, возглавляя правительство, проявлял по отношению к нему величайший такт, почтительность, уважение и внимание. В этом Фокс был противоположностью Питта.
Тем не менее влияние общественного мнения на короля было настолько сильным, что, несмотря на его антипатию к Питту, король через год восстановил его в должности премьер-министра29. В своё время считалось, что, когда Питт ушёл в отставку, он сумел, проявив незаурядную ловкость, ввести в состав кабинета министров Адцинг- тона, свою креатуру, для того чтобы самому вернуться туда без труда и в кратчайший срок. Но потом было доказано, что Питт был вынужден прибегнуть к интригам, чтобы свергнуть своего преемника и вторично занять должность премьер-министра, которой он никоим образом не был достоин. Оказавшись во главе правительства, Питт потерпел ряд неудач, которые он сам же и вызвал. Французские пушечные ядра, сокрушившие врага при Аустерлице, можно сказать, убили Питта, не выдержавшего нервного потрясения.
767
Каждый день подрывал блестящую репутацию Питта. Он имел выдающиеся способности, но использовал их роковым для Англии способом: страна изнывала под тяжестью бед, которые он навлёк на неё. Система образования и его доктрины стали губительным наследием. Он ввёл в Англии регулярную полицейскую службу, сделал привычным применение вооружённых сил внутри страны и породил систему доносительства, провокаций и морального воздействия всякого рода, которую довели до полного совершенства его преемники. Его тактика заключалась в том, чтобы поощрять наши эксцессы на континенте, а затем выставлять их в качестве пугала в Англии, — это давало ему возможность немедленно добиваться всего, чего он хотел».
«Но что вы все говорили в связи с этим? — спросил император. — Каково было мнение эмигрантов?» — «Сир, — ответил я, — мы все постоянно смотрели через одни и те же очки; то, что мы говорили в первый день нашей эмиграции, мы по-прежнему повторяли и в последний день нашей ссылки. Мы не продвинулись ни на шаг, мы оставались самими собой. Питт был нашим оракулом, что бы он ни сказал; всё, что говорили Бёрк, Виндхэм или любой из наиболее рьяных сторонников Питта, казалось нам восхитительным, а мнения их противников представлялись нам отвратительными. Фокс, Шеридан и Грей были в наших глазах бесславными якобинцами; мы всегда называли их именно так». — «Ну хорошо, — сказал император, — но теперь вернёмся к Георгу III».
«Этот добродетельный монарх весьма любил образ жизни частного лица и сельские занятия. Всё время, свободное от государственных дел, он посвящал работам на своей загородной ферме в нескольких милях от Лондона. В столицу он приезжал только ради регулярных утренних приёмов или для участия в совещаниях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, и сразу же возвращался к своим полям, где жил без всякой пышности и блеска, подобно простому честному фермеру (как он сам говорил). Все министерские интриги оставались в городе.
У Георга III было много семейных забот. Его сестрой была Матильда, королева Дании, чья жизнь представляет собой печальную историю. Его два брата доставляли ему массу огорчений своими брачными союзами. И у него была причина быть недовольным своим старшим сыном.
Двумя братьями Георга III были герцог Камберлендский и герцог Глостерский. Последнего я часто встречал в светском обществе, в узком кругу. Он был самым достойным, самым учтивым и уважаемым джентльменом в Англии. Братья короля, в соответствии с британской конституцией, не принимали участия в государственных делах. Король узнал, что один из указанных членов его семьи
768
женился или собирался жениться на рядовой англичанке. С точки зрения короля, это было большим преступлением, — он сам пожертвовал многим, чтобы избежать подобной ситуации. Он был чрезвычайно рассержен, и в то время, когда он направлял в парламент послание, осуждавшее преступление брата, ему сообщили, что его другой брат тайно сбежал в Кале по той же самой причине. Это был какой-то рок, настоящая эпидемия, так как в это же время повсюду разнеслись слухи, что сам наследник престола также тайно женился».
«Как?! — воскликнул император. — Сам принц Уэльский?»
«Да, сир, именно он. О его женитьбе где только не говорили. Эти слухи сопровождались подробностями, не совсем ясными для меня, поэтому я не рискну повторять их, но сам факт женитьбы, судя по всему, в целом признаётся. Но так как принц впоследствии устами оппозиции в парламенте опроверг этот факт, мы обязаны верить ему. Однако я узнал от весьма близкого родственника предполагаемой жены принца, что дело обстояло именно так. Я слышал, что этот человек пришёл в сильнейшую ярость по поводу женитьбы принца и грозил лично применить к нему физическое насилие. Вопрос о женитьбе принца был предметом спора, и на этот предмет смотрели по-разному в зависимости от настроений сторон: одни упорно считали, что этот брачный союз реален, в то время как другие отрицали факт женитьбы самым решительным образом. Возможно, это противоречие ещё более обострялось оттого, что госпожа Фиц- герберт — женщина, на которой принц, как говорили, женился, — была католичкой. Это обстоятельство делало женитьбу невозможной по закону и абсолютно бесцельной с точки зрения наследования трона. Однако, как бы то ни было, я часто встречал госпожу Фиц- герберт в узком кругу: её карету украшал герб принца, а её слуги носили ливрею его слуг. Эта дама была намного старше принца, но она была красивой, приятной в обращении, очень умной и обладала заносчивым и раздражительным характером, который часто приводил её к ссорам с принцем и, как говорили, к бурным сценам, не делающим чести особам столь высокого положения. Во время одной из последних ссор подобного рода госпожа Фицгерберт упрямо не открывала двери принцу. И Питт, искусно воспользовавшись этим обстоятельством, уговорил принца дать согласие на его женитьбу на принцессе Брауншвейгской».
«Но остановитесь, — воскликнул император, — вы излагаете события слишком быстро! Вы обходите молчанием то, что главным образом и интересует меня. При каких обстоятельствах принц Уэльский вошёл в политическую жизнь? Что тогда было необычным в его политическом поведении, в его отношениях с оппозицией и так далее?»
769
«Этот принц, сир, предстал перед страной в самом выгодном свете благодаря приятной внешности, благородной осанке и уму. Все его встретили восторженно, но вскоре он, как и многие высокопоставленные особы в середине прошлого столетия, стал проявлять склонность к дурным привычкам. Он страстно увлёкся азартными играми, со всеми неизбежными и малоприятными для него последствиями, кутил и вёл разгульный образ жизни. Самое главное — его замечали в кругу лиц, чьё поведение резко осуждалось обществом. Затем произошло то, чего и следовало ожидать: благородные сердца больше не бились с ним в унисон, связанные с ним надежды рухнули, а средний класс, который в каждой стране составляет основу нации, — а надо признать, что средний класс Англии представляет собой наиболее нравственную часть населения Европы, — потерял веру в будущее. В Англии, особенно среди низших слоёв общества, стало преобладать мнение, что принц Уэльский никогда не будет править страной. Говорили, что гадалки предсказывали это самому принцу. Представители оппозиции, в чьи объятия бросился принц, как это часто делали наследники престола, и для которых он был опорой и надеждой, отмахивались, когда им говорили о дурном поведении принца. Они обыкновенно утверждали, что он будет новым Генрихом V, и объясняли, что Генрих V до вступления на престол вёл разгульный образ жизни, но стал величайшим королём из всех, которых когда-либо имела монархия. Поэтому они делали вывод, что принц Уэльский станет одним из величайших королей Англии».
«Но был ли он благосклонен к революционно настроенной парши и защищал ли он наши современные идеи?» — спросил император.
«Нет, сир, по мере распространения революционных идей требования благопристойности заставляли его постепенно отходить от оппозиции, защищавшей революционные принципы. Принц порвал все явные, сомнительные связи и заполнил образовавшийся пробел в своей жизни тем, что предался удовольствиям. При этом он испытывал трудности и постоянно был в долгах, хотя парламент уже несколько раз оплачивал их. Денежные затруднения весьма беспокоили его и ставили под угрозу его личную популярность. Именно тогда, когда он погряз в долгах и поссорился с госпожой Фицгерберт, Питт сумел повлиять на него, предложив вновь оплатить его долги, если принц станет послушным воле своего отца, разделит его убеждения и согласится жениться. Принц был вынужден подчиниться всем этим условиям. Он просил руки принцессы Брауншвейгской и получил её. Но пока шли переговоры о брачном союзе принца, госпожа Фицгерберт, которая долгое время стремилась управлять принцем, узнала о существовании вакантной должности в королевском дворе и добилась её для себя. Она якобы заявляла, что в течение
770
двадцати лет стремилась получить постоянный доступ к королевскому двору, ибо она была намного старше принца, — таков своеобразный вкус членов королевской семьи, если судить об этом по примерам братьев принца. Эта особа была немедленно назначена фрейлиной будущей принцессы Уэльской, она даже отправилась навстречу принцессе, чтобы привезти её в Англию. И вот невеста, в сопровождении недоброжелательной компаньонки, высадилась на британский берег. Как категорично утверждалось, эта несчастная принцесса не имела и двадцати часов счастья во время своего медового месяца в Англии: с первого же дня брака участью бывшей принцессы Брауншвейгской стали осмеяние, пренебрежение и презрение.
Англичане, обладавшие хотя бы каплей благородства и нравственности, встали на её сторону и громко возмущались тем, как с ней обращались. Большая часть презрения пала на леди Джерси, которую обвиняли в том, что она околдовала принца. Она стала предметом общественной ненависти. Причём иллюзии и слепота принца не имели оправданий, поскольку, как рассказывали, после одной его весьма оживлённой вечеринки в кругу весёлых собутыльников один из них в разговоре невзначай сказал о том, что он знает одну даму, типичную госпожу де Мертей из “Опасных связей”. Многие из участников вечеринки сразу же воскликнули, что и они знавали эту даму. Услышав это, принц Уэльский предложил в шутку, чтобы каждый написал на своём листке бумаги имя этой таинственной дамы. Все записки были брошены в одну вазу, и затем, когда содержимое вазы высыпали на стол, выяснилось, что на всех листках написано имя леди Джерси. Сам принц, не ожидавший такого единодушия и того, что раскроют его тайну, в своей записке написал то же имя, что и все остальные.
Я знал леди Джерси и должен признаться, что по её лицу и внешности невозможно было определить её настоящий возраст. Она обладала очарованием ранней молодости, усиленным грациозностью самых элегантных манер, и я, находясь в обществе, был свидетелем проявлений очаровательной сердечности с её стороны; то ли нравы её общественного класса заставляли её казаться умеренной, то ли она действительно не заслуживала того осуждения, которому её без устали подвергали.
Принц Уэльский обладал своеобразной способностью, особым даром, который англичане называют силой обаяния. Он наделён этим даром в наивысшей степени, и считалось, что этого достаточно, чтобы возвратить преданность народа и, так сказать, подкупить общественное мнение. Его биография полна примеров того, как он терял и возвращал популярность; и вероятно, что эта уверенность в своей способности добиваться подобного рода успеха часто приводила его к тому, что он, как говорили его клеветники, пренебрегал
т
общественным мнением. Его враги утверждали, что он довёл этот вид мужества до абсолютного героизма. Они возмущались наглостью, с которой он осуждал поступки собственной жены, хотя пример такого поведения подавал сам, они осуждали его за непоследовательность, которая объяснялась пагубным воздействием его советников, враждебно настроенных к его популярности. По крайней мере, не вызывает сомнений то, что принцессу пытались скомпрометировать (но безуспешно). Для этого ссылались на проступки, к которым она не имела отношения: самая злостная коррупция, злоупотребление законами и авторитетом наследника престола. Всё это особо раздражало принца и выставляло его на посмешище. Люди поднимали на смех его беспримерное невезение в том, что он не мог доказать, несмотря на все его старания, то, что множество мужей постарались бы любой ценой скрыть. С каждым новым поражением возрастала ненависть, а вместе с ней и страдания жертвы. Наконец принцессу довели до такого состояния, что она отправилась в своего рода ссылку — в место, расположенное в нескольких милях от Лондона; к ней не допускали её дочь, её оскорбляли в присутствии союзных монархов, когда они наносили визиты в Лондон. Но настроение большинства народа было таково, что люди всегда готовы были отомстить за неё, и поэтому сочли необходимым заставить её покинуть Англию. Её вынудили уехать, постаравшись представить дело так, будто она делает это добровольно. Всё это устроил один мнимый друг, прибегнув к вероломным намёкам».
В этом месте император вновь прервал меня, сказав, что я опускаю очень важный момент. «Когда и каким образом принц достиг королевской власти? Как он поступил со старыми друзьями?»
«Сир, — ответил я, — моя информация на этом кончается. Настало время, когда политические события вынудили Ваше Величество прекратить всякую связь между Англией и Францией. Мы больше не получали английских газет, нам запрещалось получать письма из Англии, две страны более ничего общего между собой не имели. Поэтому в моих сведениях появился пробел, который я не хотел бы восполнять, прибегая к догадкам. Однако ясно, что после нескольких рецидивов болезни старого короля все политические партии наконец согласились доверить регентство принцу Уэльскому. Долгожданное время перемен, с которыми связывали надежды, в итоге наступило. Для оппозиции, которая так долго превозносила принца, и для тех его старых друзей, которые с самого детства связали свою судьбу с его судьбой, казалось, распахнулись врата рая. Я не знаю, что именно придумал лорд Каслри, но, к огромному и всеобщему удивлению страны, в Англии ничего не изменилось. Те старые министры, которые долго были объектами неприязни и упрёков со стороны
772
принца, сохранили свои посты, а близкие и горячо любимые старые друзья принца остались невостребованными.
Оппозиция громко жаловалась, но её осмеяли и заявили, что теперь, когда необузданный принц Уэльский стал великим королём, его первая забота — необходимость отделаться от своих старых товарищей. Шутка остроумна, но пользы от неё никакой. Во главе оппозиции стояли самые великие люди империи, а они были далеко не Фальстафы или подобного рода распутники. С этого момента они стали выказывать заметную холодность в отношении принца, некоторые из них перестали встречаться с ним, другие отказывались от его приглашений и отвергали заигрывания с его стороны. Говорят, что один из них позволил убедить себя принять приглашение пожаловать на обед к принцу. Последний решил использовать оружие, ранее приносившее победы, и со своим обычным изяществом старался доказать гостю, что он не мог поступить иначе, и наконец пожелал, чтобы ему сказали, в чём его обвиняют его старые друзья. Гость, который едва сдерживал гнев, воспользовался возможностью и, ничего не скрывая, сказал принцу правду обо всех его проступках, причём с такой горячностью, что принцесса Шарлотта, присутствовавшая за столом и, возможно, тайно разделявшая мнение гостя, разразилась рыданиями. Лорд Байрон, узнав на следующий день об этой сцене, в марте 1812 года написал знаменитое стихотворение «Строки к плачущей леди»:
Плачь, дочь несчастных королей,
Бог покарал твою страну!
И если бы слезой своей Могла ты смыть отца вину!
Плачь! Добродетельной мольбе Внимает страждущий народ —
За каждую слезу тебе Он утешенье воздаёт!
(Перевод А.Арго)
В 1814 году, во время моего визита в Лондон, я имел честь быть представленным принцу Уэльскому в Карлтон-Хаусе».
«Какого чёрта вы там делали?» — воскликнул император.
«Меня не удивляет реакция Вашего Величества. Я был вынужден отправиться туда по зову чести: я считал, что у меня нет иного выбора. В то время в Лондоне было много французов, а я был единственным человеком из окружения Вашего Величества; я носил ваши эмблемы и следовал линии поведения, которая в тот период, судя по всему, подвергалась эмигрантами осуждению. Кое-кто сообщил мне, что другие французы не станут терпеть моё присутствие там. Это обстоятельство определило моё решение отправиться на утренний приём у принца. Там было двадцать два француза, и должен
773
сказать, что я никогда не знал более изысканных манер и более приятного обхождения, чем на этом приёме, где царило полное согласие. Принц оказался идеалом элегантности. Мне стало доступно понимание его человеческих качеств, о которых я неоднократно слышал, — способности повелевать сердцами и магического обаяния. И даже сейчас, сир, когда я вспоминаю его прекрасное лицо, черты которого отмечены интеллектом и отражают любовь к славе, я не могу не спросить самого себя, каким образом вы, Ваше Величество, оказались здесь, на острове Святой Елены. Как гнусные министры могли заставить принца сделаться тюремщиком? Как...»
«Мой дорогой друг, — перебил меня император, — вероятно, вы плохой физиономист. Вы приняли ауру кокетства за сияние величия, способность нравиться — за любовь к славе, и, кроме того, любовь к славе не всегда видна, — она находится в глубине сердца, но вы там её не искали*.
Разве вы не переводили мне недавно, — спросил император, — какую-то статью в газете или отрывок из книги, где утверждалось, что принц-регент проявлял большое чувство симпатии к последним Стюартам, что он заплатил непомерно большую сумму за вещи, которые принадлежали им, что он предлагал возвести памятник последнему из них? Во всём этом гораздо больше расчёта, чем величия души. Это всё потому, что он стремится утвердиться и освятить конец династии Стюартов. Он утверждает законность своей власти и приобретает уверенность в будущем. Он прав. Если бы в моё время и при тех испытаниях, которым английские министры подвергли страну, появился бы какой-нибудь молодой Стюарт, наделённый смелым и предприимчивым характером и вооружённый современными идеями, то он бы высадился в Ирландии, и тогда мы, несомненно, стали бы свидетелями того, как возрождённые Стюарты вышвыривают дегенеративных Брауншвейгов. Англия имела бы своё 20 марта. Таково свойство монархий и их заразного влияния: стоит кому- нибудь сесть на трон, как сразу же начинает действовать яд. Эти Брауншвейга, импортированные под флагом либеральных идей и возвышенные волей народа, как только взошли на трон, так сразу же сделались деспотами. Они, конечно же, должны следовать тем же путём, что и их свергнутые предшественники; и это потому, что они стали королями! Судя по всему, это неизбежно! Например, этот прекрасный род Нассау — род сторонников замечательной идеи
* Уже после того, как это было сказано, великая жертва ненависти пала. Я, слуга императора, был свидетелем начала его физических мучений; другие лица рассказали мне о его последних страданиях и о затянувшейся агонии. Он умер! Его враги никогда не переставали наносить ему удары от имени принца! Бессмертная жертва, он оставил после себя написанные собственноручно грозные слова: «Я завещаю позор моей смерти правящей королевской семье Англии!»
774
независимости в Европе, либерализм которых, должно быть, у них в крови и даже в костном мозгу, — по размеру владений был в самом конце списка европейских княжеств и земель, но мог, благодаря их доктринам, встать во главе этого списка. Так вот, представителей этого рода только что посадили на трон. И теперь вы обязательно увидите, что они будут заняты только тем, что они называют законным правлением, и, соответственно, усвоят принципы, правила поведения этого класса монархов и будут совершать те же ошибки.
Более того, не говорилось ли то же самое обо мне самом? И, вероятно, не без оснований, ибо, возможно, многие обстоятельства ускользали от моего внимания. Тем не менее я заявлял, что, по моему мнению, верховная власть не заключена в титуле монарха или великолепии трона. Обо мне говорилось, что едва я достиг власти, как сразу же стал править деспотически и своевольно, хотя правильнее это назвать диктаторством. И обстоятельства времени будут достаточным оправданием моего поведения. Меня также порицали за то, что я был объят гордыней, отравлен ею, когда, сочетавшись браком с Марией Луизой, породнился с австрийским императорским домом и стал считать себя настоящим монархом, или, подобно Александру, Божьим сыном! Но разве может всё это быть справедливым? Действительно ли я совершал подобные ошибки? Я стал мужем молодой, красивой, приятной женщины. Почему я не мог быть довольным этим? И разве я не мог посвятить ей несколько минут без того, чтобы не навлечь на себя упрёки? Разве мне непозволительно было испытать немногие часы счастья? Или я должен был начать плохо обращаться со своей женой после первой же брачной ночи, как это сделал ваш принц? Или я должен был, подобно султану, о котором мы читали, приказать, чтобы ей отрубили голову, и тем самым избежать осуждения со стороны толпы? Нет! Моя единственная ошибка в брачном союзе с Марией Луизой заключалась в том, что тогда в моём сердце было слишком много от сердца простолюдина. Как часто я говорил, что сердце государственного деятеля должно находиться исключительно в его голове. Моё сердце тогда, к сожалению, находилось на своём привычном месте, и это было сердце семьянина. Второй брак погубил меня, потому что я верил, помимо всего прочего, религиозным убеждениям, набожности, нравственности и чести императора Франца I. Он жестоко обманул меня. Я готов поверить тому, что он сам был обманут, и я прощаю его от всего сердца. Но пощадит ли его история? Если, однако...»
После этих слов Наполеон некоторое время пребывал в молчании, склонив голову. «Но какой роман — моя жизнь! — сказал он, вставая. — Откройте дверь и давайте походим». И в течение некоторого времени мы прохаживались взад и вперёд по смежным комнатам.
775
Изложение событий трёх месяцев — апреля, мая и июня 1816 года
Я уже отмечал, что в работе, подобной моему дневнику, Невозможно постоянно поддерживать интерес к сюжету, если писать обо всём подряд; сейчас я попытаюсь восполнить этот недостаток тем, что расскажу о событиях прошедших трёх месяцев, способствовавших ухудшению положения императора. Я расскажу о неоднократных случаях жестокого обращения, которому он подвергался, заметном ухудшении состояния его здоровья, изменении его привычек, а также об основных темах его бесед. Одним словом, я представлю читателю краткую информационную сводку о физическом и моральном состоянии императора в течение этого отрезка времени.
1. Прибывает новый губернатор — настоящий капрал-тюремщик, а не генерал с инструкциями. Это человек с весьма ограниченными взглядами или с очень плохими намерениями.
2. От всех французов, находящихся в ссылке, потребовали заявлений, что они подчиняются всем ограничениям, которые могут быть введены для Наполеона, — в надежде, что они его покинут.
3. До нашего сведения довели официальную информацию о соглашении союзных монархов, которые бесцеремонно объявили о ссылке Наполеона и санкционировали её.
4. Мы получили текст постановления британского парламента, который узаконил акт тирании английских министров по отношению к личности Наполеона.
5. Наконец, прибывают полномочные представители союзных монархов, чтобы наблюдать за узниками и их страданиями. Таким образом, наш горизонт темнеет с каждым днём, наши цепи укорачиваются, все надежды на коренное улучшение нашего положения исчезают. Перспективы самые мрачные.
Прибытие нового губернатора является знаком того, что положение становится всё более тяжёлым. Для императора приезд нового губернатора означает новые муки: ежедневно он подвергается мелким, болезненным, неприятным уколам.
Уже первый поступок сэра Хадсона Лоу был оскорбительным, его первые слова — жестоки, его первый шаг — пример бесчеловечности.
После этого у него, видимо, не остаётся иных занятий, кроме как мучить нас всеми способами и заставлять нас страдать.
Император, который вначале принял решение придерживаться системы строгого стоицизма, не может более скрывать своего возмущения поведением губернатора; это возмущение он выражает весьма резко. Разговоры с губернатором принимают всё более бурный характер; налицо разрыв отношений с губернатором, и с каждым днём ситуация углубляется.
776
Сложившаяся обстановка сильно влияет на состояние здоровья императора, и мы видим, как оно быстро ухудшается. Природа наделила его могучим темпераментом, но здесь он очень часто чувствует себя вялым и нездоровым; однажды он шесть дней подряд ни на минуту не выходил из своей комнаты. Меланхолия, которую он пытается скрыть от чужих глаз, начинает всё больше овладевать им; видимо, в его организме незаметно зарождается какая-то болезнь. Каждый день император сокращает круг своих передвижений и развлечений, и так уже сильно ограниченный. Он прекратил верховые поездки; он более не приглашает англичан на обед; он отказывается даже от своих ежедневных занятий. Он временно прекратил диктовать свои воспоминания, хотя до этого, судя по всему, получал удовольствие от диктовок. Чувство отвращения ко всему охватило его, он иногда говорит мне об этом, но не может набраться мужества, чтобы возобновить диктовку. Император проводит значительную часть времени в своей комнате, перелистывая страницы книг, или беседует с членами своей свиты; вечерами после обеда он читает нам отрывки пьес наших великих драматургов или какую-нибудь другую книгу, выбранную им или случайно попавшую ему в руки.
Однако он сохраняет ясность ума, владеет собой и поддерживает хорошее настроение по отношению к нам; мы становимся всё ближе друг другу. Мы будто одна семья: он всё ближе к нам, а мы всё более преданы ему. Его беседы с нами становятся всё более доверительными, свободными и интересными.
КОММЕНТАРИИ К ПЕРВОЙ КНИГЕ
1. ...многие из нас добрались до Англии только для того, чтобы британские министры, не моргнув глазом, тут же высадили нас на побережье полуострова Киберон французской Бретани, где нас ожидало позорное поражение от французских войск. — Премьер-министр Великобритании Уильям Питт Младший (1759—1806) принял план военного секретаря Уильяма Виндхэма и согласился провести высадку отрядов французских эмигрантов на морском побережье Бретани. Питт не прислушался к доводам своего друга, другого военного секретаря Генри Дандаса, который выступал против акции, и в начале июня 1795 года 4000 французов были высажены на берег у мыса Киберон на западном побережье Франции. Поначалу они получили поддержку местных крестьян, начали наступление, но в июле были разгромлены войсками под командованием генерала Луи-Лазаря Гоша. Оставшиеся в живых были взяты в плен и позднее казнены по приказам Конвента. В ответ на критику его действий Питт заявил, что «не пролилось ни капли английской крови».
2. Англичане вторглись на территорию Флюшинга и создали непосредственную угрозу Антверпену... — В последнюю неделю июля 1809 года английский экспедиционный корпус численностью 40 000 человек под командованием графа Чатама, старшего брата Уильяма Питта, совершил высадку на острове Вальхерен. Это была попытка создать второй фронт войны с Наполеоном (первым фронтом для англичан был Пиренейский полуостров). Остров Вальхерен расположен в устье реки Шельды и должен был стать базой для наступления на Антверпен. На пути англичан стоял укреплённый город Флюшинг, который защищал небольшой французский гарнизон под командованием генерала Монне. Задержка англичан с развитием наступления позволила французам направить подкрепления. Генерал Монне затопил остров, расположенный большей частью ниже уровня моря, что ещё более затруднило действия британцев. Тогда их флот предпринял массированную бомбардировку города Флюшинга, и 15 августа французы начали переговоры о капитуляции. Локальный успех графа Чатама не получил развития: англичане не могли определить направлений дальнейшего наступления. Между тем маршал Бернадотт, незадолго до этого неудачно действовавший в битве при Ваграме, получил командование над Антверпенской армией. Стремясь восстановить свою репутацию, Бернадотт энергично взялся за организацию обороны, укрепил Антверпен и предотвратил все попытки англичан продолжить наступление. Французы успели вывести свой флот из Флюшинга и укрыли его в Антверпене. Среди британцев, которые находились в болотистой местности острова Вальхерен, вспыхнула эпидемия малярийной
778
лихорадки. Каждый день умирали в среднем сто человек, и после месяца тяжёлых потерь английское командование приняло решение покинуть континент. Минимум 4000 британцев умерло от болезней.
3. мыс Доброй Надежды — понятие географическое, а Мыс Доброй Надежды — политическое, это название английской колонии.
4. Но что скажет история о тех министрах либеральной страны, стражах и хранителях народных прав, всегда страстно поощряющих Кориолана и имеющих только цепи для Камиллуса? — Кориолан (Гней (Гай) Марций Кориолан) — легендарный римский патриций (VI—V вв. до н.э.). Отличился при осаде Вольского города Кориолы и с тех пор назывался Кориоланом. Возглавил патрицианскую партию и предпринял попытку воспользоваться голодом, чтобы заставить плебеев покориться (раздать им хлеб при условии их отказа от помощи и защиты народных трибунов). Трибуны, однако, призвали его к ответу: это был первый случай вызова патриция на суд плебеев. Кориолан был осуждён на изгнание и отправился к вольскам, с радостью принявшим своего победителя. Во время новой войны между Римом и вольсками Кориолан опустошил Римскую область, не трогая, однако, патрицианских владений, и встал лагерем вблизи Рима. Послы от Сената и жрецы пытались договориться с Кориоланом, который требовал возвращения всех городов и земель, захваченных Римом у вольсков, но безуспешно. Он принял римских женщин, в числе которых были его мать и жена. Женщинам удалось уговорить Кориолана, и он отступил со своей армией. Вольски были недовольны таким исходом войны, и, когда Кориолан пришёл в народное собрание, чтобы оправдаться, противники напали на него и убили. Большинство, однако, не одобрило этой расправы, и тело Кориолана было похоронено с почестями. В Риме патрицианские женщины носили по нему траур в течение года. По Титу Ливию, Кориолан умер стариком в изгнании.
Камиллус (Камилл Марк Фурий) — государственный и военный деятель республиканского Рима (V— IV вв. до н.э.). Занимал ряд государственных должностей, пять раз назначался диктатором. Прославился взятием города Вейи, расположенного в Этрурии, который был в осаде в течение десяти лет. После этого был обвинён в несправедливом разделе добычи и удалился в изгнание в город Ардею. Вскоре Рим подвергся нашествию галлов, и защитники укрылись за стенами Капитолия. Камилл организовал оборону Ардеи, и римляне попросили его возглавить борьбу против галлов. Сенат единодушно назначил Камилла диктатором. Вместе со своими воинами он пришёл на помощь римлянам и освободил Рим, после чего был назван его «вторым основателем» и «спасителем».
5. Симплон — горный проход между Пеннинскими и Лепонтинскими Альпами, на границе Швейцарии и Италии, соединяет Ронскую долину и долину реки Точе. В 1800—1806 гг. по приказу Наполеона здесь была проведена дорога из Брига в Домо (66,5 км).
в. Вы и правда значительно удалились от времён своей революции, к которой справедливо применяете эпитет «славная». — Славная революция
779
(Glorious Revolution) — принятое в британской историографии название государственного переворота 1688 года в Англии, в результате которого Яков II Стюарт был смещён с престола. Новым королём стал его зять, голландский штатгальтер Вильгельм III Оранский, а королевой и сопра- вительницей была объявлена Мария II, дочь Якова II. Революция середины XVII века и серия политических потрясений привели к установлению режима ограниченной, конституционной монархии. Одним из итогов Славной революции стало принятие парламентом в 1689 году Билля о правах, в соответствии с которым гражданам были гарантированы права и свободы и законодательно исключалась возможность занятия английского королевского престола католиком. Билль о правах лишил короля Англии права отменять изданные парламентом законы или приостанавливать их действие, вводить налоги и собирать армию в мирное время без согласия парламента. Тем самым было утверждено верховенство парламента над королевской властью.
7. Яд уже не действовал на Митридатов... — Митридат VI Евпатор (132—63 гг. до н.э.) — царь Понта, вёл войны с Римом. Его сын Фарнак, которого Митридат считал своим преемником, составил заговор против отца с целью лишить его власти. Армия и флот поддержали его, и Фарнак был провозглашён царём. Старик Митридат, видя, как его сын принимает царские регалии, понял, что всё для него кончено, и вместе со своими родственниками принял яд. На царя отрава не подействовала, поскольку он на протяжении многих лет приучал себя к ядам и постоянно употреблял противоядия. Тогда командир отрада галлов-наёмников по просьбе царя добил его мечом. Фарнак сообщил о смерти отца римскому полководцу Помпею, а тот велел достойно похоронить Митридата в царской гробнице.
8. Наполеон написал своё имя на том же листе, где были написаны имена Али, Саладина, Ибрагима и других! — Али ибн Абу-Талеб (ок. 600— 661) — двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда. Саладин Великий (Салах-ад-Дин) (1138—1193) — султан Египта (правил в 1171—1193); в 1187 году взял Иерусалим, вёл успешную борьбу с крестоносцами во время Третьего крестового похода (1189—1192). Ибрагим — один из пророков в исламе, соответствует библейскому Аврааму.
9. Когда Фелиппо находился в Лондоне вместе с сэром Сиднеем Смитом, который с его помощью сбежал из Тампля... — В 1796 году английский капитан Уильям Сидней Смит совершил серию нападений на французский флот. Он попал в плен вблизи Гавра, был обвинён в пиратстве и помещён в тюрьму Тампль, где провёл два года. Ему угрожала гильотина. Фелиппо организовал побег: он соблазнил дочь надзирателя тюрьмы, привёл друзей, которые представились жандармами, предъявили поддельный приказ и освободили Сиднея Смита.
10. ...госпожи Элизабет... — Элизабет-Филиппина-Мари-Элен (1764— 1794), известная как мадам Элизабет, — французская принцесса, дочь Луи-Фердинанда, дофина Франции, и Марии-Жозефы Саксонской, сестра
780
Людовика XVI, которому она была искренне предана. Сопровождала короля во время бегства, закончившегося арестом в Варение (1791). Казнена на гильотине 10 мая 1794 года.
11. Среди них он увидел несколько писем от короля господину д’Авари на Мадейру... — Д’Авари или Аваре Антуан Луи Франсуа де Безьяд, граф, с 1799 года герцог (1759—1811) — фаворит Людовика XVIII в годы эмиграции. В 1791 году помог ему эмигрировать из Франции. Умер на Мадейре, куда уехал восстанавливать здоровье.
12. ...пробные шары запускались и из Митавы, и из Лондона... — Находившийся в эмиграции граф Прованский, он же граф де Лилль (1755—1824), после смерти дофина Франции (юного Людовика XVII) провозгласивший себя королём Людовиком XVIII, временно проживал в российском городе Митава. Митава (ныне город Елгава) — губернский город Курляндской губернии, бывшая столица Курляндского герцогства, присоединённого в 1795 году к России. Граф д’Артуа (будущий король Карл X) во время эмиграции проживал в Лондоне.
13. Деспотичный поступок похитителя престола... — Князь Ацфельд был уличён в измене и приговорён к расстрелу. Его жена пришла к императору умолять о снисхождении. Наполеон великодушно вручил ей письмо, доказывающее виновность её мужа, со словами: «Что ж мадам, бросьте это письмо в огонь».
14. ...особенно в дни Майского поля... — «Майское поле» (Champ de Mai) — с VIII—IX вв. сбор вассалов для обнародования сюзереном каких-либо важных актов, а также сбор всех войск Франции на смотр.
15. Андре Эрнест Модест Гретри (1741—1813) — французский композитор. Ария «О, Ричард, мой король!» из оперы «Ричард Львиное Сердце» стала роялистским гимном во время революции. Гретри награждён орденом Почётного легиона.
16. Он часто перечитывал в книге описание сражения при Йене, где Наполеону противостоял генерал Блюхер. — Ошибка Лас-Каза. 14 октября 1806 года состоялось два сражения армии Наполеона и прусской армии: при Йене (где французскими войсками командовал сам Наполеон) и при Ауэрштедте. Блюхер принял участие в битве при Ауэрштедте, где командовал кавалерией.
17. ...я заблуждался в отношении характера Б. У С. были не только недостатки, но и достоинства. — Предположительно, Наполеон говорил о Бер- надотге и Сульте.
18. Когда в Дрездене я узнал о нашей неудаче в сражении при Виттории и о потере всей Йспании из-за скверного управления страной беднягой Жозефом, моим братом, чьи планы и их исполнение не соответствовали требованиям дня и казались скорее принадлежавшими не мне, а генералу Субису... —
781
Шарль де Роган, принц де Субис (1715—1787) — военачальник и государственный деятель, маршал Франции (с 1758). В 1757 году был одним из командующих объединённой франко-имперской армией, которая была разбита армией Фридриха Великого в битве при Росбахе.
19. Каффарелли утратил доверие императора потому, что, как сообщили Наполеону, жена Каффарелли занималась политическими интригами... — Луи- Мари-Жозеф Каффарелли дю Фальга (1760—1845), член Государственного совета и морской префект Бреста. Два его брата — Луи Мари Жозеф Максимилиан Каффарелли дю Фальга (1756—1799) и Мари Франсуа Огюст Каффарелли дю Фальга (1766—1849) — были известными генералами.
20. Император с гордостью вспоминал, что, когда ему было всего двенадцать лет, он сопровождал Паоли в знаменитом походе в Порт ди Нуово. — Ошибка Лас-Каза. Паоли покинул Корсику в 1769 году и вернулся на родину в 1790 году, когда Наполеон был в возрасте 21 года.
21. Так случилось, что один из членов Института, принимавший активное участие в дискуссии и голосовавший за то, чтобы чтение речи продолжалось, одновременно был одним из высокопоставленных офицеров императорского двора. — Дарю Пьер-Антуан-Ноэль-Бруно (1767—1829) — граф (1809), военный и государственный деятель, в разные годы занимал посты генерального интенданта (комиссара) армии Наполеона, государственного секретаря, министра военного снабжения. Член Трибуната, член Государственного совета. Писатель, поэт, переводчик Горация. Автор «Истории Венецианской республики», «Истории Бретани».
22. Таким подвигом была блестящая экспедиция храброго Эксельмана в Версаль... — После поражения французской армии в битве при Ватерлоо дивизионный генерал граф Реми Жозеф Илиодор Эксельман отвёл свой кавалерийский корпус к Парижу и занял позиции у Версаля.
23. В день 30-го прериаля он сумел умиротворить господствовавшую партию ассамблеи и не разделил позора своих коллег. — 30-го прериаля VII года Французской республики (18 июня 1799 года) Совет пятисот и Совет старейшин незаконно вывели из состава Директории двух директоров (Ларевельера-Лепо и Мерлена из Дуэ), которые были обвинены в многократных нарушениях конституции. 16 июня были кассированы выборы Трельяра. Переворот был организован Сийесом — новым членом Директории. После произведённых в её составе перемен Баррас стал единственным директором из прежнего состава Директории, сохранившим свой пост.
24. ...проявил себя ревностным сторонником системы Монталамбера. —■ Монталамбер Марк Рене (1714—1800) — французский военный деятель и теоретик фортификации, член Парижской и Петербургской академий наук.
25. Орифламма (от лат. aurea flamma; aurum — золото, flamma — пламя) — штандарт французских королей, первоначально составлявший
782
запрестольную хоругвь в церкви Сен-Дени. Главная воинская хоругвь королевских войск Франции, носилась почётным хоругвеносцем и поднималась на копьё лишь в момент боя.
26. Генерального Прокурора Фонарного Столба... — Во время Великой французской революции приговоренных к смертной казни через пове- шанье, бывало, вешали на фонарных столбах.
27. Прославленная актриса мадемуазель Б. завладела вниманием императора Александра... — Бургуен Мари-Тереза-Этьенетт (1781/5—1833).
28. Господин Ф. покорно выдерживал настоящую бурю негодования... — Фонтан Луи (1757—1821) — глава французских учебных заведений — руководитель Французского университета (государственной корпорации, объединявшей все учебные учреждения империи). Поэт, писатель и политический деятель. Граф империи. Был членом и президентом Законодательного корпуса, сенатором. При Бурбонах получил звание пэра и титул маркиза.
29. Тем не менее, влияние общественного мнения на короля было настолько сильным, что, несмотря на его антипатию к Питту, король через год восстановил его в должности премьер-министра. — Георг III восстановил Питта в должности премьер-министра не через год, а через три года. Питт вернулся на Даунинг-стрит в тот же день, когда Наполеон Бонапарт был провозглашён императором французов, — 18 мая 1804 года.
Граф Лас-Каз
МЕМОРИАЛ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ, ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИМПЕРАТОРЕ НАПОЛЕОНЕ Книга I
Редакторы Ирина Богат Игорь Захаров Андрей Иванов
Корректор Анна Танчарова
Вёрстка
Валерий Кечкин
Подготовка иллюстраций Тимофей Струков
Художественное оформление Григорий Златогоров
Выпускающий редактор Вероника Рямова
78581
909
Ï60
Издатель Ирина Евг. Богат Свидетельство о регистрации 77 № 006722212 от 12.10.2004
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9 (рядом с Никитскими воротами, отдельный вход в арке)
Тел.: (495) 691-12-17, 258-69-10. Факс: 258-69-09 Наш сайт: www.zakharov.ru E-mail: info@zakharov.ru
Подписано в печать 10.10.2010. Формат 60x90 !/16 Бумага офсетная. Уч. печ. л. 49 + 1,75 илл. Тираж 1500 экз. Заказ № 760.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. http://www.uralprint.ru e-mail: book@uralprint.ru