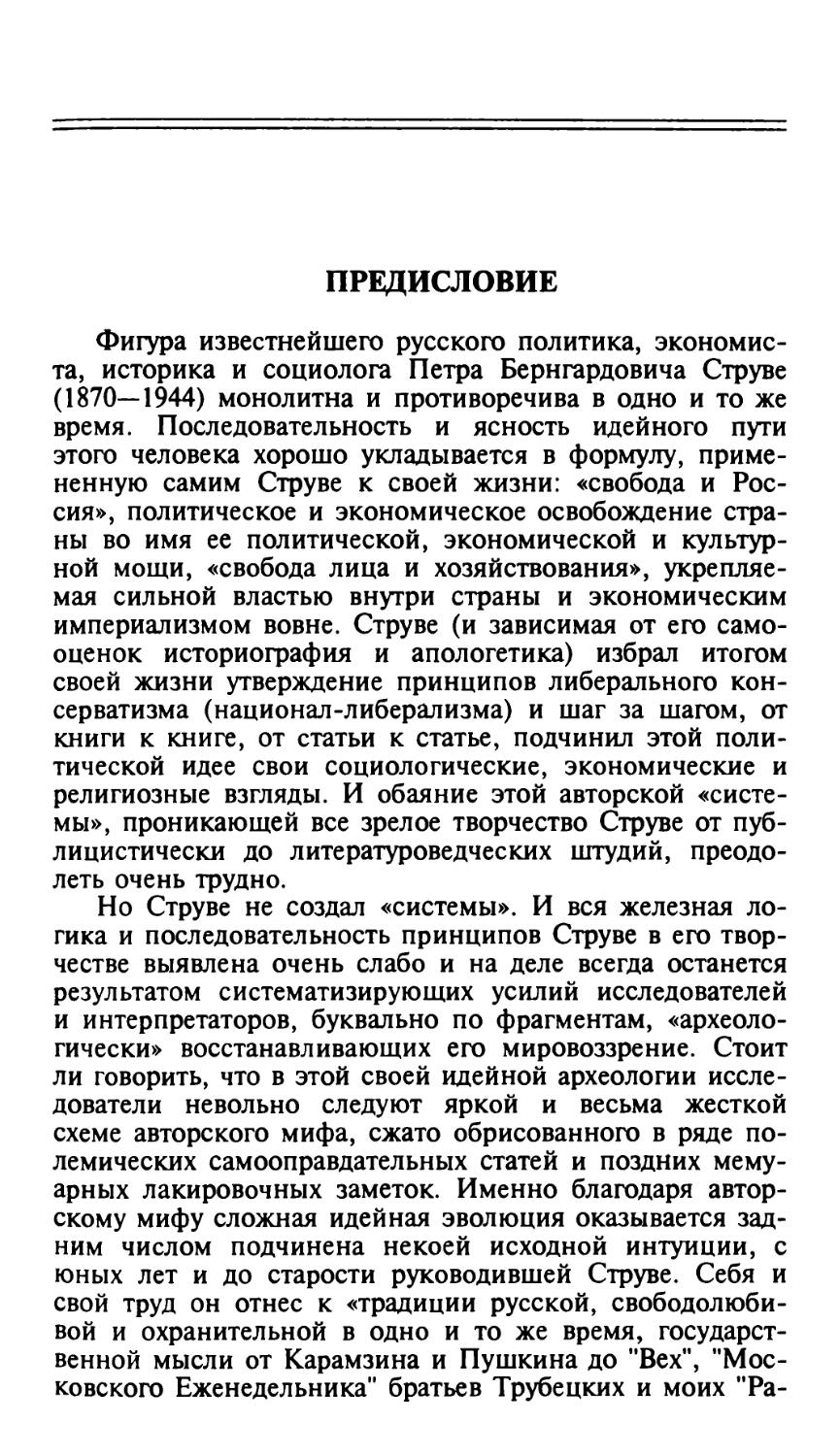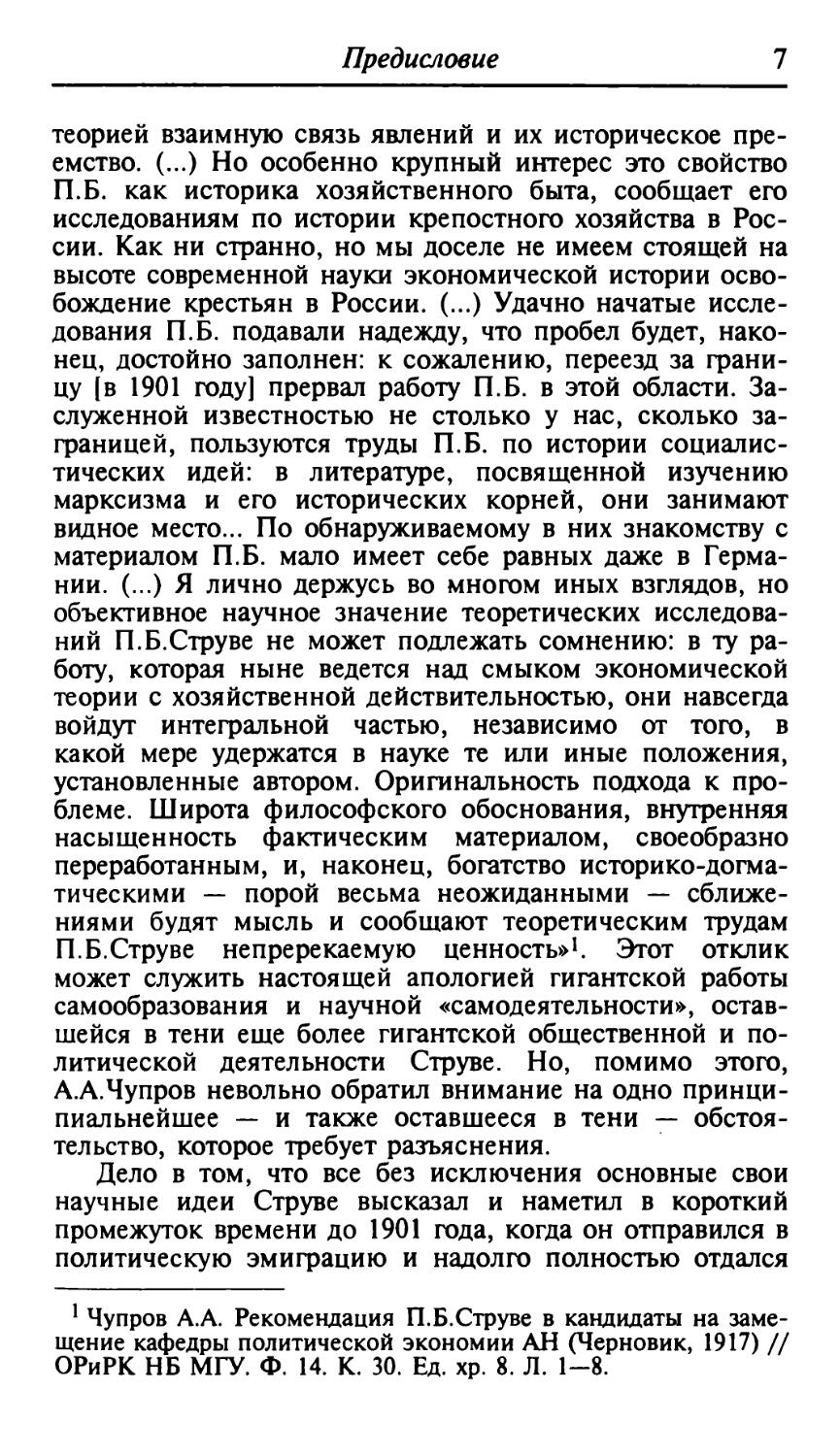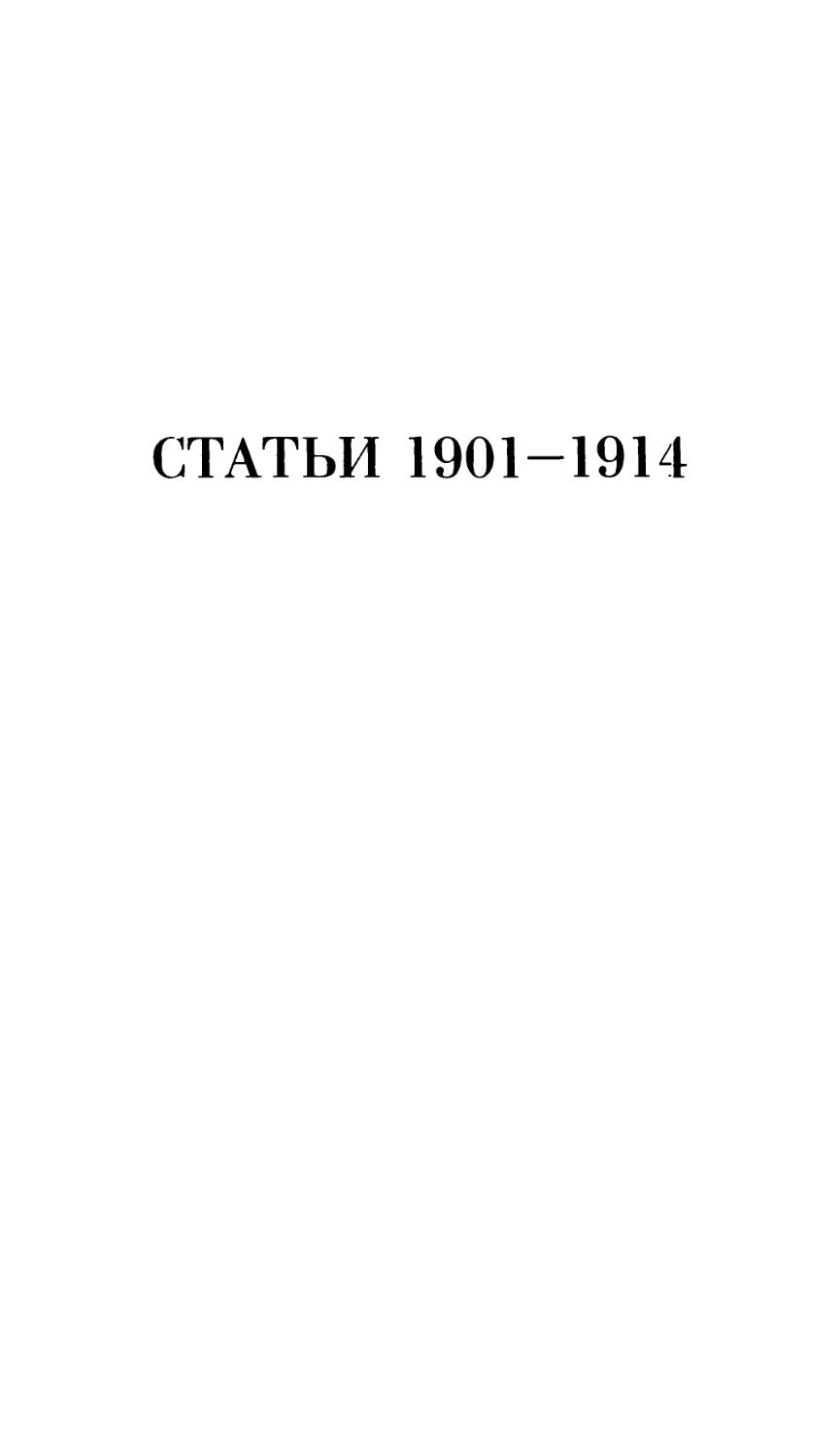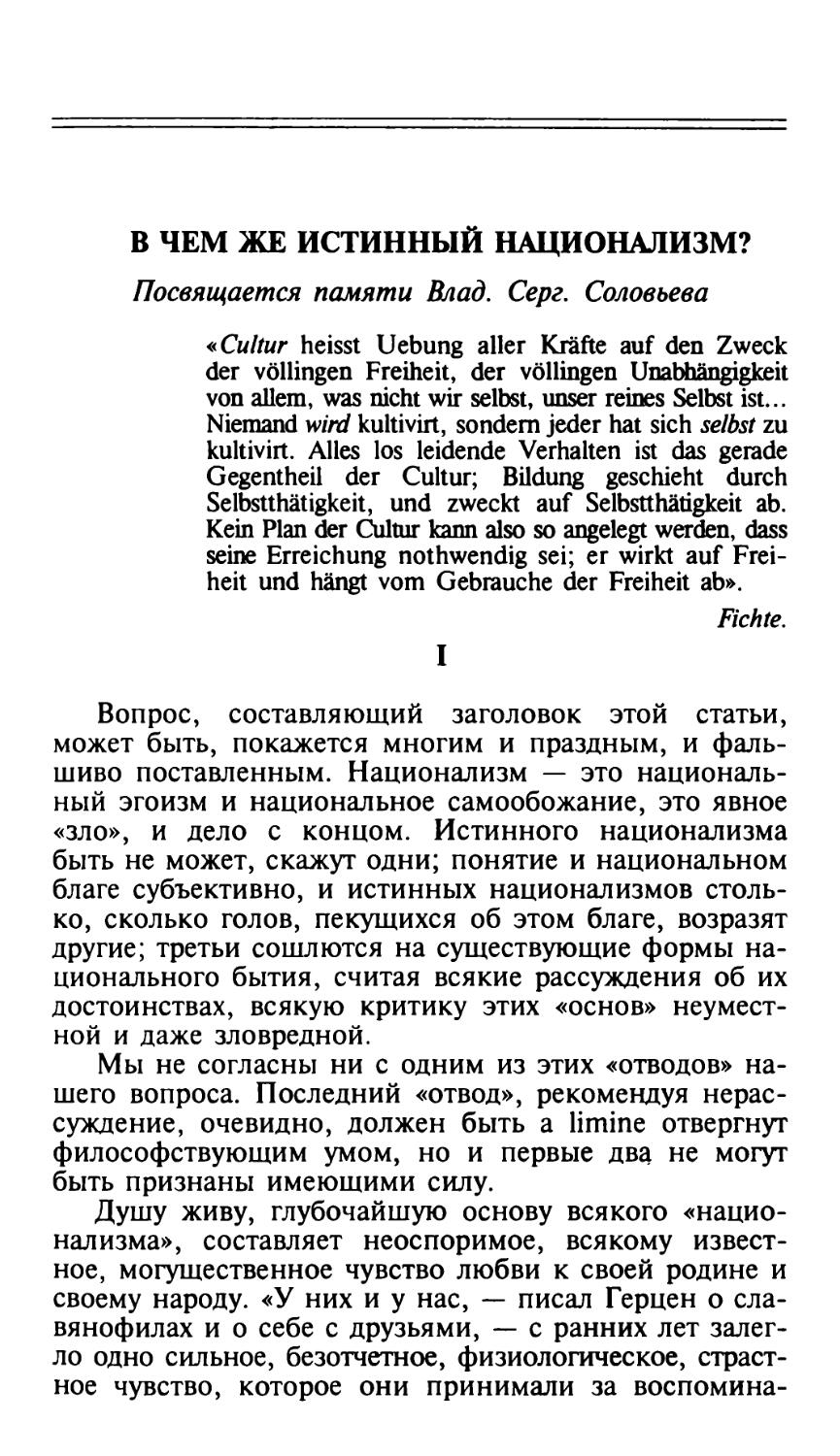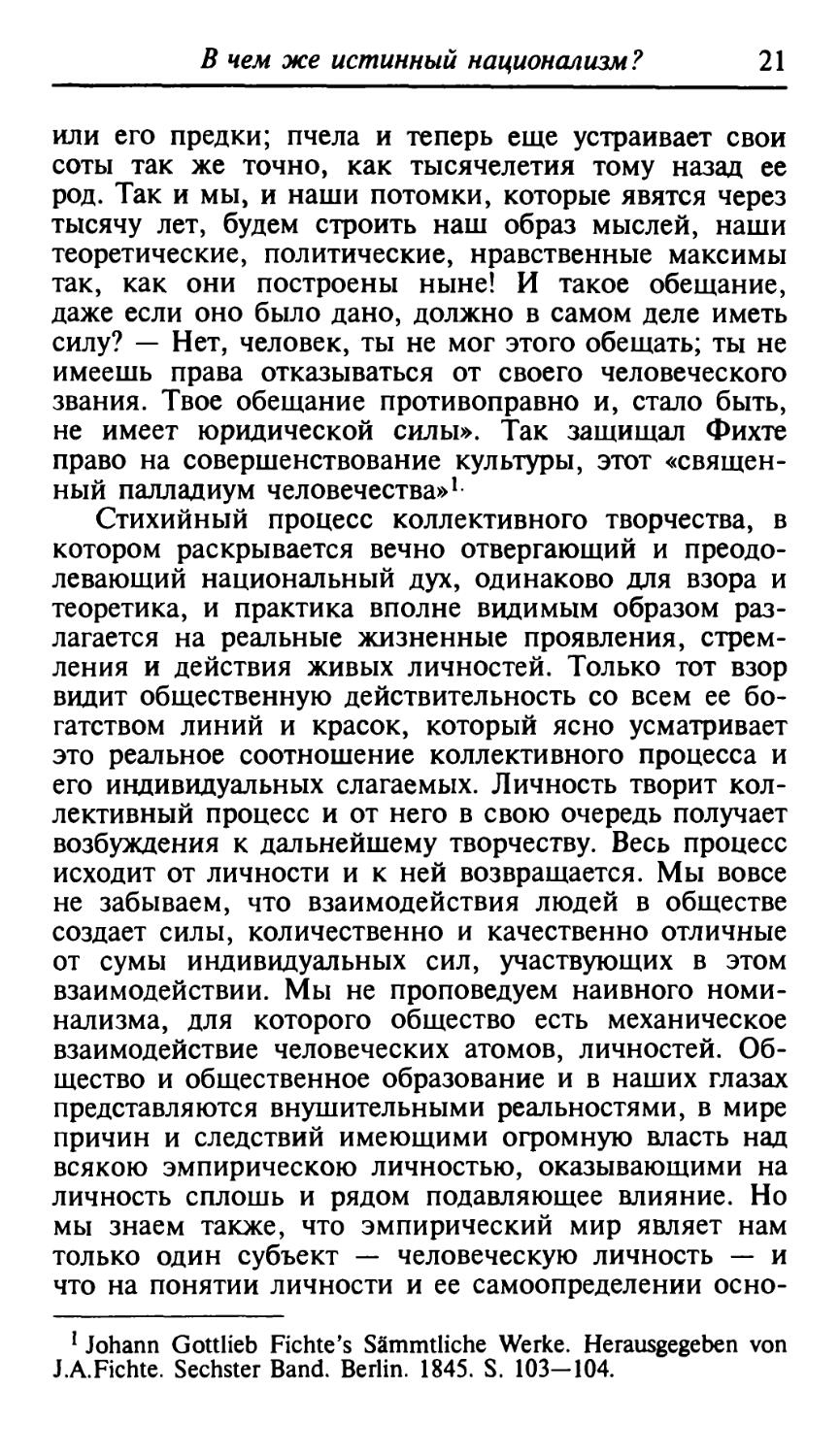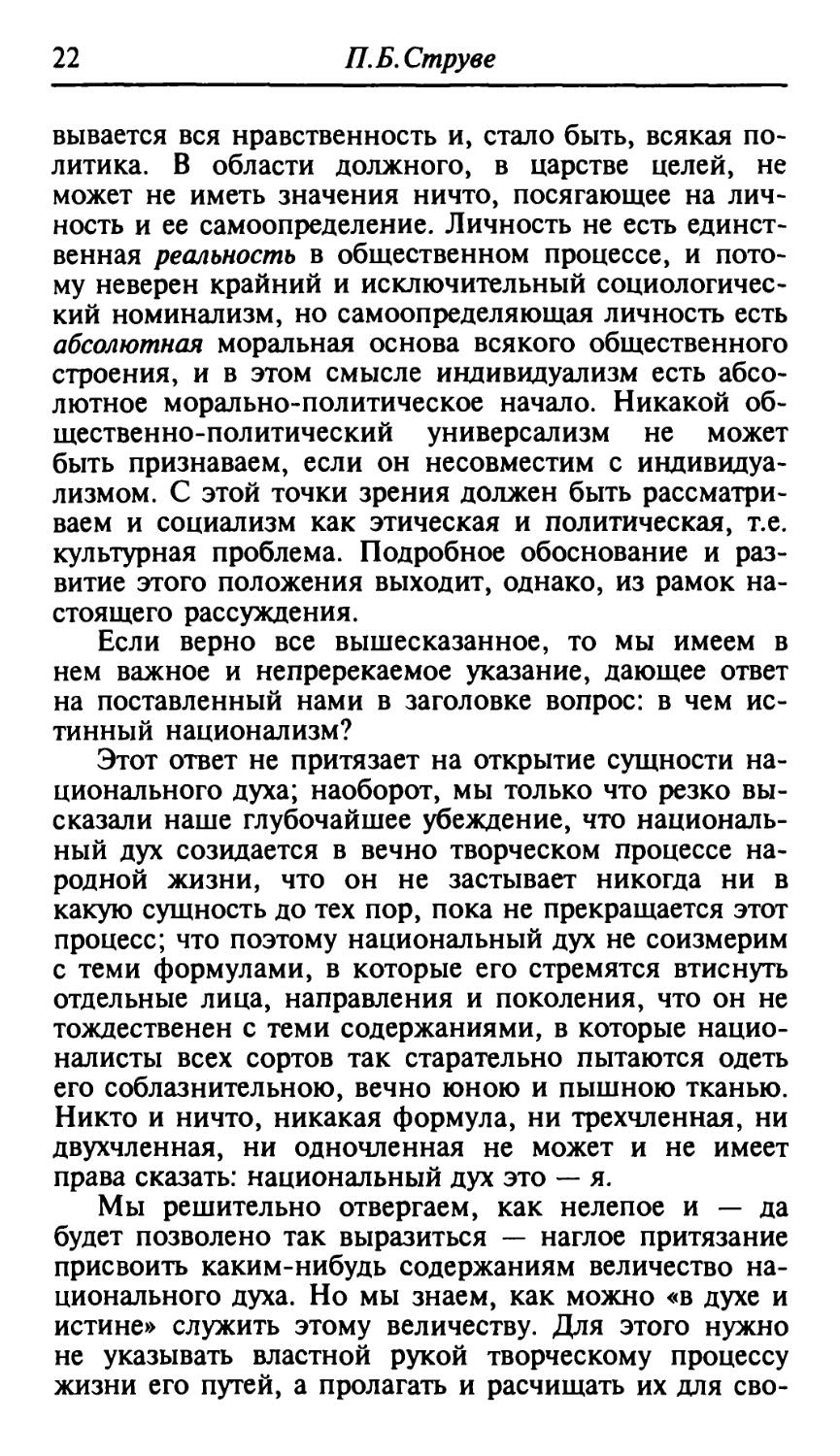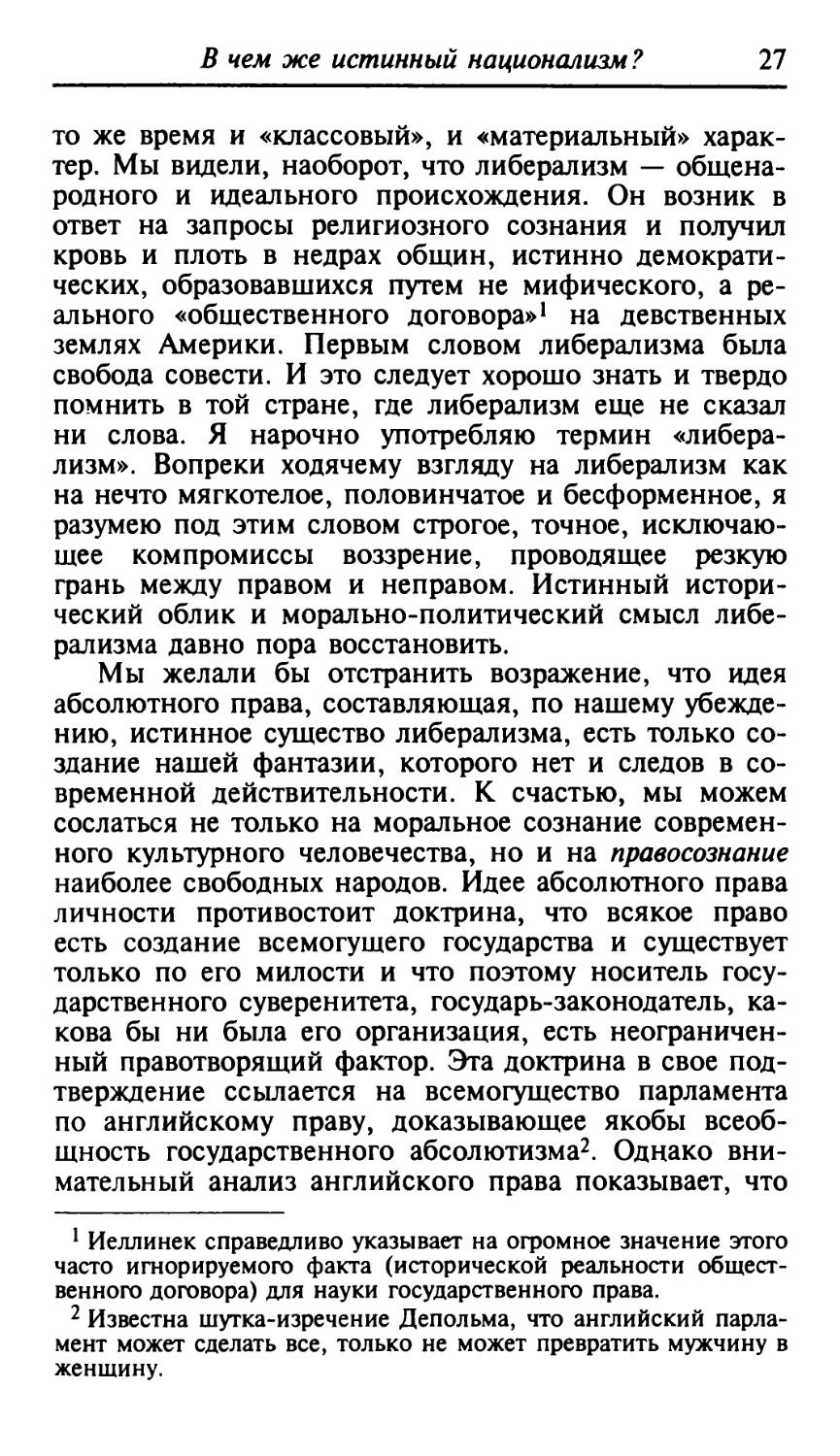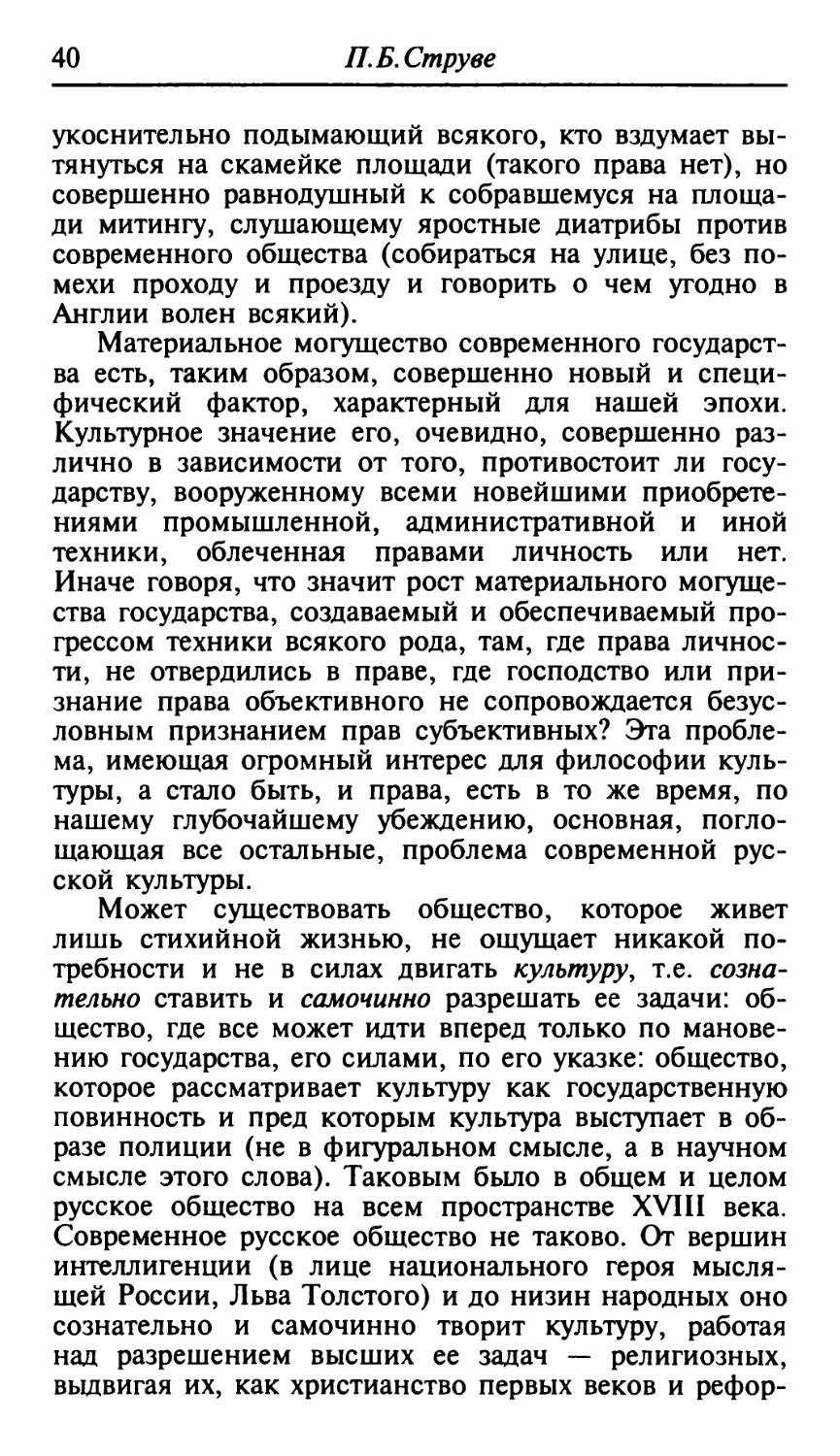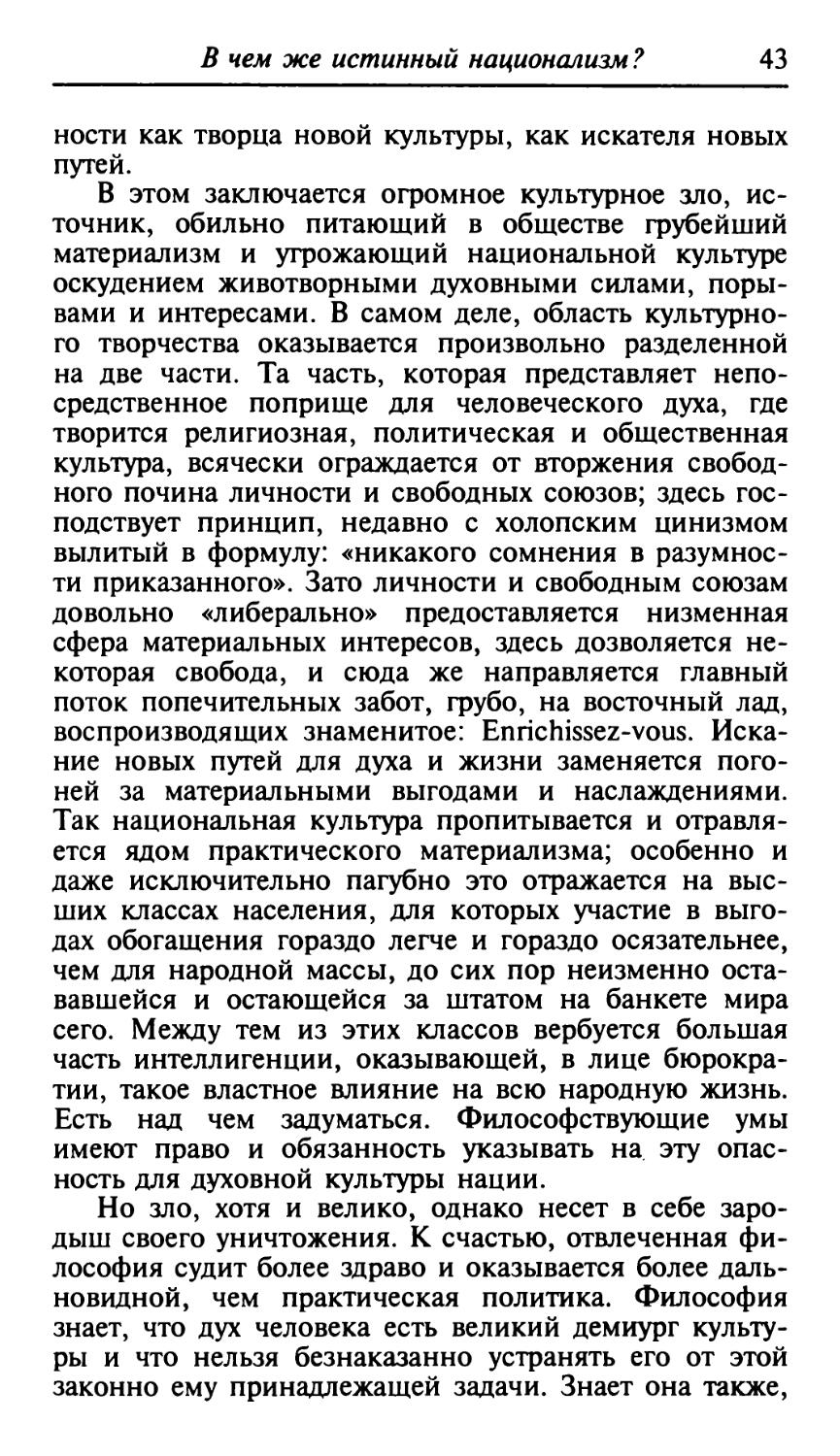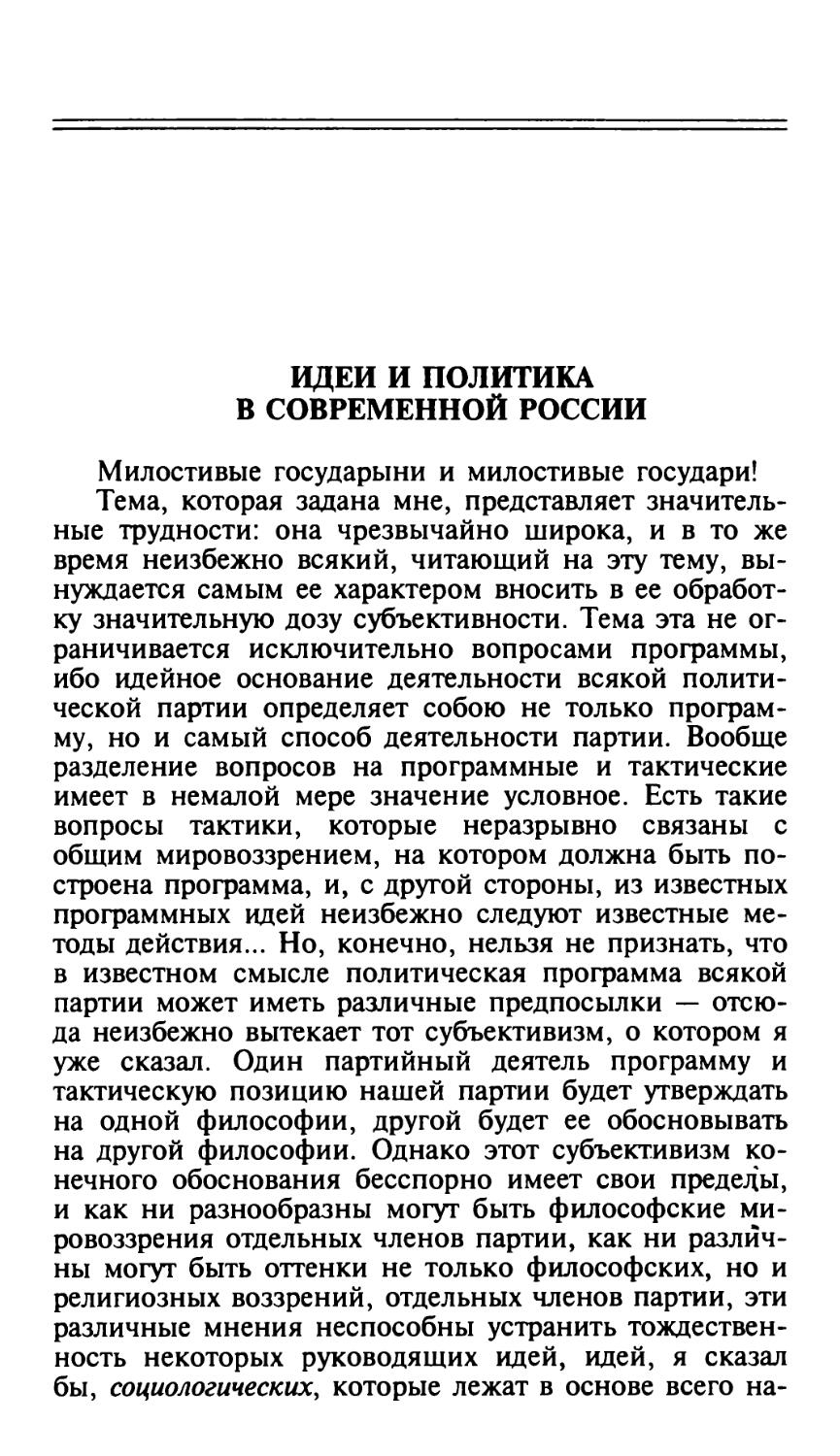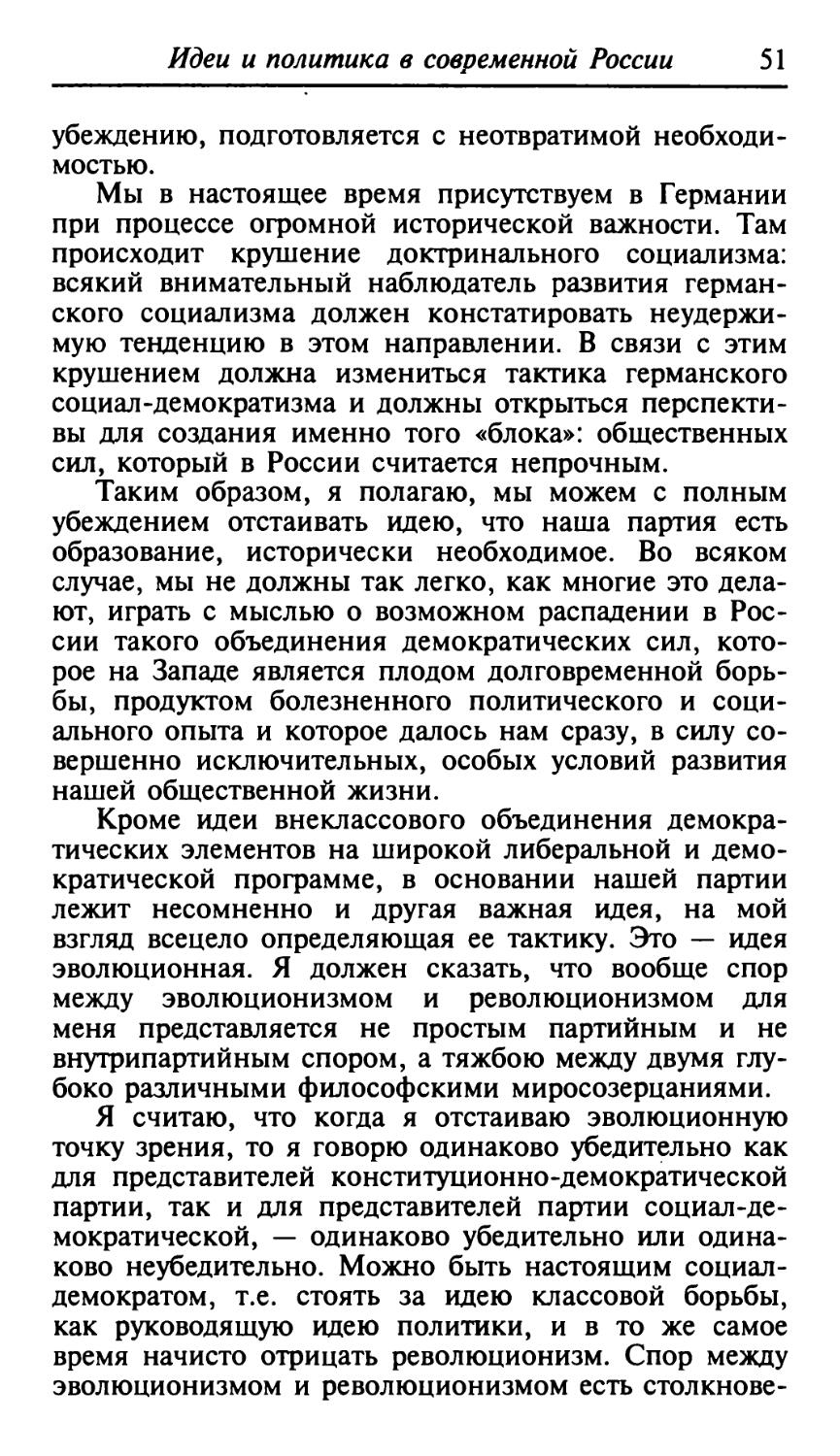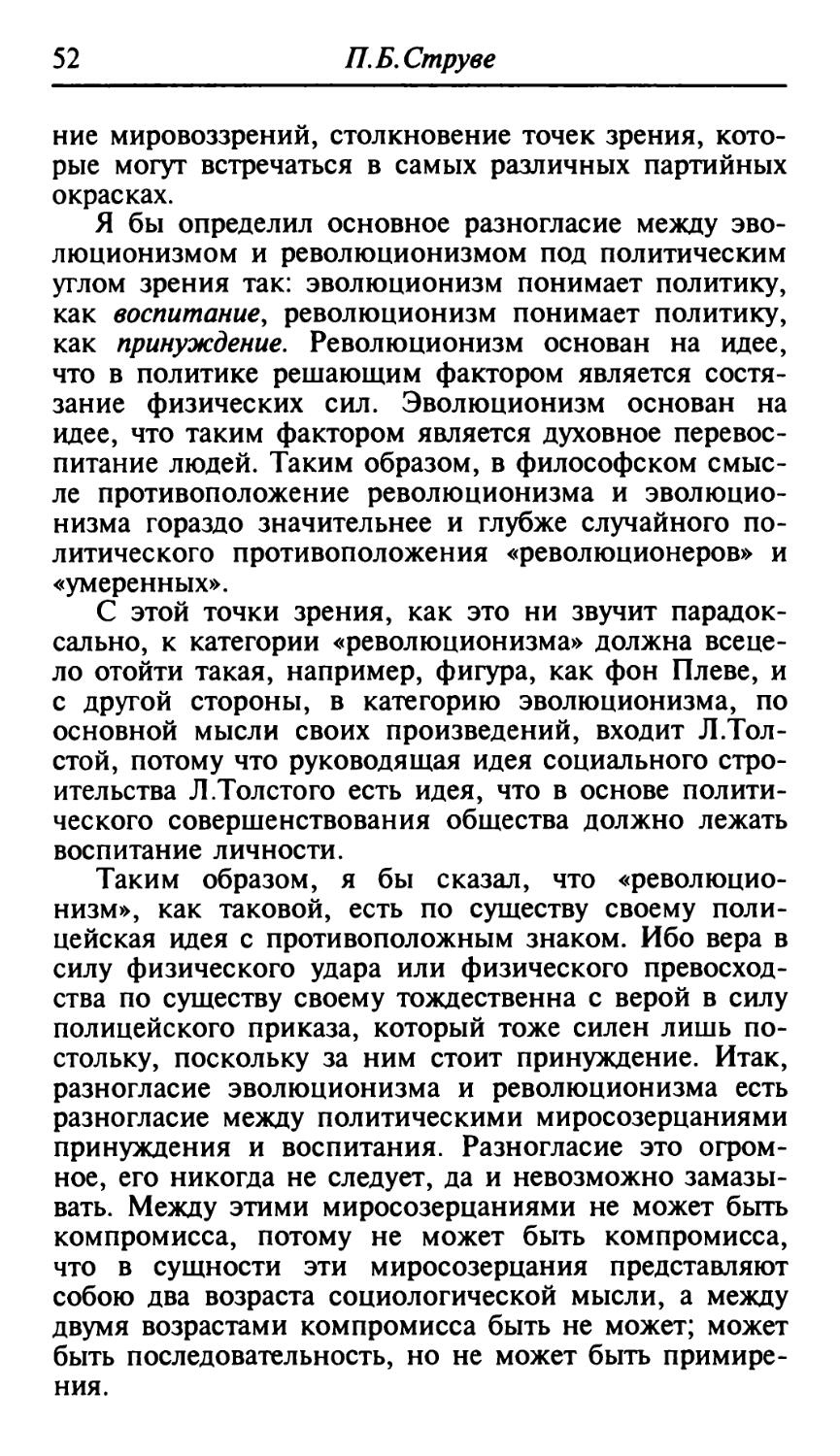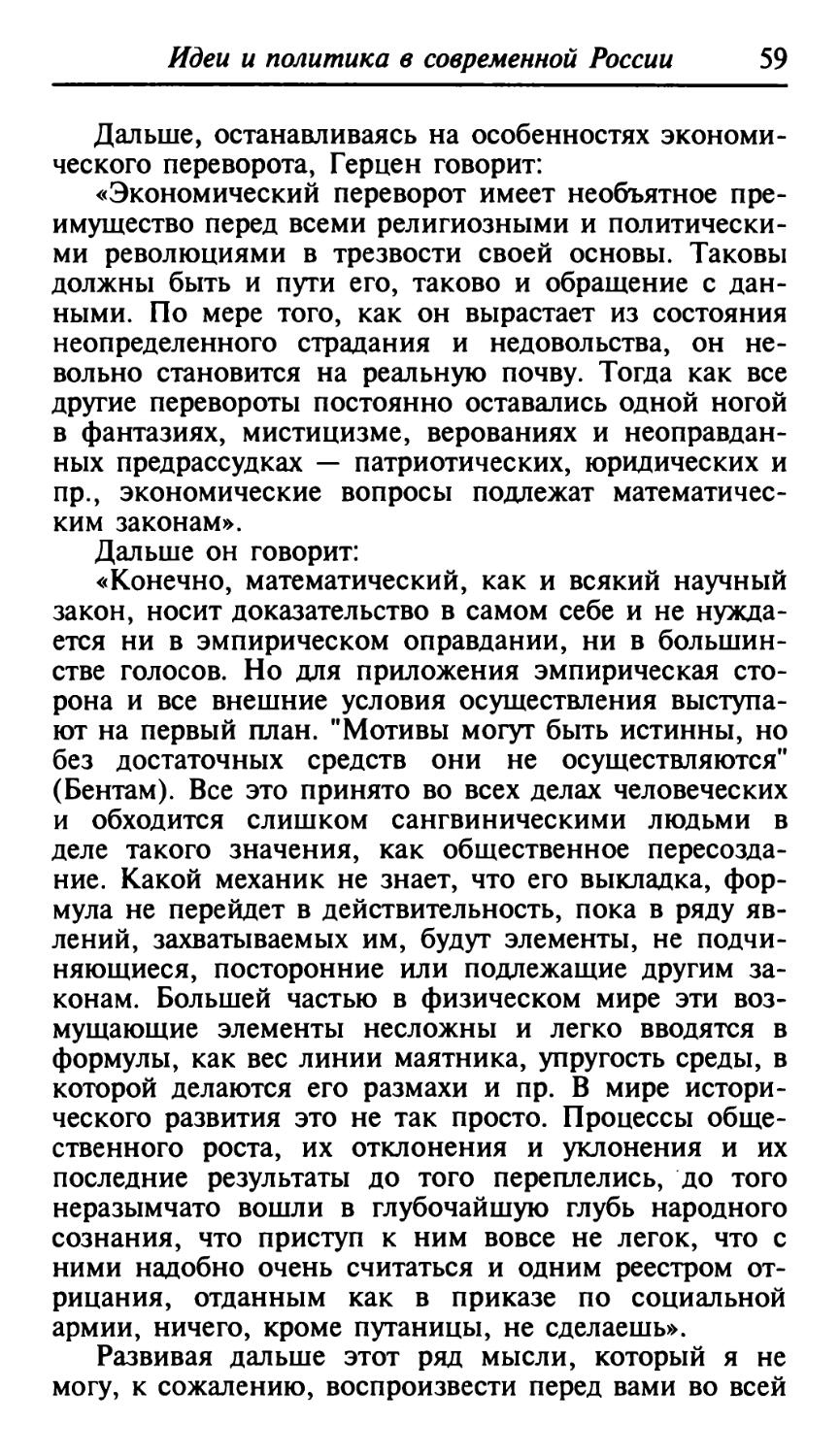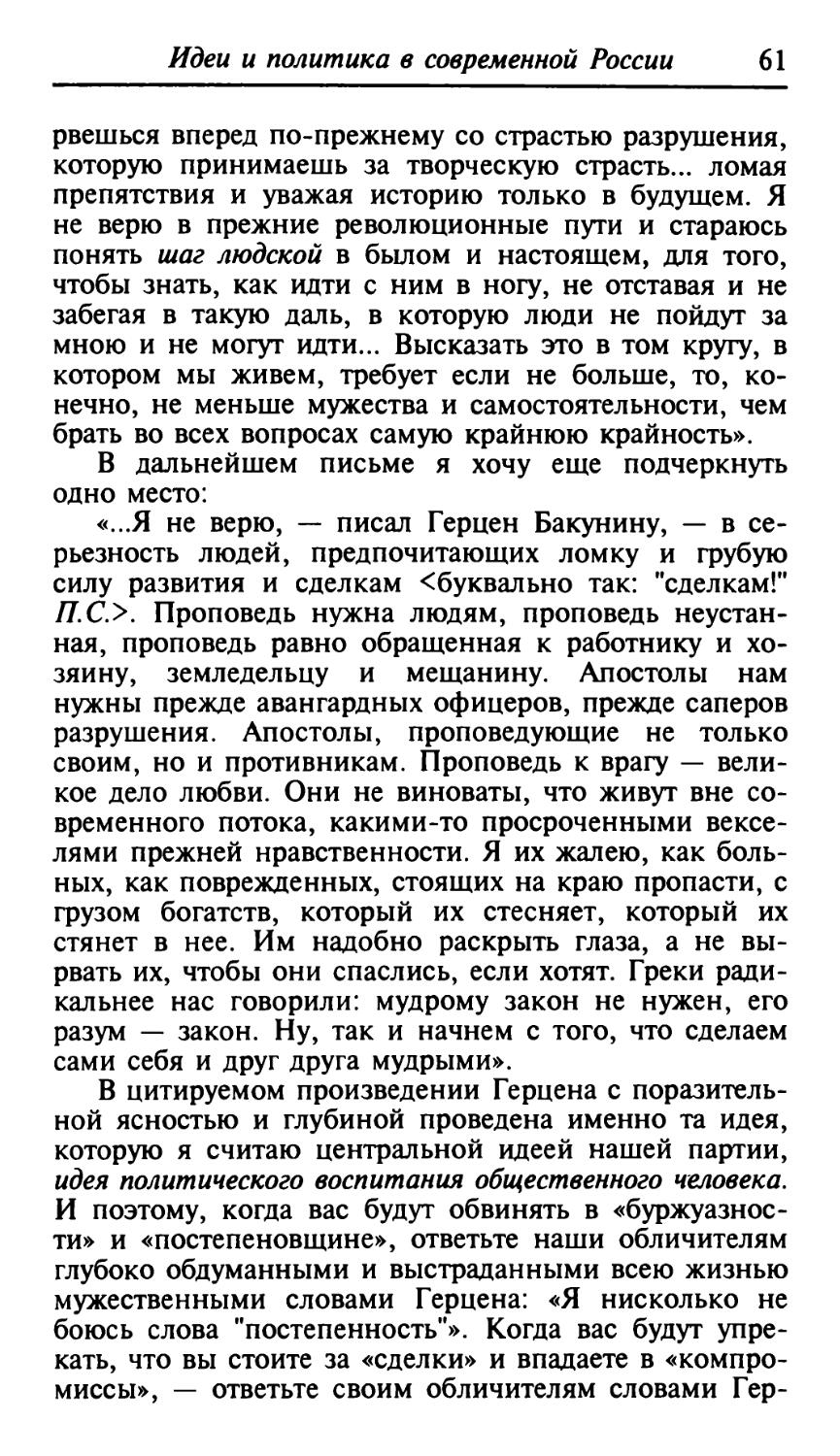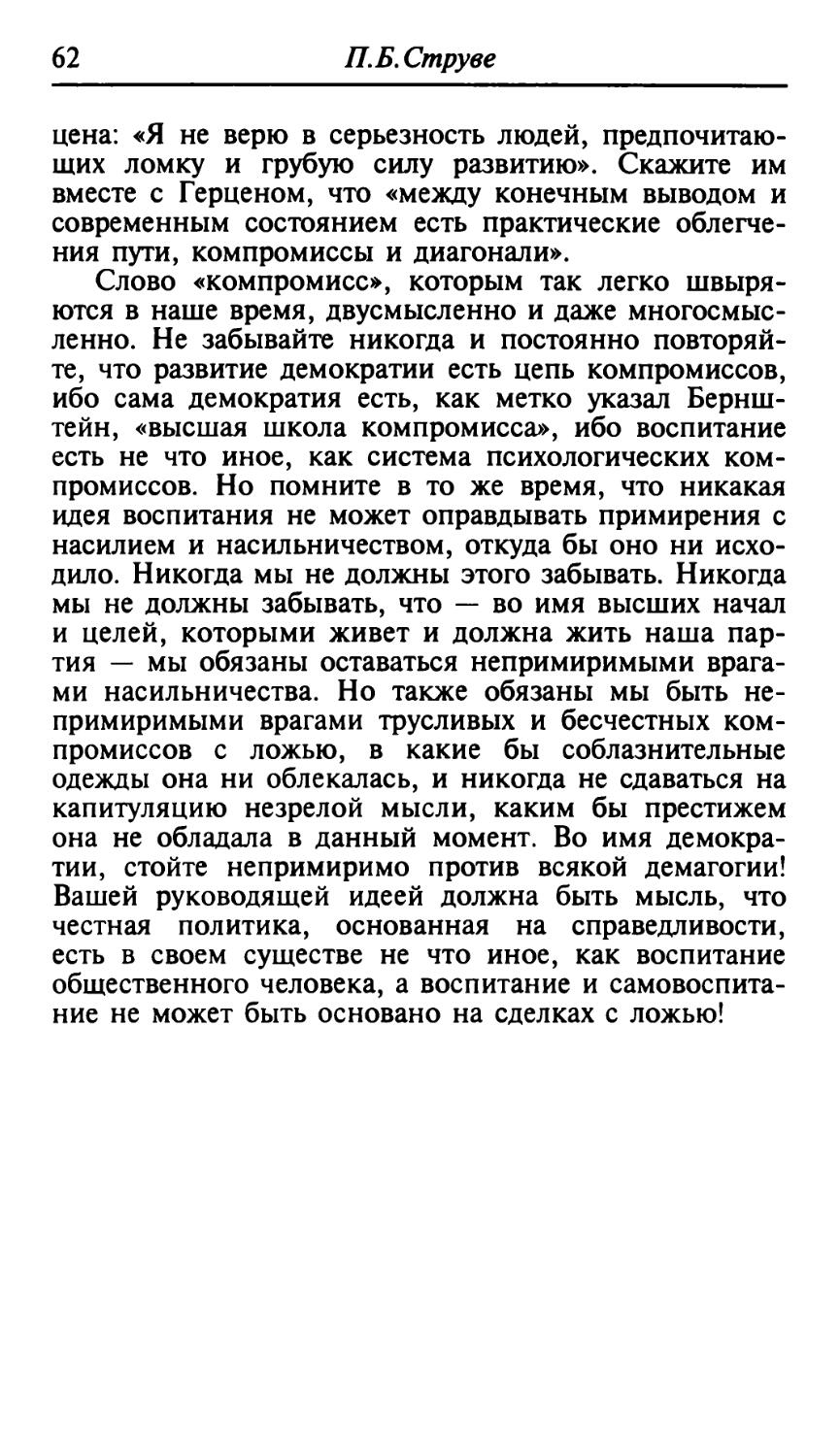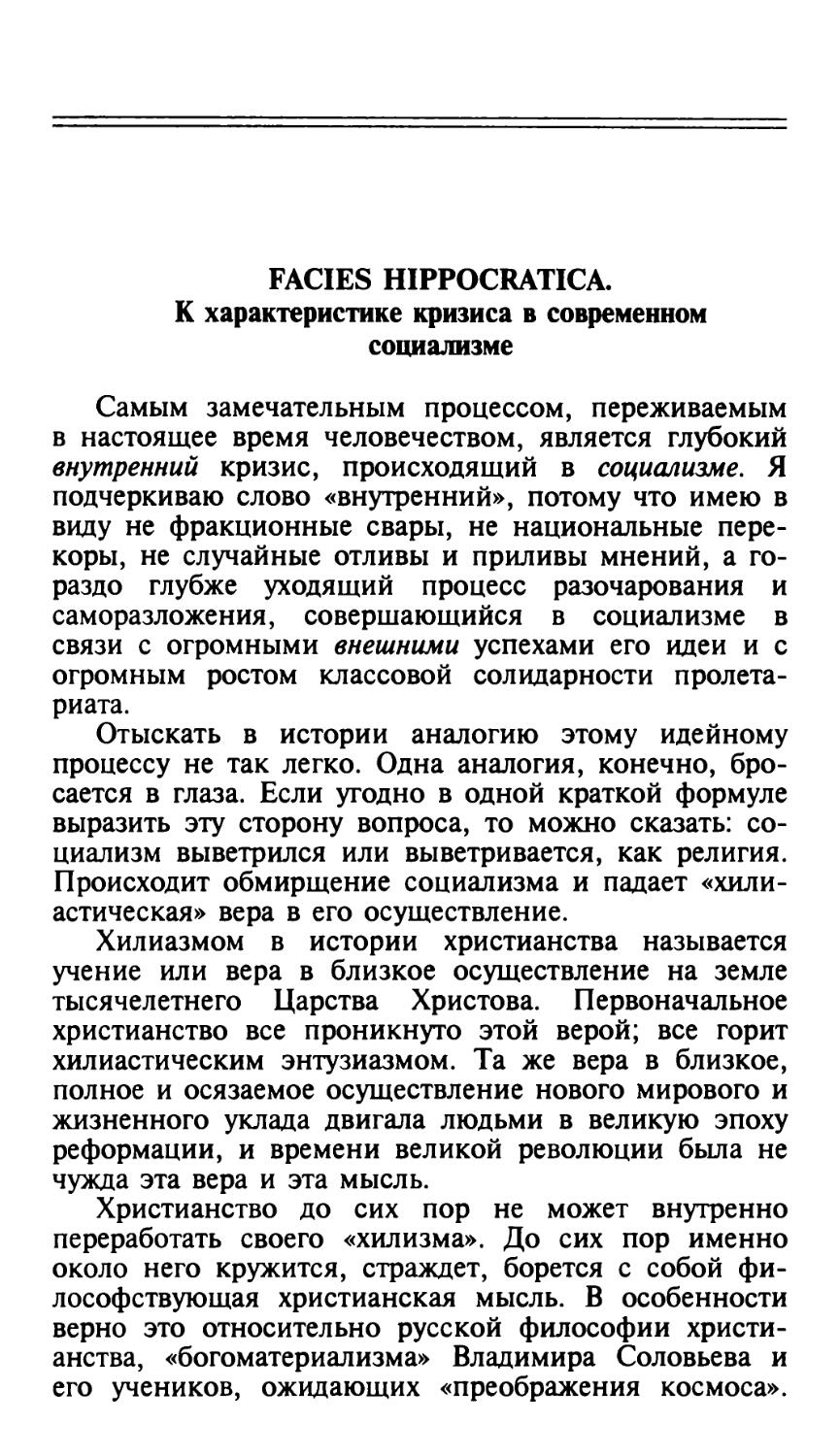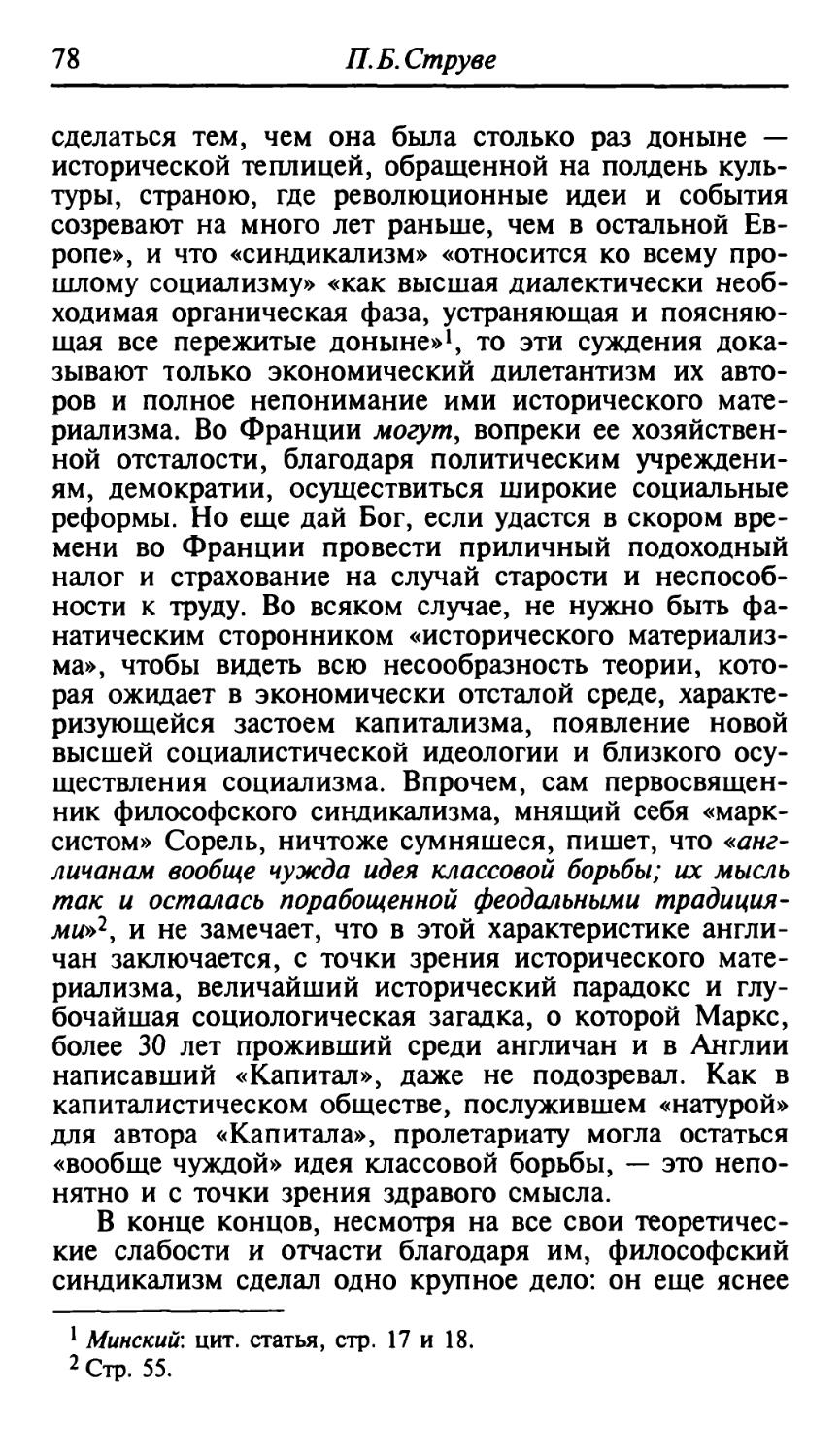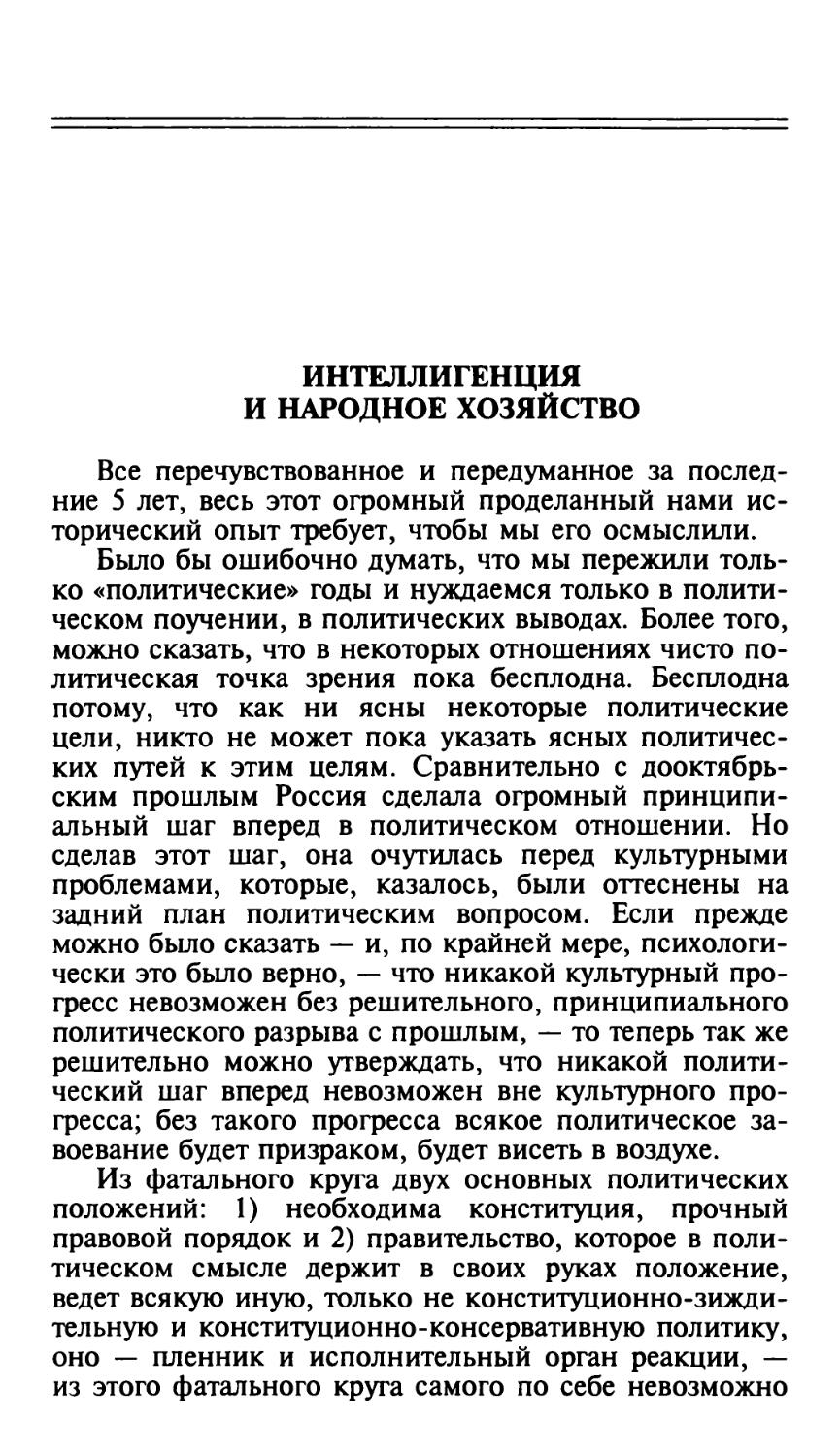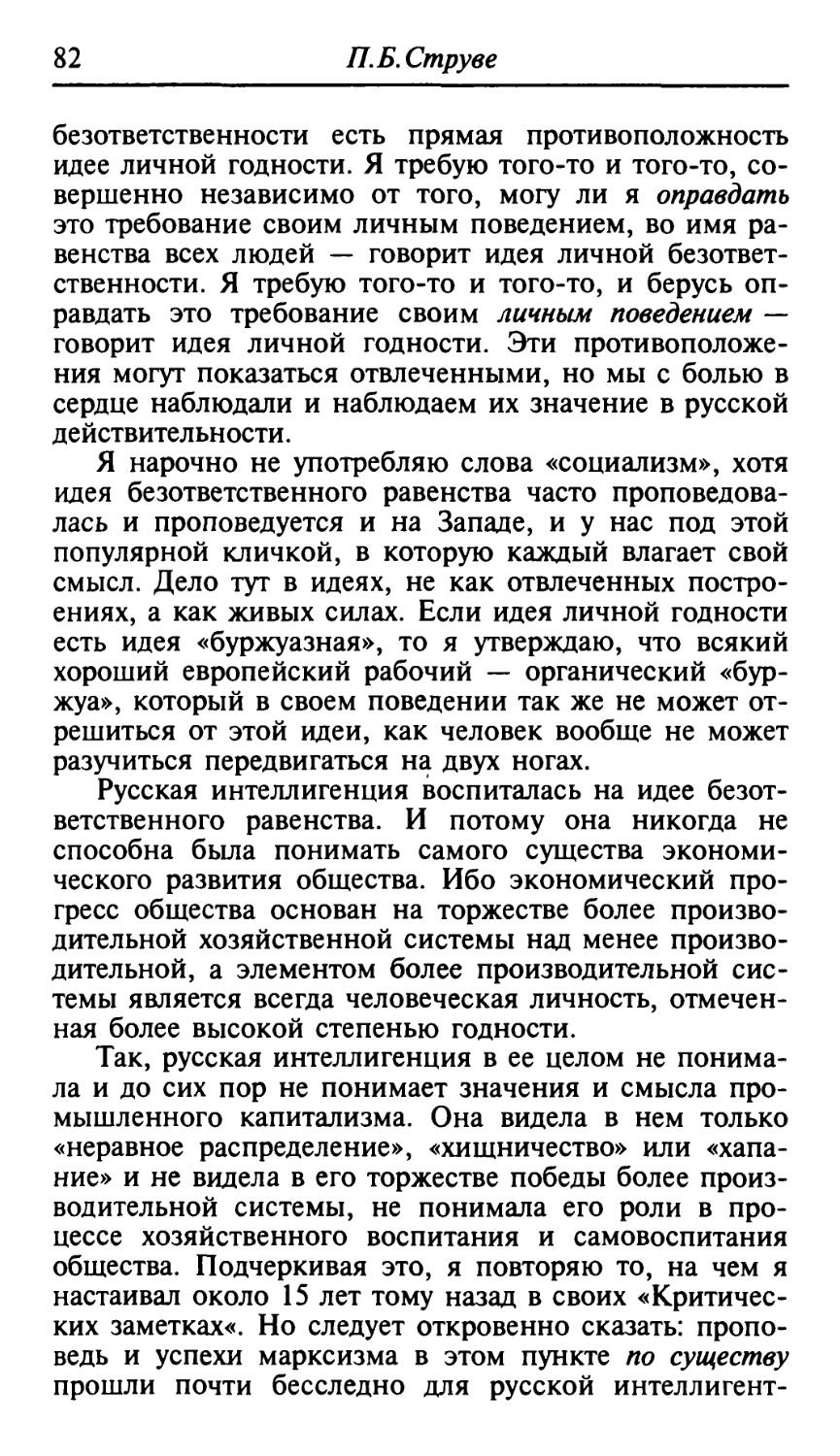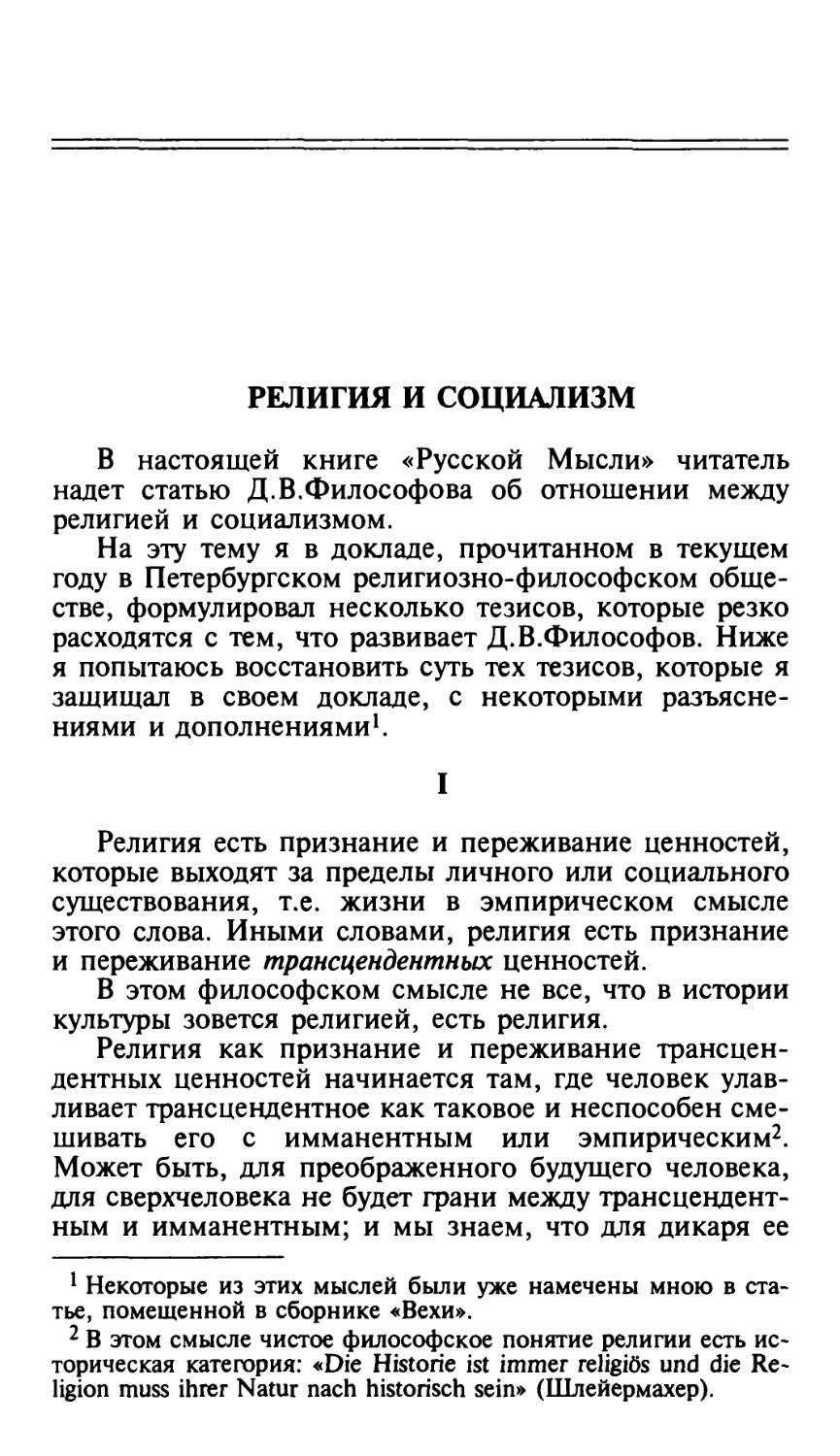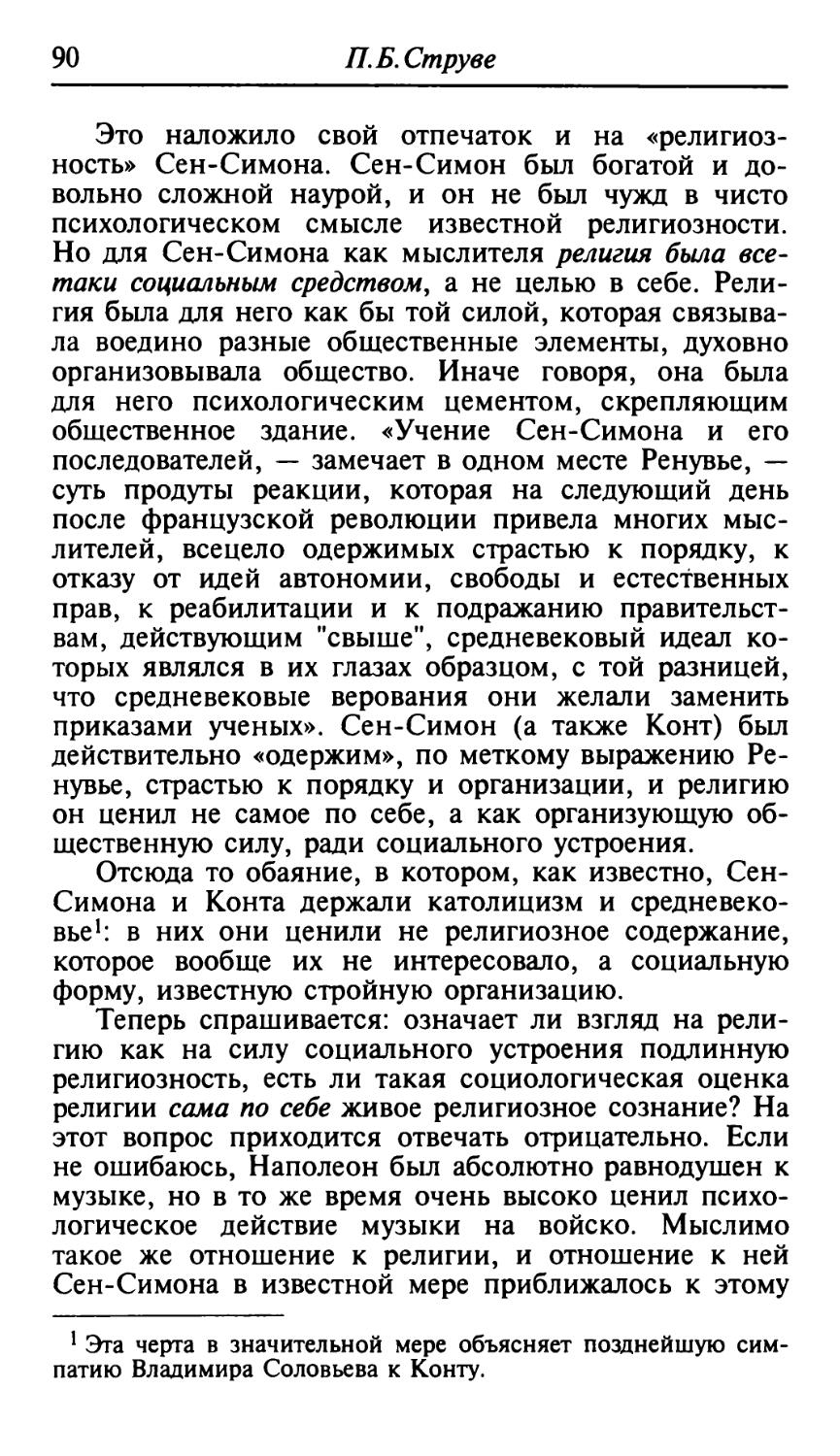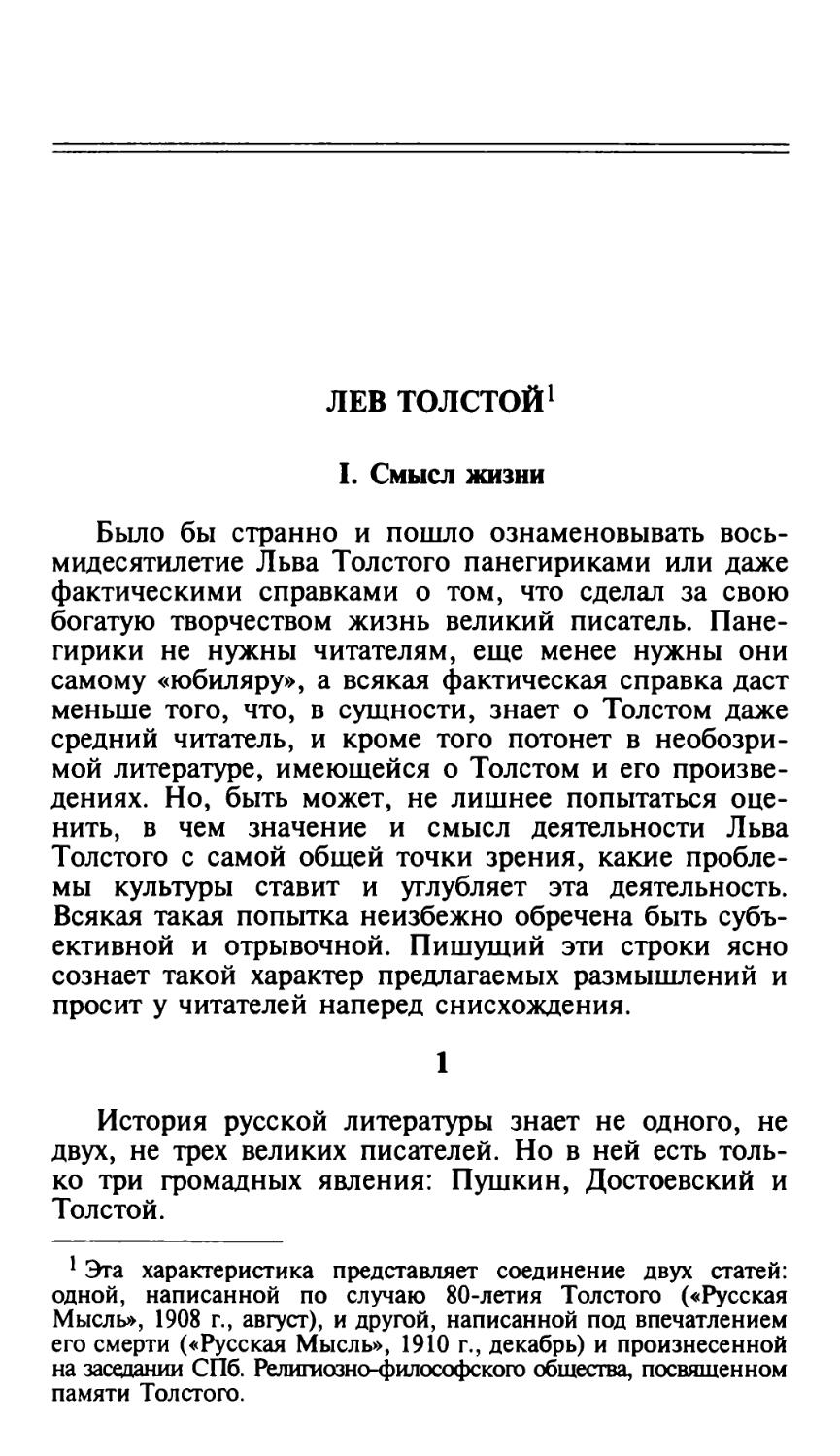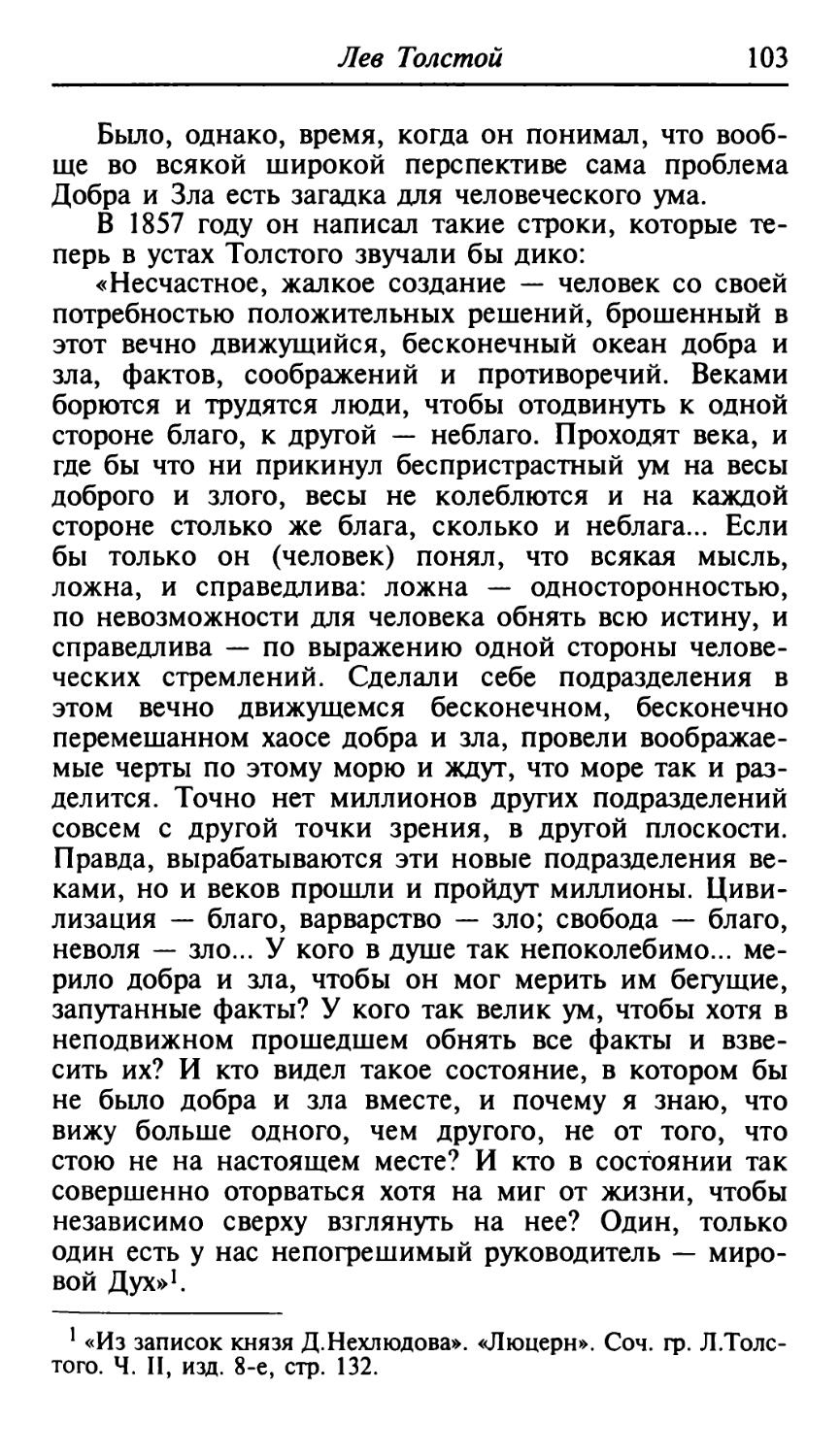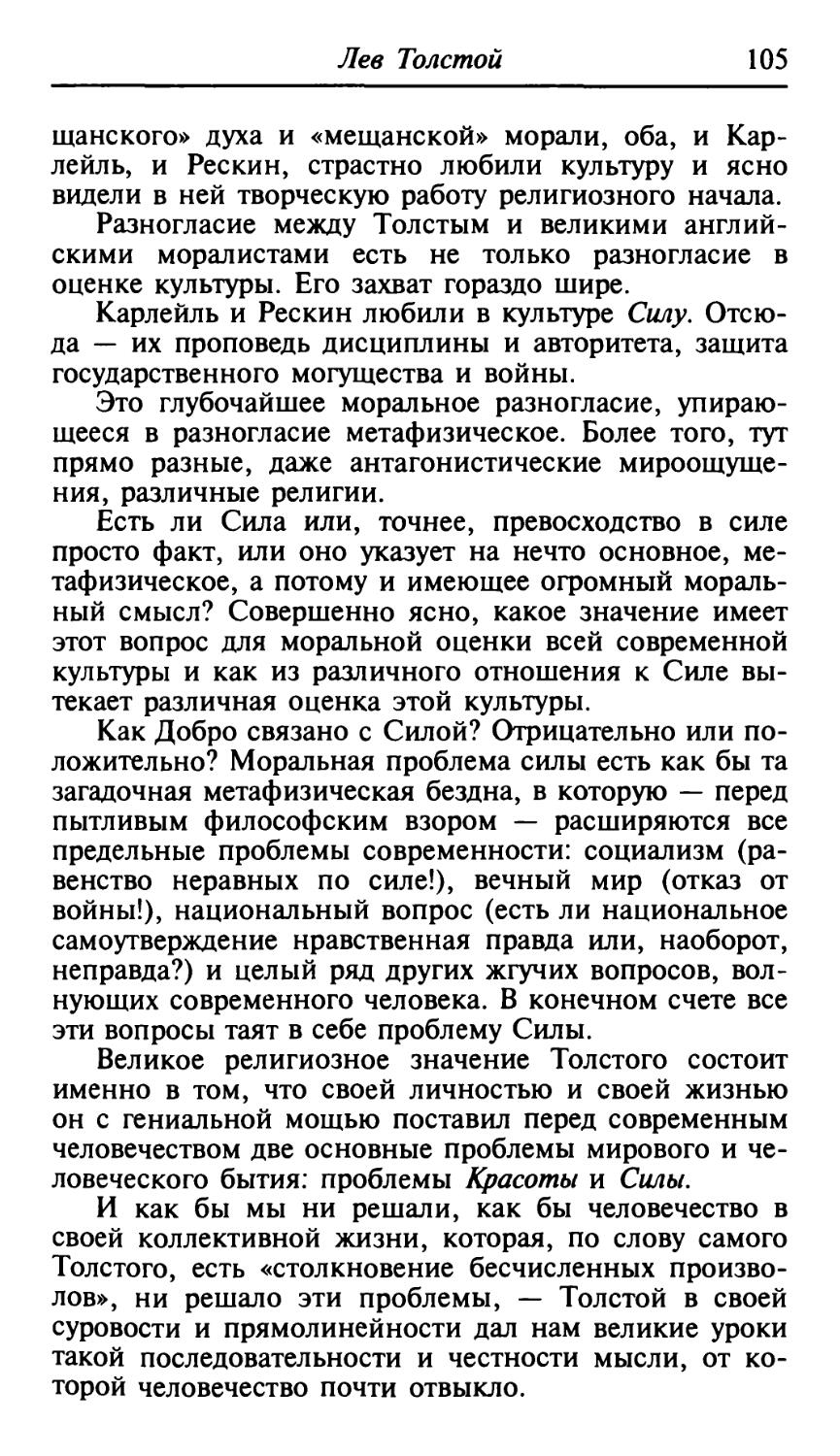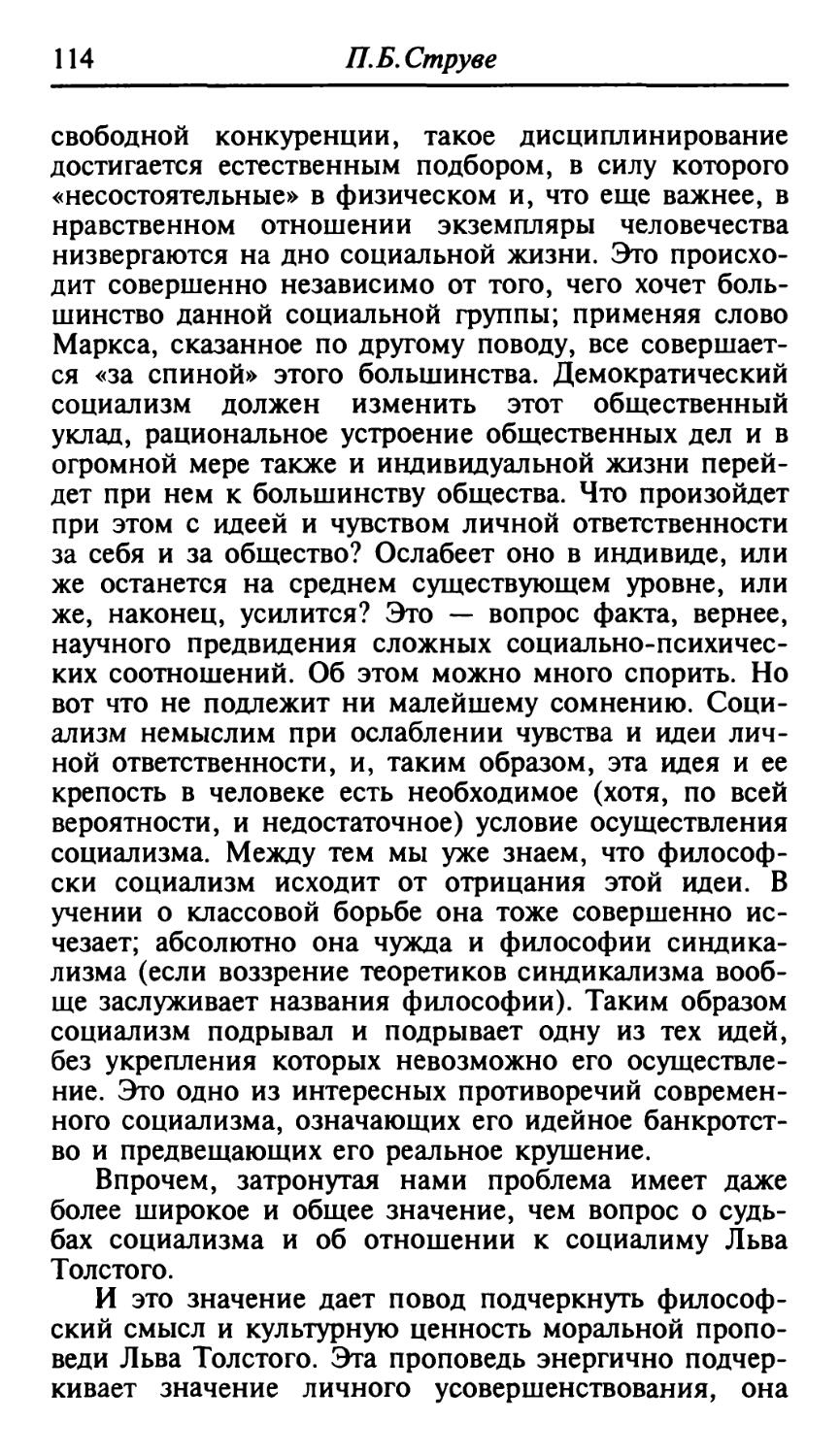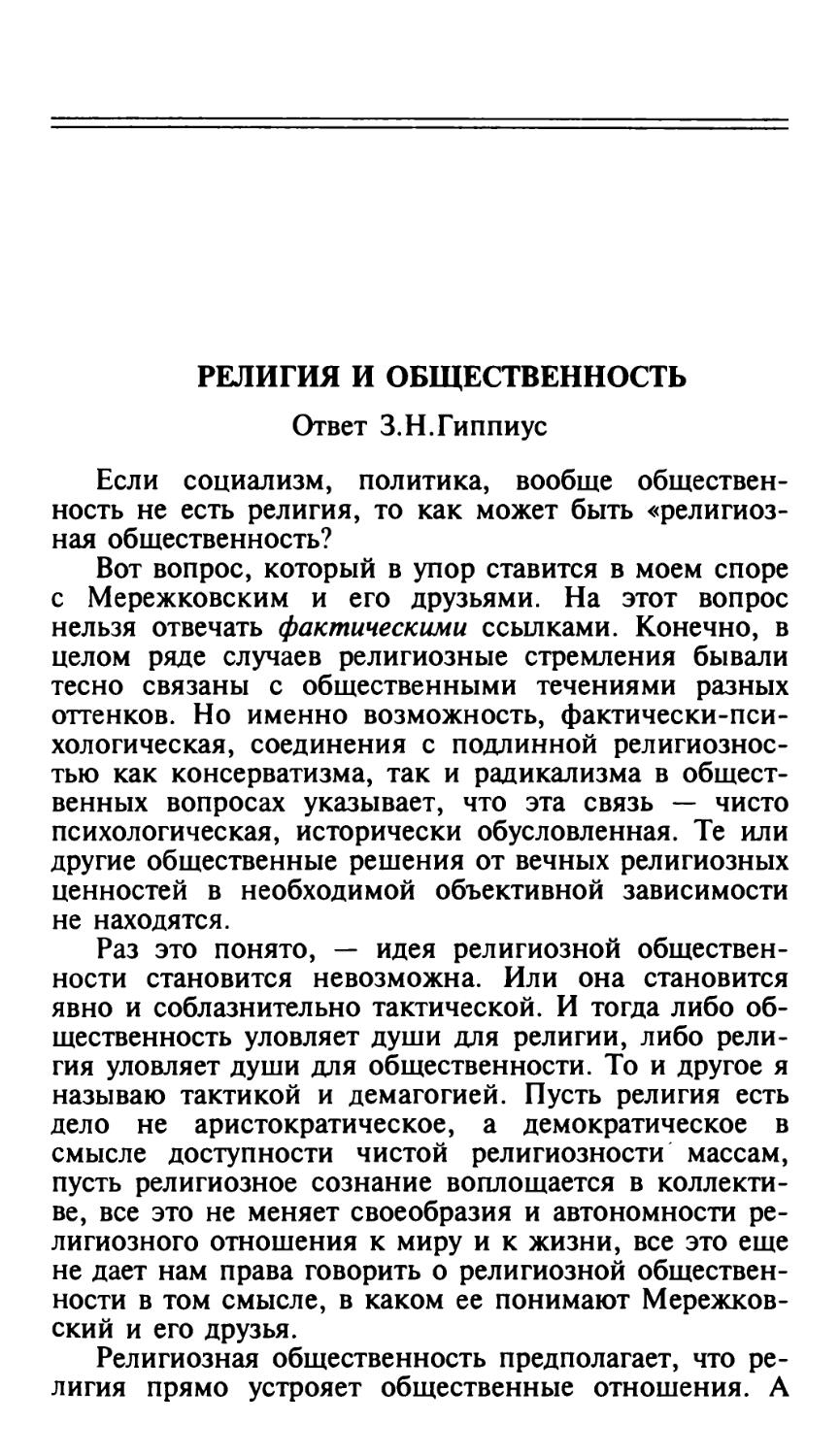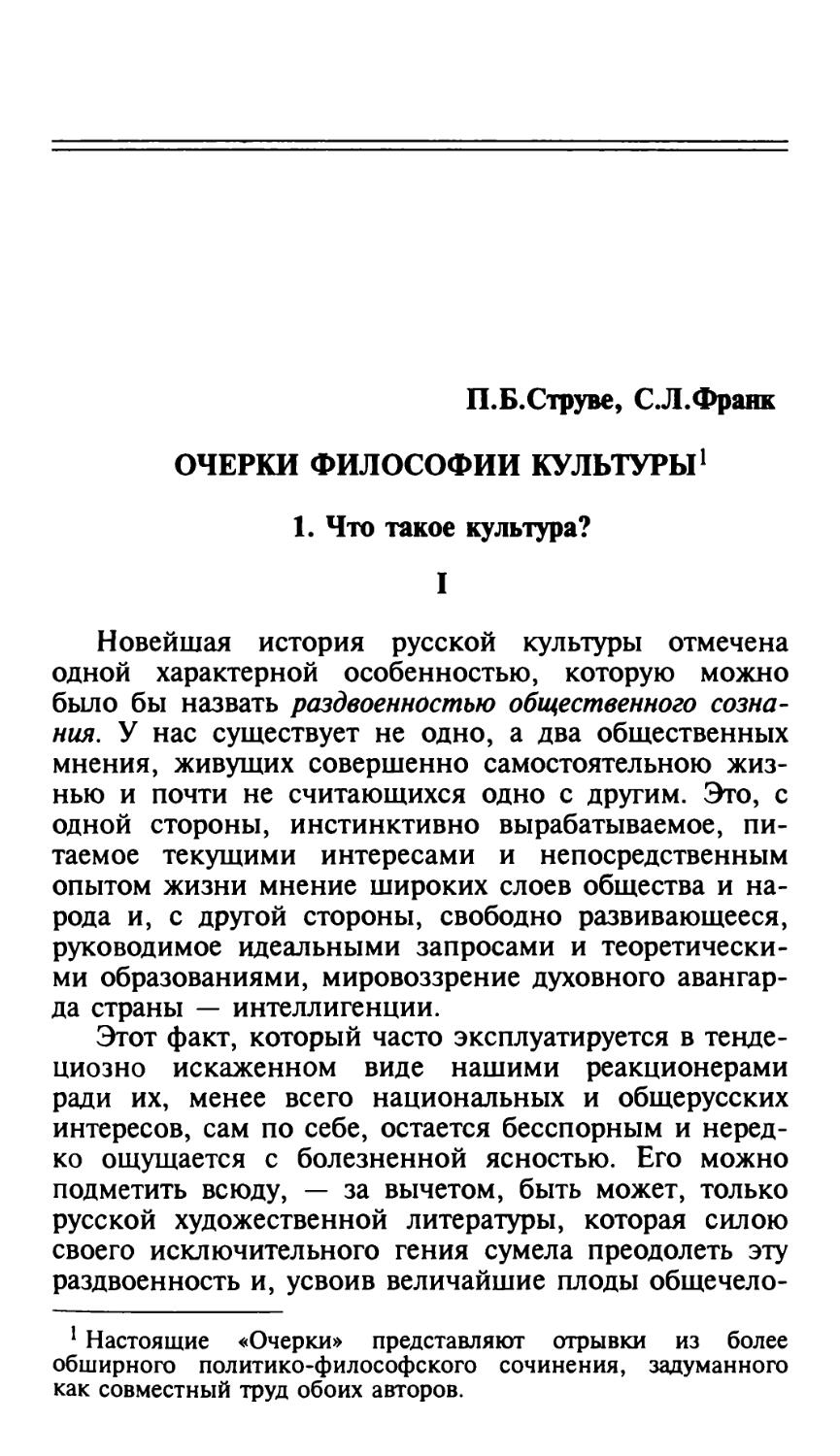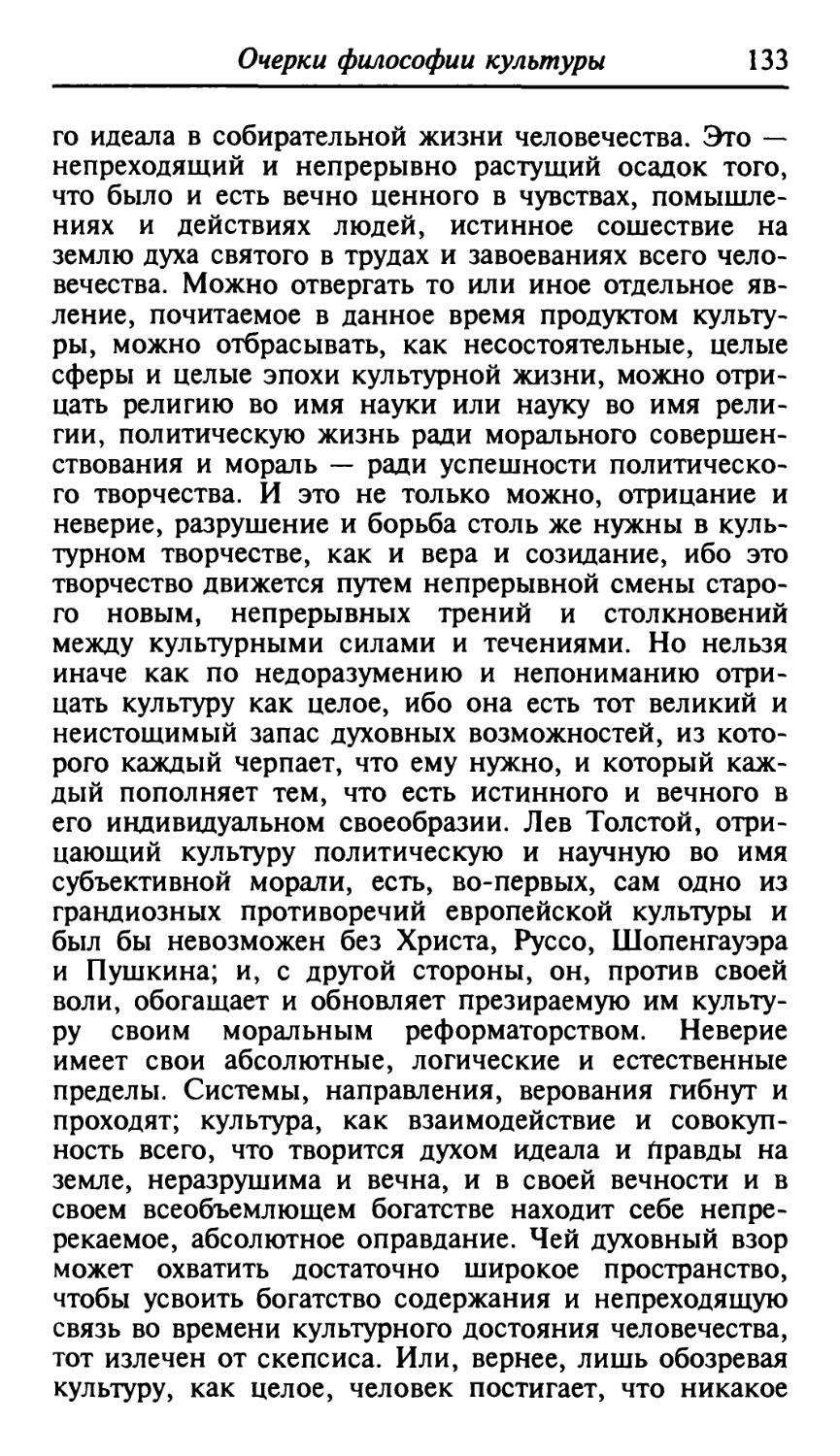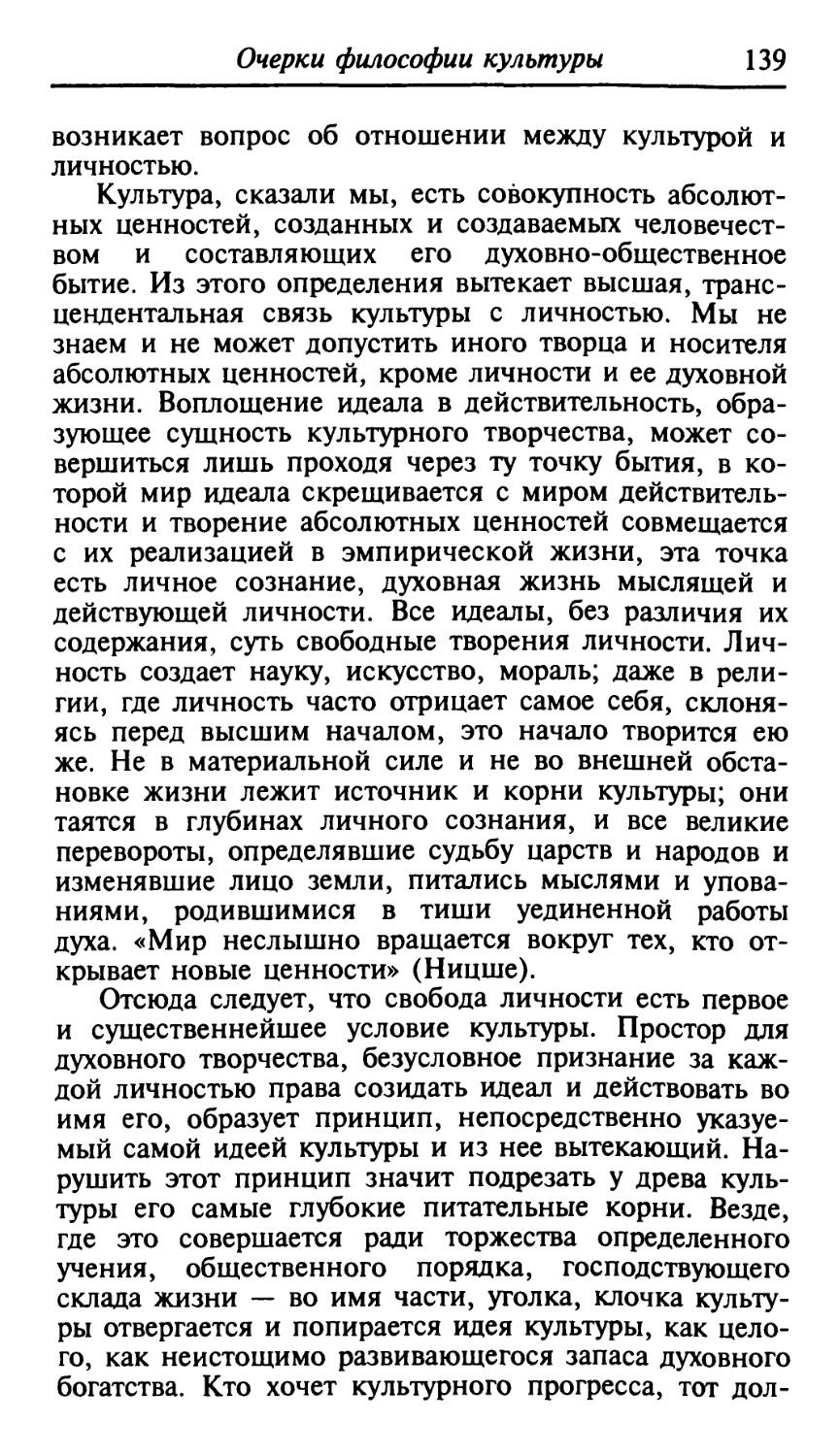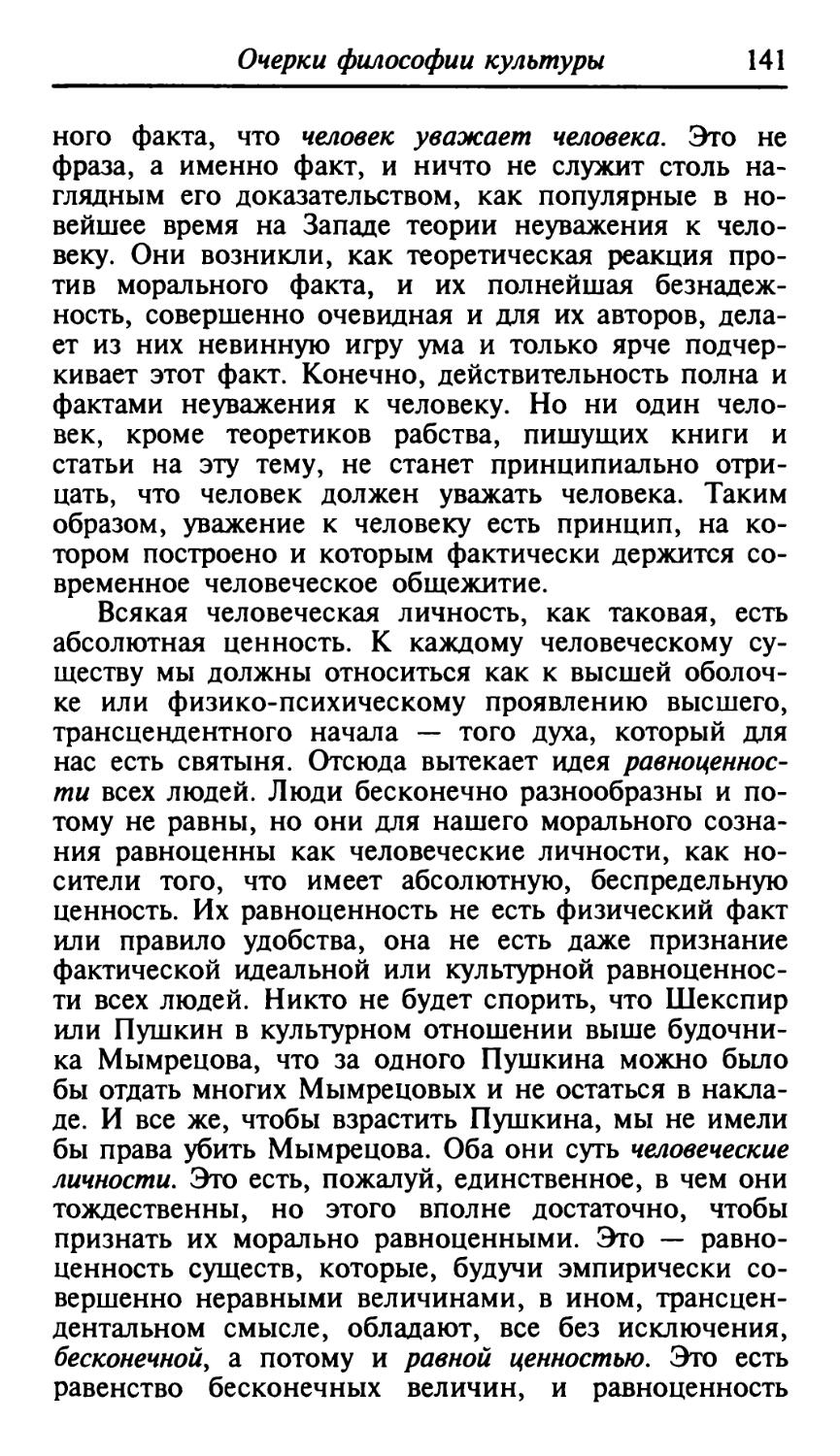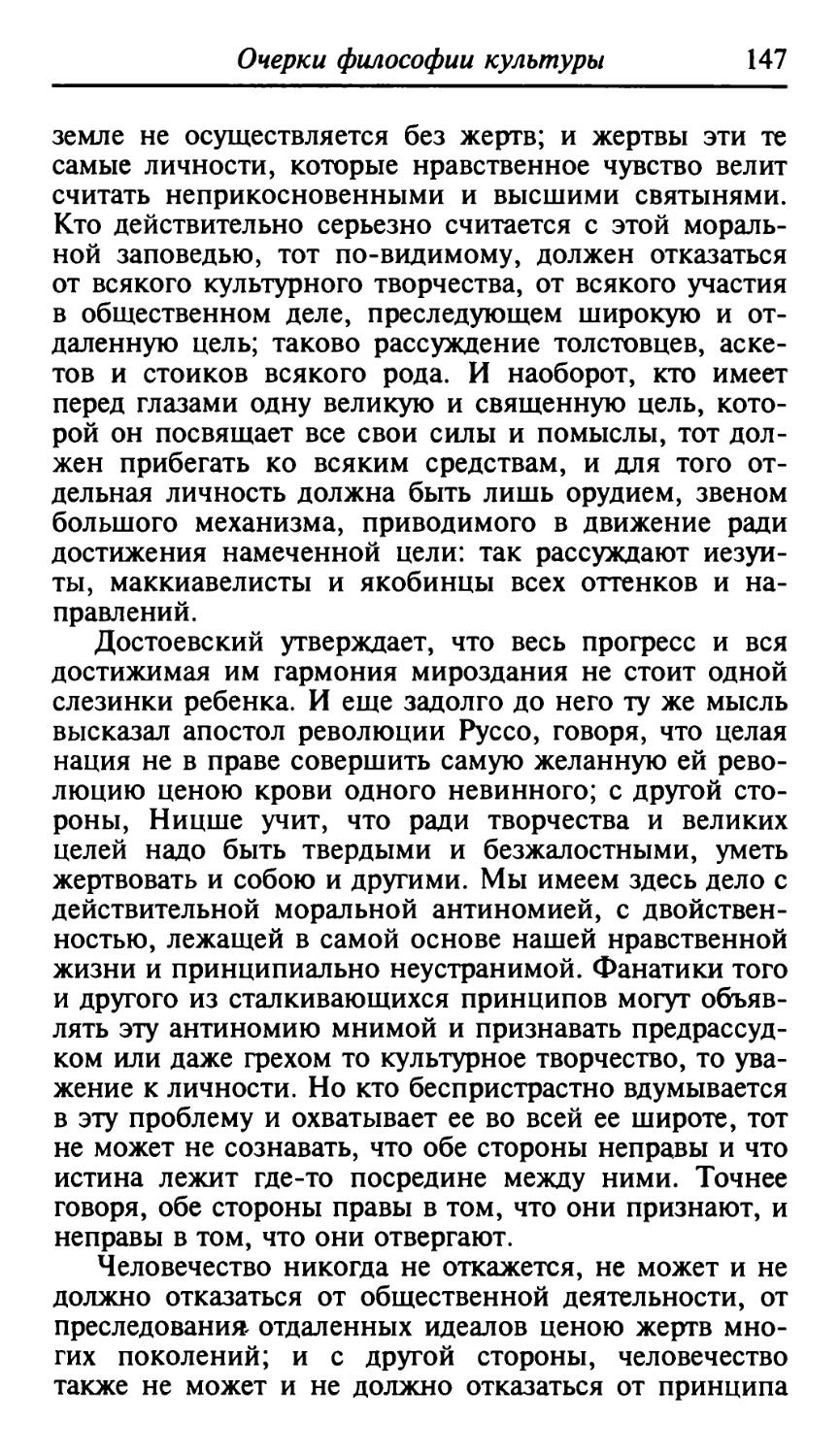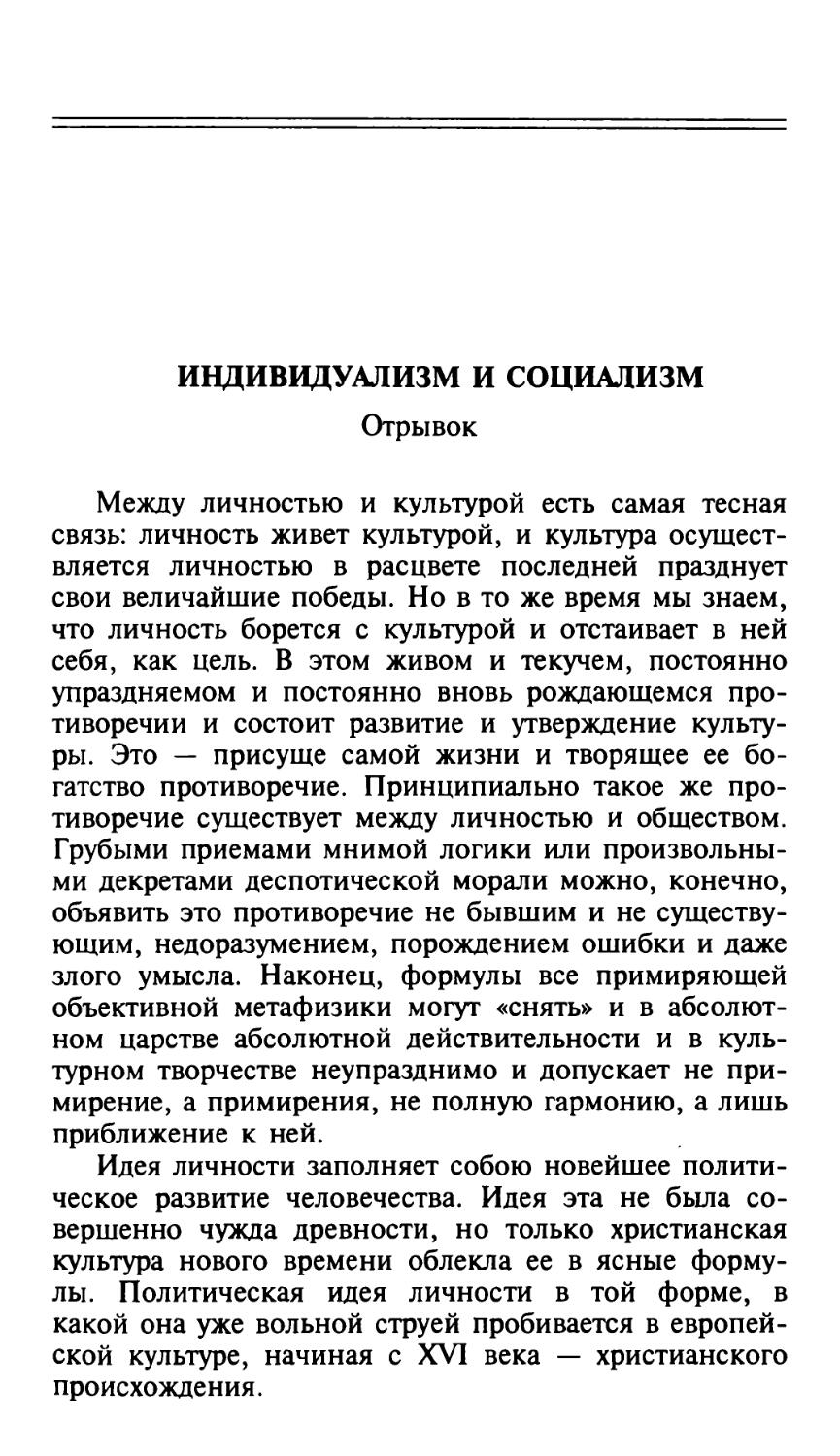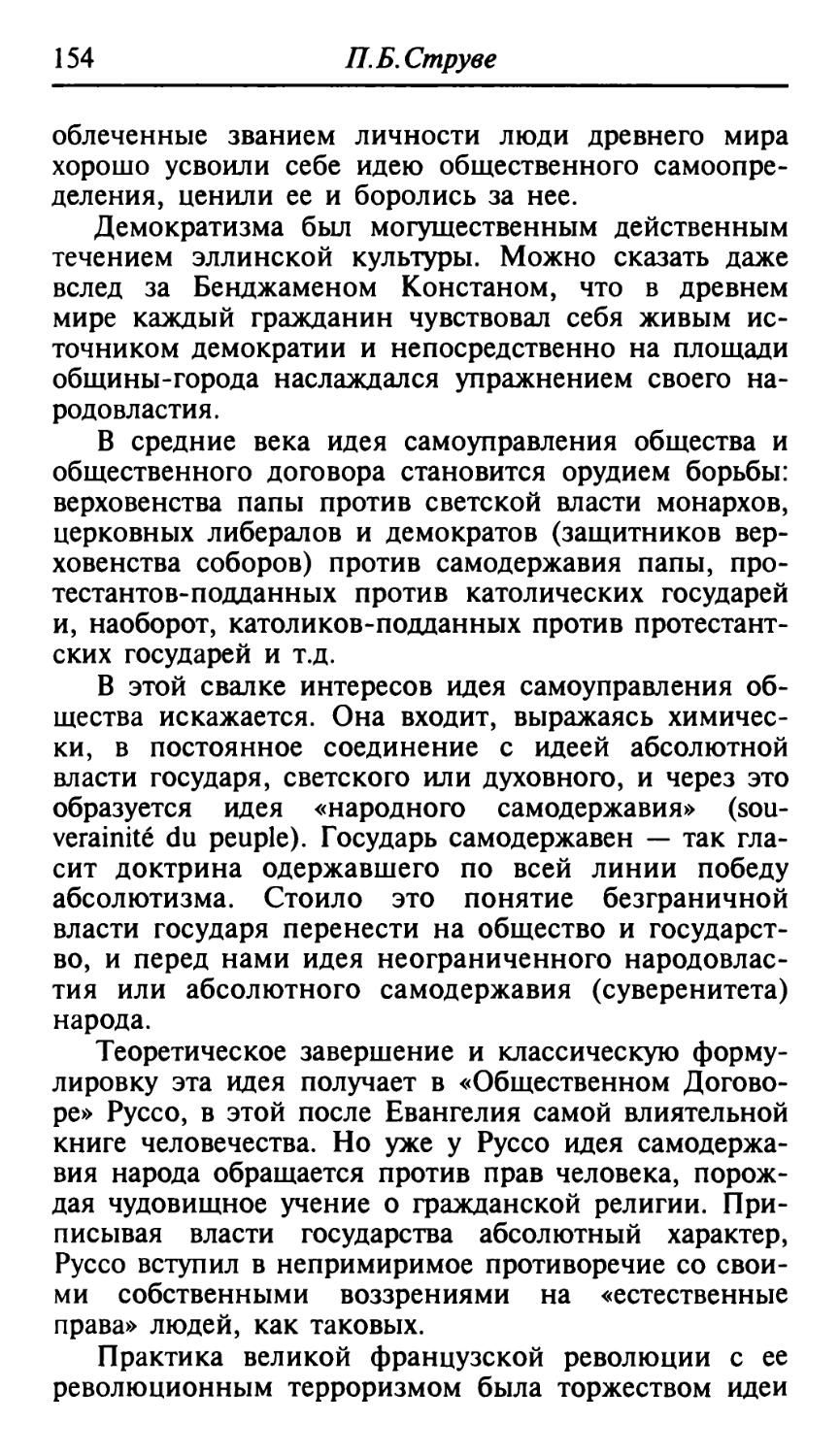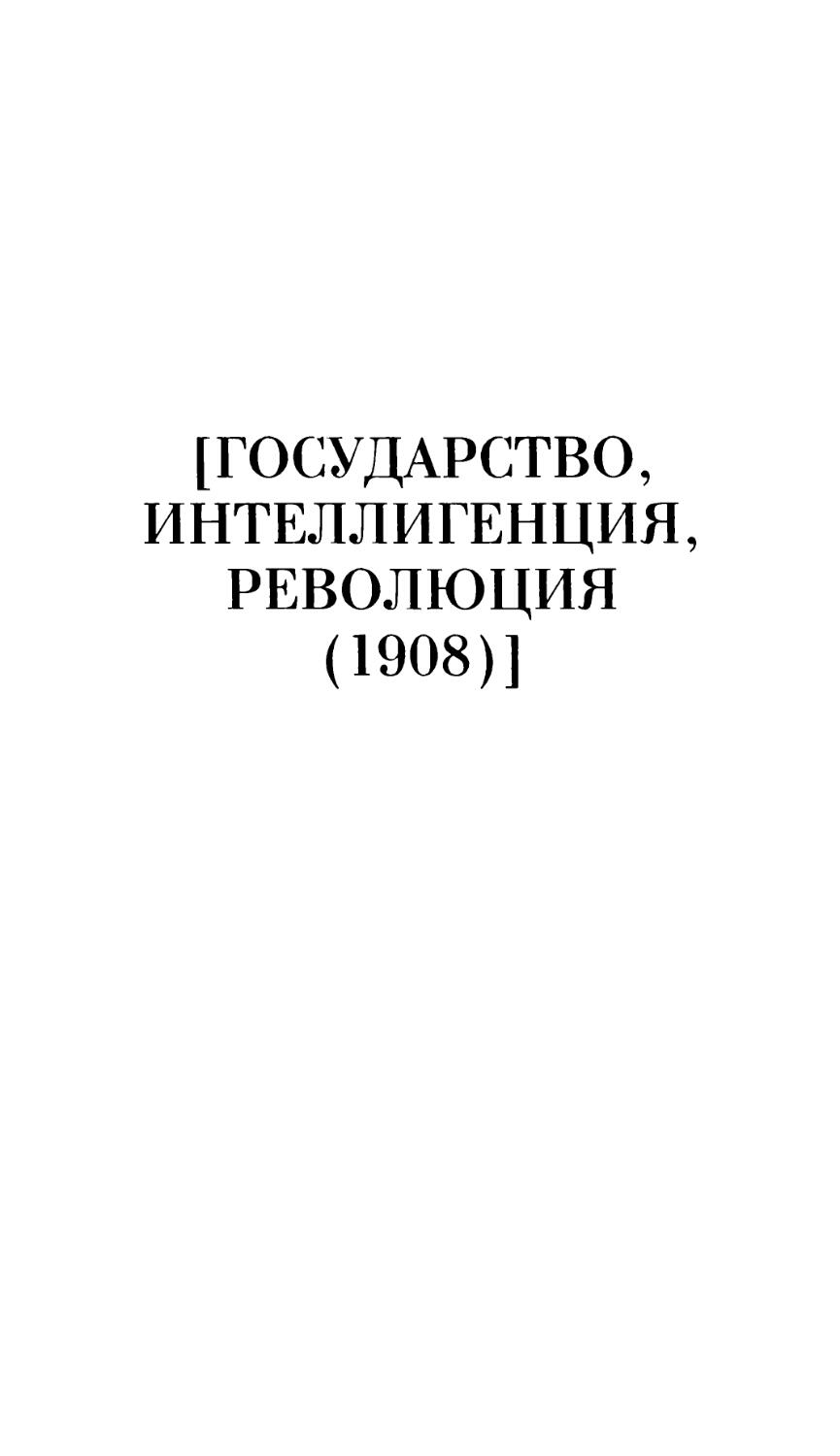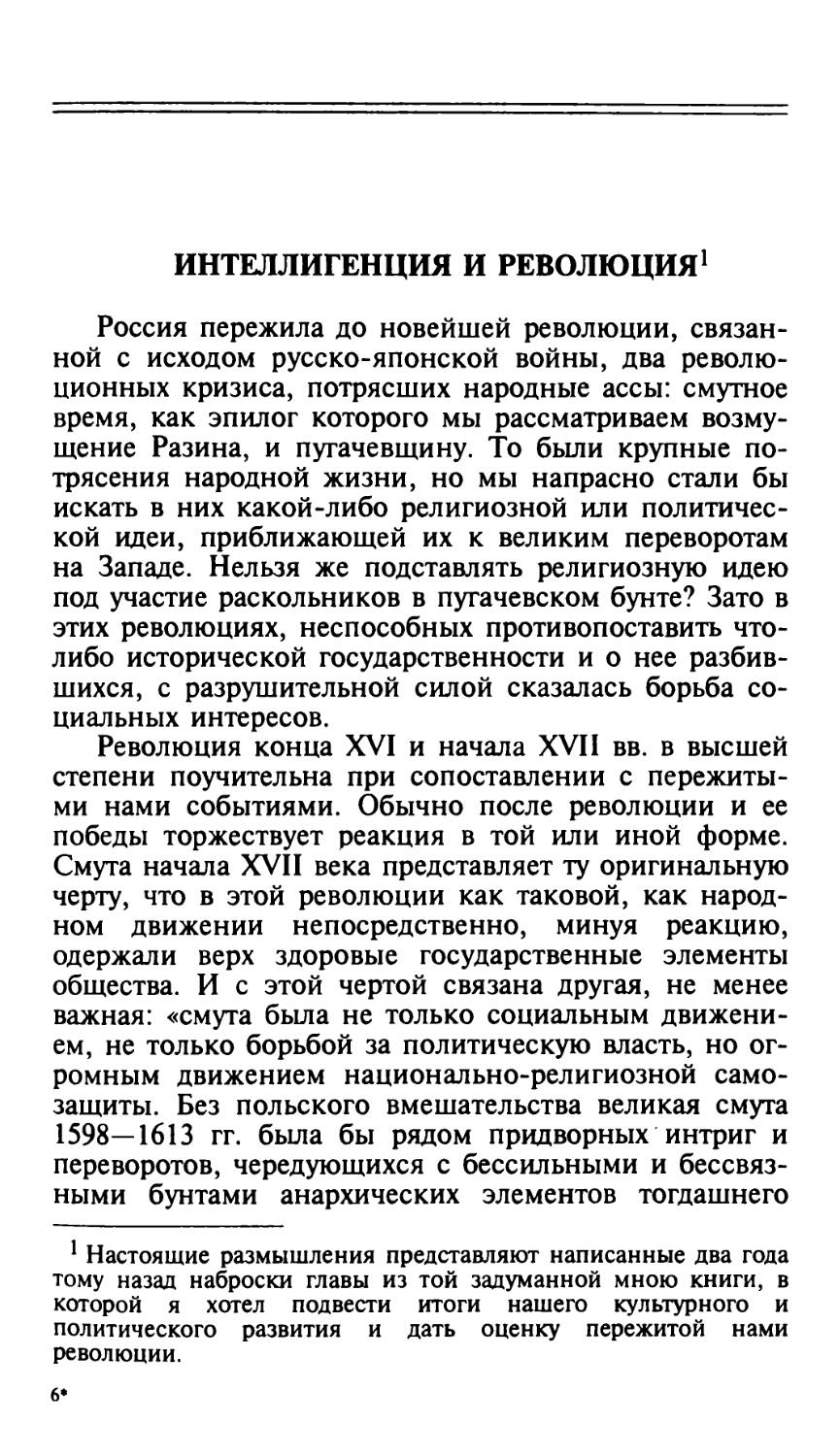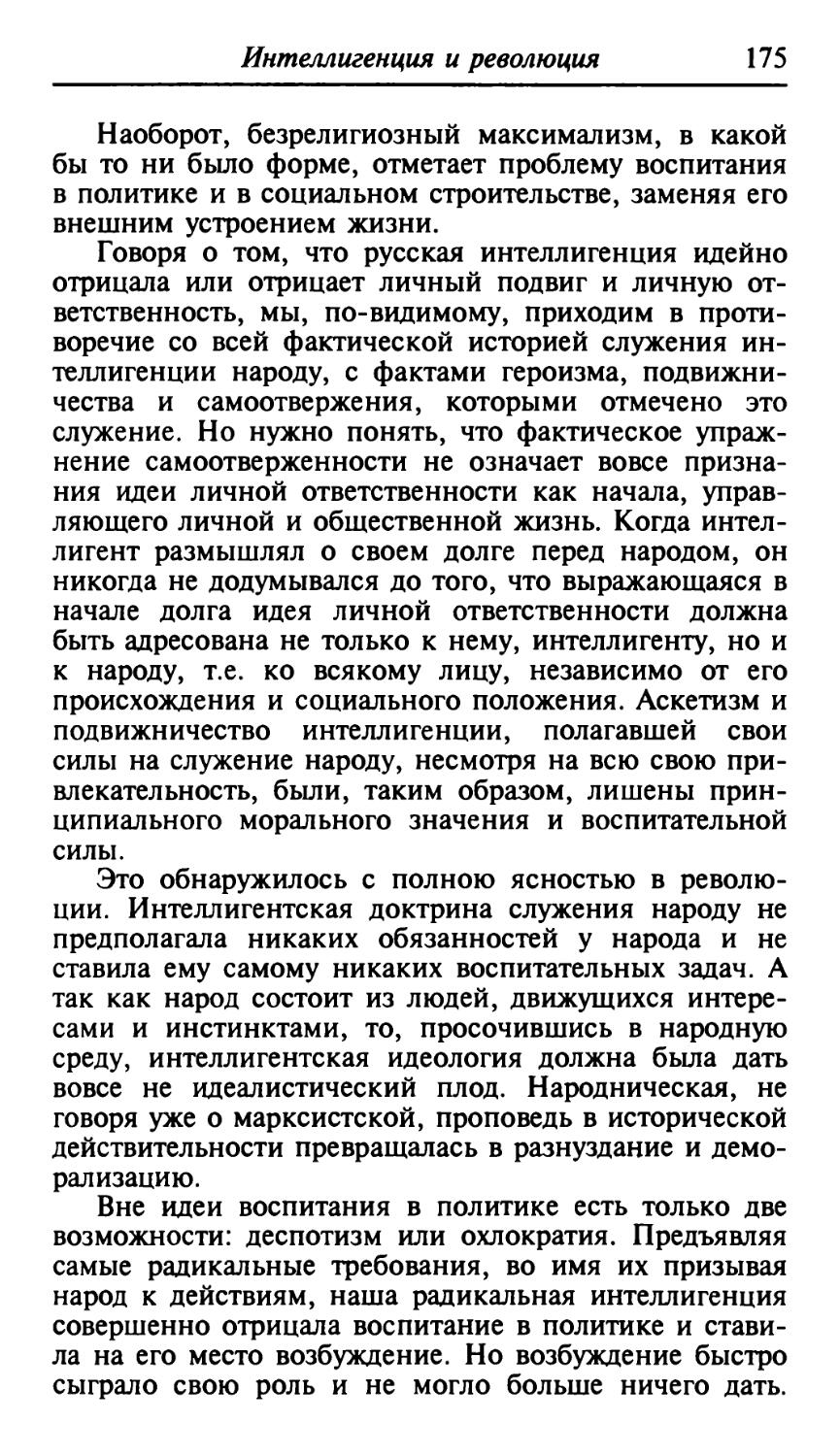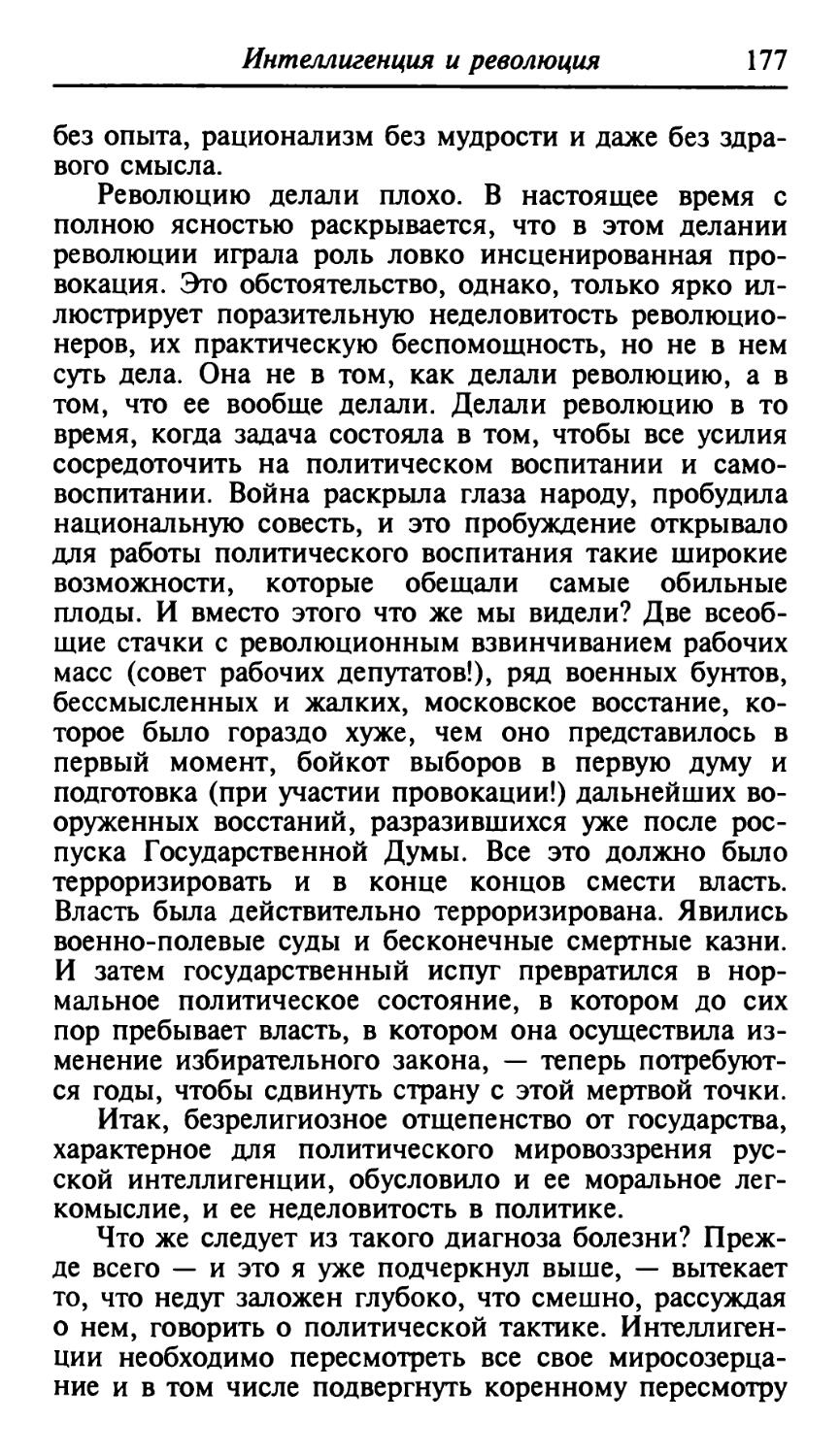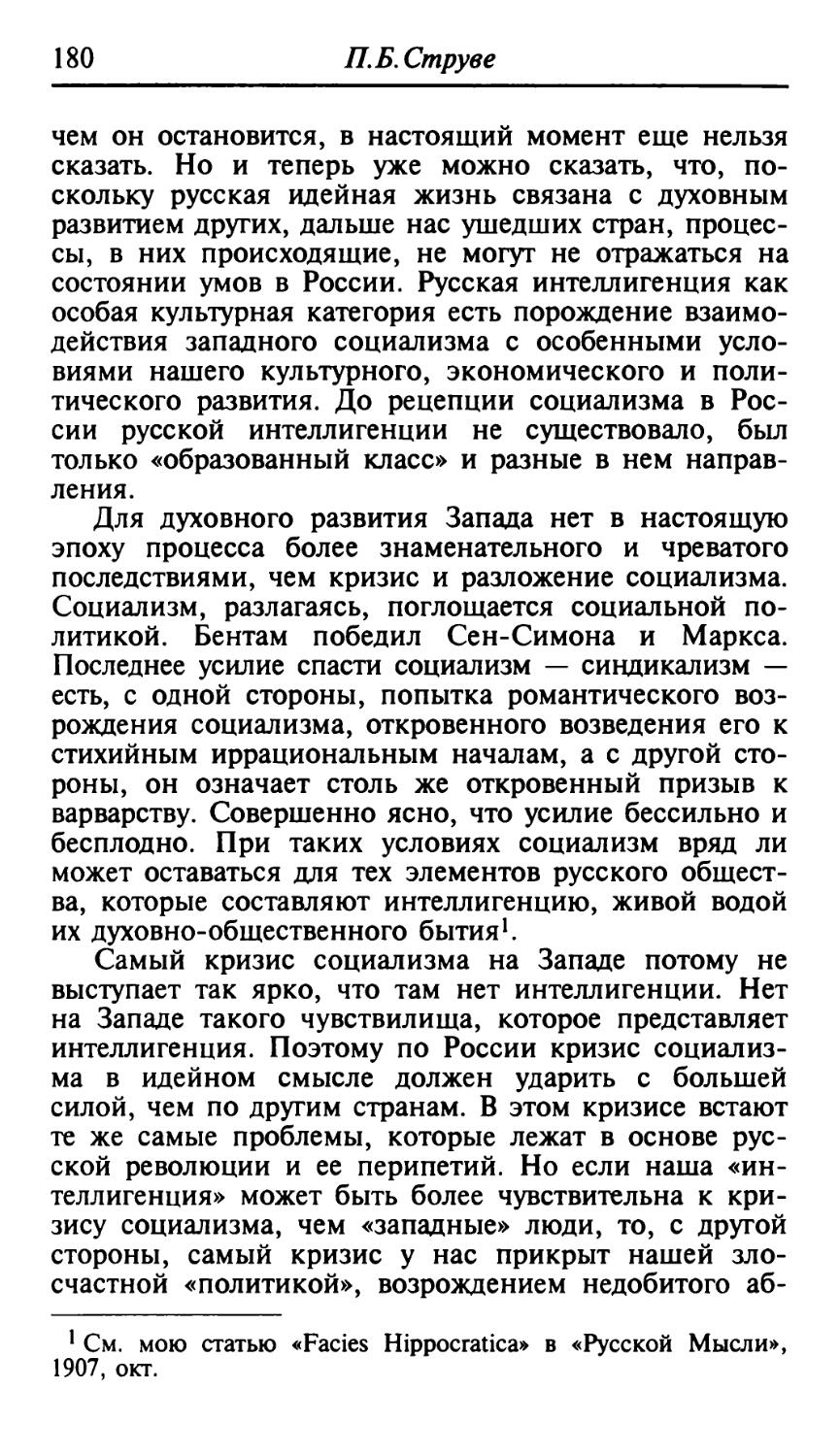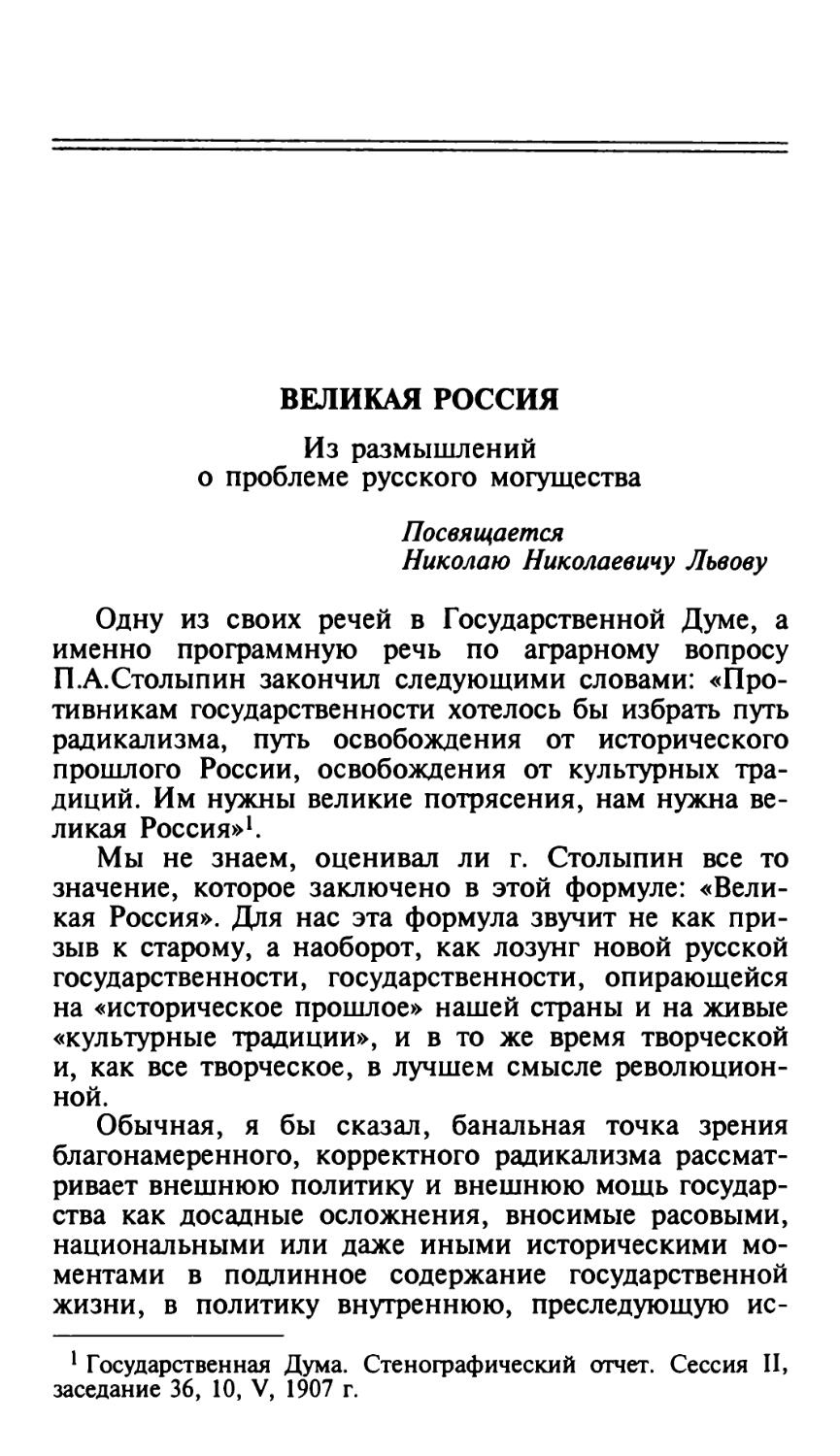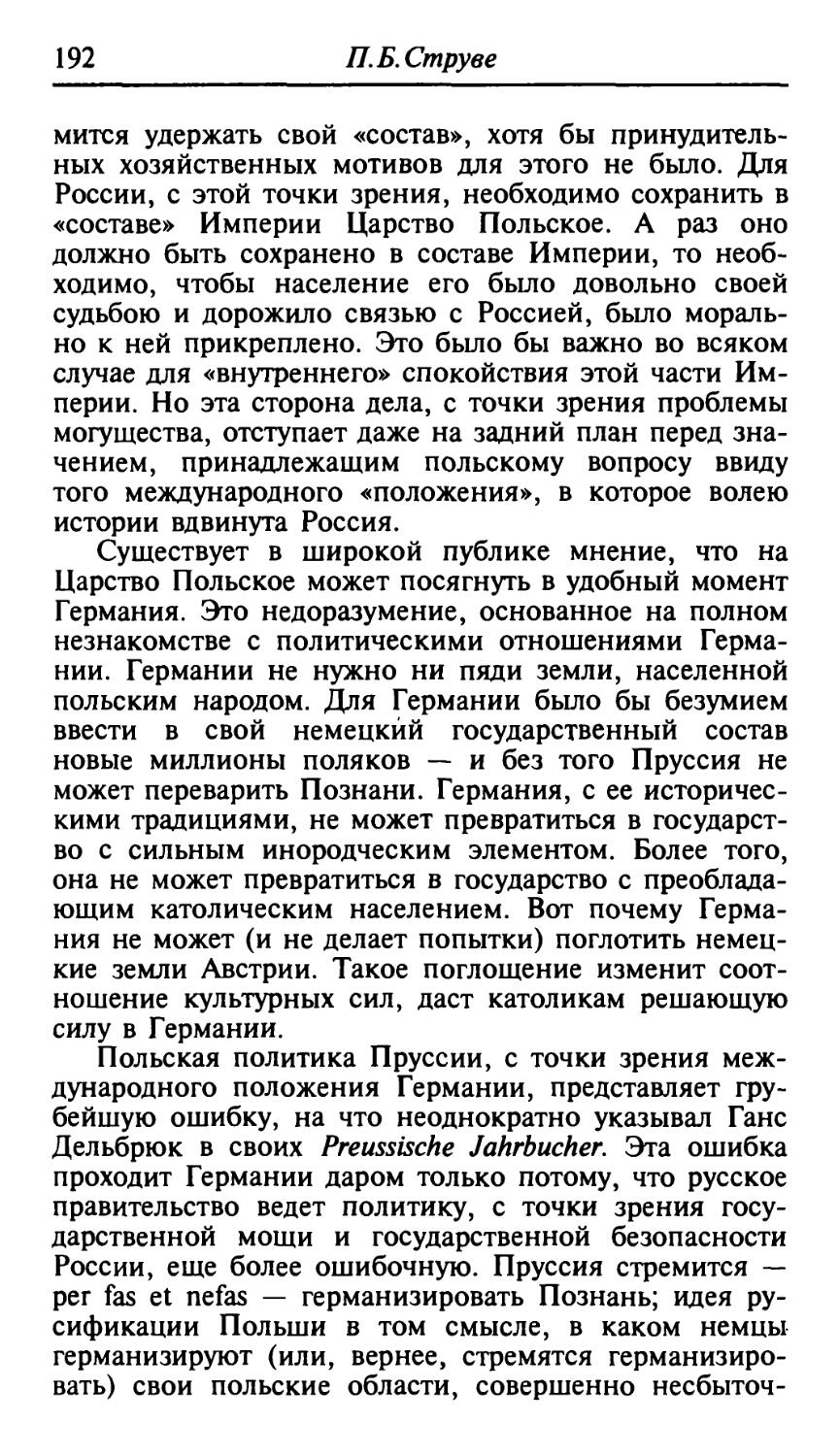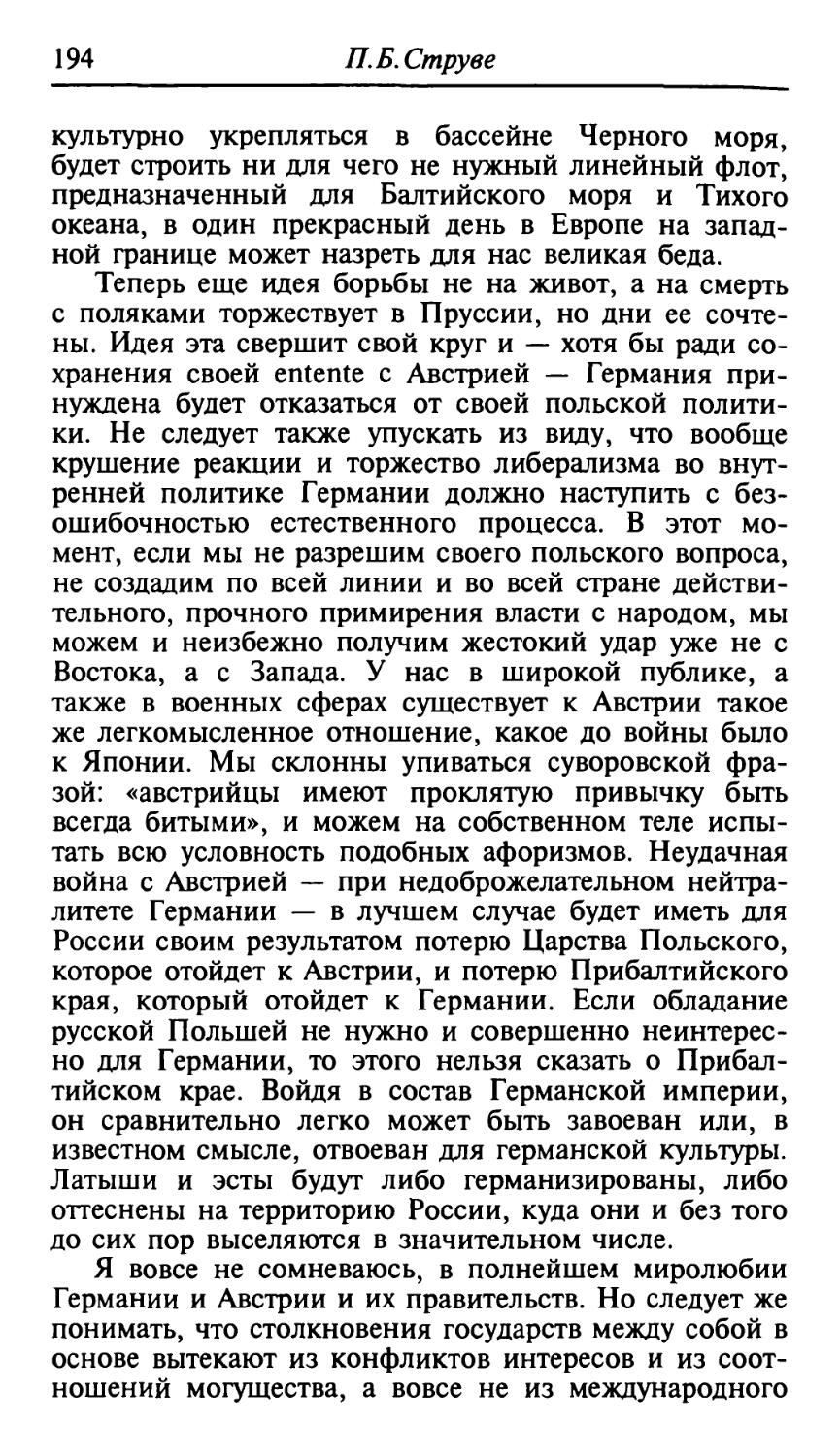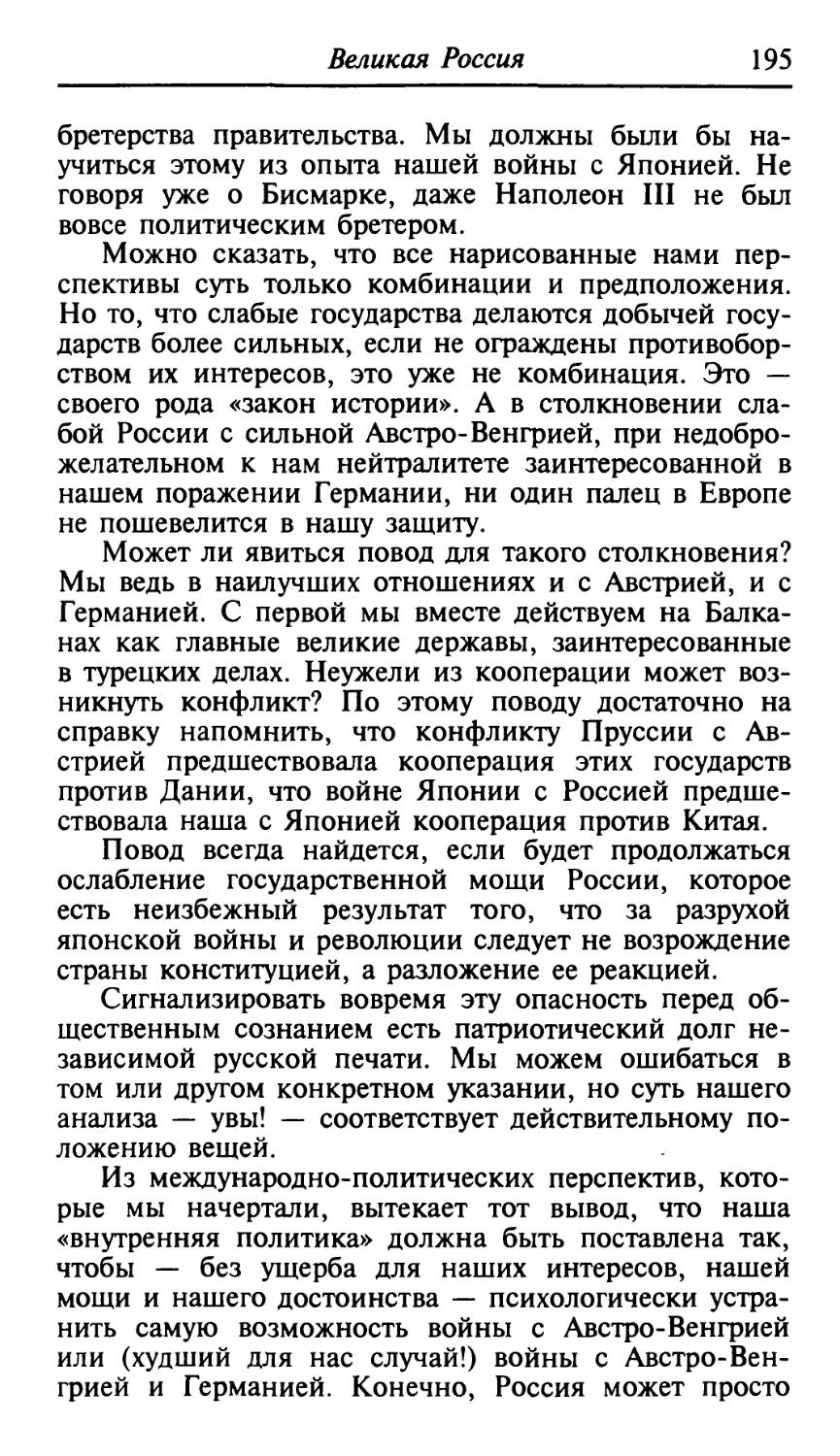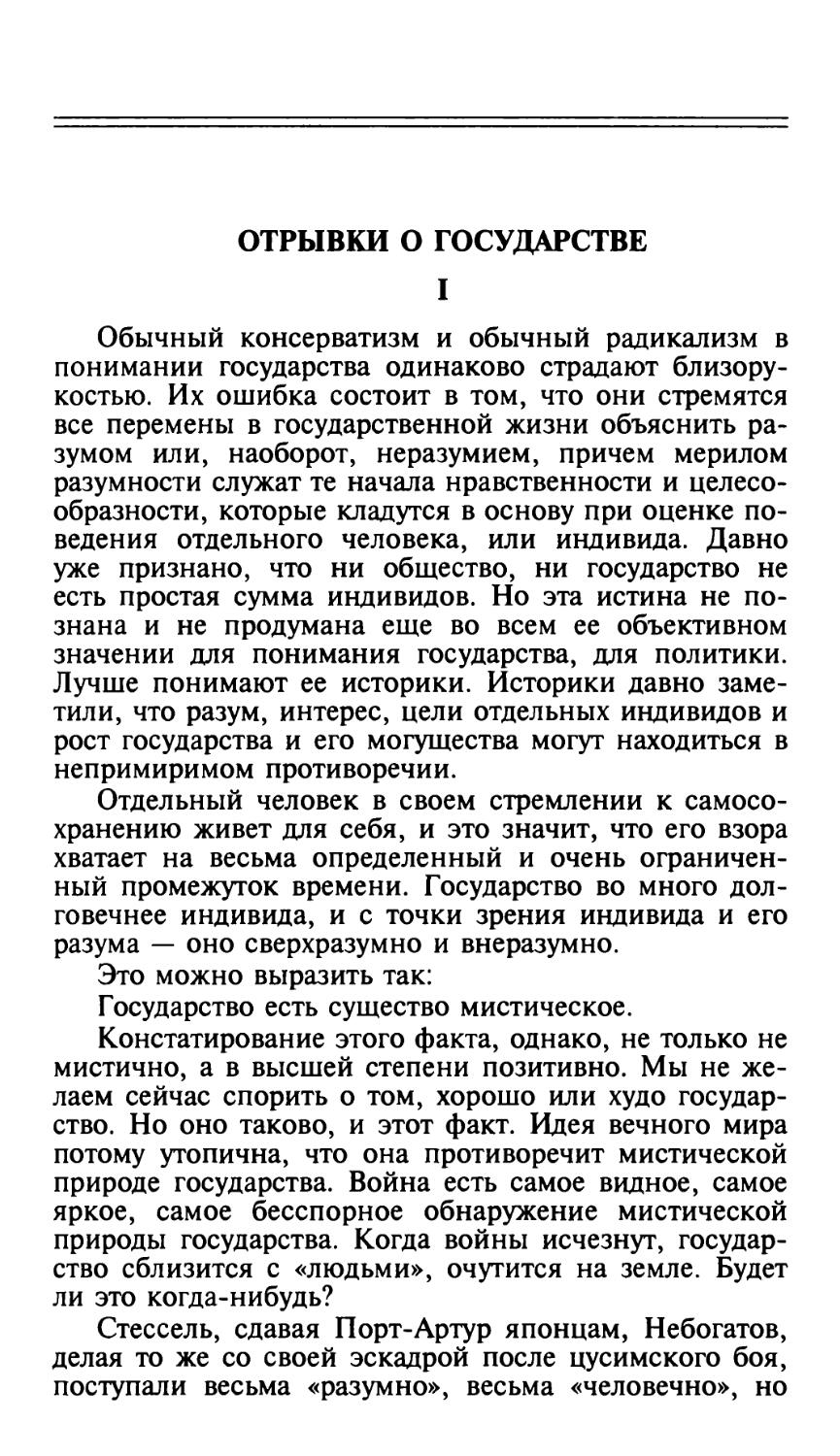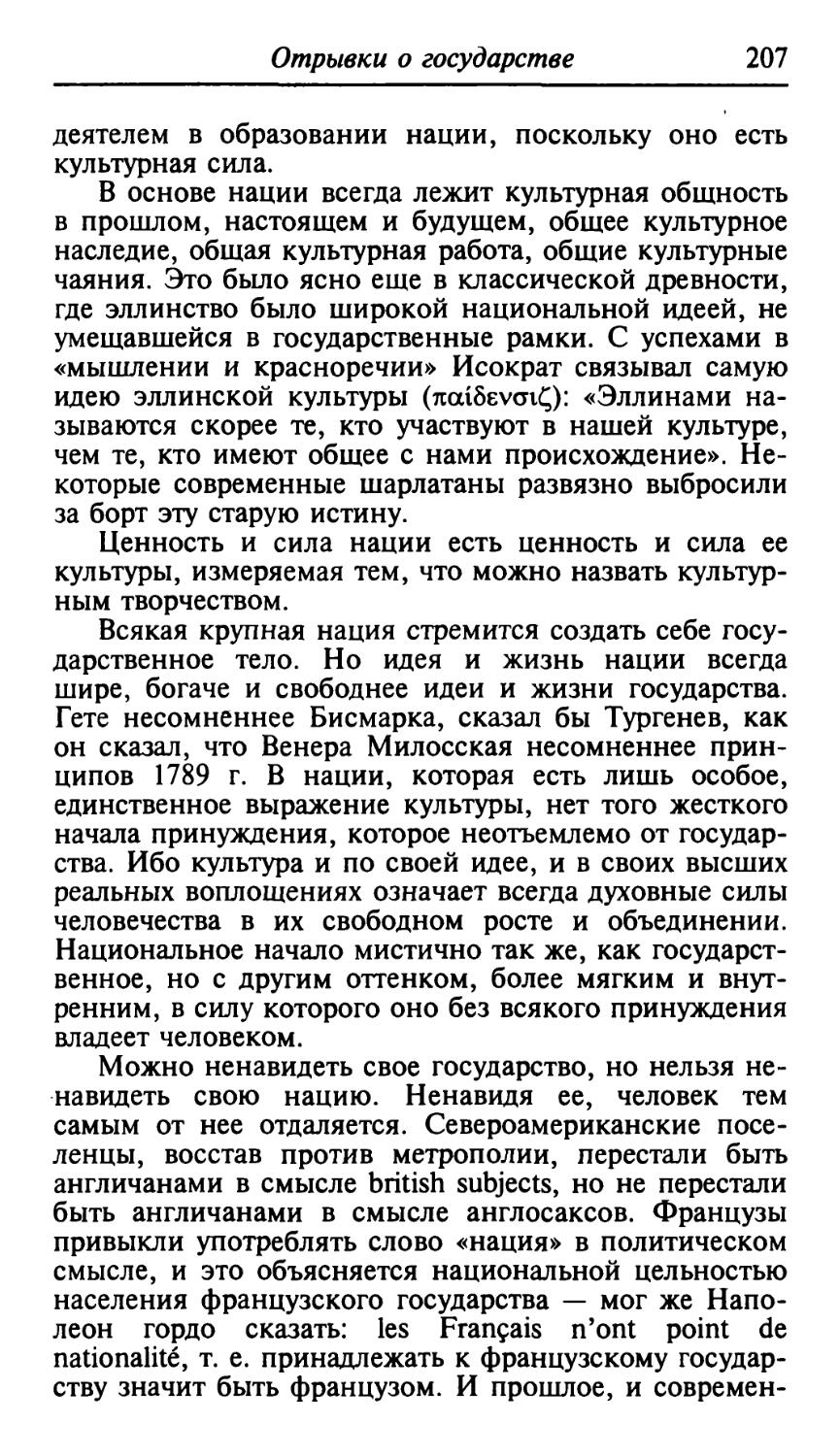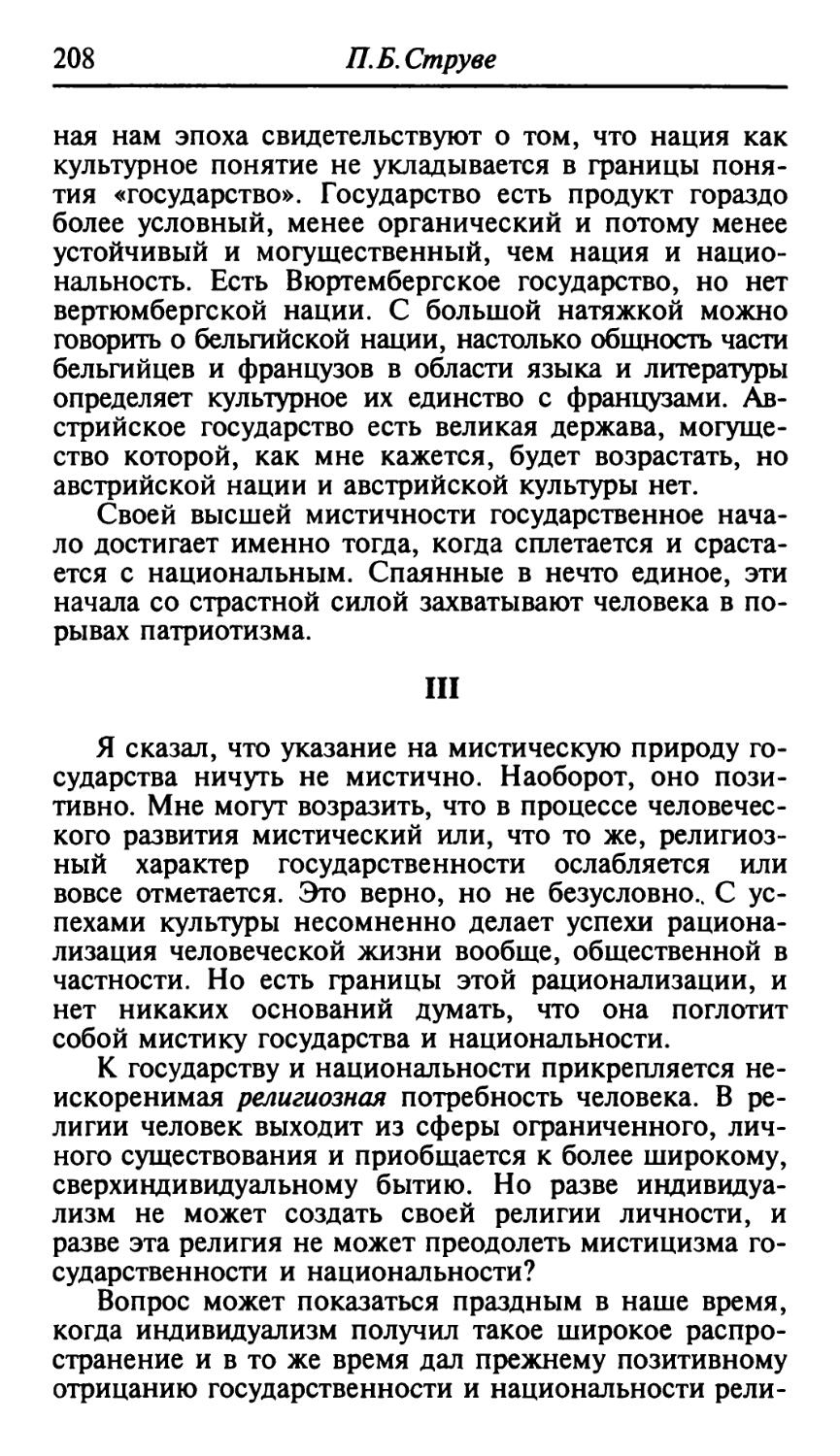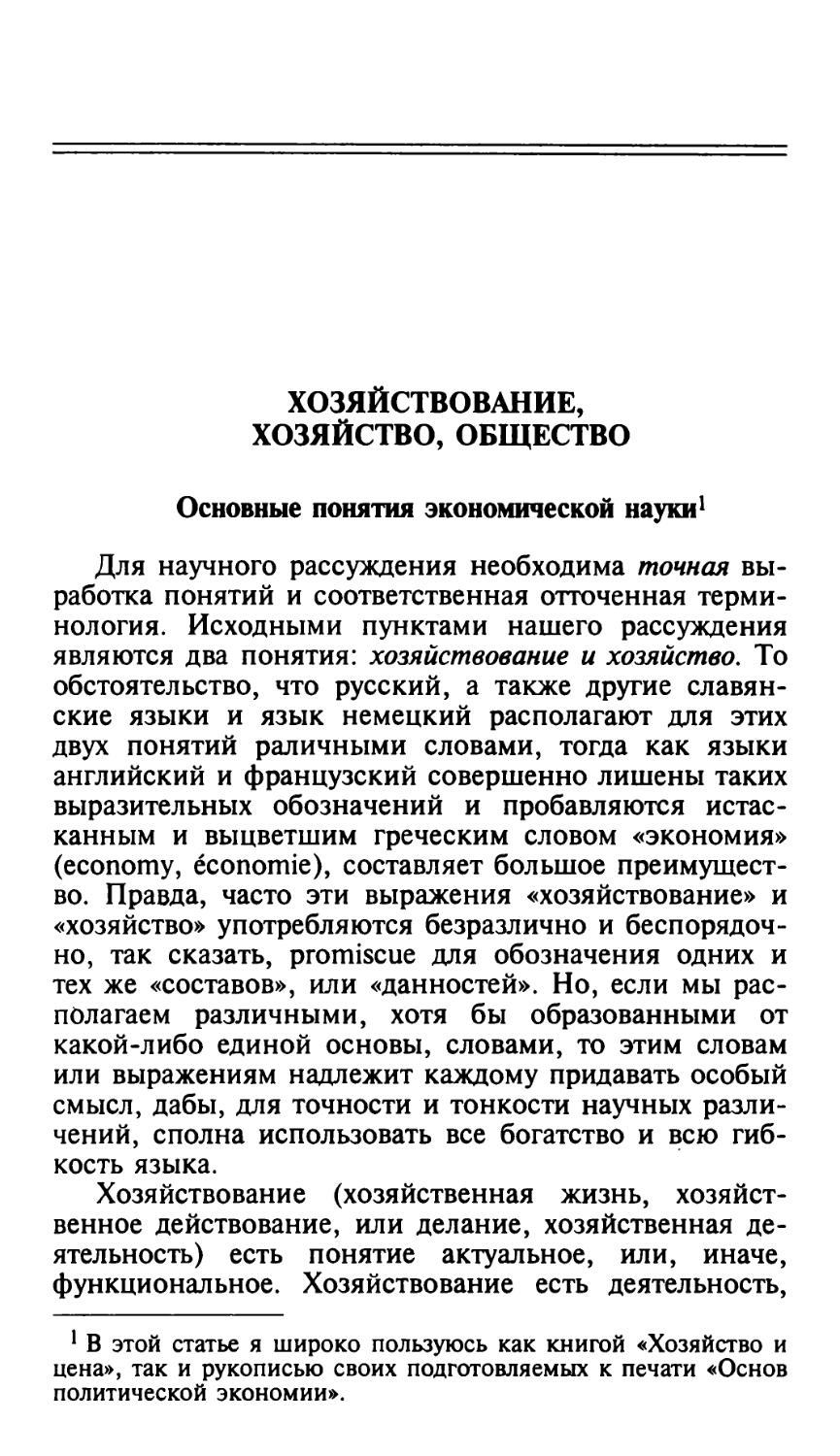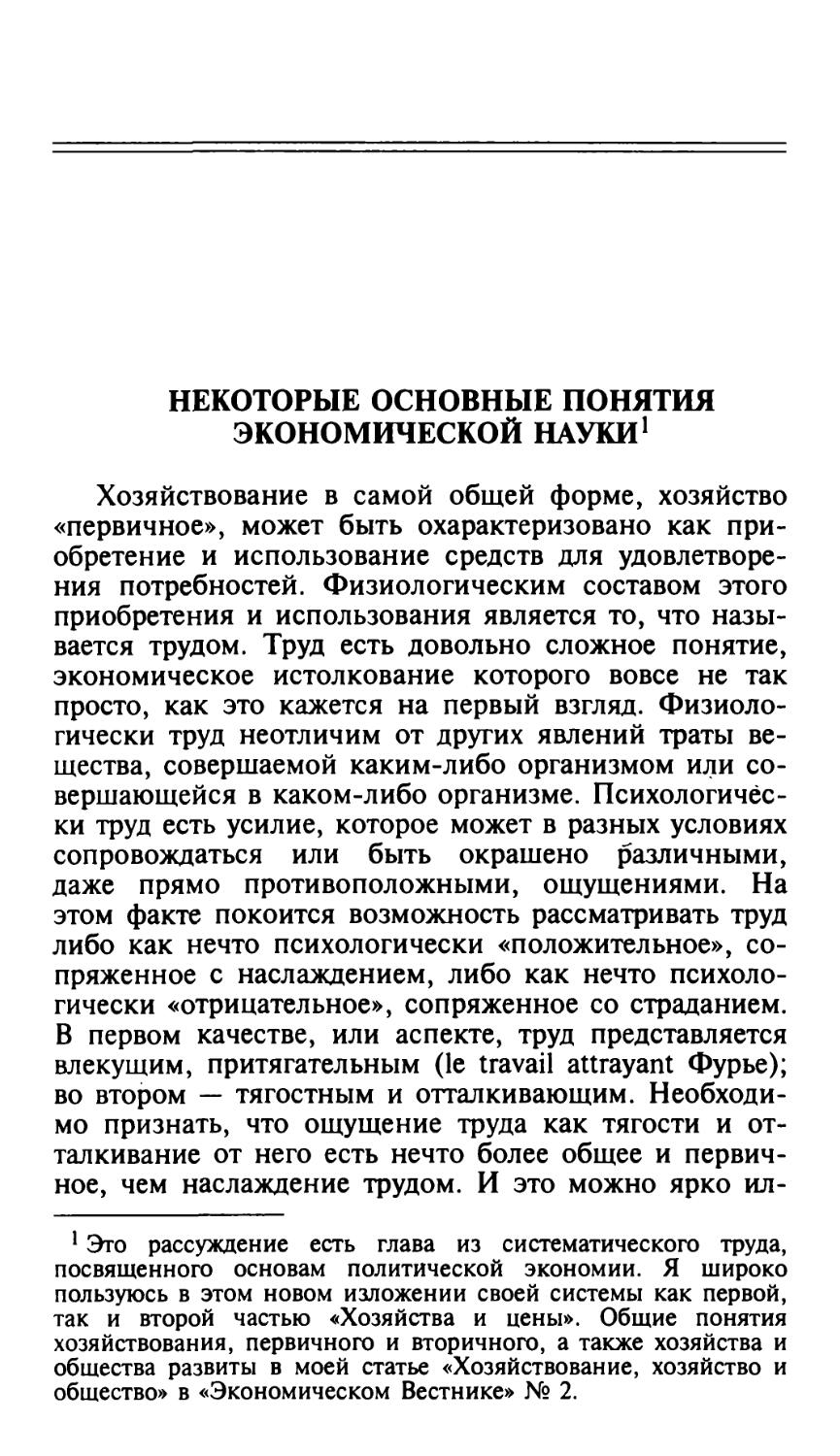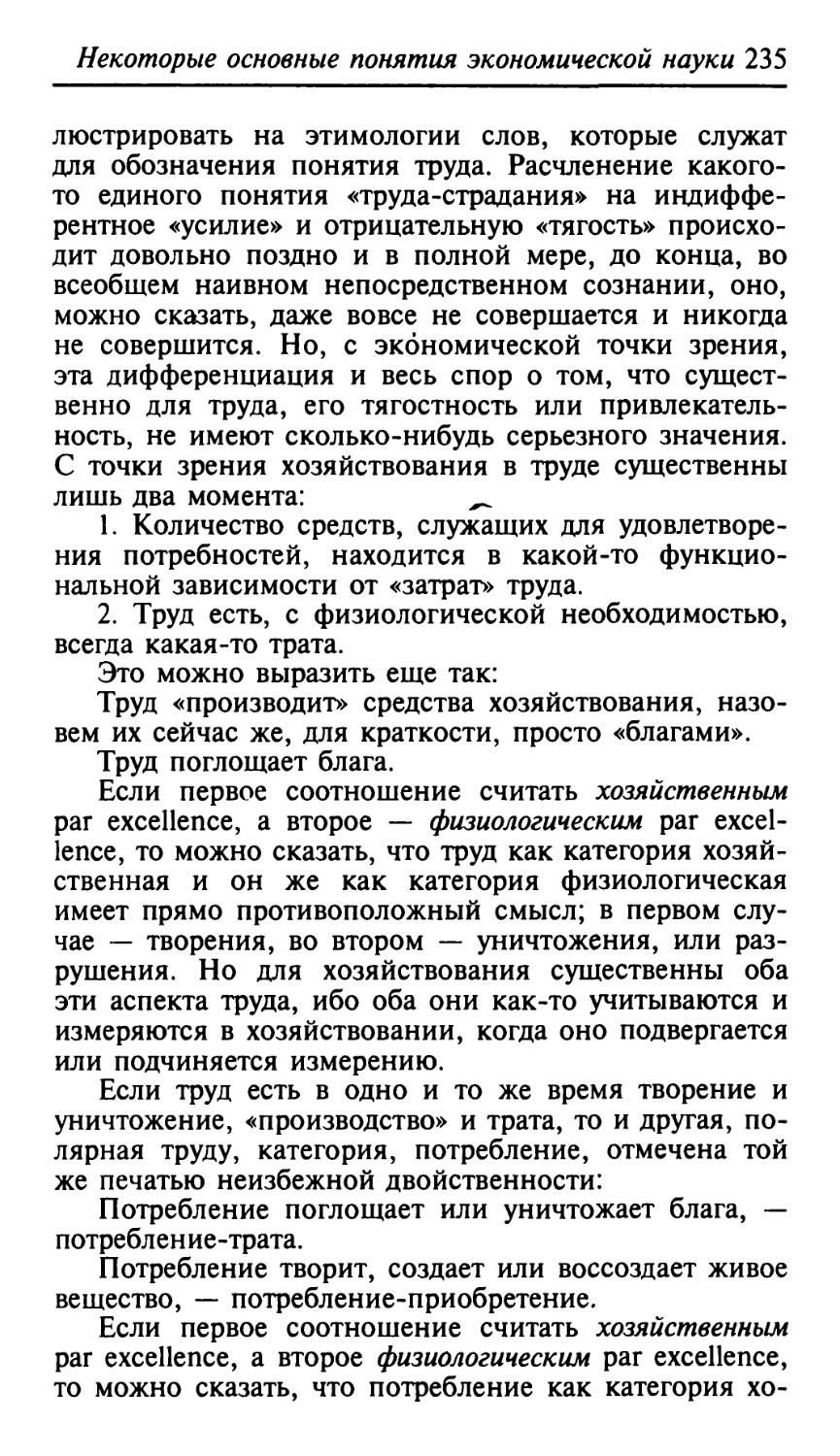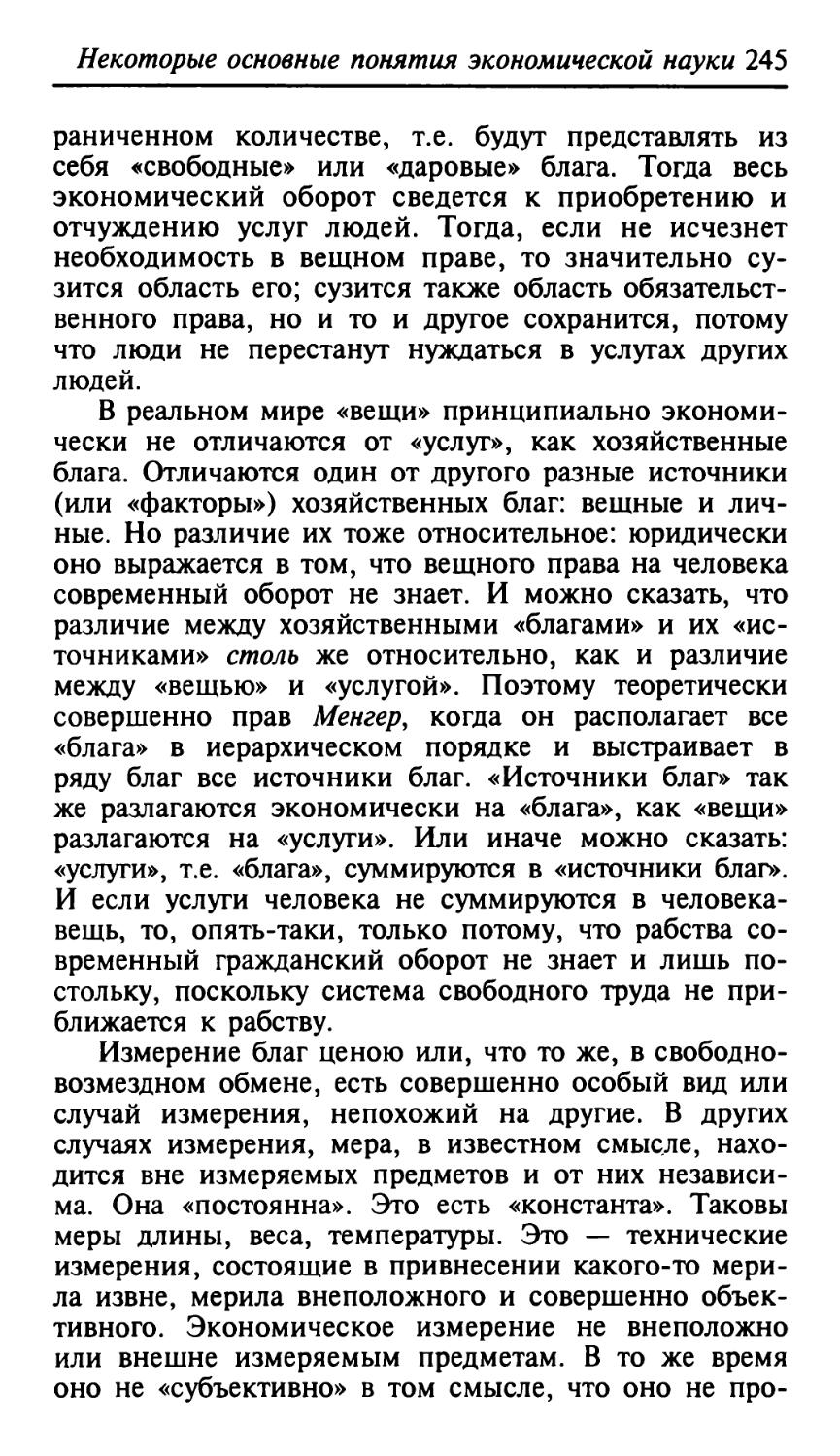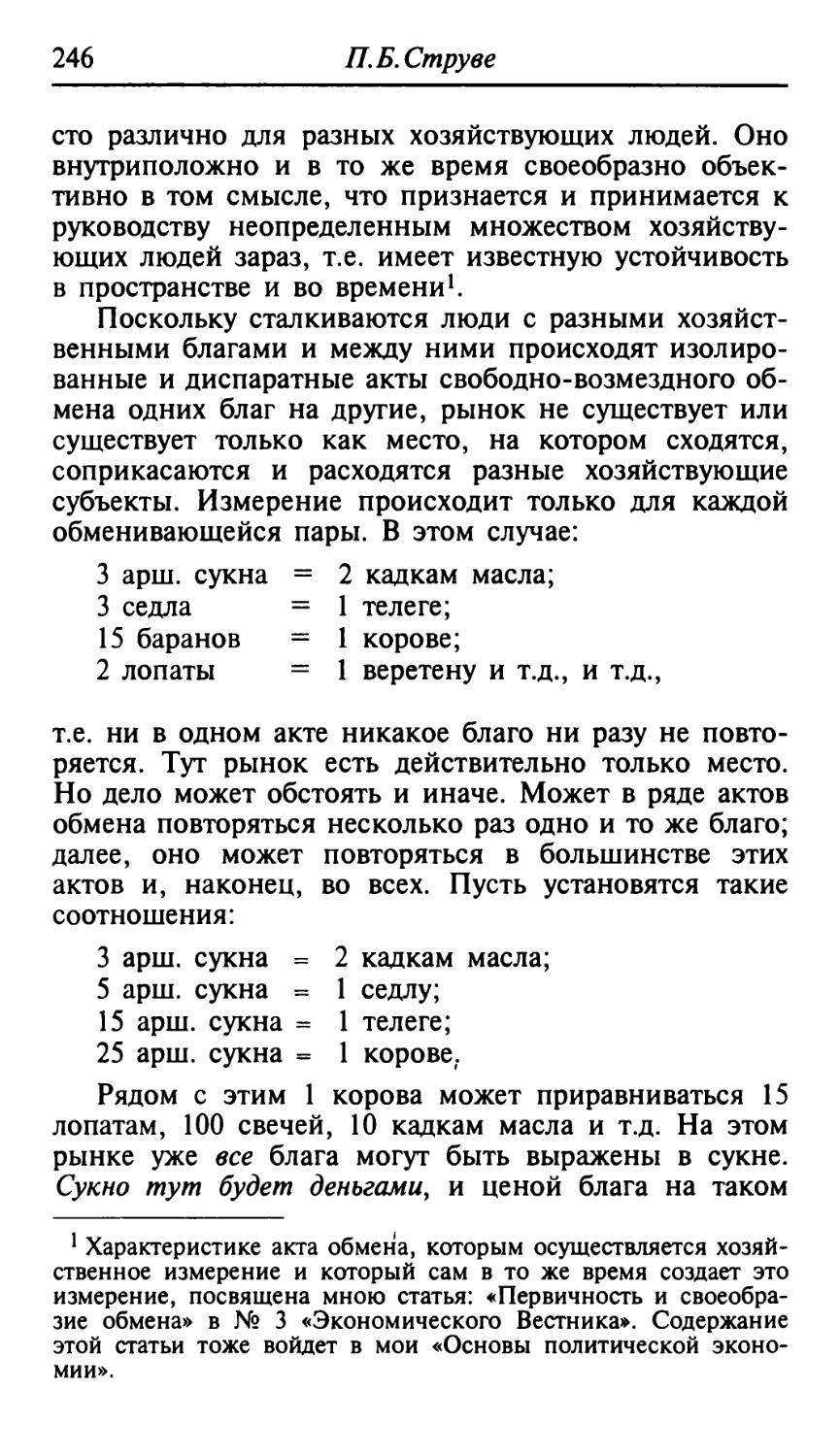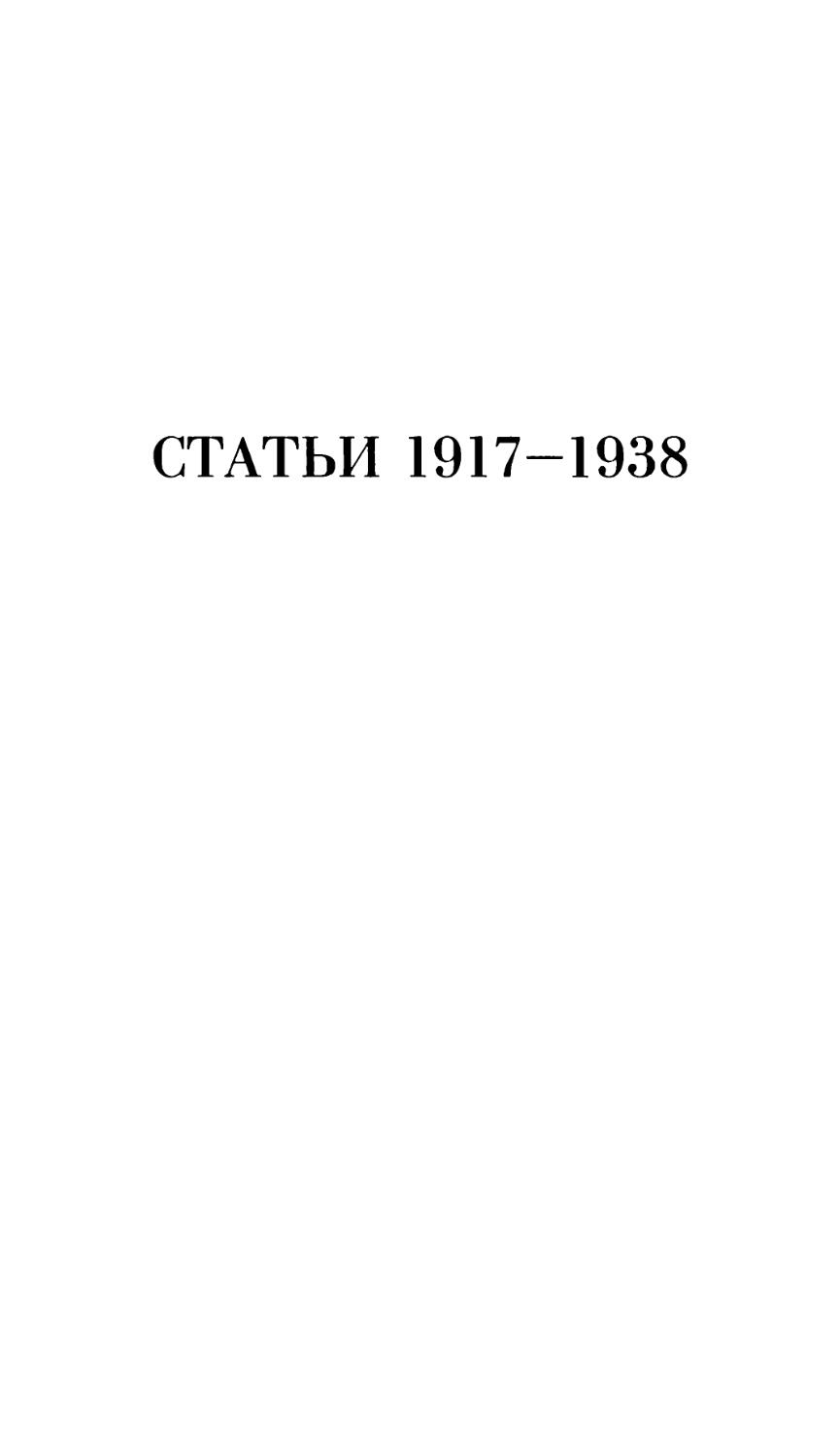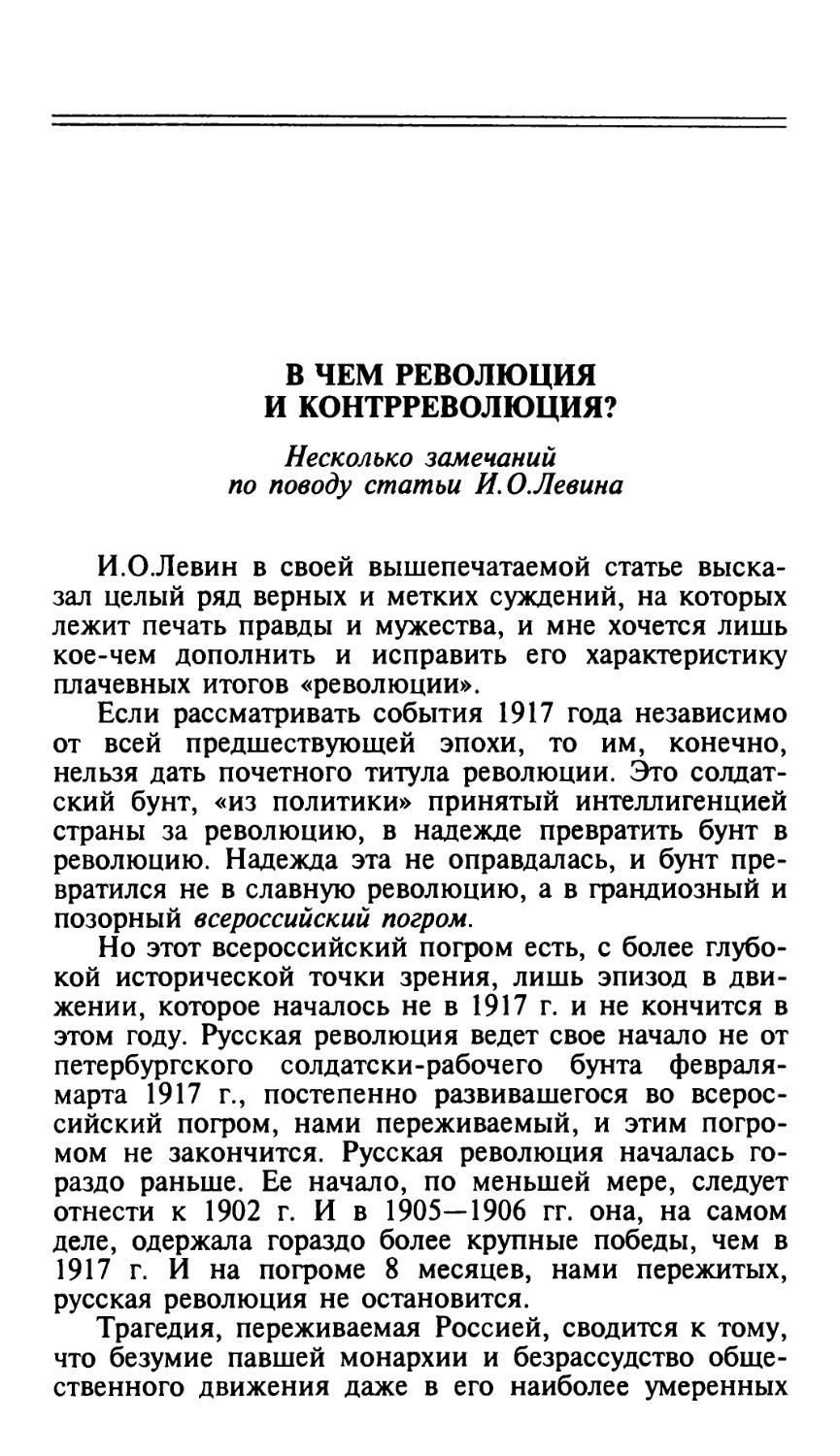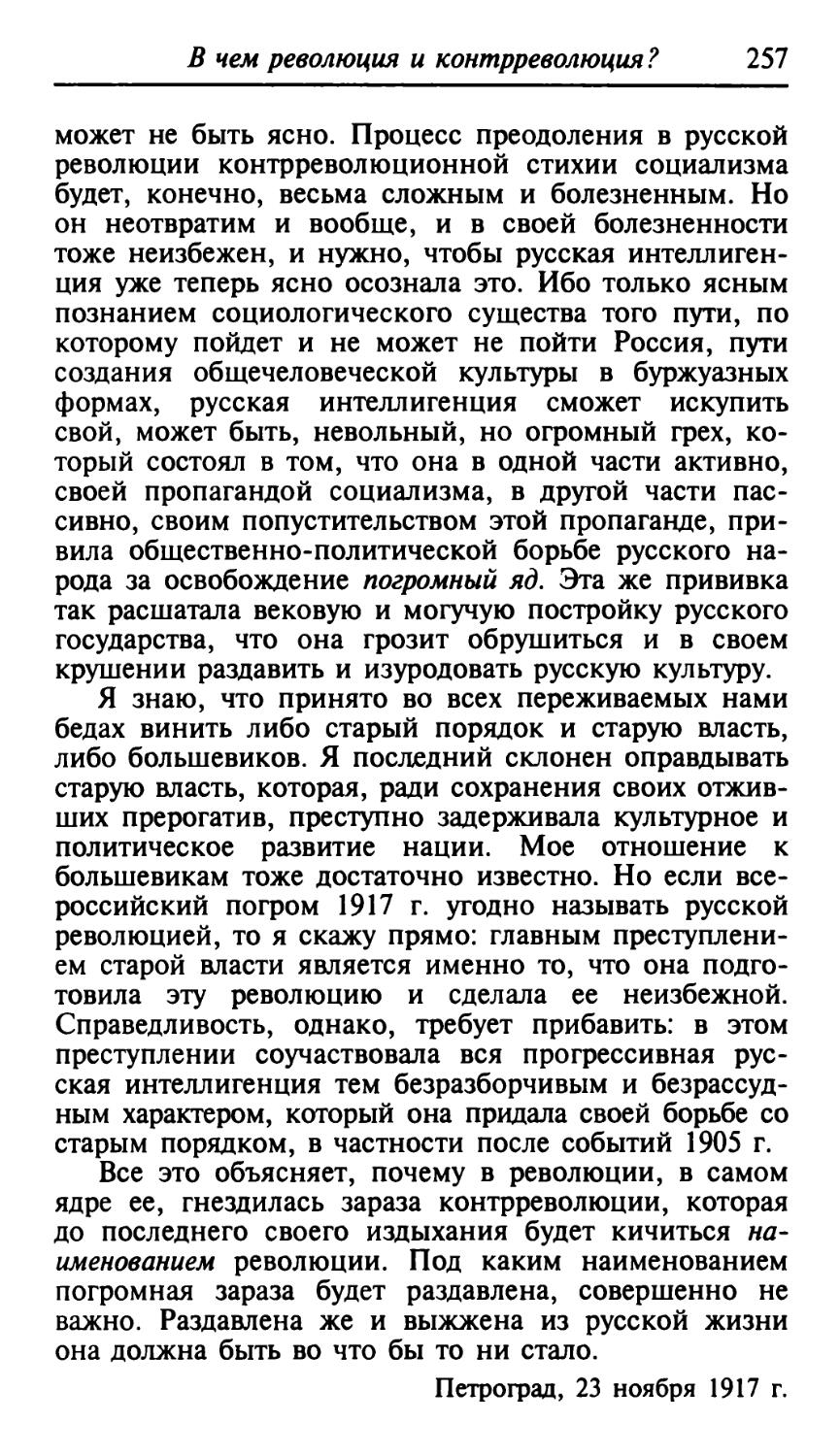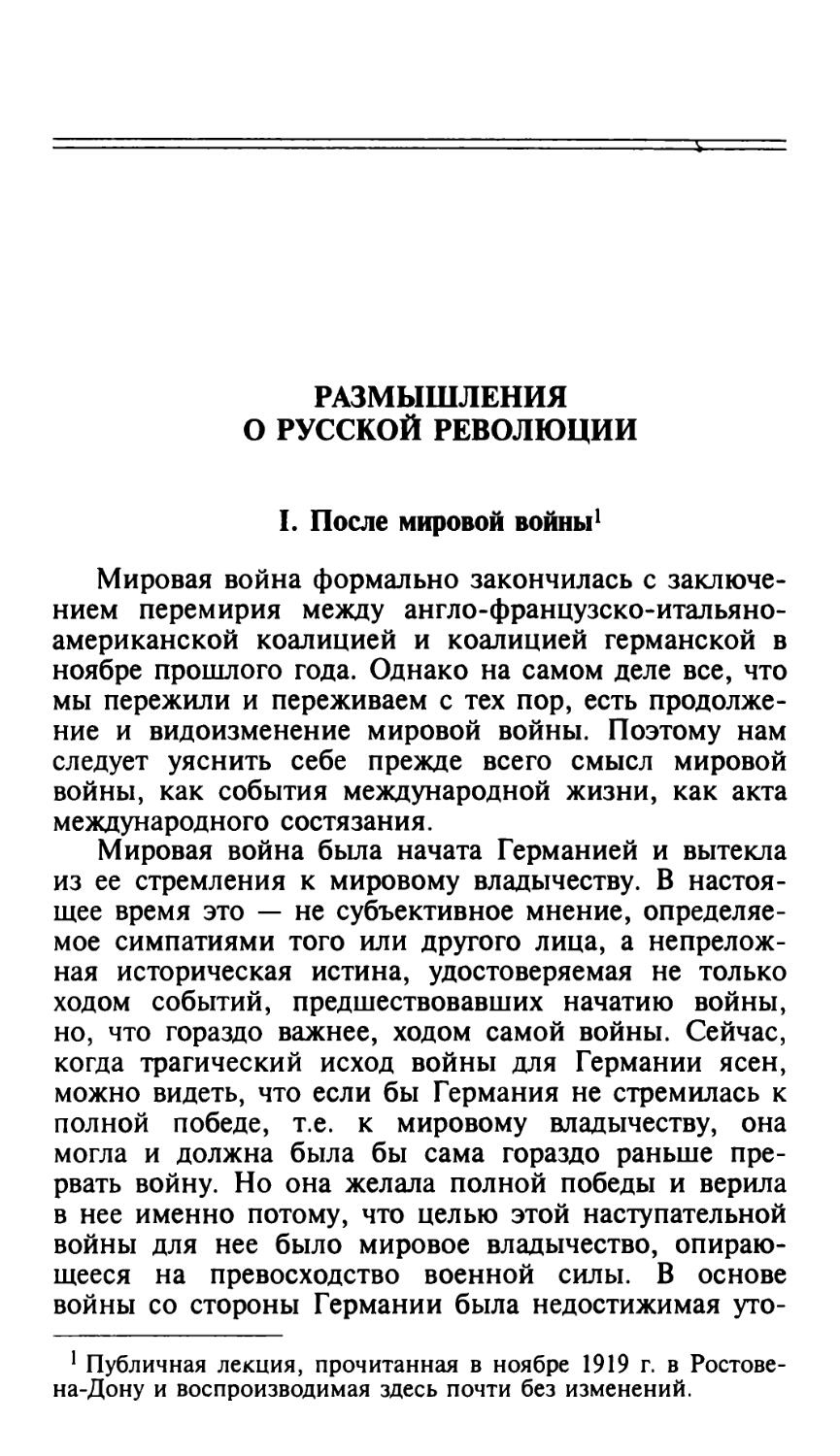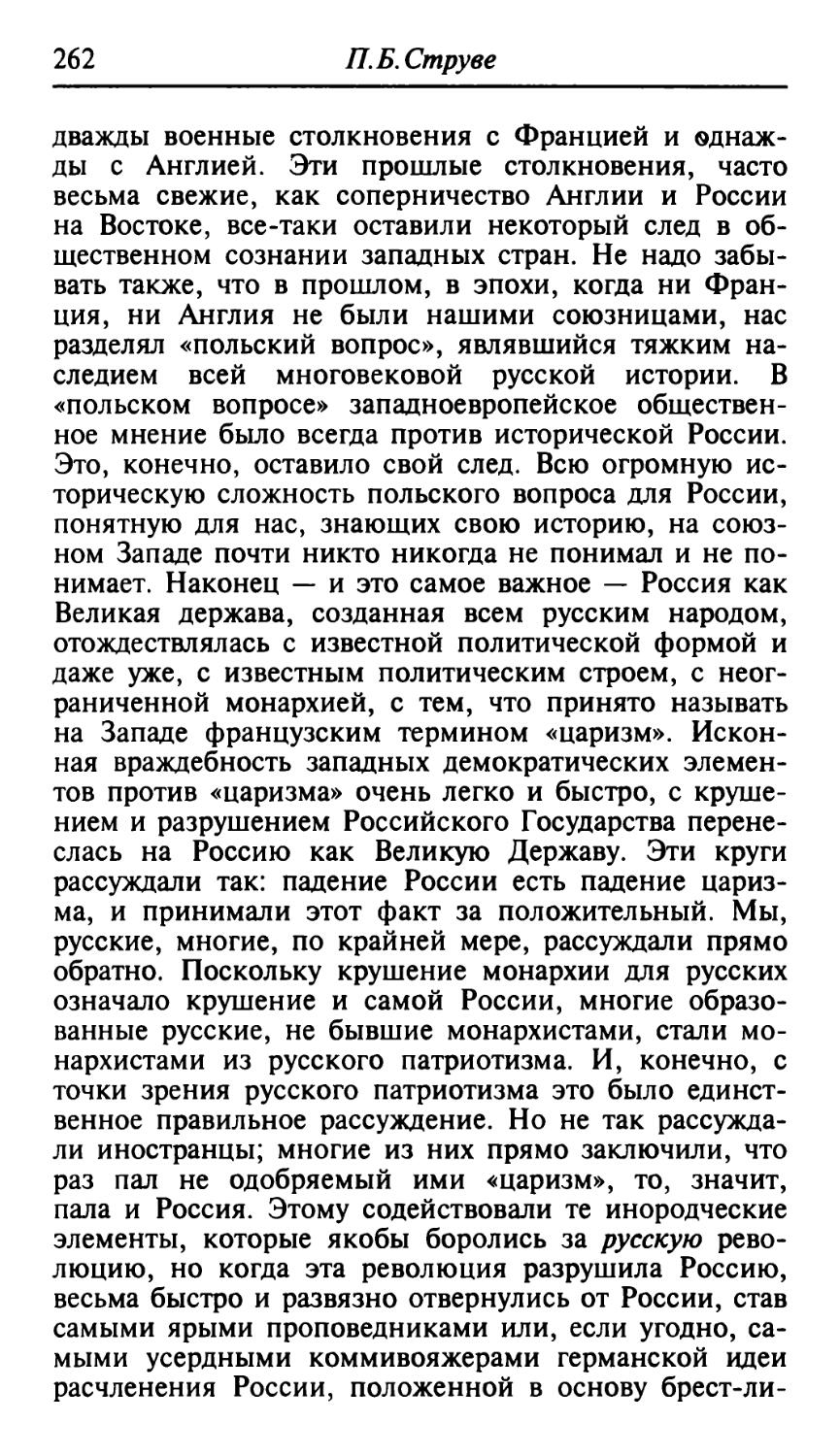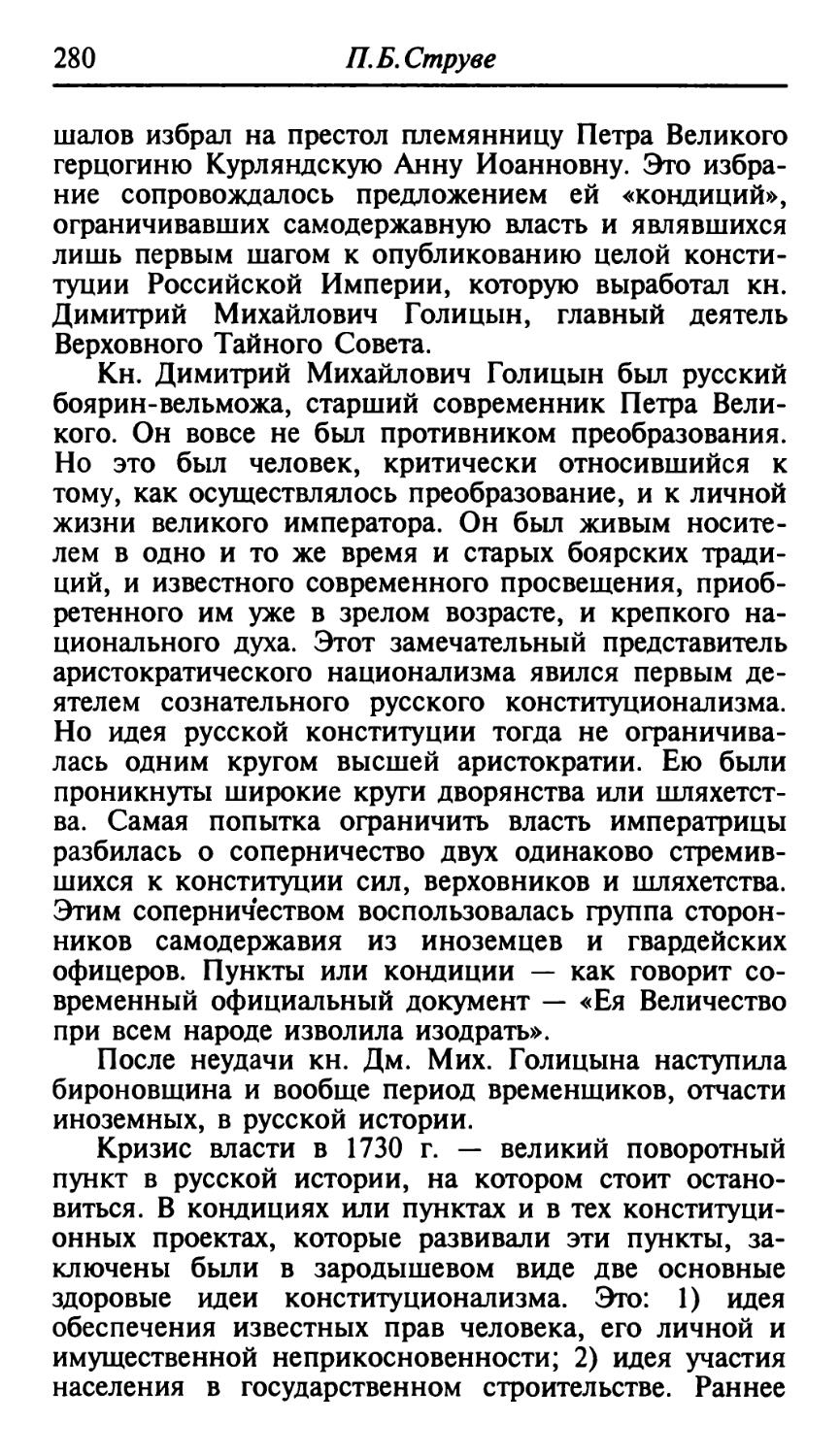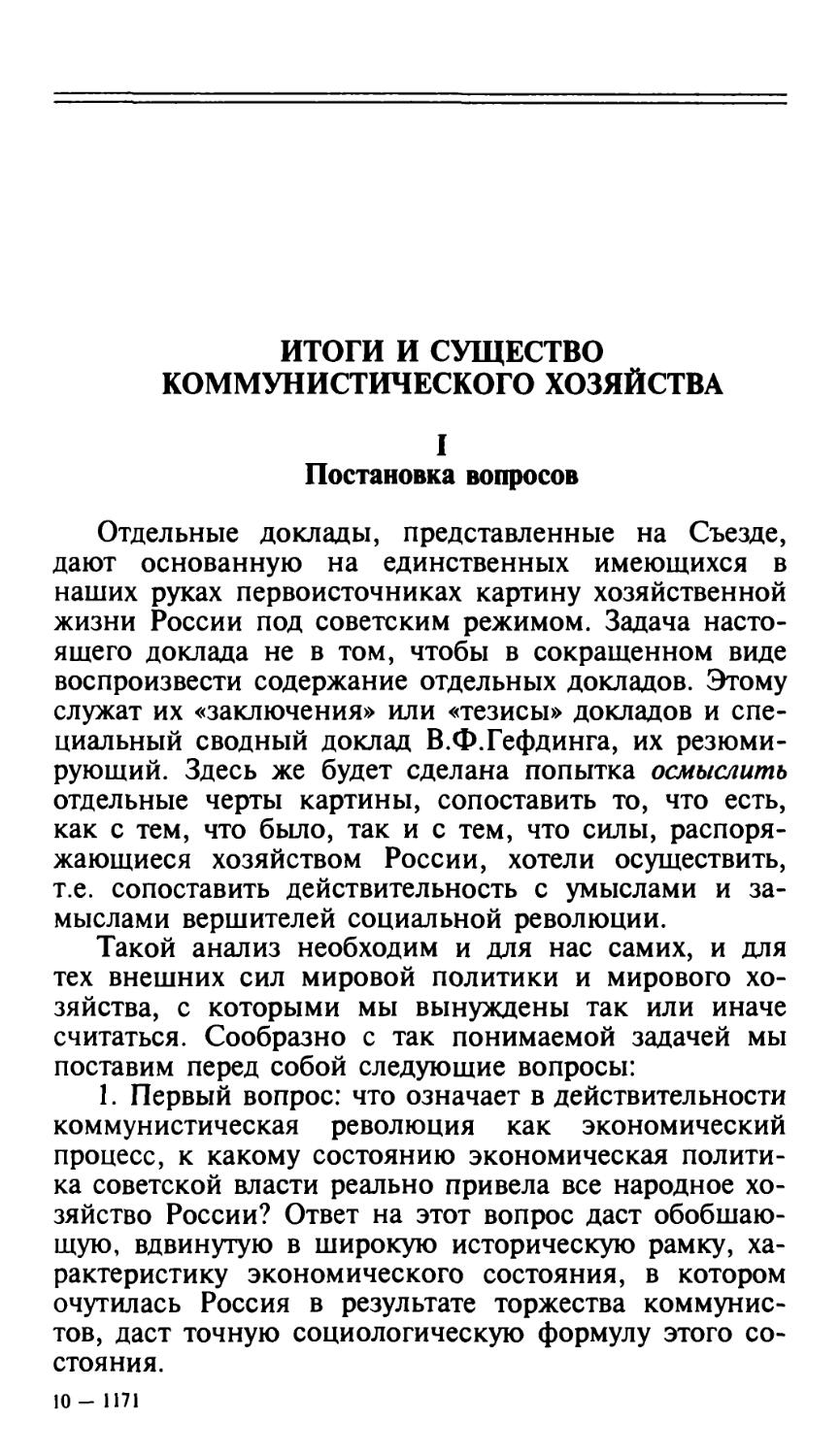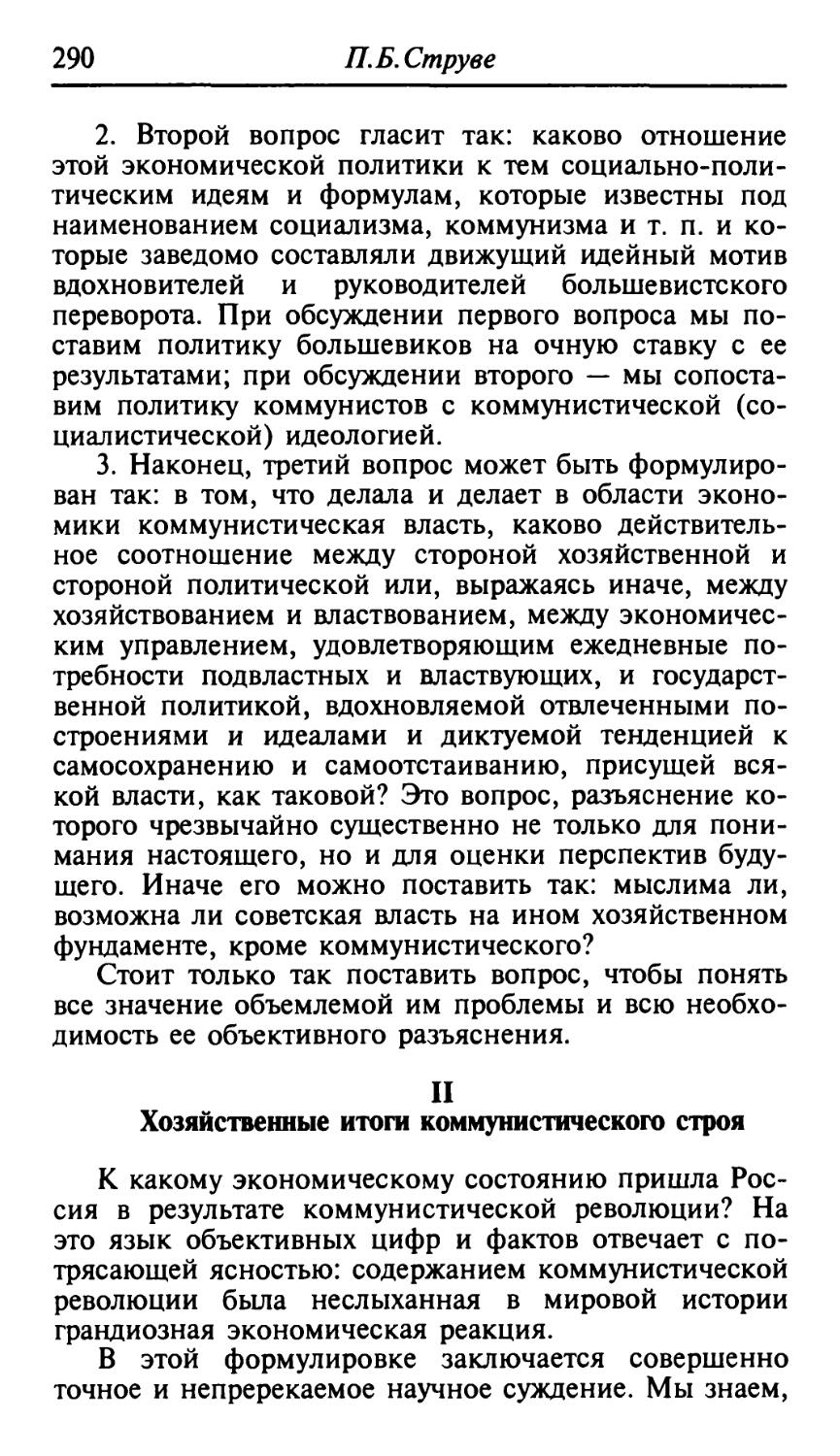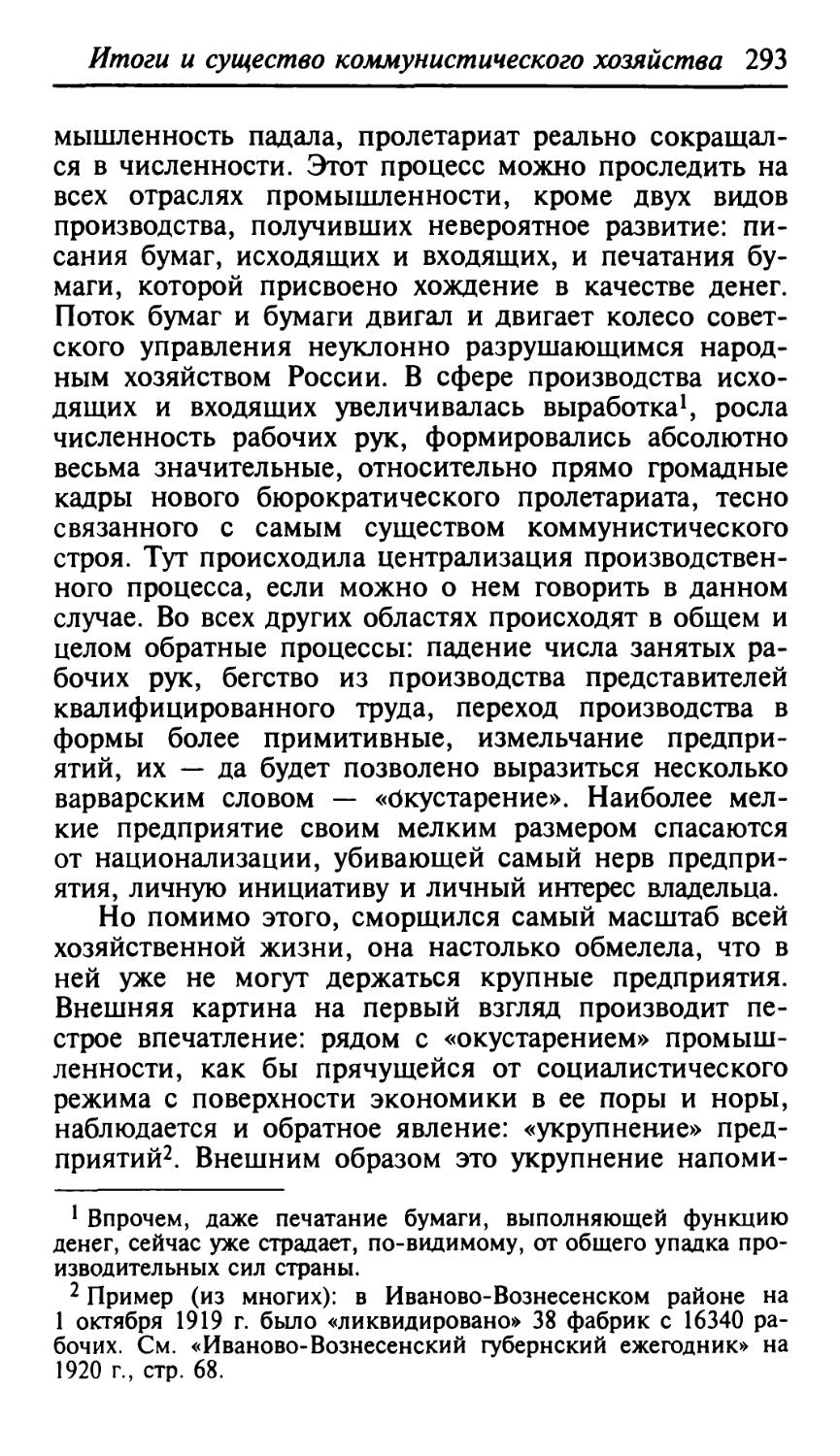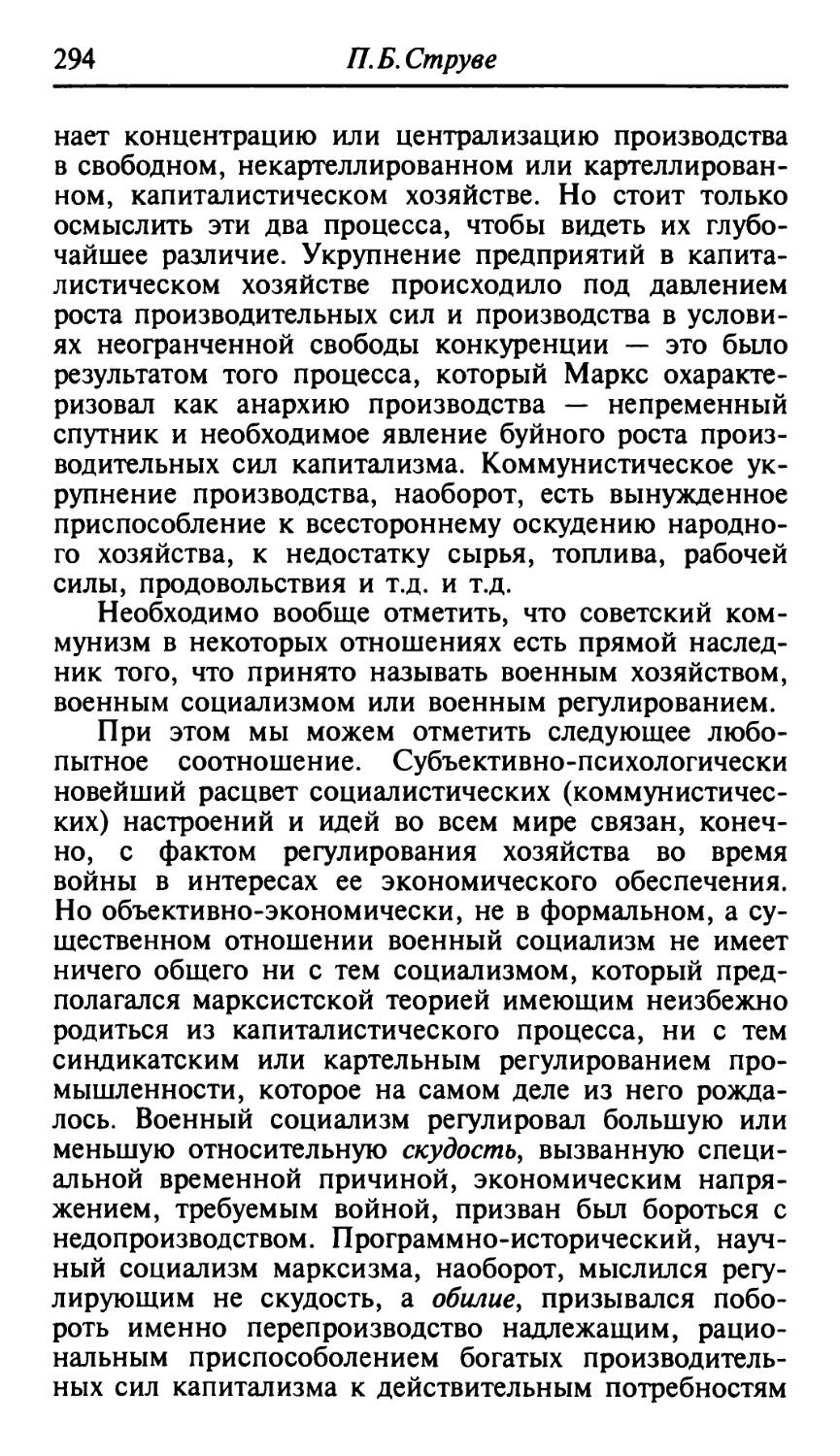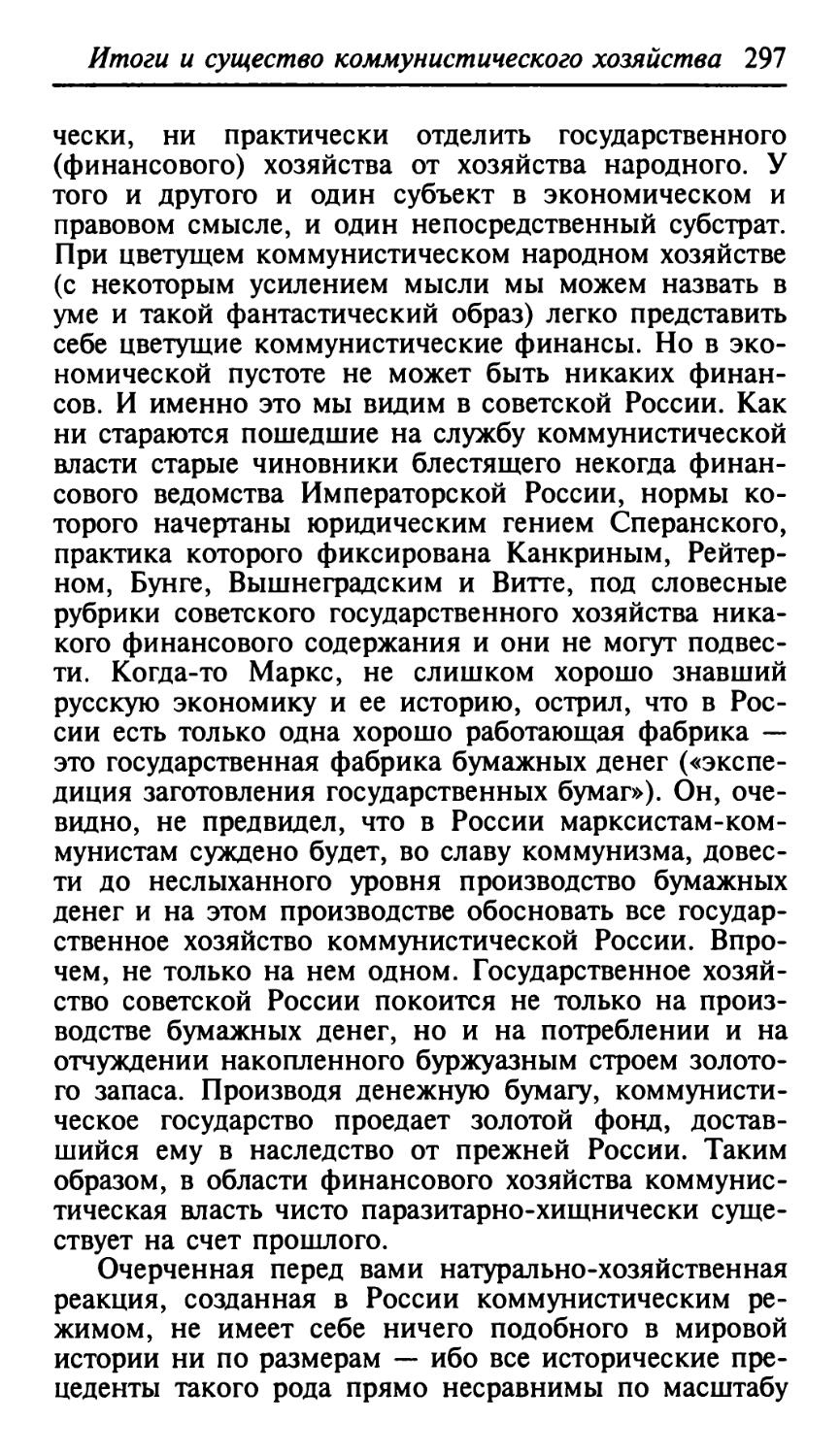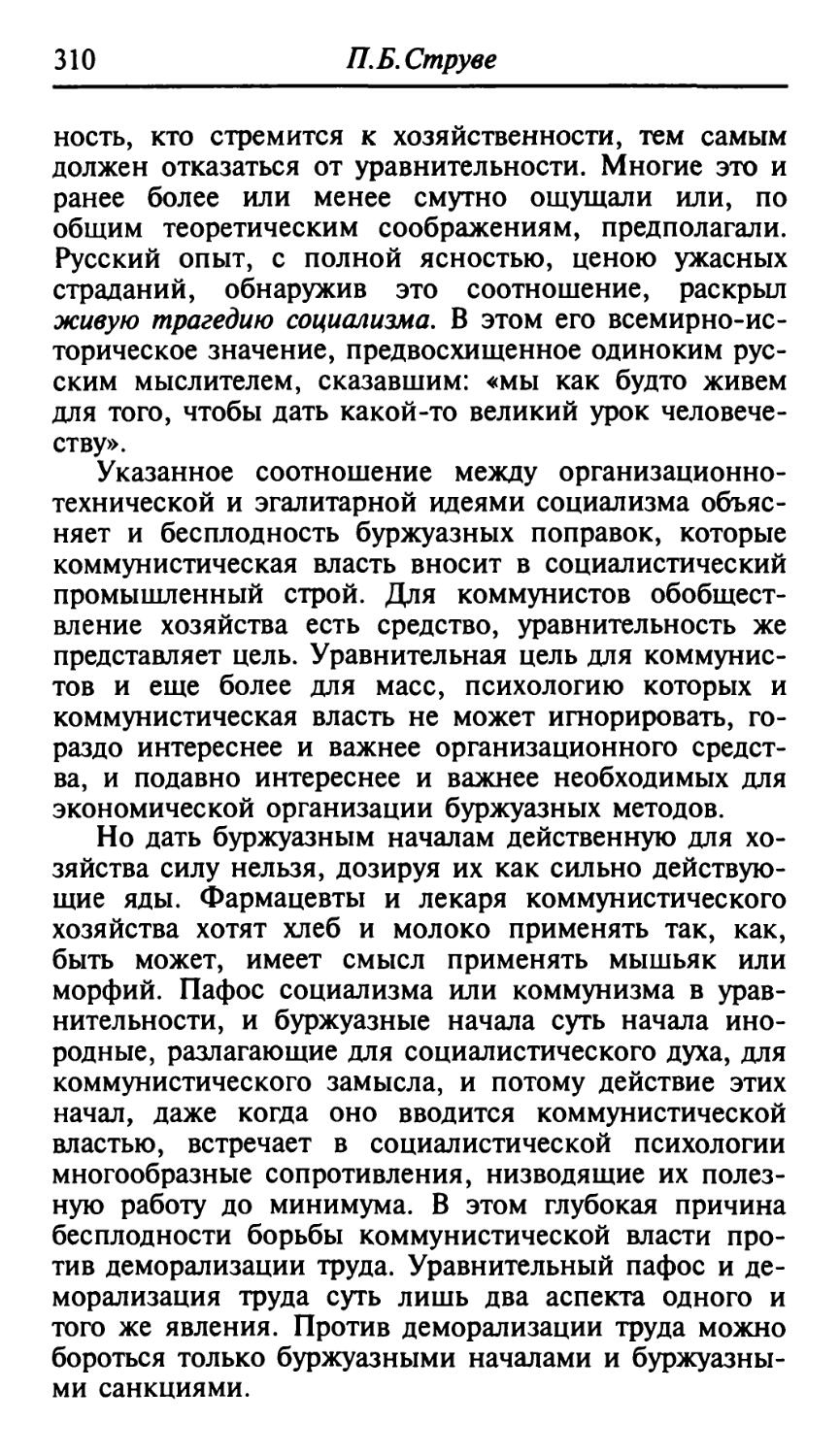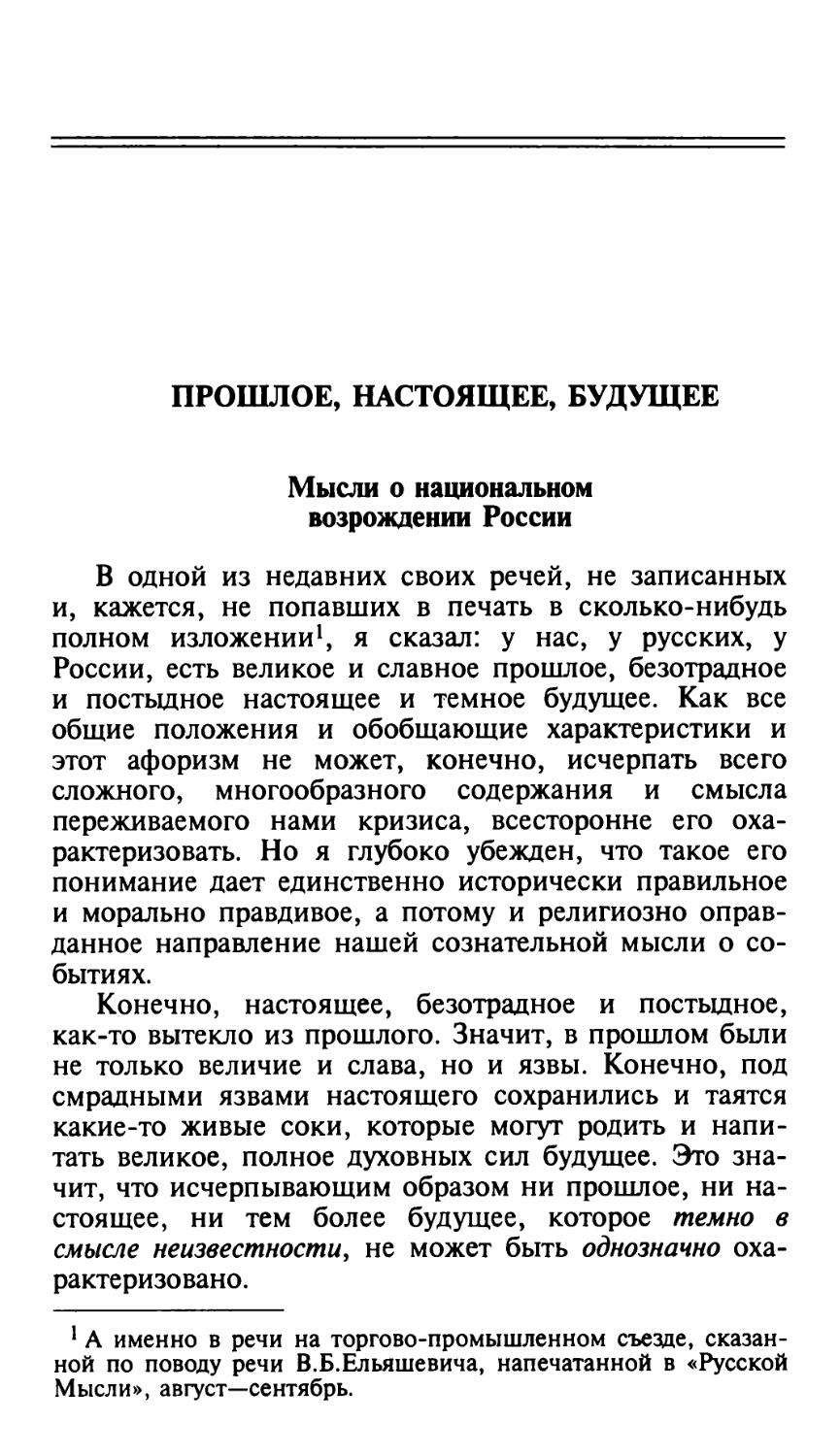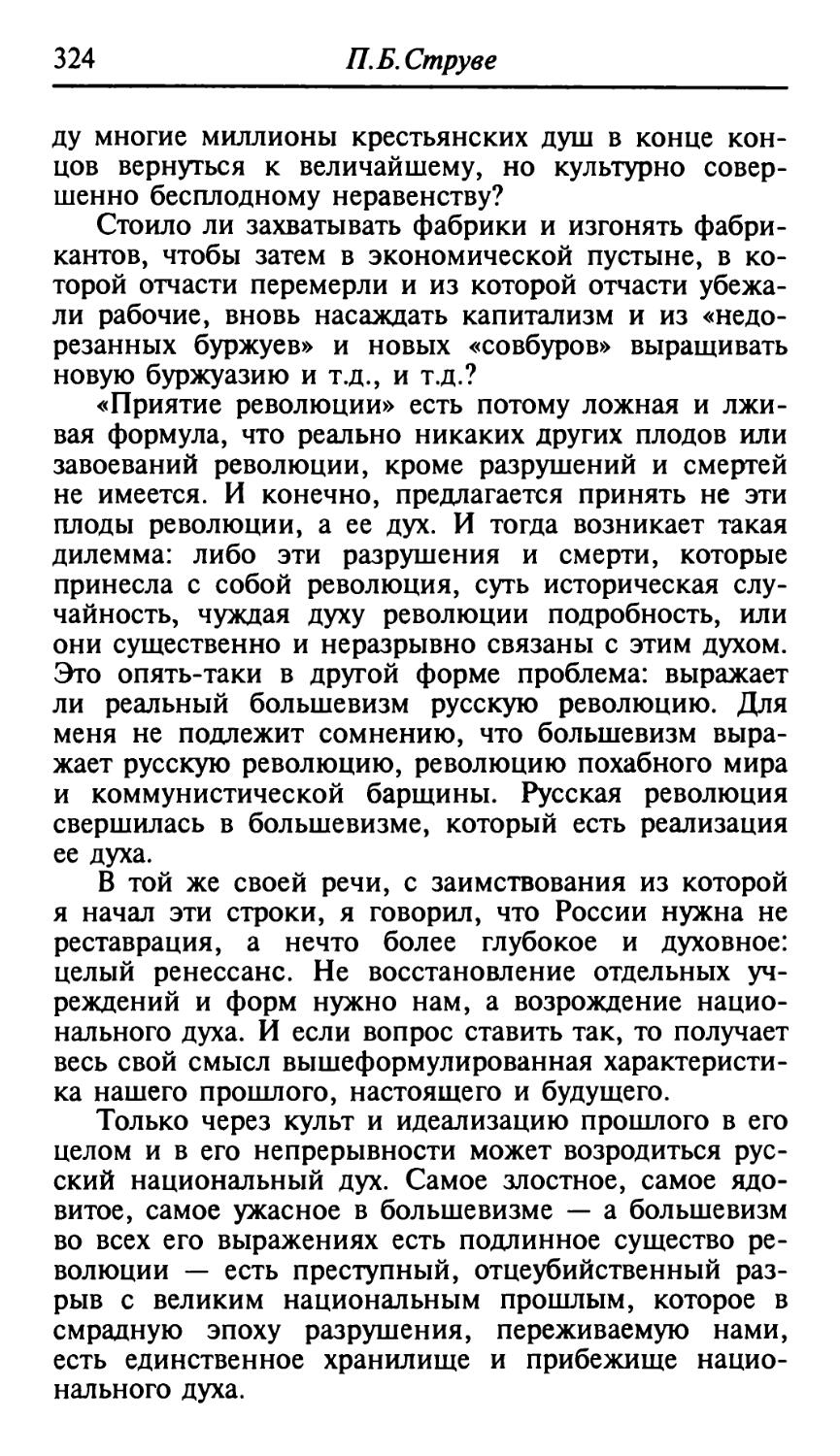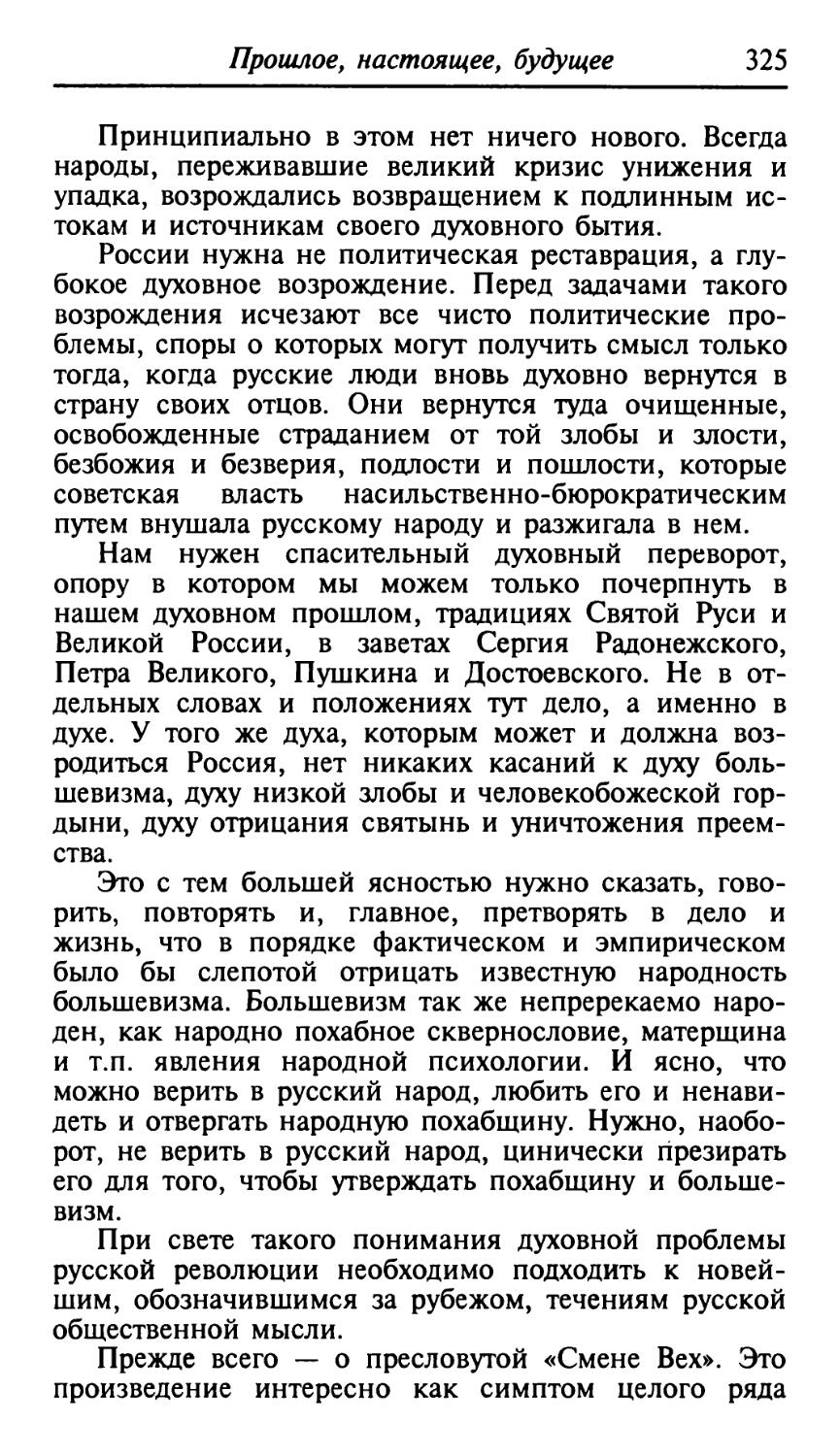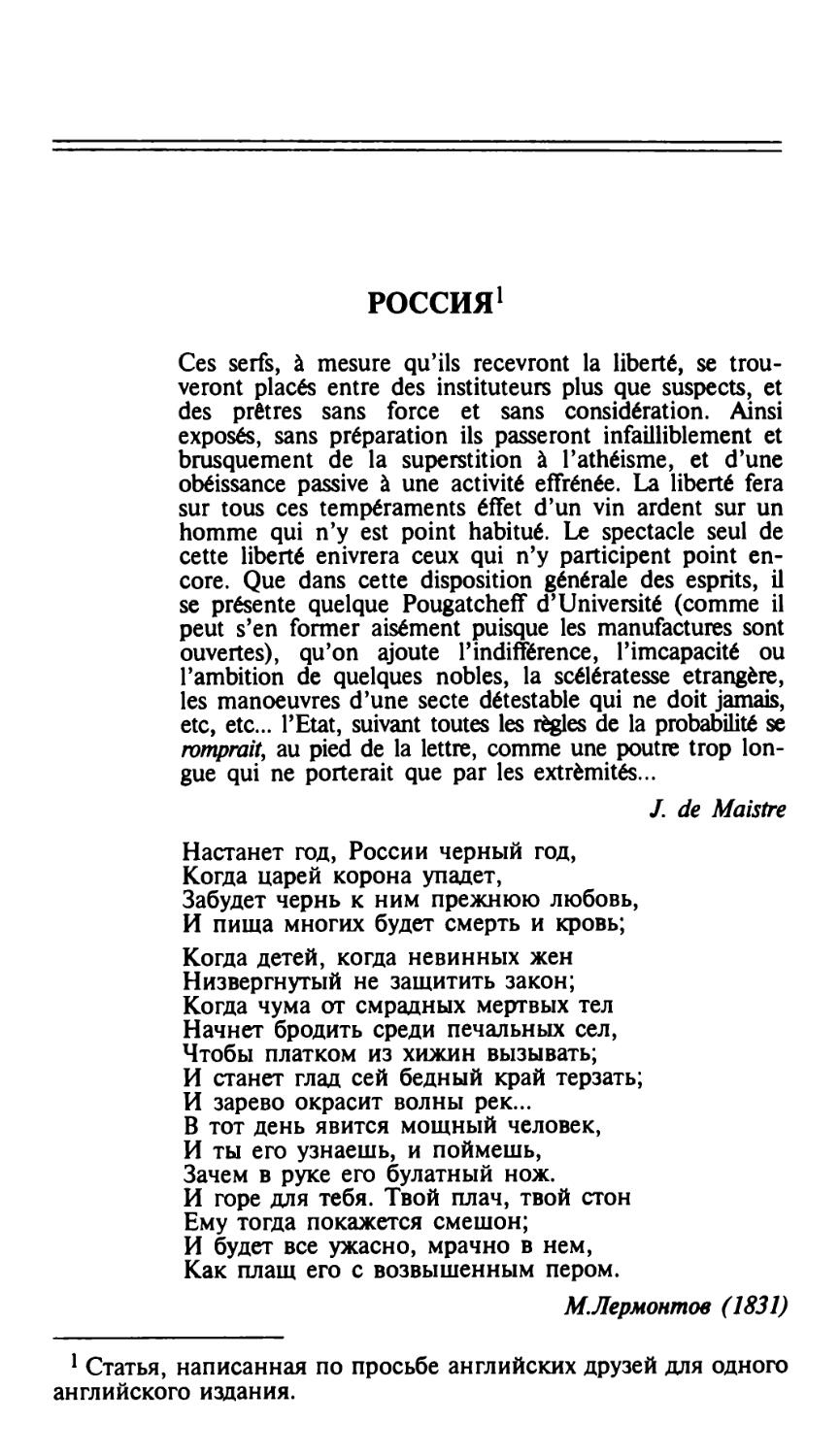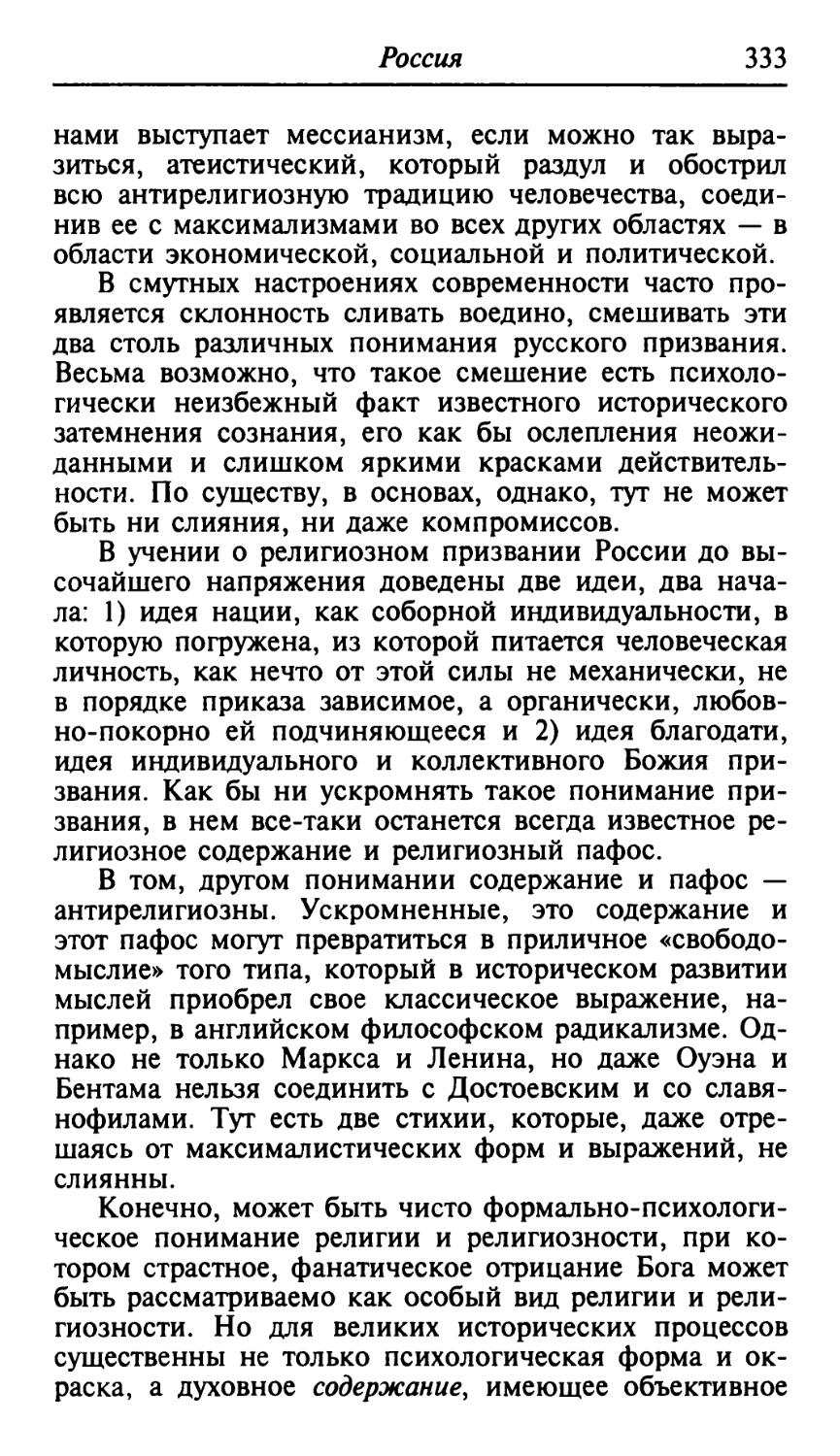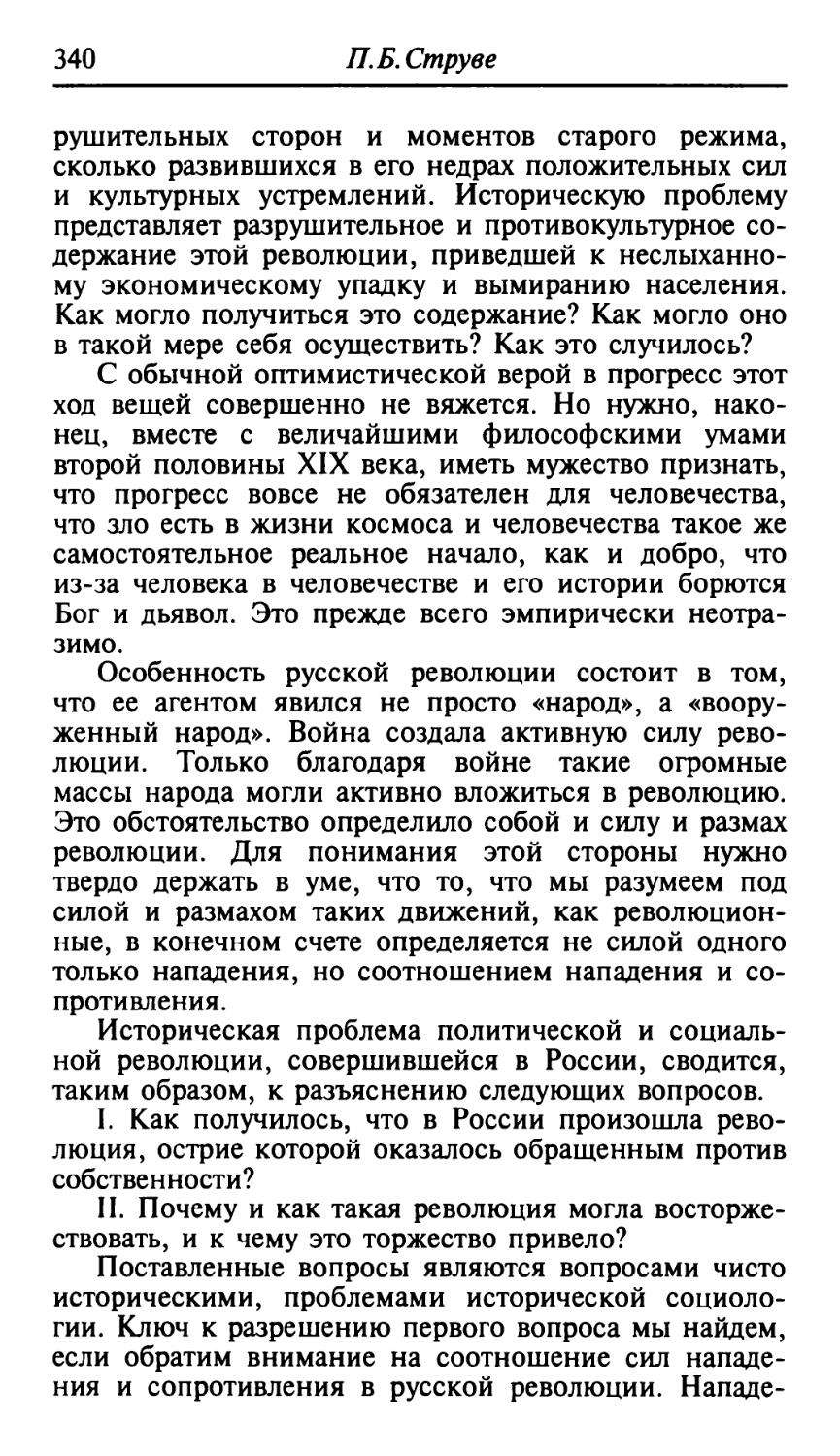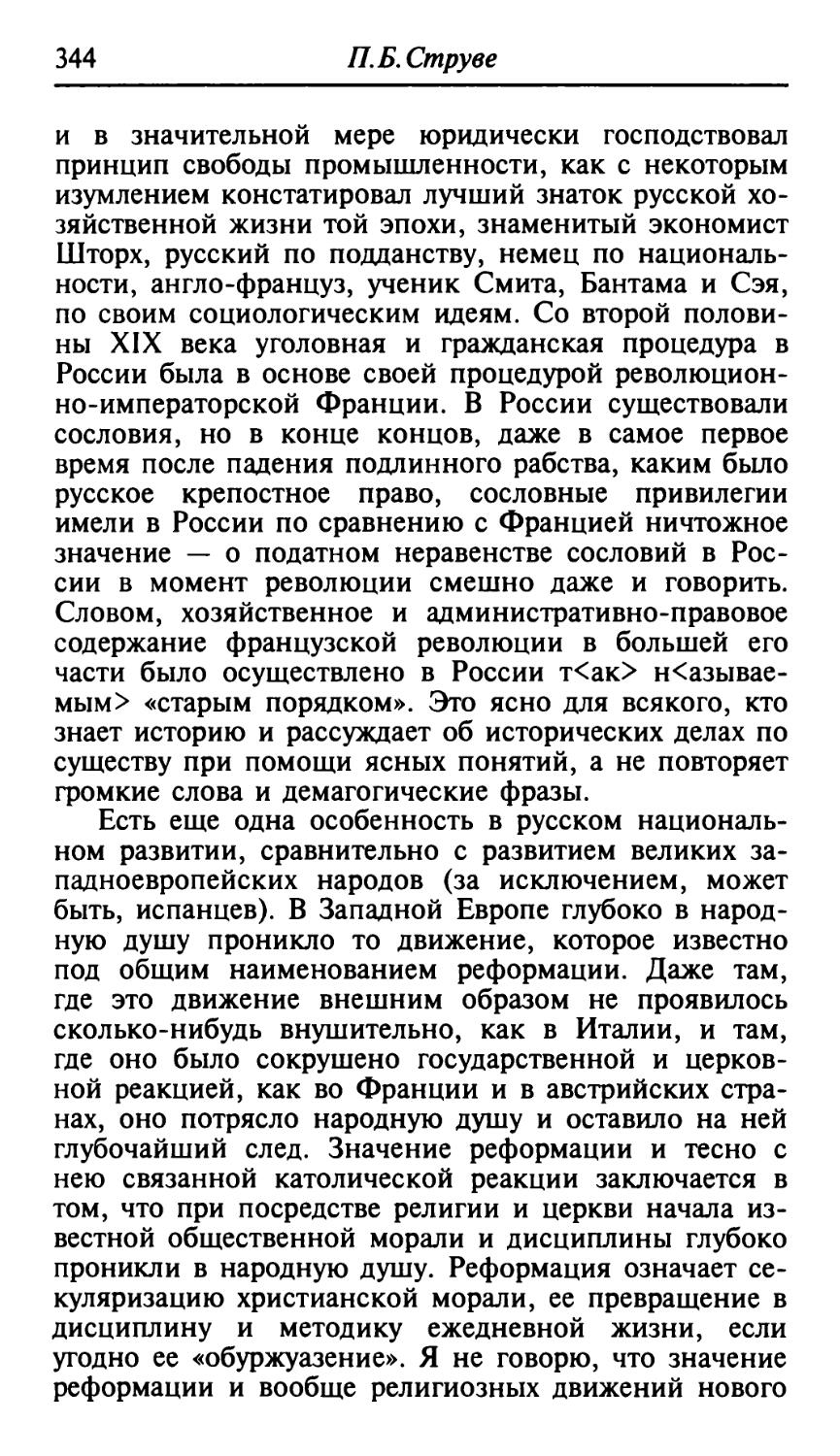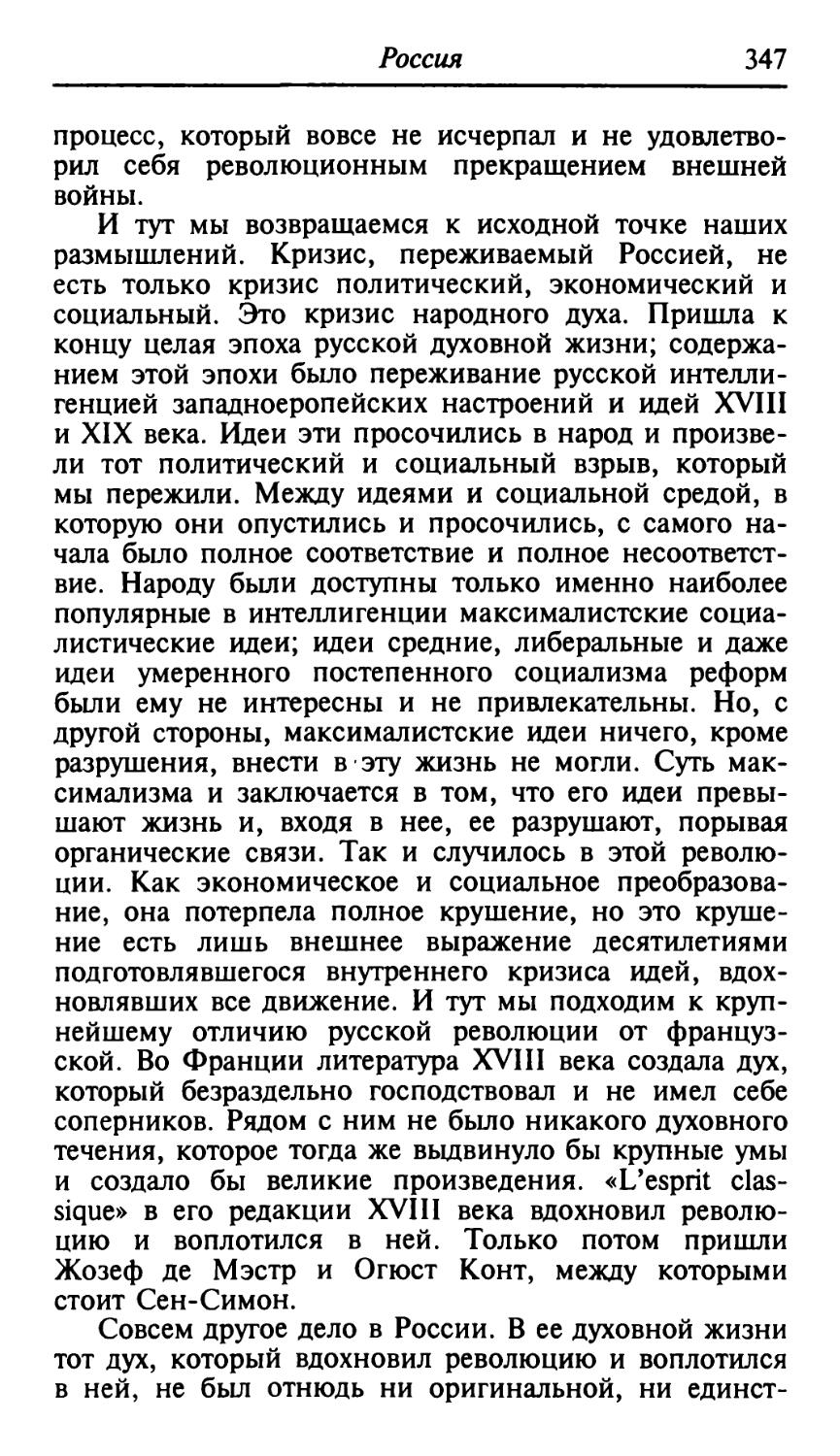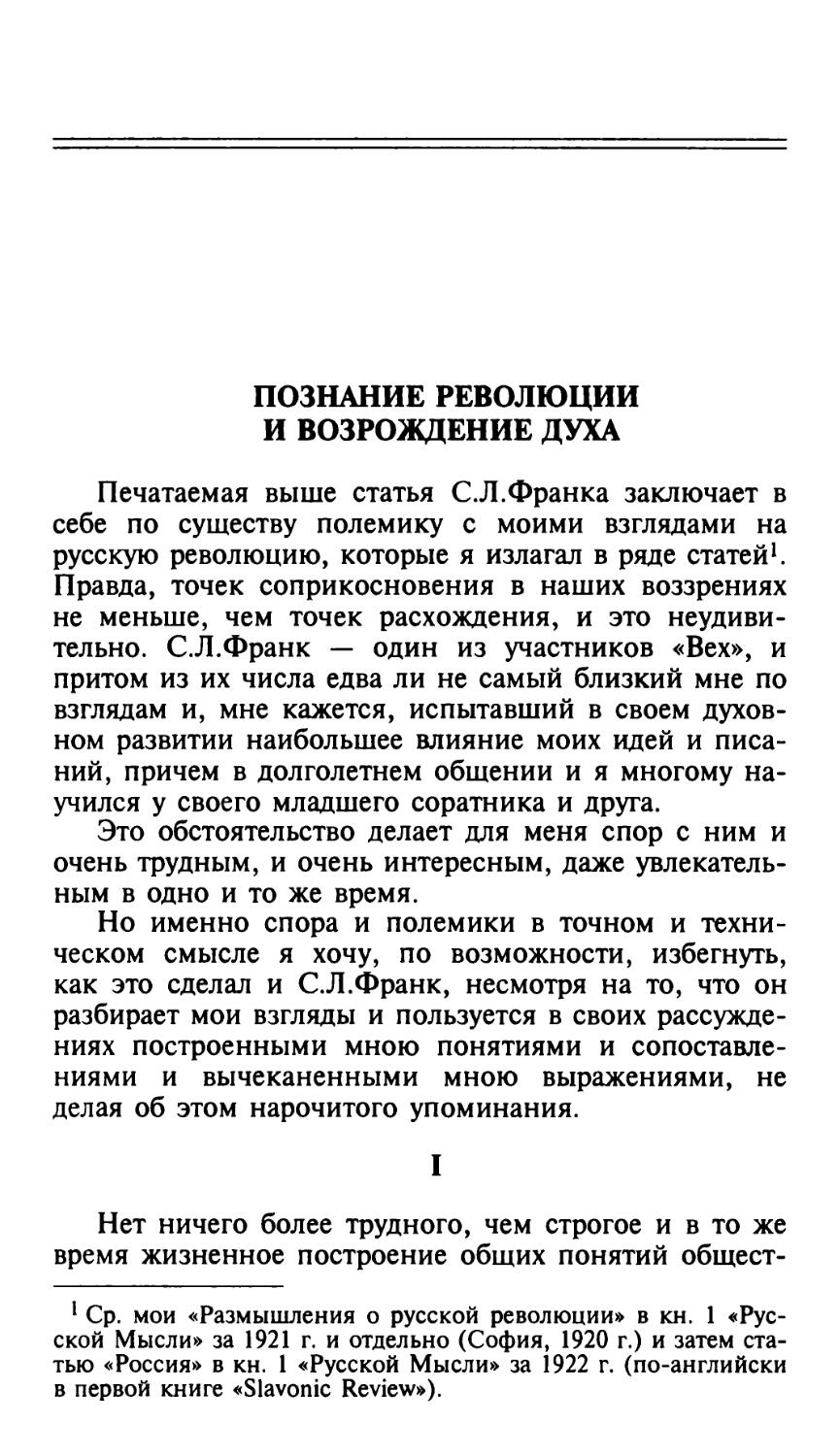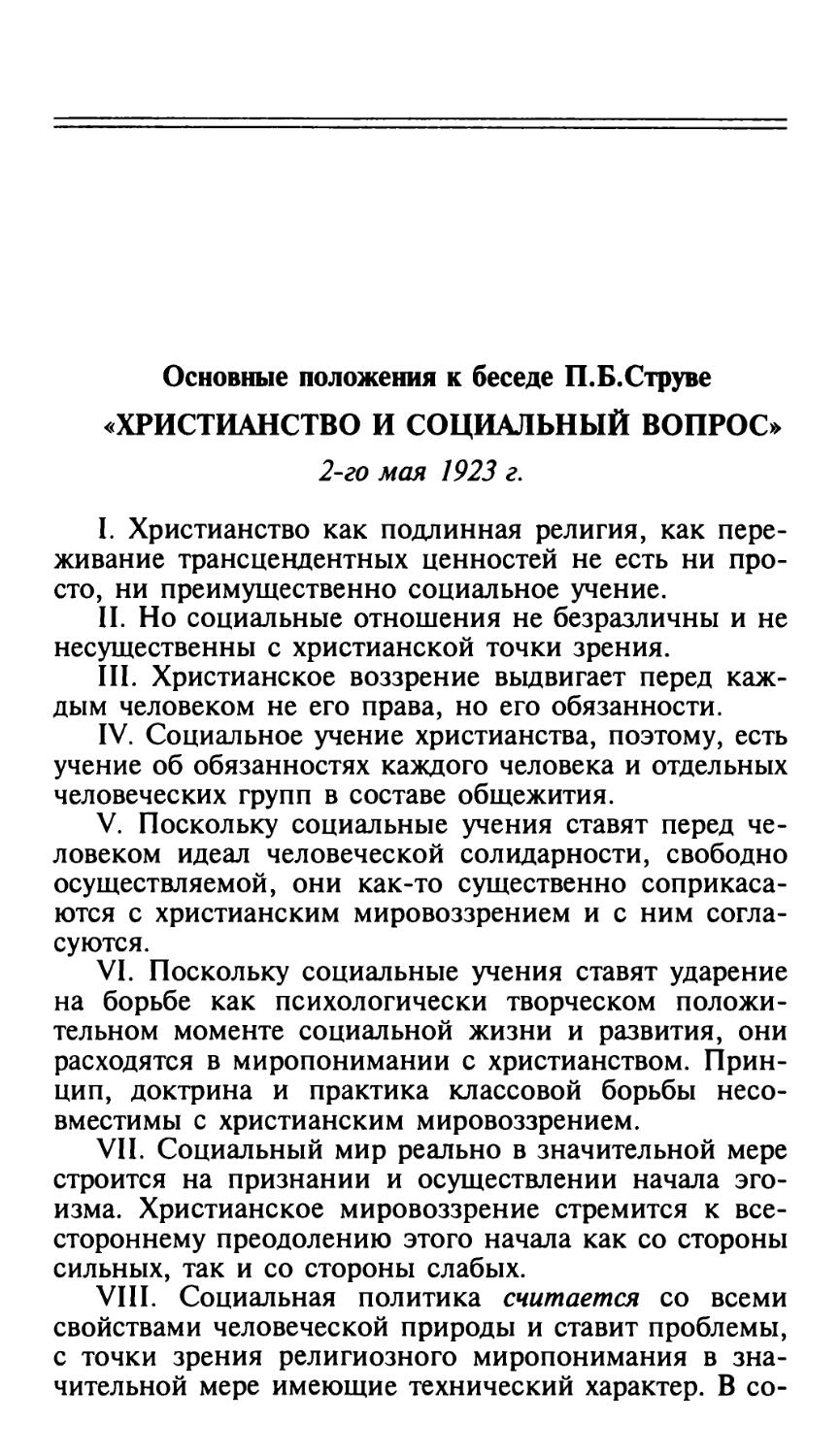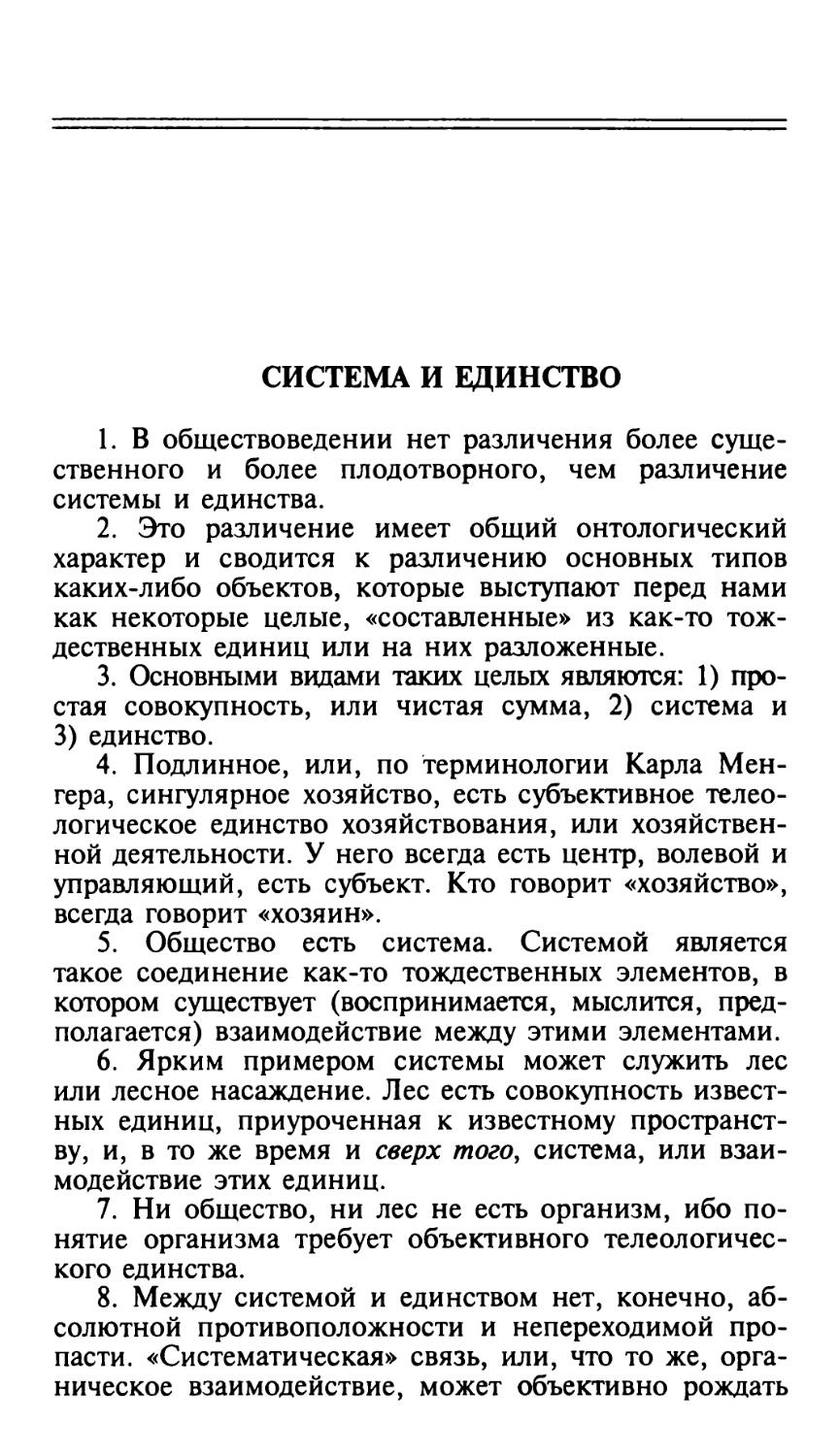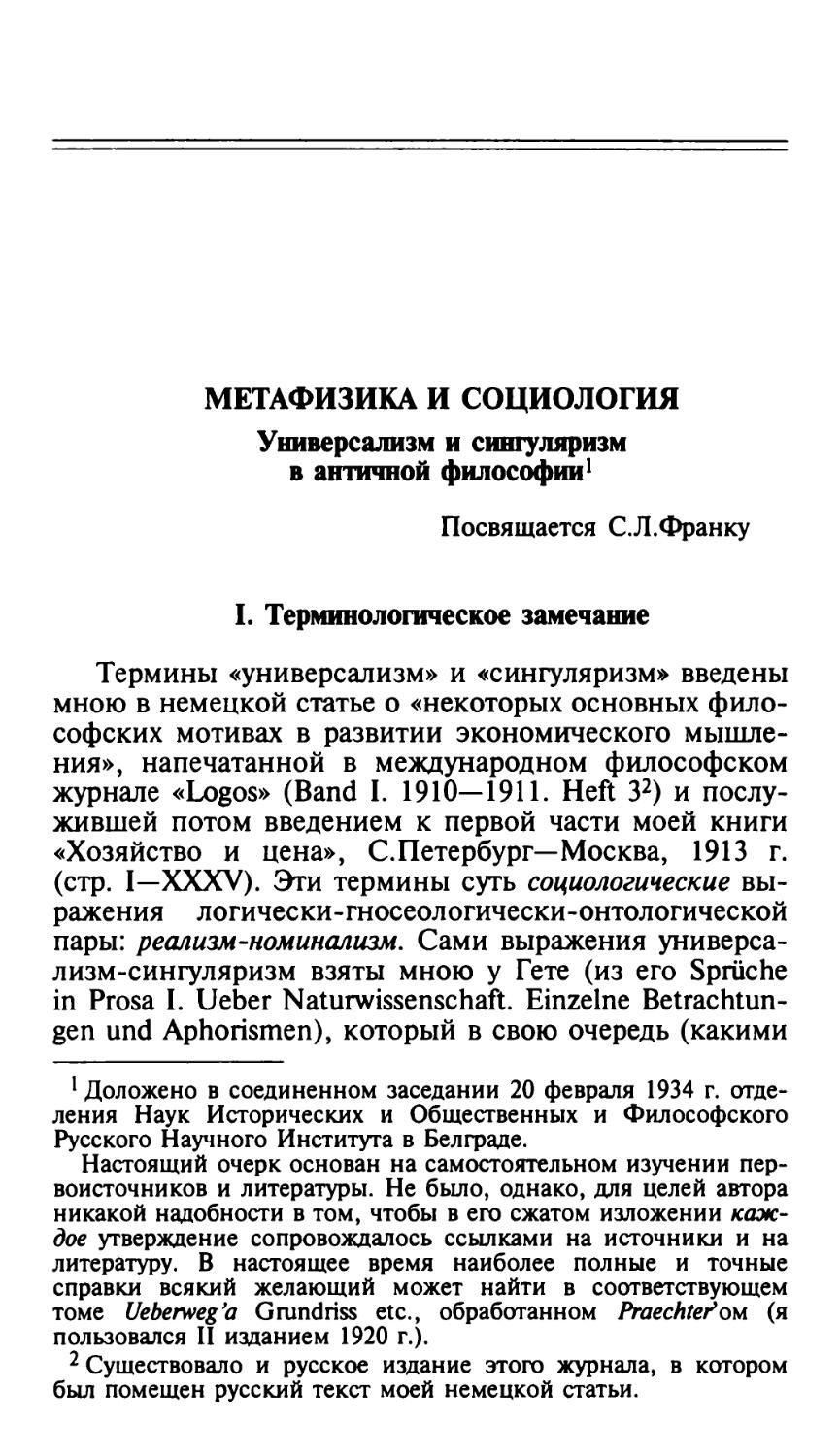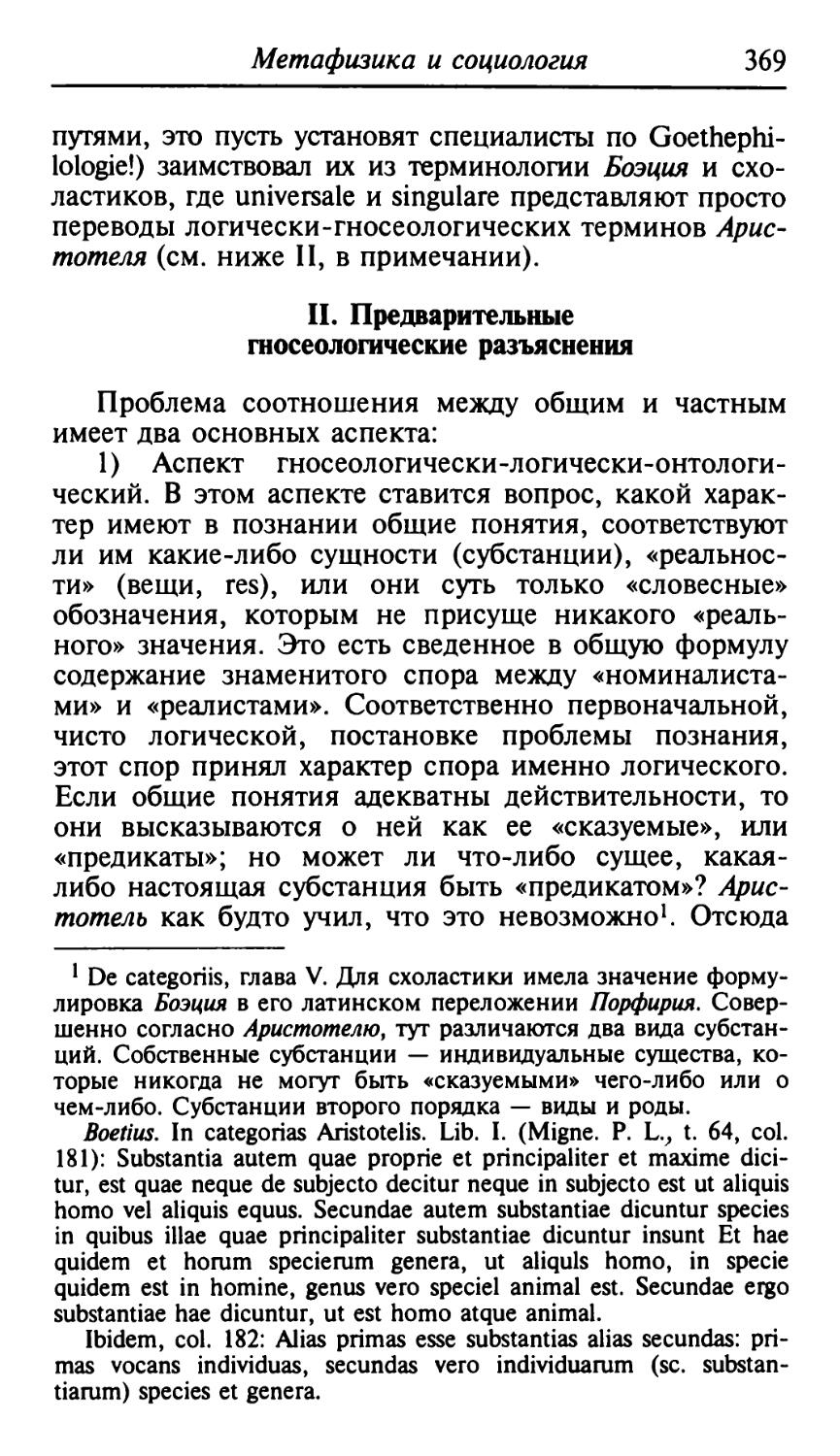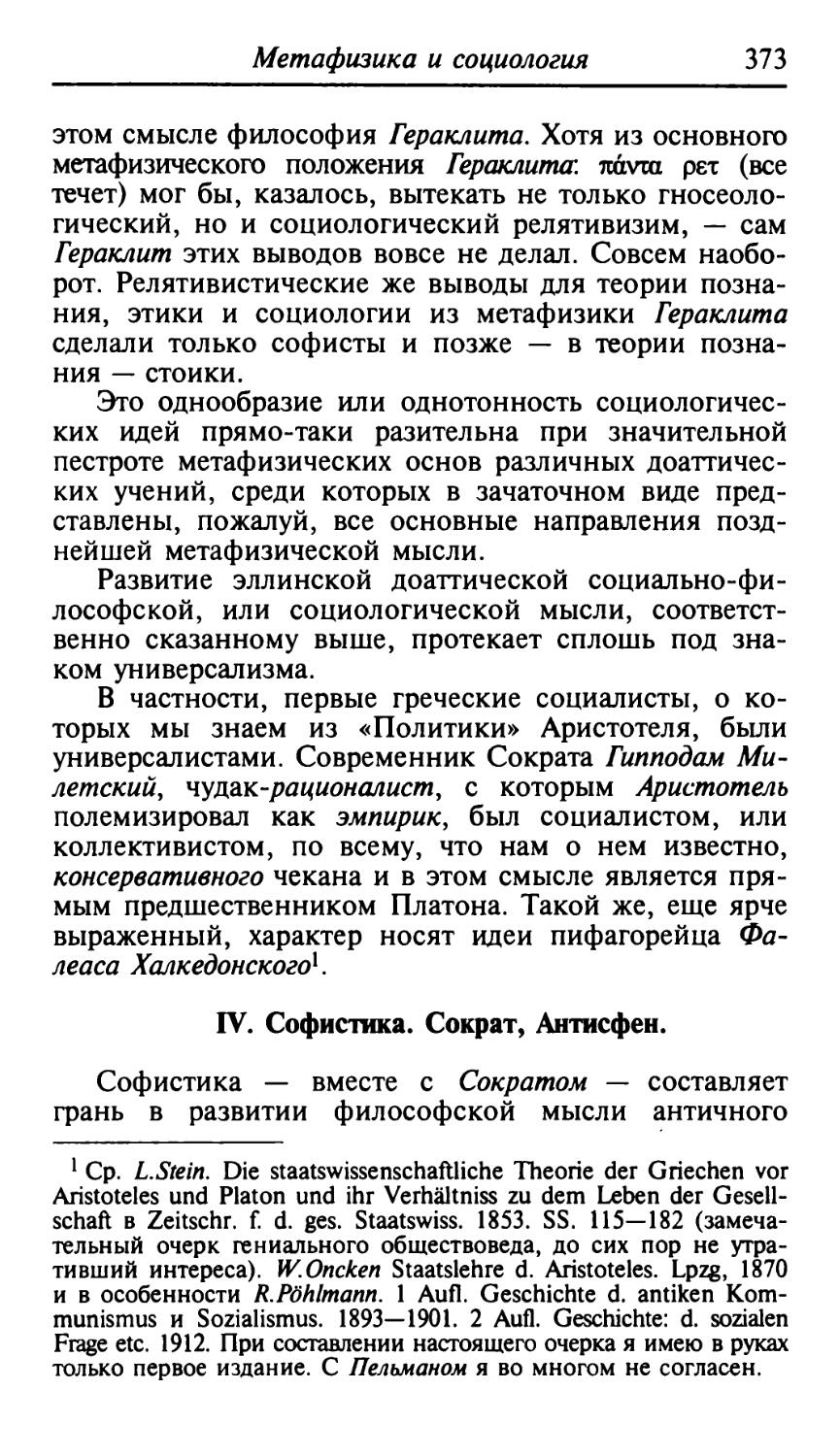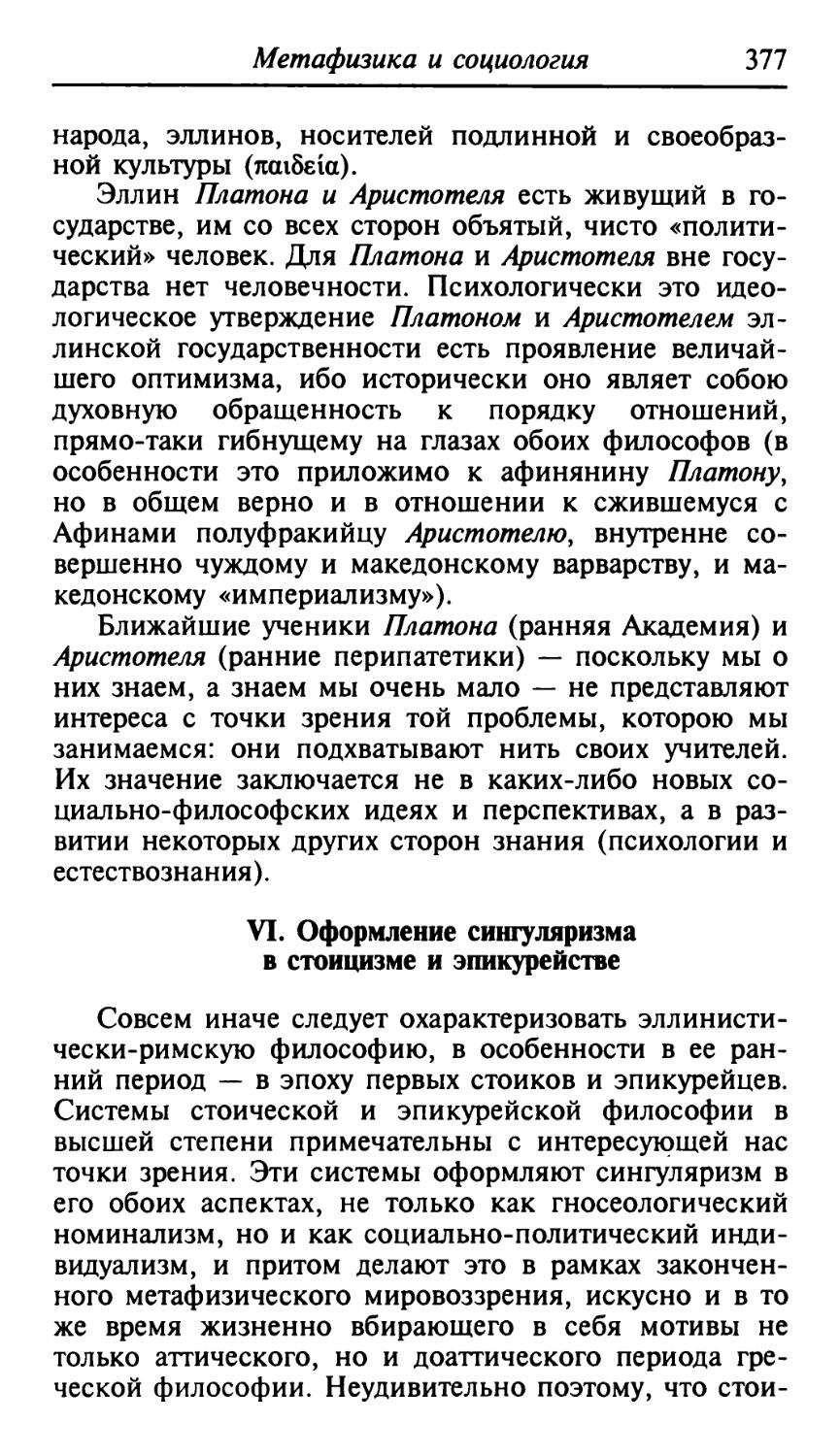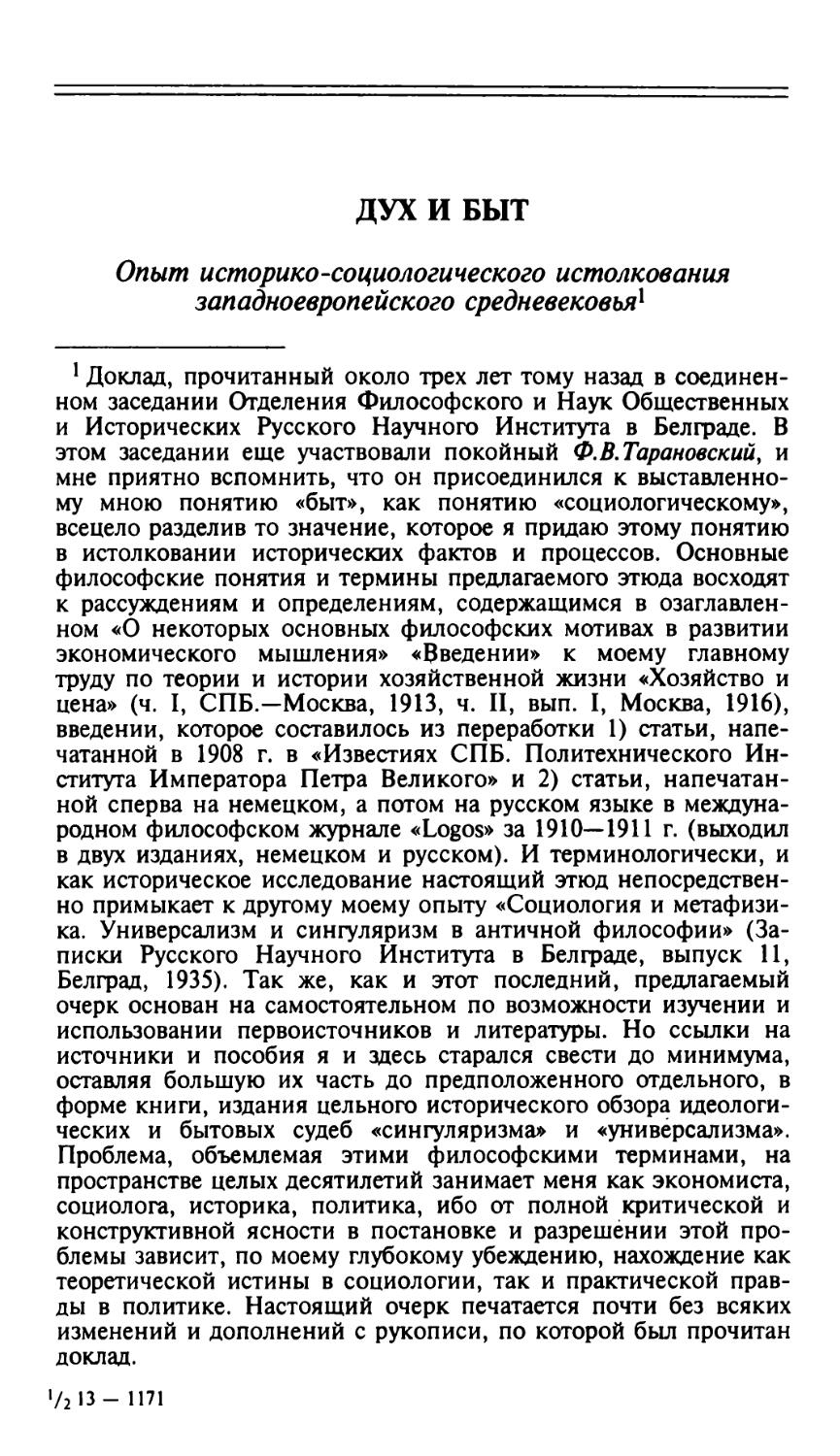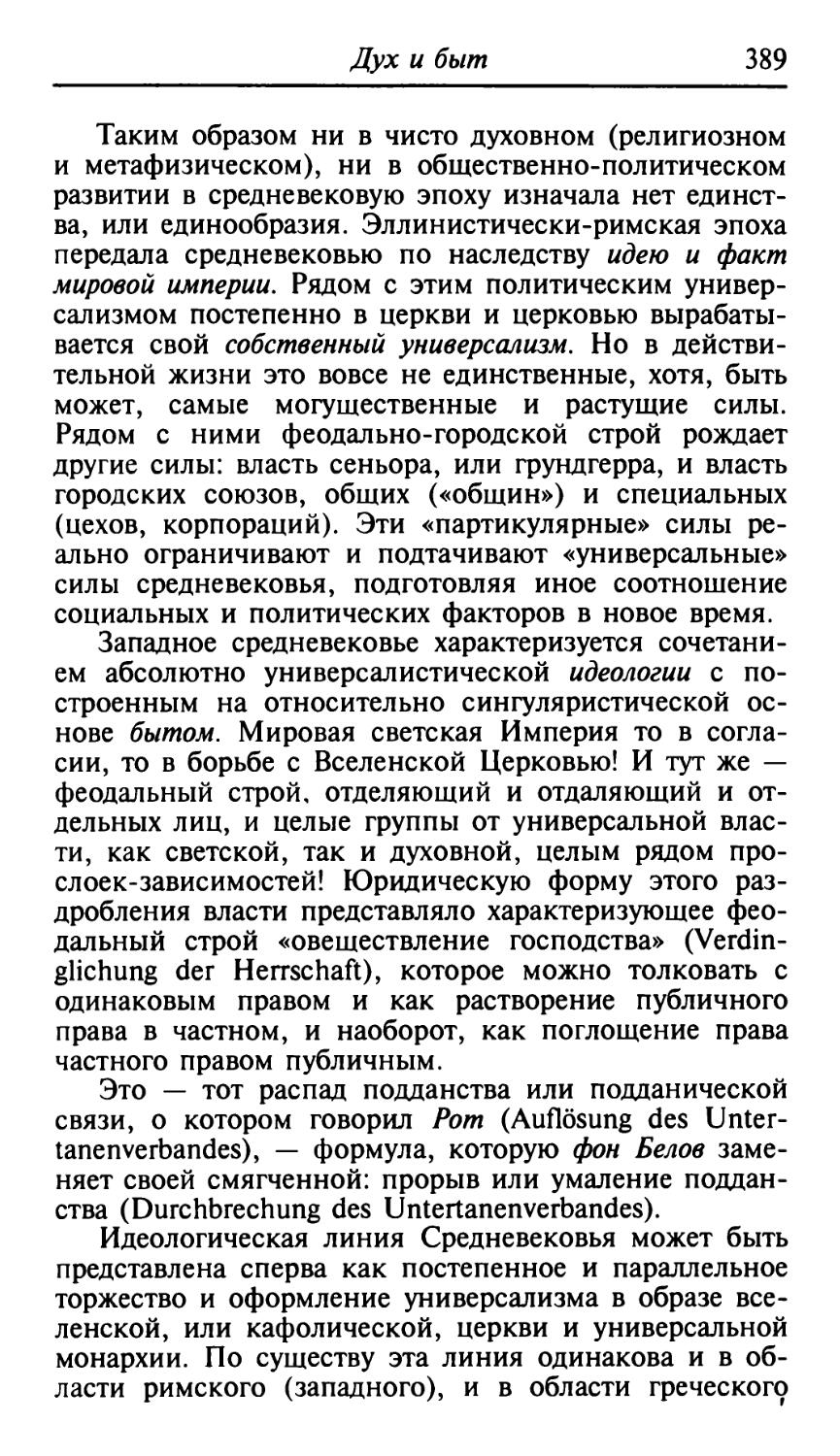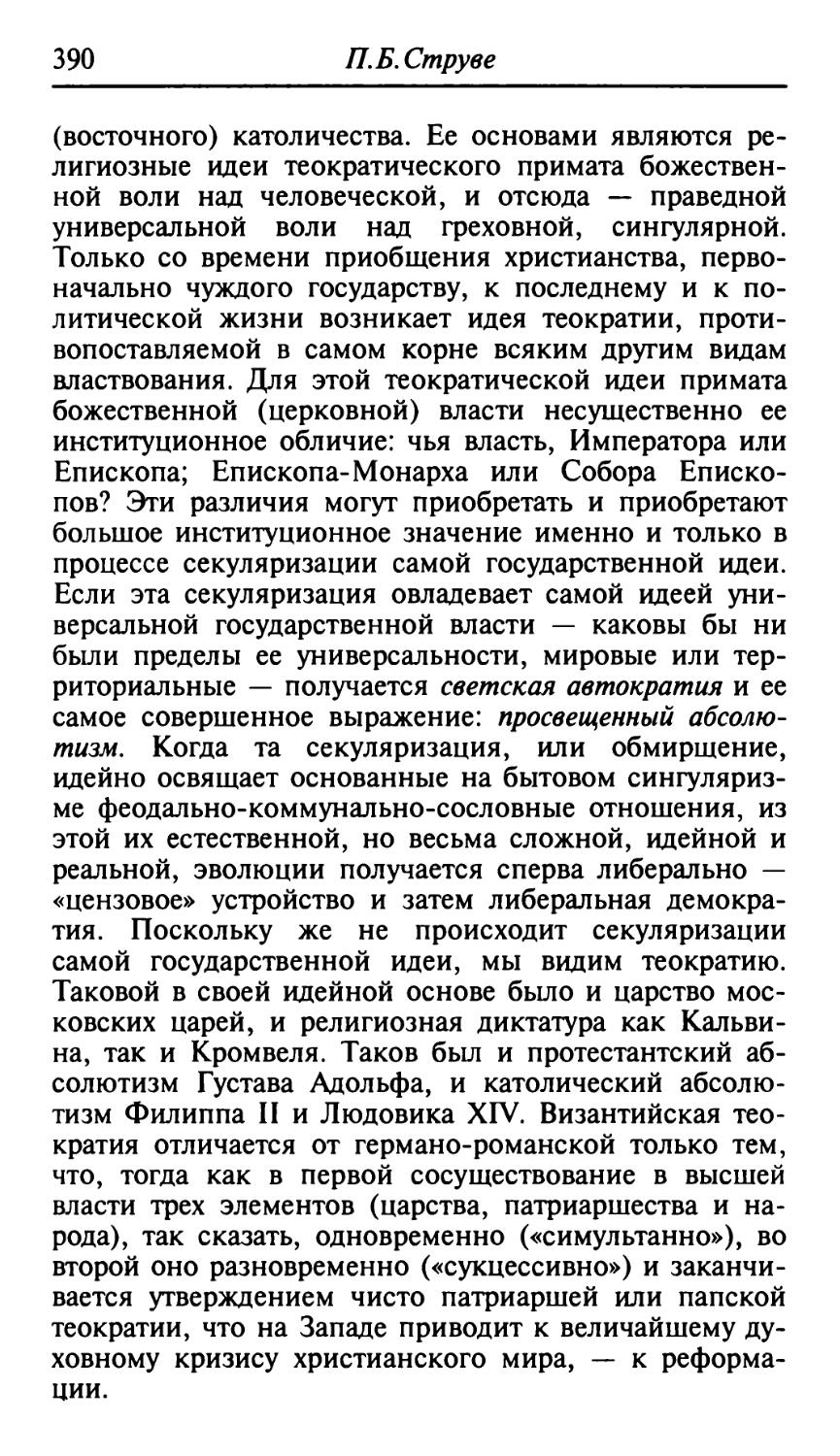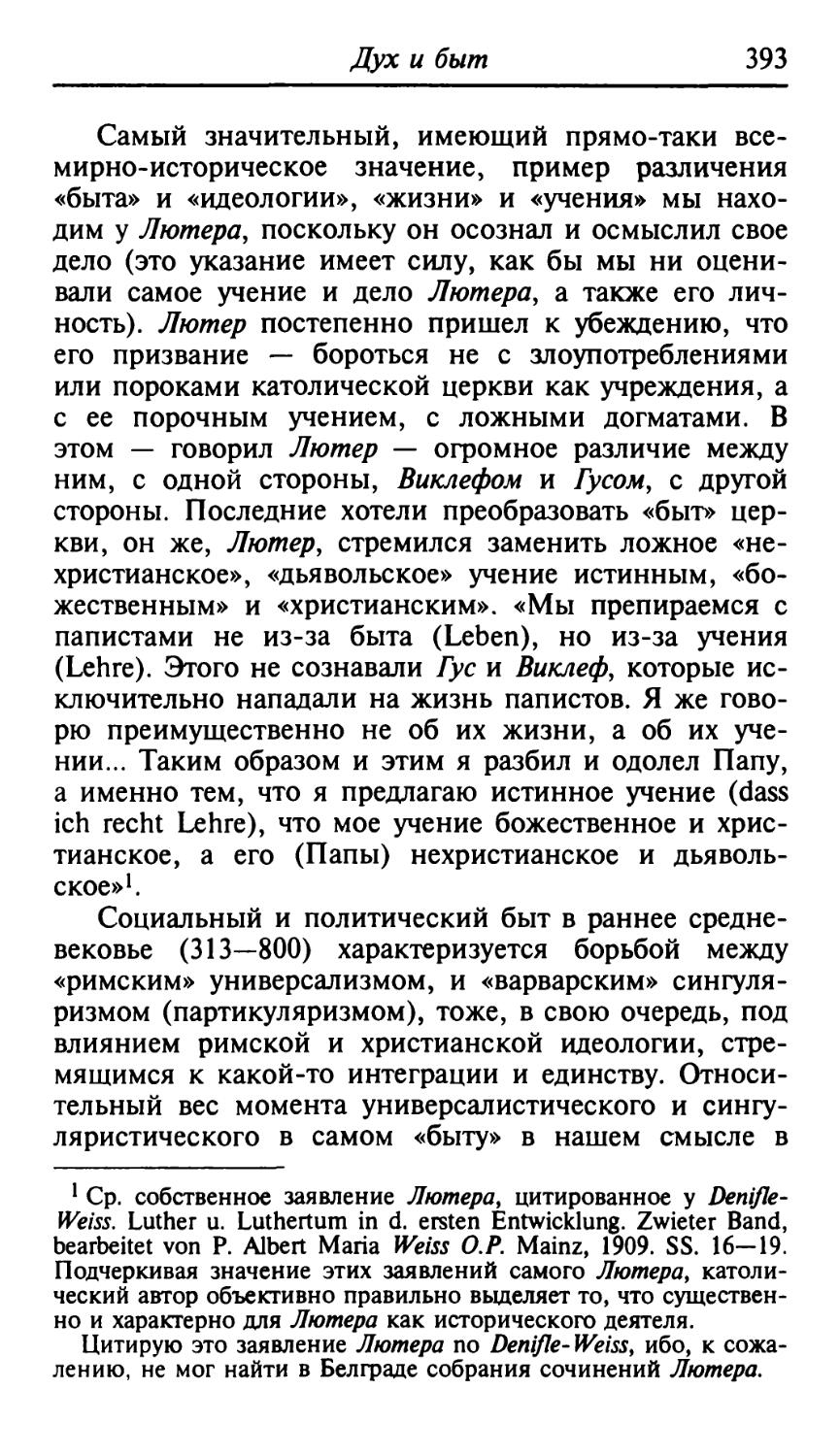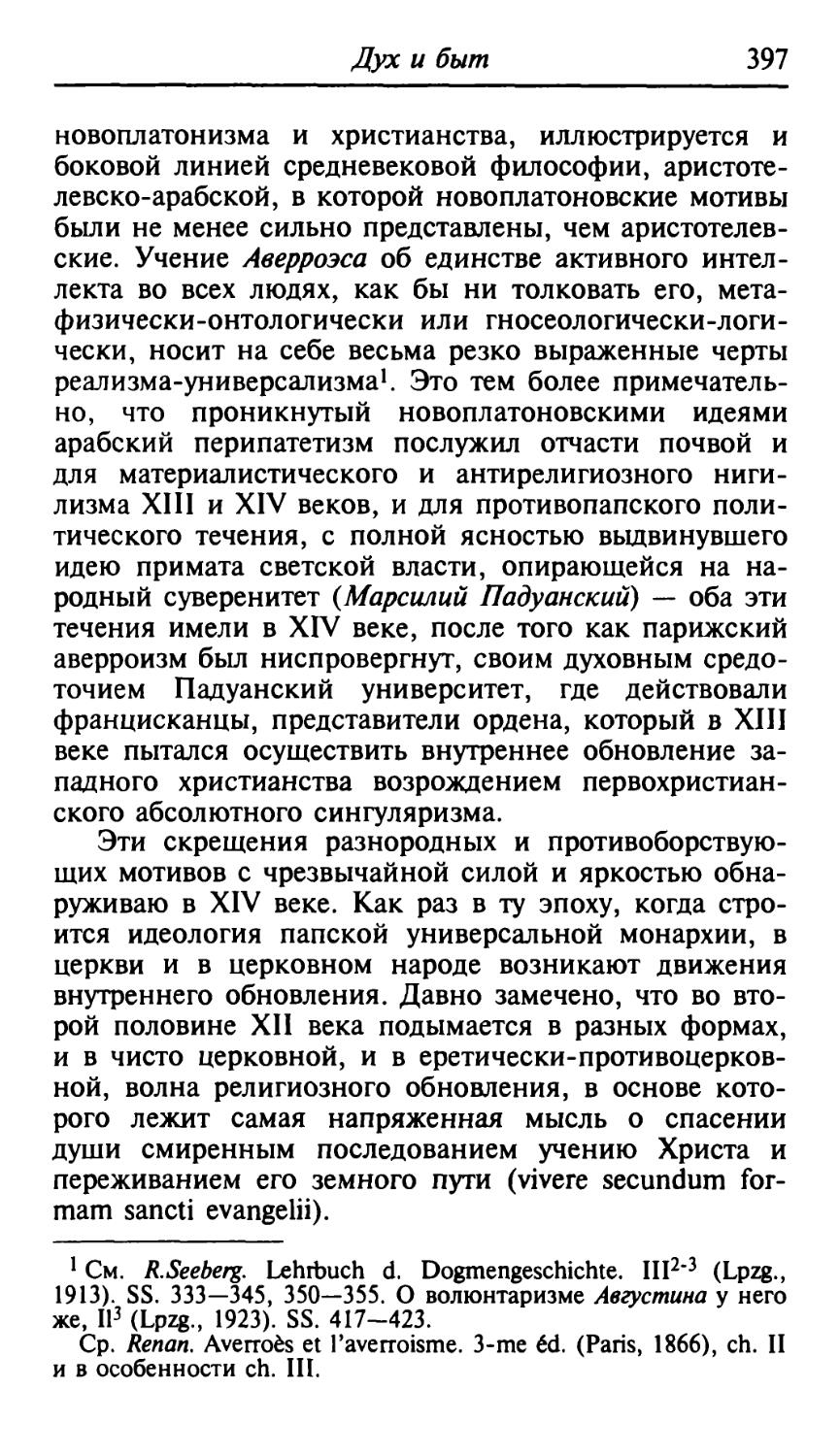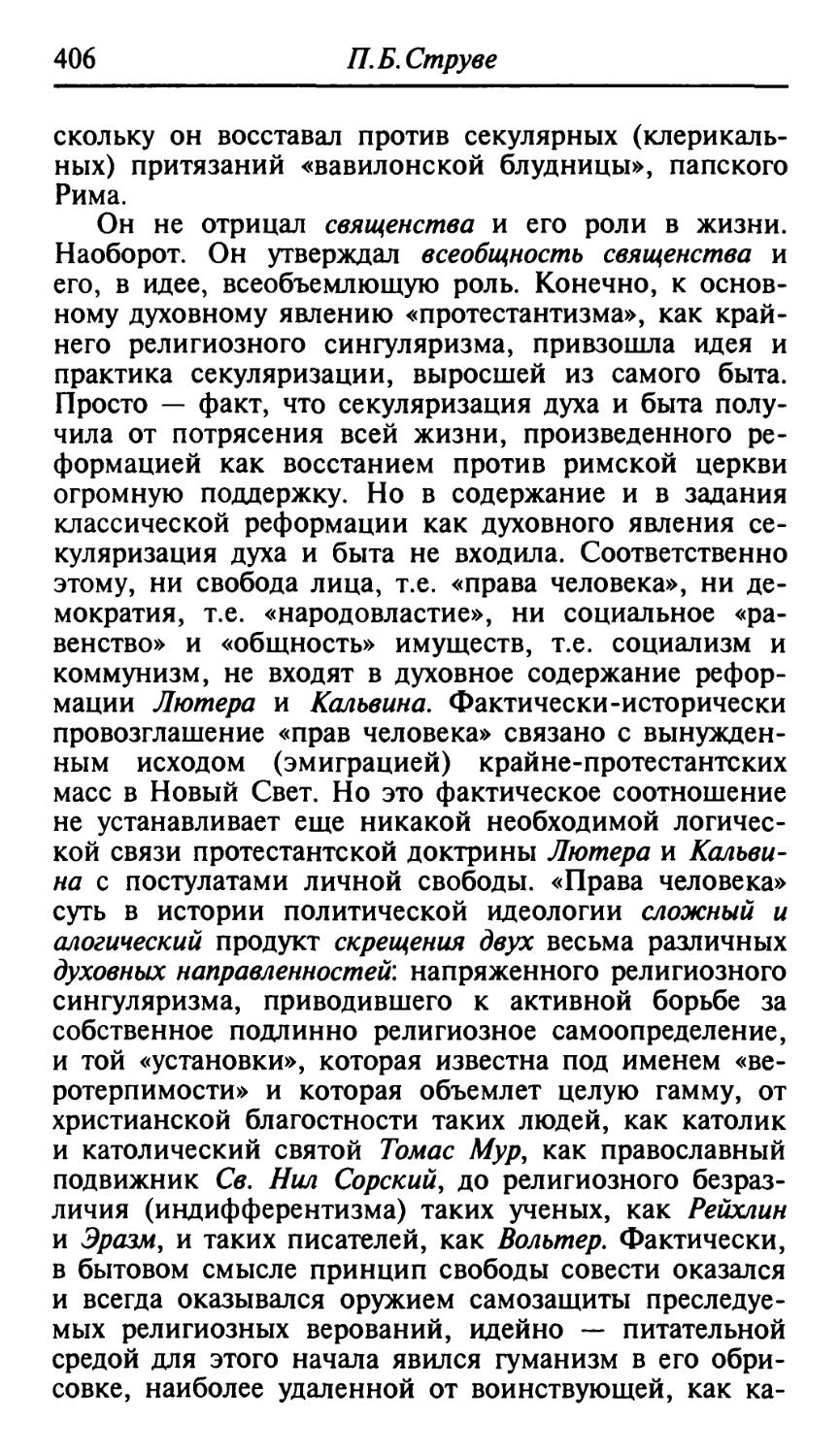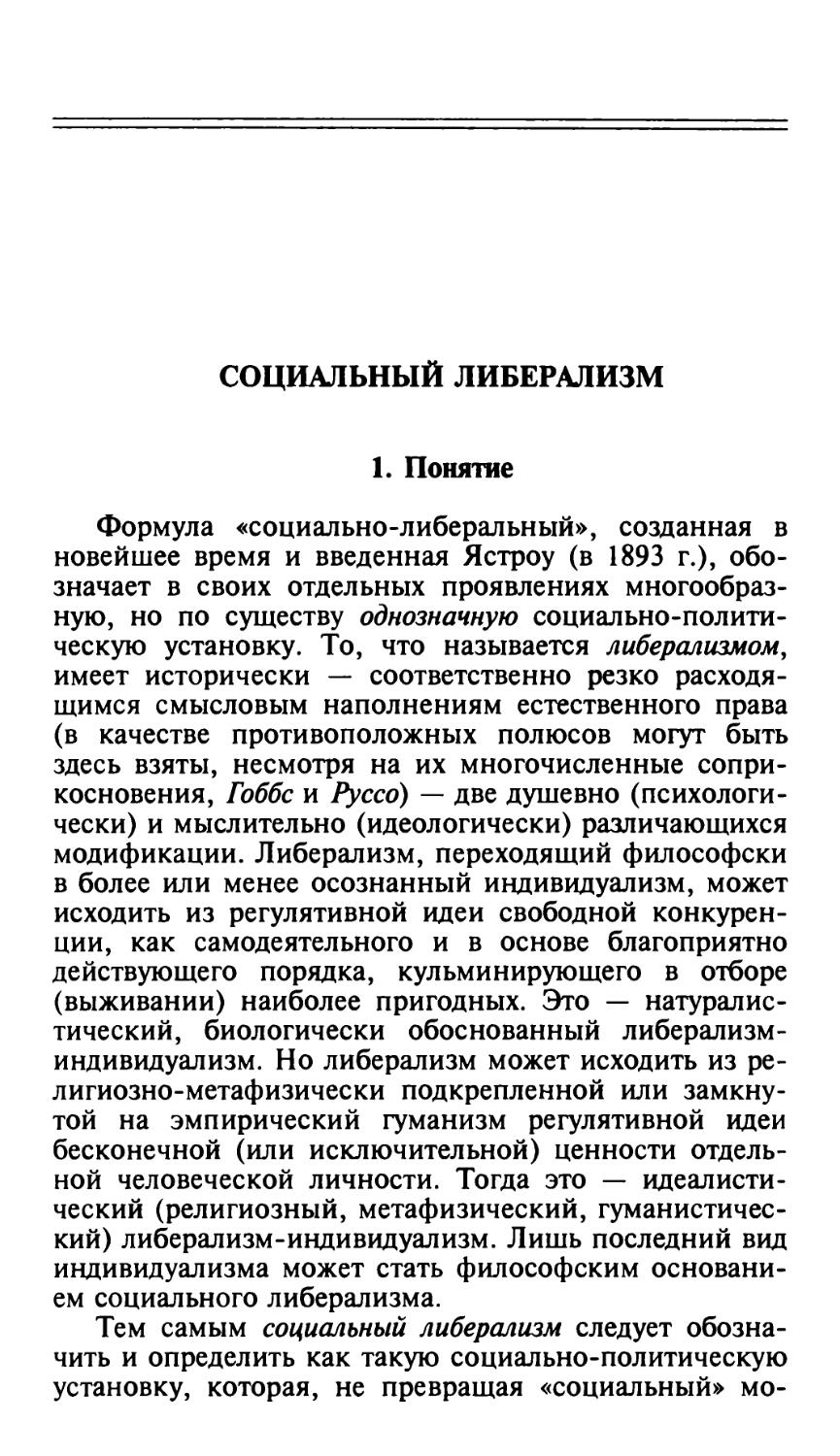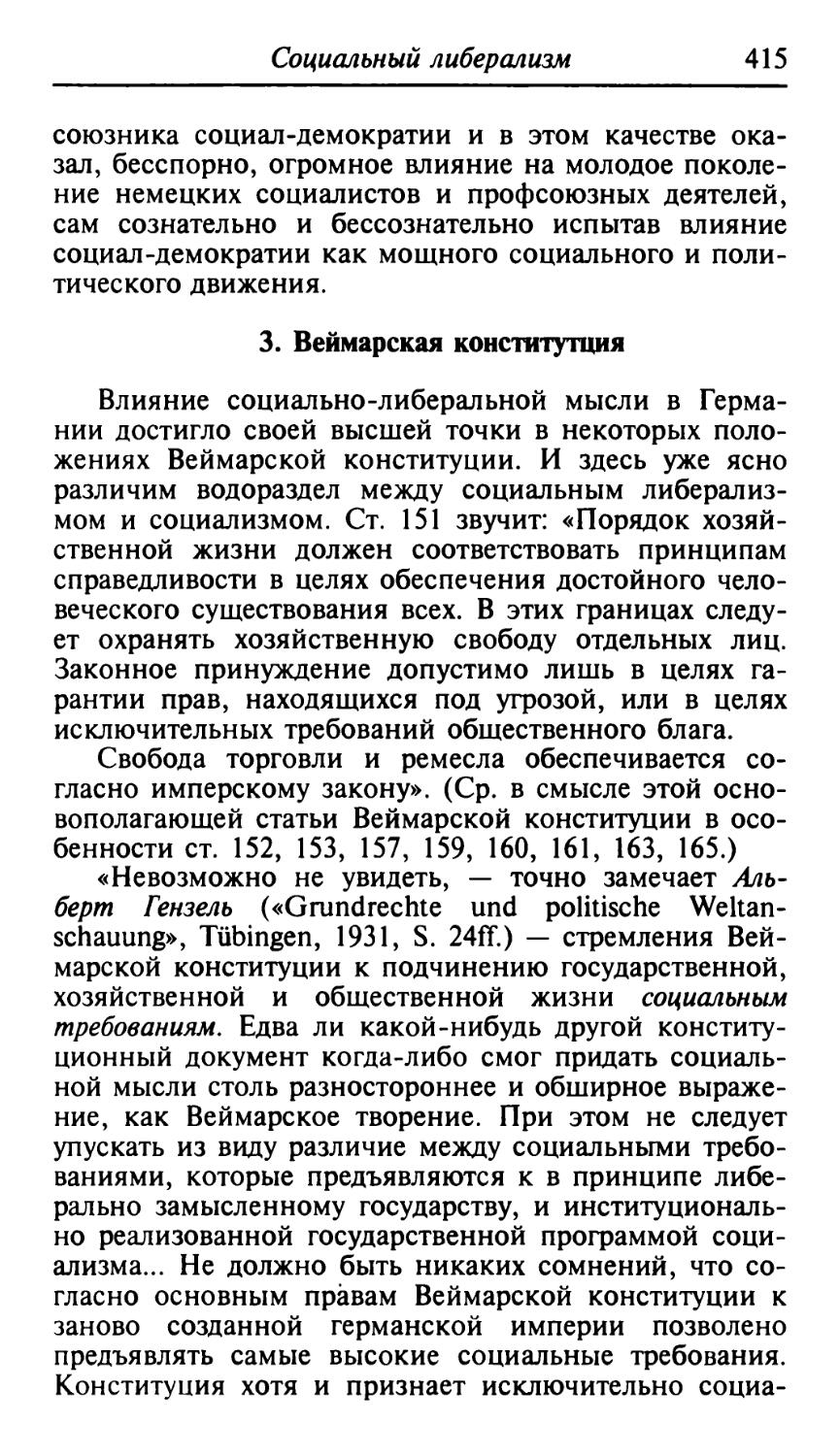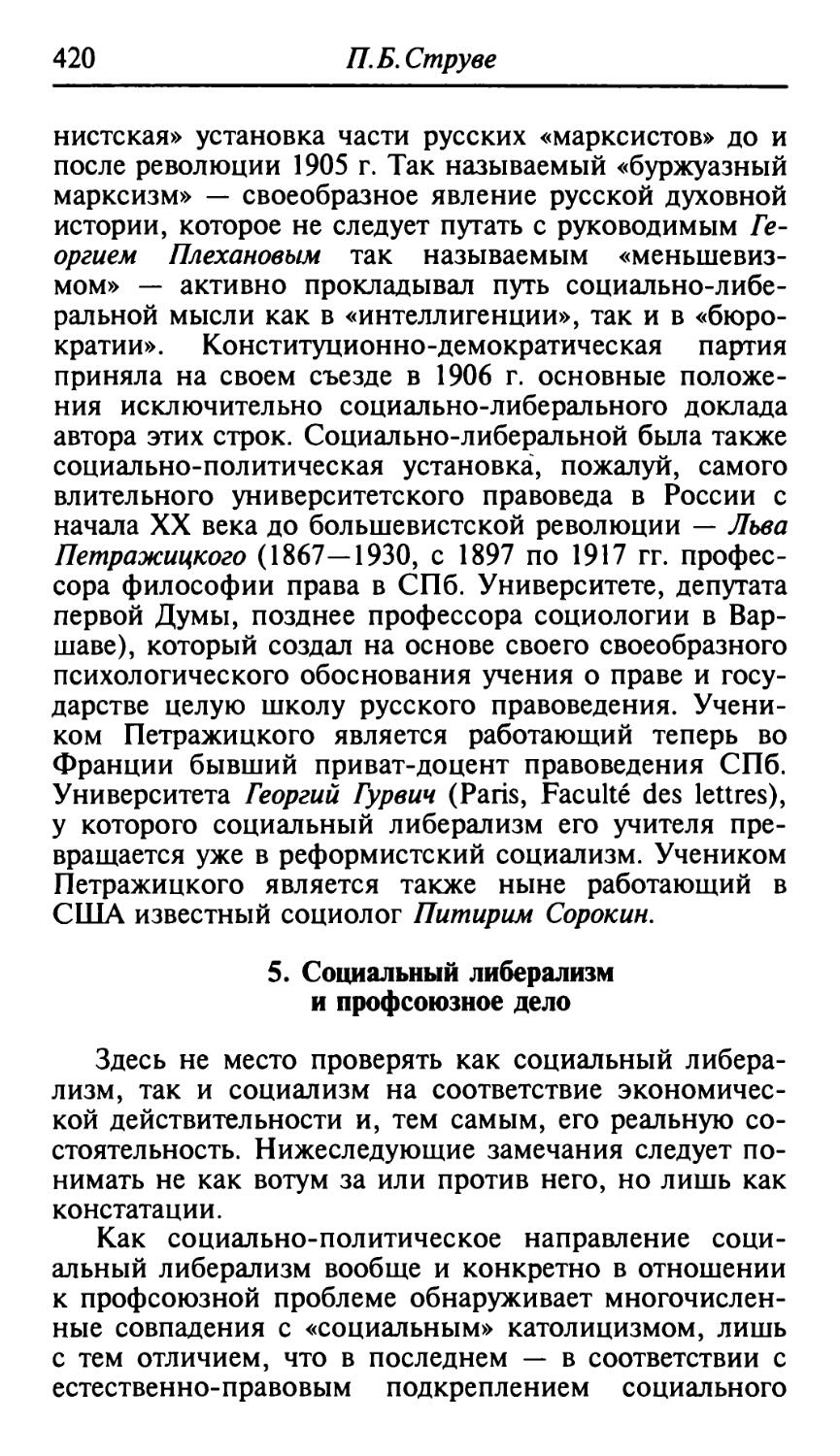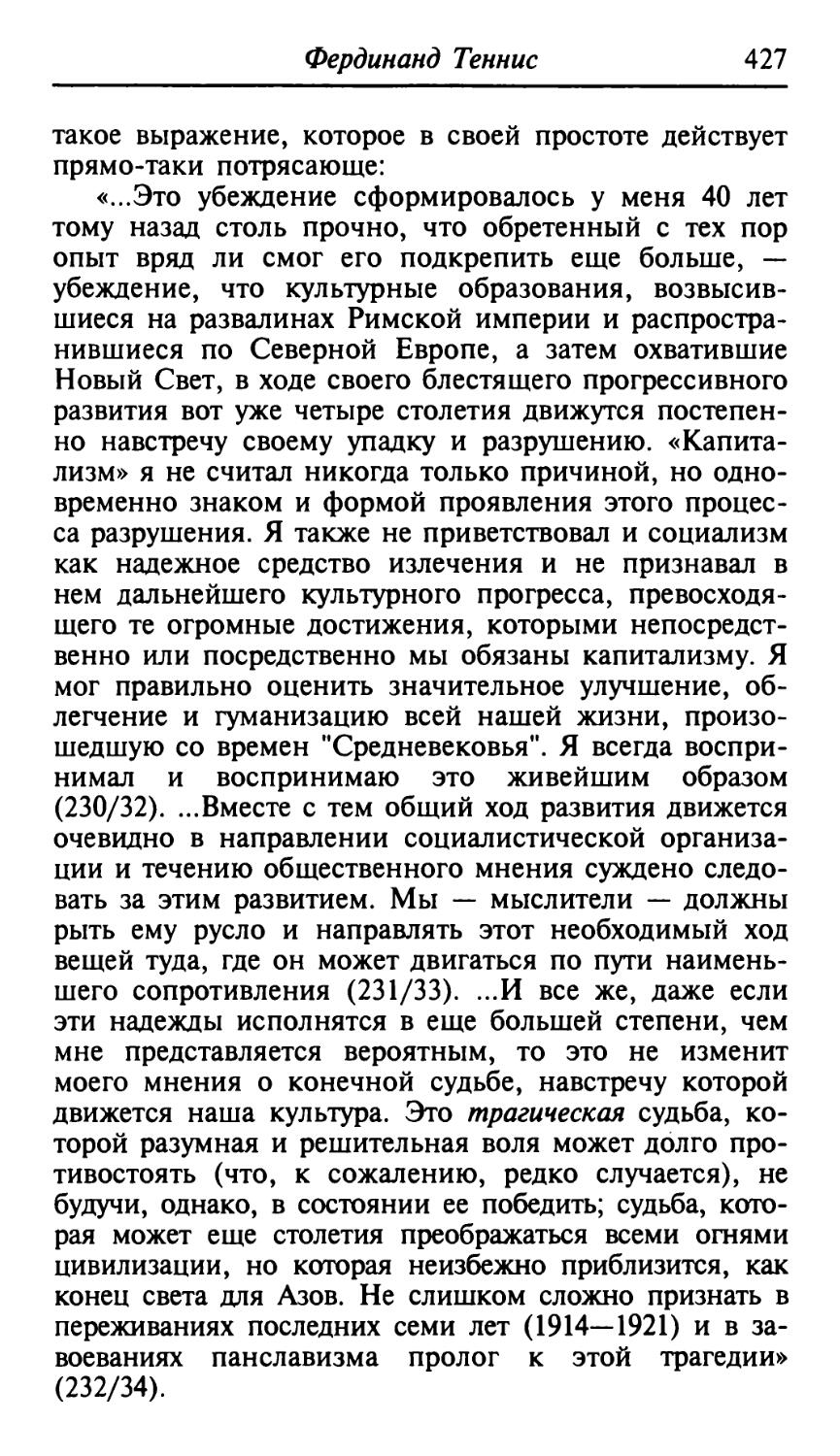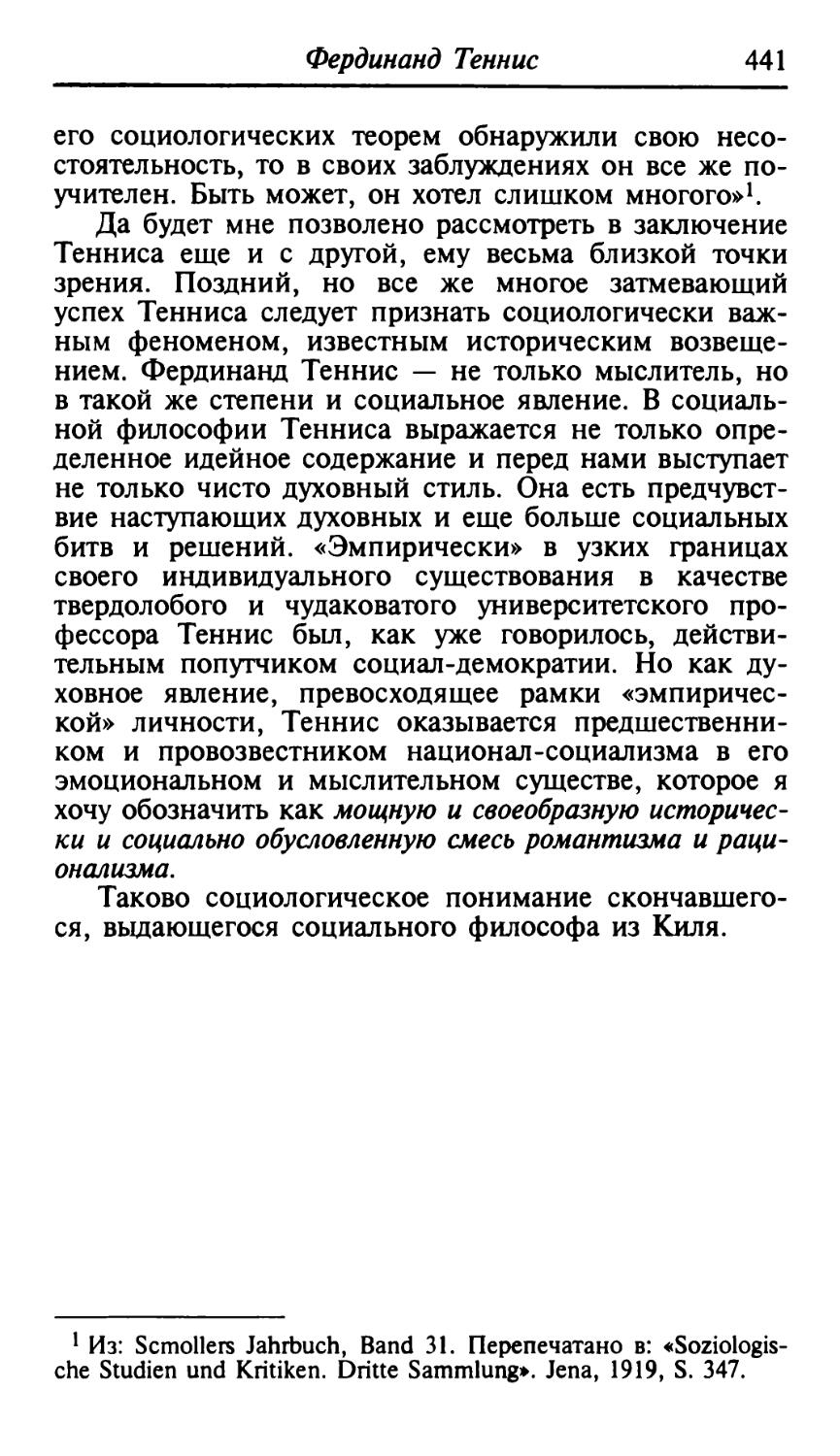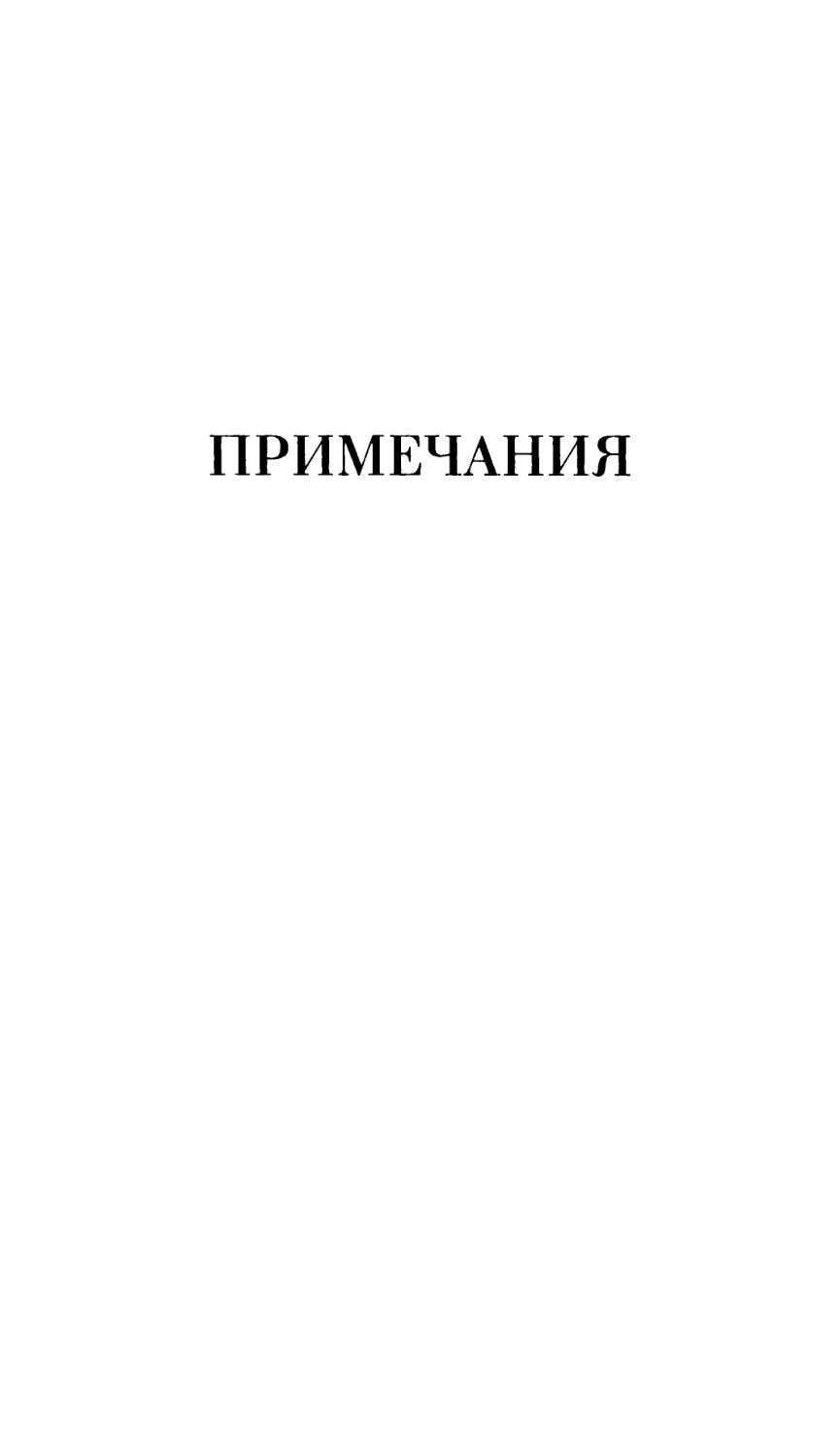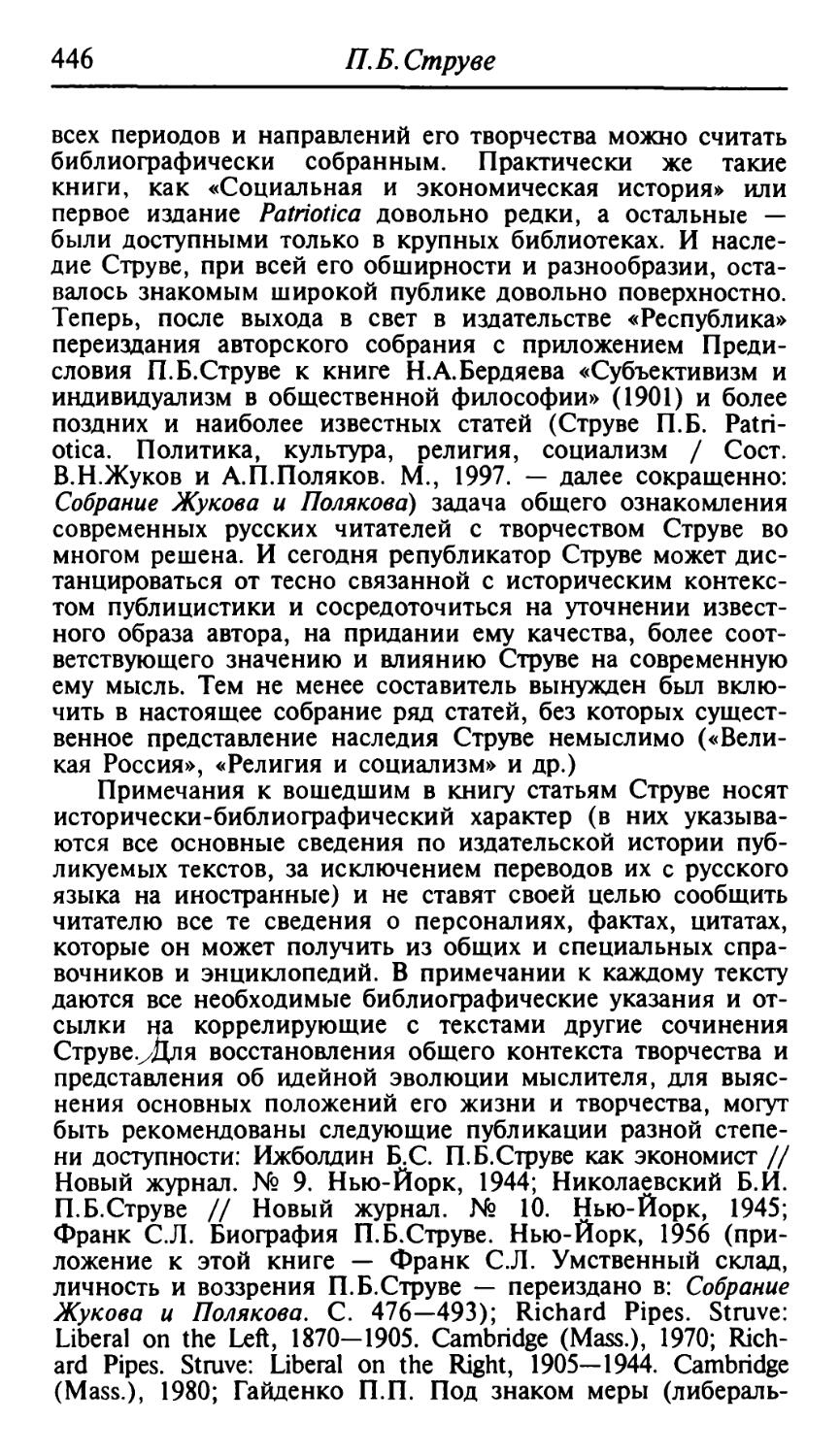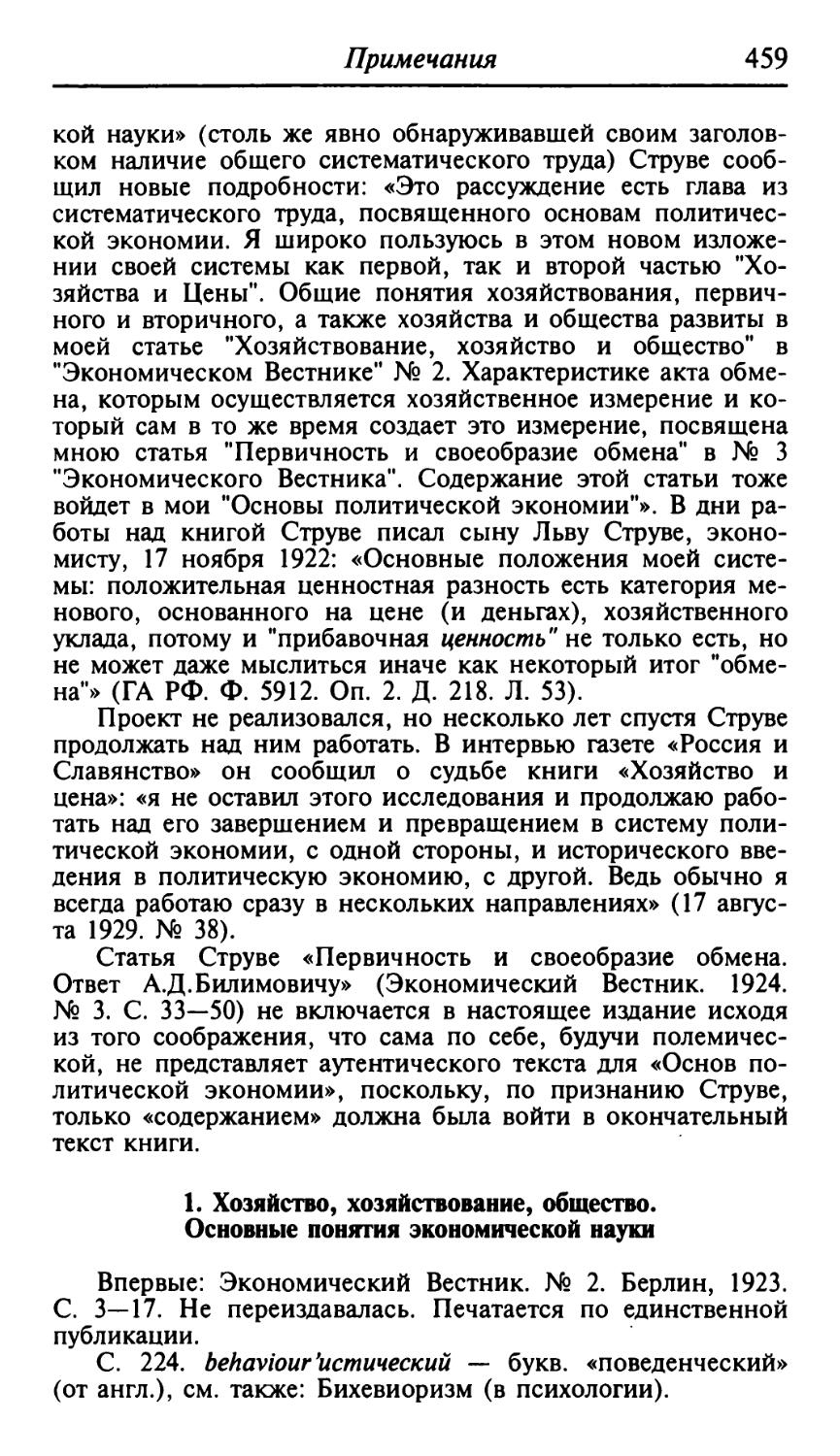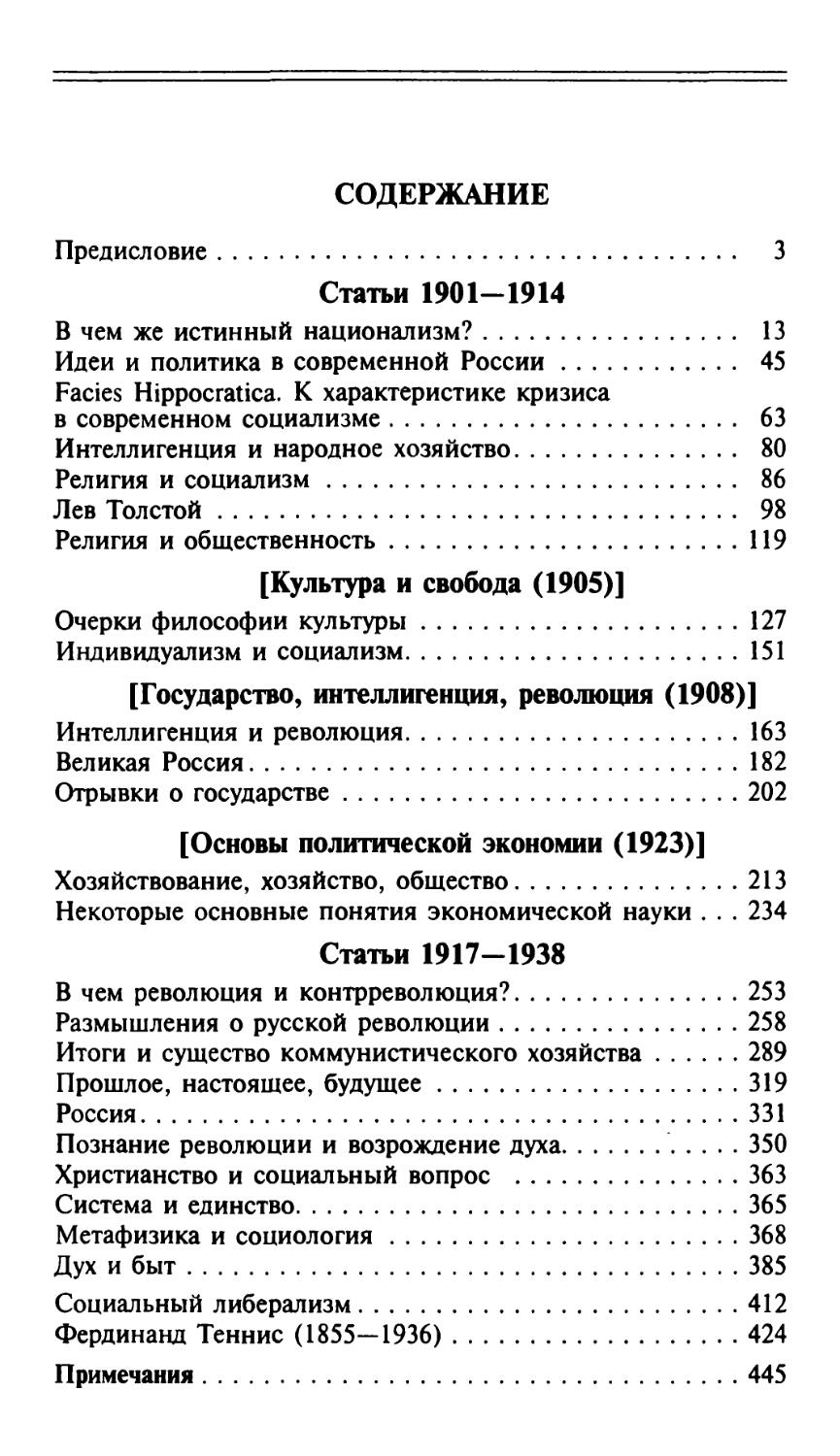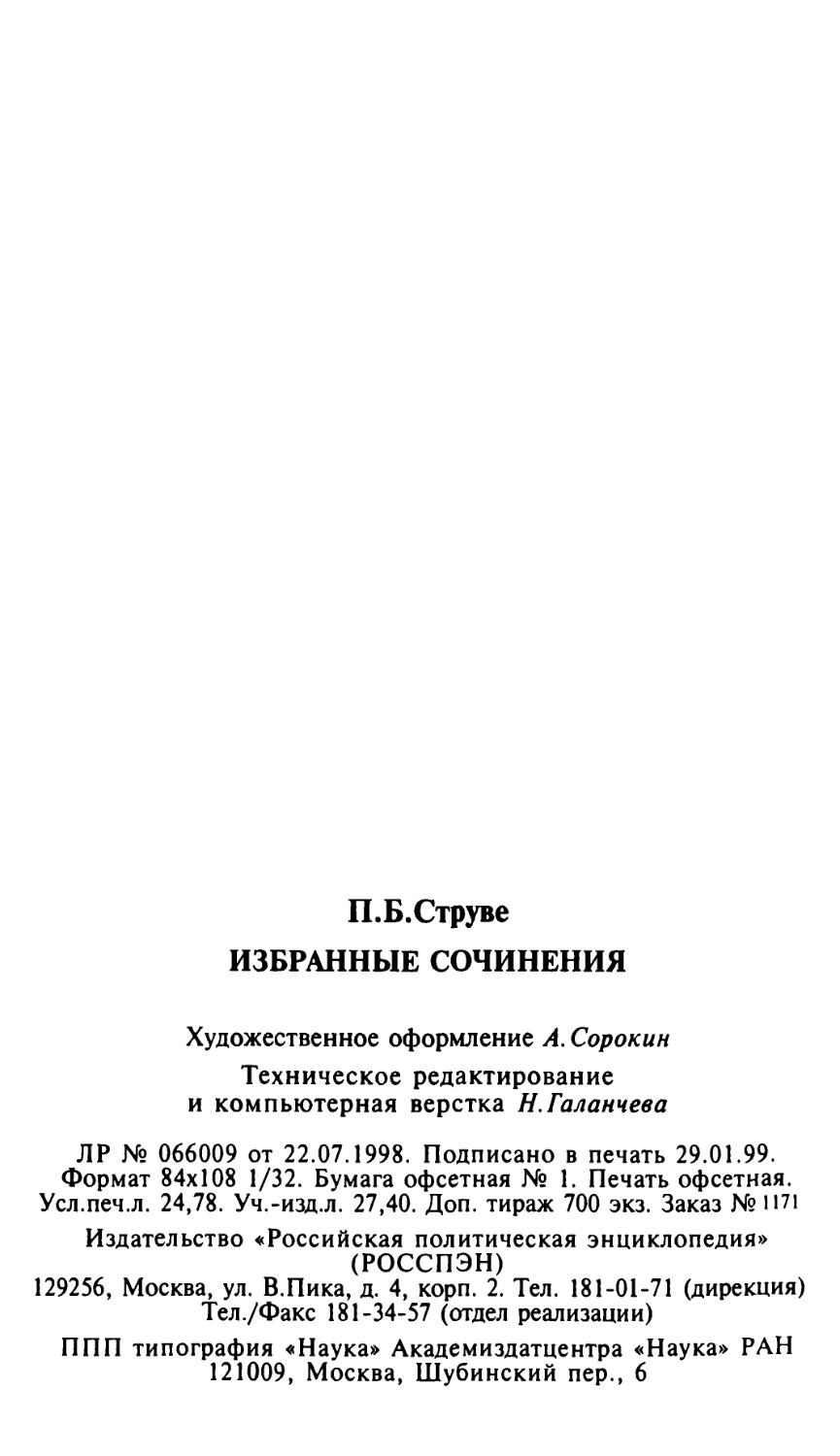Текст
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ*
П.Б.СТРУВЕ
ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ
Москва
РОССПЭН
1999
Составление и редакция
М.А.Колерова
Примечания
М.А.Колерова и Н.С.Плотникова
Подготовка текста
Е.В.Харитоновой и Н.В.Россиной
Струве П.Б.
С 87 Избранные сочинения. — М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. —
472 с.
В составе «Избранных сочинений» главы «критического
направления» в русском марксизме П.Б.Струве (1870—
1944) впервые в столь полном объеме и на строго научной
основе издаются работы, охватывающие почти весь его
творческий путь (с 1901 по 1938 год) и показывающие
развитие центральных идей мыслителя: необходимости
религиозного обоснования социального идеала, интеллигенции
и революции, «Великой России», «духовно-обоснованного
патриотизма». Кроме того, реконструированы три
невоплощенных замысла философа — книги «Культура и
свобода» (1905), «Государство, интеллигенция, революция»
(1908) и «Основы политической экономии» (1923).
Издание снабжено предисловием и научным комментарием.
ББК 87.3(2)6
© М.А.Колеров. Составление,
предисловие, примечания, 1999.
© Н.С.Плотников. Примечания, 1999.
© Московский философский фонд.
Составление серии, 1999.
© «Российская политическая энцик-
ISBN 5-86004-145-4 лопедия» (РОССПЭН), 1999.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Фигура известнейшего русского политика,
экономиста, историка и социолога Петра Бернгардовича Струве
(1870—1944) монолитна и противоречива в одно и то же
время. Последовательность и ясность идейного пути
этого человека хорошо укладывается в формулу,
примененную самим Струве к своей жизни: «свобода и
Россия», политическое и экономическое освобождение
страны во имя ее политической, экономической и
культурной мощи, «свобода лица и хозяйствования»,
укрепляемая сильной властью внутри страны и экономическим
империализмом вовне. Струве (и зависимая от его
самооценок историография и апологетика) избрал итогом
своей жизни утверждение принципов либерального
консерватизма (национал-либерализма) и шаг за шагом, от
книги к книге, от статьи к статье, подчинил этой
политической идее свои социологические, экономические и
религиозные взгляды. И обаяние этой авторской
«системы», проникающей все зрелое творчество Струве от
публицистически до литературоведческих штудий,
преодолеть очень трудно.
Но Струве не создал «системы». И вся железная
логика и последовательность принципов Струве в его
творчестве выявлена очень слабо и на деле всегда останется
результатом систематизирующих усилий исследователей
и интерпретаторов, буквально по фрагментам,
«археологически» восстанавливающих его мировоззрение. Стоит
ли говорить, что в этой своей идейной археологии
исследователи невольно следуют яркой и весьма жесткой
схеме авторского мифа, сжато обрисованного в ряде
полемических самооправдательных статей и поздних
мемуарных лакировочных заметок. Именно благодаря
авторскому мифу сложная идейная эволюция оказывается
задним числом подчинена некоей исходной интуиции, с
юных лет и до старости руководившей Струве. Себя и
свой труд он отнес к «традиции русской,
свободолюбивой и охранительной в одно и то же время,
государственной мысли от Карамзина и Пушкина до "Вех",
"Московского Еженедельника" братьев Трубецких и моих "Ра-
4
П.Б.Струве
triotica"...»1. Точно так же Струве сформулировал, а
крупнейший и авторитетнейший исследователь его жизни
Ричард Пайпс всем доступным материалом
проиллюстрировал ту простую мысль, что Петр Струве, прошедший
сложный путь от марксиста, ревизиониста, социалиста,
социал-либерала до националиста, либерал-консерватора
и почти монархиста, всего лишь последовательно (то
слева, то справа) выявлял обе грани своего изначального
кредо: либерализма и национализма. Автору этих строк
довелось первым опубликовать юношеский дневник
Струве, в котором он, четырнадцатилетний, называет
себя «национал-либералом, либералом почвы»2, — и тем
оказать решительную поддержку всем, кто хотел бы
утвердить непротиворечивость пути, тем, кто готов успокоиться
на построении статической и апологетической «системы»
Струве. Но возвращение зрелого человека к формуле, еще в
юности позаимствованной из наследия Ивана Аксакова, не
исключает жизненных зигзагов, непредсказуемости
идейного развития, глубокой неудачи общественного пути. Ведь
Струве так и не создал системы, а политический труд его и
идейная проповедь не принесли ему никакого внешнего
успеха, год за годом сокращая число и без того
немногочисленных сторонников. И для апологии нет оснований.
Триумфально дебютировав в качестве одного из
интеллектуальных вождей русского марксизма (с числом сторонников в
две-три тысячи рассеянных по стране социал-демократов) —
в двадцать четыре года, в двадцать девять Струве возглавил
ревизионистское «критическое направление» в марксизме,
быстро ставшее уделом избранной сотни интеллигентов. В
тридцать два, числя среди своих единомышленников не
больше десятка, Струве порвал с марксизмом и отдался
строительству недолговечного социалистического
«идеалистического направления» в освободительном движении, так
и не вышедшего за пределы кружка. В тридцать пять, в
1905-м, Струве выступил как либерал, тщетно пытавшийся
оторвать кадетов от генетической близости к социалистам, и
с тех пор, даже в своей, кадетской, партии оставался в
глухой оппозиции на правом фланге. В сорок семь, в 1917-м,
он безуспешно призывал к правому реваншу; в пятьдесят —
среди немногих интеллигентов проповедовал диктатуру
1 Петр Струве. Дневник политика. 211 (10) // Россия. Париж,
1927. № 6.
2 Колеров М.А., Плотников Н.С. Творческий путь П.Б.Струве //
Вопросы философии. 1992. № 12. С. 91.
Предисловие
5
Врангеля. А вся жизнь в эмиграции была полна
общественно-политических неудач: возобновленный журнал
«Русская Мысль» и юбилейный сборник в честь Струве
не нашли спроса, идейная полемика привела к разрыву с
некогда ближайшими учениками, НАБердяевым, СЛ.Фран-
ком, А.С.Изгоевым, П.Н.Савицким, попытки подчинить
свой либерализм монархической риторике и выстроить
единый фронт с правыми националистами увенчались
политическим одиночеством, заигрывания с идеологией
фашизма подвергли серьезному испытанию его
репутацию... Казалось бы, о каком творческом успехе может
свидетельствовать такая биографическая канва?
Но главным успехом для мыслителя следует считать
не процент полученных им голосов, а влияние. И по
влиянию на современников и то поколение русской
общественной мысли, что сформировалось в 1900—1920-е
годы, Струве может сравниться с Владимиром
Соловьевым. Разница только в том, что для многих Соловьев
был знаменем, а Струве — старшим союзником и
учителем. Пережитая им эволюция от марксизма к (чаще
правому, чем левому) либерализму стала столбовой дорогой
для значительной части русской интеллигенции,
динамика его мысли (а отнюдь не статическая «система»!) стала
одним из важнейших источников таких известных
идейных движений как «идеализм», «веховство», национал-
большевизм, евразийство. В каждом своем увлечении
Струве становился первым, идейным вождем. И в
каждый период своей жизни, сбрасывая кожу предыдущих
увлечений, идейный прецедент, на котором
воспитывались следующие поколения. Пожалуй, не было в 1890-е
годы в России книги, вызвавшей столь содержательные и
бурные споры, послужившей столь универсальным
руководством к самообразованию в области новейшей
западной социально-экономической и философской науки,
чем дебютные «Критические заметки к вопросу об
экономическом развитии России» Струве-марксиста.
Гимназист 1890-х, впоследствии заметный экономист,
вспоминал: «Для моего поколения... имя Струве ближе и дороже
имен Белинского и Герцена. Струве связал русскую
мысль с европейской мыслью, часто опережая
последнюю (вспомним хотя бы русский и немецкий
"ревизионизм")»1. В 1902—1905 таким же соединением манифеста
1 Лутохин Д. Публицист-академик (К юбилею Струве) // Руль.
Берлин, 1923. № 725.
6
П.Б.Струве
и учебника, имевшим не столько общественное, сколько
интеллектуальное влияние, служил инициированный
Струве сборник «Проблемы идеализма». В 1908—1916
столь же «провоцирующей» философские,
экономические, военно-политические построения стала статья
Струве «Великая Россия». О влиянии составленного, в
основном, союзниками Струве сборника «Вехи» (1909)
написана уже целая библиотека литературы, о влиянии
подготовленного им сборника «Из глубины» (1918) на мысль
1920-х годов еще предстоит рассказать... Неожиданным и
законным свидетельством не-политического (но не менее
глубокого), интеллектуального признания Струве стало
избрание его в 1917 году академиком Российской
академии наук — человека, фактически не окончившего курса
университета, занимавшегося наукой от случая к случаю,
почти «любительски», считанные годы после защиты им
магистерской диссертации, месяцы спустя после
формальной защиты докторской. Крупнейший русский
экономист и статистик А.А.Чупров так обрисовал научные
заслуги нового академика: «П.Б.Струве является одним
из выдающихся представителей современной
экономической науки. Перечень его ученых трудов
свидетельствует о том широком захвате, который обнаруживает его
научная деятельность. Внимание П.Б.Струве привлекают
и отвлеченные проблемы экономической теории и
конкретные вопросы истории хозяйственного быта: ряд его
работ посвящен выдвигавшимся жизнью задачам
хозяйственной политики. Кроме того, не ограничиваясь
областью специально экономического знания П.Б.Струве
уделял также силы выяснению общих начал социальной
науки. (...) Труды П.Б. характеризуются не только
глубиной философской культуры и самостоятельностью
творческой мысли, но также исчерпывающе обширной и
разносторонней эрудицией и неуклонным стремлением к
технической "чистоте" работы: П.Б. с равным увлечением
отдается и напряженным размышлениям на самые
общие темы в области своей специальности и тем кро-
потливо-"мелочным" изысканиям, пренебрежительное
отношение к которым так еще распространено, к
сожалению, в кругах наших ученых-обществоведов,
свидетельствуя о недостаточно строгой научной школе. (...)
Как исследователь исторического развития
хозяйственных отношений П.Б. ценен тем, что, приступая к
материалу во всеоружии экономических знаний, он умеет
объединить наблюдаемые факты в представляющие
интерес для экономиста категории и осветить экономической
Предисловие
7
теорией взаимную связь явлений и их историческое
преемство. (...) Но особенно крупный интерес это свойство
П.Б. как историка хозяйственного быта, сообщает его
исследованиям по истории крепостного хозяйства в
России. Как ни странно, но мы доселе не имеем стоящей на
высоте современной науки экономической истории
освобождение крестьян в России. (...) Удачно начатые
исследования П.Б. подавали надежду, что пробел будет,
наконец, достойно заполнен: к сожалению, переезд за
границу [в 1901 году] прервал работу П.Б. в этой области.
Заслуженной известностью не столько у нас, сколько
заграницей, пользуются труды П.Б. по истории
социалистических идей: в литературе, посвященной изучению
марксизма и его исторических корней, они занимают
видное место... По обнаруживаемому в них знакомству с
материалом П.Б. мало имеет себе равных даже в
Германии. (...) Я лично держусь во многом иных взглядов, но
объективное научное значение теоретических
исследований П.Б.Струве не может подлежать сомнению: в ту
работу, которая ныне ведется над смыком экономической
теории с хозяйственной действительностью, они навсегда
войдут интегральной частью, независимо от того, в
какой мере удержатся в науке те или иные положения,
установленные автором. Оригинальность подхода к
проблеме. Широта философского обоснования, внутренняя
насыщенность фактическим материалом, своеобразно
переработанным, и, наконец, богатство историко-догма-
тическими — порой весьма неожиданными —
сближениями будят мысль и сообщают теоретическим трудам
П.Б.Струве непререкаемую ценность»1. Этот отклик
может служить настоящей апологией гигантской работы
самообразования и научной «самодеятельности»,
оставшейся в тени еще более гигантской общественной и
политической деятельности Струве. Но, помимо этого,
А.А.Чупров невольно обратил внимание на одно
принципиальнейшее — и также оставшееся в тени —
обстоятельство, которое требует разъяснения.
Дело в том, что все без исключения основные свои
научные идеи Струве высказал и наметил в короткий
промежуток времени до 1901 года, когда он отправился в
политическую эмиграцию и надолго полностью отдался
1 Чупров A.A. Рекомендация П.Б.Струве в кандидаты на
замещение кафедры политической экономии АН (Черновик, 1917) //
ОРиРК НБ МГУ. Ф. 14. К. 30. Ед. хр. 8. Л. 1-8.
8
П.Б.Струве
чистой политической практике. Сжатую формулу
истории и сущности крепостного хозяйства, формулу
системы и единства в применении к политической экономии,
формулу «либерального консерватизма» в применении к
истории русской политической мысли, развернутую
программу философского идеализма в предисловии к книге
Бердяева о Михайловском, — все это, послужившее
ядром для детализации, цитирования, развития для
целого поколения и него самого, Струве выработал и
опубликовал почти одномоментно, в течение 1899—1900 годов,
вполне молодым еще человеком. Лишь много позже, в
1930-е годы, когда Струве оказался на глубокой
периферии политической жизни, настало время настоящего и
феноменального расцвета его разнообразнейшей научной
работы. В белградском Русском научном институте не
проходило месяца, чтобы Струве не выступал с
несколькими исследовательскими докладами по ряду
совершенно различных дисциплин, от истории античной
философии до истории русского языка, от экономической
теории до философии права. Тогда, без политики, Струве
смог наконец сосредоточиться на формальном
достраивании системы своих исторических, экономических и
философских взглядов в книгах:
«Социально-экономической история России с древнейших времен до нашего
в связи с развитием русской культуры и ростом
российской государственности» (не окончена, опубликована в
1952), «Система критической философии» (рукопись
погибла в 1941), «Хозяйство и цена» (не окончена).
Именно это обстоятельство более всего позволяет нам
предполагать, что некоторая научно-философская «система»
была имманентна миросозерцанию Струве — и
исследовать, и по результатам «археологического» исследования
воссоздавать эту систему. И стараться определить, какие
тексты в большей степени отвечают исследовательскому,
критическому образу этой (а не
риторически-апологетической) системы. Будем надеяться, что собранные в этой
книге сочинения Струве относятся к этому разряду.
Если же, в заключение, отвлечься от
«археологической критики» и очертить основные интуиции Струве, то
мы невольно возвратимся к его широко известной
риторике. Конечно, всю жизнь его более занимали лишь
несколько вещей: культура, свобода личности и личная
ответственность, социализм и марксизм, автономные
основы хозяйства и «космическое» единство общества,
государственная мощь, нация, внецерковная (позже —
церковная) религиозность. Из имен — Герцен, Толстой,
Предисловие
9
Пушкин (меньше — Достоевский), Михайловский, Иван
Аксаков, среди исторических фигур Петр Великий и
Столыпин. Но верность избранным темам вовсе не
привела Струве к интеллектуальной монотонности. Каждый
раз, обращаясь к одной из названных тем, Струве
подчеркнуто (и не без самолюбвания) рассказывал о себе и
своем переживании проблемы, своем участии в процессе.
Словно торопясь (и действительно торопясь и отвлекаясь
на политическую злобу дня) рассказать все, что он хотел
бы отметить в проблеме, Струве часто исследование
превращал в конспект, план исследования, даря
окружающим роскошные возможности к его реализации.
Свободно выставляя оценки «великим» и без стеснения
помещая современников, себя самого и своих оппонентов в
иерархический контекст и традицию, Струве всегда
мыслил в историческом масштабе. И тем историческим
масштабом, который структурирует сегодня наши знания,
мы во многом обязаны Струве. Струве смело и критично
включал русскую мысль в контекст западной, в сеть
заимствований и переплетений, начиная со
славянофильства. Это, конечно, было возможно не в последнюю
очередь из-за его глубокой и обширной эрудиции во многих
областях знания, от зоологии и математики, до всеобщей
истории и языкознания, и диктуемой этим широким
знанием научной добросовестности. Как
свидетельствовал современник, «печатные труды Струве никогда не
дадут верного представления об его огромной эрудиции
и творческом горении, которые ценились его
собеседниками и делали личное общение с ним столь
поучительным даже для ученых, не разделявших его научные или
политические взгляды»1.
Начав это предисловие с констатации того, что
наследие Струве подверглось (не без его участия) серьезной
апологетической схематизации, мне хочется закончить
противопоставлением этой апологетике мнения одного
из преданнейших учеников Струве: «П.Б.Струве нельзя
сокращенно излагать. Основное свойство его
гениальности заключается в сочетании логической мощи со
способностью живого видения действительности, или, другими
словами, в сочетании силы отвлеченной мысли с даром
конкретно-исторической интуиции. Этим определяется и
манера письма П.Б.Струве: нагромождение логически
1 Ижболдин Б.С. П.Б.Струве как экономист // Новый журнал.
№ 9. Нью-Йорк, 1944. С. 357.
10
П.Б.Струве
между собою связанных и эстетически одно другое
заменяющих и развивающих лапидарных определений, из
которых каждое есть законченная "теория", даваемая
мыслителем, и, вместе с тем, сжатое описание жизненных
явлений, схваченных художественным оком
наблюдателя-историка. Определение-образ — вот адекватное строю
мыслей и чувств П.Б.Струве их выражение. Поэтому
Струве и нельзя излагать, а можно лишь (сочувственно
или несочувственно) воспроизводить, комментировать и
развивать его формулы-образы»1. Если понимать под
адекватным «воспроизведением» Струве критическое
исследование его аутентического наследия, то еще одним
шагом на этом пути позволительно считать издание
настоящего сборника сочинений.
Модест Колеров
1 Зайцев К.И. О Витте, Столыпине и Николае II (по поводу
очерка П.Б.Струве «Витте и Столыпин») // Россия и
Славянство. Прага, 1931. № 128.
СТАТЬИ 1901-1914
В ЧЕМ ЖЕ ИСТИННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ?
Посвящается памяти Влад. Серг. Соловьева
«Cultur heisst Uebung aller Kräfte auf den Zweck
der völlingen Freiheit, der völlingen Unabhängigkeit
von allem, was nicht wir selbst, unser reines Selbst ist...
Niemand wird kultivirt, sondern jeder hat sich selbst zu
kultivirt. Alles los leidende Verhalten ist das gerade
Gegentheil der Cultur; Bildung geschieht durch
Selbstthätigkeit, und zweckt auf Selbstthätigkeit ab.
Kein Plan der Cultur kann also so angelegt werden, dass
seine Erreichung nothwendig sei; er wirkt auf
Freiheit und hängt vom Gebrauche der Freiheit ab».
Fichte.
I
Вопрос, составляющий заголовок этой статьи,
может быть, покажется многим и праздным, и
фальшиво поставленным. Национализм — это
национальный эгоизм и национальное самообожание, это явное
«зло», и дело с концом. Истинного национализма
быть не может, скажут одни; понятие и национальном
благе субъективно, и истинных национализмов
столько, сколько голов, пекущихся об этом благе, возразят
другие; третьи сошлются на существующие формы
национального бытия, считая всякие рассуждения об их
достоинствах, всякую критику этих «основ»
неуместной и даже зловредной.
Мы не согласны ни с одним из этих «отводов»
нашего вопроса. Последний «отвод», рекомендуя
нерассуждение, очевидно, должен быть a limine отвергнут
философствующим умом, но и первые два не могут
быть признаны имеющими силу.
Душу живу, глубочайшую основу всякого
«национализма», составляет неоспоримое, всякому
известное, могущественное чувство любви к своей родине и
своему народу. «У них и у нас, — писал Герцен о
славянофилах и о себе с друзьями, — с ранних лет
залегло одно сильное, безотчетное, физиологическое,
страстное чувство, которое они принимали за воспомина-
14
П.Б.Струве
ние, а мы за пророчество, — чувство безграничной,
охватывающей все существование любви к русскому
народу, к русскому быту, к русскому складу ума». Да,
эта любовь к родине присутствует в душе всякого
искреннего, живо и глубоко чувствующего человека, и в
самых дурных выражениях так называемого
национализма она образует затемненную и искаженную, но
неоспоримую и живую его «физиологическую» основу.
Чувствуя и признавая бытие этой основы как нечто
не только данное, но и законное, из нашего
человеческого существа вытекающее, мы должны, осознав и
очистив ее живой источник от всяких скверных
примесей, дать ему достойное духовное или идейное
выражение. Это и значит ответить на вопрос: в чем
истинный национализм?
Но предмет этой любви — предмет национализма,
говорят нам, понимается и определяется каждым
различно, и национализм может быть только
субъективным. Истина тут недоступна или, вернее, невозможна.
Это возражение противоречит только что
установленному нами факту единства и несомненной живой
(«физиологической», по материалистическому
выражению Герцена) основы национализма, одинаковой
для всех, над всеми равно властвующей. Все такие
глубочайшие и державные для души человека чувства,
как и все наиболее общие и святые идеи, конечные
или верховные цели, неоспоримы и объективны. При
всем субъективизме сменяющихся содержаний, сквозь
эту смену развивается и отверждается чистая идея-
форма. Оспаривать объективность таких идей-форм,
значит отрицать психологический фактор, значит не
признавать коренных встающих пред человеческим
духом проблем. Лучшим примером таких идей-форм
является идея Бога, или религиозная идея.
Содержание, прикрепляющееся исторически к этой идее,
может быть различно и многообразно, оно вечно
творится и разрушается. Но в этом историческом
процессе постепенно для человеческого сознания
кристаллизуется чистая, формальная, неоспоримая и
объективная идея религии и отвечающее этой идее душевное
состояние истинной религиозности. Так же обстоит
дело с национальным духом. Путем строгой и точной
работы логического мышления мы можем выделить
В чем же истинный национализм? 15
чистую и объективную форму этой идеи и развить из
нее, в качестве необходимого и неоспоримого вывода,
понятие истинного национализма как строгого,
сознательного и в то же время одушевленного служения
национальному духу.
II
Мы живо любим родину и наш народ. Мы не
знаем и не хотим знать, почему и зачем, мы любим
без цели, мы отдаемся этому то спокойному, то
жгучему и бурному чувству без всякой задней мысли, как
о том с неподражаемой силой и искренностью
поведал великий поэт в своем чудесном стихотворении.
Но мы чувствуем и знаем, как мы любим это дорогое
нам, живое и в то же время несравнимое и
несоизмеримое ни с чем живым существо. Мы любим родину,
как дитя любит мать. Прекрасное сравнение! Оно у
всех на устах, всем сродни. Но родина нам не только
мать. Она в такой же мере — наше дитя. Мы в
сознательной и бессознательной жизни, духовно и
материально, одно поколение за другим, творим и растим
нашу родину. Своей кровью и мышцами мы питаем
ее тело, своими стремлениями и помыслами мы напо-
яем ее душу. Мы творим ее живую и вечно
меняющуюся ткань. В разной мере, но все без исключения,
мы повинны этой творческой работе. Все это не
пустая игра слов и не мистические бредни. В нашем
отношении к родине сливаются две стихии —
созидающая и дающая, охраняющая и воспринимающая,
пророчество и воспоминание.
Мать-дитя! В этом символе разгадка мучительно-
искренних споров о том, что любить в родине:
действительность настоящего дня или мечту о завтрашнем,
спокойствие существующего или бурю и натиск
идущего ему на смену будущего. Мать держит нас в
руках, дает нам приказания, дитя слушает нас и во
всяком случае, хочет оно того или не хочет, живет
или растет под нашим влиянием. Как же любить это
двойственное и в то же время единое существо? Как
удовлетворить и мать, и дитя? Как примирить
«воспоминание» и «пророчество»? Как? Это все тот же
вопрос: в чем же истинный национализм?
16
П.Б.Струве
III
Сравнениями и символами такие вопросы не
разрешаются.
В конце XVIII и начале XIX века в умах
вырабатывалась и зрела идея «национального духа». В этой
идее отвердилось и ранее смутно бродившее, но к
тому времени уже значительно окрепшее
национальное чувство и самочувствие европейских народов.
Только два из крупных народов Европы тогда же
воплотили это чувство в больших и действительно
национально-политических делах. Французская революция
была всецело проникнута национальным духов, была
его подлинным делом, сознательно и открыто
провозглашенным как таковое. Когда это дело, сочетавшись
с традициями абсолютной монархии и создав таким
образом якобинскую практику внешней и внутренней
политики, привело Францию к вооруженной борьбе
почти со всей Европой, — против нее поднялась вся
Англия. Антиякобинская реакция в Англии была
глубоко народным движением, и носителем этого
движения несомненно было то же подлинное национальное
чувство. Эти исторические примеры показывают,
какое различное содержание может облекаться в
одежду национального духа, способную украсить
всякое достаточно сильное направление умов. Это —
факт. Факт и то, что могучее психическое явление
национального самочувствия, находящее себе простую
формулу и форму в ясной, по-видимому, идее
национального духа, почти всегда искажает и затемняет
свою идею-форму, вытесняя ее из сознания ее же
преходящим историческим содержанием. Формальная
идея национального духа выражает бесконечный — с
точки зрения отдельный личностей и поколений —
процесс, содержание которого постоянно течет, в
котором «сегодня» всегда спорит со «вчера» и «завтра», в
котором все, как бы оно ни строилось основательно,
столь же основательно разрушается и перестраивается.
Нет никакого определенного психического
содержания, которое могло бы заявлять и поддерживать
претензию на монопольное обладание формою
национального духа. Сегодня ты, завтра я — так может
сказать одно содержание, течение, направление другому.
В чем же истинный национализм? 17
Коллективный дух стихийным процессом одно
отберет, другое отбросит и так далее, до бесконечности.
Никакая мысль, никакая форма — государственная
или общественная — не может быть неприкосновенна
перед этим могущественным сверхиндивидуальным,
или соборным творчеством, за исключением тех
условий, которые обеспечивают свободный ход и
богатство великого творческого процесса. К познанию
национального духа можно — mutatis mutandis —
применить слова Фауста о вере в Бога:
«Wer darf ihn nennen!
Und wer bekennen:
Ich glaub' ihn.
Wer empfinden und sich unterwinden
Zu sagen: ich glaub' ihn nicht».
Или как сказал великий историк-мыслитель:
«Toute proposition, appliquée à Dieu, est impertinente, une
seule exceptée: il est».
Между тем нашлись люди — и они-то и называют
себя истинными националистами, — которые уверили
себя и других, что им удалось узреть национальный
дух и снять с него даже не одну фотографию в разных
позах: религиозной, государственной, общественной.
Эти изображения они предлагают всем и каждому, по
ним они желают лепить (или коверкать?) живое лицо
народа. На кого похож русский национальный дух: на
Салтыкова или на Каткова, на митрополита Филарета
или на Льва Толстого? Наши националисты решают
очень просто этот вопрос: они начиняют
национальный дух своими идеями и приглашают нас
поклониться и преклониться перед этим их собственным
духом, их же указом возведенным в ранг
«национального». И сделав это, они посылают в соответствующее
место ходатайство об отдаче всех реальных
проявлений духовно-общественного творчества нации под
надзор полиции.
В 1863 г., в разгар польского восстания, Катков
поместил в «Русском Вестнике» блестящую,
написанную энергичным стилем статью по поводу «Рокового
вопроса», известной славянофильской статьи
Страхова, навлекшей запрещение на журнал «Время».
Страхов проводил в своей статье мысль, что в основе
польского восстания лежит борьба между западной,
18
П.Б.Струве
европейской и восточной, русской цивилизацией и
что поэтому значение польского восстания как
исторического факта гораздо шире и глубже, чем это
представляется большинству наших патриотов.
Обрушиваясь на эту точку зрения, Катков высмеивает
славянофильскую «метафизику» и ее представителей, с
«трансцендентальной напряженностью»
отыскивающих «народные начала», и предлагает им отказаться
от этих мечтательных исканий и стать на почву
действительности. Статья Каткова — классический
манифест государственного позитивизма, обращенный
против славянофильства. В этой статье чувствуется
уже вся позднейшая эволюция Каткова, чувствуется,
что его государственный позитивизм с
русско-польских отношений обратится и на основные вопросы
внутренней жизни и все их осветит холодным
казенным светом доктрины властной руки. В защите
европейской цивилизации против славянофильского
отрицания слышится позднейшая полицейско-утилитарная
точка зрения на нее. Между прочим Катков
выставляет против славянофильства такое положение: «Мы
имеем все элементы великой, могущественной,
столько же всемирной, сколько и народной цивилизации:
но мы найдем эти элементы и воспользуемся ими
только, когда перестанем искать их». В этих словах, в
краткой выразительной формуле, как бы собран весь
основной смысл государственного позитивизма: не
искать! Высказываясь так, Катков в 1863 году еще не
держал в уме всех логических следствий этой
поистине роковой доктрины, сковывающей и мертвящей
духовную и общественную жизнь русского народа. В то
время он, наверное, еще вполне искренно отшатнулся
бы от многих из этих следствий, если бы они были
перед ним раскрыты, если бы воочию представили те
низины государственного позитивизма, в которых в
80 годах так громко раздавался его властный голос.
Совет Каткова: не искать! — обращенный к
славянофильству, был в известном смысле неуместен, был
не по адресу. Славянофильство тем грешило и
грешит, что на месте бесконечного процесса искания и
творчества общественных начал оно поставило
служение уже найденным и готовым началам, — что оно
тоже всем и каждому предлагало свои туманные изо-
В чем же истинный национализм? 19
бражения, списанные с национального духа. Разница
между государственным позитивизмом и
славянофильством в том, что в лучшие минуты и эпохи своей
жизни славянофильство гнушалось того terre a terre
куда его звал положительный Катков, который в 1863
году, когда он еще отчасти чувствовал себя заодно с
реформационным движением, охватившим тогда
Россию, уже рекомендовал славянофилам «приравнять
нашу мысль, наши понятия к окружающей нас
действительности», а «идеалы будущего» брезгливо называл
«отговоркой для праздной и ленивой мысли»1.
Настоящее славянофильство всегда мечтало. Имея готовые
формулы для национального духа, оно в то же время
увлекалось идеей свободного творчества и на деле
иногда смело отстаивало права того искания, которое
было так не по душе Каткову.
IV
Говоря, что национальный дух воплощается в
бесконечном, текучем по содержанию
стихийно-творческом процессе сверхиндивидульного или коллективного
характера, мы не хотим превратить ни этот процесс,
ни его форму в какое-то особое существо,
пребывающее вне живых людей и над ними властвующее.
Наоборот, мы решительно будем возражать и
протестовать против такого превращения, составляющего лишь
первый шаг к полицейскому закрепощению
национального духа за какой-нибудь идеей или интересом,
могущими предъявлять в данный момент прочно
укрепленные, так называемые «исторические» права. Нет
ничего ошибочнее и вреднее, как превращение
сложных процессов общественного взаимодействия,
общественно-правовых «отношений» в особые существа,
или «ипостаси», противопоставляемые реальным и
живым участникам этих отношений. Это — грубая
теоретическая ошибка, воспроизводящая старую
метафизическую доктрину «реалистов», утверждавших
реальное бытие общих понятий и превращавших их в
истинные «сущности», управляющие, согласно этому
1 1863 год. Собрание статей по польскому вопросу. Вып. I,
стр. 504.
20
П.Б.Струве
взгляду, миром якобы призрачных отдельностей,
миром вещей. Какова бы ни была конечная
метафизическая или онтологическая ценность этой точки
зрения, ее перенесение в сферу
общественно-государственных отношений, где дело идет о человеческой
личности, являющейся не только самой подлинной
реальностью, но и единственным, известным нам из опыта,
субъектом, должно быть во всяком случае
производимо с величайшей осторожностью. Некритический и
бессознательный реализм или универсализм в
обществоведении и политике практически часто приводил к
грубым и чреватым вредными последствиями
заблуждениям. Так, когда мысленно создается
фантастическое существо под именем государства, ему охотно
приносятся в жертву реальные интересы (в самом
широком смысле) объединенных в государственном
общении людей. Но так как существо этого имени —
фантастическое, в действительности не существующее, то
на месте его, конечно, тотчас становится более или
менее обширная группа живых людей, для которых
очень удобно давать своим, подчас измененным,
интересам высокую государственную санкцию. Это почти
всегда бывает в тех случаях, когда текучее
общественно-правовое отношение между людьми, именуемое
государством, превращается в самостоятельное существо,
или субстанцию, которое можно мыслить отдельно от
живых людей и их взаимодействия.
Всякое стремление связать принципиально и
навсегда какое-нибудь определенное содержание с
формой «национального духа» теоретически означает
превращение его из формы текучего по своему
содержанию процесса в застывшую сущность, с раз навсегда
данным содержанием. Практически это — грубое
посягательство на естественное право «искания», на
право и обязанность человека как такового
бесконечно совершенствовать культуру. Отказаться от этого
права и этой обязанности значит «обещать не быть
человеком и не терпеть, настолько хватает моего
влияния, чтобы кто-либо был человеком». Давая такое
обещание, «я довольствуюсь знанием искусного
животного. Я обязуюсь и обязываюсь остановиться на
той ступени культуры, на которую мы взобрались.
Бобр и теперь еще строит так, как за тысячу лет стро-
В чем же истинный национализм? 21
или его предки; пчела и теперь еще устраивает свои
соты так же точно, как тысячелетия тому назад ее
род. Так и мы, и наши потомки, которые явятся через
тысячу лет, будем строить наш образ мыслей, наши
теоретические, политические, нравственные максимы
так, как они построены ныне! И такое обещание,
даже если оно было дано, должно в самом деле иметь
силу? — Нет, человек, ты не мог этого обещать; ты не
имеешь права отказываться от своего человеческого
звания. Твое обещание противоправно и, стало быть,
не имеет юридической силы». Так защищал Фихте
право на совершенствование культуры, этот
«священный палладиум человечества»1
Стихийный процесс коллективного творчества, в
котором раскрывается вечно отвергающий и
преодолевающий национальный дух, одинаково для взора и
теоретика, и практика вполне видимым образом
разлагается на реальные жизненные проявления,
стремления и действия живых личностей. Только тот взор
видит общественную действительность со всем ее
богатством линий и красок, который ясно усматривает
это реальное соотношение коллективного процесса и
его индивидуальных слагаемых. Личность творит
коллективный процесс и от него в свою очередь получает
возбуждения к дальнейшему творчеству. Весь процесс
исходит от личности и к ней возвращается. Мы вовсе
не забываем, что взаимодействия людей в обществе
создает силы, количественно и качественно отличные
от сумы индивидуальных сил, участвующих в этом
взаимодействии. Мы не проповедуем наивного
номинализма, для которого общество есть механическое
взаимодействие человеческих атомов, личностей.
Общество и общественное образование и в наших глазах
представляются внушительными реальностями, в мире
причин и следствий имеющими огромную власть над
всякою эмпирическою личностью, оказывающими на
личность сплошь и рядом подавляющее влияние. Но
мы знаем также, что эмпирический мир являет нам
только один субъект — человеческую личность — и
что на понятии личности и ее самоопределении осно-
1 Johann Gottlieb Rente's Sämmtliche Werke. Herausgegeben von
J.A.Fichte. Sechster Band. Berlin. 1845. S. 103-104.
22
П.Б.Струве
вывается вся нравственность и, стало быть, всякая
политика. В области должного, в царстве целей, не
может не иметь значения ничто, посягающее на
личность и ее самоопределение. Личность не есть
единственная реальность в общественном процессе, и
потому неверен крайний и исключительный
социологический номинализм, но самоопределяющая личность есть
абсолютная моральная основа всякого общественного
строения, и в этом смысле индивидуализм есть
абсолютное морально-политическое начало. Никакой
общественно-политический универсализм не может
быть признаваем, если он несовместим с
индивидуализмом. С этой точки зрения должен быть
рассматриваем и социализм как этическая и политическая, т.е.
культурная проблема. Подробное обоснование и
развитие этого положения выходит, однако, из рамок
настоящего рассуждения.
Если верно все вышесказанное, то мы имеем в
нем важное и непререкаемое указание, дающее ответ
на поставленный нами в заголовке вопрос: в чем
истинный национализм?
Этот ответ не притязает на открытие сущности
национального духа; наоборот, мы только что резко
высказали наше глубочайшее убеждение, что
национальный дух созидается в вечно творческом процессе
народной жизни, что он не застывает никогда ни в
какую сущность до тех пор, пока не прекращается этот
процесс; что поэтому национальный дух не соизмерим
с теми формулами, в которые его стремятся втиснуть
отдельные лица, направления и поколения, что он не
тождественен с теми содержаниями, в которые
националисты всех сортов так старательно пытаются одеть
его соблазнительною, вечно юною и пышною тканью.
Никто и ничто, никакая формула, ни трехчленная, ни
двухчленная, ни одночленная не может и не имеет
права сказать: национальный дух это — я.
Мы решительно отвергаем, как нелепое и — да
будет позволено так выразиться — наглое притязание
присвоить каким-нибудь содержаниям величество
национального духа. Но мы знаем, как можно «в духе и
истине» служить этому величеству. Для этого нужно
не указывать властной рукой творческому процессу
жизни его путей, а пролагать и расчищать их для сво-
В чем же истинный национализм? 23
бодного искания, памятуя, что только свобода
творчества обеспечивает национальной культуре полноту и
богатство содержания, красоту и изящество формы.
V
Медленно, но неуклонно развивалась в
человечестве морально-общественная идея личности как
формальной основы и коренного условия нравственности.
Нравственно лишь то, что творится свободно,
«автономно» или, по прекрасному и выразительному
русскому слову, самочинно. Провозглашение этой идеи в
этике Кантом совпало приблизительно с упрочением
идеи личной свободы или автономии личности как
начала государственно-политического или гражданского.
Напрасно находились и находятся софисты,
льстецы силы, отрицающие тесную и существенную связь
этих двух сторон одной и той же идеи — автономии
личности, и даже утверждающие, что максимум
гражданской несвободы обеспечивает максимум
нравственной свободы. В свободе решения заключается
непременное условие нравственности действования. В
свободе действования заключается непременное
условие осуществления, или действительности
нравственного решения. Все, что делает невозможным свободу
моего действования, посягает и на всякое
нравственное решение, содержанием которого является это дей-
ствование. Оно упраздняет его как действование.
Пресловутая проповедь т<ак> н<азываемой> «внутренней
свободы», отвергающая т<ак> н<азываемую>
«внешнюю свободу», оказывается таким образом
проповедью бездействованной нравственности,
нравственности, которая состоит в добрых намерениях, но не
доходит до добрых дел, так как между ними и ею
возвышаются рогатки, воздвигнутые во славу
нравственности, если верить мнимым друзьям свободы и
подлинным слугам силы.
Тесная связь между свободой внутренней,
свободой убеждения и свободой внешней, свободой
действования, удостоверяется и историей человечества.
Средние века уже довольно отчетливо выработали
и идею, и факт народного, точнее, сословного
представительства. Но только новому времени было дано
24
П.Б.Струве
выдвинуть идею неотчуждаемых или неотъемлемых
прав личности. Обычно возникновение этой идеи
относится на счет литературы XVIII века, в особенности
Руссо, и ее главнейшими политическими
обнаружениями считаются американская и французская
революция. На самом же деле происхождение идеи
неотчуждаемых прав человека более раннее и иное. Оно
тесно связано с великим религиозно-культурным
движением XVI—XVII вв. Идея прав человека возникла в
ответ на запросы духовного и даже, честнее и точнее,
религиозного сознания, ее родиной является индепен-
дентская Англия1. Английские индепенденты
перенесли ее в Америку, откуда она, в свою очередь перешла
во Францию, помимо политической доктрины Руссо
и даже, в известном смысле, вопреки ей. «То, что до
сих пор считалось делом революции, в
действительности есть плод реформации и ее борений. Первым
апостолом идеи неотчуждаемых прав человека
является не Лафайет, а тот Роджер Вильяме, который,
влекомый мощным, глубоко религиозным энтузиазмом,
идет в пустыню, чтобы основать царство вероиспове-
дальной свободы, и имя которого американцы еще
теперь называют с глубочайшим почтением»2. Роджер
Вильяме принадлежал к той фракции индепендентов,
которая носила характерное название искателей (си-
керов) и не признавала никаких пределов для
религиозной мысли. Соответственно этому, Вильяме явился
сторонником безусловной свободы совести и веры.
Переселившись в Америку, в Массачесетс, он был
избран колонией Салем в священники. Но в этой
общине еще не утвердился дух веротерпимости, и
Вильяме, требовавший безусловной религиозной
свободы и гражданского равенства не только для всех
христиан, но также для евреев, турок и язычников, не мог
ужиться в Салеме. С несколькими сторонниками он
1 Это выяснено исследованиями Вейнгартена, Ковалевского и
в особенности Иеллинека. Ср. чрезвычайно ясное и изящное
изложение этого важного момента в развитии правосознания
человечества у П.И.Новгородцева в его курсе «Истории
философии права».
2 Иеллинек. «Die Erklärung der Menschen u. Bürgerrechte».
Leipzig. 1895.
В чем же истинный национализм? 25
оставил эту колонию и основал в 1636 г. город Про-
виданс, который давал убежище всем преследуемым
за религию. В учредительном договоре основатели
Провиданса обещают повиновение законам, которые
будут приняты большинством, но «только в
гражданских делах» (only in civil things), ибо религия вообще
не может быть предметом законодательства. Так была
впервые в учредительном акте провозглашена
безусловная свобода совести как естественное,
неотчуждаемое и неприкосновенное даже для народного
представительства право человека.
В течение XVII-ro века и первой половины XVIII-
го века это начало (с большим или меньшим
ограничениями) вошло в конституции и хартии английских
колоний Америки, между тем как в самой Англии и
вообще в Европе оно еще вовсе не признавалось (на
континенте проведение принципа свободы совести
составляет заслугу Фридриха Великого). Свобода
совести с ее необходимыми ближайшими следствиями
было первое признанное на практике субъективное
право человека, независимое от государства и
принципиально для него неприкосновенное. В идее и практике
таких прав, на наш взгляд, раскрывается и весь
глубокий философский смысл, и все огромное
практическое значение знаменитого учения об естественном
праве, лежащего в основе всякого истинного
либерализма. Естественное право есть не только идеальное
или желаемое право, призываемое или идущее на
смену действующего или положительного права; оно
есть право абсолютное, коренящееся в этическом
понятии личности и ее самоопределения и служащее
мерилом для всякого положительного права. Последнее
своим согласием с абсолютным правом должно
показать свою правомерность.
Историческое выяснение абсолютного права
нисколько не упраздняет и не умаляет его безусловной
моральной ценности, точно так же, как чистая идея
Бога не теряет ничего от того, что она есть в
известном смысле продукт исторического развития.
Абсолютное право не раскрывается сразу. Но, зная
его этическое основание, мы можем в инвентаре
юридических понятий современности безошибочно найти
элементы, носящие на себе непререкаемую печать аб-
26
П.Б.Струве
солютного права. Таковы некоторые из так
называемых прав личности, прежде всего те, которые
устанавливают свободу выражения мысли и изъявления воли.
Никакое объективное право, отрицающее такую
свободу, не может быть признаваемо правомерным, хотя
бы оно было, с соблюдением всех юридических
тонкостей, облечено в форму закона и прошло чрез
всенародное голосование.
Абсолютное право есть всегда право личности, или
право субъективное. Мы не задаемся здесь
рассмотрением всего существующего или мыслимого состава
права и прав с точки зрения идеи абсолютного права —
это выходит из рамок нашего обсуждения, — но
желаем лишь выяснить основной смысл этой идеи.
Абсолютное право раскроется или восторжествует тогда,
когда субъективные права, образующие абсолютное
право, совлекут с себя несовершенную охраняющую
их одежду объективного права, перестанут быть
юридическими нормами и опираться на принуждение.
Принуждение тогда всецело уступит свободе. Это —
та подымающая дух перспектива, которая рисуется
как идеал не только многим из современных
индивидуалистов (напр<имер>, Льву Толстому), но
предносилась также и великому универсалисту Фихте, когда
он обсуждал культурную проблему соотношения
свободы и принуждения1.
Идея абсолютного права, как мы уже указали,
составляет существенное и вечное содержание
либерализма. Проблема либерализма, как она выяснилась
для нас, не исчерпывается вовсе вопросом об
организации власти; таким образом, она шире и глубже
проблемы демократии; демократия в значительной мере
является лишь методом или средством для решения
проблемы либерализма. Далее, наша историческая
справка показала нам, как исторически неверна та
весьма популярная и в русском обществе доктрина,
согласно которой либерализм возник как
политическая система буржуазии в ее материальных интересах.
Согласно этой доктрине, либерализм носит в одно и
1 «Die Staatslehre oder über das Verhältnis des Urstaates zum
Vernunftreiche, gehalten im Sommer 1813». S.W.Vierter Band. S. 599.
«Ueber Errichtung des Vemunftreiches». Siebenter Band. S. 574 ff.
В чем же истинный национализм ? 21
то же время и «классовый», и «материальный»
характер. Мы видели, наоборот, что либерализм —
общенародного и идеального происхождения. Он возник в
ответ на запросы религиозного сознания и получил
кровь и плоть в недрах общин, истинно
демократических, образовавшихся путем не мифического, а
реального «общественного договора»1 на девственных
землях Америки. Первым словом либерализма была
свобода совести. И это следует хорошо знать и твердо
помнить в той стране, где либерализм еще не сказал
ни слова. Я нарочно употребляю термин
«либерализм». Вопреки ходячему взгляду на либерализм как
на нечто мягкотелое, половинчатое и бесформенное, я
разумею под этим словом строгое, точное,
исключающее компромиссы воззрение, проводящее резкую
грань между правом и неправом. Истинный
исторический облик и морально-политический смысл
либерализма давно пора восстановить.
Мы желали бы отстранить возражение, что идея
абсолютного права, составляющая, по нашему
убеждению, истинное существо либерализма, есть только
создание нашей фантазии, которого нет и следов в
современной действительности. К счастью, мы можем
сослаться не только на моральное сознание
современного культурного человечества, но и на правосознание
наиболее свободных народов. Идее абсолютного права
личности противостоит доктрина, что всякое право
есть создание всемогущего государства и существует
только по его милости и что поэтому носитель
государственного суверенитета, государь-законодатель,
какова бы ни была его организация, есть
неограниченный правотворящий фактор. Эта доктрина в свое
подтверждение ссылается на всемогущество парламента
по английскому праву, доказывающее якобы
всеобщность государственного абсолютизма2. Однако
внимательный анализ английского права показывает, что
1 Иеллинек справедливо указывает на огромное значение этого
часто игнорируемого факта (исторической реальности
общественного договора) для науки государственного права.
2 Известна шутка-изречение Депольма, что английский
парламент может сделать все, только не может превратить мужчину в
женщину.
28
П.Б.Струве
власть парламента лишь в чисто формальном смысле,
вовсе не исчерпывающем всего содержания понятий
права и правомерности, является безграничной. «Что
государство, а потому парламент и король
материально ограничены в своей власти, — именно в Англии
было всегда живым народным убеждением»1. И дело
тут вовсе не в том лишь фактическом ограничении,
которое всякая власть и всякое правительство находят
в общественном мнении, по указанию Юма, и в
природе вещей, по указанию Лесли Стифена. Если
поставить вопрос, чем «материально» ограничивается
формально неограниченная власть английского
законодателя, то на этот вопрос может быть только один ответ:
правами англичан, т.е. тем правом, «господство»
которого составляет общепризнанную характерную черту
политического строя Англии или, что то же,
английской конституцией, так называемые принципы
которой «представляют индукции или обобщения,
основанные на отдельных решениях, произнесенных
судами относительно прав данных лиц»2. Формальный
деспотизм «короля в парламенте» встречает
материальные ограничения в правах личностей3. Это и есть
то, что мы высказали выше: абсолютное право
личности есть факт (английского) правосознания.
Еще, пожалуй, яснее это для Американских
Соединенных Штатов как федерального государства, где
«верховный владыка есть деспот, которого трудно
разбудить»4. Так как этот деспот фактически не
законодательствует, то в американской республике практически
не существует и той формально неограниченной
власти, которая в Англии принадлежит парламенту. По
существу положение вещей здесь то же, что и в Англии:
законодательные власти (федерации и штата)
ограничены конституцией, т.е. правами граждан. Практичес-
1 Иеллинек, 1. с. [латинским]
2А.В.Дайси: «Основы государственного права Англии». Пер.
под ред. проф. П.Г.Виноградова, СПб., 1891, стр. 148.
3 Этому нисколько не противоречит тот факт, что закон и
юридическая доктрина англичан совсем не выработали понятия
субъективных личных прав. Право живет не только в законе и
доктрине.
4Дайси, стр. 112.
В чем же истинный национализм? 29
ки же верховенство конституции чрезвычайно
действительным образом обеспечивается контролем
абсолютно независимо от законодательных властей суда.
Таким образом, мы можем сказать, что в
американской республике абсолютное право личности,
присутствия в народном правосознании, не только
фактически, как в Англии, регулирует правообразование, но и
вполне юридическим путем — путем судебной
практики — ограничивает законодательную власть. Вопроса о
том, являются ли ограждаемые таким порядком
субъективные права личностей, по своему этическому
содержанию всегда заслуживающими звания
абсолютного права, мы здесь не разбираем. В данном случае мы
ставили себе задачу лишь показать, что современному
развитому правосознанию присуща идея прав,
независимых по существу от положительного закона или
права и стоящих выше его. Это и есть та коренящаяся
в моральном понятии автономной личности идея
абсолютного права, в которой следует искать решения
проблемы «правомерности права».
Мы уже установили, что никакие коллективные
образования человеческого духа не ведут
существования особого и отдельного от живых человеческих
индивидуальностей. Они живут в них и о них, ими и
чрез них. В таких образованиях обнаруживается и
выражается взаимодействие личностей. Ни государство,
ни национальный дух не является сущностями или
субстанциями; еще того менее они — субъекты,
которые можно было бы противополагать личности и духу
индивидуальному. В эмпирическом мире, а стало
быть, и для политики, есть один только субъект —
человеческая личность. Поэтому
общественно-политическое начало свободного национального творчества
всецело сводится к свободе индивидуального
творчества. Уважение к национальному духу как
коллективному творческому процессу, как вечному «исканию»
безусловно требует признания прав человека. Можно
сказать, что без такого признания весь национализм
есть либо пустое слово, либо грубый обман или
самообман. В самом деле, подкапываясь под начала
индивидуальной свободы, под права личности, мнимый
национализм сковывает живых носителей и творцов
национального духа, его единственных и реальных
30
П.Б.Струве
субъектов... Славянофильство (настоящее) в теории
прикрепляло процесс национального культурного
творчества к своим готовым религиозным,
политическим и социальным формулам; государственный
позитивизм Каткова и его сателлитов эти теоретические и
отвлеченные узы, надеваемые на национальный дух,
перевел на практический язык полицейских
предписаний (часто прикрываясь славянофильской
терминологией, когда это было удобно, но в случае надобности
презрительно ее отбрасывая).
Мы сказали, что грех славянофильства состоял в
том, что оно мнило себя нашедшим «народные
начала», узревшим «национальный дух». Никакое
отдельное воззрение на это притязать не может и не
должно. Абсолютных материальных начал национального
бытия нет и быть не может. Но зато мы можем с
полным правом сказать следующее: в историческом
развитии открылось нам абсолютное формальное начало
нравственности — свобода, или автономия личности,
и это же самое начало предстает перед нами как
абсолютное формальное начало национального творчества,
как закон познающего и уважающего себя
национального духа. Либерализм в его чистой форме, т.е. как
признание неотъемлемых прав личности, которые
должны стоять выше посягательств какого-либо
коллективного, сверхиндивидуального целого, как бы оно
ни было организовано и какое бы наименование оно
ни носило, и есть единственный вид истинного
национализма, подлинного уважения и самоуважения
национального духа, т.е. признание прав его живых
носителей и творцов на свободное творчество и
искания, созидание и отвержение целей и форм жизни.
Правда либерализма в этом, вполне точно очерченном
смысле, исторически сказалась, между прочим, и в
том, что лучшее и наиболее достойное русское
выражение ложного по существу материального
национализма, славянофильства, восприняло в себя основные
элементы либерализма и твердо удерживало их, пока
и поскольку оно уважало национальный дух и не
стало просто пышным словесным облачением,
которым казенная доктрина государственного позитивизма
прикрывает свою духовную наготу. В сущности, в
славянофильстве всегда происходило исполненное под-
В чем же истинный национализм? 31
линного внутреннего драматизма противоборство
между идеей прикрепления национального духа к
готовым, уже найденным «народным началам» и идеей
свободного творчества национального духа, между
ложным материальным и истинным формальным
национализмом. Свободное же творчество
национального духа немыслимо ни помимо свободы
индивидуального действования, ни еще менее вопреки ей.
Поэтому, защищая свободное творчество национального
духа, славянофильство, оставаясь верным этой идее,
не могло не стоять за права личности и против
всемогущества организованного в государстве принуждения.
Когда в конце 50-х и в начале 60-х гг. Б.Н.Чичерин
выступил защитником охранительных начал1 и, между
прочим, в своей вступительной лекции к курсу
государственного права (1861 г.) с особенным ударением
указал на значение принципа формальной
законности2, Иван Аксаков в замечательной статье
противопоставил этому призыву к подчинению положительному
праву красноречивую защиту права естественного, или
абсолютного. Нам нет надобности разбирать, в какой
мере Аксаков был прав, выставляя г. Чичерина
крайним государственником. Нас интересует здесь только
его решительное выступление на защиту
«субъективных» и «естественных» прав против «объективного» и
«положительного» права2. В наше время, писал в
1861 г. знаменитый публицист-славянофил,
«проявляется воочию ход истории, слышится трепет новых
пробудившихся жизненных сил! Эти силы, еще
нестройные, не сложившиеся, нередко безобразные,
1 В публицистических статьях, собранных в сборнике
«Несколько современных вопросов», Москва, 1862. Г. Чичерин
никогда не был просто консерватором, но в конце 50-х и начале
60-х гг. он очень решительно выступил в роли защитника
начала авторитета.
2 Указ. сборн., стр. 23—45.
3 Взгляды г. Чичерина 60-х гг. отличаются от его новейших
взглядов в этом кардинальном пункте. Ср. по тону и
содержанию главу о личных правах в «Народном представительстве»
1866 г. (стр. 480 и ел.) и ту же главу в «Философии права»
1900 г. (стр. 105 и ел.). Знаменательное изменение, результат
победы идеалистической метафизики над социологическим и
юридическим позитивизмом!
32
П.Б.Струве
волнуются и мятутся, требуют и не находят ни
правильного исхода, ни нормы для своего проявления.
Как река в своем стремлении, обогащенная притоком
новых вод, сворачивает со дна неподвижные камни,
несет с чистой влагой песок и мусор, рвет плотины,
ищет себе нового вместилища и русла, — так
пытливая и кипучая эта жизнь инстинктивно чует ложь во
многом, что выдавалось ей доселе за непреложную
истину, и с дерзкою самонадеянною безразборчивостью,
отрицая сплошь все принятые установившиеся
определения, разбивает шаткие подножия старых кумиров и
смутно ищет истины, перед которою могла бы и
должна была бы смириться. Ей нужно бы услышать
путеводное слово, нужно бы принять в себя
благотворную, зиждительную силу сознательной мысли,
прогреться лучами истинного знания и живой науки,
которые отделили бы в ней ложь от правды и добро
от зла и дали бы ответ на ее новые, жизненные,
исторические запросы... А между тем с холодных высот
ученых кафедр раздается отрицание самой жизни, ее
смысла, значения и прав! Наука, или та повершенная
и замкнутая, со всех сторон отшлифованная и
отделанная теория, которая выдает себя за науку,
возвещает нам, что в мире нет ничего, кроме мертвого
государственного механизма, что все совершается и
должно совершаться от власти и посредством власти, —
в какой бы форме она ни проявилась, лишь бы
носила она на себе печать внешней законности, — что,
наконец, сама жизнь, следовательно, и жизнь духа,
есть одно из отправлений или функций
государственного организма. С точки зрения такой несчастной
доктрины нет места вне порядка государственности
никакому свободному творчеству народного духа.
Начало внешнее, начало принудительное... начало правды
формальной и условной становится выше начала
внутренней свободы, правды и совести. Все живет и
движется и обязано двигаться по однажды
заведенному и механически рассчитанному механизму.
Самонадеянно и близоруко пытается эта доктрина определить
вес, плотность и емкость человеческого духа и
органической силы жизни и отмерить только такое
количество, какое, по ее неизбежно ограниченным
соображениям, нужно для правильного хода государственной
В чем же истинный национализм? 33
машины... Государство, конечно, необходимо, но не
следует верить в него как в единственную цель и
политическую норму человечества. Общественный и
личный идеал человечества стоит выше всякого
совершеннейшего государства, точно так, как совесть и
внутренняя правда стоят выше закона и правды
внешней... Закон не есть непреложная истина, не есть
какое-то непогрешимое изречение оракула, не
подверженное изменениям: оно имеет значение
ограниченное и временное, и бессмыслен закон, носящий в
себе притязание уловить в свои тесные рамки
свободную силу постоянно творящей и разрушающей жизни.
Самое «право» не есть нечто само для себя и по себе
существующее, неспособное выражать полноты жизни
и правды, оно должно ведать свои пределы и
находиться, так сказать, в подчиненном отношении к жизни
и к идее высшей нравственной справедливости»1.
Свое рассуждение Аксаков резюмирует в словах:
«Мы хотели... заявить... наше несогласие с
провозглашенной теорией, безразлично требующей духовного
поклонения всякой сигнатуре закона, без внимания к
его содержанию, и духовно рабствующей пред
внешним, условным, принудительным началом»2.
Пусть не обманывает читателя то, что Аксаков
говорит об отношении государства не к личности, а к
народу и обществу. Народ и общество живут в
личностях и личностями и никакого независимо от них
существования не ведут. Только недомыслие или, еще
хуже, лицемерие могло бы говорить о свободном
творчестве народного духа при бесправии личности.
Но Иван Аксаков не был ни недомыслом, ни
лицемером. Придерживаясь условной и неправильной
терминологии, коренящейся в туманности всей
славянофильской общественной теории, он такие права лич-
1 Передовая статья в «Дне» от 11 ноября 1861 г. «Полное
собрание сочинений», т. II, Москва, 1886 г., стр. 17, 18, 19, 20.
2 Там же, стр. 21. Г. Чичерин прямо не назван в статье, но она
бесспорно направлена против него, что видно из писем
Аксакова к гр. АД.Блудовой, содержащих любопытный
исторический комментарий к отвлеченным рассуждениям статьи. Ср.
«Ив.Серг.Аксаков в его письмах», ч. II, т. IV. СПб., 1896. (Изд.
Имп. публичной библиотеки).
34
П.Б.Струве
ности, как свободу совести и свободу слова, именовал
правами неполитическими. Но с тем большей силой и
горячностью он писал о свободе слова: «Мысль,
слово! это та неотъемлемая принадлежность человека,
без которой он не человек, а животное.
Бессмысленны и бессловесны только скоты, и только разум,
иначе, слово, уподобляет человека Богу. Мы,
христиане, называем самого Бога Словом. Посягать на жизнь
разума и слова в человеке — не только совершать
святотатство Божьих даров, но посягать на божественную
сторону человека, на то, чем человек — человек.
Свобода жизни разума и слова — такая свобода, которую
по-настоящему даже смешно и странно
формулировать юридически или называть правом: это такое же
право, как право быть человеком, дышать воздухом,
двигать руками и ногами. Это свобода вовсе не какая-
либо политическая, а есть необходимое условие
самого человеческого бытия; при нарушении этой свободы
нельзя и требовать от человека никаких правильных
отправлений человеческого духа, ни вменять что-либо
ему в преступление; умерщвление жизни мысли и
слова — самое страшнейшее из всех душегубств!»1
О свободе совести этот нелицемерный сын
православной церкви говорил:
«Свобода совести от нее (церкви) неотъемлема,
потому что свобода совести, свобода воли, вообще
дарованная Богом свобода духа есть ее стихия... самое
понятие о церкви предполагает уже свободную
совесть. Разве может быть церковь Божья понята вне
веры в Бога? Конечно, нет, ответят нам, это —
бессмыслица. А может ли быть вера не по совести, вера
вне совести? Немыслимо, ибо вера есть союз
человеческой совести с Богом. Если так, то, говоря,
«совесть», разумеем ли мы совесть свободную или
несвободную? Конечно, — только свободную, ибо
несвободная совесть не есть уже совесть, а отрицание
совести. Подойдем к делу с другой стороны. Если
спрашивается от людей вера, то какая: искренняя ли и
чистосердечная, или же фальшивая и лицемерная?
Ответ несомненен. Возможно ли совместить искрен-
1 Передовая статья «Дня» от 23 января 1863 г. «Полное
собрание», т. IV, стр. 399.
В чем же истинный национализм? 35
ность веры с неискренней совестью? Это опять
бессмыслица. Стало быть, когда спрашивается от людей
вера, то этим самым спрашивается от них искренняя
совесть. Не так ли? А может ли быть искреннею
совесть насилованная у т.е. не свободная совесть? Вопрос,
кажется, излишен. Поэтому, если церковь не может
быть понята вне веры, то, стало быть, она не может
быть понята и вне свободной совести»1.
Говоря, что существеннейшие права личности —
свобода совести и свобода слова — суть права
неполитические и потому не зависят от государства и для
него неприкосновенны, наиболее близкий к
действительной жизни общества и наиболее умудренный
общественно-политическим опытом представитель
славянофильства, на свой славянофильский лад,
исповедовал и проповедовал идею естественного
(абсолютного) права, или неотъемлемых прав личности, т. е.
именно ту идею, которая исторически и логически
составляет зерно либерализма, его подлинное существо.
Эта проповедь прав личности давала реальный и в то
же время глубоко идеальный смысл и жизненную
правду идее «свободного творчества народного духа»,
низводя ее с облаков таких опасных «универсалий»,
как народ или нация, на ясно очерченную и твердую
почву не доступного никаким софизмам
индивидуального бытия человека. В своем разграничении прав
«неполитических» и «политических» и в своем
отрицании правового характера за важнейшими правами
личности, несмотря на всю неверность этого
разграничения и этого отрицания, славянофильская
«политика» ближе к истине, чем новейший, примыкающий
к Гоббсу и Руссо, политический позитивизм, так
недавно еще торжествовавший полную победу над идеей
«естественного права» и всякое право сводящий к
государству и из него выходящий. Для этого воззрения
не существует объективных прав, независимо от
воплотившейся в объективно праве воле
Левиафана-государства и вопреки ей. Оно забывает историческое
происхождение современного правового государства из
борьбы личности и общества против государственной
1 Там же, т. IV, стр. 105. (Передовая статья «Москвы» от 2
августа 1868 г.).
36
П.Б.Струве
власти за свободу религиозного убеждения; забывает,
что для современного сознания право, посягающее на
права личности, не может быть ни в каком, даже
условном смысле облечено достоинством правовой
нормы. Славянофильское государственное воззрение
глубоко ошибалось только в том, что вопреки истории
и здравому смыслу оно не связывало реального
признания независимых от объективного права или
закона и ему логически предшествующих субъективных
прав с господством определенных юридических норм.
Если нужен был эксперимент в этом смысле, то все
последние 20—25 лет нашей истории представляют
подобный эксперимент, произведенный на живом
теле русского народа и общества и
свидетельствующий с таким красноречием, которое доступно только
человеческим делам и событиям, но не человеческим
словам. Он, этот эксперимент, а не что иное, убил
славянофильство. Да, оно убито!.. Славянофилит
«Новое Время», славянофилят даже «Московские
Ведомости», на разные голоса славянофилит «Русское
Собрание», но славянофильства и славянофилов нет.
Неумолимая жизнь, подхватив их туманное
изображение национального духа, своею рукой подрисовала и
разрисовала его, как усердный реставратор — старую
картину, как ретушер — расплывчатый
фотографический оттиск: на место туманно-красивых очертаний и
переливов «народных начал» выступили совершенно
свободные от всякой поэзии, но зато и
недвусмысленные определения положительного права. Представьте
себе, что какой-нибудь варвар в искусстве, найдя
чудесный пейзаж Левитана последней манеры, вздумает
его, исправив и подправив, разрисовав и расцветив по
своему варварскому вкусу, «приравнять к жизни». Он
погубит картину. Так была загублена и
славянофильская картина грубыми и грязными руками, ее
подхватившими. А с картиной умер художник.
Дело в том, что политика, основанная на морали,
должна быть строга и точна, не должна терпеть
тумана, хотя бы и красивого. Этих свойств недоставало
славянофильской политике в ее целом и, прежде
всего, недоставало ей как практическому учению. Она
постоянно колебалась между началами свободы и
авторитета, не зная, за которыми из них признать пер-
В чем же истинный национализм? 37
венство, между отвердевшими формами и вечно
живым, развивающимся содержанием, между
найденным, закрепленным и исканием.
VII
Есть одно возражение против высказанных нами
взглядов, которое мы не желали бы обойти, так как
оно подымает ряд интересных вопросов.
Нам скажут, что начало свободы или автономии
личности, для политики открытое великим
религиозным движением XVI—XVII вв., в морали
окончательно утвержденное Кантом, могло проявить свое
действие только с тех пор, как оно было сознано,
провозглашено и проведено в жизнь, что составило для
западного мира великую работу эпохи с XVI по XIX
век, а до тех пор творчество национального духа
обходилось без действия этого начала, — и творились
великие национальные культуры. Поэтому, заключат
иные, начало свободы не нужно для творчества
национального духа.
Рассуждение это никуда не годится. До XIX века
люди обходились без пароходов и железных дорог и,
несмотря на это, они передвигали себя и передвигали
товары, переплывали моря, открывали новые
материки, проникали вглубь неизвестных стран, восходили
на горы и переходили через них. Новейшие пути и
средства сообщения не создавали самой возможности
передвижения. Значит ли это, что человечеству
следует обходиться без железных дорог и пароходов? Такое
же точно рассуждение применимо и к началу
свободы. Оно есть одно из условий, но не единственное
условие творчества национального духа и национальной
культуры. Чисто духовное начало свободы
превосходит, однако, по своему значению все технические и
материальные условия культуры. Прежде всего —
потому, что оно возвышает самый главный орган
культуры, человека. Но — и это еще существеннее — оно
не только условие и средство, оно — цель культуры.
Вспомним определение культуры, данной Фихте в
словах, взятых нами эпиграфом к настоящей статье.
Культура в этом смысле может только подготовляться
путем принуждения, но осуществляется оно свободою
38
П.Б.Струве
и для свободы. И раз в сознание живых носителей
культуры, хотя бы оно составляли и меньшинство
нации, вошло начало свободы, отказ от него
невозможен. Оно приобретает для духа, его сознавшего,
абсолютное достоинство, ибо в нем выражается и дает о
себе знать метафизическая природа человеческого
духа как вечной и самоопределяющей субстанции. А
так как понятие об этой метафизической природе
образует одну из основных идей христианства, то
утверждение идеи свободы или автономии личности в
области моральной и политической есть не что иное,
как практическое раскрытие христианской идеи о
человеческом духе, раскрытие не только важное, но и
безусловно ценное с точки зрения религии... Не
нужно страшиться таких сближений земного и
преходящего с Высшим и Вечным; наоборот, следует
стремиться к тому, чтобы вскрывать связь между
конечными требованиями реальной (земной) жизни с
высшими и вечными идеями религиозного сознания.
Таким образом, начало свободы есть не только
важный и прямо-таки могущественный рычаг, но и
абсолютно ценное условие-цель творчества
национального духа и национальной культуры.
VIII
Современная культура, культура второй половины
XIX и начала XX века знаменуется при необычайном
прогрессе техники невиданным доселе
усовершенствованием государственного механизма. В литературе
ведется спор о том, расширилась ли в истории сфера
господства и влияния государства. Одни полагают, что
она расширилась, другие — что она сузилась. Нам
думается, что вопрос поставлен неправильно, и что
спорят потому, что под одним словом разумеют
различные вещи. Современное правовое государство,
поскольку оно признало неотъемлемые права личности,
разумеется, сузило юридически и фактически сферу
государственного властвования. Но, с другой стороны,
во-1-х, новые области и явления жизни, которые —
одни сразу, другие — постепенно, подпадали под
власть и влияние государства; во-2-х, новый
обширный государственный аппарат со своим точно работа-
В чем же истинный национализм? 39
ющими приспособлениями действительно проник в
такие области, которые были ему прежде недоступны.
В зависимости от того, чему мы придадим большее
значение, расширению ли прав личности и их
признанию и отверждению в праве или рассмотрению
государственного верховенства и влияния на прежде
свободные от него и даже вовсе не существовавшие
стороны и явления жизни, мы склонимся либо в пользу
учения об убывающем могуществе государства, либо,
наоборот, в пользу противоположного учения об его
возрастании. Спор будет бесплоден, потому что будет
вестись о различных вещах. Не следует далее
забывать, что самые реальные явления, объединяемые под
наименованием государства и его функций, изменили
в истории свой характер. С переходом от средних
веков к новому времени изменился не только
внешний объем государства или, вернее, государств, но и
сложилось самое явление государства в том смысле, в
каком мы его понимаем, государства как единого
идеального носителя единой и нераздельной власти.
Теперь везде, на всем пространстве «цивилизации»,
сложилось и действует государство в этом смысле. Затем,
степень технического могущества государства
изменяет в известном смысле и самую природу отношений
его к тем или иным сторонам жизни. Большая
разница, например, существует ли свобода собраний
фактически, т.е. потому, что государство принципиально
признает такую свободу, хотя оно обладает всеми
техническими средствами для того, чтобы проследить
собравшихся и разогнать их. Быть может, собрания
первых христиан фактическим происходили так же
безвозбранно, как теперь собрания на лондонском
Трафальгар-Сквере, но общественная природа безвозбран-
ности в том и другом случае глубоко различна, и это
различие определяется для нашей эпохи в одно и то
же время и большим материальным могуществом
государства, и большей свободой личности. Государство
могущественно, для его органов надзора и
принуждения нет ничего слишком трудного или невозможного,
но пред отвержденными в праве правами личности
это полицейское могущество бездействует. В качестве
символа этого бездействия в моей памяти восстает
расхаживающий по Трафальгар-Скверу полисмен, не-
40
П.Б.Струве
укоснительно подымающий всякого, кто вздумает
вытянуться на скамейке площади (такого права нет), но
совершенно равнодушный к собравшемуся на
площади митингу, слушающему яростные диатрибы против
современного общества (собираться на улице, без
помехи проходу и проезду и говорить о чем угодно в
Англии волен всякий).
Материальное могущество современного
государства есть, таким образом, совершенно новый и
специфический фактор, характерный для нашей эпохи.
Культурное значение его, очевидно, совершенно
различно в зависимости от того, противостоит ли
государству, вооруженному всеми новейшими
приобретениями промышленной, административной и иной
техники, облеченная правами личность или нет.
Иначе говоря, что значит рост материального
могущества государства, создаваемый и обеспечиваемый
прогрессом техники всякого рода, там, где права
личности, не отвердились в праве, где господство или
признание права объективного не сопровождается
безусловным признанием прав субъективных? Эта
проблема, имеющая огромный интерес для философии
культуры, а стало быть, и права, есть в то же время, по
нашему глубочайшему убеждению, основная,
поглощающая все остальные, проблема современной
русской культуры.
Может существовать общество, которое живет
лишь стихийной жизнью, не ощущает никакой
потребности и не в силах двигать культуру, т.е.
сознательно ставить и самочинно разрешать ее задачи:
общество, где все может идти вперед только по
мановению государства, его силами, по его указке: общество,
которое рассматривает культуру как государственную
повинность и пред которым культура выступает в
образе полиции (не в фигуральном смысле, а в научном
смысле этого слова). Таковым было в общем и целом
русское общество на всем пространстве XVIII века.
Современное русское общество не таково. От вершин
интеллигенции (в лице национального героя
мыслящей России, Льва Толстого) и до низин народных оно
сознательно и самочинно творит культуру, работая
над разрешением высших ее задач — религиозных,
выдвигая их, как христианство первых веков и рефор-
В чем же истинный национализм? 41
мация нового времени, рядом и в связи с проблемами
моральными и социальными. Этой особенности
нашего времени — упорной работе народного сознания над
религиозной проблемой (работе, которая не есть
просто мучительное недоумение, каким был раскол), мы
придаем огромное значение: в ней видится нам
явственный знак культурной зрелости русского народа в
его целом и благое предзнаменование широкого
подъема национальной культуры. Как ни тягостны те
условия, в которых происходит процесс творчества
национальной культуры, мы готовы с радостным
сердцем повторить классические слова Гуттена: Die Geister
sind erwacht: es ist Lust zu leben! Да, они проснулись! В
разных местах, под разными широтами на том
необъятном пространстве, где раскинулось русское племя,
творится культура, и творится человеческою
личностью, притязающею на самочинное мышление и такое
же строительство личной и общественной жизни.
Но что встречает на пути своего творчества
демиург народного духа, человеческая личность?
VIII
Вот тут-то снова перед нами восстает
поставленный выше вопрос о культурном смысле роста и
усовершенствования государственного механизма при
бесправии личности. Никогда, ни в одну
историческую эпоху отсутствие у личности отвержденных в
праве прав не грозило такою культурною опасностью,
как в веке огромных государств с превосходною сетью
железных дорог, телеграфов, с их точно работающим,
«просвещенным» бюрократическим «аппаратом».
Современная техника, конечно, оказывает услуги
личности и ее смелым исканиям новых путей и
содержаний жизни. Но недаром она основана на принципах
концентрации и централизации силы, девиз которых:
у кого мало, у того отнимется и малое, у кого много,
тому и дастся многое. Там, где централизованный
государственный механизм заведует всем, указует всему
предел и меру, всюду проникает, все улавливает,
управляет настоящим и стремится преднаправить
будущее, — там современная техника (в широчайшем
смысле этого слова) неизмеримо больше идет на
42
П.Б.Струве
пользу централизованному аппарату власти, чем
самостоятельной личности.
Если «христианство не нуждалось ни в свободе
печати, ни в свободе собраний для того, чтобы
завоевать мир»1, то только потому, что оно пользовалось, в
сущности, почти беспредельной свободой слова и
общения2. В те эпохи, когда технические средства
государства и власти были крайне несовершенны и
произвол не был еще упорядочен, его господство было
гораздо менее всеобъемлющим и потому менее вредным
для культурного в особенности для духовного
творчества, чем в наше время. Не были ни книг, ни
журналов, ни газет, но зато не было ни цензуры, ни
полиций, и не могло их быть, потому что и эти
учреждения требуют для своего развития и
усовершенствования известных технических средств. Известно, что в
классической стране свободы печати цензура пала не
только и не столько вследствие ясного сознания ее
неправомерности как таковой, сколько в силу
технических несовершенств полицейского аппарата, ее
осуществляющего и не сумевшего устранить «мелких
несправедливостей, вымогательств, придирок, стеснения
торговли, квартирных обысков». Ссылаясь на эти
неудобства, палата общин отказалась возобновить «Акт
о разрешении». «Таковы были аргументы, — говорит
Маколей, — которые сделали то, что не удалось
Мильтоновской Ареопагитике»3. Английская свобода
вообще исторически связана с неповоротливостью
государственного или, иначе, административного
аппарата Англии.
Отсюда ясно, что там, где субъективные права не
отверждены в праве, технический (в широком смысле
слова) прогресс, подхватываемый и усваиваемый
лучше всего и полнее централизованным
государственным аппаратом в некоторых, и очень
существенных, отношениях ухудшил и ухудшает позицию лич-
1 Renan. L'avenir de la science, 4-me éd. Paris, 1890, p. 359.
2 Там же: En Judée sous Ponce Pilate le droit de réunion n'était pas
reconnu et de tout on n'en était que plus libre de se réunir: car, par là
même que le droit n'était pas reconnu, il n'était pas limité.
3Дайси, стр. 198-199.
В чем же истинный национализм? 43
ности как творца новой культуры, как искателя новых
путей.
В этом заключается огромное культурное зло,
источник, обильно питающий в обществе грубейший
материализм и угрожающий национальной культуре
оскудением животворными духовными силами,
порывами и интересами. В самом деле, область
культурного творчества оказывается произвольно разделенной
на две части. Та часть, которая представляет
непосредственное поприще для человеческого духа, где
творится религиозная, политическая и общественная
культура, всячески ограждается от вторжения
свободного почина личности и свободных союзов; здесь
господствует принцип, недавно с холопским цинизмом
вылитый в формулу: «никакого сомнения в
разумности приказанного». Зато личности и свободным союзам
довольно «либерально» предоставляется низменная
сфера материальных интересов, здесь дозволяется
некоторая свобода, и сюда же направляется главный
поток попечительных забот, грубо, на восточный лад,
воспроизводящих знаменитое: Enrichissez-vous.
Искание новых путей для духа и жизни заменяется
погоней за материальными выгодами и наслаждениями.
Так национальная культура пропитывается и
отравляется ядом практического материализма; особенно и
даже исключительно пагубно это отражается на
высших классах населения, для которых участие в
выгодах обогащения гораздо легче и гораздо осязательнее,
чем для народной массы, до сих пор неизменно
остававшейся и остающейся за штатом на банкете мира
сего. Между тем из этих классов вербуется большая
часть интеллигенции, оказывающей, в лице
бюрократии, такое властное влияние на всю народную жизнь.
Есть над чем задуматься. Философствующие умы
имеют право и обязанность указывать на эту
опасность для духовной культуры нации.
Но зло, хотя и велико, однако несет в себе
зародыш своего уничтожения. К счастью, отвлеченная
философия судит более здраво и оказывается более
дальновидной, чем практическая политика. Философия
знает, что дух человека есть великий демиург
культуры и что нельзя безнаказанно устранять его от этой
законно ему принадлежащей задачи. Знает она также,
44
П.Б.Струве
что политический материализм, мечта которого всех
Марий превратить в Марф, всегда оказывался в
истории обманщиком и обманутым. Все материальные
успехи и улучшения в конце концов не подкупают и не
усыпляют духа, а, наоборот, его бодрят, возбуждают и
движут вперед. Призыв: «духа не угашайте» можно
дополнить уверением, что духа никогда не угасить, что
это есть мечта, которой грозит самое жалкое
разочарование...
IX
Можно и должно относиться с уважением и
бережно к отвердившимся образованиям духовной и
культурной жизни: лелеять воспоминание и любить
родину-мать. Но жизнь растущая, образования,
слагающиеся, пророчество, зовущее вперед, родина-дитя —
заслуживает не меньшего уважения и любви. Есть
один только способ любить и беречь мать, не принося
в жертву дитя, а, наоборот, давая ему расти в меру
отпущенных ему сил. Этот способ заключается в
безусловном признании прав зиждителя национального
духа, человеческой личности, на свободное развитие
всех его сил, на самочинное мышление и действова-
ние. Если верно, что «нация есть начало духовное», то
истинный национализм не может быть ничем иным,
как безусловным уважением к единственному
реальному носителю и субъекту духовного начала на земле,
к человеку. Провозгласить такое уважение принципом
развития национального духа не значит бросить
громкую фразу. Это значит выговорить точное и строгое
нравственное правило, верность которому налагает
тяжелые и ответственные обязательства.
ИДЕИ И ПОЛИТИКА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Милостивые государыни и милостивые государи!
Тема, которая задана мне, представляет
значительные трудности: она чрезвычайно широка, и в то же
время неизбежно всякий, читающий на эту тему,
вынуждается самым ее характером вносить в ее
обработку значительную дозу субъективности. Тема эта не
ограничивается исключительно вопросами программы,
ибо идейное основание деятельности всякой
политической партии определяет собою не только
программу, но и самый способ деятельности партии. Вообще
разделение вопросов на программные и тактические
имеет в немалой мере значение условное. Есть такие
вопросы тактики, которые неразрывно связаны с
общим мировоззрением, на котором должна быть
построена программа, и, с другой стороны, из известных
программных идей неизбежно следуют известные
методы действия... Но, конечно, нельзя не признать, что
в известном смысле политическая программа всякой
партии может иметь различные предпосылки —
отсюда неизбежно вытекает тот субъективизм, о котором я
уже сказал. Один партийный деятель программу и
тактическую позицию нашей партии будет утверждать
на одной философии, другой будет ее обосновывать
на другой философии. Однако этот субъективизм
конечного обоснования бесспорно имеет свои пределы,
и как ни разнообразны могут быть философские
мировоззрения отдельных членов партии, как ни
различны могут быть оттенки не только философских, но и
религиозных воззрений, отдельных членов партии, эти
различные мнения неспособны устранить
тождественность некоторых руководящих идей, идей, я сказал
бы, социологических, которые лежат в основе всего на-
46
П.Б.Струве
шего понимания политического и социального
развития. Тем не менее я заранее должен предупредить, что
в том ряде идей, которые будут развиваться,
заключается значительная доза несомненно неизбежного
субъективизма.
У меня есть совершенно определенное
философское и социально-политическое мировоззрение, и к
тем взглядам, которые делают из меня члена
конституционно-демократической партии, я пришел, как и
всякий из нас, своим особым, личным путем, и этот
путь развития моих воззрений должен отразиться на
обработке той темы, о которой я хочу говорить.
Нашу партию я хочу охарактеризовать перед вами
целым рядом определений: только из совокупности этих
определений вытекает полная характеристика партии.
Партия народной свободы есть партия либеральная —
она отстаивает свободу личности, гражданские права и
широчайшее самоуправление. Она есть партия демо-
кратической конституции и она есть партия
демократических социальных реформ. Все эти различные
определения нашей партии, я думаю, в уме каждого из нас
сливаются в одно стройное единство понимания задач
и способа действий.
Существенное отличие нашей партии от
известного типа партий, стоящих налево и направо от нас,
заключается — это уже многократно подчеркивалось в
ходе всей нашей агитационной кампании,
предшествовавшей выборам в первую Государственную Думу, —
в том, что наша партия не классовая. Это не значит,
чтобы наша партия отрицала всякое значение
классового деления, классовой борьбы, классового
самосознания, но поверх классовых делений, над ними, и в
глубине, под ними она находит интересы и идеалы
общечеловеческие. Носительницей этих
общечеловеческих идеалов в исторически данных условиях жизни
отдельных народов, по идее нашей партии, должна и
может являться целая нация.
Таким образом, классовым партиям наша партия
противопоставляет себя, как партию национальную.
Партия национальная не в смысле отстаивания
интересов какой-либо привилегированной народности,
хотя бы и той народности, которая заложила основы
самому бытию нашего государства, в смысле идейно-
Идеи и политика в современной России 47
государственном, в смысле признания того, что
интересы отдельных лиц и классов необходимо
объединяются в одно высшем идеальном интересе государства.
Итак, отмежевываясь от партий, подчеркивающих
идею классовую, мы опираемся на идею нации в
государственном и правовом смысле.
Понятия класса и нации суть одинаково не
непосредственно данные факты во всей их конкретности.
Они — продукт идеального синтеза. В
непосредственно данной действительности существуют, как
солидарные единства, лишь отдельные, в сущности
мелкие, профессиональные группы населения. И как
только мы выйдем за пределы этих групп, и даже в их
пределах мы встречаем столкновение самых
разнообразных интересов, даже если мы возьмем рабочих
одной и той же фабрики, и то мы все-таки можем
наблюдать столкновение интересов внутри такой,
по-видимому, совершенно солидарной группы. Точно так
же рабочие одного производства в различных местах
могут иметь различные интересы, которые при иных
условиях неизбежно должны вступать в столкновения.
Из столкновений интересов различных
профессиональных групп населения, и притом именно групп
трудящихся, можно было бы нарисовать чрезвычайно
внушительную и пеструю картину, которая часто не
представляется, как реальная картина, тем, кто
постоянно твердит лозунг «классовой борьбы».
Из этой пестрой картины, путем
последовательного отвлечения от конкретных условий и интересов,
образуется синтетическое идеальное понятие класса.
Мы всегда должны помнить, что это якобы
реалистическое понятие есть такое же идеальное
понятие, как то, которое мы ставим во главу угла нашей
программы — как понятие нации. Только нация есть —
по сравнению с классом — понятие высшего порядка,
есть высшее обобщение. Но если мы зададимся
мыслью о том, какая же философская идея лежит в
основе социализма, как практически-политического
построения, то мы увидим, что смысл социализма
заключается, конечно, не в борьбе классов, а в
творческом объединении и согласовании производительных
сил всей нации (а в дальнейшем расширении — и
всего человечества), в интересах всестороннего разви-
48
П.Б.Струве
тия личности. Эта идея личности, которая есть
основание идеала либерализма, в нашем представлении
неразрывно сплетается и должна сплетаться с идеей
общественного самоуправления, с идеей творческого
объединения и согласования всех производительных
сил нации. И потому, с нашей точки зрения, между
либерализмом и социализмом, понимаемым в таком
смысле, нет и не может быть никакого основного
противоречия, если понимать и тот, и другой, и
либерализм, и социализм, в реально-политическом, а не в
доктринально-утопическом смысле.
Реально-политическое понимание и того, и
другого есть в то же время и единственное понимание
идеалистическое. Истинный либерализм требует
всестороннего развития личности в самом широком ее
своеобразии, во всем возможном богатстве ее
проявлений.
Идеальному понятию противостоит понятие
либерализма доктринального, застаревшего и
окаменевшего. Таков, например, либерализм старой доктрины,
который во имя мнимой свободы личности отрицал
рабочее законодательство, отвергал подоходный налог
и вообще все то, что мы называем именем
социальных реформ, все то, что имеет своей целью поднятие
трудовой личности. С другой стороны, социализм
доктринальный громко провозглашает отрицание
принципа частной собственности, что есть тоже
бессодержательная фраза, из которой, если вдуматься в
ее реальный смысл, не выкроишь ни одному налогу
ни малейшего клочка одеяния, которой не накормишь
ни одного голодного. Такому доктринальному
пониманию социализма нами должно и может быть
противопоставлено понимание реально-политическое, живое
и жизненное. Вот почему в нашей партии могут быть и
работать убежденные социалисты, хотя
доктринального лозунга социализма она и не написала на своем
знамени.
Социализм в настоящее время должен бы уже
перестать быть той сакраментальной формулой, на
основании которой определяется доброкачественность
человека, его приверженность к известным идеалам
реально осуществляемым политикою. А с другой
стороны, социализм должен бы перестать быть тем пуга-
Идеи и политика в современной России 49
лом, каким он был прежде. Ибо в настоящее время, в
начале XX столетия, после всего того огромного
опыта, социального и политического, который имеет
теперь человечество, после той громадной идейной
работы, которую оно совершило, слово и понятие
«социализм» может смущать и пугать только, как бы
выразиться деликатнее, только... старых и
слабонервных дам обоего пола.
Тут возникает один конкретный вопрос, который
занимает известное место в международной полемике.
Часто говорят, что наша партия не имеет будущности
только потому, что она не имеет классового
основания. Это выражение мне много раз приходилось
слышать на агитационных собраниях. Между тем, оно не
имеет под собою никакой фактической основы.
Фактическая и историческая несообразность этого мнения
прямо бросается в глаза. Мы знаем, какие различные
классы и какие различные элементы объединяет в
настоящее время самая могущественная радикальная и
либеральная партия, т.н. «либеральная» партия в
Англии. Мы знаем, какие различные элементы народа на
конфессиональном, вероисповедном начале
объединяются партией центра в Германии. Мы знаем и все
знают, что самая могущественная партия во Франции —
партия объединенных радикалов и
радикалов-социалистов, в которую входят самые разнообразные слои
населения. Поэтому утверждать, что наша партия
никакой будущности не имеет потому, что она не
построена на классовом основании, значит закрывать
глаза на самые очевидные и самые неоспоримые
факты политического развития современных
культурных государств. Между тем, это мнение о
непрочности партии широко распространено и в некоторых
наших партийных кругах. В некоторых партийных
кругах часто тоже слышится нота, что наша партия
есть вынужденный обстоятельствами времени,
непрочный блок.
Я должен сказать, что этой точки зрения я
совершенно не разделяю. Если наша партия окажется
временным, непрочным блоком, то это обстоятельство
докажет, на мой взгляд, только одно: культурную и
политическую незрелость известной части русского
общества. Ибо на самом деле, что мы видим в поли-
50
П.Б.Струве
тически развивающихся и прогрессирующих странах?
Там общественное развитие неизбежно выдвигает
политические силы и образования именно такого типа и
характера, каким в России отмечена конституционно-
демократическая партия. Вся новейшая история
политического развития Европы доказывает историческую
необходимость такой партии, как наша, и той
политики, которой она держится. Вспомните, что такое, как
не своего к.-д. партия, было то объединение, которое
под названием «блока» — слово «блок» оттуда и взято —
преодолело преследование Дрейфуса и вытащило
Францию из реакционного болота.
Пусть это «блок», но этот блок есть самая прочная
и самая прогрессивная тенденция во всем
политическом развитии западной Европы.
Вспомним далее, что такое же по существу
либеральное движение в Англии одержало блестящую
победу на последних выборах, победу, которая не имеет
себе аналогии в истории парламентских выборов. Что
такое было это движение, как не воспроизведение на
почве английских условий именно той партийной
политики и той партийной организации, которая
воплощается у нас партией народной свободы? И в то же
время, если мы видим, что демократические идеи
слабы в Германии и особенно слабы в некоторых
северо-германских государствах, то это объясняется тем,
что там отсутствует этот «блок», отсутствует то
объединение демократических элементов, которое
написало на своем знамени партия народной свободы и в
котором заключается, на мой взгляд, идея, полная
великого исторического смысла.
Демократизм в Германии слаб. Почему? А именно
потому, что там единение демократических элементов
оказалось непрочным и временным, и наступило то
распадение, которое предрекают нам те, которые
рассматривают нашу партию, как непрочный,
временный, скоро преходящий блок. Я повторяю, что если
наша партия окажется временным, непрочным
блоком, то это будет самым плачевным свидетельством
культурной и политической незрелости русского
общества. Между тем, возвращаясь к Германии, я
скажу, что в Германии этот блок, распадение
которого предрекают нам в России, по моему глубокому
Идеи и политика в современной России 51
убеждению, подготовляется с неотвратимой
необходимостью.
Мы в настоящее время присутствуем в Германии
при процессе огромной исторической важности. Там
происходит крушение доктринального социализма:
всякий внимательный наблюдатель развития
германского социализма должен констатировать
неудержимую тенденцию в этом направлении. В связи с этим
крушением должна измениться тактика германского
социал-демократизма и должны открыться
перспективы для создания именно того «блока»: общественных
сил, который в России считается непрочным.
Таким образом, я полагаю, мы можем с полным
убеждением отстаивать идею, что наша партия есть
образование, исторически необходимое. Во всяком
случае, мы не должны так легко, как многие это
делают, играть с мыслью о возможном распадении в
России такого объединения демократических сил,
которое на Западе является плодом долговременной
борьбы, продуктом болезненного политического и
социального опыта и которое далось нам сразу, в силу
совершенно исключительных, особых условий развития
нашей общественной жизни.
Кроме идеи внеклассового объединения
демократических элементов на широкой либеральной и
демократической программе, в основании нашей партии
лежит несомненно и другая важная идея, на мой
взгляд всецело определяющая ее тактику. Это — идея
эволюционная. Я должен сказать, что вообще спор
между эволюционизмом и революционизмом для
меня представляется не простым партийным и не
внутрипартийным спором, а тяжбою между двумя
глубоко различными философскими миросозерцаниями.
Я считаю, что когда я отстаиваю эволюционную
точку зрения, то я говорю одинаково убедительно как
для представителей конституционно-демократической
партии, так и для представителей партии
социал-демократической, — одинаково убедительно или
одинаково неубедительно. Можно быть настоящим социал-
демократом, т.е. стоять за идею классовой борьбы,
как руководящую идею политики, и в то же самое
время начисто отрицать революционизм. Спор между
эволюционизмом и революционизмом есть столкнове-
52
П.Б.Струве
ние мировоззрений, столкновение точек зрения,
которые могут встречаться в самых различных партийных
окрасках.
Я бы определил основное разногласие между
эволюционизмом и революционизмом под политическим
углом зрения так: эволюционизм понимает политику,
как воспитание, революционизм понимает политику,
как принуждение. Революционизм основан на идее,
что в политике решающим фактором является
состязание физических сил. Эволюционизм основан на
идее, что таким фактором является духовное
перевоспитание людей. Таким образом, в философском
смысле противоположение революционизма и
эволюционизма гораздо значительнее и глубже случайного
политического противоположения «революционеров» и
«умеренных».
С этой точки зрения, как это ни звучит
парадоксально, к категории «революционизма» должна
всецело отойти такая, например, фигура, как фон Плеве, и
с другой стороны, в категорию эволюционизма, по
основной мысли своих произведений, входит
Л.Толстой, потому что руководящая идея социального
строительства Л.Толстого есть идея, что в основе
политического совершенствования общества должно лежать
воспитание личности.
Таким образом, я бы сказал, что
«революционизм», как таковой, есть по существу своему
полицейская идея с противоположным знаком. Ибо вера в
силу физического удара или физического
превосходства по существу своему тождественна с верой в силу
полицейского приказа, который тоже силен лишь
постольку, поскольку за ним стоит принуждение. Итак,
разногласие эволюционизма и революционизма есть
разногласие между политическими миросозерцаниями
принуждения и воспитания. Разногласие это
огромное, его никогда не следует, да и невозможно
замазывать. Между этими миросозерцаниями не может быть
компромисса, потому не может быть компромисса,
что в сущности эти миросозерцания представляют
собою два возраста социологической мысли, а между
двумя возрастами компромисса быть не может; может
быть последовательность, но не может быть
примирения.
Идеи и политика в современной России 53
Переходя к дальнейшей характеристике
революционизма, я сказал бы, что революционизм есть
миросозерцание грубо-утопическое. Это миросозерцание, с
одной стороны, грубо упрощает сложную и тонкую
действительность человеческой общественности,
многообразную и многогранную социальную
психологию. А с другой стороны, революционизм утопически
верит в физическую силу толпы. Он утопичен потому,
что он нетерпелив, а нетерпелив он потому, что он не
понимает того, что общественная эволюция как
процесс воспитания не знает чудес, чудесных
превращений, по существу своему работает медленно и
постепенно. Из этой общей философской и
психологической характеристике революционизма вытекает другая,
в высшей степени характерная и, в русских условиях,
особенно опасная его черта (опасная, впрочем, не
только в русских условиях, но, как я из
непосредственных наблюдений убедился, даже в условиях такого
развитого общества, как французское). Эта черта —
недоверие революционизма к работе
представительных учреждений.
А что же такое работа представительных
учреждений? Если они организованы сколько-нибудь
правильно и органически связаны с нацией, то их работа
есть один из важнейших органов политического
воспитания и, еще точнее, политического
самовоспитания нации. Не доверяя представительным
учреждениям потому, что он не верит в политическое
воспитание, революционизм эту медленную, постепенную,
недостаточно радикальную, недостаточно бьющую
работу желает заменить быстро действующими
«выступлениями» толпы. Революционизм самых различных
типов, от революционизма парижской городской
«общины» в эпоху великой революции и до
революционизма современных анархистов и антипарламентских
коммунистов, всегда держался за эту идею, прямого,
непосредственного действия масс, — за то, что
французские анархисты называют action directe. В этой
вере в непосредственное действие масс заключается
совершенно утопическая идея.
Что такое есть это непосредственное действие
масс, если конкретно в него вдуматься?
Непосредственное действие масс, как таковых, есть по существу
54
П.Б.Струве
действие масс как толпы. Если мы задумаемся
реально над тем, какова может быть сила и значение
непосредственно действующей толпы, то мы увидим, что
толпа есть всегда, я сказал бы, по самому существу
своему, скопище неорганизованное. И потому она
всегда слабее скопища организованного. А это значит:
в реальных условиях, при столкновении с
организованной властью и ее орудиями, толпа всегда с
необходимостью будет слабее скопища организованного,
выдвигаемого против нее существующей властью, если
эта власть не разложилась еще окончательно, еще не
совершенно подточена, а такие условия бывают
сравнительно редко в настоящее время. И потому при
столкновении неорганизованное скопище всегда
должно, в конце концов, оказаться побежденным
скопищем организованным, т.е. полицией или войсками.
Но помимо утопичности, т.е. недействительности
этого средства, как сводящегося к борьбе
неорганизованной силы с организованной, оно всегда лишено в
основе своей воспитательного значения: оно сводит
общественную борьбу именно к тому состязанию
физических сил, которое противоречит идее политики,
как воспитания общественного человека.
Я попытаюсь теперь в кратком резюме свести
воедино идейные основы нашей партийной позиции.
Наша партия либеральная: она отстаивает свободу
личности. И в то же время она отстаивает начало
свободы личности для всякой личности и потому она
демократична. И, в силу этого, в реально-политическом
смысле, она вовсе не отрицает, а наоборот,
утверждает в своей программе действенную, практическую
идею социализма. В то же время она есть партия не
классовая, а национальная. Она стремится объединить
все живые прогрессивные силы нации и этим
объединением поставить их все на службу идее целостного
национального возрождения. Она эволюционна, я не
революционна. Это значит: как бы ни смотрели
отдельные лица, как бы ни увлекались они теми или
другими условиями момента, в основе политического
миросозерцания нашей партии может лежать только
идея политики как воспитания, а не принуждения
общественного человека.
Идеи и политика в современной России 55
Такова та широта захвата, какой отличается наша
партия, партия не классовая, а национальная, партия
либеральная и в то же время не отрицающая
социализма. Такая широта идейного захвата несомненно делает
в высшей степени трудным объединение людей в одну
партию. Но, быть может, не было еще никогда
момента в нашей новейшей русской истории, когда
принадлежность к широкой, большой политической партии
была бы столь обязательна; когда повелительная
необходимость держаться сомкнутым строем была бы так
велика и так ясна. Как бы ни было трудно каждому из
нас подчиняться приемам и методам партии в тот или
другой момент, как бы подчас каждый из нас ни
расходился с теми или другими элементами партии, тем
не менее каждый из нас должен чувствовать в
настоящее время абсолютную нравственно-политическую
обязательность крепко держаться за партию. Ибо при
тех исключительно трудных обстоятельствах, в
которые поставлена теперь Россия, только сплоченное
действие демократических общественных элементов
может вывести нашу страну на путь действительного
обновления и здорового развития. Как бы каждый из
нас ни желал сохранить свою индивидуальную
независимость, он должен помнить, что принадлежность к
партии и действие в сомкнутом ряду является в
настоящее время прямо-таки этической обязанностью в
отношении к высшим интересам всей страны.
Я пытался охарактеризовать перед вами в общих
чертах то миросозерцание, которое лежит в основе
нашей программы, как я его понимаю. Я думаю, что
в этом понимании, несмотря на его субъективную
окраску, все-таки есть достаточно элементов, на
которых мы объединяемся. За это понимание нам
приходится считаться с тем, что нас посрамляют ужасными
кличками «буржуа» и «постепеновцы» и даже самой
ужасной — «либералы».
Я думаю, что нам не следует вовсе бояться
никаких худых прозвищ, даже прозвища «либералы», а
следует нам бояться поверхностных и ложных идей,
бояться словесных провозглашений и пуще всего
бояться того опьянения словесными провозглашениями,
в котором утрачивается самое важное и самое ценное
56
П.Б.Струве
для политического деятеля чувство — чувство
политической ответственности.
Я — «буржуа»!.. Почему? Агитационные собрания
научили меня этому. Я могу рассказать, как в одном
из агитационных собраний, происходившем на
Выборгской стороне в Петербурге, я был облит
презрением как буржуа за то, что я доказывал совершенную
невозможность и противокультурность экспроприации
частновладельческих земель без вознаграждения. Вот
случай, который может быть иллюстрацией того, как
наше миросозерцание отличается от миросозерцания
тех, кто нас посрамляет такими кличками.
Почему невозможна экспроприация без
вознаграждения? Я указал на простую вещь, что экспроприация
частновладельческих земель без вознаграждения
равносильна превращению в оберточную бумагу
ипотечных обязательств на 1 миллиард 900 миллионов
рублей; превращение в оберточную бумагу почти двух
миллиардов будет равносильно огромному
финансовому кризису, равносильно разрушению
государственного и всего частного кредита. Оно произведет такое
экономическое опустошение, такие бедствия, которых
удовольствие отобрания без вознаграждения
частновладельческих земель ни в коем случае не может
окупить. Вот за что нас называют «буржуа»!
Затем в одном агитационном собрании,
происходившем в одном крупном промышленном центре, мне
пришлось подвергнуться подобному же посрамлению
за то, что я говорил, что 8-часовой рабочий день не
может быть сразу введен в жизнь по велению
«учредительного собрания» во всех предприятиях.
Вот почему, вот за какие вины нас именуют
«буржуа». Мы тщательно взвешиваем каждое наше
обещание, пристально задумываемся над каждым
требованием, к нам обращенным. Когда нас на этом грехе
ловят, то говорят, что мы «буржуа». Почему? Потому
что мы отказываемся давать массам бессмысленные и
бессовестные обещания.
Еще недавно меня охарактеризовали в посрами-
тельном смысле кличкой «примиренца». Если отказ
давать бессмысленные и бессовестные обещания есть
примиренство, то я категорически заявляю, что я
«примиренец». Мы все в этом смысле примиренцы.
Идеи и политика в современной России 57
Нас в этом обвиняют, и это совершенно справедливое
обвинение, поскольку оно означает, что в основании
всего нашего политического миросозерцания лежит
понятие общественной эволюции и политического
преобразования как процесса воспитания
общественного человека.
Когда вас будут упрекать в том, что вы
«постепеновцы» и эволюционисты, возьмите в руки эту книгу:
посмертные сочинения Герцена. В ней вы найдете
заветы великого русского публициста, в ней вы найдете
политическое и социально-политическое завещание
Герцена. Это завещание великого русского либерала и
великого русского социалиста есть лучшее в мировой
литературе, гениальное оправдание эволюционизма. Я
говорю о том произведении, которое было напечатано
после смерти Герцена и представляет собою его
письма к старому его другу и товарищу Бакунину. Это
небольшое произведение есть неисчерпаемая
сокровищница глубочайших политических и
социально-политических мыслей.
Я позволю себе показать вам на цитатах из этого
произведения, в чем заключается существо нашего
миросозерцания. В своих письмах к Бакунину,
написанных незадолго до смерти, Герцен вскрыл то
глубокое разногласие, которое существовало между ним,
умудренным опытом социальным эволюционистом, и
Бакуниным, революционистом-романтиком и грубо-
революционным утопистом. Герцен писал Бакунину:
«Знания и понимания не возьмешь никакими coup
d'état и никакими coup de tête. Медленность,
сбивчивость исторического хода понимания нас бесит и
душит, она нам невыносима, и многие из нас,
изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других.
Хорошо ли это или нет? В этом весь вопрос. Следует
ли толчками возмущать с целью ускорения
внутренней работы, которая очевидна? Сомнения нет, что
акушер может ускорять, облегчать, устранять
препятствия, но в известных пределах, а их трудно устранить
и страшно переступать. На это, сверх логического
самоотвержения, надобен такт и вдохновенная
импровизация. Сверх того, не везде одинаковая работа и
одни пределы. Петр I, Конвент научили нас шагать
семимильными сапогами, шагать из первого месяца
58
П.Б.Струве
беременности в девятый и ломать без разбора все, что
попадется на дороге. "Страсть разрушения есть
творческая страсть" и вперед за неизвестным
богом-истребителем, спотыкаясь на разбитые сокровища, вместе
со всяким мусором и хламом».
Дальше Герцен вспоминает ужасный опыт
июньского восстания, свидетелем которого он был,
восстания французского революционного пролетариата:
«Мы видели грозный пример кровавого восстания,
в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и
спохватившегося на баррикадах, что у него нет
знамени. Сплоченный в одну дружину, мир
консервативный побил его. Вследствие этого было то
ретроградное движение, которого следовало ожидать. Но что
было бы, если бы победа стала на сторону баррикад?
В двадцать лет грозные бойцы высказали ли все, что у
них было за душой? Ни одной построяющей,
органической мысли мы не находим в их завете, а
экономические промахи не косвенно, как политические, а
прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к
голодной смерти».
«Общее постановление задачи, — говорит дальше
Герцен, — не дает ни путей, ни средств, ни даже
достаточной среды. Насилием их не завоюешь.
Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда
уляжется дым и расчистят развалины, снова начнет с
разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир,
потому что он внутри не кончен и потому еще, что ни
мир построяющий, ни новая организация не настолько
готовы, чтобы пополниться, осуществляясь. Ни одна
основа из тех, на которых покоится современный
порядок, которые должны рухнуть и пересоздаться, не
настолько еще почата и расшатана, чтобы ее
достаточно было вырвать силой, чтобы исключить из
жизни... Пусть каждый добросовестный человек сам
себя спросит, готов ли он. Так ли ясна для него
организация, к которой мы идем, как общие идеалы
коллективной собственности, солидарности? Знает ли он
процесс (кроме простого ломанья), которым должно
совершиться превращение в нее старых форм? Пусть,
если он лично доволен собою, пусть он скажет, готова
ли та среда, которая по положению должна первая
ринуться в дело».
Идеи и политика в современной России 59
Дальше, останавливаясь на особенностях
экономического переворота, Герцен говорит:
«Экономический переворот имеет необъятное
преимущество перед всеми религиозными и
политическими революциями в трезвости своей основы. Таковы
должны быть и пути его, таково и обращение с
данными. По мере того, как он вырастает из состояния
неопределенного страдания и недовольства, он
невольно становится на реальную почву. Тогда как все
другие перевороты постоянно оставались одной ногой
в фантазиях, мистицизме, верованиях и
неоправданных предрассудках — патриотических, юридических и
пр., экономические вопросы подлежат
математическим законам».
Дальше он говорит:
«Конечно, математический, как и всякий научный
закон, носит доказательство в самом себе и не
нуждается ни в эмпирическом оправдании, ни в
большинстве голосов. Но для приложения эмпирическая
сторона и все внешние условия осуществления
выступают на первый план. "Мотивы могут быть истинны, но
без достаточных средств они не осуществляются"
(Бентам). Все это принято во всех делах человеческих
и обходится слишком сангвиническими людьми в
деле такого значения, как общественное
пересоздание. Какой механик не знает, что его выкладка,
формула не перейдет в действительность, пока в ряду
явлений, захватываемых им, будут элементы, не
подчиняющиеся, посторонние или подлежащие другим
законам. Большей частью в физическом мире эти
возмущающие элементы несложны и легко вводятся в
формулы, как вес линии маятника, упругость среды, в
которой делаются его размахи и пр. В мире
исторического развития это не так просто. Процессы
общественного роста, их отклонения и уклонения и их
последние результаты до того переплелись, до того
неразымчато вошли в глубочайшую глубь народного
сознания, что приступ к ним вовсе не легок, что с
ними надобно очень считаться и одним реестром
отрицания, отданным как в приказе по социальной
армии, ничего, кроме путаницы, не сделаешь».
Развивая дальше этот ряд мысли, который я не
могу, к сожалению, воспроизвести перед вами во всей
60
П.Б.Струве
его подробности и, я сказал бы, во всей красоте
соединения глубины мысли с художественным блеском
формы, развивая этот ряд мыслей, который для нас и
для всего русского общества должен быть особенно
дорог, как последнее слово окончательно зрелой мысли
великого мыслителя-художника, Герцен говорит:
«Я нисколько не боюсь слова "постепенность"
опошленного шаткостью и неверным шагом разных
реформирующих властей. Постепенность, так же как
непрерывность, неотъемлема всякому процессу
разумения. Математика передается постепенно, отчего же
конечные выводы мысли о социологии могут
прививаться как оспа, или вливаться в мозги так, как
вливают лошадям лекарство в рот сразу. Между
конечными выводами и современным состоянием есть
практические облегчения пути, и компромиссы и диагонали
(буквально так: "компромиссы!"). Понять, которые из
них короче, удобнее и возможнее — дело
практического такта, дело революционной стратегии. Идя без
оглядки вперед, можно затесаться, как Наполеон в
Москву, и погибнуть, отступая от нее, не доходя даже
до Березины».
Дальше Герцен рассматривает основные
требования социализма и показывает, в какой мере общие
формулы социализма неприложимы к той
действительности, на которую желают именно этими формулами
воздействовать. Я прочитаю вам только то
заключение, в котором выражается вся глубина понимания и
вся та — я бы сказал — стоическая искренность, с
которой Герцен писал свое завещание:
«Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных
домов, слушая в лихорадке, как расстреливали
пленных, я всем сердцем и всеми помышлениями звал
дикие силы на месть, на разрушение старой
преступной веси, звал, даже не очень думая, чем она
заменится. С тех пор прошло двадцать лет. Месть пришла
с другой стороны, месть пришла сверху. Народы все
вынесли, потому что ничего не понимали ни тогда,
ни после. Средина вся растоптана и втоптана в
грязь... Длинное, тяжелое время дало досуг страстям
успокоиться и мыслям отстояться, дало досуг на
обдумывание и наблюдение. Ни ты, ни я — мы не
изменили наших убеждений, но разно стали к вопросу. Ты
Идеи и политика в современной России 61
рвешься вперед по-прежнему со страстью разрушения,
которую принимаешь за творческую страсть... ломая
препятствия и уважая историю только в будущем. Я
не верю в прежние революционные пути и стараюсь
понять шаг людской в былом и настоящем, для того,
чтобы знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не
забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за
мною и не могут идти... Высказать это в том кругу, в
котором мы живем, требует если не больше, то,
конечно, не меньше мужества и самостоятельности, чем
брать во всех вопросах самую крайнюю крайность».
В дальнейшем письме я хочу еще подчеркнуть
одно место:
«...Я не верю, — писал Герцен Бакунину, — в
серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую
силу развития и сделкам <буквально так: "сделкам!"
Я. О. Проповедь нужна людям, проповедь
неустанная, проповедь равно обращенная к работнику и
хозяину, земледельцу и мещанину. Апостолы нам
нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов
разрушения. Апостолы, проповедующие не только
своим, но и противникам. Проповедь к врагу —
великое дело любви. Они не виноваты, что живут вне
современного потока, какими-то просроченными
векселями прежней нравственности. Я их жалею, как
больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти, с
грузом богатств, который их стесняет, который их
стянет в нее. Им надобно раскрыть глаза, а не
вырвать их, чтобы они спаслись, если хотят. Греки
радикальнее нас говорили: мудрому закон не нужен, его
разум — закон. Ну, так и начнем с того, что сделаем
сами себя и друг друга мудрыми».
В цитируемом произведении Герцена с
поразительной ясностью и глубиной проведена именно та идея,
которую я считаю центральной идеей нашей партии,
идея политического воспитания общественного человека.
И поэтому, когда вас будут обвинять в
«буржуазности» и «постепеновщине», ответьте наши обличителям
глубоко обдуманными и выстраданными всею жизнью
мужественными словами Герцена: «Я нисколько не
боюсь слова "постепенность"». Когда вас будут
упрекать, что вы стоите за «сделки» и впадаете в
«компромиссы», — ответьте своим обличителям словами Гер-
62
П.Б.Струве
цена: «Я не верю в серьезность людей,
предпочитающих ломку и грубую силу развитию». Скажите им
вместе с Герценом, что «между конечным выводом и
современным состоянием есть практические
облегчения пути, компромиссы и диагонали».
Слово «компромисс», которым так легко
швыряются в наше время, двусмысленно и даже многосмыс-
ленно. Не забывайте никогда и постоянно
повторяйте, что развитие демократии есть цепь компромиссов,
ибо сама демократия есть, как метко указал Бернш-
тейн, «высшая школа компромисса», ибо воспитание
есть не что иное, как система психологических
компромиссов. Но помните в то же время, что никакая
идея воспитания не может оправдывать примирения с
насилием и насильничеством, откуда бы оно ни
исходило. Никогда мы не должны этого забывать. Никогда
мы не должны забывать, что — во имя высших начал
и целей, которыми живет и должна жить наша
партия — мы обязаны оставаться непримиримыми
врагами насильничества. Но также обязаны мы быть
непримиримыми врагами трусливых и бесчестных
компромиссов с ложью, в какие бы соблазнительные
одежды она ни облекалась, и никогда не сдаваться на
капитуляцию незрелой мысли, каким бы престижем
она не обладала в данный момент. Во имя
демократии, стойте непримиримо против всякой демагогии!
Вашей руководящей идеей должна быть мысль, что
честная политика, основанная на справедливости,
есть в своем существе не что иное, как воспитание
общественного человека, а воспитание и
самовоспитание не может быть основано на сделках с ложью!
FACIES HIPPOCRATICA.
К характеристике кризиса в современном
социализме
Самым замечательным процессом, переживаемым
в настоящее время человечеством, является глубокий
внутренний кризис, происходящий в социализме. Я
подчеркиваю слово «внутренний», потому что имею в
виду не фракционные свары, не национальные
перекоры, не случайные отливы и приливы мнений, а
гораздо глубже уходящий процесс разочарования и
саморазложения, совершающийся в социализме в
связи с огромными внешними успехами его идеи и с
огромным ростом классовой солидарности
пролетариата.
Отыскать в истории аналогию этому идейному
процессу не так легко. Одна аналогия, конечно,
бросается в глаза. Если угодно в одной краткой формуле
выразить эту сторону вопроса, то можно сказать:
социализм выветрился или выветривается, как религия.
Происходит обмирщение социализма и падает «хили-
астическая» вера в его осуществление.
Хилиазмом в истории христианства называется
учение или вера в близкое осуществление на земле
тысячелетнего Царства Христова. Первоначальное
христианство все проникнуто этой верой; все горит
хилиастическим энтузиазмом. Та же вера в близкое,
полное и осязаемое осуществление нового мирового и
жизненного уклада двигала людьми в великую эпоху
реформации, и времени великой революции была не
чужда эта вера и эта мысль.
Христианство до сих пор не может внутренно
переработать своего «хилизма». До сих пор именно
около него кружится, страждет, борется с собой
философствующая христианская мысль. В особенности
верно это относительно русской философии
христианства, «богоматериализма» Владимира Соловьева и
его учеников, ожидающих «преображения космоса».
64
П.Б.Струве
Теперь для современного христианского хилиазма
существен, конечно, не вопрос о близости, не вопрос о
сроке, а существо дела, вопрос о материализации
Царства Божия в мировом и историческом процессе.
Христианство, когда рухнула его вера в близкое
наступление Царства Божия, психологически
потускнело, стало более внутренним и более трудным, «серым».
Осуществление его Царства Божия из божественной
космической феерии, всем доступной и для всех
увлекательной, превратилось в тончайший психический
процесс, бесконечный, незавершимый, далеко не для
всех доступный и не всем интересный. Современное
«падение» религии связано с этим вековым процессом
ее «спиритуализации», ее разрыва с теологическим
материализмом. Следует прямо сказать: религия в наше
время открепилась от всяких материальных
представлений и потому в данную эпоху развития человечества
стала в буквальном и точном смысле слова делом
аристократическим, доступным немногим «лучшим».
Что бы ни говорили идеалисты материального Царства
Божия (из школы Соловьева), толпа утратила или все
более и более утрачивает способность верить в его
материализацию, а для религии внутренней необходимо
перевоспитание человека, утончение всей его духовной
личности. Носить и творить Бога в своей душе гораздо
труднее, чем ожидать от него материальных чудес.
Социализм не христианство; он даже в своих
самых богатых формах меньше, беднее и плоше
христианства. Но аналогия формальная все-таки остается
верной. Вера в близкое, полное, механическое
осуществление социализма, вообще в его
«осуществление» рушится или, вернее, уже рухнула. Процесс этот
сложный, и я не могу здесь высказать всего того, что
давно уже сложилось в моем уме.
Недавно на русском языке появилась книга, на
страницах которой с поразительной ясностью
выступает современный кризис социализма. Я имею в виду
«Размышления о насилии» Жоржа Сореля1.
1 Перевод под редакцией прив.-доц. московского университета
В.М.Фриче. Москва, 1907 г. (Книгоиздательство «Польза»),
стр. 163.
Facies Hippocratica
65
В 1900 году в своей статье о «Марксовой теории
социального развития», напечатанной в «Архиве»
Брауна1, я вскрыл лежащую в основе ортодоксального
марксизма «мифологию понятий»
(«Begriffsmythologie») и в то же время поставил вопрос, какое реальное
значение имела и имеет в социальном развитии эта
«мифология».
Это значение, на мой взгляд, было очень велико.
«Мысль, что только верные по содержанию или
истинные идеи могут производить полезное действие на
личную или общественную жизнь, есть
рационалистический предрассудок. Научно ложные идеи могут, в
силу своего психологически обусловленного действия,
оказывать на общественную жизнь могущественное и
благотворное влияние. Они могут приводить к
политически верным действиям». Но, когда я говорил о
«полезном действии» объективно ложных мыслей2, я
всегда предполагал, что и те, к которым обращена
проповедь, и сами проповедники не только не
сознают объективной ложности проповедуемого, но,
наоборот, уверены в его истинности. Словом, социальные
иллюзии не означают социального обмана. Маркс,
Энгельс, Бабель, Каутский в самых главных,
существенных пунктах верили (или верят) в те «догмы»,
которые они проповедовали.
Nous avons changé tout cela. Глубоким моральным и
идейным разложением отдает от тех рассуждений, в
которых философ синдикализма в основу своей
проповеди кладет циническое признание
мифологического характера ее основной концепции.
Сорель не верит в афоризм Конта: savoir c'est
prévoir, но из этого скептицизма по отношению к
научному предвидению в социологии для него вытекает
не сознание практической сложности и
ответственности всякого общественного действия, а, наоборот,
безграничная свобода действовать во имя своих ми-
1 Т. XIV. Есть никуда не годный, сделанный без моего
разрешения, русский перевод этого критического опыта.
2 Эту тему на разные лады, независимо от меня, развивал в
немецкой литературе Георг Адлер.
66
П.Б.Струве
фологических концепций. «Я не придаю... большого
значения тем возражениям практического характера,
которые делаются против всеобщей забастовки. Мы
вернулись бы к старому утопизму, если бы стали
смотреть на гипотезы о будущей борьбе и на средства
уничтожения капитализма, как на исторические
факты. Мы не имеем возможности научным путем
предвидеть будущее или даже спорить о
преимуществах одних гипотез пред другими; слишком много
памятных примеров доказали нам, что и самые великие
люди впадали в глубочайшие заблуждения, когда
желали стать хозяевами даже ближайшего будущего».
Для иллюстрации Сорель ссылается на
апокалиптический «миф», лежавший в основе первоначального
христианства; на неисполнившиеся «надежды» Лютера
и Кальвина; на ту «волшебную картину, которая
рисовалась перед ослепленными очами» первых пророков
французской революции; на «безумные химеры» Мад-
зини — словом, на целый ряд случаев, когда иллюзии
играли определяющую роль в исторической жизни. Из
этих фактов для Сореля вытекает следующий вывод:
«Поэтому совсем неважно знать, какой из мелочей,
составляющих мифологическую концепцию, суждено
осуществиться в ходе исторических событий; это ведь
не астрономические альманахи; возможно даже, что
ни одна из деталей не осуществится, как это
случилось с ожидаемой христианами катастрофой. На эти
мифы нужно смотреть просто как на средство
воздействия на настоящее, и споры о способе их реального
применения к течению истории лишены всякого
смысла; для нас важна вся совокупность
мифологической концепции, отдельные ее части важны лишь
постольку, поскольку они позволяют рельефнее
выступать заключающейся в ней идее. Поэтому совершенно
бесполезно рассуждать о тех случайностях, которые
могут произойти во время социальной войны, и о
решительных столкновениях, могущих дать
окончательную победу пролетариату. Даже в том случае, если бы
революционеры во всем ошибались, рисуя себе
фантастическую картину всеобщей забастовки, эта
картина может быть фактором великой силы во время
подготовки к революции, если только эта картина вклю-
Facies Hippocratica
67
чает в себя стремления социализма и выражает
совокупность революционных идей с такой
определенностью и яркостью, каких им не могли бы придать
другие методы мышления... Для нас совершенно неважно,
есть ли всеобщая забастовка нечто реально
осуществимое или только плод народного воображения (курсив
мой. — П.С). Весь вопрос состоит в том, чтобы
выяснить, заключается ли в ней все то, чего ожидает от
революционного пролетариата социалистическая
доктрина»1.
«Социалистическая» философия Сореля,
выставляющего себя верным продолжателем Маркса,
знаменует собой, в сущности, полный отказ от самой идеи
научного социализма.
Такой отказ, родившийся в недрах самого
влиятельного социалистического учения, марксизма, есть
яркий симптом разложения социализма. В то же
время Сорель очень далек от критического
социализма. В области экономического истолкования истории
ему принадлежат едва ли не самые чудовищные
материалистические объяснения, когда-либо данные,
объяснения, на которых мы теперь не станем
останавливаться.
Но все эти чрезмерности, очевидно, не продуманы
Сорелем так же, как им не продумана — с
«материалистической» точки зрения — его же собственная
характеристика экономической современности.
Исторический материализм, сохраняясь у Сореля
как словесная оболочка, превращается на самом деле
в свою собственную противоположность. В лице
Сореля перед нами чистейший романтик, для которого
социализм есть идеал мистический и эстетический.
Если бы я был ортодоксальным марксистом, —
такая характеристика в моих устах означала бы сама
по себе наихудшую хулу. Но я вовсе не считаю
романтизма просто реакционной идеологией. В
романтизме есть элемент вечной ценности и красоты.
Превращение исторического матерализма в
романтически-эстетическое и религиозное построение есть,
1 Стр. 56.
68
П.Б.Струве
в сущности, возвращение этой концепции в ее
материнское лоно. Мне уже приходилось не раз указывать,
что исторический материализм возник на почве
романтической реакции против революционного
рационализма XVIII века. Генетически он стоит в тесной
связи с развитием «историзма», или «исторического
духа», характерного для начала XIX века.
Прежде чем стать идеологией революционной,
исторический материализм был идеологией
консервативной или даже реакционной. Луи Блан и, в
особенности, Маркс и Энгельс рационализировали в
революционном смысле исторический материализм,
освободив его от романтических или религиозных
мотивов. Сорель тем и интересен, что он, наоборот, в
рационализированный Марксом исторический
материализм вносит струю романтическую и мистическую, —
отчасти под влиянием Ницше, идеи которого
являются несомненным возрождением романтики.
Проповедь «всеобщей стачки» и «пролетарского
насилия», составляющая сущность нового
романтического марксизма, опирается на откровенное
исповедание мистицизма. «Позитивисты, которые
представляют высшую ступень посредственности,
самонадеянности и педантизма, — пишет Сорель, — объявили,
что философия должна исчезнуть перед их наукой; но
философия не только не умирает, а, напротив,
пробуждается. Относительно метафизики можно сказать,
что она вернула свои утерянные позиции, вскрывая
иллюзорность так называемых научных решений
вопросов, возвращая умы снова к мистической области,
области, которую так ненавидит "маленькая наука".
Позитивизм находит восторженных поклонников
разве только еще среди некоторых бельгийцев или
чиновников министерства труда, т.е. людей, не
играющих никакой роли в мире мысли»1.
И в разных других отраслях человеческой
деятельности Сорель вскрывает мистическое начало. Он
отрицает прежде всего, «чтобы исчезали и религии».
«Наука об искусстве» невозможна, «потому что сущ-
1 Стр. 70.
Facies Hippocratica
69
ностью искусства является таинственность,
незаметные оттенки, недосказанность; чем правильнее и
совершеннее рассуждение, тем более способно оно
заслонить достоинства произведения искусства».
«В каждом сложном целом надо различать область,
доступную исследованию, от области недоступной, и...
эта последняя, может быть, и есть самая важная».
Курьезны по существу, но весьма характерны для Соре-
ля те замечания, которые он под этим углом зрения
делает о морали, законодательстве и экономической
жизни. «В экономической науке... вопросы,
относящиеся к обмену, легко поддаются изложению: методы
обмена в разных странах очень похожи друг на друга,
и едва ли кто рискует сказать слишком очевидную
нелепость относительно денежного обращения (sic! —
П. С); зато все, что касается производства, страшно
запутано; как раз в этой области дольше всего
сохраняются местные традиции; можно без конца сочинять
самые смешные утопии о способах производства,
нисколько не шокируя здравого смысла читателей.
Никто не сомневается, что производство есть основа
хозяйственной жизни; эта истина играет важную роль
в марксизме и признана даже теми писателями,
которые не сумели понять ее значения»1.
Вершины своей этот мистически-исторический
материализм достигает в характеристике социализма и в
религиозно-ницшеанском обосновании всеобщей
стачки. «Социализм поневоле остается неясным вопросом,
потому что он есть прежде всего вопрос о
производстве, т.е. о самой неизвестной и загадочной области
человеческой деятельности, потому что он ставит
своей задачей произвести коренной переворот в
области, не поддающейся точному и ясному описанию,
как другие области, лежащие более на поверхности.
Никакое усилие мысли, никакой прогресс знания,
никакая логическая индукция не рассеет той
таинственности, которая окружает социализм; и только
благодаря тому, что марксизм хорошо понял эту черту его
характера, он завоевал себе право служить исходной
1 Стр. 72.
70
П.Б.Струве
точкой во всех социальных исследованиях. Спешим,
впрочем, прибавить, что эта неясность и
таинственность относятся к тем рассуждениям, при помощи
которых хотят определить конечную цель социализма;
это, однако, нисколько не мешает представить себе
пролетарское движение самым полным, отчетливым и
точным образом при помощи той великой идеи,
которая родилась в душе пролетариата во время
социальных конфликтов и которая известна под названием
всеобщей забастовки. Не нужно забывать, что все
совершенство этого рода представлений мгновенно
исчезнет, если попытаться разложить всеобщую
забастовку на ряд отдельных исторических деталей;
нужно принять ее как нечто целое, неделимое и
рассматривать переход от капитализма к социализму как
катастрофу, процесс которой не поддается
описанию»1.
Мистическим туманом окутана у Сореля эта
катастрофа. Для понимания ее он проводит
психологическую аналогию между борьбой за социализм путем
всеобщей стачки (следует отметить сейчас же, что к идее
всеобщей политической стачки Сорель относится с
величайшим презрением) и революционными войнами.
Исходной точкой этой аналогии является ницшевское
восхваление «белокурого зверя», «blonde Bestie».
Война и борьба вообще — стихия, эстетически
привлекательная для Сореля. Жестокий беспощадный
капитализм ему гораздо милее, чем капитализм,
приспособляющийся к пролетариату, ищущий с ним
соглашений и мира.
Сможет ли пролетариат не только разрушить
старый буржуазный мир, но и создать новый
пролетарский? Этот вопрос для Сореля имеет тем большее
значение, что между буржуазией и пролетариатом для
него существует не простая классовая
противоположность, а зияет какая-то чисто мистическая пропасть.
Загадочно, откуда берутся такие фантастические
представления об экономической и психологической
действительности нашего времени: вернее всего, что они
1 Стр. 14.
Facies Hippocratica
71
являются плодом сочетания известных чувств и
эмоций с отсутствием ясных научных представлений о
реальном мире.
Нелишне Подчеркнуть, что суждения Сореля об
экономической жизни поражают наивностью и подчас
невежестом1.
Несмотря на все свое легкомыслие в
экономических вопросах, Сорель понимает, однако, что «нельзя
никоим образом сравнивать ту дисциплину, которая
побуждает рабочих к общей приостановке работы, с
дисциплиной, которая может заставить их с
наибольшей ловкостью управлять машинами»2.
От понятия и слова дисциплина Сореля несколько
коробит. Слово дисциплина «одинаково употребляют
для обозначения правильного поведения, основанного
как на внутреннем убеждении, так и на внешнем
принуждении».
Решение проблемы Сорель, влюбленный в войну,
видит в душевных свойствах, которые всеобщая
стачка, как акт войны, создаст в рабочих и которые будут
определять поведение «свободных производителей,
работающих в мастерской, в которой нет хозяина». В
эпоху революционных войн, по словам Сореля, «каж-
1 На стр. 158 читаем: «Если Германия не завоевала еще себе
того места в экономической жизни, какое должно было бы ей
принадлежать благодаря минеральным богатствам, скрытым в ее
почве, благодаря энергии ее промышленников и знаниям ее
техников, то это потому, что в течение долгого времени ее
фабриканты не стеснялись наводнять рынок плохими фабрикатами;
хотя за последние несколько лет (sic!) немецкое производство и
сильно улучшилось, однако оно еще далеко не пользуется
большим вниманием (sic!)». Внимание Сореля к фактам
действительно невелико. Германия по производству каменного угля занимает
в мировом хозяйстве третье место, после Соединенных Штатов
и Соединенного Королевства; по выплавке чугуна — второе
место после Соединенных Штатов и перед Соединенным
Королевством (с 1903 г.). В химической промышленности Германия
занимает первое место. Интересно, какое «место» «должна была
бы» занимать Германия в этих отраслях промышленности и
когда она удостоится «большого внимания» г. Сореля. Я
отмечаю подобные суждения, потому что они бросают свет на тот
материал положительных знаний, при помощи которого
возводятся теории, возвещающие полный переворот в хозяйственной
жизни человечества!
2 Стр. 152.
72
П.Б.Струве
дый солдат смотрел на себя как на личность, которой
предстоит выполнить в сражении нечто очень важное,
а не считал себя лишь составной частью военного
механизма, вверенного верховному управлению
начальствующего лица. В литературе этого времени
обращают на себя особое внимание постоянные
противопоставления свободных людей из республиканских армий
автоматам армий королевских; и такие утверждения
отнюдь не были в устах писателей простыми
риторическими фигурами. ...Поэтому сражения нельзя было
тогда уподоблять шахматной игре, в которой человек
играет роль пешки; они становятся средоточием
героических подвигов, совершаемых отдельными
личностями, которые находят побуждение для своих
действий в своем собственном энтузиазме»1.
«Тот же дух наблюдается и в рабочих группах,
возбужденных всеобщей стачкой; действительно, эти
группы представляют себе революцию как огромное
восстание, которое можно еще трактовать с
индивидуалистической точки зрения: каждый действует с
возможно большим воодушевлением, отвечает сам за
себя, не заботится о подчинении своих действий
широкому общему плану, построенному на научных
основаниях... всеобщая стачка, так же как и войны за
освобождение, представляет из себя наиболее
блестящее проявление индивидуалистического духа в
поднявшихся массах».
Вот то шаткое основание, на котором философски
держится идея всеобщей стачки. Есть что-то
беспомощно-наивное и в то же время глубоко циническое
в этой мистической проповеди социального
переворота без плана, на авось, в расчете на героизм,
возбуждаемый «индивидуалистическим подъемом» в
беспощадной войне между классами. Но Сорель, по
крайней мере, в революционном синдикализме не
упраздняет этических мотивов и сил. К героизму
индивидуалистического подъема на войне, приводящего к
«суеверной добросовестности, к выполнению малейших
приказаний» (хорош индивидуализм!), чуждого
всякого корыстного расчета и всецело проникнутого само-
1 Стр. 153-154.
Facies Hippocratica
73
пожертвованием, он присоединяет столь же
бескорыстную «артистическую» склонность к
изобретениям, к нововведениям. «Идея всеобщей стачки,
постоянно обновляемая теми чувствами, какие вызывает
пролетарское насилие, создает глубоко этическое
настроение духа и в то же время направляет все силы
души в сторону осуществления идеи свободно
функционирующей и необыкновенно прогрессивной
мастерской; мы признали наличность весьма близких
аналогий между чувствами, вызываемыми всеобщей
стачкой, и теми чувствами, которые необходимы для
обеспечения необходимого прогресса в производстве.
Мы имеем, следовательно, право утверждать, что
современное общество обладает основным двигателем,
способным создать мораль производителей»1.
Не Жоржу Сорелю, а русскому религиозному
философу г. Минскому было дано провозгласить и
возвести в перл создания полную, животную
беспринципность и безыдейность синдикализма2.
Синдикализм — говорит он — «чужд доктринерства».
«У анархо-коммунистов он (синдикализм)
заимствовал антиэтатизм3, но не как идейное отрицание
принципа власти вообще, а как отрицание современного
аппарата власти, находящегося в руках чужого класса
(курсив мой. — П.С). Относясь враждебно ко всем
функциям буржуазной власти.., синдикализм
нисколько не отвергает принципа принудительной власти
вообще и у себя, в своих классовых организациях,
практикует в самых крайних формах авторитет,
принуждение и дисциплину. Синдикализму нет дела до кисло-
сладких мудрствований разных "материалистических
идеалистов" о священных правах меньшинства, о
личности как самоцели истории или о законе
взаимопомощи как противоположном закону борьбы4. Само
собой разумеется, что каждый рабочий, как личность,
хочет освободиться от гнета капитала, но достигнуть
этой цели он может только тогда, когда за ее осу-
1 Стр. 162.
2 Статья «Рабочая партия и рабочий класс» в № 11 журнала
«Перевал».
3Т.е. противогосударственный дух. — П. С.
4 Полемическая выходка против кн. Кропоткина.
74
П.Б.Струве
ществление возьмется весь рабочий класс. Поэтому
каждый рабочий во имя своей личной воли
отказывается от этой воли, сливает ее с волей всего класса и
перед ней исчезает... Синдикализм, устраивая стачки,
проявляет над меньшинством штрейкбрехеров или над
"желтыми" самое решительное насилие, ибо без
попрания прав меньшинства ни одна стачка не удалась
бы. Считая дозволительными в борьбе все средства,
до ломки машин и порчи материала и продуктов
(саботаж) и до ужасов всенародного столбняка, в
который должна повергнуть страну всеобщая стачка,
синдикализм будет практиковать политику борьбы по
отношению к враждебным классам и политику
взаимопомощи по отношению к своему классу, т. е.
поступать так, как поступали всегда все живые организмы,
стремясь к социальным целям, достижимым силами
многих. Синдикализму нет дела даже до того, какова
будет психология пролетариата на следующий день
после революции, ибо он сам и есть этот пролетариат,
а от своей природы все равно никуда не уйдешь. Если
окажется возможным устроиться свободными
союзами, пролетариат их устроит. Если понадобится
принудительная власть, он создаст деспотическую власть,
но только свою собственную, пролетарскую, а не
буржуазную»1.
Facies hippocratica! Так называли в древности по
имени великого врача Гиппократа, нарисовавшего
живую картину приближающейся смерти, лицо, на
котором лежит уже отпечаток кончины. В
произведениях философов синдикализма перед нами faciès
hippocratica социализма, основанного на возведении
классового начала в абсолют.
Социалисты и историки начала XIX века открыли
и разъяснили значение классовой борьбы в развитии
общества. Но, стремясь сами к рациональному
гармоническому построению общества, они считали
классовое разъединение злом и призывали к единению и
союзу классов.
Маркс, восприняв от своих предшественников
социологическую оценку классовой борьбы, возвел ее в
Стр. 28 указанной статьи.
Facies Hippocratica
75
ранг основного психического рычага преобразования
старого буржуазного общества в новое
социалистическое. Из начала злого и разрушительного, каким
классовая борьба была для социалистов, называемых
утопическими, она под руками Маркса и Энгельса
превратилась в начало доброе и творческое. Маркс был
вообще в социализме философом не целей и задач, а
средств и путей. Но с Марксом и марксистами
случилось то, что почти всегда с какой-то психологической
фатальностью происходит в таких случаях.
Фиксировав свое внимание на средстве, они превратили его в
абсолют, и оно вытеснило из поля их зрения цель.
Возведение классового начала и классовой борьбы
в абсолют есть отличительная особенность, сигнатура
марксизма. С этой практической абсолютизацией рука
об руку шла абсолютизация теоретическая.
Понятие «класс» есть попытка для сложной
системы многообразных текучих общественных отношений
указать как бы точку кристаллизации, выделить такое
единство, какое могло бы мыслиться как верховный
субъект и деятель этих отношений. Это вполне
законная операция, но необходимо помнить ее границы и
смысл. Марксистская социал-демократия никогда об
этом не думала. Руководясь своей практической
тенденцией организации и воспитания рабочих масс
(преимущественно организации и воспитания
политического), она возвела идею класса в мифологический
абсолют и подвела самое себя, т. е. политическую
партию, под это мифологическое понятие. Огромная
организующая роль этой парктической и
теоретической абсолютизации идеи класса не может быть
оспариваема. Но, сделав класс политической партией,
социал-демократия неразрывно связала свое поведение с
современным государством, «буржуазным» и
«капиталистическим», и практически притупила о него острие
своей классовой идеи. Абсолютизм классовой борьбы,
абсолютная враждебность государству,
непримиримость с ним превратились в фразу, в лучших случаях
в то, что немцы называют «Sonntagsidee», в идею
воскресного дня, на которой, ради духовного
разнообразия, отдыхает утомленный серыми буднями ум.
«Синдикализм» и его философия есть последняя
отчаянная попытка спасти неприступную для буржу-
76
П.Б.Струве
азных искусителей и искушений абсолютную святыню
классовой идеи. На ней — что бы ни говорил Сорель
об этике — лежит печать вырождения и «звериной»
кончины: в почти восторженной философской
реляции г. Минского о синдикализме чувствуется дыхание
этой звериной смерти. Устами новых проповедников
«чисто волевой», «первичной», «стихийной» классовой
борьбы говорит нагота готтентотской морали, лишь
умащенная пахучими румянами эстетизма.
В эстетизме и мистицизме, который хочет
действенно, практически прикрепиться к «мозолистой
руке» пролетария, который гутирует запах пота,
смешанного с кровью, есть что-то глубоко фальшивое и
отталкивающее. Я понимаю Флобера, в одном из
своих чудесных писем признающегося, что из всей
политики, которую он, с высоты своего одиночества,
вообще презирал, он любит только один «бунт»
(erneute). Но, эстетически любя «бунт», любуясь им,
Флобер никогда не брал за него ни моральной, ни
идейной ответственности. Он бывал в салоне
принцессы Матильды, но не ходил на собрания, никогда
не произносил перед народом зажигательных речей и
не издавал социалистических газет. Нечего и говорить
о том, что Ницше, «blonde Bestie» которого
вдохновляет Жоржа Сореля в его мифологии всеобщей
стачки, не призывал народные массы к мистическому
«бунту» во имя стихийного классового насилия.
Самое учение о великом творческом значении
вражды или войны одно — в устах мыслителя,
обозревающего с уединенной вершины метафизического
созерцания мир и людей, и другое — в устах людей,
предлагающих «устраивать»... стачки и
проповедующих «action directe». Звено великой космической
системы, целого учения о Божестве превращается тут
либо в смешную претензию овладеть многообразием
социальной жизни при помощи мистического
заклинания, либо, того хуже, в эстетическую гримасу.
Метафизические и религиозные идеи велики в своей
области; перенесенные в другую область, они становятся
карикатурой. В социальной философии Маркса и в
особенности Прудона и Лассаля еще чувствуется
метафизическая широта построений Гераклита и Гегеля.
Но Гераклит, несмотря на все эстетические прикрасы,
Facies Hippocratica
77
даже coiffé à la Nietzsche, не может, не становясь
смехотворным, проповедовать «la grève générale» на 3, Rue
du Chateau d'Eau.
Таков философский синдикализм.
За его эстетическими гримасами скрывается
смертельная болезнь социализма, опирающегося на
классовую идею как на абсолют. Она, эта центральная
религиозная идея новейшего социализма, рушится вместе
с верой в социалистический хилиазм.
Для реального рабочего движения и для реальной
социальной политики рабочего класса в том процессе
крушения социалистической мифологии, который
знаменуется самим появлением философского
синдикализма, нет ничего опасного. Синдикализм возник и
«могуществен» там, где рабочие союзы или синдикаты
слабосильны. Его нет как сколько-нибудь заметной
величины, ни в Англии, ни в догоняющей ее по
развитию тред-юнионов Германии, ни даже в Бельгии.
Он играет крупную роль во Франции и в Италии. Обе
эти страны, в особенности по сравнению с
Германией, суть страны экономически отсталые.
Франция — страна в экономическом отношении почти
неподвижная в сравнении с Германией. Сравнение
французского народного хозяйства с германским, ду-
маетеся мне, показало бы, что первое проникнуто
реакционными началами и находится в состоянии
застоя. Экономически (и психологически) это,
вероятно, связано с остановкой в росте населения.
Реакционному капитализму и малоподвижной буржуазии
соответствует революционный социализм и бунтарский
пролетариат. Впрочем, не следует думать, что
революционный синдикализм сожжет дотла буржуазную
Францию. Французский рабочий глубоко проникнут
политическим разочарованием и заражен
политическим неверием, настоящим государственным
нигилизмом. Но социальные и политические катастрофы
родятся из таких настроений только там, где отсутствует
сильная государственная власть...
Синдикализм, как философия рабочего движения,
связан, как я уже сказал, с относительным
экономическим застоем, характеризующим французскую
хозяйственную жизнь. Если философы синдикализма
думают, что «Франции в наше время снова предстоит
78
П.Б.Струве
сделаться тем, чем она была столько раз доныне —
исторической теплицей, обращенной на полдень
культуры, страною, где революционные идеи и события
созревают на много лет раньше, чем в остальной
Европе», и что «синдикализм» «относится ко всему
прошлому социализму» «как высшая диалектически
необходимая органическая фаза, устраняющая и
поясняющая все пережитые доныне»1, то эти суждения
доказывают только экономический дилетантизм их
авторов и полное непонимание ими исторического
материализма. Во Франции могут, вопреки ее
хозяйственной отсталости, благодаря политическим
учреждениям, демократии, осуществиться широкие социальные
реформы. Но еще дай Бог, если удастся в скором
времени во Франции провести приличный подоходный
налог и страхование на случай старости и
неспособности к труду. Во всяком случае, не нужно быть
фанатическим сторонником «исторического
материализма», чтобы видеть всю несообразность теории,
которая ожидает в экономически отсталой среде,
характеризующейся застоем капитализма, появление новой
высшей социалистической идеологии и близкого
осуществления социализма. Впрочем, сам
первосвященник философского синдикализма, мнящий себя
«марксистом» Сорель, ничтоже сумняшеся, пишет, что
«англичанам вообще чужда идея классовой борьбы; их мысль
так и осталась порабощенной феодальными
традициями»1, и не замечает, что в этой характеристике
англичан заключается, с точки зрения исторического
материализма, величайший исторический парадокс и
глубочайшая социологическая загадка, о которой Маркс,
более 30 лет проживший среди англичан и в Англии
написавший «Капитал», даже не подозревал. Как в
капиталистическом обществе, послужившем «натурой»
для автора «Капитала», пролетариату могла остаться
«вообще чуждой» идея классовой борьбы, — это
непонятно и с точки зрения здравого смысла.
В конце концов, несмотря на все свои
теоретические слабости и отчасти благодаря им, философский
синдикализм сделал одно крупное дело: он еще яснее
1 Минский: цит. статья, стр. 17 и 18.
2 Стр. 55.
Facies Hippocratica
79
раскрыл глубокую фальшь, разъедающую
ортодоксальный марксизм и официальную социал-демократию.
Он был и есть один из факторов, подкопавших
гегемонию германской социал-демократии в
международном социализме1. Проблема практического бессилия
германской социал-демократии, так блистательно
поставленная Жоресом на Амстердамском конгрессе в
упор Бебелю, в сущности, сводится к банкротству
классового социализма в политической области,
банкротству, которое не может быть прикрыто никаким
лицемерием «революционных» и «катастрофических»
резолюций.
Классовый социализм не сотворил чудес в
политической области. Синдикализм обещает, что
применение классовой борьбы к чисто экономической области
сотворит чудеса. Это такая же или, вернее, еще
худшая иллюзия. За ней нет того, чего нельзя отнять у
официальной социал-демократии — нет ни научной
теории, ни организационного плана. Поэтому
банкротство, идейное и практическое, должно наступить
в этом случае гораздо скорее.
1 Это падение германской социалистической гегемонии весьма
ярко изображено в статье Р.Михельса: «Die deutsche
Sozialdemokratie im internationalem Verbände», в «Archiv für Sozialwissenschaft
u. Sozialpolitik». Juli-Heft, 1907.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Все перечувствованное и передуманное за
последние 5 лет, весь этот огромный проделанный нами
исторический опыт требует, чтобы мы его осмыслили.
Было бы ошибочно думать, что мы пережили
только «политические» годы и нуждаемся только в
политическом поучении, в политических выводах. Более того,
можно сказать, что в некоторых отношениях чисто
политическая точка зрения пока бесплодна. Бесплодна
потому, что как ни ясны некоторые политические
цели, никто не может пока указать ясных
политических путей к этим целям. Сравнительно с
дооктябрьским прошлым Россия сделала огромный
принципиальный шаг вперед в политическом отношении. Но
сделав этот шаг, она очутилась перед культурными
проблемами, которые, казалось, были оттеснены на
задний план политическим вопросом. Если прежде
можно было сказать — и, по крайней мере,
психологически это было верно, — что никакой культурный
прогресс невозможен без решительного, принципиального
политического разрыва с прошлым, — то теперь так же
решительно можно утверждать, что никакой
политический шаг вперед невозможен вне культурного
прогресса; без такого прогресса всякое политическое
завоевание будет призраком, будет висеть в воздухе.
Из фатального круга двух основных политических
положений: 1) необходима конституция, прочный
правовой порядок и 2) правительство, которое в
политическом смысле держит в своих руках положение,
ведет всякую иную, только не
конституционно-зиждительную и конституционно-консервативную политику,
оно — пленник и исполнительный орган реакции, —
из этого фатального круга самого по себе невозможно
Интеллигенция и народное хозяйство 81
извлечь ничего положительного. Все свести к критике
правительства значило бы безмерно преувеличивать
значение данного правительства и власти вообще:
источник неудач, разочарований и поражений,
постигших Россию, лежит гораздо глубже. Даже если бы
каким-нибудь чудом политический вопрос оказался
разрешенным, решение его лишь более выпукло
выдвинуло бы значение другой, более глубокой задачи.
Это значит: общество должно задуматься над самим
собой. Мы переживаем идейный кризис, и его надо
себе осмыслить во всем его национальном значении.
Потерпело крушение целое миросозерцание,
которое оказалось несостоятельным. Основами этого
миросозерцания были две идеи или, вернее, сочетание двух
идей: 1) идеи личной безответственности и 2) идеи
равенства. Применение этих идей к общественной жизни
заполнило и окрасило собой нашу революцию.
И тут прежде всего внимание останавливается на
судьбах русского народного хозяйства. В основе
всякого экономического прогресса лежит вытеснение
менее производительных общественно-экономических
систем более производительными. Это не общее
место, а очень тяжеловесная истина. Ее нельзя и не
следует понимать «материалистически», как делает
школьный марксизм. Более производительная система
не есть нечто мертвое, лишенное духовности.
Большая производительность всегда опирается на более
высокую личную годность. А личная годность есть
совокупность определенных духовных свойств:
выдержки, самообладания, добросовестности, расчетливости.
Прогрессирующее общество может быть построено
только на идее личной годности, как основе и мериле
всех общественных отношений. Если в идее свободы
и своеобразия личности был заключен вечный
идеалистический момент либерализма, то в идее личной
годности перед нами вечный реалистический момент
либерального миросозерцания.
Идею годности англичане выражают словом:
efficiency, немцы — словом Tüchtigkeit. Француз просто
скажет: force и будет прав. Ибо годность — сила.
В русской революции идея личной годности была
совершенно погашена. Она была утоплена в идее
равенства безответственных личностей. Идея личной
82
П.Б.Струве
безответственности есть прямая противоположность
идее личной годности. Я требую того-то и того-то,
совершенно независимо от того, могу ли я оправдать
это требование своим личным поведением, во имя
равенства всех людей — говорит идея личной
безответственности. Я требую того-то и того-то, и берусь
оправдать это требование своим личным поведением —
говорит идея личной годности. Эти
противоположения могут показаться отвлеченными, но мы с болью в
сердце наблюдали и наблюдаем их значение в русской
действительности.
Я нарочно не употребляю слова «социализм», хотя
идея безответственного равенства часто
проповедовалась и проповедуется и на Западе, и у нас под этой
популярной кличкой, в которую каждый влагает свой
смысл. Дело тут в идеях, не как отвлеченных
построениях, а как живых силах. Если идея личной годности
есть идея «буржуазная», то я утверждаю, что всякий
хороший европейский рабочий — органический
«буржуа», который в своем поведении так же не может
отрешиться от этой идеи, как человек вообще не может
разучиться передвигаться на двух ногах.
Русская интеллигенция воспиталась на идее
безответственного равенства. И потому она никогда не
способна была понимать самого существа
экономического развития общества. Ибо экономический
прогресс общества основан на торжестве более
производительной хозяйственной системы над менее
производительной, а элементом более производительной
системы является всегда человеческая личность,
отмеченная более высокой степенью годности.
Так, русская интеллигенция в ее целом не
понимала и до сих пор не понимает значения и смысла
промышленного капитализма. Она видела в нем только
«неравное распределение», «хищничество» или
«хапание» и не видела в его торжестве победы более
производительной системы, не понимала его роли в
процессе хозяйственного воспитания и самовоспитания
общества. Подчеркивая это, я повторяю то, на чем я
настаивал около 15 лет тому назад в своих
«Критических заметках«. Но следует откровенно сказать:
проповедь и успехи марксизма в этом пункте по существу
прошли почти бесследно для русской интеллигент-
Интеллигенция и народное хозяйство 83
ской мысли. Более того, самый марксизм в своем
широком общественном выражении, в русской социал-
демократии, оказался лишь особой перелицовкой
старого народничества.
В том, о чем я говорю, я вижу один из глубоких
идейных корней тех неудач, которые постигли наше
общественное движение. Значение того, как думает
интеллигенция, чрезвычайно велико. О том, что
между народом и интеллигенцией существует идейная
пропасть, в настоящее время могут говорить только
черносотенцы или те черносотенцы наизнанку,
которые, по-видимому, рекрутируются из бывших
декадентских кругов. Замечательный исторический и
социологический урок русской революции заключается
именно в том, что она показала, с какой легкостью
закрылась эта пресловутая «пропасть»: идеи
интеллигенции поразительно быстро проникли в народные
массы и действенно заразили их. В силу этого
ответственность интеллигенции за свое «умоначертание»
чрезвычайно велика. Оно перестало быть просто
интеллигентским делом.
Для того, чтобы не оставалось никакого
недоразумения, я должен сказать, что, на мой взгляд, в основе
столкновений общественно-экономических
миросозерцании лежат различные религиозные
миросозерцания. В основе нашего интеллигентского
экономического миросозерцания может лежать либо тот
безрелигиозный механический рационализм, из которого
выросла доктрина западноевропейского социализма,
своего рода общественный атеизм, либо то
религиозное народничество, самым ярким выразителем
которого является Лев Толстой и для которого идеал
человека — «Иванушка-дурачок». Оба эти, резко, до
враждебности различные мировоззрения сходятся в одном,
что они не уважают и не любят в человеке «силы» и
не различают в людях «качества», т.е. именно того, в
чем суть идеи личной годности.
* * *
Для тех, кто стоит на этой идее, имеющей, по
моему глубочайшему убеждению, религиозный
корень, должно быть ясно, что русская интеллигенция
нуждается в коренной перестройке всего своего обще-
84
П.Б.Струве
ственно-экономического мировоззрения. Я думаю, что
такая перестройка уже совершается.
Этот идейный процесс не может не иметь
огромного реального значения. Рядом с тем тупиком, в
который зашла интеллигентская мысль, с тем кризисом,
который она переживает — встает другой кризис,
это — тот кризис, в котором находится все наше
народное хозяйство. Помимо причин случайных и
временных — кризис этот обусловливается, в конце
концов, недостаточной производительностью народного
труда. Если главный идейный дефект интеллигенции
состоит в неуважении к идее производительности, то
ясно, что этот дефект может только подчеркивать и
обострять жалкое положение народного хозяйства,
движущей силой которого могут быть только человек
и его дух.
Выход из этого положения заключается в
коренном принципиальном, идейном изменении
отношения интеллигенции к производительному процессу в
обществе. В особенности это верно по отношению к
промышленности, которая и у нас в целом уже давно
сложилась в капиталистические формы.
Интеллигенция, как таковая, иногда по найму служит
производству, но в общественном смысле она всегда
рассматривала и рассматривает до сих пор этот процесс только
под углом зрения «распределения» или «потребления».
Она остается не только чуждой, но, в сущности,
враждебной его творческой, активной стороне, тому,
что в нем есть «производство», т.е. создание благ и
приращение ценностей, питание и совершенствование
хозяйства.
Она должна понять, что производительный
процесс есть не «хищничество», а творчество самых основ
культуры.
С другой стороны, практические, экономически
ответственные деятели этого процесса, занимающие в
нем «хозяйское» положение, не могут мыслить себя
просто как представители групповых или классовых
интересов. Интерес имеет лишь постольку
оправдание, отстаивание его есть лишь постольку культурное
дело, поскольку в основе самого интереса лежит
известное общественное служение, осуществление из-
Интеллигенция и народное хозяйство 85
вестной функции, имеющей творческое значение для
общества в его целом.
В возбуждении той основной для всей
общественной жизни функции, которую выполняет
национальное производство, в окрылении ее широкими идеями
и перспективами состоит, на мой взгляд, самая
настоятельная задача современности. Без осуществления
этой задачи невозможно оздоровление национальной
жизни.
К этой задаче нельзя подступиться ни с идеей
безответственного рвенства, ни с идеей классовой
борьбы, ни с идеей опеки, осуществляемой над обществом
стоящею вне этого общества властью. Ей
соответствуют только идея и идеал наивысшей
производительности и ее основы — наивысшей личной годности.
Развитие производительных сил страны должно
быть понято и признано как национальный идеал и
национальное служение. Развитие это может
осуществляться только на основе свободной дисциплины
труда, немыслимой вне идеи личной годности.
При свете этих общих идей задача экономического
оздоровления России, не теряя нисколько связи с
реальными условиями русской жизни, не может не
явиться задачей в высокой степени идеальной и
идеалистической. И этот двойной характер — реальный и
идеальный — она должна сохранять. Хозяйственную
жизнь страны нельзя, конечно, строить на
отвлеченных идеях, лишенных связи с жизнью и
игнорирующих даже человеческую природу. Но, с другой
стороны, окрылить общество и явиться творческой силой
может только широкая, истинно национальная и
истинно государственная задача, в осуществлении
которой реальные личные и групповые интересы
сливались бы в национальное служение.
РЕЛИГИЯ И СОЦИАЛИЗМ
В настоящей книге «Русской Мысли» читатель
надет статью Д.В.Философова об отношении между
религией и социализмом.
На эту тему я в докладе, прочитанном в текущем
году в Петербургском религиозно-философском
обществе, формулировал несколько тезисов, которые резко
расходятся с тем, что развивает Д.В.Философов. Ниже
я попытаюсь восстановить суть тех тезисов, которые я
защищал в своем докладе, с некоторыми
разъяснениями и дополнениями1.
I
Религия есть признание и переживание ценностей,
которые выходят за пределы личного или социального
существования, т.е. жизни в эмпирическом смысле
этого слова. Иными словами, религия есть признание
и переживание трансцендентных ценностей.
В этом философском смысле не все, что в истории
культуры зовется религией, есть религия.
Религия как признание и переживание
трансцендентных ценностей начинается там, где человек
улавливает трансцендентное как таковое и неспособен
смешивать его с имманентным или эмпирическим2.
Может быть, для преображенного будущего человека,
для сверхчеловека не будет грани между
трансцендентным и имманентным; и мы знаем, что для дикаря ее
1 Некоторые из этих мыслей были уже намечены мною в
статье, помещенной в сборнике «Вехи».
2 В этом смысле чистое философское понятие религии есть
историческая категория: «Die Historie ist immer religiös und die
Religion muss ihrer Natur nach historisch sein» (Шлейермахер).
Религия и социализм
87
тоже, хотя и в ином смысле, не было (или нет). Но
когда религиозные чаяния осуществятся, тогда религия
перестанет существовать', не будет также и «опыта» в
философском смысле. «Религия» и «опыт» существуют
лишь там, где человек ощущает грань, проходящую
между имманентным, эмпирическим бытием и бытием
трансцендентным, тем, которое переживается в
религии. Когда нам говорят, что «научный социализм
абстрактно раскрывает в основных чертах процесс
богостроительства, иначе называемый хозяйственный
процесс»1, то очевидно, что слова «Бог» и «религия» в
этих и подобных рассуждениях означают нечто совсем
иное, чем те же слова у людей, которые способны
признавать и переживать трансцендентные ценности.
Слова одни, но смысл бесконечно различный.
Сближать на основании сходства слов столь различные
идеи — пустая, хотя и не всегда невинная забава.
Когда дикарь мажет доброго бога по губам медом и
в гневе разбивает злого бога, он, конечно, разумеет
под именем Бога не то же, что разумел под этим
именем основатель христианства. Вернее, у дикаря в нашем
смысле религии не было, так же как ее нет у г.
Луначарского, написавшего книгу о социализме и религии.
Дикарь обожествляет предмет или вещь,
имманентное, эмпирическое не отличает от
трансцендентного; «богостроитель» в стиле Луначарского хочет
уверить современного человека, что он имманентное,
мир здешний, может переживать как трансцендетнт-
ное. И в том, и в другом случае нет религии, нет бо-
гопочитания в философском смысле. Дикарь и
Луначарский — интересные объекты истории культуры;
для религиозной философии они пригодны только
как примеры того, что не есть религия.
II
Раз навсегда следует тут устранить то
недоразумение, по которому социализм, как в известном смысле
вера и вероучние, рождающее энтузиазм, признается
религией.
См. в статье Философова цитату из г. Луначарского.
88
П.Б.Струве
Голая психическая форма веры и энтузиазма не
может составлять религию. Вера в небожественное и
вероучение не о Боге не есть религия.
Ссылки на разные религии «человечества» и «чело-
векобожества» тут ничему не помогут. Я допускаю,
что возможна религия, основанная на обожествлении
человека. Но такая религия обязательно должна
верить в творческую роль и в метафизическую свободу
человека. Религия, обожествляющая человека, такого,
как его рассматривают биология и социология,
религия, обожествляющая человека, понимаемого
«естественнонаучно», есть contradictio in adjecto, есть
религия, которая не есть вера в божественное.
Обожествить человека значит вынуть его из рамок
«естественной необходимости».
Это совершенно чуждо и позитивизму
Сен-Симона и Конта, и материализму Фейербаха и Маркса. О
религии научного социализма, об обожествлении
человека в этих вероучениях можно говорить только
фигурально.
Если что-нибудь научный социализм всего менее
способен обожествить — так это человека. Homo
homini deus, формула религии Фейербаха, это —
конфетка, которой этот честный, но пасторски
ограниченный борец против христианства сам себе
подслащал горькую долю человека в лапах железной
естественнонаучной необходимости.
«Научный» социализм не верит в Бога как в
объективное по отношению к человеку творческое
начало. Он не верит также в то, чтобы самому человеку
было присуще творческое начало, утверждающееся на
его метафизической свободе. Словом, он не верит в
божественное.
Итак, нельзя серьезно говорить о религиозности
«научного» социализма или марксизма. Но, может
быть, та промежуточная форма, которая подготовила
марксизм и которая связана с именем Сен-Симона,
учителя Конта и подлинного творца «положительной
философии», являет нам пример органического
сочетания религии и социализма?
Отношение учения Сен-Симона к религиозному
началу сложнее, чем простая и откровенная в своем
атеизме иррелигиозность Маркса. Творчество Сен-Си-
Религия и социализм
89
мона (и Конта) принадлежит к той
послереволюционной волне, которая в одно и то же время знаменует
собой и восстание против французской революции, и
продолжение ее идей. Учение Сен-Симона есть —
рядом с социологической доктриной Маркса — один
из самых характерных образчиков тех
оптимистических философий прогресса, на которые, следуя Рену-
вье, обрушивается Д.В.Философов.
Напрасно только он, в отличие от своего
первоисточника, эту оптимистическую философию прогресса
связывает исключительно с проповедью
экономического либерализма, провозгласившего laissez faire,
laissez passer. С одной стороны, экономический
либерализм, как идейная сила, предшествовал французской
революции, не говоря уже о событиях XIX в.:
достаточно напомнить, что «Богатство народов» Смита
появилось в 1776 г. А с другой стороны, едва ли не
самым красноречивым глашатаем оптимистической
философии прогресса в XIX веке был социалист Сен-
Симон.
С Сен-Симоном и Контом как с представителями
оптимистической и механической философии и
полемизировал Ренувье1, этот величайший французский
метафизик XIX в., значение которого в развитии
человеческой мысли еще недостаточно оценено и к
идеям которого, на мой взгляд, в значительной мере
восходит все новейшее философское движение. Это
значение можно формулировать так: Ренувье всего
ярче, всего полнее восстал против
детерминистического предрассудка, еще владевшего и Кантом, для
которого объяснение явлений всецело определялось
принципом причинности. Свобода и творчество были
у Канта в логически-систематическом целом его
построения мира метафизической контрабандой рядом с
причинностью, для Ренувье же это — равноправный с
причинностью принцип объяснения мира.
Тогда как Ренувье был проникнут идеей
творческой личности и идеей свободы, Сен-Симон был
детерминистом и эволюционистом авторитарного типа.
1 Ср., например, его «Esquisse d'une classification systématique de
doctrines philosophiques». Paris, 1885. T. I, pp. 168—170, 457,
p. t. II, 358.
90
П.Б.Струве
Это наложило свой отпечаток и на
«религиозность» Сен-Симона. Сен-Симон был богатой и
довольно сложной наурой, и он не был чужд в чисто
психологическом смысле известной религиозности.
Но для Сен-Симона как мыслителя религия была все-
таки социальным средством, а не целью в себе.
Религия была для него как бы той силой, которая
связывала воедино разные общественные элементы, духовно
организовывала общество. Иначе говоря, она была
для него психологическим цементом, скрепляющим
общественное здание. «Учение Сен-Симона и его
последователей, — замечает в одном месте Ренувье, —
суть продуты реакции, которая на следующий день
после французской революции привела многих
мыслителей, всецело одержимых страстью к порядку, к
отказу от идей автономии, свободы и естественных
прав, к реабилитации и к подражанию
правительствам, действующим "свыше", средневековый идеал
которых являлся в их глазах образцом, с той разницей,
что средневековые верования они желали заменить
приказами ученых». Сен-Симон (а также Конт) был
действительно «одержим», по меткому выражению
Ренувье, страстью к порядку и организации, и религию
он ценил не самое по себе, а как организующую
общественную силу, ради социального устроения.
Отсюда то обаяние, в котором, как известно, Сен-
Симона и Конта держали католицизм и
средневековье1: в них они ценили не религиозное содержание,
которое вообще их не интересовало, а социальную
форму, известную стройную организацию.
Теперь спрашивается: означает ли взгляд на
религию как на силу социального устроения подлинную
религиозность, есть ли такая социологическая оценка
религии сама по себе живое религиозное сознание? На
этот вопрос приходится отвечать отрицательно. Если
не ошибаюсь, Наполеон был абсолютно равнодушен к
музыке, но в то же время очень высоко ценил
психологическое действие музыки на войско. Мыслимо
такое же отношение к религии, и отношение к ней
Сен-Симона в известной мере приближалось к этому
1 Эта черта в значительной мере объясняет позднейшую
симпатию Владимира Соловьева к Конту.
Религия и социализм
91
типу. «Верования» церкви Сен-Симон хотел заменить
учениями науки, религию по содержанию слить с
наукой, сохранив для науки лишь старую,
психологически могущественную форму религии.
Тут, в этом отношении к религии сказывается
двойственное происхождение учения Сен-Симона.
Оно родилось из двух источников, из взаимодействия
двух идейных сил: во-первых, просветительства и
рационализма XVIII в. и, во-вторых, органического или
исторического воззрения, явившегося реакцией
против этого рационализма. Не нужно забывать, что
обаяние католицизма и средневековья сообщилось
Сен-Симону (и Конту) через де Местра и Бональда.
Учение Сен-Симона есть как бы органический
продукт взаимодействия между Д'Аламбером (или вообще
духом просвещения), с одной стороны, де Местром
(или вообще контрреволюционной реакцией), с
другой стороны. Это двойственное происхождение мы
видим и в прямом продолжении учения Сен-Симона
и сен-симонистов: в марксизме, который есть тоже не
более не менее, как попытка укрепить
социологический рационализм на «историческом» фундаменте, на
«эволюции» самых основ общества.
Реакция — в лице контрреволюционной
публицистики — первая обратилась к историческому процессу
как таковому: в нем, в его сверхиндивидуальном и
сверхрациональном характере она черпала аргументы
против преобразовательной мании рационализма.
Новый социалистический рационализм — в лице
Сен-Симона и Маркса — пытался вырвать этот
аргумент у реакции, выдвинув идею, что рациональное
преобразование общества есть функция, есть как бы
историческая повинность самой эволюции. Маркс —
через Сен-Симона — является учеником де Местра,
не в индивидуальном смысле, а в гораздо более
общем и важном смысле идейной зависимости всего
эволюционного социализма от противорационалисти-
ческой реакции конца XVIII и начала XIX века.
Но, возвращаясь к религии и религиозности Сен-
Симона, мы спросим: разве религия, поставленная на
службу социального устроения, есть религия в том
смысле, в каком только и может понимать религию
современное сознание? Настоящим религиозным со-
92
П.Б.Струве
циализмом мы назвали бы такой социализм, в
котором социализм опирался бы на религию как на свою
высшую санкцию, а не религия служила бы для
социализма формой осуществления или методом
воздействия. В этом смысле чрезвычайно поучительно
сопоставить с Сен-Симоном Льва Толстого. Социальные
идеи и нормы вытекают у Толстого из его религии. У
Сен-Симона религия призывает поддерживать
социальные идеи и нормы, по существу независимые от
религии и для него гораздо более интересные, чем
религия.
III
Утверждение, что социализм есть религия,
сделалось почти ходячей монетой всякого
сколько-нибудь — есть такое сантиментальное, рыхлое русское
словечко — «вдумчивого» трактования социализма.
Но в то же время мы слышим, и недаром, что
«социализм» в своих наиболее твердых, наиболее
граненых формах объявил войну религии, как
совокупности таких представлений, призвание которых утешать
обездоленных здесь, в этом мире, надеждами на
лучшие, иные миры, где не будет «ни воздыхания, ни
печали». Изречение: «Religion ist Privatsache» — есть
«тактическая директива» политики современного
воинствующего социализма; иррелигиозность и даже
антирелигиозность, наоборот, составляет его
глубочайшее философское убеждение. Религия пред глазами
современного социалиста есть средство развлечь и
отвлечь внимание, усыпить волю обездоленных к
действию и борьбе. А потому социализм есть враг религии
и ее правопреемник. Множество раз я слышал
изложение этой мысли из уст социал-демократических
агитаторов в Германии; очень часто оно
иллюстрируется известным стихотворением Гейне, в котором
задорно-полемически против христианства требуется
установление рая на земле, а не в мире ином (первая
глава «Deutschland»):
Ein neues Lied, ein besseres Lied
О Freunde, will ich euch dichten;
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.
Религия и социализм
93
Wir wollen auf Erden glücklich sein
Und wollen nicht mehr daiben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch
Was fleissige Hände erwarben.
Es wächst hienieden Brot genug
Fur alle Menschenkinder
Auch Rosen und Myrten,
Schönheit und Lust
Und Zuckererbsen nicht minder,
Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen.
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.
Что же такое социализм: религия или начало,
абсолютно противоположное религии?
Очевидно, что социализм есть один из методов
усовершенствования человеческой жизни путем ее
разумного внешнего устроения. При этом
ответственность за жизнь и руководство ею перелагается с
отдельного лица на общественное целое. Если таковы
существенные признаки социализма, то его
религиозная оценка довольно проста. Сам по себе он стоит
так же вне религии, как железные дороги или
телефон. Ибо религия в том смысле, в каком понимает ее
человечество со времен христианства, опирается на
идею ответственности человека за себя и за мир1.
Пусть это с точки зрения позитивного
детерминизма — иллюзия, но без этой иллюзии нет религии.
Даже в тех разновидностях религии, которые с
особенной силой выдвинули идею божественного
предопределения, — последнее отнюдь не устраняло идеи
личной ответственности и личного подвига.
Современный социализм, наоборот, в самом своем
рождении есть бунт против этой идеи, лежащей в основе
всего современного религиозного сознания.
С другой стороны, социализм, в том формально-
психологическом смысле, который я уже отклонил
(религия как «увлечение», как «энтузиазм»), носит,
несомненно, известный «религиозный» характер. Если
религия может быть сведена к вере и влечению, социа-
1 Ср. мою статью о Льве Толстом в «Русской Мысли» за август
1908 г. и статью в сборнике «Вехи».
94
П.Б.Струве
лизм — религия. Но не происходит ли и в этом
отношении с социализмом эволюции, вполне аналогичной
той, которая в XIX веке произошла с либерализмом?
Либерализм по мере своего теоретического
закругления и развития, своего осуществления и внедрения
в жизнь перестал одушевлять людей, перестал в этом
смысле являться религией.
Но отношение либерализма к религии, если брать
либерализм на всем пространстве его истории и во
всем значении его исторического действия, гораздо
сложнее. Современный социализм никогда по своей
идее не был религиозным. Первоначальная же идея
либерализма имеет подлинные религиозные корни в
радикальном протестантизме разных оттенков и
разных стран, провозгласившем религиозную автономию
личности. Из этой идеи религиозной автономии
вытекало и начало веротерпимости — не как выражение
религиозного безразличия, а, наоборот, как высшее
подлинно религиозное признание идеи свободы лица.
В радикальном протестантизме, в его мистике были и
зачатки религиозного социализма, но они потонули в
волнах истории, между тем как либерализм
выкристаллизовался в огромную культурную и политическую
силу. В христианстве было начало, которое было нечто
гораздо большее, чем простая идея: начало любви. К
этому началу мог бы прикрепиться мистический
социализм; но этого не произошло: к социализму как к
социальному движению современности христианское
настроение любви совершенно не привилось.
В XVIII веке происходит процесс идейной
секуляризации, обмирщения либерализма. Его религиозные
корни отмирают. Особенно ярко это выступает в этике,
именно потому, что этика по существу близка к
религии и есть посредствующее звено между последнею и
политикой. Религиозное обоснование этики сменяется
совершенно относительным построением
утилитаризма, который становится руководящей философской
доктриной европейского либерализма и радикализма1.
Современный социализм вырос на стволе
либерализма в ту эпоху, когда религиозные корни либера-
1 Любопытно при этом, что утилитаризм всего усерднее
культивируется в среде радикально-протестантского духовенства Англии.
Религия и социализм
95
лизма уже отмерли. Это весьма характерно
обнаруживается, между прочим, в том, что Сен-Симон свои
«религиозные» мотивы берет у католицизма и
средневековья, что реформацию он упрекает за возврат к
«первохристианству». И не религиозной ли смертью
либерализма объясняется то, что он оказывается
идейно так беспомощен в борьбе с социализмом,
который практически лишь гораздо последовательнее
своего секуляризованного родителя, а идейно с ним
совершенно тождествен?!
Итак, в процессе развития европейской культуры
либерализм секуляризовался, обмирщился идейно.
Социализму нечего было проделывать этого процесса:
идейно религиозным он никогда не был. Но в том
указанном нами выше смысле, который мы назвали
формально-психологическим, социализм был
«религией». Он был верой в тысячелетнее царство, которое
принципиально отличается от всей предшествующей
истории; являясь, как с довольно забавной
метафизической наивностью сказал Энгельс, «прыжком из
царства необходимости в царство свободы». Именно эта
формальная религиозность, этот энтузиазм,
прикреплявшийся к социализму, представлял себе, вопреки
принципу эволюции, будущее общество не просто как
усовершенствованное, или преобразованное, а как
совершенное, или преображенное.
Теперь этот энтузиазм гаснет, и камень
социалистической веры выветривается и уже выветрился.
Социализм обесцветился, посерел, разменявшись на
победоносную социальную политику1.
Когда это окончательно обнаружится, —
всесторонний процесс секуляризации идеи внешнего
общественного устроения жизни закончится. И тогда
социализм идейно так же умрет, как умер либерализм,
поскольку он оторвался от своей религиозной основы.
Процесс этот совершится только еще быстрее, ибо
подлинного религиозного корня у социализма нет.
Рядом с этим и либерализм и социализм будут
осуществляться. Либерализм может быть осуществлен
вплоть до полной демократии; пределов социализма
1 Ср. мою статью «Facies hippocratica» в «Русской Мысли» за
1907 год, октябрь.
96
П.Б.Струве
как социальной политики, как совокупности
мероприятий в пользу трудящихся ни поставить, ни
представить себе нельзя.
Но как бы далеко ни заходил подобный
социализм, он не будет религией. Пожалуй, чем дальше он
зайдет, тем меньше в нем будет даже того подобия
религии, которое создается психологическим фактом
энтузиазма.
Мы уже подошли вплотную к этой секуляризации
социализма. Об этом, на мой взгляд, не следует
особенно жалеть. Ибо социализм, поскольку он создавал
подобие религии и религиозности, давал человечеству
суррогат и фальсификат. Это был не обман, а
самообман, и теперь человечество начинает его сознавать.
IV
Что же придет на смену этому самообману? Другой
самообман или новый подъем подлинного
религиозного творчества, подобный христианстсву и его
возрождению в реформации?
До сих пор вся высшая культура, весь «этос»
человечества был жив тем запасом религиозной энергии,
который был создан в эти эпохи. Не иссякает ли или
даже не иссяк ли уже этот запас? Не идет ли поэтому
«этос» человечества неудержимо на убыль? Эту
проблему можно формулировать в чисто социологических
терминах, даже, как это делает Бенжамен Кидд, в
терминах дарвинистической социологии.
Дело в том, что значение религиозного фактора в
развитии человечества и, в частности, в создании
современной культуры есть в известном смысле
«исторический факт», совершенно независимый от того,
каково наше субъективное отношение к религии.
Поэтому вопрос о религиозном оскудении
человечества или тех или других частей его есть вопрос их
культурных судеб. Может ли человечество удержаться во
всех отношениях на уже достигнутом уровне или даже
прогрессировать, если в нем заглохнет или уже
заглохла религиозная жизнь? Является ли вообще
высота «этоса» решающим фактором в борьбе за
существование разных человеческих культур и человеческих
типов? Не может ли, наоборот, низший «этос» ока-
Религия и социализм
97
заться преимуществом в борьбе за существование и не
наступит ли торжество «Добра» уже не в пределах
истории, а в пределах эсхатологии? Это тот основной
трагический вопрос культуры: есть ли «Добро» —
«Сила»? — вопрос, который в образе панмонголизма
так волновал Владимира Соловьева в последний
период его творчества.
Для человека с законченной религиозной
метафизикой, отвечающей на все вопросы человеческого и
космического развития, ответы на эти и им подобные
вопросы даны в метафизике. Но с точки зрения
социологии (или философии истории) как науки, тут
налицо лишь сложные и трудные конечные проблемы
социального развития, разрешение которых может
иметь лишь гипотетический характер.
Одно несомненно, к вопросу о будущности
религии невозможно относиться равнодушно тому, кого
волнуют судьбы человеческой культуры вообще и
отдельных ее типов. Ибо до сих пор религиозное начало
играло в этих судьбах огромную роль.
В заключение я могу и хочу поделиться лишь тем,
что составляет мою личную веру.
Я думаю, что на смену современному
религиозному кризису идет новое подлинно религиозное
миросозерцание, в котором воскреснут старые мотивы
религиозного, выросшего из христианства, либерализма —
идея личного подвига и личной ответственности,
осложненная новым мотивом, мотивом свободы лица,
понимаемой как творческая автономия. В старом
религиозном либерализме недаром были так сильны
идеи божественного предопределения и божественной
благодати. Всю силу творческой воли этот либерализм
сосредоточил в Боге. Современное религиозное
сознание с таким пониманием Бога и человека и их
взаимоотношения мириться не может.
Человек как носитель в космосе личного
творческого подвига — вот та центральная идея, которая
мирно или бурно, медленно или быстро захватит
человечество, захватит его религиозно и вольет в
омертвевшую личную и общественную жизнь новые силы.
Такова моя вера.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ1
I. Смысл жизни
Было бы странно и пошло ознаменовывать
восьмидесятилетие Льва Толстого панегириками или даже
фактическими справками о том, что сделал за свою
богатую творчеством жизнь великий писатель.
Панегирики не нужны читателям, еще менее нужны они
самому «юбиляру», а всякая фактическая справка даст
меньше того, что, в сущности, знает о Толстом даже
средний читатель, и кроме того потонет в
необозримой литературе, имеющейся о Толстом и его
произведениях. Но, быть может, не лишнее попытаться
оценить, в чем значение и смысл деятельности Льва
Толстого с самой общей точки зрения, какие
проблемы культуры ставит и углубляет эта деятельность.
Всякая такая попытка неизбежно обречена быть
субъективной и отрывочной. Пишущий эти строки ясно
сознает такой характер предлагаемых размышлений и
просит у читателей наперед снисхождения.
1
История русской литературы знает не одного, не
двух, не трех великих писателей. Но в ней есть
только три громадных явления: Пушкин, Достоевский и
Толстой.
1 Эта характеристика представляет соединение двух статей:
одной, написанной по случаю 80-летия Толстого («Русская
Мысль», 1908 г., август), и другой, написанной под впечатлением
его смерти («Русская Мысль», 1910 г., декабрь) и произнесенной
на заседании СПб. Религиозно-философского общества, посвященном
памяти Толстого.
Лев Толстой
99
Пушкин первый великий русский писатель. И тем
только одним, что он жил, он произвел целую
культурную революцию. В то же время Пушкин, — самый
широкий и могущественный из русских писателей, —
есть живой образ творческой гармонии. Есть что-то
для русской культуры пророчески ободряющее в том,
что именно этот спокойный великан стоит в начале
русской национальной литературы. Он как бы раз
навсегда показал, что русский дух не враждебен
искусству и красоте.
Достоевский громаден как психологическая
загадка и как моральная проблема. В его изъязвленной
душе Бог и Дьявол вели вечную борьбу. Громадность
и единственность Достоевского и состоят именно в
том, что в нем загадочно равны были элементы
божеский и дьявольский, сила Добра и сила Зла (и
притом в широчайшем их толковании, включающем в
себя даже самое позитивное понимание). Борьба с
Богом и за Бога была внутри Достоевского, в самых
глубочайших глубинах его личности. Она была не
только не позой, но даже не просто фактом его
литературного и умственного развития. Она была его
натурой. Достоевский был живым выражением той
«непобедимой противоположности между Богом и
человеком», о которой говорит Паскаль. Слабым подобием
Достоевского в этом отношении в западной
литературе является Оскар Уайльд. Ницше же борется с Богом
литературно или, если угодно, идейно. Натуре
Ницше — и это отличает его от Достоевского —
богоборчество совершенно чуждо.
Громадность Толстого как явления русской
культуры совершенно в другом.
Толстой, как известно, посвятил вопросу об
искусстве специальное сочинение. Оно, думается мне,
проливает больше света на личность Толстого, чем даже
его автобиографические произведения.
До начала 80-х гг. можно было спрашивать: кто
такой Толстой? Теперь перед всяким из нас вопрос
ставится иначе: что такое Толстой! Каков смысл
этого громадного явления русской культуры?
Прежде, до религиозного переворота с ним
происшедшего, Толстой был великим русским писателем.
Но после Пушкина появление великого русского пи-
100
П.Б.Струве
сателя уже не обозначало никакого культурного
поворота и не заключало в себе никакой загадки.
Случилось, однако, нечто такое, чему нет примера
в истории мировой культуры. Мощный художник стал
борцом против красоты.
Гете сказал однажды:
«Кто владеет наукой и искусством, у того есть
религия. У кого нет ни науки, ни искусства, да будет
тому дана религия».
Гете не предвидел, что можно, «имея» искусство,
ради религии отвернуться от него и восстать на
красоту. Это, казалось бы, невозможное и даже
немыслимое дело совершил Лев Толстой. В этом его
громадность и единственность как мирового культурного
явления. Борцов против искусства и красоты было
немало до Толстого. Но нет другого примера в истории
мировой культуры, чтобы эту борьбу предпринял
гениальный творец в искусстве.
Толстой в самом себе, в своей личности и жизни
воплотил противоборство Красоты и Добра в здешнем
мире. Художник, которому в его творчестве дано было
соединить величайшую лирическую тонкость и
сложность в выражении душевных движений с эпической,
чисто гомеровской изобразительностью всего
«внешнего» в мире, художник-властелин отрекся от
искусства и стал борцом против красоты. Не будем
затушевывать и скрывать от себя этого противоборства
Красоты и Добра в личности и жизни отошедшего гения.
Ибо именно в этом противоборстве значение
Толстого как громадного и единственного факта мировой
культуры и религиозной истории. Толстой сам сказал:
«Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше
удаляемся от добра».
Он не на словах и даже не в мыслях, а в самой
жизни воплотил величайшую метафизическую и
религиозную загадку: что такое Красота в отношении к
Добру! Есть ли Красота, так как мы ее чувственно
воспринимаем, — «красота человеческого тела» и
«приятные на вид здания», красота «панихиды»1, красота
звука и слова, красок и линий, есть ли телесная, чувст-
1 Ср. статью И.Ф.Наживина о его беседах с Толстым. «Русская
Мысль», декабрь 1910 г.
Лев Толстой
101
венная красота выражение начала божественного,
принадлежит ли она к «живому одеянию Божества», имеет
ли она религиозное значение и оправдание? Или
красота есть начало низменное и злое, есть просто «то,
что нам нравится», есть лишь красивое слово для
грубого факта наших пристрастий и похотей.
Это есть вековечная загадка «Плоти» и «Духа»,
перенесенная как бы на какую-то высшую ступень,
духовно утонченная до противоборства «Красоты» и
«Добра». Мировое значение Толстого не в том, что он
задал эту загадку, а в том, что задал ее он,
творец-художник, который сам когда-то написал
пантеистическую поэму, гимн божественной красоте природы
(«Казаки»).
В враждебном разъединении добра и красоты
обнаруживается тот основной факт, что Толстой как
мыслитель совершенно лишен всякого
метафизического воображения. Красота как проявление Божества
для него не существует; скорее она для него сила
дьявольская.
Отсутствие у Толстого всякого метафизического
воображения обусловливает собой и полное
отсутствие поэзии в его религии. Его религия лишена лучей,
красок, света, лишена видения лиц и жизни.
Он не верит ни в какие религиозные мифы и не
находится в плену ни у каких догматов.
Метафизическая концепция его религии хотя и не выработана, но
очень широка. В этих отрицательных определениях
религия Толстого сближается с религией Гете. Но
Толстой, для которого идея личного Бога непонятна1,
был бы таким же пантеистом, как Гете, если бы он
любил Бога-Природу, если бы в нем была сильна не
только покорность нравственному приказу Бога, но и
то страстное притяжение к «живому одеянию
Божества», которым Гете был весь пронизан.
Было время, как я уже указал, когда и Толстой
постигал красоту и любил Бога-Природу.
1 «Молитва обращается к личному Богу не потому, что Бог
личен (я даже знаю наверное, что он не личен, потому что
личность есть ограниченность, а Бог беспределен), а потому, что я
личное существо» («Мысли о Боге»).
102
П.Б.Струве
А Толстой наших дней в основу всей своей оценки
искусства положил разъединение Добра и Красоты.
«Добро, красота и истина ставятся на одну высоту,
и все эти три понятия признаются основными и
метафизическими. Между тем в действительности нет
ничего подобного. Добро есть вечная высшая цель
нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь
наша есть не что иное, как стремление к добру, т. е. к
Богу. Добро есть действительно понятие основное,
метафизически составляющее сущность нашего
сознания, понятие, не определяемое разумом.
Добро есть то, что никем не может быть
определено, но что определяет все остальное.
Красота же, если мы не довольствуемся словами, а
говорим о том, что понимаем, — красота есть не что
иное, как то, что нам нравится.
Понятие красоты не только не совпадает с добром,
но скорее противоположно ему, так как добро
большей частью совпадает с победой над пристрастиями,
красота же есть основание всех наших пристрастий.
Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше
удаляемся от добра».
Возражая тем, кто говорит о духовной красоте,
Толстой замечает: «Под красотою духовной или
нравственностью разумеется не что иное, как добро.
Духовная красота или добро большей частью не только
не совпадает с тем, что обыкновенно разумеется под
красотой, но противоположна ему»1 («Что такое
искусство», издание «Посредника». М., 1898 г., стр. 60).
Вековечная проблема соотношения между
Красотой и Добром никем, быть может, в истории
человечества не была поставлена с такой трагической
резкостью, как Толстым. Отрекшись от своих
художественных произведений, предав анафеме почти все
искусство, Толстой с новой силой задал человечеству
эту загадку.
1 Там же (стр. 57) суждение о греках, «полудиком
рабовладельческом народе, очень хорошо изображавшем красоту
человеческого тела и строившем приятные на вид здания»: они «были так
мало нравственно развиты, что добро и красота им казались
совпадающими и на этом отсталом мировоззрении греков
построена наука эстетика».
Лев Толстой
103
Было, однако, время, когда он понимал, что
вообще во всякой широкой перспективе сама проблема
Добра и Зла есть загадка для человеческого ума.
В 1857 году он написал такие строки, которые
теперь в устах Толстого звучали бы дико:
«Несчастное, жалкое создание — человек со своей
потребностью положительных решений, брошенный в
этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и
зла, фактов, соображений и противоречий. Веками
борются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной
стороне благо, к другой — неблаго. Проходят века, и
где бы что ни прикинул беспристрастный ум на весы
доброго и злого, весы не колеблются и на каждой
стороне столько же блага, сколько и неблага... Если
бы только он (человек) понял, что всякая мысль,
ложна, и справедлива: ложна — односторонностью,
по невозможности для человека обнять всю истину, и
справедлива — по выражению одной стороны
человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в
этом вечно движущемся бесконечном, бесконечно
перемешанном хаосе добра и зла, провели
воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и
разделится. Точно нет миллионов других подразделений
совсем с другой точки зрения, в другой плоскости.
Правда, вырабатываются эти новые подразделения
веками, но и веков прошли и пройдут миллионы.
Цивилизация — благо, варварство — зло; свобода — благо,
неволя — зло... У кого в душе так непоколебимо...
мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие,
запутанные факты? У кого так велик ум, чтобы хотя в
неподвижном прошедшем обнять все факты и
взвесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы
не было добра и зла вместе, и почему я знаю, что
вижу больше одного, чем другого, не от того, что
стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так
совершенно оторваться хотя на миг от жизни, чтобы
независимо сверху взглянуть на нее? Один, только
один есть у нас непогрешимый руководитель —
мировой Дух»1.
1 «Из записок князя Д.Нехлюдова». «Люцерн». Соч. гр.
Л.Толстого. Ч. II, изд. 8-е, стр. 132.
104
П.Б.Струве
Есть что-то гетевское в этом признании
относительно всех человечских оценок и суждений пред
лицом вечного и бесконечного Бога-Природы. Но как
это непохоже на моральное миросозерцание Толстого,
каким мы знаем его теперь!
Теперь Толстой, как религиозный мыслитель, не
ценит и не любит Природы. Бог в Природе и
Природа как Бог совершенно чужды ему. Бог-Природа, тот
Бог, которым и в котором жил Гете, для него не
существует. Еще одно сопоставление с Гете. Толстой
несомненно один из самых убежденных
проповедников христианского нравственного учения, но живая
личность Христа для него неинтересна и даже не
существует. И тут какая разница по сравнению с Гете,
для которого вся ценность христианства состояла
именно в личности Христа!
Еще другой великий религиозный вопрос, другую
страшную метафизическую загадку поставил своей
жизнью пред нами Толстой.
Толстой не только восстал на красоту. Все мы
знаем, что он не только бесчувствен к Культуре, но и
прямо ей враждебен. Именно — культуре, а не только
«цивилизации», Шекспиру и Гете и всей современной
науке и технике, а не только кинематографу и
авиации. Почему «культура» побеждает и подчиняет все
ему дорогое «простое», «мужицкое»? Толстой
понимал, что дело тут не в простом внешнем насилии, что
корень зла лежит глубже. Он понимал, что культура
есть сила. Но у Толстого как религиозного мыслителя
нет ни малейшего тяготения и почтения к
человеческой Силе. В ней он не видит ничего божественного.
Для него Сила, так же как Красота, есть начало злое,
дьявольское. Добро и Бог для него всецело
исчерпываются и поглощаются началом Любви, и началу
Силы, как началу положительному в его религии так
же нет места, как и началу Красоты. Сила для него в
нравственном смысле всецело сливается с насилием,
т.е. с грубым откровенным принуждением одного
человека по отношению к другому. Сила если не
тождественна, то равноценна с насилием.
В этом отношении целая пропасть лежит между
Толстым и великими английскими моралистами
XIX в. Карлейлем и Рескиным. Борцы против «ме-
Лев Толстой
105
щанского» духа и «мещанской» морали, оба, и Кар-
лейль, и Рескин, страстно любили культуру и ясно
видели в ней творческую работу религиозного начала.
Разногласие между Толстым и великими
английскими моралистами есть не только разногласие в
оценке культуры. Его захват гораздо шире.
Карлейль и Рескин любили в культуре Силу.
Отсюда — их проповедь дисциплины и авторитета, защита
государственного могущества и войны.
Это глубочайшее моральное разногласие,
упирающееся в разногласие метафизическое. Более того, тут
прямо разные, даже антагонистические
мироощущения, различные религии.
Есть ли Сила или, точнее, превосходство в силе
просто факт, или оно указует на нечто основное,
метафизическое, а потому и имеющее огромный
моральный смысл? Совершенно ясно, какое значение имеет
этот вопрос для моральной оценки всей современной
культуры и как из различного отношения к Силе
вытекает различная оценка этой культуры.
Как Добро связано с Силой? Отрицательно или
положительно? Моральная проблема силы есть как бы та
загадочная метафизическая бездна, в которую — перед
пытливым философским взором — расширяются все
предельные проблемы современности: социализм
(равенство неравных по силе!), вечный мир (отказ от
войны!), национальный вопрос (есть ли национальное
самоутверждение нравственная правда или, наоборот,
неправда?) и целый ряд других жгучих вопросов,
волнующих современного человека. В конечном счете все
эти вопросы таят в себе проблему Силы.
Великое религиозное значение Толстого состоит
именно в том, что своей личностью и своей жизнью
он с гениальной мощью поставил перед современным
человечеством две основные проблемы мирового и
человеческого бытия: проблемы Красоты и Силы.
И как бы мы ни решали, как бы человечество в
своей коллективной жизни, которая, по слову самого
Толстого, есть «столкновение бесчисленных произво-
лов», ни решало эти проблемы, — Толстой в своей
суровости и прямолинейности дал нам великие уроки
такой последовательности и честности мысли, от
которой человечество почти отвыкло.
106
П.Б.Струве
Он подверг своему суду не частности и выводы, а
основы и посылки всей современной культуры и
культуры вообще. В этом отношении — да и не
только в этом — Толстой подлинный восстановитель
христианства. Подобно христианству, он моральному
и религиозному сознанию человечества принес «не
мир, но меч». И оскорбление памяти Толстого,
думается мне, будет заключаться не в том, что мы
мужественно и сознательно отвергнем его «меч», а в том, что
мы из преклонения перед его личностью, по
нравственной дряблости и умственной трусости, станем
притуплять толстовский «меч» и обратим это страшное
орудие морального рассечения и духовного
прояснения в безобидную игрушку, служащую для жалкого
примирения непримиримого и, хуже того, для
лицемерного затемнения подлинной остроты загадок
нашего нравственного и общественного бытия.
Отдав Красоту во власть Дьявола и изгнав из
религии всякую поэзию, Толстой превратил ее в скорбную
пустыню суровой морали самоограничения личности.
Вот почему так проста и так безотрадно скудна его
этика. Она не обвеяна никаким личным отношением
к личному Богу. Христос тут не присутствует как
живой образ Бога. А в то же время высшая
метафизическая и, если угодно, эстетическая проблема
нравственности: как примирить самоограничение личности с
ее самоутверждением** — тут вовсе не ставится. Между
тем только в непрерывном разрешении этой
проблемы может состоять истинное моральное творчество.
Мораль Толстого так скудна потому, что Толстой
слишком моралист, что вся загадка мира разрешается
для него в моральную проблему всецелого
подчинения нравственному велению Бога.
И именно потому, что он слишком моралист и в
своей морали узкий догматик, он не может так
подняться над нравственным миром, как поднялись более
богатые и глубокие религиозные натуры. В его морали
нет той улыбки снисхождения и всепрощения,
которая озаряет лицо Христа. Нет у него и того глубокого
и примиряющего проникновения в неустранимые
Лев Толстой
107
противоречия и убожества человеческой природы,
которое так характерно для родившейся из скепсиса
религии Паскаля.
2
Почему Толстой не мог стать великим
религиозным реформатором? Для того, чтобы стать таковым,
нужна или великая личная святость, или огромное
религиозное действие.
Был ли в восстании Толстого против красоты и
искусства личный подвиг? Объективно это был
величайший подвиг, величайшая жертва, которую мог
принести такой человек. С этой жертвой может быть
сравниваемо разве только отречение от светской
науки такого ученого, как Паскаль. Но субъективно в
религиозном перевороте, совершившемся с Толстым,
не было или почти не было элемента личного подвига
или жертвы. Этот переворот стоил ему, нсомненно,
больших усилий мысли, но усилий воли не видно.
Толстой не оторвал своей души от искусства и
красоты, а просто у него не стало к ним вкуса. К религии
он пришел, не возненавидев красоту и искусство, а из
удручающего сознания пустоты жизни, которая была
ими наполнена. Великий человек, он никогда не был
великим грешником и не мог стать великим
праведником. А прирожденным праведником он никогда не
был; в нем не было никогда той святости, которая
дается без борьбы и подвижничества, которую
прирожденный святой получает из себя. Вообще моральная
личность Толстого не стояла на уровне его проповеди,
она была меньше и слабее ее.
Недоступно было Толстому и то религиозное
действие, которое и без личной святости может сделать
человека великим религиозным реформатором. Для
такого религиозного действия Толстой был все-таки
слишком литератором и барином. Для такой роли
нужно было другое воспитание и другая натура, более
действенная и в то же время более гибкая, более
властная и в то же время более пластическая.
Словом, Толстой не был ни Франциском
Ассизским, ни Мартином Лютером.
108
П.Б.Струве
Тем не менее в истории и психологии религии
Толстой занимает совершенно особое место. Именно
отсутствие поэзии в его религии, позитивная
трезвость его религиозного духа есть нечто своеобразное и
замечательное. Проникновение религией, религиозные
«обращения» весьма часто соединяются с
экстатическим, «патологическим» состоянием духа. Вольтер
считал религиозность Паскаля сумасшествием; в наше
время говорят об его наследственной неврастении. И
вообще часто заметная опирающаяся на известные
неоспоримые факты склонность — религиозное
направление мысли и чувств рассматривать как
выражение психической неуравновешенности, как явление
по существу ненормальное и болезненное в человеке,
ставшем на уровне новейшей культуры. С этой точки
зрения пример Толстого в высшей степени
поучителен. С тех пор, как он отдался религии, он живет
только ею: к его религиозности не подмешивается
никаких мотивов, посторонних религии. И в то же
время религии он отдался в состоянии полного
физического и душевного здоровья. Его «обращение» к
Богу не может быть объяснено никакими
«физическими» причинами, никакой «физиологией» или
«патологией». Это дело чистого духа, факт моральный или
«спиритуальный» в самом подлинном и самом
позитивном смысле слова. Именно этот характер
обращения Толстого к Богу придает ему особое и глубокое
философское значение.
3
Не будучи великим религиозным реформатором —
возможен ли вообще такой в наше время? — Толстой
есть огромная сила в культурном и общественном
развитии современности. Говоря о значении Толстого
для нашего времени, не следует забывать, что он весь,
и как художник, и как мыслитель, всего же более как
индивидуальность, стоит как бы над временем. Борьба
такого великого художника с искусством и красотой
есть факт сам по себе громадный, независимо от
каких-либо практических последствий его для
общественной жизни, и имеет, выражаясь философски,
вневременное значение.
Лев Толстой
109
Но деятельность Толстого, связанная с этим
фактом, несомненно имела и имеет в то же время
огромные практические последствия. Прежде всего —
политические. Я всегда думал и в резкой форме высказал
это в вступительном редакторском слове к первому
номеру «Освобождения», что Толстой один из самых
мощных разрушителей нашего старого порядка.
Равнодушный к политике в тесном смысле, он проповедовал
такие общие идеи и высказывал такие мысли по
частным вопросам, которые имели огромное политическое
значение, и этой его проповеди была присуща вся та
сила, которую давали гений и авторитет гения. Среди
идейных проповедников свободы личности в России
Толстой был самым мощным и самым влиятельным.
Общим местом является теперь признание его
влияния как моралиста. Вне всякого сомнения,
множество людей под его влиянием оглянулось на себя,
подвергло себя внутреннему суду, обострило свою совесть
и изменило так или иначе свое поведение. В половом
вопросе влияние его было, по моим наблюдениям,
особенно сильно. Но такова судьба всякой
односторонней морали, всякой проповеди, проникнутой
деспотическим духом абсолютизма, всякого безусловного
веления, что их влияние, как бы оно ни было
велико, — с течением времени в отношении к одним и тем
же лицам слабеет. То же случилось с толстовской
моралью. Через нее прошли очень многие, в ней остались
очень немногие. Но след, ею оставленный и
оставляемый, мне кажется, весьма глубок. Влияние
толстовской морали на то поколение, для которого оно было
новым словом и которое складывалось в 80-х гг. и
вступило в жизнь в 90-х гг., было неизгладимо и очень
велико.
4
По своим социальным идеям Толстой по
отношению к существующему обществу великий
революционер. Его отрицание всякой принудительной власти и в
то же время всякого насилия делает его единственным
последовательным анархистом, верным началу
абсолютно добровольного взаимоотношения и
объединения людей. Ибо он единственный из анархистов от-
по
П.Б.Струве
рицание насилия признает не только принципом
существования идеального человеческого общества, но и
принципом его осуществления. В этом различии целая
практическая и прежде всего морально-религиозная
пропасть между мирным анархизмом Толстого и
насильственным других анархистов. Пропасть эта так
велика, что называть Толстого без оговорок и
объяснений анархистом значило бы затемнять самое
существо его морального и общественного учения.
Как проповедник равенства, равенства
экономического и культурного, как отрицатель частной
собственности, Толстой несомненно принадлежит к
социалистам. Но и тут положение, занятое им, совсем
особенное, проводящее резкую грань между ним и
большинством социалистов. Это различие вытекает из
религиозности Толстого.
Современный социализм часто называют религией.
Поскольку под религией разумеется лишь особое
душевное состояние, характеризуемое увлечением
известной задачей, доходящим до поглощения всей
духовной личности человека, — многие современные
социалисты могут быть названы религиозными.
Поскольку под религией разумеется совокупность
стремлений и идеалов, имеющих для данного человека или
для данной группы людей значение высших
ценностей, к которым примериваются все прочие вещи и
отношения, — социализм для многих людей является
религией. Но следует сказать правду: в этом смысле
объектом религии могут быть даже тотализатор и
гончие собаки, и всякий спорт в истинном спортсмене
возбуждает «религиозное» отношение.
Очевидно, что такое чисто
формально-психологическое понимание религии ничего не объясняет в ее
идейном существе. Религия не может быть просто
увлечением чем бы то ни было, безразлично чем.
Религия неразрывна с идеей Божества и содержанием ее
является отношение человека к сверхприродному, ми-
родержавному Существу. Но этого мало для
современного человека. Раз религия перестала быть
поклонением Существу, внушающему страх, раз Божество или та
идея, которая заменяет Божество, вызывает к себе
любовь, центром религии становится свободное и
деятельное служение Божеству, основанное на чувстве
Лев Толстой
111
личной ответственности, на убеждении, что
осуществление мною Блага и мое спасение, как бы оно ни
мыслилось, требует напряжения всех моих сил и прежде
всего зависит от меня. Нет чувства и идеи более
существенной для религии, которая поднялась над
ощущениями глухой зависимости и темного страха, чем
чувство и идея ответственности человека за себя и за мир.
Каково же отношение социализма к этой идее?
Социализм вырос на почве того механического
морально-философского мировоззрения, которое было
подготовлено в XVIII в. и своего наивысшего
расцвета достигло в Бентаме. Если бы сам Бентам не был
всецело порождением всей предшествовавшей ему
философии, если бы он не стоял на плечах Юма,
Гельвеция и Гольбаха, то можно было бы сказать, что
Бентам, этот осмеянный Марксом буржуазный
мыслитель, есть истинный философский отец
социализма. И для того, чтобы убедиться, в какой мере над
новейшим социализмом носится дух Бентама,
достаточно заглянуть в самый замечательный английский
социалистический трактат начала XIX в., в сочинение
ученика Бентама Вильяма Томпсона «An Inquiry into
the Principles of the Distribution of Wealth» (1824).
Томпсон был не только учеником Бентама, он был
также учеником Годвина, автора «Политической
справедливости», и Овена. И Годвин, и Овен, оба
выросли и созрели в той же духовной атмосфере, что
и Бентам. Овен, человек одной идеи, быть может,
ярче, чем какой-нибудь другой писатель и деятель
социализма, раскрыл его морально-философскую
сущность. «Лишь с величайшими сопротивлениями и
после продолжительной душевной борьбы, — говорит
он в своей "Автобиографии"1, — я был вынужден
отказаться от моих первоначальных и глубоко во мне
укоренившихся христианских убеждений, но,
отказавшись от веры в христианское учение, я вместе с тем
был вынужден отвергнуть и все другие вероучения.
Ибо я открыл, что все они покоятся на нелепой
мысли (absurd imagination), что "всякий человек
создает сам свои собственные свойства, определяет
The life of Robert Owen, Vol. I, 1857, p. 38.
112
П.Б.Струве
свои мысли, желания и действия и ответствен за них
перед Богом и людьми" (кавычки Овена. — П.С.).
Мои собственные размышления привели меня к
совершенно иным выводам. Мой разум научил меня,
что я не могу быть творцом ни одного из моих
свойств, что они созданы природой, а что мой язык,
религия и нравы созданы обществом и что я всецело
порождение природы и общества»1.
Воззрение Толстого на общественную жизнь и на
положение в ней человека диаметрально
противоположно этой кардинальной идее социализма, которая
есть не только его теоретическая основа, но — что
еще важнее — его морально-философский лейтмотив.
В старом, так называемом утопическом или, вернее,
рационалистическом социализме, который верил в
силу разума и основанного на разуме воспитания и
законодательства, отрицание личной ответственности
парализовалось огромной ролью, приписываемой
разуму в деле перевоспитания человека и
преобразования общества. Годвин и Овен, отрицая личную
ответственность человека, возлагали на человеческий разум
неизмеримо громадную задачу. Историческое
мышление XIX в., практически-психологически
коренившееся в консервативной реакции против рволюционного
рационализма предшествовавшей эпохи, выдвинуло
против него воззрение на общество и его формы как
на органический продукт стихийного,
иррационального творчества. Это направление философски
превосходно мирилось с отрицанием личной
ответственности, личного подвига, личного творчества. В марксизме
механический рационализм XVIII в. слился с
органическим историзмом XIX в., и в этом слиянии
окончательно потонула идея личной ответственности
человека за себя и за мир. Социализм — в лице
марксизма — отказался от морали и разума. Весь же
современный социализм насквозь пропитан мировоззрени-
1 Следует отметить, что естествознание оказало
непосредственное влияние на ход мыслей Овена. В эпоху выработки своих
идей он находился в идейном общении с знаменитым химиком
Дальтоном, и представление о химических соединениях, по его
собственному признанию, послужило моделью для его
представления о человеке и человеческом обществе.
Лев Толстой
113
ем Маркса, которое есть амальгама механического
рационализма XVIII в. и органического историзма XIX в.
Оба элемента этой амальгамы по существу одинаково
враждебны идее личной ответственности человека,
лежащей в основе морального учения христианства и
Льва Толстого, в частности.
Теперь спрашивается: нуждается ли социализм в
идее личной ответственности человека и каково
вообще значение этой идеи для совершенствования
человека и общества?
В чем философская сущность социализма? Одно
несомненно — в основе социализма лежит идея
полной рационализации всех процессов, совершающихся
в обществе. В этом громадная трудность социализма.
По идее социализма стихийное
хозяйственно-общественное взаимодействие людей должно быть сплошь
заменено их планомерным, рациональным
сотрудничеством и соподчинением. Я нарочно подчеркиваю
слово сплошь, ибо социализм требует не частичной
рационализации, а такой, которая принципиально
покрывала бы все поле общественной жизни. В этом
заключается основная трудность социализма, ибо
очевидно, что ни индивидуальный, ни коллективный
разум не способен охватить такое обширное поле и
неспособен все происходящие в нем процессы
подчинить одному плану. Это вытекает из существа дела, и
отсюда явствует, что с реалистической точки зрения
речь может идти только о частичном осуществлении
задач социализма, а не о всецелом разрешении
проблемы социализма.
Очевидно, что отмеченная нами трудность лежит в
самом существе социализма. Смысл последнего в
полной рационализации человеческой жизни, а между
тем тенденция к рациональному не может всецело
овладеть человеческой природой. Но для поставленного
нами вопроса указание на эту трудность не имеет
непосредственного значения. Допустим, что она не
существует. Возникает другой вопрос: какое значение
имеет для социализма и его осуществления идея
личной ответственности? Очевидно, для рационализации
общественной жизни первым условием является
рационализация и дисциплинирование индивидуальной
жизни. В настоящее время в обществе, основанном на
114
П.Б.Струве
свободной конкуренции, такое дисциплинирование
достигается естественным подбором, в силу которого
«несостоятельные» в физическом и, что еще важнее, в
нравственном отношении экземпляры человечества
низвергаются на дно социальной жизни. Это
происходит совершенно независимо от того, чего хочет
большинство данной социальной группы; применяя слово
Маркса, сказанное по другому поводу, все
совершается «за спиной» этого большинства. Демократический
социализм должен изменить этот общественный
уклад, рациональное устроение общественных дел и в
огромной мере также и индивидуальной жизни
перейдет при нем к большинству общества. Что произойдет
при этом с идеей и чувством личной ответственности
за себя и за общество? Ослабеет оно в индивиде, или
же останется на среднем существующем уровне, или
же, наконец, усилится? Это — вопрос факта, вернее,
научного предвидения сложных
социально-психических соотношений. Об этом можно много спорить. Но
вот что не подлежит ни малейшему сомнению.
Социализм немыслим при ослаблении чувства и идеи
личной ответственности, и, таким образом, эта идея и ее
крепость в человеке есть необходимое (хотя, по всей
вероятности, и недостаточное) условие осуществления
социализма. Между тем мы уже знаем, что
философски социализм исходит от отрицания этой идеи. В
учении о классовой борьбе она тоже совершенно
исчезает; абсолютно она чужда и философии
синдикализма (если воззрение теоретиков синдикализма
вообще заслуживает названия философии). Таким образом
социализм подрывал и подрывает одну из тех идей,
без укрепления которых невозможно его
осуществление. Это одно из интересных противоречий
современного социализма, означающих его идейное
банкротство и предвещающих его реальное крушение.
Впрочем, затронутая нами проблема имеет даже
более широкое и общее значение, чем вопрос о
судьбах социализма и об отношении к социалиму Льва
Толстого.
И это значение дает повод подчеркнуть
философский смысл и культурную ценность моральной
проповеди Льва Толстого. Эта проповедь энергично
подчеркивает значение личного усовершенствования, она
Лев Толстой
115
побуждает человека видеть в себе, в своих
собственных душевных движениях, поступках и свойствах
самое для него и для других важное и решающее.
Противопоставление и сопоставление «внутренней» и
«внешней» реформы человека не было бы, может
быть, вовсе нужно, если бы именно те воззрения,
которые до сих пор пользуются наибольшим кредитом в
«публике» и у нас и на Западе, и в том числе и
социализм, не отправлялись постоянно, сознательно или
бессознательно, от понимания человеческого
прогресса как усовершенствования «внешних» форм жизни.
Если вообще допустимо разделение человеческой
жизни на эти две области1, то, думается мне,
религиозная точка зрения, на которой стоит в этом вопросе
Толстой и которая на первый план выдвигает
«внутреннюю» реформу человечества, и практически более
плодотворна и гораздо более научна, чем
противоположное антирелигиозное «позитивное» воззрение.
Развитие этой мысли завело бы меня слишком далеко.
Скажу только, что положительное изучение хозяйства
и его развития, на мой взгляд, доказывает самым
ясным образом, что не мифологические
«производительные силы», управляющие человеком, а человек и
именно его религиозная природа имеют решающее
значение для экономического «прогресса». Часто
бывает, что умы не научные стоят на научно более
правильном пути, чем умы научные. В своем
религиозном воззрении на ход человеческого развития
Толстой — я глубоко в том убежден — гораздо ближе к
научной истине, чем то, что признается или по
крайней мере до сих пор признавалось за «науку».
Но даже если это и спорно, то во всяком случае
делу практического оздоровления общественного
мнения точка зрения, лежащая в основе проповеди
Толстого, не может не принести огромной пользы. Все
пережитые нами за последние годы великие
политические события и перемены были как бы
грандиозным психологическим экспериментом на эту тему.
Многие иллюзии оказались развеянными, многие
постройки рушились, потому что под ними не было того
Конечно, оно допустимо лишь в самом условном смысле.
116
П.Б.Струве
фундамента, на котором только и могут прочно
держаться большие и малые человеческие дела:
нравственного воспитания человека. Пусть Толстой, как
моралист, суживает человеческую природу, пусть он
слишком верит в силу проповеди и потому слишком
просто представляет себе процесс воспитания (или,
вернее, самовоспитания) человечества, — за ним та
огромная заслуга, что он толкает мысль человечества
в направлении к истинному свету. После всего мною
сказанного эти слова, надеюсь, не будут приняты за
общее место, за обязательный реверанс перед
общепризнанным гением или за выражение согласия с
какими-либо частностями воззрений Толстого. Дело тут
не в частностях, а в религиозном направлении его
мысли, в идее, что человек ответствен за себя и за
мир. Это — идея человека в Боге и Бога в человеке и
их неразрывной свободной связи.
П. Смысл смерти Толстого
«Мне очень хочется увидеть Толстого, хотя и
боязно. Это какое-то существо громадное и страшное,
прожившее не одну, а несколько человеческих
жизней, и притом таких, которые странно и страшно
прожить одному человеку». Так писал я А.А.Стахови-
чу, когда мы условливались с ним относительно
совместной поездки летом 1909 г. в Ясную Поляну. До
1909 г. я никогда не видел Льва Толстого, и я
почувствовал, что должен его видеть. Я понимал, что скоро
это будет невозможно.
Самое сильное, я скажу, единственное сильное
впечатление, полученное мною от этого посещения,
можно выразить так: Толстой живет только мыслью о
Боге, о своем приближении к нему. Он уходит
отсюда — туда. Он уже ушел. Телесно он одной ногой в
могиле, потому что ему 81 год, но он может еще
прожить немало дней, месяцев и лет, ибо тело его еще не
разрушилось, способен же он чуть не каждый день
ездить верхом, что для многих из нас, вдвое его
моложе, не только трудно, но и прямо непосильно. Но
душевно и духом он там, куда огромное большинство
людей приходит только через могилу, незримо и
неведомо для всех других. А он ушел, а я это видел, чувст-
Лев Толстой
117
вовал о нем и с ним. И в то же время я видел его. В
этой очевидности ухода из жизни живого человека
было нечто громадное и для меня единственное.
В беседе со мной Толстой между прочим сказал:
«Неудивительно, что мы с вами несогласны, ведь я
более чем вдвое старше вас». Помнится, я ничего не
ответил на это замечание, помнится, только взглядом
я выразил, что понимаю его, ибо я чувствовал, что в
эти слова сам Толстой вкладывает не простое
указание на свою старость, а то самое ощущение
нескольких прожитых им жизней, с которым я, думая о нем,
направлялся в Ясную Поляну.
Прожить так много, разве это не значило выйти из
жизни? Но в то же время означал ли этот выход из
жизни, что Толстой уже являл собой мертвеца, что от
него веяло смертью и тленом?
Нет, ибо с ним произошло нечто редкое и
великое. Прожив несколько огромных жизней, он из
жизни вышел живым. Я ощутил это тогда, в первый и
последний раз увидав лицом к лицу Толстого. Я
окончательно понял, осознал это, когда пришла весть об
уходе его из Ясной Поляны, когда мы с тревогой
узнали, что его стережет телесная смерть. Выйдя живым
из жизни, духовно преодолев телесную жизнь, он мог
пойти и радостно пошел навстречу телесной смерти.
Будучи вне «жизни» в здешнем ограниченном смысле,
он стал неподвластен «смерти», он ее «попрал».
Когда в зимнюю ночь Толстой «бежал» из Ясной
Поляны, он уходил не от семьи и обстановки, не от
собственности, барства и жизненного комфорта к
простоте и скудости «мужицкой», «трудовой» жизни.
Он думал, конечно, и об этом, но это не была его
главная мысль. Не толстовство в смысле учения о
земной «жизни» осуществлял он в своем «уходе». Земных
целей этот уход не преследовал и не мог преследовать.
Не «Царства Божия на земле» искал 82-летний старец.
Он уже тогда поднялся над «жизнью» и «смертью»,
ибо пошел к Богу.
Его смерть поэтому так исключительна и
значительна. Для меня это не «фраза», не «построение», для
меня это очевидный психологический и религиозный
факт.
118
П.Б.Струве
Очевидный, ибо я его видел. Я видел не
физическое умирание Толстого, не естественный
физиологический факт, а таинственное, религиозное
преображение. Я видел воочию и с трепетом ощущал, как
живой Толстой стоял вне «жизни». И так же, как я
считал своим долгом при жизни Толстого молчать об
этом, так теперь, перед всеми здесь собравшимися,
объединенными одной мыслью и одним чувством —
религиозно почтить отошедшего Толстого, я считаю
своим долгом свидетельствовать об этом великом
факте его религиозной жизни. Великом, ибо тут была
одержана труднейшая победа, тут совершилось
величайшее торжество — человека над смертью.
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Ответ З.Н.Гиппиус
Если социализм, политика, вообще
общественность не есть религия, то как может быть
«религиозная общественность?
Вот вопрос, который в упор ставится в моем споре
с Мережковским и его друзьями. На этот вопрос
нельзя отвечать фактическими ссылками. Конечно, в
целом ряде случаев религиозные стремления бывали
тесно связаны с общественными течениями разных
оттенков. Но именно возможность,
фактически-психологическая, соединения с подлинной
религиозностью как консерватизма, так и радикализма в
общественных вопросах указывает, что эта связь — чисто
психологическая, исторически обусловленная. Те или
другие общественные решения от вечных религиозных
ценностей в необходимой объективной зависимости
не находятся.
Раз это понято, — идея религиозной
общественности становится невозможна. Или она становится
явно и соблазнительно тактической. И тогда либо
общественность уловляет души для религии, либо
религия уловляет души для общественности. То и другое я
называю тактикой и демагогией. Пусть религия есть
дело не аристократическое, а демократическое в
смысле доступности чистой религиозности массам,
пусть религиозное сознание воплощается в
коллективе, все это не меняет своеобразия и автономности
религиозного отношения к миру и к жизни, все это еще
не дает нам права говорить о религиозной
общественности в том смысле, в каком ее понимают
Мережковский и его друзья.
Религиозная общественность предполагает, что
религия прямо устрояет общественные отношения. А
120
П.Б.Струве
так как, с другой стороны, явно, что религия
Мережковского и его друзей должна быть понимаема как
утверждение какой-то церковности, хотя бы и
отрицающей всю исторически сложившуюся, традиционную
церковность, то, значит, эта церковность, связанная с
известной общественностью, не может быть ничем
иным, как своего рода теократией.
Это слово вызывает определенные исторические
ассоциации: и цезаропапизм, и папоцезаризм, и
религиозную диктатуру Кальвина. Никто, знакомый с
ходом развития религиозной культуры, не может
отрицать, что в самой идее церкви, связанной с
государственностью и общественностью, заключена
огромная опасность и угроза для личной свободы
вообще, религиозной свободы в частности. Неслучайно
поэтому свободная общественность проводит идею
отделения церкви от государства и абсолютно
«частного» характера религиозной жизни (Religion ist
Privatsache). И точно так же чистая религиозность должна
настаивать на том, что все общественное и
государственное в значительной своей части — религиозно
безразлично. В том, что З.Н.Гиппиус характеризует как
«демагогию» Павла, обнаруживается не «демагогия», а
наоборот, общественное безразличие этого основателя
христианства. Это безразличие вытекало у Павла из
того, что все политические и социальные ценности
для него исчезали пред основной религиозной
ценностью, спасением души. Первохристианство вообще
было слишком революционно в своем религиозном
индивидуализме, сочетавшемся с универсализмом, для
того, чтобы еще заниматься общественностью и
интересоваться государством. Отсюда своеобразный
консерватизм первохристианства, который определился
именно позицией Павла. Это — консерватизм из
безразличия. «Консервативная позиция христианства, —
метко говорит Трельч, — покоилась не на любви к
существующим учреждениям и не на их положительной
оценке, а на смеси из презрения, покорности и
относительного признания»1. Христианство не обращено к
миру, а отвращено от мира. Но это в известной мере
1 Ср. Ernst Troeltsch. Die Soziallehren der christlichen Kirchen und
Gruppen. Tübingen, 1912. S. 72.
Религия и общественность 121
положение, занимаемое всякой религией. Разница
между современностью и эпохой первохристианства
лишь в том, что отвращение от мира для
первохристианства было свяязано с ожиданием близкого и
телесного пришествия Царства Божия, с
наивно-историческим ощущением преходящности, не только
индивидуальной, но и коллективно-исторической,
бытия мира, т.е. с тем, что можно назвать
эсхатологическим ощущением христианства. Первохристиане
чувствовали себя стоящими в конце и при конце
мира. Этого ощущения у современных христиан
нормально быть не может. Для современных христиан и,
я скажу, для всей современной религиозности
религиозная отвращенность от мира есть обращенность
внутрь себя. Конечно, для религиозного человека все
проявления жизни, человеческой в особенности,
должны быть религиозно оцениваемы. Но именно для
религиозной оценки общественные и государственные
явления могут не располагаться в иной ряд, чем для
оценки политической и социальной.
И именно эта религиозная перспектива
сказывается в том, что с точки зрения социологической —
можно назвать «безразличием» и «консерватизмом»
апостола Павла1. Так же как непозволительно из этой
позиции выводить религиозное освящение каких-
либо земных учреждений консервативного характера,
так же из христианского религиозного
индивидуализма, утверждающего равноценность человеческих
личностей перед Богом, нельзя делать каких-либо
выводов в духе радикальной политики и социализма.
Поэтому «консерватизм» и «радикализм»
христианства, в сущности, — лишь социологические
истолкования чисто религиозного ядра христианства и всякой
подлинной религии. Эти истолкования, как
социологические, чужды религиозному ядру, его не
затрагивают.
Для того, кто это понял, идея «религиозного
народничества» представляет такую же ценность с точки
зрения религиозной, как и идея христианского
государства в смысле Ф.Ю.Шталя, который, как известно,
1 Ср. Tmeltsch, 1. с. SS. 58-83.
122
П.Б.Струве
умеренный конституционализм выводил из «духа
христианства»1.
В качестве социологических преломлений
христианской идеи мы находим в истории и современности
и анархизм, и социализм, и либерализм, и
консерватизм. Конечно, в самом христианстве заложены
возможности этих различных истолкований и
преломлений. Но все они стоят по существу вне религиозного
ядра христианства.
Вот почему, оставаясь на религиозной почве
христианства, нельзя в наше время сознательно его
мистическую религиозность связывать с политическим и
социальным радикализмом, так же как нельзя и
связывать ее с какими-либо видами консерватизма.
Психологические и социологические связи, которые можно
нащупать в этой области, лишены нормативного
руководящего значения для религиозного сознания.
В пропаганде и агитации Мережковского и его
друзей я не могу не видеть «порчи мысли» и
фальсификации религии именно потому, что религиозная
идея в этой пропаганде поглощается и извращается
социологическими выводами из нее, ей
посторонними, для нее случайными. Почему известный отклик
с.-петербургского религиозно-философского общества
на дело Бейлиса был «шумихой»? — спрашивает меня
З.Н.Гиппиус. А именно потому, что в этом отклике
совершенно отсутствовало религиозное содержание и
религиозное углубление, что и сказалось между
прочим в безразборчивом привлечении к этому отклику
лиц и элементов, и индивидуально и по своей
общественной позиции индифферентных к религии и даже
ей враждебных.
Религия для того, кто ее признает и приемлет,
должна действительно проникать и освящать всю
жизнь. В частности, христианская религиозность в
этом отношении обязывает к известным решениям.
Но получить эти решения как религиозно-обязатель-
1 Ср. Tmeltsch, 1. с. SS. 76-77.
Религия и общественность 123
ные можно, лишь оставаясь на чисто религиозной
почве. Первохристианство в лице апостола Павла
нашло для своего времени живые формулы этих
решений, рожденные из самого духа христианского
учения. Наше время из этих вечных формул отношения
религиозного сознания к обществу и государству
должно сделать живые выводы. Это большая и
трудная задача, которая религию призывает быть
самозаконным судьей обшественености и государственности.
Для меня ясно, что ответ совеременного религиозного
сознания на эту задачу не может заключаться в
присоединении к какой-либо политической и социальной
«программе», к каким-либо общественным и
политическим движениям. Религиозный ответ на
политические и социальные задачи должен и может заключаться
прежде всего в указании того, что в общественной и
государственной жизни для религиозного сознания,
обращенного, как таковое, внутрь человека,
принципиально, с точки зрения верховной религиозной
ценности, спасения души, неприемлемо.
Это есть проблема религиозной оценки
общественности, проблема, для решения которой религиозное
сознание нуждается прежде всего — в самоочищении, в
осознании верховной самозаконности религии. В
других условиях мировой жизни и духовного развития
современное религиозное сознание призвано
разрешить задачу, уже однажды для мира и человечества,
охваченного эсхатологическим ощущением,
разрешенную первохристианством.
Я ставлю ударение на словах: самоочищение и
самозаконность. Если действительно ставится задача,
выраженная в этих словах, то проблема религиозной
оценки общественности прежде всего требует
очищения религии и религиозной идеи от чуждых ей
примесей. В своей статье, рисуя современное религиозное
положение, я указал на трагическое положение
религии в современности. Это положение характеризуется
тем, что современная прогрессивная общественность,
в лице ее действенных носителей на Западе,
враждебна религии, а консервативные силы общественности в
значительной мере, сознательно или бессознательно,
склонны рассматривать религию как служебное
орудие политики. Отталкивание современного социализ-
124
П.Б.Струве
ма от религии и в частности от христианства
неслучайно, но основано на недоразумении — в нем
сказывается расхождение основных принципов.
Христианское сознание не может ставить классовую борьбу на
то место, которое ей не только фактически, но и
идейно принадлежит в современном социальном
движении. Тот, кто хочет христианизировать современное
социальное движение, носителем которого являются
рабочие, должен вынуть из этого движения, или по
крайней мере религиозно обуздать, его
нехристианскую душу, идею классовой борьбы.
Современный рабочий класс проникнут идеей
классовой особности и борьбы сильнее, чем какая бы
то ни было другая социальная группа. И он не только
проникнут, но прямо одержим этой идеей,
составляющей основной «завет» современного действенного
социализма. Поскольку это так, рабочий класс из всех
«коллективов» современной общественности наиболее
далек от религии и христианства, как бы их ни
понимать, лишь бы только не фальсифицировать.
Таково, настаиваю я, истинное положение религии
в современности, — мои слова как объективное
констатирование может подписать всякий искренний и
мыслящий социалист — и игнорирование этого
положения есть либо слепота, либо демагогия, в жертву
которой приносится сама религиозная идея.
[КУЛЬТУРА И СВОБОДА
(1905)]
П.Б.Струве, С.Л.Франк
ОЧЕРКИ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ1
1. Что такое культура?
I
Новейшая история русской культуры отмечена
одной характерной особенностью, которую можно
было бы назвать раздвоенностью общественного
сознания. У нас существует не одно, а два общественных
мнения, живущих совершенно самостоятельною
жизнью и почти не считающихся одно с другим. Это, с
одной стороны, инстинктивно вырабатываемое,
питаемое текущими интересами и непосредственным
опытом жизни мнение широких слоев общества и
народа и, с другой стороны, свободно развивающееся,
руководимое идеальными запросами и
теоретическими образованиями, мировоззрение духовного
авангарда страны — интеллигенции.
Этот факт, который часто эксплуатируется в тенде-
циозно искаженном виде нашими реакционерами
ради их, менее всего национальных и общерусских
интересов, сам по себе, остается бесспорным и
нередко ощущается с болезненной ясностью. Его можно
подметить всюду, — за вычетом, быть может, только
русской художественной литературы, которая силою
своего исключительного гения сумела преодолеть эту
раздвоенность и, усвоив величайшие плоды общечело-
1 Настоящие «Очерки» представляют отрывки из более
обширного политико-философского сочинения, задуманного
как совместный труд обоих авторов.
128
П.Б.Струве, С.Л.Франк
веческой культуры, осталась верною настроению и
духовному складу нации. В политике, в религии, в
морали — везде русская интеллигенция живет
обособленно не только от народа, но и от более широких
слоев культурного общества. Мы указываем здесь
совсем не на практический разлад; правда, он также
иногда чувствуется в отношениях между
интеллигенцией и наименее образованными слоями народа —
достаточно напомнить о культурно-исторической
трагедии, разыгравшейся в деяниях «черной сотни»; но в
общем, вопреки утверждению реакционеров, можно
сказать, наоборот, что практические действия и
стремления интеллигенции в конечном счете, всегда
гармонировали с действительными потребностями и
интересами страны.
Практический дух жизни, подлинные страдания,
подлинные нужды и упования народа всегда
пробивалось сквозь толщу чуждых доктрин и учений
интеллигенции и находили в последней чуткий и смелый
отголосок.
Мы указываем только на теоретическое
разногласие мировоззрений. Оно вытекает из общей
некультурности нашей жизни, из отсутствия у нас прочных,
глубоко коренящихся культурных традиций;
немногочисленный класс образованного общества
представляет собой поэтому как бы культурный оазис огромной
пустыни, он живет обособлено, он свободно усваивает
последние плоды европейской цивилизации, но зато
усваивает их только отвлеченно, не переваривая их
органически, не пропитывая соком народной жизни.
Это разногласие с особенной силой сказывается в
судьбе самой идеи культуры в русском обществе. В
практическом миросозерцании общества она
пользуется чрезвычайной популярностью. Все крупные
прогрессивные движения, осуществленные в России —
реформы Петра, как и реформы Александра И, —
опирались на идеи цивилизации и культуры и черпали
из них свое влияние и силу; все реакционные течения
и эпохи боролись с культурой и просвещением и
именно в силу этого — осуждались общественным
мнением. Инстинктивное уважение, которое страна
питает к интеллигенции — к тому слою общества,
который сосредотачивает в себе все русское просвеще-
Очерки философии культуры 129
ние, русскую науку и русское искусство — есть одна
из главных причин неотразимости либеральных идей,
исповедуемых интеллигенцией. Все наше
западничество выросло и держится на этой почве; оно больше,
чем отдельное культурное и политическое движение:
оно есть культурно-психологическая тенденция
всякого русского человека.
Перед западноевропейской культурой русский
человек чувствует себя в положении школьника и неуча;
даже когда он ненавидит ее как нечто чуждое и
антипатичное ему, он не может не уважать ее, не
стыдиться себя перед нею. Материальная культура и культура
духовная в равной степени принуждают его к
признанию превосходства Запада над Россией; эта культура
распространяется на все области и направления
жизни; она подымает всю жизнь целиком, без
различия тенденций, верований, учреждений на объективно
более высокий уровень; не только либеральные идеи
и учреждения победоноснее в культурной среде, но в
ней успешнее действует и власть, и духовенство, и
полиция: культура — и притом, не только материальная,
но и духовная — во всех направлениях сказывается
как сила, помощник и двигатель. И потому,
оглядываясь на себя и свою страну, русский человек не
может не чувствовать, что каковы бы ни были наши
последние идеалы, к чему бы мы ни стремились, нам
нужно учиться, просвещаться и воспитываться. Если
знание и просвещение не приобрели еще в России
того безусловного официального признания со
стороны государства и общества, какими они пользуются
на Западе, если еще приходится защищать
цивилизацию и доказывать ее значение, то, с другой стороны,
именно в силу молодости и непрочности нашей
культуры, быть может, нигде нет такого наивного,
непосредственного почтения к образованию, такой веры в
неизведанную еще силу и плодотворность культуры,
как именно в России.
Оглянемся теперь на то, что составляет ум и душу
народа — на нашу литературу и общественную мысль.
Нетрудно заметить, что идея культуры не занимает
в ней подабающего ей места. У нас были и есть
сильные течения, прямо и сознательно отрицающие эту
идею: толстовство и народничество. Политические ра-
130
П.Б.Струве, С.Л.Франк
дикалы, в принципе, не отрекаются от культуры; а
среди них «марксисты» даже кладут в основу своего
мировоззрения идею развития материальной культуры;
прогрессист всех оттенков озабочен просвещением
народа. Но всюду - идет ли речь о культуре
материальной или культуре духовной — преобладает
утилитарное понимание культуры. А утилитарная оценка
культуры — есть собственно отрицание ее
самостоятельной, объективной ценности. Мысль о значении
культурного прогресса, как такового, идеалы духовного
совершенствования, развитие науки, искусства,
религии ради них самих, ради присущего им величия и
святости, — можно сказать, чужды или почти чужды
русскому самосознанию. А если этот идеал и
шевелится в русских душах, если он преподносится
многим как прекрасная и великая задача, то он остался
почти невыраженным, нашел себе слишком мало
пророков и глашатаев. Поскольку эти пророки являлись,
их голос находил себе мало отзвука в душе общества.
Чаадаев пророчествовал о культуре в пустыне
николаевской эпохи; не только правительство объявило его
сумасшедшим — и для своих современников он
остался одиноким чудаком. Но и мы, потомки, с
любовью помнящие об этом глубоком
мыслителе-страдальце, — многие ли из нас понимают, как своевременно
и нужно еще сейчас существо мыслей Чаадаева,
независимо от парадоксальных и субъективных деталей их
содержания? После Чаадаева другой, еще более
великий писатель, один из гениальнейших людей, которых
имела Россия — Тургенев, — защищал идею
самоценности культуры и цивилизации; но Тургенев,
признанный тотчас же и навсегда как художник и
гордость русской изящной литературы, в своем
культурно-философском мировоззрении был сшиблен и
оттиснут волной народнически-нигилистического
движения 60-х годов, которую он сам первый подметил и
обрисовал. Его Базарова, отрицающего широкое
понятие культуры, но признававшего, по крайней мере,
научное просвещение или его частицу —
естествознание, сменили народники, потерявшие вкус к науке;
народников сменило толтовство, в угоду морали
отрешившееся и от науки, и от политики; с тех пор еще
много общественных волн набегало и разливалось, но
Очерки философии культуры 131
их культурно-философское содержание держалось все
же в круге духовных привычек и симпатий,
сложившихся в пользу нигилизма. И философско-политичес-
кие идеи Тургенева еще доселе не получили
достойного признания. Но, быть может, наиболее
трагическое крушение потерпела идея культуры в духовной
эволюции одного человека, который смело может
быть назван величайшим русским мыслителем. Мы
говорим о Герцене. Герцен, воспринявший, как
никто, все богатство западноевропейской культуры,
предвосхитивший своими мыслями те духовные
плоды, которые эта культура начинает приносить
только на наших глазах, — Герцен отрекся от
культуры, стыдился ее и желал променять цивилизацию,
науку, искусство, свободу на маленький наивный
духовный мирок мужика-общинника.
Отрицательное отношение к идее культуры есть
столь же глубокая и типичная черта нашей
национальной идеологии, миросозерцания,
господствующего в интеллигенции и ею выработанного, сколь
характерно в практической жизни нашего общества его
психологическое влечение к культуре и почтение к
ней. Откуда этот разлад? Какие моральные
побуждения заставляют интеллигента, единственного носителя
культуры в русском обществе, быть равнодушным к ее
идее и даже бороться с нею?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, мы должны
сказать, что такое вообще есть культура.
II
Человечество становится все менее и менее
наивным. Конечно, говорить о целом человечестве
неудобно. Но этим выражением для нас объемлются те
люди, которые более или менее сознательно
участвуют в духовном творчестве истории. Эти люди,
несомненно, все больше теряют то наивное состояние
духа, которое характеризуется верой. Утрачивая
непосредственную уверенность в способности творческих
замыслов воплотиться в действительность и дать духу
удовлетворение задачи выполненной, исчерпавшей
себя в осуществлении, люди охладевают и
разочаровываются в самих идеалах и нравственных побужде-
132
П.Б.Струве, С.Л.Франк
ниях, давших жизни смысл и цену. Становясь менее
верующими, люди в то же время делаются
односторонними. Правда, одно как бы противоречит другому.
Односторонние люди верят в ту «одну сторону», в тот
кусочек жизни или культуры, которым они
занимаются. Но верить в кусочек не значит вообще верить в
том смысле, в каком вера есть важное, глубокое,
определяющее состояние духа. Верить в статистический
метод или даже в бактериологию не значит верить в
науку, и веря в статистический метод, можно совсем
не иметь понятия о том, что же такое есть наука, не
ощущать ее величия и значения в жизни человечества.
Мы — маловеры. С маловерием и неустранимым
маловерием человека, внутренне приобщившегося к
современной культуре, должно считаться всякое
политическое направление современности. А в то же время
в душевных глубинах и у современного человека
таится вера в некоторые абсолютные ценности, без
которых жизнь теряет смысл и дух лишается всякой опоры
и всякого строя, может только прозябать, но не жить
и не шириться.
Порвав внутренне с наивной верой, на чем же
утвердит свое духовно-общественное бытие
современный человек? Доступно ли ему при критическом
направлении его ума целостное миросозерцание? И как
можно иметь целостное миросозерцание, сохраняя
духовную свободу, не попадая в плен к идеям и
фетишам?
Ответ на этот вопрос дает понятие культуры. Как
ни невозможно определить жизнь, но всякий устно
понимает, более того, чувствует, что такое жизнь, так
же бесполезно гоняться за точным определением
культуры, и в то же время несомненно, что культура
не пустой звук и не призрак. Культура есть
совокупность абсолютных ценностей, созданных и
создаваемых человечеством и составляющих его
духовно-общественное бытие. В сознании человечества живет
ряд вечных идеалов — истина, добро, красота,
святыни, — подвигающих его на творчество научное,
художественное, моральное и религиозное. Плоды этого
творчества, все духовные^ преобретения сменяющейся
работы поколений образуют живую атмосферу
сознательного бытия, постепенное воплощение абсолютно-
Очерки философии культуры 133
го идеала в собирательной жизни человечества. Это —
непреходящий и непрерывно растущий осадок того,
что было и есть вечно ценного в чувствах,
помышлениях и действиях людей, истинное сошествие на
землю духа святого в трудах и завоеваниях всего
человечества. Можно отвергать то или иное отдельное
явление, почитаемое в данное время продуктом
культуры, можно отбрасывать, как несостоятельные, целые
сферы и целые эпохи культурной жизни, можно
отрицать религию во имя науки или науку во имя
религии, политическую жизнь ради морального
совершенствования и мораль — ради успешности
политического творчества. И это не только можно, отрицание и
неверие, разрушение и борьба столь же нужны в
культурном творчестве, как и вера и созидание, ибо это
творчество движется путем непрерывной смены
старого новым, непрерывных трений и столкновений
между культурными силами и течениями. Но нельзя
иначе как по недоразумению и непониманию
отрицать культуру как целое, ибо она есть тот великий и
неистощимый запас духовных возможностей, из
которого каждый черпает, что ему нужно, и который
каждый пополняет тем, что есть истинного и вечного в
его индивидуальном своеобразии. Лев Толстой,
отрицающий культуру политическую и научную во имя
субъективной морали, есть, во-первых, сам одно из
грандиозных противоречий европейской культуры и
был бы невозможен без Христа, Руссо, Шопенгауэра
и Пушкина; и, с другой стороны, он, против своей
воли, обогащает и обновляет презираемую им
культуру своим моральным реформаторством. Неверие
имеет свои абсолютные, логические и естественные
пределы. Системы, направления, верования гибнут и
проходят; культура, как взаимодействие и
совокупность всего, что творится духом идеала и Правды на
земле, неразрушима и вечна, и в своей вечности и в
своем всеобъемлющем богатстве находит себе
непререкаемое, абсолютное оправдание. Чей духовный взор
может охватить достаточно широкое пространство,
чтобы усвоить богатство содержания и непреходящую
связь во времени культурного достояния человечества,
тот излечен от скепсиса. Или, вернее, лишь обозревая
культуру, как целое, человек постигает, что никакое
134
П.Б.Струве, С.Л.Франк
неверие в отдельные стремления и идеалы не может
мешать ему верить в культуру и трудиться для нее.
С точки зрения этого понятия культуры не может
быть, собственно говоря, культуры в материальном
смысле; то, что обычно зовется материальной
культурой, имеет значение только подготовительное,
служебное по отношению к истинной культуре: оно есть
его необходимый спутник и пособник. Кельнский
собор, Акрополь, Сикстинская мадонна, Шекспир,
Пушкин и все вообще искусство есть сама культура.
Но железные дороги, телеграфы и телефоны, вообще
вся техника, будучи порождением научной культуры и
содействуя развитию культуры, сама по себе не есть
культура. Лишь в самом широком и элементарном
смысле, совпадающем с этимологическим значением
слова «культура», можно говорить о культуре
материальной. Подобно истинной, духовной культуре, она
есть также продукт труда, усилий, сознательной воли
человечества, завоевание и приобретение неустанно
движущегося вперед и развивающегося человеческого
разума. Не будучи культурой в истинном смысле, она,
однако, отмечена ее печатью; эта ее символическая и
реальная близость к культуре духовной, равно как
услуги, оказываемые ею развитию последней,
распространяет на нее психологически то уважение, которое
мы питаем к цивилизации и просвещению. Но от
этого далеко до смешения одного с другим; напротив,
в интересах культуры духовной чрезвычайно важно не
упускать из виду чисто утилитарного,
вспомогательного значения так называемой «материальной культуры».
Часто случается — до известной степени, вся
современная европейская жизнь отмечена этой чертой, —
что увлечение технической, внешней стороной
культуры отвлекает внимание от тех абсолютных,
самодовлеющих идеалов, воплощение которых образует
истинную культуру. Такое увлечение накладывает на
душу современного европейца печать утилитаризма и
«практичности», несовместимую с пониманием
идеального, антиутилитарного духа культуры. Культура в
себе самой носит свою ценность. Поэтому все от
культуры, будучи самым нужным для человека, в
известном, другом смысле, отличается полной
ненужностью. «Практическим» людям не нужна ни религия,
Очерки философии культуры 135
ни искусство, ни мораль, ни наука в высшем ее
значении, «культурным людям», в смысле Щедрина, не
нужна и чужда культура. И, в самом деле, для того,
чтобы «заказать платье у Шармера» не нужно никакой
культуры.
III
Если практическая ненужность культуры
порождает ей врага в лице утилитаризма, то ее многообразие
и богатство, ее широта и универсальность заставляет
восстать против нее другое моральное направление —
аскетизм. Несмотря на кажущуюся
противоположность между этими двумя главными противниками
идеи культуры, корень их враждебности к ней
одинаков. Обоим обще стремление сузить духовное
содержание человеческой жизни, выделив из него то, что
признается единственно нужным к существованию, и
решительно отбросив и уничтожив все остальное.
Утилитаризм отвергает культуру, так как не признает
вообще никаких абсолютных ценностей, выводя все
ценности из практической пользы, из низших
субъективных потребностей: аскетизм отвергает культуру,
так как признает только одну абсолютную ценность —
моральную — и считает все остальные цености
призраками и порождением сатаны. Утилитаризм
отрицает божественный дух человека во имя его земных
стремлений и нужд, аскетизм отрицает земное
строительство человека во имя его божественного
существа: обоим, по крайней мере, в принципе — чужда
идея богочеловечества, идея воплощения абсолютных
ценностей духа в земной жизни и ее средствами —
идея, лежащая в основе философского понятия
культуры. Оба не достигают высшего единства,
трансцендентного с эмпирическим, и его не допускают.
Образуя взаимно противоположные моральные тенденции,
они совпадают в своем отрицании возможного
слияния тех начал, в которых они односторонне
замыкаются.
Говоря об утилитаризме и аскетизме как двух
главных врагах идеи культуры, мы тем самым отметим
источник непопулярности этой идеи в русском
образованном обществе. История русской общественной
136
П.Б.Струве, С.Л.Франк
мысли за последние полвека стоит под знаменем этих
моральных направлений; она создана утилитаристами
и аскетами, людьми, отрекавшимися от культуры то
во имя мужика, то во имя Бога и нравственного
спокойствия. Утилитаризм и аскетизм сплелись в
сознании русского интеллигента в одно логически
неуклюжее, но психологически стройное и цельное
миросозерцание, и жало этого миросозерцания направлено
прежде всего против идеи культуры, против
признания самодовлеющей ценности духовных идеалов,
воплощаемых в исторической жизни. Писарев,
отвергавший Пушкина ради «печного горшка» и советовавший
Щедрину писать популярные брошюры по
естествознанию, «кающиеся дворяне», отказывающиеся от
политической свободы ради благополучия народа, Лев
Толстой, проклявший науку, искусство и политику
ради чистоты нравственной жизни, исполнения воли
Божией, — все они сочетают в себе аскетизм с
утилитаризмом и стремятся ради совести и «хлеба единого»
сузить и выхолостить богатство культурного
содержания жизни. Типичный русский интеллигент,
жизнепонимание и душевный склад которого определил
культурную и моральную философию современного
общества, есть, так сказать, помесь нигилиста с
толстовцем. Если его мировоззрение определяется
чудовищным силлогизмом: «человек происходит от обезьяны и
потому должен жертвовать собою для общего блага»
(в остроумной формулировке Вл.Соловьева), то это
потому, что Базаров в его душе слился с монахом-
иконоборцем в одно неразрывное и неразличное
целое. «Нигилизм» есть, быть может, наиболее
подходящий термин для этого миросозерцания. Разумеется,
если под нигилизмом понимать не политический
радикализм и не «отрицание авторитетов», а
философскую тенденцию идейного упрощения и опрощения.
Мы, верящие в культуру, усматривающие в науке,
искусстве, религии, морали и политике одну общую
великую сокровищницу человечества, которую надо
беречь и пополнять, а не разрушать и отвергать, не
могущие допустить, чтоб идеал состоял не в духовном
богатстве, а в духовной бедности — мы
противопоставляем этому традиционному русскому нигилизму
идею гуманизма. Под гуманизмом мы разумеем идеа-
Очерки философии культуры 137
лизм, веру в абсолютные ценности, соединенную с
верой в человечество и его творческие задачи на
земле. Это направление, рожденное в великую эпоху
расцвета культур — в эпоху возрождения, — до сих
пор лежит в разных оттенках и под разными
названиями и кличками в основе всего культурного
прогресса в Европе. Подобно Ницше, мы хотим,
несмотря на весь скептицизм и неверие, необходимо
присущие современному человечеству, остаться «добрыми
европейцами», мы не хотим разрывать традицию,
которая соединяет наши нынешние запросы, духовные
томления и упования текущего дня со всем, что есть
ценного и непреходящего в европейской культуре,
начиная с античного мира и христианства и кончая
величайшими завоеваниями современной науки,
тонкостью и богатством современного искусства,
последними идеалами этической и политической мысли.
Понимая и ценя национальность — тоже как культурный
фактор, — мы хотим быть гражданами европейского
мира и участниками его культуры, citoyens du monde
civilisé, и твердо веруем, что приобщение к культуре
не убивает, а развивает совесть, что содействие
культурному прогрессу, основанное на уважение к
человеческому духу, не может быть грехом ни перед Богом,
ни перед народом. Страна, создавшая такие
культурные светила первой величины, как Пушкин, Герцен,
Тургенев, Толстой — эта страна не только не может —
она не вправе отрекаться от культуры.
Культура учит широте и терпимости. Вот почему
идея культуры так претит умственному сектантству,
тому узкому духу, которое отвергает все не
подходящее под его «складку», все не подчиняющееся его
идейной или моральной команде. В культуре рядом
живут, как яркие, льющие свет и жизнь лучи, и
языческая Венера и христианская Мадонна; и красота
нагого тела и величие бесплотного, над всякой
телесностью подымающегося духа. Культуре дорога
одинаково и суровая работа уединенной мысли и страстная
песнь торжествующей плоти; культуре принадлежит
религиозное упоение, которое слушает Бога в биении
своего сердца и видит его в небесах. Но в культуру на
равных правах входит и безбожие непокорной, во
всем сомневающейся, все подрывающей человеческой
138
П.Б.Струве, С.Л.Франк
мысли. Всякая мысль, лишь бы она была глубока и
своевременна, всякое произведение искусства, лишь
бы оно было красиво, всякое моральное усилие, лишь
бы оно было искреннее и творческое, всякое искание
истины, красоты и правды созидает культуру. В
культуре, как в Пантеоне, есть место для всех богов, а
боги культуры все те, на коих почила благодать
творческой силы и красоты. Войдите в Парижский
Пантеон. Там от стенных картин, от этих ликов св. Жене-
вьевы и Девы Орлеанской веет духом католичества и
средневековья, а в подземной усыпальнице покоятся
великие скептики Вольтер и Ренан. Под готическими
сводами Вестминстерского аббатства рядом с
верующими католиками и католичками лежит разрушитель
благочестивых легенд, революционер естествознания,
безбожник в глубине души Дарвин.
Вот символы культуры, красноречивее слов
проповедующие широту и терпимость, свободу и
искренность.
2. Культура и личность
I
Культура несет в себе свою ценность. Ее нельзя ни
для чего употреблять, ее можно только переживать.
Но это не значит, что культура есть сама в себе цель.
Культура есть содержание личности и потому служит
личности, но не так, как платье, которое можно
всегда снять или заменить другим, или вагон железной
дороги, в котором мы сидим и из которого мы на
станции назначения выходим, а как самое важное и
дорогое в личности, что не только принадлежит ей,
но и принадлежит к ней, ее составляет и определяет.
Таким образом, рядом с культурой, как ее
единственный носитель, стоит личность. Конечно, выражение
«личность стоит рядом с культурой» — неточно.
Культура существует не вне людей, а в людях и ими. Но в
то же время каждая новая личность, рождаясь в
данной культуре и живя ею все-таки как личность, и
противостоит ей. Для каждой данной личности
культура есть нечто объективное, вне ее данное, из чего
она черпает, что она оценивает и критикует. Отсюда
Очерки философии культуры 139
возникает вопрос об отношении между культурой и
личностью.
Культура, сказали мы, есть совокупность
абсолютных ценностей, созданных и создаваемых
человечеством и составляющих его духовно-общественное
бытие. Из этого определения вытекает высшая,
трансцендентальная связь культуры с личностью. Мы не
знаем и не может допустить иного творца и носителя
абсолютных ценностей, кроме личности и ее духовной
жизни. Воплощение идеала в действительность,
образующее сущность культурного творчества, может
совершиться лишь проходя через ту точку бытия, в
которой мир идеала скрещивается с миром
действительности и творение абсолютных ценностей совмещается
с их реализацией в эмпирической жизни, эта точка
есть личное сознание, духовная жизнь мыслящей и
действующей личности. Все идеалы, без различия их
содержания, суть свободные творения личности.
Личность создает науку, искусство, мораль; даже в
религии, где личность часто отрицает самое себя,
склоняясь перед высшим началом, это начало творится ею
же. Не в материальной силе и не во внешней
обстановке жизни лежит источник и корни культуры; они
таятся в глубинах личного сознания, и все великие
перевороты, определявшие судьбу царств и народов и
изменявшие лицо земли, питались мыслями и
упованиями, родившимися в тиши уединенной работы
духа. «Мир неслышно вращается вокруг тех, кто
открывает новые ценности» (Ницше).
Отсюда следует, что свобода личности есть первое
и существеннейшее условие культуры. Простор для
духовного творчества, безусловное признание за
каждой личностью права созидать идеал и действовать во
имя его, образует принцип, непосредственно указуе-
мый самой идеей культуры и из нее вытекающий.
Нарушить этот принцип значит подрезать у древа
культуры его самые глубокие питательные корни. Везде,
где это совершается ради торжества определенного
учения, общественного порядка, господствующего
склада жизни — во имя части, уголка, клочка
культуры отвергается и попирается идея культуры, как
целого, как неистощимо развивающегося запаса духовного
богатства. Кто хочет культурного прогресса, тот дол-
140
П.Б.Струве, С.Л.Франк
жен хотеть и свободы личности; даже борьба против
явно антикультурных идей не оправдывает нарушения
свободы личности, ибо никто не призван судить,
какая роль предназначена этим идеям и тому, чему
суждено из них родиться в общем ходе исторического
творчества. Вот почему полицейское преследования
клерикализма в современной Франции, являясь по
замыслу его вдохновителей борьбой за культуру, есть в
действительности прегрешение против духа культуры.
Говоря, что свобода личности есть условие и
средство культурного прогресса, мы отнюдь не хотим дать
утилитарное обоснование этому принципу, который, в
наших глазах, имеет верховное и абсолютное
значение. Дело в том, что свобода личности, будучи
средством духовного прогресса, в то же время есть и его
последняя цель. Точнее говоря, как культура, так и
личность заимствует свою ценность из своей
внутренней, имманентной связи с абсолютной святыней —
духом и его идеалами. Преклоняясь перед духом,
перед священным и неугасимым пламенем высшей
правды, мы должны почитать культуру — отблеск и
зарю этого пламени на земле; и мы должны уважать
личность, человеческую душу — единственную
хранительницу на земле искры того же священного
пламени. Поэтому задача личности — творить культуру,
озарять землю светом идеала, а задача культуры —
беречь личность и обеспечить ей простор и
неприкосновенность ради того, что лишь в ней живет дух,
горящий правдой и творящий ее на земле.
Уважение к человеческой личности есть само
продукт культурного развития; человечество лишь путем
долгих усилий и героической борьбы пришло к
сознанию, что в каждой личности есть нечто, что
должно быть признано священным и неприкосновенным.
Но однажды установившись, эта идея имеет уже
абсолютное, сверхисторическое, вечное значение и
непререкаемую обязательность, иначе говоря, она стала
моральной аксиомой современного человечества.
Являясь приобретением культуры, она отныне есть
абсолютное начало культуры и в силу этого ее
моральное мерило. Отныне независимо от всяких споров о
том, что такое человеческая личность, мы можем
исходить из простого культурного или, точнее, мораль-
Очерки философии культуры 141
ного факта, что человек уважает человека. Это не
фраза, а именно факт, и ничто не служит столь
наглядным его доказательством, как популярные в
новейшее время на Западе теории неуважения к
человеку. Они возникли, как теоретическая реакция
против морального факта, и их полнейшая
безнадежность, совершенно очевидная и для их авторов,
делает из них невинную игру ума и только ярче
подчеркивает этот факт. Конечно, действительность полна и
фактами неуважения к человеку. Но ни один
человек, кроме теоретиков рабства, пишущих книги и
статьи на эту тему, не станет принципиально
отрицать, что человек должен уважать человека. Таким
образом, уважение к человеку есть принцип, на
котором построено и которым фактически держится
современное человеческое общежитие.
Всякая человеческая личность, как таковая, есть
абсолютная ценность. К каждому человеческому
существу мы должны относиться как к высшей
оболочке или физико-психическому проявлению высшего,
трансцендентного начала — того духа, который для
нас есть святыня. Отсюда вытекает идея
равноценности всех людей. Люди бесконечно разнообразны и
потому не равны, но они для нашего морального
сознания равноценны как человеческие личности, как
носители того, что имеет абсолютную, беспредельную
ценность. Их равноценность не есть физический факт
или правило удобства, она не есть даже признание
фактической идеальной или культурной
равноценности всех людей. Никто не будет спорить, что Шекспир
или Пушкин в культурном отношении выше
будочника Мымрецова, что за одного Пушкина можно было
бы отдать многих Мымрецовых и не остаться в
накладе. И все же, чтобы взрастить Пушкина, мы не имели
бы права убить Мымрецова. Оба они суть человеческие
личности. Это есть, пожалуй, единственное, в чем они
тождественны, но этого вполне достаточно, чтобы
признать их морально равноценными. Это —
равноценность существ, которые, будучи эмпирически
совершенно неравными величинами, в ином,
трансцендентальном смысле, обладают, все без исключения,
бесконечной, а потому и равной ценностью. Это есть
равенство бесконечных величин, и равноценность
142
П.Б.Струве, С.Л.Франк
есть лишь морально-психологическое выражение и
отражение абсолютной ценности личности. Человек
есть святыня, он не должен быть средством ни для
других людей, ни для каких-либо объективных, вне
его лежащих целей. Стоит только отказаться от этого
начала, и нет уже более никакой остановки на пути
превращения человека в средство. Для тех, кто не
признает святости человеческой личности, вопрос об
употреблении человеческого мяса есть, в конце
концов, такое же дело вкуса, как вопрос об употреблении
конины или едении улиток.
II
В известном смысле идея культуры чисто
логическим путем вступает в столкновение с идеей личности.
Культура есть творчество, сознательное и намеренное
преобразование действительности в соответствии с
идеалами, замена стихийного, от человека не
зависящего состояния вещей, разумно и целесообразно
выработанными условиями и формами
духовно-общественного бытия. Культура есть гуманизация,
подчинение стихии природной, как и стихии общественной,
духу мыслящего человечества, борьба сознания и воли
с «древним хаосом». Подобно тому, как в отдельной
личности рост сознания и духовности выражается в
подчинении инстинктов, произвольных влечений,
случайных ассоциаций мысли центральному,
руководящему «я», так и в коллективном бытии людей
культура означает развитие планомерности и
сознательности собирательной жизни, расширение власти духа
над исторической жизнью. Человечество берет свою
судьбу в свои собственные руки, хочет двигаться
вперед не наугад, по воле слепого случая и случайного
столкновения сил, а сознательно, в полном согласии
со своими идеалами и целями. Но что значит
планомерность и сознательность в коллективной жизни
человечества? Это значит организация, включение
личностей, как звеньев и органов, в состав большого
целого, установление сильной и сосредоточенной, на-
диндивидуальной воли. В этом смысле, сама идея
культуры, можно сказать, наталкивает сознание на
мысль о власти и ее деспотизме. Человечество бредет
Очерки философии культуры 143
по своему великому пути без плана и цели, у каждого
есть свои желания, свои задачи и потребности,
поэтому каждый приходит в столкновение с другим, и из
этой слепой борьбы всех против всех, из этого
хаотического столкновения страстей и идеалов
бессознательно складывается историческое движение. В ком
живет вера и великое общее предназначение
человечества, тот не может не желать замены этого состояния
разброда и анархии планомерным и разумным
сотрудничеством людей. Люди должны согласиться между
собою о своих целях и, раз согласившись, прямо идти
вперед, не уклоняясь по сторонам, не топчась на
месте и не теряя сил на социальное трение и
взаимную борьбу. Отсюда невольно рождается убеждение,
что развитие культуры может быть обеспечено только
подчинением личностей воле целого, только
разумным, руководимым общими идеалами деспотизмом. В
разнообразных оттенках и формах эта мысль
высказывалась и действительно проявлялась в культурной
истории человечества. Она образует основу
«просвещенного деспотизма» она вдохновляет якобинцев на
кровожадную борьбу со всеми, кто в их глазах являлся
противником исповедуемого ими культурного идеала,
она открыто формулируется некоторыми из
виднейших основателей социалистических учений.
Человечество должно научиться разумно использовать свои
страсти и управлять ими, как оно управляет стихиями
природы, — говорит Фурье. Человечество должно
выяснить свою общую цель, — говорит Бюше, — и все
его действия должны быть подчинены задаче
достижения этой цели; таков смысл всякого управления, и
государственная власть при этом не имеет иной
границы, кроме сознания своей обязанности.
Человечество должно от социальной анархии перейти к
социальной организации, — говорит Маркс, — и этот
переход будет величайшим, всемирно-историческим
событием, после которого только и начнется истинная
история, тогда как нынешнее состояние есть лишь
прелюдия к ней, доисторическая эпоха в жизни
человечества. Всюду на свете, — говорит Рескин, —
анархия и соперничество есть закон смерти,
сотрудничество и управление — закон жизни.
144
П.Б.Струве, С.Л.Франк
Но социалистический идеал демократического
деспотизма, определяемого необходимостью организовать
человечество, собственно говоря, останавливается на
полпути. В самом деле, что гарантирует нам, что все
человечество когда-либо способно будет столковаться
между собой и подчинить свои действия своей единой
великой задаче? И есть ли вообще основания
надеяться, что массы сами поймут эту задачу, захотят
служить ей и пойдут по верному пути? Не лучше ли
справятся с этой задачей немногие мудрецы, чем
неразумная и разнообразная толпа? Надо признаться
открыто: если для осуществления культурного прогресса
необходимо организовать человечество, установить
безусловную планомерность в движении социального
механизма и если это средство имеет абсолютное
значение и не ограничивается никакими иными
ценностями и мотивами, то единственным целесообразным
строем должен быть признан не демократический, а
только аристократический деспотизм, безграничная
власть лучших и умнейших над толпой. Никакая
демократия не может обеспечить той стройности и
планомерности функционирования социального
механизма, которая была осуществлена, например, иезуитами
в Парагвае на почве абсолютного порабощения
управляемых. Эта мысль блестяще и, может быть, навек
разъяснена «Великим Инквизитором» Достоевского. С
другой стороны, только лучшие и мудрейшие могут
усваивать и хранить те великие цели, служить которым
есть предназначение человечества. Поэтому мыслители,
серьезно и глубоко задумывавшиеся над идеей
культурного прогресса и дорожившие культурой больше всего,
вплоть до готовности жертвовать для нее человеческой
личностью, как, напр<имер>, Ренан и Ницше,
склонялись именно к идеалу демократического деспотизма.
Вопрос, однако, сложнее, чем он представляется
мыслителям, увлекшимся одной стороной и одним из
многих значений идеи культуты. Оставляя пока в
стороне эстетический постулат свободы личности,
достаточно вспомнить, что эта свобода есть также
необходимое условие самого культурного прогресса.
Развитие культуры предполагает рост планомерности и
требует его. В отдельной личности планомерность и
сознательность, с одной стороны, и свобода — с другой,
Очерки философии культуры 145
не стоят в противоречии. Напротив, то и другое —
суть лишь различные обозначения для одного и того
же духовного факта — зависимости всех психических
переживаний от единого разумного «я», от
глубочайшего центра личности.
Сознательность и планомерность в личности
потому и ценна, что она есть ее свобода, ее
самоопределение и потому обеспечивает ей простор и богатство
творчества. Конечно, подставляя в это рассуждение
взамен личности общество, как единое существо, мы
имели бы право сказать, что и для общества, в его
целом, организация и планомерность есть свобода
творчества. Исходя из этой идеи, Энгельс объявил,
что организация общества в социализме будет для
человечества «прыжком из царства необходимости в
царство свободы». Но дело в том, что общество
именно в этом отношении не может рассматриваться как
единое чущество с центральным руководящим
сознанием. У общества нет единого «я», нет общей души и
общего мозга. Осуществляемое им культурное
творчество коренится в последнем счете все же в отдельных
личностях и из них истекает. Если эти личности могут
в известных отношениях объединяться, согласовывать
свои желания, действия и идеалы и выделять из себя
особый центр, которому они вверяют управление и
руководительство, то они не могут никому
делегировать всю свою душу, не могут никому отчуждать без
остатка все свое право на культурное творчество и все
силы для него. Величайшие идеи и помыслы, как мы
уже говорили, рождаются только в тиши уединенной
мысли мудрецов. Поэтому, сколь ни правомерна и
полезна для культурного прогресса организация и
дисциплина — все организовать и все
дисциплинировать — значить убить, задушить самый дух,
рождающий культуру. Мудрейшее правительство не
сосредоточивает в себе всей культуры своего времени и не
исчерпывает всего культурного богатства,
содержащегося и рождающегося в душах личностей.
Собирательная культура народа и человечества всегда выше,
полнее и богаче культуры руководителей, и эта общая
культура по самому существу дела может зреть и
развиваться только путем неорганизованного брожения,
путем столкновения духовных сил и стремлений. Дис-
146
П.Б.Струве, С.Л.Франк
циплина, организуя и упорядочивая подвластную ей
часть культурного творчества, вместе с тем
отбрасывает в последнем все несоответствующие ей задачи, то
есть сужает его и делает более бедным. Для того,
чтобы оно не умерло и не заглохло, необходимо,
чтобы оно находило для себя простор и свободу и
этим свободным развитием питало и обновляло также
ту свою часть, которая подчинена порядку и
организации. Государство должно быть достаточно сильно и
организовано, чтобы планомерно проводить в
общественную жизнь культурные идеалы; но оно не может
цензуровать и подчинять себе само культурное
творчество, источники которого всегда свободны. Идея
рационализации общественной жизни, приведения
всего к одному знаменателю, распределения всего в
точном порядке и на своем месте есть, в принципе,
антикультурная идея. Это — хула на духа святого,
этого творца культуры, который не может быть
превращен в машину, работающую по команде. Культура
никогда не фабрикуется — она всегда творится. В
качестве идеала общественного устройства,
приспособленного к культурному прогрессу, для нас
вырисовывается не деспотизм — все равно, демократический
или аристократический, — а общежитие, строй
которого тонко и тщательно приспособлен к равновесию
между общественной организацией и свободой
личности. Но это равновесие всегда будет оставаться
колеблющимся, неустойчивым, и именно эта
неустойчивость есть условие творчества и жизни культуры.
III
Но конфликт между планомерным культурным
творчеством и свободой личности коренится еще
глубже; здесь приходится решать не только вопрос
целесообразности, но и вопрос морального принципа.
Мы видели, что этически личность есть сама в себе
цель и не должна служить простым средством ни для
чего; и однако всякое массовое творчество культуры,
всякое стремление к прогрессу с помощью
совокупных усилий многих рассматривает и необходимо
должно рассматривать отдельную личность как
средство и орудие своей задачи. Ни одно великое дело на
Очерки философии культуры 147
земле не осуществляется без жертв; и жертвы эти те
самые личности, которые нравственное чувство велит
считать неприкосновенными и высшими святынями.
Кто действительно серьезно считается с этой
моральной заповедью, тот по-видимому, должен отказаться
от всякого культурного творчества, от всякого участия
в общественном деле, преследующем широкую и
отдаленную цель; таково рассуждение толстовцев,
аскетов и стоиков всякого рода. И наоборот, кто имеет
перед глазами одну великую и священную цель,
которой он посвящает все свои силы и помыслы, тот
должен прибегать ко всяким средствам, и для того
отдельная личность должна быть лишь орудием, звеном
большого механизма, приводимого в движение ради
достижения намеченной цели: так рассуждают
иезуиты, маккиавелисты и якобинцы всех оттенков и
направлений.
Достоевский утверждает, что весь прогресс и вся
достижимая им гармония мироздания не стоит одной
слезинки ребенка. И еще задолго до него ту же мысль
высказал апостол революции Руссо, говоря, что целая
нация не в праве совершить самую желанную ей
революцию ценою крови одного невинного; с другой
стороны, Ницше учит, что ради творчества и великих
целей надо быть твердыми и безжалостными, уметь
жертвовать и собою и другими. Мы имеем здесь дело с
действительной моральной антиномией, с
двойственностью, лежащей в самой основе нашей нравственной
жизни и принципиально неустранимой. Фанатики того
и другого из сталкивающихся принципов могут
объявлять эту антиномию мнимой и признавать
предрассудком или даже грехом то культурное творчество, то
уважение к личности. Но кто беспристрастно вдумывается
в эту проблему и охватывает ее во всей ее широте, тот
не может не сознавать, что обе стороны неправы и что
истина лежит где-то посредине между ними. Точнее
говоря, обе стороны правы в том, что они признают, и
неправы в том, что они отвергают.
Человечество никогда не откажется, не может и не
должно отказаться от общественной деятельности, от
преследования отдаленных идеалов ценою жертв
многих поколений; и с другой стороны, человечество
также не может и не должно отказаться от принципа
148
П.Б.Струве, С.Л.Франк
уважения к человеческой личности. Что лучше —
трудиться для идеала, греша, или быть святым,
отказавшись от осуществления идеала? То и другое плохо —
то и другое не может нас удовлетворять.
Нравственное чувство велит нам найти исход, равно далекий от
обеих крайностей.
Надо сказать прямо — как бы это ни было тяжело
для людей, ищущих абсолютных руководящих начал и
практической морали: принципиального решения
дилеммы здесь быть не может, по крайней мере в реальной
морально-общественной обстановке современности и
обозримого для нас будущего. Оно было бы возможно
только в обществе святых и мудрецов, там, где не
только отсутствуют всякого рода физическое и
юридическое принуждение, но нет места и для духовного
насилия, для давления и гипноза, производимого
общественным мнением или вообще сильными людьми
над слабовольными и неразмышляющими. Только там
жертвы, падающие ради великих целей, были бы
свободными в полном и действительном смысле слова,
поэтому только там преследование этих целей,
руководительство людьми в борьбе за них не нарушало бы
принципа уважения к личности и ее свободе. Отсюда
уясняется, в качестве предельной цели общественного
развития, идеал общества, в котором отсутствовало бы
всякое принуждение, насилие и давление, где люди
соединялись бы в свободные союзы и, принося себя в
жертву свободно признанному долгу и святыне,
сохраняли бы в этом культурном подвижничестве
неприкосновенность и своей и чужой личности. Этот
идеал, служа неподвижной путеводной звездой наших
общественных стремлений, намечает практический
путь постепенного расширения сферы свободы
личности, защищенной от посягательств всяких
политических интересов и действий. Но постановка этой
идеальной конечной цели совершенствования
человека и человечества не разрешает морального
конфликта, в который, при современных условиях
действительности, должна неизбежно вступить
культурно-политическая деятельность с принципом уважения
личности. Оба моральных импульса живут одновременно
и потому вечно сталкиваются в душе общественного
деятеля. Не признавая беспринципного девиза —
Очерки философии культуры 149
«цель оправдывает средства», наоборот, будучи обязан
считаться с абсолютными моральными принципами,
он может только живым нравственным чутьем
угадывать для каждого случая этически правомерный
компромисс между двумя противоречивыми
обязанностями, столкновение которых образует вечную трагедию
сознательного духа, все обнажающего своим
критическим ножом и в своем чувстве доходящего до
последних глубин. Моральный такт должен указывать ему
в таких случаях, что его действие представляет
настолько насущную нравственно-политическую
необходимость, что не может остановиться даже перед
самым жестоким насилием, и в каких случаях,
наоборот, уважение к человеческой личности дожно ставить
абсолютную преграду его деятельности.
Руководствуясь постоянно стремлением прибегать в своих
действиях только к совершенно неизбежному минимуму
насилия, он, где возможно, будет предпочитать пути
насилия и давления путь свободного убеждения и
воспитания, но, вместе с тем, не продаст судьбе своих
великих идеалов за полное спокойствие и незапятнанность
своей совести. Есть случаи, когда даже пролитие крови,
оставаясь грехом, становится нравственной
обязанностью; и есть другие случаи, когда самый серьезный
общественный интерес не может оправдать даже
чисто морального неуважения к человеческой
личности. Кто ищет точного и незыблемого правила для всех
положений, тот будет беспомощно блуждать от одной
крайности к другой; здесь может решать лишь живой
и не сводимый ни к каким формулам дух морали, а
не буква принципа. Русская общественно-этическая
мысль, вообще часто предпочитающая догматическую
ясность убеждений их многосторонности и
жизненности, в этом вопросе как бы замерла между двух
крайних точек: на одном полюсе нравственного мира
укрепилось толстовство, во имя спокойствия совести
осуждающее человека на общественную
бездеятельность и неотзывчивость к нуждам жизни, тогда как на
другом его полюсе зреет нетерпимое и беспринципное
якобинство, которое в борьбе за свой идеал не хочет
считаться ни с какими моральными правами чужого
мнения, чужой веры и свободы, если они стоят
поперек его дороги. Но живая нравственная правда так
150
П.Б.Струве, С.Л.Франк
же мало на стороне Толстого, как и на стороне
Робеспьера. Нельзя нести в мир добродетель, замыкаясь в
моральном самоуслаждении и оградившись китайской
стеной от столкновения с мутным потоком
жизненных тревог; но, быть может, еще меньше можно
научиться добродетели, рубя головы направо и налево.
Толстовство, которое в своем нынешнем
догматическом виде есть мертвящий и бесплодный, с точки
зрения культурного творчества, аскетизм, могло бы
принести обильные и ценные нравственные плоды, если
бы в критически очищенной и утонченной форме оно
было внесено в само культурно-политическое
творчество и признано его руководящим моральным
принципом. Активность и страстность общественной
борьбы дожна сочетаться с широчайшей терпимостью,
преданность культурно-политическому идеалу и
настойчивость в его осуществлении должны органически
пропитаться духом уважения к каждой личности.
Великое учение Толстого, что идеал достигается не
насилием, а проповедью и примером, что победа добра
над злом не может совершиться средствами зла,
должно быть усвоено не как церковный догмат, ради
буквы которого надо отказаться от всякой связи с
жизнью, от всякого вмешательства в ее социальное и
моральное неустройство, а как широкое, гуманное
настроение, голос которого будет звучать нам даже в
пылу страстной борьбы и не допустит, чтоб боец
превращался в изувера и насильника.
* * *
Итак, культура и личность стоят в теснейшей
внутренней связи между собой. Личность и одна
только личность творит культуру, и, в свою очередь,
задача культуры есть утверждение свободной духовности,
воспитание богатой и полной ценного содержания
индивидуальности. Принцип личности и принцип
культуры, вступая в многообразные и мучительные
конфликты, тем не менее, по существу, вытекают из
одного морального источника — уважение к духу и
его творчеству — и сплетаются в цельное и внутренне
согласованное культурно-философское
миросозерцание, которое можно назвать гуманистическим
индивидуализмом.
ИНДИВИДУАЛИЗМ И СОЦИАЛИЗМ
Отрывок
Между личностью и культурой есть самая тесная
связь: личность живет культурой, и культура
осуществляется личностью в расцвете последней празднует
свои величайшие победы. Но в то же время мы знаем,
что личность борется с культурой и отстаивает в ней
себя, как цель. В этом живом и текучем, постоянно
упраздняемом и постоянно вновь рождающемся
противоречии и состоит развитие и утверждение
культуры. Это — присуще самой жизни и творящее ее
богатство противоречие. Принципиально такое же
противоречие существует между личностью и обществом.
Грубыми приемами мнимой логики или
произвольными декретами деспотической морали можно, конечно,
объявить это противоречие не бывшим и не
существующим, недоразумением, порождением ошибки и даже
злого умысла. Наконец, формулы все примиряющей
объективной метафизики могут «снять» и в
абсолютном царстве абсолютной действительности и в
культурном творчестве неупразднимо и допускает не
примирение, а примирения, не полную гармонию, а лишь
приближение к ней.
Идея личности заполняет собою новейшее
политическое развитие человечества. Идея эта не была
совершенно чужда древности, но только христианская
культура нового времени облекла ее в ясные
формулы. Политическая идея личности в той форме, в
какой она уже вольной струей пробивается в
европейской культуре, начиная с XVI века — христианского
происхождения.
152
П.Б.Струве
Первыми глашатаями ее были религиозные
реформаторы, и первым практическим приложением ее
было требование свободы совести, т. е. религиозного
самоопределения человека.
Происхождение идеи и факта прав личности
несомненно озарено возвышенным светом борьбы за
свободу религиозной совести. Но в этой борьбе
выступала на сцену не та тонкая, сложная, богатая, широкая
личность, которая творит современную культуру, а
более узкая, бедная тусклая личность религиозного
протестанта, в глазах которого яркие культурные
ценности носили печать греховности.
Личность эта молилась в пуританском храме,
эстетически скудной горнице частного дома, где не было
ни ярких, чарующих красок, ни красивых, ласкающих
линий. Но формальную, алгебраическую идею
самоопределения личности суровые религиозные
реформаторы Англии поняли с полной ясностью и высказали
с окончательной определенностью. Не случайно, а,
наоборот, соответствует истинному существу религии,
что те же люди, которые установили автономию
личности, первые с полной ясность провозгласили
субъективность религиозного переживания и отвергли
религиозный догматизм, идею всякого внешнего,
объективного упорядочения религии признали
богопротивной. Таким образом в области религиозной они почти
дошли до понимания личности в современном
смысле — ее своеобразия и единственности. Даже в
морали некоторые умы индепендентов приблизились
к такому пониманию.
В связи с идеей самоопределения личности, в той
же стране и при тех же условиях возникает и
становится движущей силой идея самоопределения
общества. Когда изучаешь факты и идеи английской
революции XVII века, то ничто так не поражает, как то
обстоятельство, что в эту изумительную эпоху как бы
одним ударом в законченной форме рождается и идея
свободы личности, либерализм, и идея
самоуправления общества, идея демократии.
Проникнутые религиозным энтузиазмом,
радикальные солдаты армии Кромвеля вместе с личной
свободой требовали основанного на общественно до-
Индивидуализм и социализм 153
говоре и общественном самоуправлении
государственного устройства.
В этом государственном устройстве права
личности были бы прочно защищены от деспотизма даже
демократически организованной власти.
«Народный договор», который обсуждался в Пут-
нее осенью 1647 г. на офицерском совете армии
Кромвеля, утверждает государственное устройство
Англии на признании неотъемлемых прав личности,
которых не может отменить никакой парламент и на
провозглашении всеобщего и равного избирательного
права. Прения об этом проекте английской
конституции являются как бы прототипом всех позднейших
споров по основным вопросам конституционного
права. Умеренные, в лице Кромвеля и Айретона,
высказывают опасения, что принятие принципа
всеобщего избирательного права отдаст управление страной
в руки широких неимущих масс народа и поведет к
уничтожению собственности, к «анархии» (буквальное
выражение Кромвеля); радикалы же возражают на это
и утверждают, что мысль об анархии им так же чужда,
как и их противникам.
После английской пуританской революции мысль
человечества, приняв идею либерализма, развивает ее
в теориях и декларациях прав человека.
Мы сказали, что вместе с идеей прав личности
английская революция рождает идею
самоопределения общества. Именно в этом сорождении двух
великих политических начал заключается особенность и
величие той эпохи религиозного и политического
энтузиазма, ибо сама по себе идея самоуправления
общества гораздо старше английской революции.
В древнем мире были бесправные люди,
безличности в морально-политическом смысле, рабы (servi
sunt res); поскольку можно утверждать, что идея
самоопределения личности и неразрывно связанная с нею
идея равноценности людей была чужда древним1. Но
1 Однако уже в Древней Греции есть зачатки идейного
движения против рабства. Ср. Белох, История Греции, пер. с
нем. Гершензона. Т. 1 (изд. К.Т.Солдатенкова. Москва, 1897),
стр. 372.
154
П.Б.Струве
облеченные званием личности люди древнего мира
хорошо усвоили себе идею общественного
самоопределения, ценили ее и боролись за нее.
Демократизма был могущественным действенным
течением эллинской культуры. Можно сказать даже
вслед за Бенджаменом Констаном, что в древнем
мире каждый гражданин чувствовал себя живым
источником демократии и непосредственно на площади
общины-города наслаждался упражнением своего
народовластия.
В средние века идея самоуправления общества и
общественного договора становится орудием борьбы:
верховенства папы против светской власти монархов,
церковных либералов и демократов (защитников
верховенства соборов) против самодержавия папы,
протестантов-подданных против католических государей
и, наоборот, католиков-подданных против
протестантских государей и т.д.
В этой свалке интересов идея самоуправления
общества искажается. Она входит, выражаясь
химически, в постоянное соединение с идеей абсолютной
власти государя, светского или духовного, и через это
образуется идея «народного самодержавия» (sou-
verainité du peuple). Государь самодержавен — так
гласит доктрина одержавшего по всей линии победу
абсолютизма. Стоило это понятие безграничной
власти государя перенести на общество и
государство, и перед нами идея неограниченного
народовластия или абсолютного самодержавия (суверенитета)
народа.
Теоретическое завершение и классическую
формулировку эта идея получает в «Общественном
Договоре» Руссо, в этой после Евангелия самой влиятельной
книге человечества. Но уже у Руссо идея
самодержавия народа обращается против прав человека,
порождая чудовищное учение о гражданской религии.
Приписывая власти государства абсолютный характер,
Руссо вступил в непримиримое противоречие со
своими собственными воззрениями на «естественные
права» людей, как таковых.
Практика великой французской революции с ее
революционным терроризмом была торжеством идеи
Индивидуализм и социализм 155
самодержавия народа над правами человека, и она-то
вызвала против этой идеи в XIX веке глубокую
реакцию. Во имя свободы личности индивидуализм начала
XIX века восстал против самодержавия народа, или
всемогущества государства. Но ход развития
общественной жизни тогда же вызвал борьбу тех же,
по-видимому, идей личности и общества в совершенно
иной комбинации. Победа начала свободной
конкуренции в Англии и Франции, связанная с успехами
крупного производства, возбудила сильную и
глубокую реакцию против хозяйственного индивидуализма,
против экономической свободы. В культурную жизнь,
как новая и могущественная сила, вступил социализм.
Он объявил войну индивидуализму и либерализму во
имя организации и авторитета. Часто забывается, что
социализм первой половины XIX века — в лице своих
самых грандиозных представителей, Сен-Симона и
его учеников сен-симонистов, — сложился под
влиянием общественной реакции и выступил рука об руку
с явно реакционной контрреволюционной идеологией
Де-Местра, Бональда и Балланша. Эта первая и едва
ли не самая оригинальная форма социализма смеется
над «печальными божествами индивидуализма», двумя
«существами разума, сознанием и общественным
мнением» и призывает власть, которая должна
распространяться на все и быть вездесуща.
К свободе и правам личности сен-симонисты
относились не только равнодушно, но и враждебно. Так
как сен-симонисты были, если не творцами, то
первыми систематическими глашатаями так называемого
«экономического», или «исторического»
материализма, то и эта доктрина, ставшая в руках Маркса
революционным оружием, в своем возникновении связана
психологически с реакционной идеологией начала
XIX века.
И это верно по отношению к судьбам
экономического материализма не только во Франции, но и в
Германии, где задолго до Маркса, в 1838 году,
консервативный экономист и философ Лаверн-Пегюельен
формулировал с замечательной ясностью основную
идею экономического материализма. Это совершенно
понятно: экономический материализм есть частный
156
П.Б.Струве
случай выдвинувшегося на смену рационалистическим
концепциям учения о том, что развитие общества есть
стихийный, независимый от сознательных усилий
личностей, органический рост учреждений.
Практическим мотивом этого учения была борьба с идеями и
практикой революции. Таков основной смысл того,
что против революции выдвинули Берк, историческая
школа в праве (в особенности Савиньи), де Местр,
Бональд и, наконец, Огюст Конт.
Тем же антииндивидуалистическим и
органическим духом была проникнута немецкая послекантов-
ская философия Шеллинга и Гегеля. Во всех этих
течениях мысли XIX века воскресала и с новой силой
заявляла себе античная идея государства, того
государства, которое сть само в себе цель и в котором
личность играет роль служебного органа.
Но несмотря на эти контрреволюционные и
антииндивидуалистические психологические корни
новейшего социализма, было бы грубою ошибкою
утверждать, что идейные и практические общественные
тенденции, которые объединялись и объединяются под
этим именем, по существу, в идее антииндивидуалис-
тичны и находятся в непримиримом противоречии с
либерализмом.
Есть два социализма1. Или, вернее, то, что
называется социализмом, колеблется в истории между двумя
идейными полюсами. В одном социализме идейною
сущностью является подчинение личности целому:
личность есть средство, общество — цель, или иначе,
личность есть орган, общество же организм. В другой
концепции социализма целью и венцом является
личность, общество же сть лишь средство или орудие
осуществления целей личности. Первый тип есть
социализм принципиальный, философский. Это —
социализм Платона, Фихте, Адама Мюллера, Родберту-
са. Идея этого социализма превосходно выражена
Пьером Леру, который под ним разумел une
organisation politique dans laquelle l'individu serait sacrifié à cette
1 На это с особенной ясностью указал в литературе ГДитцель
в своей известной монографии о Родбертусе.
Индивидуализм и социализм 157
entité qu'on nomme la société, хотя сам Леру не
выдерживал в своем учении этой идеи социализма. В
основе философского социализма лежит идея общества,
государства, словом социального целого как единого,
самодовлеющего, абсолютного организма, как
реальности, стоящей над личностями и ими в своих целях
пользующейся. В новейшем социализме,
единственным законченным представителем этой философской
идеи является Родбертус. Но ее значение и смысл
раскрывается вообще не в истории социализма как
экономической проблемы, а в истории философии
права. Все те мыслители, которые утверждали не
только реальность, но и высшую ценность —
сравнительно с личностью — социального целого (общества
или государства), учили философскому социализму. К
нему естественно приближаются и все те умы,
которые, — как, напр., Ренан, — видят в обществе не
«атомистическое соединение индивидуумов», а
некоторое «устроенное единство»1; нация, церковь,
гражданская община в их глазах существую больше, чем
личность, потому что личность приносит себя в
жертву этим целям2. Огромное же большинство
«социалистов», «коллективистов» или вовсе не задумывалось
над философскими основами своих практических
целей (это особенно характерно для так называемого
научного социализма) или во всяком случае не
додумывалось до их основоначал, за одним единственным
исключением, о котором я сейчас скажу несколько
слов. Идею социализма этих социалистов мы
вынуждены выводить из общего духа и основного смысла их
учений.
В результате философского смотра разных
социалистических доктрин можно установить, что в основе
большинства их лежит вовсе не философский
социализм, а, наоборот, идея индивидуалистическая, идея
верховной ценности личности и служебного значения
социального организма. Исключение в общем море
той философской неясности, в которой бродят и бро-
Avenir de la Sience.
Dialogues et fragments philosophiques.
158
П.Б.Струве
дили большинство индивидуалистических
социалистов, представляют до известной степени русские
философы социализма, П.Л.Лавров и
Н.К.Михайловский. Если и эти писатели не дали стройного
философского и критического обоснования
индивидуалистического социализма, то это объясняется главным
образом тем, что, как позитивисты и, главное, как
«уравнители», они идею личности подчинили идее
равенства; а как публицисты социализма не сумели
отнестись критически-свободно.
Отсутствие принципиальной философской ясности
в построениях большинства «социалистов» отразилось
чрезвычайно невыгодно на судьбах индивидуализма и
либерализма. Глубоко потрясенные картинами
угнетения и нищеты трудящегося человека, «социалисты»
восприняли индивидуалистическую идею в той грубой
и пошлой форме, какую эта идея приняла в писаниях
доктринеров политического и экономического
либерализма. И потому «социалисты» очень часто с идолов
хозяйственного эгоизма, свободной конкуренции, не
знающего никаких сдержек капитализма, наконец,
политического господства буржуазии свою критику и
святую ненависть переносили на идеалы
индивидуализма и совершенно беспринципно обесценивали
перед своими последователями и политическую
свободу, и саму идею права1.
Эта политическая беспринципность
индивидуалистических в своей основе «социалистов» отчасти
объясняется тем, что их индивидуализм — несмотря на
частые ссылки на христианство — был глубоко пропитан
материализмом и гедонизмом и идею личности
понимал в самом грубом смысле, не идя ни шагу дальше.
Именно в невнимании к идеалистическому
содержанию личности заключался источник беспринципности
и оппортунизма этих индивидуалистов. С другой сто-
1 Так, полемика против индивидуализма есть центральная идея
философского введения в историю французской революции Луи
Блана. В литературе фурьеризма есть поразительные образчики
политической беспринципности и близорукости. Смехотворны,
например, те восхваления, которые знаменитый Консидеран
воспевал Николаю I.
Индивидуализм и социализм 159
роны, как мы уже сказали, чистая идея
индивидуализма не только загрязнилась, но и затерялась, попав в
руки апологетов капитализма, защитников
экономического и политического господства буржуазии. По
большей части и эти индивидуалисты были такими же
грубыми материалистами, как и их противники. Когда
идея так называемой «экономической свободы», т.е.
практические выводы хозяйственного
индивидуализма, были подорваны критикой социалистов и
социальных реформаторов, когда идея и практика
государственного невмешательства в экономическую жизнь
капитулировала перед «социальной политикой», — в
этот кризис индивидуализма, как практического
направления политико-экономической мысли, была
вовлечена и философская идея индивидуализма.
Либерализм, казалось, был поражен в своей первооснове и
получил смертельный удар. Постулаты социальной
политик были без труда (но, в сущности, и без
всякого размышления) выводимы из философского
социализма, и последний получил огромный теоретический
престиж. Правда, его теперь уже перестали
додумывать до конца и возводить в ранг абсолютного закона.
Катедер-социалистам была чужда философская
ясность Платона и Гегеля, и с Родбертусом они были
попутчиками только на полпути. Но еще менее проду-
мывалась и додумывалась до конца философская
противоположность социализма — индивидуализм. В
философии культуры и общества окончательно
наступила эпоха беспринципных и безыдейных компромиссов
между социализмом и индивидуализмом. Только в
самое последнее время могучий дух Ницше встряхнул
философскую мысль и дал почувствовать, что
эклектическая кашица из социализма и индивидуализма
могла быть потребляема только в состоянии
умственных просонков. Вспомнили также об антиподе
Ницше — Канте и, при помощи этих двух глубоко
антагонистических умов, стали выбираться из болота
эклектизма.
К тому времени приспел кризис марксизма и
постепенный, но неуклонный пересмотр самой жизнью
практических идей и приемов так называемого
научного социализма. Вот где стоим мы в эпоху, когда
160
П.Б.Струве
русские люди глубоко волнуются мыслями о
политической и социальной судьбе своей родины, в эпоху,
которая, несмотря на свой бурный характер, так
страстно жаждет идей и так сильно в них нуждается.
[ГОСУДАРСТВО,
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ,
РЕВОЛЮЦИЯ
(1908)]
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ1
Россия пережила до новейшей революции,
связанной с исходом русско-японской войны, два
революционных кризиса, потрясших народные ассы: смутное
время, как эпилог которого мы рассматриваем
возмущение Разина, и пугачевщину. То были крупные
потрясения народной жизни, но мы напрасно стали бы
искать в них какой-либо религиозной или
политической идеи, приближающей их к великим переворотам
на Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею
под участие раскольников в пугачевском бунте? Зато в
этих революциях, неспособных противопоставить что-
либо исторической государственности и о нее
разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба
социальных интересов.
Революция конца XVI и начала XVII вв. в высшей
степени поучительна при сопоставлении с
пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее
победы торжествует реакция в той или иной форме.
Смута начала XVII века представляет ту оригинальную
черту, что в этой революции как таковой, как
народном движении непосредственно, минуя реакцию,
одержали верх здоровые государственные элементы
общества. И с этой чертой связана другая, не менее
важная: «смута была не только социальным
движением, не только борьбой за политическую власть, но
огромным движением национально-религиозной
самозащиты. Без польского вмешательства великая смута
1598—1613 гг. была бы рядом придворных интриг и
переворотов, чередующихся с бессильными и
бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего
1 Настоящие размышления представляют написанные два года
тому назад наброски главы из той задуманной мною книги, в
которой я хотел подвести итоги нашего культурного и
политического развития и дать оценку пережитой нами
революции.
6·
164
П.Б.Струве
общества. Польское вмешательство развернуло смуту в
национально-освободительную борьбу, в которой во
главе нации стали ее консервативные общественные
силы, способные на государственное строительство.
Если это была великая эпоха, то не потому, что
взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.
Таким образом, в событие смуты начала XVII века
перед нами с поразительной силой и ясностью
выступает неизмеримое значение государственного и
национального начал. С этой точки зрения особенно
важен момент расхождения и борьбы
государственных, земских элементов с противогосударственными,
казачьими. За иллюзию общего дела с «ворами»
первый вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился
собственной жизнью и полным крушением
задуманного им национального предприятия. Те «последние
люди московского государства», которые по зову
патриарха Гермогена встали на спасение государства и
под предводительством Минина и Пожарского довели
до конца дело освобождения нации и восстановления
государства, совершили это в борьбе с
противогосударственным «воровством» анархических элементов. В
указанном критическом моменте нашей допетровской
хмуты», в его общем психологическом содержании
чувствуется что-то современное, слишком
современное...
Социальные результаты смуты для низов
населения были не только ничтожные, они были
отрицательные. Поднявшись в анархическом бунте,
направленном против государства, оседлые низы только
увеличили свое собственное закрепощение и социальную
силу «господ». И вторая волна социальной «смуты»
XVII в., движение, связанное с именем Стеньки
Разина, стоившее множества жертв,
бессмысленно-жестокое, совершенно «воровское» по своим приемам, так
же бессильно, как и первая волна, разбилась о
государственную мощь.
В этом отношении пугачевщина не представляет
ничего нового, принципиально отличного от смуты
1598—1613 гг. и от разиновщины. Тем не менее
социальный смысл и социальное содержание
пугачевщины громадны: они не могут быть выражены в двух
словах — освобождение крестьян. Пугачев манифес-
Интеллигенция и революция 165
том 31 июля 1774 года противогосударственно
предвосхитил манифест 19-го февраля 1861 г. Неудача его
«воровского» движения была неизбежна: если
освобождение крестьян в XVIII и в начале XIX в. было
для государства и верховной власти — по причинам
экономическим и другим — страшно трудным делом,
то против государства и власти осуществить его тогда
было невозможно. Дело крестьянского освобождения
было не только погублено, но и извращено в свою
противоположность «воровскими»
противогосударственными методами борьбы за него,
Носителем этого противогосударственного
«воровства» было как в XVII, так и в XVIII в. «казачество».
«Казачество» в то время было не тем, чем оно является
теперь: не войсковым сословием, а социальным слоем,
всего более далеким от государства и всего более ему
враждебным. В этом слове были навыки и вкусы к
военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на
уровне организованного коллективного разбоя.
Пугачевщина была последней попыткой казачества
поднять и повести против государства народные низы.
С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены
как элемент, вносивший в народные массы
анархической и противогосударственное брожение. Оно само
подвергается огосударствлению и народные массы в
своей борьбы остаются одиноки, пока место
казачество не занимает другая сила. После того как казачество
в роли революционного фактора сходит на нет, в
русской жизни зреет новый элемент, который — как
немало похож он на казачество в социальном и бытовом
отношении — в политическом смысле приходит ему
на смену, является его историческим преемником.
Этот элемент — интеллигенция.
Слово «интеллигенция» может употребляться,
конечно, в различных смыслах. История этого слова в
русской обиходной и литературной речи могла бы
составить предмет интересного специального этюда.
Нам приходит на память, в каком смысле говорил
в тургеневской «Странной истории» помещик-откуп-
ник: «У нас смирно; губернатор меланхолик,
губернский предводитель — холостяк, а впрочем, после
завтра в дворянском собрании большой бал. Советую
съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу ин-
166
П.Б.Струве
теллигенцию вы увидите». Мой знакомый, как
человек, некогда обучавшийся в университете, любил
употреблять выражения ученые. Он произносил их с
иронией, но и с уважением. При том известно, что
занятие откупами, вместе с солидностью, развивало в
людях некоторое глубокомыслие».
Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не
публику, бывающую на балах в дворянском собрании.
Мы разумеем под этим наименованием даже не
«образованный класс». В этом смысле интеллигенция
существует в России давно, ничего особенного не
представляет и никакой казаческой миссии не
осуществляет. В известной мере «образованный класс»
составляла в России всегда некоторая часть
духовенства, потом первое место в этом отношении заняло
дворянство.
Роль образованного класса была и остается очень
велика во всяком государстве; в государстве отсталом,
лежавшем не так давно на крайней периферии
европейской культуры, она, вполне естественно, является
громадной.
Не об этом классе и не об его исторически
понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною
функцией просвещения, идет речь в данном случае.
Интеллигенция в русском политическом развитии
есть фактор совершенно особенный: историческое
значение интеллигенции в России определяется ее
отношением к государству в его идее и в его реальном
воплощении.
С этой точки зрения интеллигенция, как
политическая категория, объявилось в русской исторической
жизни лишь в эпоху реформ и окончательно
обнаружила себя в революцию 1905—07 гг.
Идейно же она была подготовлена в
замечательную эпоху 40-х гг.
В облике интеллигенции, как идейно
политической силы в русском историческом развитии, можно
различать постоянный элемент, как бы твердую
форму, и элемент более изменчивый, текучий —
содержание. Идейной формой русской интеллигенции
является ее отщепенство, ее отчуждение от
государства и враждебность к нему.
Интеллигенция и революция 167
Это отщепенство выступает в духовной истории
русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное
и как относительное. В абсолютном виде оно является
в анархизме, в отрицании государства и всякого
общественного порядка, как таковых (Бакунин и князь
Кропоткин). Относительным это отщепенство
является в разных видах русского революционного
радикализма, к которому я отношу прежде всего разные
формы русского социализма. Исторически это
различие между абсолютным и относительным
отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем
настаивают), ибо принципиальное отрицание государства
анархизмом есть нечто в высокой степени
отвлеченное, так же как принципиальное признание
необходимости общественной власти (т. е. в сущности
государства) революционным радикализмом носит тоже
весьма отвлеченный характер и стушевывается перед
враждебностью государства во всех его конкретных
определениях. Поэтому в известном смысле марксизм,
с его учением о классовой борьбе и государстве как
организации классового господства, был как бы
обострением и завершением интеллигентского
противогосударственного отщепенства. Но мы определили бы
сущность интеллигенции неполно, если бы указали
бы на ее отщепенство только в выше очерченном
смысле. Для интеллигентского отщепенства
характерны не только не только его противогосударственный
характер, но и его безрелигиозность. Отрицая
государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его
мистику не во имя какого-нибудь другого мистического
или религиозного начала, а во имя начала
революционного и эмпирического.
В этом заключается глубочайшее философское и
психологическое противоречие, тяготеющее над
интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем
самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в
русской литературе с легкой руки, главным образом,
Владимира Соловьева установилась своего рода легенда о
религиозности русской интеллигенции. Это, в
сущности, — применение к русской интеллигенции того
же самого воззрения, — на мой взгляд
поверхностного и не выдерживающего критики, — которое привело
Соловьева к его известной реабилитации, с точки зре-
168
П.Б.Струве
ния христианской и религиозной, противорелигиоз-
ных мыслителей. Разница только в том, что
западноевропейский позитивизм и рационализм XVIII в. не в
такой полной мере чужд религиозной идеи, как тот
русский позитивизм и рационализм XIX в., которым
вспоена вся наша интеллигенция.
Весь недавно очерченный русский максимализм
русской интеллигенции, формально роднящий ее с
образом ибсеновского Бранда (»все или ничего!»),
запечатлен указанным выше противоречием, и оно
вовсе не носит отвлеченного характера: его
жизненный смысл пронизывает всю деятельность
интеллигенции, объясняет все ее политические перипетии.
Говорят, что анархизм и социализм русской
интеллигенции есть своего рода религия. Именно в
вышеуказанном максимализме было открыто присутствие
религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и
социализм суть лишь особые формы индивидуализма
и так же, как последний, стремятся к наибольшей
полноте и красоте индивидуальной жизни, и в этом,
говорят, их религиозное содержание. Во всех этих и
подобных указаниях религия понимается совершенно
формально и безыдейно.
После христианства, которое учит не только
подчинению, но и любви к Богу, основным
неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, не
может не быть вера в спасительную силу и решающее
значение личного творчества или, вернее, личного
подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией.
Интересно, что те догматические представления
новейшего христианства, которые, как кальвинизм и
янсенизм, доходили до высшего теоретического
напряжения идею детерминизма в учении о
предопределении, рядом с ней психологически и практически
ставили и проводили идею личного подвига. Не может
быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без
идеи личного подвига.
Вполне возможно религиозное отщепенство от
государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно
потому, что Толстой религиозен, он идейно
враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму, и
стоит вне русской интеллигенции.
Интеллигенция и революция 169
Основная философема социализма, идейный
стержень, на котором он держится как мировоззрение,
есть положение о коренной зависимости добра и зла в
человеке от внешних условий. Недаром основателем
социализма является последователь французских
просветителей и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший
учение об образовании человеческого характера,
отрицающее идею личной ответственности.
Религия так, как она приемлема для современного
человека, учит, что добро в человеке всецело зависит
от его свободного подчинения высшему началу.
Основная философема всякой религии, утверждаемой не
на страхе, а на любви и благоговении, — есть
«Царство Божие внутри вас есть».
Для религиозного миросозерцания не может
поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем
личное самоусовершенствование человека, на которое
социализм принципиально не обращает внимания1.
Социализм в его чисто-экономическом учении не
противоречит никакой религии, но он как таковое не
есть вовсе религия. Верить (»верую, Господи, и
исповедую») в социализм религиозный человек не может,
так же как он не может верить в железные дороги,
беспроволочный телеграф, пропорциональные выборы.
Восприятие русскими передовыми умами
западноевропейского атеистического социализма — вот
духовное рождение русской интеллигенции в очерченном
нами смысле, таким первым русским интеллигентом
был Бакунин, человек, центральная роль которого в
развитии русской общественной мысли далеко еще не
оценена. Без Бакунина не было бы «полевения»
Белинского и Чернышевский не явился бы
продолжателем известной традиции общественной мысли.
Достаточно сопоставить традиции Новикова, Радищева и
Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того,
чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет
светочей русского образованного класса от светочей
русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев —
это воистину Богом упоенные люди, тогда как
подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в
1 Ср. мою статью о Льве Толстом в «Русской Мысли» (август
1908 г.).
170
П.Б.Струве
его окончательной роли, и Чернышевский с начала и
до конца его деятельности. Разница между
Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны,
просто «историческое» различие. Это не звенья одного и
того же ряда, это два по существу непримиримые
духовные течения, которые на всякой стадии развития
должны вести борьбу.
В 60-х годах, с их развитием журналистики и
публицистики, «интеллигенция» явственно отделяется и
от образованного класса как нечто духовно особое.
Замечательно, что наша национальная литература
остается областью, которую интеллигенция не может
захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов,
Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят
интеллигентского лика. Белинский велик зовем не как
интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом
как истолкователь Пушкина и его национального
значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и
атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским
ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир
русского интеллигента, и расхождение его с деятелями
60-х годов не есть опять-таки просто исторический и
исторически обусловленный факт конфликта людей
разных формаций культурного развития и
общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и
существенное. Чернышевский по всему существу своему
другой человек, чем Герцен. Не просто индивидуально
другой, а именно другой духовный тип.
В дальнейшем развитии русской общественной
мысли Михайловский, например, был типичный
интеллигент, конечно, гораздо более тонкого
индивидуального чекана, чем Чернышевский, но все-таки с
головы до ног интеллигент. Совсем наоборот, Владимир
Соловьев вовсе не интеллигент. Очень мало
индивидуально похожий на Герцена салтыков так же, как он,
вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе и далеко
отбрасывает этот мундир. Между тем весь русский
либерализм — в этом его характерное отличие от
славянофильства — считает своим долгом носить
интеллигентский мундир, хотя острая отщепенская суть
интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик
Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное
Интеллигенция и революция 171
лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими
масками.
В безрелигиозном отщепенстве от государства
русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой
и переживаемой нами революции.
После пугачевщины и до этой революции все
русские политические движения были движениями
образованной и привилегированной части России. Такой
характер совершенно явственно присущ офицерской
революции декабристов.
Бакунин в 1862 г. думал, что уже тогда началось
движение социальное и политическое в самых
народных массах. Когда началось движение, прорвавшееся
в 1905 г. революцией, об этом можно, пожалуй, долго
и бесконечно спорить, но когда Бакунин говорил в
1862 г.: «Многие рассуждают о том, будет ли в России
революция или не будет, не замечая того, что в
России уже теперь революция», и продолжал: «В 1863
году быть в России страшной беде, если царь не
решится созвать всенародную земскую думу», то он,
конечно, не думал, что революция затянется более чем
на сорок лет.
Только в той революции, которую пережили мы,
интеллигентская мысль соприкоснулась с народной —
впервые в русской истории в таком смысле и в такой
форме.
Революция бросилась а атаку на политический
строй и социальный уклад самодержавно-дворянской
России.
Дата 17 октября 1905 года знаменует собой
принципиальное коренное преобразование сложившегося
веками политического строя России. Преобразование
это произошло чрезвычайно быстро в сравнении с тем
долгим предшествующим периодом, когда вся
политика власти была направлена к тому, чтобы отрезать
нации все пути к подготовке и осуществлению этого
преобразования. Перелом произошел в
кратковременную эпоху доверия и был, конечно, обусловлен
банкротством внешней политики старого порядка.
Быстрота, с которой разыгрывалось в особенности
последнее действие преобразования, давшее под
давлением стихийного порыва, вдохновлявшего
всеобщую стачку, акт 17 октября, подействовала опьяняю-
172
П.Б.Струве
ще на интеллигенцию. Она вообразила себя хозяином
исторической сцены, и это всецело определило ту
«тактику», при помощи которой она приступила к
осуществлению своих идей. Общую характеристику
этих идей мы уже дали. В сочетании этой тактики с
этими идеями, а вовсе не в одной тактике, — ключ к
пониманию того, что произошло.
Актом 17 октября по существу и формально
революция должна была бы завершиться. Невыносимое в
национальном и государственном смысле положение
вещей до 17 октября состояло в том, что жизнь
народа и развитие государства были абсолютно замкнуты
самодержавием в наперед установленные границы.
Все, что не только юридически, но и фактически
раздвигало или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть
эти границы, не терпелось и подвергалось гонению. Я
охарактеризовал и заклеймил эту политику в
предисловии к заграничному изданию знаменитой записки
Витте о самодержавии и земстве. Крушение этой
политики было неизбежно, и в связи с усложнением
общественной жизни и с войной оно совершилось,
повторяем, очень быстро.
В момент государственного преобразования 1905
года отщепенские идеи и отщепенское настроение
всецело владели широкими кругами русских
образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся
власть должна была пойти насмарку тотчас после
сделанной ею уступки, в принципе решавшей вопрос о
русской конституции. Речь шла о том, чтобы, по
подлинному выражению социал-демократической
публицистики того времени, «последним пинком раздавить
гадину». И такие заявления делались тогда, когда еще
не было созвано народное представительство, когда
действительное настроение всего народа и, главное,
степень его подготовки к политической жизни, его
политическая выдержка никому еще не были
известны. Никогда никто еще с таким бездонным
легкомыслием не призывал к величайшим политическим и
социальным переменам, как наши революционные
партии и их организации в дни свободы. Достаточно
указать на то, что ни в одной великой революции идея
низвержения монархии не являлась выброшенным
лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII
Интеллигенция и революция 173
века ниспровержение монархии получилось в силу
рокового сцепления факторов, которых никто не
предвидел, никто не призывал, никто не «делал».
Недолговечная английская республика родилась
после веков существования парламента в великой
религиозно-политической борьбе усилиями людей,
вождь которых является, быть может, самым сильным
и ярким воплощением английской государственной
идеи и поднял на небывалую высоту английскую
мощь. Французская монархия пала вследствие своей
чисто политической неподготовленности к тому
государственному перевороту, который она сама начала. А
основавшаяся на ее месте республика, выкованная в
борьбе за социальное бытие, как будто явилась только
для того, чтобы уступить место новой монархии,
которая в конце концов пала в борьбе с внешними
врагами. Наполеон I создал вокруг себя целую легенду, в
которой его личность тесно сплелась с идеей мощи и
величия государства, а восстановленная после его
падения династия была призвана и посажена на престол
чужеземцами и в силу этого уже с самого начала
своей реставрации была государственно слаба. Но
Бурбоны, в лице Орлеанов, конечно, вернулись бы на
французский трон после 1848 года, если бы их не
предупредил Наполеонид, сильный
национально-государственным обаянием первой Империи. Падение же
Наполеона III на этой подготовленной к
государственным переворотам почве было обусловлено
полным, беспримерным в истории военным разгромом
государства. Так в новейшей французской истории
почти в течение целого столетия продолжался
политический круговорот от республики к монархии и
обратно, круговорот, полный великих государственных
событий.
Чужой революционный опыт дает наилучший
комментарий к нашему русскому. Интеллигенция нашла
в народных массах лишь смутные инстинкты, которые
говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-
то гул. Вместо того чтобы этот гул претворить
систематической воспитательной работой в сознательные
членораздельные звуки национальной личности,
интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие
174
П.Б.Струве
книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли
в воздухе.
В ту борьбу с исторической русской
государственностью и с «буржуазным» социальным строем,
которая после 17-го октября была поведена с еще
большею страстностью и в гораздо более революционных
формах, чем до 17 октября, интеллигенция внесла
огромный фанатизм ненависти, убийственную
прямолинейность выводов и построений и ни грана —
революционной идеи.
Религиозность или безрелигиозность
интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике.
Однако только по-видимому, не случайно, что русская
интеллигентность, будучи безрелигиозной в том
неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же
время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в
политике, легковерие без веры, борьба без творчества,
фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без
благоговения, — словом, тут была и есть налицо вся форма
религиозности без ее содержания. Это противоречие,
конечно, свойственно по существу всякому
окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму.
Но ни над одной живой исторической силой она не
тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской
интеллигенцией. Радикализм или максимализм может
находить себе оправдание только в религиозной идее,
в поклонении и служении какому-нибудь высшему
началу. Во-первых, религиозная идея способна
смягчить углы такого радикализма, его жесткость и
жестокость. Но кроме того, и это самое важное,
религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу
человека, ибо с религиозной точки зрения проблема
внешнего устроения жизни есть нечто
второстепенное. Поэтому, как бы решительно ни ставил
религиозный радикализм политическую и социальную
проблему, он не может не видеть в ней проблемы
воспитания человека, пусть воспитание это совершается
путем непосредственного общения человека с Богом,
путем, так сказать, надчеловеческим, но все-таки это
есть воспитание и совершенствование человека,
обращающегося к нему самому, к его внутренним силам,
к его чувству ответственности.
Интеллигенция и революция 175
Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой
бы то ни было форме, отметает проблему воспитания
в политике и в социальном строительстве, заменяя его
внешним устроением жизни.
Говоря о том, что русская интеллигенция идейно
отрицала или отрицает личный подвиг и личную
ответственность, мы, по-видимому, приходим в
противоречие со всей фактической историей служения
интеллигенции народу, с фактами героизма,
подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это
служение. Но нужно понять, что фактическое
упражнение самоотверженности не означает вовсе
признания идеи личной ответственности как начала,
управляющего личной и общественной жизнь. Когда
интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он
никогда не додумывался до того, что выражающаяся в
начале долга идея личной ответственности должна
быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и
к народу, т.е. ко всякому лицу, независимо от его
происхождения и социального положения. Аскетизм и
подвижничество интеллигенции, полагавшей свои
силы на служение народу, несмотря на всю свою
привлекательность, были, таким образом, лишены
принципиального морального значения и воспитательной
силы.
Это обнаружилось с полною ясностью в
революции. Интеллигентская доктрина служения народу не
предполагала никаких обязанностей у народа и не
ставила ему самому никаких воспитательных задач. А
так как народ состоит из людей, движущихся
интересами и инстинктами, то, просочившись в народную
среду, интеллигентская идеология должна была дать
вовсе не идеалистический плод. Народническая, не
говоря уже о марксистской, проповедь в исторической
действительности превращалась в разнуздание и
деморализацию.
Вне идеи воспитания в политике есть только две
возможности: деспотизм или охлократия. Предъявляя
самые радикальные требования, во имя их призывая
народ к действиям, наша радикальная интеллигенция
совершенно отрицала воспитание в политике и
ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро
сыграло свою роль и не могло больше ничего дать.
176
П.Б.Струве
Когда оно спало, момент был пропущен и воцарилась
реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что
пропущен был момент.
В настоящее время отвратительное торжество
реакции побуждает многих забывать или замалчивать
ошибки пережитой нами революции. Не может быть
ничего более опасного, чем такое забвение, ничего
более легкомысленного, чем такое замалчивание.
Такому отношению, которое нельзя назвать иначе как
политическим импрессионизмом, необходимо
противопоставить подымающийся над впечатлениями
текущего момента анализ морального существа того
политического кризиса, через который прошла страна со
своей интеллигенцией во главе.
Чем вложились народные массы в этот кризис?
Тем же, чем они влагались в революционное
движение XVII и XVIII веков, своими социальными
страданиями и стихийно выраставшими из них
социальными требованиями, своими инстинктами, аппетитами и
ненавистями. Религиозных идей не было никаких.
Это была почва, чрезвычайно благодарная для
интеллигентского безрелигиозного радикализма, и он начал
оперировать на этой почве с уверенностью,
достойною лучшего применения.
Прививка политического радикализма
интеллигентских идей к социальному радикализму народных
инстинктов совершалась с ошеломляющей быстротой.
В том, как легко и стремительно стала интеллигенция
на эту стезю политической и социальной революцио-
низации исстрадавшихся народных масс, заключалась
не просто политическая ошибка, не просто грех
тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут
лежало представление, что «прогресс» общества может
быть не плодом совершенствования человека, а
ставкой, которую следует сорвать в исторической игре,
апеллируя к народному возбуждению.
Политическое легкомыслие и неделовитость
присоединились к этой основной моральной ошибке.
Если интеллигенция обладала формой религиозности
без ее содержания, то ее «позитивизм», наоборот, был
чем-то совершенно бесформенным. То были
«положительные», «научные» идеи без всякой истинной
положительности, без знания жизни и людей, «эмпиризм»
Интеллигенция и революция 177
без опыта, рационализм без мудрости и даже без
здравого смысла.
Революцию делали плохо. В настоящее время с
полною ясностью раскрывается, что в этом делании
революции играла роль ловко инсценированная
провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко
иллюстрирует поразительную неделовитость
революционеров, их практическую беспомощность, но не в нем
суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в
том, что ее вообще делали. Делали революцию в то
время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия
сосредоточить на политическом воспитании и
самовоспитании. Война раскрыла глаза народу, пробудила
национальную совесть, и это пробуждение открывало
для работы политического воспитания такие широкие
возможности, которые обещали самые обильные
плоды. И вместо этого что же мы видели? Две
всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих
масс (совет рабочих депутатов!), ряд военных бунтов,
бессмысленных и жалких, московское восстание,
которое было гораздо хуже, чем оно представилось в
первый момент, бойкот выборов в первую думу и
подготовка (при участии провокации!) дальнейших
вооруженных восстаний, разразившихся уже после
роспуска Государственной Думы. Все это должно было
терроризировать и в конце концов смести власть.
Власть была действительно терроризирована. Явились
военно-полевые суды и бесконечные смертные казни.
И затем государственный испуг превратился в
нормальное политическое состояние, в котором до сих
пор пребывает власть, в котором она осуществила
изменение избирательного закона, — теперь
потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки.
Итак, безрелигиозное отщепенство от государства,
характерное для политического мировоззрения
русской интеллигенции, обусловило и ее моральное
легкомыслие, и ее неделовитость в политике.
Что же следует из такого диагноза болезни?
Прежде всего — и это я уже подчеркнул выше, — вытекает
то, что недуг заложен глубоко, что смешно, рассуждая
о нем, говорить о политической тактике.
Интеллигенции необходимо пересмотреть все свое
миросозерцание и в том числе подвергнуть коренному пересмотру
178
П.Б.Струве
его главный устой — то социалистическое отрицание
личной ответственности, о котором мы говорили
выше. С вынутием этого камня — а он должен быть
вынут — рушится все здание этого миросозерцания.
При этом самое положение «политики» в идейном
кругозоре интеллигенции должно измениться. С
одной стороны, она перестанет быть той
изолированной и независимой от всей прочей духовной жизни
областью, которою она была до сих пор. Ибо в основу
и политики ляжет идея не внешнего устроения
общественной жизни, а внутреннего совершенствования
человека. А с другой стороны, господство над всей
прочей духовной жизнью независимой от нее
политики должно кончиться.
К политике в умах русской интеллигенции
установилось в конце концов извращенное и в корне
противоречивое отношение. Сводя политику к внешнему
устроению жизни — чем она с технической точки
зрения на самом деле и является, — интеллигенция в то
же время видела в политике альфу и омегу всего
бытия своего и народного (я беру тут политику
именно в широком смысле внешнего общественного
устроения жизни). Таким образом, ограниченное
средство превращалось во всеобъемлющую цель, — явное,
хотя и постоянно в человеческом обиходе
встречающееся извращение соотношения между средством и
целью.
Подчинение политики идее воспитания вырывает
ее из той изолированности, на которую политику
необходимо обрекает «внешнее» ее понимание.
Нельзя политику, так понимаемую, свести просто
к состязанию общественных сил, например, к борьбе
классов, решаемой в конце концов физическим
превосходством. С другой стороны, при таком
понимании невозможно политике во внешнем смысле
подчинять всю духовную жизнь.
Воспитание, конечно, может быть понимаемо тоже
во внешнем смысле. Его так и понимает тот
социальный оптимизм, который полагает, что человек всегда
готов, всегда достаточно созрел для лучшей жизни и
что только неразумное общественное устройство
мешает ему проявить уже имеющиеся налицо свойства и
возможности. С этой точки зрения «общество» есть
Интеллигенция и революция 179
воспитатель, хороший или дурной, отдельной
личности. Мы понимаем воспитание совсем не в том смысле
«устроения» общественной среды и ее
педагогического воздействия на личность. Это есть
«социалистическая» идея воспитания, не имеющая ничего общего с
идеей воспитания в религиозном смысле. Воспитание
в этом смысле совершенно чуждо социалистического
оптимизма. Оно верит не в устроение, а только в
творчество, в положительную работу человека над
самим собой, в борьбу его внутри себя во имя
творческих задач...
Русская интеллигенция, отрешившись от
безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет
существовать как некая особая культурная категория.
Сможет ли она совершить огромный подвиг такого
преодоления своей нездоровой сущности? От решения
этого вопроса зависят в значительной мере судьбы
России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-
нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это
очень трудно, но некоторые данные для ответа все-
таки имеются.
Есть основание думать, что изменение произойдет
из двух источников и будет носить соответственно
этому двоякий характер. Во-первых, в процессе
экономического развития интеллигенция «обуржуазится»,
т.е. в силу процесса социального приспособления
примирится с государством и органически-стихийно
втянется в существующий общественный уклад,
распределившись по разным классам общества. Это,
собственно, не будет духовным переворотом, а именно
лишь приспособлением духовной физиономии к
данному социальному укладу. Быстрота этого процесса
будет зависеть от быстроты переработки всего ее
государственного строя в конституционном духе.
Но может наступит в интеллигенции настоящий
духовный переворот, который явится результатом
борьбы идей. Только этот переворот и представляет
для нас интерес в данному случае. Какой гороскоп
можно поставить ему?
В интеллигенции началось уже глубокое брожение,
зародились новые идеи, а старые идейные основы
поколеблены и скомпрометированы. Процесс этот
только что еще начался, и какие успехи он сделает, на
180
П.Б.Струве
чем он остановится, в настоящий момент еще нельзя
сказать. Но и теперь уже можно сказать, что,
поскольку русская идейная жизнь связана с духовным
развитием других, дальше нас ушедших стран,
процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на
состоянии умов в России. Русская интеллигенция как
особая культурная категория есть порождение
взаимодействия западного социализма с особенными
условиями нашего культурного, экономического и
политического развития. До рецепции социализма в
России русской интеллигенции не существовало, был
только «образованный класс» и разные в нем
направления.
Для духовного развития Запада нет в настоящую
эпоху процесса более знаменательного и чреватого
последствиями, чем кризис и разложение социализма.
Социализм, разлагаясь, поглощается социальной
политикой. Бентам победил Сен-Симона и Маркса.
Последнее усилие спасти социализм — синдикализм —
есть, с одной стороны, попытка романтического
возрождения социализма, откровенного возведения его к
стихийным иррациональным началам, а с другой
стороны, он означает столь же откровенный призыв к
варварству. Совершенно ясно, что усилие бессильно и
бесплодно. При таких условиях социализм вряд ли
может оставаться для тех элементов русского
общества, которые составляют интеллигенцию, живой водой
их духовно-общественного бытия1.
Самый кризис социализма на Западе потому не
выступает так ярко, что там нет интеллигенции. Нет
на Западе такого чувствилища, которое представляет
интеллигенция. Поэтому по России кризис
социализма в идейном смысле должен ударить с большей
силой, чем по другим странам. В этом кризисе встают
те же самые проблемы, которые лежат в основе
русской революции и ее перипетий. Но если наша
«интеллигенция» может быть более чувствительна к
кризису социализма, чем «западные» люди, то, с другой
стороны, самый кризис у нас прикрыт нашей
злосчастной «политикой», возрождением недобитого аб-
1 См. мою статью «Facies Hippocratica» в «Русской Мысли»,
1907, окт.
Интеллигенция и революция 181
солютизма и разгулу реакции. На Западе
принципиальное значение проблем и органический характер
кризиса гораздо яснее.
Такой идейный кризис нельзя лечить ни
ромашкой тактических директив, ни успокоительным
режимом безыдейной культурной работы. Нам нужна,
конечно, упорная работа над культурой. Но именно для
того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны
идеи, творческая борьба идей.
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ
Из размышлений
о проблеме русского могущества
Посвящается
Николаю Николаевичу Львову
Одну из своих речей в Государственной Думе, а
именно программную речь по аграрному вопросу
П.А.Столыпин закончил следующими словами:
«Противникам государственности хотелось бы избрать путь
радикализма, путь освобождения от исторического
прошлого России, освобождения от культурных
традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна
великая Россия»1.
Мы не знаем, оценивал ли г. Столыпин все то
значение, которое заключено в этой формуле:
«Великая Россия». Для нас эта формула звучит не как
призыв к старому, а наоборот, как лозунг новой русской
государственности, государственности, опирающейся
на «историческое прошлое» нашей страны и на живые
«культурные традиции», и в то же время творческой
и, как все творческое, в лучшем смысле
революционной.
Обычная, я бы сказал, банальная точка зрения
благонамеренного, корректного радикализма
рассматривает внешнюю политику и внешнюю мощь
государства как досадные осложнения, вносимые расовыми,
национальными или даже иными историческими
моментами в подлинное содержание государственной
жизни, в политику внутреннюю, преследующую ис-
1 Государственная Дума. Стенографический отчет. Сессия II,
заседание 36, 10, V, 1907 г.
Великая Россия
183
тинное существо государства, его «внутреннее»
благополучие.
С этой точки зрения всемирная история есть
сплошной ряд недоразумений довольно скверного
свойства.
Замечательно, что с банальным радикализмом в
этом отношении совершенно сходится банальный
консерватизм. Когда радикал указанного типа
рассуждает: внешняя мощь государства есть фантом реакции,
идеал эксплуататорских классов, когда он, исходя из
такого понимания, во имя внутренней политики
отрицает политику внешнюю, — он в сущности
рассуждает совершенно так же, как рассуждал В.К. фон
Плеве. Как известно, фон Плеве был один из тех
людей, которые толкали Россию на войну с Японией,
толкали во имя сохранения и упрочения
самодержавно-бюрократической системы.
Государство есть «организм» — я нарочно беру это
слово в кавычки, потому что вовсе не желаю его
употреблять в доктринальном смысле так наз<ываемой>
«органической» теории — совершенно особого свойства.
Можно как угодно разлагать государство на атомы
и собирать его из атомов, можно объявить его
«отношением» или системой «отношений». Это не
уничтожает того факта, что психологически всякое
сложившееся государство есть как бы некая личность, у
которой есть свой верховный закон бытия.
Для государства этот верховный закон его бытия
гласит: всякое здоровое и сильное, т.е. не только
юридически «самодержавное» или «суверенное», но и
фактически самим собой держащееся государство
желает быть могущественным. А быть могущественным
значит обладать непременно «внешней» мощью. Ибо
из стремления государств к могуществу неизбежно
вытекает то, что всякое слабое государство, если оно
не ограждено противоборством интересов государств
сильных, является в возможности (потенциально) и в
действительности (de facto) добычей для государства
сильного.
Отсюда явствует, на мой взгляд, как превратна та
точка зрения, на которой банальный радикализм
объединяется с банальным консерватизмом или, скорее, с
реакционерством и которая сводится к подчинению
184
П.Б.Струве
вопроса о внешней мощи государства вопросу о так
или иначе понимаемом его «внутреннем
благополучии».
Русско-японская война и русская революция,
можно сказать, до конца оправдали это понимание.
Карой за подчинение внешней политики
соображениям политики внутренней был полный разгром старой
правительственной системы в той сфере, в которой
она считалась наиболее сильной, в сфере внешнего
могущества. А с другой стороны, революция
потерпела поражение именно потому, что она была
направлена на подрыв государственной мощи ради известных
целей внутренней политики. Я говорю: «потому, что»,
но, быть может, правильнее было бы сказать:
«постольку, поскольку».
Таким образом, и в этой области параллелизм
между революцией и старым порядком
обнаруживается прямо поразительный!
Рассуждение банального радикализма следует
поставить вверх ногами.
Отсюда получается тезис, который для обычного
русского интеллигентского слуха может показаться до
крайности парадоксальным:
Оселком и мерилом всей т.н. «внутренней»
политики как правительства, так и партий должен служить
ответ на вопрос: в какой мере эта политика
содействует т<ак> наз<ываемому> внешнему могуществу
государства?
Это не значит, что «внешним могуществом»
исчерпывается весь смысл существования государства; из
этого не следует даже, что внешнее могущество есть
верховная ценность с государственной точки зрения;
может быть, это так, но это вовсе не нужно для того,
чтобы наш тезис был верен. Если, однако, верно, что
всякое здоровое и держащееся самим собой
государство желает обладать внешней мощью, то в этой
внешней мощи заключается безошибочное мерило для
оценки всех жизненных отправлений и сил
государства, и в том числе и его «внутренней политики».
Относительно современной России не может быть
ни малейшего сомнения в том, что ее внешняя мощь
подорвана. Весьма характерно, что руководитель
нашей самой видной «националистической» газеты в
Великая Россия
185
новогоднем «маленьком письме» утешается тем, что
нас никто в предстоящем году не обидит войной, так
как мы «будем вести себя смирно». Трудно найти
лозунг менее государственный и менее национальный,
чем это: «будем вести себя смирно». Можно собирать
и копить силы, но великий народ не может — под
угрозой упадка и вырождения — сидеть смирно среди
движущегося вперед, растущего в непрерывной борьбе
мира. Давая такой пароль, наша реакционная мысль
показывает, как она изумительно беспомощна перед
проблемой возрождения внешней мощи России.
Для того, чтобы решить эту проблему — нужно ее
поставить правильно, т.е. с полной ясностью и в
полном объеме.
Ходячее воззрение обвиняет русскую внешнюю
политику, политику «дипломатическую» и «военно-
морскую», в том, что мы были не подготовлены к
войне с Японией. Мне неоднократно, во время самой
войны на страницах «Освобождения» и позже,
приходилось указывать, что ошибка нашей дальневосточной
политики была гораздо глубже, что она заключалась
не только в методах, но — что гораздо
существеннее — в самих целях этой политики. У нас до сих пор
не понимают, что наша дальневосточная политика
была логическим венцом всей внешней политики
царствования Александра III, когда реакционная Россия,
по недостатку истинного государственного смысла,
отвернулась от Востока Ближнего.
В перенесении центра тяжести нашей политики в
область, недоступную реальному влиянию русской
культуры, заключалась первая ложь, πρτυΐον φεύδοζ
нашей внешней политики, приведшей к Цусиме и
Портсмуту. В трудностях ведения войны это сказалось
с полной ясностью. Японская война была войной,
которая велась на огромном расстоянии и исход
которой решался на далеком от седалища нашей
национальной мощи море. Этими двумя обстоятельствами,
вытекшими из ошибочного направления всей
приведшей к войне политики, определилось наше
поражение.
Те же самые обстоятельства, которые в милитар-
ном отношении обусловили конечный итог войны,
определили полную бессмысленность нашей дальне-
186
П.Б.Струве
восточной политики и в экономическом отношении.
Осуществлять пресловутый выход России к Тихому
океану с самого начала значило, в смысле
экономическом, — travailler pour l'empereur de Japon. Успех в
промышленном соперничестве на каком-нибудь
рынке, при прочих равных условиях, определяется
условиями транспорта. Совершенно ясно, что,
производя товары в Москве (подразумевая под Москвой весь
московско-владимирский промышленный район), в
Петербурге, в Лодзи (подразумевая под Лодзью весь
польский район), нельзя за тысячи верст
железнодорожного пути конкурировать не только с японцами,
но даже с немцами, англичанами и американцами. Гг.
Абаза, Алексеев и Безобразов «открывали» Дальний
Восток не для России, а для иностранцев. В своем
заграничном органе я категорически восставал против
дискредитирования нашей армии на основании тех
неудач, которые она терпела, и указывал на то, что
политика задала армии, как своему орудию, задачу, по
существу невыполнимую1.
Теперь пора признать, что для создания Великой
России есть только один путь: направить все силы на
ту область, которая действительно доступна реальному
влиянию русской культуры. Эта область — весь
бассейн Черного моря, т.е. все европейские и азиатские
страны, «выходящие» к Черному морю.
Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и
экономического господства есть настоящий базис:
люди, каменный уголь и железо. На этом реальном
базисе — и только на нем — неустанною культурною
работой, которая во всех направлениях должна быть
поддержана государством, может быть создана
экономически мощная Великая Россия. Она должна
явиться не выдумкой реакционных политиков и
честолюбивых адмиралов, а созданием народного труда,
свободного и в то же время дисциплинированного. В
последнюю эпоху нашего дальневосточного
«расширения» мы поддерживали экономическую жизнь Юга
1 В особенности резко выражено это было в передовой статье
№ 47 «Освобождения» от 2-го мая 1904 г., где я писал: «русская
армия побеждала не раз, но, если она тут не победит, знайте,
что перед ней была нелепая задача».
Великая Россия
187
отчасти нашими восточными предприятиями.
Отношение должно быть совершенно иное. Наш Юг
должен излучать по всей России богатство и трудовую
энергию. Из черноморского побережья мы должны
экономически завоевать и наши собственные
тихоокеанские владения.
Основой русской внешней политики должно быть,
таким образом, экономическое господство России в
бассейне Черного моря. Из такого господства само
собой вытечет политическое и культурное
преобладание России на всем так называемом Ближнем
Востоке. Такое преобладание именно на почве
экономического господства осуществимо совершенно мирным
путем. Раз мы укрепимся экономически и культурно
на этой естественной базе нашего могущества, нам не
будут страшны никакие внешние осложнения,
могущие возникнуть помимо нас. В этой области мы
будем иметь великолепную защиту в союзе с
Францией и в соглашении с Англией, которое в случае
надобности может быть соответствующим образом
расширено и углублено. Историческое значение
соглашения с Англией, состоявшегося в новейшее время и
связанного с именем А.П.Извольского, в том и
заключается, что оно, несмотря на свою кажущуюся
новизну, по существу является началом возвращения
нашей внешней политики домой, в область,
указываемую ей и русской природой, и русской историей. С
традициями, которые потеряли жизненные корни,
необходимо рвать смело, не останавливаясь ни перед
чем. Но традиции, которые держатся сильными,
здоровыми корнями, следует поддерживать. К таким
живым традициям относится вековое стремление
русского племени и русского государства к Черному
морю и омываемым им областям. Донецкий уголь, о
котором Петр Великий сказал: «Сей минерал, если не
нам, то нашим потомкам весьма полезен будет», —
такой фундамент этому стремлению, который значит
больше самых блестящих военных подвигов. Без
всякого преувеличения можно сказать, что только на
этом черном «минерале» можно основать Великую
Россию.
Из такого понимания проблемы русского
могущества вытекают важные выводы, имеющие огромное
188
П.Б.Струве
значение для освещения некоторых основных
вопросов текущей русской политики. Это относится как к
вопросам внутренно-политическим, в том числе так
называемым «национальным», а в сущности
«племенным», так и к вопросам внешне-политическим, с
вытекающими из них проблемами военно-морскими.
Вся область этих вопросов освещается совершенно
новым светом, если ее рассматривать под углом
зрения Великой России. Этот угол зрения позволяет
видеть лучше и дальше, чем обычные позиции
враждующих направлений и партий.
Сперва — о политике общества, а потом о
политике власти.
Политика общества определяется тем духом,
который общество вносит в свое отношение к государству.
В другом месте я покажу, как, в связи с разными
влияниями, в русском обществе развивался и разливался
враждебный государству дух. Дело тут вовсе не в
революции и «революционности» в полицейском смысле.
Может быть революция во имя государства и в его
духе; таким революционером-государственником был
Оливер Кромвель, самый мощный творец английского
государственного могущества. Враждебный
государству дух сказывается в непонимании того, что
государство есть «организм», который, во имя культуры,
подчиняет народную жизнь началу дисциплины,
основному условию государственной мощи. Дух
государственной дисциплины был чужд русской революции. Как
носители власти до сих пор смешивают у нас себя с
государством, — так большинство тех, кто боролся и
борется с ними, смешивали и смешивают государство
с носителями власти. С двух сторон, из двух,
по-видимому, противоположных исходных точек, пришли к
одному и тому же противогосударственному выводу.
Это обнаружилось в «забастовочной» тактике,
усвоенной себе русской революцией в борьбе с
самодержавно-бюрократическим правительством.
Основываясь на успехе, который имела стихийная «забастовка»,
повлекшая за собой манифест 17 октября, стали
паралич хозяйственной жизни упражнять как тактический
прием. Что означала эта «тактика»? Что средством в
борьбе с «правительством» может быть разрушение
народного хозяйства. Известный манифест совета ра-
Великая Россия
189
бочих депутатов и примкнувших к нему организаций
призывал прямо к разрушению государственного
хозяйства.
Теперь должно быть ясно, что эти действия и
лозунги не были «тактическими ошибками», «нерассчи-
танной» пробой сил и т.п. Они были внушены духом,
враждебным государству как таковому, потому что
они подрывали не правительство, а ради подрыва
правительства разрушали хозяйственную основу
государства и тем самым государственную мощь.
Эти действия и лозунги были внушены духом,
враждебным культуре, ибо они подрывали самую
основу культуры, — дисциплину труда. Если можно в
двух словах определить ту болезнь, которою поражен
наш народный организм, то ее следует назвать
исчезновением или ослаблением дисциплины труда. В
бесчисленных и многообразных явлениях жизни
обнаруживается эта болезнь.
Политика общества и должна начать с того, чтобы
на всех пунктах национальной жизни
противогосударственному духу, не признающему государственной
мощи и с нею не считающемуся, и противокультурно-
му духу, отрицающему дисциплину труда,
противопоставить новое политическое и культурное сознание.
Идеал государственной мощи и идея дисциплины
народного труда — вместе с идеей права и прав —
должны образовать железный инвентарь этого нового
политического и культурного сознания русского человека.
Характеризуемая таким образом правильная
политика общества есть проблема не тактическая, а
идейная и воспитательная, на чем я уже настаивал в своей
статье «Тактика или идеи?». Великая Россия для
своего создания требует от всего народа и прежде всего от
его образованных классов признания идеала
государственной мощи и начала дисциплины труда. Ибо
созидать Великую Россию значит созидать
государственное могущество на основе мощи хозяйственной.
Политика власти начертана ясно идеалом Великой
России. То состояние, в котором находится в
настоящее время Россия, есть — приходится это признать с
величайшей горечью — состояние открытой вражды
между властью и наиболее культурными элементами
общества. До событий революции власть могла ссы-
190
П.Б.Струве
латься — хотя и фиктивно — на сочувствие к ней
молчальника-народа. После всего, что произошло,
после Первой и Второй Думы, подобная ссылка
невозможна. Разрыв власти с наиболее культурными
элементами общества есть в то же время разрыв с
народом. Такое положение вещей в стране глубоко
ненормально; в сущности, оно есть тот червь, который
всего сильнее подтачивает нашу государственную
мощь. Неудивительно, что политика, которая упорно
закрывает глаза на эту основную язву нашей
государственности, вынуждена давать лозунг: «будем вести
себя смирно». Государство, которое разъедаемо такой
болезнью, может сказать еще больше: «будем
умирать». Но государство сильного, растущего, хотя бы
больного народа не может умереть. Оно должно жить.
Положение осложняется еще разноплеменностью
населения, составляющего наше государство. С одной
стороны, если бы население России было
одноплеменным, чисто русским, существование власти,
находящейся в открытом разрыве с народом, вряд ли было
бы возможно. С другой стороны, наших «инородцев»
принято упрекать в том, что они заводчики
революции. Объективно психологически следует признать,
наоборот, что вся наша реакция держится на
существовании в России «инородцев» и им питается.
«Инородцы» — последний психологический ресурс
реакции.
Из вопросов «инородческих» два самых важных —
«еврейский» и «польский». Рассмотрим их с точки
зрения проблемы русского могущества.
По отношению к вопросу «еврейскому» власть
держится «политики страуса». Она не признает
предмета, которого не желает видеть. Центр тяжести
политического решения «еврейского вопроса» заключается
в упразднении так называемой черты оседлости. С
точки зрения проблемы русского могущества,
«еврейский вопрос» вовсе не так несуществен, как принято
думать в наших soit disant консервативных кругах,
пропитанных «нововременством». Если верно, что
проблема Великой России сводится к нашему
хозяйственному «расширению» в бассейне Черного моря,
то для осуществления этой задачи и вообще для
хозяйственного подъема России евреи представляют
Великая Россия
191
элемент весьма ценный. В том экономическом
завоевании Ближнего Востока, без которого не может быть
создано Великой России, преданные русской
государственности и привязанные к русской культуре евреи
прямо незаменимы в качестве пионеров и
посредников1. Таким образом, нам, ради Великой России,
нужно создавать таких евреев и широко ими
пользоваться. Очевидно, что единственным способом для
этого является последовательное и лояльное
осуществление «эмансипации» евреев. По существу, среди
всех «инородцев» России — несмотря на все
антисемитические вопли — нет элемента, который мог бы
легче, чем евреи, быть поставлен на службу русской
государственности и ассимилирован с русской
культурой.
С другой стороны, нельзя закрывать себе глаза на
то, что такая реформа, как «эмансипация» евреев,
может совершиться с наименьшим психологическим
трением в атмосфере общего хозяйственного подъема
страны. Нужно, чтобы создался в стране такой
экономический простор, при котором все чувствовали бы,
что им находится место «на пиру жизни». Разрешение
«еврейского вопроса» таким образом неразрывно
связано с экономической стороной проблемы Великой
России: «эмансипация» евреев психологически
предполагает хозяйственное возрождение России, а с
другой стороны явится одним из орудий создания
хозяйственной мощи страны.
«Польский вопрос», с той точки зрения, с которой
мы разбираем здесь вообще вопросы русской
государственности, является вопросом политическим или
международно-политическим par excellence. Что бы
там ни говорили, в хозяйственном отношении
Царство Польское нуждается в России, а не наоборот.
Русским экономически почти нечего делать в Польше.
Россия же для Польши ее единственный рынок.
Принадлежность Царства Польского к России есть
для последней чистейший вопрос политического
могущества. Всякое государство до последних сил стре-
1 Любопытно, что это недавно доказывалось в весьма
обстоятельной статье официального «Вестника Финансов». См. статью
«Ближневосточные рынки» в № 45 за 1907 г.
192
П.Б.Струве
мится удержать свой «состав», хотя бы
принудительных хозяйственных мотивов для этого не было. Для
России, с этой точки зрения, необходимо сохранить в
«составе» Империи Царство Польское. А раз оно
должно быть сохранено в составе Империи, то
необходимо, чтобы население его было довольно своей
судьбою и дорожило связью с Россией, было
морально к ней прикреплено. Это было бы важно во всяком
случае для «внутреннего» спокойствия этой части
Империи. Но эта сторона дела, с точки зрения проблемы
могущества, отступает даже на задний план перед
значением, принадлежащим польскому вопросу ввиду
того международного «положения», в которое волею
истории вдвинута Россия.
Существует в широкой публике мнение, что на
Царство Польское может посягнуть в удобный момент
Германия. Это недоразумение, основанное на полном
незнакомстве с политическими отношениями
Германии. Германии не нужно ни пяди земли, населенной
польским народом. Для Германии было бы безумием
ввести в свой немецкий государственный состав
новые миллионы поляков — и без того Пруссия не
может переварить Познани. Германия, с ее
историческими традициями, не может превратиться в
государство с сильным инородческим элементом. Более того,
она не может превратиться в государство с
преобладающим католическим населением. Вот почему
Германия не может (и не делает попытки) поглотить
немецкие земли Австрии. Такое поглощение изменит
соотношение культурных сил, даст католикам решающую
силу в Германии.
Польская политика Пруссии, с точки зрения
международного положения Германии, представляет
грубейшую ошибку, на что неоднократно указывал Ганс
Дельбрюк в своих Preussische Jahrbucher. Эта ошибка
проходит Германии даром только потому, что русское
правительство ведет политику, с точки зрения
государственной мощи и государственной безопасности
России, еще более ошибочную. Пруссия стремится —
per fas et nefas — германизировать Познань; идея
русификации Польши в том смысле, в каком немцы
германизируют (или, вернее, стремятся
германизировать) свои польские области, совершенно несбыточ-
Великая Россия
193
ная утопия. Денационализация русской Польши
недоступна ни русскому народу, ни русскому государству.
Между русскими и поляками на территории Царства
Польского никакой культурной или национальной
борьбы быть не может: русский элемент в Царстве
представлен только чиновниками и войсками.
Обладание Царством Польским есть для России
вопрос не национального самосохранения, а
политического могущества.
Польская политика России, с этой точки зрения,
должна быть совершенно ясна. Опираясь на
экономическую прикрепленность Польши к России, мы
должны воспользоваться ее принадлежностью к Империи
для того, чтобы через нее скрепить наши естественные
связи с славянством вообще и западным в частности.
Польская политика должна служить нашему
сближению с Австрией, которая теперь является по
преимуществу державой славянской. Либеральная польская
политика в огромной степени подымет наш престиж в
славянском мире и психологически совершенно
естественно создаст, впервые в истории, моральную связь
между нами и Австрией как государством.
В экономическом отношении мы будем даже
конкурентами на Ближнем Востоке, но эта конкуренция
будет смягчаться и сглаживаться
морально-политической солидарностью.
Такова та положительная миссия, которая
принадлежит разумной польской политике России в деле
укрепления ее внешней мощи. Но гораздо важнее ее
отрицательная миссия или функция. Всякое здоровое,
сильное государство — сказали мы выше — желает
быть могущественным. Австрия, с великой
избирательной реформой, вступила в период своего
внутреннего укрепления, которое будет означать и рост
внешней мощи Австро-Венгрии. Славянский характер
Австрии вовсе не гарантирует нас от нападения с ее
стороны, если мы будем оставаться слабы, так же как
культурное и политическое преобладание германского
элемента в Австрии до 1866 г. не спасло ее от
разгрома Пруссией. Если русская Польша будет
по-прежнему очагом недовольства, имеющим теснейшую
морально-культурную связь с австрийскими поляками,
если Россия, вместо того, чтобы экономически и
194
П.Б.Струве
культурно укрепляться в бассейне Черного моря,
будет строить ни для чего не нужный линейный флот,
предназначенный для Балтийского моря и Тихого
океана, в один прекрасный день в Европе на
западной границе может назреть для нас великая беда.
Теперь еще идея борьбы не на живот, а на смерть
с поляками торжествует в Пруссии, но дни ее
сочтены. Идея эта свершит свой круг и — хотя бы ради
сохранения своей entente с Австрией — Германия
принуждена будет отказаться от своей польской
политики. Не следует также упускать из виду, что вообще
крушение реакции и торжество либерализма во
внутренней политике Германии должно наступить с
безошибочностью естественного процесса. В этот
момент, если мы не разрешим своего польского вопроса,
не создадим по всей линии и во всей стране
действительного, прочного примирения власти с народом, мы
можем и неизбежно получим жестокий удар уже не с
Востока, а с Запада. У нас в широкой публике, а
также в военных сферах существует к Австрии такое
же легкомысленное отношение, какое до войны было
к Японии. Мы склонны упиваться суворовской
фразой: «австрийцы имеют проклятую привычку быть
всегда битыми», и можем на собственном теле
испытать всю условность подобных афоризмов. Неудачная
война с Австрией — при недоброжелательном
нейтралитете Германии — в лучшем случае будет иметь для
России своим результатом потерю Царства Польского,
которое отойдет к Австрии, и потерю Прибалтийского
края, который отойдет к Германии. Если обладание
русской Польшей не нужно и совершенно
неинтересно для Германии, то этого нельзя сказать о
Прибалтийском крае. Войдя в состав Германской империи,
он сравнительно легко может быть завоеван или, в
известном смысле, отвоеван для германской культуры.
Латыши и эсты будут либо германизированы, либо
оттеснены на территорию России, куда они и без того
до сих пор выселяются в значительном числе.
Я вовсе не сомневаюсь, в полнейшем миролюбии
Германии и Австрии и их правительств. Но следует же
понимать, что столкновения государств между собой в
основе вытекают из конфликтов интересов и из
соотношений могущества, а вовсе не из международного
Великая Россия
195
бретерства правительства. Мы должны были бы
научиться этому из опыта нашей войны с Японией. Не
говоря уже о Бисмарке, даже Наполеон III не был
вовсе политическим бретером.
Можно сказать, что все нарисованные нами
перспективы суть только комбинации и предположения.
Но то, что слабые государства делаются добычей
государств более сильных, если не ограждены
противоборством их интересов, это уже не комбинация. Это —
своего рода «закон истории». А в столкновении
слабой России с сильной Австро-Венгрией, при
недоброжелательном к нам нейтралитете заинтересованной в
нашем поражении Германии, ни один палец в Европе
не пошевелится в нашу защиту.
Может ли явиться повод для такого столкновения?
Мы ведь в наилучших отношениях и с Австрией, и с
Германией. С первой мы вместе действуем на
Балканах как главные великие державы, заинтересованные
в турецких делах. Неужели из кооперации может
возникнуть конфликт? По этому поводу достаточно на
справку напомнить, что конфликту Пруссии с
Австрией предшествовала кооперация этих государств
против Дании, что войне Японии с Россией
предшествовала наша с Японией кооперация против Китая.
Повод всегда найдется, если будет продолжаться
ослабление государственной мощи России, которое
есть неизбежный результат того, что за разрухой
японской войны и революции следует не возрождение
страны конституцией, а разложение ее реакцией.
Сигнализировать вовремя эту опасность перед
общественным сознанием есть патриотический долг
независимой русской печати. Мы можем ошибаться в
том или другом конкретном указании, но суть нашего
анализа — увы! — соответствует действительному
положению вещей.
Из международно-политических перспектив,
которые мы начертали, вытекает тот вывод, что наша
«внутренняя политика» должна быть поставлена так,
чтобы — без ущерба для наших интересов, нашей
мощи и нашего достоинства — психологически
устранить самую возможность войны с Австро-Венгрией
или (худший для нас случай!) войны с
Австро-Венгрией и Германией. Конечно, Россия может просто
196
П.Б.Струве
добровольно сделаться вассалом или сателлитом
Германии, но только — пожертвовав исторической
миссией, мощью и достоинством государства. Такой
выход будет мнимым решением проблемы Великой
России. Ключ к действительному ее решению лежит в
урегулировании русско-польских отношений. Тут
обычно выдвигается пугало Германии. Германия-де не
потерпит либерального решения польского вопроса.
Не говоря уже о том, что принципиально никакое
вмешательство в наши внутренние дела не терпимо,
гораздо важнее то, что одна Германия без Австро-
Венгрии ничего против России предпринять не
может. Против Германии, если она не в союзе с
Австро-Венгрией, Россия, даже без всяких формальных
союзов и соглашений, ipso facto существующего
противоборства интересов, имеет за себя и Францию
(первоклассная сухопутная держава!) и Англию
(решающая сила на море!).
Из сказанного выше следует, что
неурегулированность польского вопроса, стоящая вообще в связи с
реакционным характером нашей внутренней
политики, ставит нас совершенно à la merci Германии. Мы
либо вынуждены в международных делах и
внутренней политике слепо, как вассал, следовать ей, либо
будем всегда находиться под угрозой того, что в
удобный и желательный для себя момент она выдвинет
против нас Австро-Венгрию. Не следует —
повторяем—в этом случае предаваться иллюзиям, что
славянский характер Австро-Венгрии гарантирует нас от
такого оборота дел. Пока мы не ведем настоящей
славянской политики, пока мы держим Польшу в
«подвластном» положении, пока мы не исполняем своей
исторической миссии на Черном море, где находится
естественная экономическая основа Великой
России, — Австро-Венгрия, даже как славянская держава
или, вернее, именно как таковая, обязана стремиться
к «расширению» на наш счет.
А Германия из двух возможностей, каковыми
являются: 1) одновременный политический рост двух
славянских держав, Австро-Венгрии и России, и 2)
возвышение на счет России Австро-Венгрии, во
всяком случае менее славянской, гораздо ближе стоящей
к германскому миру державы, — из этих двух полити-
Великая Россия
197
ческих возможностей Германия обязана, повинуясь
здравому государственному эгоизму, выбрать вторую,
для нее гораздо более выгодную.
Не следует также думать, что Германия, держава
консервативная со строго «легитимными»
традициями, будет — вопреки своим государственным
интересам — церемониться с консервативной Россией. С
«легитимными» традициями современной Германии
дело обстоит весьма своеобразно. Несмотря на весь
свой прусский легитимизм, Бисмарк упразднил
несколько весьма легитимных немецких тронов — и гес-
сен-дармштадтский трон уцелел в разгром 1866 г.
исключительно благодаря заступничеству Александра II!1 —
и в борьбе с Австрией не смущался даже
перспективой союза с венгерской революцией.
Всякая истинно государственная политика, хотя
бы она и была во внутренних вопросах весьма
консервативна, в борьбе за могущество не
останавливается перед такими мелочами, как «легитимность».
Из данного нами освещения вопроса о Великой
России вытекают совершенно ясные выводы
относительно волнующей в настоящее время общество
морской проблемы. В войне с Австрией или с Австрией и
Германией вместе такой флот нам ни в чем
существенном не поможет. Ни для Германии, ни еще менее
для Австрии действия на море против нас не будут
иметь решающего значения.
Отсюда ясно, что балтийский флот, как это ни
странно, всего менее нужен России.
Великой России, на настоящем уровне нашего
экономического развития, необходимы сильная армия
и такой флот, который давал бы нам возможность
десанта на любом пункте Черного моря и в то же время
абсолютно обеспечивал бы нас от вражеского десанта
в этой области. Другими словами, мы должны быть
господами на Черном море. Совершенно ясно, что
это осуществимо только при том условии, если мы из
числа крупных морских держав будем иметь своим
противником там в худшем случае одну Германию,
против которой у нас всегда будет «покрытие», в лице
1 Ср. Н. von Sybel. Die Begründung des deutschen Reiches.
Band V (München u. Leipzig, 1890), в особ. стр. 391—394.
198
П.Б.Струве
Англии и Франции. Против Англии мы и там
бороться никогда не сможем. Но ведь вообще реальная
политика утверждения русского могущества на Черном
море неразрывно связана с прочным англо-русским
соглашением, которое для нас не менее важно, чем
франко-русский союз. Вообще это соглашение и этот
союз суть безусловно необходимые внешние гарантии
создания Великой России.
Внутреннее содержание этой проблемы может
быть дано только сочетанием правильной внешней
политики с разумным разрешением наших внутренних
вопросов.
Интеллигенция страны должна пропитаться тем
духом государственности, без господства которого в
образованном классе не может быть мощного и
свободного государства.
«Правящие круги» должны понять, что, если из
великих потрясений должна выйти Великая Россия, то
для этого нужен свободный, творческий подвиг всего
народа. В народе, пришедшем в движение, в народе,
конституция которого родилась вовсе не из
навеянного извне радикализма, а из потрясенного тяжкими
государственными уронами патриотического духа, — в
этом народе нельзя уже ничего достигнуть простым
приказом власти. Из скорбного исторического опыта
последних лет народ наш вынес понимание того, что
государство есть личность «соборная» и стоит выше
всякой личной воли. Это огромное неоценимое и
неистребимое приобретение и оправдание пережитых
нами «великих потрясений».
Теперь задача истинных сторонников
государственности заключается в том, чтобы понять и
расценить все условия, созидающие мощь государства.
Только государство и его мощь могут быть для
настоящих патриотов истинной путеводной звездой.
Остальное — «блуждающие огни».
Государственная мощь невозможна вне
осуществления национальной идеи. Национальная идея
современной России есть примирение между властью и
проснувшимся к самосознанию и самодеятельности
народом, который становится нацией. Государство и
нация должны органически срастись.
Великая Россия
199
В новейшей европейской истории есть
замечательный и поучительный пример такого сращения.
В 60-х годах между нацией и властью в
руководящей германской державе Пруссии возгорелся
жесточайший конфликт, грозивший политической
катастрофой. Власть благодаря Бисмарку вышла
победительницей из этого конфликта, овладев национальной
идеей, чего не сумели сделать ни Стюарты в Англии,
ни Бурбоны во Франции. Победа власти, однако, не
была ни унижением народа, ни разрушением права.
Величие Бисмарка как государственного деятеля
заключалось, между прочим, в том, что он никогда не
смешивал государства ни с какими лицами. Власть и
народ примирилсь на осуществлении национальной
идеи, и объединенная Германия, утверждающая свою
внешнюю мощь, сумела органически сочетать
исторические традиции с новыми государственными
учреждениями на демократической основе всеобщего
избирательного права.
Объединение Германии под предводительством
Пруссии, выбрасывающей Австрию из Германии и
затем набрасывающейся на Францию и отнимающей
у нее завоевания Людовика XIV1, было рядом
событий, в которых и современник, и всякий изучающий
их теперь, не может не чувствовать действия какой-то
роковой силы.
У Бисмарка, когда он ковал Германскую империю,
вовсе не было готового, до подробностей
выработанного плана. Творец событий, он в то же время был
влеком ими. Но он, по крайней мере в каждый
данный момент, выполнял свою волю и осуществлял
дорогую ему идею. О Вильгельме I нельзя сказать даже
этого. Прусский король, если бы дела совершались по
его воле, никогда не был бы германским
императором. Но он должен был стать им. Самая незаметная и
в то же время самая трудная и почетная борьба,
которую вел Бисмарк во имя государства, велась им не
против оппозиции парламента, не против внешнего
1 Когда Тьер, в знаменитой своей поездке по столицам Европы
во время войны, встретившись в Вене со своим другом
историком Ранке, спросил его, с кем Германия после падения
Наполеона ведет войну, Ранке отвечал: «с Людовиком XIV».
200
Я. Б. Струве
врага и его дипломатии, а против главы государства.
И он, а с ним вместе германская государственность
оказались победителями в этой борьбе.
Такова сила национальной идеи, нашедшей себе
орудие в государстве, которое стремится увеличить
свою мощь. Или, наоборот, такова сила государства,
поставившего себе на службу национальную идею.
Это — две силы, которые, для того, чтобы
перевернуть судьбы народов, должны найти одна другую и
действовать в полном союзе.
Часто смотрят на эти события с «отвлеченной»
точки зрения. Революционеры видят в объединении
Германии не торжество национальной идеи, а лишь
возвышение консервативной прусской державы — так
понимали события многие старые немецкие радикалы
40-х гг.; так оценивают их до сих пор некоторые
социал-демократы. Легитимисты видят в этом
объединении, поглотившем несколько легитимных тронов и в
современной Германии утопившем патриархально-
консервативную Пруссию с ее старыми
государственными традициями, не столько торжество
государственности, сколько победу странного, противоречивого
союза военно-монархической мощи с революционной
идеей — так смотрели на события не только
ганноверские легитимисты; так чувствовали и
представители старого прусского духа, вроде генерала Роона и
даже самого Вильгельма I.
Первые заблуждаются в том, что не видят связи
национальной идеи с государственной мощью. Вторые
фантазируют о возможности поставить
государственной мощи, окрыленной национальной идеей,
«легитимные» и «традиционные» границы.
Государство должно быть революционно, когда и
поскольку этого требует его могущество. Государство
не может быть революционно, когда и поскольку это
подрывает его могущество.
Это «закон», который властвует одинаково и над
династиями, и над демократиями. Он низвергает
монархов и правительства; и он же убивает революции.
Понять это значит понять государство в его
истинном существе, заглянуть ему в лицо, которое, как лик
Великая Россия
201
Петра Великого, по слову величайшего русского
поэта, «прекрасно» и «ужасно».
Только если русский народ будет охвачен духом
истинной государственности и будет отстаивать ее
смело в борьбе со всеми ее противниками, где бы они
ни укрывались, — только тогда, на основе живых
традиций прошлого и драгоценных приобретений
живущих и грядущих поколений, будет создана — Великая
Россия1.
1 Приписка. Статья «Великая Россия» вызвала довольно много
отзывов в русской и иностранной печати. Из русских отзывов
укажу здесь резко-полемическую статью Д.С.Мережковского в
«Речи», ответ на которую читатель найдет ниже, и статью А.Р.
(А.М.Рыкачева) в «Нашей Газете». Любопытные суждения были
также в «Новом Времени» и в «России». В иностранной печати
отмечу подробные критические отчеты: 1) берлинского проф.
Т.Шимана {Theodor Schiemann) в «Kreuz-Zeitung» (перепечатано
в сборнике того же автора «Deutschland und die grosse Politik
anno 1908». Berlin, 1909. Verlag von G. Reimer) и 2) Filippo Naldi.
La «grande Russia» (Oltre la crisi). Estratto délia «Libéria
economica» del lOjuglio 1908 (Bologna, 1908).
ОТРЫВКИ О ГОСУДАРСТВЕ
I
Обычный консерватизм и обычный радикализм в
понимании государства одинаково страдают
близорукостью. Их ошибка состоит в том, что они стремятся
все перемены в государственной жизни объяснить
разумом или, наоборот, неразумием, причем мерилом
разумности служат те начала нравственности и
целесообразности, которые кладутся в основу при оценке
поведения отдельного человека, или индивида. Давно
уже признано, что ни общество, ни государство не
есть простая сумма индивидов. Но эта истина не
познана и не продумана еще во всем ее объективном
значении для понимания государства, для политики.
Лучше понимают ее историки. Историки давно
заметили, что разум, интерес, цели отдельных индивидов и
рост государства и его могущества могут находиться в
непримиримом противоречии.
Отдельный человек в своем стремлении к
самосохранению живет для себя, и это значит, что его взора
хватает на весьма определенный и очень
ограниченный промежуток времени. Государство во много
долговечнее индивида, и с точки зрения индивида и его
разума — оно сверхразумно и внеразумно.
Это можно выразить так:
Государство есть существо мистическое.
Констатирование этого факта, однако, не только не
мистично, а в высшей степени позитивно. Мы не
желаем сейчас спорить о том, хорошо или худо
государство. Но оно таково, и этот факт. Идея вечного мира
потому утопична, что она противоречит мистической
природе государства. Война есть самое видное, самое
яркое, самое бесспорное обнаружение мистической
природы государства. Когда войны исчезнут,
государство сблизится с «людьми», очутится на земле. Будет
ли это когда-нибудь?
Стессель, сдавая Порт-Артур японцам, Небогатое,
делая то же со своей эскадрой после цусимского боя,
поступали весьма «разумно», весьма «человечно», но
Отрывки о государстве
203
не государственно и не патриотично. Наоборот, когда
японцы подготовляли и вели войну с Россией, когда
они покрывали склоны порт-артурских гор десятками
тысяч трупов, они — ради государства — истребляли
людей и поступали — с человеческой точки зрения —
весьма неразумно и даже отвратительно. В высшей
степени сомнительно даже, станет ли «лучше жить»
даже будущим поколениям японцев от того, что
современное поколение ценою множества человеческих
жертв завоевало Порт-Артур и подчинило совершенно
Корею. Но могущество японского государства от этого
в огромной степени возросло. И это факт. Люди
погибли, но флаг взвился.
Мистичность государства обнаруживается в том,
что индивид иногда только с покорностью, иногда же с
радостью и даже с восторгом приносит себя в жертву
могуществу этого отвлеченного существа. Ницше
говорил о холоде государства. Наоборот, следует
удивляться тому, как это далекое существо способно испускать из
себя такое множество горячих, притягивающих лучей и
так ими согревать и наполнять человеческую жизнь. В
этом именно и состоит мистичность государства, что,
далекое индивиду, оно заставляет жить в себе и собою.
Говоря это, я имею в виду не те технические
приспособления государства как упорядоченного общежития,
которые служат индивиду, а сверхиндивидуальную и
сверхразумную сущность государства, которой
индивид служит, ради и во имя которой он умирает.
Мистичность заключается именно в этой
полнейшей реальности сверхразумного.
Разве не ясна мистичность государства в словах
Петра Великого, которым он призывал Сенат думать о
России и не заботиться о нем, о Петре? Петр,
погубивший столько человеческих жизней, говоря о
России, думал не о «людях», не о своих подданных и не о
«человеке», не о себе. Умственный взор его был
прикован к государству.
Выражаясь по-человечески, антропоморфически,
государство желает быть могущественным. Эта черта
государства есть все то же обнаружение его
сверхразумной природы. Ибо могущество государства не есть
вовсе ни сила, ни счастье составляющих его лиц.
Между силой отдельной личности и отдельных
личностей и мощью государства существует известное
204
П.Б.Струве
необходимое соотношение, но это соотношение
покоится не на рациональных, а на религиозных началах.
Личность, особность государства проявляется в
отношениях его к другим государствам. Поэтому
могущество государства есть его мощь вовне. Обычное
рационалистическое воззрение, господствующее в
публике и в публицистике наших дней, ставить внешнее
могущество государства в зависимость от его
внутреннего устройства и от развития внутренних отношений.
Но мистичность государства и заключается в том, что
власть государства над «людьми» обнаруживается в их
подчинении далекой, чуждой, отвлеченной для
огромного большинства идее внешней государственной
мощи. Говоря о подчинении, я имею в виду не
внешнее и насильственное, а внутреннее и моральное
подчинение, признание государственного могущества как
общественной ценности.
Обычное воззрение характеризует «разумное» или
«свободное» признание государства как «внутреннее»,
«моральное» и противопоставляет его «неразумному»,
«внешнему» и «насильственному». Но всякое
признание государства как такового, как мистического
объединения, иррационально, и именно самое свободное,
самое внутреннее, идущее из глубины души, а потому
самое нравственное подчинение государству и
растворение в нем — в высокой степени «неразумно».
Жизнь государства состоит между прочим во
властвовании одних над другими. Давно замечено, что
власть и властвование устанавливают между людьми
такую связь, которая нерациональна и сверхразумна, что
власть есть своего рода очарование или гипноз.
Наблюдение это совершенно верно, поскольку власть не есть
просто необходимое орудие упорядочения общежития,
средство рационального распорядка общественной
жизни. Поэтому прежде всего и полнее всего оно
применимо к власти как орудию государственной мощи.
Вот почему мистичность власти обнаруживается так
ясно, так непререкаемо на войне, когда раскрывается
мистическая природа самого государства, за которое,
отстаивая его мощь, люди умирают по приказу власти.
Мы сказали, что власть есть орудие внешней мощи
государства и что в качестве такового она держит в
подчинении себе людей. Переставая исполнять это
самое важное, наиболее тесно связанное с мистичес-
Отрывки о государстве
205
кой сущностью государства назначение, власть
начинает колебаться и затем падает.
Обычно в публицистике это называют
зависимостью внешней политики от внутренней, но, конечно, в
действительности тут соотношение как раз обратное
тому, которое принимается вульгарным воззрением и
которое должно было бы существовать, если
государство сверх своих рациональных элементов не было бы
мистично.
То, что в новейшее время называют
империализмом, есть более или менее ясное постижение того, что
государство желает быть и — поскольку государство
ценно для личности — должно быть могущественно.
Всякое живое государство всегда было и будет
проникнуто империализмом в этом смысле.
Англичане всегда были и, я думаю, останутся
империалистами. Если под империализмом разуметь заботу
о внешней мощи государства, а под либерализмом —
заботу о справедливости в его внутренних отношениях,
то XIX в. и начало XX в. характеризуется тем, что
торжествуют везде те государства, в политике которых
наиболее полно слились и воплотились обе эти идеи. А
внутри отдельных государств над традиционным
рациональным либерализмом торжествует весь
проникнутый идеей мощи государства империализм.
Беззащитный перед судом «разума» и основанной на нем
нравственности, он торжествует потому, что за ним стоит
властвующая над людьми мистическая природа
государства. Таково историческое значение Бисмарка и
философский смысл его деятельности.
II
Национальное начало тесно связано с
государственным и разделяет с ним его сверхразумный или
мистический характер. Так же как никакой
человеческой рациональностью или целесообразностью нельзя
объяснить, почему ради государства Ивану Сидорову
надлежало умирать под Плевной, а какому-нибудь Ота
Нитобе сложить свою голову под Порт-Артуром, точно
так же нельзя рациональными мотивами объяснить,
почему французу надлежит всегда оставаться
французом, немцу — немцем, поляку — поляком. В этом не
сомневаются и об этом не разговаривают. Это тот
206
П.Б.Струве
«чернозем мысли», о котором говорил Потебня,
«нечто, о чем больше не рассуждают»1.
Язык и его произведения — самое живое и гибкое,
самое тонкое и величественное воплощение
национальности, таинственно связанное с ее таинственным
существом. Это так хорошо понимал великий и
стыдливый реалист-мистик Тургенев, величие русского
народа чувствовавший в нашем языке. Ту же мысль в
объективно-научной форме высказал знаменитый
языковед Вильгельм Гумбольдт в предисловии к своему
переводу Эсхилова «Агамемнона»: «Мне всегда
казалось, что тот способ, каким в языке буквы
соединяются в слоги и слоги в слова и каким эти слова в речи
сопрягаются между собою, сообразно своей длине и
своему тону, что этот способ определяет или указует
умственные и в значительной мере моральные и
политические судьбы нации»2.
Вот почему, когда на стволе государственности
развился язык, как орган и выражение национальности и
ее культуры, смерть государственности не убивает
национальности. Она стремится создать
государственность, в некоторых случаях хочет создать ее в новой,
более мощной форме (Италия), и удается ей это или
нет, она во всяком случае продолжает жить и
выносить самые неблагоприятные условия (польская
национальность). Идеи — в связи с некоторыми
благоприятствующими внешними условиями и
психологическими комбинациями — могут создать
государственность даже помимо национального начала и вопреки
ему. Так идея свободы, перенесенная пуританами в
леса Северной Америки, создала там новую
государственность. Ее высшая связь в настоящее время
заключается в ее истории, т. е. коренится в началах личной
свободы и общественного самоопределения.
С другой стороны — соотношение между
государством и нацией может быть исторически совершенно
иное. Итальянская и германская национальность
создались гораздо раньше германского и итальянского
государства. Нация есть прежде всего культурная
индивидуальность, а самое государство является важным
Из записок по теории словесности. Харьков, 1905 г., стр. 196.
Цитирую по Наут. «Wilhelm von Humboldt». Berlin, 1856. S. 210.
Отрывки о государстве
207
деятелем в образовании нации, поскольку оно есть
культурная сила.
В основе нации всегда лежит культурная общность
в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное
наследие, общая культурная работа, общие культурные
чаяния. Это было ясно еще в классической древности,
где эллинство было широкой национальной идеей, не
умещавшейся в государственные рамки. С успехами в
«мышлении и красноречии» Исократ связывал самую
идею эллинской культуры (παίδενσιζ): «Эллинами
называются скорее те, кто участвуют в нашей культуре,
чем те, кто имеют общее с нами происхождение».
Некоторые современные шарлатаны развязно выбросили
за борт эту старую истину.
Ценность и сила нации есть ценность и сила ее
культуры, измеряемая тем, что можно назвать
культурным творчеством.
Всякая крупная нация стремится создать себе
государственное тело. Но идея и жизнь нации всегда
шире, богаче и свободнее идеи и жизни государства.
Гете несомненнее Бисмарка, сказал бы Тургенев, как
он сказал, что Венера Милосская несомненнее
принципов 1789 г. В нации, которая есть лишь особое,
единственное выражение культуры, нет того жесткого
начала принуждения, которое неотъемлемо от
государства. Ибо культура и по своей идее, и в своих высших
реальных воплощениях означает всегда духовные силы
человечества в их свободном росте и объединении.
Национальное начало мистично так же, как
государственное, но с другим оттенком, более мягким и
внутренним, в силу которого оно без всякого принуждения
владеет человеком.
Можно ненавидеть свое государство, но нельзя
ненавидеть свою нацию. Ненавидя ее, человек тем
самым от нее отдаляется. Североамериканские
поселенцы, восстав против метрополии, перестали быть
англичанами в смысле british subjects, но не перестали
быть англичанами в смысле англосаксов. Французы
привыкли употреблять слово «нация» в политическом
смысле, и это объясняется национальной цельностью
населения французского государства — мог же
Наполеон гордо сказать: les Français n'ont point de
nationalité, т. е. принадлежать к французскому
государству значит быть французом. И прошлое, и современ-
208
П.Б.Струве
ная нам эпоха свидетельствуют о том, что нация как
культурное понятие не укладывается в границы
понятия «государство». Государство есть продукт гораздо
более условный, менее органический и потому менее
устойчивый и могущественный, чем нация и
национальность. Есть Вюртембергское государство, но нет
вертюмбергской нации. С большой натяжкой можно
говорить о бельгийской нации, настолько общность части
бельгийцев и французов в области языка и литературы
определяет культурное их единство с французами.
Австрийское государство есть великая держава,
могущество которой, как мне кажется, будет возрастать, но
австрийской нации и австрийской культуры нет.
Своей высшей мистичности государственное
начало достигает именно тогда, когда сплетается и
срастается с национальным. Спаянные в нечто единое, эти
начала со страстной силой захватывают человека в
порывах патриотизма.
III
Я сказал, что указание на мистическую природу
государства ничуть не мистично. Наоборот, оно
позитивно. Мне могут возразить, что в процессе
человеческого развития мистический или, что то же,
религиозный характер государственности ослабляется или
вовсе отметается. Это верно, но не безусловно.. С
успехами культуры несомненно делает успехи
рационализация человеческой жизни вообще, общественной в
частности. Но есть границы этой рационализации, и
нет никаких оснований думать, что она поглотит
собой мистику государства и национальности.
К государству и национальности прикрепляется
неискоренимая религиозная потребность человека. В
религии человек выходит из сферы ограниченного,
личного существования и приобщается к более широкому,
сверхиндивидуальному бытию. Но разве
индивидуализм не может создать своей религии личности, и
разве эта религия не может преодолеть мистицизма
государственности и национальности?
Вопрос может показаться праздным в наше время,
когда индивидуализм получил такое широкое
распространение и в то же время дал прежнему позитивному
отрицанию государственности и национальности рели-
Отрывки о государстве
209
гиозный отпечаток (религиозный анархизм).
Положительный ответ на этот вопрос, по-видимому, сам
собой подразумевается.
И тем не менее дело обстоит вовсе не так просто.
Индивидуализм, который в центре всего ставит
личность, ее потребности, ее интересы, ее идеал, ее
содержание, есть, как религия, самая трудная, самая
малодоступная, самая аристократическая, самая
исключительная религия. Трудно человеку глубоко
религиозному поклоняться просто человеческой личности
или человечеству. Индивидуализм как религия учит
признавать бесконечно достоинство или ценность
человеческой личности. Но для того, чтобы эту личность
провозгласить мерилом всего, или высшей ценностью,
для этого необходимо ей поставить высочайшую
задачу. Она должна вобрать в себя возможно больше
ценного содержания, возможно больше мудрости и
красоты. И не только вобрать. Личность не есть складочное
место. Личность как религиозная идея означает
воплощение ценного содержания, отмеченное своеобразием,
или единственностью, энергией, или напряженностью.
Только индивидуализм, ставящий себе такую
высочайшую задачу, может быть религиозен. Но что означает и
что совершает такой религиозный индивидуализм? От
религии государства и национальности такой
индивидуализм уводит человека, но он вовсе не приближает
его к эмпирическим условиям человеческого
существования, к пользе и выгоде отдельного человека или
целого общества, а удаляет от них в область, еще более
далекую и высокую.
Это означает, что такой индивидуализм
преодолевает мистицизм государственности и национальности
не простым его отрицанием. В конце концов высшая
форма отношения к миру есть сочетание в одном
художественно-религиозном, всегда личном и
единственном и всегда объективном и обязательном
содержании величайшей способности переживать,
воспроизводить в себе мир с полной свободой отношения ко
всему в этом мире: «к самому себе, к своим
предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей
истории», — как говорит по другому поводу Тургенев
в одном из своих бесподобных писем. Религиозный
индивидуализм есть художественное отношение к
миру, в котором величайший субъективизм единствен-
210
П.Б.Струве
ных чувствований соединяется с полнейшим
объективизмом общеобязательного восприятия, мистицизм —
с реализмом, личное — с всеобщим.
Об индивидуалисте такого типа можно сказать
опять-таки словами Тургенева об объективном
писателе, что он «берет на себя большую ношу. Нужно,
чтобы его мышцы были крепки».
Вот почему религиозный индивидуализм не может
быть ни предписываем, ни тем менее пропагандируем.
Пропаганда и прозелитизм или, что то же,
популяризация убивает его. Вот почему в истинных своих
представителях он ничего не исключает, кроме пошлости,
и никому себя не навязывает. При всей своей свободе
религиозный индивидуалист сдержан и соблюдает
меру. При всем своем мистицизме он не только не
болтает цветистым и искусственным языком о тайнах
своей души, наоборот, живя и питаясь ими, он
стыдлив в сообщении их другим. Зато он жадной душой
вбирает в себя мир и, если способен творить, то
расточительной рукой раздает собранное всем и каждому.
Своей религии он не выставляет напоказ; если он ху-
доженик, он может в образах, красках и звуках дать ее
почувствовать созвучным душам; если он мыслитель,
он может ее философски оправдать; если он деятель,
он вложит в практическое дело всю свою
убежденность и всю свою терпимость. Но он не будет
носиться со своей религией.
Итак, индивидуализм как религия есть самое
трудное, наименее доступное для большинства людей,
самое интимное понимание мира и жизни. В своей
потребности объективного отношения ко всем
сторонам жизни он становится над государственностью и
национальностью и в то же время способен видеть и
их правду и потому не может начисто их отрицать.
Никто не способен лучше, чем религиозный
индивидуалист, уразуметь, что чести и величию государства
можно пожертвовать жизнью своей и других людей; никто
не может ярче почувствовать неотразимую силу
национальной идеи и понять, что, хотя полякам в Познани
«разумнее» и практичнее становиться немцами, они,
любя свою национальность, должны за нее бороться.
Он не боится признавать «предрассудок», потому
что он знает не только силу, но и слабость рассудка.
[ОСНОВЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
экономии
(1923)]
ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ,
ХОЗЯЙСТВО, ОБЩЕСТВО
Основные понятия экономической науки1
Для научного рассуждения необходима точная
выработка понятий и соответственная отточенная
терминология. Исходными пунктами нашего рассуждения
являются два понятия: хозяйствование и хозяйство. То
обстоятельство, что русский, а также другие
славянские языки и язык немецкий располагают для этих
двух понятий раличными словами, тогда как языки
английский и французский совершенно лишены таких
выразительных обозначений и пробавляются
истасканным и выцветшим греческим словом «экономия»
(economy, économie), составляет большое
преимущество. Правда, часто эти выражения «хозяйствование» и
«хозяйство» употребляются безразлично и
беспорядочно, так сказать, promiscue для обозначения одних и
тех же «составов», или «данностей». Но, если мы
располагаем различными, хотя бы образованными от
какой-либо единой основы, словами, то этим словам
или выражениям надлежит каждому придавать особый
смысл, дабы, для точности и тонкости научных
различений, сполна использовать все богатство и всю
гибкость языка.
Хозяйствование (хозяйственная жизнь,
хозяйственное действование, или делание, хозяйственная
деятельность) есть понятие актуальное, или, иначе,
функциональное. Хозяйствование есть деятельность,
1 В этой статье я широко пользуюсь как книгой «Хозяйство и
цена», так и рукописью своих подготовляемых к печати «Основ
политической экономии».
214
П.Б.Струве
или функция, определяемая каким-то, специфически
присущим ей, характером. Люди живут и, живя, они
переживают многообразные потребности различной
силы, или настоятельности. Жизнь состоит именно в
переживании потребностей и их удовлетворений.
Понятие потребности столь же мало поддается
определению и нуждается в нем, как и само понятие жизни.
Хозяйствование есть прежде всего забота, или про-
мышление, о поддержании жизни во всей полноте ее,
проявлений.
Великолепный славянский текст Софрониева
жития Марии Египетской, читаемого в четверг на
пятой неделе Великого Поста, дает, как бы
мимоходом, классическое, хотя и не совсем полное,
определение хозяйствования: «промышление о стяжании
прибытков временных». Классическая формула,
каждый член которой выражен с поразительной
словесной силой! Отбрасывая в ней психологическое
понятие заботы, или промышления, как для нас уже объ-
емлемое самым понятием «стяжания», и пока опуская
понятие «прибытки», как характеризующее
хозяйствование со стороны того учета, или измерения, коему
оно сознательно или стихийно подчиняется, затем
дополняя эту характеристику некоторыми другими
существенными чертами, мы строим следующее
наиболее общее определение хозяйствования:
Хозяйствование состоит в приобретении, или
стяжании и использовании средств для удовлетворения
потребностей, и притом всех потребностей.
Хозяйствование не есть пассивное усвоение
(ассимиляция) материала для жизни, и таким образом оно
не есть просто питание. И оно не есть также
удовлетворение потребностей как таковое, или потребление
в широчайшем смысле слова. Наконец,
хозяйствование не есть сама жизнь, животная или духовная.
Характеристика хозяйствования как приобретения и
использования средств выражает, что хозяйствование
есть хотя и весьма активная, подчас даже прямо
агрессивная, но все-таки чисто служебная и
посредствующая, отнюдь не самоцельная и самоценная
функция.
Очерчивая так хозяйствование, мы образуем то
понятие, которое можно формулировать как первичное,
Хозяйствование, хозяйство, общество 215
или натуральное хозяйствование. В первичном
хозяйствовании субъективное — можно было бы сказать,
бесконечное — многообразие несводимых ни к
какому единству потребностей непосредственно
противостоит объективному, столь же мало сводимому к
какому-нибудь единству, многообразию (полезностей и
усилий. Ибо потребности, или, точнее, ощущения
потребностей первоначально не только многообразны,
но и несоизмеримы. Всякий отдельный человек
может, самое большее, сказать, что эта ощущаемая
им потребность больше или сильнее, чем та, и
соответственно выстроить свои потребности в некий ряд.
Но такое построение иерархии потребностей не есть
измерение последних. С другой стороны, полезности
и усилия могут быть в первичном хозяйствовании
сравниваемы одни с другими только в отношении их
к потребностям, т.е. к такому моменту, который по
существу неизмерим. И поэтому полезности и усилия с
потребностями непосредственно несоизмеримы.
Конечно, полезности, как внешние предметы,
вполне «уловимы» и «соизмеримы», т.е. они могут
быть арифметически исчислены и геометрически
измерены. Точно так же усилия могут быть всегда
механически измерены при помощи динамометра, но ни
арифметическое счисление, ни геометрическое
измерение полезностей, ни механическое измерение
усилий не может быть однозначно относимо к
потребностям и их удовлетворениям. А между тем только
такое однозначное соотнесение, с одной стороны,
полезностей и усилий, с другой стороны, потребностей,
может быть почитаемо непосредственно имеющим
экономический смысл и экономическое значение.
Всякое измерение есть наложение некоторого
постоянного мерила на те или иные действительности.
Мерило должно быть каким-то образом наперед дано
измерению; действительности должны быть как-то
измеримы. В первичном хозйствовании не существует
никакого такого наперед данного мерила. Ибо
непосредственно ясно, что ни арифметическое счисление,
ни геометрическое измерение полезностей, ни
механическое определение усилий не могут быть
поставлены ни в какое однозначное соотношение с
потребностями и удовлетворениями потребностей. И хотя
216
П.Б.Струве
все эти три вида измерения могут быть весьма
существенны для хозяйствования1, но они все-таки отнюдь
не означают измерения хозяйственного. Это и
означает, что первичное хозяйствование как раз и
характеризуется отсутствием хозяйственного измерения.
Конечно, первичное хозяйствование может быть
подвергаемо известному измерению. Но это
измерение будет всегда — с точки зрения хозяйственной
жизни — искусственным, будет всегда «артефактом» в
точном социологическом смысле слова (об этом см.
ниже). Здесь мы затрагиваем соотношение или
различение, которое может притязать на исключительное
значение для политической экономии и социологии.
Сейчас да будет позволено установить лишь одно:
измерения в первичном хозяйствовании могут быть
производимы лишь такой человеческой волей, которая,
на основании тех или иных «рациональных» и вполне
для субъекта воли обозримых соображений,
«искусственно» создает мерило хозяйственных вещей и
действий. Иначе говоря: первичное хозяйствование
характеризуется отсутствием «естественного» измерения
хозяйственных вещей и действий.
Понятие первичного хозяйствования есть — мы
пользуемся тут известной терминологией Макса Вебе-
ра — идеально-типическое понятие, или идеальный
тип. Оно не есть историческая категория, не есть
какой-то разрез действительности. Но именно
поэтому построенное нами понятие незаменимо и
плодотворно для теоретического рассмотрения
хозяйственной жизни. Оно является таковым в своем
противопоставлении другому идеально-типическому
понятию — вторичного, или развернутого, или
денежно-ценового хозяйствования. Последнее может быть, в
противоположность первичному хозяйствованию, как
простой заботе о поддержании жизни,
охарактеризовано как хозяйствование в подлинном и точном
смысле.
1 Напомним о хозяйственном значении поштучного счета
каких-нибудь благ (скота, плодов и т.д.), измерения земельных
площадей или кубического содержания жилищ или судов,
определения, более или менее точного, трудовых затрат и т.д. и т.д.
Хозяйствование, хозяйство, общество 217
Забота о жизни и ее поддержании становится
подлинным хозйствованием лищъ при предположении,
что хозяйственная деятельность при этом как-то
подвергается естественному измерению или принимается
за естественно измеримую (что в этом контексте
окончательно означает слово «естественное», см. ниже).
Именно этот признак — естественного измерения и
таковой же измеримости — сообщает хозяйствованию
определяющий смысл; придает ему особую окраску,
которая явственно отграничивает его от всей
совокупности прочих областей жизни и культуры. Ибо
различные стороны личной и общественной жизни, как
особые области, или системы, всегда характеризуются
таким особенным смыслом, или окраской, именно
данной системе присущей.
В качестве главных областей или систем жизни и
культуры перед нами выступают:
Религия;
Нравственность;
Искусство;
Наука;
Право;
Хозяйствование.
Жизнь и культура живущих в обществе людей
вообще как-то «состоит» из этих систем. Но эти облети,
или отделы культуры сами по себе не поддаются так
легко определению и разграничению, как
какие-нибудь физические состояния или же какие-нибудь
движения людей (стояние, хождение, лежание, плавание
и т.д.). Их можно только более или менее
исчерпывающим образом описать, причем надлежит «всегда
держать в уме, что эти области в своей особности, или
отдельном бытии, существуют.лишь в силу присущего
им или вкладываемого в них «смысла». Этот особый
смысл — и только он один — составляет особое
«содержание» каждой данной области или системы
культуры.
Подлинное (вторичное, или развернутое)
хозяйствование характеризуется «естественным» измерением
и таковой же измеримостью хозяйственных вещей и
действий.
218
П.Б.Струве
Отношение между этими двумя идеальными
типами: 1. первичное хозяйствование и 2. развернутое
хозяйствование — может мыслиться, в некотором роде,
как отношение двух различных «измерений», в
которых мы созерцаем и постигаем хозяйственное.
Первичное хозяйствование дано нам, так сказать, в
двух измерениях, между тем как развернутое дано нам
в трех. При этом существенно и должно быть твердо
усвоено следующее. Во-первых, двухмерное не
отделено и неотделимо от трехмерного, оно не противостоит
ему, как чуждое, но первое должно мыслиться как бы
включенным или упакованным во второе. ' Ибо
идеальные типы не суть прилагаемые нашей
«субъективностью» как-то произвольно к действительности
формы или категории; они суть определения
действительного, из него истекающие, или ему присущие.
Наши математически-геометрические выражения
призваны лишь, так сказать, обозначить отношение двух
«планов» хозяйственной действительности. Эти планы
действительности могут быть, конечно, созерцаемы и
мыслимы нами в соотношении «исторической»
последовательности, но мы можем также созерцать и
мыслить их в соотношении одновременного наличия, или
сосуществования. Ибо развернутое хозяйствование
может всегда быть нами мысленно сведено на два
измерения первичного хозяйствования, т.е. оно может
быть созерцаемо нами лишь в двухмерном плане.
Ведь, т<ак> н<азываемая> «народнохозяйственная»
точка зрения есть не что иное, как созерцание
хозяйственного в двухмерном первично-хозяйственном
плане. Первичное хозяйствование есть какое-то
функциональное целое, которое характеризуется
потребностью, массой благ и еще особым хозяйственным
свойством — ценностного (или денежного) измерения
потребностей и количеств благ. В развернутом
хозяйствовании существуют потребности, количества благ и
ценностные величины. Все эти «определения»
соотносятся одни с другими, но только ценностные
величины суть настоящие величины — и это отличает их от
потребностей или ощущений потребностей — и к
тому же они являются хозяйственно измеримыми
величинами — и это отличает их от количеств благ, как
простых количеств. Таким образом, тут мы приходим
Хозяйствование, хозяйство, общество 219
к тому же, что уже было установлено выше.
Хозяйственное в двухмерном плане хозяйственно неизмеримо.
«Естественного» измерения в первичном
хозяйствовании быть не может. На этом придется еще
остановиться в другом контексте. Заметим сейчас же, что
первичное хозяйствование мы, после всего
сказанного, можем, без особой натяжки, называть
хозяйствованием натуральным, а хозяйствование вторичное —
ценовым, ценностным, или денежно-ценовым.
В натуральном хозяйствовании нет хозяйственного
измерения, т.е. нет ни цен, ни ценности (ценность,
как с удивительной отчетливостью выражает русский
язык, есть производное цене), ни денег, которые в
своей основе опять-таки указуют не на что иное, как
на измерение и измеримость «хозяйственного». Когда
мы, в отношении натурального хозяйствования,
говорим о «ценности», мы, сознательно или
бессознательно, уподобляем натуральное хозяйствование
хозяйствованию денежному, подобно тому как бухгалтерия
постоянно' оперирует уподоблением целого ряда
хозяйственных действий внутри данного хозяйства
меновым отношениям двух различных хозйств, и, в
существе, вся построена на таком уподоблении. Следует
при этом твердо помнить, что натуральное
хозяйствование и хозяйствование денежно-ценовое, так
понимаемые, суть не «исторические», а «систематические»
категории, суть идеально-типические понятия. В
каждом размере и отрезке исторической
денежно-хозяйственной действительности есть налицо элементы и
натурального хозяйствования, хотя бы на первый взгляд
и казалось, что натуральное хозяйствование, в том
или другом случае, совершенно исчезло.
«Народнохозяйственная» же точка зрения есть всегда мышление
хозяйствования, непременно и только, как
натурального, т.е. как хозяйствования, с которого снят
«денежный покров», и которое поэтому предстает перед
нами в «двухмерном» плане.
II
Установив основоположное различение двух типов
хозяйствования, мы должны пока приостановиться в
нашем анализе понятия вторичного (развернутого,
220
П.Б.Струве
подлинного) хозяйствования и обратиться к
сопряженному с категорией хозяйствования понятию
хозяйства.
Хозяйством мы, примыкая к логике
словообразования и словоупотребления, называем
целенаправленное (телеологическое) волевое единство
хозяйствования (хозяйственного делания, хозяйственной
деятельности). Хозяйствование, в силу элементарного факта
(и в то же время основного принципа) индивидуации
человеческого бытия, должно исходить от
определенного субъекта воли, который дает ему направление,
ставит цели и сообщает смысл.
Примышляя такого субъекта — мы можем его
обозначить как хозяина — в качестве носителя
хозяйствования к понятию последнего, мы образуем
(конституируем) точное понятие хозяйства. Понятие
хозяйства так же относится к сопряженному с ним понятию
хозяйствования, как понятие организма к понятию
функции, или функционирования. Хозяйство есть,
подобно организму, не какая-нибудь «субстанция», не
какая-нибудь «вещь» в тривиальном смысле, — это
есть относительно постоянное, или устойчивое и
замкнутое единство, которому «присущи» известные
функции, в этом единстве протекающие, и жизнь
которого состоит именно в этих функциях.
Для этого «органисмического» (отнюдь не
«органического»!) понятия хозяйства, как субъективного
телеологического единства хозяйствования, безразлично,
кто является субъектом хозяйства или мыслится как
таковой. Существенно лишь то, что все
хозяйственные явления и процессы, а также соответствующие
им категории и понятия мы тут телеологически
относим к некому субъекту, рассматриваем, обсуждаем и
оцениваем с точки зрения его целей. Значение только
что установленного признака субъективного
телеологического единства для понятия хозяйства по
существу классическим образом вскрыто еще Карлом Менге-
ром. Указывая, что так называемое народное
хозяйство не есть хозяйство в подлинном смысле слова,
основатель австрийской школы говорит: «Последнее
существовало бы лишь в том случае, если бы (как,
напр<имер>, в проектированных некоторыми социа-
Хозяйствование, хозяйство, общество 221
листами устройствах) возможно полное при данном
экономическом положении вещей удовлетворение
потребности народа как целого действительно было
целью, если бы народ в его целостности
действительно был (непосредственно или через своих
должностных лиц) хозяйствующим субъектом, и если бы,
наконец, существующие вещи действительно служили
народу как целому для указанной цели, т.е. если бы
существовали условия, очевидно отсутствующие в
современном народном хозяйстве. При наших
социальных условиях отнюдь не народ, или его должностные
лица, является хозяйствующим субъектом; в
действительности хозяйствующим субъектом являются
руководители отдельных единичных и общественных
хозяйств; цель этих последних не состоит в общем в
обеспечении общественной потребности народа как
целого, а в обеспечении собственной общественной
потребности или же потребностей определенных
других, физических или моральных, лиц; наконец, и
существующие хозяйственные средства служат для
удовлетворения не народа как целого, а лишь
определенных физических или моральных лиц. То, что
экономисты обозначают выражением: «народное
хозяйство», и народное хозяйство в обыденном смысле слова,
не есть друг подле друга стоящие изолированные
индивидуальные хозяйства; напротив, эти последние
связаны между собой внутреннею связью обмена; но
столь же мало оно есть народное хозяйство в
указанном строгом смысле слова, т.е., одно хозяйство; в
действительности оно есть скорее компликация, или,
если угодно, организм хозяйств (единичных и
общественных), но, повторяем, не одно хозяйство. Здесь,
употребляя популярное сравнение, имеется такое же
соотношение, как в цепи, которая представляет целое,
состоящее из звеньев, но не как в механизме,
который, состоя из колес и проч., представляет единое
целое»1.
1 Менгер: О методах политической экономии, перев. под ред.
Гурьева. СПб., 1894, стр. 222—223. По немецкому оригиналу:
Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der
politischen Oekonomie insbesondere. Leipzig, 1883. SS. 232—233.
222
П.Б.Струве
Из существа хозяйства, как субъективного
телеологического (волевого) единства хозяйствования,
поскольку друг другу противостоят и друг с другом
соприкасаются несколько хозяйств, иначе говоря, из
множественности хозяйств в обществе необходимо
вытекают три чрезвычайно важные следствия.
Во-первых, собственность. Поскольку средства
хозяйствования либо вообще, либо в смысле
нахождения или размещения их в пространстве или во
времени, являются скудно отмеренными — а это есть
характерный признак тех средств, при помощи которых
люди «хозяйствуют»! — они как-то присваиваются
хозяйствами. Кто говорит «хозяйства» (во
множественном числе!), говорит «собственность».
Собственность может быть приурочиваема и
вменяема различным субъектам (хозяйства или права), а,
в зависимости от богатства хозяйственных средств,
она может прикрепляться к тем или другим из этих
средств. Но собственность всегда дана там, где налицо
множественность хозяйств. Собственность есть
социологическое выражение, в одно и то же время,
скудости хозяйственных средств и множественности
хозяйств1. К одному единственному или же совершенно
замкнутому, непроницаемому хозяйству, когда
имеется налицо или мыслится лишь один хозяйствующий
субъект, понятие собственности не может быть
осмысленно применяемо. Ибо собственность есть
всегда средство обособления и выражения
отдельного и в то же время связанного бытия множества
хозяйств.
Во-вторых, самоопределение, или автономия
хозяйствующего субъекта. Такая автономия — ее можно
назвать также свободой хозяйственного движения —
может быть больше или меньше, но каков бы ни был
ее объем, она является необходимым имманентным
признаком хозяйства как такового. И опять-таки
понятие самоопределения, или автономии, не может
1 Не только одной скудости, как думает Карл Менгер, давший
мысли о зависимости собственности от скудости, или
ограниченности хозяйственных средств, превосходную формулировку.
Ср. его Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Wien, 1872. SS. 55—57.
Хозяйствование, хозяйство, общество 223
быть осмысленно прилагаемо к хозяйству
единственному или к хозяйству абсолютно замкнутому, или
непроницаемому. Понятие самоопределения хозяйства,
так же как понятие собственности, логически
предполагает множественность хозяйств, предполагает некое
разграничение или размежевание между хозяйствами,
как-то связанными друг с другом.
Изложенной характеристике хозяйства присущи
черты идеально-типической необходимости, и потому
хозяйство, так понимаемое, отнюдь не есть
«историческая категория». Собственность и хозяйственное
самоопределение суть сопряженные понятия.
Собственность указует, так сказать, на вещный материал,
предмет, объект, субстрат, на котором упражняется
хозяйственное самоопределение. Но собственность не
является единственным объектом последнего:
достаточно напомнить о «свЬбоде труда» в ее различных,
логически возможных и исторически данных,
выражениях.
Наконец, в-третьих, — возмездность хозяйственных
действий. Поскольку хозяйства противостоят друг
другу и приходят в хозяйственное соприкосновение
одни с другими, это, по общему правилу и
принципиально, происходит возмездно. Так же как
собственность, и автономия, и возмездность хозяйственных
действий коренится с идеально-типической
необходимостью в существе хозяйства, как субъективного
телеологического (волевого) единства хозяйствования,
когда мы мыслим его во множественном числе и в
какой-то связи с другими.
Первичное хозяйствование есть для себя —
хозяйствование хозяйств (или какого-то единого и
единственного хозяйства).
Вторичное, развернутое, подлинное
хозяйствование есть взаимо-хозяйствование хозяйств.
Для того, чтобы вполне усвоить себе во всем ее
значении эту сжатую характеристику обоих идеальных
типов хозяйствования, мы должны предварительно
установить некоторые основные для обществоведения и
хозяйствоведения, упорядочивающие понятия.
Общество может быть самым общим образом
определено, как сожительство, или сосуществование
224
П.Б.Струве
людей. Оно является таковым во всех возможных
смыслах (психологическом или социально-психологическом,
физиологически-механическом или Ьепауюиг'истическом
и т.д., и т.д.).
Рассмотрение общества как сосуществования
хозяйствующих людей ставит проблему «целого» и
«частей». Существуют объекты, которые выступают перед
наблюдателем как такие целые, которые
одновременно даны ему и как совокупности, сложения каких-то
далее неразложимых единиц. В высшей степени
сомнительно, существуют ли вообще, например,
зрительно-уловимые совокупности, которые были бы
простыми сложениями, чистыми «Undverbindungen»
(по выражению некоторых немецких исследователей)
более элементарных частей [тут возникает для
психологии и для наукоучения проблема так называемых
«образов» (Gestalten), поставленная Эренфельсом]. Но
мысленно, и тем самым теоретически, понятие
совокупности как чистой суммы, как чистой Undverbin-
dung, всегда может быть построено и выполнено.
Такое целое может быть охарактеризовано как целое
первого порядка. Простейший пример реального
приближения к этому понятию «целое первого порядка»
представляет зрительный образ некоторого множества
воткнутых в землю колышков. Таким же целым
первого порядка является пирамида шаров или песочная
куча — для того наблюдателя, который, во-первых,
может отрешиться от их зрительного качества
«образов» и таким образом освободиться от эстетического
впечатления, во-вторых, не предполагает никакого
взаимодействия между отдельными элементами,
частями или единицами этой совокупности (последнее
обстоятельство может определяться либо тем, что
наблюдатель нисколько не подозревает такого
взаимодействия, либо тем, что он его сознательно
игнорирует, причем он делает это несмотря на то, или,
может быть, потому что он способен совершенно
отчетливо уловить и различить отдельные элементы
данного целого, как таковые). Целое первого порядка
мы можем для краткости наименовать простой
совокупностью.
Целое совершенно другого рода противостоит нам
в тех случаях, когда между отдельными элементами,
Хозяйствование, хозяйство, общество 225
или частями, или единицами имеется/- налицо, т.е.
воспринимается, или мыслится, или предполагается
некоторое взаимодействие. Условимся целому такого
рода дать наименование «система».
Ярким примером системы может служить лес или
лесное насаждение. Между совокупностью вбитых
нами колышков, которыми покрыто данное
пространство земли и которые зрительно предстают нам в виде
единой вещи, и лесом как «растительным
сообществом» существует целая пропасть. Лес не есть простая
совокупность деревьев, как то наивно, в неведении
высоко развитой и методически чрезвычайно
поучительной дисциплины «экологии растений»,
по-видимому, полагает Шпанн1. Лес есть, конечно,
совокупность известных единиц, деревьев, приуроченная к
известному пространству, но он есть в то же время
взаимодействие или система этих единиц. Ибо всякая
система, поскольку она «состоит» из каких-то
раздельно-воспринимаемых и в то же время как-то
тождественных единиц, есть простая совокупность, но не
всякая простая совокупность есть система.
Но есть ли лес организм, как думают и говорят
некоторые биологи и, в частности, лесоводы? Можно ли
это серьезно уподоблять человеку, животному,
растению? Критическое размышление должно дать
отрицательный ответ на этот вопрос. Лес столь же мало
организм, как пруд, река, море. Принципиально между
населением пруда, т.е. его фауной и флорой, и лесом,
в фитологичесом и фаунистическом смысле, нет
никакого различия. Именно потому, что лес не есть
организм, а есть какая-то система сложного
взаимодействия организмов между собой и с неживой средой,
такие системы взаимодействия правильнее называть
1 «Das individualistische Denken denkt die Menschen etwa in der
Art, wie wir uns die Bäume im Walde vorstellen könnten. Der einzelne
Baum ist etwas, das durch eigene Keimkraft emporgewachsen ist,
selbst in der Erde wurzelt, sebst sich zum Gewächs gestaltet. Die
Bäume wachsen auch grundsätzlich unabhängig voneinander, «Wald»
kann mann als eine blosse Anzahl von einzelnen, ganz selbständigen
Wachstumskräftern, Wachstums-Autarkien ansehen» (Der wahre
Staat. Leipzig, 1921. S. 26).
226
П.Б.Струве
формациями, как делает Шимпер, чем сообществами
или союзами, как делает Варминг1.
Подлинные организмы являют перед нами третий
вид целого, которое мы назовем — единством.
Поскольку такое целое составлено из как-то
тождественных единиц, оно является объединенным и в этом
объединении подчиненным какой-то единой,
поставляющей себе цели, воле, какому-то волевому, или, по
крайней мере, «управляющему», в самом общем
смысле, центру.
Для обществоведения нет различения более
основного и более существенного, чем различение системы
и единства. И это потому, что здесь перед нами
различие, имеющее самый общий смысл и глубочайшее
значение. Система есть область иррационального,
стихийного, органического, бессознательного; единство
есть область рационального, органисмического,
сознательного, телеологического. Система есть сфера, где
господствует начало гетерогонии целей. Единство есть
сфера, в которой господствует полярное начало —
автогонии целей (или, что то же, эффектов)2. В
системе потому действует бессознательное начало, что в
ней, ex hypothesi, не может быть субъективного
сознания. Наоборот, в единстве, ex hypothesi, все может
1 Цитаты из Варминга см. в «Хозяйстве и цене», где привлечена
и некоторая другая экологическая литература, в том числе труды
покойного профессора Г.Ф.Морозова. Шимпер говорит: Man
nennt die durch Bodenqualitäten bedingten Pflanzenvereine Fornfa-
tionen (Schimper. Pflanzen-Geographie auf physiologischer
Grundlage. Jena, 1898. S. 175), но нигде не определяет и не объясняет
понятие Verein. Понятие же Genossenschaft он употребляет,
подводя под это общее понятие такие специальные случаи, как
«лианы», «эпифиты», «сопрофиты» и «паразиты», но не давая
нигде определения и этого понятия. Весьма признателен
В.С.Ильину за его указание на труд Шимпера и другие
произведения раньше неизвестной мне экологической литературы.
2 Понятие гетерогонии целей, по существу уже созданное
Гегелем, формально введено и использовано, как известно, Вундтом.
Оно требует, на мой взгляд, построения понятия, ему
противоположно-соотносительного, автогонии целей, или эффектов, и
соответственного расчленения всех социальных явлений на две
группы: явления автогенические и гетерогенические. Этими
понятиями я широко пользуюсь в своих социологических и
экономических рассуждениях.
Хозяйствование, хозяйство, общество 227
быть сознательно и целенаправлено. Между системой
и единством нет, конечно, абсолютной
противоположности и непереходимой пропасти, если брать
конкретные воплощения в их реальности и становлении.
Как всякая система, составленная из как-то
тождественных единиц, есть в то же время простая их
совокупность, но не наоборот, так же и всякое единство,
состоящее из как-то тождественных единиц, есть
система, но не наоборот.
С другой стороны, систематическая связь, или, что
то же, органическое взаимодействие, может рождать
объективное или реальное телеологическое единство,
создавать организм. В этом рождении целого из
взаимодействия элементов и заключается онтологическая
проблема организма. Мое понимание системы и
единства, притом в применении к обществу
хозяйствующих людей, не только не близко, но в известном
смысле прямо противоположно получившим
значительную популярность в Германии конструкциям Тен-
ниэса1. Как известно, Тенниэс считает основанное на
возмездном обмене общество «механическим»
соединением, тогда как, с моей точки зрения, «гражданское
общество», или «меновое общество» (как выражается
сам Тенниэс), природу и движение которого изучала
и изучает политическая экономия, есть максимально
«органическое» или «органичное» соединение или
целое. Я не имею оснований вступать здесь в
полемику с Тенниэсом, ибо мое понимание социальной
действительности и мой подход к ее осмысливанию
совершенно отличен от того, что дают Тенниэс, и как я
уже указал в другом месте, и Шпанн2.
Соответственно различению системы и единства,
мы в человеческих делах, т.е. в сожительстве людей,
можем различать два порядка явлений: явления
систематические, или гетерогенические, и явления телеоло-
гогические, или автогенические. Это различение двух
порядков явлений есть то единственное основание, на
1 Ferdinand Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe
der reinen Sociologie. Vierte und fünfte Auflage. Berlin, 1922 (первое
издание вышло в 1887 г.).
2 См. «Заметки о плюрализме» в «Трудах русских ученых за
границей». Т. II. Берлин. 1923 г., стр. 200.
228 t П.Б.Струве
котором может быть построено
логически-состоятельное и научно-целесообразное и плодотворное
различение в общественной жизни явлений
«искусственных» и «естественных». Естественные явления — это
явления гетерогенические, искусственные — это
явления автогенические. Другими словами, в
общественной и, в частности, в хозяйственной жизни есть два
ряда явлений, существенно отличающиеся один от
другого. Один ряд может быть рационализован, т.е.
направлен согласно воле того или иного субъекта,
другой ряд не может быть рационализован, он
протекает стихийно, не в намеренном соответствии с волей
какого-либо субъекта.
Теперь должно быть понятно, в каком смысле мы
говорили', что первичное хозяйствование
характеризуется отсутствием естественного хозяйственного
измерения. В первичном хозяйствовании нет того
столкновения или соприкосновения разных воль, которое
творит для хозяйствующих субъектов наперед данное
им измерение хозяйственных благ и действие, как их
собственных, так и чужих. В первичном
хозяйствовании каждый хозяин должен сам «творить», «делать»,
«выдумывать» такое измерение.
Это верно в отношении как абсолютно
изолированного, непроницаемого «замкнутого хозяйства», так
и абсолютного коммунизма, или социализма.
«Естественное» измерение хозяйственных благ и действий
совершается прямо или посредственно только —
рынком.
Из нашего различения разных видов целого
вытекает идеально-типическое построение разных типов
хозяйственного строя. Поскольку общество есть
система хозяйственного сожительства или
сосуществования множества подлинных хозяйств, оно может быть
«составлено» из этих хозяйств двумя основными
способами. Оно может быть либо совокупностью рядом
стоящих хозяйств, либо системой взаимодействующих
хозяйств. И, наконец, третьей возможной
организацией общества в хозяйственном отношении является
превращение всего общества из системы в единство.
Это — общество-хозяйство, как оно рисуется всякому
последовательному или абсолютному социализму.
Хозяйствование, хозяйство, общество 229
Эти три идеальных типа хозяйственного строя
суть, конечно, логические построения, или схемы, а
не снимки с каких-то исторических разрезов
действительности. Но именно потому они могут, при
надлежащем употреблении, оказаться чрезвычайно
полезными для описания и истолкования всякой данной
исторической действительности хозяйственной жизни.
Экономическая история и состоит именно в описании
и истолковании исторической действительности
хозяйственной жизни при помощи систематических,
или идеально-типических понятий, которые сами не
суть вовсе «исторические категории»1.
Наши понятия «система взаимодействующих
хозяйств» и «вторичное (развернутое) хозяйствование»
указуют на одну и ту же реальность. Этой реальностью
по преимуществу и занимается хозяйствоведецие, или
политическая экономия. Вторичное хозяйствование
логически предполагает систему взаимодействующих
хозяйств. Взаимодействие же хозяйств есть не просто
воздействие или влияние одних человеческих единиц
на другие. Это есть совершенно особое
взаимодействие, которое предполагает, что одни люди
противостоят другим и соприкасаются с ними как «хозяева», т.е.
как автономно действующие собственники,
вступающие друг с другом в возмезденый обмен. Пределы
собственности и автономии могут быть для них, в кон-
1 Учение о трех типах хозяйственного строя, опирающееся на
различение разных видов «целого», изложено мною с гораздо
большей подробностью в первом томе моей книги «Хозяйство и
цена», к которому я пока и должен отослать читателя. Здесь же
оно дополнено учением о двух идеальных типах хозяйствования
и объединено с ним в одно цельное построение, служащее
введением в систему политической экономии. Построение
экономической истории как описания и истолкования исторической
действительности при помощи систематических категорий
политической экономии дано в речи на моем первом
(магистерском) диспуте 1913 г., напечатанной тогда же в «Известиях СПб.
Политехнического института».
Мое понимание методической природы и значения
систематических категорий или, что то же, идеальных типов,
значительно расходящееся с пониманием Макса Вебера и намеченное
мною уже в указанной речи, я разовью в другом месте. Здесь
было бы неуместно загромождать построения, относящиеся к
существу, методическими соображениями.
230
П.Б.Струве
кретных исторических условиях, очерчены весьма
различно. Сфера вещей и действий, которые подчинены
началу возмездности, может тоже определяться весьма
различно. Но там, где исчезает собственность,
самоопределение (автономия) и возмездность, там не
существует вторичного хозяйствования: на его место
становится либо совокупность рядом стоящих хозяйств, т.е.
сожительство людей, которые, как хозяева, отделены
друг от друга непроницаемыми перегородками, либо
общество-хозяйство, т.е. сожительство людей,
которые, как человеческие единицы, не суть вовсе хозяева.
Совокупность ря&ом стоящих хозяйств и
общество-хозяйство, как идеальные типы, суть- понятия
предельные. Система взаимодействующих хозяйств (и
вторичное хозяйствование) есть тоже, как идеальный тип,
понятие предельное. Но степень идеальности или
предельности этих трех понятий, в их сопоставлении с
исторической действительностью хозяйственной жизни,
в известном смысле, весьма различна. Это
определяется тем, что люди живут в обществе, и их общественное
сожительство с какой-то неотвратимостью, которую
мы склонны воспринимать как нечто «естественное»,
строится на началах собственности, самоопределения
(автономии) и возмездности. Исторические выражения
этих начал, как мы уже сказали, могут быть весьма
различны, но наличие их в хозяйственной жизни,
понимаемой в самом общем смысле, не будучи вовсе
логически необходимым, в тех или иных пределах,
эмпирически данных и эмпирически различных,
воспринимается нами как нечто столь общее и столь вероятное, что
мы склонны приписывать ему — и практически имеем
на это известное право — качество необходимости, или
абсолютности, выражаемое категорией «естественного».
Так мыслила вся т<ак> н<азываемая> либеральная
политическая экономия и, будучи логически неправа,
она все-таки, при всей своей логической неправоте,
правильно улавливала какие-то соотношения
действительности. Ибо, конечно, собственность,
самоопределение и возмездность суть в действительности
хозяйственной жизни какие-то основные и общие
определения, без которых мы почти что неспособны
мыслить хозяйствование.
Хозяйствование, хозяйство, общество 231
Общество, так же как лес, не есть организм.
Будучи в высшей степени «органичным», общество
уподобляется или уподобится организму тогда, когда оно
является или станет хозяйством, т.е. телеологическим
волевым единством. Но тогда оно перестанет быть
обществом в смысле только системы и перестанет быть
«органичным», по крайней мере в некоторых
существенных отношениях. Это, конечно, предельный
случай — абсолютного социализма, который, может ли
он осуществиться или нет, не может не быть
«артефактом», или «произведением искусства».
Из сказанного явствует, в какой мере существенно
различение общества и государства, раз общество мы
должны мыслить как систему, а государство мы не
можем не мыслить как единство.
И опять-таки: государство, будучи единством, есть
в то же время система, и в этом — частичная правота
тех, кто характеризует государство как систему
отношений. Но общество, будучи системой, не есть
единство, поскольку оно тем или иным процессом не
превращается в какого-то субъекта, в какое-то существо. Это
превосходно выразил еще Пьер Леру, у которого были
иногда очень глубокие социологические прозрения,
сказав: «La société n'est pas un être dans le même sens que
nous sommes des êtres. La société est un milieu»1.
1 Pierre Leroux. D'une religion nationale ou du culte. Nouvelle
édition. Boussac (Imprimerie de Pierre Leroux), 1846, p. 105. В этой
формулировке интересно раннее социологическое
использование того понятие «milieu», которое потом станет центральным
понятием всех историко-социологических построений Тэна.
Понятие «milieu» в применении к явлениям, изучаемых биологией,
введено, по-видимому, Ламарком. В применении к явлениям
общественным его употребление следует, по-видимому, возвести к
Конту и, как мы видим, к Леру, который вряд ли заимствовал
его у Конта.
Удивительно ясное понимание общества как системы
зависимостей или связей между людьми мы находим уже у
физиократов. Аббат Бодо так определяет общество: «J'appelle société les
communications des hommes entr'eux la combinaison des plusieurs
intelligences, de plusieurs volontés, de plusieurs forces réunies et
tendants au même but; les relations multipliés par l'instruction, par
l'exemple, par l'émulation». Nicolas Baudeau. Première introduction à la
philosophie économique ou analyse des états policés. 1767. Ed.
K.Dubois. Paris, 1910, p. 8. Тут верно все, кроме «стремления к
одной цели».
232
П.Б.Струве
Мы уже говорили, что в то время, как первичное
хозяйствование дано нам, так сказать, в двух
измерениях: потребности и количества, вторичное или
развернутое дано нам в трех измерениях: потребности,
количества и цены (ценности). Только измерение
цены (или ценою) есть и измерение подлинное, в
отличие от сравнения неизмеримых и несоизмеримых
потребностей, и измерение чисто и специфически
хозяйственное1, в отличие от измерений
арифметических, геометрических и механических. Это
хозяйственное измерение весьма несовершенно — по крайнему
несовершенству «мерила», но оно все-таки существует
как специфическое и, в своем качестве
специфического измерения, оно имеет определяющее значение для
вторичного хозяйствования. Оно является естественным
в установленном нами выше смысле. И оно является
таковым именно потому, что оно творится для каждого
отдельного хозяина системой его взаимодействия с
другими хозяевами. Поскольку такое взаимодействие творит
хозяйственное измерение в его обоих сопряженных
выражениях: цене и деньгах, оно называется рынком.
Система взаимодействующих хозйств состоит из некоторого
множества рынков, как-то между собой связанных, и
сама может мыслиться нами как некий большой рынок.
Рынок в смысле экономической, теории есть, таким
образом, не место и не правовое учреждение, а система
хозяйственных связей между хозяевами, противостоящими
друг другу как продавцы и покупатели2. Поэтому
можно сказать, что вторичное, или развернутое,
хозяйствование определяется тремя сопряженными
понятиями: ценой, деньгами и рынком. Иначе можно
сказать, что вторичное, или развернутое, хозяйствование
1 Дабы быть совершенно ясным, я хочу подчеркнуть, что в
силу свойств русского языка мне приходится почти рядом
употреблять слово «измерение» в двух различных смыслах. В первом
оно соответствует французскому и немецкому «dimension», во
втором оно соответствует немецкому «Messung» или «Bemessung»
и французскому «mesurage» или чаще «mesure» (Ср., напр<имер>,
заглавие известной книги Бургэна «La mesure de la valeur»).
2 Это понятие рынка впервые установлено Курно и развито
Джевонсом и Маршаллом. Здесь дается его социологическое
истолкование и обобщение.
Хозяйствование, хозяйство, общество 233
есть рыночное установление, или образование цен,
выраженных в деньгах. Вот почему мы и называем его
также хозяйствованием денежно-ценовым.
Разъяснение этой характеристики будет предметом
последующего изложения.
Прага, 1923 г.
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ1
Хозяйствование в самой общей форме, хозяйство
«первичное», может быть охарактеризовано как
приобретение и использование средств для
удовлетворения потребностей. Физиологическим составом этого
приобретения и использования является то, что
называется трудом. Труд есть довольно сложное понятие,
экономическое истолкование которого вовсе не так
просто, как это кажется на первый взгляд.
Физиологически труд неотличим от других явлений траты
вещества, совершаемой каким-либо организмом или
совершающейся в каком-либо организме.
Психологически труд есть усилие, которое может в разных условиях
сопровождаться или быть окрашено различными,
даже прямо противоположными, ощущениями. На
этом факте покоится возможность рассматривать труд
либо как нечто психологически «положительное»,
сопряженное с наслаждением, либо как нечто
психологически «отрицательное», сопряженное со страданием.
В первом качестве, или аспекте, труд представляется
влекущим, притягательным (le travail attrayant Фурье);
во втором — тягостным и отталкивающим.
Необходимо признать, что ощущение труда как тягости и
отталкивание от него есть нечто более общее и
первичное, чем наслаждение трудом. И это можно ярко ил-
1 Это рассуждение есть глава из систематического труда,
посвященного основам политической экономии. Я широко
пользуюсь в этом новом изложении своей системы как первой,
так и второй частью «Хозяйства и цены». Общие понятия
хозяйствования, первичного и вторичного, а также хозяйства и
общества развиты в моей статье «Хозяйствование, хозяйство и
общество» в «Экономическом Вестнике» № 2.
Некоторые основные понятия экономической науки 235
люстрировать на этимологии слов, которые служат
для обозначения понятия труда. Расчленение какого-
то единого понятия «труда-страдания» на
индифферентное «усилие» и отрицательную «тягость»
происходит довольно поздно и в полной мере, до конца, во
всеобщем наивном непосредственном сознании, оно,
можно сказать, даже вовсе не совершается и никогда
не совершится. Но, с экономической точки зрения,
эта дифференциация и весь спор о том, что
существенно для труда, его тягостность или
привлекательность, не имеют сколько-нибудь серьезного значения.
С точки зрения хозяйствования в труде существенны
лишь два момента: ^
1. Количество средств, служащих для
удовлетворения потребностей, находится в какой-то
функциональной зависимости от «затрат» труда.
2. Труд есть, с физиологической необходимостью,
всегда какая-то трата.
Это можно выразить еще так:
Труд «производит» средства хозяйствования,
назовем их сейчас же, для краткости, просто «благами».
Труд поглощает блага.
Если первое соотношение считать хозяйственным
par excellence, а второе — физиологическим par
excellence, то можно сказать, что труд как категория
хозяйственная и он же как категория физиологическая
имеет прямо противоположный смысл; в первом
случае — творения, во втором — уничтожения, или
разрушения. Но для хозяйствования существенны оба
эти аспекта труда, ибо оба они как-то учитываются и
измеряются в хозяйствовании, когда оно подвергается
или подчиняется измерению.
Если труд есть в одно и то же время творение и
уничтожение, «производство» и трата, то и другая,
полярная труду, категория, потребление, отмечена той
же печатью неизбежной двойственности:
Потребление поглощает или уничтожает блага, —
потребление-трата.
Потребление творит, создает или воссоздает живое
вещество, — потребление-приобретение.
Если первое соотношение считать хозяйственным
par excellence, а второе физиологическим par excellence,
то можно сказать, что потребление как категория хо-
236
П.Б.Струве
зяйственная и оно же как категория физиологическая
имеет прямо противоположный смысл, в первом
случае — уничтожения или разрушения, во втором —
творения. Словом, между разными аспектами
потребления существует такое же соотношение полярности,
какое мы уже установили для разных аспектов труда.
Но для хозяйствования опять-таки существенны оба
аспекта потребления, ибо они оба как-то учитываются
и измеряются в хозяйствовании, когда оно
подвергается или подчиняется измерению.
В первичном хозяйствовании труд-производство и
труд-усилие-трата, с одной стороны, и потребление-
трата и потребление-приобретение, с другой стороны,
противостоят друг другу, как неизмеримые, и тем
самым, что еще существеннее, несоизмеримые
данности. Они несоизмеримы друг с другом, и даже их
разные аспекты несоизмеримы между собой. Ибо,
хотя количество благ есть как-то функция затрат
труда, оно не есть функция только затрат труда. И
точно так же не существует простой однозначной
зависимости между потреблением как тратой и
потреблением как приобретением живого вещества, или
живой силы.
Можно, конечно, признать, что труд и
потребление, усилия и потребности суть полярные основы хо-'
зяйствования, а все остальное есть лишь узоры и
подробности. Но это верно только в двухмерном плане
первичного хозяйствования, и притом, даже в нем,
труд является хозяйственно существенным фактором,
поскольку количество благ есть функция труда, с
другой стороны, труд есть функция количества благ. Труд
же просто как тягость (toil and trouble Адама Смита)
есть явление внехозяйственное, лишь косвенно
существенное для хозяйства. Точно так же потребление
есть, опять-таки, явление хозяйственное, поскольку
оно является функцией количества благ и количество
благ является его функцией. В своем же
физиологическом составе и психологической характеристике,
потребление есть тоже явление внехозяйственное,
лишь косвенно существенное для хозяйства. Вот
почему хозяйствование может быть мыслимо, в
сущности, лишь при одном условии, необходимом и
достаточном, при скудости благ, или, что то же, их ограни-
Некоторые основные понятия экономической науки Jßl
ченном количестве. Если бы количество благ не
стояло ни в каком соотношении с затратами труда,
хозяйствование бы все-таки существовало или было бы
необходимо — при скудости благ. С другой стороны,
при неограниченном их количестве, потребление как
физиологическая функция и потребности как
психологическое явление не переставали бы существовать,
вытекая из чисто биологических определений
животного организма как такового.
Это означает, что количество благ есть как бы тот
момент, преломляясь через который, все
физиологические и психологические функции человека
получают хозяйственное значение. А потому труд и
потребление, будучи основами хозяйствования и являясь для
него существенными, в то же время некоторыми
своими сторонами как бы выходят за пределы
хозяйствования. В частности, труд, являясь основой
хозяйствования, имеет или получает хозяйственное значение в
первую очередь через функционально зависимое от
затрат труда; во вторую — через необходимое для
осуществления труда, и тем самым его определяющее
количество благ. Вне соотношения, с одной стороны, с
количеством благ, «создаваемых», «производимых»,
«добываемых», «приобретаемых» при помощи труда и
с количеством благ, трудом «поглощаемых»,
«потребляемых», «затрачиваемых», труд, оставаясь весьма
важным человеческим отправлением, хозяйственно
безразличен или несущественен. Вот почему труд,
являясь основой хозяйствования, не определяет собой
ни его двухмерного, ни трехмерного плана, и трудом
и его затратами непосредственно нельзя измерять, и
не измеряется никакое хозяйствование. Как это ни
может показаться странным на первый взгляд, но
трудом могло бы измеряться хозяйствование лишь в том
случае, если бы оно не было вовсе подчинено факту
или началу скудости. При неограниченном количестве
благ в распоряжении человека возможны два случая:
либо потребление превращается в простую
ассимиляцию материала из окружающей среды, подобную,
напр<имер>, дыханию, либо потребление, становясь
единственным видом нужного для человека усилия
или труда, мерою этого специфического усилия-труда,
определяет хозяйствование как таковое. '· При таком
238
П.Б.Струве
предположении, средств удовлетворения потребностей
или благ имеется сколько угодно, и вся забота должна
направляться на целесообразный захват или
рациональное потребление этих даровых благ.
Захват-потребление тут превращается в единственную
хозяйственную функцию, и так как эта хозяйственная
функция не может не быть в то же время известного рода
усилием или трудом, то в этих условиях труд
оказывается единственной функцией, имеющей
непосредственное хозяйственное значение, а затраты труда —
единственным регулятором или мерилом
хозяйствования. Это, конечно, есть прдельный случай, или
предельное представление, которому не соответствует
никакая реальность, но весьма полезно продумать это
предельное представление. В условиях же скудости
благ труд, наоборот, непосредственного
хозяйственного значения иметь не может, его выражением, или
экспонентом является количество средств для
удовлетворения потребностей или, что то же, количество
благ. Это верно и для первичного, и для вторичного
хозяйствования. И там и тут, при условии скудости
благ, принятие труда или его затрат за регулятор
хозяйствования есть всегда искусственная
рационализация хозяйственной жизни. Ибо, при скудости благ,
хозяйственно существенный момент, количество благ,
не может быть функцией только труда или его затрат,
не говоря уже о том, что затраты труда, по существу,
не могут находиться ни в каком однозначном
соотношении с качественным многообразием потребностей.
Труд хозяйственно существенен в его соотношении
именно с этим качественным многообразием
потребностей, а такое соотношение устраняет возможность
непосредственного измерения труда. Непосредственно
измерять труд можно лишь как физиологическую
функцию. Как экономическая же функция, труд
качественно многообразен, и его разные проявления или
обнаружения непосредственно неизмеримы и
несоизмеримы. Все это заложено в самом существе труда, о
которое разбиваются все попытки, как
практические — на начале труда построить рационализацию
хозяйственной жизни, так и теоретические — положить
это начало в основу истолкования явлений
взаимодействия хозяйств. Затраты труда не могут быть «ис-
Некоторые основные понятия экономической науки 239
кусственным» мерилом или способом измерения
хозяйственных вещей и действий, и они не являются
таким «естественным» мерилом, которое создавалось
бы и давалось бы хозяйствующим субъектам в самом
процессе их взаимодействия.
Но мы знаем, что свободно-возмездное
взаимодействие между хозяйствами создает и дает для них
какое-то особое естественное измерение всех их
хозяйственных отправлений. Этому измерению блага
подвергаются, становясь, реально или мысленно,
предметами обмена. В силу этого хозяйствование
может быть охарактеризовано как приобретение, или
добывание и использование измеримых особым
образом благ, которые в силу этого измерения и
измеримости и становятся благами хозяйственными. Когда
мы отдаем известное количество одних благ за
известное количество других благ, мы устанавливаем
определенное меновое отношение между этими благами,
или их цену, мы измеряем одно благо другим, мы
оцениваем эти блага.
Есть два необхоимые условия и обмена, и
вытекающего из него, в нем осуществляющегося, измерения
или ценения благ. Условия эти могут быть выражены
в двух противоположных, но соотносительных
характеристиках: скудость и избыток. Прямой обмен, о
котором мы пока говорим, состоит в приобретении
нужного за избыточное или ненужное. Общим условием
вообще всякого обмена и всякого хозяйственного
ценения является, таким образом, скудость
хозяйственных благ; специальным условием каждого данного
акта обмена является относительная избыточность и
субъективная ненужность определенного блага для того,
кто отдает его в обмене за другое, ему нужное.
Скудость благ, приобретение (добывание) и
использование которых составляет хозяйствование, есть
основное условие, под действием которого протекает
и совершается хозяйствование. Благом вообще, или
полезностью вообще, мы называем все то, что служит
удовлетворению потребности. Определение
потребности в политической экономии ненужно и
невозможно. Необходимо только подчеркнуть, что
потребности приобретают хозяйственное значение
исключительно по способу и характеру своего удовлетворения,
240
П.Б.Струве
а именно, поскольку они удовлетворяются при
помощи хозяйственных благ. Хозяйственными же благами
называются блага, имеющиеся в практически
ограниченном количестве и потому оцениваемые, даже в их
наименьших, могущих еще служить для
удовлетворения потребностей, долях. Именно то, что такие
минимальные доли оцениваются, отличает блага
хозяйственные от благ свободных или даровых. Последние
доступны людям в каком угодно количестве и потому
их минимальные (в указанном смысле) доли не
оцениваются. При этом, при полной неоцениваемости,
или бесценности отдельных долей, целый запас
свободных или даровых благ может иметь огромное
значение и ценность, и его утрата — означать огромную
ценностную потерю. Свободные блага часто предстоят
нам в таких больших массах, которые, как целые,
весьма ценны, но как доли лишены всякой ценности.
Часто мы предполагаем прямо обратное
соотношение, но это только видимость. Так, целая река или
целое озеро представляется нам даровым благом,
тогда как каждому ведру проведенной из реки или
озера воды как-то, кем-то ведется учет и оно как-то
кем-то оплачивается. Но ведро проведенной воды
оценивается нами не просто как вода, а как
проведенная вода, в силу своей практической доступности —
оценивается именно эта доступность, или, еще проще,
услуги водоропровода. Когда же мы имеем перед
собой непосредственно водную массу реки или озера,
такая масса имеет огромную ценность и, если бы она
не была extra commercium, она была бы, вероятно,
оцениваема очень дорого, тогда как отдельное ведро
из нее может ни во что не оцениваться. Этот
экономический факт определяется не только тем, что
ценность единицы из неограниченного фонда даровых
благ стремится в пределе к нулю, тогда как весь этот
фонд не есть вовсе сумма нулей. Дело и в том, что
всякий цельный фонд даровых благ есть не простая
сумма своих частиц, но и некоторое целое,
оцениваемое само по себе. Целый фонд даровых благ может
быть благом хозяйственным — так можно
формулировать этот экономический парадокс, в котором весьма
наглядно выражается значительная условность самого
понятия «свободное благо». Свободных, или даровых
Некоторые основные понятия экономической науки 241
благ в природе вообще гораздо меньше, чем принято
думать. Необходимо различать между «даровыми
благами» и общими условиями существования людей,
каков, напр<имер>, воздух. Для «даровых благ»
существенно не просто неограниченное их количество, а
степень их доступности для людей в данное время, в
данном месте. Воздух есть условие существования
людей всегда и везде. Вода есть, с космической точки
зрения, такое же абсолютное условие существования
людей, но вода в определенных местах и в
определенные моменты, в некоторых пределах, есть, кроме того,
даровое благо. Кислород же, хотя в природе имеется
его столь же неограниченное количество, как и
воздуха, есть всегда, довольно трудно добываемое, и
потому дорогое хозяйственное благо.
Даровых благ потому так мало, что средства
удовлетворения потребностей, как бы они ни были
обильны, почти никогда не получаются без некоторых
усилий, т.е. без труда. Усилия человека есть особое, едва
ли не важнейшее, хозяйственное благо, служащее,
прямо или косвенно, для удовлетворения
потребностей. Принципиально, с экономической точки зрения,
проявления труда суть такие же хозяйственные блага,
как и все другие. Хозяйственные блага распадаются
на два главных вида: на вещи и на услуги. Главным
видом услуг являются услуги человеческих существ,
сводящиеся к их усилиям или труду. И в первичном
(и во вторичном) хозяйствовании хозяйственными
благами являются все средства хозяйствования,
поскольку они, так или иначе, но скудно отмерены.
Таким образом, все средства удовлетворения
потребностей, отмеченные печатью относительной скудости,
мы называем хозяйственными благами. Из факта и
начала скудости вытекает необходимость учета
хозяйственных благ и то свойство их, которое можно
назвать учитываемостью (Rechenhaftigkeit). Учет и
учитываемое^ требуют и означают измерение и
измеримость.
Мы уже установили, что измерение хозяйственных
благ в первичном хозяйствовании есть всегда
измерение «искусственное» в нашем точном смысле этого
слова. Ибо, если учет «ориентируется» непосредствен-
242
П.Б.Струве
но на потребностях и потреблении, он не может не
носить в высокой степени субъективного характера.
Этот субъективный характер может быть устранен
только какой-то условной, привнесенной или
привносимой в хозяйствование, объединяющей нормой. С
другой стороны, арифметическое счисление или
геометрическое измерение хозяйственных благ, будучи
весьма важным для хозяйственного учета и
измерения, сами по себе не составляют такового и свое
хозяйственное значение обнаруживают лишь в
комбинации с измерением, специфически хозяйственным. В
этом заключается проблема, так наз<ываемого>,
натурального учета, являющаяся центральной
экономической проблемой социализма1 — жизненный смысл
нашего различения между первичным и вторичным
хозяйствованием и заключается, между прочим, в
окончательном теоретическом осознании самого понятия
социализма.
Во вторичном хозяйствовании мы имеем
совершенно иное положение. Тут хозяйственные блага, в
процессе «рыночного оборота», подвергаются
естественному измерению. Тут измерение и измеримость
хозяйственных благ осуществляются через явление и
категорию цены. С точки зрения вторичного
хозяйствования, на всем хозяйственном лежит клеймо цены.
Хозяйственные блага суть тут блага в ценах, или
ценностно учитываемые2. Черта, отделяющая
экономическое от неэкономического, проходит именно здесь:
цена, в точном смысле слова, есть как бы то
экономическое клеймо, которое придает особливый
характер всему, что становится предметом хозяйствования.
При этом экономическое клеймо цены может быть по-
1 Ср. Мах Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. I. Tübingen, 1921,
SS. 53—58. У Вебера отсутствует наше различение первичного и
вторичного хозяйствования, и, при всей своей
проницательности, он не понимает, что социологически основным является
различение не натурального и денежного учета, а
искусственного и естественного в вышеустановленном условном смысле.
2 Об измерении ценою говорит Ювенал в IX сатире, бичующей
некоторые, самые отвратительные формы римского продажного
разврата: Quanto metiris pretio, quod, ni tibi deditus essem devo-
tusque cliens, uxor tua virgo maneret? (ст. 70—72).
Некоторые основные понятия экономической науки 243
ставлено решительно на все. Все может получить
«цену», другими словами, все может стать
«продажным»1. Это мы видим на проституции. В проституции
цену получают интимнейшие для современного
сознания проявления половой жизни. И цена превращает
эти проявления в особое хозяйственное благо.
Наложением клейма цены-продажности на то, что
обычно не продается, совершается известная
морально-общественная деградация данного проявления
жизни. В этом отношении совершенно особое место
для современного культурного сознания занимает
половая жизнь. В отличие от других и притом гораздо
более духовных «деятельностей», она признается
нашим сознанием совершенно невынуждаемой и
абсолютно непродажной: цены в экономическом смысле
иметь не может и потому продажной быть не должна
не только самая глубинная основа половой жизни, ее
внутренние пружины и мотивы, но и отдельные
проявления этой жизни. Отсюда моральная
неприемлемость не только проституции, но и брака по голому
хозяйственному расчету2.
Великий русский поэт Пушкин устами
книгопродавца, предлагающего поэту самому назначить цену
его поэме, в словах: «Не продается вдохновение, но
можно рукопись продать», с классической
выразительностью дал характеристику хозяйственного
момента даже и в самых духовных проявлениях
человеческой жизни и вскрыл связь этого момента с
категориями денег и цены.
Клеймо цены объединяет в понятии блага
«предметы внешнего мира»3, «вещные средства
удовлетворения»4 и «услуги»5, в качестве «выражения телесных
1 Знаменитое изречение Ювенала: «В Риме все продажно» в
оригинале гласит так: Omnia Romae cum pretio, III сатира, 183—
184.
2 Ср. блестящие рассуждения Зыммеля «О проституции и
деньгах» в его Philosophie des Geldes. Leipzig, 1909. SS. 390—401, где
развивается тезис, что «в сути денег есть нечто от проституции».
3 Gegenstände der Aussenwelt. Philippovich, Grundriss der
politischen Oekonomie. I B. 16 Aufl. Tübingen, 1921. S. 34.
4 Sachliche Befreidigungsmittel. Там же. S. 34.
5 Dienstleistungen. Там же. S. 36.
244
П.Б.Струве
или духовных сил человеческой личности»1. Тут
обнаруживается, при ближайшем рассмотрении, что
«вещный» характер предметов внешнего мира, именно с
точки зрения экономической, имеет весьма
условный характер, сближающий «вещи» или «предметы» с
«услугами». Когда мы покупаем функт сахара, мы в
нем оплачиваем «предмет», к которому прикрепился
целый ряд «услуг», кончая услугой торговца,
взвесившего для нас и положившего в мешок требуемое нами
количество сахара. Часто мы приобретаем не «вещи», а
«услуги», оказываемые вещью. Так бывает, когда мы
нанимаем квартиру или берем напрокат мебель или
велосипед.
С другой стороны, животные, как «рабочий» скот
или как агенты спорта, дают человеку только услуги,
являясь их носителями.
Экономическая разница между людьми и
животными есть в то же время разница моральная и
юридическая. Странно ее игнорировать, но за ней не
следует все-таки забывать, что экономическая полезность
человека, рассматриваемого как орудие
хозяйственного процесса, ничем не отличается от полезности
лошади: и лощадь и человек дают Leistungen.
Если лошадь есть «вещное средство»
удовлетворения, а человек не является таковым, то только
потому, что лошадь дозволено нравами и законом отчуж-
дить другому лицу, которое становится ее владельцем,
или даже продать на... живодерню, а с человеком
этого сделать нельзя.
Человек, как «рабочая сила», потому не может
быть рассматриваем как «благо», что он никогда ни
«приобретается», ни «отчуждается» там, где нет
рабства. Услуги же человека приобретаются и
отчуждаются совершенно так же, как «вещи» и как «услуги»
вещей.
Можно отвлеченно себе представить такое
положение дел, при котором все «предметы»
непосредственного потребления будут в состоянии, готовом для
потребления (genussfertiger Zustand), находиться в неог-
1 Ausfluss körperlicher und geistiger Kräfte der menschlichen
Persönlichkeit. Там же. S. 36.
Некоторые основные понятия экономической науки 245
раниченном количестве, т.е. будут представлять из
себя «свободные» или «даровые» блага. Тогда весь
экономический оборот сведется к приобретению и
отчуждению услуг людей. Тогда, если не исчезнет
необходимость в вещном праве, то значительно
сузится область его; сузится также область
обязательственного права, но и то и другое сохранится, потому
что люди не перестанут нуждаться в услугах других
людей.
В реальном мире «вещи» принципиально
экономически не отличаются от «услуг», как хозяйственные
блага. Отличаются один от другого разные источники
(или «факторы») хозяйственных благ: вещные и
личные. Но различие их тоже относительное: юридически
оно выражается в том, что вещного права на человека
современный оборот не знает. И можно сказать, что
различие между хозяйственными «благами» и их
«источниками» столь же относительно, как и различие
между «вещью» и «услугой». Поэтому теоретически
совершенно прав Менгер, когда он располагает все
«блага» в иерархическом порядке и выстраивает в
ряду благ все источники благ. «Источники благ» так
же разлагаются экономически на «блага», как «вещи»
разлагаются на «услуги». Или иначе можно сказать:
«услуги», т.е. «блага», суммируются в «источники благ».
И если услуги человека не суммируются в человека-
вещь, то, опять-таки, только потому, что рабства
современный гражданский оборот не знает и лишь
постольку, поскольку система свободного труда не
приближается к рабству.
Измерение благ ценою или, что то же, в свободно-
возмездном обмене, есть совершенно особый вид или
случай измерения, непохожий на другие. В других
случаях измерения, мера, в известном смысле,
находится вне измеряемых предметов и от них
независима. Она «постоянна». Это есть «константа». Таковы
меры длины, веса, температуры. Это — технические
измерения, состоящие в привнесении какого-то
мерила извне, мерила внеположного и совершенно
объективного. Экономическое измерение не внеположно
или внешне измеряемым предметам. В то же время
оно не «субъективно» в том смысле, что оно не про-
246
П.Б.Струве
сто различно для разных хозяйствующих людей. Оно
внутриположно и в то же время своеобразно
объективно в том смысле, что признается и принимается к
руководству неопределенным множеством
хозяйствующих людей зараз, т.е. имеет известную устойчивость
в пространстве и во времени1.
Поскольку сталкиваются люди с разными
хозяйственными благами и между ними происходят
изолированные и диспаратные акты свободно-возмездного
обмена одних благ на другие, рынок не существует или
существует только как место, на котором сходятся,
соприкасаются и расходятся разные хозяйствующие
субъекты. Измерение происходит только для каждой
обменивающейся пары. В этом случае:
3 арш. сукна = 2 кадкам масла;
3 седла = 1 телеге;
15 баранов = 1 корове;
2 лопаты = 1 веретену и т.д., и т.д.,
т.е. ни в одном акте никакое благо ни разу не
повторяется. Тут рынок есть действительно только место.
Но дело может обстоять и иначе. Может в ряде актов
обмена повторяться несколько раз одно и то же благо;
далее, оно может повторяться в большинстве этих
актов и, наконец, во всех. Пусть установятся такие
соотношения:
3 арш. сукна = 2 кадкам масла;
5 арш. сукна = 1 седлу;
15 арш. сукна = 1 телеге;
25 арш. сукна = 1 корове.
Рядом с этим 1 корова может приравниваться 15
лопатам, 100 свечей, 10 кадкам масла и т.д. На этом
рынке уже все блага могут быть выражены в сукне.
Сукно тут будет деньгами, и ценой блага на таком
1 Характеристике акта обмена, которым осуществляется
хозяйственное измерение и который сам в то же время создает это
измерение, посвящена мною статья: «Первичность и
своеобразие обмена» в № 3 «Экономического Вестника». Содержание
этой статьи тоже войдет в мои «Основы политической
экономии».
Некоторые основные понятия экономической науки 247
рынке мы назовем «эквивалент» данного блага в
сукне. До появления денег может существовать только
разрозненное измерение благ и нет еще их всеобщей
сравнимости и обратимости. Только деньги создают
ее. Только они, поэтому, создают подлинное
ценностное измерение благ. Тот «механизм», который
непрерывно производит это внутриположное и, в то же
время, объективное измерение, есть рынок. Рынок, в
экономическом смысле, как мы уже указывали, есть
не топографическое понятие, не место — хотя он
может быть приурочен к месту; рынок не есть
понятие юридическое, не есть ни учреждение, ни
правопорядок — хотя он может иметь свои органы и свои
правила или нормы. Рынок есть система реальных и
возможных, осуществляемых и предполагаемых актов
обмена, которыми производится измерение и
непрерывно поддерживается измеримость хозяйственных
благ. Для бытия рынка существенно то, что он для
множества хозяйствующих субъектов, на нем
выступающих, с большими или меньшими трениями и
приближениями, вырабатывает единую цену. Цена эта
весьма подвижна во времени. Она не абсолютно
едина даже в данный момент на всем рынке. Вернее,
на рынке может быть единовременно несколько цен.
Но на рынке есть всегда некая, более или менее
осуществляющаяся, тенденция к единой цене. В смысле
этой тенденции действует присущий рынку характер
публичности — он обусловливает собой известность
цен спрашиваемых, предлагаемых и реализуемых.
Публичность рынка и известность цен предлагаемых,
спрашиваемых и реализуемых может как-то быть
возведена, оформлена в норму рынка. Но такая норма и
без всякого оформления вытекает из некоей
«естественной» публичности рынка для продавцов и
покупателей. Идеальный рынок — это такое «экономическое
место», в котором, для данного момента времени и
для данной категории тождественных благ или
товаров, вырабатывается единая цена, по которой
совершаются все сделки.
Таким образом, та связь между людьми, которую
можно назвать рынком, слагается из двух моментов,
проходит как бы две стадии и имеет как бы два обли-
248
П.Б.Струве
ка. Первоначально устанавливается связь между
хозяйствующими субъектами и их благами через
выделение — в лице самого ходкого блага — некоего
объективного и социального, но внутриположного
мерила — денег. И затем, уже при помощи общей связи
денег устанавливаются отдельные связи, смысл
которых для каждой однородной группы благ —
вырабатывать единую цену. Обе эти связи можно назвать
рынком. Первый «рынок» являет связь более общую,
основную и устойчивую, второй — связи отдельные и
вторичные, менее устойчивые (более «лабильные»).
Конкретное историческое соотношение между этими
рынками может быть различное. Но общее их
соотношение из сказанного вполне явствует. Единых цен не
может быть без денег, деньги же суть не что иное, как
вещное выражение той общей функциональной
взаимозависимости, которая стихийно, или органически,
возникает из разрозненных соприкосновений одних
хозяйствующих субъектов с другими. Для этого
необходимым и достаточным условием является, чтобы на
рынке, прямо или косвенно, все блага могли быть
сведены к какому-нибудь одному. Оно и является
деньгами.
Существо денег есть не более, не менее, как так
или иначе и для тех или иных целей
осуществляющаяся постоянная измеримость и обратимость благ,
превращающая их в цены. Во вторичном
хозяйствовании эта измеримость и обратимость благ
осуществляется естественно. В хозяйствовании первичном она
должна быть построена искусственно, поскольку
первичное хозяйствование сочетается с учетом и
измерением. Если хозяйствовать значит — измерять, то
всякое хозяйствование требует установления цен, или
денежного измерения. Поскольку мы мыслим себе
Робинзона хозяйствующим в том смысле, что он не
только трудится и потребляет, потребляет и трудится,
но считает свои хозяйственные средства и ведет им
учет, он бессознательно применяет идею денег,
подводя все свои хозяйственные блага и все свои
хозяйственные действия под один знаменатель. Идея цены
и денег настолько неразрывна с хозяйственной
деятельностью, с хозяйственным процессом, где бы и как
Некоторые основные понятия экономической науки 249
бы он ни протекал, лишь бы в нем содержался
момент учета и измерения, что можно выставить такой
парадокс: цены и деньги присутствуют даже там, где
они отсутствуют. Но только во вторичном
хозяйствовании цены и деньги суть явление естественное и
естественно вытекающее из его «легальных» основ:
собственности, хозяйственного самоопределения
(автономии) и возмездности хозяйственных
действий.
Там, где этих основ или предположений нет, но
хозяйствование все-таки как-то желают подвергнуть и
подвергать учету и измерению, нужно «искусственно»
создавать цены и деньги, и они являются, таким
образом, настоящими «артефактами». Поскольку же
субъекту властвования не удается искусственно
строить цены и творить деньги, а естественное их
построение и творение не допускается властью или законом,
постольку, рядом с легальными артефактами цены и
денег, оборот, или рынок, нелегально создает их
естественные удвоения.
Мы пришли к понятиям рынка, цены и денег,
понятиям, теснейшим образом связанным между собой
и основным, и центральным в одно и то же время для
учения о хозяйствовании как особой системе жизни и
культуры.
Когда возникают денежные цены, ценностное
измерение становится особым специфическим методом
контроля и учета хозяйствования, и последнее
выделяется в качестве особой системы жизни и культуры.
Как это происходит конкретно в истории, нас здесь
не занимает.
Нам существенно подчеркнуть здесь центральное,
основоположное для всей хозяйственной жизни,
значение понятий цены, денег и рынка. Все остальные
понятия хозяйственной жизни как-то сводимы к этим
основным, а поскольку какие-нибудь понятия к ним
несводимы, неизменно обнаруживается их внехозяй-
ственный характер.
Поскольку хозяйствование есть приобретение и
использование средств для удовлетворения
потребностей, ценностно, т.е. в денежной цене измеряемое, его,
250
П.Б.Струве
как функцию или деятельность, можно
охарактеризовать просто словом приобретение.
Приобретение есть общее и верховное понятие
хозяйственной жизни как некой специфической
деятельности или функции.
СТАТЬИ 1917-1938
В ЧЕМ РЕВОЛЮЦИЯ
И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ?
Несколько замечаний
по поводу статьи И.О.Левина
И.О.Левин в своей вышепечатаемой статье
высказал целый ряд верных и метких суждений, на которых
лежит печать правды и мужества, и мне хочется лишь
кое-чем дополнить и исправить его характеристику
плачевных итогов «революции».
Если рассматривать события 1917 года независимо
от всей предшествующей эпохи, то им, конечно,
нельзя дать почетного титула революции. Это
солдатский бунт, «из политики» принятый интеллигенцией
страны за революцию, в надежде превратить бунт в
революцию. Надежда эта не оправдалась, и бунт
превратился не в славную революцию, а в грандиозный и
позорный всероссийский погром.
Но этот всероссийский погром есть, с более
глубокой исторической точки зрения, лишь эпизод в
движении, которое началось не в 1917 г. и не кончится в
этом году. Русская революция ведет свое начало не от
петербургского солдатски-рабочего бунта февраля-
марта 1917 г., постепенно развивашегося во
всероссийский погром, нами переживаемый, и этим
погромом не закончится. Русская революция началась
гораздо раньше. Ее начало, по меньшей мере, следует
отнести к 1902 г. И в 1905—1906 гг. она, на самом
деле, одержала гораздо более крупные победы, чем в
1917 г. И на погроме 8 месяцев, нами пережитых,
русская революция не остановится.
Трагедия, переживаемая Россией, сводится к тому,
что безумие павшей монархии и безрассудство
общественного движения даже в его наиболее умеренных
254
П.Б.Струве
элементах, привели к революционным событиям
внутри страны во время величайшей и тягчайшей
войны, создавшей огромную армию. Ради целей
внешнего бытия государства ему нужна эта большая
армия, революция же превратила ее в бич для
населения и в угрозу самим основам государства. В этом
противоречии бьется и исходит силами великое,
некогда мощное государство, и как оно из него выйдет,
мы еще не знаем. Но из него должен быть найден
выход, и ясно, что именно отыскание этого выхода
составит все дальнейшее содержание русской
революции.
Если это так, то понятно, что переживаемый нами
погромный период начавшейся 15 лет тому назад
революции не может закончиться тем Учредительным
Собранием, созыв которого во время войны был
вынужден угрозами опьяневших «революционеров» и
обезумевших солдат. Ни острые, ни хронические
погромы не врачуются парламентскими речами и
постановлениями.
Революция, в которую вошла Россия в 1902 г.,
состоит в создании одновременно новых политических и
социально-экономических форм быта. Процесс этот
потому протекает так болезненно в России, что все те
элементы, которые должны были активно созидать
новые формы быта, оказались в силу разных причин
исторически несостоятельными в разрешении этой
задачи. Мировая война ускорила выявление революции
и обнаружение ее в погромной форме, но не она ее
породила и не ею определились основные черты
действовавших в революции сил. Война не породила
революции и мир сам по себе отнюдь не приведет к ее
завершению и переходу к новым основам политического и
социально-экономического бытия России. Это
необходимо осознать до конца, дабы не предаваться иллюзиям
относительно значения таких событий, как созыв
Учредительного Собрания и даже заключение мира.
Я установил первый парадокс того положения,
которые мы переживаем.
России нужна для окончания войны, как внешней,
так и гражданской, большая вооруженная сила в
руках твердой государственной власти, а армия в силу
целого ряда причин, заложенных в ходе революции,
В чем революция и контрреволюция ? 255
превратилась в организованное погромное бесчинство
вооруженных людей, руководимых преступниками и
безумцами.
Но в тех событиях, через которые проходит
Россия, заключается другой еще более глубокий
парадокс. У революции, начавшейся в 1902 году, были два
достижения, бесспорные и чреватые огромными
культурными последствиями для России. Это, с одной
стороны, зачатки конституционного строя, в форме
народного представительства и свободной печати, с
другой стороны, зачатки народной земельной
собственности, созданные аграрной реформой Столыпина.
Революция в той стадии, которую мы переживаем, в
стадии вдохновляемого «социалистическими»
лозунгами бунта рабочих и крестьян, направляется против
зародышей русской конституции, — ибо что же такое в
политическом отношении есть большевизм и разный
полубольшевизм, как не борьба с конституционными
преобразованиями России, начатыми в первое
десятилетие XX века?! И в то же время весь этот якобы
«социалистический» бунт есть сплошное отрицание
собственности и правопорядка, основанного на
признании и ограждении собственности. А между тем эта
революция, как революция, ничем другим не движется,
как стремлением к собственности: она является как
бы грандиозными народными судорогами, в которых
должен родиться в России режим, основанный на
личной собственности (прежде всего земельной)
широких народных масс и на внедрении в их психику
собственнических тенденций и вкусов. В Совете
Республики я собирался сказать нашим
социалистам-революционерам, что их боевой клич: «в борьбе
обретешь ты право свое» история и русское крестьянство
переделают по-своему, сделав к нему лишь
небольшое, но довольно существенное, дополнение: «В
борьбе обретешь ты право собственности своей».
Да, не просто литературная фраза утверждение, что
переживаемая нами (с 1902 г.) революция есть
революция буржуазная. Но эта характеристика имеет вовсе не
тот смысл, что блага революции достанутся так
называемой «буржуазии» и в ее интересах будет
осуществлен буржуазный строй. Революция эта буржуазная
потому, что, вопреки всем социалистическим кличам и
256
П.Б.Струве
лозунгам, под шум этих лозунгов народные массы
всем своим поведением идут к утверждению в своей
жизни буржуазных начал, и прежде всего — начала
личной земельной собственности. Ибо допустим, что
помещичья собственность совершенно исчезнет. Тогда-
то именно станет ясно, что весь русский аграрный
социализм есть лишь интеллигентские бредни, в костюм
которых обреклось стремление к буржуазному
стяжанию экономически наиболее сильных и цепких
крестьянских элементов. И даже несмотря на весь
большевистский разгром русского народного хозяйства, эта
мнимо-социалистическая волна крестьянского и
рабочего стяжания, сколько она создаст все-таки именно в
народной массе буржуазных существований и
интересов, которые, когда «социалистический» угар пройдет,
явятся оплотом собственности и основанного на ее
признании и ограждении порядка! Сейчас
«социалистическая» волна погромного характера кажется
революцией, но на самом деле революцией является не
она, а идущее под ней мощное течение буржуазного
стяжания, которое неминуемо вступит с ней в борьбу.
И тогда социалистическая волна обнаружится как то,
чем она является на самом деле, как отвратительный
погромный костюм, в который временно облекся
процесс созидания новой народно-буржуазной России. И
этот могущественный процесс создания буржуазного
собственнического сознания в широких народных
массах окончательно отметет уродующий его погромно-
социалистический костюм. Рядом с этим
интеллигенция в своем сознании окончательно преодолеет
социализм, как антигосударственную и антикультурную в
современных русских условиях погромную идеологию,
контрреволюционную по своему существу.
Если, таким образом, переживаемая Россией
революция является и не может не являться революцией
буржуазной в глубочайшем смысле этого слова, то
отсюда непререкаемо вытекает вывод: русский
социализм в его борьбе с буржуазией и буржуазным
порядком по существу контрреволюционен и должен в
историческом процессе развития самих широких
народных масс России быть преодолен и сметен. Для
всякого социолога, прошедшего эволюционную и в
частности, и в особенности марксистскую школу, это не
В чем революция и контрреволюция ? 257
может не быть ясно. Процесс преодоления в русской
революции контрреволюционной стихии социализма
будет, конечно, весьма сложным и болезненным. Но
он неотвратим и вообще, и в своей болезненности
тоже неизбежен, и нужно, чтобы русская
интеллигенция уже теперь ясно осознала это. Ибо только ясным
познанием социологического существа того пути, по
которому пойдет и не может не пойти Россия, пути
создания общечеловеческой культуры в буржуазных
формах, русская интеллигенция сможет искупить
свой, может быть, невольный, но огромный грех,
который состоял в том, что она в одной части активно,
своей пропагандой социализма, в другой части
пассивно, своим попустительством этой пропаганде,
привила общественно-политической борьбе русского
народа за освобождение погромный яд. Эта же прививка
так расшатала вековую и могучую постройку русского
государства, что она грозит обрушиться и в своем
крушении раздавить и изуродовать русскую культуру.
Я знаю, что принято во всех переживаемых нами
бедах винить либо старый порядок и старую власть,
либо большевиков. Я последний склонен оправдывать
старую власть, которая, ради сохранения своих
отживших прерогатив, преступно задерживала культурное и
политическое развитие нации. Мое отношение к
большевикам тоже достаточно известно. Но если
всероссийский погром 1917 г. угодно называть русской
революцией, то я скажу прямо: главным
преступлением старой власти является именно то, что она
подготовила эту революцию и сделала ее неизбежной.
Справедливость, однако, требует прибавить: в этом
преступлении соучаствовала вся прогрессивная
русская интеллигенция тем безразборчивым и
безрассудным характером, который она придала своей борьбе со
старым порядком, в частности после событий 1905 г.
Все это объясняет, почему в революции, в самом
ядре ее, гнездилась зараза контрреволюции, которая
до последнего своего издыхания будет кичиться
наименованием революции. Под каким наименованием
погромная зараза будет раздавлена, совершенно не
важно. Раздавлена же и выжжена из русской жизни
она должна быть во что бы то ни стало.
Петроград, 23 ноября 1917 г.
5:
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
I. После мировой войны1
Мировая война формально закончилась с
заключением перемирия между англо-французско-итальяно-
американской коалицией и коалицией германской в
ноябре прошлого года. Однако на самом деле все, что
мы пережили и переживаем с тех пор, есть
продолжение и видоизменение мировой войны. Поэтому нам
следует уяснить себе прежде всего смысл мировой
войны, как события международной жизни, как акта
международного состязания.
Мировая война была начата Германией и вытекла
из ее стремления к мировому владычеству. В
настоящее время это — не субъективное мнение,
определяемое симпатиями того или другого лица, а
непреложная историческая истина, удостоверяемая не только
ходом событий, предшествовавших начатию войны,
но, что гораздо важнее, ходом самой войны. Сейчас,
когда трагический исход войны для Германии ясен,
можно видеть, что если бы Германия не стремилась к
полной победе, т.е. к мировому владычеству, она
могла и должна была бы сама гораздо раньше
прервать войну. Но она желала полной победы и верила
в нее именно потому, что целью этой наступательной
войны для нее было мировое владычество,
опирающееся на превосходство военной силы. В основе
войны со стороны Германии была недостижимая уто-
1 Публичная лекция, прочитанная в ноябре 1919 г. в Ростове-
на-Дону и воспроизводимая здесь почти без изменений.
Размышления о русской революции 259
пическая цель, цель именно прежде всего
политически недостижимая. Она оказалась в военном
отношении недостигнутой и недостижимой, потому что она
была политически в широчайшем смысле, т.е. и
политически-психологически, и
материально-экономически, недостижимой.
В самом начале Германия из
военно-стратегических соображений совершила роковую для себя
ошибку: нарушение бельгийского нейтралитета. Этот факт
повлек за собою немедленное вступление в войну
Англии и тем сделал невозможным быстрое
сокрушение Франции. Есть неопровержимые доказательства
того, что германское правительство, начиная войну,
рассчитывало, что Англия не сейчас вступится в нее.
В силу вступления Англии в войну Германия
очутилась одновременно лицом к лицу с Англией и
Россией.
Против кого была направлена война Германии? И
сейчас, после исхода войны, осложненного русской
революцией, события, в значительной мере
задуманного и осуществленного Германией, и до революции в
широких русских общественных кругах держался и
держится взгляд, что мировая война была состязанием
между Германией и Англией, подобно тому, как
наполеоновские войны были состязанием между Францией
и Англией, хотя Россия играла видную и, казалось
бы, решающую роль в наполеоновских войнах. По
результатам это в значительной мере так. Хотя в
мировой войне побежденными оказываются Германия и
Россия, первая — на поле сражения и в
экономическом состязании, вторая — вследствие
самоубийственного акта своего — революции, намерением и
заданием Германии при начатии войны было сокрушить
Россию и тем самым безраздельно утвердить свое
владычество на континенте Европы, что своим
последствием, конечно, имело бы и мировое владычество
Германии. Поэтому, не формально и не случайно, а по
существу и по заданию Германия войну направляла
против России, Германия поставила ставку на
сокрушение России.
Это обнаружилось и в ходе самой войны. Когда
русская революция, подстроенная и задуманная
Германией, удалась, Россия по существу вышла из
260
П.Б.Струве
войны. Чем же занялась Германия? Расчленением^ т.е.
разрушением России. Политика Германии имела в
виду реализовать этот результат как главнейший и
совершенно несомненный плод войны. Так смотрели на
дело и те, кто рассчитывал одержать полную победу в
войне против западных держав, и те, кто на такую
победу не рассчитывал. Как известно, творец и главный
деятель Брест-Литовского мира с германской
стороны, статс-секретарь фон Кюльман не верил в
возможность полной победы Германии на полях сражения, и
за то, что он публично и как официальное лицо
высказал это мнение, он, по настоянию высшей
военной власти, должен был подать в отставку. Но он же
провел расчленение России по Брест-Литовскому
миру, и против этого германская высшая военная
власть и не думала ни бороться, ни даже
протестовать. А это и значит, что для Германии первой и
основной целью войны, которая началась с объявления
войны России было сокрушение и разрушение
России, как великой державы, в ее историческом образе
и в ее исторической мощи. Когда после войны 1870-
1871 года знаменитый французский политический
деятель и историк революции и Наполеона, потом
первый президент французской республики, Тьер,
объезжая разные дворы с целью отыскания поддержки у
других европейских держав, встретился, если не
ошибаюсь, в Вене с знаменитым немецким историком
Ранке, с которым он был связан узами личной
дружбы, и спросил Ранке: с кем после свержения
Наполеона III Германия ведет войну? — Ранке отвечал: с
Людовиком XIV. Этот ответ для того, кто знает
историю Европы, ясен. Смысл его заключается в том, что
Эльзас был присоединен к Франции Людовиком XIV,
и Германия в последней трети XIX века вела войну с
Францией за отторжение Эльзаса от Франции.
Германия в 1914 г. начала войну против России и
вела ее против Ивана Грозного и Петра Великого, т.е.
вела ее с целью сокрушения и расчленения России.
Не только бесполезно, но страшно вредно для
наших союзников в войне и для наших противников
в ней затемнять этот основной ее смысл. Германия
проиграла не только мировую войну, но и свое
собственное могущество потому, что она, поставив себе эту
Размышления о русской революции 261
задачу, абсолютно неприемлемую для России, для ее
государственных сил, одновременно с тем желала
вести и довести до конца свою войну с западными
державами. Может быть, Германия могла бы
сокрушить Россию, если бы она сумела вовремя покончить
войну с западными державами. Может быть,
Германия смогла бы победить западные державы, если бы
она сумела найти компромисс с государственными
силами России, а не поставила бы себе задачей во что
бы то ни стало при помощи большевизма расчленить
Россию. Об этом можно много фантазировать, но это,
на мой взгляд, совершенно бесплодно. Факт остается
на лицо. Германия стремилась в этой войне к
сокрушению и расчленению России.
В декабре 1918 года я попал из советской России
на Запад, сперва в Финляндию, а потом через
Скандинавию в Англию и Францию. Что меня всего более
поразило тогда на союзническом Западе, это — та
быстрота и легкость, с какою общественное мнение
союзных с нами стран усвоило себе ту точку зрения на
Россию, для которой я не нахожу другого более
правильного названия, как точка зрения
«Брест-Литовская». Рядом с этим у западноевропейских
правительств в то время не было никакой определенной
точки зрения на Россию и никакой политики по
отношению к ней. Союзники были очень плохо
осведомлены о России, в общем удивительно незнакомы
как с ее прошлым, так и с ее настоящим. Это
относится как к правительствам, так и к общественному
мнению. Что же касается общественного мнения в
особенности, то в нем замечались, конечно,
различные оттенки как непонимания и незнания России,
так и враждебности к ней. В этой враждебности
отчасти виноваты мы сами. Мы слишком безоглядно
критиковали и порочили перед иностранцами свою
страну. Мы более, чем недостаточно бережно,
относились к ее достоинству, ее историческому прошлому.
Помимо этого, надо принять во внимание и
следующее. Историческая Россия, т.е. Единая и Великая
Россия, в разные исторические эпохи приходила в
столкновение с теми двумя главными великими
державами Европы, в союзе с которыми мы вели войну
против Германии, пока вели ее. В XIX веке мы имели
262
П.Б.Струве
дважды военные столкновения с Францией и
однажды с Англией. Эти прошлые столкновения, часто
весьма свежие, как соперничество Англии и России
на Востоке, все-таки оставили некоторый след в
общественном сознании западных стран. Не надо
забывать также, что в прошлом, в эпохи, когда ни
Франция, ни Англия не были нашими союзницами, нас
разделял «польский вопрос», являвшийся тяжким
наследием всей многовековой русской истории. В
«польском вопросе» западноевропейское
общественное мнение было всегда против исторической России.
Это, конечно, оставило свой след. Всю огромную
историческую сложность польского вопроса для России,
понятную для нас, знающих свою историю, на
союзном Западе почти никто никогда не понимал и не
понимает. Наконец — и это самое важное — Россия как
Великая держава, созданная всем русским народом,
отождествлялась с известной политической формой и
даже уже, с известным политическим строем, с
неограниченной монархией, с тем, что принято называть
на Западе французским термином «царизм».
Исконная враждебность западных демократических
элементов против «царизма» очень легко и быстро, с
крушением и разрушением Российского Государства
перенеслась на Россию как Великую Державу. Эти круги
рассуждали так: падение России есть падение
царизма, и принимали этот факт за положительный. Мы,
русские, многие, по крайней мере, рассуждали прямо
обратно. Поскольку крушение монархии для русских
означало крушение и самой России, многие
образованные русские, не бывшие монархистами, стали
монархистами из русского патриотизма. И, конечно, с
точки зрения русского патриотизма это было
единственное правильное рассуждение. Но не так
рассуждали иностранцы; многие из них прямо заключили, что
раз пал не одобряемый ими «царизм», то, значит,
пала и Россия. Этому содействовали те инородческие
элементы, которые якобы боролись за русскую
революцию, но когда эта революция разрушила Россию,
весьма быстро и развязно отвернулись от России, став
самыми ярыми проповедниками или, если угодно,
самыми усердными коммивояжерами германской идеи
расчленения России, положенной в основу брест-ли-
Размышления о русской революции 263
товского мира. Все хорошо знают имена этих борцов
за русскую революцию, которые, став деятелями
расчленения России, тем сильнее обличили
историческую сущность самой революции.
С другой стороны, пока продолжалась война, еще
не вскрылись внутренние противоречия между фактом
войны, ее подлинными государственными и
национальными мотивами для разных стран, и той
идеологией, которая была создана в процессе войны, как
психологическая к ней приправа, как своего рода
«допинг». Запад сам страждет этим противоречием,
заключенным в мировой войне. Мировая война была
коалицией великих и малых держав против Германии
и ее замыслов мирового владычества, но по мере того,
как затягивалась война и в нее вовлекались все
большие и большие массы, от которых требовались все
большие и большие жертвы, выдвигалась особая
демократическая идеология, в силу которой Германия,
несмотря на ее демократическое избирательное право,
на ее могущественную социалистическую партию,
которая поддерживала правительство в течение всей
войны до ее рокового для Германии исхода, — с ее
сильной монархической властью, была провозглашена
врагом мировой демократии, которая борется за
осуществление своего демократического идеала. Рядом с
этим провозглашен был принцип самоопределения
народностей. Эта демократическая идеология
обратилась против тех государств и народов, которые
оказались побежденными в мировой войне. Версальский
мир с его дополнением есть итог двух тенденций;
он — сложная амальгама национальных стремлений
всех держав-победительниц с «вильсонизмом», с
«Лигой Наций» и вообще с той идеологией войны,
которая, в сущности, создалась после начала войны, и
с национально-государственными стремлениями
держав, начавших войну, имеет мало общего. В
результате все выгодные следствия демократических начал
идут в пользу победителей и их союзников, а все
невыгодные обращаются против побежденных держав и
их союзников. Это нормально, но лишь до известной
степени, лишь поскольку невыгодные следствия
вытекают из неотменимого факта победы в мировой войне
определенной группы держав. Этот реальный факт, а
264 П.Б.Струве
не какая-либо идеология должен определять собою
следствия войны.
Постановка «русского вопроса» на Западе
сложилась под влиянием указанных выше внутренних
противоречий мировой войны. Ее идеология, чуждая ее
национально-государственному существу, в
значительной мере определила собой то, что Россия попала как
бы в разряд побежденных стран. Между тем, если
Россия кем-нибудь и чем-нибудь побеждена, то она
побеждена Германией при помощи русской
революции и поскольку победила в мировой войне не
Германия, а союзники исторической России, трактование
последней как побежденной страны, есть великая и
опасная бессмыслица. Поскольку такое трактование
вытекает из демократической идеологии войны, мы,
русские, как русские, отвергаем эту идеологию и
боремся с ней. Поэтому мы отвергаем чьи-либо
программные притязания, предъявляемые к России, и
иностранную помощь, оказываемую нам в борьбе с
мировым злом большевизма, мы понимаем и
принимаем — не как вмешательство иностранцев в наши
внутренние дела. С нашей точки зрения единственно
правильная постановка «русского вопроса» перед
союзниками такова:
Союзники сами заинтересованы в нашей борьбе с
большевизмом, ибо большевизм есть существенный
эпизод самой мировой войны.
Во-1-х. Создание Германии и германской
пропаганды, признанная Германией разрушительная сила,
большевизм есть мировая опасность, опасность для
всех стран, находившихся с нами в союзе против
Германии. Во-2-х — наши союзники заинтересованы в
восстановлении России, в ее старой мощи, ибо такая
сильная, Единая и Великая Россия есть существенный
элемент мирового равновесия, без которого удержание
важнейших результатов мировой войны и сохранение
мира прямо-таки невозможно.
По-видимому, это обоснование необходимости
поддержки противобольшевистских сил России и
главной силы, той подлинной и коренной
патриотической России, которая родила из себя
Добровольческую Армию, просто логически неотразимо и
политически неопровержимо.
Размышления о русской революции 265
Но если державы-победительницы, наши
союзницы, лишь медленно и постепенно приходили к
пониманию русского вопроса, то это объясняется не
только теми историческими и психологическими
причинами, которых я уже касался. Это объясняется еще тем,
что державы-победительницы сами испытывают
внутренний кризис, который есть следствие войны и
русской революции.
Мировая война недаром имела демократическую
идеологию. Страшно напрягши экономические силы
всех стран, участвовавших в войне, она вызвала на
сцену новые силы или, по крайней мере, в огромной
степени усилила некоторые прежние. В ведении этой
войны государства, как никогда прежде, апеллировали
к народным массам. Это была, по самому характеру
своему, народная и демократическая война и потому-
то она частично закончилась рядом революций.
Это демократическое существо мировой войны и
демократический фундамент ведшего ее милитаризма
объясняют тот внутренний кризис, который
переживают не только побежденные страны, Германия и
распавшаяся в результате войны Австрия, но и державы-
победительницы. К этой основной причине
присоединился огромный по своему психологическому
значению факт русской большевистской революции.
Во время войны и в силу войны народные массы
и, в частности, социалистически настроенные массы
почувствовали свою силу. И вот, когда произошла
русская революция, сразу принявшая крайний
демократический и социалистический характер, это
событие имело крупное значение для психологии
западноевропейских народных масс. Пока длилась война, в
социалистически настроенных массах Запада
держалась известная государственная дисциплина,
подкрепленная демократической идеологией, как своего рода
доппингом. Но когда война кончилась, кончилась
поражением Германии и крушением и в ней монархии,
не стало надобности в прежней государственной
дисциплине. С другой стороны, русская революция, по
причинам, в которых западные люди вообще не могли
отдать себе отчета, оказалась эпизодом не на недели,
не на месяцы, а на годы. Западные люди в массе не
способны были, да и сейчас не способны понять, что
266
П.Б.Струве
господство большевиков объясняется незрелостью
русских масс, культурной отсталостью страны.
Никакого реального представления о русском большевизме
у западноевропейских масс нет; они знают только
или, вернее, мнят себе, что знают, что большевизм
есть осуществление того социализма и того господства
рабочего класса, о котором они слышали так много
умных речей, вещих прорицаний и соблазнительных
посулов. Отсюда — крайняя идеализация русского
большевизма в широких кругах западноевропейской
рабочей среды, идеализация, если угодно, детская, но
именно потому пока что непобедимая доводами
разума, ни уроками истории, данными где-то далеко, в
этой неведомой и непонятной России. С другой
стороны, социалистические партии и организации Запада
(не все, но некоторые, и в некоторых странах самые
влиятельные) сознательно, вопреки разуму и
очевидности, идеализируют большевизм, так как ссылка на
русский пример и борьба со своими правительствами
из-за русского вопроса есть главное демагогическое
оружие в руках западноевропейских социалистических
партий.
Так возникла проблема большевизма на Западе.
Имеет ли большевизм шансы на Западе?
Этот вопрос я попытаюсь осветить совершенно
объективно на основании своего знания социальной
истории Запада и своих личных впечатлений и
наблюдений.
Прежде всего бытовой основой большевизма, так
ярко проявившейся в русской революции, является
комбинация двух могущественных массовых
тенденций: стремления каждого отдельного индивида из
трудящихся масс работать возможно меньше и получать
возможно больше и 2) стремления массовым
коллективным действием, не останавливающимся ни перед
какими средствами, осуществить этот результат и в то
же время избавить индивида от пагубных последствий
такого поведения. Именно комбинация этих двух
тенденций есть явление современное, ибо стремление
работать меньше и получать возможно больше
существовало всегда, но всегда оно подавлялось
непосредственным наступлением пагубных последствий для
индивида от такого поведения. Эту комбинацию двух
Размышления о русской революции 267
тенденций можно назвать стихийным экономическим
или бытовым большевизмом. Этот стихийный
большевизм, несомненно, широко расцвел на Западе после
окончания войны, и он уже дал свои плоды и там,
сказавшись в падении производительности труда и
производства. Но большевизм, как он обнаружился в
России, есть не только это, а целое политическое и
социально-политическое движение, опирающееся на
указанные две могущественные массовые тенденции и
стремящееся, опираясь на них, организовать
социалистический строй при помощи захвата
государственной власти. Большевизм есть комбинация массового
стремления осуществить то, что один социалист, Ла-
ферг, назвал «правом на лень», с диктатурой
пролетариата. Эта комбинация именно и осуществилась в
России, и в осуществлении ее состояло торжество
большевизма, пережитое нами.
Возможен ли в этом смысле большевизм на
Западе?
Я на этот вопрос даю категорический ответ: нет,
невозможен. Социальное строение Запада и его
культурный уровень совершенно несовместимы с
большевизмом в этом смысле.
Что это значит?
А значит это, что всякая попытка в
большевистском смысле встретит такое сопротивление и во всей
буржуазии Запада, и в значительной части его
трудящихся масс, какого она не встретила в России.
В сущности, опыт уже проделан в одной стране,
которая исходом войны была особенно подготовлена
к большевизму, а именно в Германии. В ней
большевистские попытки потерпели полное поражение. И
это неслучайно, так же, как неслучайно, что из всей
Западной Европы большевизм продержался некоторое
время только в Венгрии, экономически и культурно
самой отсталой западноевропейской стране.
Перейдем к другим странам, Англии и Франции.
В Англии особенные условия ее политического
развития привели к тому, что только недавно рабочие
массы стали самостоятельно, с своей особой
политической физиономией, принимать участие в
политической жизни страны. Это обусловливает известную
неподготовленность и наивность английского рабоче-
268
П.Б.Струве
го класса в больших вопросах политической и
социальной жизни. Такая неподготовленность создает,
казалось бы, возможность непродуманных выступлений
и рискованных шагов со стороны рабочего класса и
его отдельных групп. Но, будучи не подготовлен к
широкой политической жизни и борьбе, английский
рабочий класс включает в себя элементы,
чрезвычайно опытные в ведении деловой борьбы с
предпринимателями за улучшение условий труда. Эти элементы
рассматривают классовую борьбу не как борьбу
политическую, а как деловое состязание реальных
экономических сил. К политическим вопросам и к
необоснованным экономическим выступлениям, к борьбе
ради борьбы, они относятся отрицательно. Они
привыкли организовывать и действовать организованно в
деловых профессиональных союзах, в трэд-юнионах.
Соответственно этим двум противоположным чертам
английского рабочего класса, в нем борятся две
тенденции: наивно-боевая и обдуманно-деловая.
Какая же из этих двух тенденций возобладает в
ближайшее время?
Нет никакого сомнения в том, что наивно-боевая
тенденция в последнее время все усиливалась. Она
привела к целому ряду стачек, чрезвычайно
необдуманных. Эти резкие выступления кончились полным
поражением рабочих, причем железнодорожная
забастовка, как особенно затрагивающая интересы всего
государства, вызвала решительное и организованное
сопротивление со стороны правительства и буржуазии
и об это сопротивление разбилась. Кроме того, тут
обнаружилось то, что мы, экономисты, понимали и
знали давно, а именно, что рабочий класс есть
собирательное понятие, в сущности, объемлющее
различные группы с разными интересами. Поскольку
рабочий класс действительно сознателен, а не одурманен
общими местами и лозунгами, выступления отдельных
групп, затрагивающие интересы всего народного
хозяйства, должны в других группах того же рабочего
класса вызывать решительный отпор. Поэтому
всеобщая забастовка или, хотя бы, всеобщая
железнодорожная забастовка есть эксперимент чрезвычайно
рискованный в экономически и культурно развитой
стране. Недавние неудачные рабочие выступления,
Размышления о русской революции 269
произведенные по подстрекательству крайних
элементов, весьма дискредитировали последние. Мы можем
теперь сказать про Англию, что в ней первые опыты
рабочих выступлений в близком к большевизму
направлении потерпели неудачу, обусловленную
решительным сопротивлением государства, буржуазии и
значительных элементов самого рабочего класса.
Таким образом, в Англии возможен большевистский
уклон рабочего движения, но невозможен большевизм
в русском смысле.
Во Франции политические традиции рабочего
класса и в особенности социалистической партии
предрасполагают к большевизму. Идея захвата власти
рабочим классом и насильственного введения
социализма есть идея французского происхождения. Но во
Франции рабочий класс малочисленнее, чем в
Англии. Преобладающую роль во Франции играет
крестьянство, т.е. сельская буржуазия, и мелкая городская
буржуазия. Эти классы в подавляющем своем
большинстве враждебны социализму и в особенности
враждебны ему в его насильнической большевистской
форме. По психологии французского рабочего класса
большевистские вспышки чисто политического
характера во Франции более возможны, чем в Англии, но
всякая такая вспышка вызовет не просто реакцию, а
прямое и непосредственное сопротивление.
Крестьянство и городская буржуазия во Франции ни на одну
минуту не потерпят социалистического засилия. В случае
каких-либо настоящих большевистских выступлений
во Франции ружья сами начнут стрелять.
Вот соображения, основанные на анализе
западноевропейской действительности, которые приводят
меня к категорическому выводу: большевизм в
русской форме на Западе невозможен.
Тем не менее русская социалистическая
революция имеет очень крупное значение для Запада. Это —
первая в мировой истории социалистическая
революция, первый опыт осуществления социализма в
широком масштабе, т.е. как целостной системы,
проводимой велением власти. Перед мировой войной на
Западе явственно обозначилось явление, которое нельзя
определить иначе, как кризис социализма, и которое
я именно и охарактеризовал в свое время этим терми-
270
П.Б.Струве
ном. Т<ак> наз<ываемый> научный социализм
Маркса, или марксизм, утверждал, что социализм придет,
как планомерная организация, обобществление или
социализация производства, на основе захвата
государственной власти пролетариатом, т.е. на основе
политической революции. Кризис социализма и его
идеи начался, как я уже сказал, задолго до войны, и
начался он с двух концов. С одной стороны, метод
политической парламентской борьбы, которую, как
подготовку к захвату власти, применяла и
проповедовала социал-демократия, был подвергнут сомнению и
отвергнут т<ак> наз<ываемым> синдикализмом,
выдвинувшим вместо этого так называемое «прямое» и
по преимуществу экономическое действие в форме
стачечной и иной борьбы. Против революционного
политицизма правоверной марксистской
социал-демократии этот синдикализм, выросший на почве
анархических идей, выдвинул революционный экономизм.
Как-то в форме экономических бунтов должно было
быть произведено преобразование капиталистического
общества в новую форму. Рядом с этим, в самой
марксистской социал-демократии стало происходить
разделение: часть социал-демократов перестала верить
в захват власти, в политическую революцию, в
диктатуру пролетариата как метод осуществления
социализма. Революционное понимание социализма стало
вытесняться эволюционным.
Так с двух сторон идея социализма как целостной
и продуманной, исторически-обоснованной системы
подтачивалась.
В этот процесс вклинилась мировая война и
русская революция.
Мировая война, как я уже сказал, выдвинула на
авансцену широкие народные массы и в то же время
заставила государство применить в небывалых
размерах тот принцип государственного вмешательства в
экономическую жизнь, доведение которого до конца
и составляет социализм. А русская революция,
казалось, давала опыт осуществления социализма в рамках
одного из величайших государств.
Но мы знаем теперь, что большевизм есть и
крушение социализма. В большевизме столкнулись две
идеи, две стороны социализма, и это столкновение на
Размышления о русской революции 271
опыте обнаружило невозможность социализма, как он
мыслился до сих пор, т.е. как целостного построения.
Социализм требует, во-1-х, равенства людей
(эгалитарный принцип). Социализм требует, во-2-х,
организации всего народного хозяйства и, в частности,
процесса производства.
Социализм требует и того, и другого, и одного —
во имя другого. Но оба эти начала в своем полном
или конечном осуществлении противоречат
человеческой природе и оба они, что, быть может, еще
несомненнее и еще важнее, противоречат друг другу. На
основе равенства людей вы не можете организовать
производства. Рост производительных сил есть
теоретическая и практическая альфа и омега марксизма,
этой основы научного социализма.
Социализм — учит марксизм — требует роста
производительных сил. Социализм — учит опыт русской
революции — несовместим с ростом
производительных сил, более того, он означает их упадок.
Русская революция потому имеет
всемирно-историческое значение, что она есть практическое
опровержение социализма, в его подлинном смысле
учения об организации производства на основе равенства
людей, есть опровержение эгалитарного социализма.
На этой основе не только нельзя повысить
производительных сил общества, она означает роковым
образом их упадок. Ибо эгалитарный социализм есть
отрицание двух основных начал, на которых зиждется
всякое развивающееся общество: идеи
ответственности лица за свое поведение вообще и экономическое
поведение в частности, и идеи расценки людей по их
личной годности, в частности по их экономической
годности. Хозяйственной санкцией и фундаментом
этих двух начал всякого движущегося вперед общества
является институты частной, или личной,
собственности.
На русской революции оправдалась идея одного из
величайших умов России, одинокого Чаадаева: «Мы
как будто живем для того, чтобы дать какой-то
великий урок человечеству». Мы в нашей
социалистической революции дали такой великий урок: опытное
опровержение социализма.
272
П.Б.Струве
Оглядываясь назад, на все то, что служило
предметом моей настоящей беседы с вами, я думаю, что я
могу и должен сделать следующий вывод.
Революция 1917 г. есть великое крушение нашего
государства. Русская революция есть эпизод мировой
войны. Так как преодоление революции еще не
завершилось, то для нас мировая война еще не кончилась.
Мы потерпели крушение государства от недостатка
национального сознания в интеллигенции и в народе.
Мы жили так долго под щитом крепчайшей
государственности, что мы перестали чувствовать и эту
государственность, и нашу ответственность за нее. Мы
потеряли чувство государственности и не нажили себе
национального чувства. Вот почему история вернула
нас в новой форме к задачам, которые, казалось,
были разрешены навсегда нашими предками.
Единственное спасение для нас — в восстановлении
государства через возрождение национального сознания.
После того, как толпы людей метались в дикой
погоне за своим личным благополучием и в этой погоне
разрушали историческое достояние предков, нам
ничего не остается, как сплотиться во имя
государственной и национальной идеи. Россию погубила безнаци-
ональность интеллигенции, единственный в мировой
истории случай забвения национальной идеи мозгом
нации.
Русский национализм не может рассчитывать на то,
что Запад и его общественное мнение легко поймут
неотвратимость развития национального сознания в
России, необходимость завоевания России идеей
национализма. Для Запада работа этой новой в России
духовной силы долго будет казаться простой
реставрацией старого порядка и старого духа. Но это не так
или, вернее, не так просто. Русский народ был
великим государственным народом, но величие его
стихийного государственного творчества погасило или,
вернее, не дало развиться в нем, в его образованном
классе живому национальному сознанию. Ужасные
испытания, через которые проходит русское сознание,
великий кризис, который мы переживаем и который есть
в то же время кризис такого мирового явления, как
социализм, делают те события, свидетелями,
участниками и жертвами которых мы являемся, страшной ог-
Размышления о русской революции ПЪ
ненной пещью. Из этой пещи должны выйти люди,
обновленные несказанными страданиями.
Летом 1919 года я посещал опустошенные
местности Франции. Я видел города, обращенные не
просто в развалины, а в груды камней. Когда я взобрался
на одну такую груду, составленную из камней и
каменной пыли, мне сказали, что это кафедральный
собор города Ланса. Но и во время созерцания этих
ужасных материальных разрушений на чужбине я не
мог отделаться от мыслей о России. Я думал о том,
что духовные нравственные опустошения,
произведенные «русским бунтом, бессмысленным и
беспощадным» на моей родине, превосходят по своей глубине
и пагубности все физические опустошения,
перенесенные другими странами. Я думал о том, что мы,
русские, должны не выстраивать новые города на
месте прежних, а совершить нечто гораздо более
трудное и великое: воссоздать разрушенную храмину
народного духа, воскресить поверженный и поруганный
образ родины-матери, выношенный в душах
бесчисленных поколений благочестивых верных сынов
России. Но мы, люди всех возрастов, повинны сделать
это, чего бы то ни стоило, Эпо наш долг и перед
нашими предками, и перед нашим потомством.
П. Новая жизнь и старая мощь
(Исторический смысл русской революции)
Русская революция есть великая историческая
проблема, я бы сказал, почти — загадка. В самом
деле: народ, который создал огромное и
могущественное государство и, при посредстве этого
государства, — великую, богатую и многостороннюю культуру,
объятый каким-то наваждением, в кратчайшее время
разрушил сам это великое государство — ради
преходящих выгод и призрачных благ. Народ, давший
Петра Великого, величайший индивидуальный гений
1 В основу этой статьи, как и предыдущей, легла публичная
лекция, прочитанная в Ростове-на-Дону в ноябре 1919 г.
Исключены лишь места, вследствие новых событий утратившие
значение. — П.С.
274
П.Б.Струве
государственности, поддался соблазну разрушения
государства, глашатаями которого явились множество
слабых, бездарных, безличных, безнравственных
людей, выдвинувшихся в вожди не потому, что их
выносила собственная крупная личность, а именно
потому, что, по своей безличности, они без конца
льстили толпе и ее ублажали.
Русская революция, говорю я, загадка.
Государственное самоубийство
государственного народаь
Эту загадку, однако, предчувствовали многие люди
самых различных направлений, и притом не только
русские. В литературе, в особенности второй
половины XIX века, можно найти множество предчувствий,
что в России когда-нибудь произойдет не просто
политическая революция, а целая социальная и
культурная катастрофа. Самый известный пример таких
предчувствий — это замечательная литературная переписка
знаменитого французского историка-художника
Мишле с нашим бесподобным, во многих
отношениях, художником-публицистом Герценом. Мишле с
ужасом отвращается от видения русской революции,
которая рисовалась ему как «страшное зрелище
демагогии без чувства, без мысли, без принципов». Герцен
в то время идеализировал и русский народ, и русскую
интеллигенцию, и грядущая всесторонняя русская
революция представлялась ему как величайшее
достижение русского и вселенского духа, абсолютно
независимого и свободного.
Но и в наше время были предчувствия и
предсказания русской революции, не просто как
политической революции, а как целой социальной и
государственной катастрофы. Характерно, что Германия,
которой в русской революции принадлежала, вне всякого
сомнения, роль режиссера, точнее, роль полицейского
устроителя и финансирующей силы, создала, до
русской революции, целую литературу о ней в связи с
государственным банкротством России. Это были
теоретические проекты того разрушения России, за
которое в мировую войну Германия взялась практически.
Но были предчувствия грядущего и с противополож-
Размышления о русской революции 275
ной стороны. Я не могу отделаться от того
впечатления, которое я выносил из неоднократных бесед с
покойным П.А.Столыпиным: у него было какое-то
предчувствие русской революции именно в той
катастрофической форме, в которую она осуществилась. С
другой стороны, один русский публицист совершенно
другого лагеря, чем Столыпин, но хорошо его
понимавший, неоднократно развивал в беседе со мной
понимание русской революции именно как катастрофы,
государственной и культурной.
Чем же объясняется эта историческая загадка,
которую многие предвидели или, вернее,
предчувствовали?
Этот сложный вопрос может быть разъяснен
только обращением к истории: подобная катастрофа не
может не корениться глубоко в историческом
развитии всего русского народа и его власти.
Россия переживает в начале XX века глубочайшее
потрясение, и взоры наши естественно обращаются за
триста лет назад, в эпоху первой великой русской
смуты, которая предшествовала воцарению дома
Романовых.
Чем была вызвана эта смута? С одной стороны,
смена угасшей династии новой, появление которой на
сцене было одновременно основано на трех фактах:
на родстве или свойстве с прежней, на выслуге или
заслугах и на избрании земским собором и
московской толпой. Смена династии сама по себе прошла
вполне спокойно. Но в смуте была заинтересована
иностранная держава, Польша. И еще не успел Борис
Годунов сойти со сцены, как открылся претендент и
началась смута, состоявшая в том, что претендент,
опираясь на интерес и содействие Польши, стал
искать престола и ради этого организовывать преданную
ему вооруженную силу, устраивая бунты против той
власти, которую он стремился свергнуть.
В смуте XVII века, таким образом, важную, если
не основную, роль играла иностранная интрига,
которой государственно и культурно слабая Русь не смогла
сразу противопоставить крепкого национального
сопротивления. Словом, смута была событием или
процессом не только внутренней жизни России, но и
вытекла из ее международного положения. В смуте
276
П.Б.Струве
XVII в. есть удивительно много черт, сходных с
современными событиями: то же духовное шатание не
только народных масс, но и высших классов, то же
использование чужеземцами внутренней борьбы.
Смута была продолжением тех политических и
социальных процессов, которыми слагалось Московское
Государство. Смуту поддерживали честолюбивые
притязания боярских семей, которые мешали утвердиться
признанной династии; смуту питали грабительские
стремления служилых людей и анархические
тенденции народных масс. Так же, как в наше время,
поразительно в смуте XVI—XVII в. отсутствие
нравственной твердости и подлинного патриотизма в высших
классах, слабость национального сознания в классах
средних, анархическая настроенность народных масс.
Только в силу этих свойств было возможно столь
легкое низвержение двух законных династий Годуновых
и Шуйских и постыдная история поддержки
нескольких самозванцев не только темными народными
массами, но и представителями таких классов, как
боярство, дворянство и духовенство. Глубину
нравственного падения высших классов рисуют такие факты, как
признание царицей Марией Нагих самозванца за
своего убитого сына, как признание Тушинского вора
отцом будущего основателя династии Романовых
митрополитом ростовским Филаретом, который за это
был наречен патриархом. Государственную
беспринципность высших классов обличает, напр<имер>, тот
факт, что из вражды к царю Василию Шуйскому пу-
тивльский воевода князь Григорий Шаховской поднял
чисто большевистское народное восстание против
царя во имя самозванца. Вот как историк
характеризует это движение: «предводители отрядов,
руководимые князем Шаховским, начали возмущать... крестьян
против помещиков, подчиненных против
начальствующих, безродных против родовитых, мелких против
больших, бедных против богатых. Все делалось
именем Димитрия. В городах заволновались посадские
люди, в уездах крестьяне; поднялись стрельцы и
казаки. У дворян и детей боярских зашевелилась зависть к
высшим сословиям — стольникам, окольничим,
боярам; у мелких торговцев и промышленников — к
богатым гостям. Пошла проповедь вольницы и словом и
Размышления о русской революции 277
делом: воевод и дьяков вязали и отправляли в Пу-
тивль; холопы разоряли дома господ, делили между
собою их имущество, убивали мужчин, женщин
насиловали, девиц растлевали» (Костомаров). Это то
движение, которое связано с именем Болотникова. «Вы
все боярские холопы, — говорилось им, — побивайте
своих бояр, берите себе их жен и все достояние —
поместья и вотчины. Вы будете людьми знатными; и
вы, которых называли шпынями и безыменными,
убивайте гостей и торговых богатых людей, делите
между собою их животы. Вы были последние —
теперь получите боярство, окольничества, воеводства.
Целуйте все крест законному Государю Димитрию
Ивановичу».
Россия была спасена от смуты тем, что против
смуты, наконец, организовалось национальное
движение. Это было движение против смуты и иноземного
врага, каковым тогда были поляки, явившиеся в
значительной мере творцами самой смуты. Есть даже
историки, которые думают, что главный источник смуты
следует искать именно не внутри, а во вне, в
стремлениях католической церкви овладеть духовно русским
народом и в стремлении польского государства —
подчинить себе политически Московское Государство.
Кто же совладал со смутой, кто восстановил
государство?
Историки-народники, как столь различные и
спорившие между собой Костомаров и Забелин, думают,
что эту задачу разрешили сами народные массы,
«народная громада», как выражается Костомаров, «народ-
сирота», как говорит Забелин. Теперь, после
замечательного исследования С.Ф.Платонова, этого
народнического идеализма не приходится опровергать.
Россию от смуты спасло национальное движение,
исходившее от средних классов, среднего дворянства и
посадских людей и вдохновляемое духовенством, единственной
в ту пору интеллигенцией страны.
Выразителями этого национального движения
средних классов были исторические фигуры Проко-
пия Ляпунова, князя Димитрия Пожарского и Кузьмы
Минина.
Любопытно само собой напрашивающееся
сравнение Добровольческой Армии с Нижегородским Опол-
278
П.Б.Струве
чением. Ядром Нижегородского Ополчения явились
беженцы, смоленские дворяне, изгнанные из своей
родины поляками и нашедшие себе приют в
нижегородской земле, подобно тому, как ядром
Добровольческой Армии явились беженцы-офицеры, нашедшие
себе приют в Донской Области и на Кубани. И то,
что старый летописец говорит о кн. Пожарском и
Минине, всецело применимо к Корнилову и
Алексееву: «положили они упование на Бога и утешили себя
воспоминаниями, как издревле Бог поражал малыми
людьми множество сильных». Аналогии между той
эпохой и нашей, повторяю, поразительны. Разве
эпопея Скоропадского не воспроизвела призвания
королевича Владислава, которое также диктовалось не
одними своекорыстными мотивами, а в известной мере
государственными побуждениями? Разве в то время
не замечалось признаков разложения и распада
государства, совершенно аналогичного тому, что
переживаем мы? Но Московское Государство спасло
национальное чувство русского человека, в ту эпоху, как и
теперь, неразрывно связанное с верой и церковью.
«Нельзя сказать, — говорит один историк, — что
больше поднимало русский народ — страх ли
польских насилий над своими телами и "животами", или
страх за веру — и то, и другое соединялось вместе,
тем более, что те, которые не уважали веры, по
народному понятию, само собою не могли быть
справедливы и милостивы к православным людям».
Итак, Россию спасло, повторяю, национальное
движение средних классов, руководимое идеальными
мотивами охраны веры и церкви и спасения
государства.
Расшатав государство, смута не произвела
никакого социального переворота и в этом смысле не была
вовсе революцией. Анархически-большевистское
содержание исчезло, не оставив никакого следа в
учреждениях. Но смута, в которой высший класс,
боярство, не раз изменял власти и государству, довершила
превращение этого класса в высший разряд всецело
подчиненного монархической власти служилого
сословия. До Василия III и Ивана Грозного
государством правили царь и боярская дума. При Василии III и
Иване Грозном было откровенное самодержавие, осо-
Размышления о русской революции 279
бенно подчеркнутое у Грозного царя. После смуты
рядом с царем стала земля во образе земских соборов.
Но сведя боярство с той высоты, на которой оно
стояло прежде, смута не упрочила настоящим образом
участия земли в государственном строительстве и не
устранила созданного Василием III и Иваном
Грозным монархического самодержавия. Нравственное и
политическое крушение боярства в смуте фактически
оказалось крушением идеи участия представителей
общества как таковых в законодательстве и
управлении. Во второй половине XVII в. органы «земли»,
земские соборы, отмирают. Надо отметить, что
постоянное ограничение монархической власти было
выговорено, в пользу бояр, у Василия Шуйского, в пользу
бояр и всей земли — у королевича Владислава. Но ни
Михаил Федорович, ни Алексей Михайлович никакой
«записи» на себя, т.е. никакого конституционного
обещания, не давали.
Так в XVIII век Россия вошла без всякого участия
общества в делах государства. Она была государством,
в котором царила единая воля Монарха, и только она.
В этом таилась для государства величайшая
опасность, которая раскрылась лишь в конце XIX века,
когда созрели глубочайшие противоречия,
обусловленные фактом существования в России, в течение
веков, государственной формы неограниченной
монархии.
Петровское преобразование, в отличие от смуты,
было глубоким культурным переворотом. Оно
углубило социальные противоречия между господствующими
и подчиненными классами культурной рознью, и это
обстоятельство во всем его значении было познано
лишь в наше время.
В начале XVIII века произошел в истории русской
верховной власти кризис, которому обычно не
уделяется особенного внимания, но которому я лично
придаю огромное значение, ибо исход этого кризиса
определил все наше политическое и социальное
развитие на пространстве двух столетий и тем самым дает
ключ к пониманию второй великой русской смуты
1917 и следующих годов.
19 января 1730 г. умер 16-летний император Петр II.
Верховный Тайный Совет с участием двух фельдмар-
280
П.Б.Струве
шалов избрал на престол племянницу Петра Великого
герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну. Это
избрание сопровождалось предложением ей «кондиций»,
ограничивавших самодержавную власть и являвшихся
лишь первым шагом к опубликованию целой
конституции Российской Империи, которую выработал кн.
Димитрий Михайлович Голицын, главный деятель
Верховного Тайного Совета.
Кн. Димитрий Михайлович Голицын был русский
боярин-вельможа, старший современник Петра
Великого. Он вовсе не был противником преобразования.
Но это был человек, критически относившийся к
тому, как осуществлялось преобразование, и к личной
жизни великого императора. Он был живым
носителем в одно и то же время и старых боярских
традиций, и известного современного просвещения,
приобретенного им уже в зрелом возрасте, и крепкого
национального духа. Этот замечательный представитель
аристократического национализма явился первым
деятелем сознательного русского конституционализма.
Но идея русской конституции тогда не
ограничивалась одним кругом высшей аристократии. Ею были
проникнуты широкие круги дворянства или
шляхетства. Самая попытка ограничить власть императрицы
разбилась о соперничество двух одинаково
стремившихся к конституции сил, верховников и шляхетства.
Этим соперничеством воспользовалась группа
сторонников самодержавия из иноземцев и гвардейских
офицеров. Пункты или кондиции — как говорит
современный официальный документ — «Ея Величество
при всем народе изволила изодрать».
После неудачи кн. Дм. Мих. Голицына наступила
бироновщина и вообще период временщиков, отчасти
иноземных, в русской истории.
Кризис власти в 1730 г. — великий поворотный
пункт в русской истории, на котором стоит
остановиться. В кондициях или пунктах и в тех
конституционных проектах, которые развивали эти пункты,
заключены были в зародышевом виде две основные
здоровые идеи конституционализма. Это: 1) идея
обеспечения известных прав человека, его личной и
имущественной неприкосновенности; 2) идея участия
населения в государственном строительстве. Раннее
Размышления о русской революции 281
появление этих идей в английском законодательстве
обусловило классическое здоровое развитие
британской государственности; забвение этих начал
могущественной государственной властью Франции привело
к революции. В постепенном осуществлении этих
начал, в постепенном распространении их на все
более и более широкие круги населения заключается
гарантия мирного и здорового развития
государственности. В русской литературе было широко
распространено мнение, что России была вредна какая-либо
аристократическая конституция и что неудача верхов-
ников предупредила водворение в России олигархии.
Историк 1730 г. сорок лет тому назад ответил на
последнее указание фактической справкой, что
одержавшее победу над верховниками самодержание Анны
Иоанновны являлось даже «не самодержавием, а
именно олигархией, да еще вдобавок не
национальной, а иноземной» (Д.А.Корсаков). Что касается
первого указания, что России была бы вредна
аристократическая конституция, то оно прямо противоречит
здравому историческому смыслу вообще и в частности
тому, чему учит русская история последних 200 лет.
Несчастье России и главная причина
катастрофического характера русской революции и состоит
именно в том, что народ, население, общество
(назовите, как хотите) не было в надлежащей
постепенности привлечено и привлекаемо к активному и
ответственному участию в государственной жизни и
государственной власти.
Я выражаю это еще иначе: Ленин смог разрушить
русское государство в 1917 г. именно потому, что в
1730 г. курляндская герцогиня Анна Иоанновна
восторжествовала над князем Димитрием Михайловичем
Голицыным. Это отсрочило политическую реформу в
России на 175 лет и обусловило собой ненормальное,
извращенное отношение русского образованного
класса к государству и государственности.
В самом деле: шляхетство после неудачи
конституционных стремлений 1730 г. получило целый ряд
льгот и прерогатив. Узел крепостного права
затягивается все туже и туже, и с ним растут другие
дворянские привилегии. Укрепление и усиление крепостного
права есть то возмещение, которое власть дает дво-
282
П.Б.Струве
рянству за отказ в политических правах. Это есть как
бы непосредственное следствие неудачи
конституционалистов 1730 г., но это характерно для всего
соотношения между властью и дворянством (а с
дворянством почти вполне совпадал в то время образованный
класс) на всем пространстве XVIII века. И в первой
половине XIX века отсрочка политической реформы и
отсрочка отмены крепостного права взаимно
обусловлены1.
Между тем, в этих двух отсрочках — ключ к
объяснению того, что мы пережили за последние два
года. Слишком поздно свершилась в России
политическая реформа; слишком поздно произошла отмена
крепостного права. И поэтому, когда наступил в
России конституционный строй — между образованным
классом и государством, т.е. государственностью,
лежала длинная историческая полоса взаимной
отчужденности, тем более роковая, что за это время
образованный класс изменил уже свой состав и свою
природу. В то же время массы населения еще слишком
недавно вышли из рабского состояния. Интеллигенция
выросла во вражде к государству, от которого она
была отчуждена, и в идеализации народа, который
был вчерашним рабом, но которого, в силу
политических и культурных условий и своего и его развития,
она не знала. В самом деле, с первой четверти XIX в.
образованный класс начинает борьбу с
государственной властью за участие в государственной жизни. Эту
борьбу ведет сперва почти исключительно дворянская
интеллигенция, выступившая в 1825 г. в лице
декабристов.
Политическая реформа и реформа освобождения
крестьян, казалось бы, стояли на очереди в
царствование Александра I. Но власть упустила инициативу из
своих рук, и произошел первый в России
революционный взрыв. А потом круг образованных людей
расширяется, и они все более и более подпадают под
1 Личное крепостное право возможно и необходимо было
отменить в конце XVIII или в начале XIX в. Сложность всей
крестьянской проблемы в России в связи с экономическим
существом крепостного хозяйства я пытался разъяснить в своей книге
«Крепостное хозяйство» (Москва, 1913 г., изд. Сабашниковых).
Размышления о русской революции 283
влияние самых широких, самых передовых
общечеловеческих идей. Русская интеллигенция под прямым
воздействием западноевропейской социальной мысли
становится социалистической и в то же время
радикально-демократической. Она вращается почти
исключительно в сфере отвлеченных идей
политического и социального равенства, потому что, охраняя в
неприкосновенности принцип неограниченной
монархии, историческая власть логически вынуждается
не допускать интеллигенцию к реальной
государственной жизни и практической общественной работе.
Между тем кадры интеллигенции все растут и растут,
жизнь все усложняется и усложняется, как в России,
так и на Западе. В царствование Александра II, в
первой половине 60-х годов, и в особенности в начале
80-х годов ставится вопрос о политической реформе.
В начале 60-х годов его ставит дворянское движение,
в начале 80-х годов он вытекает из борьбы
радикальной, социалистически-настроенной интеллигенции с
самодержавным правительством и идейно ставится
передовыми земскими элементами. Ни в том, ни в
другом случае власть не может решиться на
политическую реформу. В 1881 г. самодержавная власть была
очень близка к этой реформе, но цареубийство 1-го
марта производит и в правительстве, и в обществе
такую реакцию, что мысль о политической реформе
отбрасывается. Между тем, по состоянию умов в
интеллигенции, тогда еще не было поздно для того,
чтобы умеренная политическая реформа — а только
такая была возможна и разумна в России — была
разумно и с удовлетворением воспринята
интеллигенцией. Круг «недовольных» был тогда сравнительно
узок, и это было благоприятно для спокойного
проведения реформы. То же следует сказать и о начале
царствования Николая II. И тут власть могла взять
инициативу в свои руки, и «общество» удовлетворилось
бы умеренной реформой. Но опять эта возможность
была упущена, и по мере отсрочки реальной реформы
отвлеченные требования интеллигенции все
возрастали. В этот процесс вклинилась японская война, во
время которой невозможность обходиться без
народного представительства, без свободы печати, вообще
без того, что зовется конституцией, стала совершенно
284
П.Б.Струве
ясной. К сожалению, и тогда власть не взяла
своевременно инициативы реформы в свои руки и дала ее
вынудить у себя политической забастовкой, носившей
почти стихийный характер.
Октябрьская революция 1905 г., протекшая,
действительно, в общем мирно и бескровно, могла
принести России реально политическую свободу и народное
представительство в формах, соответствующих ее
культурному уровню, и в то же время внести
успокоение и удовлетворение в умы, но при двух условиях,
которые оба не были выполнены. Первое состояло в
том, чтобы власть искренно и бесповоротно встала на
почву тех конституционных принципов, которые она
провозгласила. Второе — в том, чтобы образованный
класс в то же время понял, что после введения
народного представительства и (хотя бы частичного)
осуществления гражданских свобод опасность
политической свободе и социальному миру угрожает уже не от
исторической власти, а от тех элементов
«общественности», которые во имя более радикальных
требований желают продолжать революционную борьбу с
исторической властью. Это значило, что для русских
либеральных элементов, скажем прямо, для
выдвинувшейся тогда на первый план партии народной
свободы или кадетской, с 17 октября 1905 г. и, в
особенности, со времени созыва первой Думы, опасность
была уже не справа, а слева. Этого, однако, партия
народной свободы не поняла, в чем я вижу ее
основную, я бы сказал, историческую ошибку или грех. В
то же самое время власть не понимала, что всякая
борьба с умеренными элементами, которым она сама
же, переворотом 3-го июня 1907 г., т.е. изменением
избирательного закона в Государственную Думу
вопреки Основным Законам, предоставила решающую
роль в народном представительстве, есть нелепое
поощрение революционных течений в стране. Не
следует забывать, что власть за все время существования 3-й
и 4-ой Государственных Дум не желала никогда
настоящим образом, искренно и последовательно,
опереться даже на партию октябристов. Этим она
ослабляла себя, ослабляла партию октябристов и усиливала
все «левое» в стране.
Размышления о русской революции 285
Вековым отчуждением от государства,
обусловленным крайним запозданием политической реформы, в
интеллигенции создавался и поддерживался
революционизм. Наступила война. И тут опять повторилось
то же самое. Власть не видела, что первым и главным
ее союзником должны являться все государственно
мыслящие элементы в стране. А с другой стороны,
значительная часть государственно мыслящих
элементов не понимала, что, каковы бы ни были ошибки и
прегрешения власти, все-таки враг слева, в
затаившемся, но работавшем в значительной мере на
средства и под диктовку внешнего врага, Германии,
интернационалистическом социализме и инородческом
ненавистничестве России. Власть и общество вели
между собою более или менее открытую борьбу, а
враги России учитывали эту борьбу как элемент ее
слабости и гибели. Власть была ослеплена, но так же,
и еще больше, была ослеплена общественность, не
видевшая огромной опасности в революционизме,
который просачивался в народные массы, разлагал их
духовно и подготовлял крушение государства.
Когда в Государственной Думе гремели речи
против правительства, ораторы Думы не отдавали себе
отчета в том, что совершалось вне Думы, в психике
антигосударственных элементов и в народной душе.
Просто большая часть русского интеллигентного
общества не понимала народной психологии и не
учитывала трагической важности момента. Ей казалось,
что она во имя патриотизма обязана вести борьбу с
правительством. Но, конечно, сейчас для всякого
ясно, что единственным разумным, с исторической
точки зрения, образом действия была величайшая
сдержанность. Это следует сказать и о
Государственной Думе, и о печати.
Наступила революция. Ее размах, ее первые
проявления обнаружили ее истинную природу.
Революция была крушением государства и армии. Она
сделала невозможным продолжение войны. Те
оппозиционные элементы, которые в Государственной Думе во
имя патриотизма произносили речи против
правительства, наивно думали, что революцию народные
массы произвели во имя более успешного
продолжения войны. Между тем, поскольку в революции участ-
286
П.Б.Струве
вовали народные и, в частности, солдатские массы,
она была не патриотическим взрывом, а самовольно-
погромной демобилизацией и была прямо направлена
против продолжения войны, т.е. была сделана ради
прекращения войны. Вот почему в революции такой
успех имел пресловутый бессмысленный лозунг: «без
аннексий и контрибуций».
Патриотическая идея революции оказалась каким-
то интеллигентским недоразумением перед лицом
этой самовольно-погромной демобилизации. Таким
образом, подлинная природа революции решительно
разошлась с тем, что в ней воображала себе русская
интеллигенция. Вообще, подлинный лик революции
оказался совсем не тем, о каком мечтала русская
интеллигенция, даже социалистическая. Логичен в
революции, верен ее существу был только большевизм, и
потому в революции победил он.
Но значительная часть русской интеллигенции не
имела мужества признать свои революционные
заблуждения, изобличенные жизнью. Некоторая часть
ее даже сознательно прияла ужасную реальность этой
антигосударственной и антиобщественной революции
и продолжала ее идеализировать по формуле
«постольку — поскольку», не желая понять, что эта
революция есть целостное, законченное в себе явление,
которое требует к себе такого же целостного
отношения.
Революция эта была антипатриотична, противона-
циональна и противогосударственна, и потому она с
логической и психологической необходимостью
привела к распаду армии и к разрушению государства.
Она была сочетанием отвлеченных радикальных идей,
на которых воспиталась интеллигенция, с
анархическими, разрушительными и своекорыстными
инстинктами народных масс. Она была пугачевщиной во имя
социализма. Поэтому она таким разрушительным
смерчем пронеслась по стране. В конце концов она,
подобно пугачевщине, вылилась в форму военной
организации, осуществляющей гражданскую войну.
Начав с провозглашения мира, с отрицания и
разрушения армии, эта
социалистически-интернационалистическая организация с неслыханным упорством
начала войну, всем ей жертвуя и ради самосохранения
Размышления о русской революции 287
все подчиняя социалистическому милитаризму.
Обещание немедленного мира превратилось в реальность
непрерывной войны. Уничтожение армии привело к
превращению всего государства в красную армию.
Были два выхода из того положения, которое
создалось логическим завершением этой революции в
большевизме: либо большевизм будет преодолен
извне, какой-то внешней по отношению к нему
силой, либо он будет преодолен изнутри, силами,
развившимися в нем самом, подобно французской
революции, которая из себя родила революционную
армию и ее политического вождя.
Одно время казалось, что история бесповоротно
решила вопрос в первом смысле. Сейчас положение уже
изменилось, и проблема русской революции и
контрреволюции чрезвычайно усложнилась. Насколько в
своих первых шагах, в настроениях масс, в поведении
интеллигенции русская революция была непохожа на
великую французскую, настолько, восторжествовав,
она начинает объективно перерождаться в смысле, в
известной мере сближающем ее с французскими
событиями конца XVIII и начала XIX веков. Русская
революция, не похожа на французскую. Но русская
контрреволюция, сейчас смятая и залитая революционными
волнами, по-видимому, должна войти в какое-то
неразрывное соединение с некоторыми элементами и
силами, выросшими уже на почве революции, но ей
глубоко чуждыми и даже противоположными. В этом
самопреодолении русской революции, и только в нем,
могут обнаружиться некоторые черты сходства между
русским и французским революционным процессом.
Но тем не менее нужно прежде всего отдать себе отчет
в глубине различий обоих процессов.
Французская революция не только провозглашала
идеи, но несмотря на реакцию, к которой она привела,
в этой реакции и осуществила свои идеи. Не то в
русской революции. Все, что от нее останется,
противоречит идеям, ею провозглашенным. Она провозгласила
социализм, но в действительности она есть опытное
опровержение социализма. В области аграрной она
провозгласила отрицание частной земельной
собственности, но самым важным психологическим ее
результатом является развитие собственнических чувств и
288
П.Б.Струве
собственнической тяги народных масс к земле,
развитие, которое ни к чему другому, как к утверждению
крестьянской собственности, привести не может.
Она провозгласила отрицание армии, а между тем
она логически привела к тому, что армия приобрела в
жизни государства первенствующее значение. Она
ниспровергла монархию и провозгласила
народовластие, а в то же время сейчас диктаторская власть,
опирающаяся на военную силу, есть единственная
возможная для России форма государственной власти. С
другой стороны, и в народных массах, и в
интеллигенции идея монархии сейчас весьма сильна, и есть
многочисленные убежденные монархисты, которых сделала
монархистами именно революция. Словом, ничего из
идей этой революции не осуществилось, а все, что
подлинно осуществляется, противоречит ее идеям.
Вот почему русскую революцию 1917 и следующих
годов следует сближать, по ее характеру и по
соотношению в ней идей и действительности, не только и
даже главным образом не с великой французской
революцией, а с русской смутой XVI—XVII вв., ибо в
нынешней русской революции, как и в первой смуте,
осуществляется нечто, с этим движением, как
таковым, ничего общего не имеющее.
Мы не прозираем с полной ясностью в будущее,
русская революция — в конечном своем результате —
стоит перед нами неразрешенной загадкой. Но какими
бы путями ни пошло восстановление России, — два
лозунга, как нам кажется, должны стать
руководящими для стремлений и действий русских патриотов, в их
отношении к прошлому и будущему Родины. И эти
лозунги: новая жизнь и старая мощь. Нельзя гнаться за
восстановлением того, что оказалось несостоятельным
пред лицом самой жизни, и в этом смысле мы
стремимся к новой жизни. Но в то же время можно и
должно трепетно любить добытое кровью и жертвами
многих поколений могущество Державы Российской.
Мы никогда не считали Россию колоссом на глиняных
ногах. Ибо если бы мы это считали, то как бы мы
верили в восстановление России? А это значит, что мы
верим в подлинность той мощи, которой обладала
историческая Россия. И новую жизнь России поэтому
мы не отделяем от ее старой мощи.
ИТОГИ И СУЩЕСТВО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
I
Постановка вопросов
Отдельные доклады, представленные на Съезде,
дают основанную на единственных имеющихся в
наших руках первоисточниках картину хозяйственной
жизни России под советским режимом. Задача
настоящего доклада не в том, чтобы в сокращенном виде
воспроизвести содержание отдельных докладов. Этому
служат их «заключения» или «тезисы» докладов и
специальный сводный доклад В.Ф.Гефдинга, их
резюмирующий. Здесь же будет сделана попытка осмыслить
отдельные черты картины, сопоставить то, что есть,
как с тем, что было, так и с тем, что силы,
распоряжающиеся хозяйством России, хотели осуществить,
т.е. сопоставить действительность с умыслами и
замыслами вершителей социальной революции.
Такой анализ необходим и для нас самих, и для
тех внешних сил мировой политики и мирового
хозяйства, с которыми мы вынуждены так или иначе
считаться. Сообразно с так понимаемой задачей мы
поставим перед собой следующие вопросы:
1. Первый вопрос: что означает в действительности
коммунистическая революция как экономический
процесс, к какому состоянию экономическая
политика советской власти реально привела все народное
хозяйство России? Ответ на этот вопрос даст
обобщающую, вдвинутую в широкую историческую рамку,
характеристику экономического состояния, в котором
очутилась Россия в результате торжества
коммунистов, даст точную социологическую формулу этого
состояния.
10- 1171
290
П.Б.Струве
2. Второй вопрос гласит так: каково отношение
этой экономической политики к тем
социально-политическим идеям и формулам, которые известны под
наименованием социализма, коммунизма и т. п. и
которые заведомо составляли движущий идейный мотив
вдохновителей и руководителей большевистского
переворота. При обсуждении первого вопроса мы
поставим политику большевиков на очную ставку с ее
результатами; при обсуждении второго — мы
сопоставим политику коммунистов с коммунистической
(социалистической) идеологией.
3. Наконец, третий вопрос может быть
формулирован так: в том, что делала и делает в области
экономики коммунистическая власть, каково
действительное соотношение между стороной хозяйственной и
стороной политической или, выражаясь иначе, между
хозяйствованием и властвованием, между
экономическим управлением, удовлетворяющим ежедневные
потребности подвластных и властвующих, и
государственной политикой, вдохновляемой отвлеченными
построениями и идеалами и диктуемой тенденцией к
самосохранению и самоотстаиванию, присущей
всякой власти, как таковой? Это вопрос, разъяснение
которого чрезвычайно существенно не только для
понимания настоящего, но и для оценки перспектив
будущего. Иначе его можно поставить так: мыслима ли,
возможна ли советская власть на ином хозяйственном
фундаменте, кроме коммунистического?
Стоит только так поставить вопрос, чтобы понять
все значение объемлемой им проблемы и всю
необходимость ее объективного разъяснения.
II
Хозяйственные итоги коммунистического строя
К какому экономическому состоянию пришла
Россия в результате коммунистической революции? На
это язык объективных цифр и фактов отвечает с
потрясающей ясностью: содержанием коммунистической
революции была неслыханная в мировой истории
грандиозная экономическая реакция.
В этой формулировке заключается совершенно
точное и непререкаемое научное суждение. Мы знаем,
Итоги и существо коммунистического хозяйства 291
что о том, носит ли какой-либо сложный
экономический процесс прогрессивный или регрессивный
характер, в конкретных случаях современники и даже
иногда потомки могут очень долго спорить. Так,
можно было в начале XVI в. колебаться при решении
вопроса, является ли экономическим прогрессом или,
наоборот, регрессом развитие английской шерстяной
промышленности на основе вытеснения (фактически
весьма частичного) зернового хозяйства овцеводством,
процесс столь ярко охарактеризованный Томасом
Муром в его «Утопии». Процесс этот, как и многие
другие отдельные этапы и процессы развития
капитализма, сопровождался частичным обезлюдением
сельских местностей и другими признаками регресса. Но в
то время современники не обозревали
экономического процесса в его целом, не учитывали его пределов,
не видели сколько-нибудь ясно его движущих сил. В
ином положении находимся мы по отношению к
хозяйству Советской России. Насколько душевное
состояние масс и даже конкретные политические
соотношения в Советской России представляются
загадочными не только стороннему наблюдателю, но и тому,
кто живет там, настолько, наоборот, экономическое
ее состояние и движущие силы хозяйственной жизни
выступают перед нами с прозрачной ясностью, и
оценка этого состояния и роль этих сил не
представляют никаких трудностей.
Прежде всего, основной признак: состояние и
движение населения. Много спорили и можно долго
спорить о том, является ли рост населения необходимым
признаком экономического прогресса. Но не об этих
довольно-таки бесплодных ученых спорах идет речь в
нашем случае. Вымирание населения, определяемое
прежде всего ужасающим ростом смертности, таков
тот основной факт советской экономики и
демографии, в смысле и значении которого не может быть —
увы! — никакого сомнения. Это явление косвенно
устанавливается для сельского населения: оно
непосредственно и в ужасающих размерах может быть
констатировано для городов с Петроградом во главе1. Насе-
См. доклад Съезду о состоянии и движении населения.
292
П.Б.Струве
ление вымирает от недостатка пищи в местностях
городских и городского типа, т.е. совсем не
производящих или недостаточно производящих продовольствие:
в сельских местностях оно вымирает от невероятно
ухудшившихся санитарных условий1. Итак, признак
состояния населения обличает реакционный или
регрессивный характер совершившегося
социально-политического и хозяйственного переворота. Для оценки
хозяйства, народного или частного, лучшим мерилом
вообще служит то, дает ли это хозяйство возможность
существовать и выживать его участникам, т.е.
населению, с ним связанному.
Но мы можем уточнить нашу характеристику.
Коммунистический переворот явился исходной
точкой и условием экономической реакции совершенно
определенного характера, реакции
натурально-хозяйственной. Отмена частной собственности и свободы
хозяйственной деятельности в городах, отмена,
прошедшая разные стадии, но неизменно ведшая к
одинаковым результатам, неуклонно подрывала
производительные силы и разрушала производство. Начался
процесс с деморализации труда: производители стали
не работать при помощи капитала или капиталов, а
проедать капиталы, и города из производственных
центров превратились в скопления чистых
потребителей. Как таковые, города стали не нужны деревне;
обозначился и с ужасающей быстротой
прогрессировал разрыв нормальной экономической связи между
городом и деревней. Последняя замыкалась в кругу
своих собственных экономических процессов,
другими словами, возвращалась к натуральному хозяйству.
Город, в лице коммунистического государства,
властной и прямо вооруженной рукой вторгался в это
натуральное хозяйство деревни. Деревня, лишенная
нормального притока товаров и в то же время
экономически более сильная, чем город, жадно выменивала и
скупала городские движимости разного рода.
Население городов и, вообще, поселений городского типа
разбегалось, оседало, по возможности, на землю, про-
1 Гордость русской культуры, земская медицина,
осуществившая в невиданных раньше размерах всеобщую бесплатную
медицинскую помощь, низведена революцией до нуля.
Итоги и существо коммунистического хозяйства 293
мышленность падала, пролетариат реально
сокращался в численности. Этот процесс можно проследить на
всех отраслях промышленности, кроме двух видов
производства, получивших невероятное развитие:
писания бумаг, исходящих и входящих, и печатания
бумаги, которой присвоено хождение в качестве денег.
Поток бумаг и бумаги двигал и двигает колесо
советского управления неуклонно разрушающимся
народным хозяйством России. В сфере производства
исходящих и входящих увеличивалась выработка1, росла
численность рабочих рук, формировались абсолютно
весьма значительные, относительно прямо громадные
кадры нового бюрократического пролетариата, тесно
связанного с самым существом коммунистического
строя. Тут происходила централизация
производственного процесса, если можно о нем говорить в данном
случае. Во всех других областях происходят в общем и
целом обратные процессы: падение числа занятых
рабочих рук, бегство из производства представителей
квалифицированного труда, переход производства в
формы более примитивные, измельчание
предприятий, их — да будет позволено выразиться несколько
варварским словом — «окустарение». Наиболее
мелкие предприятие своим мелким размером спасаются
от национализации, убивающей самый нерв
предприятия, личную инициативу и личный интерес владельца.
Но помимо этого, сморщился самый масштаб всей
хозяйственной жизни, она настолько обмелела, что в
ней уже не могут держаться крупные предприятия.
Внешняя картина на первый взгляд производит
пестрое впечатление: рядом с «окустарением»
промышленности, как бы прячущейся от социалистического
режима с поверхности экономики в ее поры и норы,
наблюдается и обратное явление: «укрупнение»
предприятий2. Внешним образом это укрупнение напоми-
1 Впрочем, даже печатание бумаги, выполняющей функцию
денег, сейчас уже страдает, по-видимому, от общего упадка
производительных сил страны.
2 Пример (из многих): в Иваново-Вознесенском районе на
1 октября 1919 г. было «ликвидировано» 38 фабрик с 16340
рабочих. См. «Иваново-Вознесенский губернский ежегодник» на
1920 г., стр. 68.
294
П.Б.Струве
нает концентрацию или централизацию производства
в свободном, некартеллированном или картеллирован-
ном, капиталистическом хозяйстве. Но стоит только
осмыслить эти два процесса, чтобы видеть их
глубочайшее различие. Укрупнение предприятий в
капиталистическом хозяйстве происходило под давлением
роста производительных сил и производства в
условиях неогранченной свободы конкуренции — это было
результатом того процесса, который Маркс
охарактеризовал как анархию производства — непременный
спутник и необходимое явление буйного роста
производительных сил капитализма. Коммунистическое
укрупнение производства, наоборот, есть вынужденное
приспособление к всестороннему оскудению
народного хозяйства, к недостатку сырья, топлива, рабочей
силы, продовольствия и т.д. и т.д.
Необходимо вообще отметить, что советский
коммунизм в некоторых отношениях есть прямой
наследник того, что принято называть военным хозяйством,
военным социализмом или военным регулированием.
При этом мы можем отметить следующее
любопытное соотношение. Субъективно-психологически
новейший расцвет социалистических
(коммунистических) настроений и идей во всем мире связан,
конечно, с фактом регулирования хозяйства во время
войны в интересах ее экономического обеспечения.
Но объективно-экономически, не в формальном, а
существенном отношении военный социализм не имеет
ничего общего ни с тем социализмом, который
предполагался марксистской теорией имеющим неизбежно
родиться из капиталистического процесса, ни с тем
синдикатским или картельным регулированием
промышленности, которое на самом деле из него
рождалось. Военный социализм регулировал большую или
меньшую относительную скудость, вызванную
специальной временной причиной, экономическим
напряжением, требуемым войной, призван был бороться с
недопроизводством. Программно-исторический,
научный социализм марксизма, наоборот, мыслился
регулирующим не скудость, а обилие, призывался
побороть именно перепроизводство надлежащим,
рациональным приспособолением богатых
производительных сил капитализма к действительным потребностям
Итоги и существо коммунистического хозяйства 295
общества. Такую же задачу — регулировать обильное
производство, бороться с перепроизводством имели
всегда возникавшие в капиталистическом хозяйстве
картели, синдикаты, тресты. Экономическая
бессмысленность и историческая нелепость русского
коммунистического (социалистического) опыта состоит,
между прочим, в том, что для него, как
хозяйственной системы, отсутствует самая основная
экономическая предпосылка, из которой вообще выросла вся
марксистская организационно-экономическая идея
социализма как могильщика и наследника
капитализма: производственное обилие, созданное самим же
капитализмом.
Регресс промышленной и вообще хозяйственной
жизни при коммунистическом режиме сказывается
решительно во всем. Одним из ярких признаков его
является, например, вытеснение минерального
топлива древесным. С всемирно-исторической точки зрения
это есть возвращение к первой трети или половине
XVIII века: для металлургии России это явление
означает возврат к 70-м гг. XIX века. В области добычи
каменного угля Россия отброшена приблизительно
тоже к этой эпохе. В области текстильной
промышленности падение производства отодвигает нас в еще
более отдаленную эпоху. Таким образом, в области
всей промышленной деятельности мы видим
ужасающее количественное сокращение и техническую
деградацию производства на фоне крайней деморализации
труда и падение индивидуальной производительности
работника. Следует при этом решительно отклонить
одно довольно распространенное недоразумение,
сводящееся к невежественному или тенденциозному
мнению, будто этот регрессивный метаморфоз
промышленности обусловлен и подготовлен войной. Как бы
ни оценивать общее влияние войны на хозяйственную
жизнь страны, — в России, как и в других
государствах, война, создав искусственную скудость, в то же
время усилила коллективное производственное
напряжение страны. Война, конечно, взвалила огромное
бремя на народное хозяйство, но пока существовала
твердая государственная власть, прочный правовой
порядок и буржуазный уклад хозяйства, не было
явлений общего и абсолютного народнохозяйственного
296
П.Б.Струве
оскудения: в России это стимулирующее влияние
войны, пожалуй, обнаружилось даже ярче, чем в
других странах. Рост реальной заработной платы во время
войны скорее обгонял рост цен, чем отставал от них.
Уровень жизни трудящихся масс поэтому повышался.
Это верно в отношении промышленного
пролетариата; еще увереннее можно это сказать о крестьянстве.
Война означала в России, как и всюду, огромное, «не
производительное» с хозяйственной точки зрения,
истребление капиталов и использование живой рабочей
силы, но она повысила производственную энергию в
стране и улучшила экономическое положение низших
классов населения.
В прямо обратном смысле подействовала
революция вообще и в частности, и в особенности
октябрьская революция, принесшая с собой насильственное
осуществление коммунизма. Временно и весьма
эфемерно революция на счет проедания капиталов
принесла некоторое мнимое улучшение положения
рабочих, деморализовав в то же время труд и тем в самой
основе подорвав производство.
Производственный регресс не ограничился
промышленностью — он захватил и сельское хозяйство. В
области сельского хозяйства разрушительно
действовало не только уничтожение культурных
частновладельческих хозяйств (которое вовсе не было ни
возмещено, ни даже сколько-нибудь чувствительно
ослаблено созданием так называемых «советских
хозяйств»), не только не поддающееся учету стихийное
крестьянское «поравнение», но и тот уже отмеченный
выше разрыв нормальной экономической связи
деревни с городом, который сплошь и рядом побуждал
сельскохозяйственного производителя замкнуться в
удовлетворении собственных потребностей и в силу
этого и реально сокращать свое производство, и
избегать вынесения его продуктов на рынок. Сокращалось
таким образом сельскохозяйственное производство, и,
помимо этого, сокращалось еще и
сельскохозяйственное предложение как таковое.
Хозяйственная пустота, перед которой оказалась
коммунистическая власть, обнаруживается с
потрясающей ясностью в области финансового хозяйства.
При коммунистическом хозяйстве нельзя ни теорети-
Итоги и существо коммунистического хозяйства 297
чески, ни практически отделить государственного
(финансового) хозяйства от хозяйства народного. У
того и другого и один субъект в экономическом и
правовом смысле, и один непосредственный субстрат.
При цветущем коммунистическом народном хозяйстве
(с некоторым усилением мысли мы можем назвать в
уме и такой фантастический образ) легко представить
себе цветущие коммунистические финансы. Но в
экономической пустоте не может быть никаких
финансов. И именно это мы видим в советской России. Как
ни стараются пошедшие на службу коммунистической
власти старые чиновники блестящего некогда
финансового ведомства Императорской России, нормы
которого начертаны юридическим гением Сперанского,
практика которого фиксирована Канкриным, Рейтер-
ном, Бунге, Вышнеградским и Витте, под словесные
рубрики советского государственного хозяйства
никакого финансового содержания и они не могут
подвести. Когда-то Маркс, не слишком хорошо знавший
русскую экономику и ее историю, острил, что в
России есть только одна хорошо работающая фабрика —
это государственная фабрика бумажных денег
(«экспедиция заготовления государственных бумаг»). Он,
очевидно, не предвидел, что в России
марксистам-коммунистам суждено будет, во славу коммунизма,
довести до неслыханного уровня производство бумажных
денег и на этом производстве обосновать все
государственное хозяйство коммунистической России.
Впрочем, не только на нем одном. Государственное
хозяйство советской России покоится не только на
производстве бумажных денег, но и на потреблении и на
отчуждении накопленного буржуазным строем
золотого запаса. Производя денежную бумагу,
коммунистическое государство проедает золотой фонд,
доставшийся ему в наследство от прежней России. Таким
образом, в области финансового хозяйства
коммунистическая власть чисто паразитарно-хищнически
существует на счет прошлого.
Очерченная перед вами натурально-хозяйственная
реакция, созданная в России коммунистическим
режимом, не имеет себе ничего подобного в мировой
истории ни по размерам — ибо все исторические
прецеденты такого рода прямо несравнимы по масштабу
298
П.Б.Струве
с русским опытом XX века — ни по остроте процесса.
Эта острота процесса обусловливается, во-первых,
тем, что он не стихийно вытек из тех или иных
экономических, социальных и политических действий и
перемен, а прямо продиктован и навязан народу
сверху властной и вооруженной рукой
коммунистического государства и, во-вторых, тем, что он
осуществлен в очень короткий для жизни народа
промежуток времени.
В связи с этой особенностью экономической
реакции, в которую ввергнута Россия, стоит еще другая ее
черта, на которую уже был сделан намек при оценке
коммунистического финансового хозяйства. Если
брать процесс, совершившийся в России,
исторически, то следует признать, что коммунистическое
хозяйство, сменившее хозяйство капиталистическое —
довоенное и военное, явилось по отношению к ним
чистейшим паразитом-хищником. Коммунизм эти три
года жил на счет капиталистического и, в частности,
военно-капиталистического хозяйства, на счет
накопленных им запасов. Теперь он съел эти запасы —
отсюда крайнее обострение экономического положения
советской России.
Это обострение есть кризис паразитарно-хищничес-
кого хозяйства, ввергшего страну в
натурально-хозяйственную реакцию. По размерам своим и по остроте
этот кризис и эта реакция — как уже было указано —
невиданное явление в мировой истории. Отдаленную
аналогию ему можно видеть лишь в экономической
эволюции древнего мира в эпоху упадка Римской
Империи, процесса, растянувшегося на столетия.
Некоторые явления этой эволюции при всех различиях
между императорской властью Рима и советской
властью Москвы, обнаруживают изумительное сходство. И
там, и тут основной характеристикой всего
экономического положения была натурально-хозяйственная
реакция. И там и тут граждане были закрепощены
государству, были его подлинными «тяглецами», по
красочному выражению Московской Руси.
И там и тут экономическая политика государства
красноречиво свидетельствовала о том, что
величайший из новейших историков древности, говоря о
знаменитом эдикте Диоклециана о ценах, охарактеризо-
Итоги и существо коммунистического хозяйства 299
вал его однажды как «безумие власти». Но
коммунистическое безумие Московской власти отличается от
безумия императорского Рима тем, что в первом, как
в безумии Гамлета, «есть система».
Натурально-хозяйственная реакция древности стихийна и вытекла
из целого ряда процессов и она была их
естественным итогом, а не явилась результатом осуществления
какой-либо цельной программы или плана
экономического устройства. В русском процессе,
современниками и жертвами которого являемся мы, дело обстоит
совершенно иначе. Тут все вытекло из известной
программы, из определенной системы, из предвзятой
идеи.
Эту систему или программу надлежит подвергнуть
анализу по существу, но прежде чем перейти к такому
анализу, т.е. к освещению второго из поставленных
нами вопросов, необходимо отметить еще одну черту,
характерную для изображаемого нами процесса.
Коммунизм Ленина и его товарищей, бесспорно, основан
теоретически на марксизме, на социологическом и
историческом учении Маркса. Альфой и омегой этого
учения является идея развития производительных сил,
идея, что смена одной экономической формации или
организации другою определяется победой более
производительной формации над менее
производительной. Отсюда, как следствие, вытекает идея, что
социализм или коммунизм явится плодом развития, внутри
самого капитализма, производительных сил, которые
перерастут сковывающие их капиталистические
рамки. Экономическая действительность
коммунистической России есть жестокая насмешка истории над
выше очерченной исторической концепцией
марксизма. Коммунизм Маркса и Ленина может быть, и даже
наверное, психологически родился из настроений
капитализма, но осуществление коммунизма, как оно
произошло в России, не только не означает победу
более совершенной экономической формации, а,
наоборот, привело с собой неслыханный экономический
регресс, реализовалось — да позволено будет
употребить термин той эволюционной биологии, которую
так почитал основатель коммунизма, Маркс — в
подлинный регрессивный метаморфоз всего народного
хозяйства.
300
П.Б.Струве
III
Советское хозяйство и социализм
Отсюда возникает дальнейшая альтернатива
следующего содержания: либо социализм или коммунизм
не есть вовсе высшая по сравнению с капитализмом
экономическая формация; либо то, что осуществилось
в России, не есть вовсе социализм или коммунизм.
Последнее решение явно не соответствует истинному
духу и характеру советского законодательства.
Поскольку существует вообще теоретическое понятие
социализма или коммунизма1, советское
законодательство последовательно проводит это понятие. Другими
словами: экономическая политика советской власти
всецело подчинена социалистической идее и
программе. Теоретическое понятие социализма сводится к
отмене частной собственности на орудия и средства
производства и к перенесению ее на все общество в
лице государства или тех или иных общественных
союзов. Вне этого понятия социализма, выражающего
его содержание в более или менее точной юридичес-
1 Существуют в экономической литературе разные
употребления этих терминов, но эти разные употребления затрагивают
либо философские проблемы общественного миросозерцания,
либо касаются оттенков основной мысли. Оба слова
«социализм» и «коммунизм» обозначают одно и то же основное
понятие, ниже разъясняемое. Что касается термина
«государственный капитализм», то в отношении его существует какое-то
логическое и историческое недоразумение. Поскольку под этим
словом разумеется порядок, противополагаемый «частному»
капитализму, т.е. перенесение права собственности на капитал с
частных лиц всецело или частично на государство, —
«государственный капитализм» и «государственный социализм» или
попросту социализм — тождественны. Но слово и понятие
«государственный капитализм» имели в устах его творца совершенно
определенный социологический и политический смысл. Термин
этот пущен в ход Либкнехтом-отцом в одной из его речей для
обозначения строя, при котором право собственности на
средства и орудия производства в том или ином объеме перешли к
государству при условии неперехода государственной власти в
руки пролетариата. «Государственный капитализм», который
Либкнехт противопоставлял настоящему социализму, — это
социализм без диктатуры пролетариата. Говорить поэтому о
«государственном капитализме» при большевиках лишено всякого
смысла.
Итоги и существо коммунистического хозяйства 301
кой формуле, социализм становится чем-то либо
весьма неопределенным и неуловимым, ничего не
говорящим и ни к чему не обязывающим, либо совершенно
частичным и эмпирическим1. Советское
законодательство, наоборот, в основах своих всецело отвечает
точному теоретическому понятию социализма, которое
по сути своей есть понятие правовое. Отрицать
социалистический характер советского законодательства
значит отрицать нечто логически очевидное. Таким
образом мы приходим, казалось бы, к первому
решению нашей альтернативы. По-видимому, однако,
можно уйти от этого решения, признав что русский
опыт социализма был осуществлен в непригодных для
опытной проверки социалистических принципов
условиях общественной среды, еще не созревшей для
социализма. При других условиях, в иной среде опыт
дал бы иной, не отрицательный, а положительный
результат. Этим хотят сказать, что русский опыт
осуществления социализма принципиально не
доказателен.
Такая оценка русского опыта, грандиозного и по
размаху замысла, и по фактическим размерам
осуществления, есть обычный, либо подразумеваемый,
либо более или менее явно выраженный отвод, во
имя социализма предъявляемый разными
представителями этого учения против большевизма,
экономическое и политическое фиаско которого становится
все более и более явным. С этой точки зрения,
социализм не отвечает за большевизм...
Отвод этот, однако, не может быть принят без
дальнейшего обсуждения. Русский опыт
осуществления социализма слишком серьезен и глубок для того,
чтобы от него можно было бы отделаться таким чисто
историческим отводом. Как ни отстала в
экономическом и культурном отношении Россия — сравнительно
с западными странами, — социалистический опыт,
произведенный в ней, поставил на пробу и испытание
не только ее общую культурность, не только ее эконо-
1 Известно изречение, приписываемое то королю Эдуарду VII,
то сэру Уильяму Гаркуру и гласящее: «Мы теперь все
социалисты» (We are all now socialists). Но поскольку все — социалисты,
социализм, как особая категория, перестает существовать.
302
П.Б.Струве
мические силы, но в то же время подверг опытной
проверке и те общие начала и мотивы, на которые
опирается социализм, и с этой стороны русский опыт
заслуживает величайшего внимания, именно как опыт
последовательного осуществления социализма. В
первый раз, если не считать так называемое государство
иезуитов в Парагвае, были в широчайших пределах и
длительно осуществляемы социалистические начала.
Если опыт этот совершенно не удался, если он
объективно привел к неслыханному регрессивному
метаморфозу народного хозяйства, то этот результат не
может быть вменен лишь одной культурной
незрелости России. Им ставятся под вопрос самые
принципиальные основы социализма, а не только исторические
условия и политические методы осуществления
данного опыта. Почему не удался социалистический опыт?
Потому ли, что русский крестьянин дик, что русский
рабочий не далеко ушел от крестьянина, что мешала
«блокада» и т.д. и т.д., или потому, что принципы
социализма несовместимы с нормальной хозяйственной
жизнью, что их применение подрывает
производственную энергию труда, являющуюся основой всякой
сколько-нибудь сложной хозяйственной жизни,
вышедшей за пределы простого «отыскивания пищи», по
известной формуле Бюхера.
Принципы социализма не случайно были прежде
всего применены к области крупной добывающей и
обрабатывающей промышленности, к этой сфере
капитализма и пролетариата по преимуществу. Тут
фактические условия психологического порядка были
всего более благоприятны для применения
социалистических принципов. В этой области и надлежит
поэтому проследить их действия.
Промышленная политика Советской власти на
всем ее протяжении отнюдь не была равна себе. В
ней можно даже отчетливо усмотреть различные
этапы. Прежде всего — при рассмотрении истории
большевизма — сразу бросаются в глаза два его
состояния, или периода.
В первом состоянии своем большевизм есть, с
одной стороны, стихийное увлечение, угар масс,
движимых своими элементарными инстинктами, с другой
стороны, сознательная игра руководящих партийных
Итоги и существо коммунистического хозяйства 303
коммунистических кругов на этих настроениях и
инстинктах масс. Это — период насильственного
разрушения буржуазного строя, или коммунистического
штурма на этот уклад экономических и
государственных отношений. Для этого штурма нужны большие,
возможно более наэлектризованные демагогией, массы,
ибо нужен сокрушительный удар.
Второе состояние, или период большевизма, это —
период насильственного созидания или
осуществления нового строя вопреки, или, во всяком случае, без
участия настроений и воли масс, почти
исключительно аппаратом организованного сознательного
партийного меньшинства. В первом состоянии активны не
только вожаки и их партия, но и самые массы, во
втором действуют в подлинном смысле только верхи,
только господствующий класс советской России,
коммунисты.
Эти два состояния или периода можно отчетливо
усмотреть и в промышленной политике советской
России. Первый период, стихийно-демагогический,
характеризуется завлечением масс непосредственными
выгодами от захвата предприятий, совершаемого под
идейной маркой «рабочего контроля». Этой маркой
прикрывался, в сущности, факт полной или
частичной экспроприации буржуазии в лице отдельных
предпринимателей (единоличных или коллективных)
их же собственными рабочими. Фабричный
суверенитет переходит к рабочему составу данного
предприятия и используется им в его непосредственных
выгодах. Советская власть довольно быстро спохватилась,
что осуществление «рабочего контроля» есть либо
совершенно бессмысленная с социалистической точки
зрения анархизация производства не в пользу
общественного целого, а в пользу более или менее
случайных групп рабочих, либо приведет к восстановлению
обходным путем буржуазного экономического уклада.
Так период «рабочего контроля» был сменен
периодом государственного управления
промышленностью. Не может подлежать ни малейшему сомнению,
что переход от рабочего контроля к государственному
управлению промышленностью представлял, с точки
зрения социализма, огромный шаг вперед, и даже
независимо от этого такая перемена в организации дела
304
П.Б.Струве
означала некоторое относительное упорядочение
промышленности. Такое же значение имела
осуществленная в значительных размерах замена коллективного
управления отдельными предприятиями управлением
единоличным. Тем более поучительным является то,
что, несмотря на упорядочение промышленности этими
двумя реформами (из которых вторая проводилась
фактически, но не вылилась ни в какое
законоположение), производительность промышленного труда все
падала и падала.
Это падение производительности труда вынуждало
у коммунистической власти новую производственную
политику, которая характеризуется двумя основными
чертами: 1) введением буржуазных поправок в
социалистический строй труда; 2) введением военных
методов воздействия на труд, его частичной или полной
милитаризации. Введение буржуазных поправок в
социалистический строй труда ознаменовалось, прежде
всего, заменой повременной оплаты труда оплатою
сдельною, подкрепленной системой премий за
успешность труда. Этим совершенно опрокидывалось
основное боевое пролетарское требование
уравнительности в вознаграждении за труд, то требование,
которое было всегда боевым кличем всех социалистов и в
особенности самих большевиков, когда они вели
рабочих на штурм против капитализма1: «Был такой
момент в жизни заводов, когда производительность
труда упала до катастрофических размеров, и секция,
скрепя сердце... должна была пойти на такой
нежелательный с точки зрения основных принципов
социализма шаг, как введение сдельных работ». См. также
стр. 37 и 39.
В эпоху Временного Правительства требование
уничтожения сдельной оплаты получило почти
всеобщее удовлетворение, чем и было положено начало
всеобщей деморализации труда, ибо внутренняя
дисциплина труда покоится прежде всего на начале
соответствия между личной годностью и личными
усилиями каждого работника и его вознаграждением.
1 См. КАнтонов, Два года диктатуры пролетариата в
металлопромышленности Петрограда. Петр<оград>, 1920 г. стр. 29.
Итоги и существо коммунистического хозяйства 305
Рядом с этим «обуржуазением» промышленного
строя шла его милитаризация, выразившаяся в
удлинении сверху рабочего времени, в подчинении труда
суровой военной дисциплине и во введении всеобщей
трудовой повинности.
Таким образом, если за кратковременным
периодом рабочего контроля последовала эпоха
государственного управления промышленности, то в эту эпоху
чистый эгалитарный социализм книжного пошиба
быстро испытывает довольно сложное буржуазное и
милитаристическое перерождение. Это перерождение
было необходимо для того, чтобы достигать хотя бы
минимальных результатов в области промышленной
деятельности.
«Промышленный фронт» — читаем мы в одном
коммунистическом произведении — «самый важный
фронт русской революции и каждый гражданин
является трудообязанным. Трудовым дезертирам не будет
пощады. Вот что значит трудовая повинность, вот что
такое милитаризация труда. Кто может отрицать за
пролетарским государством такое право в период
уничтожения частной собственности на орудия
производства и обмена? Кто может отрицать за ним
обязанность требовать в пользу общества от каждого
определенной суммы mpydaïï Никто, кроме жалких
филистеров, круглых дураков или бесчестных демагогов»1.
И то и другое: и «обуржуазение» трудового
процесса, и его «милитаризация» вносит в советский
коммунистический строй глубочайшие внутренние
противоречия и в то же время не дает осязательных
результатов в хозяйственном смысле. Действие буржуазных
поправок парализуется и общим коммунистическим
строем хозяйства и активным и пассивным
сопротивлением, которое рабочие оказывают этим поправкам.
Для того, чтобы понять совершающееся,
необходимо вернуться к поставленной коммунистическим
переворотом проблеме социализма. Точное правовое
понятие социализма, как уже было сказано, сводится
к отмене частной собственности на средства и орудия
1 А.Лозовский, «Профессиональные союзы в советской России»,
цит. у Л.Троцкого «Роль и задачи профессиональных союзов» в
сборнике «Партия и союзы» П<е>тр<оград>, 1921, стр. 257.
306
П.Б.Струве
производства (в широчайшем смысле) и к
перенесению ее на общественное целое в лице государства или
каких-либо иных общественных союзов. Это правовое
понятие социализма соприкасается и переплетается с
понятием экономически-организационным, сводящимся
к обобществлению всего хозяйственного процесса.
Превращенные в общественную (государственную)
собственность средства и орудия производства
общественно используются в порядке центрального
регулирования всей хозяйственной жизни. Но рядом с этим
правовым и экономически-организационным
понятием социализма огромную психологическую реальность
представляет еще третья идея социализма —
социально-политическая. Она говорит о том, ради чего
осуществляется социализм в правовом и
организационно-техническом смысле.
Отмена частной собственности и обобществление
хозяйственного процесса осуществляются ради
установления возможно большего равенства в
пользовании благами между членами общества и ради
возможно большего повышения индивидуальной доли
каждого члена общества. Эта распределительная цель
социализма образует его уравнительную или эгалитарную
идею. В сущности, только распределительная цель и
эгалитарная идея социализма интересует и
вдохновляет массы. Это значит, что, поскольку социализм
отказывается от эгалитарности, поскольку он
превращается в чисто организационно-техническое решение
производственной задачи, постольку он перестает
интересовать и привлекать массы. Провозгласив
освобождение и уравнение труда, советский коммунизм пришел
к закрепощению труда и к дифференциации его
оплаты. И он был вынужден это делать, ибо перед ним все
грознее и грознее вставала производственная
проблема. Съедая запасы, наследие буржуазного режима,
советский коммунизм все ближе и ближе подходил к
роковой черте, у которой уже обнаруживалась
создаваемая им хозяйственная пустота. Отсюда все потуги
на реформы и эволюцию, которые характеризуют в
настоящий момент советский экономический режим.
Реформы или эволюция диктуется тем, что, с одной
стороны, милитаризация труда и бюрократизация
хозяйства внушают опасения самим коммунистам. С
Итоги и существо коммунистического хозяйства 307
этими явлениями и должны бороться возрождаемые к
новой жизни профессиональные союзы, носители
«рабочей» «производственной» демократии, которые
должны как-то помочь советской власти построить
социалистическое советское хозяйство1.
1 Ю.Милейковский в сборнике «Партия и союзы», стр. 217:
«Построить на социалистических (а тем более на
коммунистических) началах народное хозяйство нельзя исключительно при
помощи государственных (хотя и пролетарских) органов
управления, не подводя под них, как базы, массовой
самоорганизации, инициативы и творчества. Иначе это будет марксистски
безрамотный, по форме бюрократический подход к вопросу.
Полагать, что союзы могут организовать труд, не входя в
производство, значит низводить их до роли каких-то чисто
профессиональных организаций чуть ли не тред-юнионистского типа.
Мы должны совершенно отбросить всякие разговоры о
несовместимости в хозяйственной работе Совнархозов и
Профсоюзов и построить в интересах согласованной практической
работы систему их функций и взаимоотношений».
Л.Троцкий в том же сборнике, стр. 247: «То, что составляло
существо профессионального союза в буржуазном обществе,
отпало: в рабочем государстве профессиональный союз не может
вести классовой экономической борьбы. С другой стороны, по
мере того, как отслоившиеся от союзов хозяйственные органы
развивались все более самостоятельно, подбирали себе
необходимых работников, создавали новые методы и навыки работы,
строили и перестраивали свои аппараты — участие союзов в
хозяйственном строительстве становилось все более урезанным,
бессистемным и поверхностным. Именно отсюда возник и
развился глубокий кризис профессионального движения».
Шляпников. В том же сборнике, стр. 301—302 «О задачах
рабочих союзов»: «Когда мы боролись за власть советов, то противо-
ставляли бюрократической власти капиталистического
государства Советы, как массовые органы власти пролетарской
демократии, сближающие трудящиеся массы с государством. В ходе
нашей борьбы мы нагромоздили такое большое количество
органов и так отдалили их от масс, что вынуждены ставить в
порядок дел вопрос о борьбе с бюрократизмом. Под самое, понятие
бюрократизма мы подводим также различные понятия. Для
одних бюрократизм сводится только к канцелярщине,
переписке, бумажной волоките, но это лишь одна сторона
бюрократизма, которую легко победить путем внутренней организации
работы аппарата. Самая опасная сторона бюрократизма
заключается в фетишизме аппаратов государственной власти, в их
стремлении рассматривать себя в качестве пупа земли, вокруг
которого вращаются солнце, луна и прочие советские планеты.
Отсюда, из такого положения вытекает и формальное
отношение к делу, бездушность, ограниченность и прочее зло. С этим
308
Π, Б. Струве
С другой стороны, буржуазные принципы личной
заинтересованности в производстве и личной
ответственности индивида за свою хозяйственную судьбу
должны сыграть роль того целительного возбудителя,
того мышьяка, который при правильной дозировке
может поднять тонус социалистической
хозяйственной жизни, не убив самого социализма1.
Что же означает, что советский режим ищет
экономического спасения в этих буржуазных уловках, или
лазейках, в этих expédients, как говорят французы?
Обратимся сперва ко второму. С социалистической
точки зрения обоснование производительности или
успешности производительного процесса на
дифференциальной оплате труда есть радикальное
отступление от уравнительной или эгалитарной основы социа-
злом можно справиться только построением наших аппаратов
власти по системе рабочих организаций, куда проникала бы
легко пролетарская инициатива и самодеятельность. Победить
бюрократизм в хозяйственных органах возможно только через
привлечение рабочих союзов к активному творчеству в области
организации нашей промышленности и предоставление им
соответствующих этому прав».
1 Авдеев, в сборнике «Партия и союзы», стр. 201—202: «По идее
коммунизма следовало бы выдавать одинаковую для всех
трудящихся оплату; однако мы не делаем этого вследствие
имеющегося среди подавляющей массы трудящихся предрассудка,
унаследованного от капиталистического общества и выражающегося
в том, что чем выше квалификация труда, или чем
ответственнее работа, тем оплата должна быть выше». Стр. 198—199:
«...Поскольку деньги как средство обмена остались нам от
буржуазного общества, на них коммунизма строить нельзя; их надо
использовать так, чтобы производственные предприятия
работали нормально, чтобы производительность в них росла, а не
понижалась, чтобы увеличились от этого материальные ресурсы,
на которых мы можем оперировать уже по коммунистическому
принципу. Тяжело, правда, слышать, что неквалифицированные
рабочие мало зарабатывают и особенно тяжело нам —
профессионалистам, ибо у рабочих, и особенно неквалифицированных,
до сих пор остались прежние взгляды на профессиональные
союзы как на союзы, ведущие борьбу за улучшение
материального положения путем увеличения заработной платы. Но
профсоюзы теперь уже не те. Они видят, что улучшение положения
рабочего класса не в увеличении заработной платы, а в
увеличении производительности, в создании большего фонда
материальных благ».
Итоги и существо коммунистического хозяйства 309
листического советского хозяйства. И то, что
социалистическая мысль и социалистическая власть
обращаются к этому выходу, не есть обстоятельство, чисто
исторически определяемое культурным уровнем
русского народа, а есть существом дела обусловленная
сдача центральной принципиальной позиции
социализма, социализма не как правовой или
экономической техники, а как социально-политической
идеологии, — отказ от его эгалитарной идеи.
Отказ этот обусловлен тем, что то буржуазное
начало, которое можно охарактеризовать как начало
расценки людей по их личной годности, есть необходимый
двигатель всякой экономической деятельности,
которого нельзя устранить, не подрывая в корне всей
хозяйственной жизни. Сквозь культурно-исторически
обусловленный, своеобразно русский, рисунок
происходящих в России социально-экономических
процессов мы можем рассмотреть одно чрезвычайно важное
соотношение, имеющее значение всеобщее. Русский
опыт в сочетании стихийного массового движения с
сосредоточенным государственным действием сопряг
или, вернее, пытался сопрячь эгалитарный,
«уравнительный» мотив социализма с его организационно-
технической идеей, опирающейся на правовой
принцип коллективной собственности, пафос
социализма—с его техникой!
Именно этим русский опыт и обнаружил воочию,
что организационно-техническая идея социализма для
своего экономически-успешного осуществления
требует величайшего напряжения буржуазных
антиэгалитарных мотивов. Иначе говоря, русский опыт показал, что
обобществление хозяйства, призываемое ради
насаждения равенства, если только это обобществление
вообще достижимо, может быть осуществлено лишь при
принципиальном признании и практическом
проведении начала хозяйственного неравенства: либо
социализм означает хозяйственный упадок или регресс,
либо он должен быть — «буржуазен». Это значит, что
социализм, как обобществление хозяйства, как
мыслимый метод наиболее рационального устроения
хозяйственной жизни, и социализм, как уравнительный
идеал — не совместимы один с другим. Кто гонится за
уравнительностью, тот теряет или губит хозяйствен-
310
П.Б.Струве
ность, кто стремится к хозяйственности, тем самым
должен отказаться от уравнительности. Многие это и
ранее более или менее смутно ощущали или, по
общим теоретическим соображениям, предполагали.
Русский опыт, с полной ясностью, ценою ужасных
страданий, обнаружив это соотношение, раскрыл
живую трагедию социализма. В этом его
всемирно-историческое значение, предвосхищенное одиноким
русским мыслителем, сказавшим: «мы как будто живем
для того, чтобы дать какой-то великий урок
человечеству».
Указанное соотношение между организационно-
технической и эгалитарной идеями социализма
объясняет и бесплодность буржуазных поправок, которые
коммунистическая власть вносит в социалистический
промышленный строй. Для коммунистов
обобществление хозяйства есть средство, уравнительность же
представляет цель. Уравнительная цель для
коммунистов и еще более для масс, психологию которых и
коммунистическая власть не может игнорировать,
гораздо интереснее и важнее организационного
средства, и подавно интереснее и важнее необходимых для
экономической организации буржуазных методов.
Но дать буржуазным началам действенную для
хозяйства силу нельзя, дозируя их как сильно
действующие яды. Фармацевты и лекаря коммунистического
хозяйства хотят хлеб и молоко применять так, как,
быть может, имеет смысл применять мышьяк или
морфий. Пафос социализма или коммунизма в
уравнительности, и буржуазные начала суть начала
инородные, разлагающие для социалистического духа, для
коммунистического замысла, и потому действие этих
начал, даже когда оно вводится коммунистической
властью, встречает в социалистической психологии
многообразные сопротивления, низводящие их
полезную работу до минимума. В этом глубокая причина
бесплодности борьбы коммунистической власти
против деморализации труда. Уравнительный пафос и
деморализация труда суть лишь два аспекта одного и
того же явления. Против деморализации труда можно
бороться только буржуазными началами и
буржуазными санкциями.
Итоги и существо коммунистического хозяйства 311
Буржуазную природу второго экономического
expédient советской власти — профессиональных
союзов, разглядеть не так легко, как в первом случае,
ибо спор коммунистов о профессиональных союзах
точно нарочно велся так, чтобы затемнить суть дела.
Подобно тому, как коммунистическая власть, отменив
институт частной собственности на средства и орудия
производства, не могла отменить экономической
природы отдельного работника, точно так же эта власть
не могла изменить ни объективной природы рабочего
класса, занятого в промышленности, ни его
вытекающей из этой природы потребности в
профессиональном объединении, которое при случае может
направляться против поставившей себя на место
предпринимателя советской власти.
Сейчас в среднем рабочем советской России
проснулась его классовая природа. Но проснулась не
против буржуазии, которой нет, не против
предпринимателя, который упразднен, а против советской
бюрократии, ставшей и не могшей не стать особым
классом рядом с классом простых и
квалифицированных рабочих. Профессиональные союзы или, вернее,
смутный инстинкт рабочих масс, сбитых в
профессиональные союзы коммунистической властью, стремится
к тому, чтобы эти союзы стали свободными
объединениями рабочих, т.е. вернулись к той своей природе и
фигуре, которая принадлежала им в буржуазном
обществе. Коммунистическая власть вынуждена
считаться с этими стремлениями, очевидно приобревшими
стихийную силу, но старается наперед обезвредить
их1. Профессиональная организация рабочих призна-
1 Ленин, Зиновьев и др. в сборнике «Партия и союзы», стр. 17 и
20: «Главным методом Профсоюзов является не метод
принуждения, а метод убеждения — что нисколько не исключает того,
что Профсоюзы, в случае надобности, успешно практикуют и
принципы пролетарского принуждения (принудительная
мобилизация десятков тысяч членов профессиональных союзов на
фронты, дисциплинарные суды и пр.). Перестройка
профессиональных организаций сверху совершенно нецелесообразна.
Методы рабочей демократии, сильно урезанные в течение трех лет
жесточайшей гражданской войны, должны быть в первую
очередь и шире всего восстановлены в профессиональном
движении. В профессиональных союзах прежде всего необходимо осу-
312
П.Б.Струве
ется в пределах, политически и полицейски
допустимых для советской власти. При этом необходимо с
особой силой подчеркнуть то положение, на которое
только что был сделан намек, а именно, что
учреждения, существующие в советской России под
наименованием профессиональных союзов, не соответствуют
формам, созданным капиталистической культурой и
рабочим движением западных стран. Запись в
профессиональные союзы коммунистического государства
обязательна и вообще это — организации не
свободные, не союзные, а принудительные и всецело
зависимые от государства.
Третий expédient советской власти — это свобода
торговли для производителей сельскохозяйственных
продуктов. «Свобода торговли» приходит тогда, когда
коммунистическим режимом промышленное
производство доведено до такого низкого уровня, что ему
нечего дать деревне. Поэтому эта освобожденная
торговля вращается в экономической пустоте, и ее
оживление привело, по-видимому, к новому и весьма
сильному росту цен, ибо в силу коммунистического
ществить широкую выборность всех органов профессионального
движения и устранить методы назначенства».
«Профессиональная организация должна быть построена на
принципе демократического централизма. Но вместе с тем в
сфере профессионального движения особенно необходима
самая энергичная и планомерная борьба с вырождением
централизма и милитаризованных форм работы в бюрократизм и
казенщину. Вызываемая необходимостью милитаризация труда
увенчается успехом лишь в той мере, в какой партия, советы и
профсоюзы сумеют объяснить необходимость этих методов для
спасения страны самым широким массам трудящихся и
организационно втянуть в эту работу хотя бы наиболее передовые слои
этих трудящихся масс».
«Красную армию нельзя было построить, не уничтожив
выборных комитетов старого типа. А народное хозяйство,
наоборот, нельзя поднять на должную высоту, не развивши и не
поднявши в то же время организации профсоюзов. Методы,
примененные к красной армии, вполне оправдали себя, дав победу
над контрреволюцией, и открыли стране возможность
приступить к хозяйственному строительству. Чтобы успешно
справиться с хозяйственными задачами, партия должна суметь
применить в этой области соответствующие данной работе методы,
т.е. преимущественно методы рабочей демократии».
Итоги и существо коммунистического хозяйства 313
строя инициатива в этом торговом оживлении
принадлежит не предложению, а спросу, голодному и в
то же время нищенскому городскому спросу. Для
того, чтобы свобода торговли сельскохозяйственными
продуктами могла принести некоторое более или
менее существенное облегчение неземледельцу,
экономическая жизнь города и промышленности должна
быть хотя бы в такой же мере освобождена от
коммунистического гнета, как была фактически от него
всегда относительно свободна, по недосягаемости для
советской власти, экономическая жизнь деревни. Но
такое освобождение города и промышленности от
коммунистического гнета будет означать не что иное,
как падение коммунистического режима. В то же
время, говоря о провозглашенной коммунистической
властью свободе торговли, следует опять-таки
подчеркнуть, что торговли в буржуазном смысле (ни в
смысле политической экономии, ни в смысле
торгового права, ни в смысле обычного
словоупотребления), т.е. торговли как «промысла», как особой
социальной функции, советская власть никогда не
допускала и теперь отнюдь не признала. Она только
милостиво разрешила изголодавшемуся потребителю
покупать у непосредственного производителя. Социализм
большевиков фактически пришел к крайнему
упрощению и распылению обмена, к тому, что французы
называют troc'ом, и вот он вынужден это примитивное
состояние обмена легализовать, но торговлю как
особую экономическую и социальную функцию он
продолжает отрицать.
В параличе и спекулятивном извращении торговли
выражается тот распад органической системы
народного хозяйства, к которому привело мнимое
коммунистическое обобществление хозяйственной
деятельности, явившееся на самом деле насильственной
дезагрегацией, разрушением естественных общественно-
экономических связей. Провозглашение «свободы
торговли» коммунистической властью есть
характерный образец словесных реформ, которые она
вынуждена вводить и на которые только и способна.
В этой связи, может быть, нельзя совершенно
обойти системы концессий иностранным предприни-
314
П.Б.Струве
мателям, к введению которой советская власть
стремится для того, чтобы не задохнуться в созданной ею
же самой экономической пустоте. Эта лазейка, этот
expédient, к которому прибегает советский режим, еще
более внешнего и искусственного свойства, чем
объявление свободы торговли, попытка в лице многих
профессиональных союзов призвать к жизни
«производственную» или «рабочую демократию». Обездолив,
истребив и изгнав свою национальную буржуазию,
коммунистическая власть призывает из-за границы
буржуазных варягов. В этом двойное свидетельство
крайней слабости советской власти: она не может по
политическим и полицейским соображениям,
диктуемым инстинктом самосохранения, допустить на
здоровых началах к хозяйственной работе в стране
национальную буржуазию, но она своим экономическим
банкротством вынуждена искать помощи у буржуазии
иностранной. В этой системе концессии
обнаруживается и крайняя слабость, и глубокий цинизм
советской власти. Это политика двойной измены:
цинической измены национальному началу и национальному
достоинству и столь же цинической измены
социалистическому идеалу. Системой концессий
коммунистическая власть низводит Россию и в национальном и
в социальном отношении на уровень экзотических
колоний. Социалистическая идеология и литература
полны обличения капиталистической колониальной
политики, действительно имевшей много темных
сторон, но коммунистическая власть оставила далеко за
флагом в этом отношении все капиталистические
режимы: она отдает на откуп, она раздает
капиталистические концессии и фактории в собственной стране!
Экономическое значение этого наиболее цинического
expédient советской власти обречено быть совершенно
ничтожным, по целому ряду соображений,
изложенных в специальном докладе. Все значения и вся
значительность советской концессионной системы лежит
в области политической: обанкротившаяся в
экономическом отношении власть этой системой пытается
экономически и, главное, политически подкупить в
свою пользу мировой капитализм.
Итоги и существо коммунистического хозяйства 315
IV
Соотношение политики
и экономики в советском строе
Тут мы подошли к третьему из поставленных
вопросов. Мы видели, как в большевизме вскрылась
двойственность социализма, уже не только как идеи,
но и как реального, осуществившегося
экономического явления.
Такая же двойственность, которую мы проследили
в отношении экономическом и социалистическом,
вскрывается и в области политической или, вернее, в
отношении между экономикой и политикой
коммунистического строя. Социалистический строй
осуществляется определенной политической организаций.
На языке доктрины и партии это зовется диктатурой
пролетариата. В сущности, это военная и полицейская
диктатура коммунистической партии, упражняемая
ради осуществления коммунистического строя.
Хозяйственное и социальное задание есть цель,
политический режим есть средство. Таково исходное
соотношение между экономикой и политикой в
большевистском перевороте и большевистском режиме.
Но это только исходная точка. Разрушив
хозяйственную жизнь и создав вместо нее экономическую
пустоту, советская власть перевернула соотношение между
своей экономикой и своей политикой. Хозяйство
советской России влачит призрачное существование,
реальностью же является могущественная политическая
организация, опирающаяся на армию и на господство
в ней скованной железной дисциплиной партии. И в
то же время — и в этом заключается
парадоксальность того явления, которое представляет советская
власть, — от призрачной коммунистической
экономики эта, казалось бы, могущественная политическая
власть и организация не может отказаться, ибо на ней
и ею она только и держится. В самом деле,
предположим, что советская власть, разом или постепенно,
отказывается от своей экономической системы, что она,
как принято теперь говорить, эволюционирует. Тогда
она лишается кадров своих приверженцев, каковыми
являются непосредственно зависящие от нее
привилегированные и «коммунистические» элементы и, что
316
П. Б. Струве
еще важнее, открывает путь для образования,
сплочения и работы в стране кадров абсолютно враждебных.
Полное удушение как экономической свободы, так и
личной и имущественной безопасности городского
населения есть одно из основных условий
экономического упадка и регресса советской России. Но в то же
время именно это удушение есть безусловно
необходимое условие политического господства
коммунистической партии; вне этого условия оно не может чисто
полицейски продержаться и несколько дней. Вся
сложная система экономических ограничений,
свободы передвижения, собственности, хозяйственного
оборота теперь уже существует не столько ради
экономических и социальных целей данной системы,
сколько в силу политической и полицейской
необходимости этих ограничений для самой власти.
Аристотель в «Политике» замечает, что некоторые виды
угнетения и притеснения населения необходимы для
самосохранения тиранической власти. Та
экономическая пустота, которую создало вокруг себя
коммунистическим режимом советское правительство, есть
политическая атмосфера, абсолютно необходимая для
его властвования.
Коммунистический строй мог быть осуществлен
только посредством насильственного захвата власти и
упразднения всех форм правового порядка, даже тех,
которые существовали в абсолютных монархиях. Но
коммунистическая власть или диктатура пролетариата,
в свою очередь, может держаться только при
существовании коммунистического строя. Это вполне
ощущается самими коммунистами и инстинктивно
обнаруживается ими в их политике, отличительной чертой
которой является неспособность действительно
порвать с приемами, экономически несостоятельными,
но политически, с точки зрения самосохранения
власти, необходимыми. Это можно выразить еще так:
система экономической политики коммунистического
государства, — коммунистическая полиция
благосостояния, превратилась для советской власти в полицию
безопасности.
Препоны и шиканы экономические, из которых
соткан весь коммунистический строй, выполняют
сейчас, главнее всего, задачи в узком смысле поли-
Итоги и существо коммунистического хозяйства 317
цейские. В силу этого соотношения между
экономикой и политикой большевизма эволюция большевизма
будет условием и сигналом для революции против
большевизма. Это не значит, что такая эволюция
невозможна, но это определяет политический и
социальный характер этой эволюции и ее неизбежный и
скорый исход.
И тут русский опыт снова дает нам великий урок
социологии и политики. Тирания и гнет советской
власти есть явление невиданное в истории
человечества. Чем же объясняется эта еще никогда не
встречавшаяся в истории степень всеобщего политического
угнетения? Невольно вспоминаются тут уроки XVIII
века и заветы великой французской революции.
Декларация прав человека и гражданина недаром в
перечень этих прав внесла право собственности;
недаром у этой подлинно великой революции был пафос
экономической свободы. Это вытекало из существа дела.
Русский экономический опыт тем назидателен, что он
вновь показал и доказал миру то, что люди XVIII века
понимали с полной ясностью, наши же
современники, казалось, стали легкомысленно забывать, а
именно, что право собственности и экономическая свобода
индивида есть необходимая принадлежность и в то же
время главная гарантия свободы личности. Почему
государственное угнетение в советской России дошло
до таких пределов, которых даже наша страна никогда
не знала? Именно потому, что советский режим
отменил не только свободу публичной жизни, посягнул не
только на так называемые субъективные публичные
права, но, упразднил индивидуальную собственность,
уничтожил частное хозяйство и тем подрезал эти
подлинные глубинные корни личной свободы и личного
достоинства. В коммунистической России не только
нет свободной печати — ее не знала ни Англия XVIII
века, ни императорская Франция, ни доконституци-
онная Россия, — в ней нет вообще частной печати.
В коммунистической России остались
построенные капиталистическим миром железные дороги, но
свобода передвижения и на них, и вообще эта
свобода — одно из проявлений начала хозяйственной
свободы, упразднена так радикально, как этого не было
ни в одну эпоху русской истории. Все это сводится к
318
П.Б.Струве
одному: у всего населения, вместе с правом личной
собственности, принципиально отнята экономическая
свобода и тем подрезаны самые корни личной
свободы. Русский коммунистический опыт в новой
обстановке вновь подтверждает социологическую и
политическую истину, гласящую, что собственность и
экономическая свобода есть основа и палладиум личной
свободы во всех ее проявлениях, даже наиболее
тонких и вершинных. Вот почему, позвольте мне на этом
месте высказать свое глубочайшее убеждение:
отстаивая начала собственности и экономической свободы,
представители русской промышленности, торговли и
финансов защищают не только себя, они ведут борьбу
за родину и человечество, за культуру и свободу.
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Мысли о национальном
возрождении России
В одной из недавних своих речей, не записанных
и, кажется, не попавших в печать в сколько-нибудь
полном изложении1, я сказал: у нас, у русских, у
России, есть великое и славное прошлое, безотрадное
и постыдное настоящее и темное будущее. Как все
общие положения и обобщающие характеристики и
этот афоризм не может, конечно, исчерпать всего
сложного, многообразного содержания и смысла
переживаемого нами кризиса, всесторонне его
охарактеризовать. Но я глубоко убежден, что такое его
понимание дает единственно исторически правильное
и морально правдивое, а потому и религиозно
оправданное направление нашей сознательной мысли о
событиях.
Конечно, настоящее, безотрадное и постыдное,
как-то вытекло из прошлого. Значит, в прошлом были
не только величие и слава, но и язвы. Конечно, под
смрадными язвами настоящего сохранились и таятся
какие-то живые соки, которые могут родить и
напитать великое, полное духовных сил будущее. Это
значит, что исчерпывающим образом ни прошлое, ни
настоящее, ни тем более будущее, которое темно в
смысле неизвестности, не может быть однозначно
охарактеризовано.
1 А именно в речи на торгово-промышленном съезде,
сказанной по поводу речи В.Б.Ельяшевича, напечатанной в «Русской
Мысли», август—сентябрь.
320
П.Б.Струве
Но наша ищущая мысль должна к чему-то
однозначному прислониться, от чего-то основного и
непререкаемого исходить, во что-то такое верить.
К чему же прислониться?
Ответ на этот вопрос должен быть ясен, ясен не
только субъективно-оценочно, с точки зрения добра и
зла, но и объективно-фактически, с точки зрения
исторической причинной связи.
Морально-религиозная ясность мысли об
исторических делах, ее правдивость всегда сочетается с
ясностью теоретической, с правильностью фактически-
исторической. И это обусловлено с двух сторон.
Историческая мысль, с одной стороны, всегда работает
при помощи известных религиозно-ценностных
понятий о должном и правом; в состав ее объективных
суждений эти понятия входят как необходимая их
часть. Но и, с другой стороны, фактически правдивое,
трезвое суждение о действительности есть
необходимый элемент ее религиозной и моральной оценки.
Что может означать известная формула «приятие
революции»?
С абсолютно-религиозной точки зрения,
революцию можно приять только в одном смысле, признав
ее за кару Божию. Так относились к гонениям пер-
вохристиане. Но такое приятие революции не может
быть даже обсуждаемо с точки зрения политической
или вообще земной.
В политическом смысле, словесная формула
«приятия революции» может выражать различные, даже
прямо противоположные отношения.
Революция, которая принимается, может либо
включать в себя, либо исключать большевизм.
Наконец, приятие революции может означать приятие и
утверждение той контрреволюции, которая мыслится
неотвратимо заключенной в революционный процесс.
Эти различные смыслы «приятия революции» имеют,
однако, совершенно различное практическое
значение, и заниматься ими всеми не стоит. В конце
концов, духовно, морально-культурно и политически,
революция 1917 и последующих годов есть объективно
и существенно единый процесс. Этому единому
процессу, приготовлявшемуся десятилетиями,
противостоит нечто другое, что можно называть как угодно, но
Прошлое, настоящее, будущее 321
что есть одно несомненно: духовное отрицание
революции. Строгая и честная общественная мысль
должна ставить и решать следующий вопрос: объективно и
существенно единый революционный процесс,
должен ли он быть духовно прият или отвергнут.
Для меня этот вопрос давно решен
непосредственным опытным восприятием и душевным
переживанием революции. Для меня идеализация революции,
совершившейся в 1917 и последующих годах, есть в
одно и то же время и религиозно моральная ложь, и
исторически фактическая неправда, самообман и
обман.
Ибо революция эта, каковы бы ни были идеи, ее
вдохновляющие или вдохновлявшие, существенно
была разрушением и деградацией всех сил народа,
материальных и духовных. Это факт наглядный и
непререкаемый, которого нельзя ничем оспорить. Русская
революция означает огромное, невиданное в истории
в таких размерах падение и понижение культуры.
Разнообразные формы «приятия революции»
затушевывают эту основную объективную реальность, от которой
должно исходить и социологическое понимание
действительности, и политическая воля к овладению ею,
и — это самое главное — духовное отношение к ней.
Россия может выздороветь только коренным
духовным преодолением революции. С этой точки
зрения должны быть оцениваемы все виды идеализации
революции. Чем духовнее, чем отвлеченнее эта
идеализация, тем она опаснее. Русский дух должен все
свои силы направить на окончательное духовное
преодоление той лжи, которая была заключена в
революции и видимым доказательством которой суть
учиненные ею материальные и духовные разрушения.
Я знаю одно возражение, которое выдвигается
против простого и категорического духовного
отвержения революции. Вы — говорят в таких случаях —
не верите в русский народ. Это возражение основано
на смешении двух понятий народа, глубоко
различных; одного, метафизического и другого,
эмпирического. Метафизически народ означает народный
^национальный) дух, выражающийся в подлинных и
прочных мыслях и творениях. Это есть прочный эле-
322
П.Б.Струве
мент в потоке настроений, чувств и мыслей...
сменяющихся и сосуществующих поколений.
Метафизическое понятие народа и народности
может служить нормой поведения и принципом
оценки вещей и событий. Это понятие очень трудно
установить, но во всяком случае установление его есть
дело религиозно-метафизической мысли и глубокого
и любовного проникновения в весь исторический
опыт народа.
Эмпирически народ означает большинство либо
всего населения, либо тех классов и слоев его,
которые удостаиваются наименования народа. Мнение и
воля народа, на известной ступени его развития,
могут быть в политических делах установлены при
помощи определенных учреждений, которые все
сводятся к той или иной системе голосования. Но
голосование означает мнение и волю именно данного
момента, и придавать ему значение для определения
подлинных и прочных мыслей народа можно только с
величайшей осторожностью.
Как бы то ни было, эмпирическое понятие народа
совпадает с тем, что в данный исторический момент
приемлет, то есть положительно желает или же
пассивно претерпевает, большинство населения. Верить в
этом смысле в народ значит преклоняться в каждый
данный момент перед всем тем, что торжествует или
даже просто существует сегодня, и из этого факта
выводить норму поведения. Это есть фактопоклонство.
В отношении революции и ее приятия должен
быть с полной отчетливостью поставлен вопрос: в чем
выразился лучше и полнее дух русского народа, в
согласии ли его на похабный Брест-Литовский мир и
последующее разложение и расчленение Державы
Российской под диктовку своих русских и
инородческих коммунистов-интернационалистов или в том, что
тот же русский народ своим стихийным напором под
водительством исторической власти, в течение веков
строил великое государство и на основе
государственной мощи созидал великую культуру. Ведь, конечно,
государственное величие России создали не только
цари и царские генералы, а весь русский народ, всей
своей громадой и всеми своими пылинками, но делал
он это под водительством исторической власти, в ду-
Прошлое, настоящее, будущее 323
ховном единении с нею. И точно так же и культура
России создана народом и его лучшими
представителями, в общем и целом, в единении с исторической
властью. Только люди, не имеющие понятия об
истории русской культуры, могут сводить роль государства
и власти в ее развитии к деятельности цензуры и
департамента полиции.
«Приятие революции» не только не выражает веры
в русский народ, а, наоборот, означает глубокое
неверие в способность русского народа побороть и
преодолеть объективно-пагубный и злой факт своего
величайшего духовного падения и материального
упадка. Политически еще можно понять, что «приятие
революции» проповедуют люди, которые проводят
самую резкую разграничительную черту между фев-
ральско-мартовской и октябрьской революцией.
Политически-психологически в известном смысле это
разграничение имеет смысл. Но
социологически-исторически и метафизически-духовно оно совершенно не
состоятельно. Оно представляет политический смысл
постольку, поскольку оно означает полезное для
исторической России разъединение в том революционном
лагере, который сообща совершил революцию. Но оно
не может устранить того, что реально, вся революция,
как народное движение, рождалась и родилась из духа
большевизма. Те же, кто, отвергая среднее течение
революции, выражающееся, например, в эсерстве,
предлагают в то же время «приять революцию», — а таких
очень много — хорошо понимают реальный
большевистский дух всей революции и тем самым приемлют
именно таковой.
Это и есть, повторяю, преклонение перед
пагубным и злым фактом только за то, что он произошел.
Эта идеализация того, что было и существует, есть
основная философская и нравственная ошибка,
которую совершал и совершает всякий «позитивизм».
Существующее может служить границей нравственному
деянию и культурному творчеству, но никогда не
может быть их основой и мерилом.
В самом деле, в чем же состоят завоевания или
приобретения революции?
Стоило ли забирать помещичьи земли и разрушать
помещичьи хозяйства для того, чтобы уморить с голо-
324
П.Б.Струве
ду многие миллионы крестьянских душ в конце
концов вернуться к величайшему, но культурно
совершенно бесплодному неравенству?
Стоило ли захватывать фабрики и изгонять
фабрикантов, чтобы затем в экономической пустыне, в
которой отчасти перемерли и из которой отчасти
убежали рабочие, вновь насаждать капитализм и из
«недорезанных буржуев» и новых «совбуров» выращивать
новую буржуазию и т.д., и т.д.?
«Приятие революции» есть потому ложная и
лживая формула, что реально никаких других плодов или
завоеваний революции, кроме разрушений и смертей
не имеется. И конечно, предлагается принять не эти
плоды революции, а ее дух. И тогда возникает такая
дилемма: либо эти разрушения и смерти, которые
принесла с собой революция, суть историческая
случайность, чуждая духу революции подробность, или
они существенно и неразрывно связаны с этим духом.
Это опять-таки в другой форме проблема: выражает
ли реальный большевизм русскую революцию. Для
меня не подлежит сомнению, что большевизм
выражает русскую революцию, революцию похабного мира
и коммунистической барщины. Русская революция
свершилась в большевизме, который есть реализация
ее духа.
В той же своей речи, с заимствования из которой
я начал эти строки, я говорил, что России нужна не
реставрация, а нечто более глубокое и духовное:
целый ренессанс. Не восстановление отдельных
учреждений и форм нужно нам, а возрождение
национального духа. И если вопрос ставить так, то получает
весь свой смысл вышеформулированная
характеристика нашего прошлого, настоящего и будущего.
Только через культ и идеализацию прошлого в его
целом и в его непрерывности может возродиться
русский национальный дух. Самое злостное, самое
ядовитое, самое ужасное в большевизме — а большевизм
во всех его выражениях есть подлинное существо
революции — есть преступный, отцеубийственный
разрыв с великим национальным прошлым, которое в
смрадную эпоху разрушения, переживаемую нами,
есть единственное хранилище и прибежище
национального духа.
Прошлое, настоящее, будущее 325
Принципиально в этом нет ничего нового. Всегда
народы, переживавшие великий кризис унижения и
упадка, возрождались возвращением к подлинным
истокам и источникам своего духовного бытия.
России нужна не политическая реставрация, а
глубокое духовное возрождение. Перед задачами такого
возрождения исчезают все чисто политические
проблемы, споры о которых могут получить смысл только
тогда, когда русские люди вновь духовно вернутся в
страну своих отцов. Они вернутся туда очищенные,
освобожденные страданием от той злобы и злости,
безбожия и безверия, подлости и пошлости, которые
советская власть насильственно-бюрократическим
путем внушала русскому народу и разжигала в нем.
Нам нужен спасительный духовный переворот,
опору в котором мы можем только почерпнуть в
нашем духовном прошлом, традициях Святой Руси и
Великой России, в заветах Сергия Радонежского,
Петра Великого, Пушкина и Достоевского. Не в
отдельных словах и положениях тут дело, а именно в
духе. У того же духа, которым может и должна
возродиться Россия, нет никаких касаний к духу
большевизма, духу низкой злобы и человекобожеской
гордыни, духу отрицания святынь и уничтожения
преемства.
Это с тем большей ясностью нужно сказать,
говорить, повторять и, главное, претворять в дело и
жизнь, что в порядке фактическом и эмпирическом
было бы слепотой отрицать известную народность
большевизма. Большевизм так же непререкаемо
народен, как народно похабное сквернословие, матерщина
и т.п. явления народной психологии. И ясно, что
можно верить в русский народ, любить его и
ненавидеть и отвергать народную похабщину. Нужно,
наоборот, не верить в русский народ, цинически презирать
его для того, чтобы утверждать похабщину и
большевизм.
При свете такого понимания духовной проблемы
русской революции необходимо подходить к
новейшим, обозначившимся за рубежом, течениям русской
общественной мысли.
Прежде всего — о пресловутой «Смене Вех». Это
произведение интересно как симптом целого ряда
326
П.Б.Струве
процессов, происходящих в русской среде, как в
пределах советской России, так и за рубежом. Прежде
всех оно свидетельствует о разложении советского
режима, разложении объективном и духовном. Миазмы
этого разложения отравляют умы части русской
интеллигенции, деморализуют ее мысль и убивают в ней
нравственное чувство.
В известном морально-психологическом смысле
«Смена Вех» есть самое чудовищное явление в
истории духовного развития России. В краткой формуле,
оно есть возведенное в идею и философию
оппортунистическое приятие революции, то приспособление к
подлости, о котором говорил когда-то Салтыков, в
обстановке измученной, униженной и поруганной
России. Ибо идеология «Смены Вех» по содержанию
и существу является апофеозом революции 1917 года,
психологически же это есть такое же приспособление к
созданной революцией власти, каким было
приспособление к реакции 80-х годов тех общественных
элементов и кругов, которые этой реакции не
сочувствовали, только приспособление более хамское и
трусливое. Это отрицание революции как формы борьбы,
как отношения к фактам политики и быта во имя
приятия совершившейся революции. «Смена Вех»,
таким образом, и по содержанию, и по
психологическому характеру есть прямая противоположность
«Вехам». Последние были революционным
отрицанием революционной идеологии, восстанием против
этой идеологии во имя неких высших и общих начал
религиозных, культурных и общественных. В «Вехах»
была та максимальная сила убедительности и
убежденности, которая не может не быть присуща мысли,
совершенно свободной и потому свободно
сочетающей в себе начала консерватизма и революционности.
В «Смене Вех» революция принимается как данное,
как факт, и русские люди приглашаются поклониться
этому факту-идолу во всей его
омерзительно-похабной реальности. Начала консерватизма и
революционности тут сочетаются в соотношении прямо
противоположном тому, в котором они сочетались в «Вехах»,
в соотношении не свободном, а рабьем.
Отсюда — поразительное идейное убожество этого
произведения и моральная его смрадность: от «Смены
Прошлое, настоящее, будущее 327
Вех» разит похотью внешнего успеха и личной удачи
(хотя, быть может, отдельные авторы сохранили
нравственную порядочность и бредут лишь в стадной
темноте). В «Смене Вех» особое место, конечно, следует
отвести национал-большевизму Устрялова. Я уже
говорил об этом авторе и его писаниях на страницах
«Русской Мысли». Устрялов просто слеп относительно
фактов и потому он в большевизм вкладывает
национальное содержание, которого не только нет в
большевизме, но которого тот, наоборот, является
реальным и действенным, доведенным до конца
отрицанием. Ошибка Устрялова, грубая до смехотворности,
есть ошибка чисто фактическая.
Другое, гораздо более сложное явление, чем
«Смена Вех» и чем внешне примкнувший к этому
направлению Устрялов, представляет «евразийство».
Поскольку некоторые его представители вместо
советских фактов видят национал-большевистские миражи,
они уподобляются национал-бол ьшвизму и к ним
относится все сказанное о последнем. Как национал-
большевизм, это порок исторического зрения.
Ниже читатель найдет письмо ко мне одного из
«евразийцев» Г.В.Флоровского. В его формулировке,
чисто философской, почти все не только приемлемо
для меня, но и совпадает с моим пониманием
русского кризиса как глубокого духовно-культурного
кризиса. Ведь так понимали весь процесс, приведший к
революции, и «Вехи», и в этом было их огромное
превосходство над чистым политицизмом либералов,
радикалов и социалистов, споривших с «Вехами».
Теперь это исторически непререкаемо ясно. В полемике
с А.В.Пешехоновым, которая явилась продолжением
«Вех», я сказал однажды, что полное осуществление
революционных мечтаний Пешехонова и его
единомышленников нисколько не устранило бы той
проблемы, которую ставили «Вехи», а только с еще
большей силой ее раскрыло бы. В самом деле, прежде
противники «Вех» могли отсылать к чаемой
революции. Теперь опыт проделан, русская революция
свершилась, дошла до конца, и ее подлинное лицо
открылось.
И возникает вопрос: должны ли русские люди
преклоняться перед идолом этого факта, быть идолопо-
328
П.Б.Струве
клонниками или, наоборот, идолоборцами.
Практические термины, историческая обстановка проблемы
совершенно другие, но духовная суть и религиозный
смысл ее остались прежние. Мы испытали
материальные и культурные разрушения, неслыханные в
истории, но не в них самих по себе дело, а в том
духовном оскудении и одичании, которые принесла с
собой революция, в той лжи, которою она пропитала
всю жизнь.
Безрелигиозному фактопоклонству, каким является
«приятие революции», свободная русская мысль
должна противопоставлять религиозное отрицание духа
революции. Это религиозное отрицание исходит из
признания того факта, что революция противорелигиозна
по своему духовному существу.
Итак, евразийство следует приветствовать,
поскольку оно зовет нас туда, где и только где у нас
есть духовные сокровища, в страну наших отцов,
поскольку оно устанавливает духовные связи и
историческое преемство. Но эти элементы здорового
консерватизма в произведениях евразийцев пока выражены
довольно слабо. С другой стороны, довольно ярко в
них выступает апологетические тенденции по
отношению к настоящему, идеализация его самых злых
сторон. Так, в недавней руководящей статье
П.Н.Савицкого «К обоснованию евразийства»1 заключается
идеализация революции при помощи формально построя-
емого понятия религии и религиозности.
Необходимо решительно отвергнуть этот взгляд.
Религия не есть просто духовная форма, и
религиозность не есть формальное состояние, в которое может
вкладываться какое угодно содержание. Религия есть
вера в некое внемирное начало, коему присуща
наибольшая сила и наивысшая правда, божество. И в
этом смысле силы мира сего противополагаются силе
или силам потусторонним. Говорить, что «русский
коммунизм имеет несомненную силу религии» и что
большевики «к своей победе пришли воодушевлением
и верою характера религиозного»... значит, в
сущности, играть словом «религия». Это злоупотребление по-
«Руль» от 10-го и 11-го января 1922 г.
Прошлое, настоящее, будущее 329
нятием и словом «религия» довольно давнее, ибо уже
давно принято социализм трактовать как религию. В
свое время я указал1, что по своей исходной
философской точке, т.е. как целое мировоззрение,
социализм противоположен религии. Были и есть, конечно,
социалисты верующие. Но социализм как построение
и настроение родился на почве отрицания религии в
смысле веры в высшее внемирное начало. Можно
думать, что большевики веруют в Бога по слову
Писания: «И бесы веруют и трепещут», что многие из них,
как Савл, гнавший Господа, придут и вернутся к
Нему. Но большевизм или, что то же, коммунизм есть
так же мало религия, как страсть к картам, к
скаковому спорту или любострастие.
Сейчас необходимо именно собирание духовных
сил и их работа. Это есть самая важная задача
настоящего момента.
Крушение большевизма как власти приближается
неотвратимо и ускоренно. Это крушение должно
застать в русском народе какое-то ядро, из которого
сможет духовно возродиться Россия.
Только если будет налицо такое духовное ядро,
патриотическое движение не будет отдельными,
внешне лишь связанными, попытками управления и
законодательства, а будет могущественным потоком,
оплодотворяющим и возрождающим всю национальную
жизнь.
Есть две идеи или, вернее, два порядка идей,
которые могут образовать духовный стержень русского
национального возрождения.
Но оба они указуют в прошлое, которое только
завалено мусором безотрадного и постыдного
настоящего и из которого созиждется будущее. Это — идея
религиозно-церковная и идея национальная. Именно в
русской истории и жизни они неразрывно связаны
одна с другой.
В области религиозно-церковной и национальной
необходимо свободное и любовное творчество.
Свободное, ибо оно не должно состоять в рабском
повторении внешних и омертвевших форм прошлого. Лю-
1 В статьях на эту тему, перепечатанных в моем сборнике «Ра-
triotica».
330
П.Б.Струве
бовное, ибо оно должно быть согрето сыновней
любовью к стране отцов, которая была Святой Русью и
Великой Россией. Именно отсутствием этого
любовно-почтительного отношения к прошлому
характеризовалась вся духовная жизнь русской интеллигенции.
Теперь должно наступить совершенно другое
отношение. Нужно понять, что не может быть
национального духа без роду, без племени. Преодоление
революции должно состоять в том, что русский народ
перестанет чувствовать себя безродным, что он
сбросит с себя чужеземное духовное иго, в которое
загнали его коммунисты, глашатаи сатанинского человеко-
божия.
РОССИЯ1
Ces serfs, à mesure qu'ils recevront la liberté, se
trouveront placés entre des instituteurs plus que suspects, et
des prêtres sans force et sans considération. Ainsi
exposés, sans préparation ils passeront infailliblement et
brusquement de la superstition à l'athéisme, et d'une
obéissance passive à une activité effrénée. La liberté fera
sur tous ces tempéraments effet d'un vin ardent sur un
homme qui n'y est point habitué. Le spectacle seul de
cette liberté enivrera ceux qui n'y participent point
encore. Que dans cette disposition générale des esprits, il
se présente quelque Pougatcheff d'Université (comme il
peut s'en former aisément puisque les manufactures sont
ouvertes), qu'on ajoute l'indifférence, l'imcapacité ou
l'ambition de quelques nobles, la scélératesse étrangère,
les manoeuvres d'une secte détestable qui ne doit jamais,
etc, etc... l'Etat, suivant toutes les règles de la probabilité se
romprait, au pied de la lettre, comme une poutre trop
longue qui ne porterait que par les extrémités...
/. de Maistre
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитить закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать;
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек...
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь, и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.
И горе для тебя. Твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным пером.
М.Лермонтов (1831)
1 Статья, написанная по просьбе английских друзей для одного
английского издания.
332
П.Б.Струве
Россия переживает величайший кризис, какой
когда-либо переживала какая-либо страна. Величина
и значительность этого кризиса определяется не
только размерами того «исторического пространства»,
которое он захватил. Это не только кризис
политический, экономический и социальный, это кризис
народного духа, национальной стихии в условиях
величайшего мирового потрясения.
Последствия кризиса можно сейчас только
гипотетически начертать, ибо, рассуждая отвлеченно, он
может дать самые различные результаты, сообразно
тому, какие силы возобладают в мировом развитии и
как пройдет равнодействующая мировой истории. Но
природу самого кризиса, его существо, его духовное
содержание уже теперь можно довольно точно
определить, и так ж точно мы можем охарактеризовать ту
историческую почву, на которую упали духовные
семена этого кризиса.
В русской историко-философской мысли есть
традиция противопоставлять Россию остальному культу-
ному миру, традиция особого исторического
«призвания» России, ее особой «учительской» миссии. Эта
традиция имела свои различные выражения, в
известном смысле прямо противоположные. С одной
стороны, особое призвание России видели люди или умы
величайшего религиозного напряжения. Это
призвание заключалось для них в том, что Россия, русский
народ как-то своим духовным бытием и творчеством
напомнит миру и утвердит высшую правду
христианства. Такова глубочайшая идея,
историко-философская и религиозная в то же самое время,
славянофилов и Достоевского. Это построение и это настроение
носит не только религиозно-отвлеченный, но и
мистически-конкретный характер. Это есть переживание,
близкое к эсхатологическим чаяниям первохристиан.
И рядом с этим та же самая формально мысль под
совершенно другим знаком! Это идея воинствующего
осуществления социализма, вера атеистическая, вера
даже не в Царство Божие на земле, а в безбожное
преодоление всего исторического, иррационально
сложившегося и существующего на земле, и, в том числе
и прежде всего, религии. Таким образом, рядом с
апокалиптически-христианским мессианизмом перед
Россия
333
нами выступает мессианизм, если можно так
выразиться, атеистический, который раздул и обострил
всю антирелигиозную традицию человечества,
соединив ее с максимализмами во всех других областях — в
области экономической, социальной и политической.
В смутных настроениях современности часто
проявляется склонность сливать воедино, смешивать эти
два столь различных понимания русского призвания.
Весьма возможно, что такое смешение есть
психологически неизбежный факт известного исторического
затемнения сознания, его как бы ослепления
неожиданными и слишком яркими красками
действительности. По существу, в основах, однако, тут не может
быть ни слияния, ни даже компромиссов.
В учении о религиозном призвании России до
высочайшего напряжения доведены две идеи, два
начала: 1) идея нации, как соборной индивидуальности, в
которую погружена, из которой питается человеческая
личность, как нечто от этой силы не механически, не
в порядке приказа зависимое, а органически,
любовно-покорно ей подчиняющееся и 2) идея благодати,
идея индивидуального и коллективного Божия
призвания. Как бы ни ускромнять такое понимание
призвания, в нем все-таки останется всегда известное
религиозное содержание и религиозный пафос.
В том, другом понимании содержание и пафос —
антирелигиозны. Ускромненные, это содержание и
этот пафос могут превратиться в приличное
«свободомыслие» того типа, который в историческом развитии
мыслей приобрел свое классическое выражение,
например, в английском философском радикализме.
Однако не только Маркса и Ленина, но даже Оуэна и
Бентама нельзя соединить с Достоевским и со
славянофилами. Тут есть две стихии, которые, даже
отрешаясь от максималистических форм и выражений, не
слиянны.
Конечно, может быть чисто
формально-психологическое понимание религии и религиозности, при
котором страстное, фанатическое отрицание Бога может
быть рассматриваемо как особый вид религии и
религиозности. Но для великих исторических процессов
существенны не только психологическая форма и
окраска, а духовное содержание, имеющее объективное
334
П.Б.Струве
значение и объективную ценность для того, кто верит
в это содержание.
Русская революция есть именно историческое
столкновение таких двух духовных содержаний, и
борьба в ней политических идеалов и социальных
стремлений есть в известном культурно-философском
смысле лишь поверхностное выражение и отражение
этого глубинного духовного столкновения, которое
далеко еще не закончилось, а наоборот прошло
только одну стадию и приближается ко второй. Глубину
этого столкновения лишь смутно ощущают и те, кто в
нем принимали и принимают участие, и посторонние
зрители. Отсюда — возникновение в наше время в
России гибридных идеологий, которые представляют
либо приспособление старых построений к новой
исторической обстановке, либо попытки даже
объединить как-то те два противоборствующих начала, в
столкновении которых заключается духовное
содержание русской революции.
При этом весьма характерно, что идейная жизнь
происходит сейчас почти исключительно в так
называемой «эмиграции». Нет ничего более ошибочного,
чем представлять себе русскую «эмиграцию» или,
вернее, русское «беженство» по аналогии с эмиграцией
французской революции или эмиграцией
императорской эпохи России. Одна из особенностей
происшедшей в России политической и социальной революции
заключается в том, что она духовную жизнь в самой
стране свела почти до минимума, а так как вся
предшествующая история создала в России весьма
интенсивную духовную жизнь, то жизнь эта сейчас в
значительной мере переместилась за границу. Перед нами,
стало быть, в русском «беженстве» не политическая и
даже не социальная эмиграция, а обусловленное
уничтожением элементарных основ хозяйственной и
правовой жизни в стране географическое
перемещение ее сознательной духовной жизни. Поэтому
современная русская «эмиграция» представляет (в
количественно более крупных рамерах) аналогию таким
явлениям, как перемещение греческой образованности в
Италию после падения Византийской Империи и
перемещение тех культурных элементов, которые
должны были покинуть католические страны в силу
Россия
335
религиозных преследований. И если эти, только что
упомянутые, явления для всего мира представляют,
быть может, большее значение, чем русская
антибольшевистская эмиграция, то для самой России это
явление имеет значение гораздо большее, чем для какой
бы то ни было европейской страны имели какие-либо
«исходы» из нее. Значение русской «эмиграции»
сейчас почти исключительно духовное и, как таковое,
оно скажется в России в будущем, когда
политическая борьба в современных ее формах отодвинется на
задний план, и социальные отношения отвердятся.
К гибридным формам идеологий, порожденным
революцией, принадлежат т<ак> наз<ываемого>
«евразийство»1 и т<ак> наз<ываемый>
«национал-большевизм»2.
Евразийство внешним образом продолжает
традицию славянофильства. Но особенностью
славянофильства и тех немецких историко-философских
учений, которые на него влияли, была идея, что страна
или народ, имеющий свое историческое призвание, в
нем осуществляет какую-то универсальную идею,
какую-то общечеловеческую правду. При формальном
национальном партикуляризме славянофильство было
запечатлено широчайшим идейным униниверсализ-
мом. Эта черта в евразийстве во всяком случае
гораздо слабее выражена. Евразийство мыслит себе Россию
как главный элемент особого культурного целого,
противополагаемого им германо-романскому миру,
создавшему европейско-американскую культуру.
Поскольку у евразийцев есть доктрина, эта доктрина
сводится к утверждению культурно-расовых особен-
1 Евразийство получило свое главное литературное выражение
в коллективном труде, в сборнике «Исход к Востоку.
Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». София,. 1921 г., стр.
125 (статьи П.Н.Савицкого, П.П.Сувчинского, кн.
Н.С.Трубецкого и Георгия Флоровского).
2 Национал-большевизм нашел себе выражение в книге
Н.Устрялова «В борьбе за Россию» (Харбин, 1920 г.) и в
сборнике «Смена вех». Прага, 1921 г. (статьи Ю.В.Ключникова,
Н.В.Устрялова, ССЛукьянова, А.В.Бобрищева-Пушкина, С.С.Ча-
хотина и Ю.Н.Потехина). См. об евразийстве и
национал-большевизме мои статьи в «Русской Мысли» за прошлый и за
текущий год.
336
П.Б.Струве
ностей народов евразийского мира. В этом
утверждении повторяется обычная ошибка всех таких схем.
Известные черты рассматриваются не как
меняющийся, текучий результат исторической обстановки и
событий, а как априорно данные, определяющие и
предопределяющие условия этой обстановки и этих
событий. Поскольку евразийство подчеркивает и
ставит во главу угла всего исторического понимания
судеб России родственность русской культуры с
азиатским Востоком, постольку оно объективно странным
образом воспроизводит доктрину одного славянского
ненавистника России, некого поляка Духинского,
который более чем 50 лет тому назад проповедовал, что
«московиты» суть восточная, туранская раса, лишь
поверхностно соприкоснувшаяся с западной,
славянской культурой, усвоившая себе скандинавское
название «русских» и славянский язык1.
Евразийство и подобные ему доктрины ставят
проблему разъяснения тех особенностей русской
культуры, которые созданы историческим положением
России между Западом и Востоком, между Европой и
Азией. Тут есть, действительно, проблема, или,
вернее, целый ряд проблем. Вся история России
определилась ее географическим положением и
комбинацией известных исторических событий с этим
географическим положением. Нелепо московитов, в
качестве номадов-туранцев, противопоставлять оседлым
арийцам-европейцам, как это делает Духинский, но
не подлежит сомнению, что в русской истории
сыграли огромную роль, с одной стороны, вторжения
кочевников и, с другой стороны, стихийная русская
колонизация восточных пространств, направленная
против кочевников.
Национал-большевизм является попыткой
идеализации большевизма с национальной точки зрения. В
1 В моих руках находится сейчас его книга: F.N.Duchinski (de
Kiew). Peuples Aryâs et Tourans. Agriculteurs et Nomades. Nécessité
des réformes dans l'exposition de l'histoire des peuples aryâs-
eurpoeèns et tourans particulièrement des Slaves et des Moscovites.
Paris, 1864. Критике идей Духинского, которые в свое время
представляли интерес и смысл с точки зрения русско-польской
борьбы, посвящены, между прочим, некоторые труды
знаменитого русского слависта Владимира Ивановича Ламанского.
Россия
337
основе этой идеализации лежит предположение, что
национальная стихия большевизма не только не
совпадаем с его
интернационалистически-коммунистической идеологией, но действует даже в прямо
противоположном смысле. Это предположение опирается
на одно правильное и целый ряд неправильных
суждений. Правильное заключается в том, что
интернационалистически-коммунистическая идеология чужда
русскому народу, что она лишь использовала
возбуждение народных масс и некоторые их инстинкты и,
создав военную организацию, через нее властвует над
народом. Неправильна и утопична мысль, что эта
организация может осуществлять какое бы то ни было
национальное призвание. Действительность не дает
никаких опорных пунктов для национальной
идеализации большевизма.
Характерную черту русской революции — так, как
она реально осуществилась в большевизме —
представляет не только и не столько ослабление
государства и его силы в традиционной форме, но — что еще
важнее — ослабление и чисто животной силы
населения и духовной его культуры. В современной России
вымирает население. Процесс этот начался с городов,
где он и явился спутником падения городской жизни
и культуры. Теперь он перенесся в деревню.
Никакое объединение России под властью советов
не может маскировать этого основного
биологического и культурно-экономического факта: вследствие
продиктованного, во-первых, коммунистической
идеологией, во-вторых, похотью власти определенных
физических лиц и определенных групп этих лиц,
разрушения известных форм и институтов хозяйственной
жизни, в том историческом пространстве, которое
занимает русский народ, понизилась емкость
территории по отношению к населению. Тут мы воочию на
огромном пространстве можем наблюдать явление
хозяйственного упадка, то явление, которое для других
исторических сред и эпох мы можем установить лишь
гипотетически (в двояком смысле). В самом деле, для
других сред и эпох мы либо не в состоянии точно и
вразумительно установить факт всеобщего упадка —
таков, на мой взгляд, сложный случай того процесса,
который принято именовать упадком и падением
338
П.Б.Струве
Римской Империи, — либо мы неспособны указать
конкретные условия, тот механизм причин и
следствий, который привел к данному результату — таков,
мне кажется, случай запустения передней Азии. В
самой русской истории мы имеем частный пример
связанного с набегами дотатарских кочевников и с
татарским нашествием запустения Киевской Руси. Но
этот процесс был весьма значительно уравновешен
происходившей одновременно колонизацией более
северных и восточных пространств позднейшей России,
колонизацией, исходившей и из Киевской области, и
из Новгорода. В 1918 г. один из известнейших
русских историков уже при господстве большевиков в
одном частном доме в Москве прочел лекцию, в
которой он отождествлял утверждение большевистского
режима по его социальному и культурному значению
с татарским разорением и владычеством в России. К
сожалению, объективно следует признать, что
почтенный историк произнес слишком оптимистическое
суждение. Ибо не может подлежать сомнению, что
татарское нашествие было явлением гораздо более
поверхностным, чем коммунистическое владычество.
Выражаясь в терминах французской социологии (Ла-
комб, Дюркгейм), татарское нашествие и владычество
было гораздо больше «événement», чем «institution»,
более событием, чем учреждением. Большевизм
многое разрушил как «событие» и еще большее
подточил как «учреждение» или режим. И, главное, он
подточил и расшатал экономический фундамент
народной жизни и культуры. Не нужно быть
экономическим материалистом для того, чтобы признавать
фундаментальное значение для человеческих обществ
хозяйственных фактов. Культурные явления и силы —
религия, искусство, наука — конечно, не
определяются по своему содержанию экономическими
процессами, но культурная жизнь народа, несомненно, зависит
от его экономического уровня, и понижение этого
уровня ниже известного предела не может не
угрожать культурной жизни. Так коммунисты
марксистского толка своей собственной разрушительной
работой подтверждают частичную правду экономического
истолкования истории.
Россия
339
Но с другой стороны — и начальный успех
большевиков, и существование их власти в условиях
неслыханного экономического разорения совершенно
выпадают из обычной схемы экономического
истолкования истории. Коммунистическая власть,
существующая в России, лишена всякого положительного
экономического фундамента. Это чистейший
политический факт, который, если и держится экономически
на чем-либо, то лишь на моменте чисто
отрицательном, на оскудении и нищете народа, созданном самой
же властью. Так называемая новая экономическая
политика или, иначе, эволюция большевизма
чрезвычайно любопытна и знаменательна именно с этой
социологической точки зрения. Она призвана создать в
стране новый экономический фундамент, вернее,
восстановить старые экономические основы, которые
существовали до пришествия этой власти. А это значит,
что должен измениться, выражаясь в марксистских
терминах, экономический фундамент общества. Но
при этом коммунисты желают сохранить свою
политическую власть, т.е. коммунисты-марксисты желают
историческим экспериментом опровергнуть в свою
пользу историческую философию Маркса. На самом
деле им это, конечно, не удастся. Ибо не в
метафизически абсолютном, а в эмпирически относительном
смысле экономическое истолкование истории
правильно устанавливает соотношение общественных
процессов.
Русская революция явилась грандиозным
подтверждением той истины, что политические
революции всегда являются конечным этапом какого-то
накопления народных сил, ищущих себе выхода. Опять-
таки не нужно быть экономическим материалистом в
духе Маркса, чтобы отчетливо видеть, что
революционное движение и возбуждение, охватившее Россию с
начала XX века, теснейшим образом связано с ее
экономическим развитием, с развитием сельского
хозяйства, промышленности, с накоплением богатств и
капиталов, с ростом населения и с огромным
количественным ростом духовной культуры. И исторической
проблемой является вовсе не происхождение
революции, которая явилась так же, как французская
революция, порождением не столько отрицательных и раз-
340
П.Б.Струве
рушительных сторон и моментов старого режима,
сколько развившихся в его недрах положительных сил
и культурных устремлений. Историческую проблему
представляет разрушительное и противокультурное
содержание этой революции, приведшей к
неслыханному экономическому упадку и вымиранию населения.
Как могло получиться это содержание? Как могло оно
в такой мере себя осуществить? Как это случилось?
С обычной оптимистической верой в прогресс этот
ход вещей совершенно не вяжется. Но нужно,
наконец, вместе с величайшими философскими умами
второй половины XIX века, иметь мужество признать,
что прогресс вовсе не обязателен для человечества,
что зло есть в жизни космоса и человечества такое же
самостоятельное реальное начало, как и добро, что
из-за человека в человечестве и его истории борются
Бог и дьявол. Это прежде всего эмпирически
неотразимо.
Особенность русской революции состоит в том,
что ее агентом явился не просто «народ», а
«вооруженный народ». Война создала активную силу
революции. Только благодаря войне такие огромные
массы народа могли активно вложиться в революцию.
Это обстоятельство определило собой и силу и размах
революции. Для понимания этой стороны нужно
твердо держать в уме, что то, что мы разумеем под
силой и размахом таких движений, как
революционные, в конечном счете определяется не силой одного
только нападения, но соотношением нападения и
сопротивления.
Историческая проблема политической и
социальной революции, совершившейся в России, сводится,
таким образом, к разъяснению следующих вопросов.
I. Как получилось, что в России произошла
революция, острие которой оказалось обращенным против
собственности?
II. Почему и как такая революция могла
восторжествовать, и к чему это торжество привело?
Поставленные вопросы являются вопросами чисто
историческими, проблемами исторической
социологии. Ключ к разрешению первого вопроса мы найдем,
если обратим внимание на соотношение сил
нападения и сопротивления в русской революции. Нападе-
Россия
341
ние велось во имя идей социализма и коммунизма
против существующей собственности и идеи
собственности вообще. Тут решающим оказалось то, что, в
силу позднего развития русских идеологий под
влиянием Запада, в русском образованном классе,
социально являющемся особой разновидностью
буржуазии, безусловно господствующим было
социалистическое мировоззрение, а в народных массах не
выработалось ни привычек, ни идей собственности. На
этом последнем моменте следует остановиться
внимательно. Русское аграрное развитие вовсе не
начинается с первобытного коммунизма, но оно выработало в
течение веков, предшествующих освобождению
крестьян, аграрный строй, в котором вместо понятия
крестьянской собственности господствовало понятие
крестьянского надела1. Тогда как западноевропейский
феодально-крепостной строй в своих недрах
выработался и прообразовал крестьянскую собственность, в
России именно этого не произошло и, хотя ни в
одном крупном европейском государстве не было в
момент русской революции такого абсолютно и
относительно значительного количества хозяйственно
самостоятельных земледельцев, сидящих не на чужой
земле, — крестьянской собственности в России еще
не существовало. Не существовало в том смысле, что
институт собственности не сделался еще привычкой,
не стал еще прочным регулирующим началом жизни
народных масс. Комбинация социализма
образованных классов и отсутствия духа собственности в
крестьянской массе создала ту духовную атмосферу, в
которой протекла русская революция. Институт
собственности был беззащитен с двух сторон: от него
духовно отреклась интеллигенция и к нему еще не при-
1 В России, классической стране «общинного землевладения»,
нельзя в древнейшие эпохи ее истории найти следов этого
учреждения, «живая история» которого была раскрыта именно
русскими экономистами (прежде всего незабвенным для меня
покойным моим другом проф. A.A.Кауфманом) и историками
(прежде всего покойной же А.Я.Ефименко, самым
замечательным историком из русских женщин). Результаты работы русских
ученых весьма удачно сведены в английской книге польского
ученого Левинского (J.Lewinski. The Origin of Property and the
Formation of the Village Community. London, 1913).
342
П.Б.Струве
шли народные массы. Этим исторически
определилось то отсутствие стойкого и сознательного
сопротивления, которое встретила в России революция,
обращенная против собственности. Поскольку
существовали элементы устроенной крестьянской
собственности в дореволюционной России — а на создание их
были направлены усилия таких деятелей, как
Столыпин и Кривошеий, — эти элементы тоже сметены
революцией. Революция обрушилась одинаково и на
помещичью, и на крестьянскую собственность. Вот
почему с чисто объективной точки зрения совершенно
неверно говорить, что революция покончила в России
с каким-то феодальным строем. В истории России,
конечно, были элементы и феодального строя, но в
1917 г. сметены были не эти элементы, а
собственность, по своему существу вполне совпадающая с тем,
что называют на Западе «собственностью общего
права». Характер аграрной революции в России
определился именно тем, что в России выпал, собственно
говоря, тот период развития и тот уклад жизни,
который назывался на Западе феодальным и в котором
исторически сложилась идея и институт крестьянской
собственности. В России только в XIX веке
государство сначала робко, в лице законодательства эпохи
освобождения крестьян, а потом
дерзновенно-революционно, в лице Столыпинского законодательства,
создавало крестьянскую собственность, между тем как
на Западе в таких странах, как Франция и Германия,
в недрах настоящего феодального строя, крестьянская
собственность была прообразована, и потому
освобождение крестьян на Западе было освобождением
крестьянской собственности от лежащих на ней
повинностей. В России же освобождение крестьян,
помимо их личного освобождения от рабства распалось:
1. на наделение их землей по законодательству
Александра II на весьма неопределенном полупубличном
праве владения и 2. на наделение их более или менее
настоящим правом, собственности по
законодательству Столыпина. Революция, упразднив помещичью
собственность «общего права», произвела
анархическое дополнительное наделение крестьян землей во
имя социализма и с провозглашением социализации
земли. Ни те условия русского аграрного строя, кото-
Россия
343
рые предшествовали революции, ни содержание ее не
уполномачивают нас отождествлять ее с падением
феодально-крепостного строя. Тот аграрный строй,
который существовал в России до революции, не имеет
ничего общего с феодализмом. Крепостным его в
известной мере можно еще назвать внутри самого
крестьянства. И если аграрная революция была последней
судорогой общинно-крепостной России, то судорога
эта ударила не по феодализму, которого не
существовало, а по тем элементам и росткам общей
собственности, которую создало все предшествующее
историческое развитие.
Когда сопоставляют русскую революцию с
французской, то забывают, что кроме некоторых довольно
поверхностных сходств в сфере чисто политической,
старый режим Франции не представляет никакой
аналогии с тем режимом, который разрушен был русской
революцией. Для старого режима Франции были
характерны, имели основное значение следующие три
черты: 1) партикуляризм или раздробленность права и
порядка управления в национально и культурно
объединенной среде; 2) связанность торговли; 3)
связанность промышленности (и та и другая связанность
создана была как обычаем, так и полицейским
законодательством); 4) крайнее развитие сословных
привилегий и, в частности, податное неравенство сословий.
В России старого порядка не существовало ни того
партикуляризма, ни той архаичности права и
управления, которая была так характерна для Франции.
Напомним, что Вольтер, как известно, острил, что,
путешествуя по Франции, на каждой перепряжке лошадей
приходилось менять право, и что один новейший
исследователь дореволюционного режима утверждает,
что никакая самая тонкая картографическая техника
не может передать дифференциации права во
Франции старого порядка. С половины XVIII века в
России окончательно восторжествовала свобода
внутренней торговли, и внутренние таможенные пошлины
были отменены в России самодержавной
императрицей Елизаветой приблизительно на сорок лет раньше,
чем они были отменены французским
революционным парламентом. В эпоху французской революции в
России при господстве крепостного права фактически
344
П.Б.Струве
и в значительной мере юридически господствовал
принцип свободы промышленности, как с некоторым
изумлением констатировал лучший знаток русской
хозяйственной жизни той эпохи, знаменитый экономист
Шторх, русский по подданству, немец по
национальности, англо-француз, ученик Смита, Бантама и Сэя,
по своим социологическим идеям. Со второй
половины XIX века уголовная и гражданская процедура в
России была в основе своей процедурой
революционно-императорской Франции. В России существовали
сословия, но в конце концов, даже в самое первое
время после падения подлинного рабства, каким было
русское крепостное право, сословные привилегии
имели в России по сравнению с Францией ничтожное
значение — о податном неравенстве сословий в
России в момент революции смешно даже и говорить.
Словом, хозяйственное и административно-правовое
содержание французской революции в большей его
части было осуществлено в России т<ак>
называемым > «старым порядком». Это ясно для всякого, кто
знает историю и рассуждает об исторических делах по
существу при помощи ясных понятий, а не повторяет
громкие слова и демагогические фразы.
Есть еще одна особенность в русском
национальном развитии, сравнительно с развитием великих
западноевропейских народов (за исключением, может
быть, испанцев). В Западной Европе глубоко в
народную душу проникло то движение, которое известно
под общим наименованием реформации. Даже там,
где это движение внешним образом не проявилось
сколько-нибудь внушительно, как в Италии, и там,
где оно было сокрушено государственной и
церковной реакцией, как во Франции и в австрийских
странах, оно потрясло народную душу и оставило на ней
глубочайший след. Значение реформации и тесно с
нею связанной католической реакции заключается в
том, что при посредстве религии и церкви начала
известной общественной морали и дисциплины глубоко
проникли в народную душу. Реформация означает
секуляризацию христианской морали, ее превращение в
дисциплину и методику ежедневной жизни, если
угодно ее «обуржуазение». Я не говорю, что значение
реформации и вообще религиозных движений нового
Россия
345
времени исчерпывается этим. У них есть аспект
глубоко религиозный, мистический, и эта мистическая
стихия реформации иногда глубоко и органически
сливается с аспектом государственно-воспитательным,
практически-буржуазным. Если не ошибаюсь, лорд
Розбери метко охарактеризовал Кромвеля как
«практического мистика».
В России не было реформации, и не произошло
поэтому секуляризации христианской морали, того ее
превращения в методику и дисциплину ежедневной
жизни, которое совершилось на Западе. В России
была религия и религиозность, но в ежедневную
жизнь как дисциплинирующее начало религия не
проникала. Это очевидный и едва ли не самый
многозначительный факт русской истории. Один из самых
замечательных мыслителей конца XVIII и начала XIX
века Жозеф де Мэстр, который прожил много лет в
России, чрезвычайно тонко уловил эту черту русского
развития, хотя характер русской религиозности
остался ему непонятен. «Cette puissance conservatrice et
préservatrice (la religion) n'existe pas en Russie. La
religion y peut quelque chose sur l'esprit humain, mais
rien du tout sur le coeur où naissent cependant tous les
désirs et tous les crimes»1.
Исходя из мысли, что «jamais un grand peuple ne
peut être gouverné par le gouvernement, j'entends par le
gouvernement seul»2 и отмечая проникновение в
русский образованный класс передовых
западноевропейских идей, Жозеф де Мэстр, из отсутствия
религиозного воспитания в русском народе, выводил
возможность в России самой разрушительной революции, в
которой «quelque PougatchefT d'Université» буквально
сломает государство3. Знаменитые слова о «взбунто-
1 Le comte Joseph de Maistre. Quatre chapitres inédits sur la Russie
publiés par son fils le comte Rodolphe de Maistre. Paris, 1859, p. 19.
Де Мэстр, как известно, сближал православную религиозность с
протестантской.
2 Loc. cit., p. 23.
3 Указываемое здесь и приведенное выше как эпиграф место о
«Pougatcheff d'Université» находится на стр. 26—27 «Quatre
chapitres inédits sur la Russie». Мы можем более или менее точно
датировать эту формулу знаменитого автора, скончавшегося в
1821 г. Ее первая редакция формулирована в письме, помечен-
346
П.Б.Струве
вавшихся рабах»1 были буквально предвосхищены в
этом пророчестве Ж. де Мэстра. Но интересно и
существенно в пророчестве французского мыслителя не
эта его скорее банально-психологическая
характеристика грядущей русской революции, а ее глубокое
историко-философское и в то же самое время
религиозное истолкование. В духовной и
социально-политической эволюции русского народа выпало звено,
которое для эволюции западных народов столь же или,
быть может, еще более существенно, чем феодально-
крепостной строй и городские учреждения.
Буржуазная мораль и буржуазная дисциплина не имели в
России тех корней, на которых они выросли в
западноевропейской культуре и на которых там вырос сам
социализм как культурное движение2.
Один из современников наблюдателей
французской революции заметил, что революции бывают двух
родов: одни преследуют какую-нибудь определенную
национальную, политическую или социальную цель;
другие представляют некое общее движение духа или
души нации, движение, внушенное утомлением,
недовольством и беспокойством. И к таким этот
наблюдатель относил великую французскую революцию3. Еще
более эта характеристика приложима к тому, что
пережила Россия. В основе русской революции лежит
факт войны и потребность в мире, но на эту простую
основу революции как события лег целый душевный
ном Saint-Pétersbourg le 15—27 août 1811: «Si quelque Pougatcheff
d'Université venait à se mettre à la tête d'un parti; si une fois le
peuple était ébranlé, et commençait, au lieu des expéditions asiatiques
une révolution à l'européenne, je n'ai poit d'expression pour vous dire
ce qu'on pourrait craindre. Bella, horrida bella! Et multo Nevam spu-
mantem sanguine cerno! Cp. Lettres et opuscules inédits du comte
J. de Maistre. Cinquième edition. Tome Premier (Paris, 1869), p. 69.
1 Слова эти, как известно, принадлежат г. Керенскому.
2 Основную мысль, высказанную здесь, читатель найдет в
одной из моих Кэмбриджских лекций 1916 г., напечатанных в
сборнике «Russian Realities and Problems».
3 Baron de Barante. De la littérature Française pendant le
dixhuitième siècle. Эта замечательная характеристика духа
революции человеком, ее ребенком и юношей пережившим, вышла
в свет анонимно в 1809 г. Указанное мною рассуждение
находится на стр. 224—247 первого издания.
Россия
347
процесс, который вовсе не исчерпал и не
удовлетворил себя революционным прекращением внешней
войны.
И тут мы возвращаемся к исходной точке наших
размышлений. Кризис, переживаемый Россией, не
есть только кризис политический, экономический и
социальный. Это кризис народного духа. Пришла к
концу целая эпоха русской духовной жизни;
содержанием этой эпохи было переживание русской
интеллигенцией западноеропейских настроений и идей XVIII
и XIX века. Идеи эти просочились в народ и
произвели тот политический и социальный взрыв, который
мы пережили. Между идеями и социальной средой, в
которую они опустились и просочились, с самого
начала было полное соответствие и полное
несоответствие. Народу были доступны только именно наиболее
популярные в интеллигенции максималистские
социалистические идеи; идеи средние, либеральные и даже
идеи умеренного постепенного социализма реформ
были ему не интересны и не привлекательны. Но, с
другой стороны, максималистские идеи ничего, кроме
разрушения, внести в эту жизнь не могли. Суть
максимализма и заключается в том, что его идеи
превышают жизнь и, входя в нее, ее разрушают, порывая
органические связи. Так и случилось в этой
революции. Как экономическое и социальное
преобразование, она потерпела полное крушение, но это
крушение есть лишь внешнее выражение десятилетиями
подготовлявшегося внутреннего кризиса идей,
вдохновлявших все движение. И тут мы подходим к
крупнейшему отличию русской революции от
французской. Во Франции литература XVIII века создала дух,
который безраздельно господствовал и не имел себе
соперников. Рядом с ним не было никакого духовного
течения, которое тогда же выдвинуло бы крупные умы
и создало бы великие произведения. «L'esprit
classique» в его редакции XVIII века вдохновил
революцию и воплотился в ней. Только потом пришли
Жозеф де Мэстр и Огюст Конт, между которыми
стоит Сен-Симон.
Совсем другое дело в России. В ее духовной жизни
тот дух, который вдохновил революцию и воплотился
в ней, не был отнюдь ни оригинальной, ни единст-
348
П.Б.Струве
венной, ни самой могущественной духовно силой.
Если еще и можно с натяжками виндицировать
революции Льву Толстому, хотя его антиполитический и в
то же самое время религиозный дух этому решительно
противится, то в отношении других и притом идейно
самых крупных величин русской духовной
культуры — Пушкина, Гоголя, славянофилов, Достоевского,
Леонтьева, Влад. Соловьева, Розанова — такая
операция явно несостоятельна. Дух русской культуры, как
он выразился в творчестве этих людей и в нем
восходит к литературно неоформленному духовному
творчеству более ранних эпох, выражавшемуся главным
образом в церковно-религиозной жизни, не есть дух
русской революции. Это чисто объективное
социологическое констатирование. Генеалогию духа русской
революции можно тоже довольно точно начертать, и
тогда окажется, что дух русской революции занесен с
Запада, что он плод максималистического усвоения
русской интеллигенцией передовых идей западных
народов. Соответственно исторической эпохе, в отличие
от духа французской революции, дух русской
революции находится под подавляющим господством
социалистической идеи. В духе этом, однако, нет вовсе
элементов оригинальных, почвенных. Поэтому он
овладел русской народной стихией лишь в процессе
преходящего душевного возбуждения и держится теперь в
порядке внешнего принуждения. В России за
внешней политической и социальной революцией таится
совсем иная и иначе значительная духовная проблема
и борьба. Проблема эта была поставлена всем
развитием русского духа в XIX веке, и торжество самой
радикальной в мировой истории внешней революции
только освободило умы и души для выявления и
переживания этой проблемы. Внешний переворот
исчерпал себя и кончился. Начинается переворот
внутренний, возвращение домой русского духа.
Так развертывается внутренняя трагедия русской
революции, гораздо более существенная, чем все
политические и социальные противоречия этой
революции. Вот почему такими фразами, как «крушение
царизма» или «торжество социализма», нельзя
исчерпывающим образом охарактеризовать тех огромных
событий и столкновений, которые произошли в России.
Россия
349
Произошло не только крушение одного строя и
торжество другого. Внешним столкновением двух сил и
двух порядков, в сущности, открывается лишь
внутренняя борьба двух духовных строев, для которых
отнюдь не самым существенным является их отношение
к тому или другому внешнему, политическому или
социальному, порядку жизни.
Только так можно понять русские события, как
национальную всемирно-историческую трагедию.
Только так в ней видится не только разрыв,
катастрофа и падение, но преемство, катарзис и подъем.
Париж, 20 февраля 1920 г.
ПОЗНАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ
И ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА
Печатаемая выше статья С.Л.Франка заключает в
себе по существу полемику с моими взглядами на
русскую революцию, которые я излагал в ряде статей1.
Правда, точек соприкосновения в наших воззрениях
не меньше, чем точек расхождения, и это
неудивительно. С.Л.Франк — один из участников «Вех», и
притом из их числа едва ли не самый близкий мне по
взглядам и, мне кажется, испытавший в своем
духовном развитии наибольшее влияние моих идей и
писаний, причем в долголетнем общении и я многому
научился у своего младшего соратника и друга.
Это обстоятельство делает для меня спор с ним и
очень трудным, и очень интересным, даже
увлекательным в одно и то же время.
Но именно спора и полемики в точном и
техническом смысле я хочу, по возможности, избегнуть,
как это сделал и С.Л.Франк, несмотря на то, что он
разбирает мои взгляды и пользуется в своих
рассуждениях построенными мною понятиями и
сопоставлениями и вычеканенными мною выражениями, не
делая об этом нарочитого упоминания.
I
Нет ничего более трудного, чем строгое и в то же
время жизненное построение общих понятий общест-
1 Ср. мои «Размышления о русской революции» в кн. 1
«Русской Мысли» за 1921 г. и отдельно (София, 1920 г.) и затем
статью «Россия» в кн. 1 «Русской Мысли» за 1922 г. (по-английски
в первой книге «Slavonic Review»).
Познание революции и возрождение духа 351
воведения и характеристика, при их помощи,
сложных исторических процессов. Тут необходима
значительная четкость мысли, способность к отвлечению и
конструированию и в то же время видение и
переживание исторической действительности, которое
психологически-неотвратимо связано с каким-то волевым к
ней отношением. Нельзя видеть
общественно-исторической действительности без такого волевого
отношения и устремления. В этом великая психологическая
трудность и опасность и в то же время — секрет
исторического обществоведения.
Я не стану здесь на этом останавливаться, но
замечу только, что расхождения в понимании
общественно-исторической действительности между нами,
т.е. мною и моим оппонентом, определяются, быть
может, всего больше различия и напряженности
волевого отношения к действительности.
Разъяснение и «образование» понятия революции
представляет огромные трудности, которые присущи
всем вообще построениям обществоведения. В
известном смысле можно сказать, что революция
абстрактно-теоретически не отграничима, с одной стороны, от
эволюции, а с другой стороны — не только от смуты,
но даже и от бунта. Неотграничимость понятия
революции как частного случая и выражения, и тем
самым видового понятия, от эволюции как общего
явления и родового понятия нечего в настоящее
время доказывать. Она в научной литературе и
терминологии сказалась уже давно с тех пор, что, если не
ошибаюсь, Бланки-старший пустил в ход, а Пекер
подхватил и теоретически разъяснил термин
«промышленная революция», в англосаксонских странах с
таким успехом популяризованный уже в 80-х гг. XIX
века известной книжкой Тойнби. Промышленная
революция XVIII и XIX вв. есть, конечно, процесс
перерождения и перестройки экономического уклада
европейского общества, т.е. явление хозяйственной
эволюции.
Очевидно, промышленная революция и какая бы
то ни было политическая или социальная революция
могут быть объединены лишь в общем понятии
общественного изменения, социального процесса или
социальной эволюции. Таким образом, социологическое
352
П.Б.Струве
понятие революции либо совпадает с понятием
эволюции, либо должно быть «построяемо» как
совершенно особое понятие, которому «присущ» особый
смысл, в понятии эволюции как раз и
«отсутствующий».
Так это и есть на самом деле: строгое
социологическое понятие революции немыслимо без отнесения
этого понятия к другому основному
социологическому понятию: права. Революция есть нарушение
непрерывности правового развития общества, становящееся
исходной точкой нового правообразования.
Революция ниспровергает одно право и выдвигает другое.
Революция есть бунт, коему присущ умысел быть или
стать правообразующим фактом или еще короче:
удачная или законченная революция есть бунт, ставший
правом. Вне соотнесения понятия революции к
понятию права и правового развития может быть лишь
фигурально употребление термина «революция» как
выразительной словесной формулы, логически
сливающее революцию и эволюцию в единое понятие
(ярким примером является именно формула
«промышленной революции»!).
Во всякой революции должен быть правовой
умысел и тем самым правовой смысл. Можно сказать, что
в известных пределах всякой не только смуте, но и
всякому даже частичному бунту присущ такой смысл.
И бунт или смута отличаются от удачной или
законченной революции лишь тем, что последняя
осуществляется или овеществляется, реализуется или
объективируется в каком-то новом праве, а первые к таким
достижениям не приводят или приводят лишь в
частичной степени. Но и тут опять-таки можно и
необходимо отличать «результаты» или «плоды» революции
от «умыслов» и «замыслов» революционеров. И это
различение вновь сближает понятия революции и
эволюции, в чем и обнаруживается, что понятие
революции не может быть построяемо как некое точное и
особое понятие без соотнесения не только к праву, но
к каким-то деятелям, субъектам или агентам
революции. Иными словами: не может быть бессубъектной
революции. Революция есть, конечно, в одном аспекте
какой-то процесс, совершающийся в людях и над или
с людьми. Это верно именно в том аспекте, в котором
Познание революции и возрождение духа 353
революция совпадает с эволюцией. Но в другом
аспекте, и именно в том, который отграничивает
революцию от эволюции, революция есть всегда
умышленное действие, предполагающее деятеля (деятелей)
или субъекта (субъектов). В этом смысле можно
сказать по видимости парадоксально, но совершенно
точно: революции никогда не происходят, они всегда
делаются.
Таким образом, спор об «естественности» или «ис-
куственности» революции всегда логически основан
на непродуманной подмене понятий, или на quaternia
terminorum. И так как всякая действительная
революция, как историческое явление, есть отрезок или
«случай» эволюции, а, с другой стороны, всякая
действительная революция как-то включает в качестве
своего существенного элемента «умышленные»
действия людей, то, играя этими двумя различными
смыслами одного и того же словесного выражения, можно
вести бесконечные споры. Поскольку революция есть
бессубъектный процесс, она исключает личную
ответственность и морально-политическую и техническо-
политическую оценку человеческого поведения, эту
революцию составляющего. Поскольку революция
состоит из умышленных действий, вдохновляемых
неким идейным замыслом, она требует такой
ответственности и вызывает такую оценку.
Конечно, принимая последнее положение, мы
должны памятовать, понимать и разъяснять, что
великим историческим изменениям, происходящим в
человеческих обществах, никакие самые умные замыслы
и умыслы единичных или коллективных человеческих
деятелей не могут быть вровень, и потому этими
процессами такие замыслы и умыслы никогда не могут
сполна и до конца овладеть. Это совершенно верно, и
выяснению этой особенности
социально-исторического процесса я посвятил немало усилий как теоретик
социальной науки1. Но не следует забывать и другого,
что историческая жизнь слагается именно из замыс-
1 См. главу «Основной дуализм общественно-экономического
процесса и идея естественного закона» в первой части моей
книги «Хозяйство и цена», Москва, 1913 (по-французски в
«Revue d'économie politique» за 1921 г.).
354
П.Б.Струве
лов и умыслов людей, из действий и результатов этих
действий. Это просто эмпирически непререкаемо и
жизненно существенно.
При этом, однако, весьма осторожно надлежит
разыскивать и субъекта или субъектов этих действий,
того деятеля или тех деятелей, которым можно
приписать или вменить революцию или вообще всякие
подлинные «действия». В этом отношении
чрезвычайно опасным, по своей многосмысленности, является
понятие «народа», а также и «класса».
II
«Класс» есть, прежде всего, какая-то логическая и
в этом смысле «искусственная» категория. Какие
угодно единицы можно объединить в какие угодно
классы. Марксизм признаком социального класса
формально берет социальное положение его членов.
Но по существу он объединяет в класс людей по
известному социально-психическому содержанию,
действительному или предполагаемому. «Социальное
положение» или социальная психика есть тот признак
содержания в логическом смысле, с которым
сопрягается известный объем тоже в логическом смысле, и
так получается фигура «класса». Класс есть прежде
всего продукт «классификации». От характера, от
подлинности или почвенности этой классификации
зависит значение и значительность «класса».
Те же трудности, что для понятия «класс»,
возникают и для понятия «народ». Между тем в это
понятие обычно вкладывается наперед какое-то
значительное и решающее содержание и так создается особого
рода самовнушение, или автогипноз. Все
политические партии, все социальные учения апеллируют к
«народу» и ссылаются на него. И даже чистые теоретики,
социальные философы, как показывает пример
С.Л.Франка, не избегают этого соблазна.
Но никто еще не мог и не сможет никогда
фиксировать, закрепить за этим расплывчатым понятием и
многосмысленным словом или термином
эмпирического содержания, достаточно определенного для тех
целей, ради которых о народе ведутся «значительные»
речи. В сущности «народ», как категория националь-
Познание революции и возрождение духа 355
но-политическая или публицистическая, есть всегда
какая-то задача или задание, некое долженствование,
какое-то требование, которое какие-то «мы», во имя
своего идеала, предъявляют к какому-то более или
менее определенному «объему» или «кругу»
человеческих особей. В этом задании или требовании могут
быть в весьма различной степени выражены элементы
«реальности», оно может быть в очень различной
степени подслушано у жизни сегодняшнего или
будущего дня. В известном смысле «народ» абсолютно
бесспорен, лишь постольку он сдан в мертвецкую
истории, подобно тому как значительная часть диагнозов
может быть непререкаема только на прозекторском
столе, тогда, когда жизнь народа уже нельзя
подслушать, а дыхание больного уже нельзя прослушать.
«Народ» в живой истории есть всегда какое-то
становление, всегда не только ряд совершившихся и
необходимых фактов, но и ряд возможностей, ведущих от
границы необходимости к пределам невозможности. В
известном смысле — и это очень важно твердить и
внушать именно в наше время — «народ» творится,
может и должен быть творим. Народ в эмпирическом
смысле, народ-факт и неуловим и неуложим ни в
какие общие схемы, кроме самых бессодержательных,
и потому не может служить никакой нормой,
никаким законом. Таковым может быть только народ в
метафизическом смысле, народ-идеал,
народ-требование, народ-задание.
Это героическое и творческое понимание народа
может предоставлять известные опасности, поскольку
оно не сочетается с органическим его пониманием. И
потому я так настаивал на сочетании идей
«материнского лона» и «героической воли»1. Но органическое
понимание народа не должно быть простым «факто-
приятием».
Между тем то органическое понимание, которое
выдвигает С.Л.Франк, часто сбивается именно на
такое «фактоприятие». Факты, самые непререкаемые,
самые тяжеловесные, сами по себе, как факты,
отнюдь не входят в «органический» состав народной
1 В статье под этим заглавием в № I—II «Русской Мысли» за
текущий год.
356
П.Б.Струве
жизни, не образуют еще ее жизненной ткани и
потому не могут ни в каком смысле служить или быть
признаваемы нормой для нее.
Мне скажут, что всякое культурно-общественное
творчество должно считаться с фактами и реальной
обстановкой. Я всегда это ясно видел и очень хорошо
понимаю и общий отвлеченный, и частный
конкретный смысл этого указания. Но такое понимание
отнюдь не устраняет для меня абсолютно отрицательного
отношкемя к глубоко демократизирующей, на мой
взгляд, общественное сознание проповеди фактоприя-
тия.
«Фактоприятие» в эмпирически-реалистическом,
или тактическом, смысле есть нечто совершенно
другое, чем фактоприятие в моральном смысле.
Последнее, в какие бы наряды или обличил оно ни
одевалось, всегда заключает в себе яд духовной лжи и
нравственного извращения.
До чего бы ни доходил и ни дошел фактический
образ «эмпирического» народа, наш долг и перед ним,
и перед нами самими — сохранить и хранить для него
живую воду здорового национального духовного и
культурного сознания, и, если нужно, сотворить и
непрерывно творить эту живую воду. С этой точки
зрения основная стоящая перед русским сознанием
задача—в определении и отстаивании той национальной
традиции, без которой вообще невозможна никакая
здоровая национальная жизнь, и в продолжении этой
традиции. Вне связи с прошлым, в особенности в
духовной жизни, не может быть никакой здоровой и
сильной национальной жизни. «Материальная»
сторона жизни, поскольку она вообще сводится к
подлинным «материальным» энергиям1, гораздо легче
восстановима, т.е. может быть создана наново, чем жизнь
духовная. «Духовный» же «капитал» в известных
условиях и в известном смысле вечен, но зато он и
невосстановим, поскольку он утрачен. Последнее возможно
потому, что духовный капитал, оставаясь вечным в
смысле объективного бытия, может для живых людей
1 Я здесь не могу касаться сложного вопроса, что и в каком
смысле, например, в хозяйственной жизни является
«материальным» и что «духовным».
Познание революции и возрождение духа 357
перестать существовать как их собственная живая
сила и стать «музейным» предлогом или
«памятником».
С.Л.Франк верно смысл «большевизма» и
коммунистической революции видит в утверждении
«нигилизма». Непонятно только, как, давая эту вполне
правильную общую характеристику большевизма и его
революции, Франк огульно сближает русскую
революцию с другими революциями. Тут я отнюдь не могу
следовать за автором. Чистое формальное понятие
революции как нарушения непрерывности правового
развития допускает возможность самого различного
содержания или заполнения революционного
процесса и потому — самого различного баланса всякой
данной революции.
Как исследователь фактов я не могу принять и
признать сколько-нибудь правильным и даже
осмысленным сближение в целом, именно по реальному
заполнению и по историческому балансу, ни
английской, вдохновленной религиозным пафосом
революции XVII в., ни великой французской революции с
революцией русской. С чисто
позитивно-исторической точки зрения выразитель английской революции,
Кромвель, есть прямая духовная противоположность
какого-нибудь Ленина или Троцкого, так же как
«навигационный акт» есть полная антитеза в области
экономической политики большевицкой системы
«концессий». Я знаю также, что французская
революция установила единство французской таможенной
территории, одним ударом отменив внутренние
таможенные пошлины, а русская революция раздробила то
великое хозяйственное единство, которое политически
именовалось Империей Российской. Я знаю, что
французская революция не только на словах
провозгласила, но и на деле провела свободу
промышленности и торговли, а русская революция ее отменила,
заменив коммунистическим строем, в принципе до
сих пор существующим и своим дыханием
отравляющим и парализующим хозяйственную жизнь страны.
Просто исторически непререкаемо, что в «деяниях»
русской монархии, начиная от Елизаветы,
отменившей внутренние таможенные пошлины, через
Екатерину, покончившую с частными монополиями, через
358
П.Б.Струве
Александра II, установившего земское
самоуправление, создавшего правильное судоустройство и
судопроизводство и, казалось, навсегда и с корнем
изгнавшего из суда всякую тень взяточничества, что в этих
деяниях гораздо больше от здравых и прогрессивных
начал французской революции, чем во всей русской
революции. Однажды мне пришлось сказать, что
современная, искалеченная и обесчещенная
коммунистическим переворотом Россия есть гоголевская
Россия, покрытая красным колпаком. В этой
характеристике едва ли не содержится историческая
несправедливость по адресу гоголевской России и слишком
большой комплимент по адресу России советской.
Один левый член английской Нижней Палаты,
оправдывая большевиков, сослался на то, что якобы
русский народ по своему культурному уровню находится
еще в XVII веке. Это, конечно, огромное и нелепое
преувеличение, но поскольку в этом указании есть
зерно истины, оно содержит в себе справедливое и
жесточайшее объективное осуждение русской
революции. По своему объективному экономическому и
культурному содержанию русская революция есть
облеченное в революционную форму, по существу,
реакционное в дурном смысле, т.е. регрессивное,
движение, которое отбросило Россию и русский народ
назад на целые десятилетия и отчасти века. Только
наивные люди, верующие в слова, не знают, что
реакцию и попятное движение могут облекаться в
революционную форму. Такой политический радикал и такой
глубоко образованный, напоенный всем знанием
своей эпохи, социалист Лассаль считал, например,
немецкое крестьянское революционное движение XVI
века явлением реакционным...
Мысль о регрессивном существе русской
революции можно выразить еще проще так: если вообще
русская революция есть чье-либо дело (а в известном
смысле, как я сказал, революции всегда делаются), то
она не только злое и дьявольское, но еще — и,
поскольку в этом деле участвовали народные массы,
всего больше — глупое дело. Когда у кого-либо сгорел
дом, это великая беда. Когда люди сами спалили свой
дом, по злобе или по невежеству, это, во всяком
случае, глупо. И они должны, прежде всего, восчувство-
Познание революции и возрождение духа 359
вать это. Эту простую вещь никакая
«социологическая» мудрость не может опровергнуть и не должна
опровергать.
III
Не так давно за границей вышла брошюра
известного народнического публициста А.В.Пошехонова, о
которой на страницах «Русской Мысли» читатели уже
прочли отзыв А.С.Изгоева. В этой книге самое
замечательное и самое ценное заключается в потрясающей
всякого мало-мальски чувствительного к мысли и
правде читателя реабилитации или оправдании того,
что разрушено революцией. Во всей литературе,
вызванной русской революцией, я не знаю более
сильного осуждения этой революции, чем произведение
А.В.Пошехонова. Мораль русской революции сам
г. Пошехонов облек в образ, созданный кабацким
народным остроумием. Появилась карикатура:
«изображены Николай II и Ленин, один против другого и у
каждого бутылка водки в руках, — у Николая в 40, а у
Ленина в 38 градусов. — Володя! Володя! — говорит с
укоризной Николай. — И стоило из-за двух градусов
такую кутерьму поднимать». «Так население, —
заключает г. Пошехонов, — воспринимает болыиевиц-
кое творчество, пытающееся использовать опыт
прошлого. Беру другой факт. Проект нового кодекса о
земле, принятый в последней сессии ВЦИКа, был
разослан на места для предварительного ознакомления с
ним крестьянского населения. В одной из волостей
Московской губернии собрался волсовет: один читает,
другие слушают... И вдруг такие иронические возгласы:
— Чего ты там вычитываешь?! Все это нам еще
Петр Аркадьевич Столыпин пожаловал... Ты читай,
что советская власть дает...»
Даже восхваляя «государственные заслуги»
большевиков, а именно, то, что «они восстановили
русскую государственность», г. Пошехонов не может не
сказать без всяких обиняков, что «болыиевицкую
государственность» он не только не считает
«совершенною», но и находит ее «гораздо хуже той, которую они
разрушили».
360
П.Б.Струве
Эти слова радикально-народнического публициста
надлежит не только, как говорят французы,
«удержать» (détenir), их должно тысячью молотков
вколачивать в мозги русских людей, как так называемых
«интеллигентов», так и — да позволено будет мне
совершить тут некое словесное уклонение в
«народничество» — и... самого русского народа.
Припоминая, что русское слово «восстановление»
часто и совершенно точно передается
заимствованным из латинского и французского языков словом
«реставрация», я бы предложил г. Пошехонову второе
издание его интереснейшей брошюры (это
произведение заслуживает по своему объективному содержанию
всяческого распространения и популяции!) озаглавить
так: «Оправдание реставрации».
IV
Русская революция есть великое разрушение. Это
разрушение есть факт и, поскольку на пожарище
нельзя и не следует воображать себя ни в
аристократическом салоне, ни даже в простой крестьянской
избе, — факт пожарища надлежит «приять». Но такое
приятие факта не есть то фактоприятие, к которому
нас зовут как песнопевцы пожара, так и те мыслители
и писатели, которые так или иначе оправдывают
всякое разрушение и тем помогают строить ядовитую о
нем легенду.
Сейчас и интеллигенции и «народу» нужно не
психологическое приспособление к испаряющемуся и
даже испарившемуся революционному угару, не
задабривание, post festum, угасших злых страстей и оп-
равдывание совершенных разрушительных действий,
не социологическое «отпущение грехов», а полная и
ясная правда о совершившемся и жизненно
целесообразное, творческое ее осмысливание в духе возврата к
оправдавшей себя истории многих столетий и
отречения, полного духовного отречения, от опровергшей
себя истории одного шестилетия.
Тут, как всегда бывает в таких случаях, здоровое
непосредственное чутье правды может быть всецело
подкреплено совершенно «позитивным» научным
учетом и анализом фактов. В русле многовековой исто-
Познание революции и возрождение духа 361
рии русское государство крепло и русский народ
духовно и материально возрастал. В русле революции
государство разрушилось, и народ (именно народ, т.е.
население в целом) понес страшный духовный и
материальный ущерб, которому нет примеров в истории
вообще. Как раз с «позитивной» точки зрения тут не
может быть никакого спора. Дело ясно. Но оно ясно и
с морально-религиозной точки зрения. Если имеют
вообще смысл понятия: «суд», «совесть», «нация», то
национальное сознание обязано оценивать и судить
вещи и факты прошлого, сопоставлять их с
настоящим и творчески освещать ими будущее. В этом
главное призвание национального сознания и всех его
деятелей.
Я понимаю, что иностранцы, даже самые
благожелательные к русскому народу, могут верить в легенду
о «царизме» как злом гении русского народа. Но ни
один русский человек, если он знает факты и
способен их оценивать, не может уже верить в эту легенду.
Русская революция ее окончательно опровергла. При
зловещем свете пожара русской революции русские
люди вновь пережили, перечувствовали и передумали
тысячелетнюю историю своего народа и государства.
Мы, конечно, знаем отрицательные стороны и темные
пятна этой истории. Но знаем и чувствуем, что чашку
исторических весов, на которую легли национальные
деяния Димитрия Донского и Св. Сергия, Ивана III,
Минина и Пожарского, Петра Великого и
Екатерины II, Миниха, Румянцева, Суворова, Кутузова,
Барклая, Скобелева, Сперанского и Мордвинова,
Александра II со всеми его сподвижниками, Ломоносова,
Пушкина (величайший русский идейный
консерватор!), Менделеева (тоже великий русский
консерватор!), не может перевесить чашка весов с деяниями
Малюты Скуратова, Шешковского, Аракчеева,
Магницкого, Бенкендорфа и Распутина.
И точно так же, если не еще более нелепо и
морально «перверзно» традиции исторической России,
утверждавшей ее государственность,
противопоставлять разрушительную традицию Стеньки Разина и
Пугачева, из которых первый был разбойник, а
второй — самозванец, желавший царским именем
обольстить народ. Тем, кто нам говорят о завоеваниях ре-
362
П.Б.Струве
волюции, мы можем (смотря по темпераменту,
холодно или с негодованием) противопоставить тот
ужасающий экономический баланс, который ей всецело
должен быть вменен. Если масса русских
интеллигентов, если масса русского народа еще не знает и не
понимает своей истории, их нужно при свете огней
русской революции и на еще не остывшем ее пожарище
учить этой науке. Нужно учить этой науке так, чтобы
учащихся охватывал национальный трепет и в них
зажигалось внутреннее неугасимое пламя патриотизма.
Для этого необходимо, называя вещи их именами,
бесстрашно подсчитывая исторический баланс, верить
в русскую историю как подлинное творение и
выражение духа русского народа в его великих и добрых
деяниях, а не в его падениях и низостях, как мы
судим и об отдельных людях, когда решаемся творить
над ними суд.
На пути такого научения русский народ, от самых
мудрых до самых простых, сумеет сделать свой выбор
между Пушкиным, Суворовым и Иваном Аксаковым,
с одной стороны, и Стенькой Разиным, Пугачевым и
Лениным, с другой стороны.
Нам нужно возрождение духа. А остальное
приложится!
Прага Чешская.
Октябрь 1923 г.
Основные положения к беседе П.Б.Струве
«ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС»
2-го мая 1923 г.
I. Христианство как подлинная религия, как
переживание трансцендентных ценностей не есть ни
просто, ни преимущественно социальное учение.
II. Но социальные отношения не безразличны и не
несущественны с христианской точки зрения.
III. Христианское воззрение выдвигает перед
каждым человеком не его права, но его обязанности.
IV. Социальное учение христианства, поэтому, есть
учение об обязанностях каждого человека и отдельных
человеческих групп в составе общежития.
V. Поскольку социальные учения ставят перед
человеком идеал человеческой солидарности, свободно
осуществляемой, они как-то существенно
соприкасаются с христианским мировоззрением и с ним
согласуются.
VI. Поскольку социальные учения ставят ударение
на борьбе как психологически творческом
положительном моменте социальной жизни и развития, они
расходятся в миропонимании с христианством.
Принцип, доктрина и практика классовой борьбы
несовместимы с христианским мировоззрением.
VII. Социальный мир реально в значительной мере
строится на признании и осуществлении начала
эгоизма. Христианское мировоззрение стремится к
всестороннему преодолению этого начала как со стороны
сильных, так и со стороны слабых.
VIII. Социальная политика считается со всеми
свойствами человеческой природы и ставит проблемы,
с точки зрения религиозного миропонимания в
значительной мере имеющие технический характер. В со-
364
П.Б.Струве
циальной политике религиозно ценны только
некоторые руководящие начала: принцип человеческой
солидарности, уважение ко всякому человеческому
лицу, исключающее рассмотрение людей как простых
средств к достижению каких-то целей. Бесконечная
ценность человеческой личности есть тот
религиозный принцип, которым должна быть просветляема
всякая социальная политика, которая взывает к тем
же духовным силам, что и христианство.
СИСТЕМА И ЕДИНСТВО
1. В обществоведении нет различения более
существенного и более плодотворного, чем различение
системы и единства.
2. Это различение имеет общий онтологический
характер и сводится к различению основных типов
каких-либо объектов, которые выступают перед нами
как некоторые целые, «составленные» из как-то
тождественных единиц или на них разложенные.
3. Основными видами таких целых являются: 1)
простая совокупность, или чистая сумма, 2) система и
3) единство.
4. Подлинное, или, по терминологии Карла Мен-
гера, сингулярное хозяйство, есть субъективное
телеологическое единство хозяйствования, или
хозяйственной деятельности. У него всегда есть центр, волевой и
управляющий, есть субъект. Кто говорит «хозяйство»,
всегда говорит «хозяин».
5. Общество есть система. Системой является
такое соединение как-то тождественных элементов, в
котором существует (воспринимается, мыслится,
предполагается) взаимодействие между этими элементами.
6. Ярким примером системы может служить лес
или лесное насаждение. Лес есть совокупность
известных единиц, приуроченная к известному
пространству, и, в то же время и сверх того, система, или
взаимодействие этих единиц.
7. Ни общество, ни лес не есть организм, ибо
понятие организма требует объективного
телеологического единства.
8. Между системой и единством нет, конечно,
абсолютной противоположности и непереходимой
пропасти. «Систематическая» связь, или, что то же,
органическое взаимодействие, может объективно рождать
366
П.Б.Струве
телеологическое единство, создавать организм. В этом
рождении целого из взаимодействия элементов и
заключается онтологическая проблема организма.
9. Государство не есть единство. Оно, конечно, в
известном смысле является системой отношений, но,
в то же время и сверх того, оно есть субъект, в
отличие от общества, которое не есть субъект. Поэтому
реальное государственное целое, государство в
обычном конкретном смысле, включая в себя общество,
есть нечто большее, чем общество. Поэтому
противоположение общества и государства, характерное для
Гегеля и Лоренца фон Штерна, но восходящее,
совершенно явственно, уже к Руссо, есть
противоположение в высшей степени существенное и жизненное.
10. Значение различения системы и единства в об-
ществоведениии, которое имеет дело с социально-
психическими явлениями, коренится в том, что это
различение указует на различие, коему присущ самый
общий и основной смысл. Система есть область
иррационального, стихийного, органического, сфера, где
господствует начало гетерогинии целей. Единство,
наоборот, — область рационального, область построян-
ного и, согласно построению, выполняемого, есть
сфера, в которой господствует, полярное гетерогинии
целей, начало, называемое мною автогинией целей.
11. Соответственно различению системы и
единства, мы в целом человеческих дел, т. е. в человеческой
жизни, основанной на сожительстве людей, можем
различать два порядка явлений:
явления систематические, или гетерогенические, и
явления телеологические, или автогенические.
Наличие в едином общественно-экономическом
процессе этих двух рядов явлений определяет собой
основной и имманентный дуализм этого процесса.
Социологическая проблема абсолютного социализма
заключается в том, что он есть идея всецелого и
окончательного преодоления основного и
имманентного дуализма общественно-экономического процесса.
12. Различение основных видов целого дает нам
возможность построить последовательную,
теоретически и исторически плодотворную,
идеально-типическую в строгом смысле классификацию основных
типов хозяйственного строя.
Система и единство
367
13. Основные типы хозяйственного строя суть:
1) совокупность рядом стоящих хозяйств, 2) система
взаимодействующих хозяйств и 3)
общество-хозяйство.
14. Хозяйственный строй общества необходимо
отличать от его социального строя. Это весьма важно
потому, что с разными типами хозяйственного строя
общества могут сочетаться самые разнообразные
«социальные отношения» (т. е. отношения социального
могущества). От типа хозяйственного строя нельзя
заключать к типу строя социального.
МЕТАФИЗИКА И СОЦИОЛОГИЯ
Универсализм и сингуляризм
в античной философии1
Посвящается С.Л.Франку
I. Терминологическое замечание
Термины «универсализм» и «сингуляризм» введены
мною в немецкой статье о «некоторых основных
философских мотивах в развитии экономического
мышления», напечатанной в международном философском
журнале «Logos» (Band I. 1910—1911. Heft 32) и
послужившей потом введением к первой части моей книги
«Хозяйство и цена», С.Петербург—Москва, 1913 г.
(стр. I—XXXV). Эти термины суть социологические
выражения логически-гносеологически-онтологической
пары: реализм-номинализм. Сами выражения универса-
лизм-сингуляризм взяты мною у Гете (из его Sprüche
in Prosa I. Ueber Naturwissenschaft. Einzelne
Betrachtungen und Aphorismen), который в свою очередь (какими
1 Доложено в соединенном заседании 20 февраля 1934 г.
отделения Наук Исторических и Общественных и Философского
Русского Научного Института в Белграде.
Настоящий очерк основан на самостоятельном изучении
первоисточников и литературы. Не было, однако, для целей автора
никакой надобности в том, чтобы в его сжатом изложении
каждое утверждение сопровождалось ссылками на источники и на
литературу. В настоящее время наиболее полные и точные
справки всякий желающий может найти в соответствующем
томе Ueberweg'a Grundriss etc., обработанном Praechte?ou (я
пользовался II изданием 1920 г.).
2 Существовало и русское издание этого журнала, в котором
был помещен русский текст моей немецкой статьи.
Метафизика и социология 369
путями, это пусть установят специалисты по
Goethephilologie!) заимствовал их из терминологии Боэция и
схоластиков, где universale и singulare представляют просто
переводы логически-гносеологических терминов
Аристотеля (см. ниже II, в примечании).
II. Предварительные
гносеологические разъяснения
Проблема соотношения между общим и частным
имеет два основных аспекта:
1) Аспект
гносеологически-логически-онтологический. В этом аспекте ставится вопрос, какой
характер имеют в познании общие понятия, соответствуют
ли им какие-либо сущности (субстанции),
«реальности» (вещи, res), или они суть только «словесные»
обозначения, которым не присуще никакого
«реального» значения. Это есть сведенное в общую формулу
содержание знаменитого спора между
«номиналистами» и «реалистами». Соответственно первоначальной,
чисто логической, постановке проблемы познания,
этот спор принял характер спора именно логического.
Если общие понятия адекватны действительности, то
они высказываются о ней как ее «сказуемые», или
«предикаты»; но может ли что-либо сущее, какая-
либо настоящая субстанция быть «предикатом»?
Аристотель как будто учил, что это невозможно1. Отсюда
1 De categoriis, глава V. Для схоластики имела значение
формулировка Боэция в его латинском переложении Порфирия.
Совершенно согласно Аристотелю, тут различаются два вида
субстанций. Собственные субстанции — индивидуальные существа,
которые никогда не могут быть «сказуемыми» чего-либо или о
чем-либо. Субстанции второго порядка — виды и роды.
Вое tins. In categorias Aristotelis. Lib. I. (Migne. P. L., t. 64, col.
181): Substantia autem quae proprie et principaliter et maxime dici-
tur, est quae neque de subjecto decitur neque in subjecto est ut aliquis
homo vel aliquis equus. Secundae autem substantiae dicuntur species
in quibus illae quae principaliter substantiae dicuntur insunt Et hae
quidem et horum specierum genera, ut aliquis homo, in specie
quidem est in homine, genus vero speciel animal est. Secundae ergo
substantiae hae dicuntur, ut est homo atque animal.
Ibidem, col. 182: Alias primas esse substantias alias secundas:
primas vocans individuas, secundas vero individuarum (sc. substan-
tiarum) species et genera.
370
П.Б.Струве
сделан «номиналистический» вывод: общие понятия
(универсалии) не могут быть «реальностями»,
«субстанциями», иметь подлинное «бытие». Формально,
конечно, это можно было вычитать у Аристотеля, но
по существу эта точка зрения была ему чужда, ибо
для него не существовало и самой проблемы.
Несущественность или отсутствие самой проблемы для
Аристотеля вытекали из онтологической или панло-
гической предпосылки аристотелевского рассуждения,
которая особенно ярко обнаруживается в его понятии
причинности и которая коренится в его учении о
форме. В области метафизики или онтологии
Аристотель был непоследовательным или, если угодно,
умеренным платоником1.
2) Аспект проблемы социологический — понимая
социологию в широком смысле, объемлющем и оце-
Ibidem: Quare, quoniam ex singulorum sensibus generalitas intel-
lecta est, merito propriae substantiae individua et singula nominantur.
Boetius. In librum Aristotelis de interpretatione... majora commen-
taria. Migne (P.L.) T. 64, col. 462: Quoniam autem sunt quidem
verum universalia, illa vero singularia. Dico autem universale quod de
pluribus natum est praedicari, sinqulare vero quod non ut homo
quidem universale, Plato vero eorum quae singularia sunt. Necesse est
autem enuntiare quoniam inest aliquid aut non, aliquoties quidem
eorum alicui quale universalia sunt, aliquoties autem alicui eorum
quae sunt singularia.
Ibidem, col. 717 (Posteriora Analytica Aristotelis Interpretation
Universale autem dico quod cum de omni sit et per se est, et
secundum quod ipsum est. Manifestum igitur est quod quaecunque sunt
universalia ex necessitate insunt rebus.
Как oppositum universale, universalia синонимично с singulare,
singularia — particulare, particularia. Cp. Gilberti Porretae (Porretant)
Commentaria in librum (Boetii) de duabus naturis et una persona
Christi. Migne PL., t. 64, col. 1374-1375.
1 Ср. Leon Robin: Sur la conception aristotélienne de la causalité в
Arch. f. Gesch. d. Phil. Bd. XXIII, H. 1 (1909) и Н. 2 (1919), в
особенности H. 2, pp. 202—210 и его же: Sur la théorie platonicienne
des idées et des nombres l'après Aristote. Paris. Alcan. 1908.
Из общей систематической литературы я хотел бы указать на
обильный историческими справками труд: Heinrich Gomperz.
Weltanschauungslehre. В. I (Jena u. Leipzig, 1905), Bd. II, 1 (ib., 1908).
Этот замечательный труд не был мне известен, когда я писал свое
«Введение» к книге «Хозяйство и цена» (=немецкую статью).
Из новейшей логической литературы следует отметить:
A.Spaier. Pensée par universaux et pensée par individus в Revue de
métaphysique et de morale. 1928, pp. 491—528.
Метафизика и социология 371
ночные дисциплины, этику и политику, — не связан
по существу с аспектом гносеологически-логически-
онтологическим, ибо никакой реализм-универсализм
не должен изначала, так сказать, a limine, утверждать
«реальность» всех общих понятий, и каждая группа
их — даже с точки зрения самого крайнего реализма
(=универсализма) — должна быть специально
обнаружена, или оправдана в своей «бытийности».
Помимо этого общего соображения,
социологическое рассмотрение проблемы: общее (универсальное) —
частное (сингулярное) объемлет не только
соотношение: индивидуальное — общее, но и соотношение:
часть — целое. Что же касается этого соотношения, то
оно должно и может быть уже рассматриваемо не
столько как гносеологически-логическая проблема,
сколько как проблема имманентного познания какой-
либо точно очерченной группы реальных явлений, в
которой все «явления», «факты», «данные»
предполагаются одинаково «реальными» и исследуется их
реальное соотношение, их весомость именно как реальных
явлений, — с точки зрения либо имманентной логики
данной области знания, либо чисто эмпирического
познания, или истолкования явлений, ею исследуемых.
На самом деле оба аспекта,
гносеологически-онтологический и социологический, в истории идей
весьма разнообразно-причудливо сплетаются и
переплетаются, причем нельзя сказать, чтобы точка зрения
гносеологически-онтологического «реализма» не
отражалась на построениях социологического
«универсализма».
Наоборот, и это обнаруживается весьма ясно в
развитии греческого умозрения.
Такому соотношению значительно способствовала
самая терминология: частное, особое, индивидуальное
(singulare) в Аристотелевой метафизике: το καύεκαστον;
во множественном числе; τα καύεκαστα, Metaphysica
(Ed. Parisians, 1878) lib. I, cap. 1: Έτι δέ των αισθήσεων
ούδεμίαν είναι σοφίαν, καίτοι κυριώταταί γ'είσιν αύται των
καθόεκαστα γνώσεως κΐλ (ощущения, дающие
представления, ничего не говорят, по Аристотелю, ξ δια τι, а
исключительно о ότι). Ср. lib. Ill, cap. 3 и passim.
Общее и целое (universale) обозначалось у Аристотеля,
как τό или без члена просто καθόόλον или во множест-
372
П.Б.Струве
венном числе (universalia!) τά καθόόλον, например, Arist.
Metap. I, 6. На основании словоупотребления
Аристотеля кн. С.Н.Трубецкой в своей «Метафизике в
Древней Греции» (Москва, 1890 г., стр. 42) пытался
установить первоначальный философский смысл термина
«кафолический» как всеобщего и безусловного,
действующего по силе вселенского «кафолического»
разумного закона. Тут явно кафолический=универсальный1.
С аристотелевской терминологией поучительно
сопоставить словоупотребление Полибия, у которого τά καθόόλον
получает прямо социологический смысл и означает
«дела общественные» или «государственные», а
τά καθόόλον γράφειν значит писать всеобщую историю,
каковая обозначается еще как καθολική καί κοινή ιστορία, а
также просто как κοινή ιστορία2.
III. Доаттическая философия
В развитии греческого умозрения перед нами
прежде всего выступают, с разительной четкостью и
красотой, два противоположных построения, которые,
в конечном счете, однако, как-то совпадают:
I. Онтологический монизм.
II. Номологический монизм, тоже, в порядке
субстан циализации закона как верховного начала,
переходящий в онтологизм.
Каковы бы ни были ее метафизические оттенки, вся
доаттическая греческая философия является
социологическим универсализмом. Особенно примечательна в
1 Толкование кн. Трубецкого вряд ли имеет историческое
основание. Слово «кафолический» всегда имело не одну
смысловую окраску. В церковной литературе, по-видимому, еще Исидор
Испанский окончательно устанавливает латинский перевод
греческого слова: Katholicus, universalis, Graecum est. S. Isidori His-
pa lens is, Etymologiarum libri X. Migne PL., t. 82, col. 383.
Соответственно этому, у Кальвина в Institutio 1536 г. церковь: societas
electorum... catholica id est universalis. He имея под руками
сочинений Кальвина, цитирую по Theodor Werdermann. Calvins Lehre
von der Kirche in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bonn. Diss.
Halle a. d. Saale, 1909, S. 18.
2 Cp. C.Alixandre. Dictionnaire Grec-Français. 23-me éd. Paris,
1888, sub voce, и весьма поучительный указатель ТГ.Мищенка к
его превосходному русскому переводу Полибия (т. III, Москва,
1899 г.) под словом «История».
Метафизика и социология 373
этом смысле философия Гераклита. Хотя из основного
метафизического положения Гераклита: πάντα ρετ (все
течет) мог бы, казалось, вытекать не только
гносеологический, но и социологический релятивизим, — сам
Гераклит этих выводов вовсе не делал. Совсем
наоборот. Релятивистические же выводы для теории
познания, этики и социологии из метафизики Гераклита
сделали только софисты и позже — в теории
познания — стоики.
Это однообразие или однотонность
социологических идей прямо-таки разительна при значительной
пестроте метафизических основ различных доаттичес-
ких учений, среди которых в зачаточном виде
представлены, пожалуй, все основные направления
позднейшей метафизической мысли.
Развитие эллинской доаттической
социально-философской, или социологической мысли,
соответственно сказанному выше, протекает сплошь под
знаком универсализма.
В частности, первые греческие социалисты, о
которых мы знаем из «Политики» Аристотеля, были
универсалистами. Современник Сократа Гипподам
Милетский, чудак-рационалист, с которым Аристотель
полемизировал как эмпирик, был социалистом, или
коллективистом, по всему, что нам о нем известно,
консервативного чекана и в этом смысле является
прямым предшественником Платона. Такой же, еще ярче
выраженный, характер носят идеи пифагорейца Фа-
леаса Халкедонского1.
IV. Софистика. Сократ, Антисфен.
Софистика — вместе с Сократом — составляет
грань в развитии философской мысли античного
1 Ср. L.Stein. Die staatswissenschaftliche Theorie der Griechen vor
Aristoteles und Piaton und ihr Verhältniss zu dem Leben der
Gesellschaft в Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. 1853. SS. 115—182
(замечательный очерк гениального обществоведа, до сих пор не
утративший интереса). W.Oncken Staatslehre d. Aristoteles. Lpzg, 1870
и в особенности R.Pöhlmann. 1 Aufl. Geschichte d. antiken
Kommunismus и Sozialismus. 1893—1901. 2 Aufl. Geschichte: d. sozialen
Frage etc. 1912. При составлении настоящего очерка я имею в руках
только первое издание. С /Тельманом я во многом не согласен.
374
П.Б.Струве
мира. Тут впервые появляется в античном мышлении
сингуляризм-индивидуализм-номинализм и впервые
идея закона, или нормы (νόμος), противопоставляемая
идее природы (φύσις), опорачивается с точки зрения
бытийной, или онтологической. Однако из этой
революции в области метафизики, в которой Сократ
(тоже поставивший человека и человеческое сознание
в центре умозрения) некоторую часть пути идет рядом
и заодно с софистами, не сразу вытекают
революционные социологические выводы в духе сингуляризма
(индивидуализма). Их не делает по-видимому ни Про-
тагор, ни Горгий, ни даже Гиппий, хотя последний к
ним весьма приближается, заявляя, что «закон —
тиран над людьми, их вопреки природе насилующий»
(Plat. Prot, 337 d: о о δέ νόμος τύραννος ών των ανθρώπων
πολλά παρά την φύσιν βιάξεται). Окончательно
социологический сингуляризм, и как объективная теория, и как
оценочно-моральный подход, торжествует лишь у
позднейших софистов, о которых мы знаем из
полемически-карикатурных, но в общем верных
характеристик Платона, у Пола (Πόλος), Калликла, Фразима-
ха, и у киников, прежде всего у Антисфена. Антисфен
вообще — с интересующей нас точки зрения — самая
примечательная и значительная фигура.
Последовательный номиналист в теории познания и логики, он
в обществоведении — законченный сингулярист
(индивидуалист). Теоретически, как крайний
индивидуалист, Антисфен является анархистом и в то же время
практически он до мозга костей — моралист, и
притом рационалист. Это — Лев Толстой античности,
только более логичный и, соответственно этому, более
смелый и в то же время гибкий. Примечательно, что
Антисфен в одно и то же время — ученик и Сократа
и софистов (в этом обнаруживается родство и
параллелизм сократовской философии и софистики) —
подобно тому как анархист Толстой в одно и то же
время и христианин, и рационалист-«просветитель».
Такой же в сущности смешанный (хотя
неэклектический!) характер носят учения мегарской (Эвклид и
Стильпон, последний под влиянием Антисфена), элид-
ско-эритрейской школы (Федон и Менедем) и затем
гедонизм Аристиппа (Киренаика).
Метафизика и социология 375
Мы видели, что ход социологической мысли
Древней Греции до софистов может быть изображен в
виде прямой линии сплошного универсализма.
Софисты — именно они, а не Сократ — порывают с
натурфилософской традицией греческой мысли и
открывают ее антропологическую эру. В этом отношении с
Протагора и Горгия обозначается подлинный перелом
в истории греческой философской мысли.
Но, как я уже указал, эволюция в области
метафизики, хотя бы и «отрицательной», не сплошь
совпадает с таковой в области социологии. В последней
линия универсализма идет дальше, захватывая и
ранних софистов, и Сократа, ломаясь только на Антисфе-
не. Можно спорить о том, является ли Аристипп еще
большим сингуляристом, чем Антисфен, но их
социологическое мышление во всяком случае одного и того
же типа, и к этому типу относится и позднейшая
софистика. Эпоха с Антисфена до Аристиппа есть эпоха
очень сильного влияния сингуляризма в нашем
социологическом смысле, т.е. номиналистически
обоснованного индивидуализма, эпоха очень
непродолжительная, приблизительно в тридцать—тридцать пять
лет (420—385), но чрезвычайно яркая, отмеченная
личностью и деятельностью Алкивиада, судом над
Сократом и его смертью, моральным и политическим
разложением эллинской государственности в двух ее
главнейших центрах, Афинах и Спарте (Лакедемоне),
и унизительным вмешательством персидских
властителей в греческие дела, полагающим конец не только
независимости греческих городов в Малой Азии, но и
политической самостоятельности эллинских
государств и в Европе (Анталкидов мир 387 до Р. Хр.;
успехи фивян и гегемония Фив, 371—362, есть лишь
краткий эпизод, за которым следует македонская
гегемония).
Как бы мы ни истолковывали философию
Сократа, будем ли мы ее понимать в чисто практически-
утилитарном духе Ксенофонта, или в духе Платона,
влагая в сократовские поучения платоновское учение
об идеях, или мы остановимся на среднем
истолковании, аристотелевском, — универсалистическая,
социологическая и социально-философская, позиция
учителя Антисфена и Платона не может подлежать никако-
376
П.Б.Струве
му сомнению, и значительное влияние этой позиции
было тоже несомненно. Но, все-таки, несмотря на
большое влияние Сократа с его универсалистическим
пониманием социальных отношений и связей и с его
«законопослушностью», в эту эпоху чисто сингулярис-
тическое, отрицательное, нигилистическое понимание
софистов и кинизма (в лице Лнтисфена и его
последователей) было приблизительно так же влиятельно и
сильно, как и влияние сократовское.
V. Реакция в духе универсализма:
Платон и Аристотель
Сингуляристическая эпоха 421—385 гг. вызывает
реакцию в духе универсализма, главными
выразителями которой являются Платон и его ученик
Аристотель. Эта реакция не есть вовсе реакция отчаяния в
значении и силе государственного и общественного
начала; наоборот, она окрашена известным
политическим оптимизмом, у Платона и еще раньше у Ксе-
нофонта «спартофильски» направленным (дорический
дух!), у Аристотеля же имеющим характер гораздо
более отвлеченный (несмотря на близость Аристотеля
к македонскому двору в течение 7 лет, когда он был
воспитателем Александра Македонского, он не был
вовсе македонофилом). Эпоху аристотелевско-плато-
новскую, которая заполняет все время с 385 по 300 г.
до Р. Хр., можно охарактеризовать как эпоху почти
полного господства социологического универсализма.
Его конкретные проявления: 1) сократический
платонизм, 2) платонизм идеально-утопический
(«Государство»), 3) платонизм, практически и исторически
ориентированный в кодсервативно-дорическом духе
(«Законы») и 4) аристотелизм — различаются между
собою лишь в оттенках или подробностях, но не в
принципах. Принципами же этими являются
первенство (примат) общения (общества, государства), как
высшего органического целого, над индивидомом и
семьею, как частями, и утверждение подлинного
государства в образе идеальной и в то же время чисто
национальной политики единственного руководящегося
познанием и разумом (φιλομαθής, φιλόλογος, φιλόσοφος)
Метафизика и социология 377
народа, эллинов, носителей подлинной и
своеобразной культуры (παιδεία).
Эллин Платона и Аристотеля есть живущий в
государстве, им со всех сторон объятый, чисто
«политический» человек. Для Платона и Аристотеля вне
государства нет человечности. Психологически это
идеологическое утверждение Платоном и Аристотелем
эллинской государственности есть проявление
величайшего оптимизма, ибо исторически оно являет собою
духовную обращенность к порядку отношений,
прямо-таки гибнущему на глазах обоих философов (в
особенности это приложимо к афинянину Платону,
но в общем верно и в отношении к сжившемуся с
Афинами полуфракийцу Аристотелю, внутренне
совершенно чуждому и македонскому варварству, и
македонскому «империализму»).
Ближайшие ученики Платона (ранняя Академия) и
Аристотеля (ранние перипатетики) — поскольку мы о
них знаем, а знаем мы очень мало — не представляют
интереса с точки зрения той проблемы, которою мы
занимаемся: они подхватывают нить своих учителей.
Их значение заключается не в каких-либо новых
социально-философских идеях и перспективах, а в
развитии некоторых других сторон знания (психологии и
естествознания).
VI. Оформление сингуляризма
в стоицизме и эпикурействе
Совсем иначе следует охарактеризовать
эллинистически-римскую философию, в особенности в ее
ранний период — в эпоху первых стоиков и эпикурейцев.
Системы стоической и эпикурейской философии в
высшей степени примечательны с интересующей нас
точки зрения. Эти системы оформляют сингуляризм в
его обоих аспектах, не только как гносеологический
номинализм, но и как социально-политический
индивидуализм, и притом делают это в рамках
законченного метафизического мировоззрения, искусно и в то
же время жизненно вбирающего в себя мотивы не
только аттического, но и доаттического периода
греческой философии. Неудивительно поэтому, что стой-
378
П.Б.Струве
цизм и эпикурейство получили мировое значение и
дали исходные точки для развития самых
могущественных течений и самых влиятельных концепций и в
философии, и в обществоведении нового времени:
весь индивидуализм нового времени был
прообразован (преформирован) стоицизмом и эпикурейством1.
Стоики в лице уже Зенона в учении о понятии
стояли на чисто номиналистической точке зрения. Не
столь ясна гоносеологически-логическая позиция
эпикурейцев. Но зато эпикурейцы более крайние, в
теории — самые крайние индивидуалисты. У стоиков же
гносеологический номинализм своеобразно сочетается
с гораздо более умеренным социально-политическим
сингуляризмом (индивидуализмом), делающим
значительные принципиальные уступки универсализму.
Сочетание это происходит при посредстве метафизики,
строго проводящей идею всеобщей закономерности,
заимствованную стоиками у Гераклита и
совпадающую с Божественным Промыслом (отсюда уже для
стоиков возникает проблема теодицеи!). Конечно, тут
нельзя искать полной логической стройности и
последовательности, тем более, что у стоиков рядом с,
казалось бы, оптимистическим учением о
закономерности и промысле был пессимистический взгляд на
среднего человека, «качество» которого они
оценивали весьма низко, почему их внимание все было
устремлено на «мудреца» (σοφός или σώφρων, который
есть σπουδΰτος — в отличие от άφρων, который есть
φαύλος).
Мир существует для стоиков ради людей, на
основании Богом, Он же Рок и Промысел, установленной
целесообразности, люди же существуют ради
общения. Общение это, понимаемое в смысле
концентрически от индивида расширяющегося
взаимосоприкосновения людей, мыслится стоиками в своем высшем
1 О значении античной культуры вообще для культуры нашего
времени см. поучительный и общедоступно написанный
коллективный труд 26 авторов под редакцией Э.Нордена: Vom Altertum
zur Gegenwart Die Kulturzusammenhänge in den Hauptepochen und
auf den Hauptgebieten. Leipzig—Berlin, 1919, и в нем особенно —
сжатый, но содержательный очерк Макса Вундта: Philosophie
und Weltanschauung (SS. 200-207).
Метафизика и социология Ъ19
выражении как некое подобие мирового целого, как
универсальное государство, объемлющее все
человечество. Этот космополитизм, восходящий к киникам,
примиряет универсалистический мотив стоицизма с
его сингуляристическим мотивом. Отдельные
конкретные государства оцениваются стоиками если и не
прямо отрицательно, то весьма низко — их интересует
всечеловеческое общение. Поэтому мотив сингулярис-
тический, или индивидуалистический, действует в
стоицизме гораздо сильнее и живее, чем мотив
универсалистический, и значение первого для стоиков
следует оценивать гораздо выше, чем значение
второго. Вот почему эллинистически-римскую эпоху
философской мысли мы имеем право рассматривать как
эпоху почти полного преобладания социологического,
или социально-философского, сингуляризма, лишь
слегка умеряемого идеей «общения» и мирового
государства, конкретным воплощением которого является
Imperium Romanum. В какой мере, однако, Imperium
Romanum еще до принципата импонировало именно
философски образованным и политически
заинтересованным эллинам, — это мы видим на примере
Полибия, который, будучи до мозга костей эллином,
считавшим римлян варварами, был буквально
зачарован римской государственностью.
VII. Социологический эклектизм
эллинистически-римской эпохи
В эпоху с 1-го по 3-й век по Р. Хр. мы встречаем
эклектические рассуждения таких полуфилософов и
полуполитиков, как Дион Прусский (род. около 40 г.
по Р. Хр. — t около 110 г.) и Плутарх Херонейский
(род. около 40 г. — t около 130 г. по Р. Хр.).
Первый1 был по своей исходной точке киником,
но в области политической и социальной он являлся
1 О «политической философии» Диона Прусского, или Хризос-
тома (Златоуста), существует на русском языке основанная на
внимательном изучении этого писателя монография: В.Е Валь-
денберг. Политическая философия Диона Хризостома
(Отдельный оттиск из «Известий Академии наук» за 1926 г., стр. 96 без
сплошной пагинации). В изложении Вальденберга «эклектичес-
380
П.Б.Струве
скорее стоиком, воспринявшим государственные идеи
Платона в их умеренном варианте.
Второй был по своей исходной точке платоником,
воспринявшим, однако, главные основы этики
Аристотеля и в то же время — несмотря на полемику с
крайностями стоиков — очень близким к их
идеалистическому космополитизму.
Наконец, эта умеренная и эклектическая позиция
лично еще ярче воплощается в живом образе
императора-стоика Марка Аврелия (царствовал с 161 по 180 г.
по Р. Хр.). Последний обозначает, вместе с Эпикте-
том и Сенекой, некое внутреннее (интимное)
обращение «элиты» языческого мира к Божеству: тут,
конечно, действуют еще мотивы платоновского идеализма,
но уже в совершенно новой «тональности», весьма
близкой к первохристианству. И в то же время Марк
Аврелий — император, пекущийся о безопасности и
величии Империи, ради этого не только
управляющий, но и ведущий войны.
В сущности, тут мы уже имеем столь характерное
для позднейшего христианского мира религиозное
отвращение от мира рядом с практическим приятием его.
Эта двойственность отсутствовала не только у
Аристотеля, но даже у Платона: государство было для них
неразрывно связано с религией, на нем, как на
таковом, лежал какой-то божественный отпечаток. Уже
иначе — у ранних стоиков, и еще яснее — несмотря
на весь их эклектизм и оппортунизм — у поздних
стоиков. Идеальное государство-мир для стоиков
обвеяно божественным дыханием, но реальное,
конкретное государство есть только наименьшее, по
сравнению с анархией, зло, с которым нужно считаться,
которое нужно улучшать, или смягчать, но которое все-
таки относится к какому-то низшему порядку вещей
и отношений. Таково было, конечно, в первых
встречах христиан с государством и их отношение к нему.
Государство и с первохристианской точки зрения от-
кий» характер социальных и политических настроений и
построений Диона Прусского выступает в каждый данный момент
его весьма различно во времени окрашенной литературной
деятельности достаточно явственно.
Метафизика и социология 381
носилось к внешнему и низшему порядку вещей и
отношений. Его необходимо признавать, ему даже
праведно подчиняться, поскольку его требования не идут
вразрез с велениями Бога, с заповедями религии. Но
и только: для спасения души государство совершенно
не нужно.
VIII. Первохристианство и новоплатонизм
Таким образом, тут в проблему соотношения: син-
гуляризм — индивидуализм и универсализм — социализм
(коллективизм) окончательно привносится со стороны
религии осложнение, дотоле неизвестное античному
миру. В последнем мы видим сперва религиозный
универсализм в борьбе с антирелигиозным сингуля-
ризмом, а затем религиозный сингуляризм,
совмещающийся у умеренных стоиков с каким-то, тоже
религиозно-метафизически обоснованным,
космополитическим универсализмом.
Первохристианское отношение к государству как к
чему-то внешнему и низшему, характерное и для
синоптиков, и для апостола Павла, не было, однако,
вовсе и только отношением вероисповедным.
Это обнаруживается с необычайной ясностью на
новоплатонизме. По религиозной напряженности
новоплатонизм Плотина (род. 203 — t 269 по Р. Хр.),
Ямблиха (между 280 и 330 по Р. Хр.) и Прокла (род.
410 — t 485 по Р. Хр.) мало чем уступает первохрис-
тианству. И неслучайно, что в новоплатонизме
отсутствует политическая философия. Так как для новоп-
латоников нравственную цель составляет
«уподобление Божеству», то для них «политические»
добродетели являются низшими в лествице добродетелей, а
вершину свою человеческое бытие обретает в блаженном
состоянии экстаза, ведущего к отрешению от мира и
слиянию с Божеством. Тут по Ямблиху проявляют
себя высшие целостные (ένιαται) и священные (гиера-
тические) добродетели.
Ни к первохристианству, ни к новоплатонизму не-
приложимы — строго говоря — социологические
категории сингуляризма-универсализма. Проблема
соотношения между индивидом и целым тут всецело
транспонирована в религиозную область. В этой рели-
382
П.Б.Струве
гиозной области самые яркие и руководящие новоп-
латоники — еще большие универсалисты, чем
основатель христианского вероучения апостол Павел1, и
соответственно этому, мистическое напряжение
новоплатонического многобожия, пожалуй, даже выше,
чем — христианского единобожия, во всяком случае в
нормальных и нормативных (руководящих)
проявлениях последнего (т.е. опять-таки прежде всего у того
же апостола Павла\).
Мистически-теургическое отвращение новоплато-
низма от мира не помешало, однако, новоплатонику
Юлиану Отступнику (род. 331 — 363 по Р. Хр.)
быть — государем и правителем. Юлиан Отступник
является языческим pendant к Константину Великому.
В лице Юлиана еще ярче, чем в лице Константина,
совершается практическое, деловое размежевание
между религией, устремленной в потусторонний мир,
и земным государственным деланием. Ибо вне
всякого сомнения: новоплатоническое язычество Юлиана с
его верой в бессмертие души и в мистическое
(экстатическое) общение этой бессмертной души с
Божеством было такой же религией, покоящейся на вере в
трансцендентное начало Мира, как и христианство, с
которым Юлиан боролся2. Как язычник, мистик, или
теург, Юлиан был новоплатоником (чекана Ямблиха и
Максима Эфесского). Как государь и правитель, он
был просто платоником, проводившим в жизнь эта-
1 Впрочем, нельзя отрицать, что известного рода своеобразный
сингуляризм довольно ярко обнаруживается и в метафизике но-
воплатонизма, а именно в той обрисовке, которую у него
получило платоновское учение об идеях. По Платону идеи имеются
только для предметов, выражаемых общими понятиями, по
Плотину же каждому единичному существу, каждой вещи
соответствует ее собственный прообраз, ее собственная идея.
Литература о новоплатонизме чрезвычайно велика. Я бы хотел
отметить здесь только две превосходные обобщающие
характеристики: M.Heinze sub v. в Realenzyclopädie f. d. protestantische
Theologie u. Kirche. Bd 133 (Leipzig, 1903) и Harnack
Dogmengeschichte l4, SS. 811 ff.
2 Гарнак (I.e. S. 812) метко указывает, что новоплатонизм,
являясь «ступенью в истории и философии и религии», означает
«как философия — упразднение той античной философии,
которую он хотел завершить, и как религия — упразднение тех
античных религий, которые он намеревался реставрировать».
Метафизика и социология 383
тистические взгляды великого афинянина в их
умеренной редакции, изложенной в «Законах»1. Будучи,
как всякий подлинно религиозный человек,
заботящийся прежде всего о «спасении души», в основе
своей религиозным сингуляристом, он, как правитель
и социальный политик, был таким же
универсалистом, как и сам Платон.
Единый целостный универсализм, объемлющий
все бытие человека, кончается с появлением на
свет — в форме новоплатонизма и христианства —
религии спасения души, религии по существу и по
принципу трансцендентной. Эта религия отвращается
от мира и его отвергает — конечно, для того, чтобы
поставить перед собой задачу его — преображения. Но
такое «преображение» по принципу мыслится
осуществимым не во имя земных благ и не земными
средствами. Поскольку политика вообще, и социальная в
частности, являются задачами чисто земными и
эмпирическими, — они остаются сами по себе чужды
трансцендентной религии.
Этого основного противоположения между
идеалом спасения души и идеалом общественного блага и
подчинения второго первому не существовало для
античного универсализма Аристотеля и Платона,
несмотря на весь их идеализм. Их религиозная мысль
была слита с их социально-политической, один ряд
идей не был дифференцирован от другого.
Эта нераздвоенность античной
социально-политической мысли содержит объяснение двум
основоположным фактам в истории социальной мысли и
средних веков, и нового времени:
1. Не имея в области политики вообще, социальной
политики в частности никаких положительных и
конкретных указаний со стороны самого христианского
вероучения, социальная мысль средневековья
обращается к античности и реципирует идеи и критерии
античной философии, т.е. Платона и Аристотеля.
1 Платоновский характер социальной политики Юлиана я
показал в исторической части своей книги «Хозяйство и цена»
(Москва—С.Петербург, 1913 г.), стр. 259—262. Из новейшей
общей литературы об Юлиане укажу: J.Bidez. La vie de l'empereur
Julien. Paris, 1930.
384
П.Б.Струве
2. Но в то же время эта рецепция1 лишена с
самого начала той целостной идеологической основы,
которая была присуща социально-политическому
универсализму античности, покоившемуся на
метафизическом универсализме, в котором религия и земная
жизнь были просто слиты.
3. Впервые окончательно признанное новоплато-
низмом и христианством основное первенство
(принципиальный примат) идеала спасения души над
идеалом общественного блага делает с этого времени
области религии и политики (в широчайшем смысле,
включая сюда, в частности и в особенности,
социальную политику) относительно автономными, т.е.
лишенными той первоначальной целостности, которая
была им присуща в античном мире и миросозерцании.
4. Отсюда для нового времени, с того момента, что
оно решительно и демонстративно порвало с изнутри
подточенным и омертвевшим аристотелизмом,
открылась возможность — принципиально заложенная в
христианстве как благовестии о спасении души —
свободного отношения к «земным» идеям и
критериям политики как «земного» делания. С этого момента
тот «эклектизм», который в античном мире есть
фактическое сочетание разнородных мотивов и который
встречается нам и в умеренных формах стоицизма, и
у Диона Прусского, и у Плутарха Херонейского,
становится по существу неизбежным и характерным для
христианского мира: и универсализм, и сингуляризм
теряют свое прежнее, столь существенное в античном
мире, религиозное или (как это было у софистов)
противорелигиозное освящение. Прежняя массивная
связь между религией (метафизикой) и политикой
распадается — их соотношение становится весьма
многообразным и весьма подвижным, или текучим.
Являются на сцену христианский социализм и
христианский индивидуализм — в весьма разнообразных
конкретных выражениях и комбинациях.
1 Указанную рецепцию, поскольку она выразилась в
средневековом приятии и переработке античной идеи — института
«справедливой» («указной», «уставной») цены, я пытался, на основании
первоисточников, точно изобразить и охарактеризовать в
историческом отделе первой части своей книги «Хозяйство и цена».
ДУХ И БЫТ
Опыт историко-социологического истолкования
западноевропейского средневековья1
1 Доклад, прочитанный около трех лет тому назад в
соединенном заседании Отделения Философского и Наук Общественных
и Исторических Русского Научного Института в Белграде. В
этом заседании еще участвовали покойный Ф.В.Тарановский, и
мне приятно вспомнить, что он присоединился к
выставленному мною понятию «быт», как понятию «социологическому»,
всецело разделив то значение, которое я придаю этому понятию
в истолковании исторических фактов и процессов. Основные
философские понятия и термины предлагаемого этюда восходят
к рассуждениям и определениям, содержащимся в
озаглавленном «О некоторых основных философских мотивах в развитии
экономического мышления» «Сведении» к моему главному
труду по теории и истории хозяйственной жизни «Хозяйство и
цена» (ч. I, СПБ.—Москва, 1913, ч. И, вып. I, Москва, 1916),
введении, которое составилось из переработки 1) статьи,
напечатанной в 1908 г. в «Известиях СПБ. Политехнического
Института Императора Петра Великого» и 2) статьи,
напечатанной сперва на немецком, а потом на русском языке в
международном философском журнале «Logos» за 1910—1911 г. (выходил
в двух изданиях, немецком и русском). И терминологически, и
как историческое исследование настоящий этюд
непосредственно примыкает к другому моему опыту «Социология и
метафизика. Универсализм и сингуляризм в античной философии»
(Записки Русского Научного Института в Белграде, выпуск 11,
Белград, 1935). Так же, как и этот последний, предлагаемый
очерк основан на самостоятельном по возможности изучении и
использовании первоисточников и литературы. Но ссылки на
источники и пособия я и здесь старался свести до минимума,
оставляя большую их часть до предположенного отдельного, в
форме книги, издания цельного исторического обзора
идеологических и бытовых судеб «сингуляризма» и «универсализма».
Проблема, объемлемая этими философскими терминами, на
пространстве целых десятилетий занимает меня как экономиста,
социолога, историка, политика, ибо от полной критической и
конструктивной ясности в постановке и разрешении этой
проблемы зависит, по моему глубокому убеждению, нахождение как
теоретической истины в социологии, так и практической
правды в политике. Настоящий очерк печатается почти без всяких
изменений и дополнений с рукописи, по которой был прочитан
доклад.
У213- 1171
386
П.Б.Струве
Посвящается старейшему
русскому медиевисту
Николаю Михайловичу Бубнову
по случаю его 80-летия
Умозрение раннего средневековья стоит под
знаком — Христа и Платона. Это — объединение
отправляющегося от ветхозаветной традиции новозаветного
богословия с греческими философскими построениями,
представляющими переработку, в духе новоплатониз-
ма, платоновско-аристотелевски-филоновских идей.
Христианство ставит задачей и целью человека
спасение индивидуальной бессмертной души. В этом
смысле христианство есть абсолютный
индивидуализм. Условием спасения индивидуальной души — по
христианскому учению — является не только полная
вера, но и безграничная любовь. Любовь, которая —
принципиально, сознательно и решительно —
напрягается до абсолютного альтруизма.
Таким образом, христианство есть, в одно и то же
время, и абсолютный индивидуализм, и абсолютный
социализм, а потому, в сущности, ни то, ни другое. В
христианстве религиозный сингуляризм своеобразно и
прочно сочетается с религиозным же универсализмом,
с некой «соборностью». Тут нет никакого внутреннего
противоречия, ибо это сочетание означает
объединение индивида с другими индивидами в Боге, который
есть Любовь. Таково исходное идейное построение
христианства, одинаково решительно отвергающее и
индивидуалистический эгоизм, т.е. самопревознесение
лица, и самоуничижение и даже самоуничтожение
лица перед чужой и чуждой коллективной волей, т.е.
принудительно-властный коллективизм. В
христианстве задача и идеал спасения (σωτηρία) души безусловно
преобладают и над сохранением личной животной
жизни, и над общественным благом и, в частности,
над общественным благом, осуществляемым в силу
государственного веления.
Крайний моральный сингуляризм христианства
рано ставит перед христианским сознанием проблему
свободы, свободы веры (совести) и свободы делания.
Христианин подчиняется Богу, но свободно, по вере
и по любви. А рядом с индивидуальной душой, спа-
Дух и быт
387
саемой жизнью в «духе» (=«во Христе»), стоит
христианское общение, Церковь.
Существовало ли в христианстве когда-либо
понятие церкви чисто духовное, «пневматическое»,
понятие церкви как общения, не облеченного ни в какие
видимые и институционные формы — вопрос,
исторически почти неразрешимый. Но, конечно, у Павла
и вообще во времена апостольские Церковь не есть
еще «учреждение» (Anstalt) в нашем современном
смысле1. Мне думается, что Гарнак идет слишком
далеко, когда называет первоначальную церковь
«пневматической демократией»2. Право, конечно, не всегда
и не обязательно опирается на принудительную
власть. Однако, предполагая хотя бы и добровольно
признанную, но все-таки общую обязательность, оно
является по общему правилу, так сказать,
эмпирическим коррелатом власти, в государстве становясь и
логическим ее коррелатом.
По мере того как стало ослабевать
эсхатологическое чувство, ощущение близости конца мира, —
происходит правовое оформление Церкви, превращение
ее из факта добровольного, духовного, исключительно
1 Weinel правильно пишет во втором издании известной
энциклопедии «Religion in Geschichte und Gegenwart» (1929) sub.
v.Kirche, II, 5: Die Kirche des Paulus ist keine unsichtbare, sondern
eine sichtbare. Sichtbar in allen Menschen, die Gott beruft und die
«in Christus» sind; aber sie ist keine Anstalt und hat keine rechtlichen
Merkmale. Sie steht also noch jenseits des Protestantismus wie des
Katholizismus. Sie ist nicht gekennzeichnet durch irgendeine
Verfassung. Gott hat ihr wohl «Charismata», Begabungen für ihren Dienst
gegeben (I Kor. 12, 28) und Menschen, die freiwillig arbeiteten und
freiwillig Gehorsam fanden (I Kor. 16, 15), aber nicht Beamte und
Priester. Дальнейшее развитие характеризуется так: Doch beginnt
langsam das Anstaltliche zu wachsen (Sp. 789 I.e.).
2 Ср. его «Verfassung, kirchliche u. kirchliches Recht im 1 u. 2
Jahrhundert» в третьем издании Herzog-Hauck. Real-Enzyklopädie Bd
XX (1908). S. 520. Ibidem S. 519: «Die Gemeinden stehen unter dem
Worte Gottes (bezw des Herrn) und unter der vaterlichen Zucht des
Apostels, der sie begründet hat, aber sofern der Geist sie regiert, ist
dieser Geist der Gemeinde als Ganzes und als einer Einheit
geschenkt, und auch di Amts- und Ehrenpersonen stehen als Gliteder in
dieser Einheit und nicht über ihr. Cp. Seeberg. Lehrbuch d.
Dogmengeschichte I3 (Lpg. 1920) S. 99: nicht um eine kirchenrechiliche
Feststellung, sondern um eine pneumatische Ausrüstung handelt es
sich.
388
П.Б.Струве
основанного на любви, из общения в властное
учреждение, основанное на принудительном праве1. Отсюда
получается и возникает проблема соотношения
Церкви как 1) пневматического и как 2) институционного
общения. Этому раздвоению соответствует, хотя с ним
не совпадает, разделение Церкви невидимой и
видимой. Ибо пневматическому понятию Церкви как
общения в духе, сопутствует ее
мистически-символическое понятие как Тела Христова (Кор. 1, 10, 12-28) и
как Невесты Христовой (Римл. 12, 4-5)2.
Все эти моменты — пневматический,
институционный, мистически-символический — соединяются и
создают понятие Церкви не только как общения, но и
как общества, как «тела», «корпорации», т.е.
оформленной организации с правом и властью. Это
превращение церкви из только духовного общения в
общение-учреждение означает видимое и внешнее
усиление в христианстве универсалистического и в то же
время определенно правового момента на счет
момента сингуляристического и в то же время определенно
добровольного, обходящегося без принудительного
права. Этому соответствует превращение
христианской церкви из чисто пневматического общения, из
«народа Божия» в смешанного характера государство-
подобное учреждение, в котором представлены начала
монархическое (епископат!), аристократическое
(священство!), демократическое, или соборное
(церковный народ, коему принадлежит или может, по
крайней мере, принадлежать участие во власти).
1 Впрочем, исследования К.Голла делают весьма вероятным,
что первой христианской общине, Иерусалимской, были
присущи и приуроченность к месту (Иерусалиму), и резко
выраженный «институционный» характер и что содержание и смысл
деятельности апостола Павла заключались в борьбе за
«одухотворение» Церкви, т.е. за утверждение за нею пневматического
^харизматического) характера. Но борьба эта — по мнению
Голла — была безуспешна — до Лютера! Ср. Karl Holt Der
Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verhältnis zu den Urgemeinden
(1927) в его Gesammelte Aufsatze z. Kirchengeschichte. II. 1.
(Tübingen, 1921) SS. 44-67.
2 Пневматический момент, как особо присущий Христу, в
качестве Господина Народа Божия, или Церкви, разъяснен очень
хорошо у Seeberg. Lehrbuch der Dogmengeschichte I3 (Lpzg, 1920).
SS. 84-92.
Дух и быт
389
Таким образом ни в чисто духовном (религиозном
и метафизическом), ни в общественно-политическом
развитии в средневековую эпоху изначала нет
единства, или единообразия. Эллинистически-римская эпоха
передала средневековью по наследству идею и факт
мировой империи. Рядом с этим политическим
универсализмом постепенно в церкви и церковью
вырабатывается свой собственный универсализм. Но в
действительной жизни это вовсе не единственные, хотя, быть
может, самые могущественные и растущие силы.
Рядом с ними феодально-городской строй рождает
другие силы: власть сеньора, или грундгерра, и власть
городских союзов, общих («общин») и специальных
(цехов, корпораций). Эти «партикулярные» силы
реально ограничивают и подтачивают «универсальные»
силы средневековья, подготовляя иное соотношение
социальных и политических факторов в новое время.
Западное средневековье характеризуется
сочетанием абсолютно универсалистической идеологии с
построенным на относительно сингуляристической
основе бытом. Мировая светская Империя то в
согласии, то в борьбе с Вселенской Церковью! И тут же —
феодальный строй, отделяющий и отдаляющий и
отдельных лиц, и целые группы от универсальной
власти, как светской, так и духовной, целым рядом
прослоек-зависимостей! Юридическую форму этого
раздробления власти представляло характеризующее
феодальный строй «овеществление господства» (Verdin-
glichung der Herrschaft), которое можно толковать с
одинаковым правом и как растворение публичного
права в частном, и наоборот, как поглощение права
частного правом публичным.
Это — тот распад подданства или подданической
связи, о котором говорил Рот (Auflösung des
Untertanenverbandes), — формула, которую фон Белов
заменяет своей смягченной: прорыв или умаление
подданства (Durchbrechung des Untertanenverbandes).
Идеологическая линия Средневековья может быть
представлена сперва как постепенное и параллельное
торжество и оформление универсализма в образе
вселенской, или кафолической, церкви и универсальной
монархии. По существу эта линия одинакова и в
области римского (западного), и в области греческого
390
П.Б.Струве
(восточного) католичества. Ее основами являются
религиозные идеи теократического примата
божественной воли над человеческой, и отсюда — праведной
универсальной воли над греховной, сингулярной.
Только со времени приобщения христианства,
первоначально чуждого государству, к последнему и к
политической жизни возникает идея теократии,
противопоставляемой в самом корне всяким другим видам
властвования. Для этой теократической идеи примата
божественной (церковной) власти несущественно ее
институционное обличие: чья власть, Императора или
Епископа; Епископа-Монарха или Собора
Епископов? Эти различия могут приобретать и приобретают
большое институционное значение именно и только в
процессе секуляризации самой государственной идеи.
Если эта секуляризация овладевает самой идеей
универсальной государственной власти — каковы бы ни
были пределы ее универсальности, мировые или
территориальные — получается светская автократия и ее
самое совершенное выражение: просвещенный
абсолютизм. Когда та секуляризация, или обмирщение,
идейно освящает основанные на бытовом сингуляриз-
ме феодально-коммунально-сословные отношения, из
этой их естественной, но весьма сложной, идейной и
реальной, эволюции получается сперва либерально —
«цензовое» устройство и затем либеральная
демократия. Поскольку же не происходит секуляризации
самой государственной идеи, мы видим теократию.
Таковой в своей идейной основе было и царство
московских царей, и религиозная диктатура как
Кальвина, так и Кромвеля. Таков был и протестантский
абсолютизм Густава Адольфа, и католический
абсолютизм Филиппа II и Людовика XIV. Византийская
теократия отличается от германо-романской только тем,
что, тогда как в первой сосуществование в высшей
власти трех элементов (царства, патриаршества и
народа), так сказать, одновременно («симультанно»), во
второй оно разновременно («сукцессивно») и
заканчивается утверждением чисто патриаршей или папской
теократии, что на Западе приводит к величайшему
духовному кризису христианского мира, — к
реформации.
Дух и быт
391
Итак, отметим и подчеркнем основную черту всей
исторической жизни европейского Средневековья —
сочетание универсалистической теории, или идеологии
с сингуляристической практикой, или бытом.
Необходимо точно формулировать понятие «быта»
как понятие историко-философское или историко-со-
циологическое. Самое понятие или выражение «быт»
есть специфическая категория славянофильской
социологии — ее вычеканили и проводили Иван
Киреевский, Л.С.Хомяков и в особенности К.С.Аксаков1. Но
полной ясности славянофильская социология в этом
вопросе не достигла. Я определяю быт как
совокупность «фактических» и «конкретных» содержаний
общественной жизни в их протвоположении идейным
(идеальным) и отвлеченным построениям об этой
жизни.
Иначе эту мысль можно формулировать так: быт
есть конкретный, живой образ бытия, или
существования. Быт складывается из живых, не прошедших через
иссушающее пекло отвлечения и обобщения,
человеческих влечений, оценок, действий, из того, чему
следует не столько наш ум с его остужающей логикой,
сколько наши чувства и чувствования, наш позыв,
или инстинкт, свободный от умыслов и замыслов. И в
то же время в основе быта лежит не своевольный, не
одинокий или одиночный позыв — быт корнями
своими уходит в какую-то богатую, тучную почву не
особных, личных, а совместных, соборных
устремлений и навыков. Быт, повторяю, соткан из живых
конкретных влечений и оценок, в основе которых лежит
не разумно отвлекающее и потому отвлеченно —
одинокое индивидуальное усмотрение и не личное свое-
1 В специальном этюде я предполагаю рассмотреть историю
этого понятия и в русском языке, и в русском обществоведении.
Замечу сейчас только, что история русского слова «быт»
формально совершенно совпадает с историей греческого слова ουσία
которое первоначально тоже означает конкретно «жилье» и
«имущество» и лишь потом параллельно приобретает
отвлеченный смысл русского «бытия». Впрочем, и русское «бытие» в
таких комбинациях, как «житье-бытье», сохраняет еще ту
конкретность и непосредственность, которую греческое ουσία
никогда не утрачивала. Из славянских языков чешский хранит до
сих пор слово «byt» в его первоначально-конкретном значении.
392
П.Б.Струве
волие, а, наоборот, вековая соборная дума и
собранная воля.
Это просто — психологическая и социологическая
характеристика, а не моральная и политическая
оценка. При этом надлежит ясно понимать и постоянно
памятовать, что «факт», «практика», «быт», «жизнь»
есть контрарная, не контрадикторная1,
противоположность «теории», «доктрине», «идеологии», «учению»,
наконец, «закону» или «норме». Гносеологически
явления «быта» могут быть весьма часто
противополагаемы явлениям «идеологии» в том смысле, в каком
категория «бытия» противополагается категории
«долженствования». Но и психологически, и
исторически-социологически долженствования также, ведь, являются
фактами, входят в «бытие», «бытийны». В то же время
одни из них не просто наличествуют, а входят в «быт»,
другие не составляют «быта». Это значит: хотя в
каждом данном историческом разрезе общественной
жизни «быт» и «идеология» различимы и должны быть
различаемы как особые' области, но и в самом «быту»
наличествует в огромном большинстве случаев какая-
то естественная или стихийная «идеология», которую
можно в каждом данном случае объективным
анализом выделить. Есть, стало быть, «долженствования»,
«учения», «идеологии», глубоко погруженные в «быт»,
так сказать, покрытые и закрытые «бытом». Поэтому
мы имеем полное право говорить о двух видах
«идеологий» — и историю идеологий, вплоть до истории
целых наук, в особенности дисциплин оценочных, или
практических (этика, политика, в значительной
мере — правоведение и политическая экономия),
всегда необходимо вести по двум линиям, раздельным и в
то же время связанным, — идеологии бытовой и
идеологии ученой. Но как бы то ни было, именно в
историческом анализе всегда нужно иметь в виду различие и
различение — в порядке «контрарного» противоположе-
ни — «быта» и «идеологии», «жизни» и «учения».
1 Понятия «контрадикторный» и «контрарный» разъясняются
во всяком систематическом трактате по логике. См. Hermann
Lotze. Logik. Drei Bucher vom Denken, vom Untersuchen und vom
Erkennen. Lpg, 1874. SS. 95—97. Ср. Н.О.Лосский, Логика. Часть
первая. Берлин, 1923, стр. 111—113.
Дух и быт
393
Самый значительный, имеющий прямо-таки
всемирно-историческое значение, пример различения
«быта» и «идеологии», «жизни» и «учения» мы
находим у Лютера, поскольку он осознал и осмыслил свое
дело (это указание имеет силу, как бы мы ни
оценивали самое учение и дело Лютера, а также его
личность). Лютер постепенно пришел к убеждению, что
его призвание — бороться не с злоупотреблениями
или пороками католической церкви как учреждения, а
с ее порочным учением, с ложными догматами. В
этом — говорил Лютер — огромное различие между
ним, с одной стороны, Виклефом и Гусом, с другой
стороны. Последние хотели преобразовать «быт»
церкви, он же, Лютер, стремился заменить ложное
«нехристианское», «дьявольское» учение истинным,
«божественным» и «христианским». «Мы препираемся с
папистами не из-за быта (Leben), но из-за учения
(Lehre). Этого не сознавали Гус и Виклеф, которые
исключительно нападали на жизнь папистов. Я же
говорю преимущественно не об их жизни, а об их
учении... Таким образом и этим я разбил и одолел Папу,
а именно тем, что я предлагаю истинное учение (dass
ich recht Lehre), что мое учение божественное и
христианское, а его (Папы) нехристианское и
дьявольское»1.
Социальный и политический быт в раннее
средневековье (313—800) характеризуется борьбой между
«римским» универсализмом, и «варварским» сингуля-
ризмом (партикуляризмом), тоже, в свою очередь, под
влиянием римской и христианской идеологии,
стремящимся к какой-то интеграции и единству.
Относительный вес момента универсалистического и сингу-
ляристического в самом «быту» в нашем смысле в
1 Ср. собственное заявление Лютера, цитированное у Denifle-
Weiss. Luther u. Luthertum in d. ersten Entwicklung. Zwieter Band,
bearbeitet von P. Albert Maria Weiss O.P. Mainz, 1909. SS. 16—19.
Подчеркивая значение этих заявлений самого Лютера,
католический автор объективно правильно выделяет то, что
существенно и характерно для Лютера как исторического деятеля.
Цитирую это заявление Лютера no Denifle-Weiss, ибо, к
сожалению, не мог найти в Белграде собрания сочинений Лютера.
394
П.Б.Струве
этот период невозможно точно установить. Однако
можно говорить тут и о преобладании универсалисти-
ческого момента, и о возрастании этого преобладания
как на Западе, так и на Востоке. Необходимо при
этом принять во внимание, что в этот период
расширяется то, что можно назвать историческим
пространством, и происходит христианизация и романизация
западного мира, лишь отчасти и временно
прерываемая натиском арабов. На Востоке, в области
Византийского Царства, натиск персов и арабов весьма
значительно сужает историческое пространство, на
которое распространяется христианизация и эллинизация,
но и восточные «варвары» испытывают влияние элли-
но-латинского (ромейского) универсализма, и, в
общем, баланс складывается в пользу последнего. Не
надо забывать при этом, что всякая новая
политическая сила в своем росте стремится к сплочению
(консолидации), к объединению и таким образом
неотвратимо — при прочих равных условиях — становится
фактором универсализации быта. Этим объясняется
рост универсалистического момента в эпоху того
первого подъема и усиления франкского государства,
которое продолжалось около ста лет (с 496 по 614 г.). За
этим периодом следует эпоха упадка (дезинтеграции),
сменяющаяся новым подъемом при Каролингах (717—
814). Затем происходит опять упадок и дезинтеграция
и новый подъем германской королевско-имперской
власти, которая, однако, терпит поражение в борьбе с
окрепшим папством, опирающимся на универсалисти-
ческую идеологию папской теократии (Григорий VII,
1073—1085). В области «быта» эпоха среднего
средневековья (814—1309) может быть в общем
охарактеризована как эпоха торжества сингуляризма — при
безусловном преобладании в области идеологии универсализма.
Но уже в конце XII и в начале XIII в. обозначаются
значительные успехи универсализма в политическом
быту и весьма сильные сингуляристические веяния в
области идеологии. Несмотря на это, в некоторых
отношениях и на некоторых пространствах XIII век в
области и быта, и идеологии есть апогей
универсализма. Осуществилась универсальная монархия пап и
утвердилась соответствующая этому идеология. Но, как
Дух и быт
395
всегда бывает, высшая точка кривой возвещает резкий
перелом. Такую переломную высшую точку
обозначает изданная 8 ноября 1302 г. булла «Unam sanctam».
За нею извне следует в 1305 г. весьма реально
подрывающее папскую теократию «авиньонское пленение»,
продолжающееся до 1377 г., и идейная сингуляристи-
ческая волна, изнутри подмывающая духовную основу
папской власти, богословско-церковную универсалис-
тическую идеологию.
Таким образом, развитие средневековой
социальной мысли до 1325 г. может быть изображено как
почти сплошное господство социологического
универсализма, облекающегося в логические и
метафизические формы «реализма». Этот реализм можно
охарактеризовать как совершающееся под действием
религиозных (философских и социологических) мотивов
сгущение античных и восточно-патристических идей в
цельные метафизические и логические системы бого-
познания, опирающиеся так или иначе на гипостази-
рование общих понятий. Первую такую систему
создал Иоанн Скотт Эриугена (800—880), который свой
богословский реализм, несомненно сложившийся под
прямым влиянием творений греков: Псевдоареопагита,
Максима Исповедника и Григория Нисскаго, довел до
величайшего напряжения, однако отнюдь не впадая в
пантеизм, в котором его потом обвиняли и за
который его произведения в 1225 г. папской буллой были
осуждены на сожжение.
В этом универсалистически-реалистическом потоке
философско-богословской мысли, представленной Ги-
льомом де Шампо (1070—1121) и Анселъмом Кентербе-
рийским (1033—1109), вспышка номинализма,
связанная с именем Росцеллина (1050—1120), даже если
признать, что в Шартре во второй половине XI века
обозначилось целое номиналистическое направление,
близкое к эмпиризму, остается все-таки мало
влиятельным эпизодом. Он запомнился и получил
значение лишь в связи с толкованием догмата Св.Троицы в
смысле тритеизма, церковно осужденного. Трудно
говорить в эту эпоху о борьбе номинализма с
реализмом, настолько несомненно прямо-таки
подавляющим было преобладание реализма (=универсализ-
396
П.Б.Струве
ма)1. Если номинализм Росцеллина есть эпизод, то
номинализм Абелара (1079—1142) более чем сомнителен:
ему между традиционным реализмом и наивным
номинализмом в духе Росцеллина в теории познания
предносился на самом деле некий средний путь: в
основе общих понятий лежит некая communis similitudo,
которая заложена в природе вещей, постигаемой
абстракцией (per abstractionem). Это понимание весьма
далеко от номинализма и совпадает с учением об
абстракции Фомы Аквината, имея общим источником
учение Аристотеля о зависимости мышления от
воображения, понятия от созерцания, или восприятия. Но
Абелар был не только аристотеликом; ему не чужд был
и платонизм, в его новоплатоновской и затем
христианизированной редакции, идущей в особенности от
Августина. И в этом отношении Абелар весьма близок
к Фоме Аквинату, который сочетание Аристотеля с
новоплатонизмом в августиновской редакции только
довел до полной дискурсивной ясности.
Отсюда вывод: в характерном для средневековья
философском мировоззрении классической
схоластики весьма сильно и разительно преобладал
универсализм как в области метафизики, так и в области
социологии.
Как ни велико с других точек зрения то различие
между Августином и Фомой (Аквинатом), что
последний, признав вслед за Аристотелем высшей душевной
силой разум, или интеллект, эллинский
интеллектуализм поставил на место латинского (августиновского)
волюнтаризма, appetando acceptatur quod per consilium
dijudicatur, — в интересующем нас отношении это
расхождение не имеет значения.
Духовное значение в Средние Века универсализма,
коренящегося в реалистических мотивах и элементах
1 Alois Dempf в своей чрезвычайно содержательной книге: Die
Hauptform mittelalterlicher Weltanschaung. München—Berlin, 1925.
S. 74 правильно указывает, что с Иоанна Эриугены до Оккама
реализм настолько господствует, что вряд ли можно говорить о
борьбе его с номинализмом. Номинализм Росцеллина был тотчас
«ликвидирован» (erledigt), а возникновение позднейшего
номинализма обозначает «разложение» классической схоластики как
средневекового миросозерцания.
Дух и быт
397
новоплатонизма и христианства, иллюстрируется и
боковой линией средневековой философии, аристоте-
левско-арабской, в которой новоплатоновские мотивы
были не менее сильно представлены, чем
аристотелевские. Учение Аверроэса об единстве активного
интеллекта во всех людях, как бы ни толковать его,
метафизически-онтологически или
гносеологически-логически, носит на себе весьма резко выраженные черты
реализма-универсализма1. Это тем более
примечательно, что проникнутый новоплатоновскими идеями
арабский перипатетизм послужил отчасти почвой и
для материалистического и антирелигиозного
нигилизма XIII и XIV веков, и для противопапского
политического течения, с полной ясностью выдвинувшего
идею примата светской власти, опирающейся на
народный суверенитет (Марсилий Падуанский) — оба эти
течения имели в XIV веке, после того как парижский
аверроизм был ниспровергнут, своим духовным
средоточием Падуанский университет, где действовали
францисканцы, представители ордена, который в XIII
веке пытался осуществить внутреннее обновление
западного христианства возрождением первохристиан-
ского абсолютного сингуляризма.
Эти скрещения разнородных и
противоборствующих мотивов с чрезвычайной силой и яркостью
обнаруживаю в XIV веке. Как раз в ту эпоху, когда
строится идеология папской универсальной монархии, в
церкви и в церковном народе возникают движения
внутреннего обновления. Давно замечено, что во
второй половине XII века подымается в разных формах,
и в чисто церковной, и в еретически-противоцерков-
ной, волна религиозного обновления, в основе
которого лежит самая напряженная мысль о спасении
души смиренным последованием учению Христа и
переживанием его земного пути (vivere secundum for-
mam sancti evangelii).
1 Cm. RSeeberg. Lehrbuch d. Dogmengeschichte. Ill2"3 (Lpzg.,
1913). SS. 333—345, 350—355. О волюнтаризме Августина у него
же, II3 (Lpzg., 1923). SS. 417-423.
Ср. Renan. Averroès et l'averroisme. 3-me éd. (Paris, 1866), ch. II
и в особенности ch. III.
398
П.Б.Струве
Таков общий религиозный смысл и учительства
Франциска Ассизского, и вальденства, и других
родственных течений той же эпохи (иоахимитства, гумили-
атства и т.п.). Но этот духовный сингуляризм
получает полное значение и реальную силу, когда он
сопрягается в своем действии, во-первых, с борьбой
светской монархической власти против притязаний
папской церковной монархии и, во-вторых, с
стремлением — идею церковного обновления провести даже в
прямой борьбе с церковной властью. Поскольку
происходит это сопряжение, мы наблюдаем такие факты,
как появление противоавторитарного христианского
социализма, возрождение идеи соборного устройства
церкви и рождение идеи самостоятельности и само-
довления светского государства, построенного на
начале народовластия, или народного суверенитета. Эти
явления суть, в значительной мере, отражения и
следствия возрождения духовной потенции первохристи-
анского сингуляризма.
Сингуляризм становится в эту эпоху не только
бытовой стихией, но и духовной силой. Рядом с
окончательным превращением папства, в идее, в
универсальную церковную монархию, — происходит создание
зависимых от светской власти государственных
церквей. Застрельщиком в этой эволюции является
Англия, за нею следуют Франция и Испания. Франция
на этом пути осуществляет даже, в порядке некого
внешнего, так сказать, международного расширения
своей церковной самостоятельности, т<ак> н<азывае-
мое> «авиньонское пленение» пап. В Германии, на
отдельных «территориях», или, что то же, в отдельных
«государствах», происходит тот же процесс, а, с
другой стороны, в Германии наиболее важные епископы
окончательно превращаются в могущественных
светских государей, и это превращение, в свою очередь, в
дальнейшем как-то пролагает путь окончательному
образованию и в Германии в эпоху реформации таких
же государственных церквей (Landeskirchen), какие
уже в средние века сложились в Англии, Франции,
Испании. Эти процессы представляют
универсализацию политического и общественного быта. Она
совершалась и помимо идеологических влияний, в чисто
бытовом порядке. Но, вне всякого сомнения, сингу-
Дух и быт
399
ляристическая идейная волна XIII и XIV вв. усилила
и обострила эти стихийные бытовые процессы. Таким
образом, «быт», включая сюда и «учреждения», и
«идеология» в эту эпоху как бы меняются ролями или
«обликами»: быт отмечен тенденцией к
универсализации, идеология, наоборот, явственно характеризуется
ростом мотива сингуляристического.
Первое яркой вспышкой средневекового идейного
сингуляризма являются события, разыгрывающиеся в
самом центре универсальной теократии: римская
революция, связанная с именем Арнольда Брешианского
(1147—1159). Здесь еще нельзя установить никакого
параллелизма между политической идеологией и
философской мыслью, ибо нельзя революционно
направленную деятельность Арнольда Брешианского
приписать или «вменить» философским влияниям его
друга и учителя Петра Абелара, даже если и считать
последнего номиналистом. Совершенно иначе следует
охарактеризовать и оценить соотношение между
реальной борьбой Людовика Баварского (1314—1347)
против папы и философской идеологией его времени.
На пространстве почти двухсот лет (1150—1350)
коренным образом изменились и «реальные»
соотношения политических сил, и идеологические «установки».
Противопапские идеи Уильяма Оккама как
публициста-философа Людовика Баварского опираются на син-
гуляристические (=номиналистические) предпосылки.
В эту эпоху сингуляризм (=номинализм) уже огромная
идейная сила. Однако и тут параллелизм отнюдь не
имеет абсолютного и исчерпывающего значения. Оба
автора «Defensor Paris», Марсилий Падуанский и Иоанн
Яндун, принадлежали к падуанско-парижскому
направлению латинского аверроизма, т. е. к
направлению, через новоплатонизм близкому к реализму,
поддерживавшему реалистически-универсалистический
тезис об единстве интеллекта во всех людях
(человечество — единый интеллектуально субъект, некий
Makranthropos). В то же время то направление,
которое в Defensor Paris оспаривало, во имя светской
власти и народного суверенитета, папскую теократию,
эмоционально-реально опиралось на питавшуюся пер-
вохристианскими чувствами и идеями противопап-
скую францисканскую оппозицию.
400
П.Б.Струве
Этот эмоционально-общественный фон имел в
борьбе светской власти с папской теократией
значение не меньшее, чем идеологические моменты. Это —
тот душевный фон, в котором укоренен Данте (1265—
1321).
Сам Данте представлял францисканство в его
сентиментально-мистическом обличий, в обрисовке
благочестивого католического гуманизма. Тут мы имеем
поэтическое и светское смягчение сурового Evangelium
Aeternum Иоахима de Флорис (1132—1202), под
влиянием которого сложилось оппозиционное и
ригористическое францисканское движение «спиритуалов», или
«зелаторов». Это, конечно, тоже сингуляризм, но
совсем с другим эмоциональным и идейным
содержанием, чем философский номинализм. Тут можно
констатировать — при тождестве логически-формативных
мотивов и психологических побуждений — лишь
временное практическое схождение и совпадение глубоко
различных духовных содержаний.
Здесь необходимо установить одно общее
положение: в истории общественных идей, или в развитии
социальных и политических идеологий необходимо в
каждый данный момент ясно и строго различать два
элемента: форму и содержание. В одну и ту же форму
может вливаться или в нее облекаться самое
различное содержание. Такую судьбу испытывают и
психологические мотивы, и логические выражения сингуля-
ризма (номинализма) и универсализма (реализма).
Сингуляризм с характером социального равенства есть
нечто совсем другое, чем сингуляризм с характером
социального неравенства. Сингуляризм с содержанием
религиозным (свободное и в то же время смиренное
стремление к Богу каждой бессмертной человеческой
души) есть нечто в известном смысле прямо
противоположное сингуляризму, устанавливающему мирское
самоутверждение эмпирической человеческой
личности в смысле эгоизма и утилитаризма. Точно так же
схема или формула «естественное право» может быть
наполнена самым различным содержанием:
«индивидуалистическим» или, наоборот,
«коллективистическим», «либеральным» или, наоборот, «авторитарным»,
«эгалитарным» или, наоборот, устанавливающим те
или иные различия (привилегии). Существенно, что
Дух и быт
401
образующиеся в культурно-общественной жизни
разнообразные эмоциональные и идеологические
содержания с того момента, что утверждается схема
«естественное право», находят для себя эту, уже готовую,
форму и что степень крепости такой «формы»
определяющим образом влияет и на самое содержание.
Отсюда возможность таких явлений, как формулировка
«социалистических» или «коллективистических»
идеалов в терминах индивидуалистического естественного
права и, наоборот, облечение крайних
«индивидуалистических» требований (анархизма) в
«коллективистические» построения. Конечно, понятия «формы» и
«содержания» в указываемом социологическом
понимании развития идеологий все-таки текучи и
относительны. Кроме того, необходимо различать в
общественных идеологиях категории не только формы и
содержания, но цели и средства, различение, которое
отчасти совпадает, отчасти перекрещивается с
различением формы и содержания.
Если до начала XIV в. в области идеологии
вообще, социальной в частности, господствует почти
всецело универсализм, то с начала этого века
обозначается могущественное сингуляристическое
^номиналистическое) течение, главным философским
выразителем которого является Уильям Оккам. Учение этого
мыслителя завоевало себе парижский университет и в
течение 150 лет господствовало в последнем. Оккам,
именно как мыслитель номинализма (via moderna!),
противопоставляющего себя реализму Фомы Лквыната
и Дунса Скота (via antiqua!), явился фигурой такого
же мирового значения, как и сам Лютер. Из «оккамиз-
ма» рождается «галликанизм», имевший не только
бытовые, но и идейные основы, и возрождается в
Западной церкви «концилиаризм», или «соборное»
направление. И оккамизм же представляет тот построя-
ющий, формативный мотив, который лежит в основе
протестантизма.
Как современники реформации, так и
историческая наука наших дней согласно связывают Лютера с
Оккамом. Оккамистский Париж, т.е. парижский
богословский факультет, сотворил Констанц (Констанц-
кий собор), Констанц же сотворил Базель (Базельский
собор), а Базель родил Лютера — так формулирует
402
П.Б.Струве
это соотношение один новейший богослов-историк1.
С 1325 г. сингуляризм (номинализм) в идеологии по
меньшей мере столь же силен и влиятелен, как и
универсализм (реализм).
Но реальное влияние церковного сингуляризма еще
сильнее, ибо в богословии Виклефа и Гуса сингуля-
ристическое содержание лишь укладывается в универ-
салистическую (реалистическую) форму. Виклеф и Гус,
будучи в философии универсалистами
(реалистами), — в жизни, в быту были влиятельными
выразителями сингуляризма.
Наивысшей точкой средневекового сингуляризма
как умоначертания и мировоззрения является
протестантизм в широком смысле, обнимающем и
лютеранство, и цвинглианство, и реформатство, и именно в
лице его двух самых мощных и ярких фигур: Мартина
Лютера и Иоанна Кальвина.
Идея «реформации», или «бытовой» реформы
церкви вовсе не принадлежит протестантизму и не
составляет существа реформации, как дела Лютера и
Кальвина1. Идейное, или духовное существо
реформации есть возведение веры исключительно к
переживанию противостояния греховной и сознающей свою
греховность человеческой личности величию и
благости (любви) всемогущего Бога, противостояния,
завершающегося приятием благодати, справедливо и
милосердно даруемой Богом «сердцу сокрушенному» чрез
живого Христа. Это религиозное переживание веры —
с точки зрения идеи реформации — совершенно не
нуждается ни в каком посредстве организации
(церкви, священства, иерархии) и обнаруживается в
таинствах, но отнюдь не причиняется таинствами:
последние суть «signa efficacia, certissime et efficacissime»
сообщающий благодать (gratiam), поскольку
присутствует «fides indubitata». «Sacramenta non implentur dum
1 Denifle-Weiss. Luther u. Luthertum. II. SS. 87-88.
2 Реформация была лозунгом и ударным словечком в
католическом мире всего позднего средневековья с того времени, что
Guilelmus Durandus в 1308 г. требовал reformatio ecclesiae in capite
et membris. См. Maurer-Hermelinck: Reformation und
Gegenreformation. 2. Aufl. (Tübingen, 1931) S. 11. Cp. Loofs. Dogmengesch
chte3. SS. 319-330.
Дух и быт
403
fiunt sed dum creduntur; abluit sacramentum non quia fit,
sed quia creditur; sacramenta iustificantis fidei et non
opetris, unde et tota eorum efficacia est ipsa fides, non
operatio»1. В догматике Лютера и Кальвина учения 1) о
покаянии, 2) об оправдании верою и 3) о спасении
благодатью по существу совпадают. Догматика
Лютера-Кальвина как учение есть едва ли не самое
крайнее, наиболее сгущенное выражение религиозного
сингуляризма средних веков. Человек спасается
непосредственным сообщением ему благодати. Тогда как
Лютер не развил учения о церковной дисциплине,
Кальвин в основу своего учения о церкви поставил
понятие дисциплины, покоящейся на непоколебимой
уверенности в «избранности» тех, кто благодатно
уверовал, и этот акт сообщения или дарования благодати
или, что то же, оправдание верою осуществляется в
полнейшем абсолютном одиночестве человека,
противостоящего Богу.
Было бы, однако, ошибочно в этой сингуляристи-
ческой исходной позиции Лютера, общей ему с
Кальвином, видеть исчерпывающую характеристику их
религиозно-общественного мировоззрения.
В качестве номиналиста, по своей философской
выучке, как последователь Уильяма Оккама и Габриэля
Биля, виттенбергский монах-профессор, конечно, был
индивидуалистом и противником католичества как
универсальной видимой церкви, как воплощения в
органическое и живое, индивидуальное и
иерархически расчлененное, единство множества христиан2.
Однако в понимании церкви у Лютера и Кальвина были
заложены и элементы универсализма. У первого — не
только в смысле бытового «собирающего» значения
церкви, но и потому, что он, в сущности, прежний
авторитет богоустановленной иерархии всецело
перенес на «Слово» (=«Писание»), а у второго еще и чрез
понятие «дисциплины». Хотя у Кальвина богословское
1 Ср. Seeberg. Lehrbuch d. Gogmengeschichte, посвященный
учению Лютера первый полутом четвертого тома: IV, I2'3 (Lpzg,
1917); в особенности стр. 316—317; Hamack. Dogmengeschichte,
Hl4 (Tübingen 1920), SS. 808—902; Loofs. Leitfaden z. Studium d.
Dogmengeschichte3 (Halle a. S., 1893), SS. 344 ff.
2 Denifle-Weiss, I.e. SS. 320-321.
404
П.Б.Струве
понятие «избранности» построяет (конституирует)
саму церковь, «избранность» же, конечно, сингуля-
ристически укоренена у него в личной вере, —
женевский реформатор чрез дисциплину восстановил и
даже усилил церковь в ее «институционном» качестве
и значении. Таким образом, выступая против папской
теократии, Лютер должен был извне опереться на
территориальную автократию светских «князей» и в
известной мере прямо подчинил ей церковную
жизнь, изнутри же он «Слово» (или «Писание»)
сделал Папой. Кальвин же — по различным причинам и
разнообразным мотивам, но всего более утверждая
понятие и начало дисциплины — сам активно и
лично вложился в создание протестантской...
теократии.
Реформация, поскольку она держится за понятие
церкви, стоит еще на средневековой универсал исти-
ческой почве. Новое время, в лице анабаптизма и
родственных направлений, создает новое понятие,
которое оно именует тоже церковью, но которое
существенно, содержательно разнствует от церкви.
Макс Ведер и Каттенбуш, ясно формулировавшие
это понятие, дали ему наименование «секты».
«Церковь» у таких реформаторов, как Кальвин и
Лютер, есть институция, общение-учреждение
(Anstalt), обязательно объемлющее, независимо от воли
индивида и от качественной оценки его религиозной
годности, и праведников и грешников, т.е. всех,
родившихся в данном общении-учреждении.
Наоборот, «секта» — термин этот, как чисто
научный, имеет в данном случае условное значение и в
этом смысле первохристианство, как его понимает
теперь большинство протестантских историков,
формально есть не церковь, а секта — есть
«волюнтаристический союз, в который входят исключительно к
тому религиозно-этически квалифицированные люди,
союз, в который вступают добровольно — это
общение принимает в свою среду данного индивида на
основании признания его религиозной годности»1,
1 Мах Weber. Gesammelte Aufsatze ζ. Religionssoziologie, I
(Tübingen, 1920), SS. 151 — 153, 211—212. Ср. Kattenbusch статья
Sekten в R.E.3.
Дух и быт
405
союз, в котором люди никогда не рождаются, в
который они всегда вступают. В этом отличии «секты»
от «церкви» — организационный и в то же время
религиозный смысл крещения только взрослых и
отрицания за крещением детей религиозной силы. В этом
отрицании заключается та, самая осязательная и
«ударная», новая идея, которую «анабаптисты»
бросили в реформацию и которою они привели ее массы
в величайшее возбуждение. Анабаптизм по своей
идейной структуре обнаруживает такое же внутреннее
противоречие, как «протестантизм»
Лютера—Кальвина. В последнем универсалистическая церковность
покоится на сингуляристически укорененной личной
вере. В анабаптизме крайний религиозный сингуля-
ризм (=индивидуализм) в бытовой обстановке
возбуждения народных низов переходит в свою
противоположность, в крайний бытовой, или практический,
коммунизм, и на этом в эпоху растущего духовного
и бытового сингуляризма терпит величайшую
катастрофу, объединяя против себя и католичество, и
реформацию.
Было еще другое, тоже религиозное, внутреннее
основание, по которому религиозный сингуляризм
Лютера—Кальвина не мог просто и сплошь
превратиться в социально-политический, в нашем смысле —
«бытовой», индивидуализм. Основным движущим
мотивом обоих реформаторов был религиозный. Из
этого религиозного мотива вытекла известная,
связанная с проповедью и деятельностью Лютера и
Кальвина, относительная секуляризация некоторых сторон
мира. Эта секуляризация, однако, в их умоначертании
была направлена не против примата религии и
церкви, а против секулярных притязаний римского
католичества, как притязаний, по их убеждению,
антирелигиозных и морально порочных. Но вообще
секуляризация жизни или быта вождей реформации
религиозно не только не интересовала, а, наоборот, была им
чужда, даже прямо им претила. Их сингуляризм был
заполнен определенным религиозным содержанием,
мыслью и заботой о спасении души для будущей
жизни. Этот сингуляризм в своей основе отнюдь не
был мирским, или секулярным, — и лишь потому и
лишь постольку он был антиклерикален, что и по-
406
П.Б.Струве
скольку он восставал против секулярных
(клерикальных) притязаний «вавилонской блудницы», папского
Рима.
Он не отрицал священства и его роли в жизни.
Наоборот. Он утверждал всеобщность священства и
его, в идее, всеобъемлющую роль. Конечно, к
основному духовному явлению «протестантизма», как
крайнего религиозного сингуляризма, привзошла идея и
практика секуляризации, выросшей из самого быта.
Просто — факт, что секуляризация духа и быта
получила от потрясения всей жизни, произведенного
реформацией как восстанием против римской церкви
огромную поддержку. Но в содержание и в задания
классической реформации как духовного явления
секуляризация духа и быта не входила. Соответственно
этому, ни свобода лица, т.е. «права человека», ни
демократия, т.е. «народовластие», ни социальное
«равенство» и «общность» имуществ, т.е. социализм и
коммунизм, не входят в духовное содержание
реформации Лютера и Кальвина. Фактически-исторически
провозглашение «прав человека» связано с
вынужденным исходом (эмиграцией) край не-протестантских
масс в Новый Свет. Но это фактическое соотношение
не устанавливает еще никакой необходимой
логической связи протестантской доктрины Лютера и
Кальвина с постулатами личной свободы. «Права человека»
суть в истории политической идеологии сложный и
алогический продукт скрещения двух весьма различных
духовных направленностей: напряженного религиозного
сингуляризма, приводившего к активной борьбе за
собственное подлинно религиозное самоопределение,
и той «установки», которая известна под именем
«веротерпимости» и которая объемлет целую гамму, от
христианской благостности таких людей, как католик
и католический святой Томас Мур, как православный
подвижник Св. Нил Сорский, до религиозного
безразличия (индифферентизма) таких ученых, как Рейхлин
и Эразм, и таких писателей, как Вольтер. Фактически,
в бытовом смысле принцип свободы совести оказался
и всегда оказывался оружием самозащиты
преследуемых религиозных верований, идейно — питательной
средой для этого начала явился гуманизм в его
обрисовке, наиболее удаленной от воинствующей, как ка-
Дух и быт
407
толической, так и протестантской, церковности. В
лице защитника Сервета и обвинителя Кальвина, Кас-
темионе, гуманизм выступил по существу против
реформации и предвосхитил укорененную в известном
религиозном индифферентизме «просветительную»
проповедь терпимости, чуждой религиозному
напряжению реформации, как движения, вдохновляемого
верой.
То же самое всецело применимо и к идее
«народовластия». «Народовластие» есть принцип, который
фактически всегда является идейным оружием в
борьбе с фактом и идеей самодержавия (автократии).
Но в разных исторических условиях питательная
среда идеи народовластия может быть весьма
различна. Этой идеей может пользоваться любое
религиозное направление. «Монархомахия» как идеология и
«тираноубийство» как бытовое явление возникают в
XVI в. почти одновременно с двумя
противоположными знаками: протестантским (кальвинистским) и
католическим (иезуитским). Но теория
«тираноубийства» рождается или возрождается еще в Средние
века и получает свою первую формулировку в связи
с борьбой католической церкви с королевской
властью в Англии, в «Поликратике» Иоанна Салисберий-
ского, написанном около 1160 года1. Тут мы имеем
дело с церковной переработкой эллинских идей
Платона, Аристотеля и Полибия о тирании как противо-
нравственной и противоправной разновидности
единоличной власти. Идеологии личной свободы,
народовластия и социализма имеют каждая свою особую
историю, перекрещивающуюся с историей
религиозного сингуляризма, но не параллельную с нею и не
стоящую в однозначном соотношении с этим сингу-
ляризмом. «Бытовой» в нашем смысле сингуляризм
на всем протяжении XV и XVI вв. возрастал в
некоторых отношениях и на некоторых пространствах
параллельно с духовным и, в частности, с религиозным
сингуляризмом, но вовсе не в простой и положитель-
1 Migne. Serfes Latina T. 199. Ср. Uebenveg-Baumgartner Grundriss
d. Geschichte d. patristischen u. scholastischen Zeit. 10-te Auflage.
Berlin, 1915, где до этого года указана литература с почти
исчерпывающей полнотой.
408
П. Б. Струве
ной функциональной зависимости от последнего, как
это часто утверждают и охулители, и хвалители
протестантизма. Это — два потока или движения, в
значительной мере независимые одно от другого. XVI
век, по преобладающему в нем духовному стилю,
следует относить к средним векам. В нем соотношение
сингуляризма (номинализма, индивидуализма,
персонализма) к универсализму (реализму, социализму,
коллективизму) характеризуется известным
преобладанием сингуляризма.
Религиозный сингуляризм реформации испытал
подлинную секуляризацию лишь в тех явившихся
отражениями и продолжениями Лютеровой проповеди,
«мечтательных» движениях, самою яркою
разновидностью которых были анабаптизм. На первый взгляд,
тут есть как будто разительное безысходное
противоречие: анабаптизм (катабаптизм, баптизм, Taufertum),
как «мечтательство», как утопизм (Schwärmerei), —
всего дальше от мира, будучи до края напоен «хилиас-
тическими» предчувствиями и чаяниями. Но на самом
деле в этом «утопизме», в этих «мечтаниях», как
массовом настроении, «мирские», или «земные»,
элементы и устремления оказываются в конечном счете
сильнее и влиятельнее «потусторонних», и
материализм преобладает над спиритуализмом. Хилиазм
превращается в веру в низведение Царства Божия на
землю человеческими средствами и во имя
человеческих целей (земной рай). Это, конечно, очень сложный
и длительный процесс: он означает секуляризацию
прежде религиозных устремлений и материализацию
«спиритуалистических» прежде идей. Он и в «ученой»,
и в «бытовой» идеологии сопрягается с начавшимся
еще в недрах схоластики развитием естествознания и
с обмирщением возникшего в недрах
спиритуалистической религиозности и богословской учености
гуманизма.
Новое время, в отличие от средних веков,
характеризуется именно принципиальной и всецелой
секуляризацией духа и быта, чуждой классическому
протестантизму, главные фигуры которого, Лютер, Цвингли,
Кальвин, с их идеями и чувствами, духовно и душевно
поэтому относятся еще к средним векам.
Дух и быт
409
До секуляризации1 религиозного сингуляризма в
крайних направлениях протестантизма социализм есть
абстрактная и невлиятельная идеология («утопия»).
Только указанная секуляризация дает социализму
жизненное содержание и огромный толчок. Поэтому
настоящую историю, не только книжную, социализм
(=коммунизм) получает только в новое время.
Социализм-коммунизм античной древности и средних веков
состоит из идей и утопий', в новом времени он
состоит из идей, утопий и — движений.
* * *
Наша характеристика развития средневековного
духа и быта показала, как сложен в этом развитии
переплет мотивов универсалистического и сингуля-
ристического.
Из той сложной борьбы, с одной стороны,
реальных сил общественного и государственного строения,
с другой стороны, этических и политических идей и
чувств, которая развернулась в событиях XVI века,
как эпохи реформации, постепенно, но
неукоснительно выкристаллизовались две идеи, по существу
чуждые и классической реформации, и классическому
средневековью:
1) идея абсолютной религиозной автономии, или
свободы лица, и
2) идея полной свободы светской
государственности от всякой над государством стоящей религиозной
инстанции или силы и, в частности, от церкви.
Из первой идеи, в порядке жизненного
расширения и обобщения, родилась концепция «прав
человека и гражданина». Вторая идея породила концепцию
«суверенитета народа», народа, понимаемого именно
как носитель государственной власти.
1 Не случайно, а, наоборот, весьма характерно и весьма метко,
что английское атеистически-утилитаристически-демократичес-
кое, близкое к социализму и направленное против идей Бога и
Церкви, движение XIX в., творцом которого был Голиэк (Но-
lyoake), ученик Роберта Оуэна, и шумным пропагандистом
которого явился Брэдло (Bradlaugh), присвоило себе название «секу-
ляризма» (Secularism. Ср. RE3, 18, SS. 166—168).
410
П. Б, Струве
Эти идеи бродили и эти концепции высказывались
в средние века, но лишь спорадически и лишь в
зародышевом, недоразвитом виде. Свою идейную и
бытовую мощь они приобрели или, вернее, приобретали в
том процессе секуляризации, или обмирщения и духа,
и быта, которого в области религии первыми и
настоящими провозвестниками явились анабаптисты, в
области же общественного быта — государственная
власть в ее национальной территориальной обрисовке,
как бы она ни была организована, была ли она
ограниченная или неограниченная.
Эти идеи находились по существу между собой в
сложном соотношении, которое могло оказываться то
противоречием и борьбой, то взаимной поддержкой.
Это соотношение определялось не отвлеченными
соображениями или общими идеями, а именно бытом,
т.е. живыми и реальными интересами или самой
государственной власти, или общественных групп, на нее
влиявших. XVII век есть эпоха, когда мы можем
установить, соответственно, степени экономического,
социального и политического развития данной страны,
различное соотношение между фактором
государственно-коллективным и общественно-индивидуальным.
В этом отношении чрезвычайно сложную и
пеструю картину представляет т<ак> н<азываемый>
меркантилизм, некоторые духовно-идейные и
душевно-бытовые корни которого, как это давно уже
замечено, уходят глубоко в Средневековье. Совершенно
неправильно представлять себе меркантилизм как
абсолютный или безоглядный этатизм, исключающий
или отрицающий начало индивидуальной
экономической свободы. Не только потому это неверно, что
существует как теоретическая концепция рядом с
крайне авторитарным меркантилизмом и
меркантилизм либеральный. Но даже классический английский
меркантилизм, покоясь политически на идее
национального государства и на ощущении его мощи,
выражает в то же время идею экономической свободы, как
некого естественного права лица, столь же
основоположного, как другие субъективные публичные права. В
замечательной парламентской записке 1604 г. к биллю
о «свободной торговле» это высказано с полной
ясностью: All free subjects are born inheritable, as to their
Дух и быт
411
land, so also to the free exercise of their industry in those
trades, whereto they apply themselves and whereby they
are to live. Merchandize being the chief and richest of all
other, and of greater extent and importance than all the
rest it is against the natural right and liberty of the subjects
of England to restrain it into the hands of some few, as
now it is1.
Билль этот не состоялся как законодательный акт,
но его основная идея тогда же прочно вошла в
правосознание народа и получила силу закона в
дальнейших парламентских актах, 1623—24 гг. 1) The Statutes
of Monopolies 21, James I c. 3, 2) 1 James I, c. 9 и 3) в
прокламации Карла I от 15 апреля 1639 г. об отмене
прежде пожалованных монополий2. Примечательно
также то, что эта эпоха формулирует свободную
чеканку монеты не столько как публично-правовую
обязанность административного учреждения (монетного
двора), сколько как субъективное право всякого при-
носителя металла (Statutes, 18 Chas II, 5, 1666).
«Сингуляризм» нового времени, известный под
кличкой «экономического либерализма», есть плод
медленного, но стихийно неотвратимого отверждения
неких отдельных явлений «быта» средних веков в
огромную силу «духа» нового времени. Так всегда
протекают подобные исторические процессы: на почве
старого «быта», через какие-то молекулярные
процессы «идейного» отверждения и «бытового» сгущения,
рождается из недр этого «быта» новый «дух», и
притом это совершается в весьма причудливых
напряжениях и сопряжениях (комбинациях) как идейных
«содержаний» с идейными «формами», так и «бытовых»
сил с силами «идейными», с «учениями», т.е. с
догматами и идеалами.
1 Instruction touching Bill for Free Trade (Journals of the House of
Commons, Vol. I., p. 218). Цитирую по превосходной
хрестоматии: A.E.Bland, P.A Brown and and R.H.Tawney. English Economic
History. Select Documents. London (Bell & Sons), 1921, pp. 443—
444.
2 Все эти акты в той же хрестоматии, pp. 465—468, pp. 458—
470, pp. 472-475, pp. 674-675.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
1. Понятие
Формула «социально-либеральный», созданная в
новейшее время и введенная Ястроу (в 1893 г.),
обозначает в своих отдельных проявлениях
многообразную, но по существу однозначную
социально-политическую установку. То, что называется либерализмом,
имеет исторически — соответственно резко
расходящимся смысловым наполнениям естественного права
(в качестве противоположных полюсов могут быть
здесь взяты, несмотря на их многочисленные
соприкосновения, Гоббс и Руссо) — две душевно
(психологически) и мыслительно (идеологически) различающихся
модификации. Либерализм, переходящий философски
в более или менее осознанный индивидуализм, может
исходить из регулятивной идеи свободной
конкуренции, как самодеятельного и в основе благоприятно
действующего порядка, кульминирующего в отборе
(выживании) наиболее пригодных. Это —
натуралистический, биологически обоснованный либерализм-
индивидуализм. Но либерализм может исходить из
религиозно-метафизически подкрепленной или
замкнутой на эмпирический гуманизм регулятивной идеи
бесконечной (или исключительной) ценности
отдельной человеческой личности. Тогда это —
идеалистический (религиозный, метафизический,
гуманистический) либерализм-индивидуализм. Лишь последний вид
индивидуализма может стать философским
основанием социального либерализма.
Тем самым социальный либерализм следует
обозначить и определить как такую социально-политическую
установку, которая, не превращая «социальный» мо-
Социальный либерализм
413
мент в неизменную прочно установленную систему
средств, подобно тому как это, по крайней мере в
принципе, делает определенный программой
социализм, совершенно свободно себя чувствует и
ориентируется в выборе «социальных» средств как таковых,
включая и средства государственного вмешательства в
хозяйственную жизнь. Социальный либерализм не
имеет никаких предубеждений против
государственного вмешательства, он может мыслить и поступать
«интервенционистски», он не отрицает a priori ни
«коллективную собственность», ни «публичное
вмешательство» и т.п. Все это для него — вопросы выбора
средств для достижения «достойного человеческого
существования» всех членов общества, и только эта
цель имеет ценность для социального либерализма во
всем социальном мировоззрении и общественном
порядке. От программного социализма социальный
либерализм отличается поэтому подчеркнутым
утверждением самостоятельной ценности момента свободы,
самоопределения личности во всем, в том числе и в
хозяйственных делах. Это постольку существенно,
поскольку всесторонняя и действительная
«социализация» хозяйственной жизни, по крайней мере в
возможности, заключает в себе опасность растворения
свободной личности в коллективном «аппарате
принуждения». В этом заключается не только
разделительная линия между социализмом и социальным
либерализмом, но и объективная возможность перехода
первого во второй, а также субъективная опасность
противоположного движения.
2. История — Сисмонди,
Милль, Ланге, Брентано
История «социально-либеральной» идеи есть,
собственно, история разложения первоначального и
наивного взаимопереплетения натуралистического и
идеалистического либерализма и наполнение последнего
«социальными» взглядами. Это развитие отмечено
именами швейцарца Симона де Сисмонди (1773—1842),
англичанина Джона Стюарта Милля (1809—1873) и
немцев Фридриха Альберта Ланге (1828—1875) и Луйо
Брентано (1844—1931). Следует вкратце охарактеризо-
414
П.Б.Струве
вать отношение этих мыслителей к профсоюзной
проблеме. Сисмонди — в целом более ретроспективно,
чем перспективно мыслящий ученый — имел лишь
неопределенное представление о функции ремесленных
союзов рабочих, но его значение для общего развития
«социально-политической» мысли в первой половине
XIX века чрезвычайно велико. Он ясно осознавал
свою «социальную» точку зрения и ее родство с
социалистическими товариществами своего времени. Джон
Стюарт Милль, которому в целом принадлежит важное
место в разложении либерализма как единого
социального мировоззрения, был первоначально сторонником
теории фонда заработной платы, но затем под
влиянием Торнтона перешел к динамической и «социальной»
концепции проблемы заработной платы и профсоюзов.
Mutatis mutandis то же самое повторилось в отношении
между Фр. Альбертом Ланге («Arbeiterfrage», 1865), чье
влияние и положение в духовной жизни Германии во
многом напоминает миллевское в Англии, и
значительно более молодым Луйо Брентано [Ср. третье,
переработанное и расширенное издание «Arbeiterfrage»:
Winterhur, 1875, SS. V., 189—190 (последнее
прижизненное издание!)]. С момента выхода первого издания
его «Ремесленных союзов» Брентано развил по
существу значительно более радикальные социальные
воззрения и оказал на профсоюзное дело, на рабочее
движение в целом и на социально-либеральную установку
значительное влияние. Но и у Милля в его последние
годы (ср. в особенности его «Автобиографию»1) и у
Ланге отсутствует ясное разделение социализма и
либерализма. Значительно резче его провел Брентано,
хотя при этом следует исторически учесть и
психологически оценить тот факт, что Брентано из духовного
противника и литературного оппонента Маркса и
Энгельса, каковым он выступил перед общественностью в
70-е и 80-е гг., позднее превратился в наиболее
социально-политически опытного в академических кругах
1 Об «Автобиографии» Дж. Ст. Милля L.T.Hobhouse
(«Liberalism», London, 1911, p. 115) замечает: «Данное в его
автобиографии краткое изображение социалистического идеала остается,
похоже, самой лучшей имеющейся у нас формулировкой
либерального социализма».
Социальный либерализм
415
союзника социал-демократии и в этом качестве
оказал, бесспорно, огромное влияние на молодое
поколение немецких социалистов и профсоюзных деятелей,
сам сознательно и бессознательно испытав влияние
социал-демократии как мощного социального и
политического движения.
3. Веймарская конститутция
Влияние социально-либеральной мысли в
Германии достигло своей высшей точки в некоторых
положениях Веймарской конституции. И здесь уже ясно
различим водораздел между социальным
либерализмом и социализмом. Ст. 151 звучит: «Порядок
хозяйственной жизни должен соответствовать принципам
справедливости в целях обеспечения достойного
человеческого существования всех. В этих границах
следует охранять хозяйственную свободу отдельных лиц.
Законное принуждение допустимо лишь в целях
гарантии прав, находящихся под угрозой, или в целях
исключительных требований общественного блага.
Свобода торговли и ремесла обеспечивается
согласно имперскому закону». (Ср. в смысле этой
основополагающей статьи Веймарской конституции в
особенности ст. 152, 153, 157, 159, 160, 161, 163, 165.)
«Невозможно не увидеть, — точно замечает
Альберт Гензель («Grundrechte und politische
Weltanschauung», Tübingen, 1931, S. 24ff.) — стремления
Веймарской конституции к подчинению государственной,
хозяйственной и общественной жизни социальным
требованиям. Едва ли какой-нибудь другой
конституционный документ когда-либо смог придать
социальной мысли столь разностороннее и обширное
выражение, как Веймарское творение. При этом не следует
упускать из виду различие между социальными
требованиями, которые предъявляются к в принципе
либерально замысленному государству, и
институционально реализованной государственной программой
социализма... Не должно быть никаких сомнений, что
согласно основным правам Веймарской конституции к
заново созданной германской империи позволено
предъявлять самые высокие социальные требования.
Конституция хотя и признает исключительно социа-
416
П.Б.Струве
листические средства для достижения этих целей, но
она также признает совместимым с волей государства
то, что оно не использует эти средства социализации;
более того, как раз с этой волей по существу связаны
социально ориентированные основные права пятого
раздела конституции».
Эта свобода выбора между различными системами
средств для достижения основной цели «достойного
человеческого существования», при принципиальной
приверженности либеральной идее основных прав,
является как раз характерной для социального
либерализма. Социалистическая программа допускается и
предусматривается Веймарской конституцией в
качестве возможного решения, но она не является
«институционально реализованной». Для
идейно-исторического разветвления и сплетения
социально-либеральной мысли в Германии показательно, что создатель
Веймарской конститутции Гуго Пройс вышел из
школы политически скорее консервативно
настроенного крупнейшего представителя
«социально-правовой» мысли Отто фон Гирке и что запечатленное в
Веймарском творении понимание собственности как
социального учреждения и подчинение ее общему
благу было возвещено духовным основателем
универсалистски обоснованного и политически
консервативно ориентированного государственного социализма
Карлом Родбертусом.
4. Социальный либерализм в Англии,
Франции и России
Первым политическим воплощением социально-
либеральной мысли в Англии нам представляется
известный радикал, а впоследствии империалист
Джозеф Чемберлен (1836—1914). К нему как радикальному
бургомистру Бирмингема восходит т<ак> н<азывае-
мый> «муниципальный социализм» и как идея, и как
впервые в Англии свершившийся факт. В поздние
годы Чемберлен также энергично выступал за
государственное вмешательство и социальные реформы. В
этой связи разделение либералов в вопросе о гомруле,
приведшее Чемберлена в партийном отношении в
ряды консерваторов, нисколько не нарушило последо-
Социальный либерализм
417
вательности развития британского либерализма в
направлении социального либерализма. Лорд Розбери,
Эсквит (1852—1928), Дж. В.Е.Рассел (последний
выступил в литературе на защиту нового социально
окрашенного либерализма уже в 1883 г.!), Гельдейн,
Ллойд Джордж (род. 1863) продолжили
социально-либеральную мысль Чемберлена, и это все более
расширяющееся течение привело к появлению в 1902 г.
основополагающего и задающего направление
сочинения Герберта Сэмюеля (ныне, в 1932 г., министр
внутренних дел в национальном кабинете Мак Дональда):
«Liberalism. An attempt to state the principles and
proposals of contemporary Liberalism in England», к
которому сам Эсквит, весьма влиятельный представитель
британского либерализма и государственный деятель,
присовокупил весьма важное предисловие. В этом
предисловии без оговорок подчеркивается
историческая необходимость содержательного обогащения
понятия «свобода». Это развитие либерализма в
направлении социального либерализма было мощно
поддержано развитием английского социализма, в особенности
когда он выступил в научно осторожной и
тактически-политически осмотрительной форме так
называемого «фабианства», и фактически отдельные
фабианцы приняли идеологическое и личное участие в
преобразовании традиционного либерализма. Но в этом
процессе преобразования основной принцип
идеалистического либерализма никогда не отвергался, а
границы, полагаемые этим основным принципом и
психологической целесообразностью
«интервенционизму», были ясно очерчены — а именно Сэмюелем.
Своеобразное обоснование английский
социальный либерализм получил недавно в произведениях
философа права Г.Й.Ласки, находящегося под
влиянием идей французского государствоведа Дюги и
английского социализма гильдий. В этом либерализме
новой чеканки на фундаменте эмпиристской и
совершенно индивидуалистской концепции можно
констатировать сильный элемент синдикализма,
определяющий идеи Ласки скорее как «синдикализм».
Во Франции либерализм, не отказываясь от своего
основного принципа, воспринял в лице значительного
критического философа Шарля Ренувье (1815—1903) и
418
П. Б. Струве
его школы сильное влияние последовательно
социалистической установки. Большая и основополагающая
книга ученика Ренувье Лнри Мишеля «L'idée de l'état»
(1896) стоит под знаком духовного и политического
кризиса либерализма. С социально-философской
стороны этот кризис был очень интересно освещен в
серии статей (Бугле, Якоб, Лапи, Лансон, Пароди)
ведущего философского журнала «Revue de Métaphysique
et de Morale» (1902 и 1903). И как раз социальный
либерализм Франции нашел короткий и успешный
девиз: La solidarité — так было озаглавлено
влиятельное и открывающее новые пути небольшое произведе1
ние радикального государственного деятеля Леона
Буржуа (1851 — 1925), вышедшее в 1899 г. Это слово и
эта идея стали, благодаря Буржуа и его сторонникам,
народными и задающими тон, притом двояким
образом: против традиционного манчестерства и против
социалистической классовой борьбы. Справа к
социальному либерализму приблизился государственный
деятель Рене Вальдек-Руссо (1846—1904). Также и
Жоржа Клемансо (1841 — 1929) можно виндицировать
социальному либерализму. Блестящим достижением
социально-либеральной мысли было выступление
Клемансо в риторическом поединке Жорес —
Клемансо (1906) во французской палате — духовном
поединке гигантов, который, похоже, является
уникальным во всей истории парламентаризма. Объединенное
радикальное и радикально-социалистическое
направление в политической жизни Франции следует также
обозначить в целом как очень умеренный социальный
либерализм буржуазной чеканки. Как
социально-либеральные, а не социалистические следует оценивать
отдельные явления и представителей французского
социализма, стоящие вне собственно социалистической
партии, а именно — «республиканских социалистов»
Бриана и Пенлеве.
С «солидаризмом» соприкасаются в некоторых
теоретических обоснованиях и
практически-политических следствиях социально-правовые учения обоих
ведущих французских правоведов — недавно умерших
Леона Дюги и Мориса Орио, хотя как объективный
эмпирически-индивидуалистский функционализм
первого, так и метафизически укорененный онтологизм
Социальный либерализм
419
второго выходят в постановке проблем далеко за
пределы проблематики социального либерализма как
социально-политического направления. Как решительно
социально-либеральную следует охарактеризовать
социально-политическую установку чрезвычайно
продуктивного с писательской точки зрения философа
Альфреда Фулье (1838-1912).
В России социально-либеральная мысль в ее
новейшей форме не смогла приобрести собственно
политического (т.е. социально-политического) влияния,
но в области философии и науки о государстве она
принесла значительные результаты. Русский
либерализм был настроен явно социально-реформистски уже
в лице замечательного правоведа и историка
К.Д.Кавелина (1818—1885). Русский «народнический»
социализм, к которому склонялся и Кавелин, был в целом
также своеобразной смесью либерализма и
социализма. Задолго до Веймарской конституции, в 1896 г.,
крупный русский философ, метафизик и публицист
Владимир Соловьев (1853—1900) отчеканил формулу
«Право на достойное человеческое существование», а
следуя Соловьеву социально-либеральную мысль
продолжили и основательно развили русские
правоведы — покойный цивилист Иосиф Покровский
(профессор в Дерпте, Киеве, Санкт-Петербурге и Москве), и
в особенности философ права Павел Новгородцев
(1866—1924, профессор в Москве, депутат первой
Думы). Новгородцев опубликовал два больших,
блестяще написанных произведения, свидетельствующих
об обширных познаниях и глубоком проникновении в
материал и относящихся к области социального
либерализма: «Кризис современного правосознания»
(Москва 1909) и «Об общественном идеале» (первое
издание Москва, 1917, третье издание Берлин, 1921).
Первое произведение широкомасштабно
рассматривает отмирание традиционного либерализма и его
замену социально-либеральной идеей (здесь дан
прекрасный обзор развития этой идеи, особенно в Англии и
Франции). Предметом второго произведения является
тесно связанный с процессом преобразования
либерализма процесс преобразования социализма.
Другой элемент развития в направлении
социального либерализма образует своеобразная «ревизио-
420
П.Б.Струве
нистская» установка части русских «марксистов» до и
после революции 1905 г. Так называемый «буржуазный
марксизм» — своеобразное явление русской духовной
истории, которое не следует путать с руководимым
Георгием Плехановым так называемым
«меньшевизмом» — активно прокладывал путь
социально-либеральной мысли как в «интеллигенции», так и в
«бюрократии». Конституционно-демократическая партия
приняла на своем съезде в 1906 г. основные
положения исключительно социально-либерального доклада
автора этих строк. Социально-либеральной была также
социально-политическая установка, пожалуй, самого
влительного университетского правоведа в России с
начала XX века до большевистской революции — Льва
Петражицкого (1867—1930, с 1897 по 1917 гг.
профессора философии права в СПб. Университете, депутата
первой Думы, позднее профессора социологии в
Варшаве), который создал на основе своего своеобразного
психологического обоснования учения о праве и
государстве целую школу русского правоведения.
Учеником Петражицкого является работающий теперь во
Франции бывший приват-доцент правоведения СПб.
Университета Георгий Гурвич (Paris, Faculté des lettres),
y которого социальный либерализм его учителя
превращается уже в реформистский социализм. Учеником
Петражицкого является также ныне работающий в
США известный социолог Питирим Сорокин.
5. Социальный либерализм
и профсоюзное дело
Здесь не место проверять как социальный
либерализм, так и социализм на соответствие
экономической действительности и, тем самым, его реальную
состоятельность. Нижеследующие замечания следует
понимать не как вотум за или против него, но лишь как
констатации.
Как социально-политическое направление
социальный либерализм вообще и конкретно в отношении
к профсоюзной проблеме обнаруживает
многочисленные совпадения с «социальным» католицизмом, лишь
с тем отличием, что в последнем — в соответствии с
естественно-правовым подкреплением социального
Социальный либерализм
421
учения католицизма — значительно яснее выступает
момент «естественного права»1.
Социальный либерализм, если он как
мировоззрение верен себе, должен всегда придерживаться
принципа индивидуальной свободы как высшего
основоположения политики, в том числе и социальной
политики, и соразмерять с этим основоположением
соответствующие действительно наличные или только
возможные формы и тенденции профсоюзного дела.
Он никогда не мог бы приветствовать превращение
профсоюзов в «цеховые объединения». Подобное
окостенение и вырождение может проявляться как в
отношении объединения к его отдельным
представителям (например, профсоюзный «numerus clausus» с
«удостоверением о квалификации» или без такового!),
так и в отношении объединения к социальной
общности и ее публично-правовому носителю —
государству (например, скрыто или открыто
«монополизированная» раздача разрешений на исполнение
соответствующей профессии членам профсоюза или
рассмотрение «государственной службы» (services
publiques) как «источника существования»
соответствующих групп рабочих, служащих, чиновников!).
Профсоюзная проблема обладает для социального
либерализма тем же идеальным и формальным содержанием,
что и проблема картелей, и здесь бросается в глаза
разделительная линия между либеральной
концепцией, лежащей в основе социального либерализма, и
тем социал-реформизмом, который склоняется к идее
«связанной экономики», правда, не в мягком смысле
«свободной связанности» (Митчерлих), а в строгом
смысле основанной на государственных приказах и
запретах, т.е. действующей действительно по
принуждению хозяйственной организации. Полное
огосударствление профсоюзов, осуществленное, например, в
Советском государстве, несовместимо даже с самым
радикальным социальным либерализмом не только по
тактико-политическим соображениям, но в принципе.
1 Об отношении католицизма к естественному праву ср. J.Har-
ing, Art. «Naturrecht» в Staatslexikon der Görresgesellschaft, 5. Aufl.
Католическое понимание и критику либерализма см. там же:
Jon. Messner, Art. «Liberalismus».
422
П.Б.Струве
Но в своей подлинной сущности профсоюзное дело как
свободное обобществление на основе свободного
рыночного хозяйства совершенно естественно и свободно входит
в социально-рыночную картину мира социального
либерализма. Как раз в этой картине мира профсоюзное
дело занимает важное и осмысленное место
настолько, насколько принцип свободы призывается также и
в хозяйственной жизни в качестве главной основы
порядка и решающей контрольной инстанции. Здесь
отсутствуют те препятствия, противоречия и
противоположности, которые вырастают на пути свободного
обобществления трудящихся в профсоюзах в условиях
сплошной социализации хозяйственной жизни в
полностью «коллективной экономике».
6. Литература
Помимо указанных в тексте произведений следует
упомянуть:
К критике социального либерализма: Ludwig Mises,
Kritik des Interventionismus (Jena, 1929).
О взглядах Франца Оппенгеймера: K.Werner,
Oppenheimers System des liberalen Sozialismus (Jena, 1928). В
силу духовного сродства Оппенгеймера и Евгения
Дюринга следует указать на: Gerhard Abrecht, Eugen
Dühring. Ein Beitrag zur Geschichte der
Sozialwissenschaften (Jena, 1927).
О социальном либерализме в Англии и Франции
исчерпывающую информацию дают вышеупомянутые
произведения Новгородцева.
О взглядах Г.Й.Ласки см.: Paul Léon, Une doctrine
relativiste et expérimentale de la souveraineté. B: Archives
de philosophie du droit et de Sociologie juridique, 1931,
§ 1-2 (Paris, Sirey).
Ренувье написал в 1848 г. по служебному
поручению временного правительства республиканское
«учение о гражданине»: Manuel républicain de l'homme et
du citoyen (Paris, 1848). (Существует новое издание
этой книги, снабженное историческим
комментарием.) О социальной философии Ренувье см.: Roger
Picard, La philosophie sociale de Renouvier.
О «социально-правовых» взглядах Дюги и Орио см.
теперь в исторически и догматически глубоком иссле-
Социальный либерализм
423
довании Георгия Гурвича (Georges Gurvitch): L'idée du
droit social. Notion et système du droit soc. Histoire
doctrinale depuis le XVII-e siècle jusqu'à la fin du ΧΙΧ-e siècle.
Thèse principale pour le Doctorat en lettres. Paris, 1931
(Recueil, Sirey) и того же автора: Le Temps présent et
l'idée du droit social. Thèse complémentaire. Paris, 1931
(J.Vrin). Об Альберте Фулье см. в первом из названных
сочинений стр. 576—581. Там же о Шарле Секретене,
которого можно считать философским
предшественником солидаризма (стр. 569—576), о солидаризме:
стр. 581—589. О солидаризме см. также: Bougie. Le
solidarisme. 2-е éd., Paris, 1924 и коллективный
сборник: Essais d'une philosophie de la solidarité (Paris,
1902).
Постулат «права на достойное человеческое
существование» был впервые выдвинут Владимиром
Соловьевым в статье «Хозяйственный вопрос и
нравственность» (опубл. в Санкт-Петербургском журнале
«Вестник Европы», декабрь 1896). Эта статья была
включена в качестве главы в основное этическое
произведение Соловьева об оправдании и обосновании
нравственного добра (первое русск. изд. 1897, нем. пер. под
назв. Rechtfertgung des Guten, 1916). Постулат
достойного человеческого существования старался
юридически развить Павел Новгородцев в специальном этюде
(напечатан в издававшемся Петром Струве в Санкт-
Петербурге еженедельнике «Полярная Звезда» 30
декабря 1905 г.). Иосиф Покровский изложил свои
социально-либеральные идеи в сочинении «Основные
проблемы гражданского права» (1917). Доклад Струве на
съезде конституционно-демократической партии
1906 г. вышел в том же году в журнале партии,
издававшемся Каминкой и Набоковым, а также
отдельным оттиском.
О Льве Петражицком см. вышеупомянутую работу
Георгия Гурвича: Le Temps présent... стр. 279—295, а
также: ГК.Гинс (профессор русского юридического
факультета в Харбине). На пути к государству
будущего. От либерализма к солидаризму. Харбин, 1930.
ФЕРДИНАНД ТЕННИС
(1855-1936)
К оценке его социально-философского
и социологического творчества
Я не был знаком с Фердинандом Теннисом лично.
Я не принадлежу ни к сторонникам его учения, ни к
поклонникам его личности как ученого. Поэтому я
также не испытал никакого влияния его творчества.
Тем самым я приступаю к оценке его как
социального философа в известном смысле непредубежденно.
Тем не менее или даже именно поэтому меня
привлекает задача представить образ этого влиятельного
ученого и его научный стиль исходя как из его
собственных душевных и мыслительных предпосылок, так и
из духовной ситуации того времени, которое мне,
пусть только в юношеские годы, также довелось
пережить.
Меня сильно поразило, когда в начале девяностых
годов прошлого века покойный Генрих Браун,
основатель и издатель «Центральной
социально-политической газеты» и «Архива по социальному
законодательству и статистике», поистине гениальный
журналист — не только очень живой, но и глубоко
наблюдательный человек — весьма красочно
охарактеризовал мне в своей известной беспощадно
ошеломляющей манере Фердинанда Тенниса и Пауля Наторпа
как «скрытых социал-демократов». Позднее Теннис
протестовал против того, что его считают
социал-демократом. В своей известной автохарактеристике он
писал об этом: «Многие "много, но плохо
образованные" считали меня тогда социал-демократом. Я ни-
Фердинанд Теннис
425
когда им не был, ни открыто, ни втайне потому, что
мой образ мыслей в некоторых пунктах радикально
отличается от образа мыслей Эрфуртской программы,
и потому, что я всегда испытывал страх потеряться в
практической политике».
Меня же эта характеристика духовной и
социально-политической установки Тенниса, данная
Генрихом Брауном, удивила потому, что я сам — тогда еще
умеренный социал-демократ-ревизионист —
воспринимал автора «Общности и общества» как
романтического катедерсоциалистического социального
философа, по духу родственного скорее Шмоллеру, чем
Марксу. «Марксомания», в которой Шефле упрекал
Тенниса, совсем не импонировала моему тогдашнему
марксистскому духу. Романтизм, не только «легко»1,
но чрезвычайно ясно слышимый в этом
идеализирующем превознесении «общности» («общины»),
напоминал мне, протагонисту русского неортодоксального
марксизма, выросшего из либеральных потребностей
и либералистских припадков русской интеллигенции,
скорее прославление духовной и социальной
отсталости, чем утверждение освобождающего и рвущегося
вперед «капиталистического» развития. В этом прока-
питалистически-марксистском настроении мне и
многим моим современникам в России Георг Зиммель
был духовно ближе и симпатичнее, чем Фердинанд
Теннис.
И все же, как Генрих Браун, так и Альберт
Шефле, были в известной степени правы. Хотя
Теннис и не был партийным социал-демократом, еще
меньше — последовательным марксистом, тем
более — вульгарным марксистом, но в его романтизме
была всегда примешана значительная доля
рационализма, и как раз в специфическом виде
социалистического естественного права2. В конце концов Теннис
1 Paul Barth, Die Philosophie der Geschichte als Soziologie. 3. bis
4. Aufl. Leipzig, 1922, S. 445: «Между строк у Тенниса
чувствуется, как бы он ни хотел быть объективным, легкий
романтизм».
2 В этом смысле объективно справедливо известное суждение
Отмара Шпанна.
426
П.Б.Струве
был больше социалистом, чем романтиком, и в
качестве такового он с практически-политической точки
зрения мог быть лишь попутчиком
социал-демократии.
Но также и Теннис был прав: он не был
практическим политиком. Он был ученым, да к тому же еще
и мечтателем. Его жизненный путь как ученого,
отвлекаясь от чисто внешней стороны дела, был весьма
своеобразным. Он был тяжелым на подъем
философом, лишенным не только искры подлинно
художественного дарования, но и чисто писательских
способностей. В этом отношении он далек не только от
великих живописцев среди немецких философов вплоть
до Освальда Шпенглера, но даже от целого ряда
блистательных писателей в области правоведения вплоть
до Вернера Зомбарта и Эдгара Селина. К этому
недостатку художественных способностей и литературной
оформленности у Тенниса прибавлялся еще и
вопиющий недостаток исторического видения. Он ни в
малейшей степени не был историком. Ведь к
историческому видению принадлежит чувство полутонов,
нюансов и переливов. Это чувство начисто отсутствовало у
Тенниса, отсутствовало именно как природный дар.
Его сила заключалась как раз в той односторонности
взгляда и монотонности слуха, что ухватывает лишь
кричащие противоположности и работает с резкими
противопоставлениями.
Самой большой, может быть, даже первой и
единственной любовью Тенниса как рационалистического
мыслителя был Томас Гоббс. Теннис был в конце
концов действительно духовно родствен этому
прозорливому и дальновидному пессимисту — не в
отдельных исторически обусловленных воззрениях и не
в массивности мыслительной работы в целом, но,
пожалуй, в общем взгляде на мир и человека.
Теннис был, так сказать, гуманистическим Гобб-
сом. Его гуманизм имел романтическую окраску, но
этот романтический гуманист был в глубине своей
рационалистическим пессимистом в отношении
человечества и культуры. Своему культурному пессимизму
Теннис придал в уже упомянутой автохарактеристике
Фердинанд Теннис
427
такое выражение, которое в своей простоте действует
прямо-таки потрясающе:
«...Это убеждение сформировалось у меня 40 лет
тому назад столь прочно, что обретенный с тех пор
опыт вряд ли смог его подкрепить еще больше, —
убеждение, что культурные образования,
возвысившиеся на развалинах Римской империи и
распространившиеся по Северной Европе, а затем охватившие
Новый Свет, в ходе своего блестящего прогрессивного
развития вот уже четыре столетия движутся
постепенно навстречу своему упадку и разрушению.
«Капитализм» я не считал никогда только причиной, но
одновременно знаком и формой проявления этого
процесса разрушения. Я также не приветствовал и социализм
как надежное средство излечения и не признавал в
нем дальнейшего культурного прогресса,
превосходящего те огромные достижения, которыми
непосредственно или посредственно мы обязаны капитализму. Я
мог правильно оценить значительное улучшение,
облегчение и гуманизацию всей нашей жизни,
произошедшую со времен "Средневековья". Я всегда
воспринимал и воспринимаю это живейшим образом
(230/32). ...Вместе с тем общий ход развития движется
очевидно в направлении социалистической
организации и течению общественного мнения суждено
следовать за этим развитием. Мы — мыслители — должны
рыть ему русло и направлять этот необходимый ход
вещей туда, где он может двигаться по пути
наименьшего сопротивления (231/33). ...И все же, даже если
эти надежды исполнятся в еще большей степени, чем
мне представляется вероятным, то это не изменит
моего мнения о конечной судьбе, навстречу которой
движется наша культура. Это трагическая судьба,
которой разумная и решительная воля может долго
противостоять (что, к сожалению, редко случается), не
будучи, однако, в состоянии ее победить; судьба,
которая может еще столетия преображаться всеми огнями
цивилизации, но которая неизбежно приблизится, как
конец света для Азов. Не слишком сложно признать в
переживаниях последних семи лет (1914—1921) и в
завоеваниях панславизма пролог к этой трагедии»
(232/34).
428
П.Б.Струве
2
Был ли Теннис социологом? Я полагаю вместе с
Т.Гейгером, что его следует характеризовать как
социального философа и философа культуры. Весьма
примечательно, что Теннис проводил специальные
исследования в точном смысле слова лишь в области
истории философии и социографии, т.е.
индуктивно-описательной и статистической социологии. Но, при всем
почтении к его историко-философским и социогра-
фическим достижениям, им далеко до его социально-
философского творчества — он не был вовсе ни
историком, ни статистиком.
Как исследователь в области истории философии
Теннис навсегда связал свое имя с фигурой и
творчеством Томаса Гоббса (ср. третье, расширенное
издание его сочинения о Гоббсе: Thomas Hobbes' Leben
und Lehre. Stuttgart, 1925, XXVII, 316 S.). Но как раз
эта отличная итоговая работа, опирающаяся на его
собственные исследования и издания, обнаруживает
ограниченность Тенниса как историка. В ней
отсутствует независимое объективное видение предмета.
Теннис дает в итоге основательную, но все же
тенденциозную интерпретацию, в которой отсутствует как
живой образ, так и действительно исчерпывающий
анализ. Стоит лишь сравнить характер его
исследований с работами Куно Фишера (Теннис, похоже, питал
к «беллетристу» Куно Фишеру ненависть, смешанную
с презрением) или Вильгельма Дильтея, которому
была присуща действительно поэтическая способность
видения духовного развития, или, наконец, Эрнста
Кассирера, чей ясный и строгий ход мысли,
оплодотворенный Кантом и воспитанный Когеном, резко
контрастирует с тяжестью мысли Тенниса, в основе
своей неясной и все слишком упрощающей. Весьма
характерно для Тенниса то, что ему никогда не были
близки ни стиль, ни содержание мысли тончайшего
немецкого философа XIX века — Лотце (о чем он
сам признается в автохарактеристике).
Еще менее «историческим», чем в книге «Томас
Гоббс», является историческое содержание его
обширной и занимательной «Критики общественного
мнения» (Berlin, 1922, XII, 583 S.). Это произведение,
Фердинанд Теннис
429
благодаря своей концентрированной связи с
конкретной исторической борьбой вплоть до наших дней,
является не столько социальной философией, сколько
даже больше прямо-таки философской публицистикой.
Его социально-философский каркас заимствован из
«Общности и общества» и столь же монотонен и, в
конце концов, беден содержанием. Я, к сожалению,
не могу здесь подробно развивать и обосновывать это
суждение. Единственно нужно подчеркнуть —
основополагающее «ясное» и «строгое» различение Тенниса
между «общественным мнением как внешней
совокупностью публично провозглашаемых многообразных
и противоречащих мнений» и «общественным
мнением как единой действенной силой и властью» (С. 131)
является с публицистической точки зрения весьма
эффектным и привлекательным, но с исторической и
социологической точки зрения — вводящим в
заблуждение.
Как статистик философ Теннис странным образом
остался совершенной чужд новейшей фазе
«статистики», т.е. ее формированию как науки. Я говорю
«странным образом» потому, что не только
математическую форму, но еще больше — логическое
существо, следует считать для нее характерным и значимым.
Новейшее развитие статистики, воплощенное в трудах
Пирсона (Pearson's), Лексиса, Борткевича, Чупрова и
Р.Мизеса, нужно рассматривать, в силу ее логического
существа, как исключительно философское дело. Но
философ Теннис, т<ак> ск<азать> «практически»
занимавшийся статистически ориентированными «соци-
ографическими» исследованиями, оставил это
философское дело совершенно без внимания.
3
Поэтому значение Тенниса заключается
исключительно в тех социально-философских размышлениях,
что изложены в его главном произведении «Общность
и общество». Он был homo unius libri, homo unius
cogitationis.
Мы обратимся теперь к этим размышлениям.
Первое издание «Общности и общества» вышло в
1887 г. с подзаголовком, звучащим сегодня довольно
430
П.Б.Струве
странно: «Рассмотрение коммунизма и социализма
как эмпирических культурных форм»1.
Теннис был настолько человеком одной мысли, что
изложение существа его учения находится в поистине
исчерпывающей форме уже на первых двух страницах
его главной работы. Мы приводим их ниже:
«Человеческие воли находятся в многообразных
отношениях друг с другом, всякое отношение есть
взаимодействие, поскольку действие, исходящее от одной
стороны или производимое ею, воспринимается или
претерпевается другою. Эти действия таковы, что они
направлены либо на сохранение, либо на разрушение
другой воли и плоти: они являются либо
утверждающими, либо отрицающими. Объектом исследования
нашей теории являются исключительно взаимно
утверждающие отношения. Каждое из таких отношений
представляет либо единство во множестве, либо
множество в единстве. Оно состоит из требований,
содействий, усилий, движущихся то в одну, то в другую
сторону, и рассматривается в качестве выражения
воли и ее способностей. Группа, образуемая таким
позитивным отношением, называется союзом и
рассматривается как существо или вещь, действующая
вовнутрь или наружу как единство. Само отношение и,
следовательно, союз понимается либо как реальная и
органическая жизнь — это сущность общности, —
либо как идеальное и механическое образование —
это понятие общества. Через использование можно
установить, что оба выбранных имени укоренены в
синонимическом употреблении, свойственном
немецкому языку. Но прежняя научная терминология
пользовалась ими без различия, смешивая по произволу.
Поэтому некоторые предварительные указания
должны все же изобразить эту противоположность как су-
1 В предисловии к третьему изданию, напечатанном на самом
деле не в самой книге, а в «Neue Zeit» (13 июня 1919), а затем в
«Soziologische Studien und Kritiken» (Erste Sammlung, Jena, 1925,
S. 58—64) мы читаем: «Моим намерением было придать этим
понятиям научную форму... На переднем плане стояли у меня
при этом действительные феномены, "эмпирические культурные
формы". Я хотел истолковать коммунизм как культурную
систему общности, социализм — как культурную систему общества»
(1. с, S. 59).
Фердинанд Теннис
431
шествующую в наличии. Все близкое, родное, только
совместная жизнь понимается (как мы считаем) как
жизнь общности. Общество есть публичность, мир. В
общности со своими близкими человек со всеми его
радостями и горестями находится с самого рождения.
В общество идут как на чужбину. Юношу
предостерегают от дурного общества, но «дурная общность»
противна чувству языка. О домашнем обществе могут
говорить, пожалуй, лишь юристы, знающие лишь
общественное понятие союза, но домашнюю общность со
всем ее бесконечным влиянием на человеческую душу
чувствует каждый ей причастный. Точно так же все
обрученные знают, что они после брака вступают в
полную жизненную общность (communio totius vitae);
жизненное общество — противоречие в самом себе.
Можно составить кому-то общество; общность
другому никто не может составить. Людей принимают в
религиозную общность (общину), религиозные
общества существуют, подобно другим объединениям, с
какой угодно целью лишь для государства и теории,
находящихся вне их. Существует общность языка,
нравов, веры, но — промысловое, туристическое,
научное общество. Особое значение имеют торговые
сообщества; но как бы доверительны и тесны ни были
отношения внутри них, все же едва ли можно
говорить о торговой общности. Совершенно
отвратительным было бы словосочетание «акционерная
общность». В то время как существует общность
владения пашней, лесом, лугом. Общность имущества
супругов нельзя назвать имущественным обществом. Так
устанавливаются многочисленные различия.
В самом общем смысле можно говорить об
общности, охватывающей все человечество, подобно
той, на которую претендует церковь. Но человеческое
общество понимается лишь как сосуществование
независимых друг от друга лиц. Если, как это ныне
происходит в научном словоупотреблении, говорят об
обществе внутри страны в противоположность
государству, то это понятие может использоваться, но найдет
свое разъяснение в глубоком противоречии понятию
народной общности. Общность стара, общество
молодо, и по сути и по имени. Это признал один автор,
преподававший различные политические дисциплины,
432
П.Б.Струве
не углубляясь в их суть. «Понятие общества в
социальном и политическом смысле (говорит Блюнчли:
Staatswörterb. IV) находит свое естественное основание
в нравах и воззрениях третьего сословия. Это
собственно понятие не народа, а именно третьего
сословия... его общество стало источником и одновременно
выражением общих суждений и тенденций.., везде
там, где городская культура процветает и приносит
плоды, появляется также и общество как его
незаменимый орган. Деревня почти не знает общества».
Напротив, все похвалы деревенской жизни неизменно
указывали, что в ней общность людей сильнее и
живее: общность есть длительная и подлинная
совместная жизнь, общество — лишь преходящая и
кажущаяся. И соразмерно этому следует понимать саму
общность как живой организм, общество же — как
механический агрегат и артефакт»1.
Историю этой парной связи или различения, или
противопоставления понятий «общность — общество»
терминологически очень легко очертить2. С точки же
зрения истории идей постепенное созревание,
появление и последующее их исчезновение представляется
довольно длительным процессом. Параллельно паре
«общность — общество» (или скорее пересекаясь с
нею и накладываясь друг на друга) развиваются
другие: связанность — свобода, естественность — искуст-
венность (сделанность3), органичность —
механичность. Это теннисовское различение с самого начала
является романтически окрашенным и
социалистически истолкованным. С одной стороны, общность для
Тенниса — это естественная связанность и поэтому
вовсе не противоречит принципу свободы. С другой
стороны, общество для Тенниса — это результат ис-
1 Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegruffe der reinen
Soziologie. Zweite, erheblich veränderte und vermehrte Auflage. Berlin
(Karl Curtius), 1912, S. 2—5. Dritte, durchgesehene Auflage. Berlin,
1920, S. 3—4. (Цитируется по последнему изданию. Курсив
автора!)
2 Ср. Th. Geiger, Art. «Gemeinschaft» im Handwörterb. d. Sozilol-
gie.
3 Это выражение можно встретить у такого мастера языка, как
Готфрида Келлера: «без умысла и сделанности» (ohne Absicht
und Gemachtheit).
Фердинанд Теннис
433
кусственного, сделанного, ибо намеренного и
условленного освобождения. Поэтому оно столь же мало
противоречит принципу свободы (в версии
либерализма). Это не должно удивлять: как по существу, так и
генетически принцип свободы является
двойственным. Исторически он обрел в эпоху нового времени
двоякое — чувственное (эмоциональное) и
мыслительное (идеологическое) — закрепление1. Можно
коротко охарактеризовать одно как «романтическое»,
другое — как «рационалистическое». Но также и
принцип связанности, т.е. принуждения, встречается
как в романтической, так и в рационалистической
окраске.
Точно замечает Гейгер: «в действительности его
(Тенниса) чистая теория общности есть не что иное,
как исповедание органического понятия общества, а
чистая теория общества, в ее тесной связи с
понятиями естественного права и договора, — обновление
теории Contrat Social»2.
Гейгер хорошо показывает, что противоположность
«общность — общество» имеет у Тенниса «по крайней
мере троякое значение»: 1. идеально-типическое,
2. классификационное, 3. эволюционно-историческое
с сильным привкусом метафизической оценки. Мне
представляется очень точным, что Гейгер
констатирует у Тенниса «столь захватывающий метафизический
пафос, на фоне которого название произведения —
«Основные понятия чистой социологии» выглядит
более чем скромным». «При всем стремлении ученого
Тенниса к холодной объективности, горячий и
вдохновенный человек в нем часто берет верх. Разве не
чувствуется из каждой строчки этой теории общности
оседлого северного человека прочной любви ко всему,
1 Совершенно верно и очень тонко исторически устанавливает
Карл Маннгейм, что рядом с либеральным понятием свободы
было развито консервативное. Ср. его «Das konservative Denken.
Soziologische Beiträge zum Werden des politisch-historischen
Denkens in Deutschland» в Archiv für Sozialwissenschaft, 57. Band
(1927), bes. S. 89-92. В духовном развитии и политической
мысли Вильгельма фон Гумбольдта мы встречаем в
своеобразной и весьма тонкой форме как переплетение, так и взаимное
следование рационалистического и романтического мотивов.
2 Archiv für Sozialwissenschaft, 58. Band, S. 359.
434
П.Б.Струве
что кровно произрастает, становится, и разве не
слышны в теории общества ясные мотивы
недовольства, осуждения и даже отвращения?»
4
Как творец противоположности «общность —
общество» Теннис был в нее прямо-таки влюблен и
придавал большое значение своему авторству. Но при
этом он был достаточно честен, чтобы осветить
т<ак> ск<азать>, «литературные» источники своей
мысли.
Теннисовская противоположность есть
перенесенное в социальную философию и социалистически и
демократически истолкованное различение Status и
Contractus, установленное Генри Самнером Мейном1.
В этом заключается своеобразная ирония
идейно-исторического развития, что столь социально и
политически радикальный представитель социальной
философии, как Теннис, возвысил до уровня
основополагающего обобщения («теоремы») «чистой социологии»
трезвое наблюдение из области истории и социологии
права столь «эмпирически» настроенного и
решительно консервативного исследователя, как Генри Самнер
Мейн2.
1 «Ancient Law» (опубликован в 1861 г., затем многократно
переиздан и переведен на все культурные языки).
Соответствующий пассаж из Мейна, кульминирующий в положении
«прогрессирующее движение обществ было до сих пор движением от
статуса к контракту» Теннис цитирует на стр. 152—153 (третьего
издания) и называет «ясным убеждением, правомерность
которого должна быть отчасти дополнена, отчасти разъяснена
развитой здесь теоремой». О Мейне ср.: Paul Vinogradofî, The Teaching
of Sir Henry Maine. 1904, и его же Outlines of Historical
Jurisprudence I (Oxford Univ. Press). 1920, pp. 138-140.
2 «Из соединения моих исследований Гоббса с изучением
политической экономии и естественного права, исторической
школы права и истории права, сравнительной и этнологической
юриспруденции, а поэтому, в особенности, из знакомства с
книгами Мейна и его формулы «от статуса к контракту»,
которую я вновь обнаружил у Герберта Спенсера, возникли
некоторые основные идеи моего сочинения «Общность и общество»
(Selbstdarstellung, 211/13). Ср. Предисловие к первому изданию
(поел. публ. «Soziologische Studien und Kritiken I», S. 43).
Фердинанд Теннис
435
Вторым источником своего противопоставления
Теннис называл исторически обоснованную у Гирке
идею товарищества1. Это прямо-таки удивительно,
сколь широко и глубоко вообще было духовное
влияние Отто фон Гирке2.
Значительно меньшим было влияние Карла
Маркса на основную социологическую мысль Тенниса.
Хотя этому влиянию Теннис и обязан тем, что он
усвоил экономическое истолкование истории, обычно
называемое материалистическим пониманием истории
(правда в весьма умеренной форме, находящейся где-
то посередине между неясным марксо-энгельсовским
и социологически прозрачным пониманием Эрнста
Гросса). Но в кардинальной социально-философской
установке Тенниса как homo той unius cogitationis
мыслительные построения Маркса принимают по
существу незначительное участие3.
Теннисовское противоположение «общность —
общество» было обнаружено и воспринималось многими
на рубеже веков с восторженной доверчивостью как
откровение, а достижение Тенниса прославлялось как
«эпохальное». Потребовались во всяком случае
десятилетия, чтобы эта оценка вышла из употребления, с
тем, по-видимому, чтобы постараться еще сильнее
укрепиться как communis aestimatio doctorum.
Уже при жизни Тенниса наметился перелом.
Теперь же, я полагаю, можно твердо констатировать, что
теннисовской противоположности сегодня не будет
приписываться такое значение, какое она еще
недавно имела повсюду.
1 В том же Предисловии 1887 г., 1. с, S. 43: «О.Гирке, ...чья
ученость всегда вызывала у меня восхищение и к чьему мнению
я испытывал неизменное уважение».
2 Я рассмотрел это в моей статье «Синдикализм» в: Hdw. des
Gewerkschaftswesens.
3 В Предисловии 1887 г. Теннис прославлял Маркса как
«самого замечательного и глубокого социального философа», но
Маркс как политическая бойцовская натура и как мыслитель,
для которого характерна «невысокая оценка нравственных сил»
(Ср. небольшое сочинение «Marx, Leben und Lehre». Berlin, 1921,
S. 139) совсем не был конгениален Теннису.
436
П.Б.Струве
Между прочим уже Вундт точно и по существу
критиковал Тенниса1. Позднее против теннисовской
концепции открыто выступил такой известный
историк, как Рахфаль2. Но еще важнее, что такие
представители «чистой социологии», как Т.Гейгер и Фирканд,
отказались от этой концепции. Фон Визе, насколько я
знаю, вопреки его в остальном высокой оценке
научного творчества Тенниса, никогда не был расположен
к его основной мысли.
В логическом отношении весьма точной была
также критика Тенниса французом Дюркгеймом3.
А Отмар Шпанн, универсализм которого по
своему эмоциональному и мыслительному существу очень
близок идее общности Тенниса, высказывался о ней
резко отрицательно и в весьма невежливой форме.
6
Я полагаю, что основная мысль Тенниса не
выдерживает критики ни с гносеологической (логической),
ни с эмпирической (как исторической, так и чисто
социологической) точки зрения. Волюнтаристский
исходный пункт учения Тенниса имеет
гносеологический (т. е. логический и психологический) смысл
только, если эту «волю» можно приписать какому-нибудь
субъекту. Если теннисовская «общность» может быть
мыслима как наделенная волей, то по отношению к
«обществу» это невозможно (а лишь по отношению к
«обществам»). Даже в смысле Тенниса общество (ед.
число) должно мыслиться как бессубъективное и
потому эмпирически не наделенное волей. Тем самым
ему ex hypothesi не может быть свойственна ни
«субстанциальная воля», ни «произвол». Более того, если
выражениям «субстанциальная воля» и «произвол»
придать метафизический смысл, то «произвол»
следует приписать как раз «общности», точнее говоря, «об-
1 Ср. полемику Тенниса против Вундта (и Фирканда):
«Soziologische Studien und Kritiken IIb, S. 267—268.
2 Ср. полемику Тенниса против Рахфаля: там же, S. 466—469.
3 Ср. полемику Тенниса против Дюркгейма: там же, S. 215—
217.
Фердинанд Теннис
437
щностям», а «обществу» — «субстанциальную волю».
Ибо с точки зрения опыта «целому», не обладающему
никакой эмпирически фиксируемой волей, вообще не
может быть приписана никакая воля. Иначе обстоит
дело, если встать на метафизическую точку зрения и
предположить некую эмпирически не фиксируемую
(или по крайней мере прямо не фиксируемую)
бессознательную волю.
Теннисовское различение является поэтому
логически уязвимым. А что логически уязвимо, не
состоятельно также и эмпирически. Эмпирически
состоятельным, интересным и продуктивным было в тенни-
совской конструкции ее
волюнтаристски-романтическое ядро. Для него нашел замечательную
формулировку Гельдерлин уже в 1794 г.: «Есть два идеала нашего
бытия — состояние полной невинности, где наши
потребности согласуются между собой и со всеми
нашими силами, со всем, с чем мы связаны, благодаря
одной лишь организации природы, без нашего участия, и
состояние полной образованности, где то же самое
имеет место при бесконечно разнообразных и
усиленных потребностях и силах, благодаря организации,
которую мы в состоянии дать себе сами» (курсив
автора. — П.С). (Фрагмент Гипериона. Вальтерсхаузен
1794 [«Новая Талия» Шиллера, 1793. 5 вып.])1.
Но с этим романтическим ядром совершенно не
вяжется его рационалистическое перетолкование и
обобщение, произведенное Теннисом.
Автор этих строк положил в основу своего
социологического учения совершенно иную пару понятий:
единство — система. Она также покоится в
определенном смысле на волюнтаристских предпосылках.
Система есть бессубъектное взаимодействие,
лишенное воли взаимопроникновение волевых поступков
психических и моральных лиц. Единство,
напротив, — субъект воли, субъективное, единосущное
телеологическое единство всех сопряженных с ним во-
1 Friedrich Hölderlin, Hyperion. Mit Einleitung, herausgegeben von
Wilhelm Böhm. Jena (Diederichs), 1921. (Gesammelte Werke, Bd. 1,
S. 213).
438
П.Б.Струве
левых поступков. Здесь не место развивать подробно
эту конструкцию1, которую я противопоставляю как
теннисовской, так и шпанновской. Я указал на это
лишь для того, чтобы наметить позитивное обоснование
моей критики и опровержения теннисовской мысли.
По поводу проблемы «общность — общество» я
хочу сделать еще одно терминологическое замечание,
уместное здесь тем более, что сам Теннис долго
занимался исследованием терминологии (ему принадлежит
также специальное сочинение об этом, которое, на
мой взгляд, является малосодержательным2).
В своей же социальной философии, насколько она
исходит из немецкого ненаучного словоупотребления,
Теннис оказывается в определенном смысле его
пленником. Слово «общество» обозначает первоначально в
немецком и латинском, а также в других языках
совокупность лиц и единство воли, а в ходе дальнейшего
развития мысли расширяется до обозначения
объективного и с точки зрения отдельной воли
непреднамеренного взаимодействия человеческих воль.
Французское «société» прекрасно передает это
преобразование. Латинское «societas» — на языке права
первоначально лишь заключение договора, временно
длящееся «обязательство»3, — расширяется в дальнейшем до
образования, понятие которого выражается по-латыни
словом «corpus», и достигает высшей точки во
французском «société» как социологическом понятии,
приобретая значение объективного вызванного
человеческой волей, но не зависящего от отдельных воль как
1 Я развил ее в моем русском сочинении «Хозяйство и цена»
(1913—1916) и в сокращенной форме в статье «Zur Grundlegung
der Wirtschaftssoziologie» в «Kölner Vierteljahresheften», IX.
Haft 1/2.
2 Philosophische Terminologie in psychologisch-soziologischer
Ansicht. Ausgezeichnet mit dem Welby-Preis (1898). Leipzig, 1905,
S. XVI und 106.
3 Societas римского права впервые выступает похоже в форме
нераздельной общности имущества детей одного отца (societas
omnium bonorum). Тем самым здесь общность и общество
образуют единство. Первичным является, следовательно, переход
понятий друг в друга. Отвердение понятий приходит значительно
позднее. Ср., напр<имер>, Gerard-Mayr, Geschichte und System
des romischen Rechtes. Berlin, 1908, S. 624—631.
Фердинанд Теннис
439
таковых взаимодействия. Здесь происходит
радикальное преобразование значения понятия.
Волюнтаристское, «субъективистски» выраженное понятие
общества, общество как единство воли, как «одушевленное
общество» (Гербарт), как «корпорация» должно
терминологически уступить место «объективистски»
выраженному понятию общества, обществу как
социальному взаимодействию волей (гегелевская «система
всесторонней зависимости»). Теннис не смог ни
терминологически учесть, ни логически постигнуть, ни
социологически оценить это радикальное
преобразование значения. Такими преобразованиями значений
полна история не только обычного
словоупотребления, но также и философской и научной
терминологии. Теология, например, заимствовала из обыденной
жизни понятие и слово «жалование» («воздаяние») и
даже пересадила его в философию (в этом отношении
весьма характерно словоупотребление Гербарта!), но в
конце концов победил изначальный повседневный —
исключительно «хозяйственный» — смысл этого слова
и «система жалования» или «заработной платы»
означает сегодня нечто совершенно иное, чем
словоупотребление в «Практической философии» Гербарта в
1808 г. (стр. 185 и 202—219). Слово «общество» имеет
сегодня просто разные значения, и социологическое
понятие общества, если оно имеет право на
существование, что порой ставится под сомнение (см.,
напр<имер>, v. Wiese «Allgemeine Soziologie» I — Leipzig,
1924, S. 2Iff.), наполнено совершенно другим
содержанием и смыслом, чем тот, который хотел
установить Теннис в 1887 г., когда он намеревался
реформировать социологию. Социологическое образование
понятий и соответствующей ему терминологии
развивалось не в волюнтаристско-рационалистическом или
субъективистском направлении, а в волюнтаристско-
объективистском направлении, намеченном Гегелем и
Лоренцом фон Штейном.
7
Теннису следует противопоставить другого
немецкого социального философа, значение которого для
социологии несравненно больше. Я имею в виду Ру-
440
П.Б.Струве
дольфа фон Иеринга. Фон Иеринг вовсе не был
историком (в этом следует согласиться с историком права
Л.Миттейсом1)· Но ф. Иеринг в отличие от Тенниса
был крупнейшим специалистом в области социальной
науки, in specie прямо-таки юридическим гением. И
как юристу ф. Иерингу была присуща значительно
большая ясность и острота понятий, как бы ни
оценивать in merito его конструкции! О ф. Иеринге
Теннис высказывается в своей автохарактеристике
психологически и по существу весьма примечательным
образом, намекая на определенное отталкивание по
отношению к этому мощному уму2.
Противопоставление и сравнение социлогии и
социальной философии Тенниса с иеринговской было
бы привлекательной задачей, как с
объективно-содержательной, так и с социально-психологической и
идейно-исторической точки зрения...
8
Я полагаю, что в качестве резюмирующей
характеристики лучше всего выражают мою оценку в
преклонном возрасте ушедшего автора «Общности и
общества» те слова, что Теннис произнес по поводу
Альберта Шефле: «Честное борение действительного
мыслителя с большими и сложными проблемами
всегда будет вызывать наше глубокое почтение. Шеф-
фле — это оселок для умов, которым, как и ему,
важны глубокие познания. Даже если большинство
1 В его глубокой и уравновешенной оценке великого
правоведа: «Allgem. Deutsche Biographie» (Bd. 50).
2 Это отношение Тенниса к социологу ф. Иерингу является
столь же характерным для социального философа из Киля, как
и его выше отмеченное отношение к Лотце. А именно, в своей
молодости Теннис написал обширную критику «Цели в праве»,
которая должна была охватить и второй том, но осталась в
рукописи. Я по-юношески высокомерно намеревался опубликовать
эту критику в виде книги под названием «Г-н фон Иеринг в
праве и ...неправде», а эпиграф был: «Г-н фон Иеринг — автор
книги "Цель в праве"» и слегка пародировал собственный
эпиграф Иеринга «Цель — творец права», который я находил
метафизически схематичным и несколько пресным... Моя
собственная теория выросла в известном отрицательном отношении к
Иерингу...» (1. с, S. 210/12-211/13).
Фердинанд Теннис
441
его социологических теорем обнаружили свою
несостоятельность, то в своих заблуждениях он все же
поучителен. Быть может, он хотел слишком многого»1.
Да будет мне позволено рассмотреть в заключение
Тенниса еще и с другой, ему весьма близкой точки
зрения. Поздний, но все же многое затмевающий
успех Тенниса следует признать социологически
важным феноменом, известным историческим
возвещением. Фердинанд Теннис — не только мыслитель, но
в такой же степени и социальное явление. В
социальной философии Тенниса выражается не только
определенное идейное содержание и перед нами выступает
не только чисто духовный стиль. Она есть
предчувствие наступающих духовных и еще больше социальных
битв и решений. «Эмпирически» в узких границах
своего индивидуального существования в качестве
твердолобого и чудаковатого университетского
профессора Теннис был, как уже говорилось,
действительным попутчиком социал-демократии. Но как
духовное явление, превосходящее рамки
«эмпирической» личности, Теннис оказывается
предшественником и провозвестником национал-социализма в его
эмоциональном и мыслительном существе, которое я
хочу обозначить как мощную и своеобразную
исторически и социально обусловленную смесь романтизма и
рационализма.
Таково социологическое понимание
скончавшегося, выдающегося социального философа из Киля.
1 Из: Scmollers Jahrbuch, Band 31. Перепечатано в:
«Soziologische Studien und Kritiken. Dritte Sammlung». Jena, 1919, S. 347.
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
Настоящее издание имеет сугубо техническое задание —
сделать доступными для более широкой гуманитарной
аудитории редкие, труднодоступные или до сих не
переводившиеся на русский язык (и поэтому также труднодоступные)
сочинения Струве. Эта, первая, задача так или иначе уже
решалась в истекшие годы различными публикаторами
отдельных произведений или составителями авторских
сборников: здесь только продолжается ознакомление публики с
«несобранным» Струве. Вторая же, не менее важная, задача
ставится в настоящем издании впервые — и с точки зрения
публикации, и с точки зрения исследования наследия
Струве. Здесь, имея в виду известную «несистематичность»
творчества мыслителя и недостаток тех его сочинений, что
позволили бы кратко сформулировать его кредо по
философским, социологическим вопросам и вопросам
экономической теории, предпринимается попытка восстановить,
насколько это возможно, нереализованные творческие
замыслы Струве, позволяющих, хотя бы отчасти, представить себе
направление его системотворческой мысли.
Самому Струве удалось лишь дважды составить и издать
собрания своих избранных сочинений (Петр Струве. На
разные темы. Сборник статей (1893—1901 гг.). СПб., 1902;
Петр Струве. Patriotica. Политика, культура, религия,
социализм. Сборник статей за пять лет (1905—1910 гг.). СПб.,
1911 (далее сокращенно: Patriotica)). Автор также издал две
объемные монографии (Петр Струве. Хозяйство и цена.
Критические исследования по теории и истории
хозяйственной жизни. Т. 1. Хозяйство и общество. Цена —
ценность. СПб., М., 1913; Т. 2. Часть 1. Критика некоторых
проблем и положений политической экономии. М., 1916;
Петр Струве. Крепостное хозяйство. Исследования по
экономической истории России в XVIII и XIX вв. М., 1913).
Его наследники собрали еще две книги (Струве П.Б.
Социальная и экономическая история России с древнейших
времен до нашего в связи с развитием русской культуры и
ростом российской государственности. Посмертно
публикуемый незаконченный труд с приложением некоторых ранее
напечатанных статей из области русской истории и списка
трудов П.Б.Струве / [Сост. Г.П.Струве]. Париж, 1952;
Струве П. Дух и слово. Статьи о русской и западноевропейской
литературе / [Сост. Н.А.Струве]. Paris, 1981). Таким образом
основной корпус научно-публицистических работ Струве
446
П.Б.Струве
всех периодов и направлений его творчества можно считать
библиографически собранным. Практически же такие
книги, как «Социальная и экономическая история» или
первое издание Patriotica довольно редки, а остальные —
были доступными только в крупных библиотеках. И
наследие Струве, при всей его обширности и разнообразии,
оставалось знакомым широкой публике довольно поверхностно.
Теперь, после выхода в свет в издательстве «Республика»
переиздания авторского собрания с приложением
Предисловия П.Б.Струве к книге Н.А.Бердяева «Субъективизм и
индивидуализм в общественной философии» (1901) и более
поздних и наиболее известных статей (Струве П.Б.
Patriotica. Политика, культура, религия, социализм / Сост.
В.Н.Жуков и А.П.Поляков. М, 1997. — далее сокращенно:
Собрание Жукова и Полякова) задача общего ознакомления
современных русских читателей с творчеством Струве во
многом решена. И сегодня републикатор Струве может
дистанцироваться от тесно связанной с историческим
контекстом публицистики и сосредоточиться на уточнении
известного образа автора, на придании ему качества, более
соответствующего значению и влиянию Струве на современную
ему мысль. Тем не менее составитель вынужден был
включить в настоящее собрание ряд статей, без которых
существенное представление наследия Струве немыслимо
(«Великая Россия», «Религия и социализм» и др.)
Примечания к вошедшим в книгу статьям Струве носят
исторически-библиографический характер (в них
указываются все основные сведения по издательской истории
публикуемых текстов, за исключением переводов их с русского
языка на иностранные) и не ставят своей целью сообщить
читателю все те сведения о персоналиях, фактах, цитатах,
которые он может получить из общих и специальных
справочников и энциклопедий. В примечании к каждому тексту
даются все необходимые библиографические указания и
отсылки на коррелирующие с текстами другие сочинения
Струве.^Для восстановления общего контекста творчества и
представления об идейной эволюции мыслителя, для
выяснения основных положений его жизни и творчества, могут
быть рекомендованы следующие публикации разной
степени доступности: Ижбоддин Б.С. П.Б.Струве как экономист //
Новый журнал. № 9. Нью-Йорк, 1944; Николаевский Б.И.
П.Б.Струве // Новый журнал. № 10. Нью-Йорк, 1945;
Франк С.Л. Биография П.Б.Струве. Нью-Йорк, 1956
(приложение к этой книге — Франк С.Л. Умственный склад,
личность и воззрения П.Б.Струве — переиздано в: Собрание
Жукова и Полякова. С. 476—493); Richard Pipes. Struve:
Liberal on the Left, 1870-1905. Cambridge (Mass.), 1970;
Richard Pipes. Struve: Liberal on the Right, 1905—1944. Cambridge
(Mass.), 1980; Гайденко П.П. Под знаком меры (либераль-
Примечания
447
ный консерватизм П.Б.Струве) // Вопросы философии.
1992. № 12; Колеров М.А., Плотников Н.С. Творческий
путь П.Б.Струве // Вопросы философии. 1992. № 12;
Колеров М.А. Братство св. Софии: «веховцы» и евразийцы
(1921-1925) // Вопросы философии. 1994. № 10;
Афанасьев М.П. Либеральная экономика Петра Струве //
Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 141 — 149; Колеров М.А.
Русские писатели и «Русская Мысль» (1921 — 1923). Новые
материалы // Минувшее. Альманах. Вып. 19. М.; СПб., 1996.
Для уточнения биографических данных можно использовать
новейшие взаимодополняющие биографические справки:
Колеров М.А. П.Б.Струве // Русская философия. Малый
энциклопедический словарь. М., 1995; Колеров М.А.
П.Б.Струве // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая
треть XX века. Энциклопедический биографический
словарь. М., 1997.
Для подготовки к детальному изучению Струве следует
иметь в виду следующие библиографии: Richard Pipes.
Struve: Liberal on the Right, 1905—1944. Cambridge (Mass.),
1980. P. 467—510 (отдельно: Bibliography of the Published
Writings of P.B.Struve / Ed. by Richard Pipes. Harvard
University, 1980); Кондакова И.А. «Он не был бунтарем...» //
Советская библиография. 1991. N° 6. С. 85—107 (с
многочисленными опечатками); Гнатюк О.Л. П.Б.Струве.
Библиография печатных работ и исследований о его творчестве //
Вече. Альманах русской философии и культуры. Вып. 11.
СПб., 1998. С. 147-167.
СТАТЬИ 1901-1914
В чем же истинный национализм?
Впервые: Борисов П. В чем же истинный национализм?
(Посвящается памяти Вл.С.Соловьева) // Вопросы
философии и психологии. Кн. 59. М., 1901. С. 493—528.
Публикация статьи под псевдонимом, вероятно, была вызвана
политической эмиграцией Струве за границу в декабре 1901 года.
Переиздано автором в: Петр Струве. На разные темы.
Сборник статей (1893-1901 гг.). СПб., 1902. С. 526-555.
Печатается по авторскому переизданию.
С. 13. Cultur heisst Uebung... — «Культурой называется
совершенствование всех способностей с целью все более
полной свободы, более полной независимости от всего, что не
есть мы сами наша собственная самость... Никто не может
быть культивируемым, но каждый культивирует себя сам.
Всякое сугубо страдательное поведение есть прямая
противоположность культуре; образование происходит через
самодеятельность и имеет целью самодеятельность. Никакой
448
П.Б.Струве
план культуры не может быть заложен так, что его
достижение было бы необходимо; он воздействует на свободу и
зависит от употребления свободы» (И.Г.Фихте. «Попытка
исправить суждения публики о Французской революции»).
Л limine — «с порога» (лат.)
С. 17. Wer darf ihn nennen!?... «Кто на поверку, \\ Разум
чей \\ Сказать осмелится: «Я верю»? \\ Чье существо \\
Высокомерно скажет: «Я не верю»? \\ В Него, \\ Создателя
всего...» (И.Гете. «Фауст». Перевод Б.Л.Пастернака).
Mutatis mutandis — «со всеми необходимыми изменениями»
(лат.)
Toute proposition, appliquée à Dieu, est impertinente, une seule
exceptée: il est — «Всякое суждение, применяемое к Богу,
является дерзким, за исключением одного: он есть» (франц.)
С. 19. terre a terre — «будничность» (франц.)
С. 41. Die Geister sind erwacht: es ist Lust zu Leben! —
«Люди духа проснулись: хочется жить!» (нем.)
С. 42. En Judée sous Ponce Pilate... — «В Иудее при Пон-
тии Пилате право на собрания не было признано, а на деле
была большая свобода собраний: ибо, именно потому, что
право не признавалось, оно тем самым и не
ограничивалось» (франц.)
С. 43. Enrichisses-vous — «обогащайтесь» (франц.), лозунг
экономистов-физиократов
Идеи и политика в современной России
Впервые: Идейные основы партии Народной Свободы //
Вестник партии Народной Свободы. № 36. 10 ноября 1906.
С. 1863—1878. Отдельное издание: Идеи и политика в
современной России. Доклад, прочитанный в Московском
клубе партии 20 октября 1906 г. М, 1906. Допечатка
тиража: М., 1907. Не переиздавалось. Печатается по отдельному
изданию 1906 года.
С. 57. coup d'état — «государственный переворот» (франц.)
coup de tête — «безрассудный поступок» (франц.)
Facies Hippocratica.
К характеристике кризиса в современном социализме
Впервые: Русская Мысль. 1907. Кн. X. II отд. С. 220—
232. Переиздано автором: Patriotica. С. 576—596. Переиздано
также: Собрание Жукова и Полякова. С. 314—325. Печатается
по авторскому переизданию.
С. 65. В 1900 году в своей статье о «Марксовой теории
социального развития», напечатанной в «Архиве» Брауна (есть
Примечания
449
никуда не годный, Сделанный без моего разрешения, русский
перевод этого критического опыта)... — Peter vo* Struve. Die
Marxische Theorie der sozialen Entwicklung. Ein kritischer
Versuch // Archiv fur Soziale Gesetzgebung und Statistik. Bd. XIV.
Berlin, 1899. S. 658—704. Имеется в виду русский перевод:
Струве П. Марксовская теория социального развития /
Перевод с немецкого Б.Яковенко. Киев, 1905.
Nous avons changé tout cela — «мы изменили все это»
(франц.)
savoir c'est prévoir [savoir pour prévoir pour pouvoir] —
«знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы мочь» (Огюст
Конт).
action directe — «прямое действие» (франц.)
С. 77. coiffé à la Nietzsche — «причесанный под Ницше»
(франц.)
la grève générale — «всеобщая забастовка» (франц.)
Интеллигенция и народное хозяйство
Впервые: Петр Струве. Народное хозяйство и
интеллигенция // Слово (СПб.). № 622. 16 ноября 1908. Переиздано
автором: Patriotica. С. 362—369. После смерти автора
впервые переиздано П.П.Гайденко: Вопросы философии. 1992.
№ 12. С. 76—79. Переиздано также: Собрание Жукова и
Полякова. С. 202—205. Печатается по авторскому переизданию.
Позже автор вспоминал об этой статье, восстанавливая ее
оригинальное название: «...статья "Идея личной годности.
Интеллигенция и народное хозяйство" (...) только по
внешним соображениям я не напечатал ее в свое время в
"Вехах"» (Петр Струве. Материнское Лоно и Героическая
Воля // Русская Мысль. 1923. Кн. I—II. С. 156). См. также
перифраз основного тезиса: «Размышляя над некоторыми и,
так сказать, конечными вопросами обществоведения, я для
передачи англосаксонского понятия efficiency, обобщенно,
но точно передаваемого немецким словом Tüchtigkeit и
менее точно французским многосмысленным
существительным valeur, или даже просто force, изобрел и пустил в
оборот определяющее все мое мироощущение и центральное
для моего нравственного, социального и политического
мировоззрения словосочетание: личная годность» (Петр Струве.
Заметки писателя. 7. // Возрождение. № 352. Париж, 20 мая
1926).
Религия и социализм
Впервые: Русская Мысль. 1909. Книга VIII. II отд.
С. 148—156. Переиздано автором: Patriotica. С. 597—611.
450
П.Б.Струве
Переиздано также: Собрание Жукова и Полякова. С. 325—
334. Печатается по авторскому переизданию.
С. 86. В настоящей книге «Русской Мысли» читатель
найдет статью Д.В.Философова об отношении между религией и
социализмом — Философов Д.В. Друзья или враги? //
Русская Мысль. 1909. Книга VIII. II отд. С. 120-147.
На эту тему я в докладе, прочитанном в текущем году в
Петербургском религиозно-философском обществе,
формулировал несколько тезисов — См.: Петр Струве. Социализм и
религия. Доклад на закрытом заседании СПб. РФО 18 марта
1909 // Речь, 20 марта 1909. № 77.
Die Historie ist immer religiös und die Religion muss ihrer
Natur nach historisch sein — «История всегда религиозна, а
религии суждено быть по природе историчной» (Фридрих
Шлейермахер. «Речи о религии к образованным людям, ее
презирающим»).
С. 88. contradictio in adjecto — «противоречие в
определении» (лат.)
Homo homini deus [est] — «человек человеку — Бог» (лат.)
С. 89. laissez faire, laissez passer — «позвольте действовать,
не препятствуйте» (франц.), принцип экономического
либерализма. См.: Струве П. Laissez faire, laissez passer //
Энциклопедический словарь [Брокгауза и Ефрона). Т. 17. СПб.,
1896. С. 594-595.
С. 92. Religion ist Privatsache — «Религия — частное дело»
(нем.), пункт 6 Эрфуртской программы
Социал-демократической партии Германии (1891).
Ein neues Lied, ein besseres Lied... — «Мы новую песнь, мы
лучшую песнь \\ Теперь, друзья, начинаем; \\ Мы в небо
землю превратим, \\ Земля нам будет раем, \\ При жизни
счастье нам подавай! \\ Довольно слез и муки! \\ Отныне
ленивое брюхо кормить \\ Не будут прилежные руки» (Генрих
Гейне. «Германия». Перевод В.В.Левика).
Лев Толстой
I. Смысл жизни. II. Смысл смерти Толстого
Впервые: 1.: Петр Струве. Лев Толстой // Русская
Мысль. 1908. Кн. VIII. II отд. С. 218-230; 2.: Петр Струве.
Жизнь и смерть Льва Толстого // Русская Мысль. 1910.
Кн. XII. II отд. С. 128—132. Переиздано автором: Patriotica.
С. 531—555: в подстрочном примечании здесь дана
авторская справка: «Эта характеристика представляет соединение
двух статей: одной, написанной по случаю 80-летия
Толстого ("Русская Мысль", 1908 г., август), и другой, написанной
под впечатлением его смерти ("Русская Мысль", 1910 г.,
декабрь) и произнесенной на заседании СПб. Религиозно-фило-
Примечания
451
софского общества, посвященного памяти Толстого» (в
последнем случае имеется в виду: Петр Струве. Жизнь и смерть
Льва Толстого. Доклад в СПб. РФО 16 ноября 1910 //
Русская Мысль. 1910. Кн. XII. II отд. С. 128—132). Настоящие
статьи автор включил в отдельное собрание, составленное
как отклик на активное обсуждение роли наследия Толстого
в революции 1917 в кругу русской эмиграции, начатое
В.А.Маклаковым (Маклаков В.А. Толстой и большевизм.
Речь [на вечере в память Л.Н.Толстого 5-го января 1921 г.].
Париж, 1921). Автор планировал сопроводить это собрание
предисловием, но не уложился в издательские сроки: см.
письмо директора Российско-Болгарского издательства
П.П.Сувчинского к Струве от 26 февраля 1921 (ГА РФ.
Ф. 5912. Оп. 1. Д. 170. Л. 253). Роспись издания: Петр
Струве. Статьи о Льве Толстом. София, 1921 (Статьи о Льве
Толстом: I. Смысл жизни. II. Смысл смерти Толстого. —
С. 3—35, 35—38; Роковые вопросы. По поводу статьи
Л.Н.Толстого «Неизбежный переворот». — С. 39—49
(впервые: Русская Мысль. 1909. Кн. X. II отд. С. 216—220.
Также переиздано автором в: Patriotica)\ Смерть Толстого и
русское общество. — С. 50—66 (впервые: На разные темы:
Толстой и мы. — Толстой и социальная революция //
Русская Мысль. 1911. Кн. I. II отд. С. 175-177)).
После смерти автора «Смысл смерти Толстого» впервые
переиздан А.Д.Романенко: Петр Струве. Скорее за дело!
Статьи. М., 1991. С. 13—14. Переиздано также: Собрание
Жукова и Полякова. С. 291—304. Печатается по первому
авторскому переизданию (Patriotica).
С. 107. Великий человек, он не был великим грешником и не
мог стать великим праведником... — в софийском переиздании
1921 года автором исправлено: «он не был великим
грешником и потому не мог стать великим праведником» (С. 19).
С. 109. вступительное редакторское слово к первому
номеру «Освобождения» — Струве П. От редактора //
Освобождение. № 1. Штуттгарт. 18 июня 1902. С. 1—7. См. также:
Петр Струве. Лев Толстой о войне // Освобождение. № 51.
Штуттгарт. 2(15) июля 1904; Письмо Льва Толстого к царю
(1902) // Освобождение. № 66. Париж. 12 (25) февраля 1905.
С. 116. Мне очень хочется увидеть Толстого, хотя и
боязно... — свое письмо к А.А.Стаховичу Струве вновь
процитировал в записи «В.Ф.Булгакову в альбом» (начало 1920-х,
опубл. в: Материалы к творческой биографии П.Б.Струве //
Вопросы философии. 1992. № 12. С. 108).
Религия и общественность. Ответ З.Н.Гиппиус
Впервые: Русская Мысль. 1914. Кн. V. II отд. С. 136—
140. Автором не переиздавалась. Переиздано: Собрание Жу-
452
П.Б.Струве
кова и Полякова. С. 399—403. Печатается по первой
публикации. См. также: Гиппиус З.Н. Открытое письмо редактору
«Русской Мысли» // Русская Мысль. 1914. Кн. V. II отд.
С. 133-135.
С. 122. известный отклик с.-петербургского религиозно-
философского общества на дело Бейлиса — Имеется в виду
организованное З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским
исключение В.В.Розанова из Санкт-Петербургского Религиозно-
Философского Общества за антисемитские выступления
писателя в печати в связи известным делом еврея Бейлиса,
обвиненного в «ритуальном убийстве» (январь 1914). Об
этом событии см.: Доклад Совета РФО и прения по
вопросу об отношении Общества к деятельности В.В.Розанова /
Публикация Е.В.Ивановой // Наш современник. М., 1990.
№ 10. С. 110—122. Протестуя против исключения
Розанова, Струве и солидарные с ним С.Л.Франк и H.A.Бердяев
подали заявления о выходе из Совета Общества. Струве
писал председателю Общества А.В.Карташеву 26 января
1914: «Глубокоуважаемый Антон Владимирович! В виду
того, что в печать проникли невероятные сведения о моем
отношении к вопросу об исключении В.В.Розанова из
числа членов Религиозно-Философского Общества, прошу
Вас в сегодняшнем заседании огласить настоящее мое
письмо, как особое мнение (на особом листе я
препровождаю это особое мнение для приложения к протоколу). Я
высказался в Совете Общества, как его член, вполне
определенно против исключения Розанова по двум основным
соображениям. Во-первых. Поведение Розанова — и именно
это я высказал совершенно категорически в своих
последних статьях о Розанове, после которых я сознательно и
последовательно не возвращался к суждениям о личности и
поведении этого писателя — по-моему глубокому убеждению
совершенно устраняет применимость к нему начала
вменения. Я вполне определенно считаю Розанова морально
невменяемым. Поэтому в его деле, на мой взгляд, отсутствует
основное субъективное условие разумного суда над
человеком. Во-вторых. Религиозно-Философское Общество само
по своим задачам не может притязать на функции суда,
хотя бы морального, над отдельными лицами. Таким
образом исключение из общества, как действие дисциплинарно-
судебное, есть действие, не соответствующее природе
такого общества, как Религиозно-философское. В силу этого в
данном случае отсутствует и основное объективное условие
разумного суда. По этим двум соображениям я в Совете
Общества высказался против внесения в Общее Собрание
предложения об исключении В.В.Розанова. В настоящее
время я считаю для себя необходимым огласить это мое
особое мнение и одновременно выхожу из состава Совета
Примечания
453
Общества, о чем прошу Вас сообщить сегодняшнему
Общему Собранию. Искренно Вам преданный Петр Струве»
(РГАЛИ. Ф. 2176. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 1-1 об.; см. также:
Записки С.-Петербургского Религиозно-Философского
Общества. Вып. IV. Пг., 1914—1916. С. 23—24). Подобное же
письмо направил А.В.Карташеву и С.Л.Франк: «исключение
их членов нейтрального в политическом и религиозном
отношении Общества не есть целесообразная и надлежащая
форма борьбы с тем злом, которое представляет
литературная деятельность Розанова последнего периода» (РГАЛИ.
Ф. 2176. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 1-2).
[КУЛЬТУРА И СВОБОДА (1905)]
Проект книги возник у П.Б.Струве и его ближайшего
многолетнего сотрудника С.Л.Франка в Париже, осенью
1905 года, во время их совместной работы в редакции
журнала «Освобождение». Франк вспоминал об этом: «Наряду с
редакционной работой, мы задумали тогда написать
совместно книгу по «Философии культуры», в которой
должны были быть выражены основные
общественно-философские идеи, к которым мы совместно пришли в то время (мы
формулировали тогда нашу веру так, что определяющим
началом ее было несколько неопределенное понятие
"духовной культуры", во всем многообразии ее содержания). Мы
оба начали одновременно писать вступительную главу этой
книги; каждый писал в отдельности, мы читали друг другу
написанное и сводили его в одно целое; споров по
содержанию у нас не было, хотя и не легко было согласовать два
весьма разнородных стиля и писательских темперамента.
Остальное содержание задуманной книги — которое я
теперь уже не помню — было распределено по главам между
нами. Но эта работа так и остановилась на вступительной
главе (напечатанной в 1906 г. в двух номерах "Полярной
Звезды"); она была прервана сперва моим внезапным
отъездом (я был вызван телеграммой в Москву из-за болезни
моего отчима), а потом октябрьской революцией 1905 г.,
закрутившей П.Б. в новом вихре политической и
публицистической деятельности» (Франк С.Л. Биография П.Б.Струве.
Нью-Йорк, 1956. С. 45). Эту информацию подтверждает
авторское примечание к первой публикации «Очерков
философии культуры»: «Настоящие "Очерки" представляют
отрывки из более обширного политико-философского
сочинения, задуманного как совместный труд обоих авторов».
Однако Франк упустил из виду, что, видимо, уже после
прекращения совместного труда Струве подготовил одну из
следующих глав книги: при переиздании статьи
«Индивидуализм и социализм» он отметил в примечании: «Этот отры-
454
П.Б.Струве
вок, напечатанный в № 11 "Полярной звезды" за 1906 г.,
задуман и написан как глава предпринятого С.Л.Франком и
мною более обширного сочинения о культуре и свободе.
Совместно нами написанное введение ко всей книге,
оставшейся пока недописанной, было напечатано в № 2 и 3
"Полярной звезды" под заглавием "Очерки философии
культуры"».
Принятое здесь название нереализованного проекта
Струве и Франка опирается на свидетельство последнего в
письме к Н.А.Струве от 8 ноября 1905, в котором
упоминает «предполагавшуюся книгу "Культура и Свобода"»
(Франк С.Л. Письма к H.A. и П.Б.Струве (1901-1905) //
Путь. № 1. М., 1992. С. 294) и латентное присутствие его в
названии преемственного «Полярной Звезде» журнала
«Свобода и Культура» (1906) (см. об этом: Колеров М.А. Не мир,
но меч. Русская религиозно-философская печать от
«Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 152).
1. Очерки философии культуры
Написано совместно с С.Л.Франком в качестве
Введения к незаконченной книге.
Впервые: Петр Струве и С.Франк. Очерки философии
культуры. 1. Что такое культура? // Полярная Звезда. № 2.
26 декабря 1905. С. 104—117; П.Струве и С.Франк. Очерки
философии культуры. 2. Культура и личность // Полярная
Звезда. № 3. 30 декабря 1905. С. 170—184. Не
переиздавалось. Печатается по единственной публикации.
Сверка с неполной авторизованной рукописью,
хранящейся в фонде Струве в РЦХИДНИ (Фонд 279), дает
представления о перспективах дальнейшей работы соавторов. Во
втором параграфе главы «Что такое культура?» (фрагмент
«Порвав внутренне с наивной верой...») в первой редакции
было написано (в квадратных скобках восстанавливается
опущенный авторами при публикации текст): «Порвав
внутренне с наивной верой [в разные вещи (во что мы не
можем в настоящее время верить, об этом еще не раз будет
речь ниже)], на чем же утвердит свое духовно-общественное
бытие современный человек?». В отличие от
опубликованного, окончание текста выглядело следующим образом:
«Принцип личности и принцип культуры (.·) сплетаются в
цельное и внутренне-согласованное культурно-философское
миросозерцание, которое можно назвать гуманистическим
индивидуализмом. [Нам предстоит теперь развить это
миросозерцание в его философских, моральных и политических
разветвлениях и показать, какие точки зрения оно дает для
решения отдельных культурных и общественных проблем,
волнующих современность].»
Примечания
455
С. 137. Citoyens du monde civilisé — «граждане
цивилизованного мира» (франц.)
2. Индивидуализм и социализм. Отрывок
Одна из глав незаконченной книги.
Впервые: Петр Струве. Индивидуализм и социализм.
(Размышления и отрывки) // Полярная Звезда. № 11. 26
февраля 1906. С. 755—765. Переиздано автором: Pathotica.
С. 564—575. После смерти автора впервые переиздано
П.П.Гайденко: Вопросы философии. 1992. № 12. С. 85—90.
Переиздано также: Собрание Жукова и Полякова. С. 308—
314. Печатается по авторскому переизданию.
С. 153. servi sunt res — «рабы суть вещи» (лат.)
С. 156. une organisation politique dans laquelle l'individu
serait sacrifié à cette entité qu 'on nomme la société —
«политическая организация, в которой индивидуум приносится в жертву
той совокупности, что называется обществом» (франц.)
[ГОСУДАРСТВО, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ,
РЕВОЛЮЦИЯ (1908)]
«Государство, интеллигенция, революция» как
отдельный творческий проект Струве впервые прозвучал в анонсах
журнала «Русская Мысль» на 1908 год. Например, в первой
книге журнала на 1908 в планах редакции была объявлена
статья Струве «Государство, культура и интеллигенция» (в
печати не появившаяся). О проекте книги Струве глухо
упомянул и при включении своей статьи «Интеллигенция и
революция» в «Вехи»: «Настоящие размышления представляют
написанные два года тому назад наброски главы из той
задуманной мною книги, в которой я хотел подвести итоги
нашего культурного и политического развития и дать
оценку пережитой нами революции». 19 октября 1908, при
обсуждении планируемого сборника, впоследствии
получившего название «Вехи», С.Л.Франк сообщал составителю,
М.О.Гершензону: «у него [Струве] есть большая работа
(неоконченная) об интеллигенции и он мог бы дать часть ее (о
социализме, о государственности и т.д.)» (Колеров М.А. Не
мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от
«Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996.
С. 289). А при переиздании «Отрывков о государстве» Patri-
otica, Струве сопроводил их подстрочным примечанием:
«Настоящие отрывки первоначально написаны для той,
задуманной мною, целой книги размышлений о государстве и
революции, одна глава из которой под заглавием "Великая
Россия" напечатана выше, другая вошла в сборник "Вехи".
Отрывки эти были, в связи с полемикой о "Великой
России", прочитаны в петербургском женском клубе и через га-
456
П.Б.Струве
зетные отчеты отчасти проникли в столичную и
провинциальную печать, где вызвали целый ряд откликов».
1. Интеллигенция и революция
Впервые: Вехи. Сборник статей о русской
интеллигенции. М., 1909. С. 127—145. Написано Струве в 1907 году.
Первое упоминание о проекте этой статьи можно увидеть в
анонсе предполагаемого содержания январской книжки
«Русской Мысли», где названа статья Струве «Из
размышлений о русской революции» (Книга. № 13 за 1 февраля
1907). В журнале статья, однако, не появилась, и по
предложению Франка была включена позже в «Вехи». Переиздано
автором: Patriotica. С. 339—361. Неоднократно
переиздавалась в составе сборника «Вехи» (с текстологической сверкой
в: Вехи. Из глубины. Сборник. М., 1991. С. 150—166.
(Приложение к журналу «Вопросы философии»)). Переиздано
также: Собрание Жукова и Полякова. С. 202—205. Печатается
по упомянутому переизданию 1991 года.
2. Великая Россия.
Из размышлений о проблеме русского могущества
Впервые: Русская Мысль. 1908. Кн. I. II отд. С. 143—
157. Переиздано автором: Patriotica. С. 73—96. После смерти
автора впервые переиздано П.П.Гайденко: Вопросы
философии. 1992. № 12. С. 65—75. Переиздано также: Собрание
Жукова и Полякова. С. 50—63. Печатается по авторскому
переизданию.
К истории статьи и развитию ее идей прямо примыкает
вызванная ею полемика. Кроме доступных откликов в
«толстых» журналах, на часть которых Струве тогда же ответил в
Patriotica, следует обратить внимание на газетные
публикации: Петр Струве. Несколько слов в ответ НАБердяеву //
Слово. 11 июля 1908. № 506 (на статью: Николай Бердяев.
Россия и Запад. Размышление, вызванное статьей
П.Б.Струве «Великая Россия» // Слово. 11 июля 1908. № 506;
переиздано в сборнике H.A.Бердяева «Духовный кризис
интеллигенции» (СПб., 1910, републикация В.В.Сапова: М., 1998.
С. 124—132)). В одной из своих полемик, в январе 1909
Струве признался: «Да... я "не случайно", а совершенно
намеренно свой лозунг "Великая Россия" заимствовал не у
кого иного, как у П.А.Столыпина» {Patriotica. Цит. по:
Собрание Жукова и Полякова. С. 234) Впоследствии Струве
назвал эту свою статью «исповеданием моей политической
веры» (Россия и Славянство. Прага, 1930. № 103. С. 1). В
планах редактируемого Струве журнала «Русская Мысль» на
1909 год была объявлена статья «Экономическая проблема
Примечания
457
Великой России» (Русская Мысль. 1909. Кн. I. Объявления),
но в печати она появилась много позже. Авторское
продолжение темы см. в инициированных Струве одноименных
«сборниках статей по военным и общественным вопросам»
(Кн. 1, 2. М., 1910—1911) и статьях: Петр Струве.
Экономическая проблема «Великой России»: Заметки экономиста о
войне и народном хозяйстве // Великая Россия. Кн. 2. М.,
1912. С. 143—154. Петр Струве. Великая Россия и Святая
Русь // Русская Мысль. 1914. Кн. XII. II отд. С. 176-180. В
очевидной связи с идеологической инициативой Струве
стоял военно-политический и экономический журнал
«Проблемы Великой России» (1916), руководимый политическим
единомышленником Струве С.А.Котляревским (см. его
книгу: Власть и право: Проблема правового государства. М.,
1915) в котором Струве, однако, не принял участия.
С. 186. travailler pour l'empereur de Japon — «работать на
японского императора» (франц.)
С. 192. per fas et nefas — «всеми правдами и неправдами»
(лат.)
С. 194. entente — «согласие» (франц.)
С. 196. ipso facto — «в силу самого факта» (лат.)
à la merci — «во власти» (франц.)
3. Отрывки о государстве
Впервые: Петр Струве. Отрывки о государстве и нации //
Русская Мысль. 1908. Кн. V. II отд. С. 187—193. Переиздано
автором: Pathotica. С. 97—108. Переиздано также: Собрание
Жукова и Полякова. С. 63—70. Печатается по авторскому
переизданию.
С. 207. British subjects — «британские подданные» (англ.)
les Français n Ont point de nationalité — «французы совсем
не имеют национальности» (франц.)
С. 210. полякам в Познани «разумнее» и практичнее
становиться немцами, они, любя свою национальность, должны за
нее бороться» — См.: Петр Струве. Предисловие // Берн-
гард Л. Борьба поляков за существование в Пруссии (Die
Polenfrage) / Перевод и вступительная статья А.С.Изгоева.
М., 1911. С. XI-XIV.
[ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ (1923)]
Книга «Основы политической экономии» была задумана
Струве не столько из популяризаторских или
педагогических соображений, скольку ввиду того, что его основной
труд в области экономической теории «Хозяйство и цена»
458
П.Б.Струве
(Петр Струве. Хозяйство и цена. Критические исследования
по теории и истории хозяйственной жизни. Т. 1. Хозяйство
и общество. Цена — ценность. СПб., М., 1913; Т. 2.
Часть 1. Критика некоторых проблем и положений
политической экономии. М., 1916) не был окончен и остановился
на первой части второго тома. Новый систематический
очерк экономической теории Струве должен был появиться
в печати еще в 1918 году. Об этом в печати сообщил
экономист Д.А.Лутохин, вспомнив о том, что весной—летом 1918
года в Москве готовился к печати сборник «Мировое
хозяйство», который открывался бы статьей Струве «Понятие
мирового хозяйства», так и оставшейся ненаписанной (Луто-
хин Д. [Рец.:] В.Э.Ден. Положение России в мировом
хозяйстве. Пг., 1922 // Экономист. Вестник XI Отдела
Русского Технического Общества. 1922. № 3. С. 156. В 1928 Луто-
хин отметил также в неопубликованных воспоминаниях (РО
РНБ): «В 1918 г., весной будучи в Москве и готовя, по
предложению Совета Кооперативных Съездов, сборник о
мировом хозяйстве, я предложил и Струве дать статью в
сборник. П.Б. согласился принципиально, но предупредил,
что из-за какой-то девицы, собиравшей на белое движение,
и припутавшей его имя, он принужден жить полулегально и
не уверен, что сможет статью написать... Вскоре он исчез из
Москвы».
В записных книжках семьи Струве (примерно 1921 года)
сохранились упоминания о ряде проектируемых изданий:
«[1] П.Б.Струве (редактор). Хозяйственная картина мира.
Свод статистических данных, освещающих хозяйственное
развитие и современное состояние мира. 200 стр., из них не
менее 60% в табличной форме. В первую очередь; [2]
П.Б.Струве, П.Н.Савицкий (может быть К.И.Зайцев и
П.А.Остроухов). Политическая экономия, история, теория и
факты хозяйственной жизни. Тип книги: 600 стр. Учебник
для повышенных требований на испытаниях и книга для
самообразования в экономической науке. Во вторую
очередь; [3] П.Б.Струве. Основы политической экономии.
Введение в изучение хозяйственной жизни. Около 200 страниц
(тип книги: основное руководство, долженствующее быть
пособием к лекциям и экзамену). В первую очередь» (ГА
РФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 173. Л. 2). Первое свидетельство о
том, что новые проекты по экономике (а именно —
последний из перечисленных) перешли из стадии замысла в
реальность, появилось уже в эмиграции, когда, публикуя в 1923
году статью «Хозяйствование, хозяйство, общество.
Основные понятия экономической науки», Струве сделал
примечание: «В этой статье я широко пользуюсь как книгой
"Хозяйство и цена", так и рукописью своих подготовляемых к
печати "Основ политической экономии"». Вскоре, в
примечании к статье «Некоторые основные понятия экономичес-
Примечания
459
кой науки» (столь же явно обнаруживавшей своим
заголовком наличие общего систематического труда) Струве
сообщил новые подробности: «Это рассуждение есть глава из
систематического труда, посвященного основам
политической экономии. Я широко пользуюсь в этом новом
изложении своей системы как первой, так и второй частью
"Хозяйства и Цены". Общие понятия хозяйствования,
первичного и вторичного, а также хозяйства и общества развиты в
моей статье "Хозяйствование, хозяйство и общество" в
"Экономическом Вестнике" № 2. Характеристике акта
обмена, которым осуществляется хозяйственное измерение и
который сам в то же время создает это измерение, посвящена
мною статья "Первичность и своеобразие обмена" в № 3
"Экономического Вестника". Содержание этой статьи тоже
войдет в мои "Основы политической экономии"». В дни
работы над книгой Струве писал сыну Льву Струве,
экономисту, 17 ноября 1922: «Основные положения моей
системы: положительная ценностная разность есть категория
менового, основанного на цене (и деньгах), хозяйственного
уклада, потому и "прибавочная ценность" не только есть, но
не может даже мыслиться иначе как некоторый итог
"обмена"» (ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 218. Л. 53).
Проект не реализовался, но несколько лет спустя Струве
продолжать над ним работать. В интервью газете «Россия и
Славянство» он сообщил о судьбе книги «Хозяйство и
цена»: «я не оставил этого исследования и продолжаю
работать над его завершением и превращением в систему
политической экономии, с одной стороны, и исторического
введения в политическую экономию, с другой. Ведь обычно я
всегда работаю сразу в нескольких направлениях» (17
августа 1929. № 38).
Статья Струве «Первичность и своеобразие обмена.
Ответ А.Д.Билимовичу» (Экономический Вестник. 1924.
№ 3. С. 33—50) не включается в настоящее издание исходя
из того соображения, что сама по себе, будучи
полемической, не представляет аутентического текста для «Основ
политической экономии», поскольку, по признанию Струве,
только «содержанием» должна была войти в окончательный
текст книги.
1. Хозяйство, хозяйствование, общество.
Основные понятия экономической науки
Впервые: Экономический Вестник. № 2. Берлин, 1923.
С. 3—17. Не переиздавалась. Печатается по единственной
публикации.
С. 224. behaviour'истический — букв, «поведенческий»
(от англ.), см. также: Бихевиоризм (в психологии).
460
П.Б.Струве
С. 225. Das individualistische Denken denkt... —
«Индивидуалистическое мышление понимает человека приблизительно
таким же образом, как мы можем представить себе деревья
в лесу. Отдельное дерево есть нечто, восходящее благодаря
собственной способности к прорастанию» (нем.).
С. 226. ex hypothesi — «по предположению» (лат.)
Man nennt die durch Bodenqualitaten bedingten... —
«Симбиозы растений, обусловленные особенностями почвы,
называются формациями» (нем.).
Verein — «союз, объединение, общество» (нем.)
Genossenschaft — «товарищество, артель» (нем.)
С. 227. «Заметки о плюрализме»... — Струве П. Заметки
о плюрализме // Труды русских ученых за границей. Т. И.
Берлин, 1923. С. 196—203. Впервые (с сокращениями)
переиздано С.Н.Татарниковой: Вестник Московского
университета. Сер. Философия. 1991. № 4. С. 74—78. Полностью
включено в Собрание Жукова и Полякова. С. 433—451.
С. 229. в речи на моем первом (магистерском) диспуте
1913 г... — П.Струве. Теория политической экономии и
история хозяйственного быта. Речь на диспуте 10-го ноября
1913 // Известия С.-Петербургского Политехнического
Института императора Петра Великого. Т. XX. СПб., 1913.
С. 1—20; расширенный вариант: Петр Струве. Хозяйство и
цена. Критические исследования по теории и истории
хозяйственной жизни. Т. 1. Хозяйство и общество. С. I—XXV
(Введение).
С. 231. La société n'est pas un être dans le même sens que
nous sommes des êtres. La société est un milieu — «Общество не
есть существо в том смысле, в котором мы им являемся.
Общество — это среда» (франц.)
J'appelle société les communications des hommes entr'eux... —
«Обществом я называю сообщество людей, комбинацию
многих интеллектов, многих воль, многих сил,
объединенных между собой и стремящихся к одной и той же цели;
отношения...» (франц.).
2. Некоторые основные понятия экономической науки
Впервые: Ученые Записки, основанные Русской
Учебной Коллегией в Праге. Кн. I. № 3. Прага, 1924. С. 75—89.
Не переиздавалась. Печатается по единственной
публикации.
С. 236. toil and trouble — «тяжелый труд и забота» (англ.).
С. 240. extra commercium — «вне торга» (лат.).
С. 242. Ювенал в IX сатире: Quanto metiris pretio, quod, ni
tibi deditus essem devotusque cliens, uxor tua virgo maneret? —
Примечания
461
«Ты притворяешься, будто не понял, услуг ты не помнишь...
Ну так во сколько же ценил меня ты? Усерден и предан я
как клиент» (лат.).
С. 243. Omnia Romae cum pretio — «Все в Риме [имеет]
цену» (лат.)
С. 244. Leistungen — «произведенные работы» (нем.)
С. 246. Первичность и своеобразие обмена... — Струве П.
Первичность и своеобразие обмена и проблема
«равновесия»: Ответ А.Д.Билимовичу // Экономический Вестник.
№ 3. Берлин, 1924. С. 33-50.
СТАТЬИ 1917-1938
В чем революция и контрреволюция?
Несколько замечаний по поводу статьи И.О.Левина
Впервые: Русская Мысль. 1917. Кн. XI—XII. II отд.
С. 7—61. Не переиздавалась. Печатается по единственной
публикации. См. также: Левин И.О. Некоторые итоги //
Русская Мысль. 1917. Кн. XI—XII. II отд. С. 51-56.
Размышления о русской революции
Впервые: Русская Мысль. 1921. Кн. I—II. С. 6—37.
Отдельное издание: Петр Струве. Размышления о русской
революции. София, 1921. Не переиздавалась. Небольшой
фрагмент напечатан Е.И.Корольковой в сборнике: Образ
будущего в русской социально-экономической мысли конца
XIX — начала XX века. Избранные произведения. М., 1994.
С. 151—155. Печатается по отдельному изданию.
С. 261. В декабре 1918 года я попал из советской России
на Запад, сперва в Финляндию, а потом через Скандинавию в
Англию и Францию... — об этом см.: Richard Pipes. Struve:
Liberal on the Right, 1905—1944. Cambridge (Mass.), 1980.
P. 271; Борман A.A. Москва — 1918. (Из записок секретного
агента в Кремле) // Русское прошлое. Кн. 1. Л., 1991.
С. 143—145; Смолин A.B. Белое движение на Северо-Западе
России. 1918-1920. СПб., 1999. С. 66, 68-72.
С. 275. из неоднократных бесед с покойным
П.А.Столыпиным — Запись одной из таких бесед Струве сделал по
горячим следам: Конспект моей третьей беседы со Столыпиным
[10 апреля 1907] // РО РНБ. Архив Дома Плеханова. Ф. 753.
Ед. хр. 107. Л. 2—3. О встречах со Столыпиным см. в
воспоминаниях: Петр Струве. М.В.Челноков и Д.Н.Шипов //
Новый журнал. № 22. Нью-Йорк, 1949. С. 244. См. также:
Петр Струве. Дневник политика. 83. П.АХтолыпин //
Возрождение (Париж). 26 сентября 1926. № 481.
462
П.Б.Струве
С. 282. «Крепостное хозяйство»... — Петр Струве.
Крепостное хозяйство. Исследования по экономической
истории России в XVIII и XIX вв. М., 1913.
Итоги и существо коммунистического хозяйства
Впервые в отдельном издании: Итоги и существо
коммунистического хозяйства. Речь, произнесенная на общем
Съезде представителей русской промышленности и торговли
в Париже 17 мая 1921 г. Берлин, 1921. Вариант:
Экономические итоги большевизма. Доклад съезду Национального
Союза [7—8 июня 1921] // Общее Дело. Париж, 1921.
№ 327. С. 2; № 328. С. 2. Переиздана Е.И.Корольковой с
сокращениями в сборнике: Образ будущего в русской
социально-экономической мысли конца XIX — начала XX века.
Избранные произведения. М., 1994. С. 155—172. Печатается
по отдельному изданию.
С. 308. expedients — «уловки, выходы, способы» (франц.).
С. 310. мы как будто живем для того, чтобы дать какой-
то великий урок человечеству — П.Я.Чаадаев
«Философические письма. Письмо первое».
С. 313. troc — «натуральный обмен, меновая торговля»
(франц.).
С. 316. «шиканы» — «крючкотворство, придирки» (от
франц. chicane). Ср.: «Шиканить — (...) кого-либо задирать,
преследовать интригой и сплетней» (Самый полный
общедоступный Словотолкователь и объяснитель 150.000
иностранных слов, вошедших в русский язык. [М, 1899].
С. 698).
Прошлое, настоящее, будущее.
Мысли о национальном возрождении России
Впервые: Русская Мысль. 1922. Кн. I—II. С. 222—231.
Не переиздавалась. Печатается по единственной публикации
с исправлением опечаток по: Петр Струве. Поправка //
Русская Мысль. 1922. Кн. 3. С. 115.
С. 327. национал-большевизм Устрялова. Я уже говорил об
этом авторе и его писаниях на страницах «Русской Мысли»... —
Петр Струве. Историко-политические заметки о
современности. I—VI. // Русская Мысль. 1921. Книга V—VII.
С. 208—224; Петр Струве. Историко-политические заметки
о современности. VII—VIII // Русская Мысль. 1921. Книга X—
XII. С. 317-324.
письмо ко мне одного из «евразийцев» Г.В.Флоровского —
Флоровский Г. Письмо к П.Б.Струве об евразийстве //
Русская Мысль. 1922. Кн. I—П. С. 267—274. См. также: Геор-
Примечания
463
гий В. Флоровский. Письмо к редактору «Русской Мысли» //
Русская Мысль. 1923. Книга I—II. С. 300—306. Оба письма
переизданы М.А.Колеровым в: Георгий Флоровский. Из
прошлого русской мысли. М., 1998. С. 124—131, 166—171.
в полемике с А.В.Пешехоновым, которая явилась
продолжением «Вех»... — Струве не точен. Его упоминаемая
полемика с А.В.Пешехоновым развивалась до появления
сборника «Вехи», в январе 1909, Струве писал тогда: «Мысль г. Пе-
шехонова очень проста: он думает, что то идейное
перевоспитание, к которому я зову русских людей и одним из
моментов которого в моих глазах является воспитание в духе
государственности, есть для меня лишь обходный, кружный
путь к "винограду" политической свободы, что это для меня
лишь средство к достижению заветной цели. Словом, что я
соединяюсь с государственностью и проповедую
национальную идею только ради целей политического освобождения.
(...) Смею заверить г. Пешехонова, что я не столь лукав...
Культурную эволюцию такой нации, как русская, нельзя
втиснуть в рамки какой-нибудь одной или двух
политических или социальных идей» (Patrioîica. Цит. по: Собрание
Жукова и Полякова. С. 236—237).
С. 323. в свое время я указал [в статьях на эту тему,
перепечатанных в моем сборнике «Patrioîica»], что по своей
исходной философской точке, т.е. как целое мировоззрение,
социализм противоположен религии — см. раздел в сборнике
Patrioîica «Культура, религия, социализм» (в кн.: Собрание
Жукова и Полякова. С. 177—338), в частности, статью
«Интеллигенция и революция» из сборника «Вехи»: «Для
религиозного миросозерцания не может... быть ничего более
дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование
человека, на которое социализм принципиально не обращает
внимания» (С. 194).
Россия
Впервые: Русская Мысль. 1922. Кн. III. С. 101—115.
Переиздано: Собрание Жукова и Полякова. С. 408—420.
Печатается по первой публикации.
С. 331. Ces serfs ... J. de Maistre — «По мере того, как эти
крепостные получают свободу, они оказываются среди
более чем подозрительных учителей и бессильных и
неуважаемых священников. В таких условиях они, без
приготовления, неизбежно и внезапно перейдут от суеверия к
атеизму, от пассивного послушания к безудержной деятельности.
Свобода окажет на эти характеры действие, подобное
действию крепкого вина на человека, к вину совершенно не
привыкшего. Само зрелище этой свободы опьянит тех, кто в
нем еще не участвует. Как только при этом общем состоя-
464
П.Б.Струве
нии умов объявится какой-нибудь университетский Пугачев
(каковой легко может сформироваться — ведь фабрики
открыты), и если к этому прибавится безразличие, бессилие
или честолюбие некоторых дворян, коварство иностранцев,
интриги мерзкой секты, которая никогда не должна и т.д. и
т.д., то государство, по всем правилам вероятности, в
буквальном смысле слова сломается, как слишком длинная
балка, опирающаяся только на два конца» (франц.)
для одного английского издания — Struve P. Russia //
Slavonic Review. London, 1922. Vol. I. № 1 (June). P. 24—39.
С 335. См. об евразийстве и национал-большевизме мои
статьи в «Русской Мысли» за прошлый и за текущий год —
Петр Струве. Историко-политические заметки о
современности. I-VI // Русская Мысль. 1921. Книга V—VII. С. 208-
224; Петр Струве. Историко-политические заметки о
современности. VII—VIII // Русская Мысль. 1921. Книга X—XII.
С. 317—324; Петр Струве. Прошлое, настоящее, будущее.
Мысли о национальном возрождении России // Русская
Мысль. 1922. Кн. I—II. С. 222—231 (Переиздана в
настоящем собрании). См. также: Петр Струве. «Евразийство». По
поводу сборника «На путях. Утверждение евразийцев. Книга
вторая» // Русская Мысль. 1922. Книга VI—VII. С. 376—377
(об этом тексте: Петр Струве. [Набросок рецензии на
сборник «На путях. Утверждение евразийцев. Книга вторая»
(1922)] // Исследования по истории русской мысли.
Ежегодник за 1997 год. СПб., 1997. С. 258-261). Активной
критике евразийства во многом была посвящена
публицистическая деятельность газеты «Возрождение» (под редакцией
Струве, 1925—1927). Позже Струве не раз возвращался к
антиевразийской полемике в своих газетных статьях в
авторской рубрике «Дневник писателя»: JSfe 210 (9) в газете
«Россия» (№ 6, 24 сентября 1927) и №№ 4 (262), 10 (268),
20 (278), 26 (284), 28 (286) в газете «Россия и Славянство»
(соответственно: № 2, 8 декабря 1928; № 7, 12 января, № 9,
26 января, № 20, 13 апреля, № 32, 6 августа 1929).
С. 345. Cette puissance... les crimes — «Этой сохраняющей
и предохраняющей силы (религии) в России не существует.
Религия здесь может быть чем-то для человеческого ума, но
не для сердца, где, тем временем, рождаются позывы и
преступления» (франц.)
jamais un grand peuple ne peut être gouverné par le
gouvernement, j'entends par le gouvernement seul... — «великий народ
никогда не может управляться правительством, я имею в
виду — одним [только] правительством» (франц.)
Si quelque Pougatcheff d'Université venait... — «Если
появится какой-нибудь университетский Пугачев, чтобы стать
главой партии, если еще и всколыхнется народ, и начнет,
Примечания
465
вместо азиатских походов, революцию в европейском стиле,
я не найду слов выразить вам весь этот страх...» (франц.)
С. 346. Bella, horrida bella! Et multo Nevam spumantem
sanguine cerno! — «Красота, ужасная красота! Вижу Неву,
пенящуюся кровью!» (лат.)
Основную мысль, высказанную здесь, читатель найдет в
одной из моих Кэмбриджских лекций 1916... — Struve P. Past
and Present of Russian Economics // Russian Realities and
Problems. Cambridge, 1917. P. 47-82.
C. 348. виндицировать — «присвоить [инкриминировать]»
(от лат.: vindico, vindicere). Ср.: «Виндикация (лат.) —
присвоение отчужденной вещи; обратное требование чего-
либо... В индикта (лат.) — мщение, публичное
преследование кого-либо...» (Самый полный общедоступный Слово-
толкователь и объяснитель 150 000 иностранных слов,
вошедших в русский язык. [М., 1899]. С. 151).
Познание революции и возрождение духа
Впервые: Русская Мысль. 1923. Кн. VI—VIII. С. 302—
311. Автором не переиздавалось. Переиздано: Собрание
Жукова и Полякова. С. 435—443. Печатается по первой
публикации.
С. 350. Печатаемая выше статья СЛ.Франка — Франк С.
Из размышлений о русской революции // Русская Мысль.
1923. Кн. VI—VIII. С. 238-270. Главный полемический
смысл статьи выражается следующим: «наступила пора от
чисто внешней борьбы с проявлениями революции перейти
к задаче действенного внутреннего овладения ее глубинами.
Мы говорим: "овладения" этими глубинами, потому что, по
нашему убеждению, такие стихийно-космические силы
нельзя никаким внешним способом истребить или
искоренить, а можно только перевоспитать и направить по
надлежащему пути. (...) если мы хотим не просто гибели
революции во что бы то ни стало, а прекращения ее ради
торжества и осуществления положительных начал общественного
бытия, — то мы должны, прежде всего, постараться
объективно ориентироваться в революции и понять ее
внутреннее, подземное существо». О полемике Струве и Франка
вокруг вопроса об отношении к революции см.: Испытание
революцией и контрреволюцией: Переписка П.Б.Струве и
С.Л.Франка (1922—1925) / Предисловие Н.С.Плотникова,
публикация М.А.Колерова и Ф.Буббайера // Вопросы
философии. 1993. № 2. С. 115-139; Philip Boobbyer. The Two
Democracies: Semen Frank's Interpretation of the Russian
Revolutions of 1917 // Revolutionary Russia. Vol. 6. Number 2.
December 1993. London, 1993. P. 193—209; Philip Boobbyer.
S.L.Frank: the life and work of a Russian Philosopher, 1877—
466
П.Б.Струве
1950. Athens (Ohio), 1995. P. 134-147 (The Dispute with
Struve); Колеров М.А. Новые материалы к истории
полемики С.Л.Франка и П.Б.Струве (1921—1922) // Россия и
реформы. Вып. 3. М., 1995. С. 159—165. См. также в
настоящем издании статью «Размышления о русской революции»
и: П.Б.Струве о смысле русской революции. Три письма к
Е.Д.Кусковой / Публикация Г.П.Струве // Мосты. Сборник
к 70-летию октябрьской революции. Мюнхен, 1967. С. 200—
220.
С. 353. по-французски в «Revue d'économie politique» за
1921 — Struve P. L'Idée de loi dans la science économique //
Revue d'économie politique. XXXV. № 3. P. 292-317.
С 355. я так настаивал на сочетании идей «материнского
лона» и «героической воли» в статье... — Петр Струве.
Материнское лоно и героическая воля // Русская Мысль. 1923.
Кн. I—II. С. 154-160.
С. 359. брошюра известного народнического публициста
А.В.Пешехонова, о которой на страницах «Русской Мысли»
читатели уже прочли отзыв А.С.Изгоева — Изгоев A.C.:
А.В.Пешехонов. Почему я не эмигрировал? Берлин, 1923 //
Русская Мысль. Кн. III—V. С. 413-415.
С. 360. postfestum — «после общественного траура» (лат.)
С. 361. перверзно — от perverse (лат.): «превратно,
наоборот».
Христианство и социальный вопрос
Автором не публиковалось. Рукопись: ГА РФ. Ф. 5912.
Оп. 1. Д. 14. Л. 1—9. Печатается по первой публикации
МАКолерова: Материалы к творческой биографии
П.Б.Струве // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 106—107. Тезисы
представляют собой основу для выступления в русском
«Студенческом Доме» в Праге 2 мая 1923 года.
Система и единство
Автором не публиковалось. Рукопись: ГА РФ. Ф. 5912.
Оп. 1. Д. 29а. Л. 95—99. Печатается с исправлениями по
первой публикации М.А.Колерова: Материалы к творческой
биографии П.Б.Струве // Вопросы философии. 1992. № 12.
С. 107—108. Название дано публикатором. Датируются
временем около 1925 года. Основные положения тезисов
восходят к: Петр Струве. К критике основных проблем и
положений политической экономии // Мир Божий. 1900. № 3.
С. 361-392; № 6. С. 249-272; Петр Струве. Хозяйство и
цена. Т. 1. Критические исследования по теории и истории
хозяйственной жизни. Хозяйство и общество. СПб., М.,
1913. Позднейший аналог тезисов см. на сербском языке:
Примечания
467
Struve P. Sistem i jedinstvo — Dva osnovna pojma opste soci-
ologije // Arhiv za pravne i drutvene nauke. XXXVI (LIII).
№ 1—2. Beograd, 1938. S. 110—113. Популяризацию и
детализацию публикуемых тезисов см. в статье ученика Струве:
Зайцев К. И. Государство как единство и система //
Сборник статей, посвященных П.Б.Струве в честь
тридцатипятилетия его научно-публицистической деятельности. Прага,
1925. С. 185-196.
Метафизика и социология. Универсализм и сингуляризм
в античной философии
Впервые: Записки Русского научного института в
Белграде. Белград, 1935. Вып. 11. С. 93-107. Переиздано:
Собрание Жукова и Полякова. С. 435—443. Печатается по первой
публикации. Текст статьи восходит к докладам «Метафизика
и социология. Универсализм и сингуляризм в греческой
философии» и «Религия и социология. Сингуляризм и
универсализм в двух основных религиозных течениях эпохи упадка
Римской империи: неоплатонизме и первохристианстве»,
прочитанным Струве в Русском научном институте в
Белграде соответственно 20 февраля 1934 и 2 мая 1934.
С. 368. в немецкой статье о «некоторых основных
философских мотивах в развитии экономического мышления»...
Существовало и русское издание этого журнала, в котором был
помещен русский текст моей немецкой статьи — P. Struve.
Ueber einige grundlegende Motive im National-Oekonomischen
Denken // Logos. Band I. 1910-1911. Heft 3. S. 342-360;
Струве П. Современный кризис в политической экономии.
Его философские мотивы и проблемы // Логос.
Международный ежегодник по философии культуры. Русское
издание. Кн. 1. М., 1911. С. 123-144.
С. 369. Boetius. In categorias Aristotelis. Lib. I... —
«Субстанция же, о которой говорится в собственном
первоначальном и высшем смысле, есть то, что и не о субъекте
сказывается и не в субъекте заключается, как какой-нибудь
человек и какая-нибудь лошадь. Вторые субстанции — те, о
которых говорится как о видах, в которых заключены те,
которые называются субстанциями в первом смысле. И эти
[виды] и роды этих видов, [конечно, тоже называются
субстанциями] как некий человек, то, что содержится в виде
ведь есть и в человеке, род же вида есть живое существо.
Следовательно, вторыми субстанциями называются такие,
каковыми, например, являются человек и животные. Одни
суть первые субстанции, другие — вторые: первые,
называемые индивидуумами, вторые же — видами и родами
индивидуальных субстанций. Поскольку же чувств,
воспринимающих отдельные вещи, происходит мыслимая общность, то
468
П.Б.Струве
по праву собственные субстанции называются
индивидуумами и единичностями. Поскольку же универсалии суть,
конечно, нечто истинное, они суть также единичности. Я же
называю универсальным то, что призвано сказываться о
многом, единичное же есть то, что не универсально как
человек в универсальном смысле, а Платон говорит о них как
о чем-то единичном. Необходимо ведь высказывать имеется
ли нечто в чем-то другом или нет, ведь, с одной стороны,
по отношению к тем из них, которые универсальны, с
другой стороны, по отношению к тем, которые являются
единичными. Общим же я называю то, что, хотя и сказывается
о многом, есть и само по себе, и сообразно тому, что есть
оно само. Следовательно, очевидно, что какими бы ни были
общие понятия, они с необходимостью присущи вещам»
(лат.) (Боэций. «О категориях Аристотеля»).
С. 371. a limine — «с порога» (лат.)
С. 372. societas electorum... catholica id est universalis —
«общество избранных... кафолическое, то есть универсальное»
(лат.)
Дух и быт. Опыт историко-социологического
истолкования западноевропейского средневековья
Впервые: Записки Русского научного института в
Белграде. Вып. 15. Белград, 1938. С. 173—195. Не
переиздавалась. Печатается по первой публикации. Текст статьи
восходит к докладу «Дух и быт. Опыт историко-философского и
социологического истолкования средневекового
миросозерцания», прочитанному Струве в Русском научном институте
в Белграде 5 декабря 1934.
С. 387. Die Kirche des Paulus ist keine unsichtbare, sondern
eine sichtbare... — «Церковь Павла не невидимая, а видимая
церковь. Видимая во всех людях, что призваны Богом и
пребывают "во Христе"; но она не имеет никаких правовых
характеристик. Т.е. она пребывает еще за пределами
противоположности протестантизма и католицизма. У нее
отсутствует какой-либо устав. Бог дал ей права "харизмы",
способности для исполнения ее служения... И все же
постепенно начинает расти институциональное строение» (нем.).
Die Gemeinden stehen unter dem Worte Gottes (bezyt des
Herrn)... — «Общины пребывают под сенью слова Божия
(или Господня) и отеческим надзором апостола, их
основавшего... здесь речь идет не о церковно-правовой
констатации, а о пневматическом оснащении» (нем.).
С. 396. communis similitudo — «общая близость, сходство»
(лат.)
Примечания
469
appetando acceptatur quod per consilium dijudicatur — «в
поисках допущения, которое руководствовалось бы здравым
смыслом» (лат.)
С. 397. vivere secundum formam sancti evangelii — «жить,
следуя образу святого евангелия» (лат.)
С. 401. via moderna/... via antiquai — «современная...
старая манера, способ» (лат.)
С. 402. reformatio ecclesiae in capite et membris — «реформа
церкви от главы до членов» (лат.)
signa efficacia, certissime et efficacissime... — «Знаками
успешной деятельности, известнейшей и надежнейшей...
искренняя вера. Службами не докучают, покуда не заставляют
поверить; служба очищает не потому, что происходит, но
потому, что в нее верят. Вере, а не делам, вы находите
оправдание в службах, отсюда и вся успешная деятельность их
есть вера, но не дело» (лат.).
С. 408. Taufertum — Täufer (Anabaptisten, Wiedertäufer) -
представители альтернативного течения в Реформации,
названного по их строгой практике крещения взрослых,
развивавшего самостоятельные теологические представления, в
первую очередь в области политической этики и учения о
церкви.
Schwärmerei — немецкое слово для перевода латинского
fanaticus, первоначально (у Лютера) обозначавшее
«заблудшего в вере», «убежденного еретика», «религиозного
сектанта».
С. 410. All free subjects are born inheritable, as to their land... —
«Все свободные подданные рождаются с правом наследовать
их землю, равно как и свободно применять свое усердие в
тех занятиях, в коих они находят себе применение и
посредством коих живут. Торговля — главное и
прибыльнейшее среди других [занятие]» (англ.).
Социальный либерализм
Впервые: Peter Struve. Sozialliberalismus // Internationales
Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens. Bd. 2. Berlin, 1932.
S. 1531—1536. Прежде на русский язык не переводилось и
не переиздавалось. Перевод с немецкого Н.С.Плотникова. В
переводе опущены ссылки на родственные или
разъясняющие статьи того же словаря.
С. 414. mutatis mutandis — «с необходимыми
изменениями» (лат.)
С. 421. numerus clausus — «процентная норма» (лат.)
С. 423. доклад Струве на съезде
конституционно-демократической партии 1906 г. вышел в том же году в журнале пар-
470
П.Б.Струве
тии... а также отдельным оттиском — см. в настоящем
издании: «Идеи и политика в современной России».
Фердинанд Теннис (1855—1936). К оценке
его социально-философского и социологического творчества
Впервые: Peter Struve. Ferdinand Tönnies (1855—1936).
Zur Würdigung seines sozialphilisophischen und soziologischen
Schaffens // Zeitschrift für Nationalökonomie. Bd. VIII. Heft 1.
Wien, 1937. S. 47—60. Прежде на русский язык не
переводилось и не переиздавалось. Перевод с немецкого
Н.С.Плотникова. В публикуемой в настоящем издании статье
«Хозяйство, хозяйствование, общество. Основные понятия
экономической науки» (1923) Струве принял написание имени
как Тенниэс. В предлагаемом переводе транскрипция имени
дана в современном звучании.
С. 429. homo unius libri, homo unius cogitationis — «человек
одной книги, человек одной мысли» (лат.)
С. 433. Contrat Social — «Общественный договор» (франц.).
Об «Общественном договоре» Руссо см. в настоящем издании:
«Индивидуализм и социализм. Отрывок».
С. 435. communis aestimatio doctorum — «всеобщее
признание учения» (лат.)
С. 436. ex hypothesi — «по предположению» (лат.)
С. 440. in specie — «с виду» (лат.)
in merito — «по существу» (лат.)
М.А. Колеров, Н. С. Плотников.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 3
Статьи 1901-1914
В чем же истинный национализм? 13
Идеи и политика в современной России 45
Facies Hippocratica. К характеристике кризиса
в современном социализме 63
Интеллигенция и народное хозяйство 80
Религия и социализм 86
Лев Толстой 98
Религия и общественность 119
[Культура и свобода (1905)]
Очерки философии культуры 127
Индивидуализм и социализм 151
[Государство, интеллигенция, революция (1908)]
Интеллигенция и революция 163
Великая Россия 182
Отрывки о государстве 202
[Основы политической экономии (1923)]
Хозяйствование, хозяйство, общество 213
Некоторые основные понятия экономической науки . . . 234
Статьи 1917-1938
В чем революция и контрреволюция? 253
Размышления о русской революции 258
Итоги и существо коммунистического хозяйства 289
Прошлое, настоящее, будущее 319
Россия 331
Познание революции и возрождение духа 350
Христианство и социальный вопрос 363
Система и единство 365
Метафизика и социология 368
Дух и быт 385
Социальный либерализм 412
Фердинанд Теннис (1855—1936) 424
Примечания 445
П.Б.Струве
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ