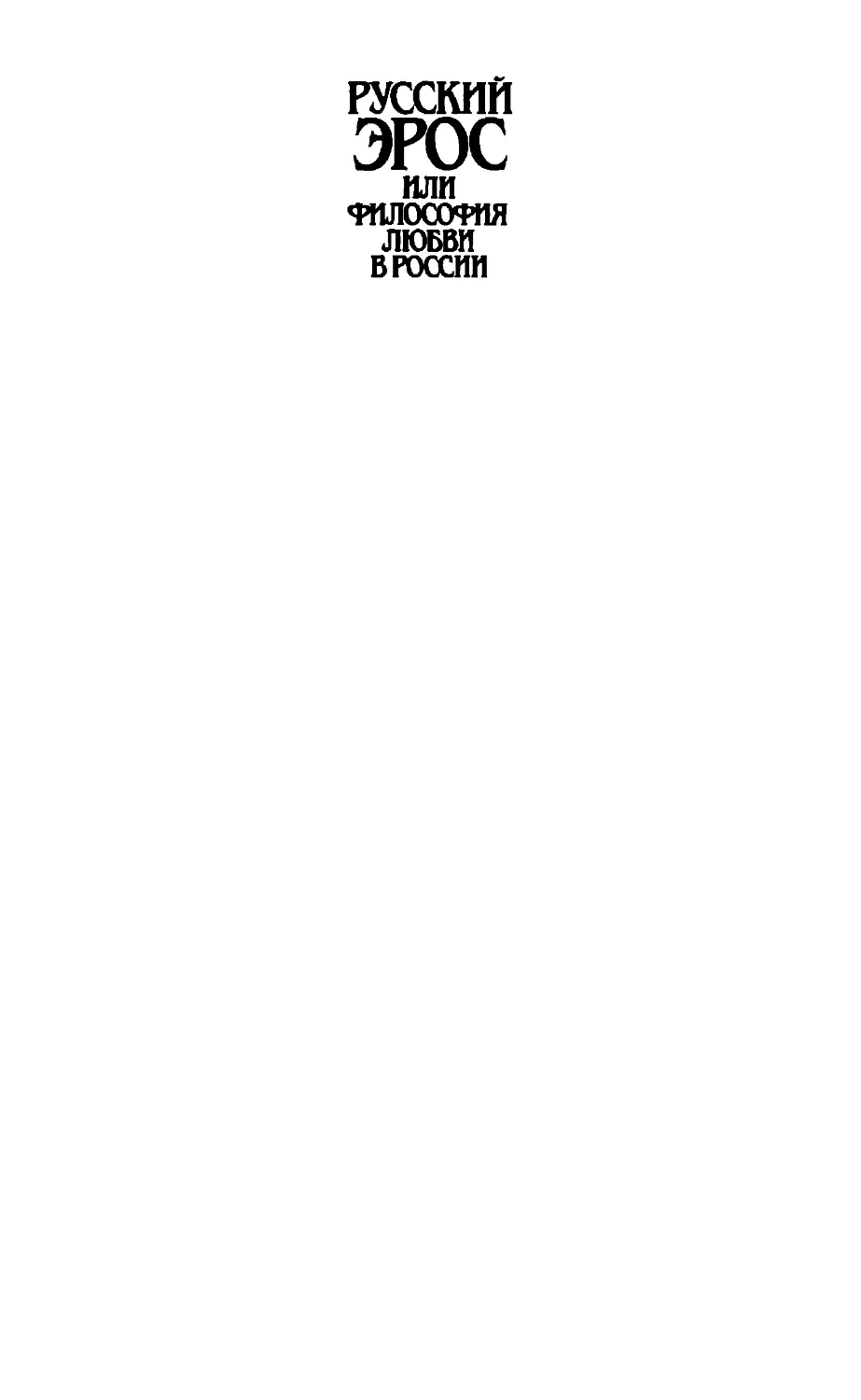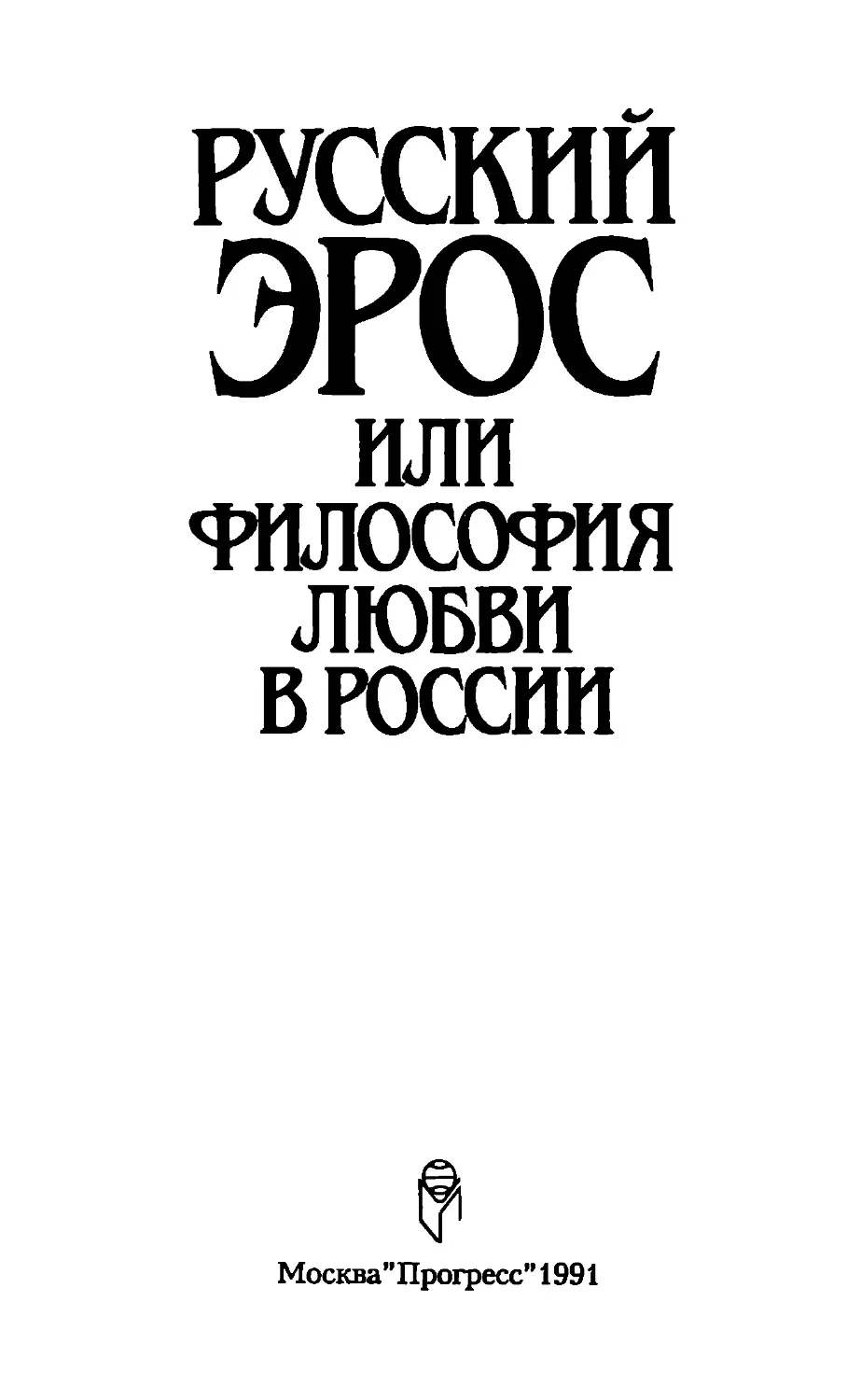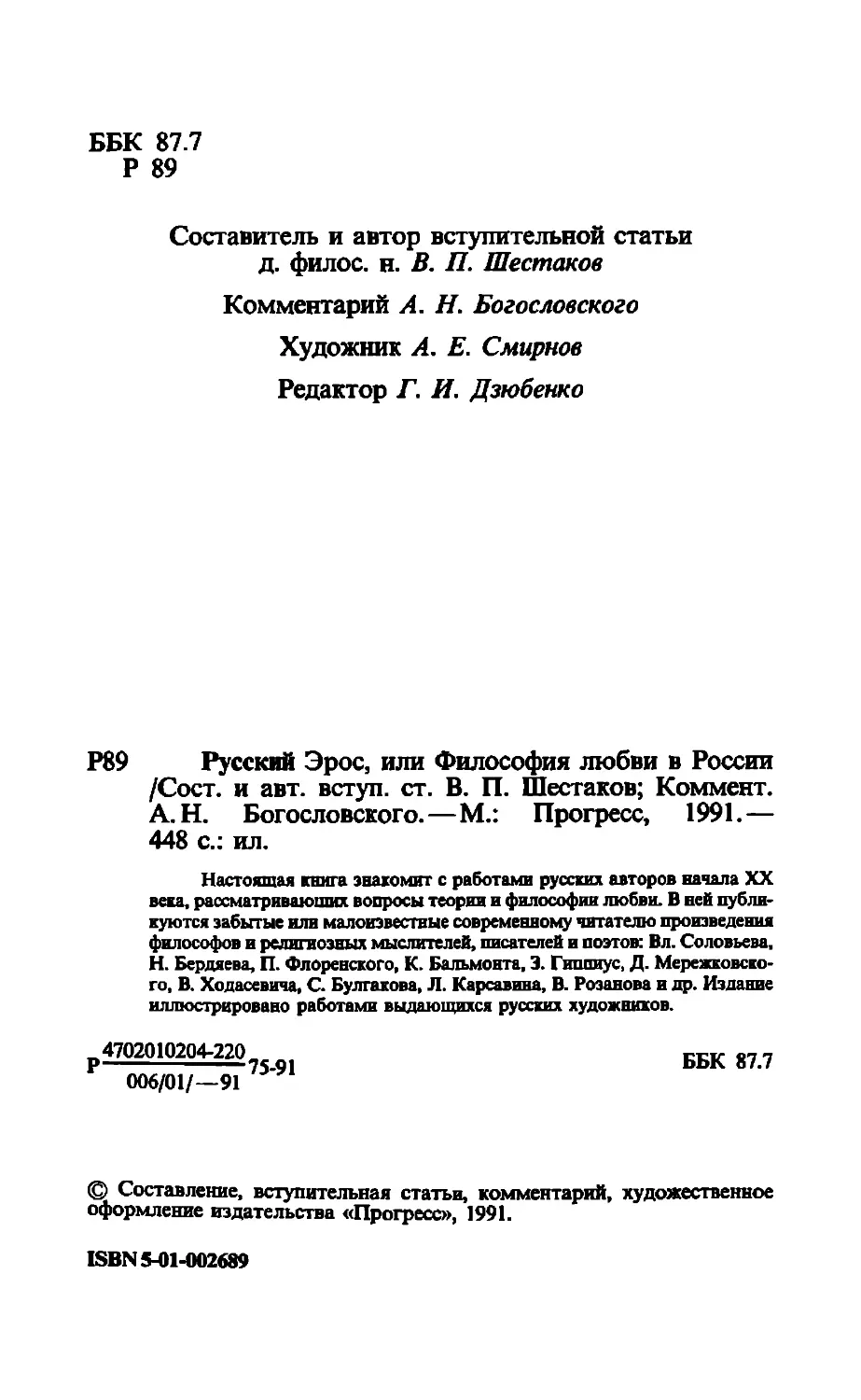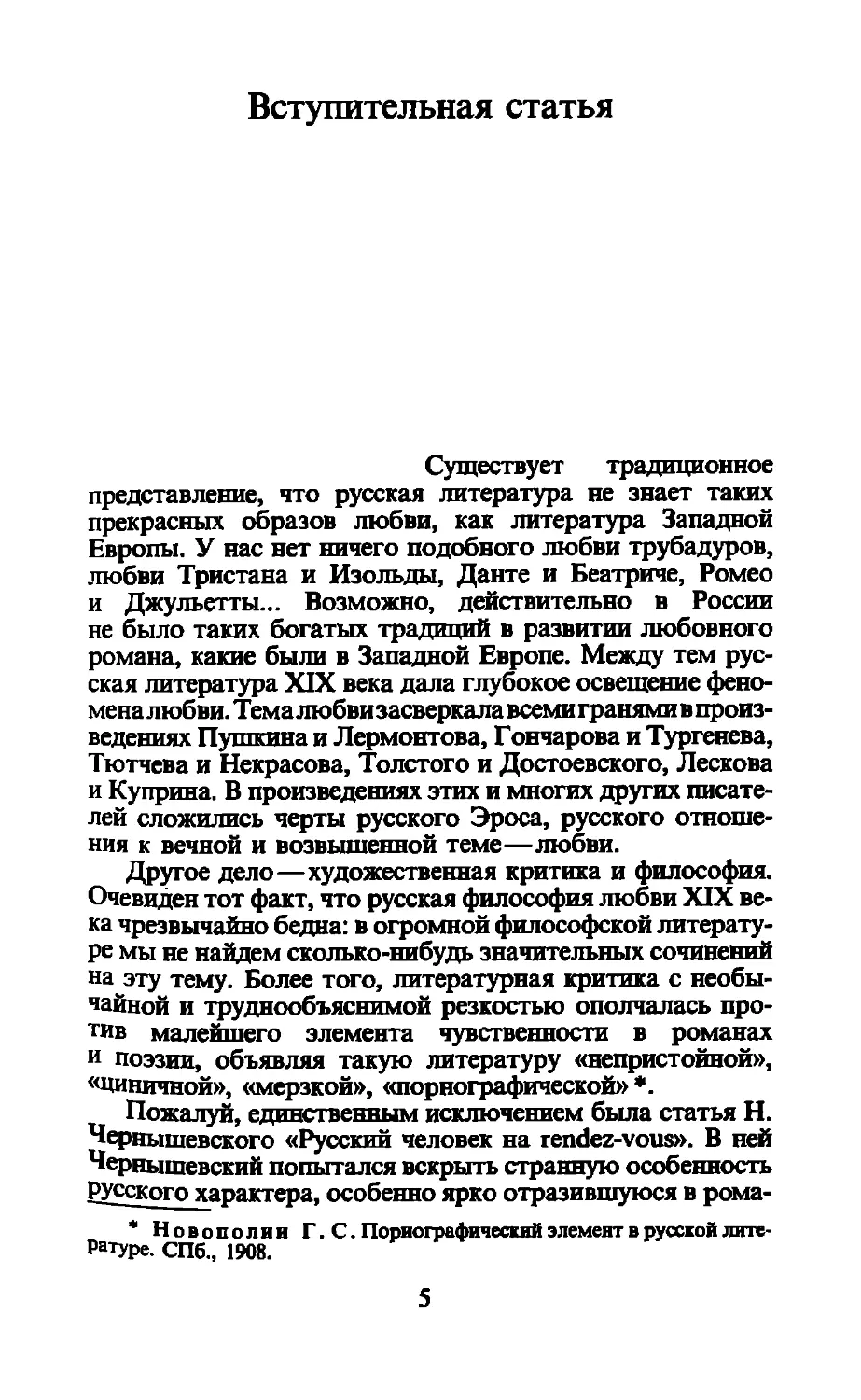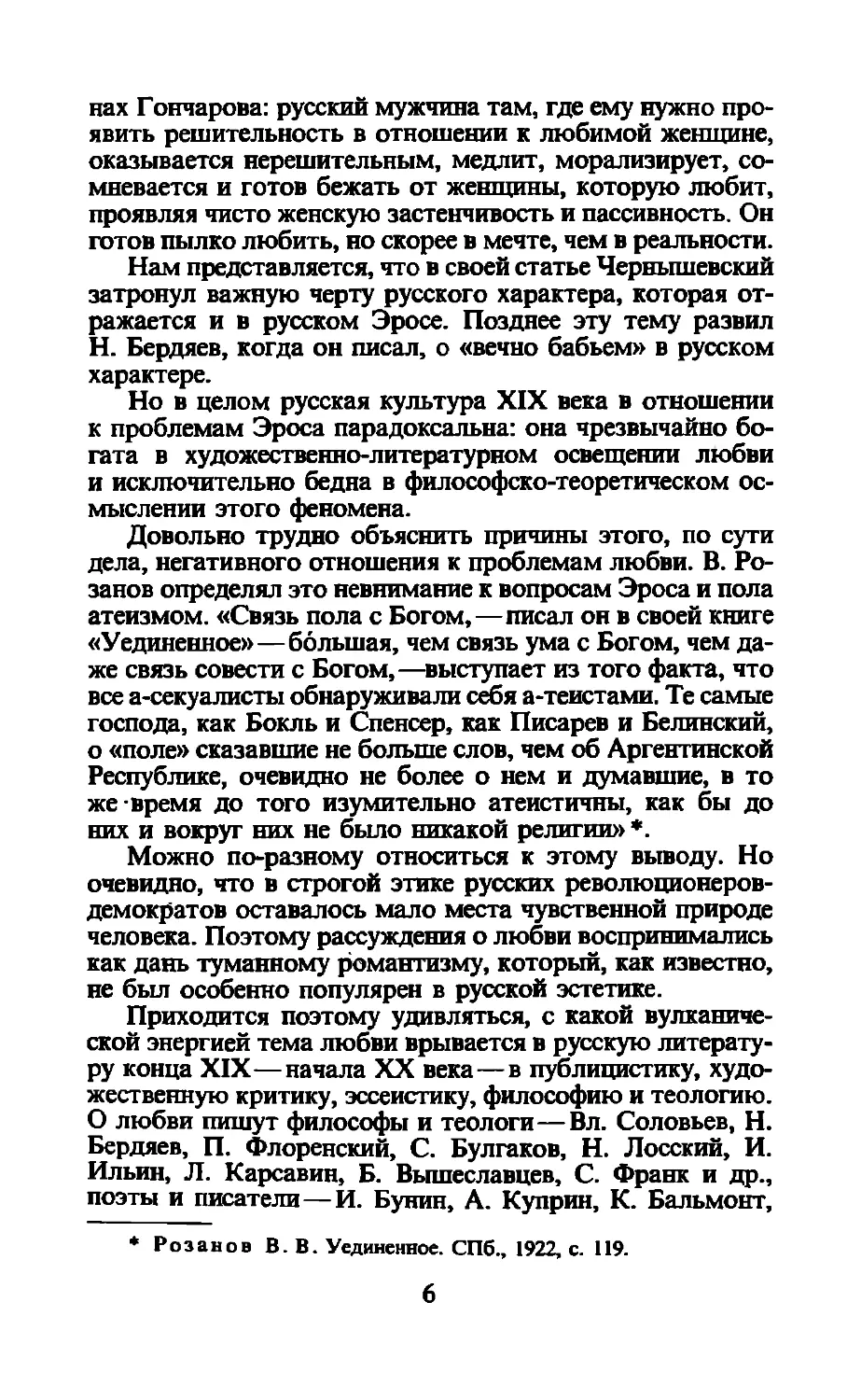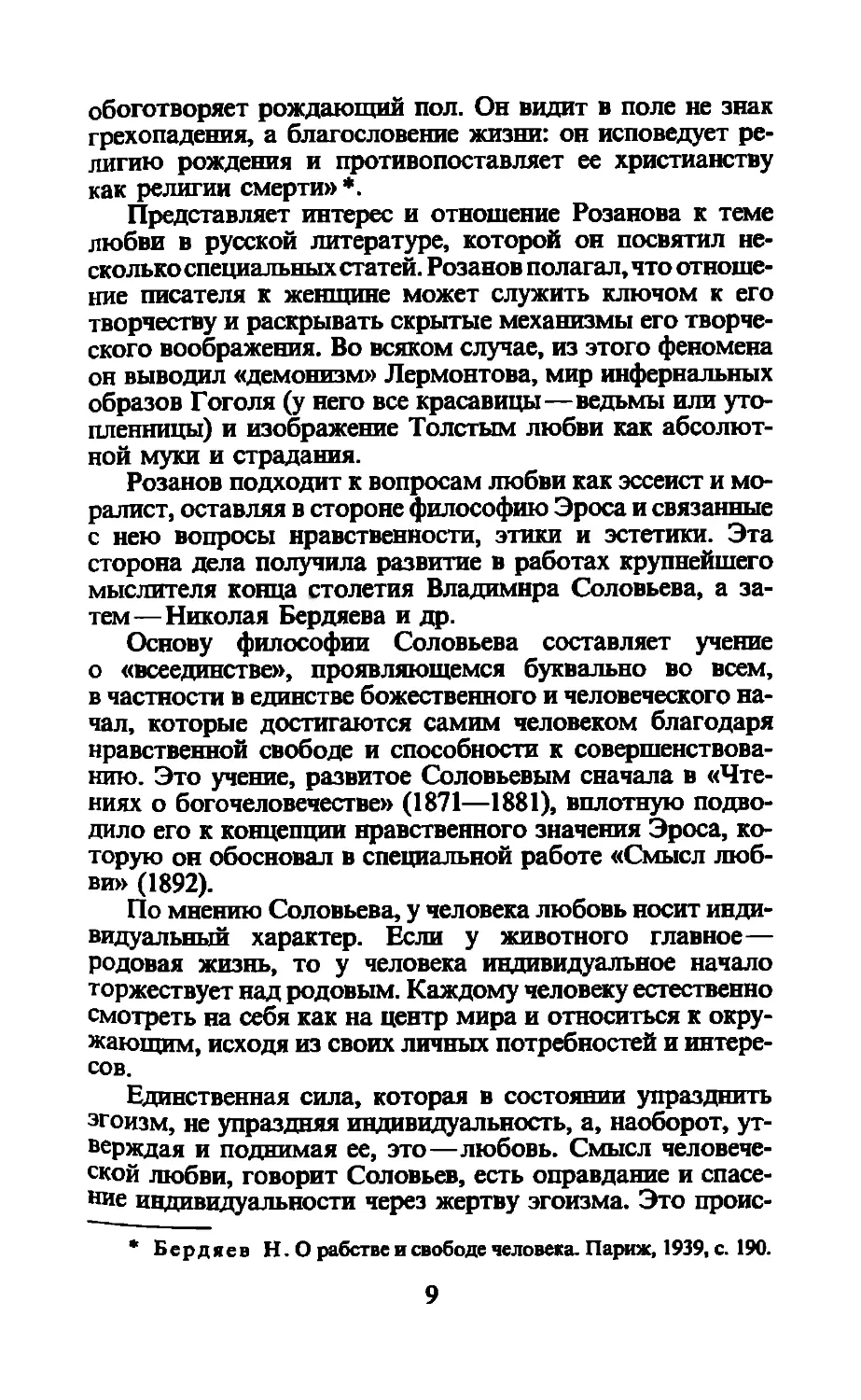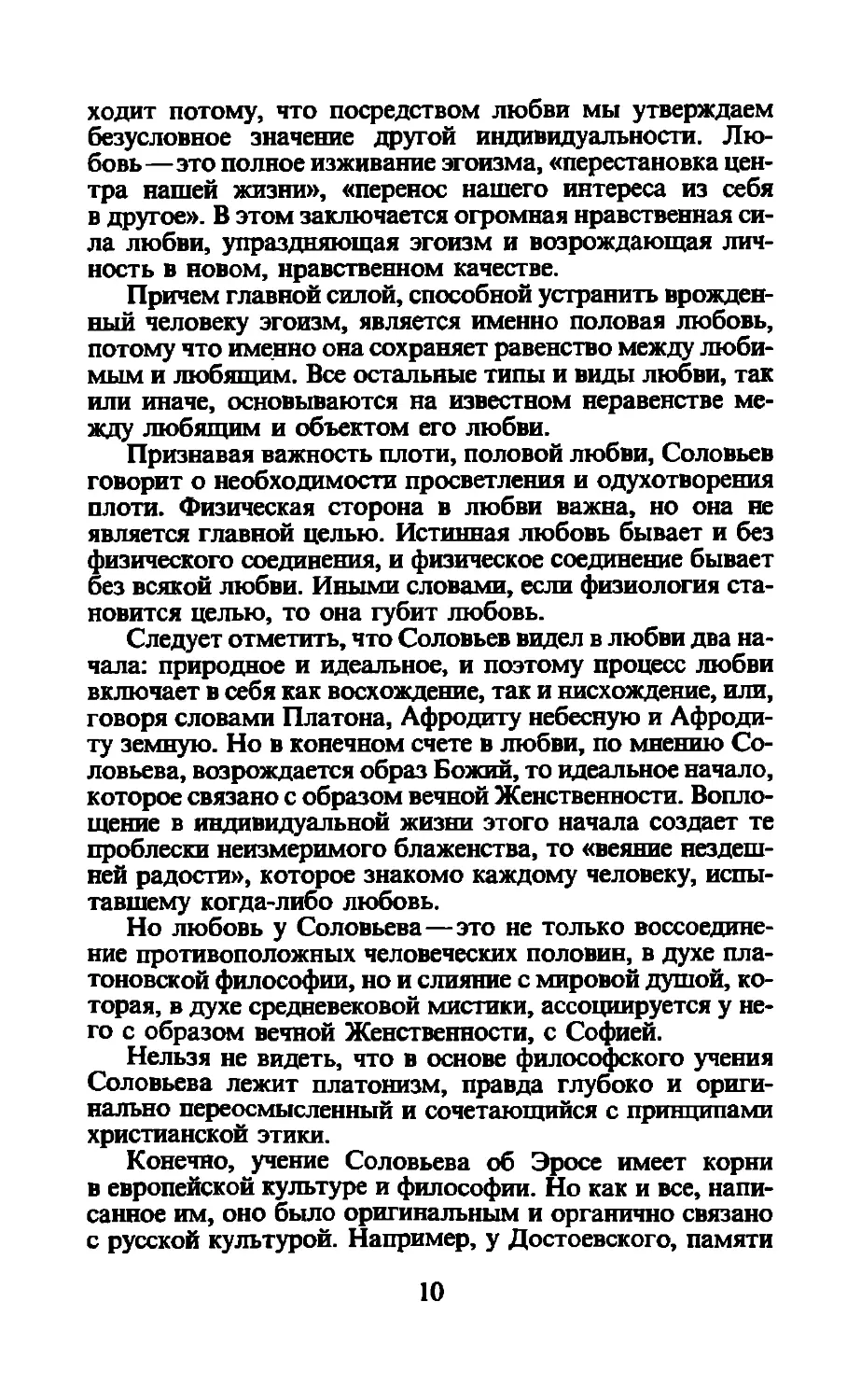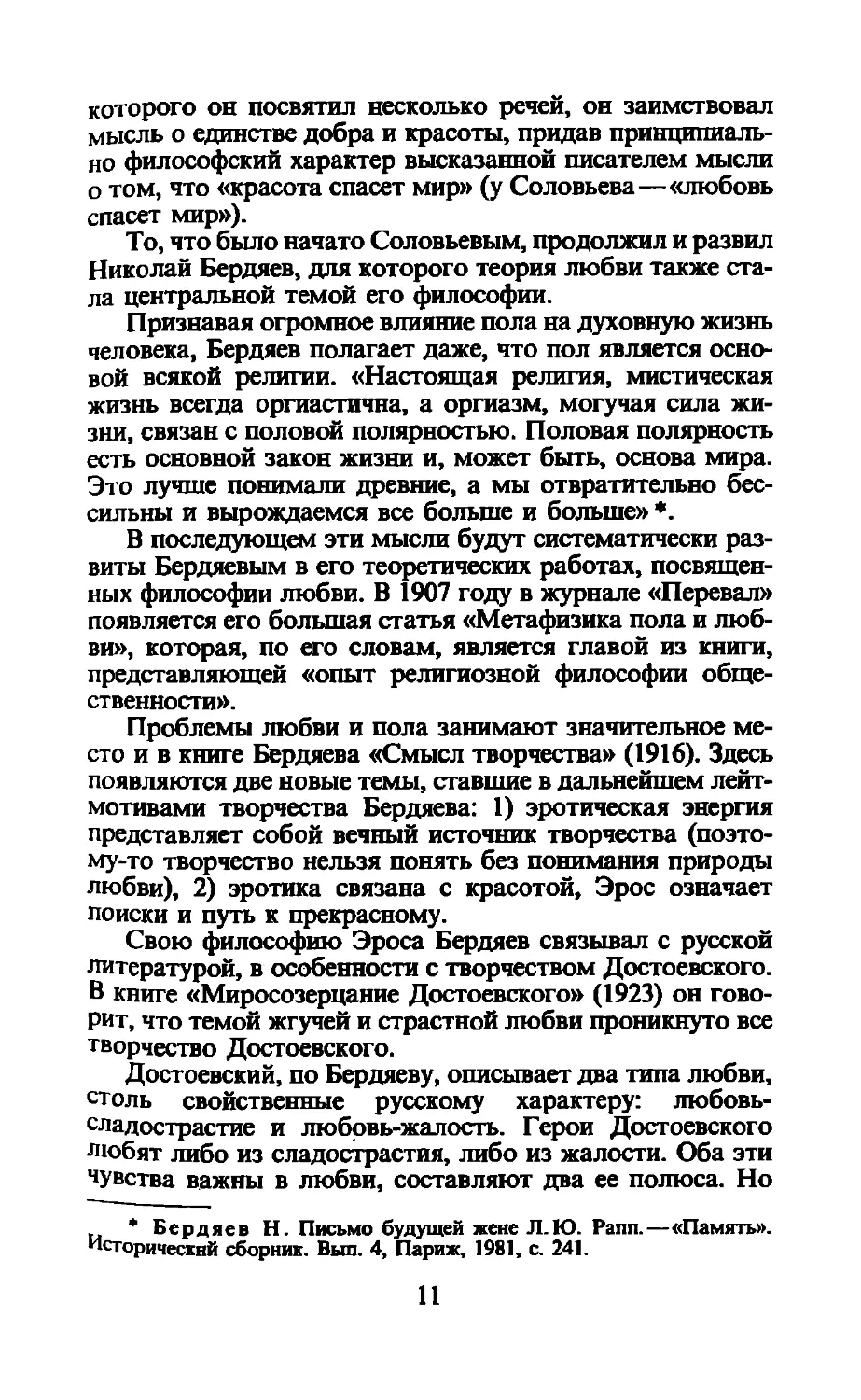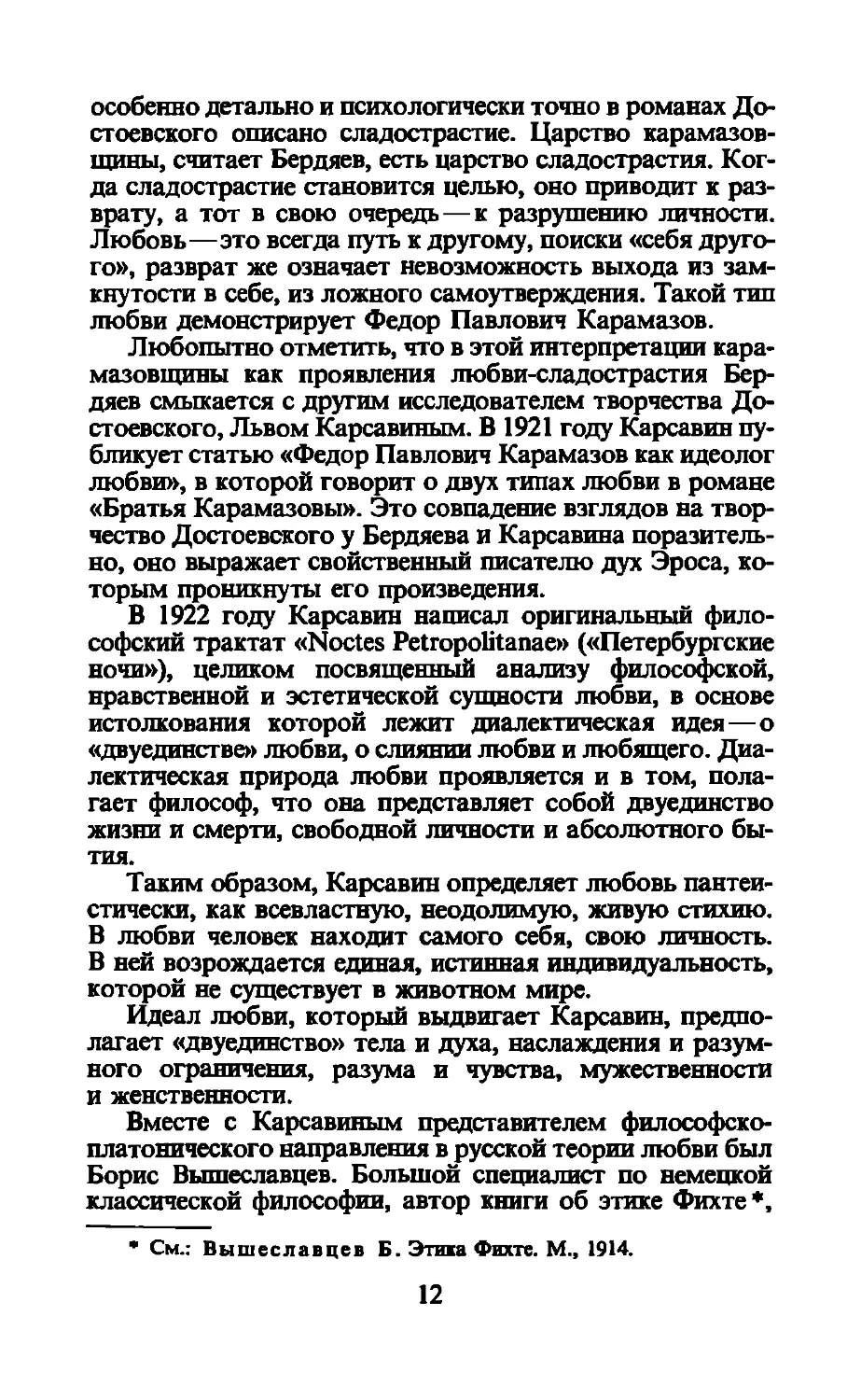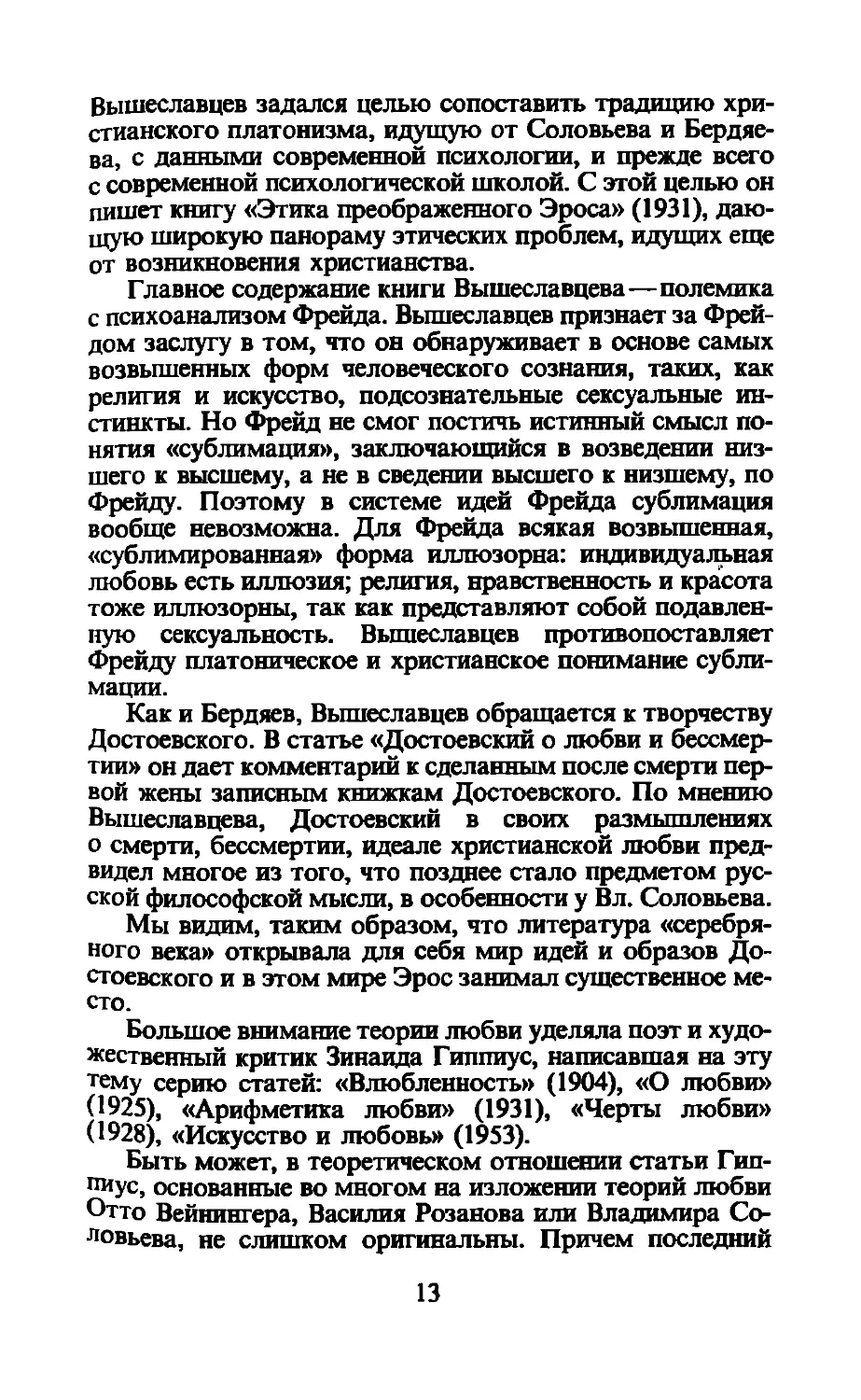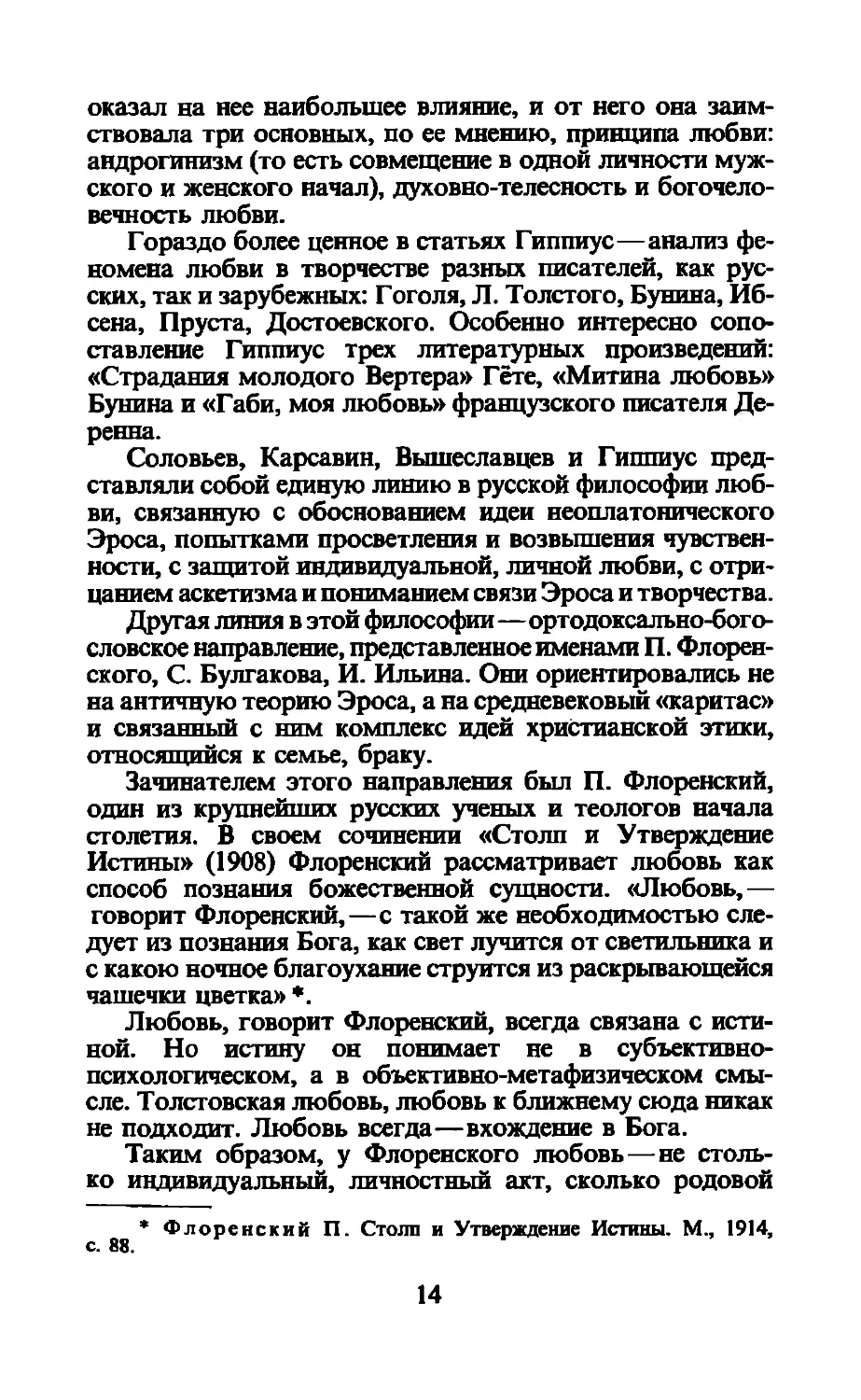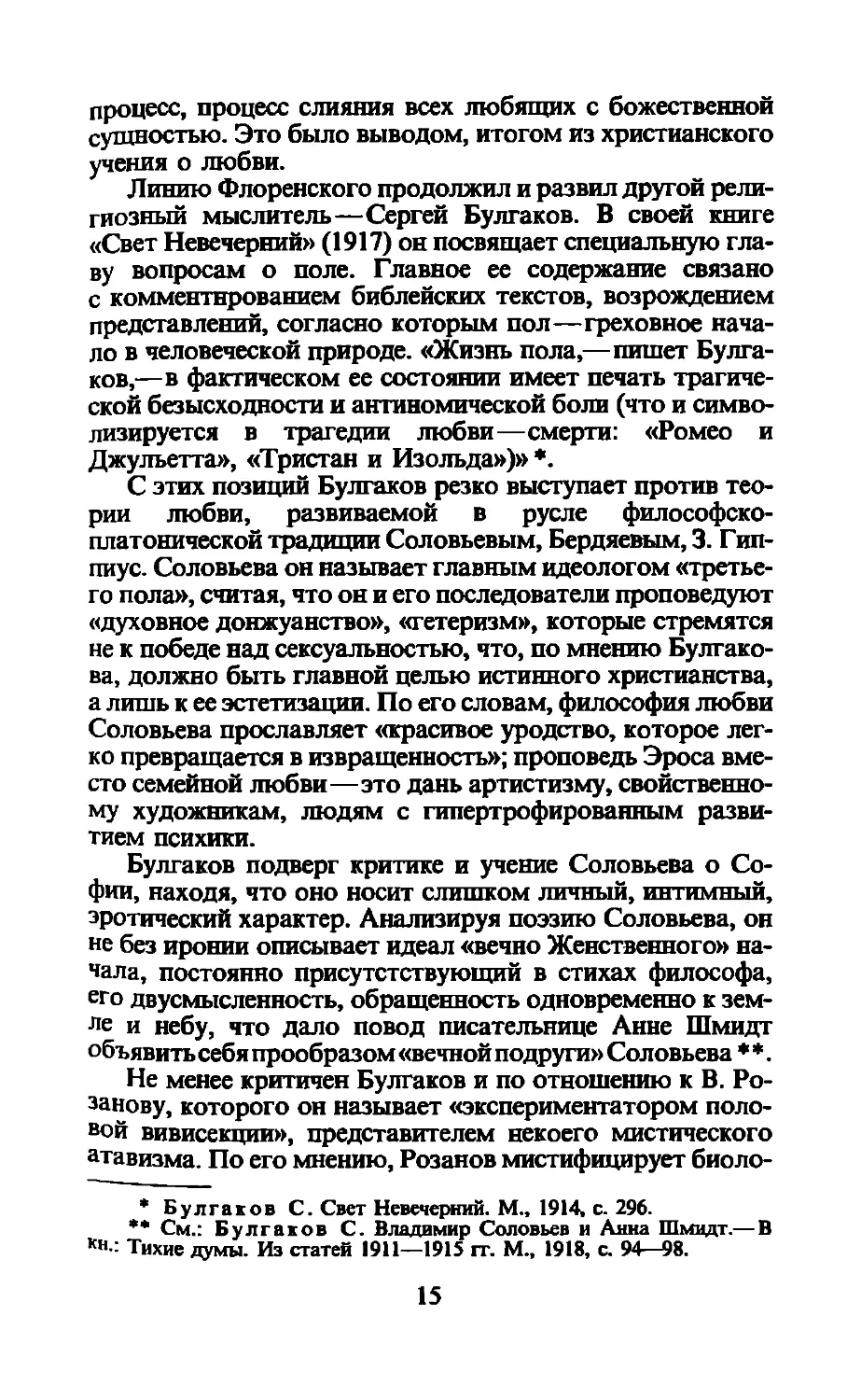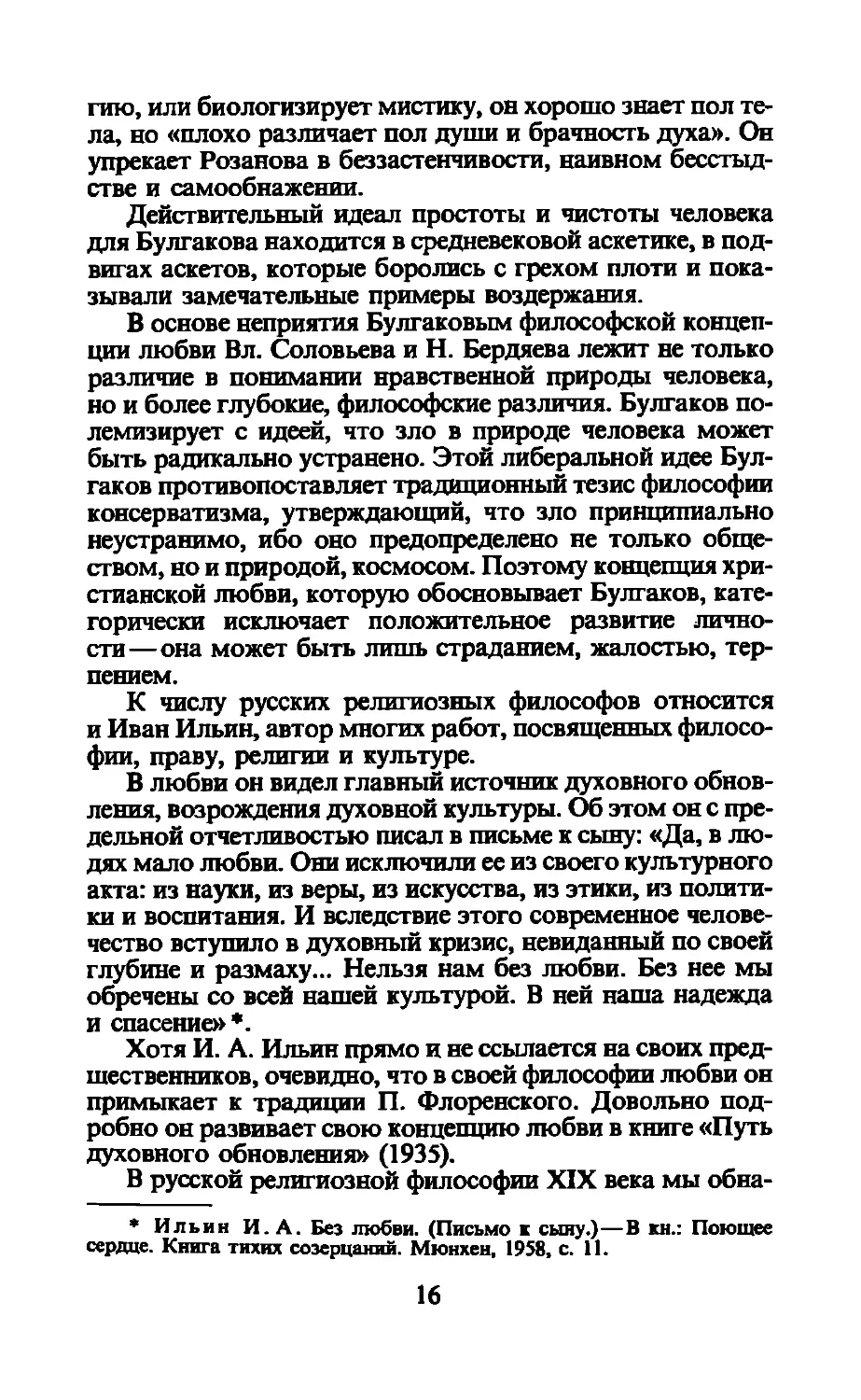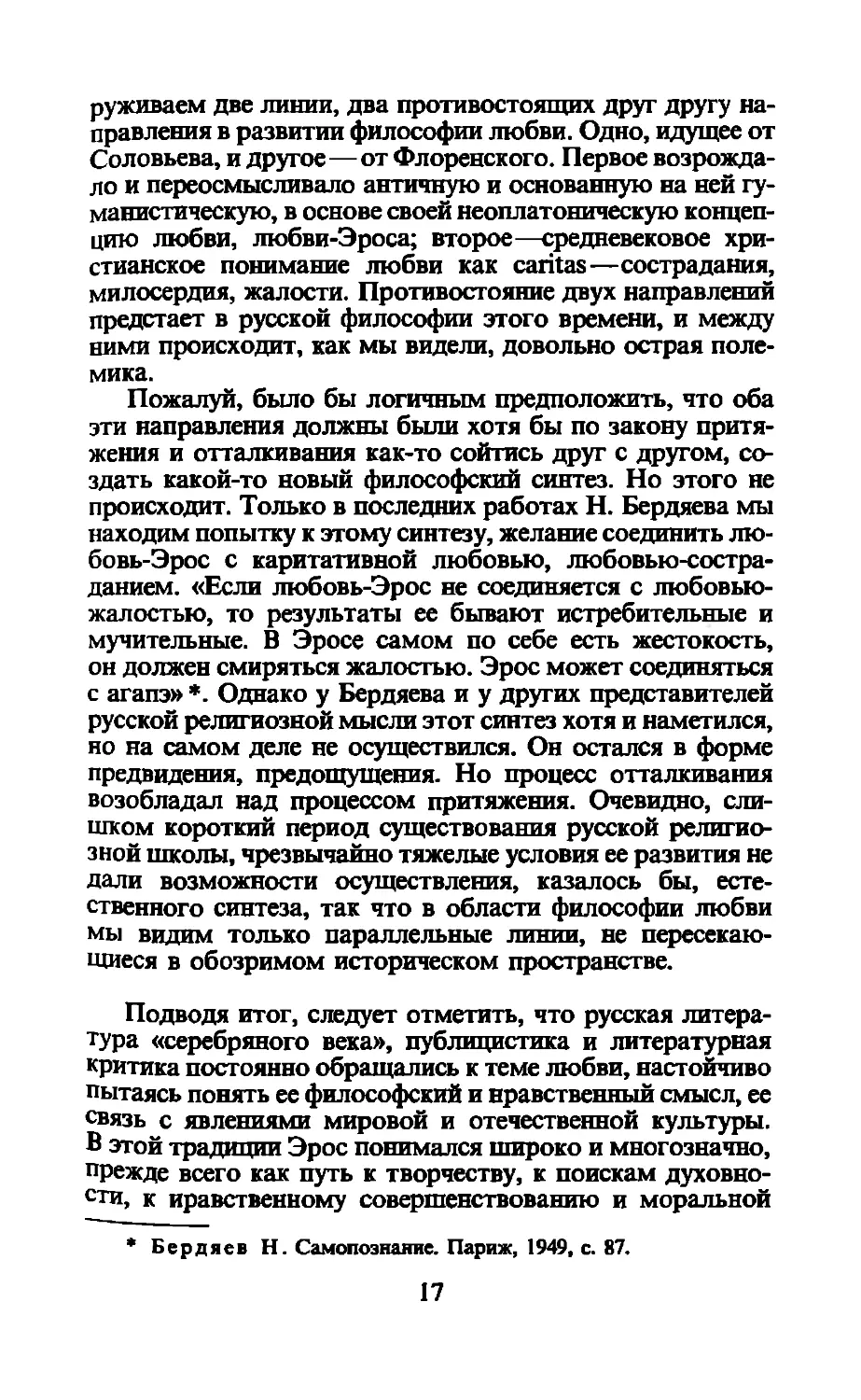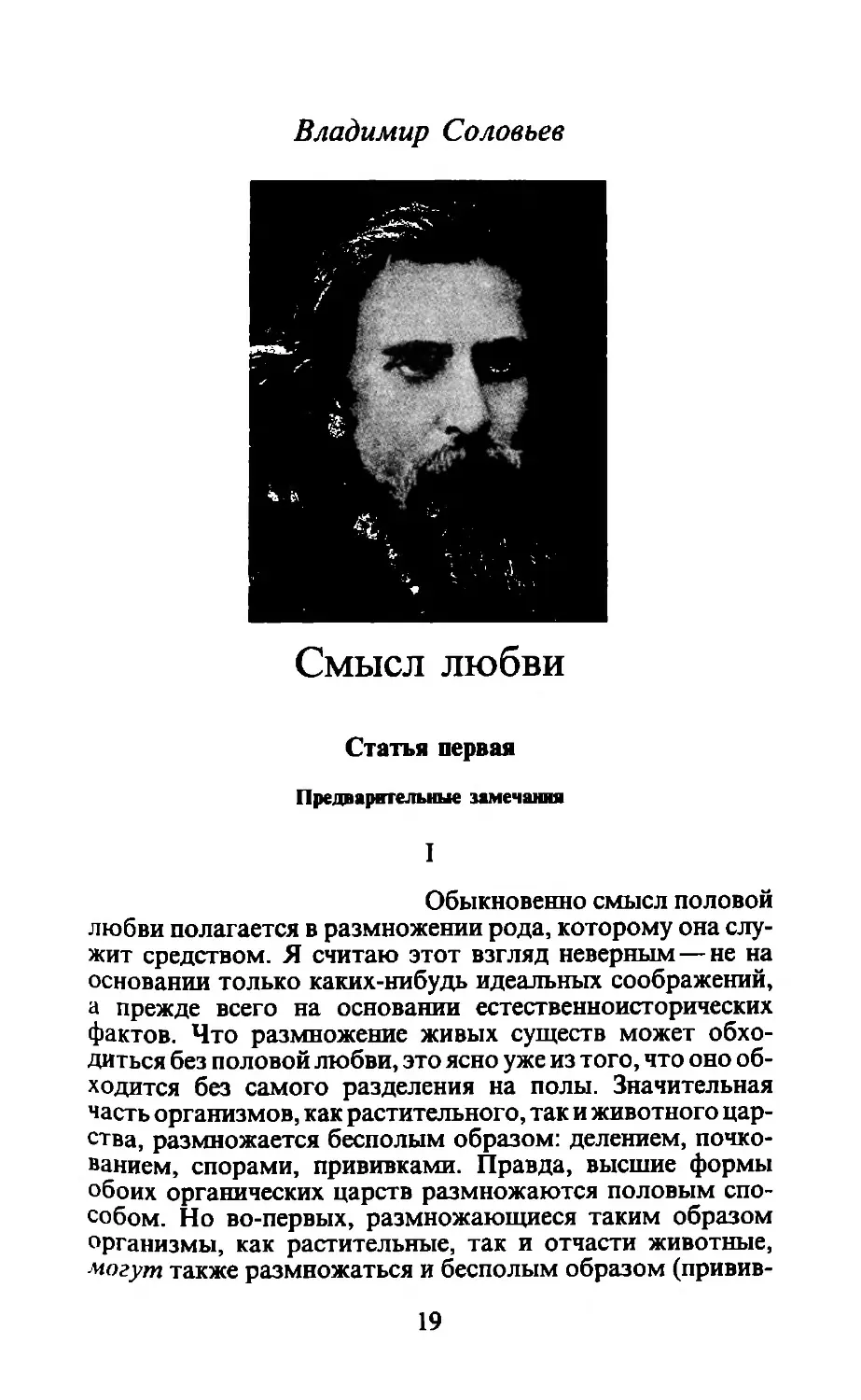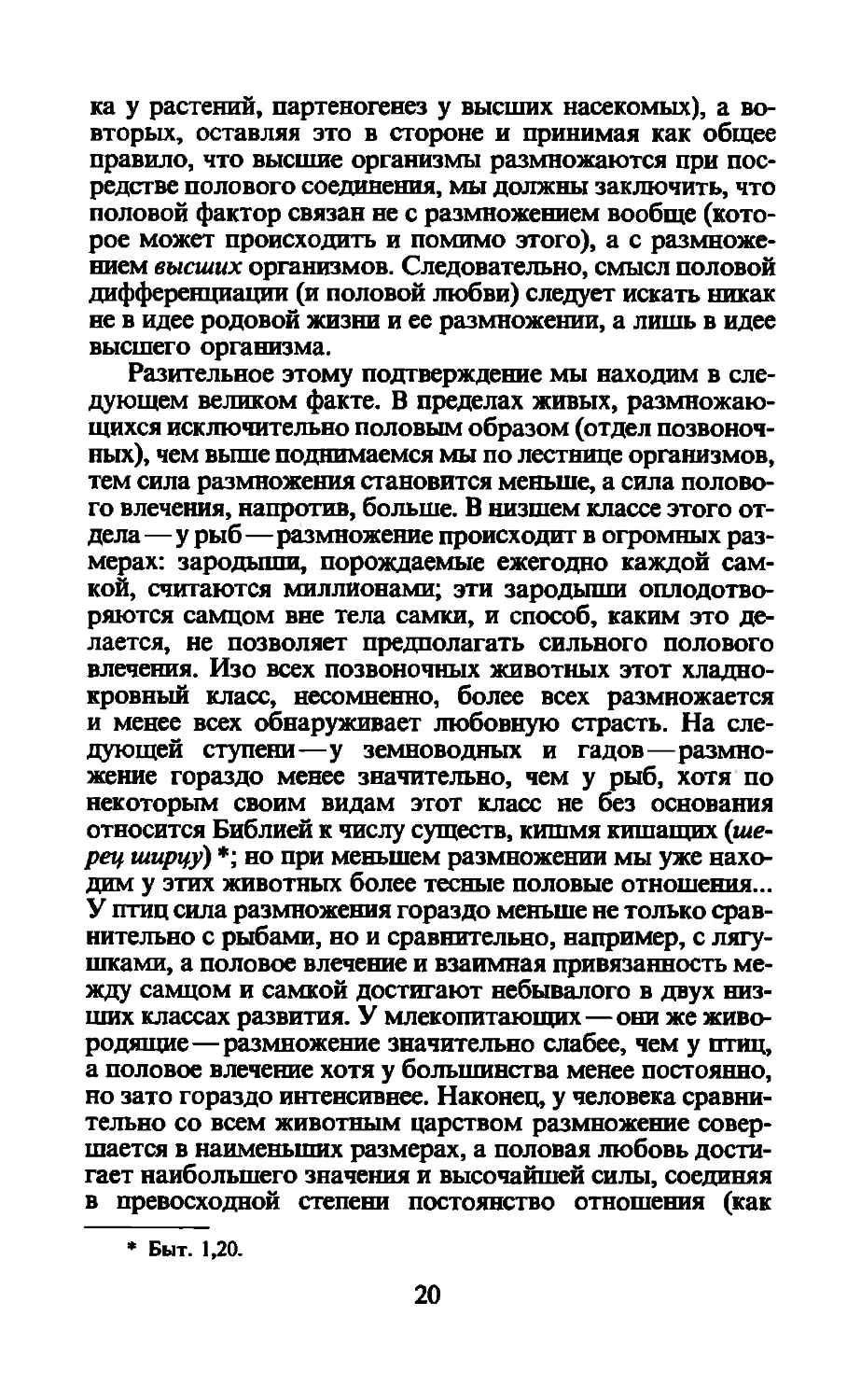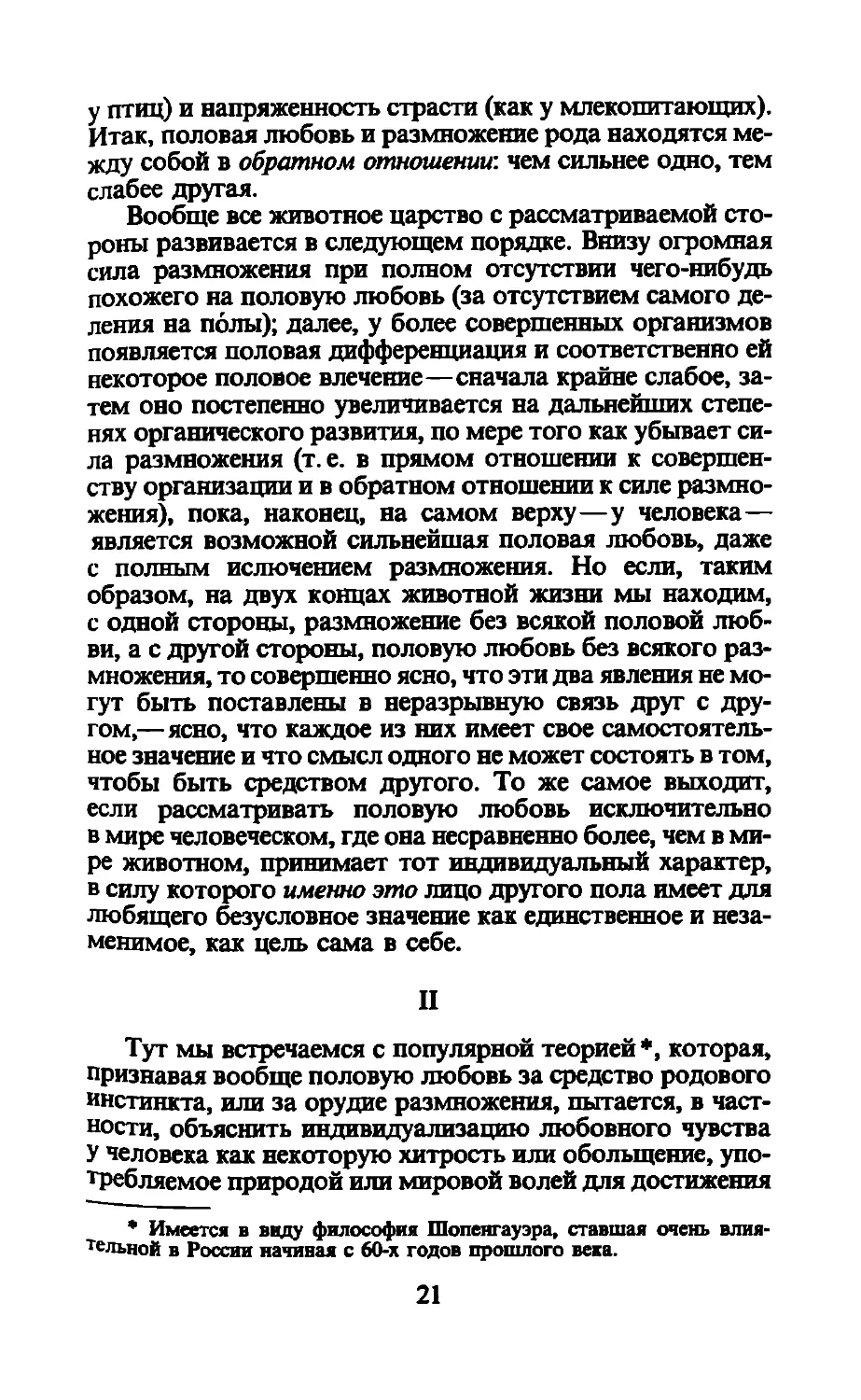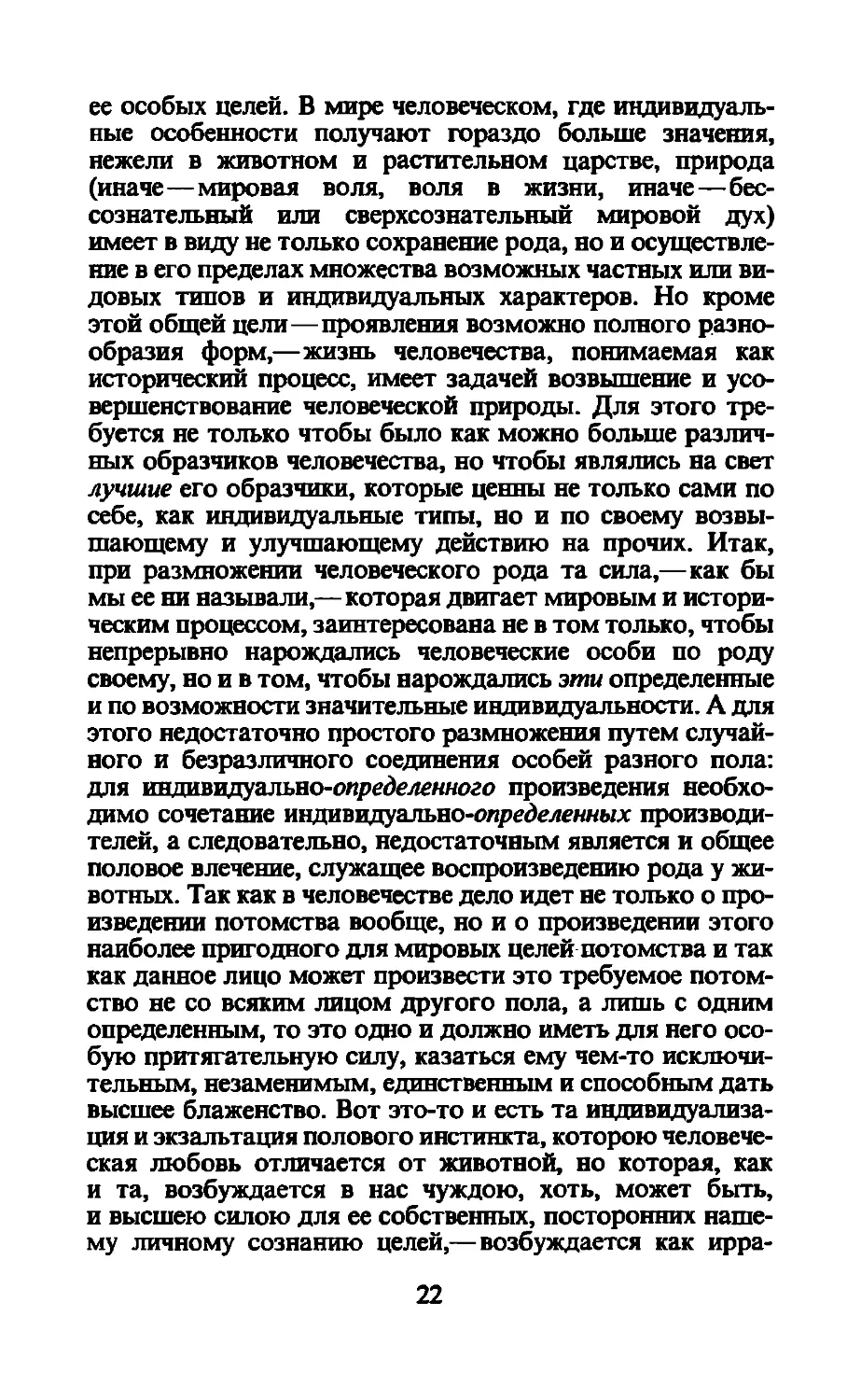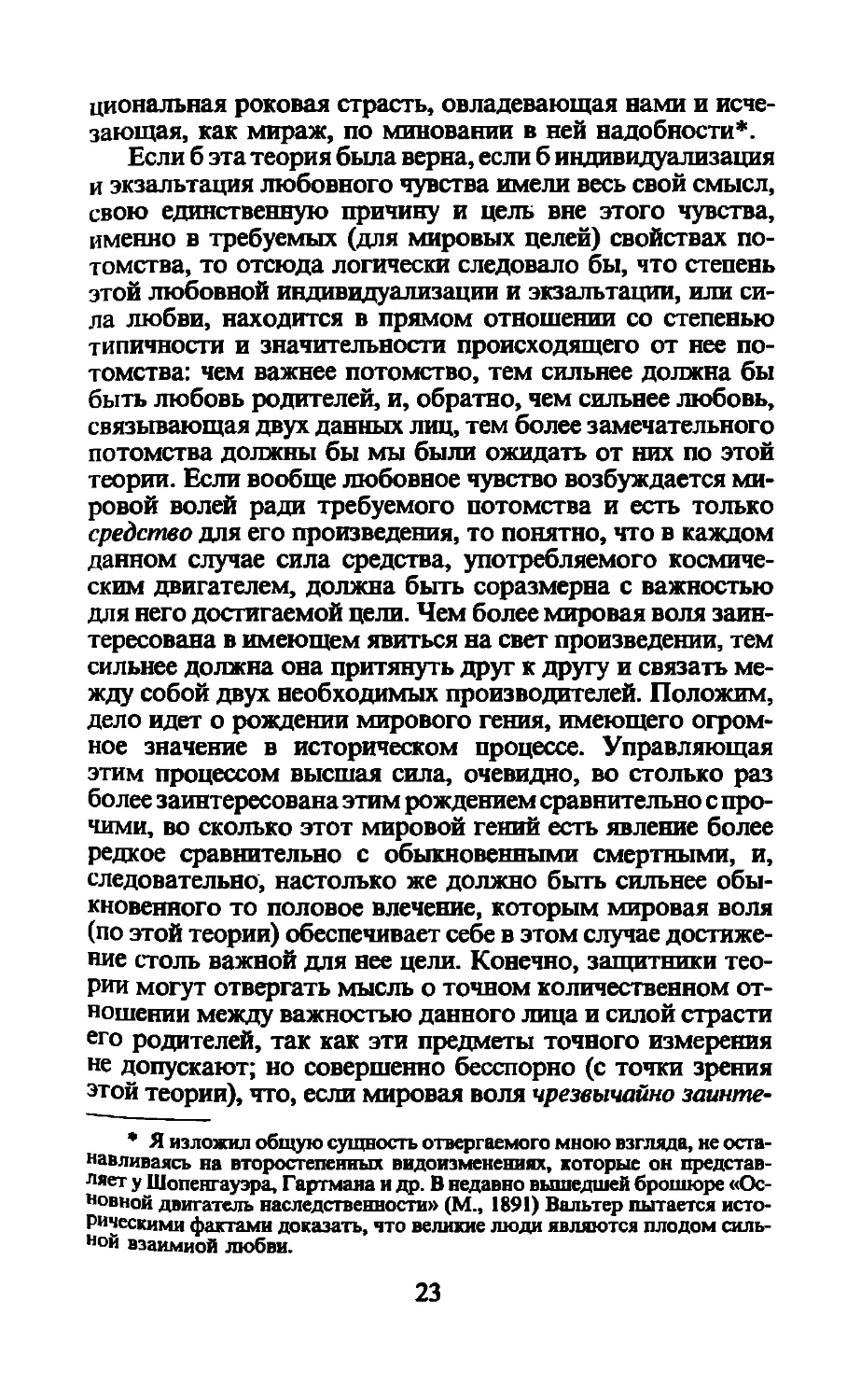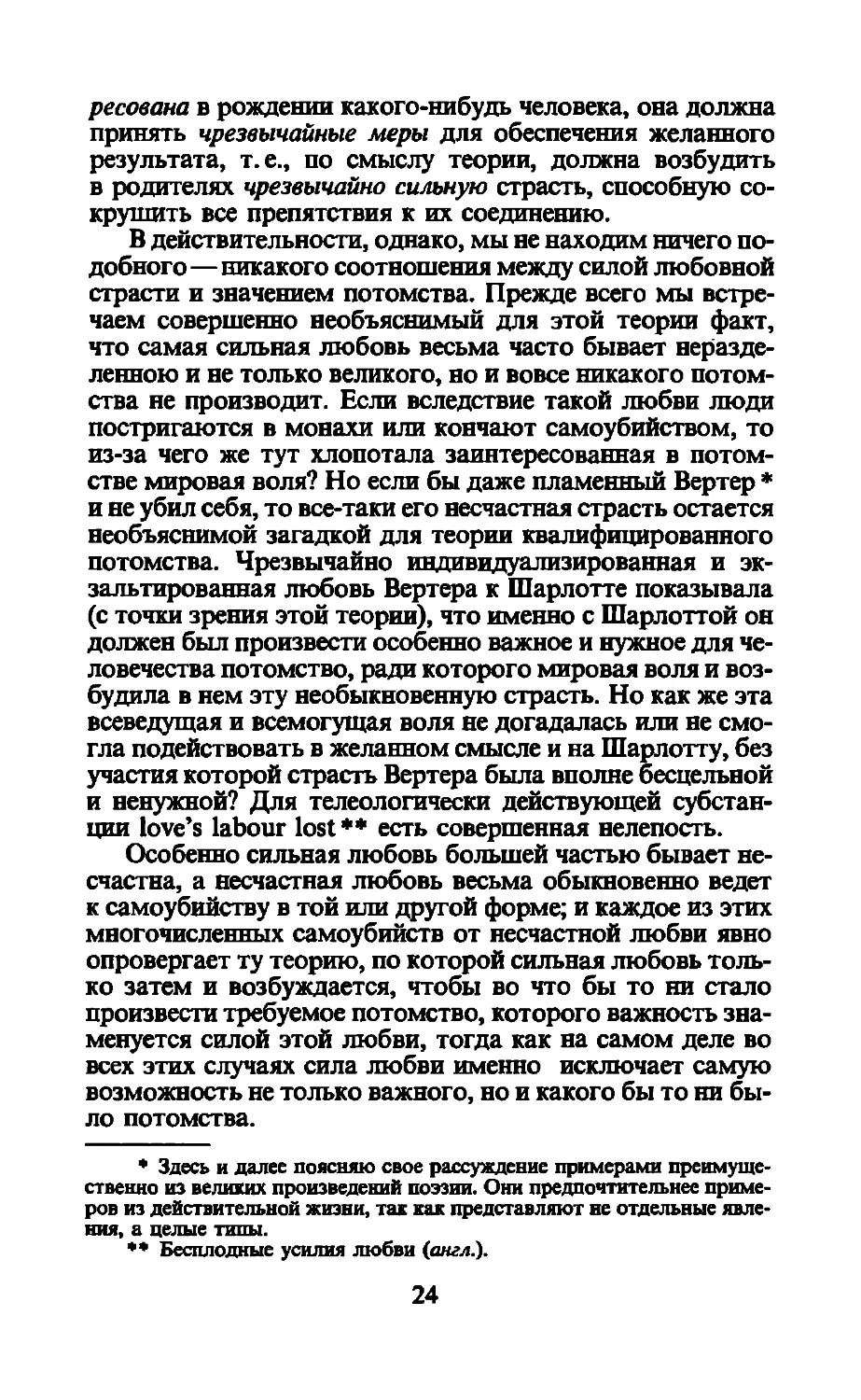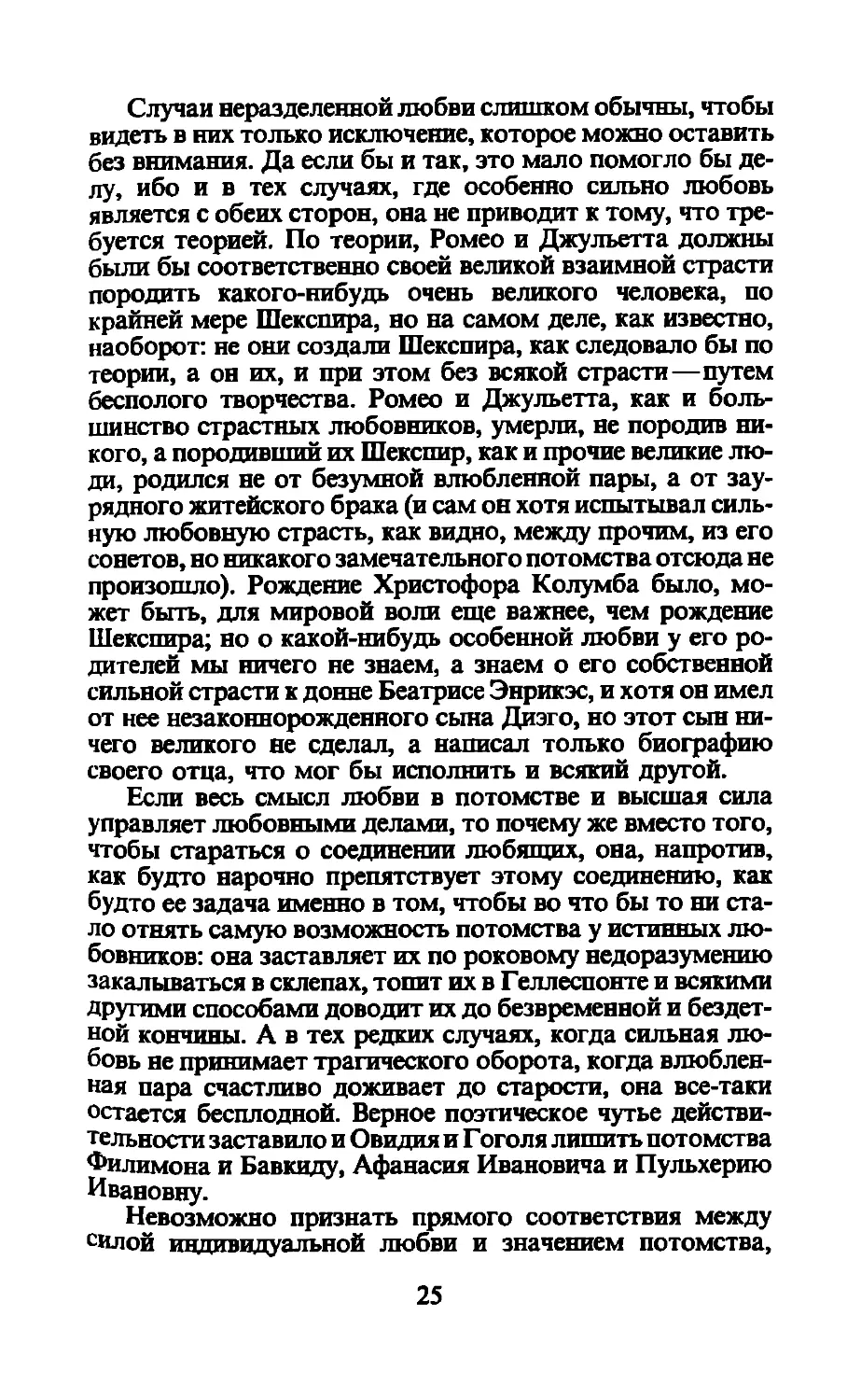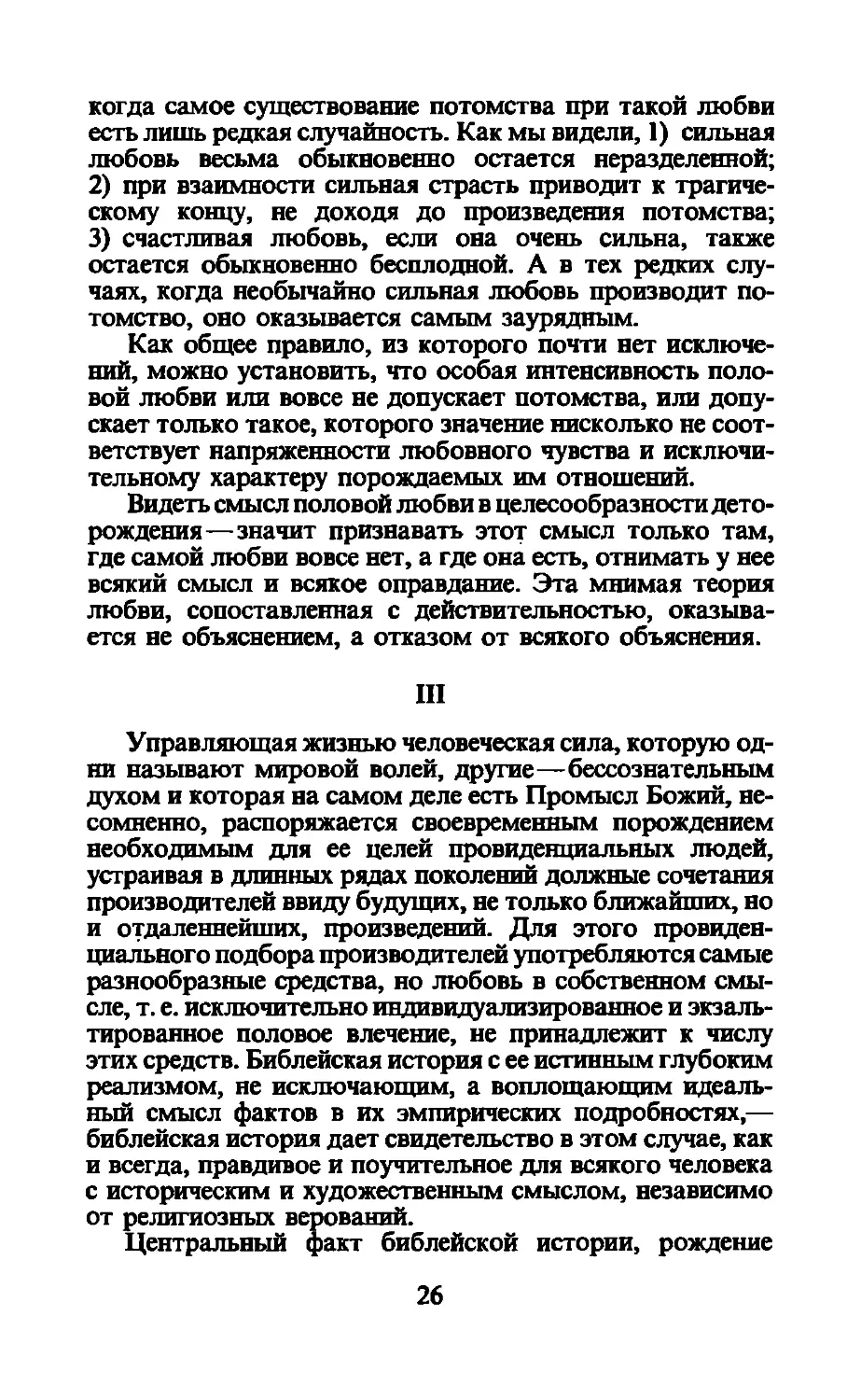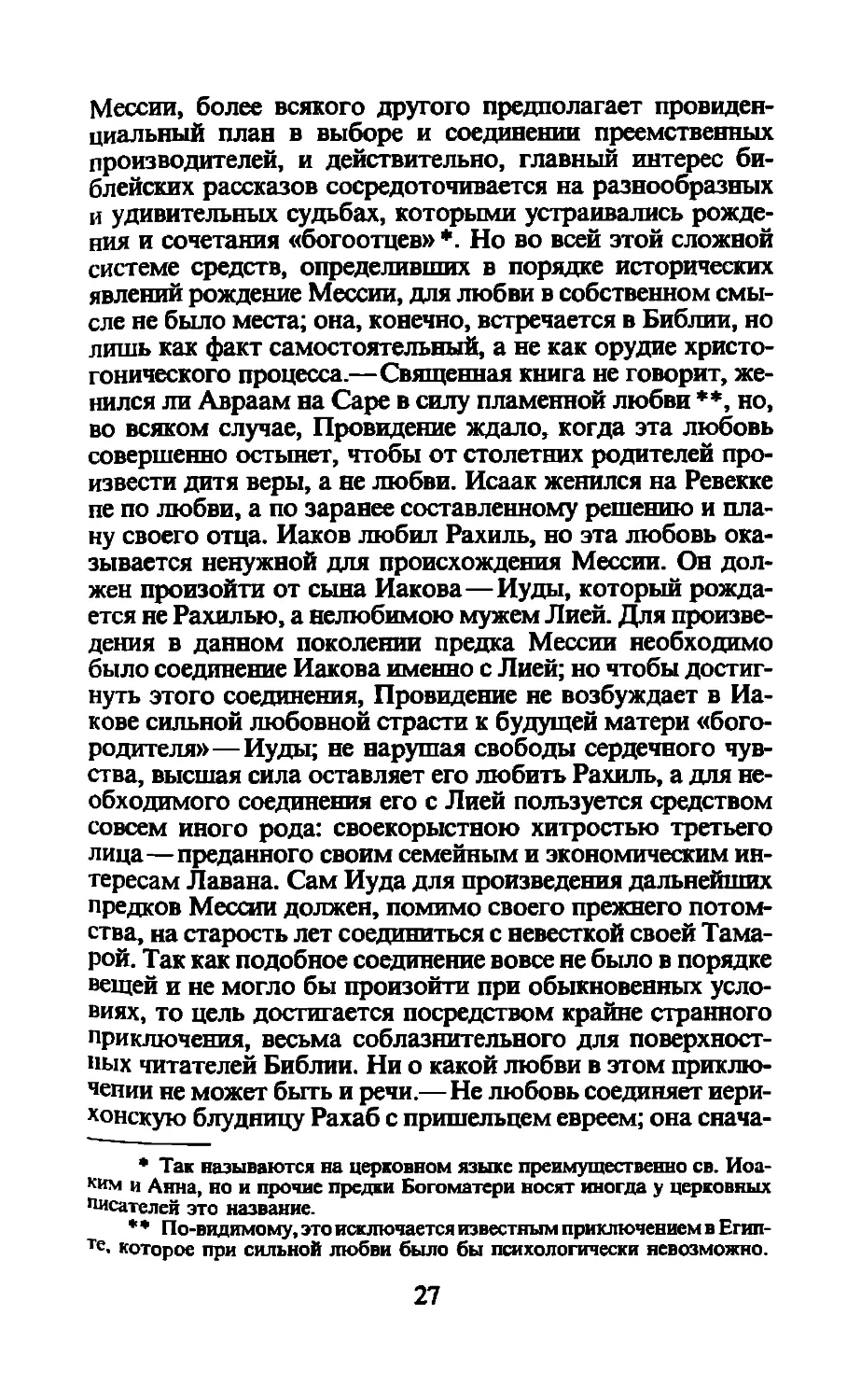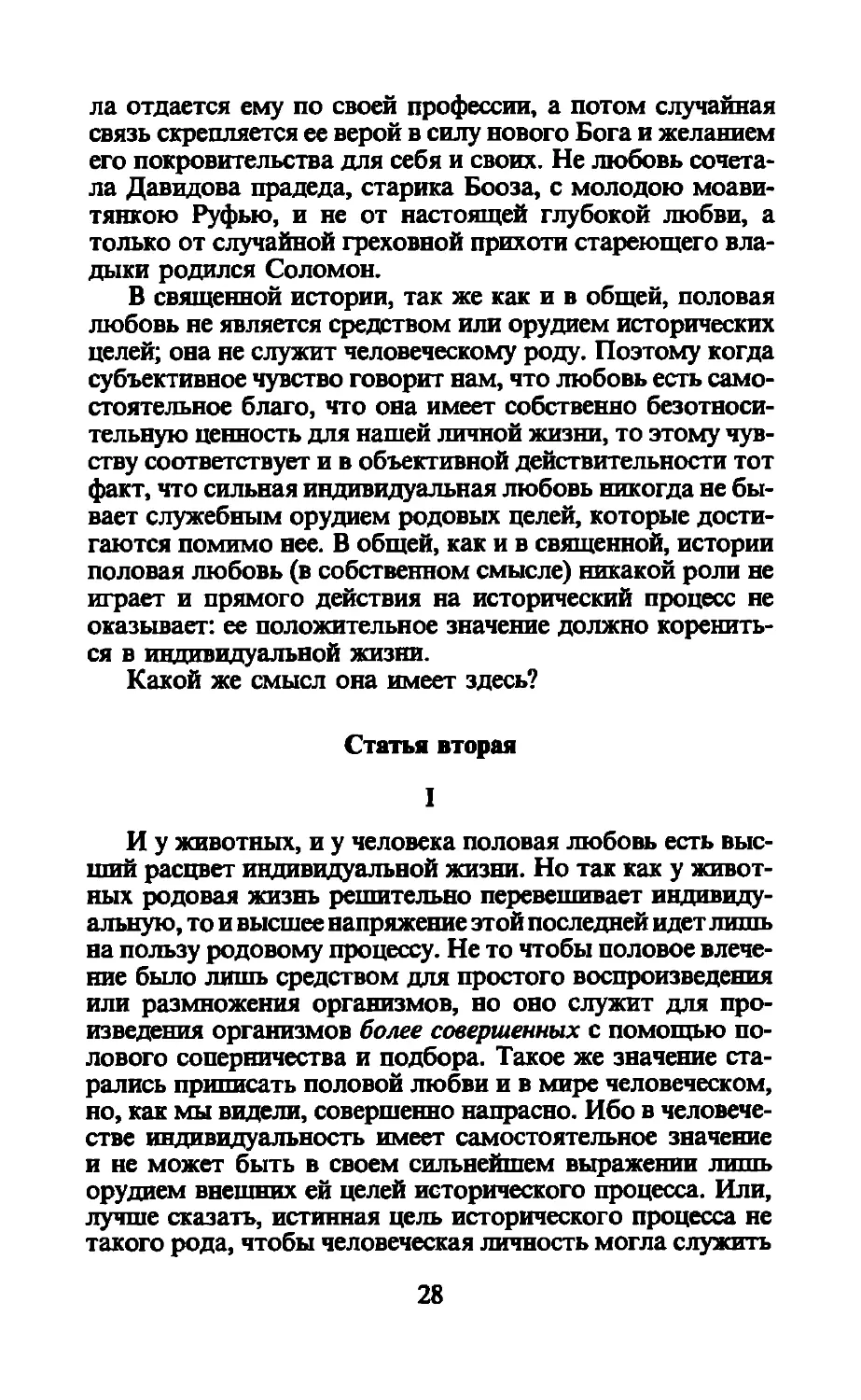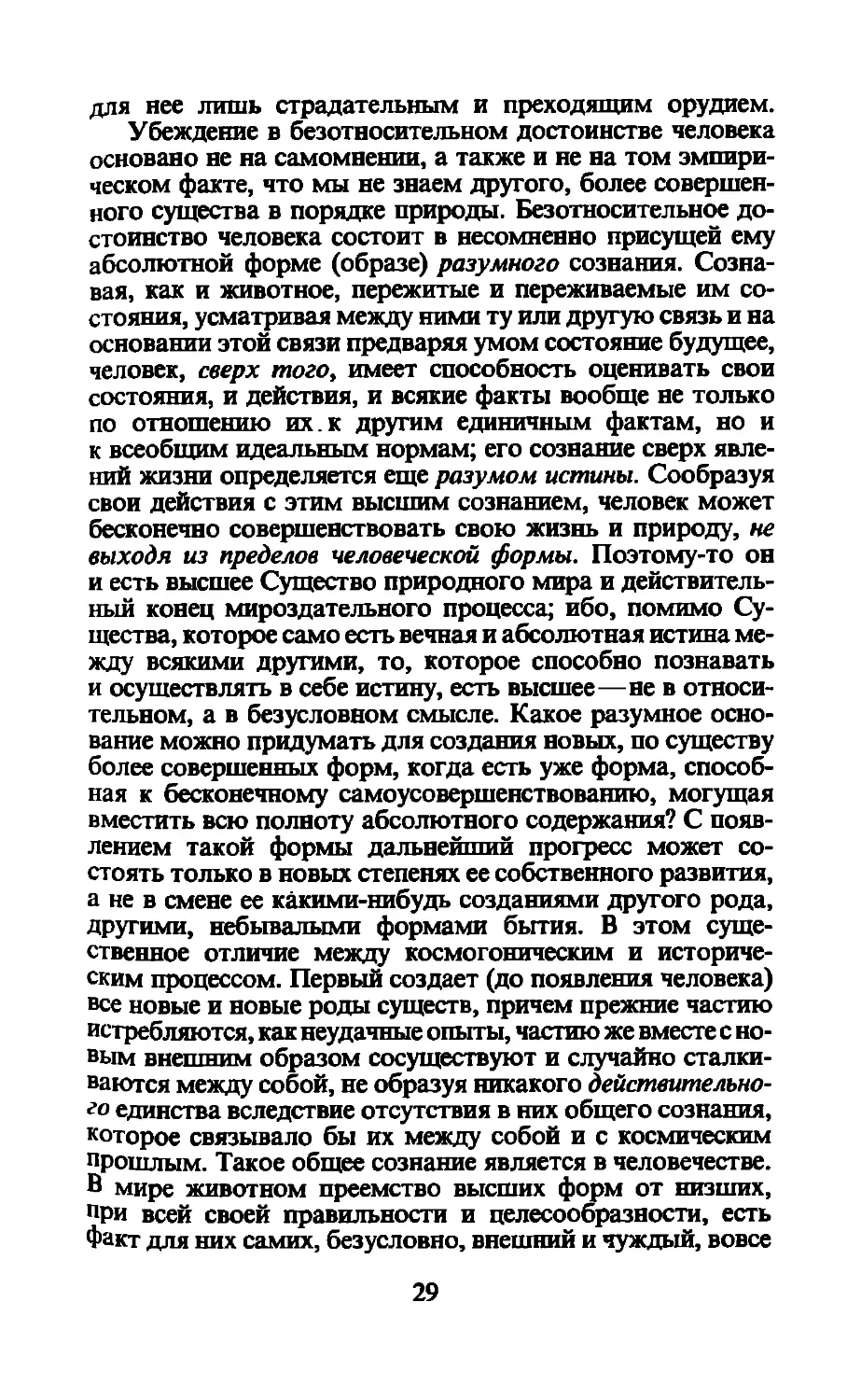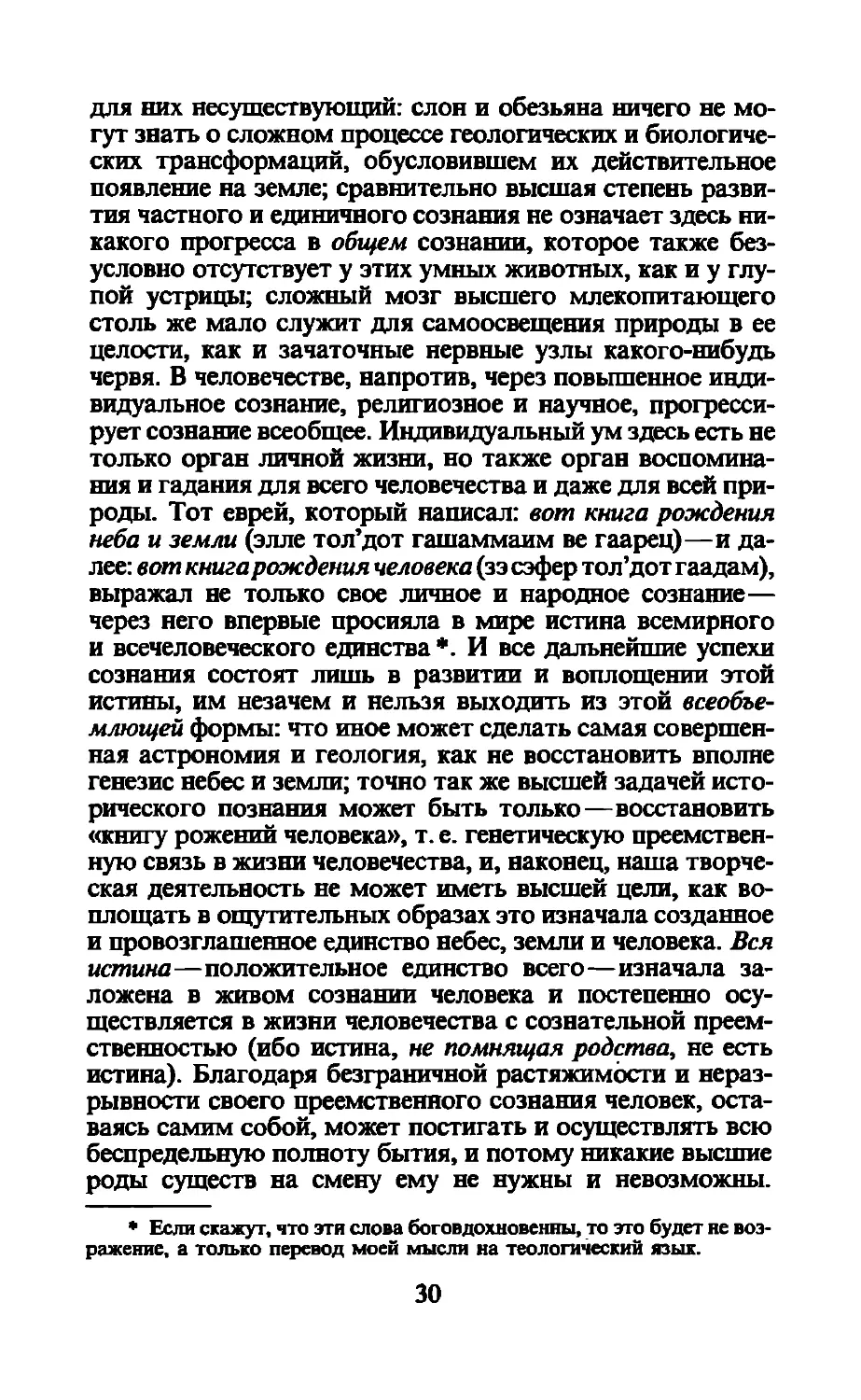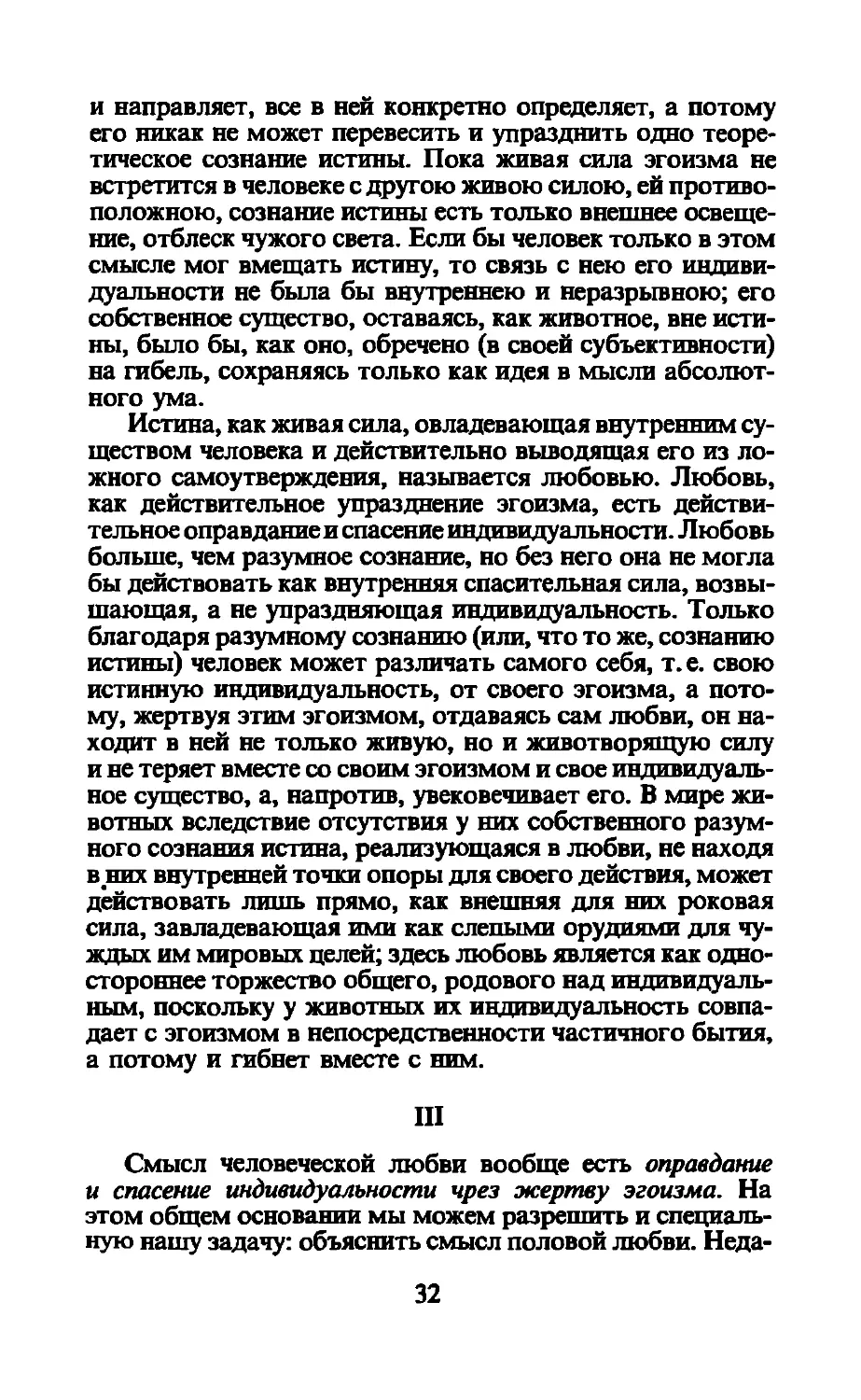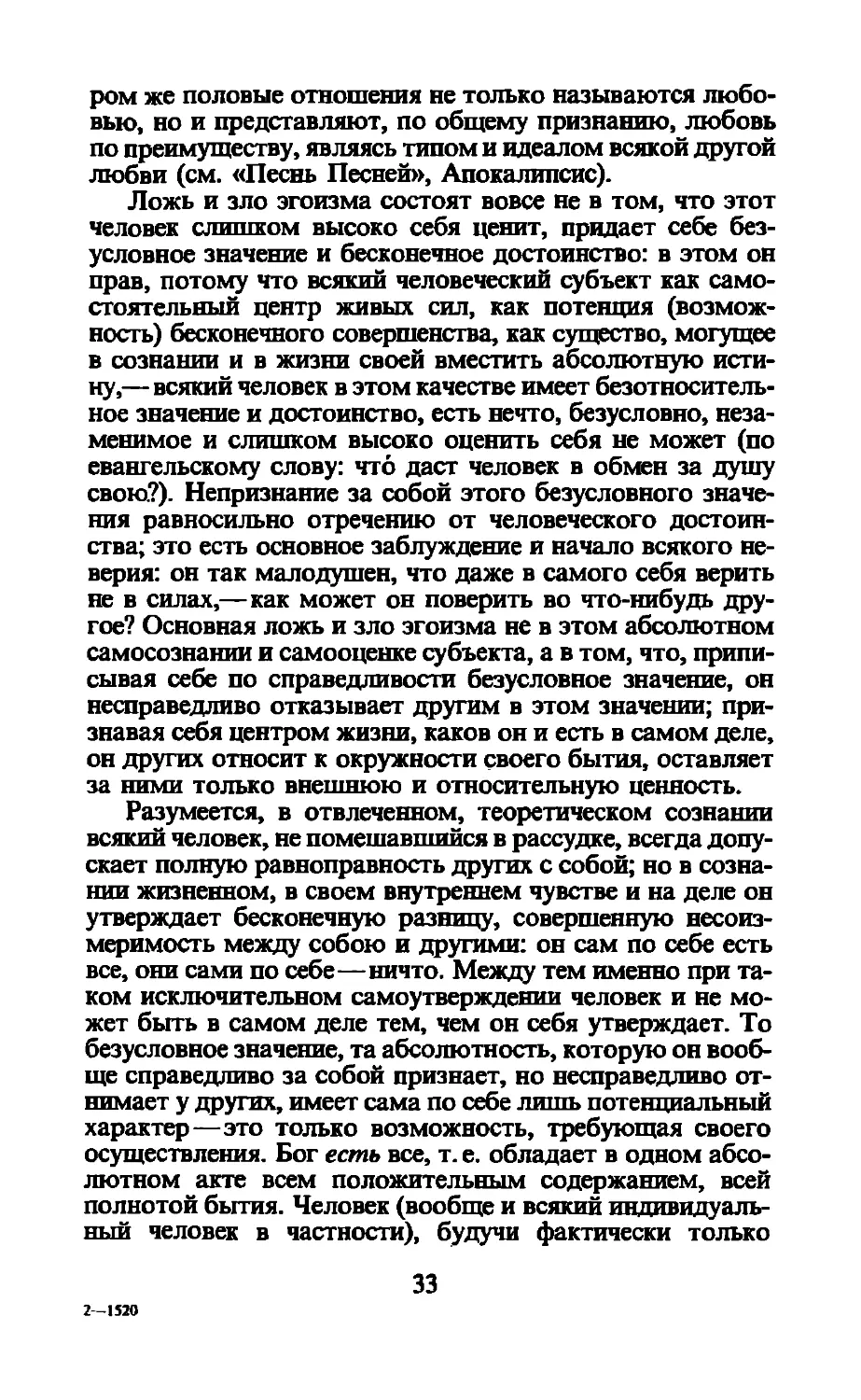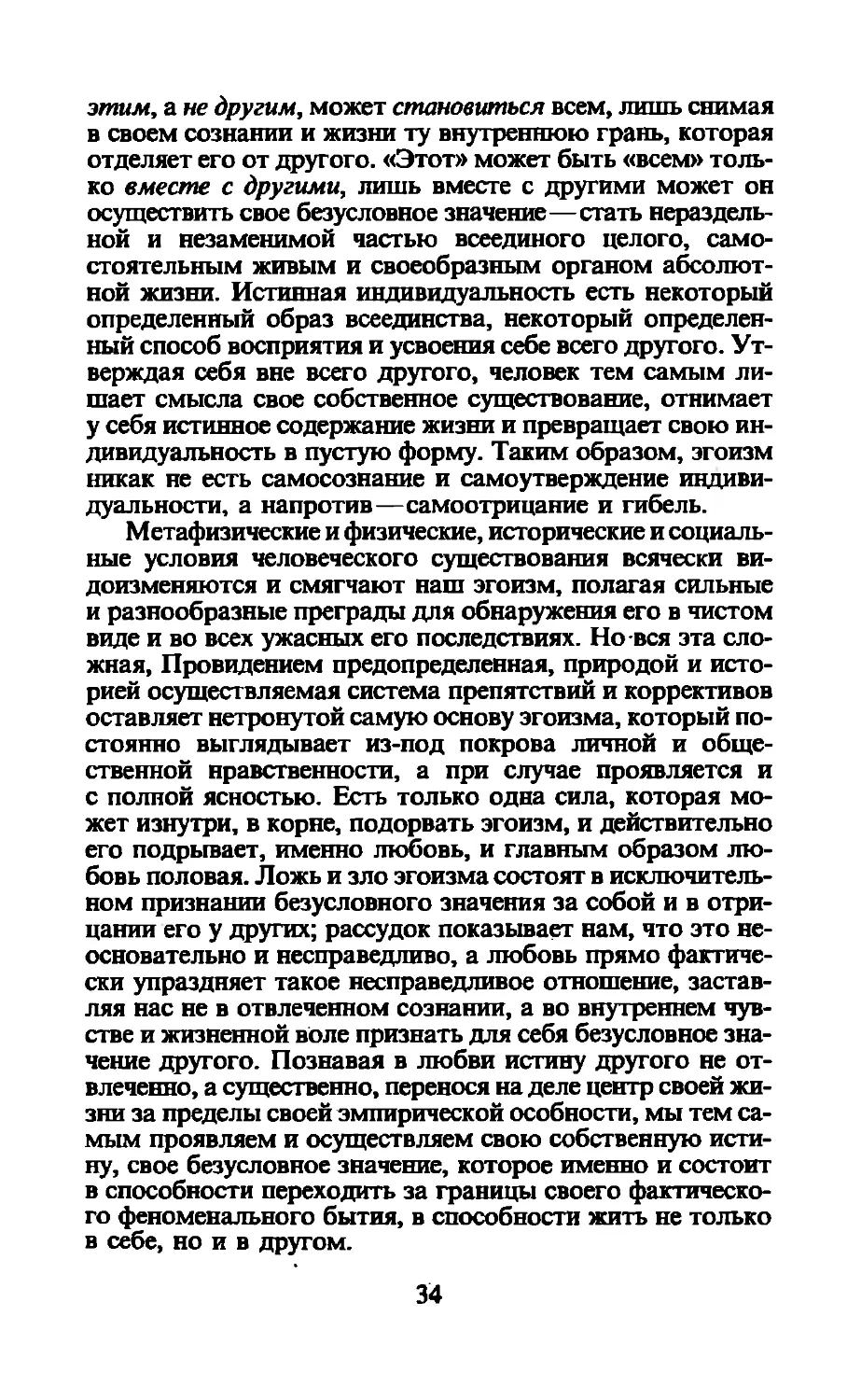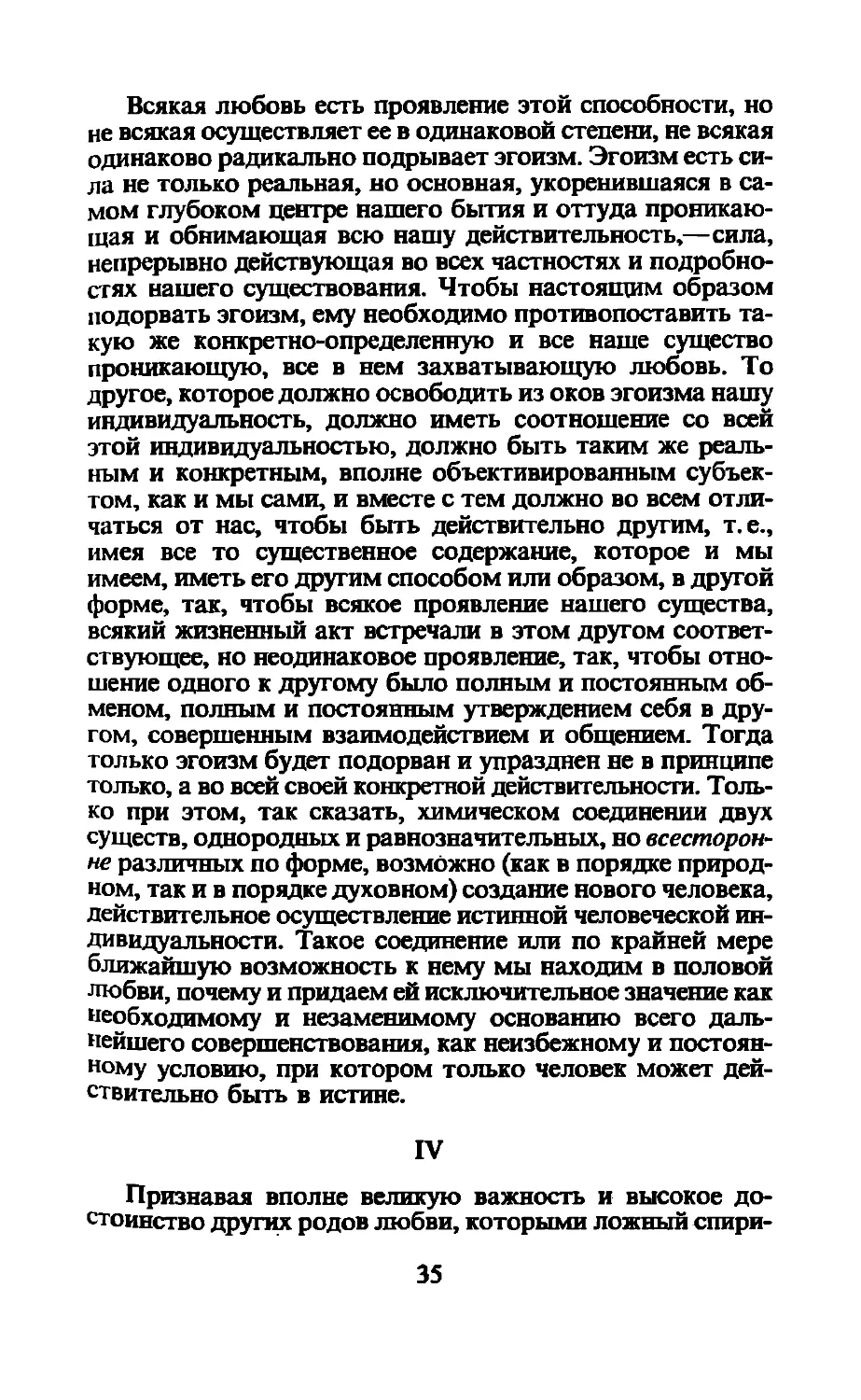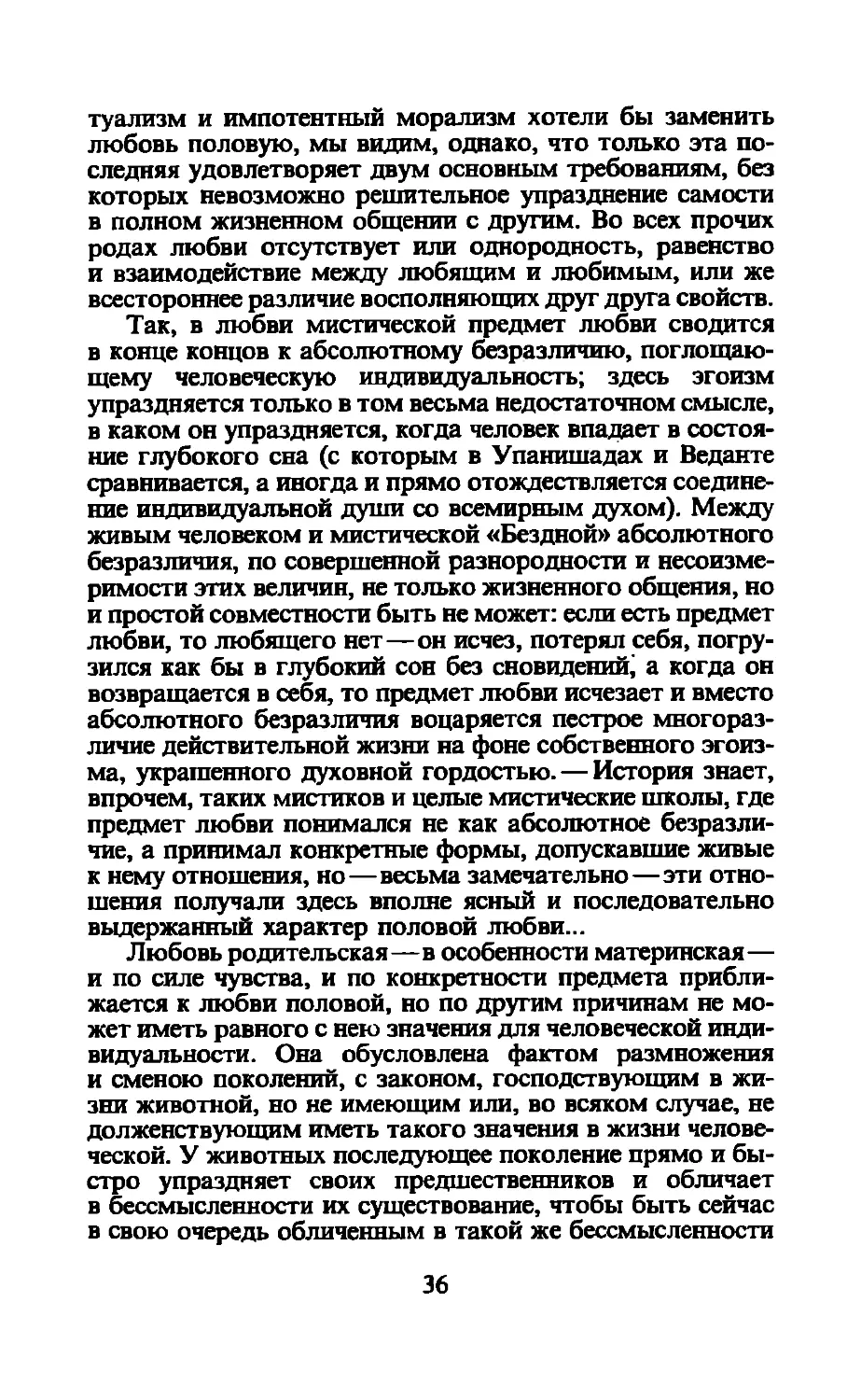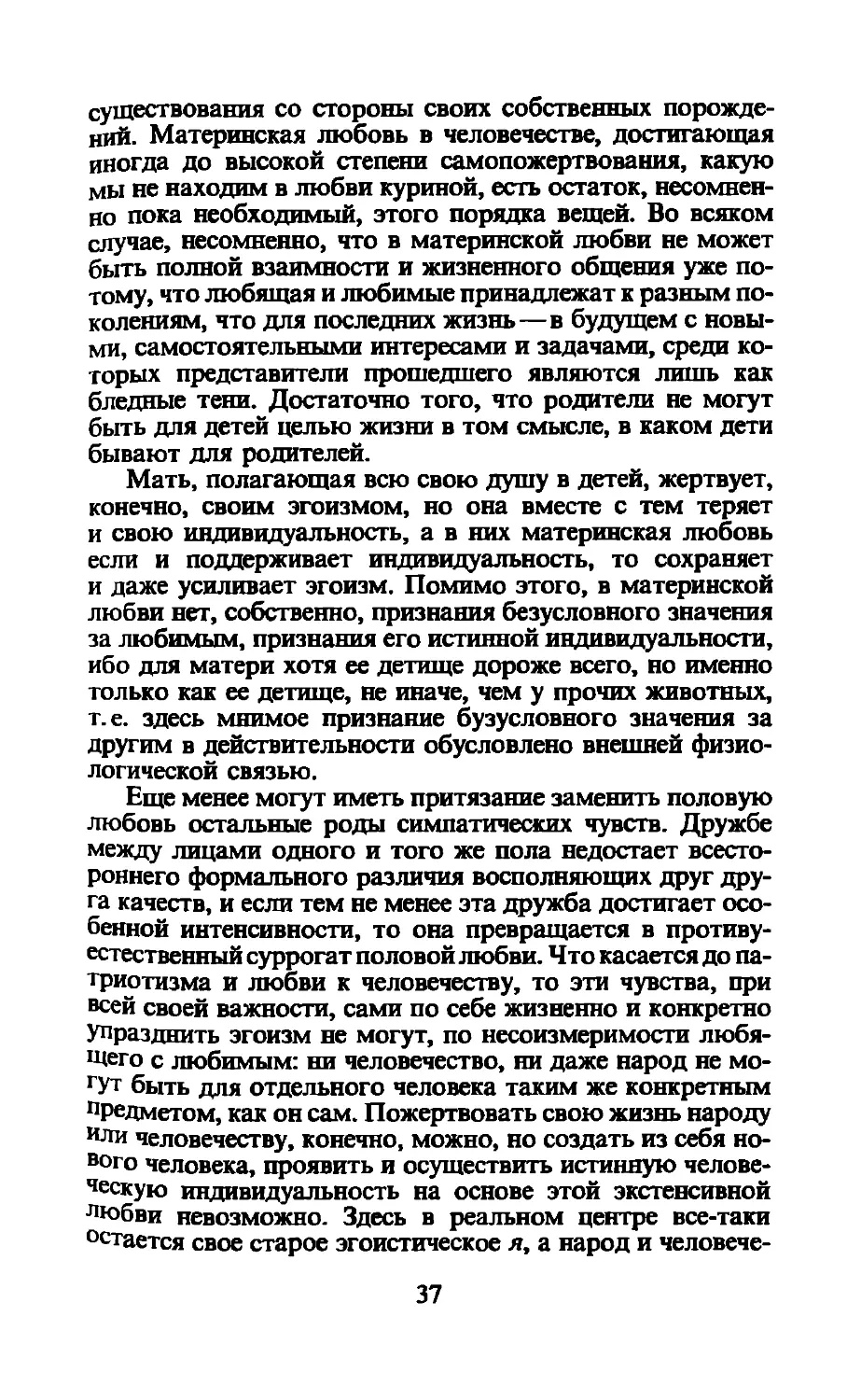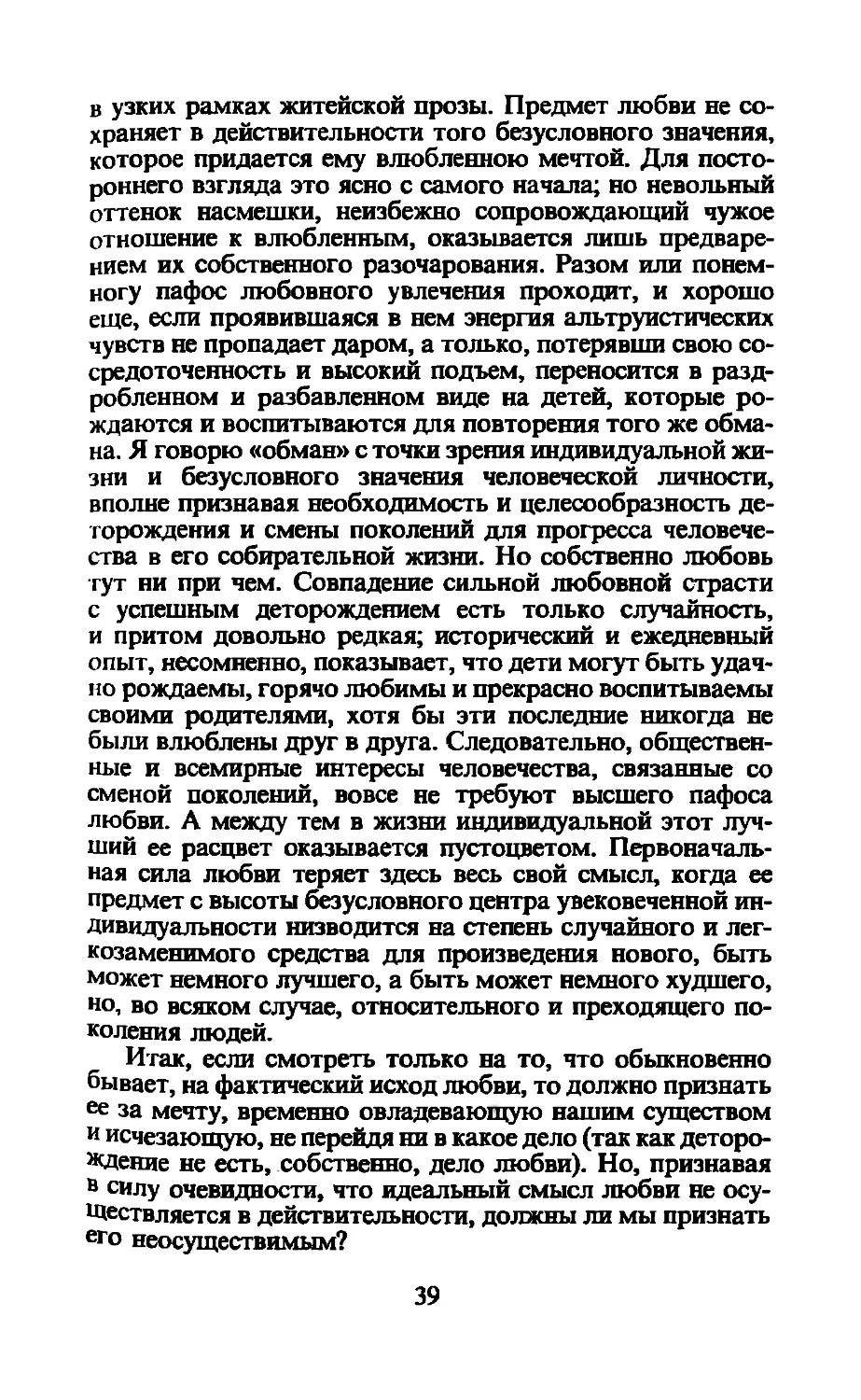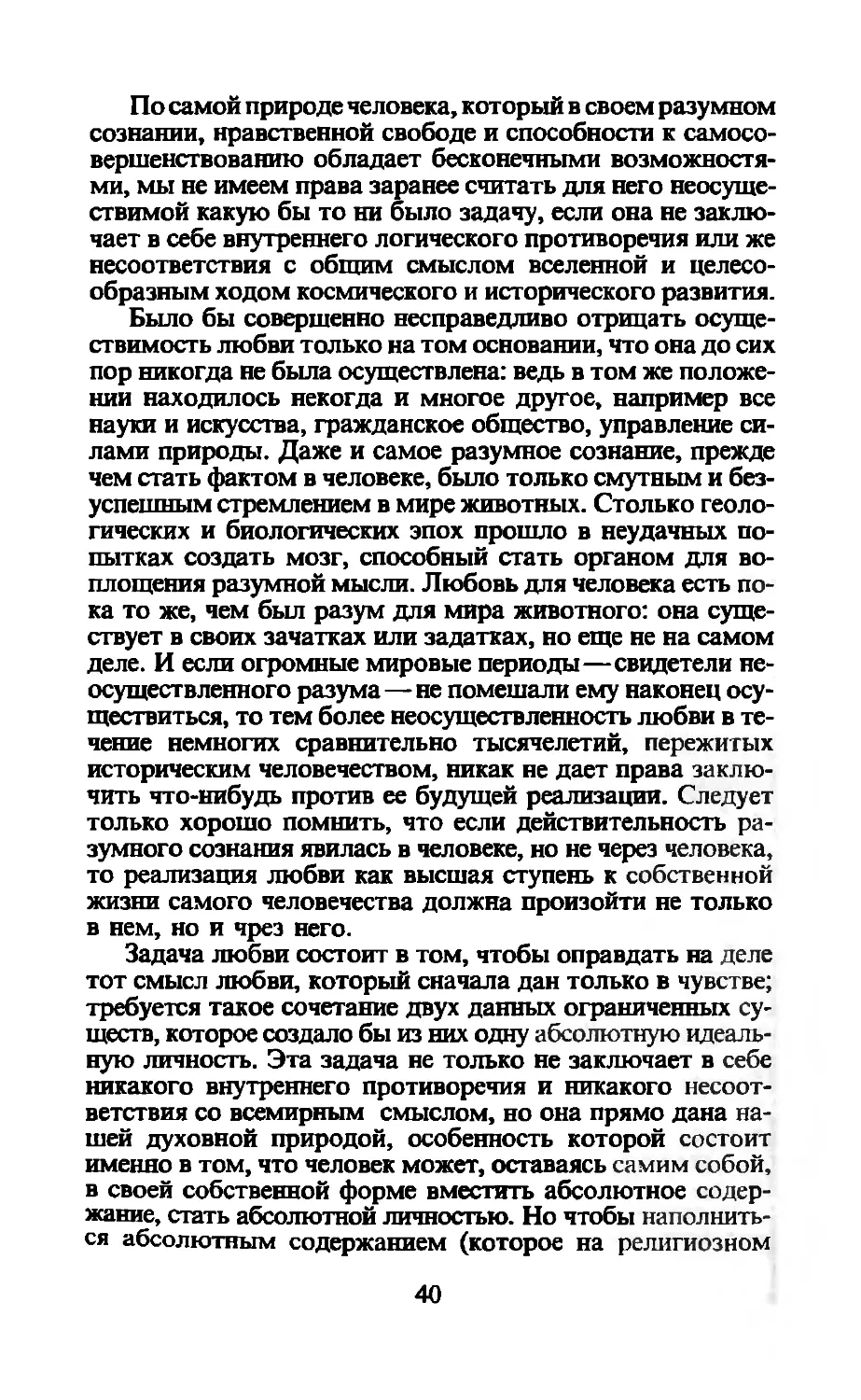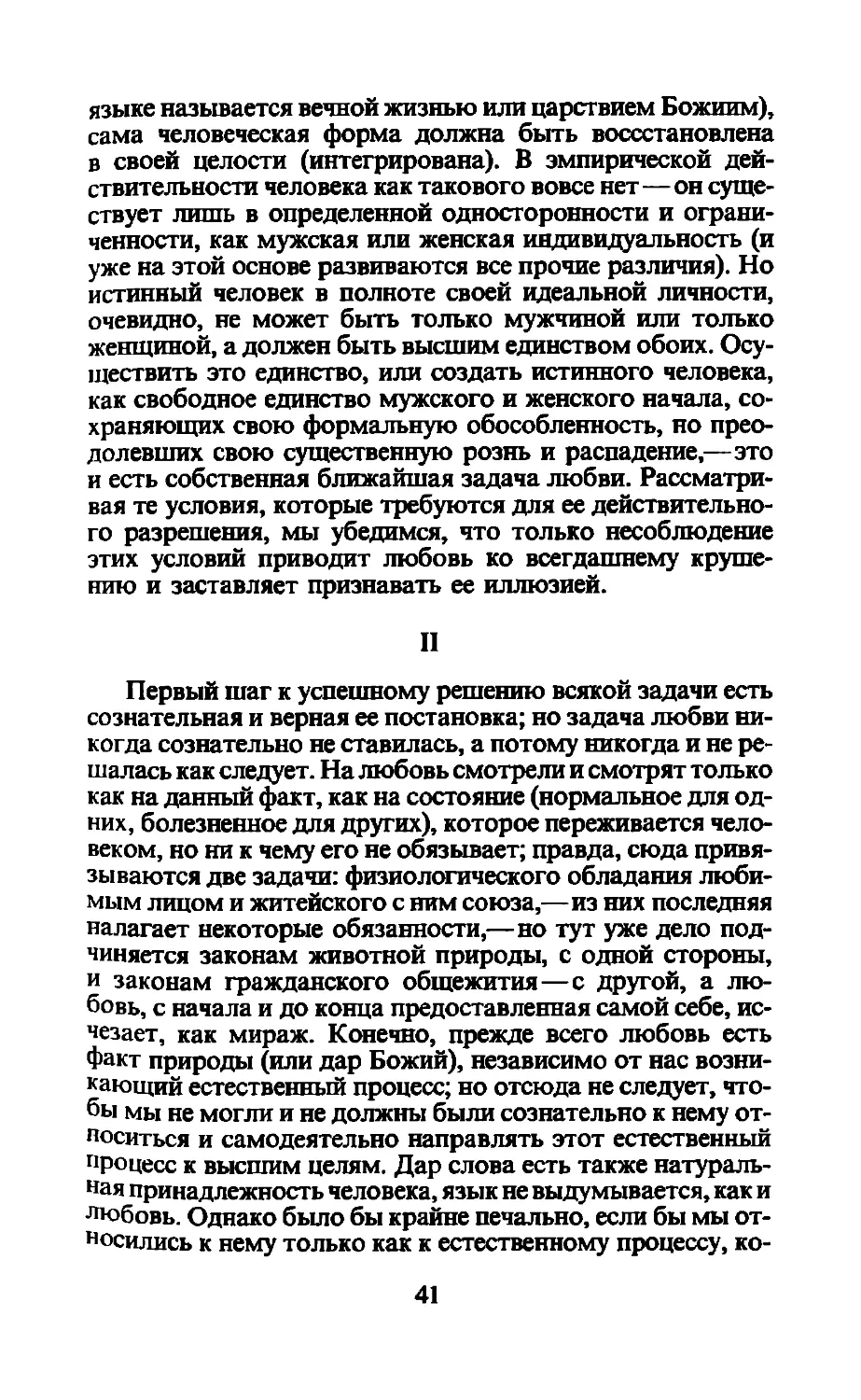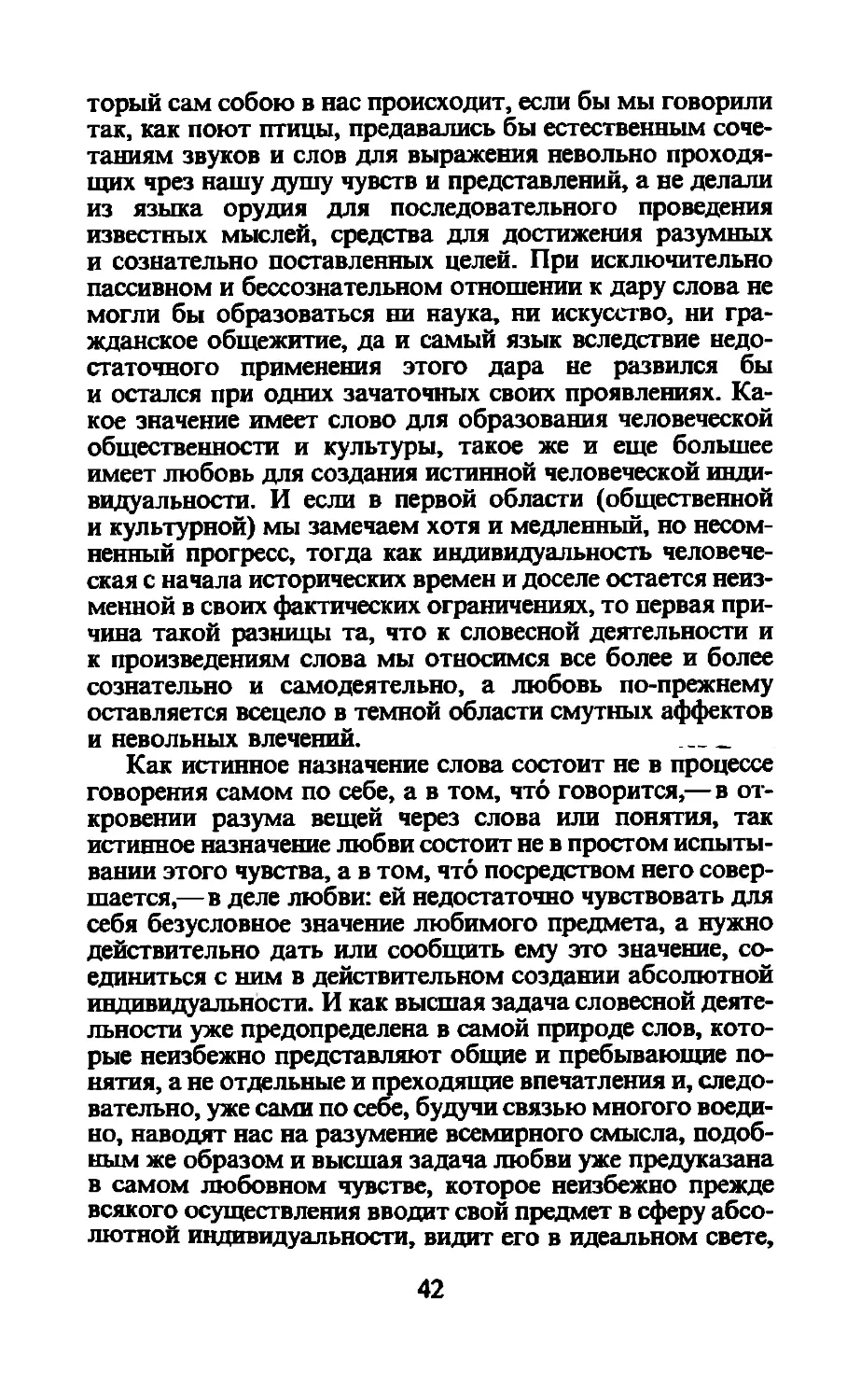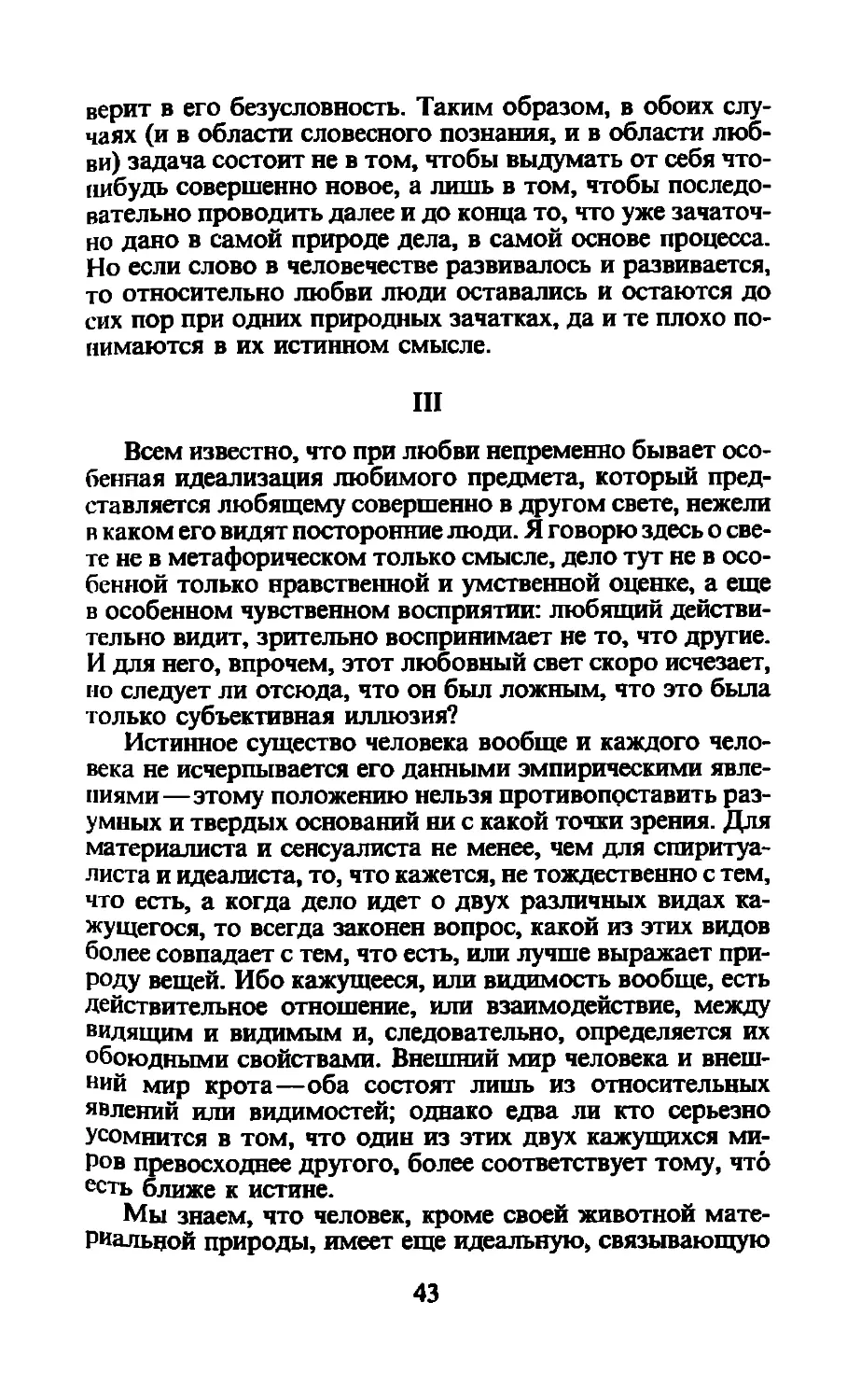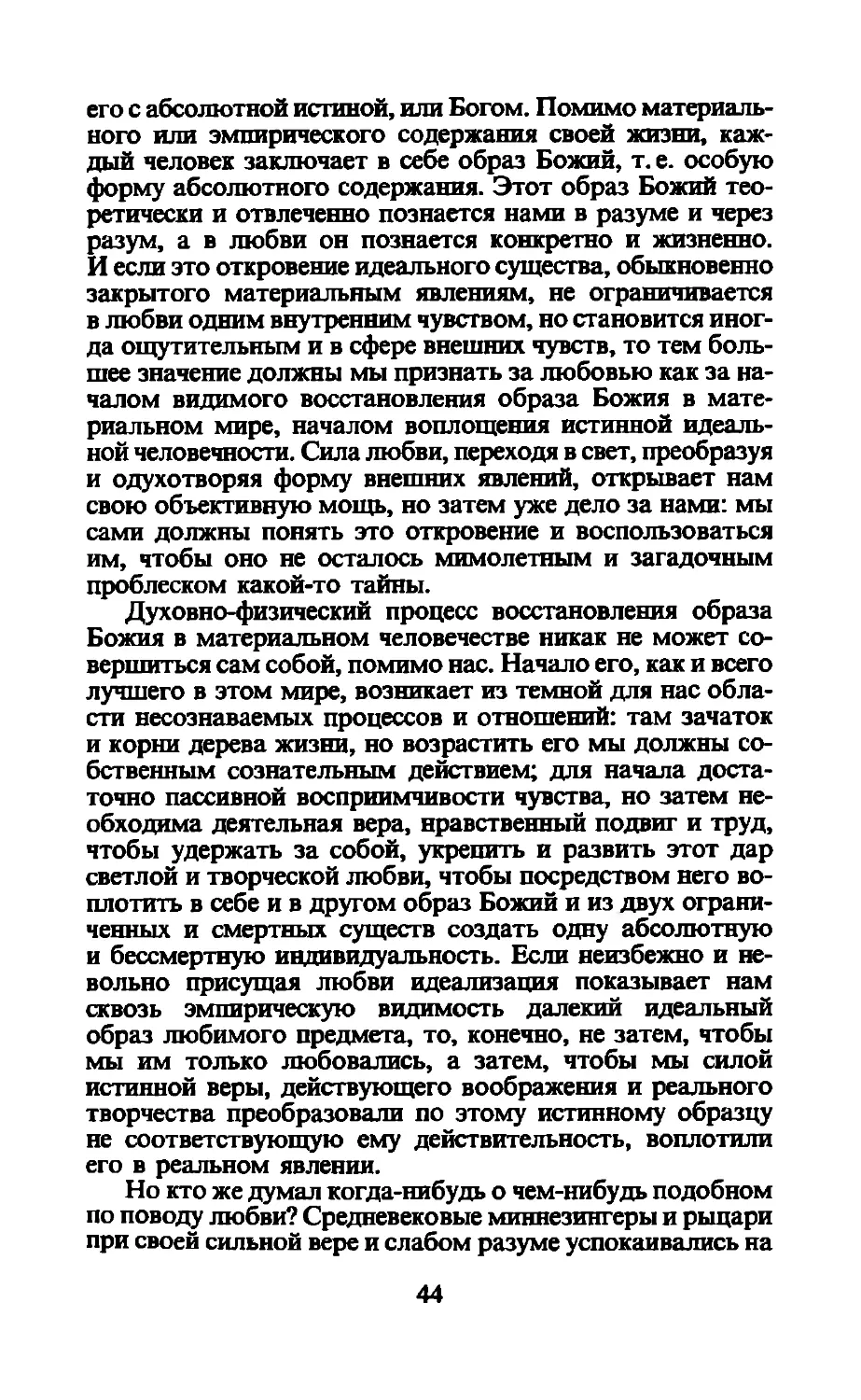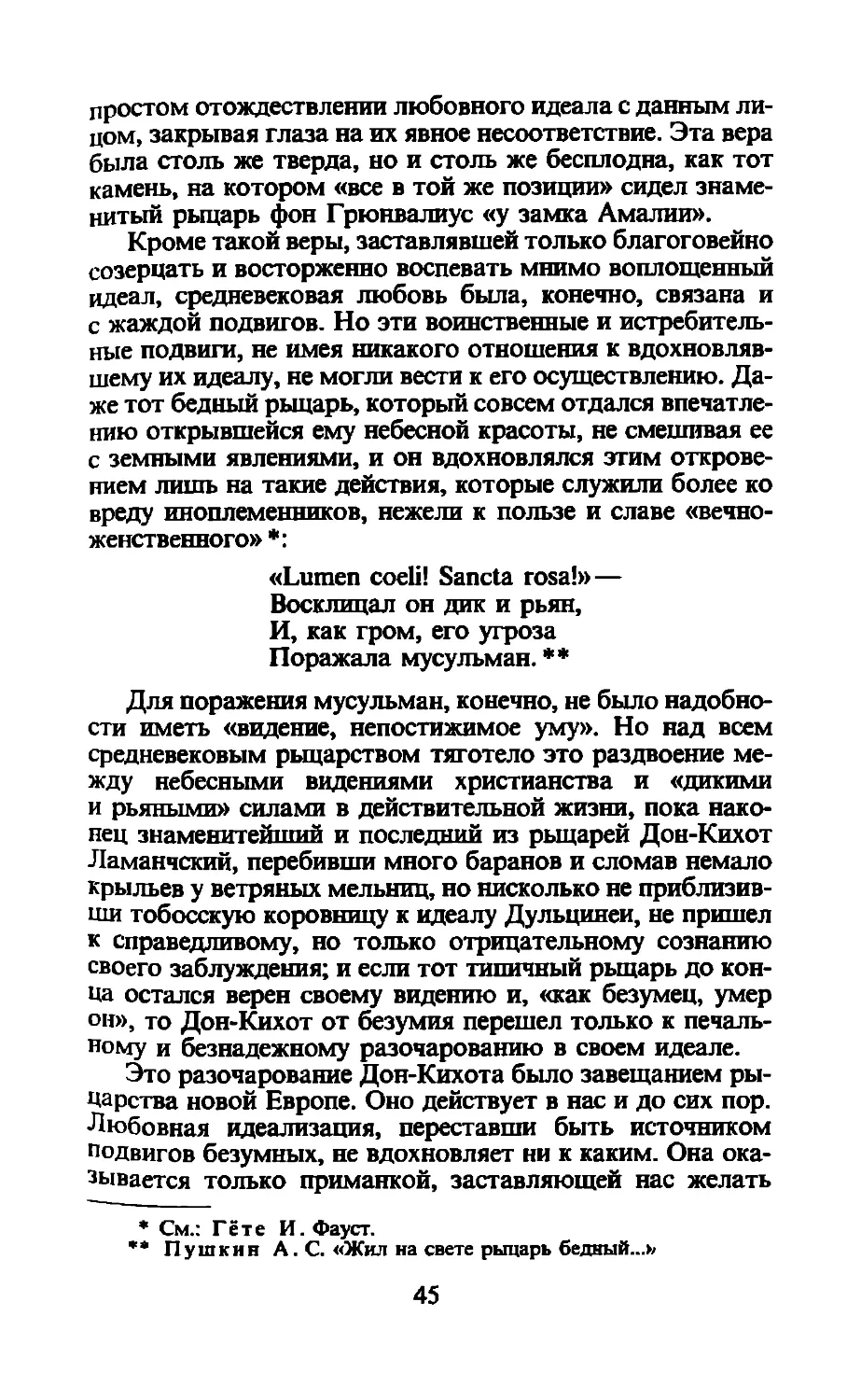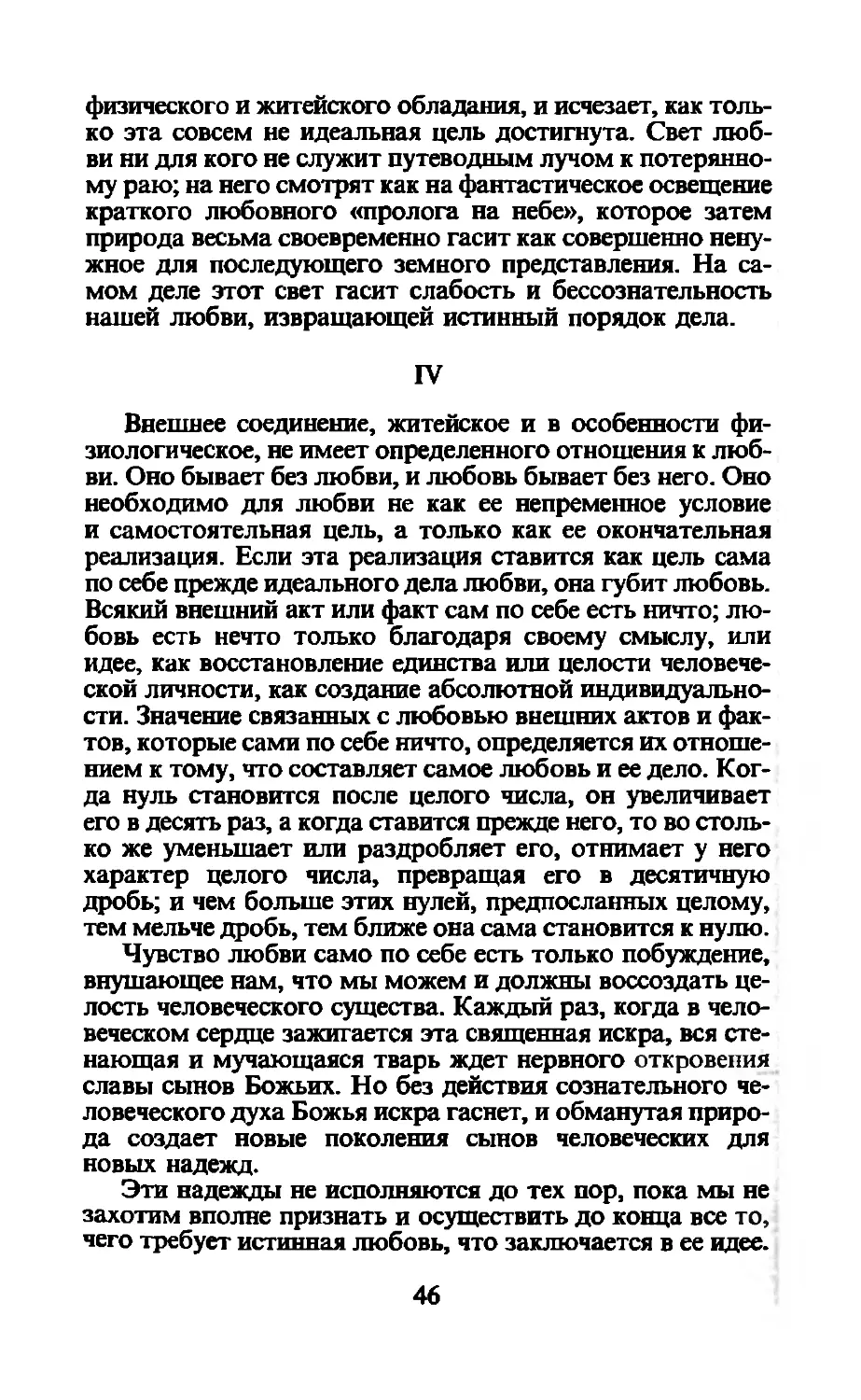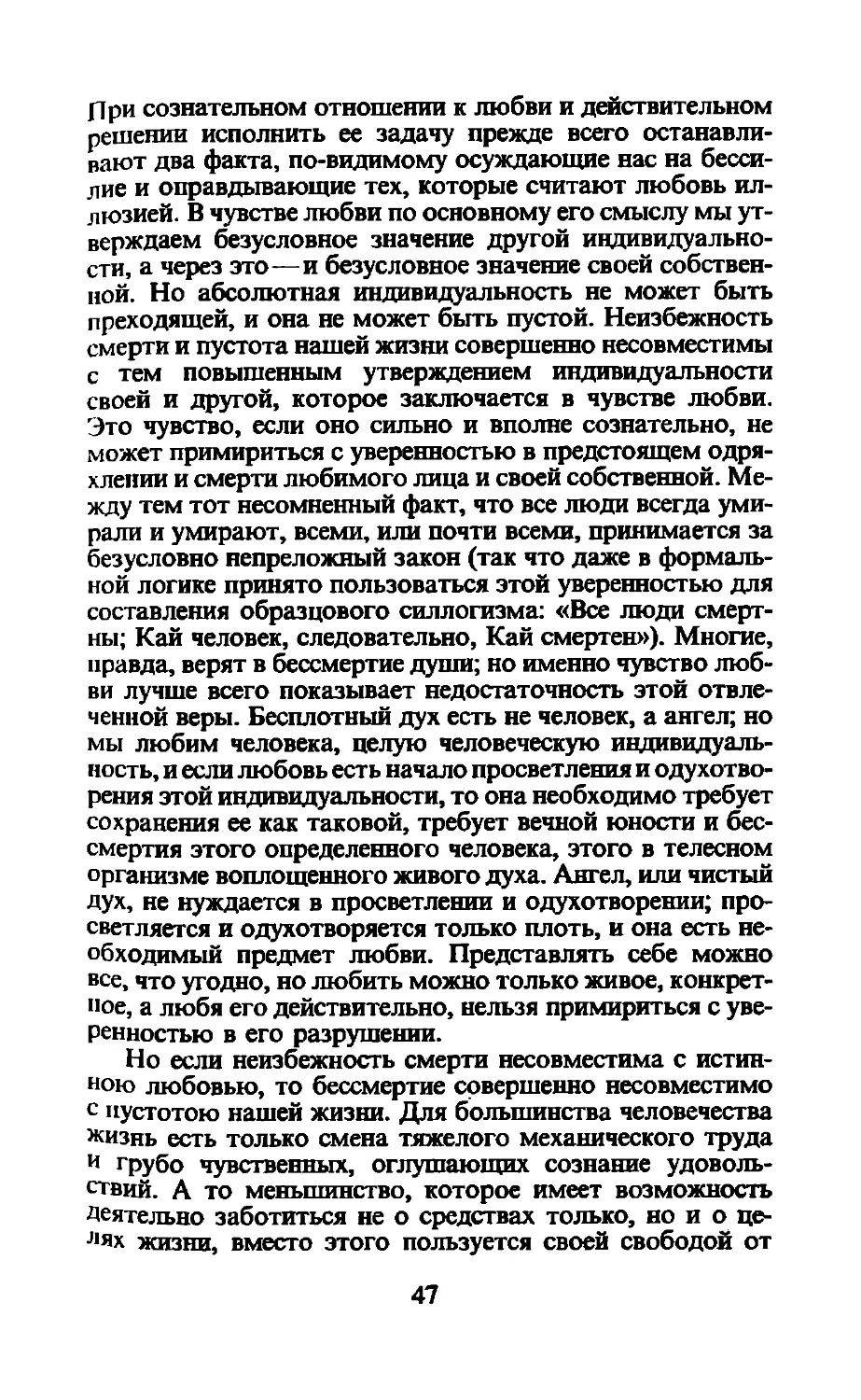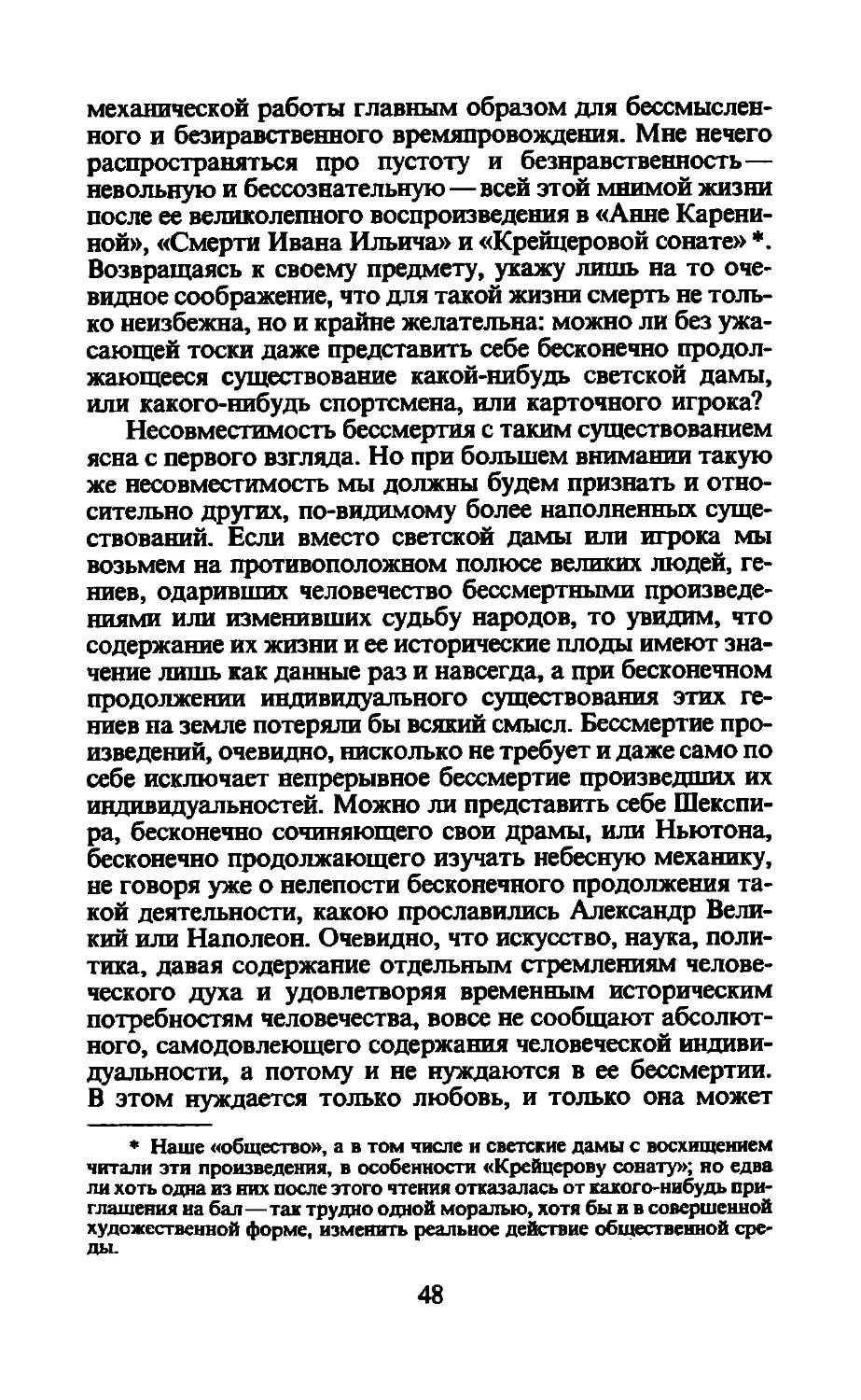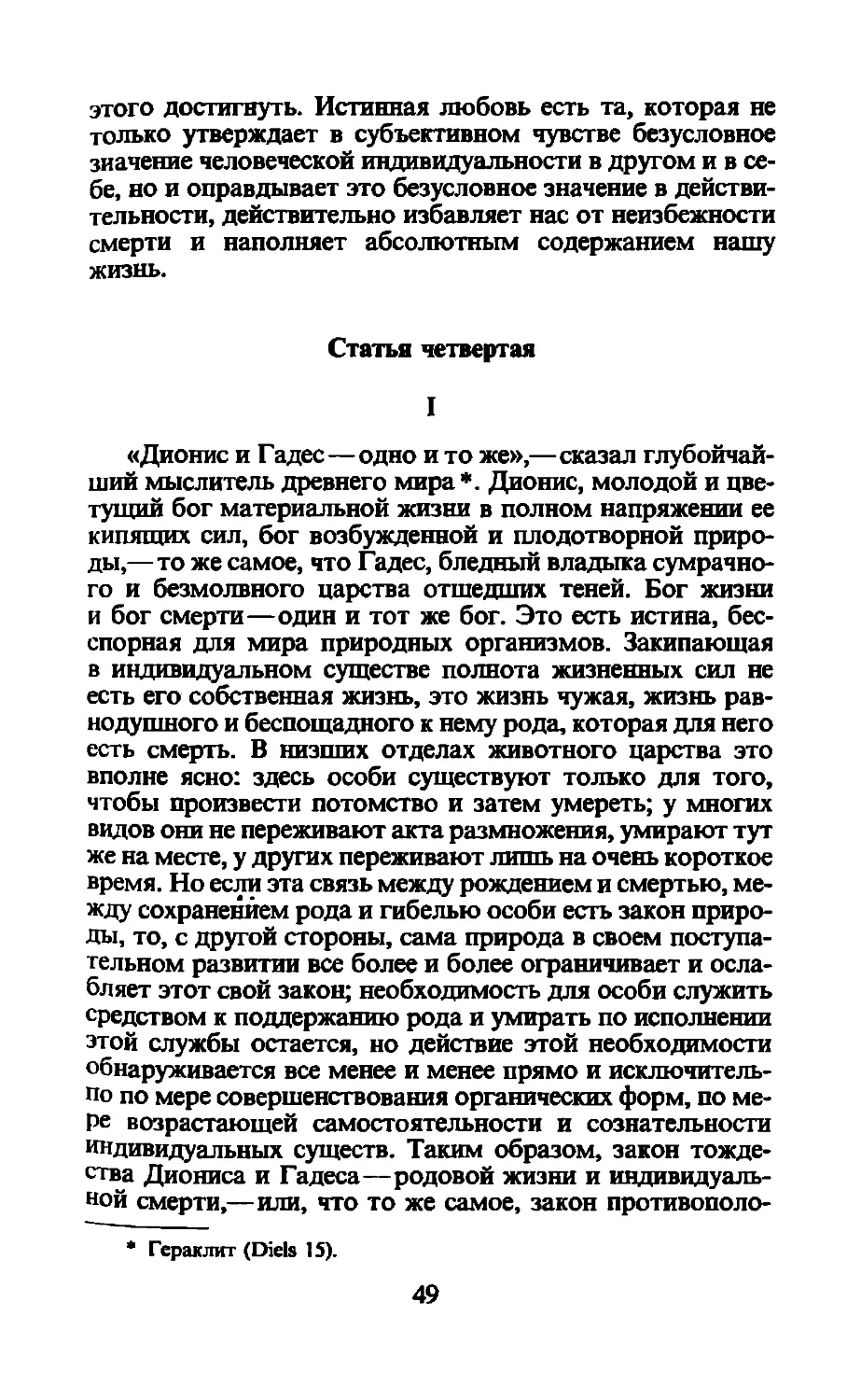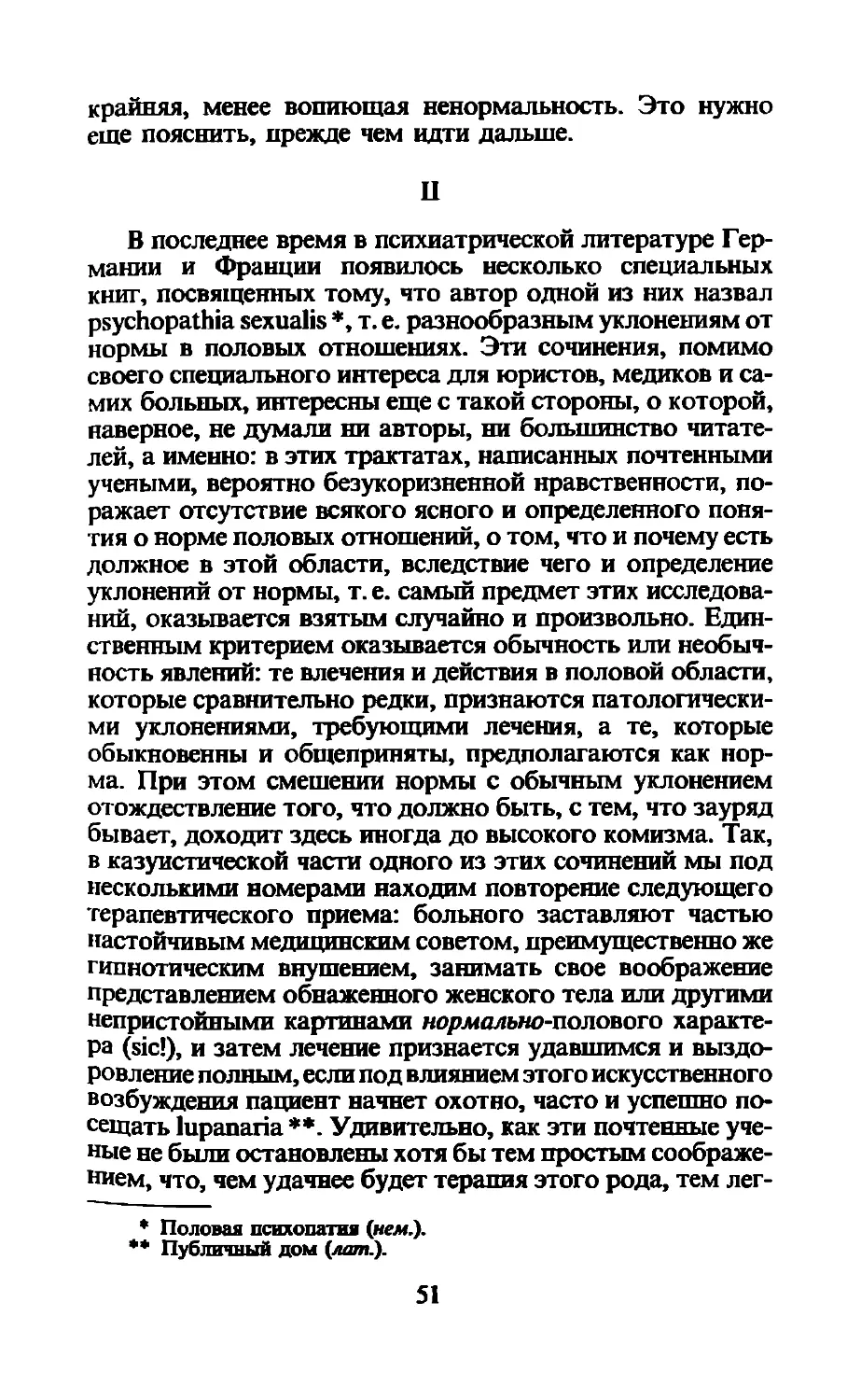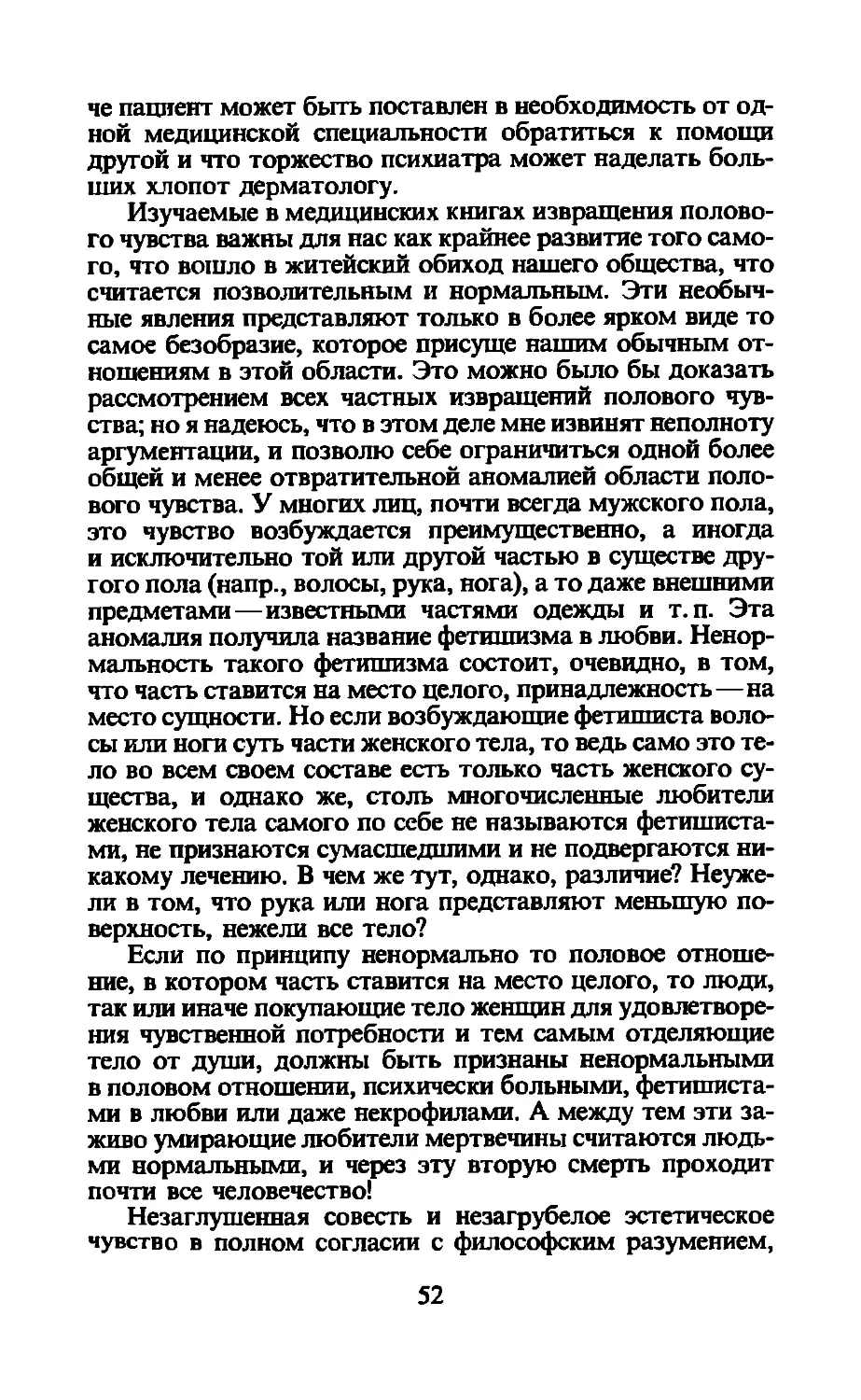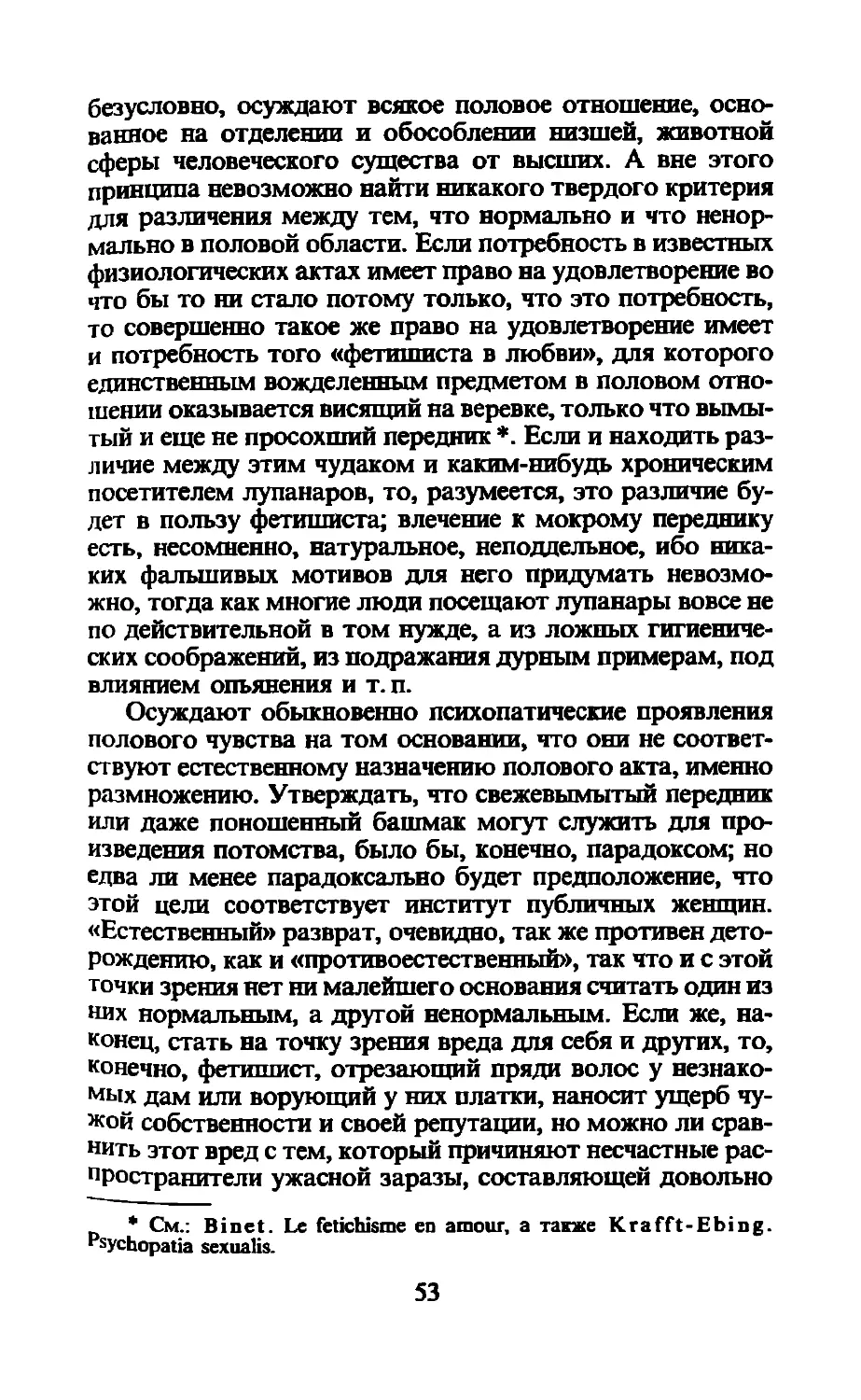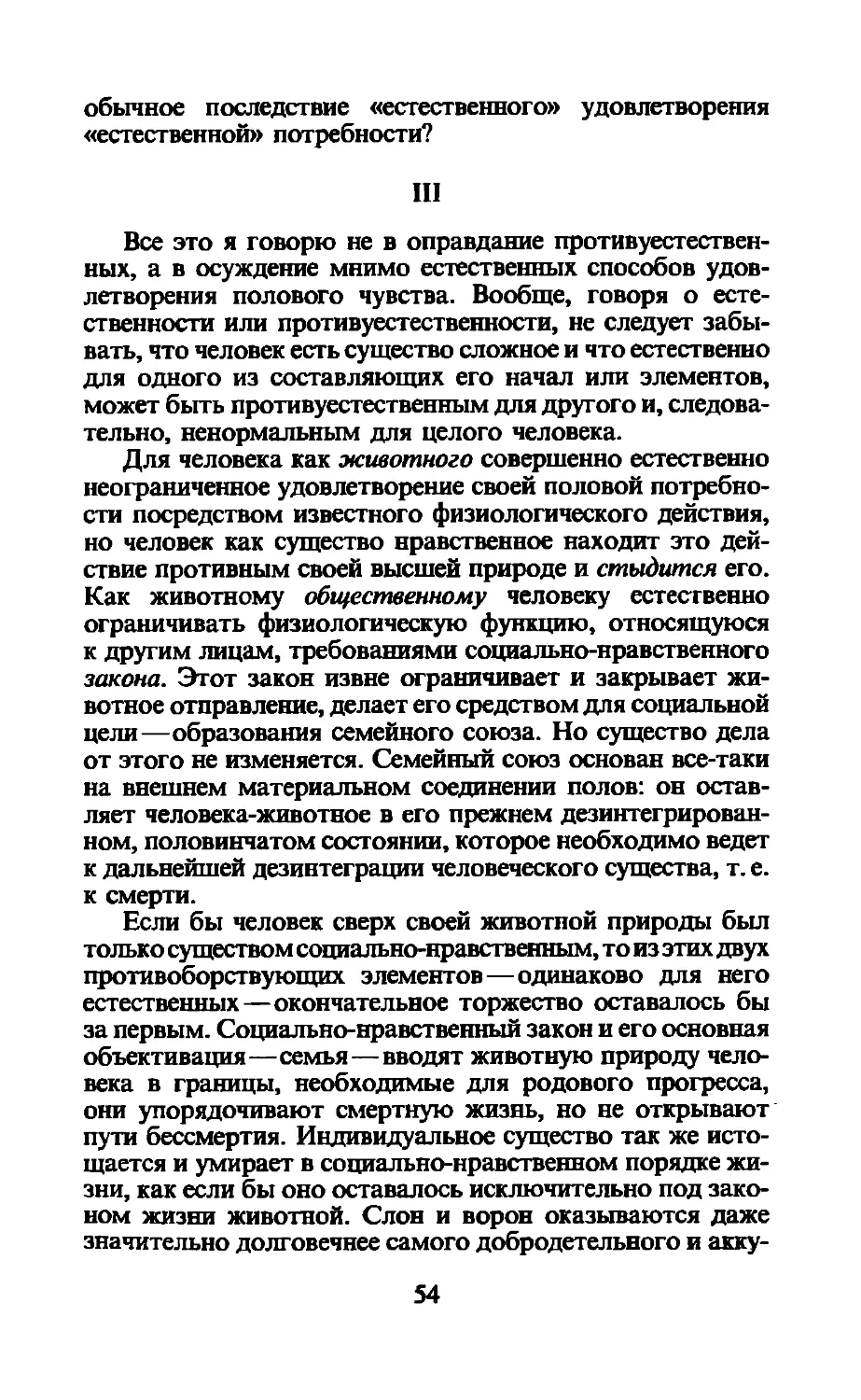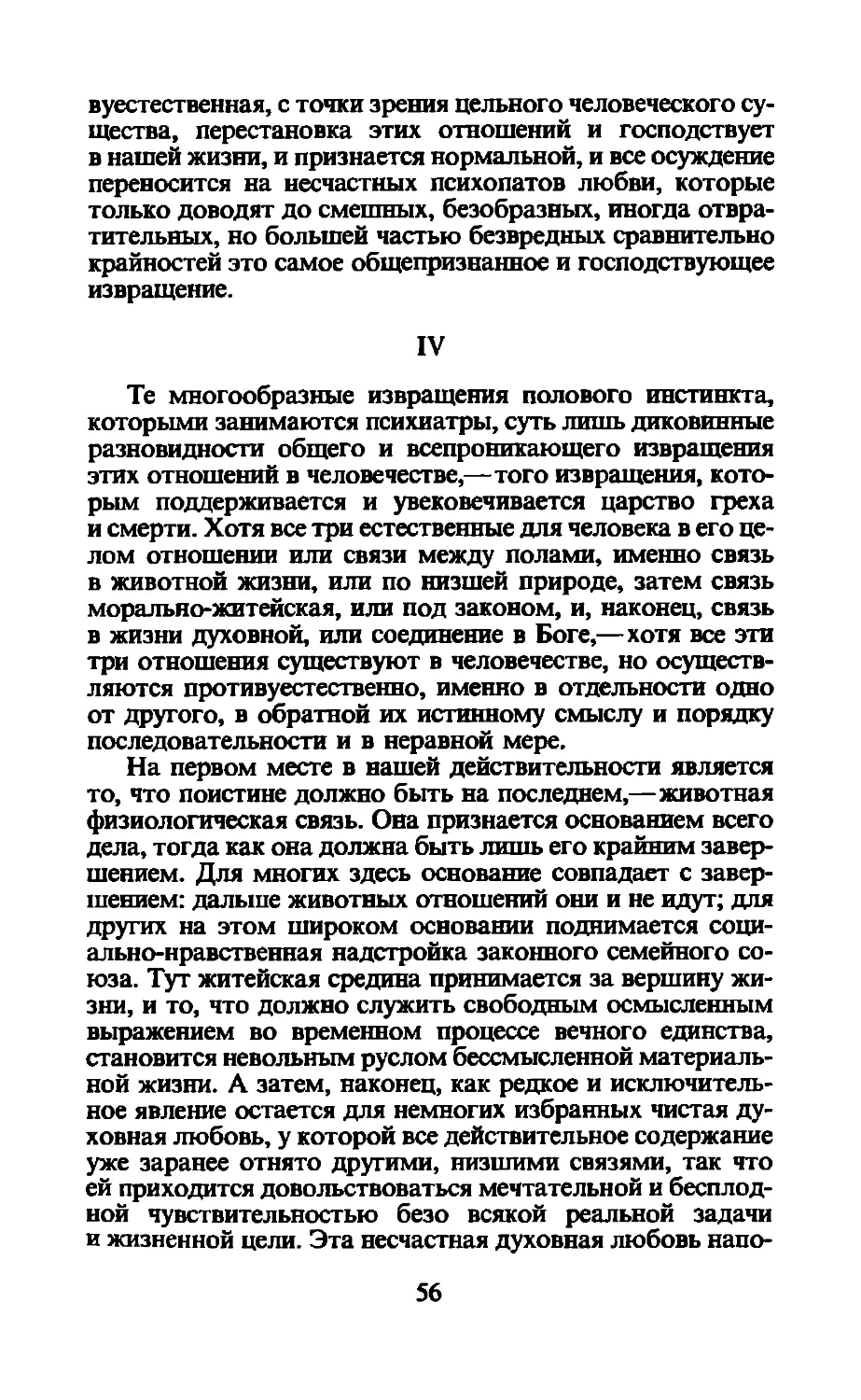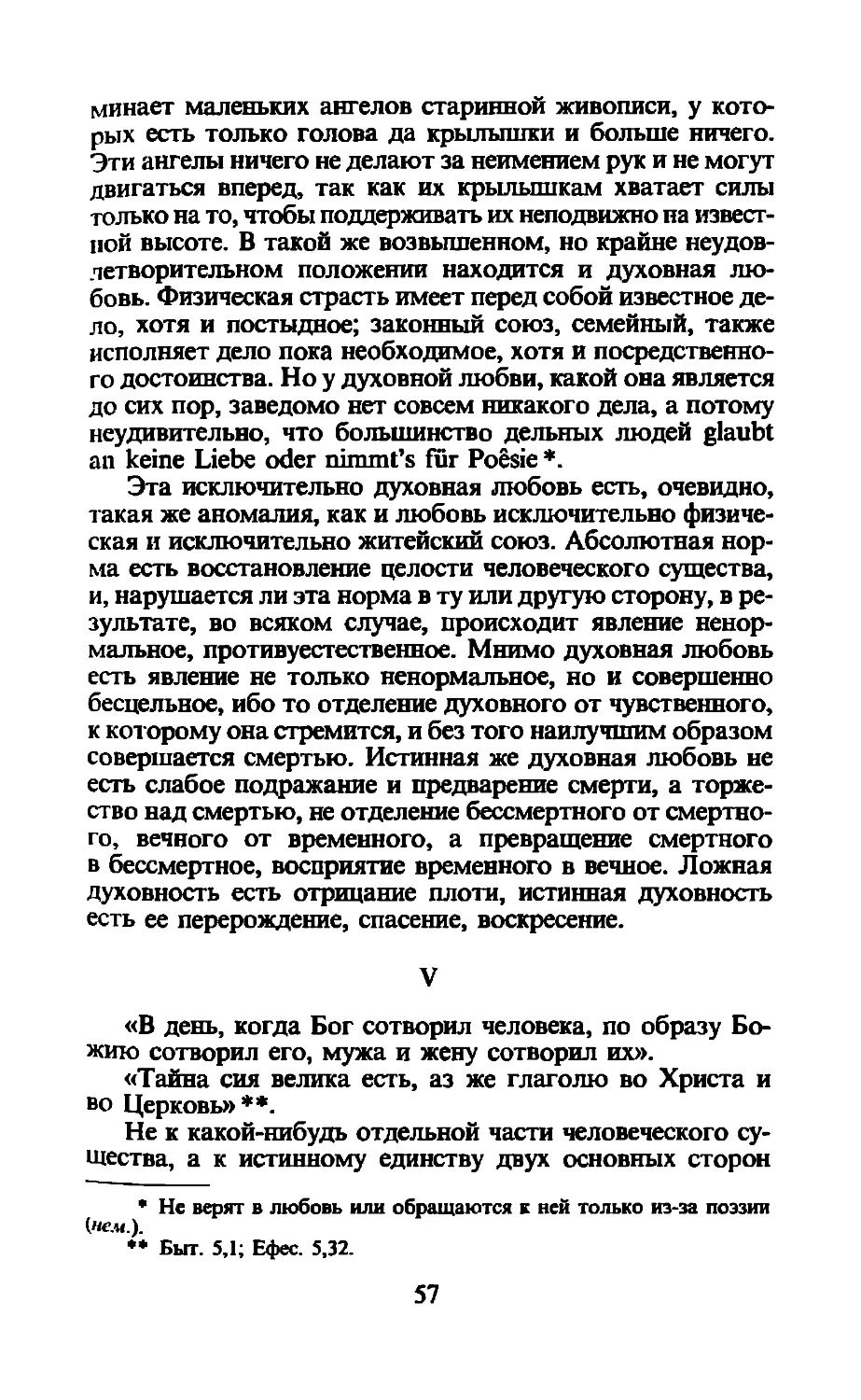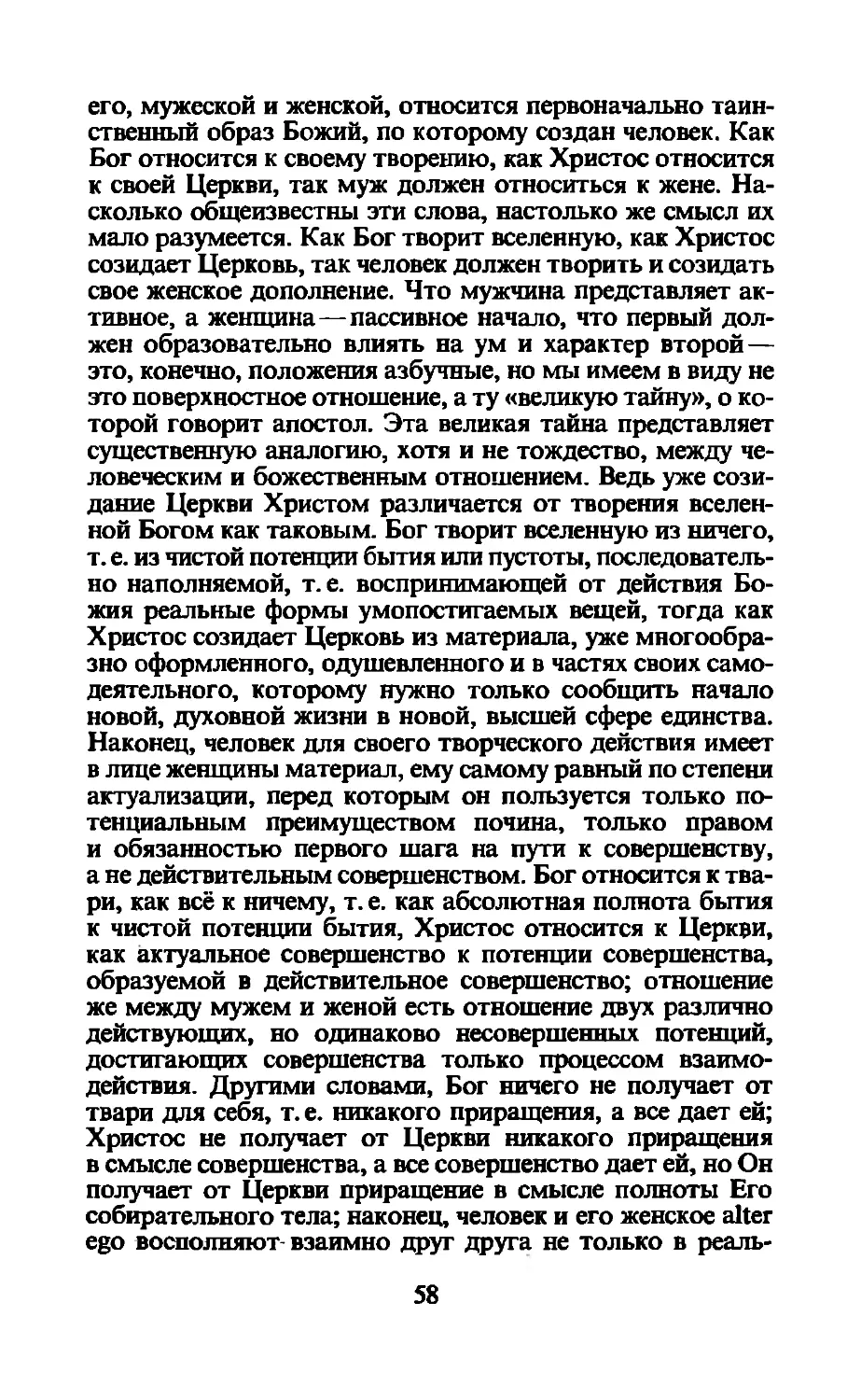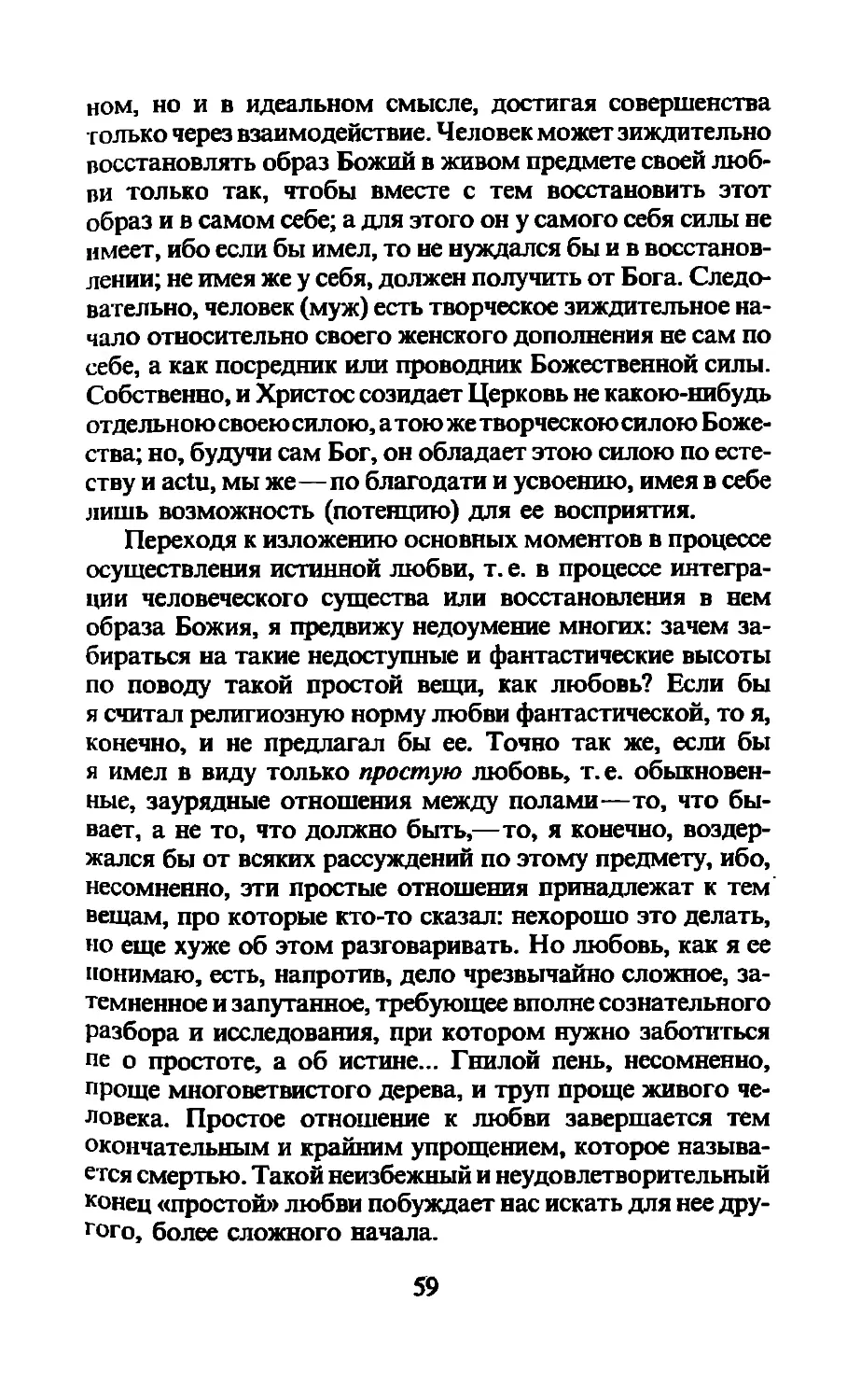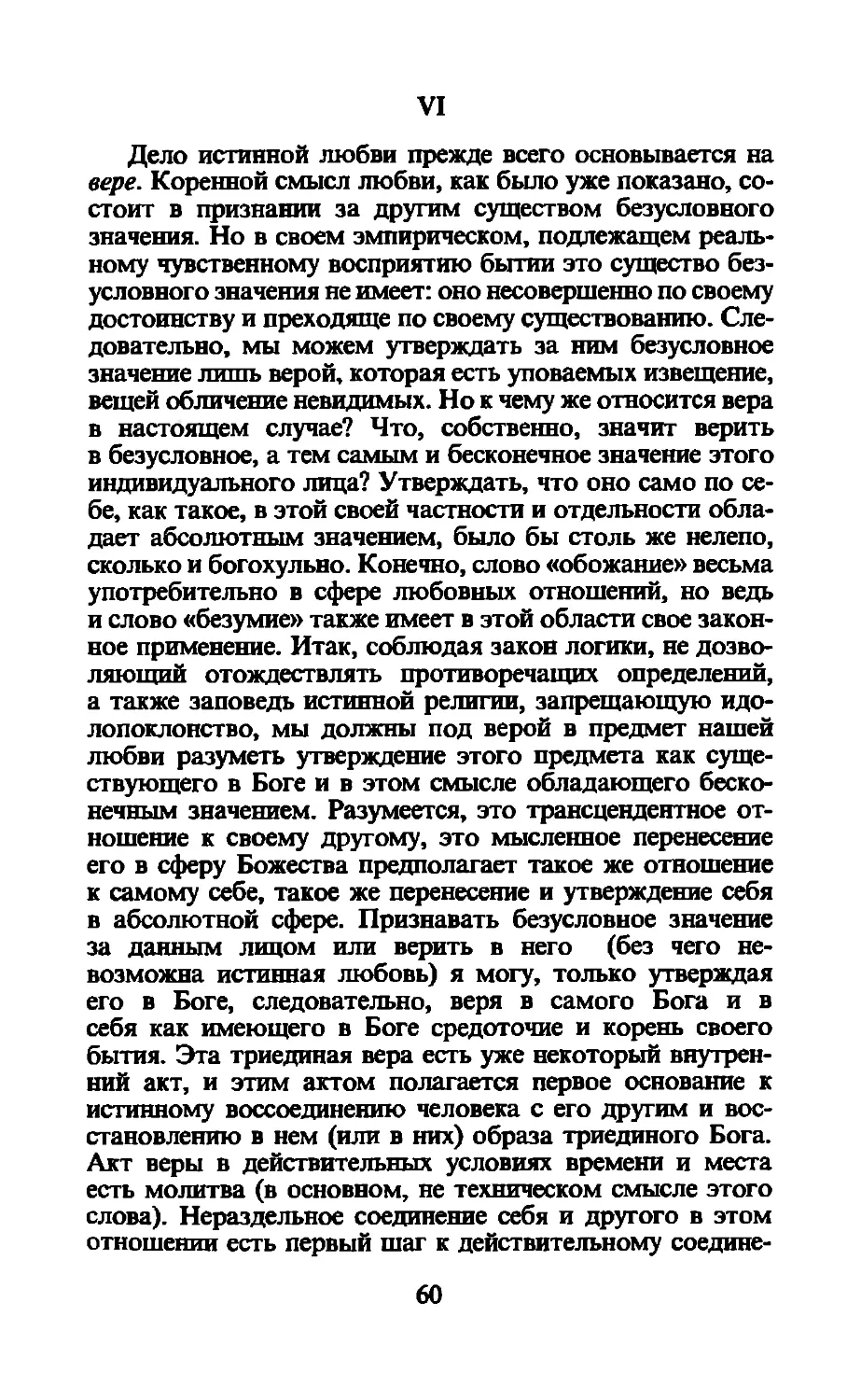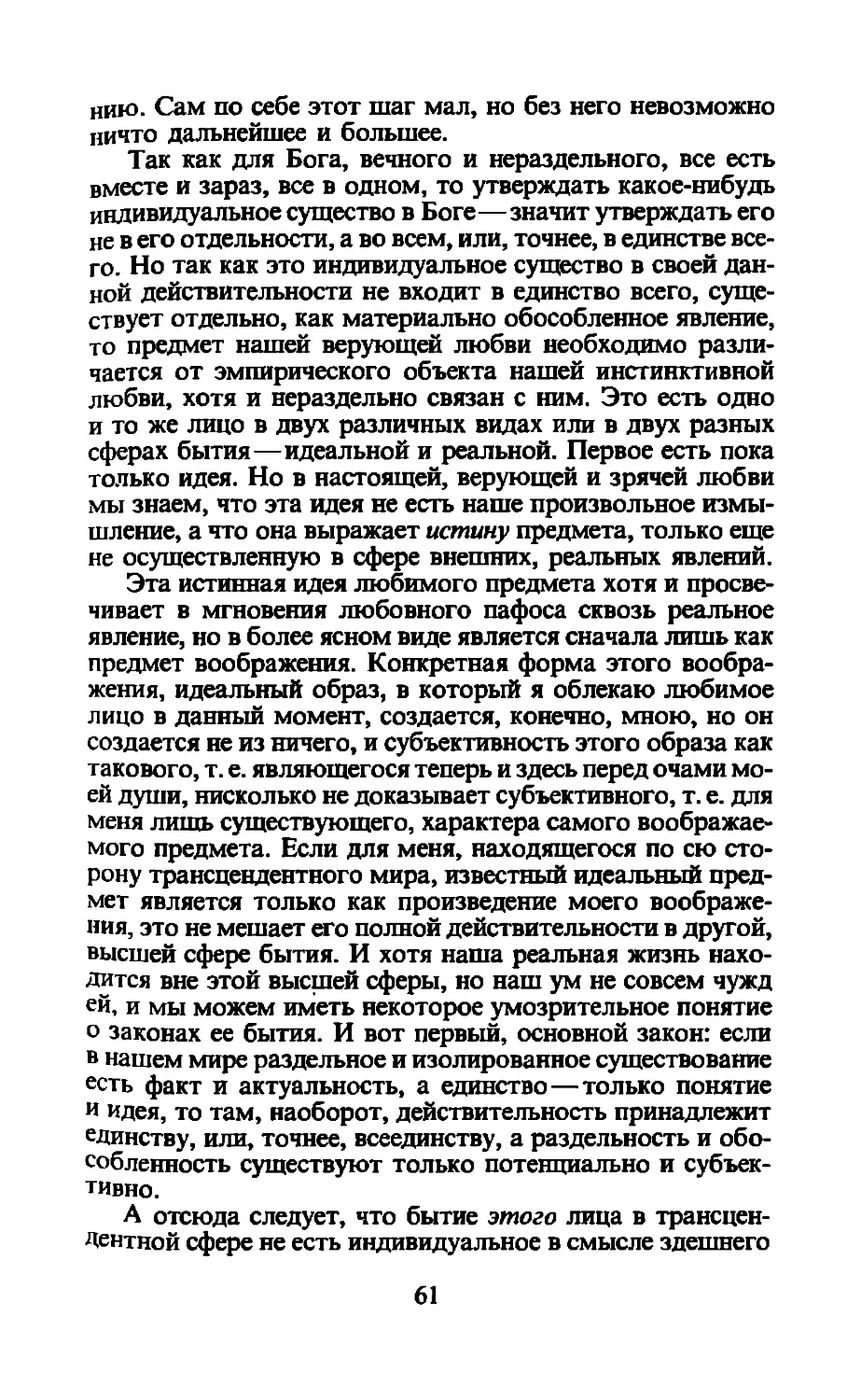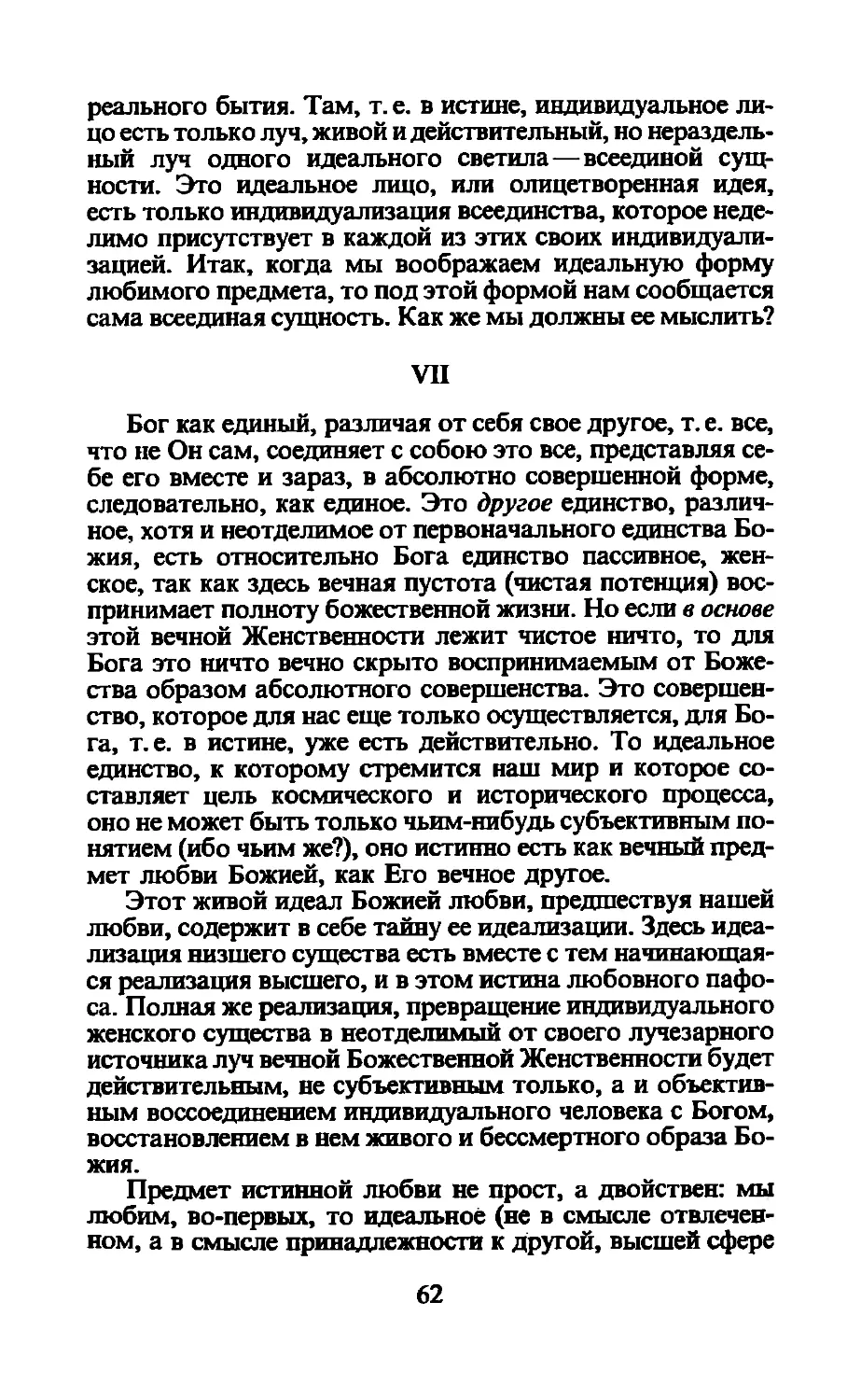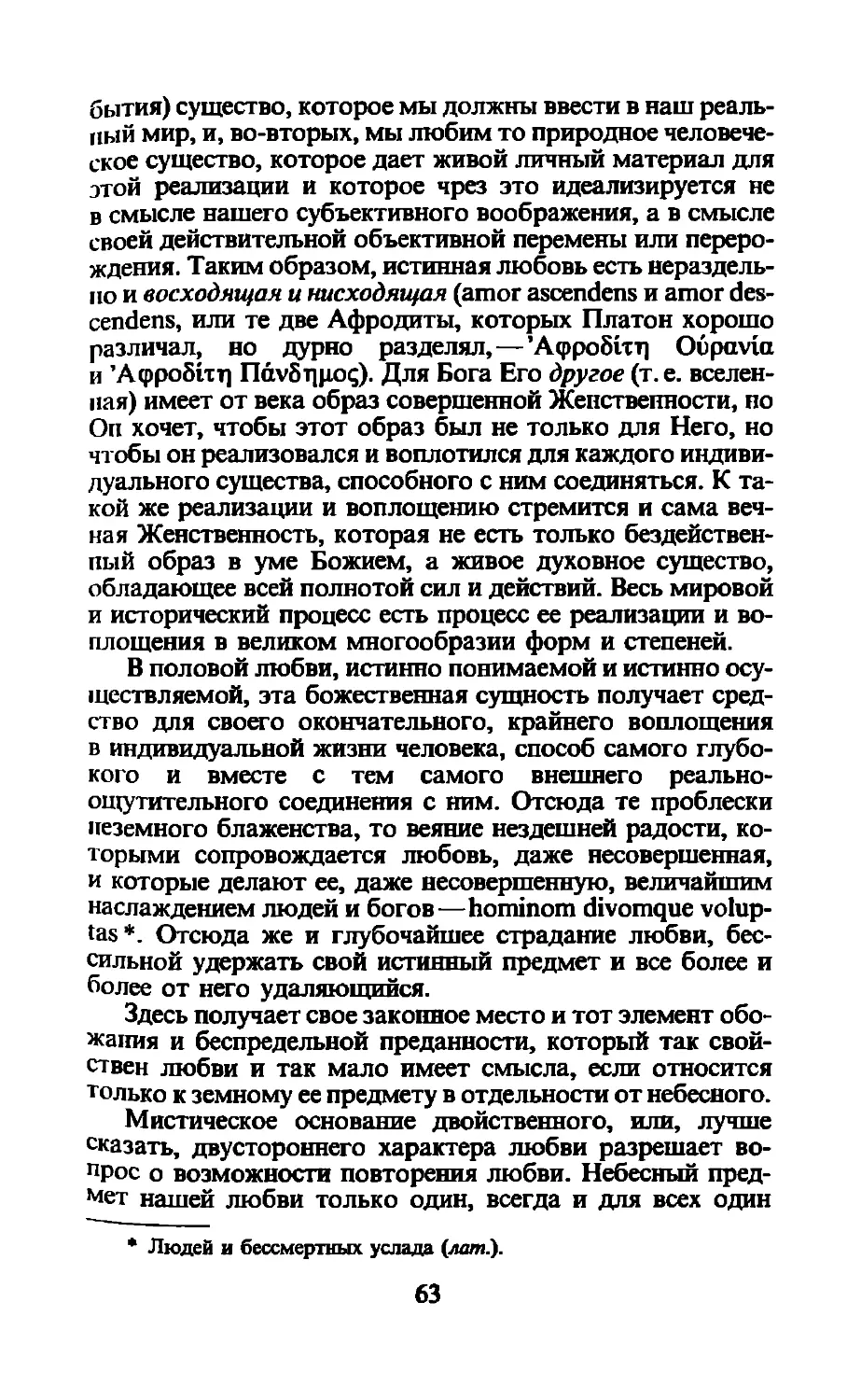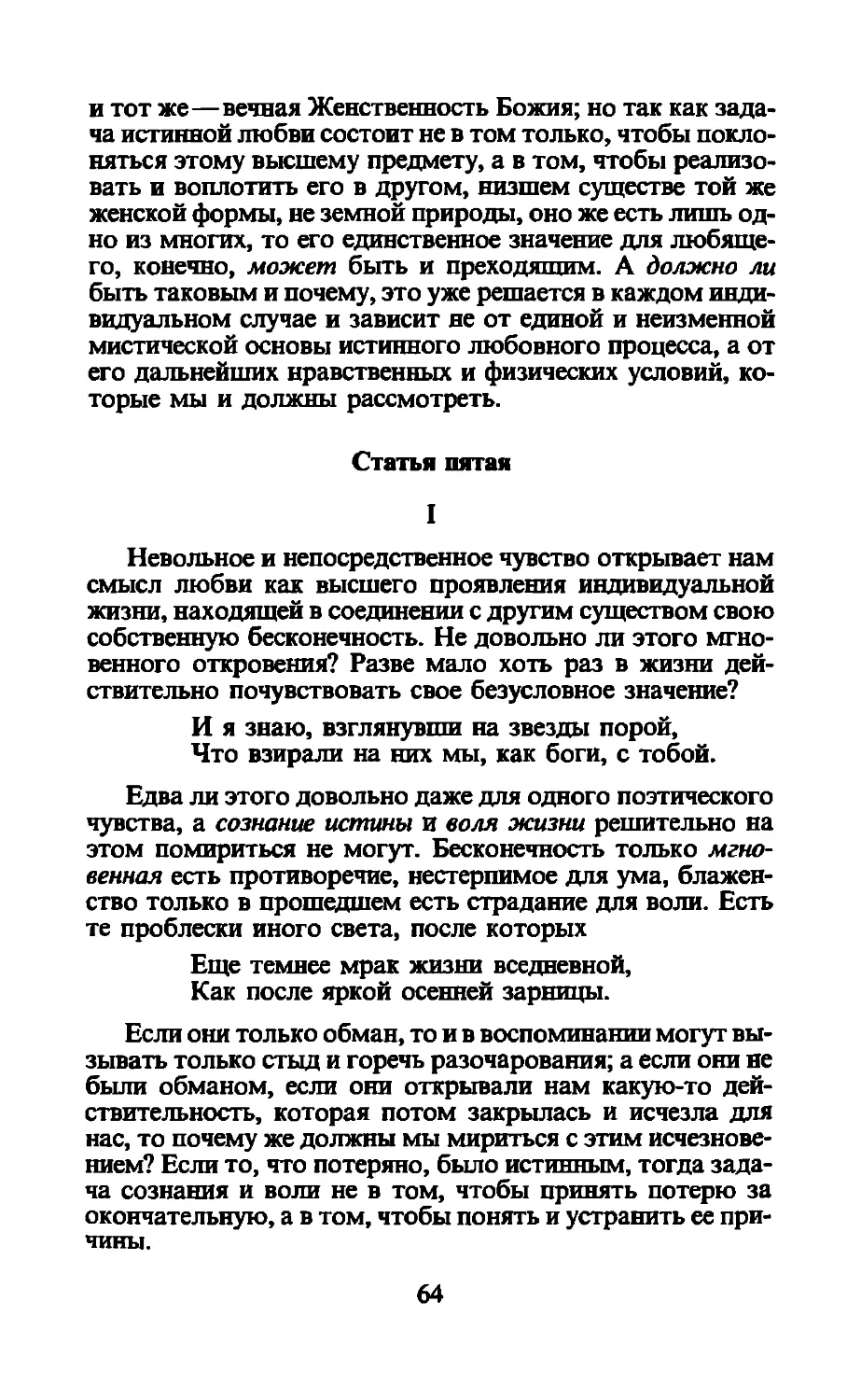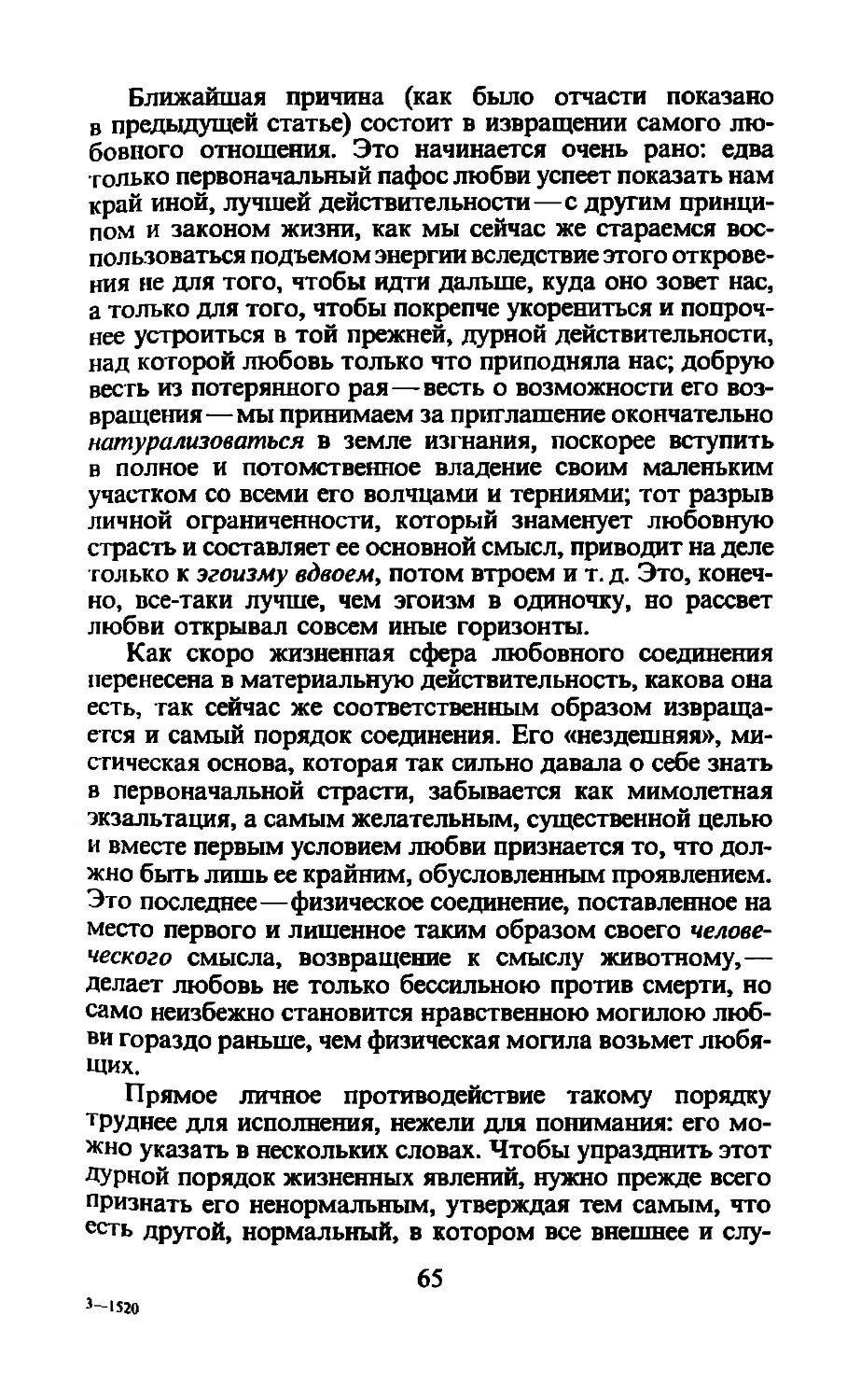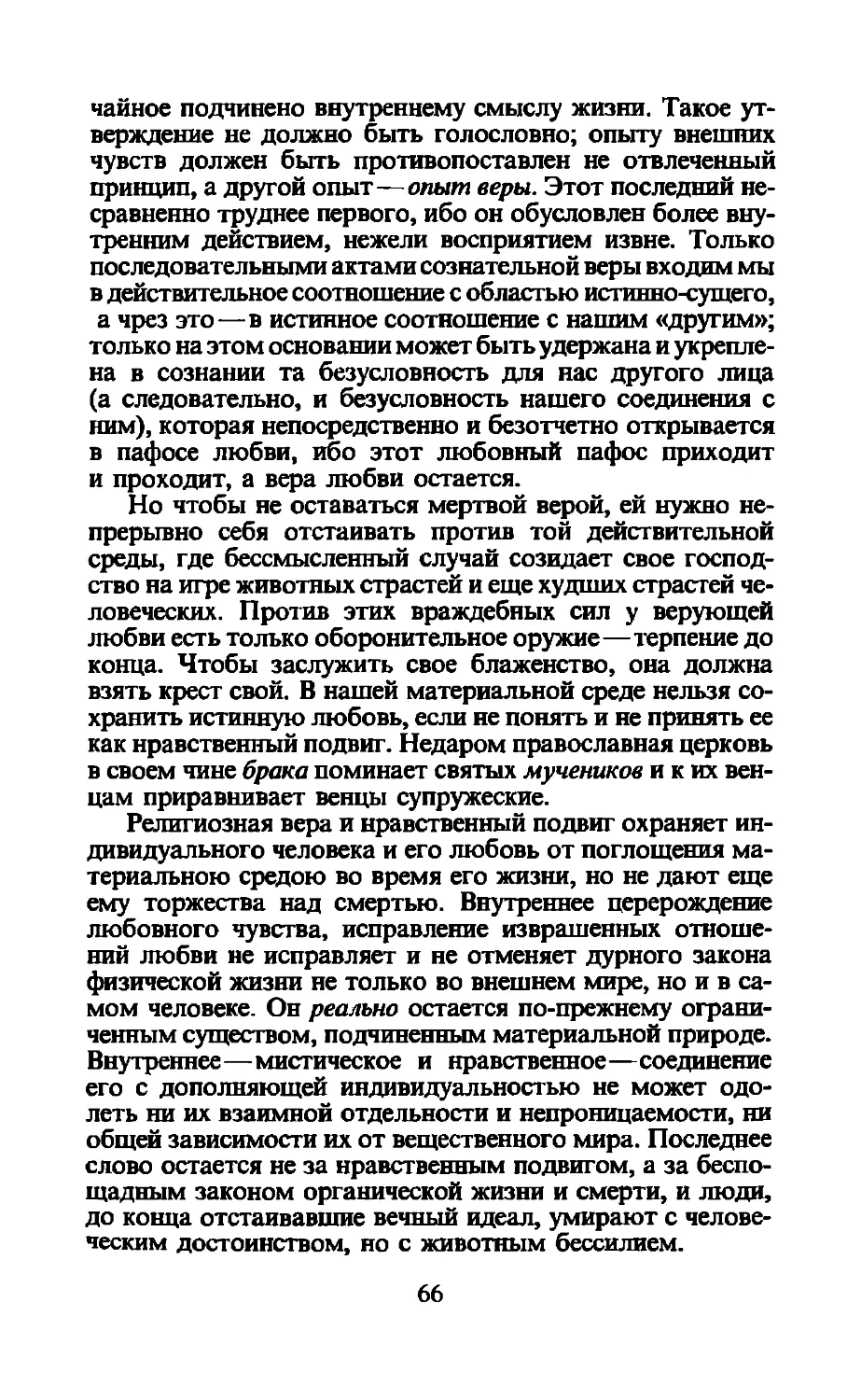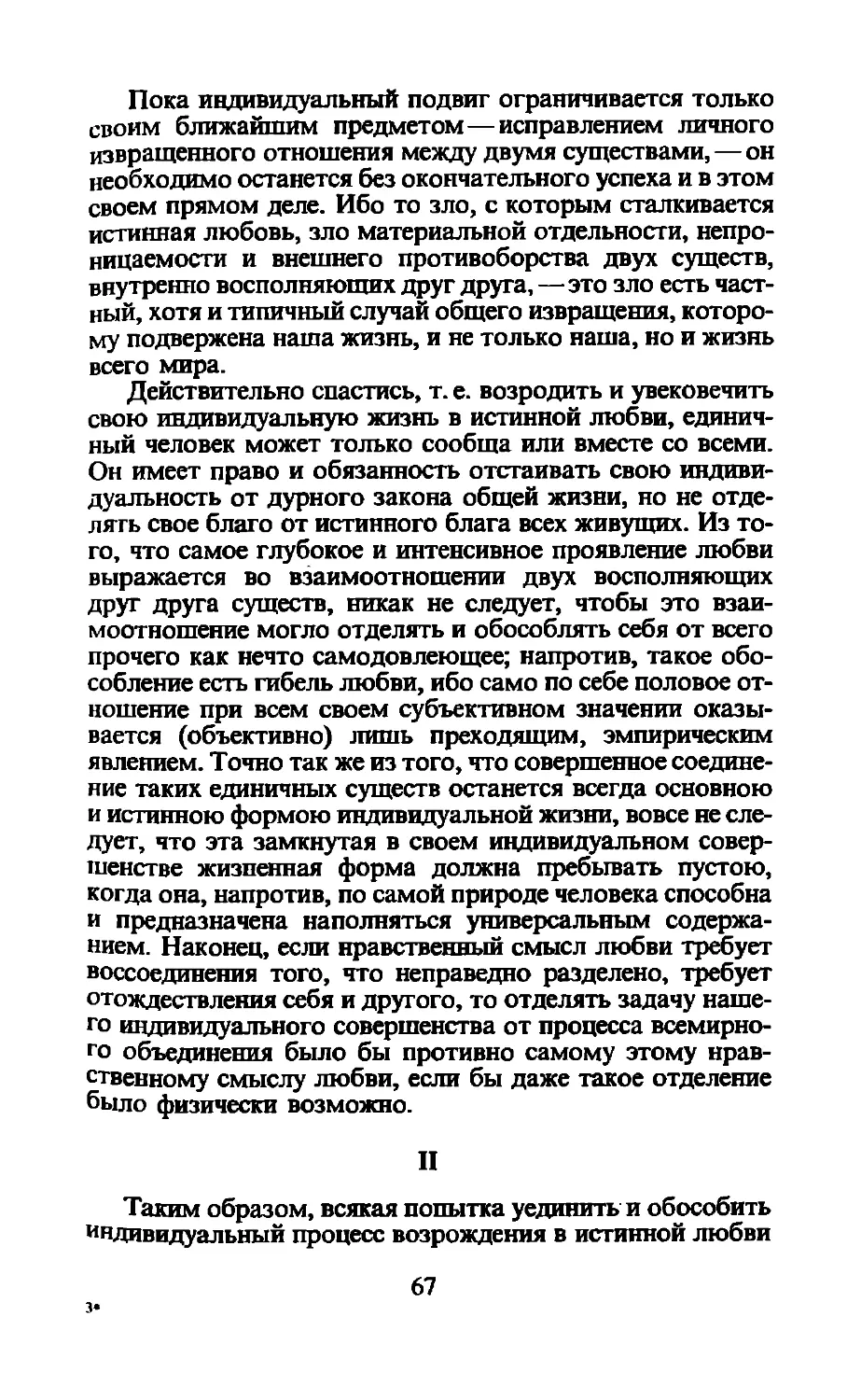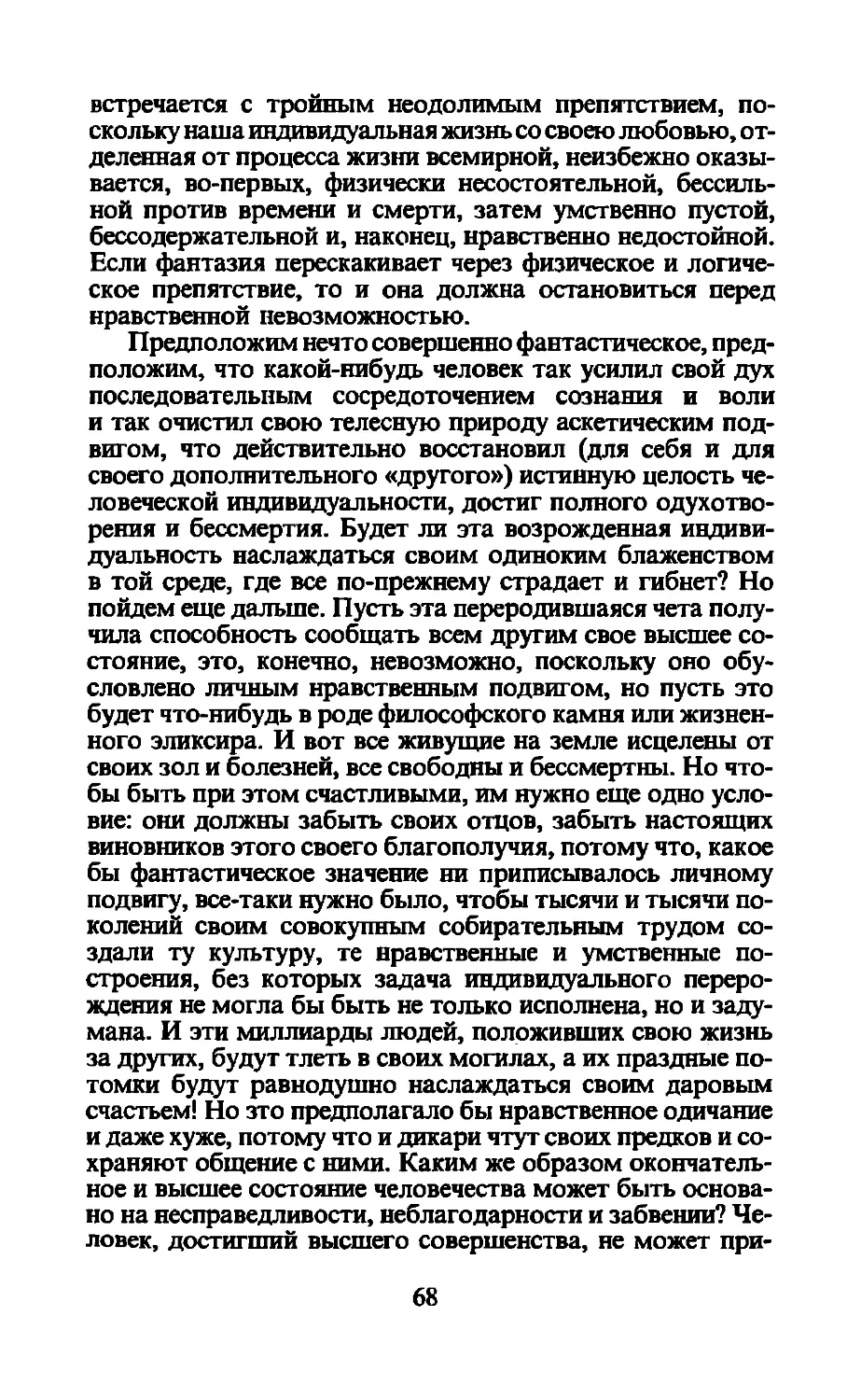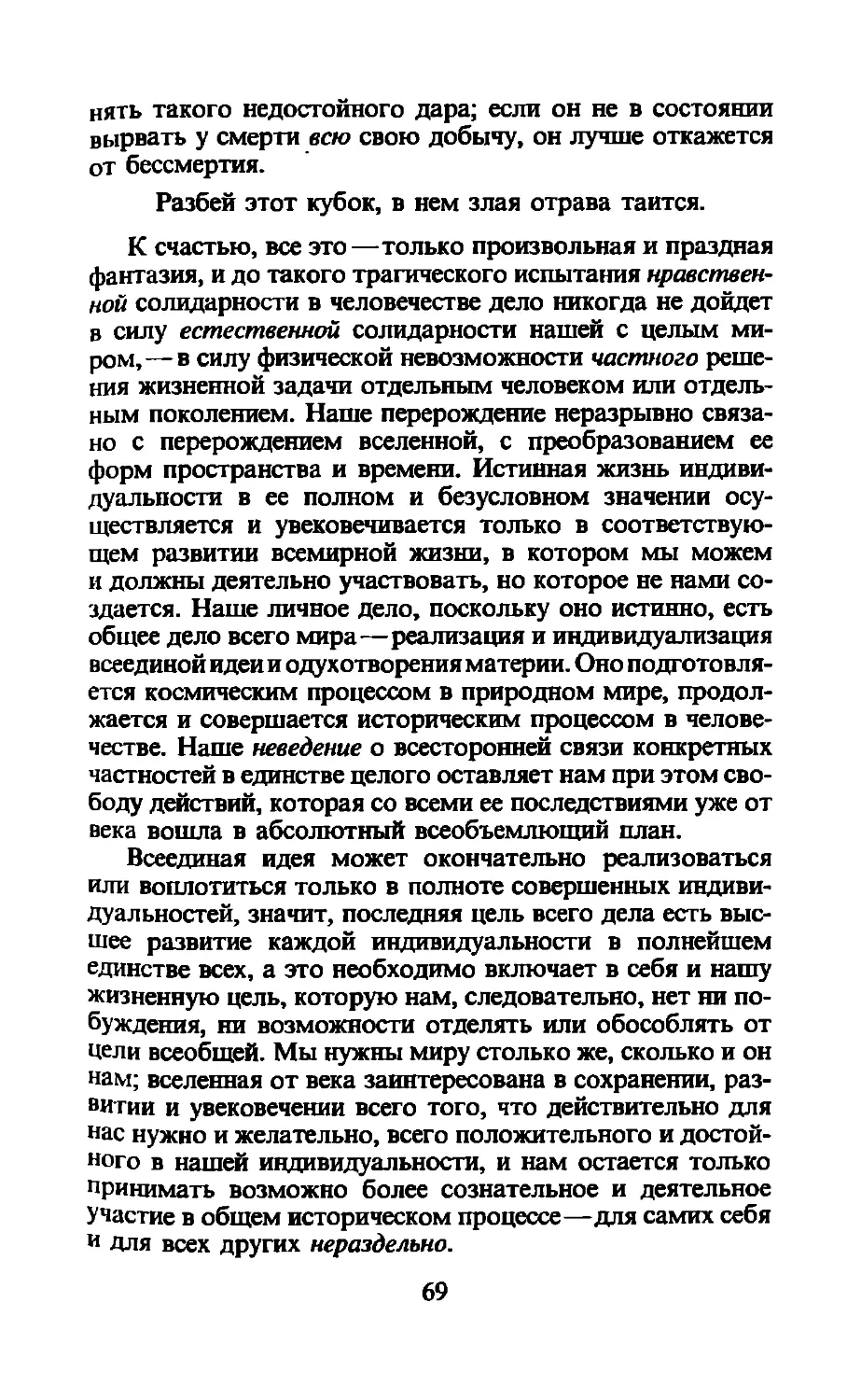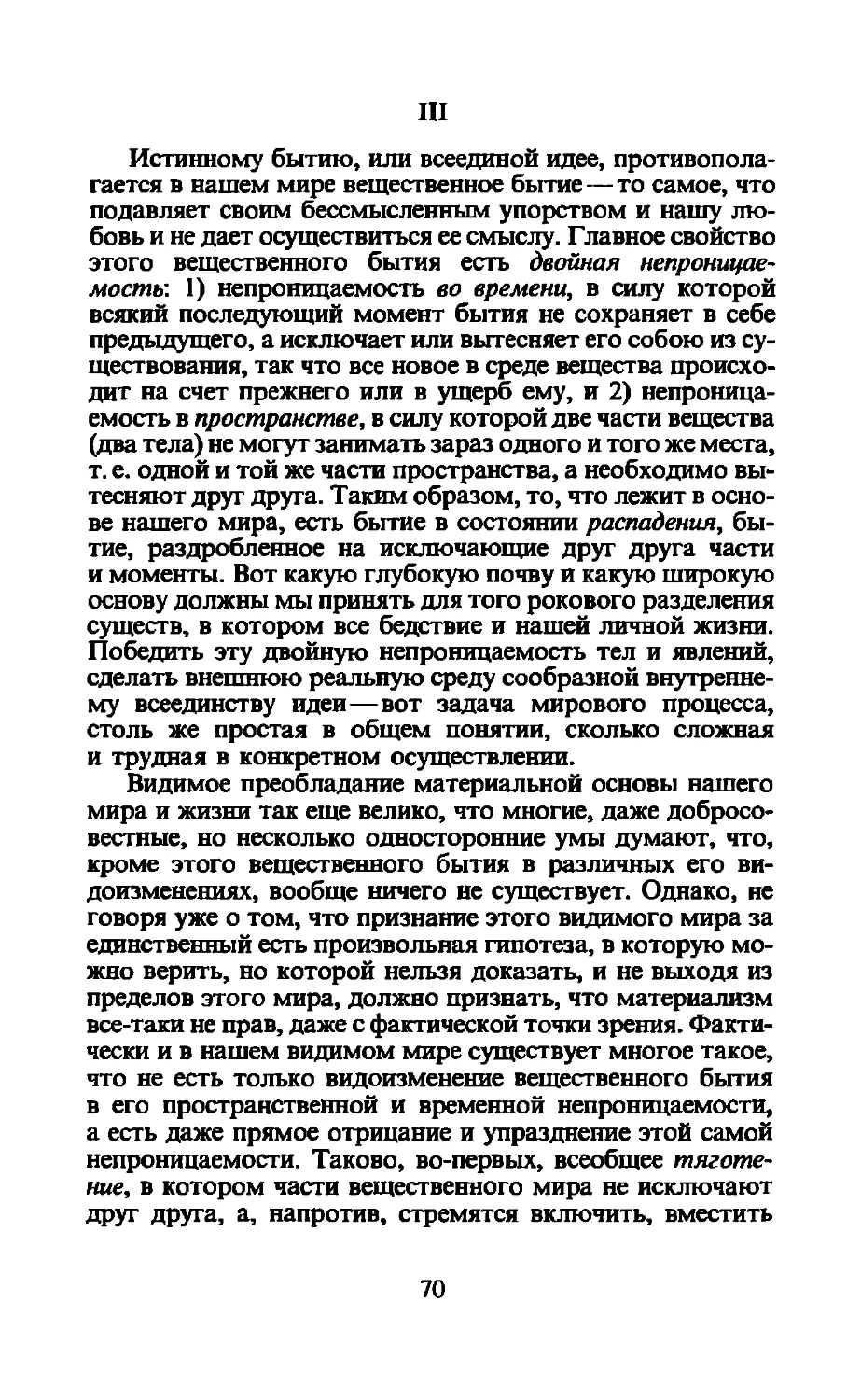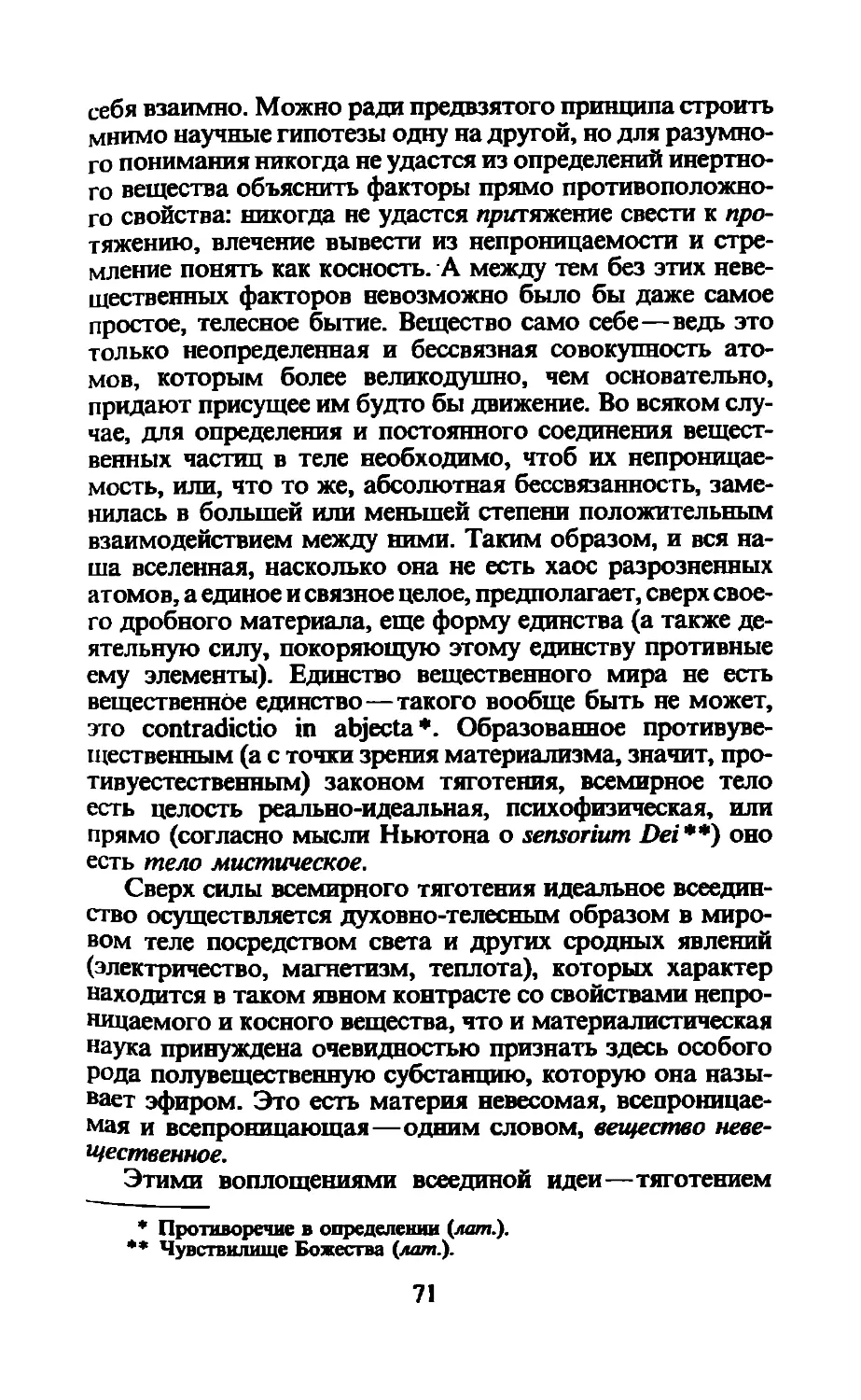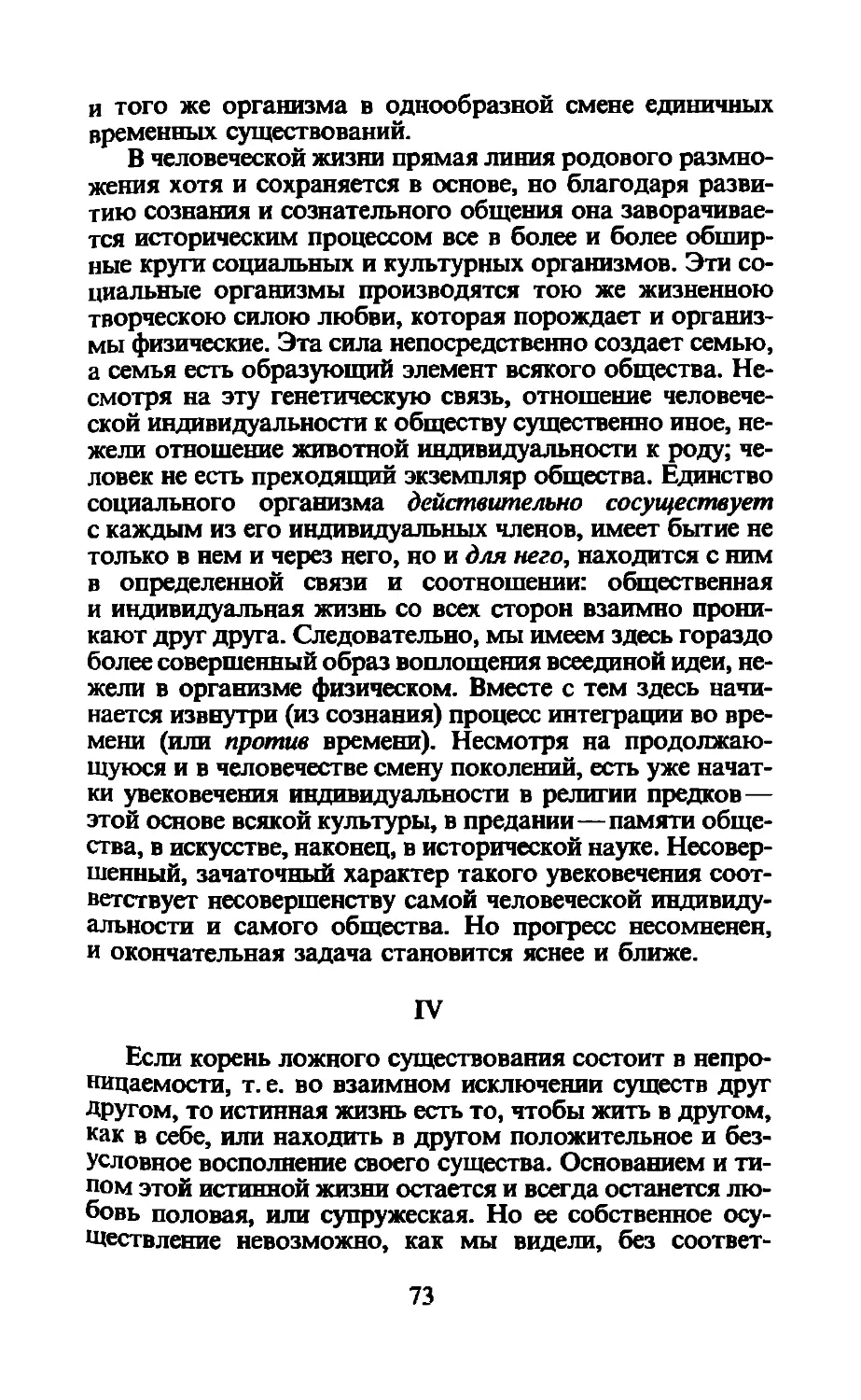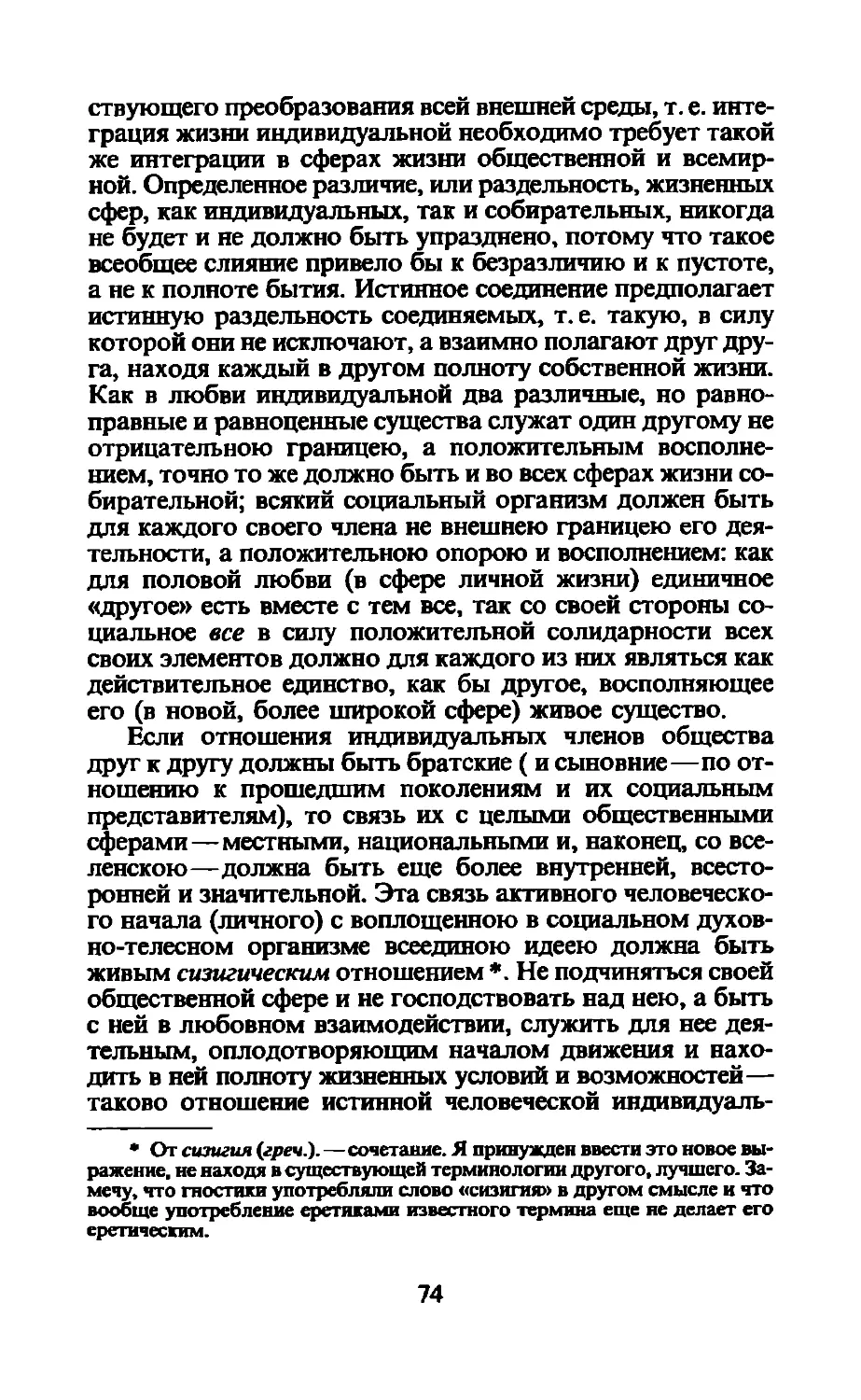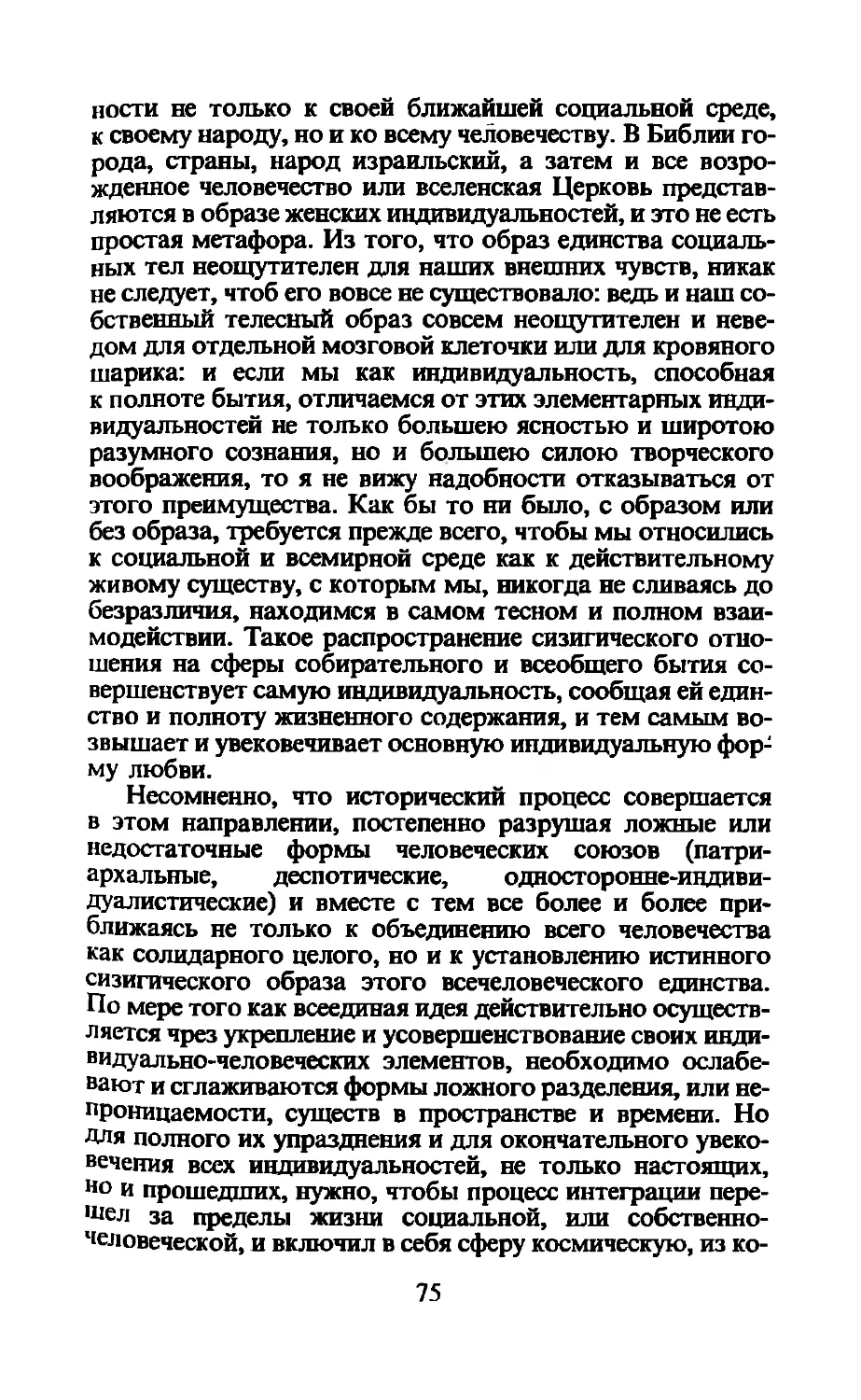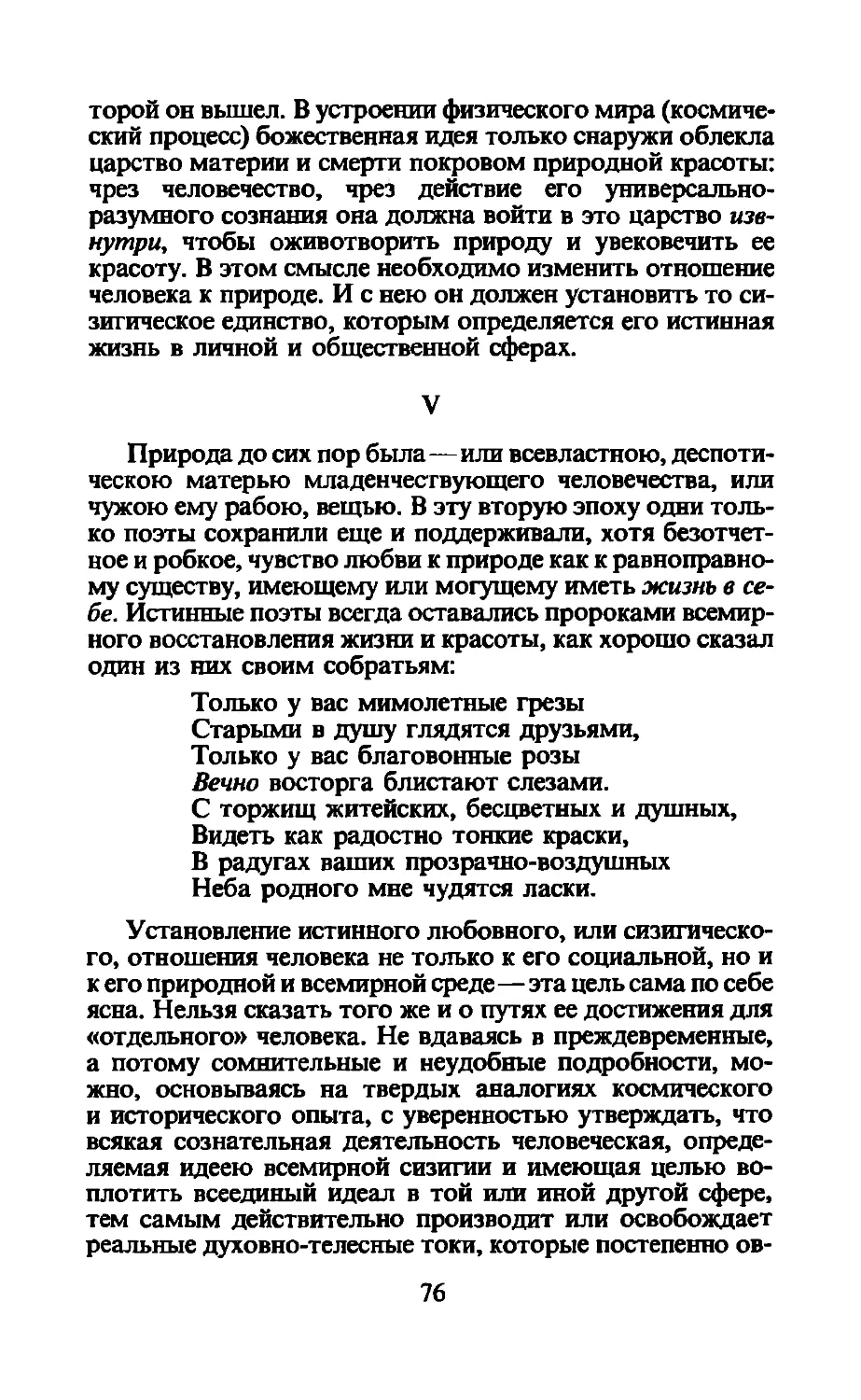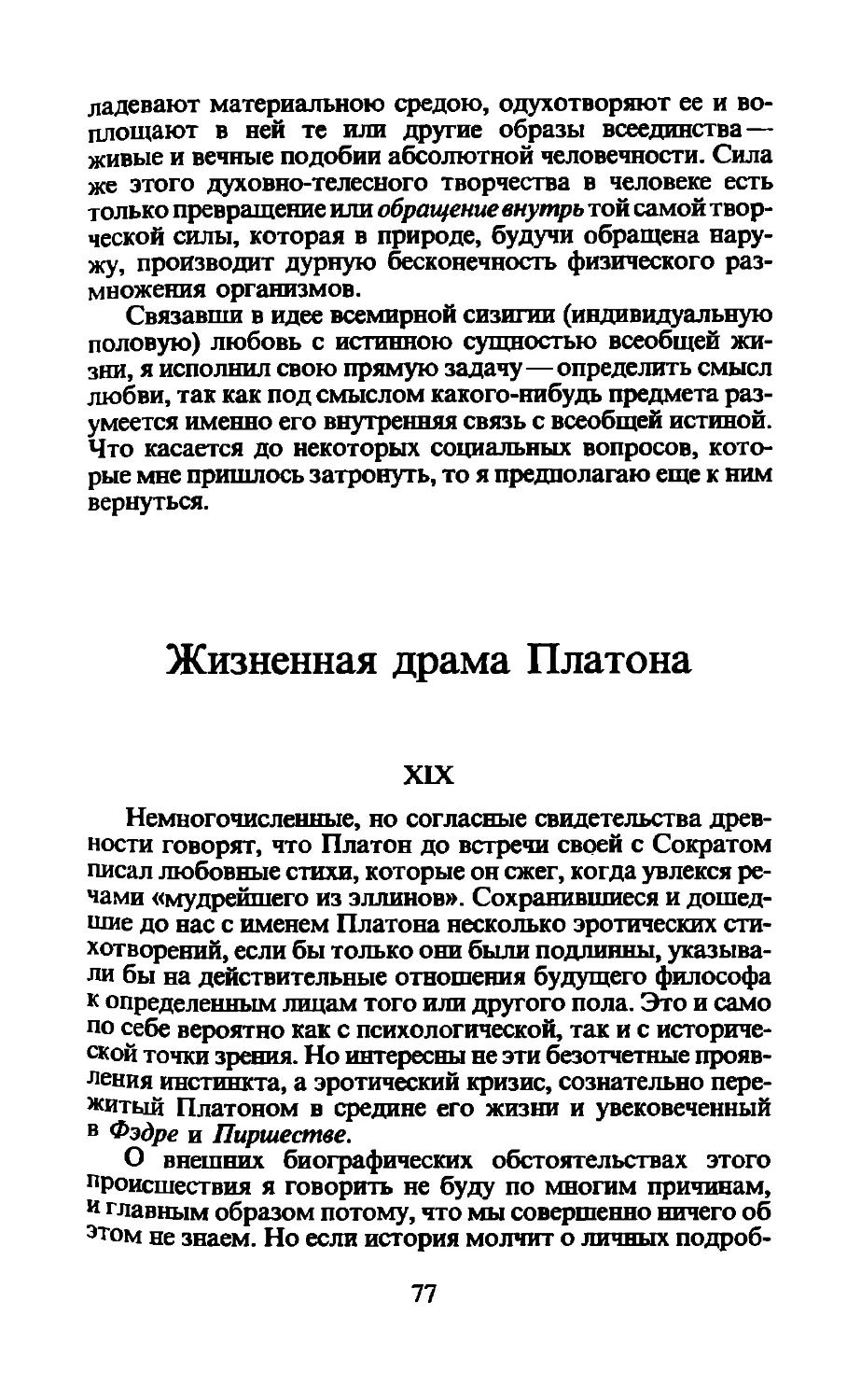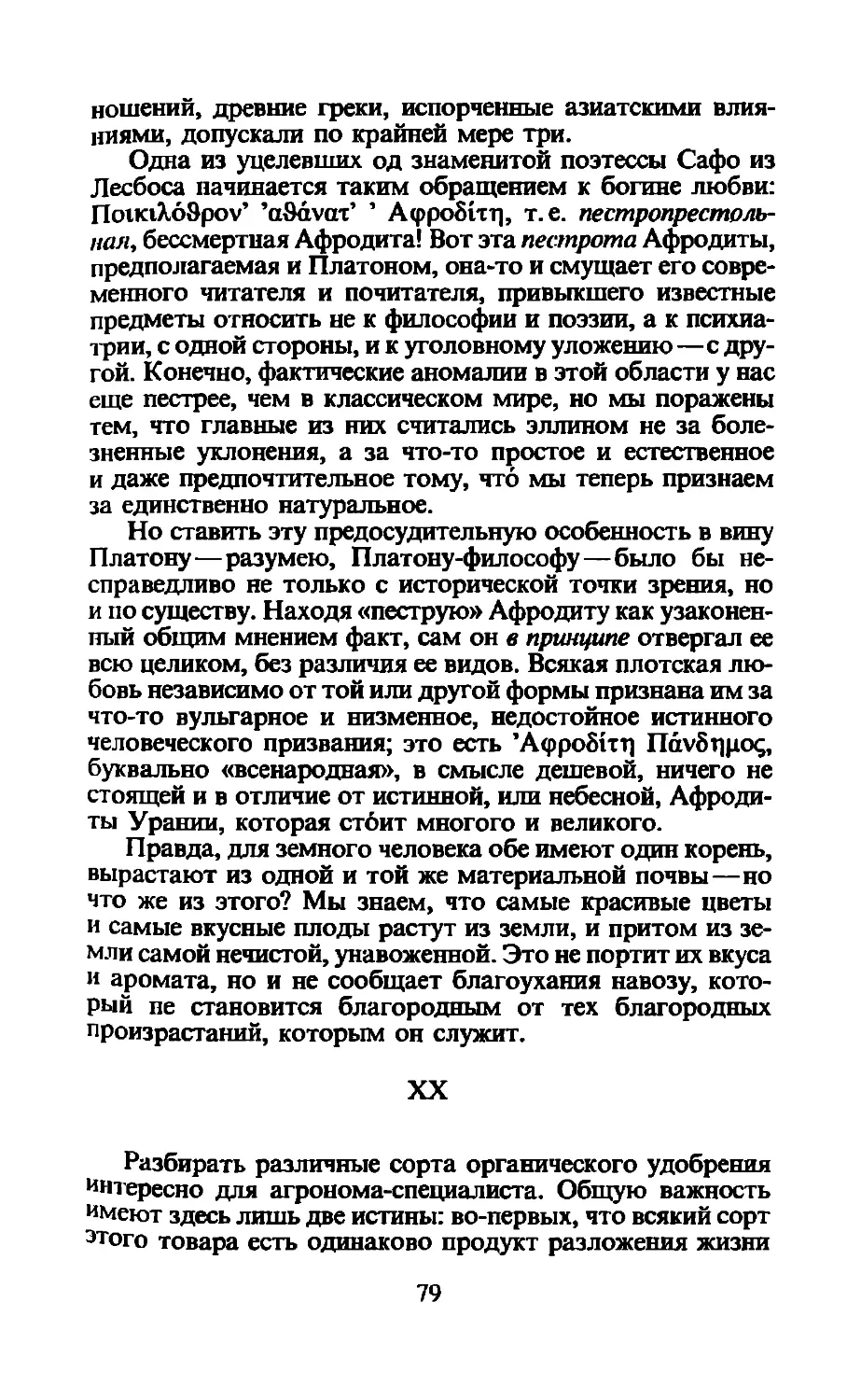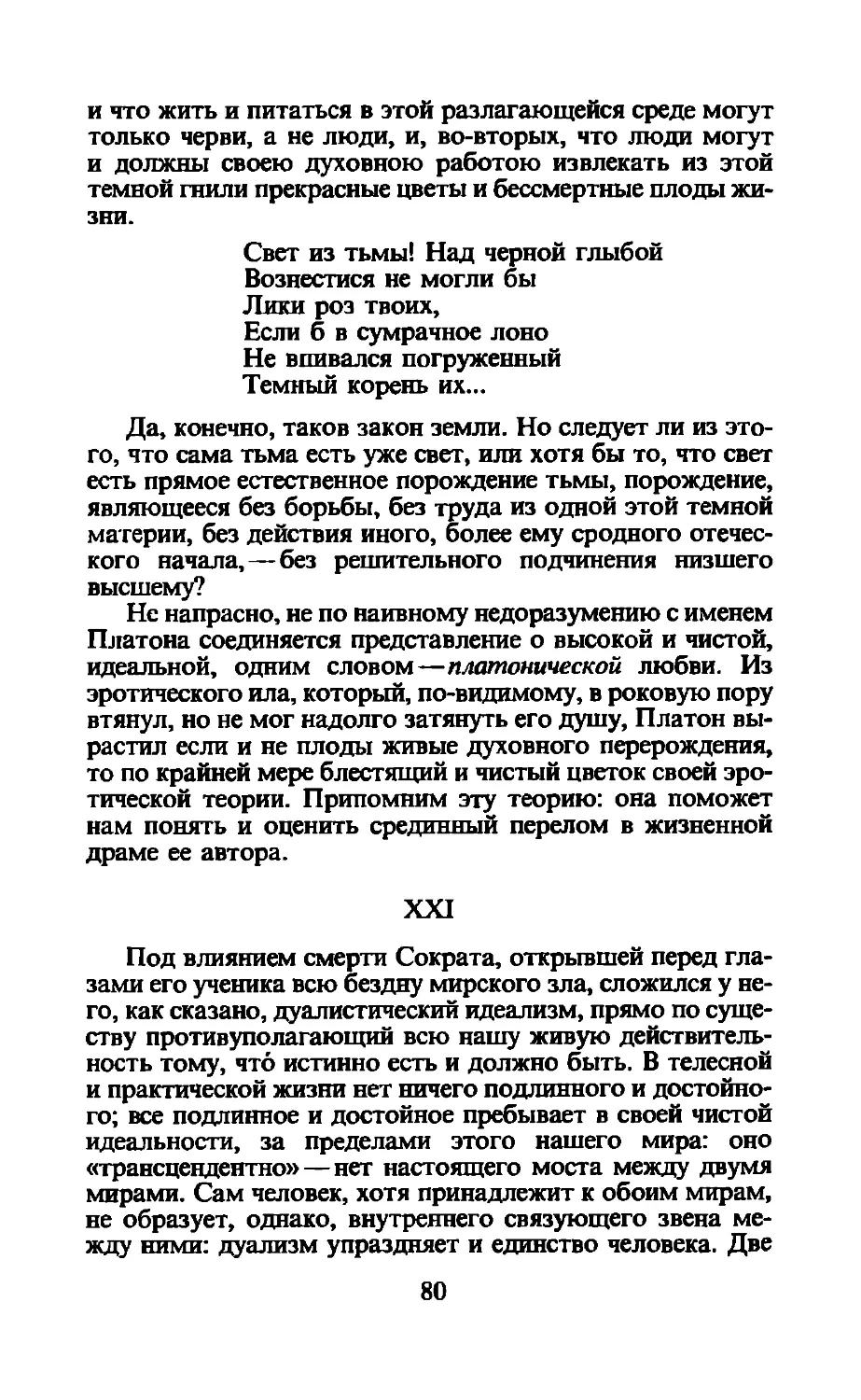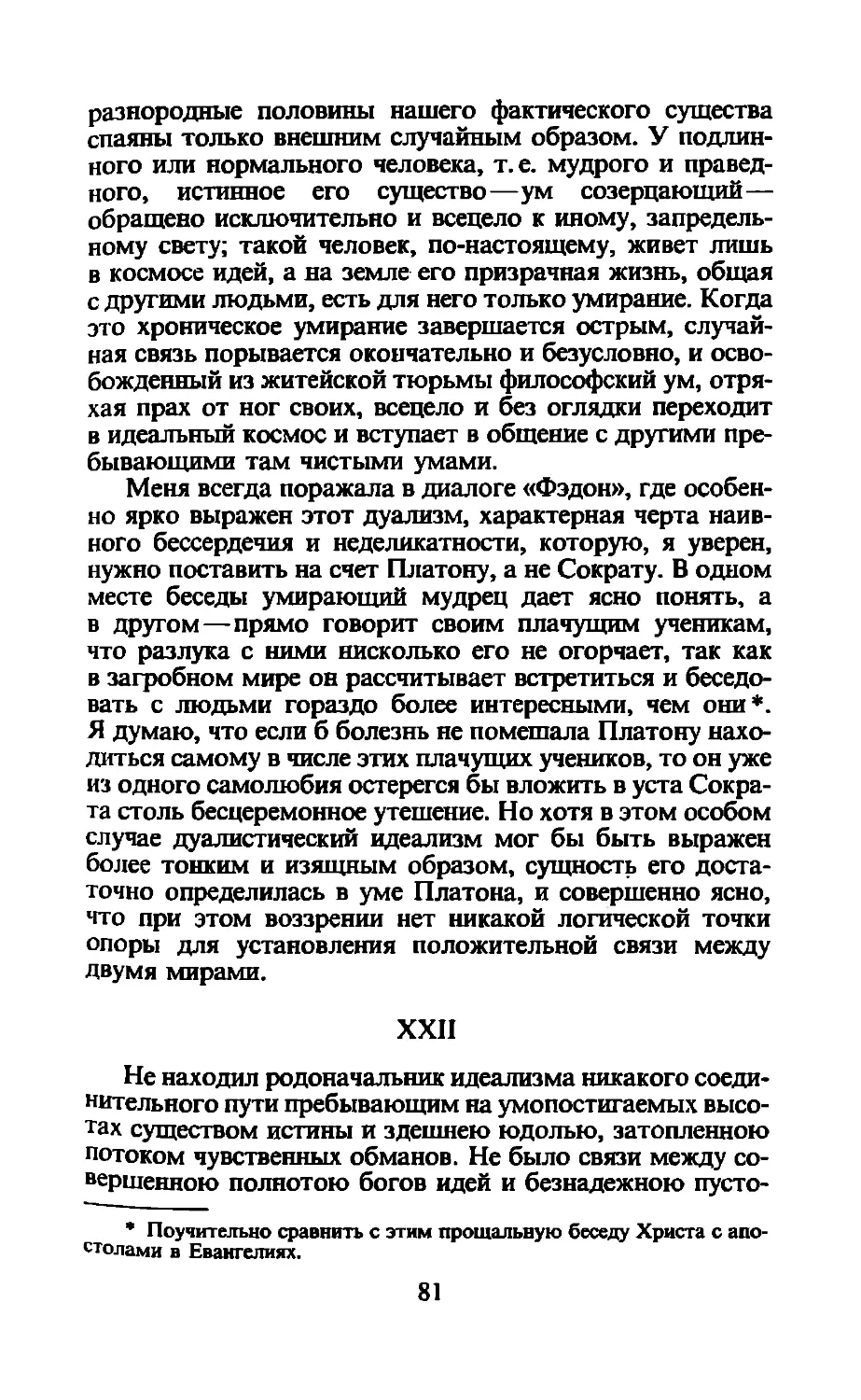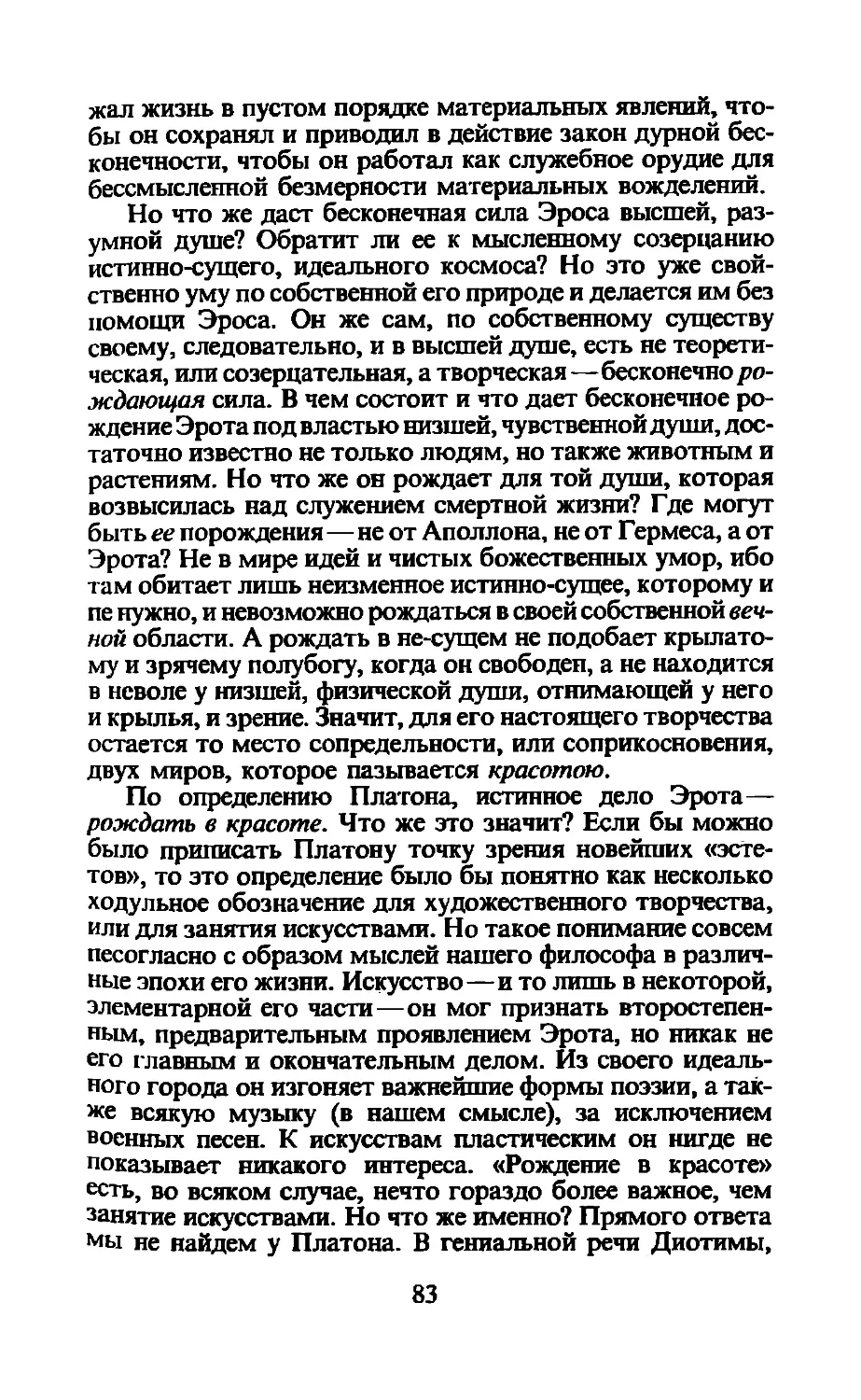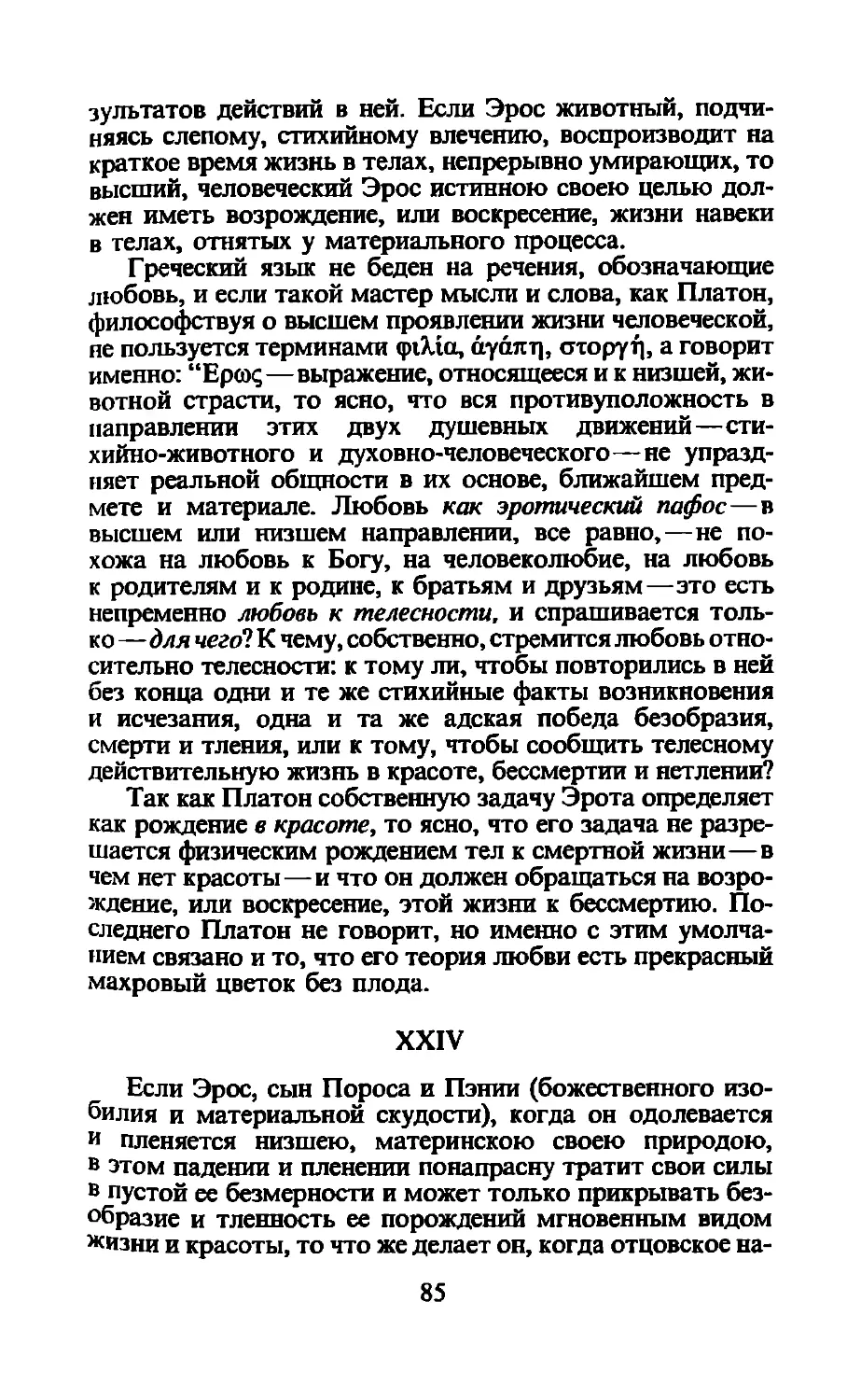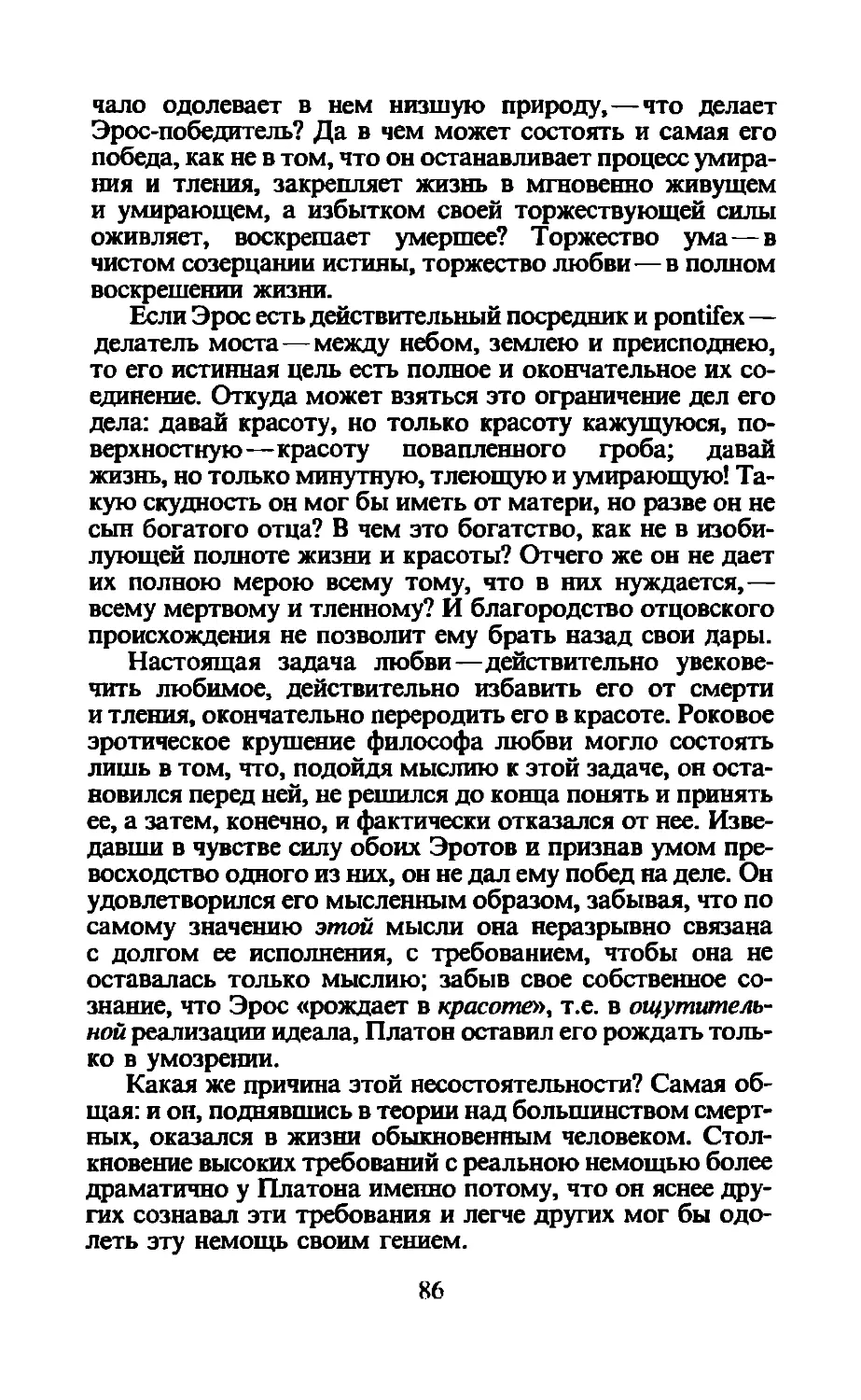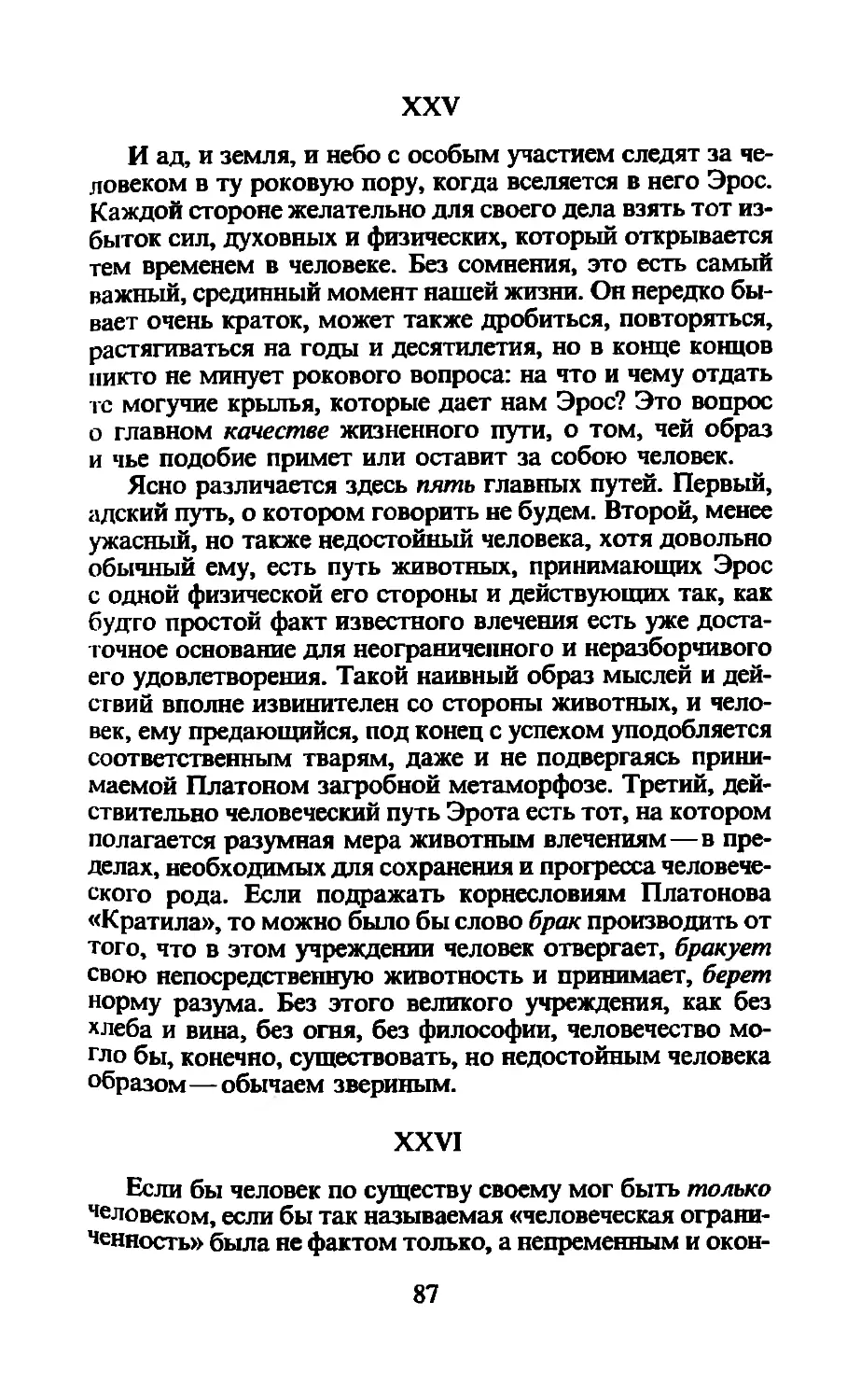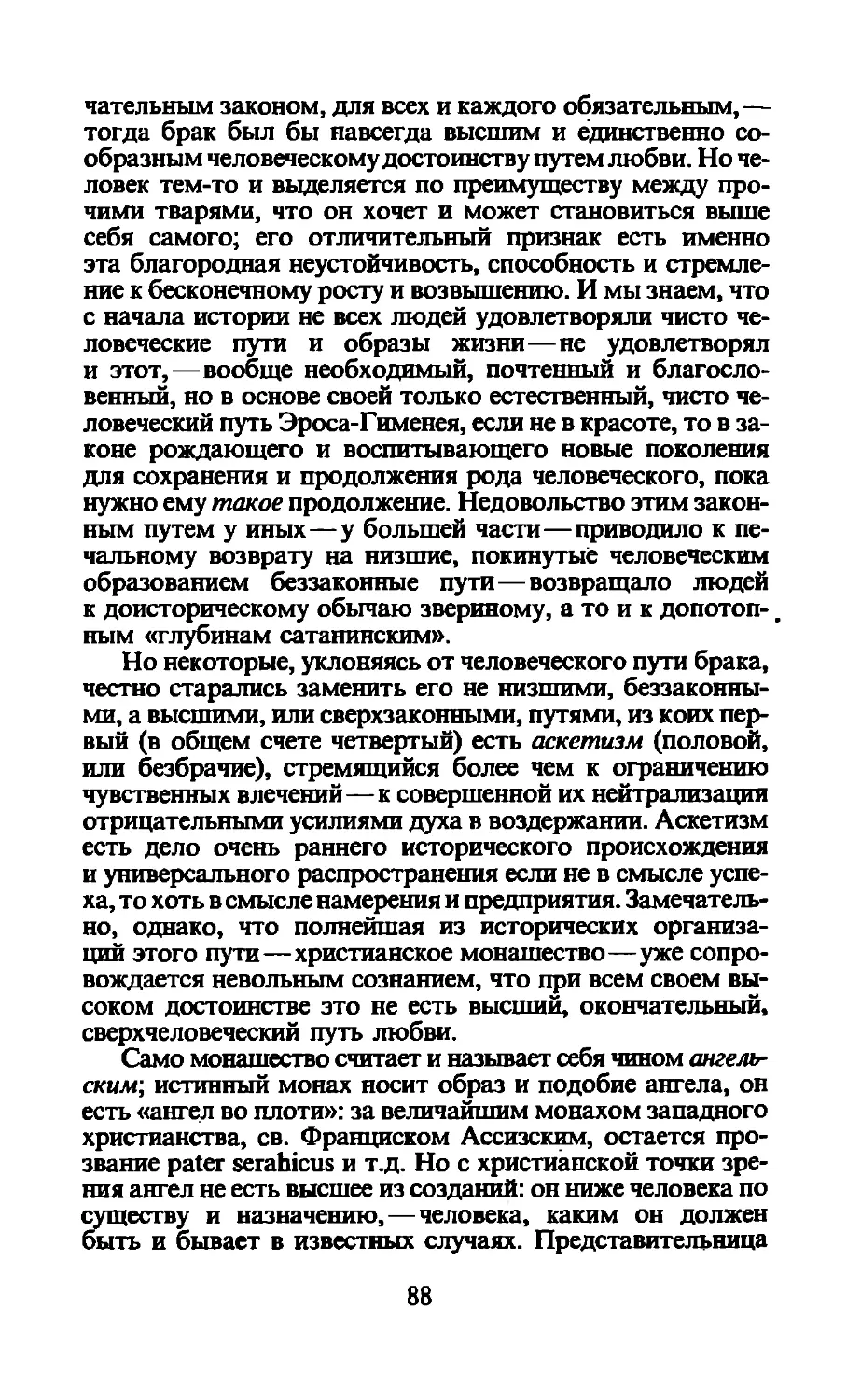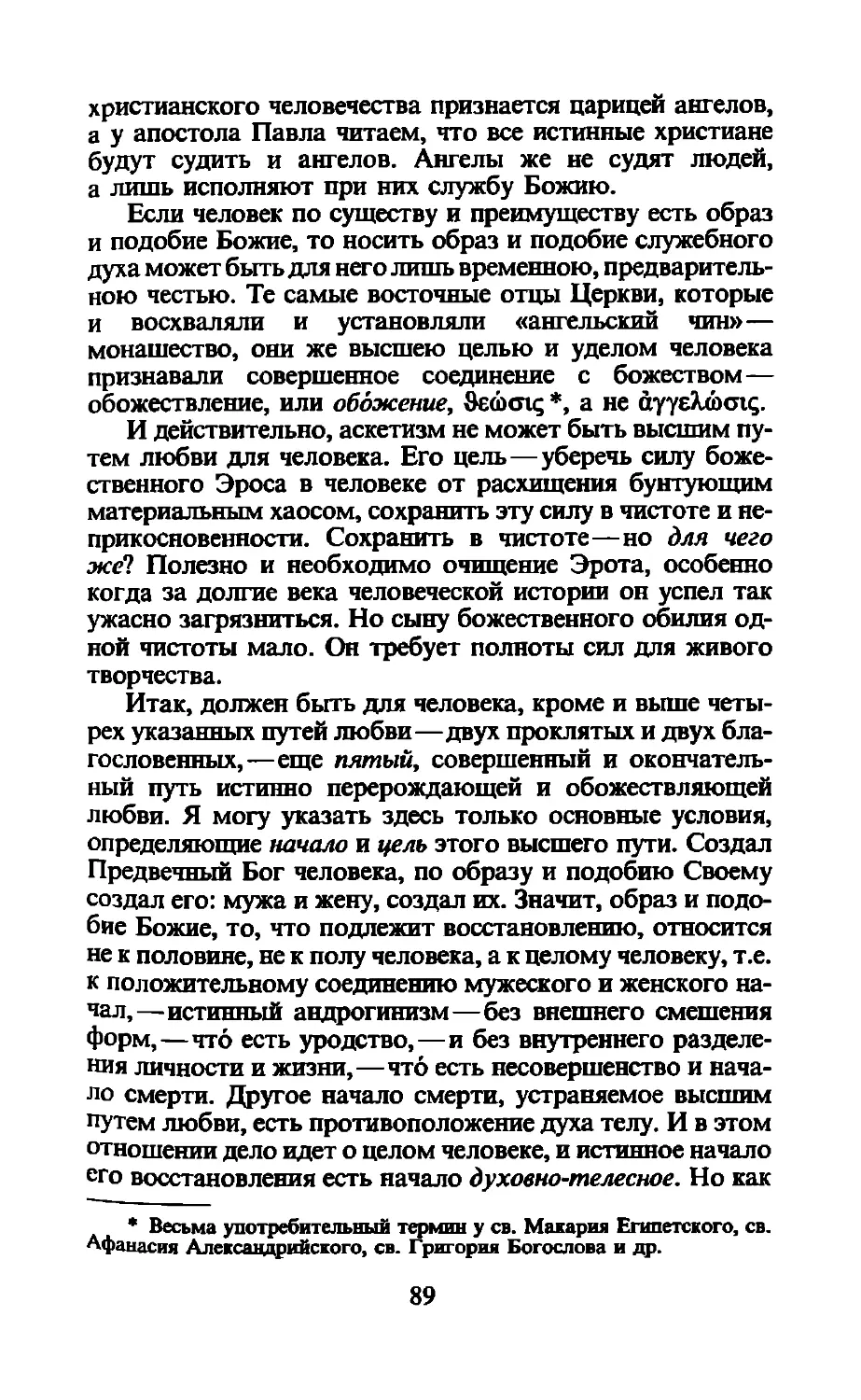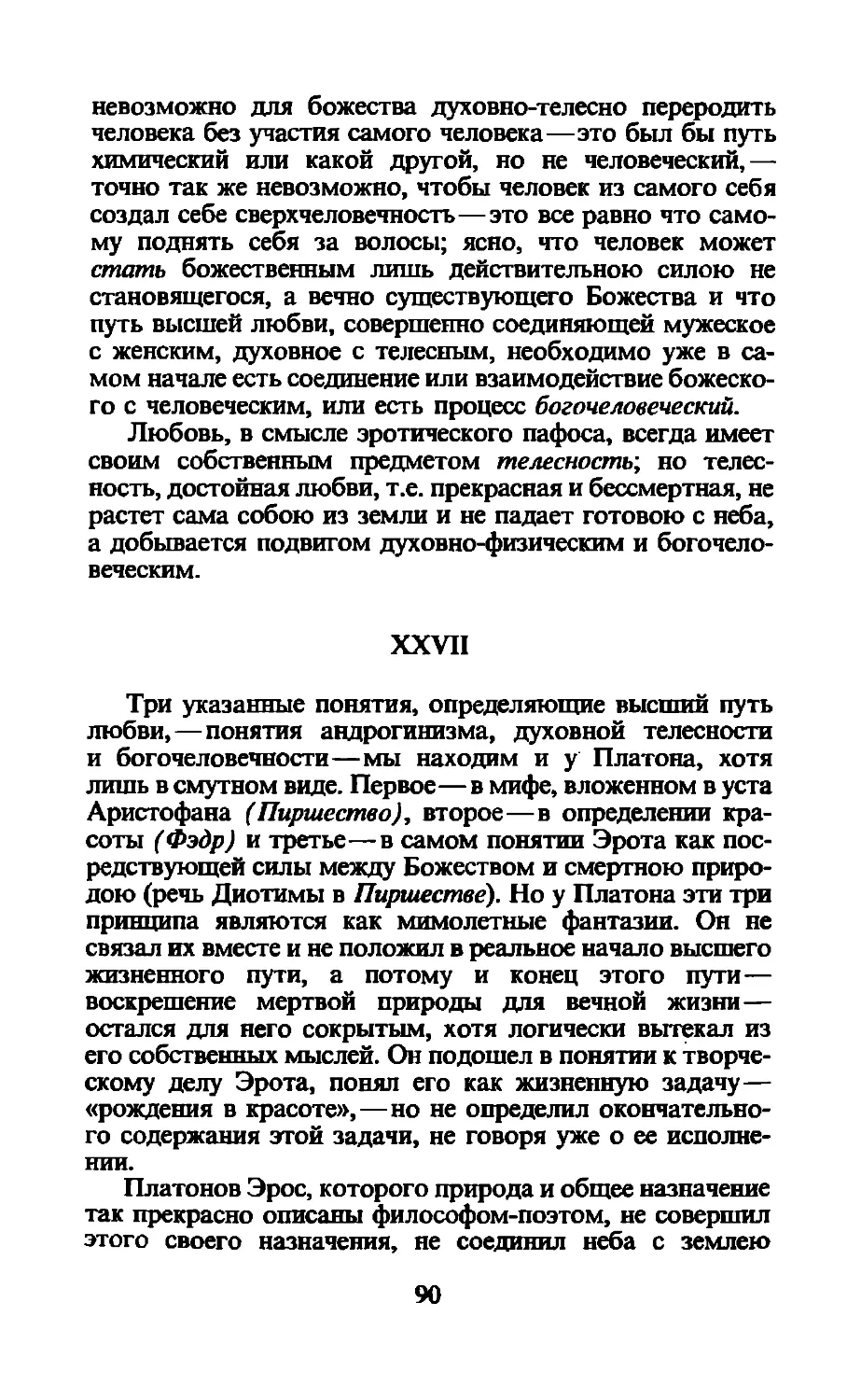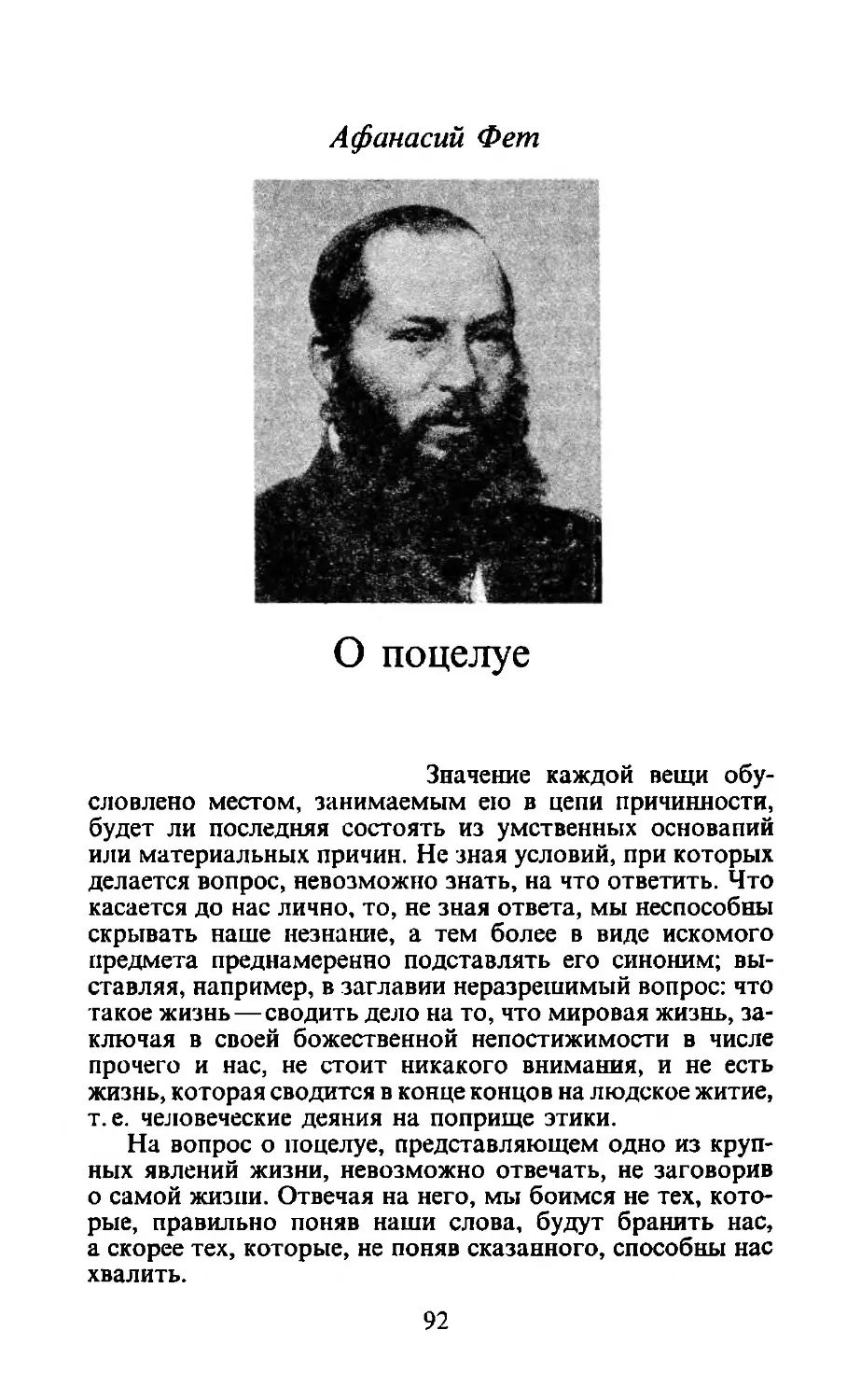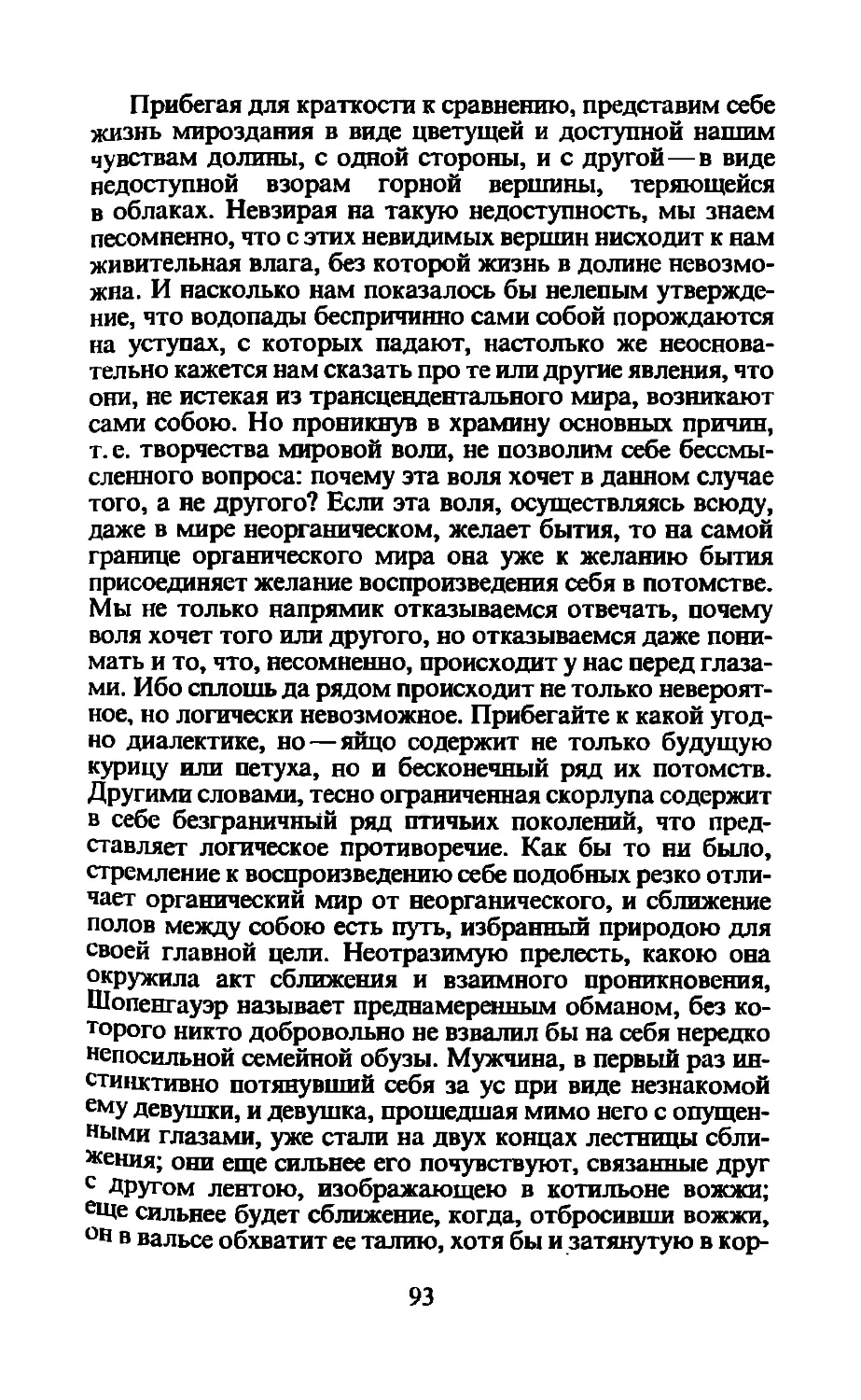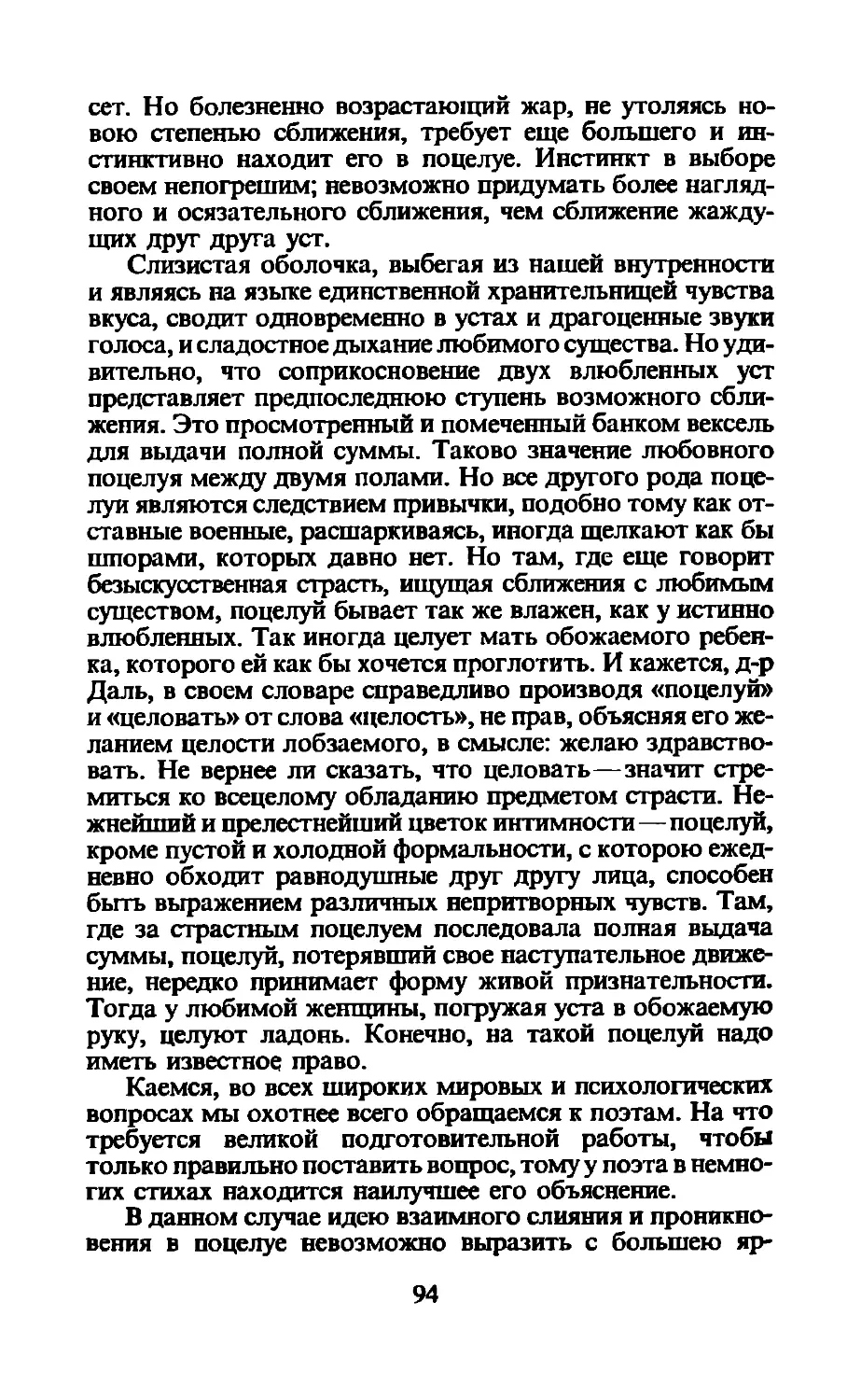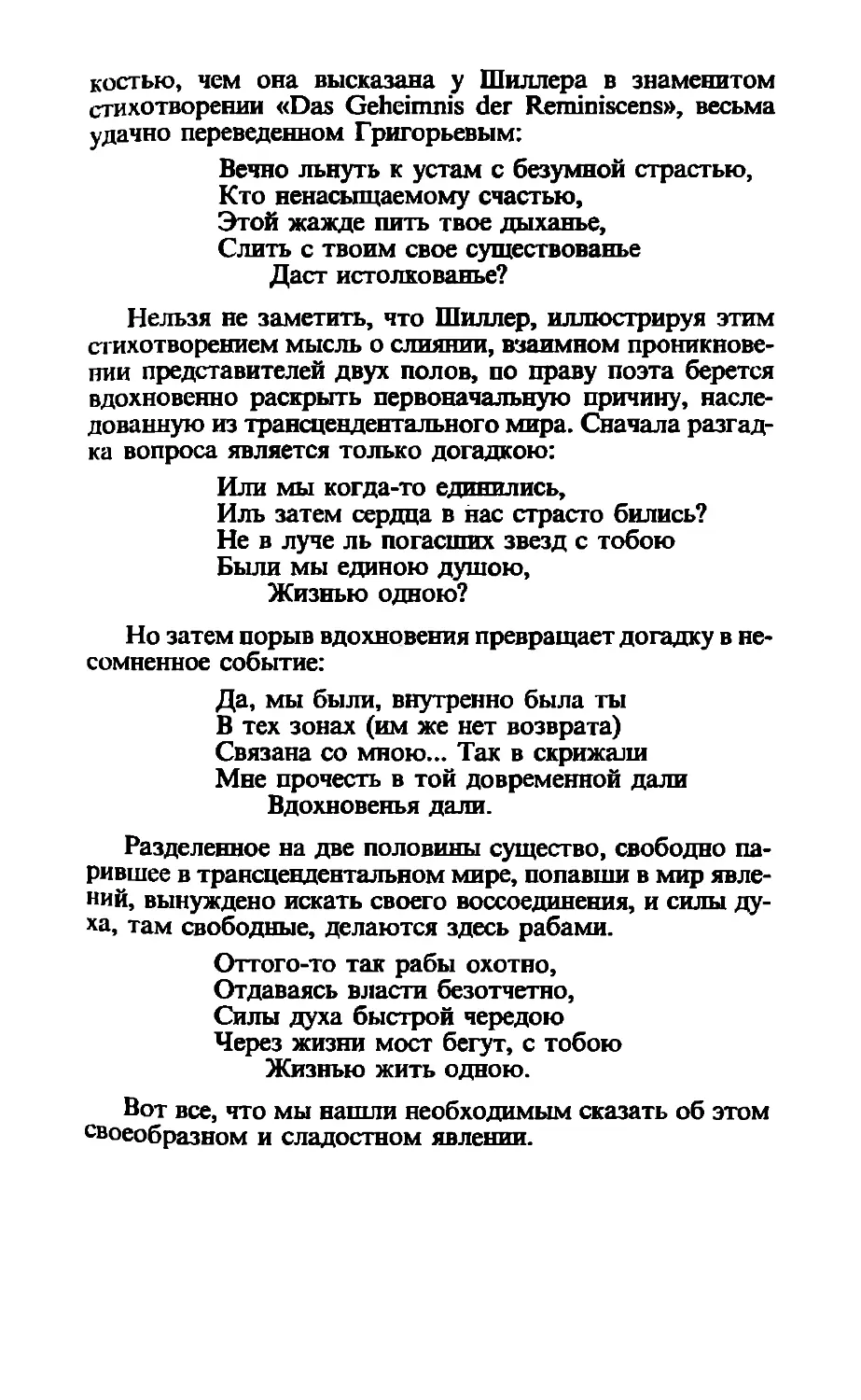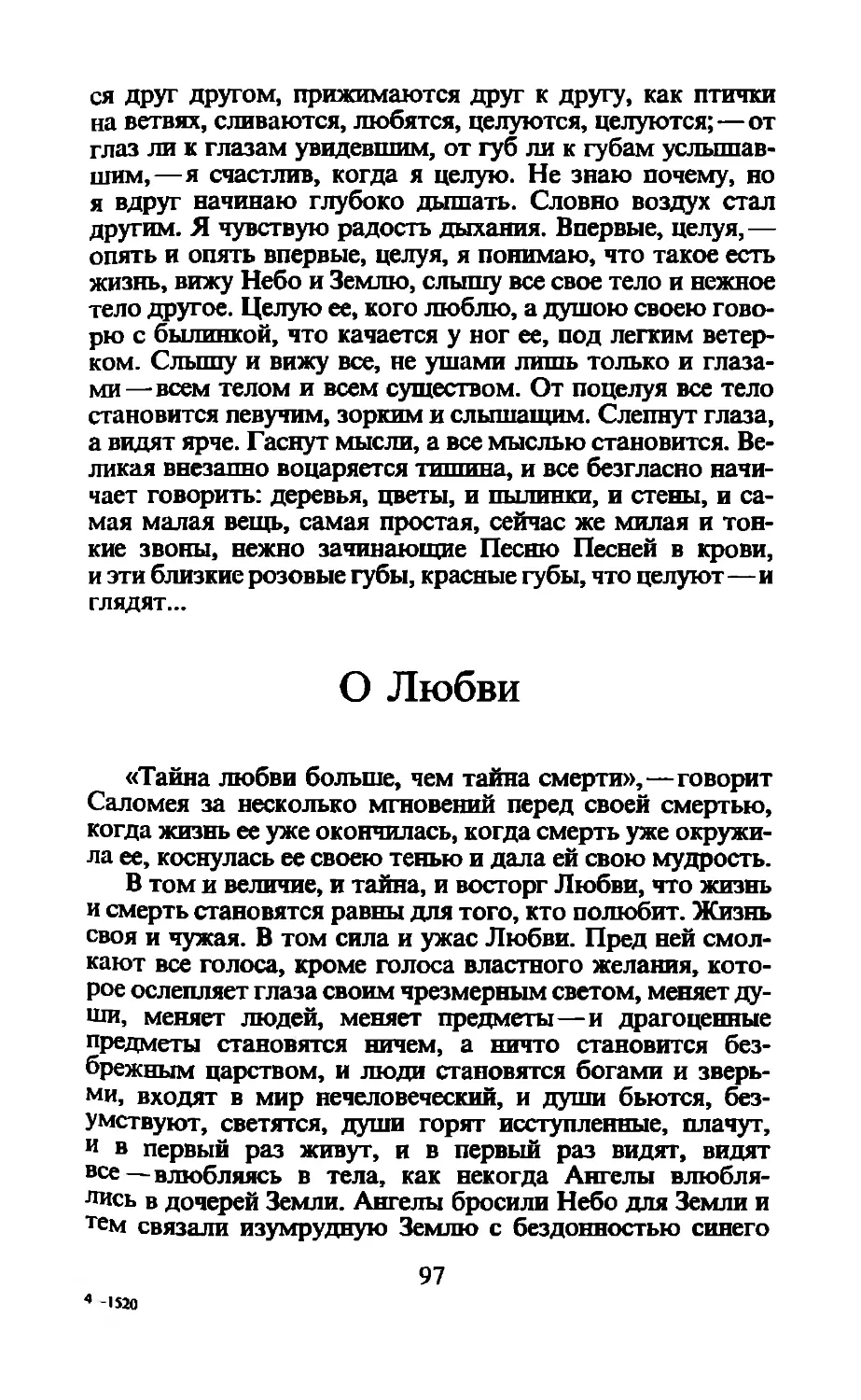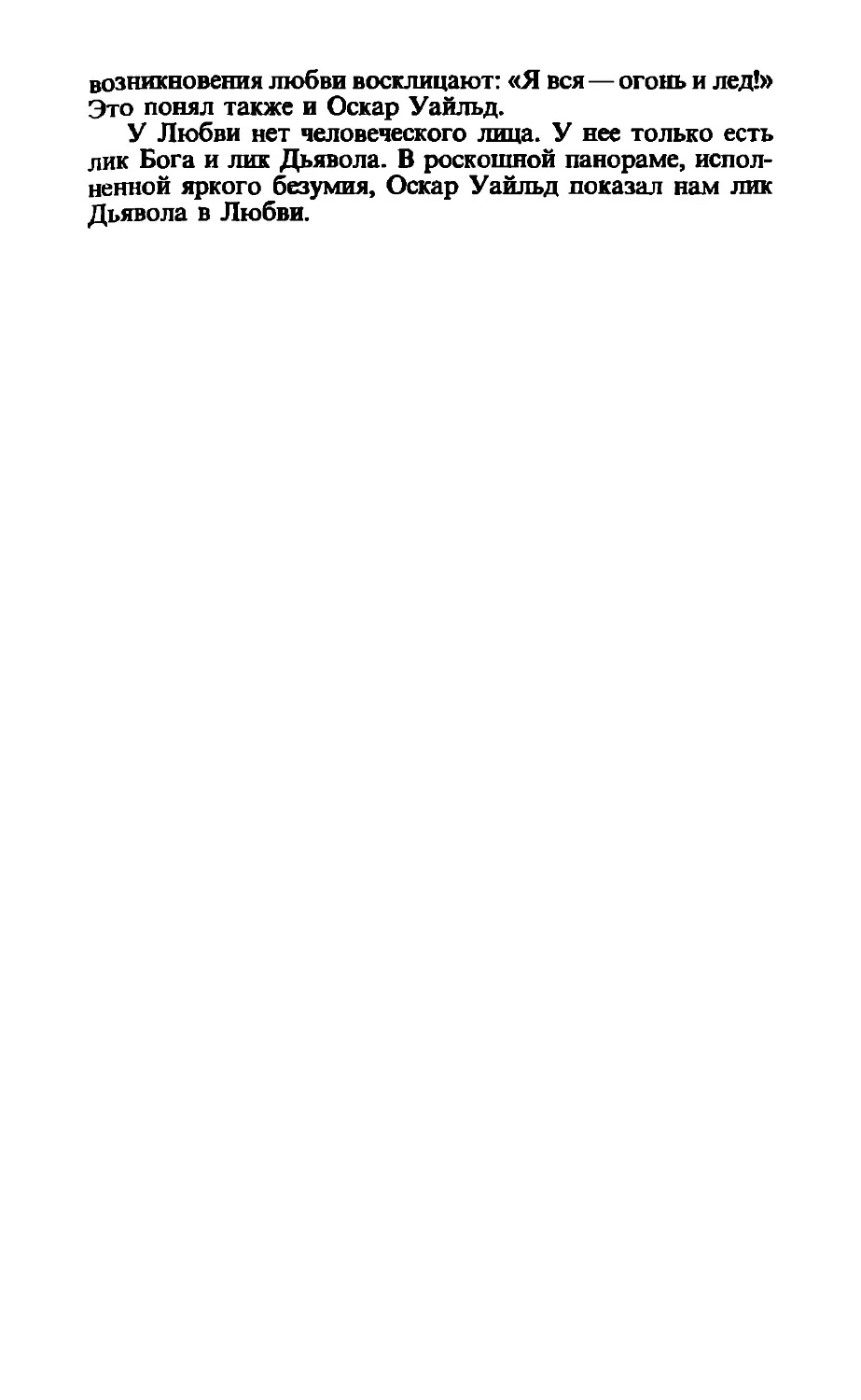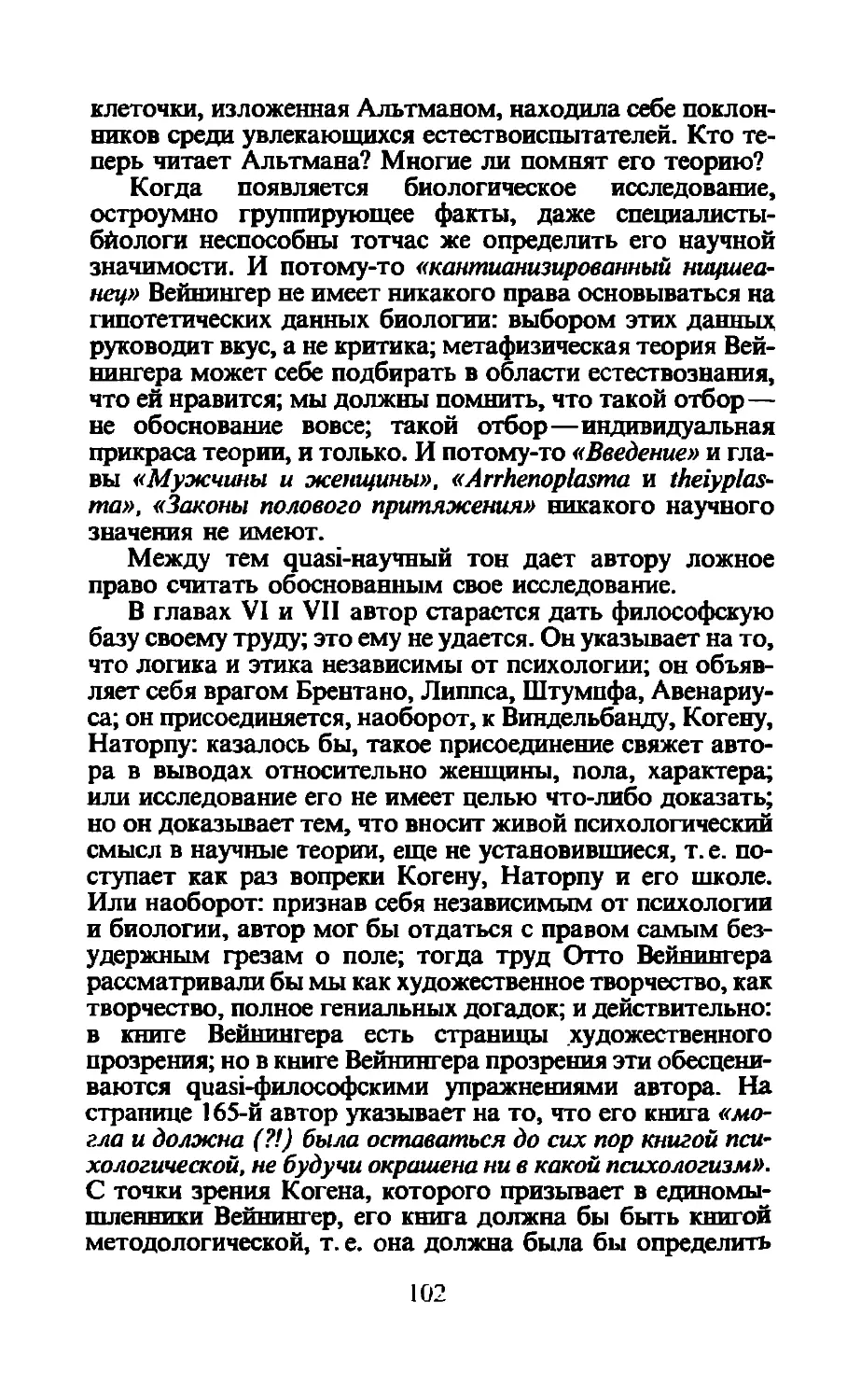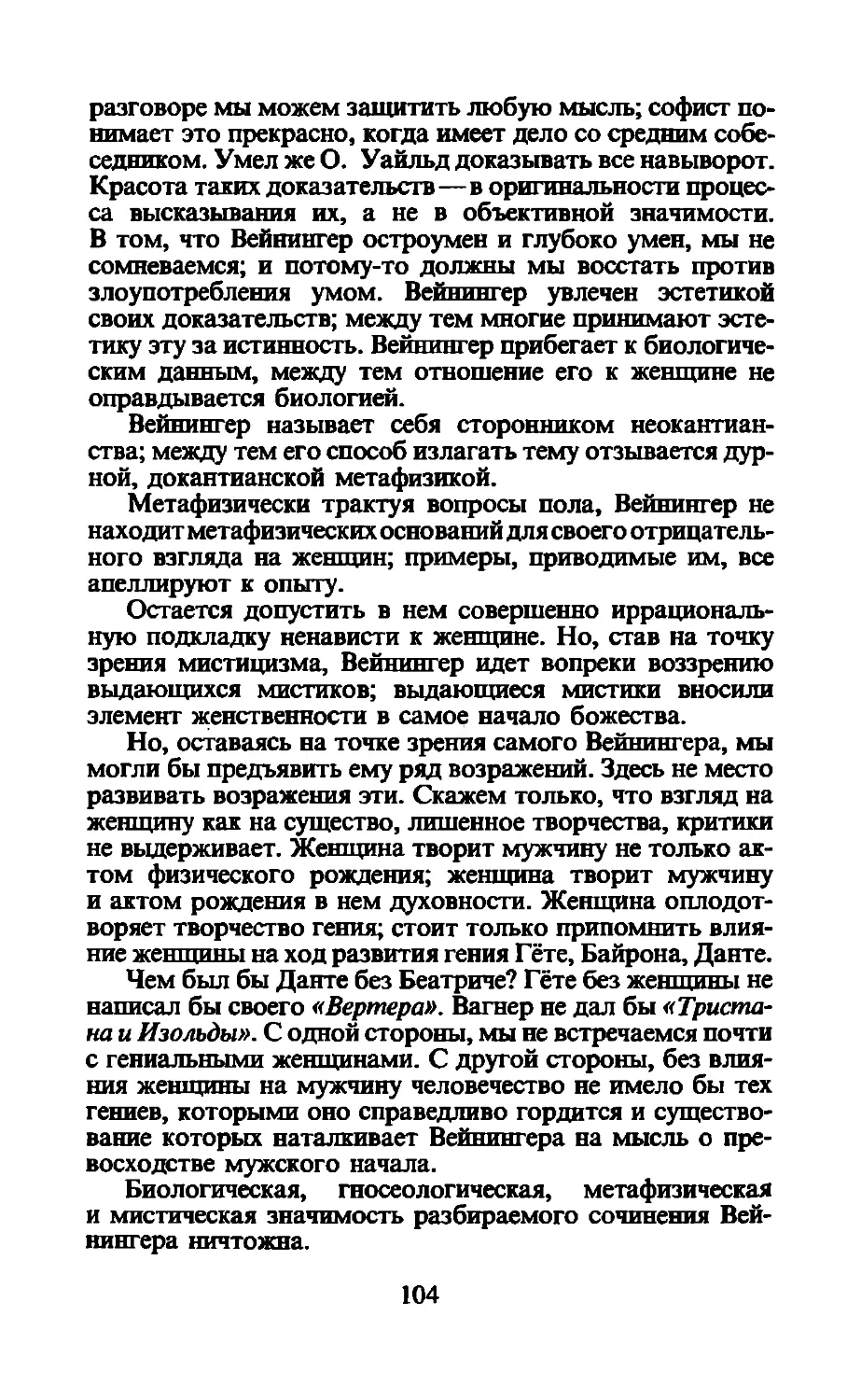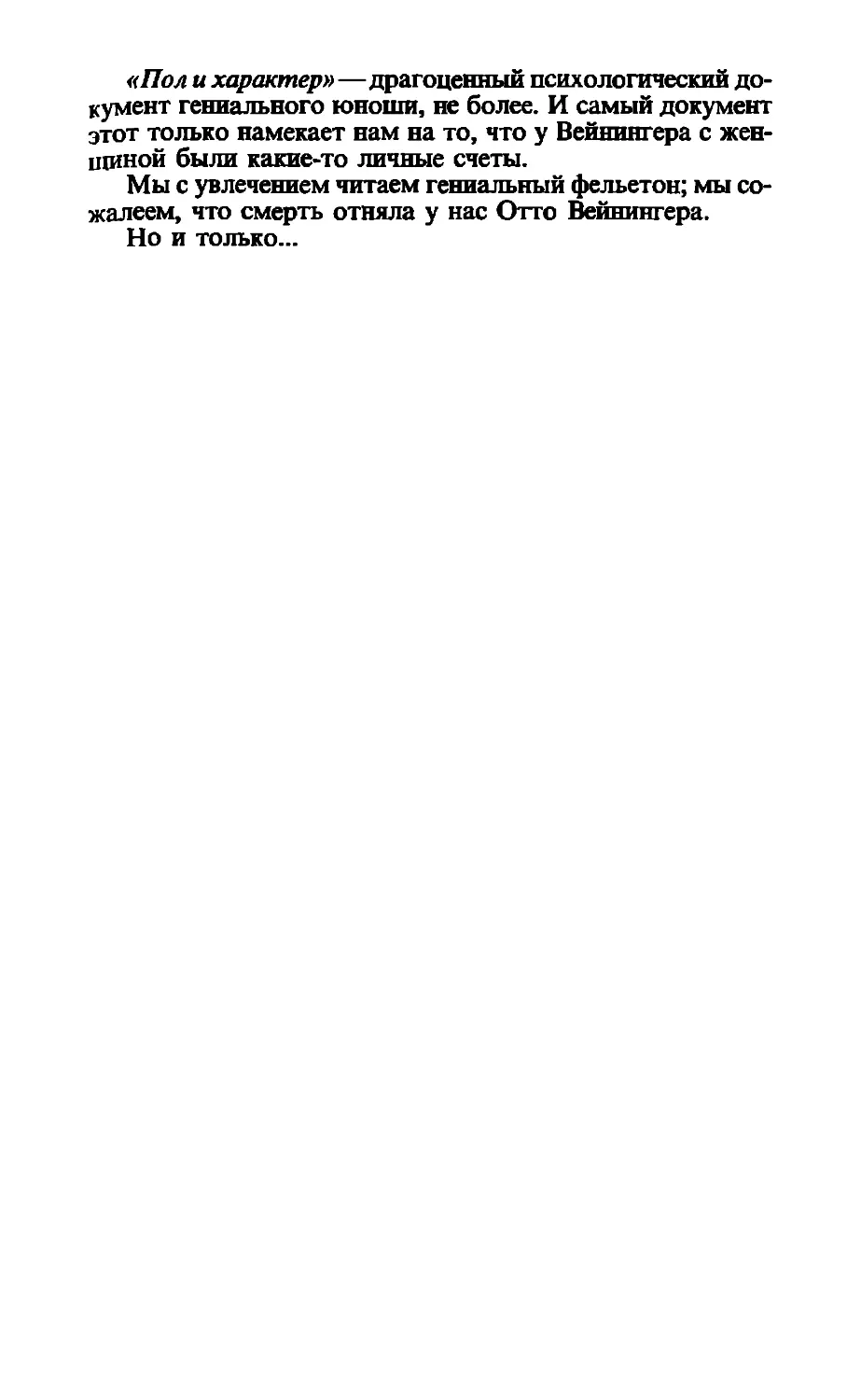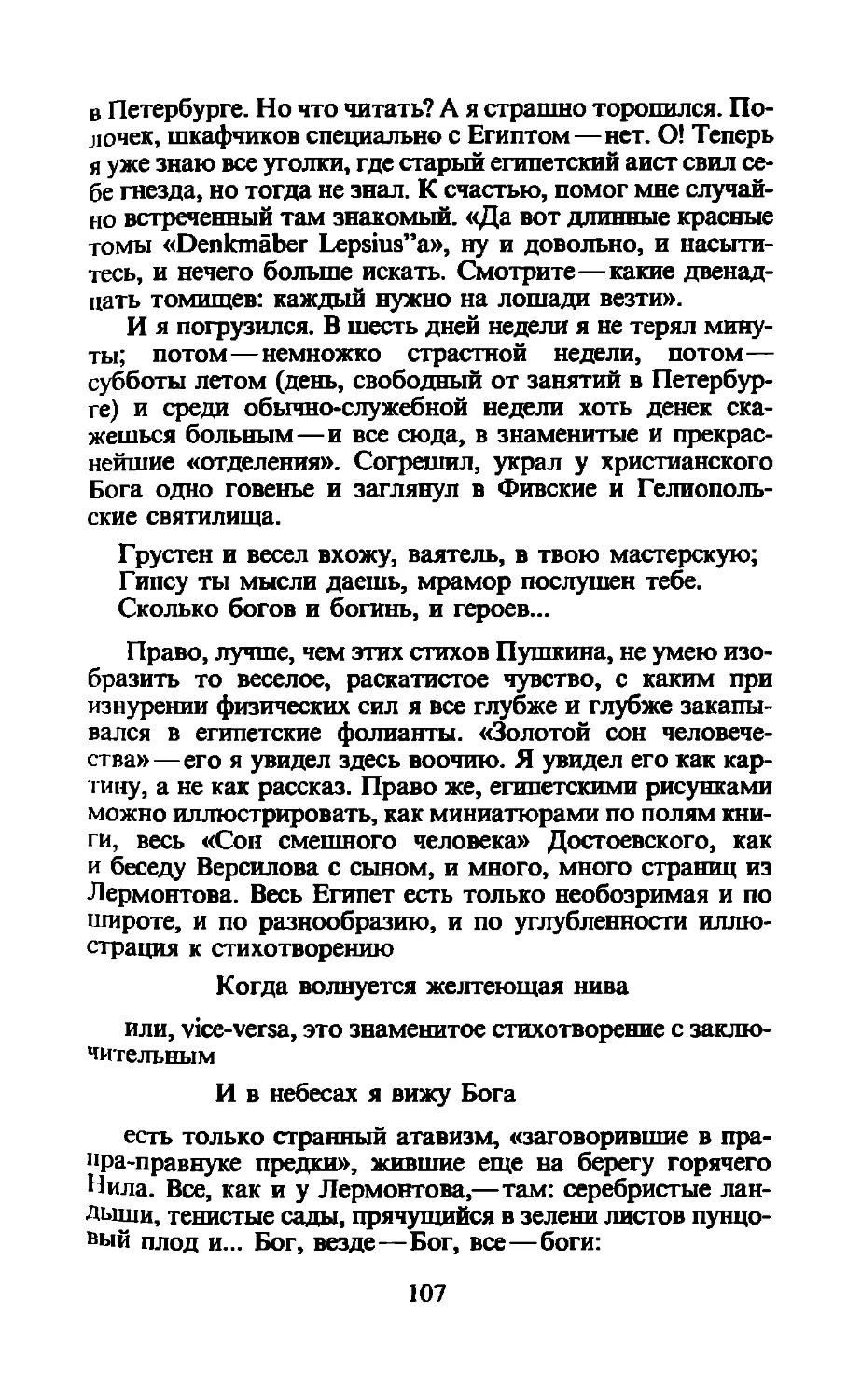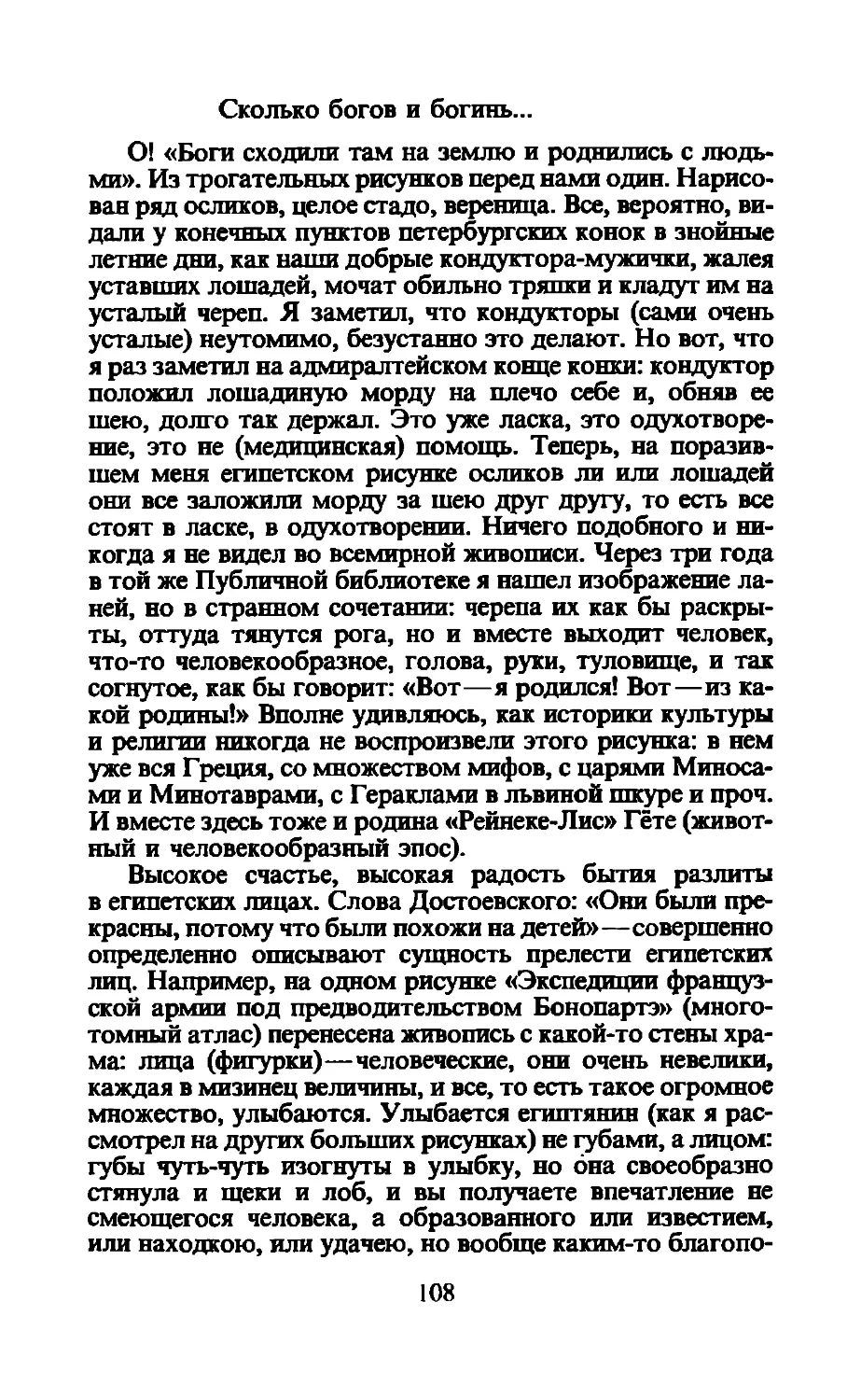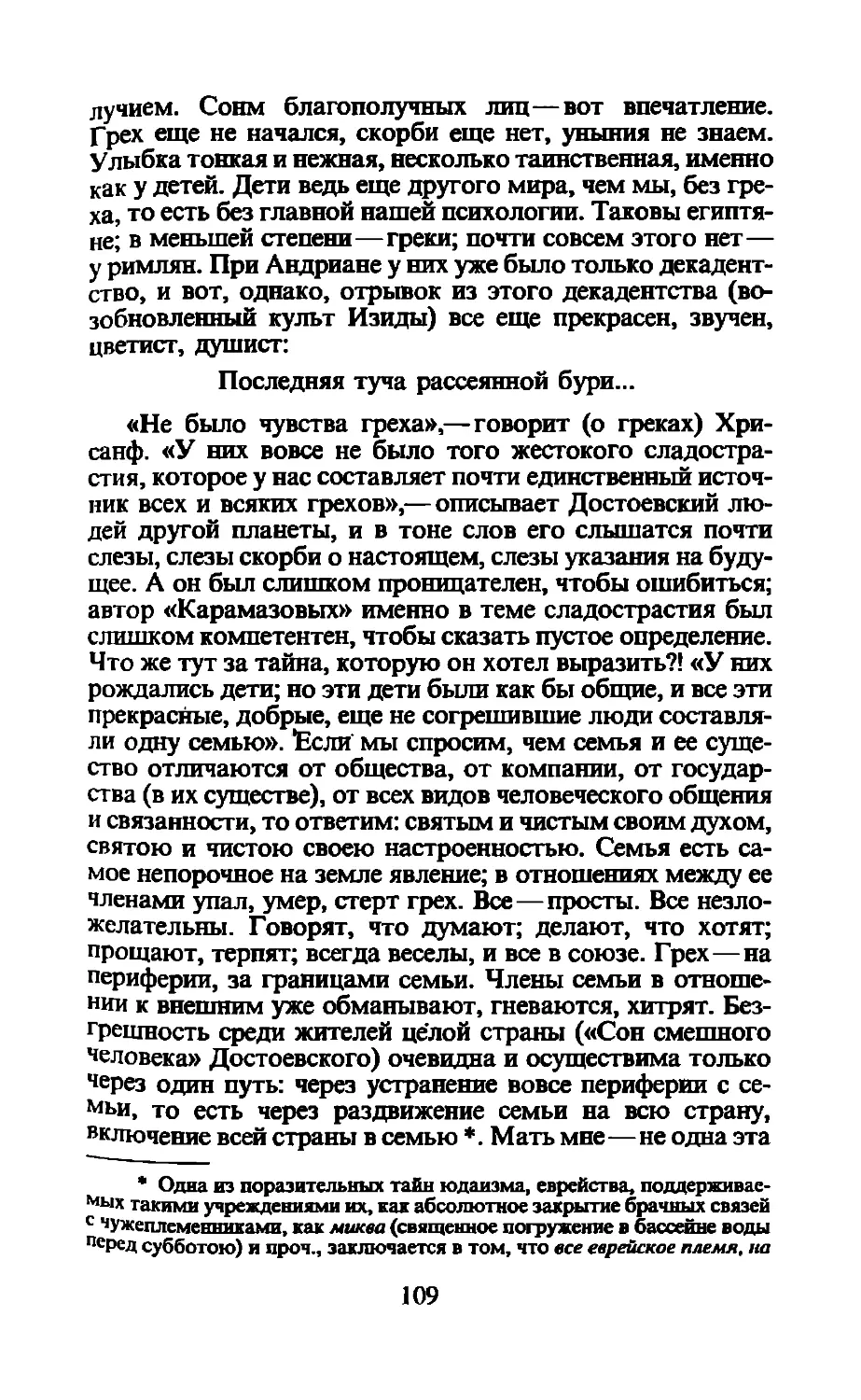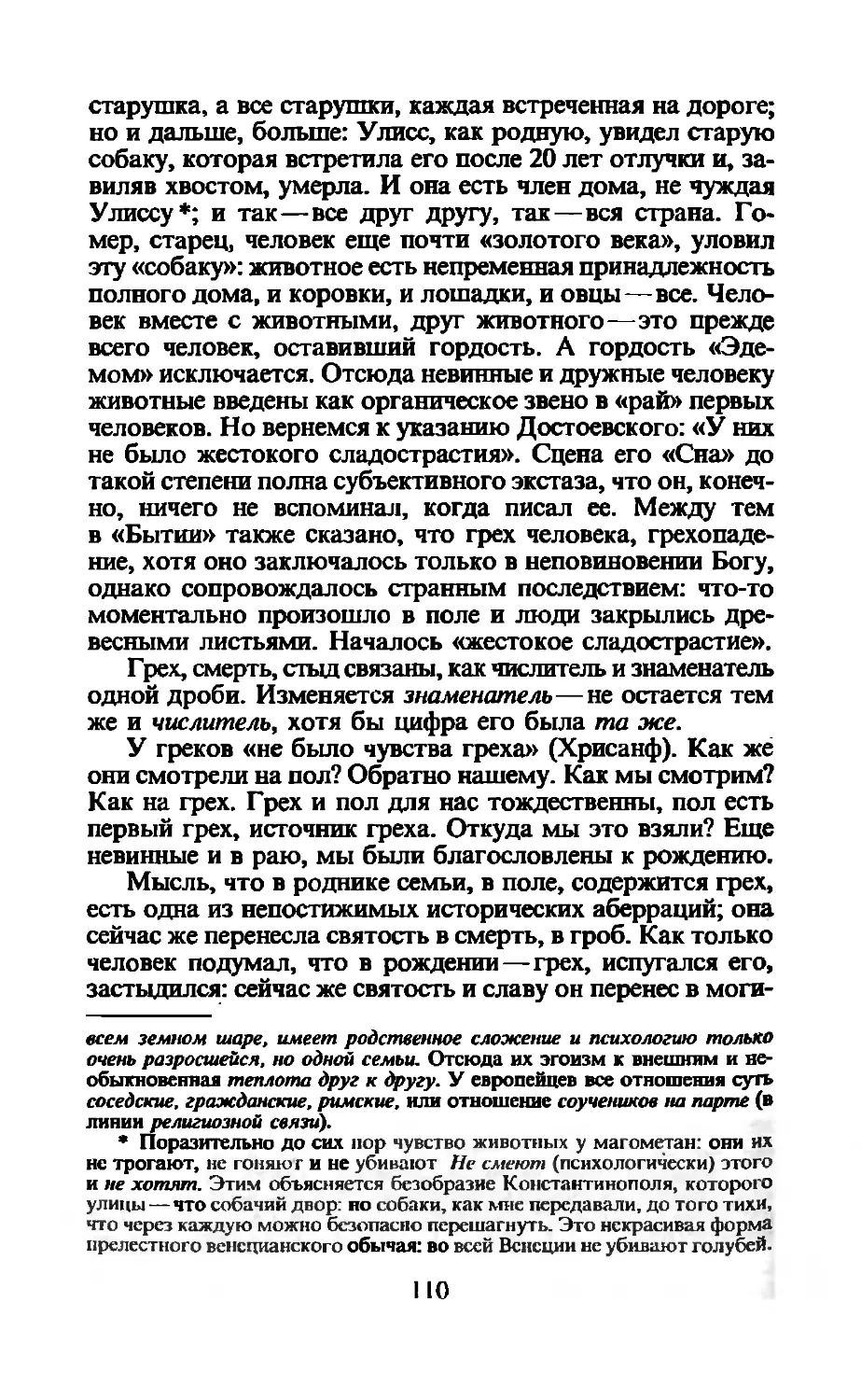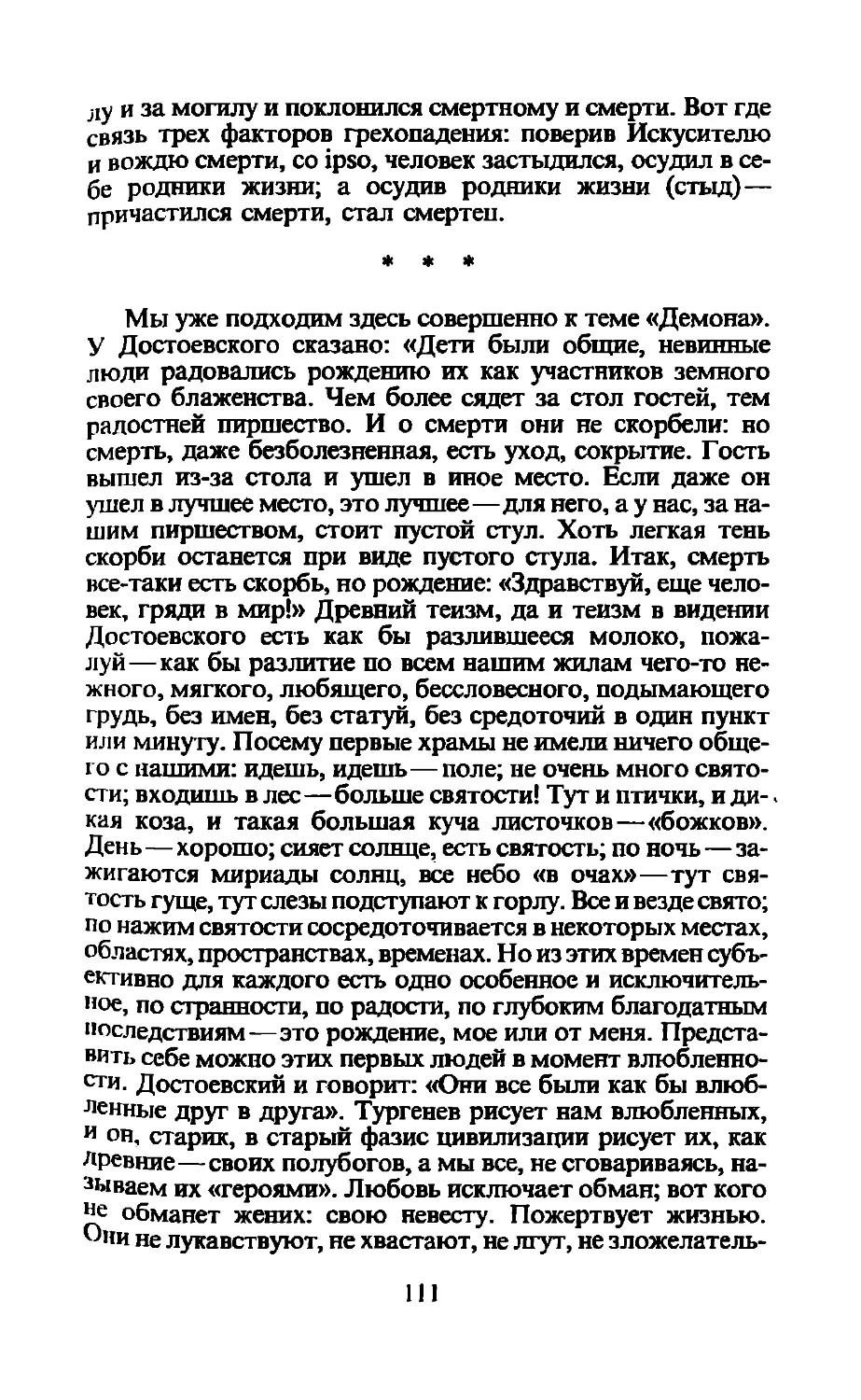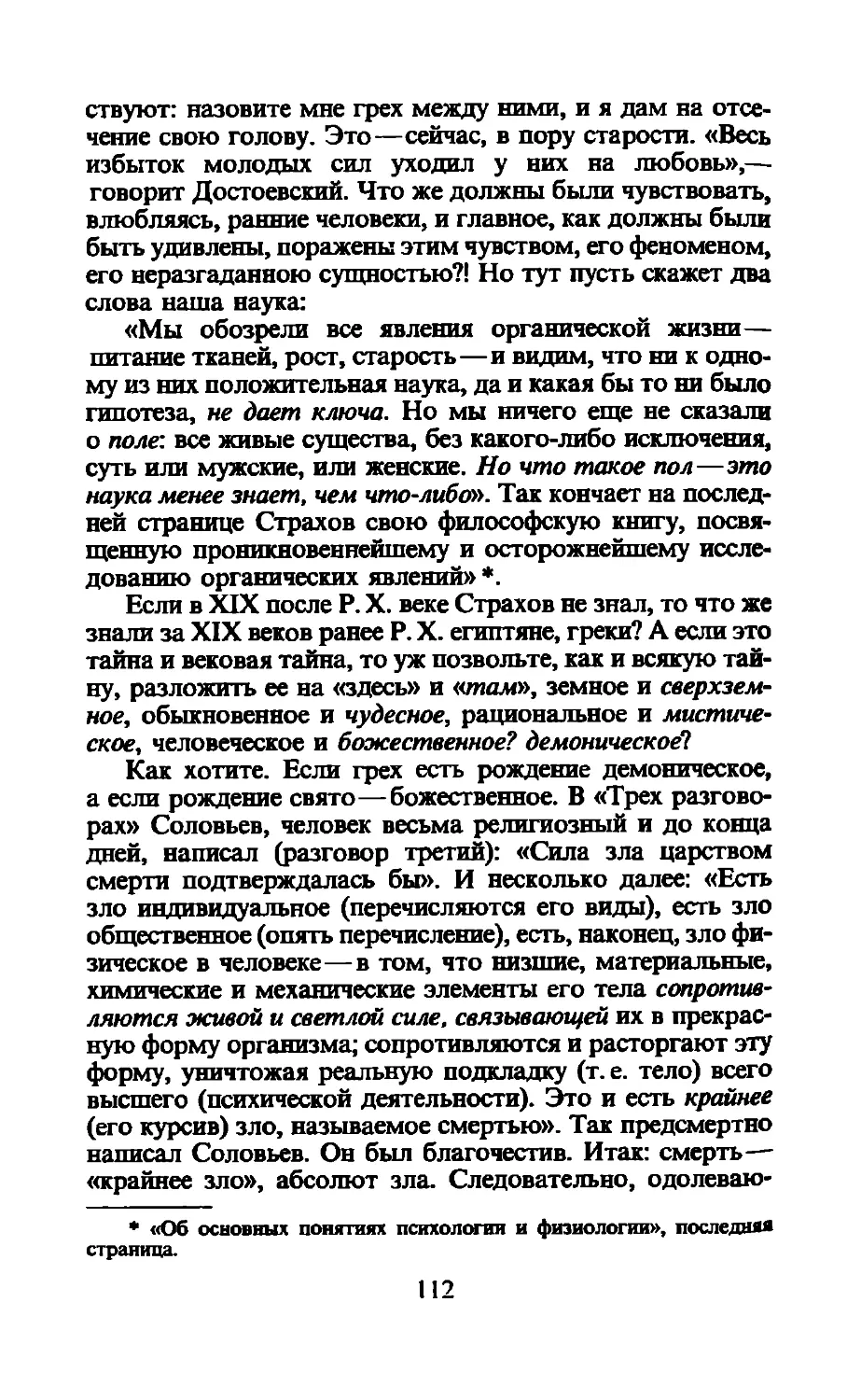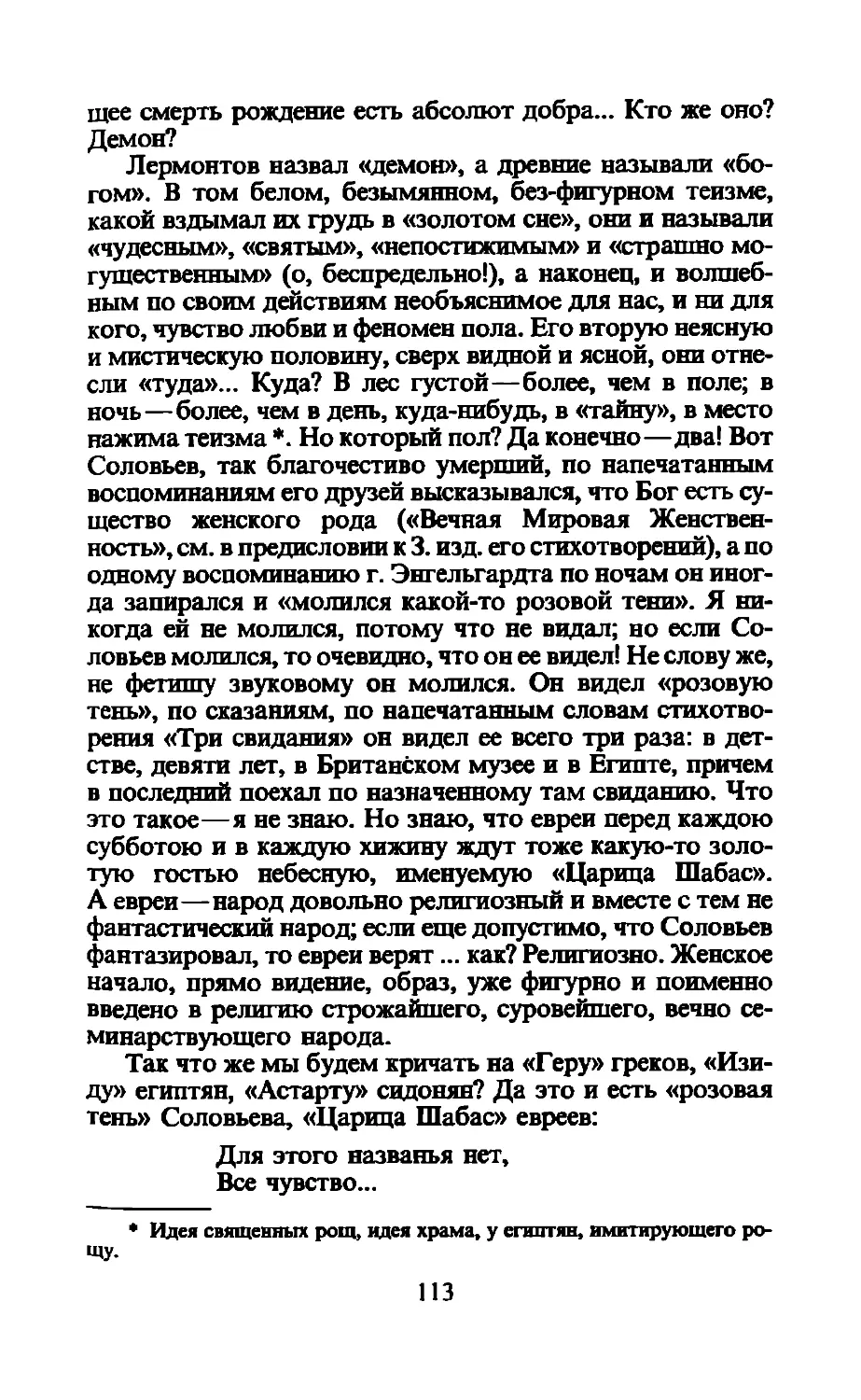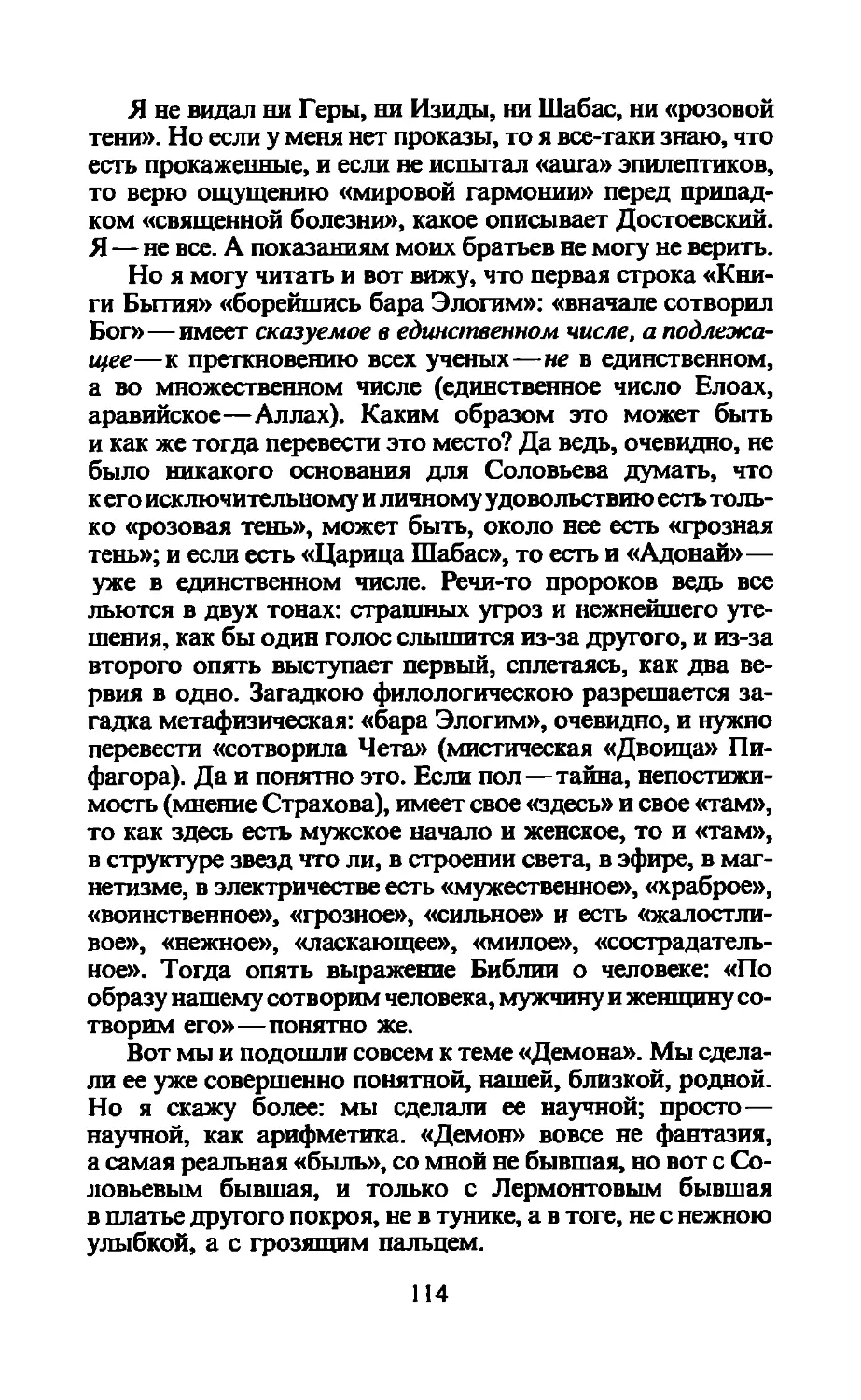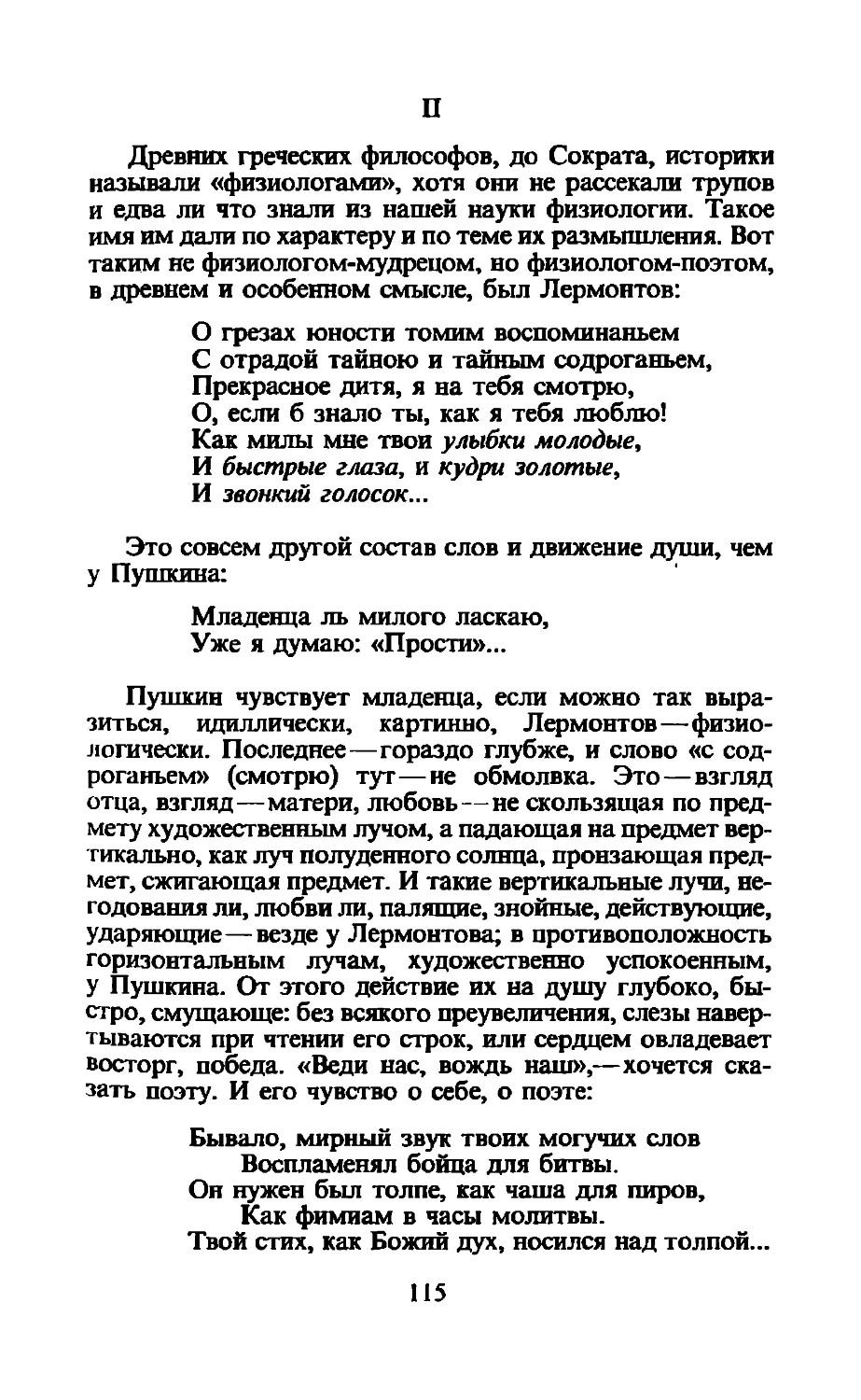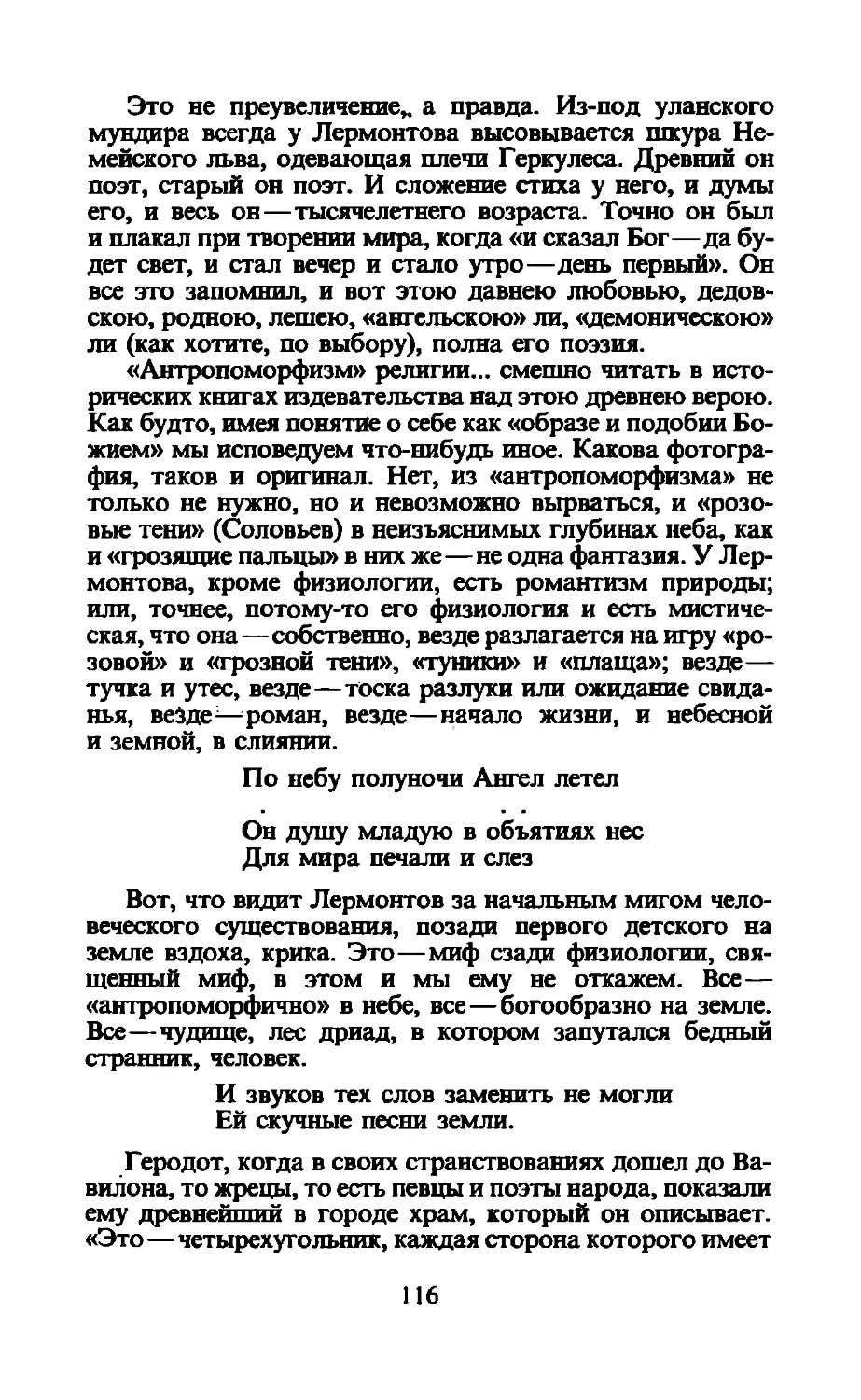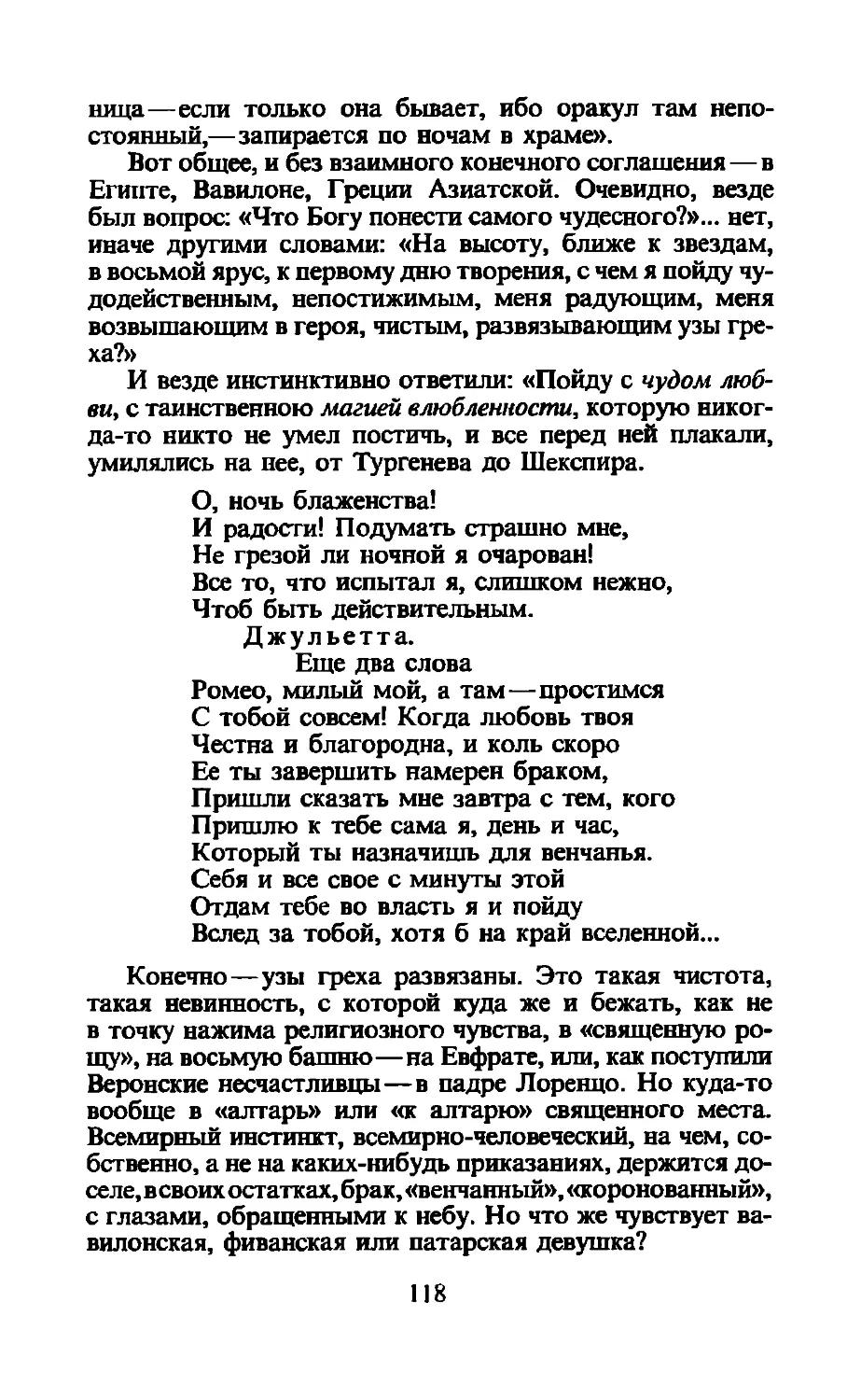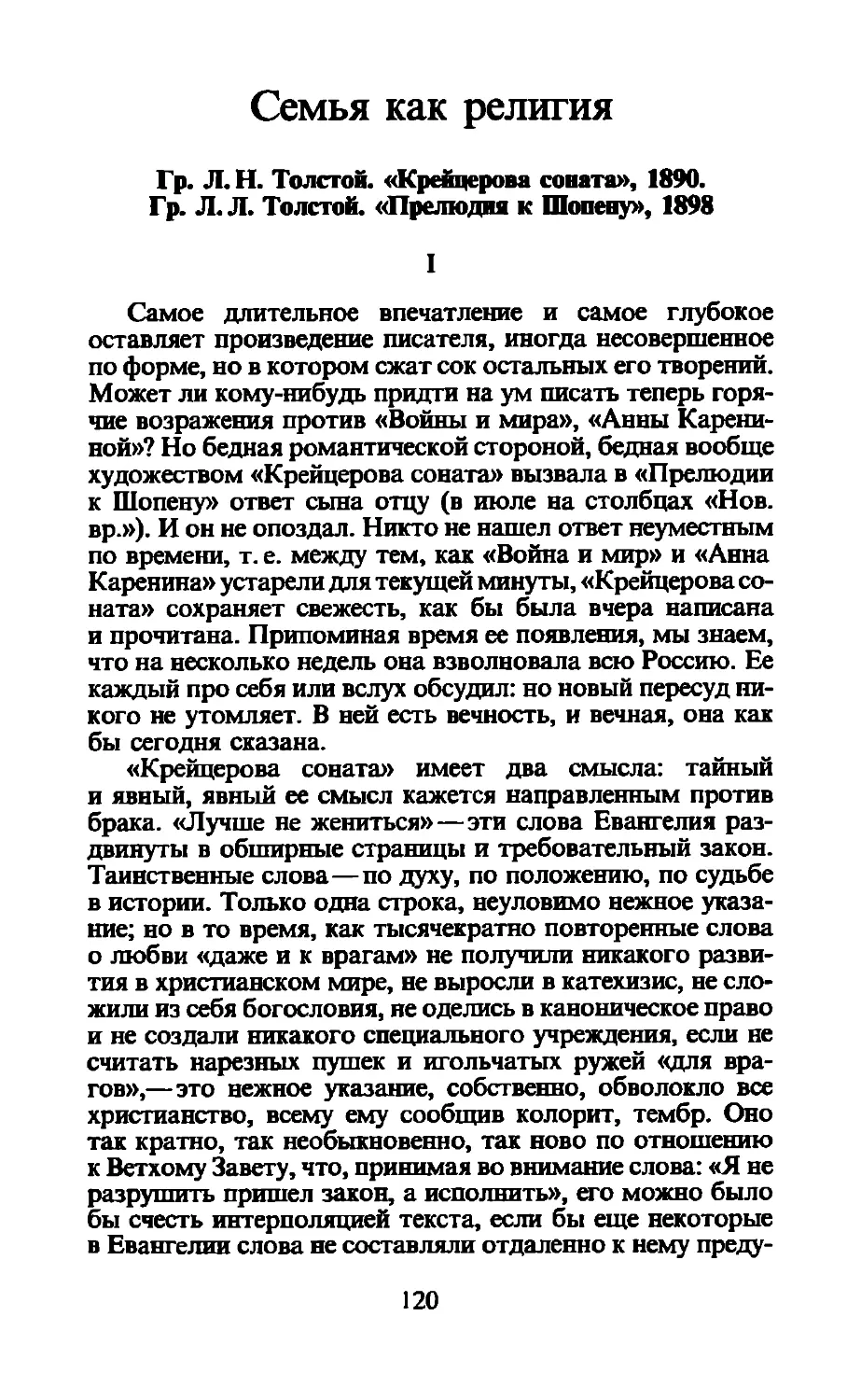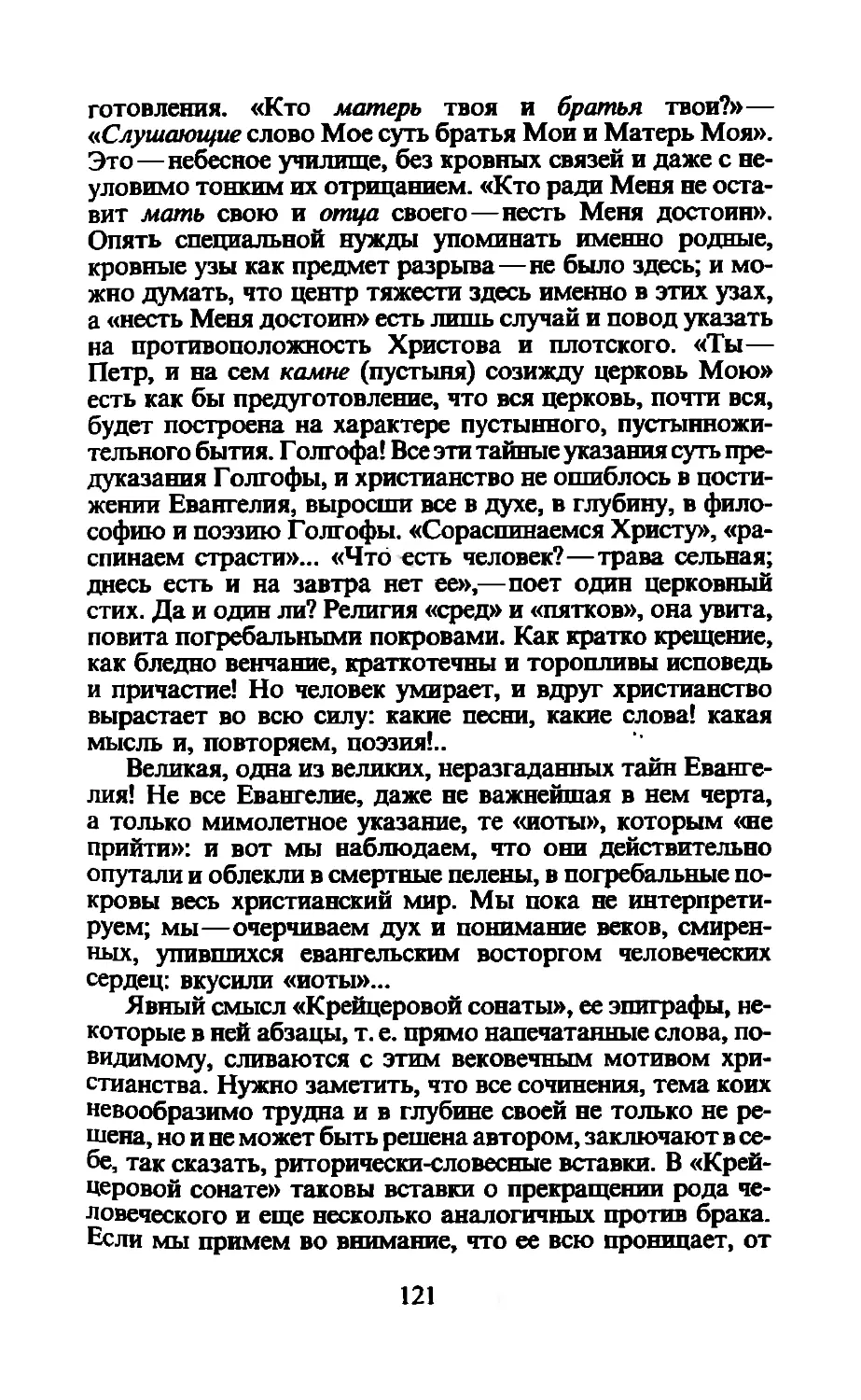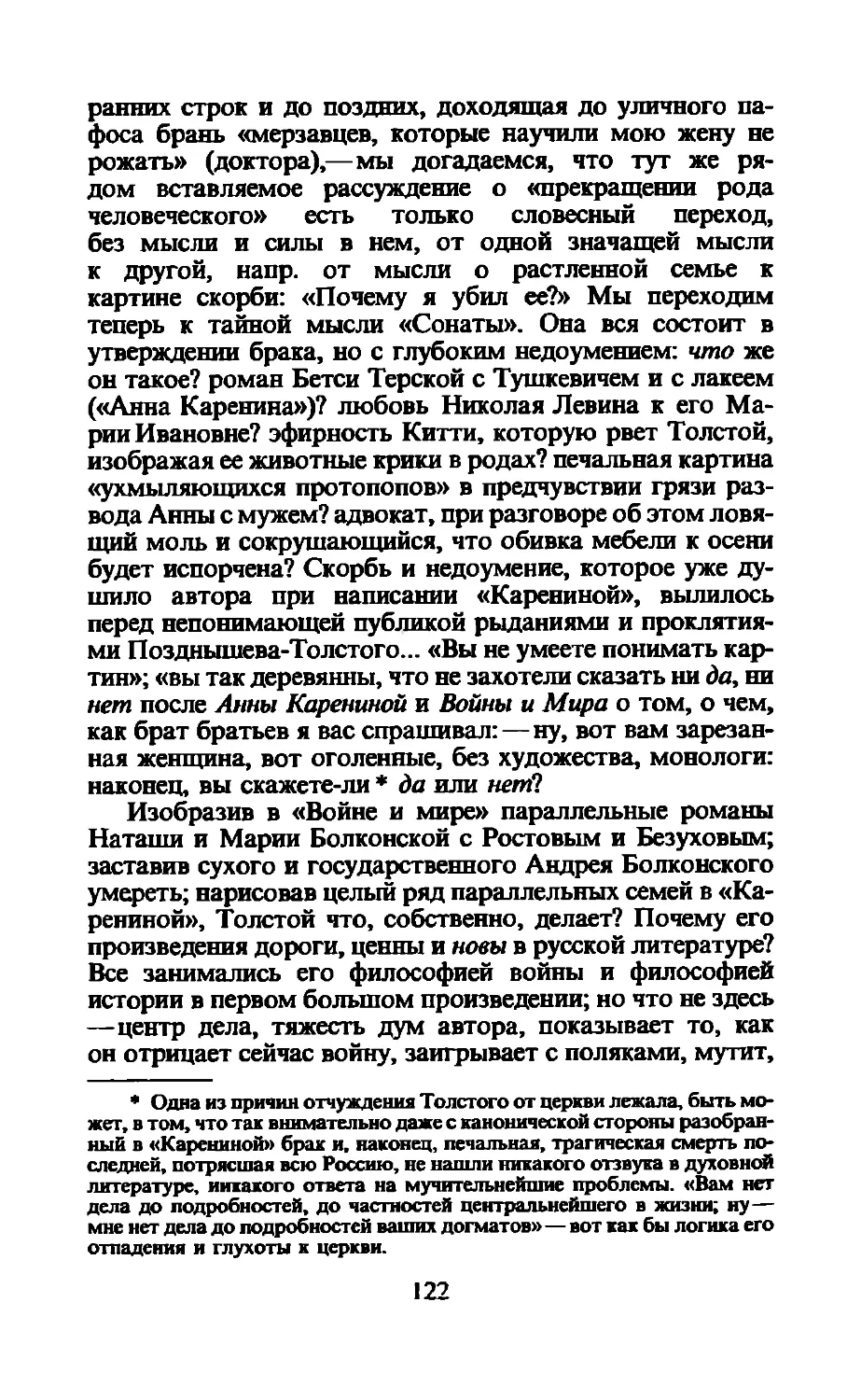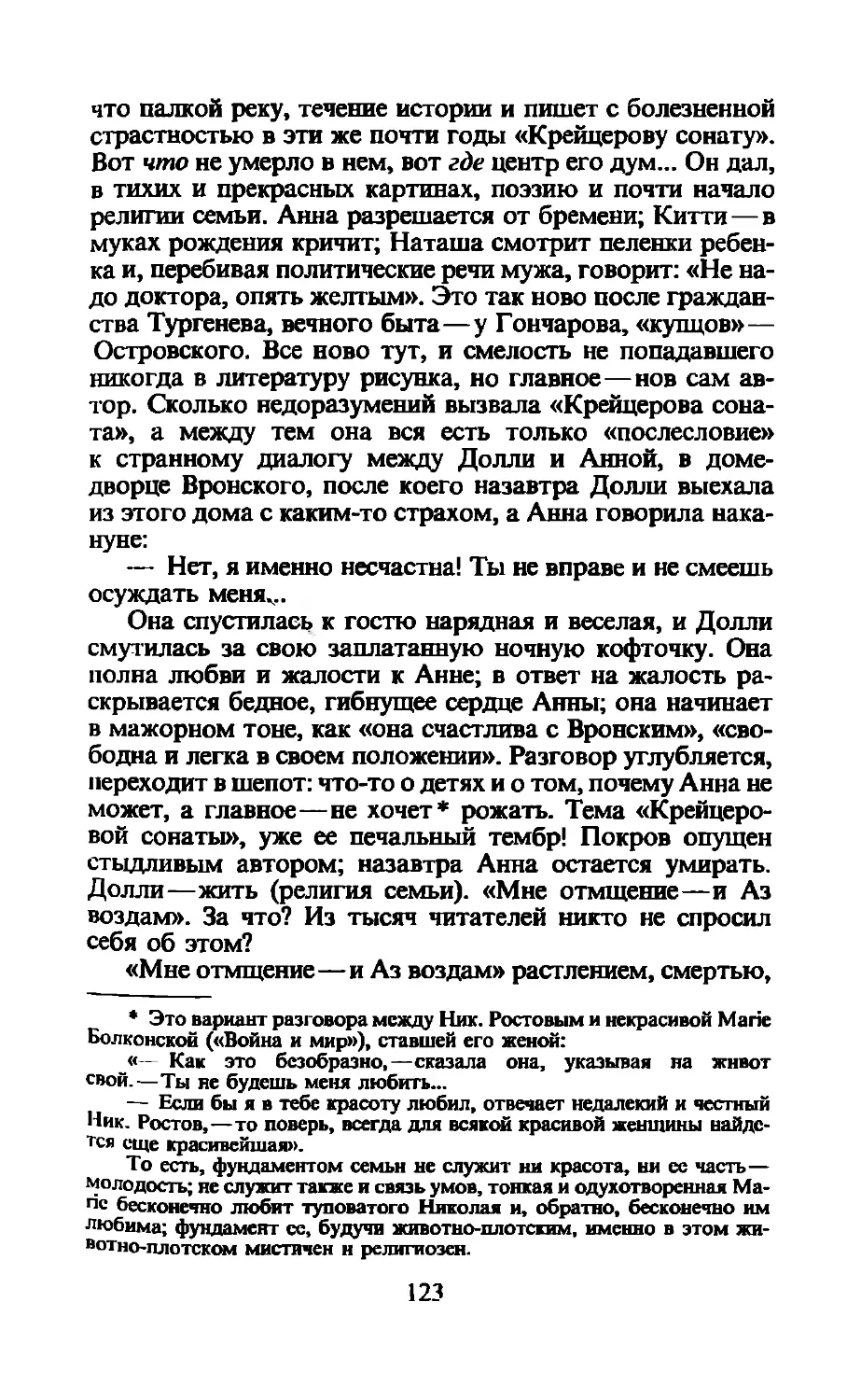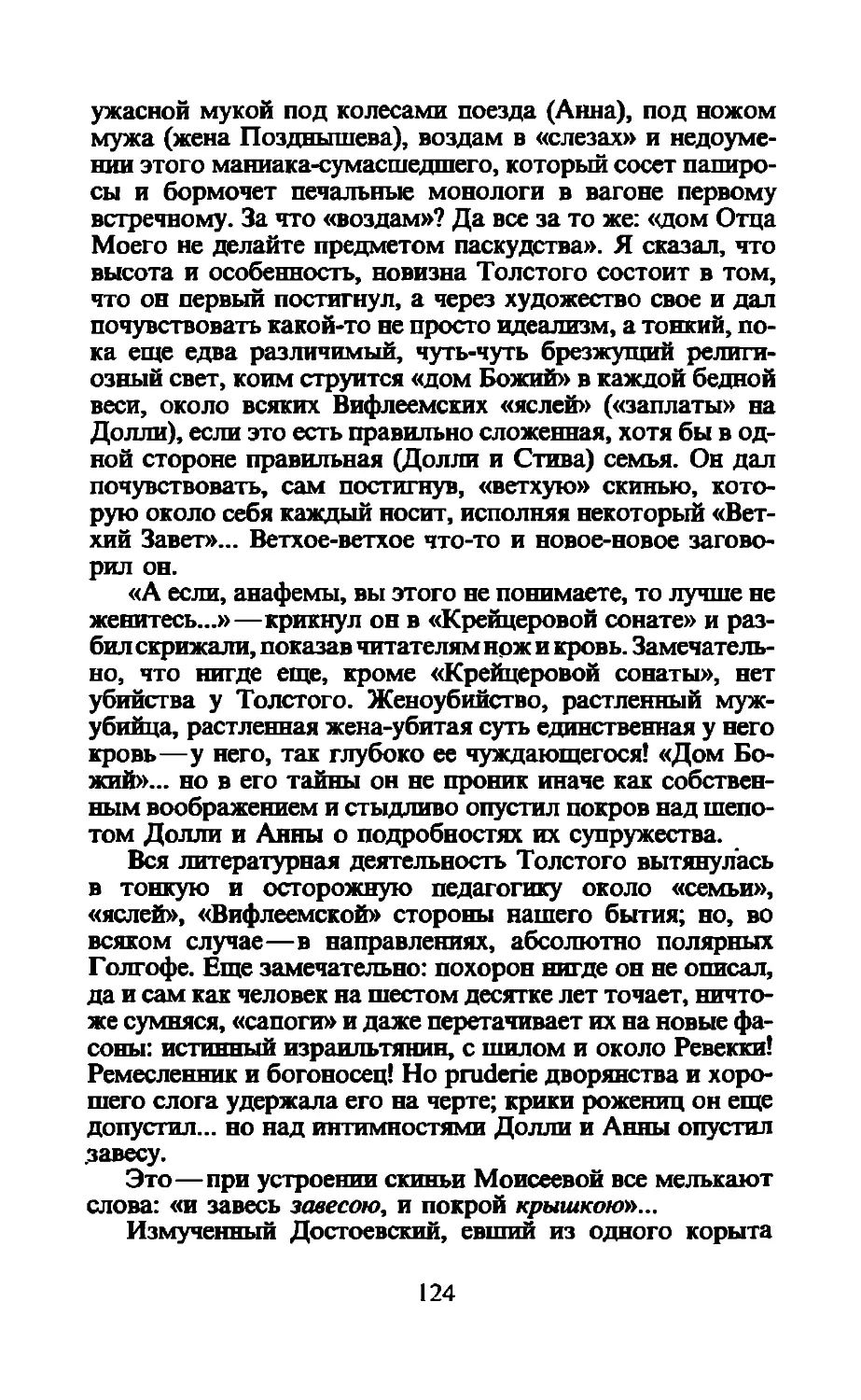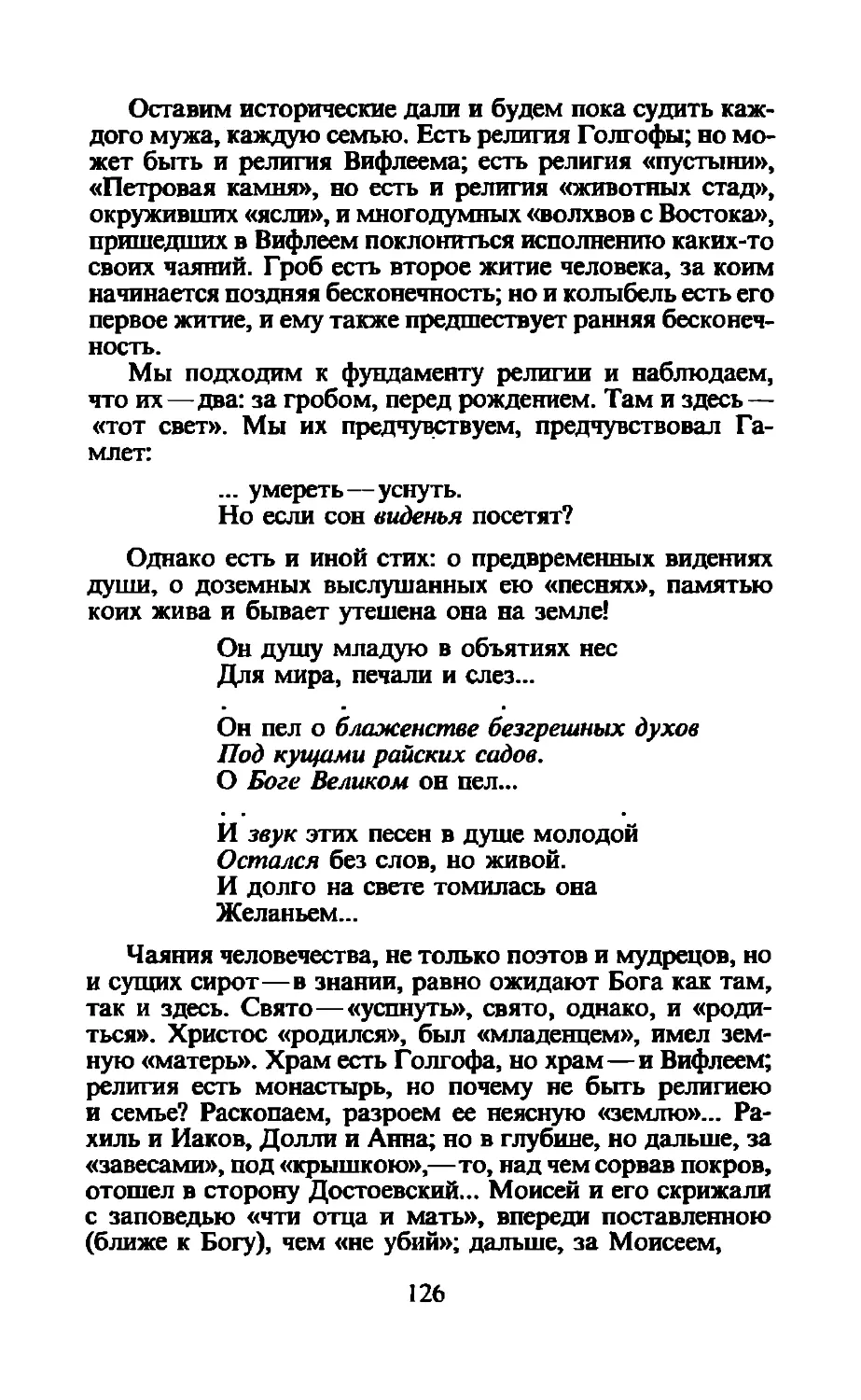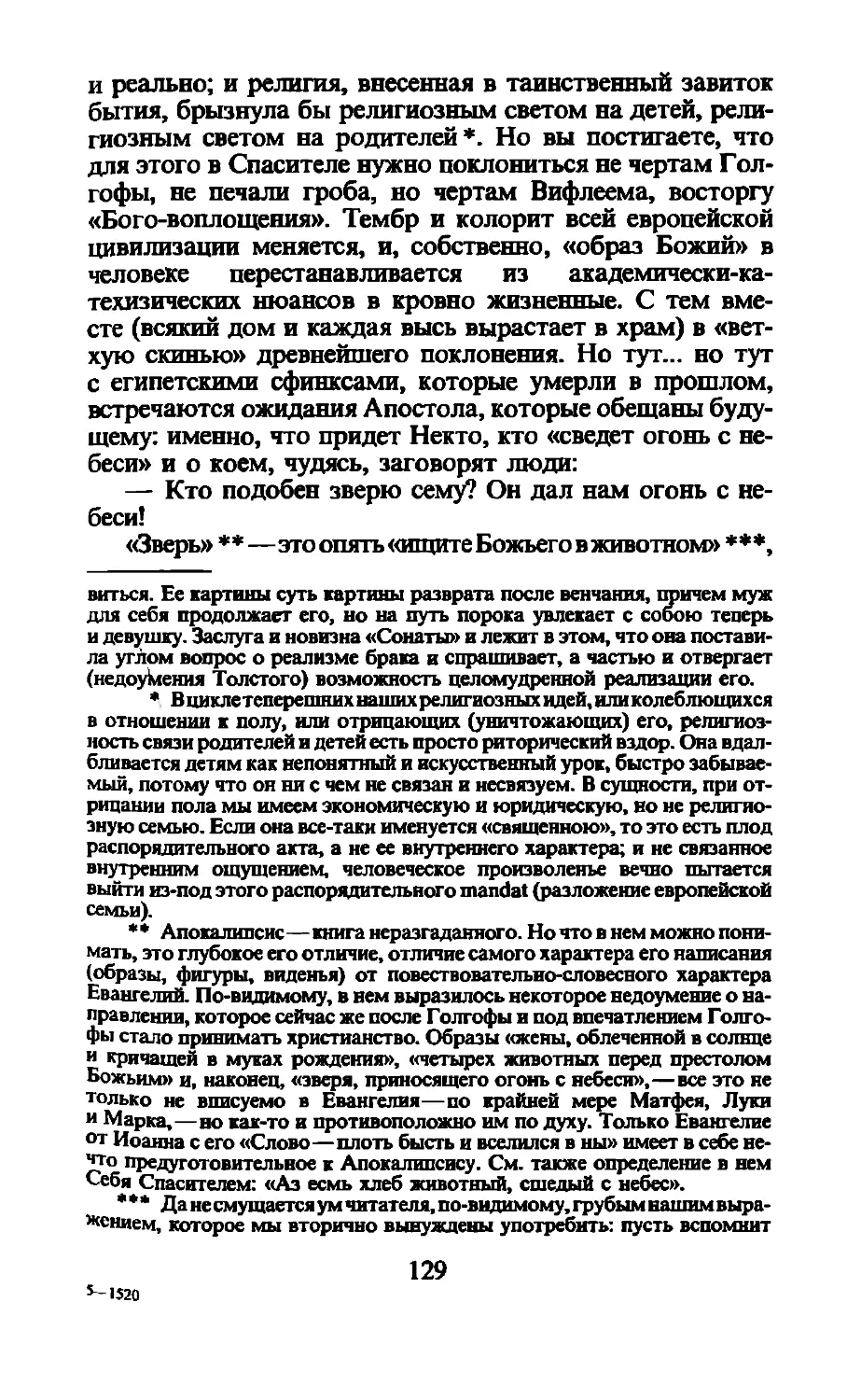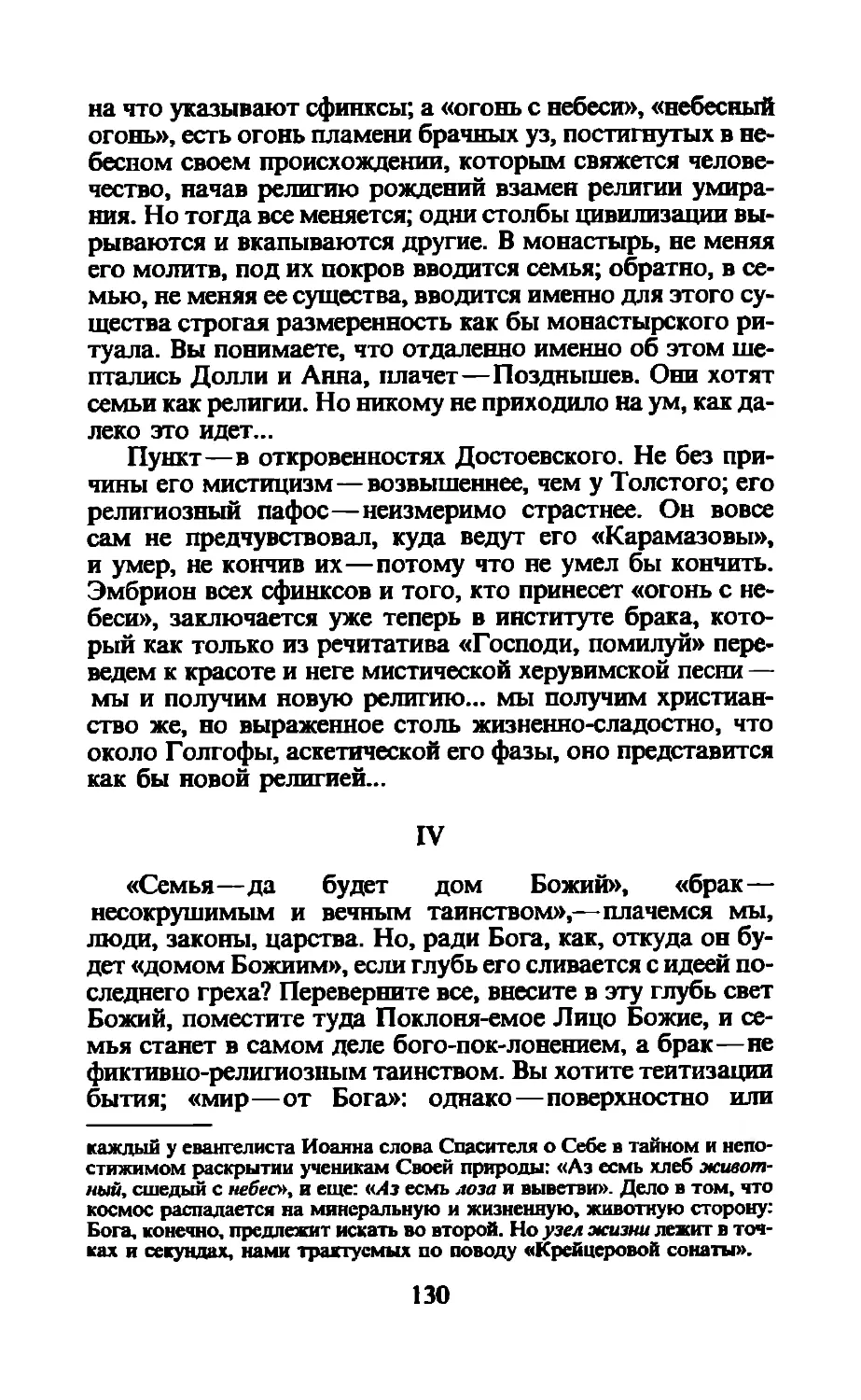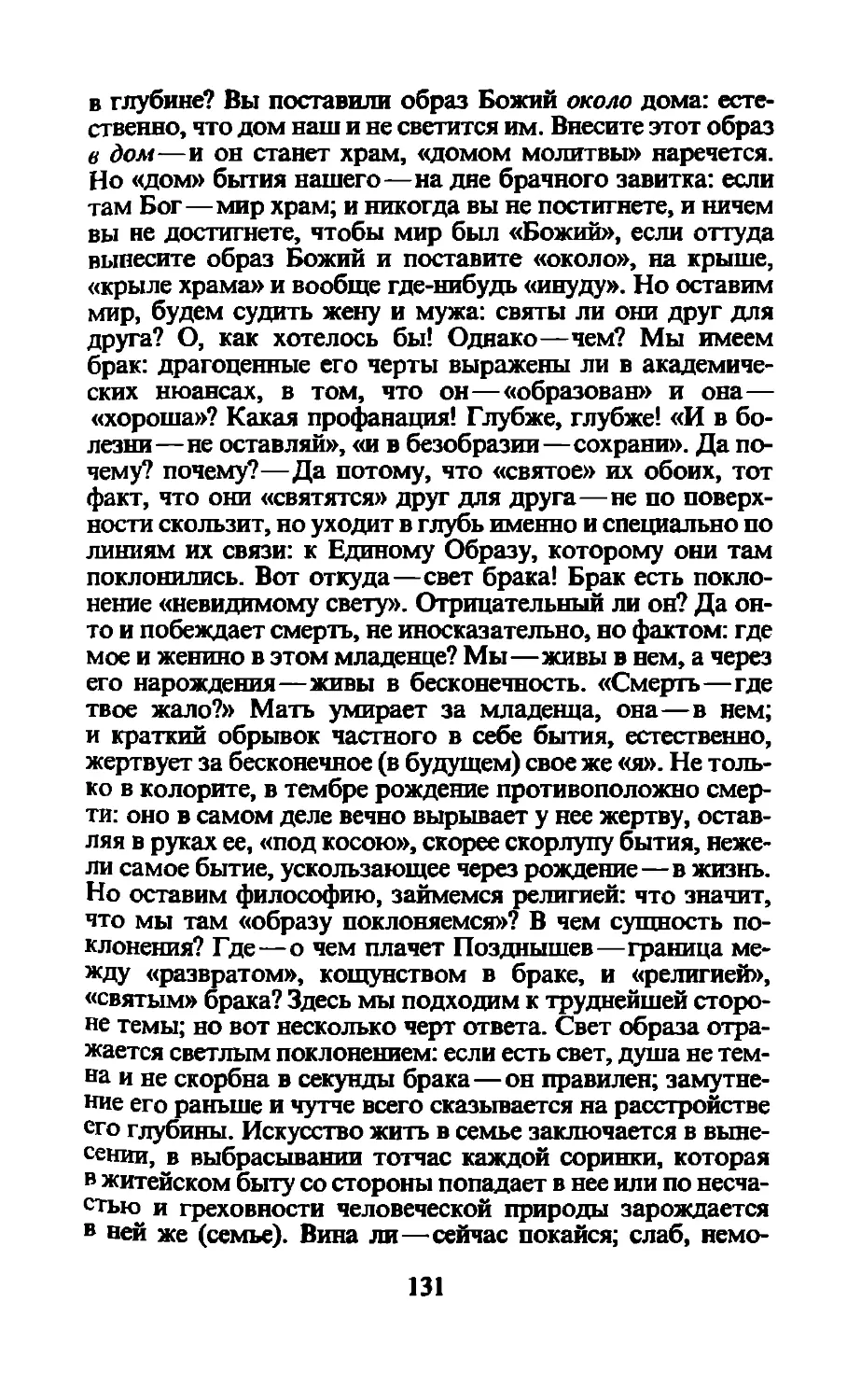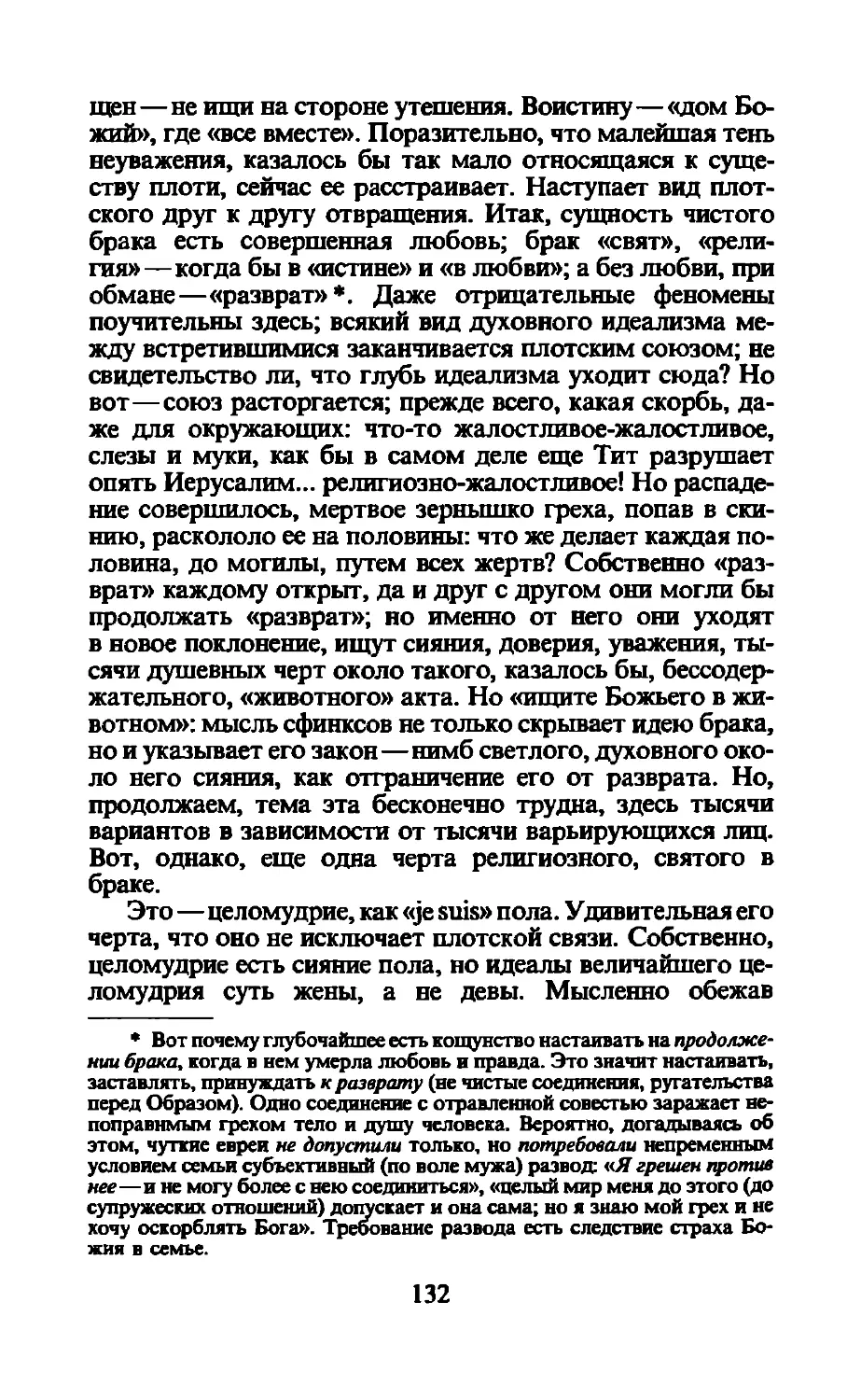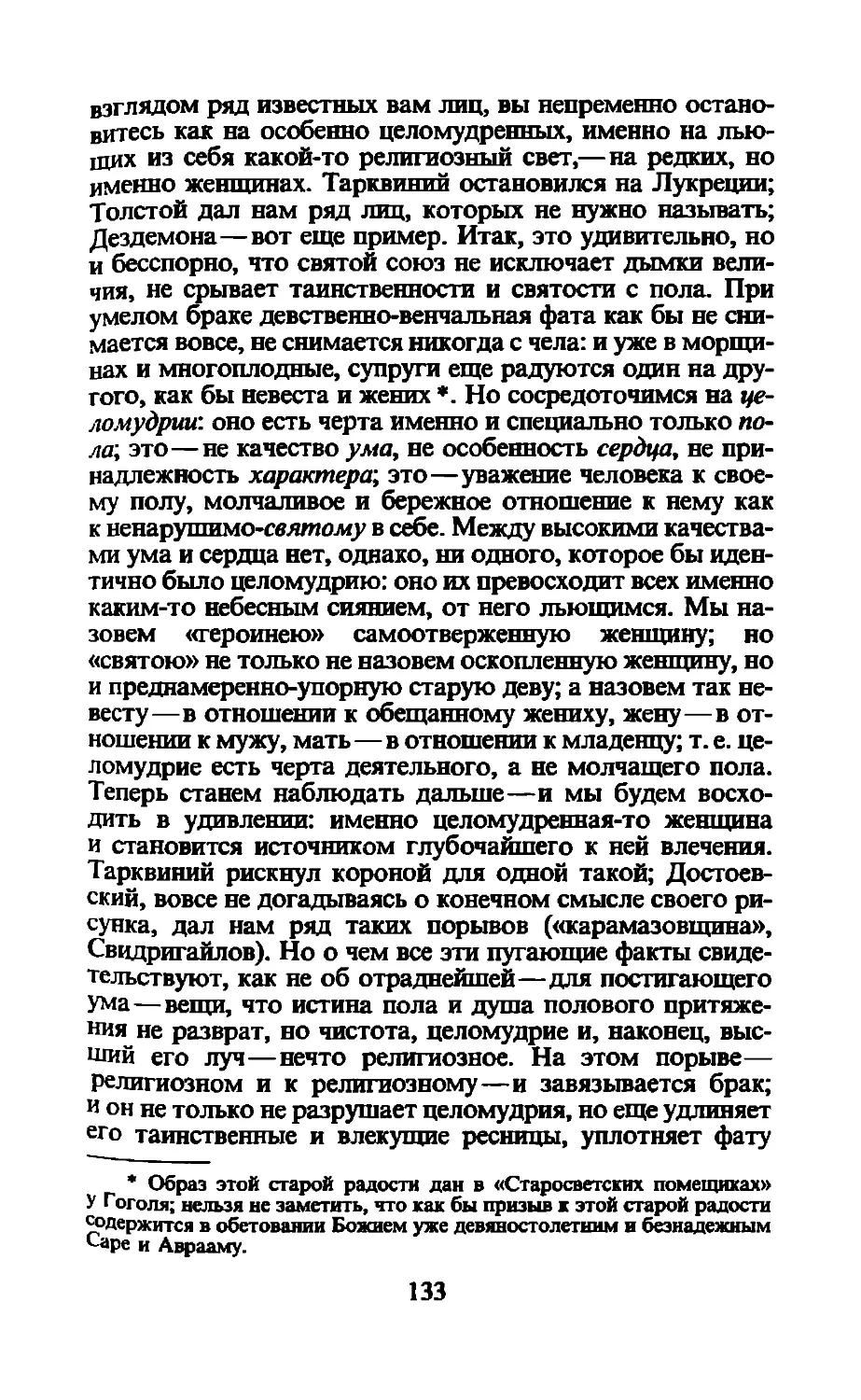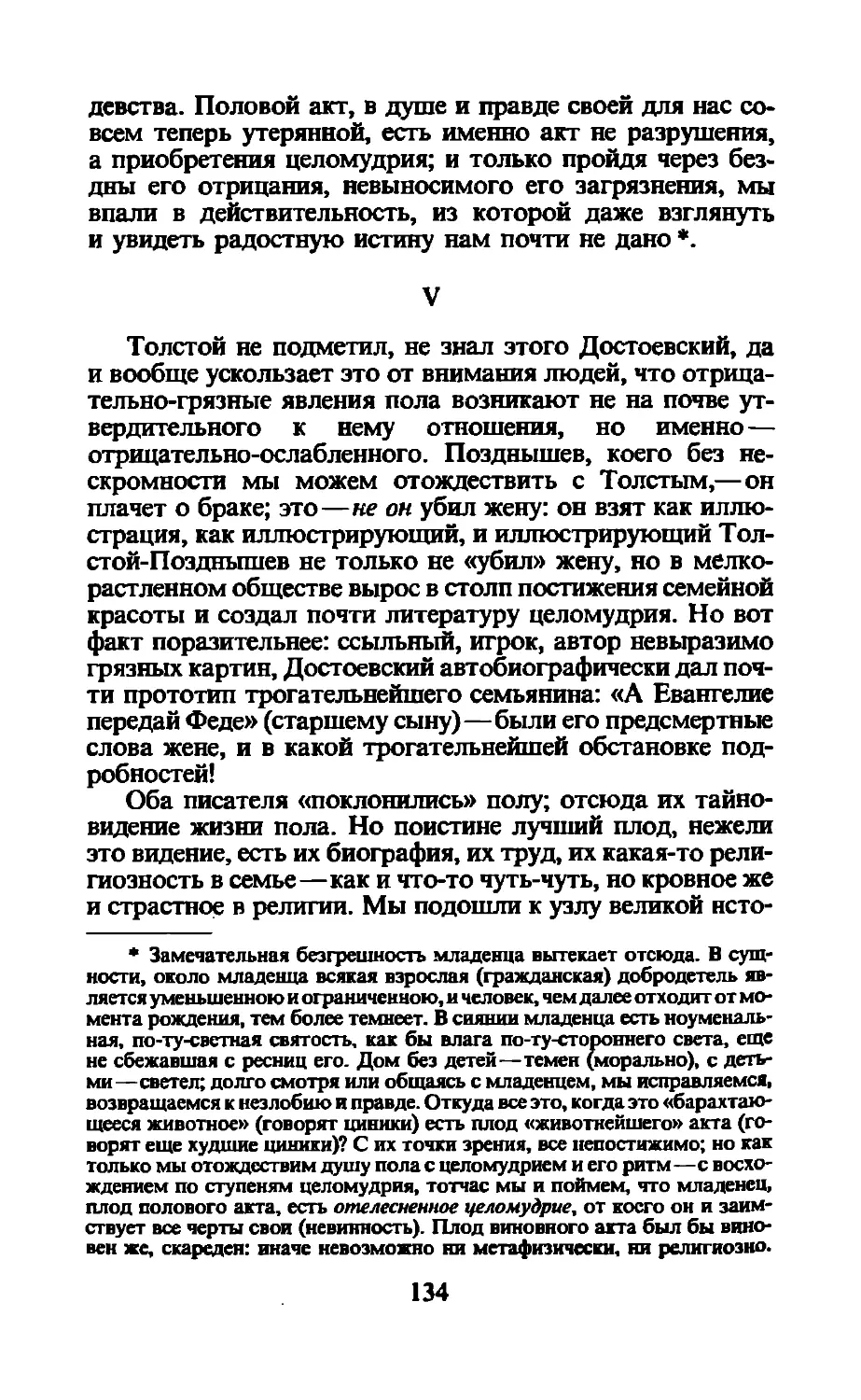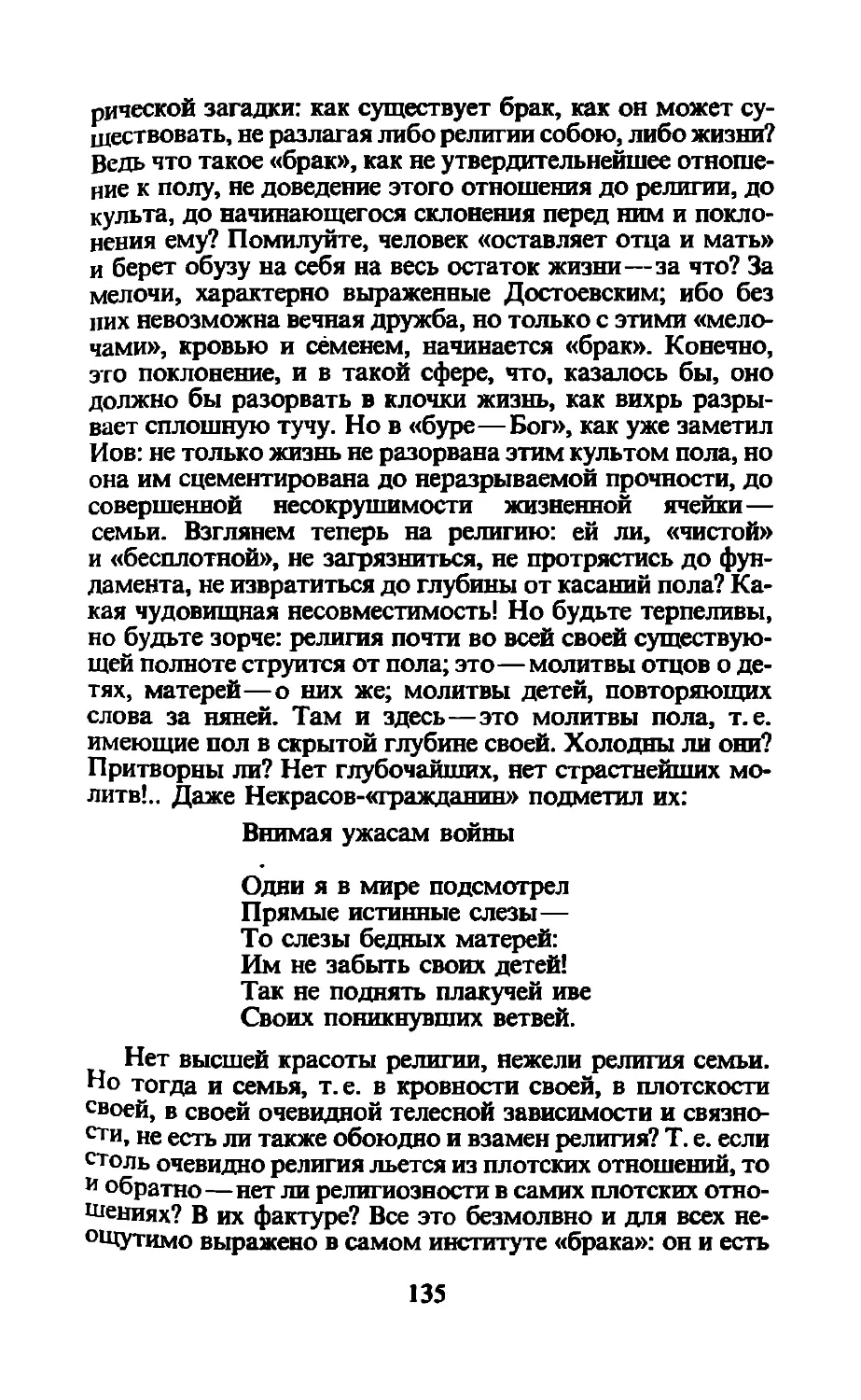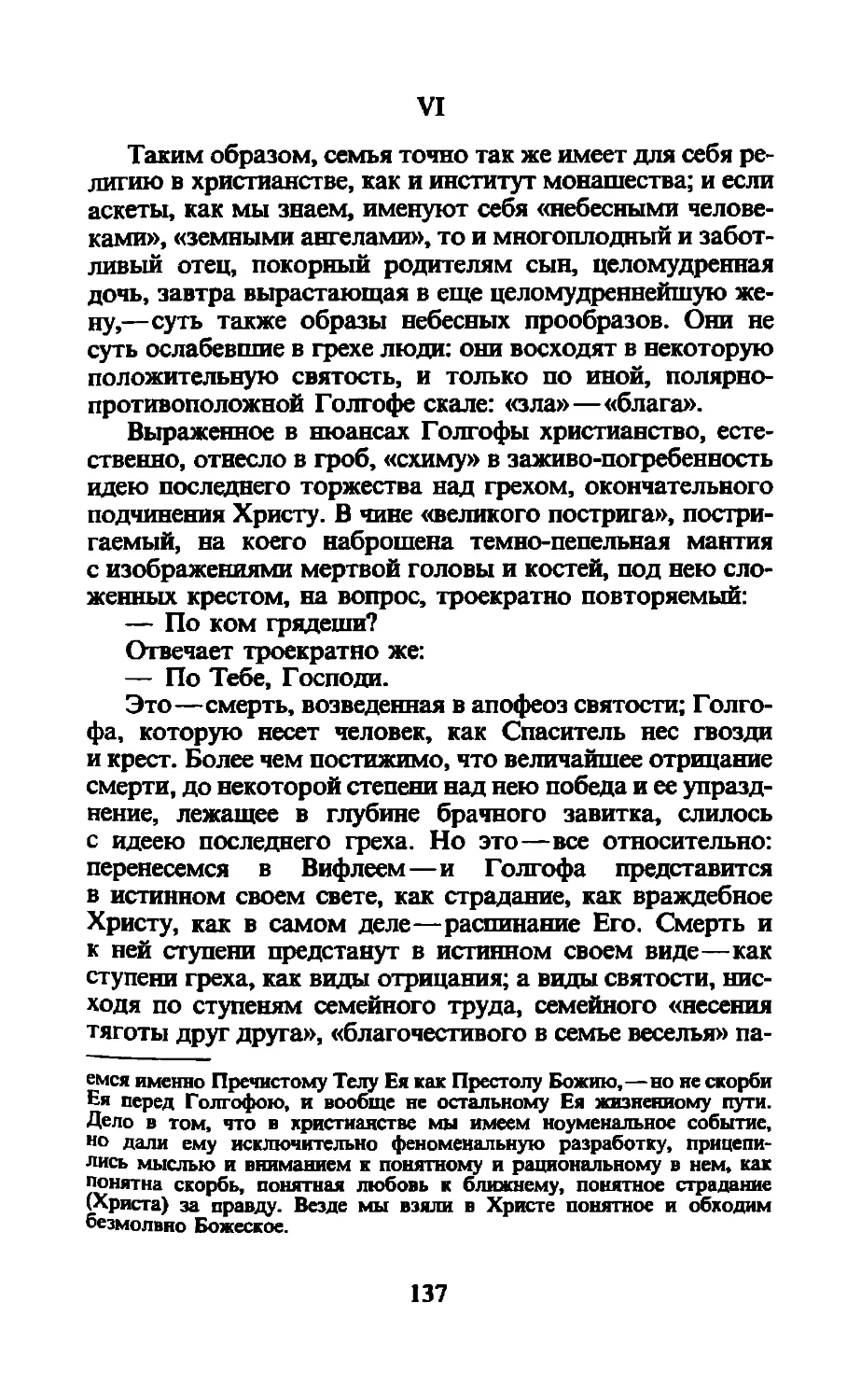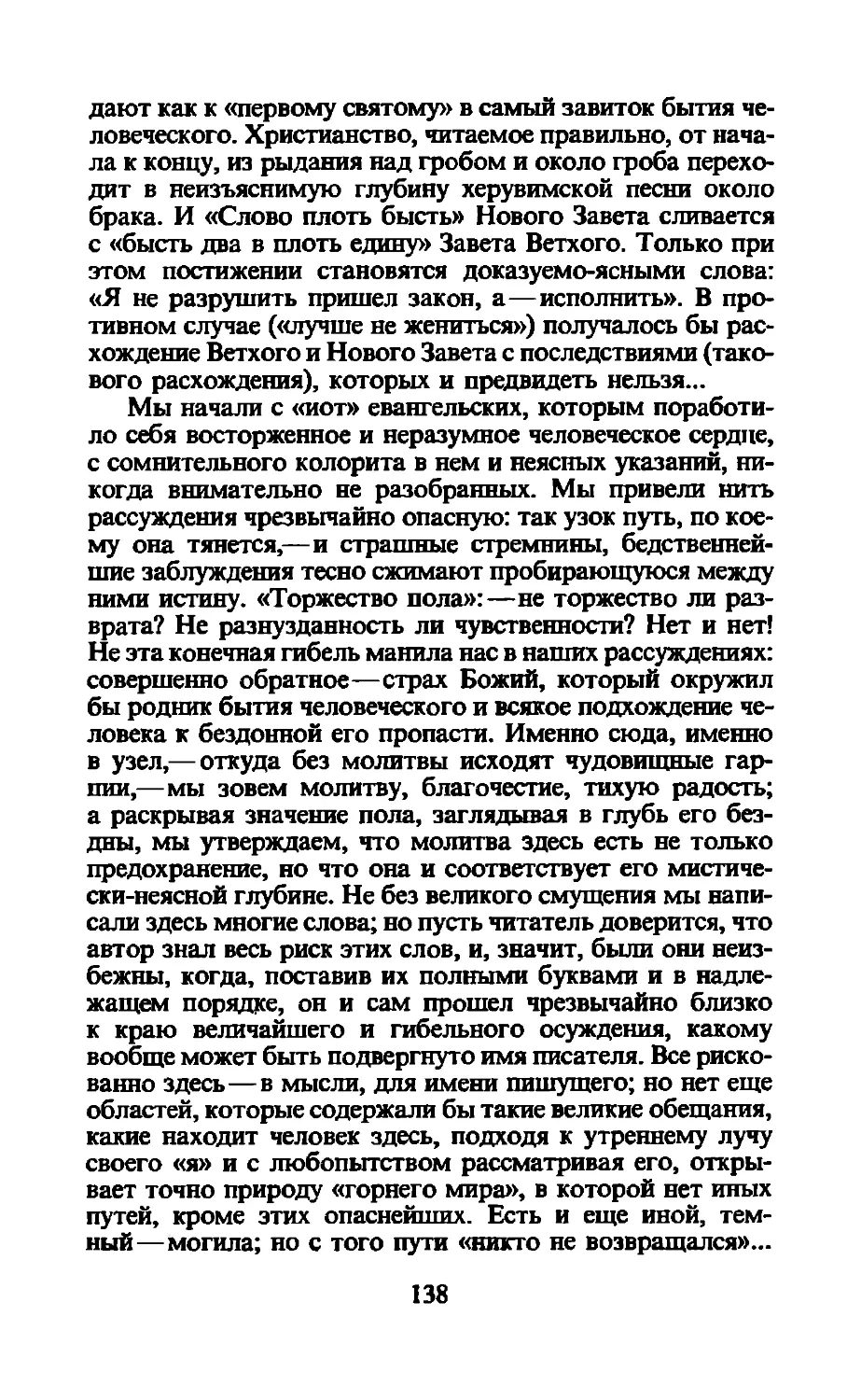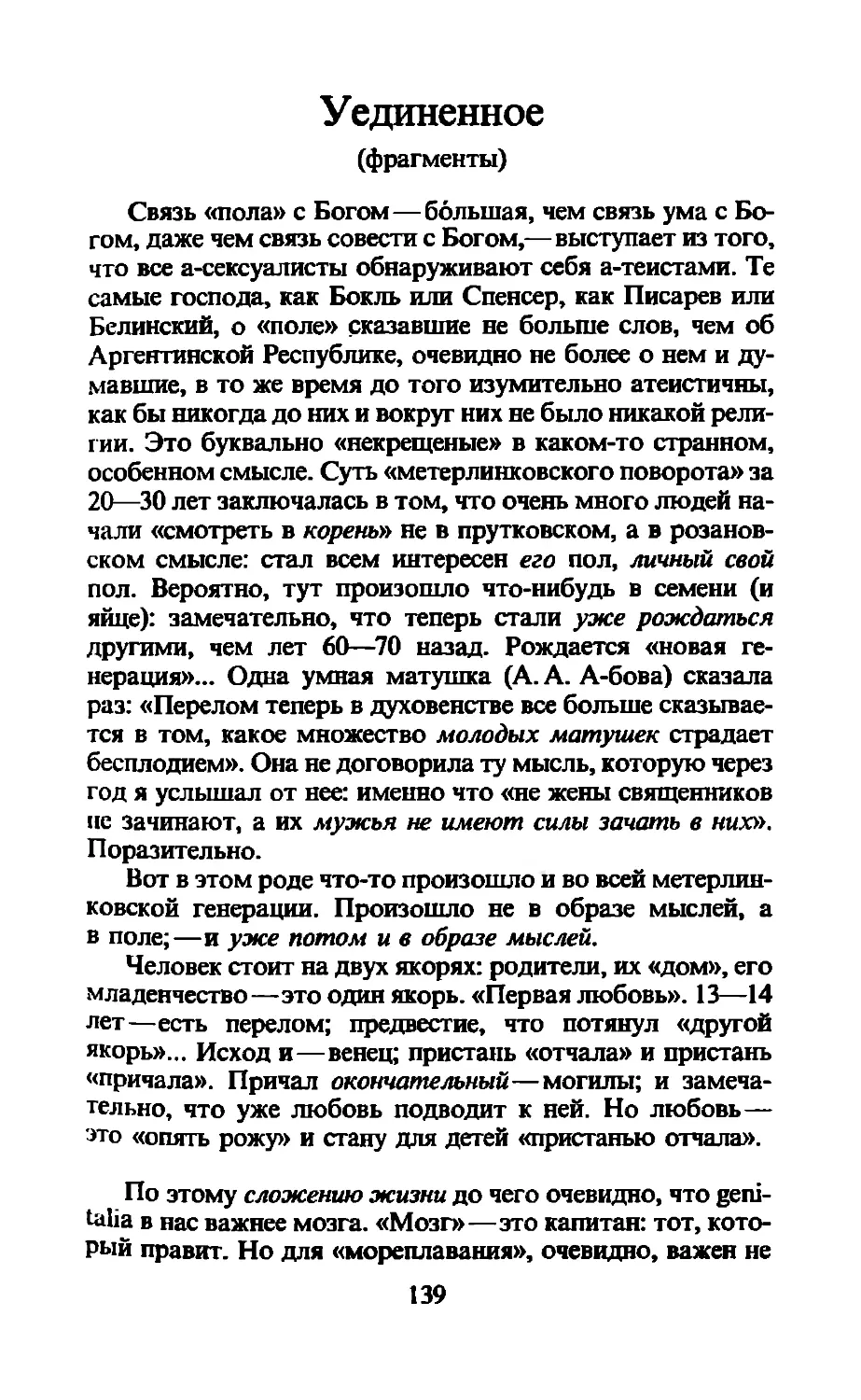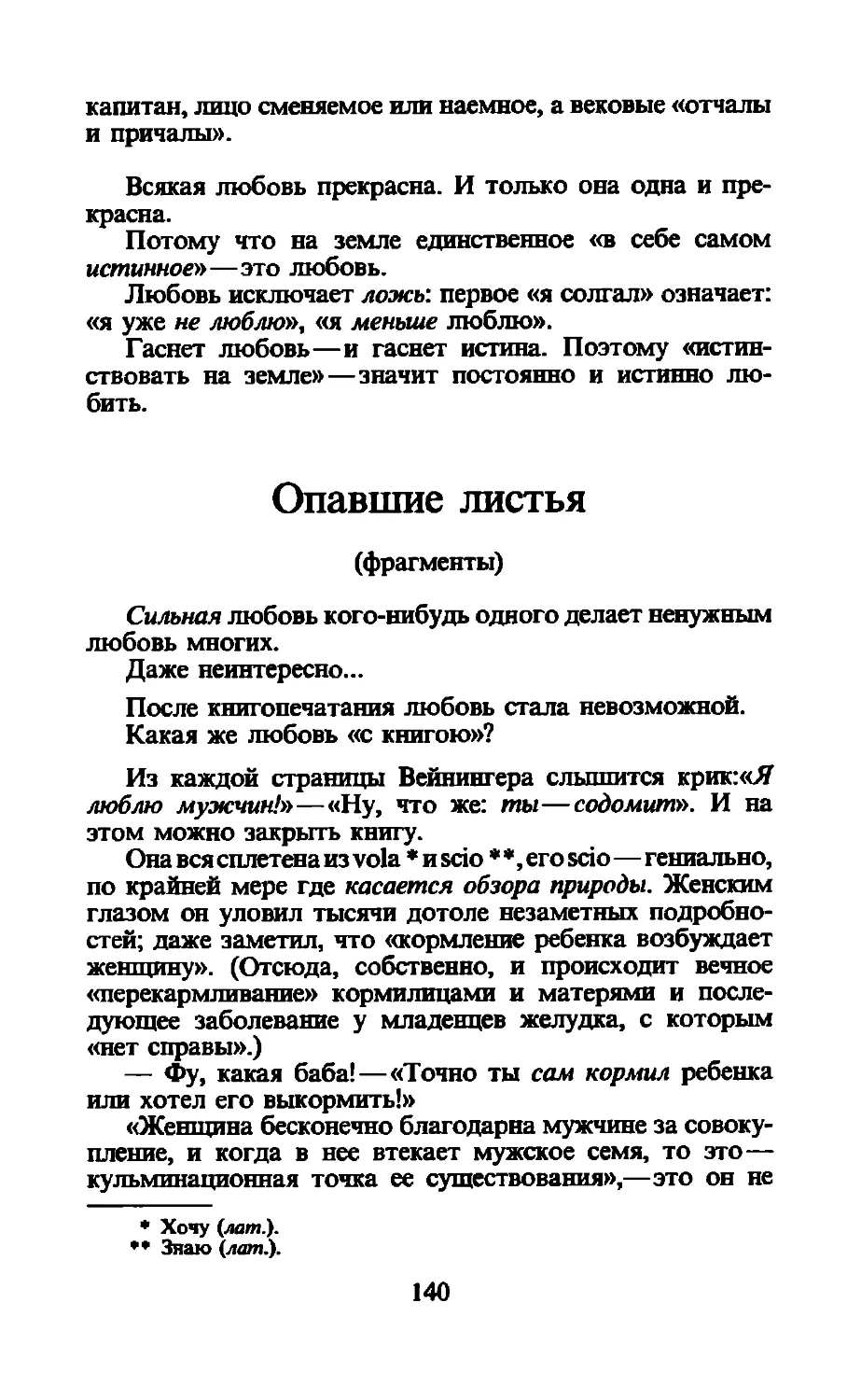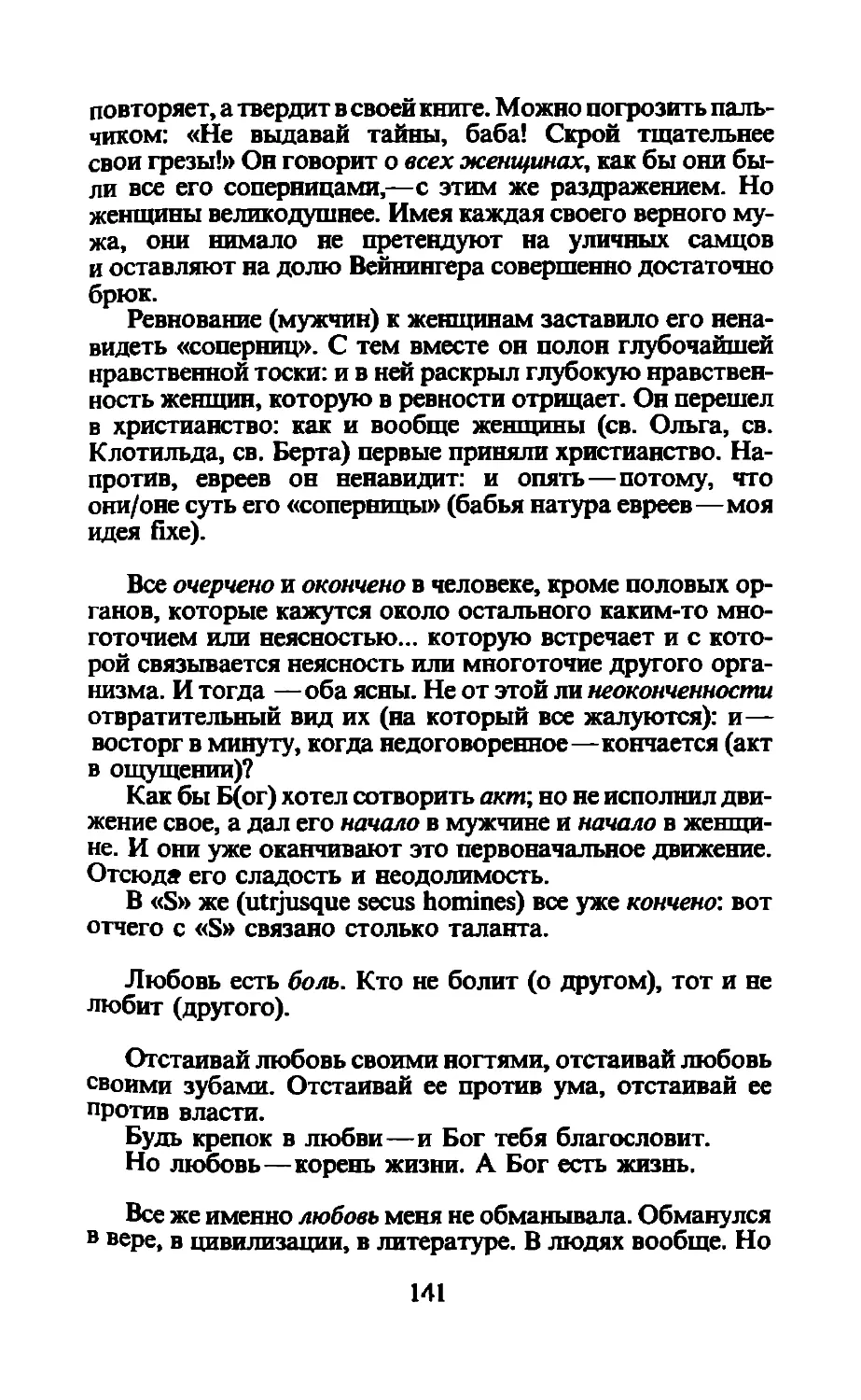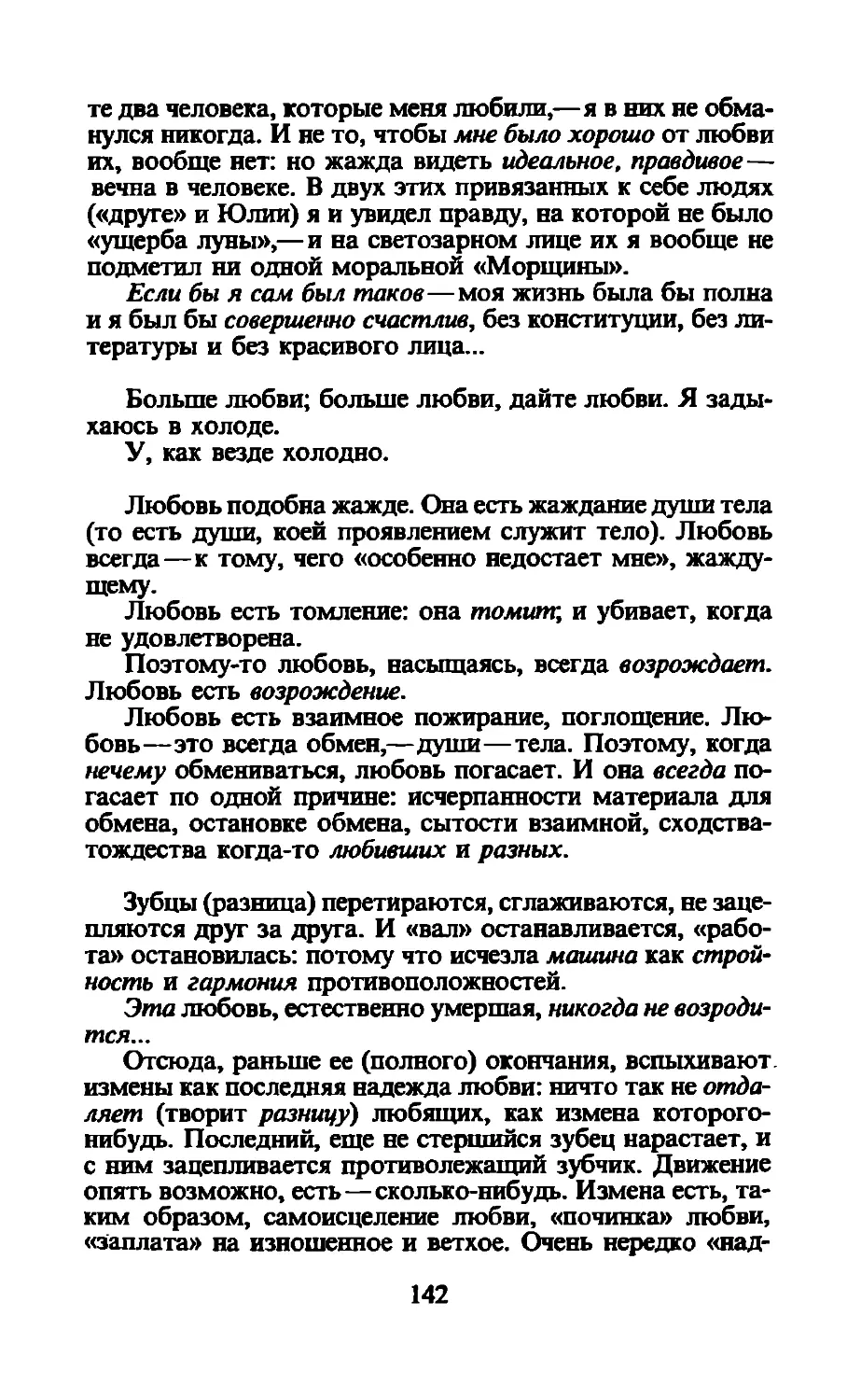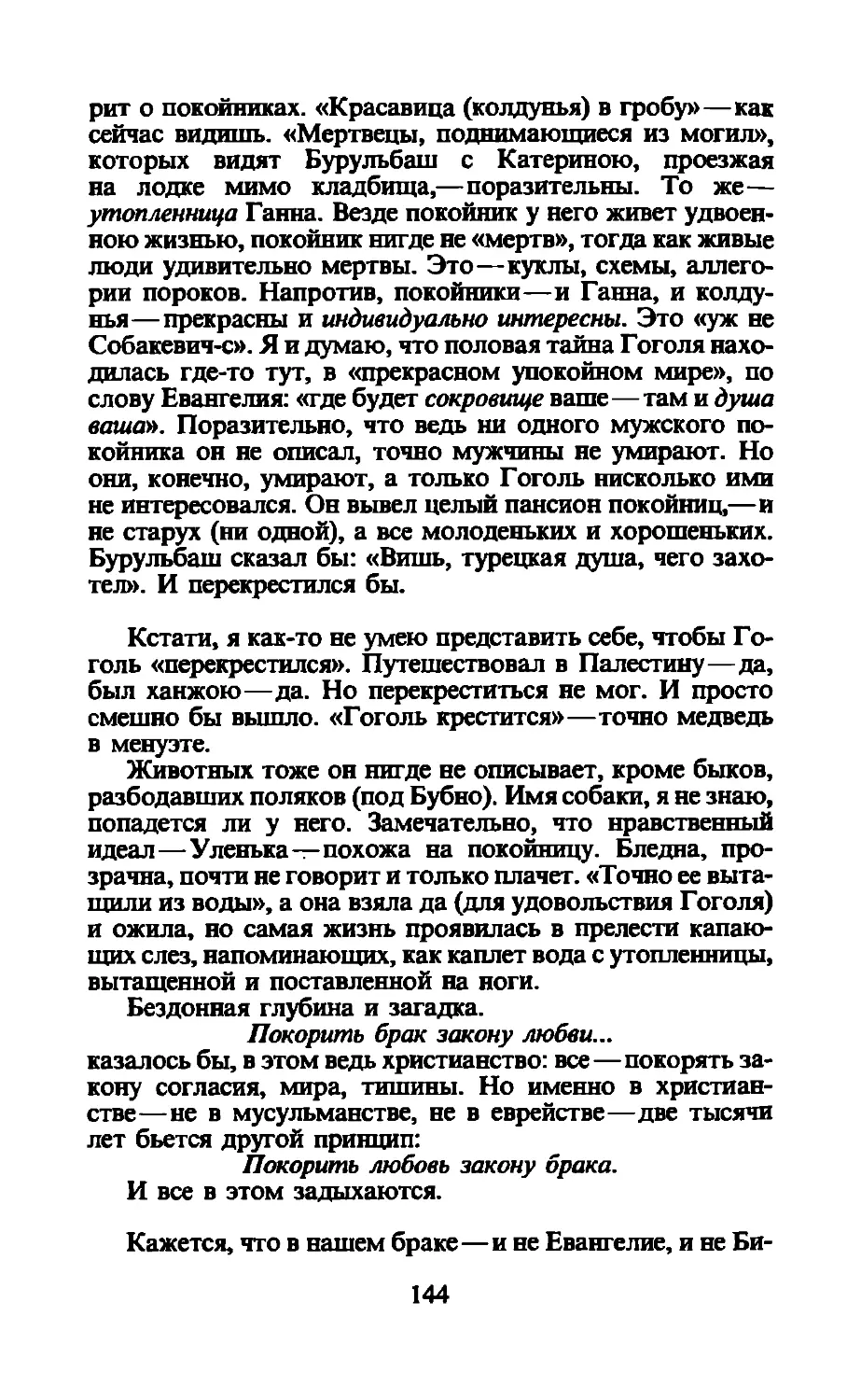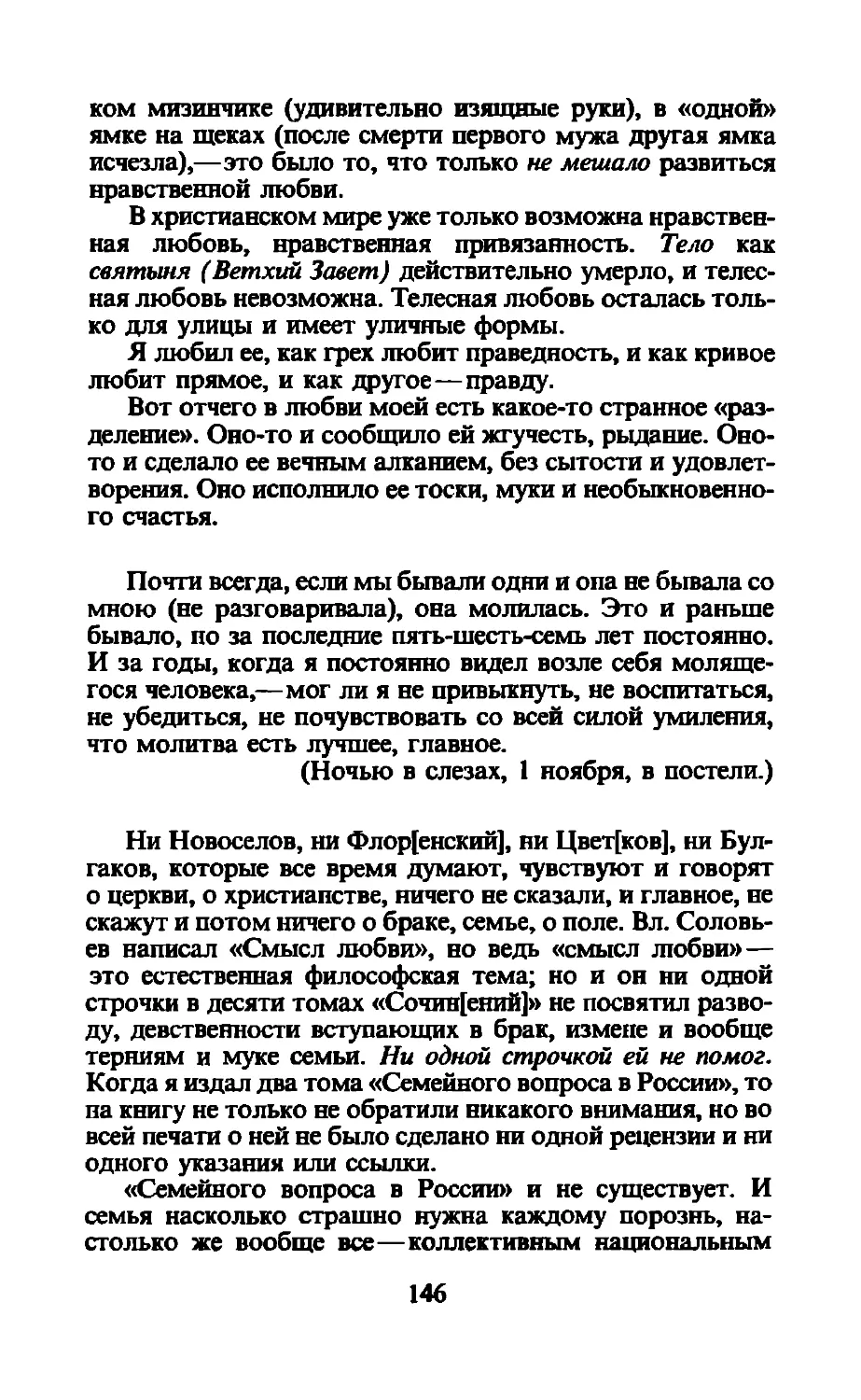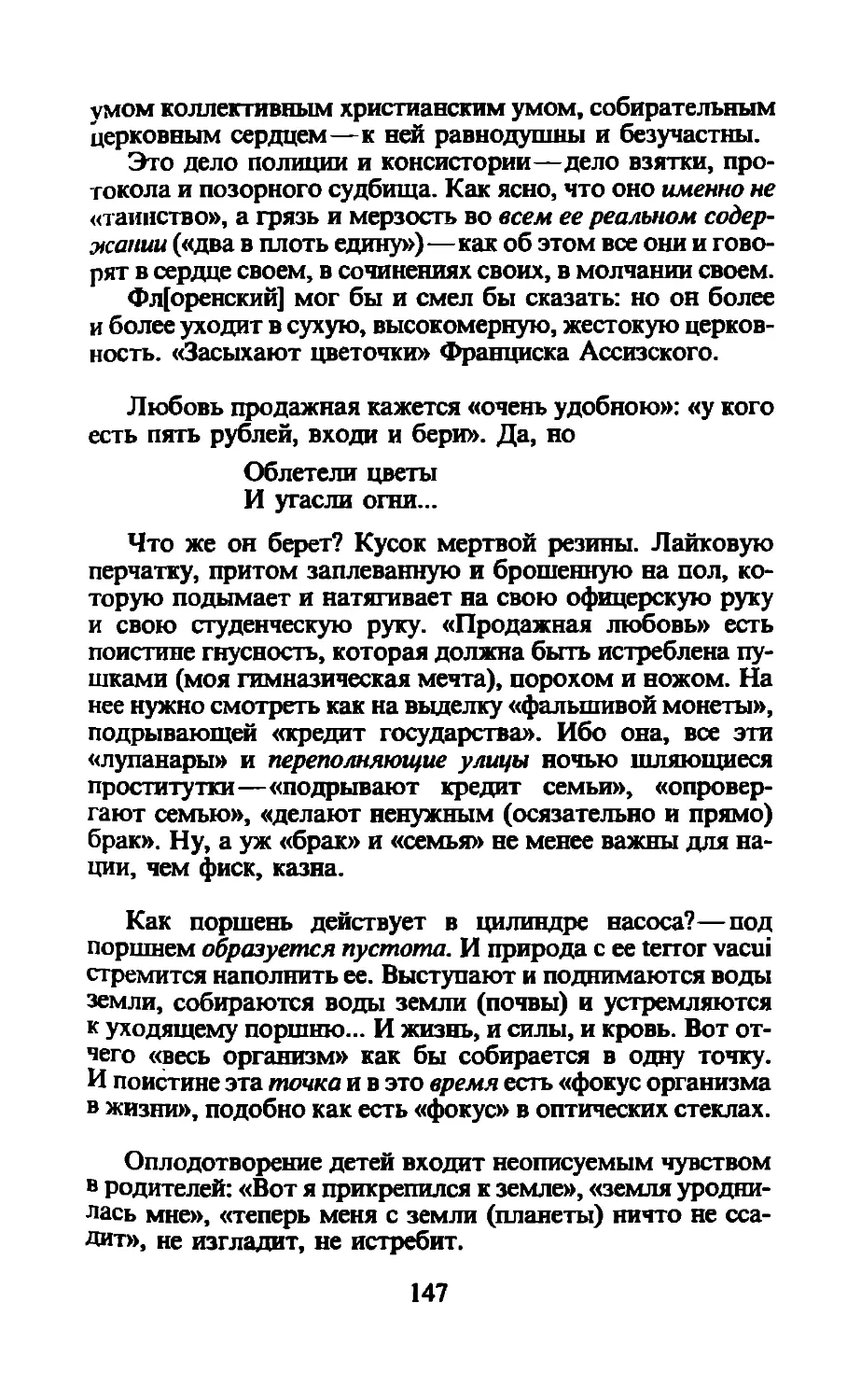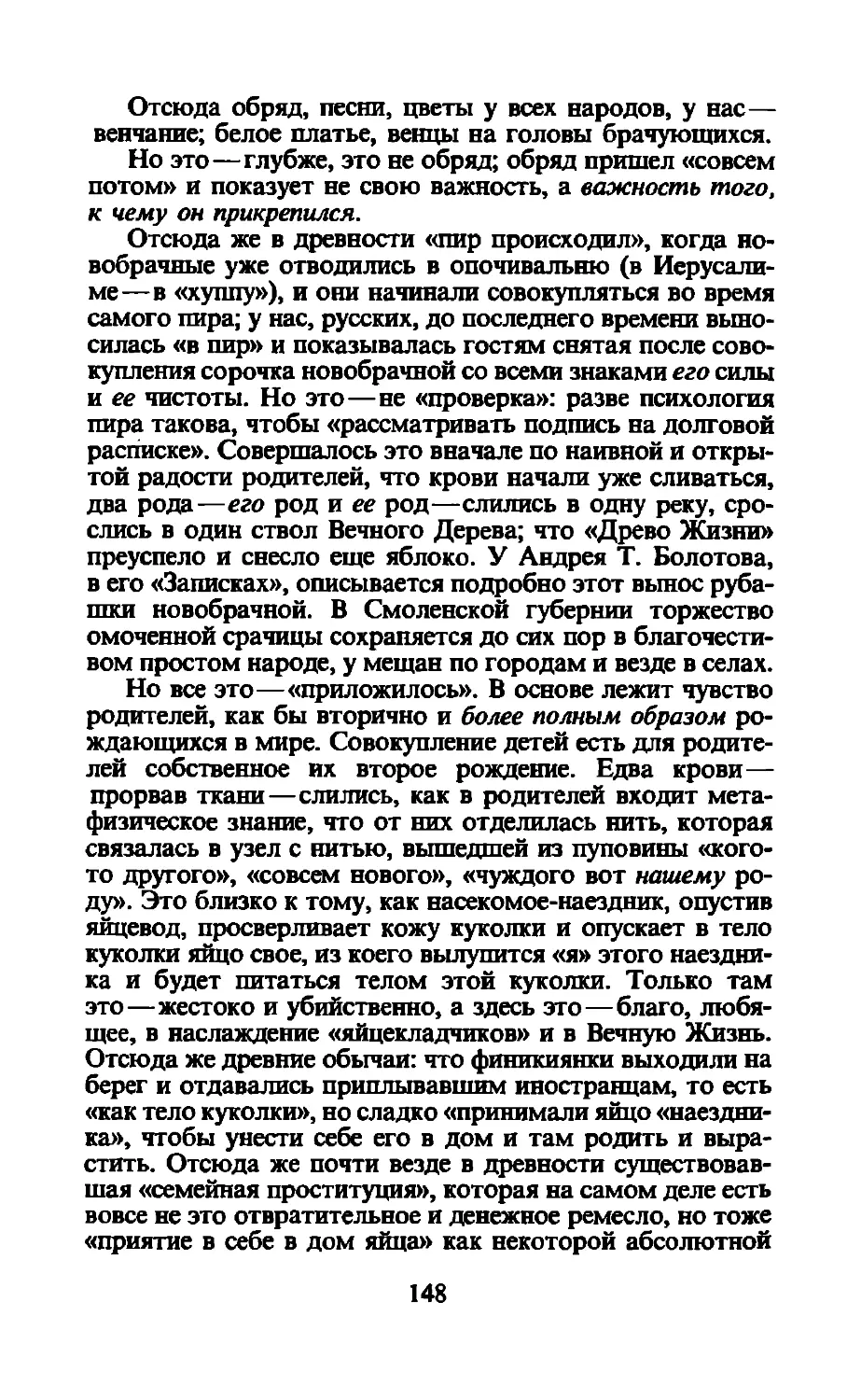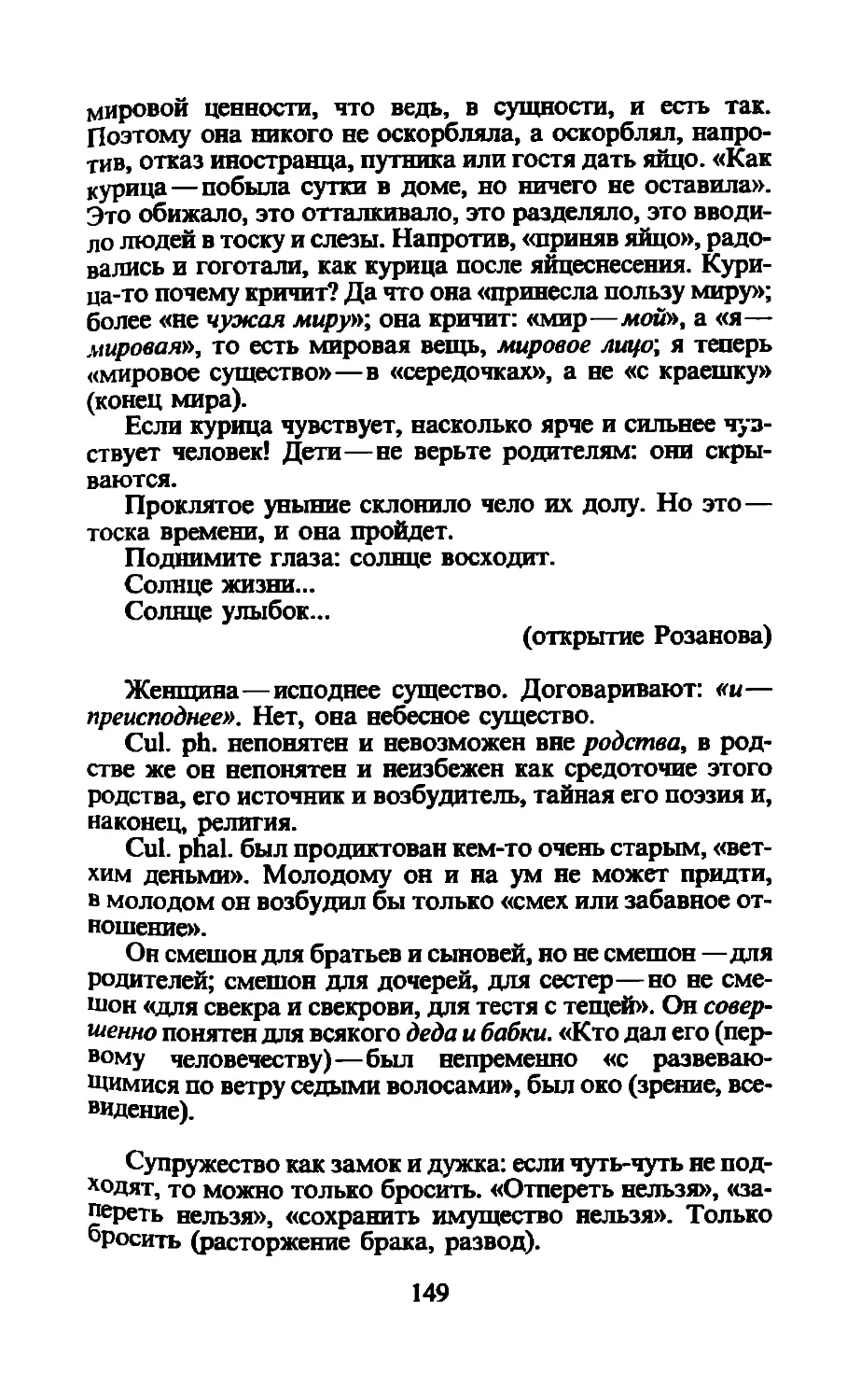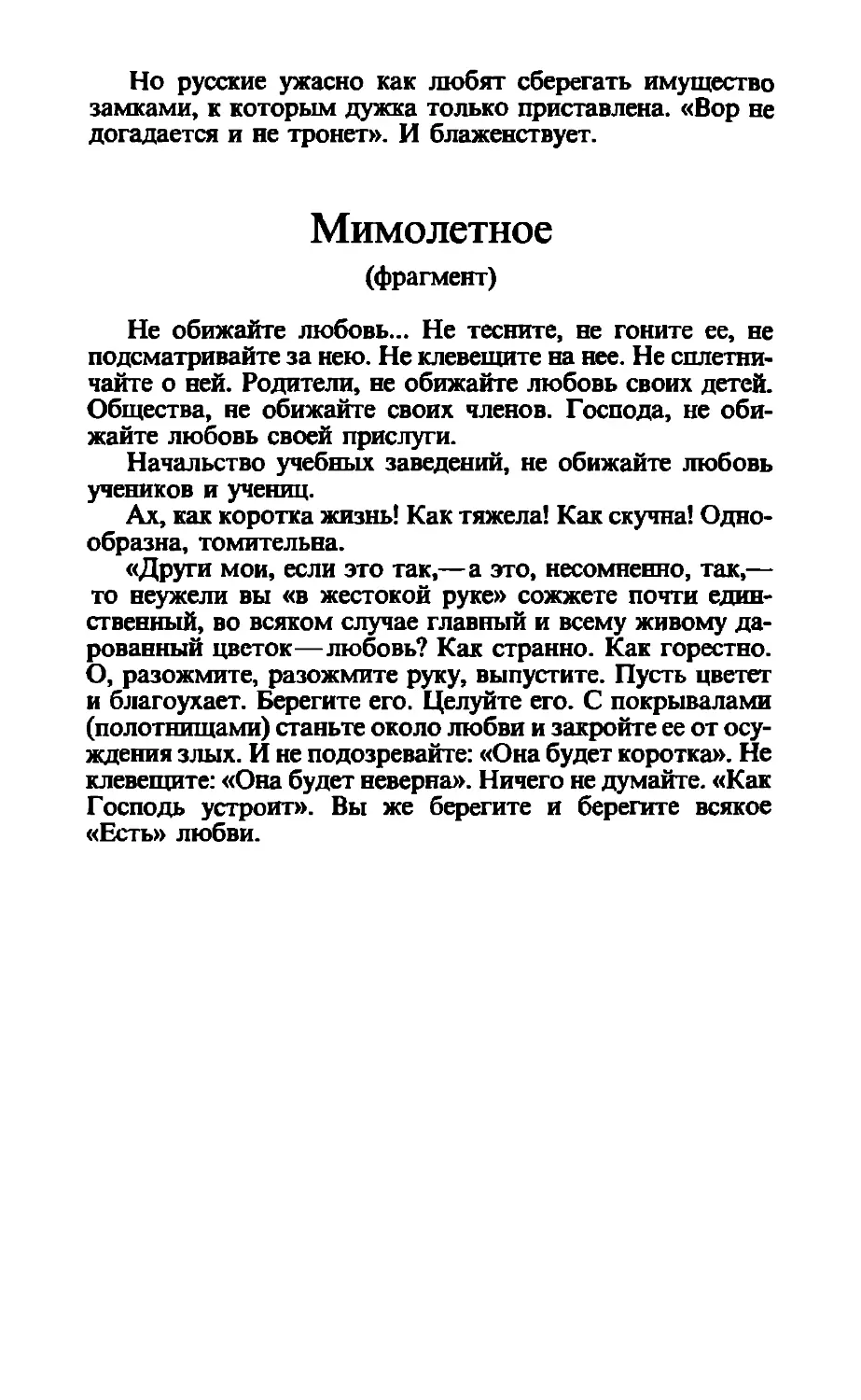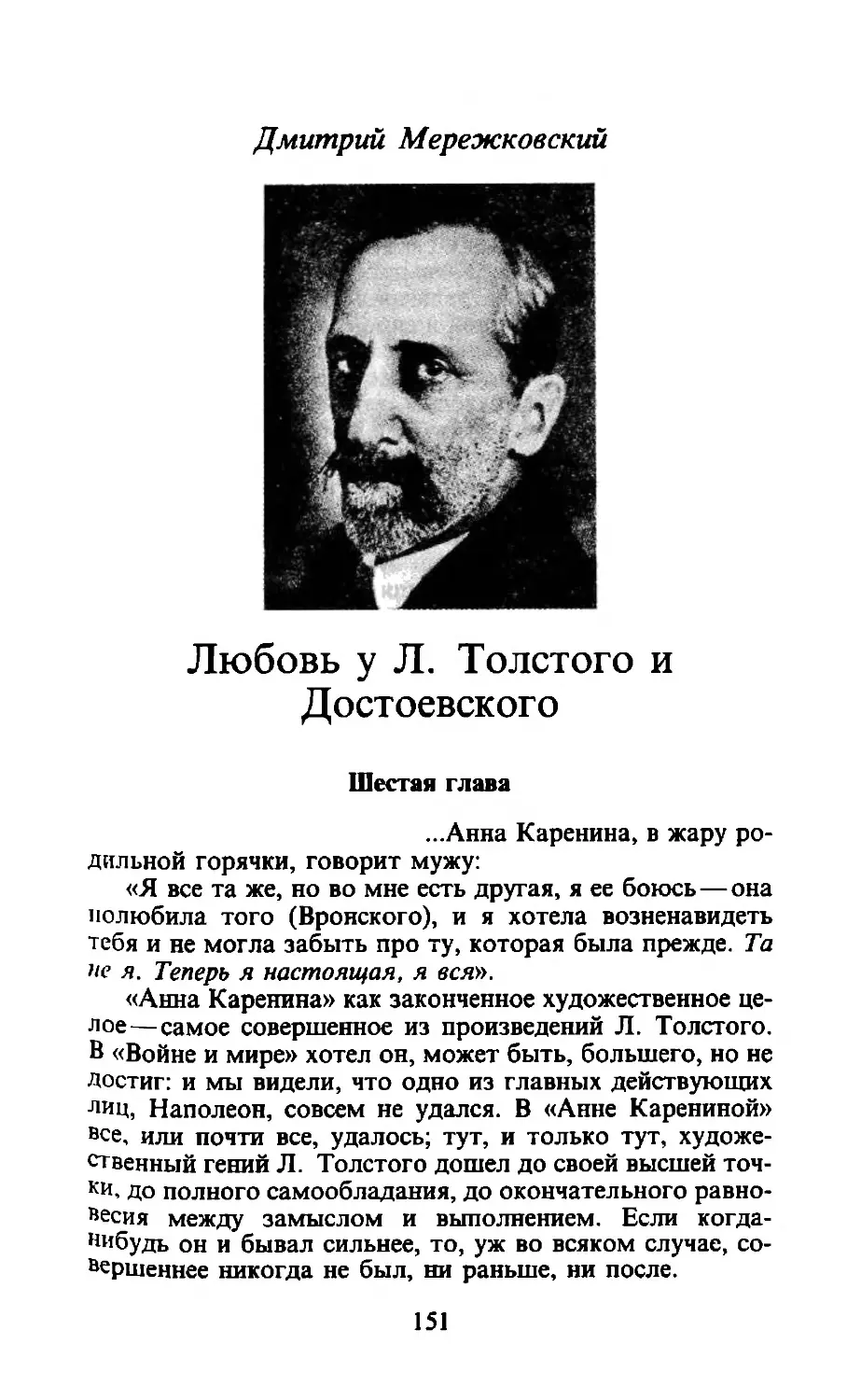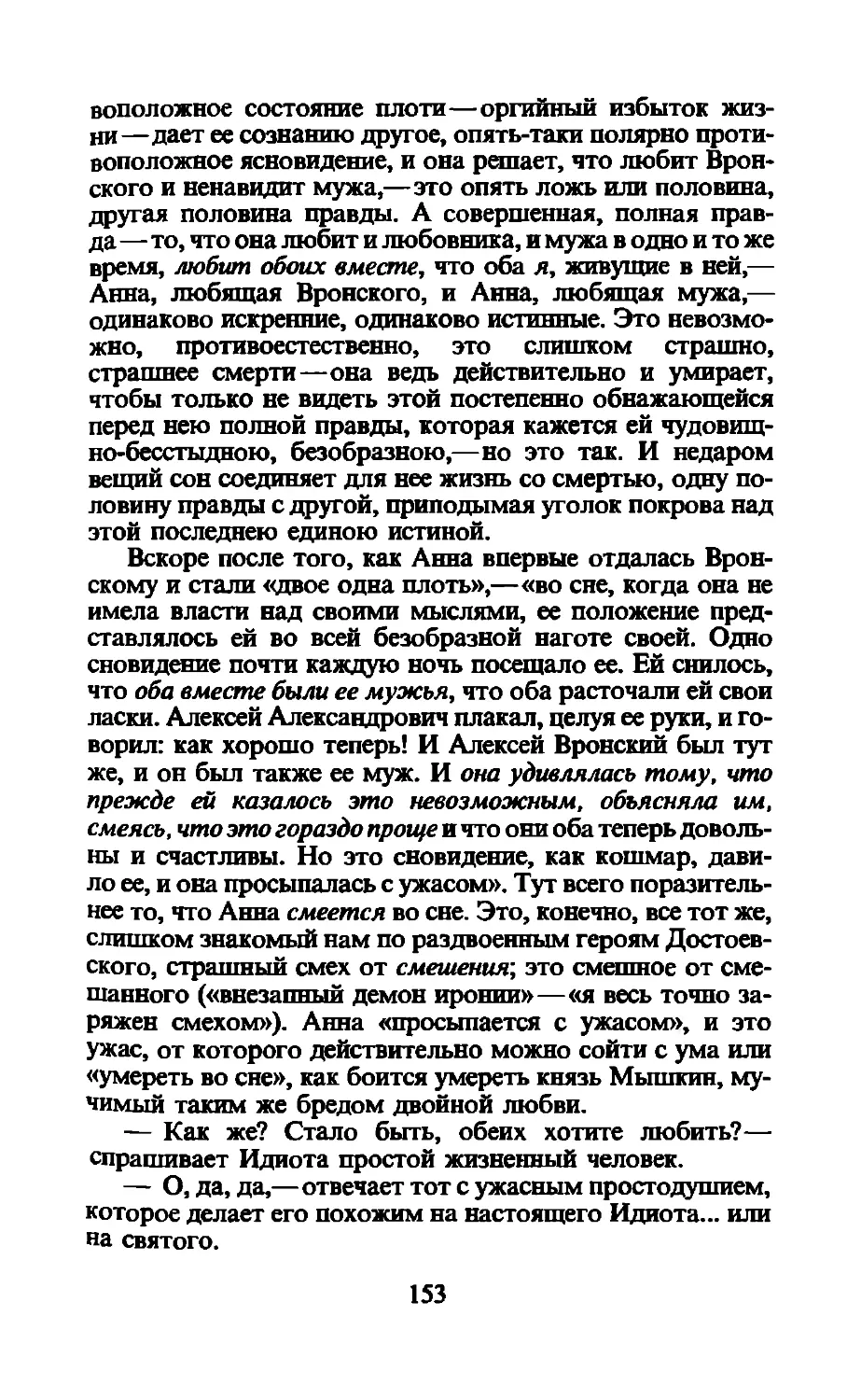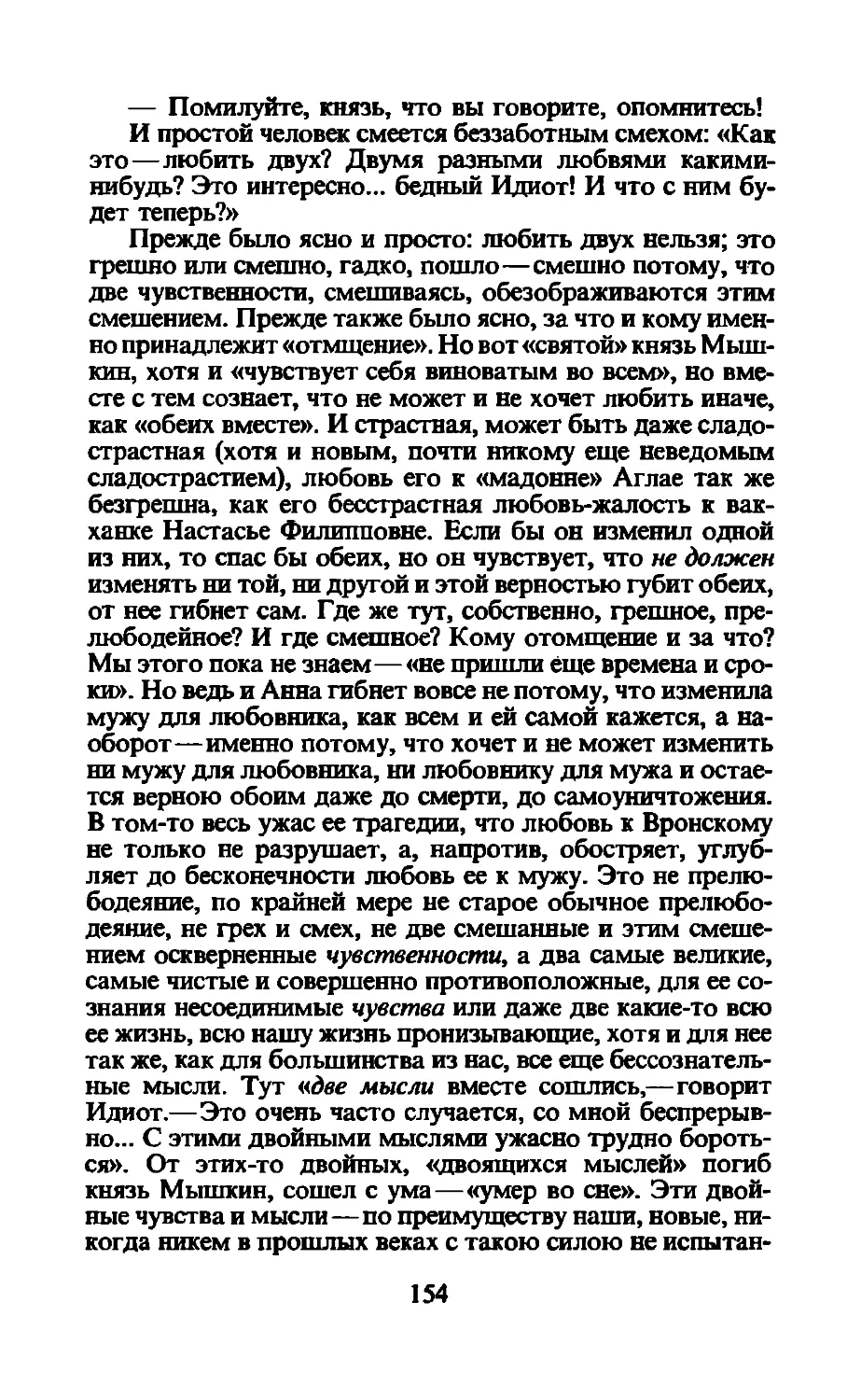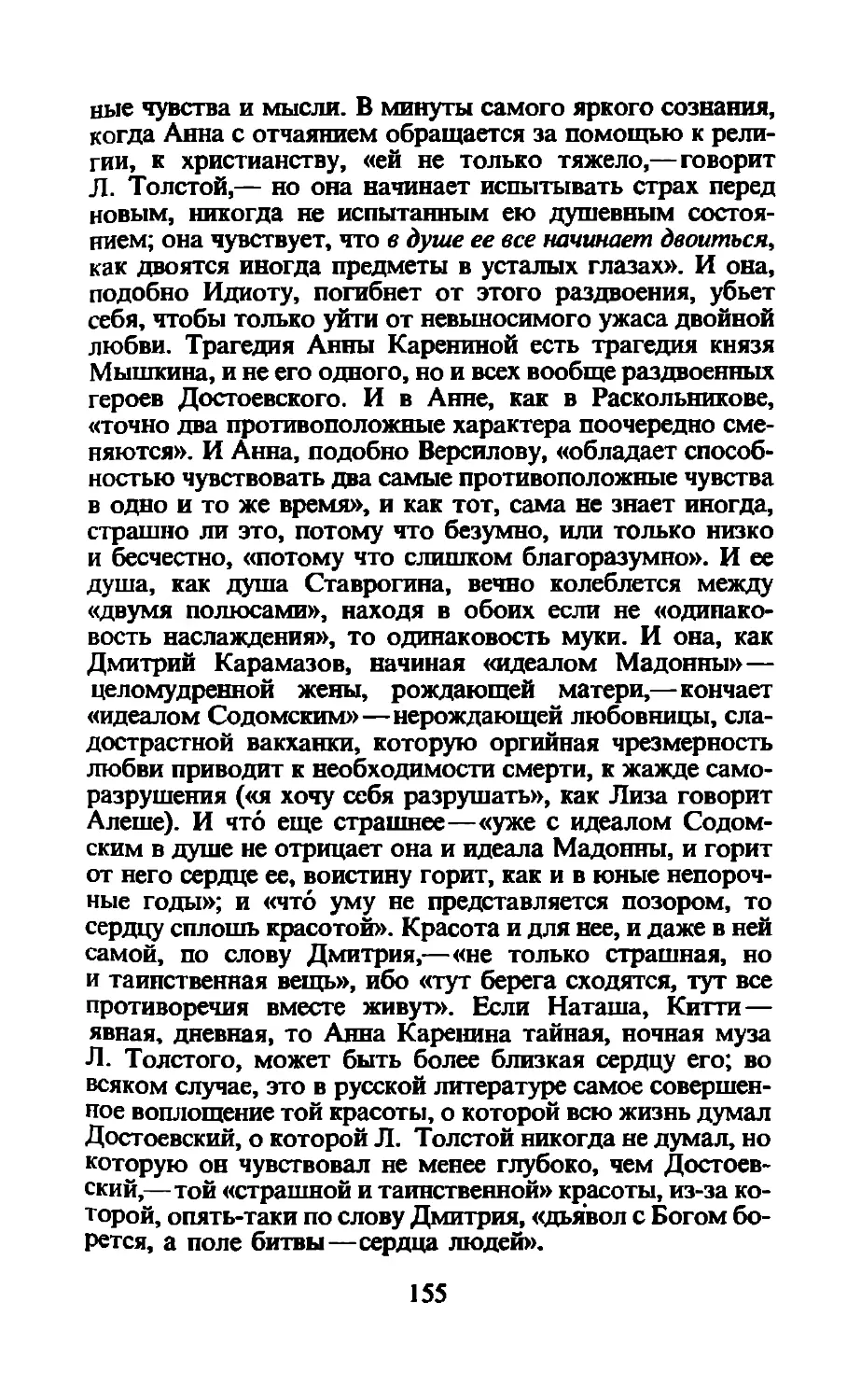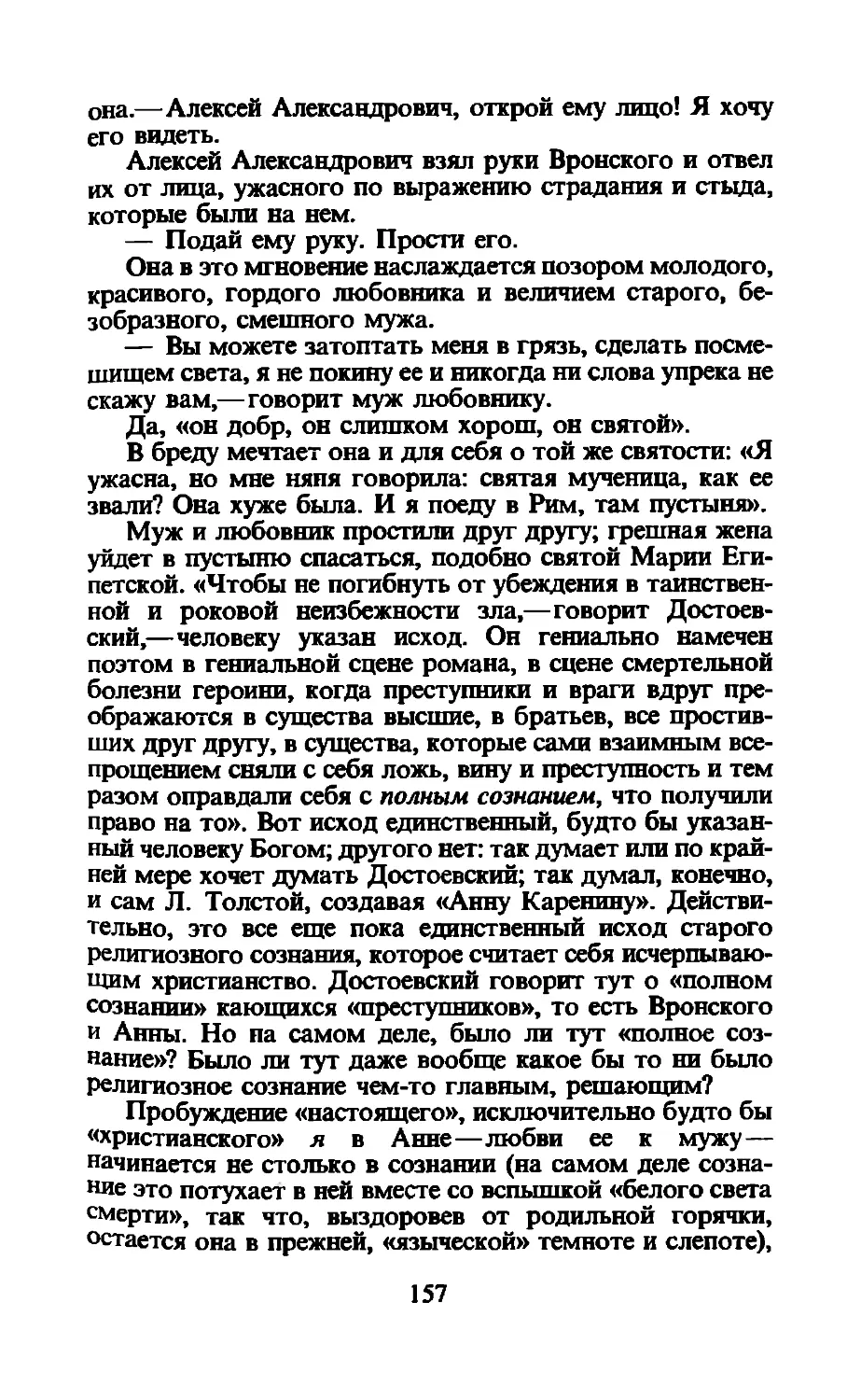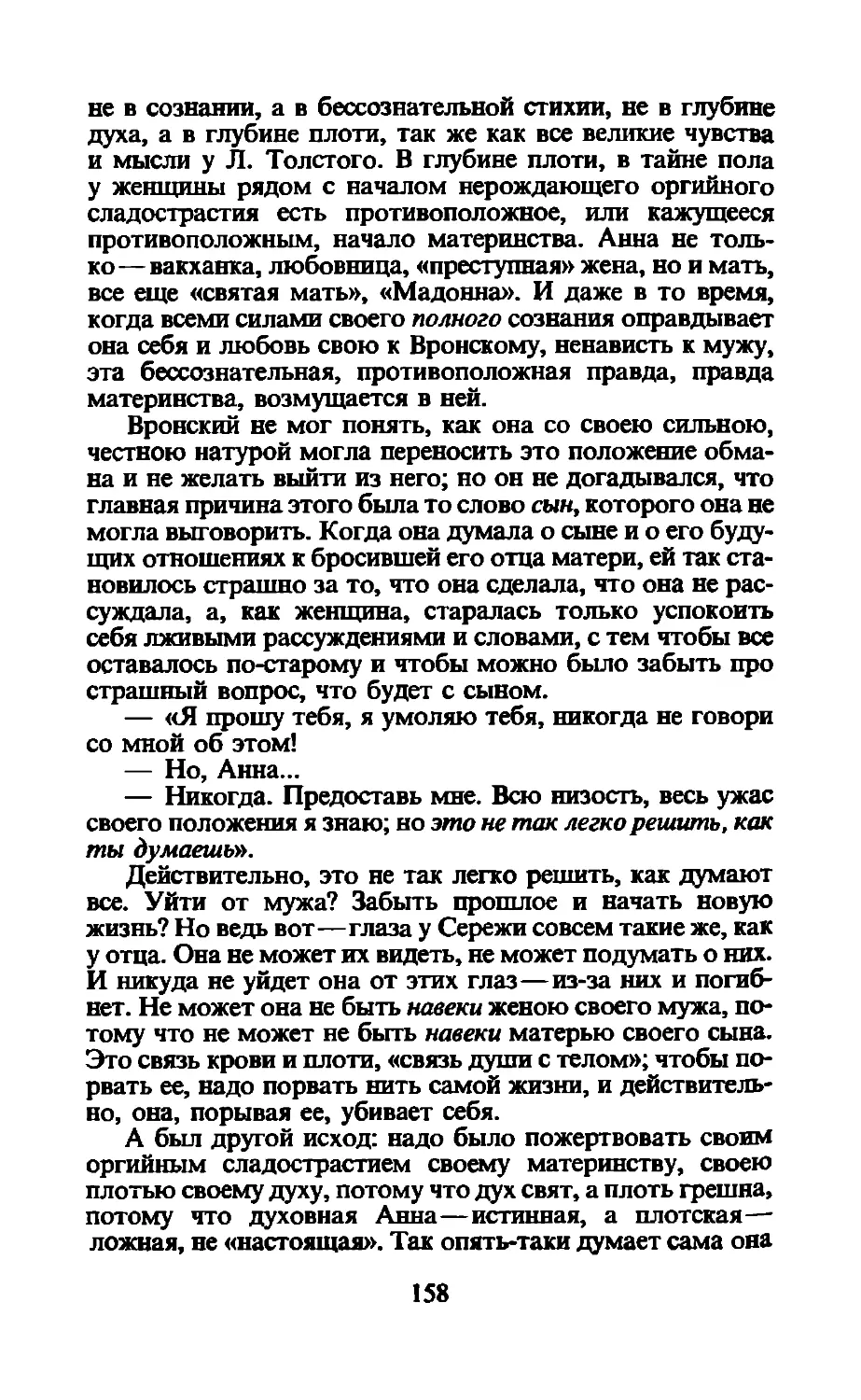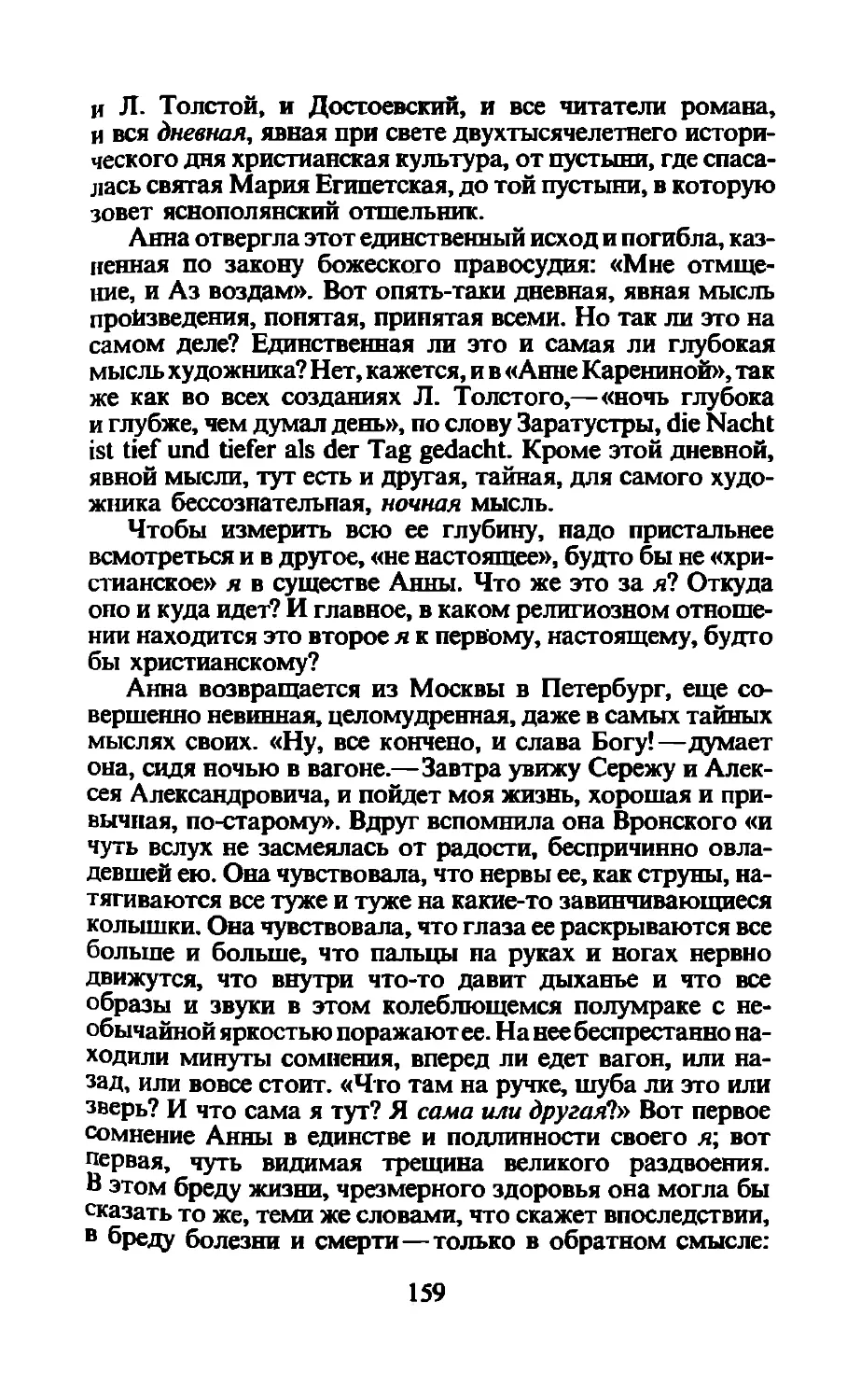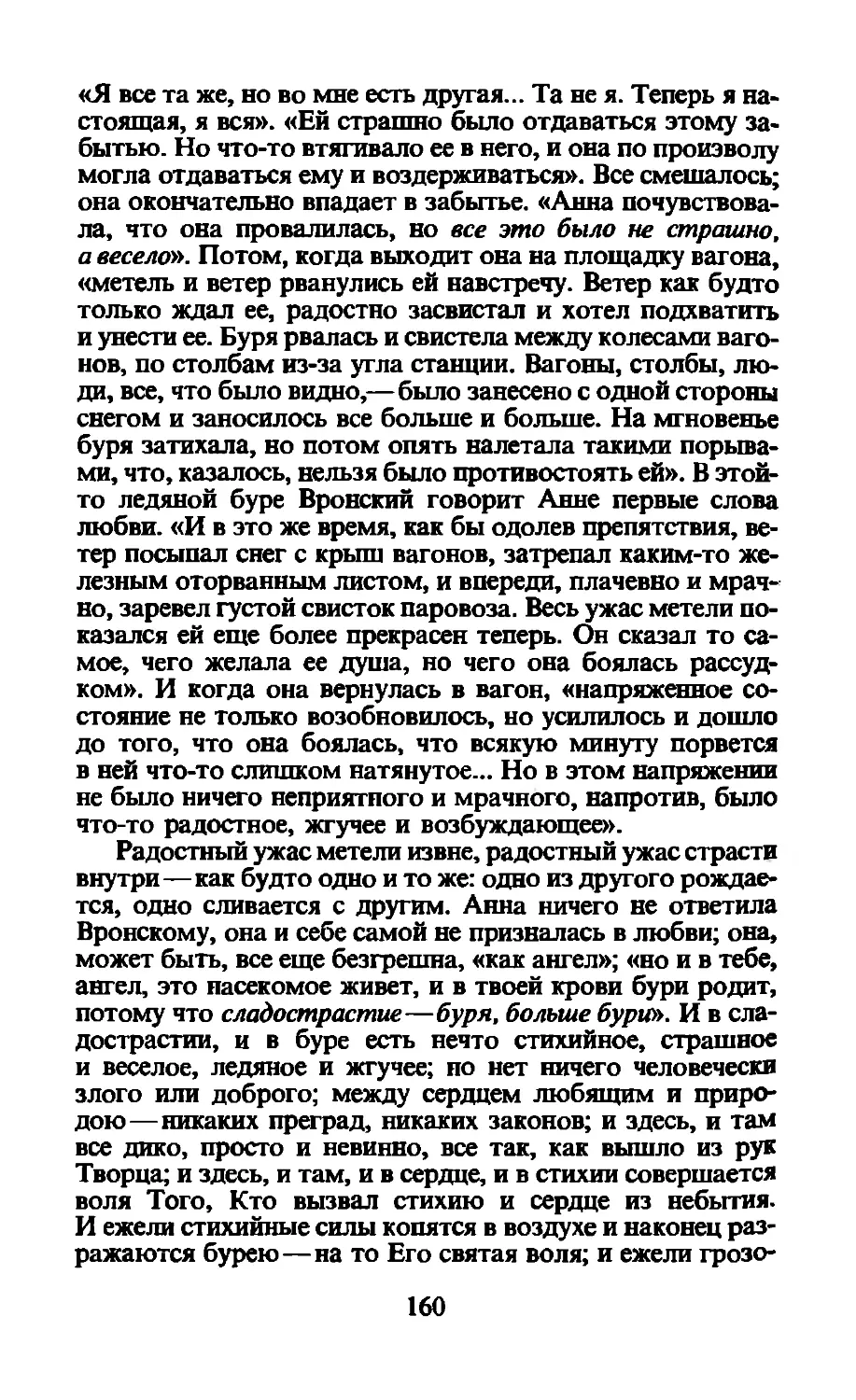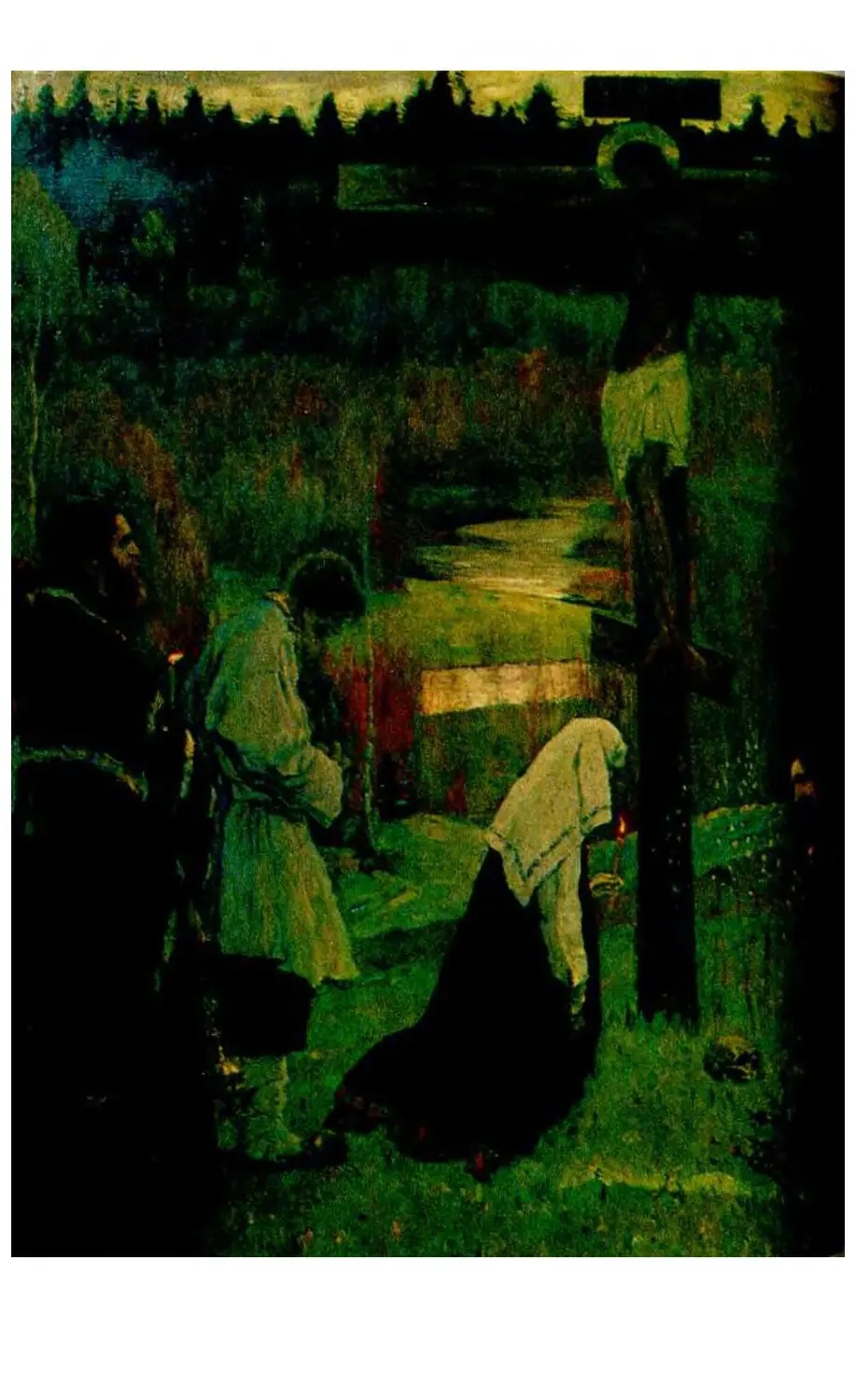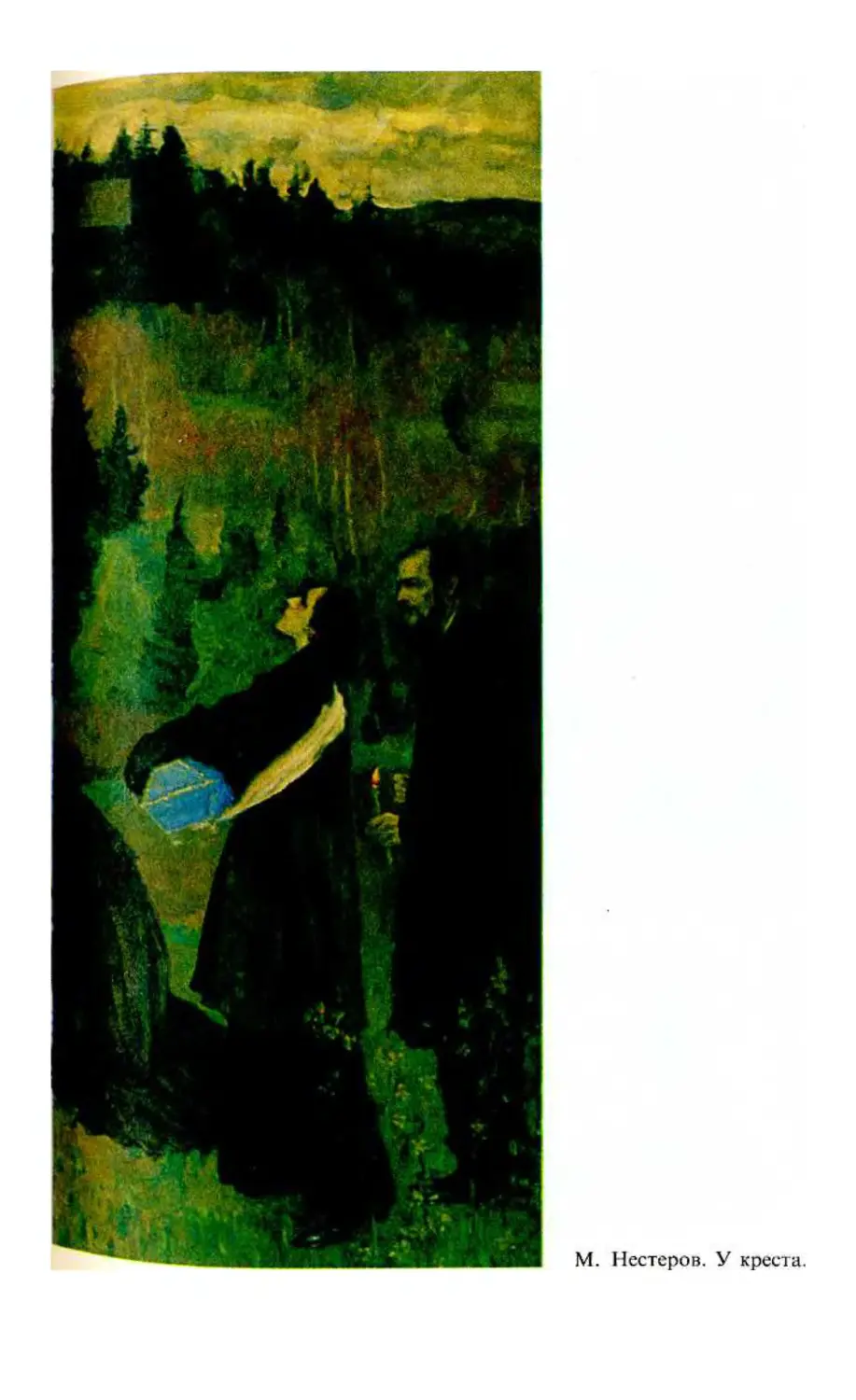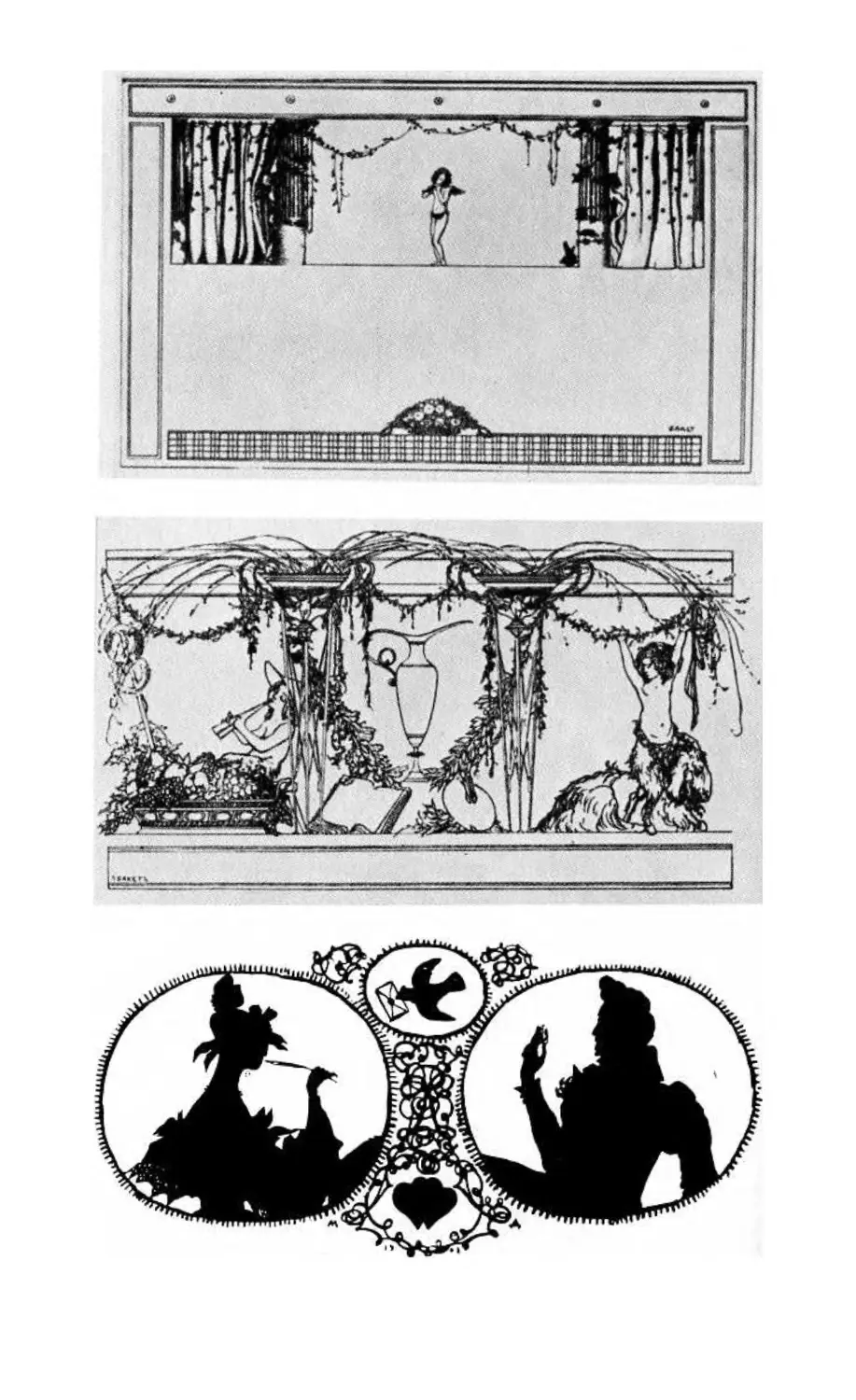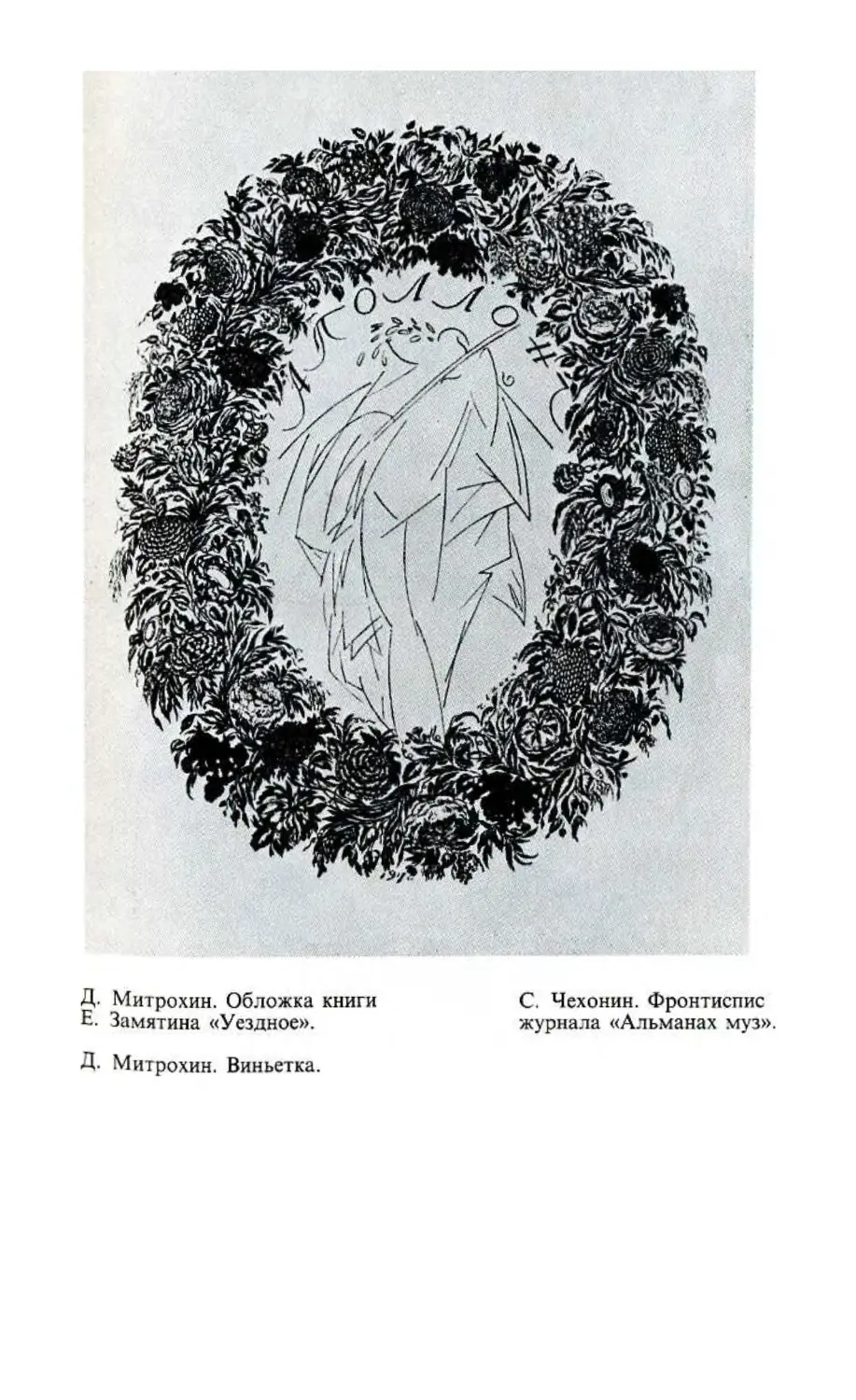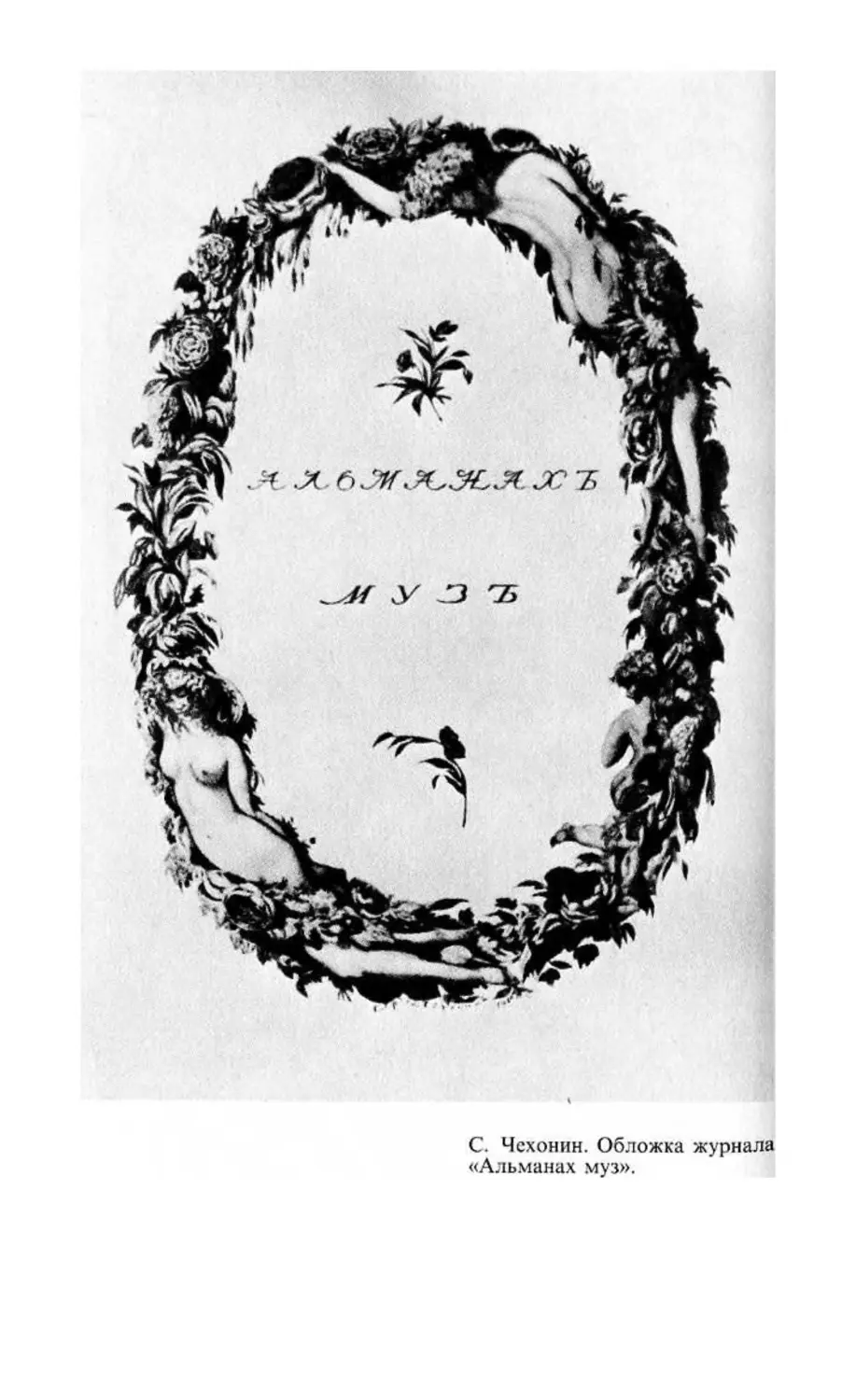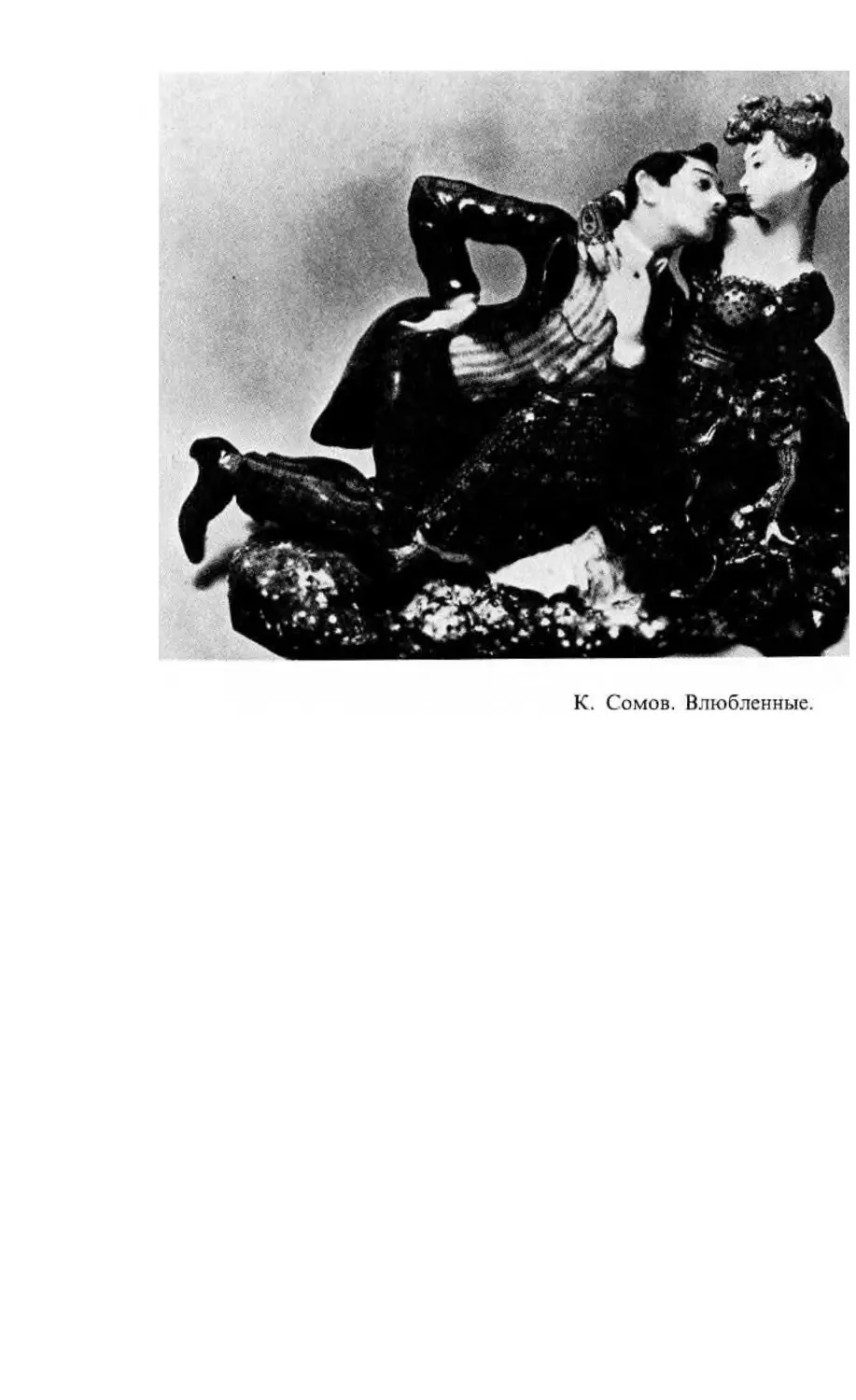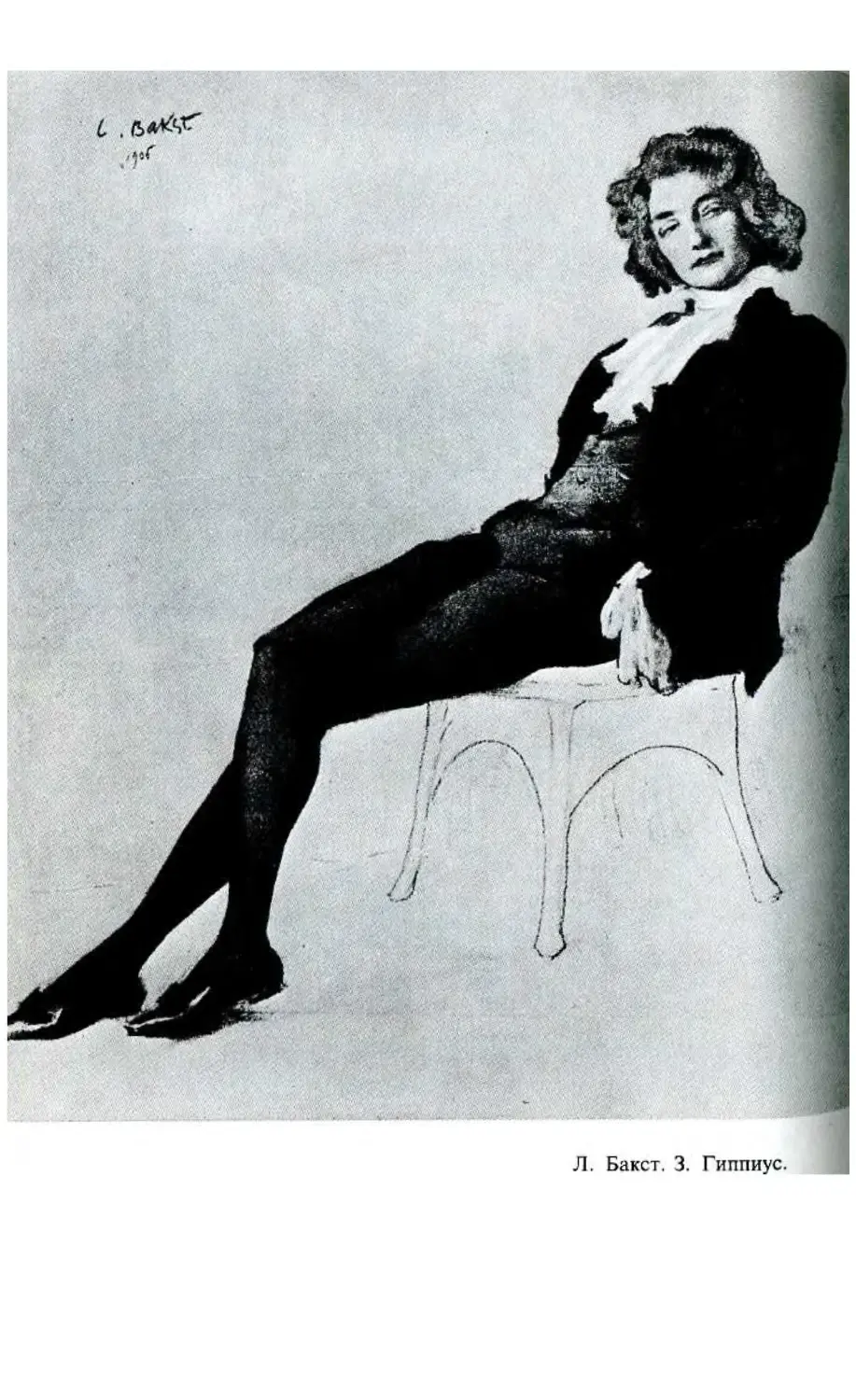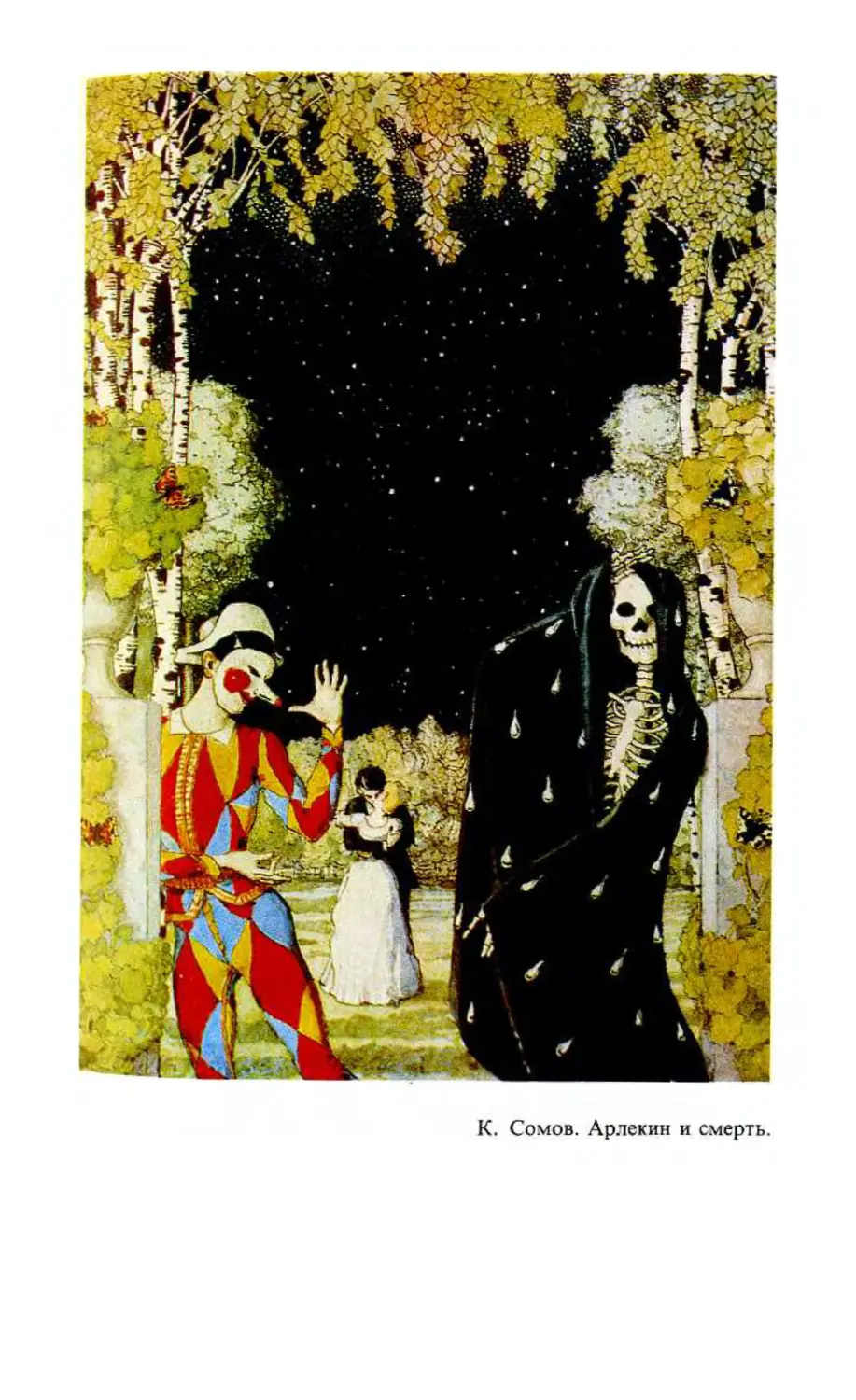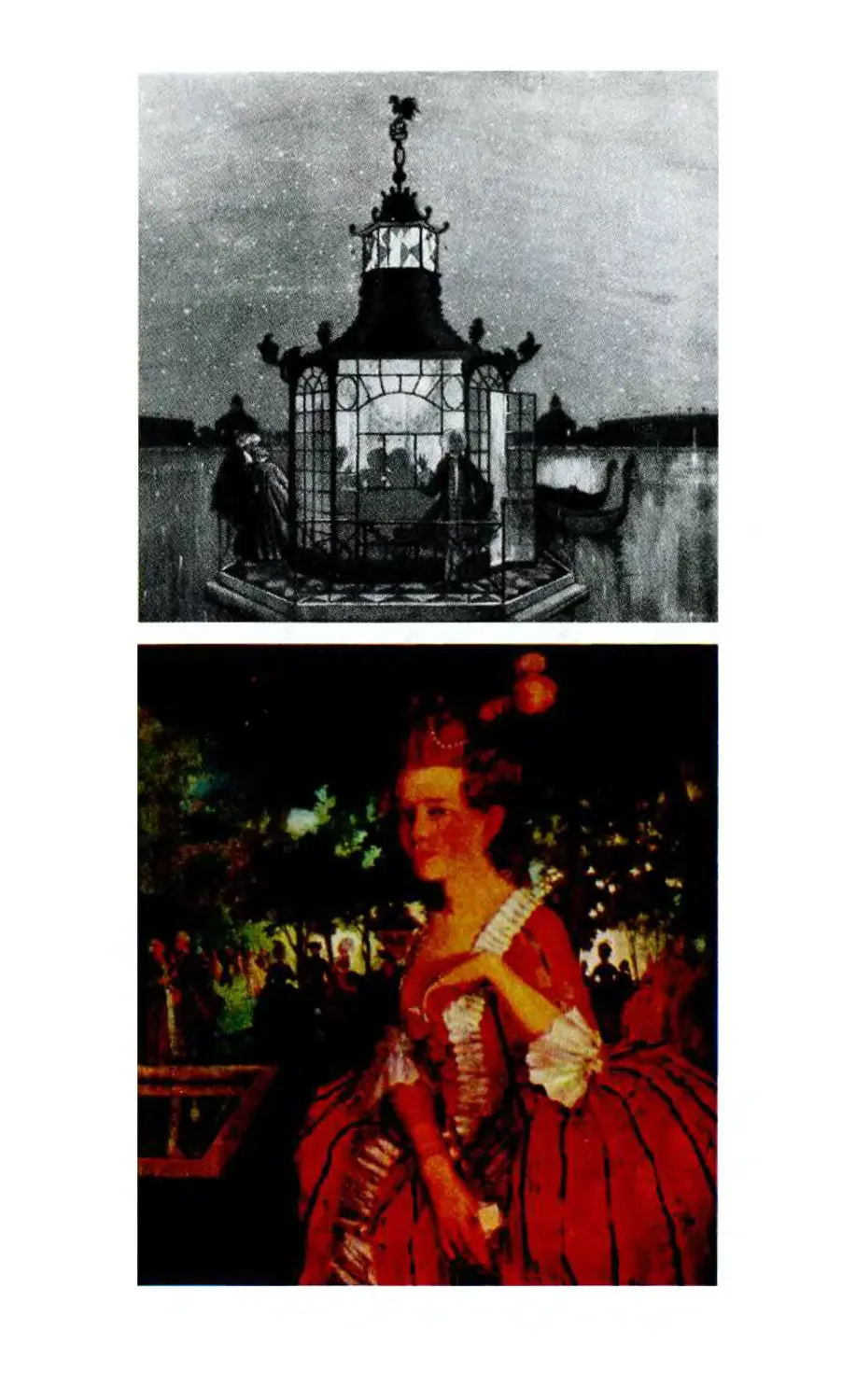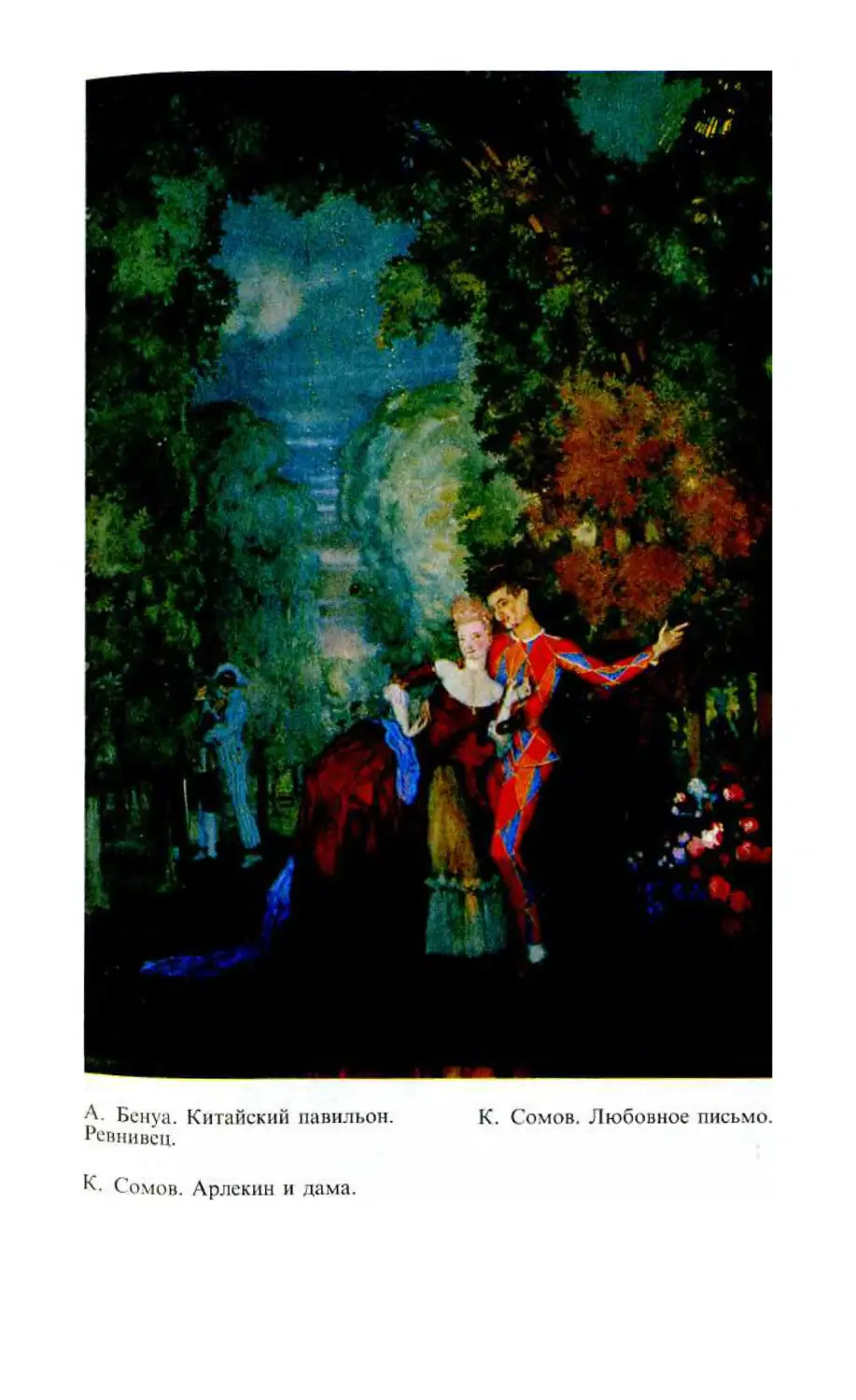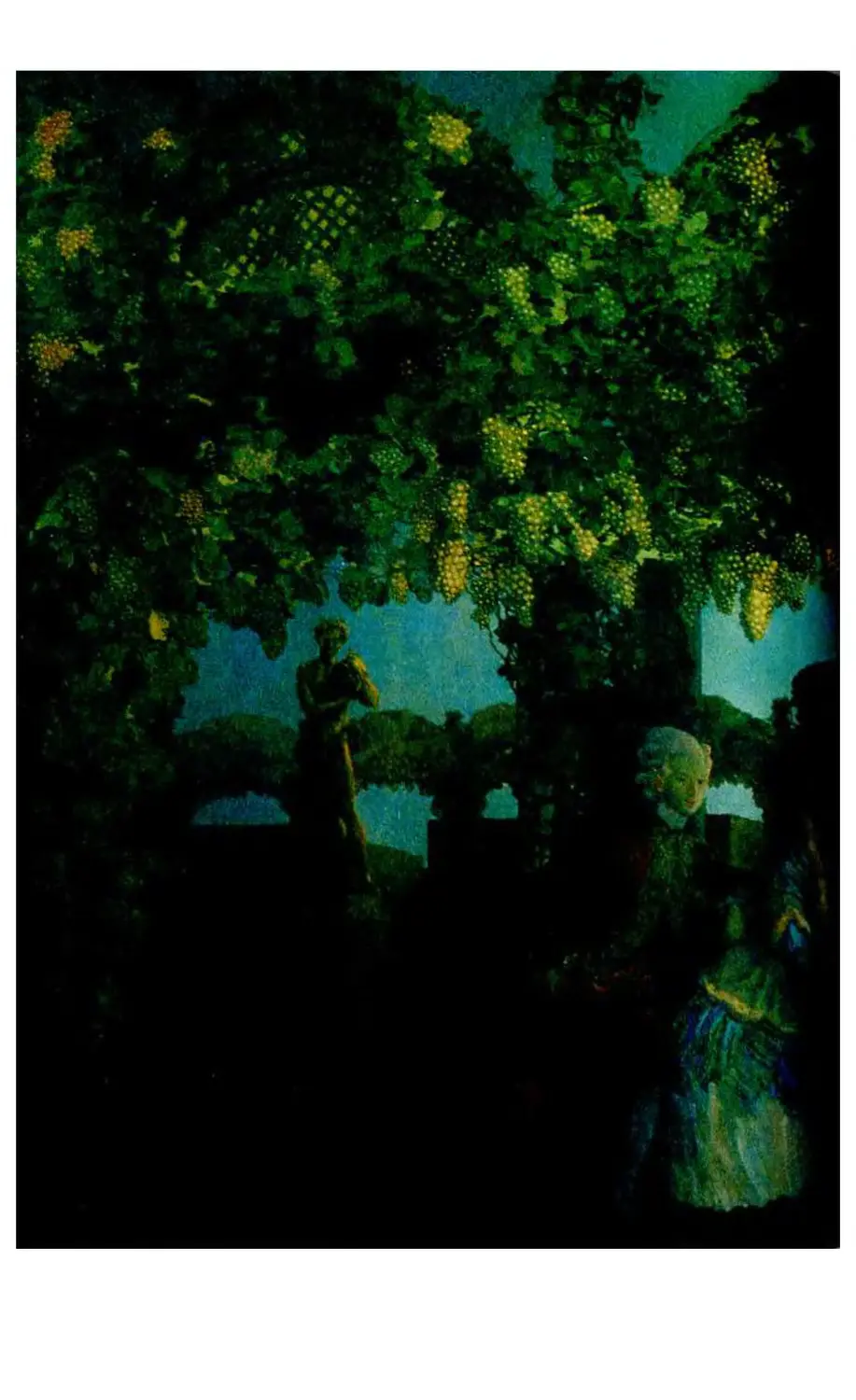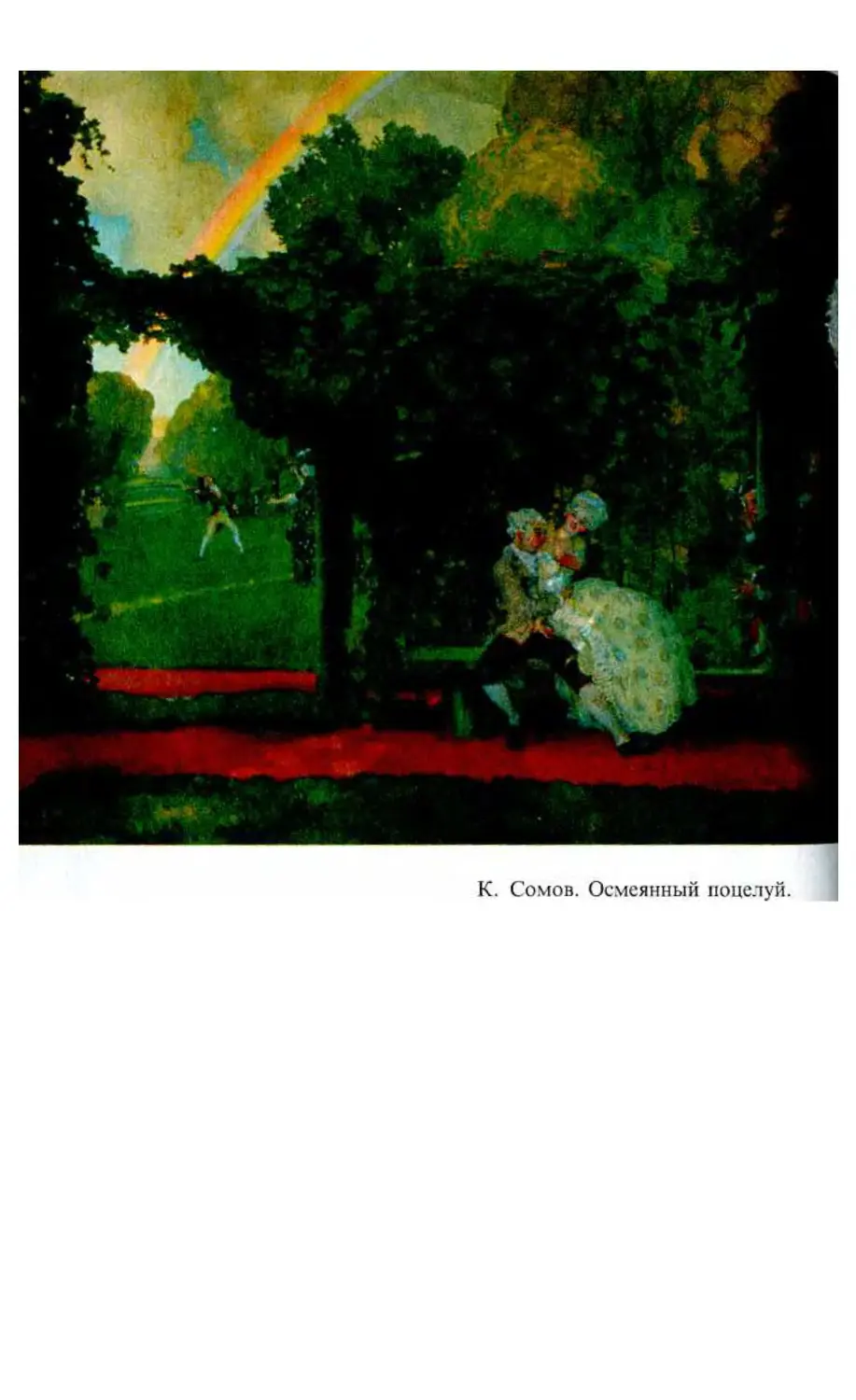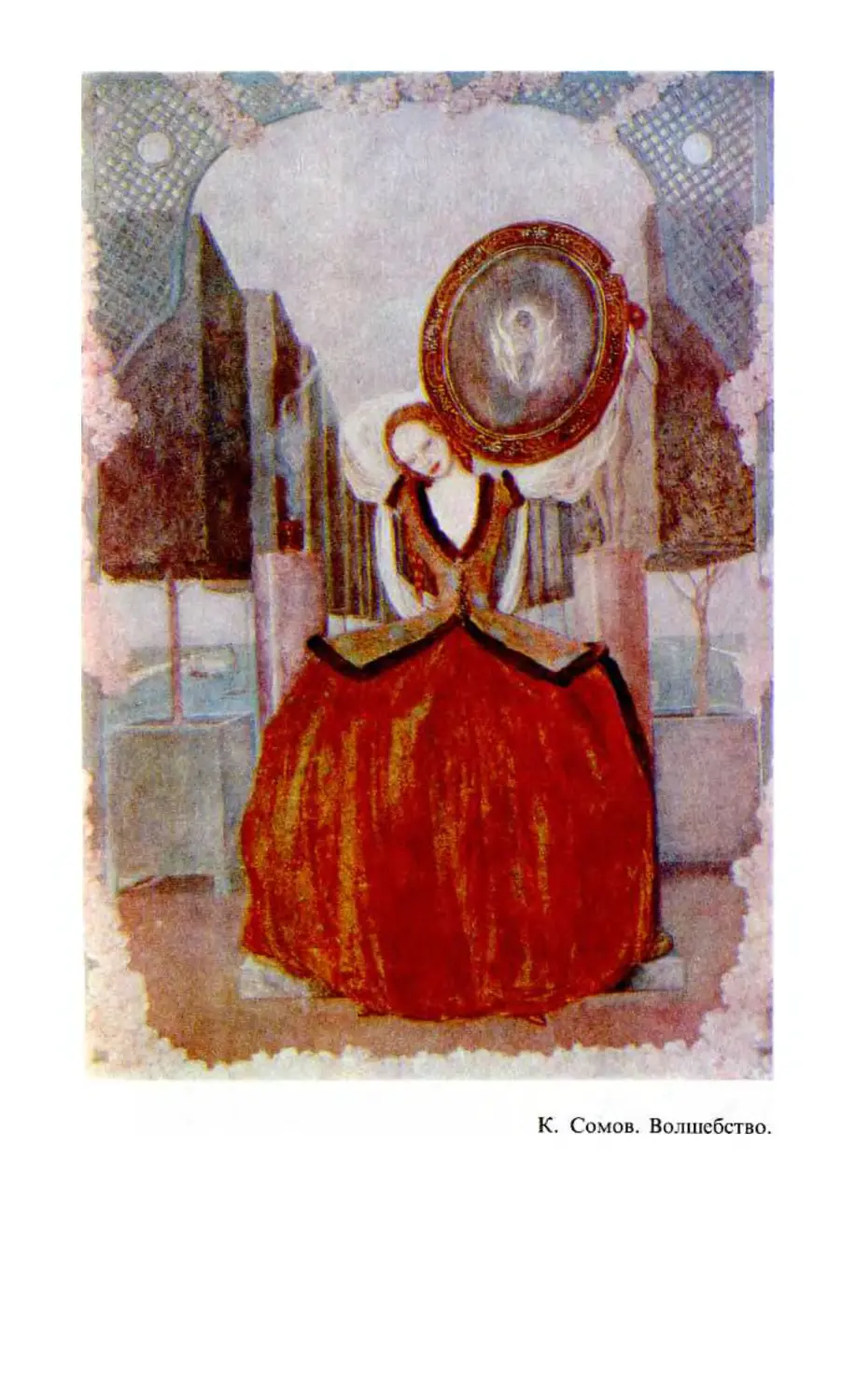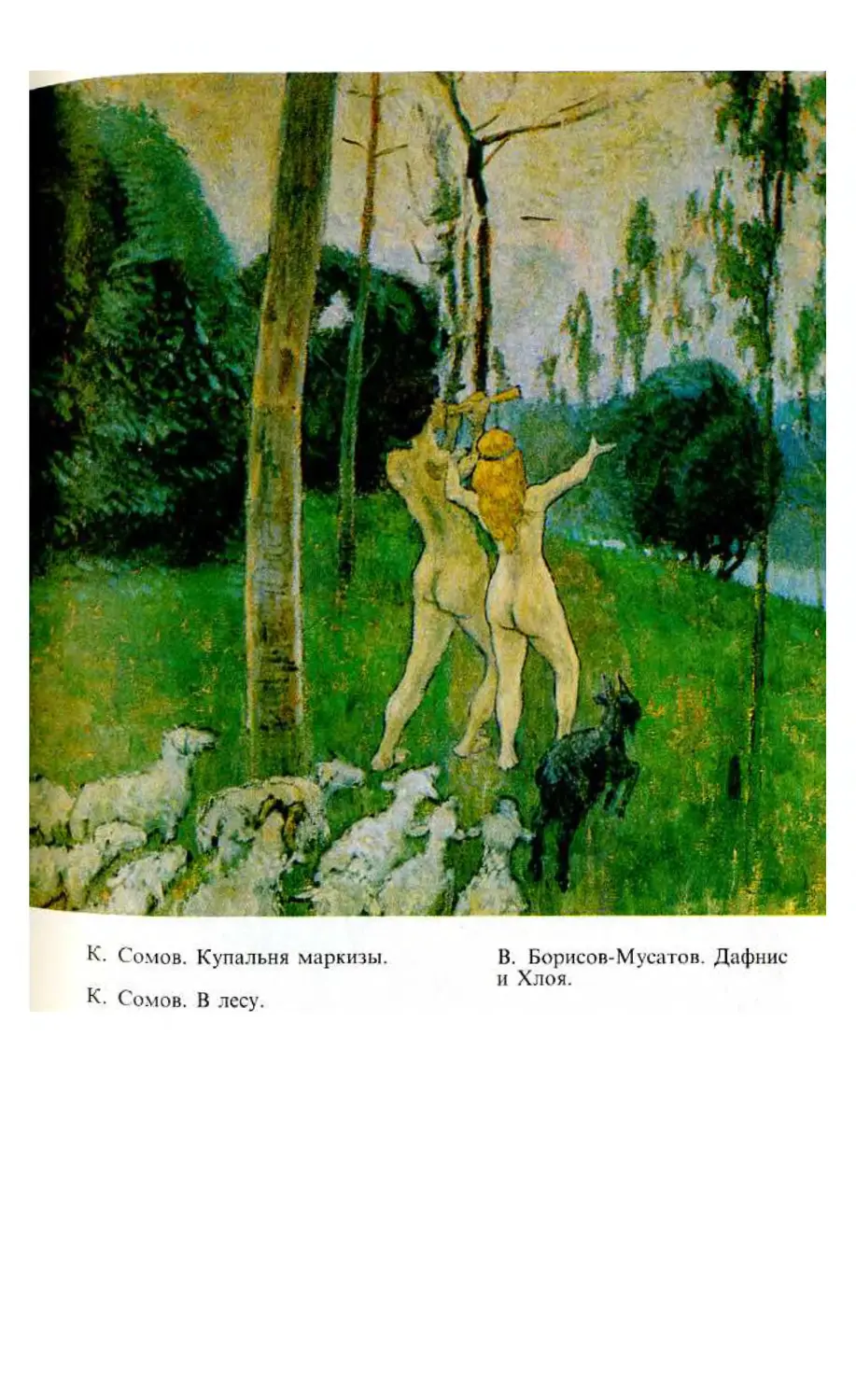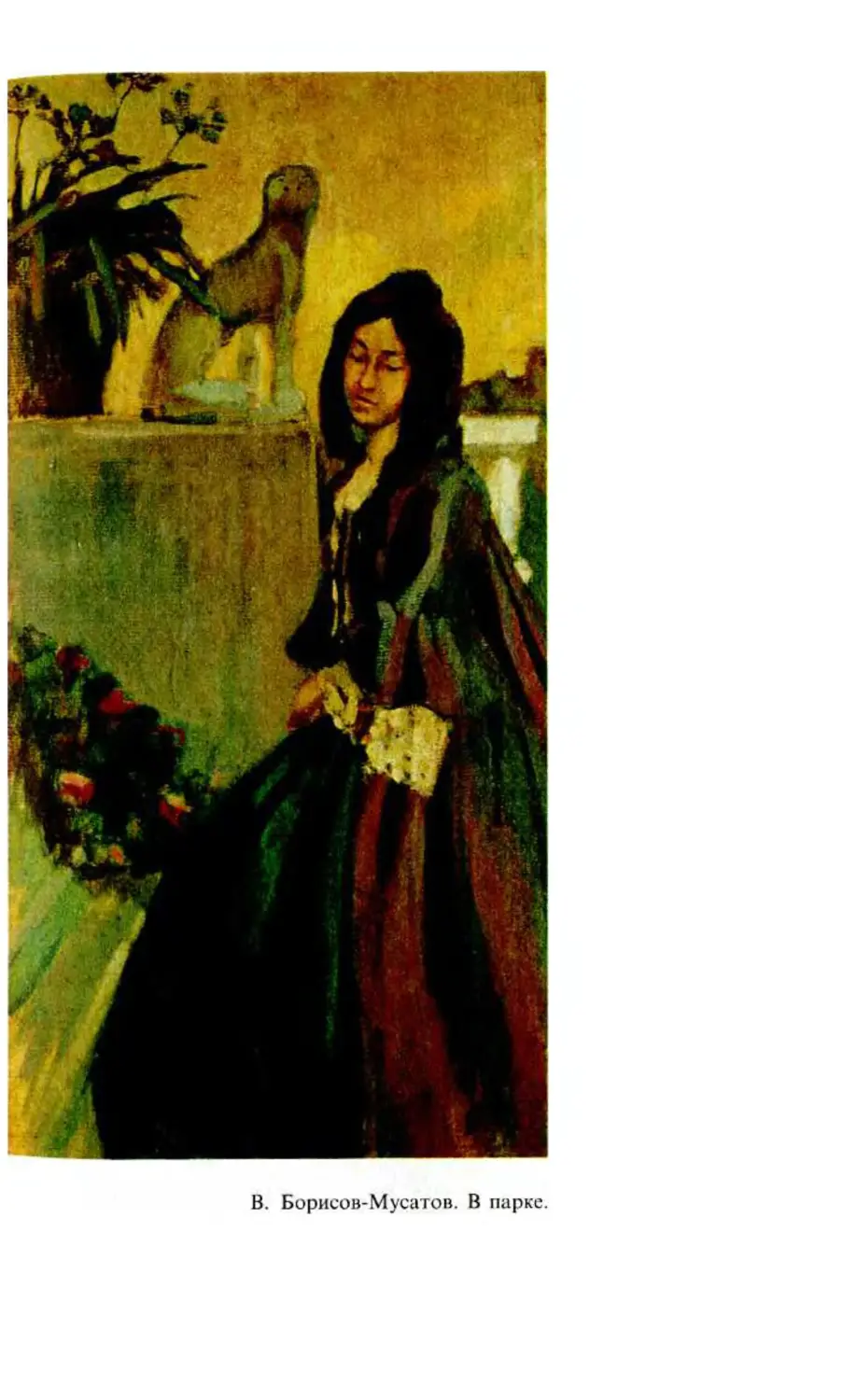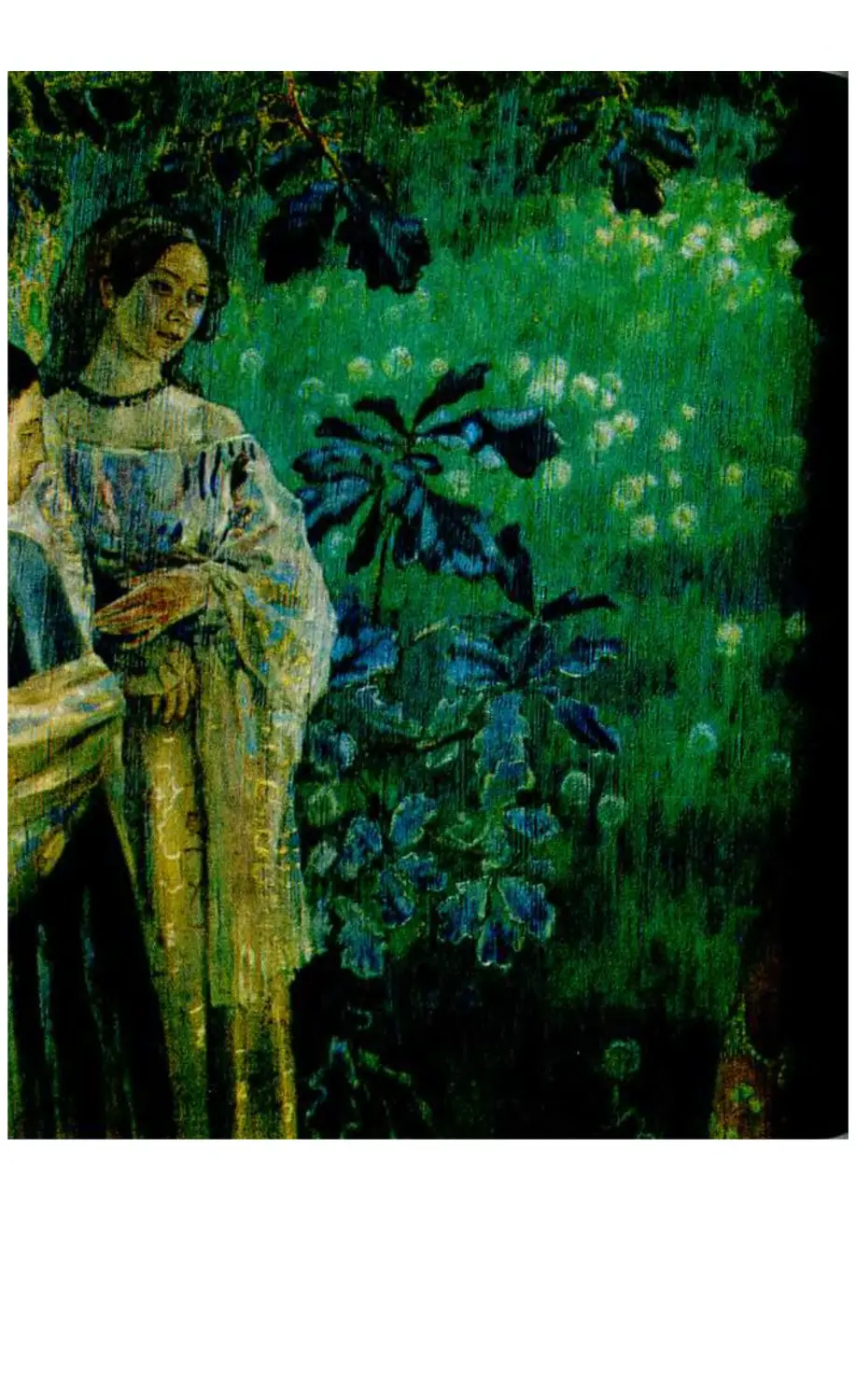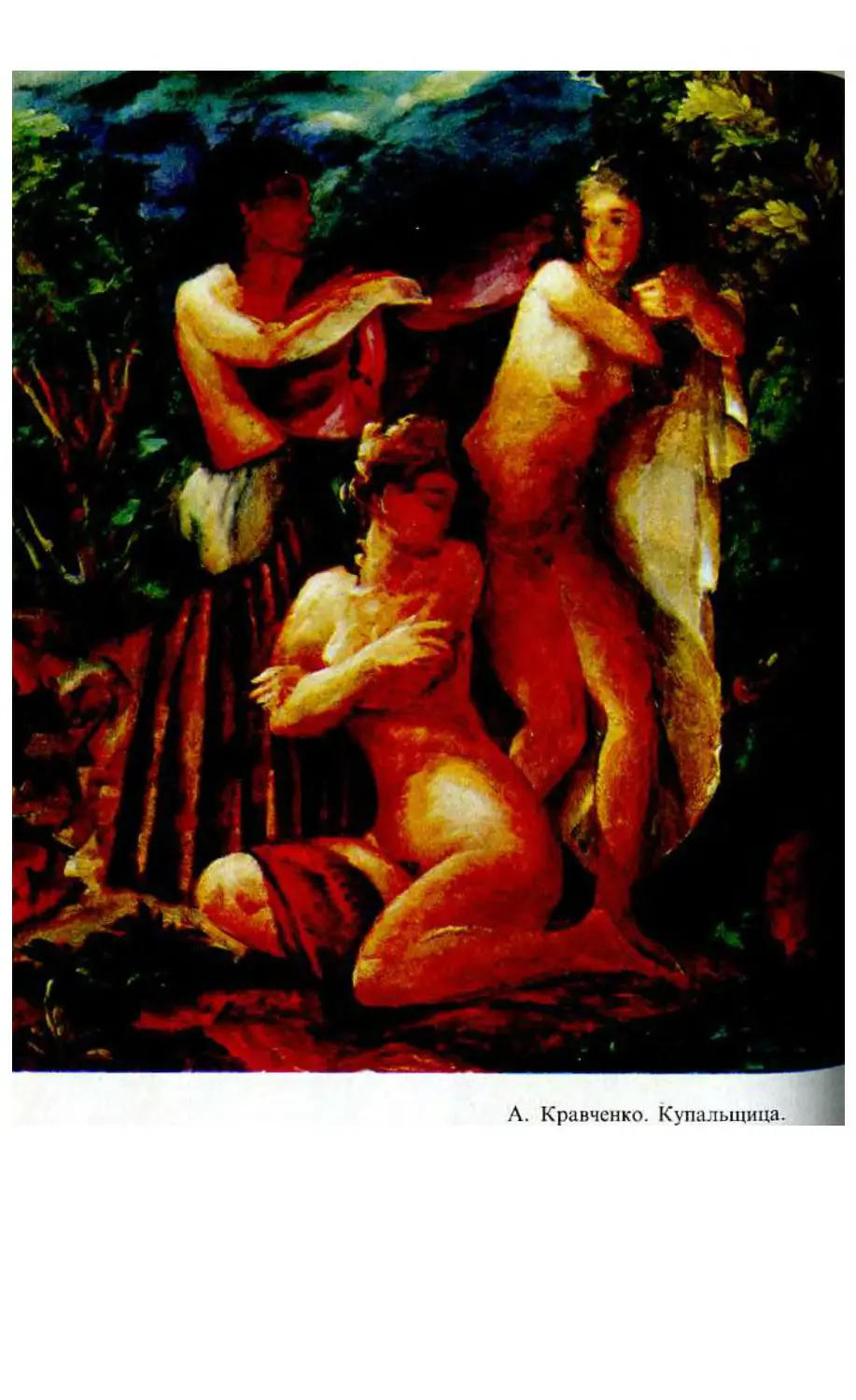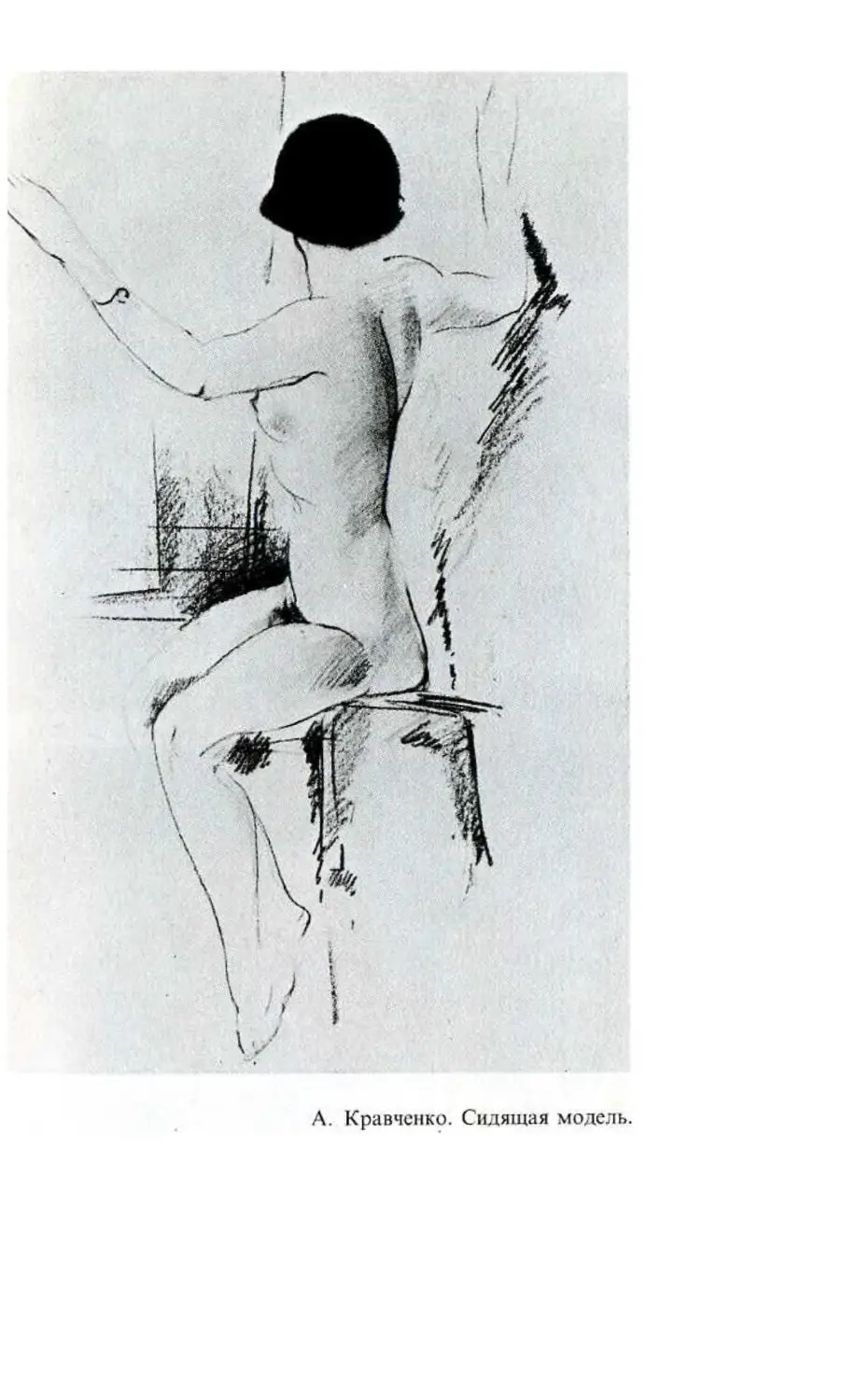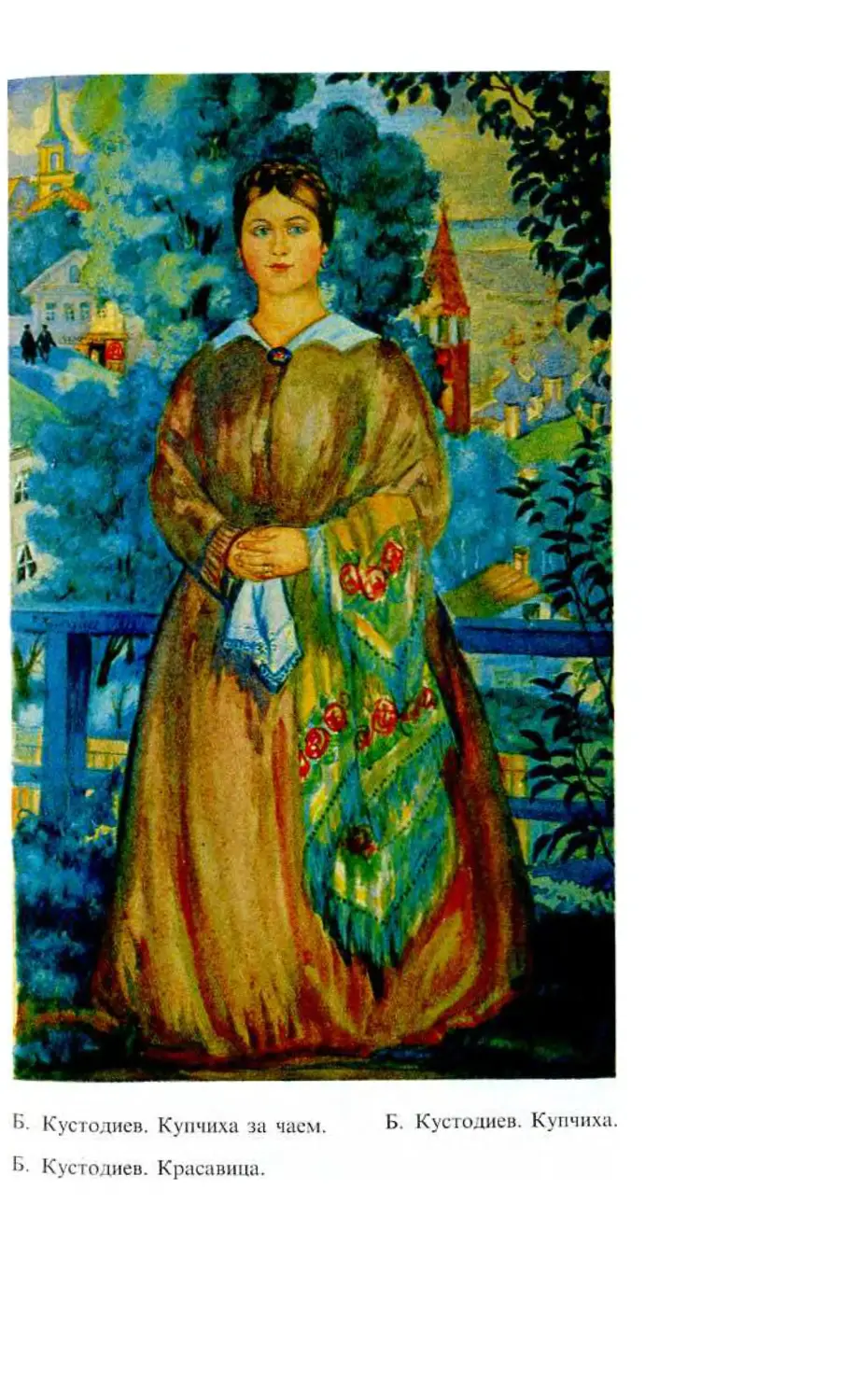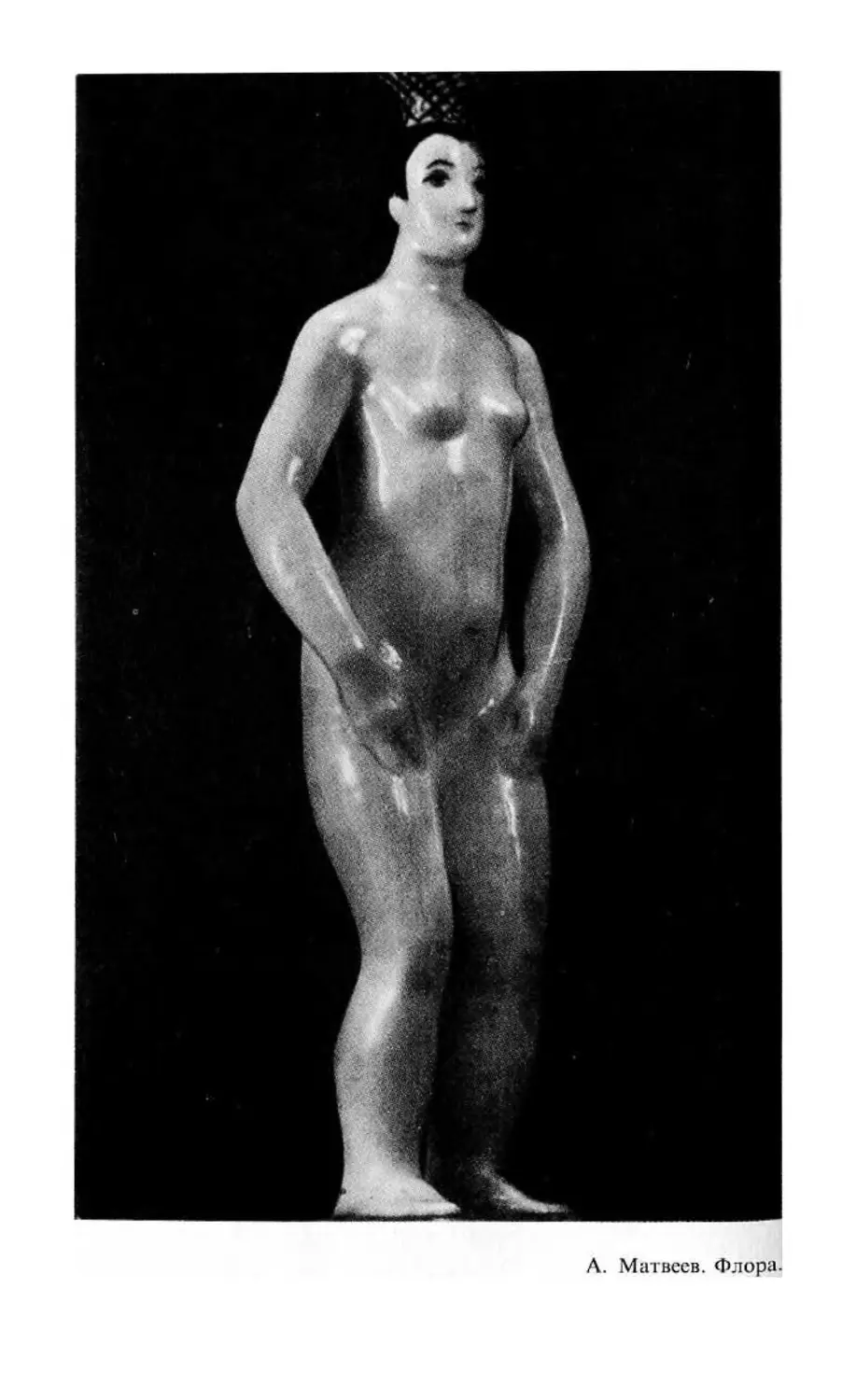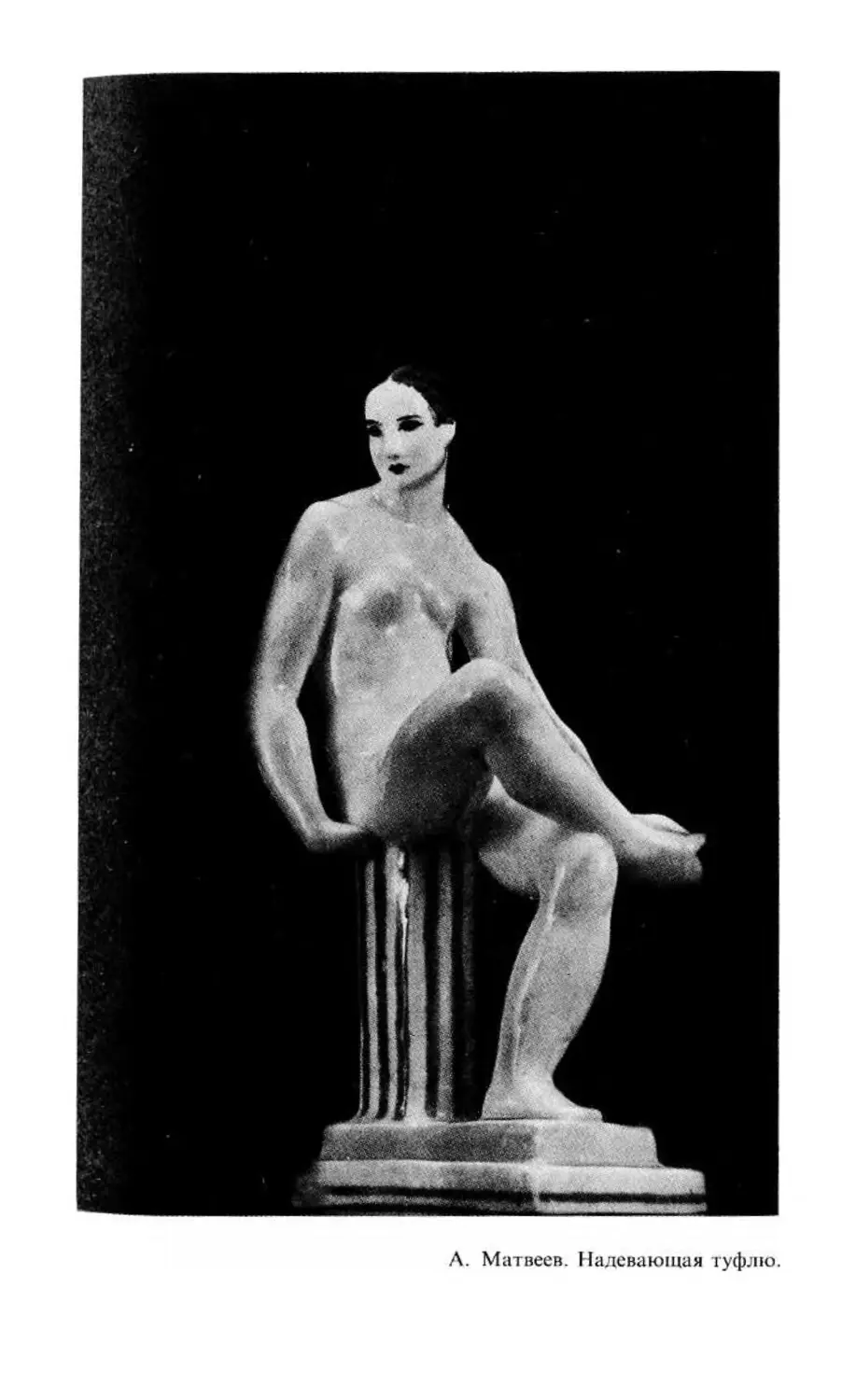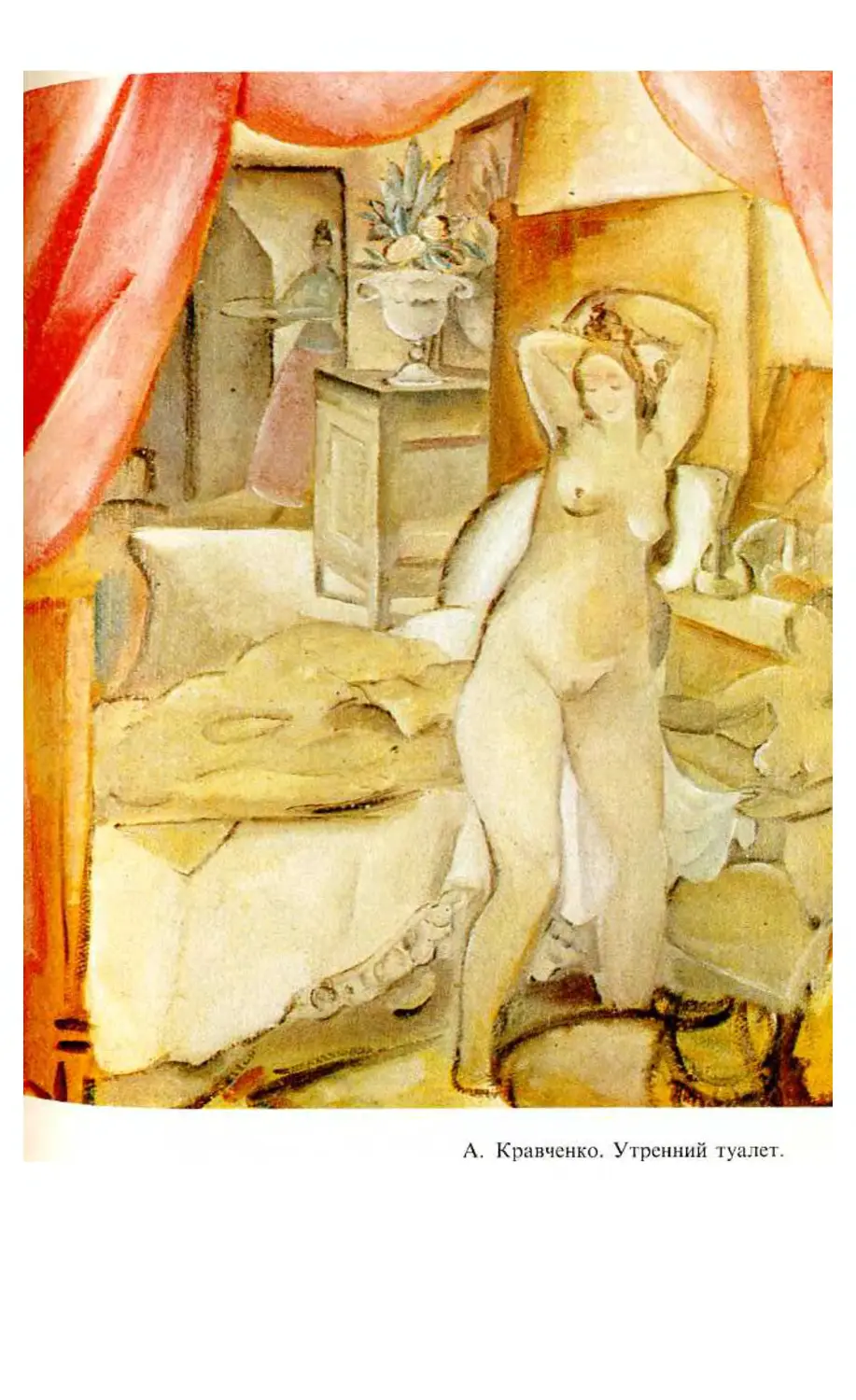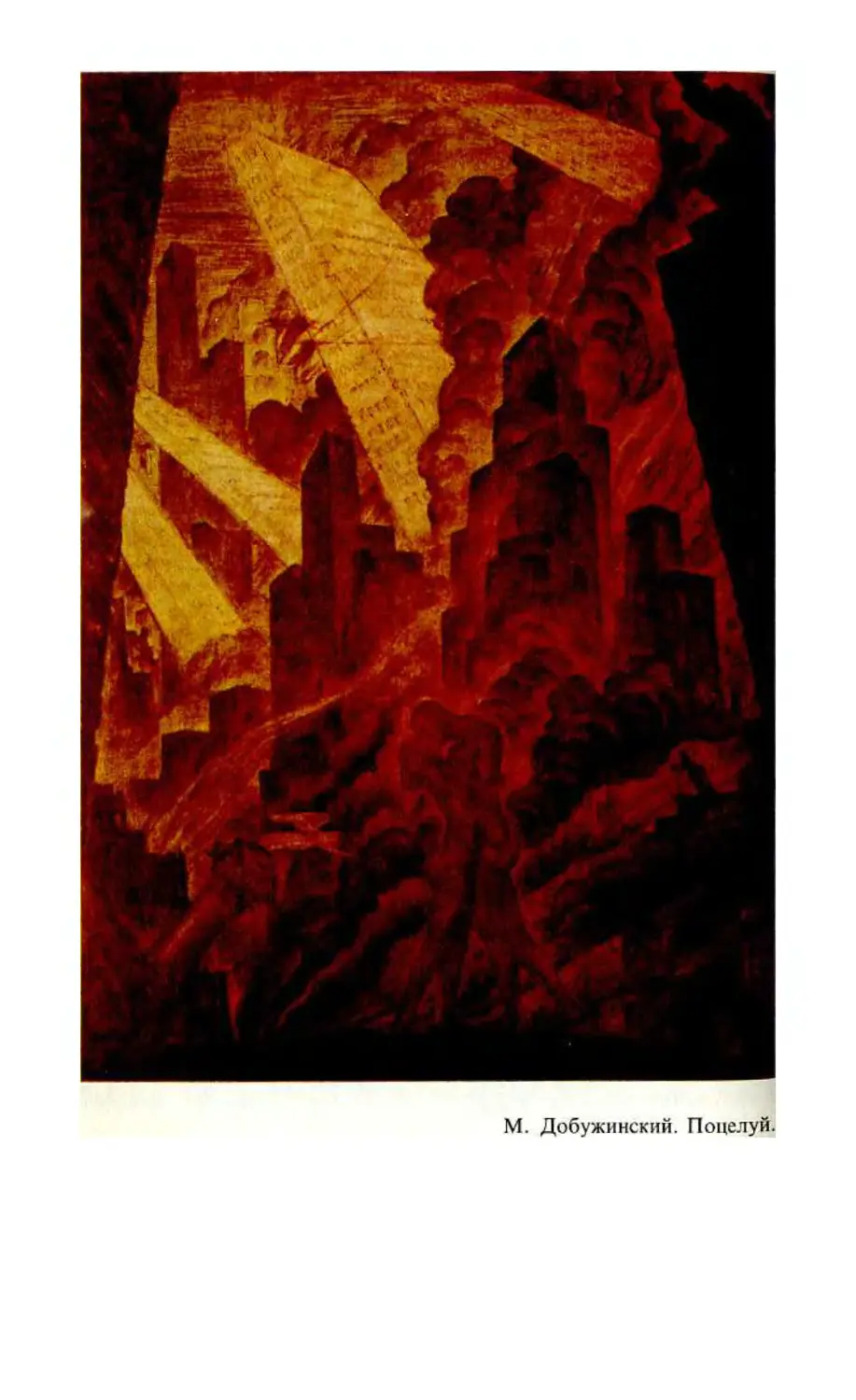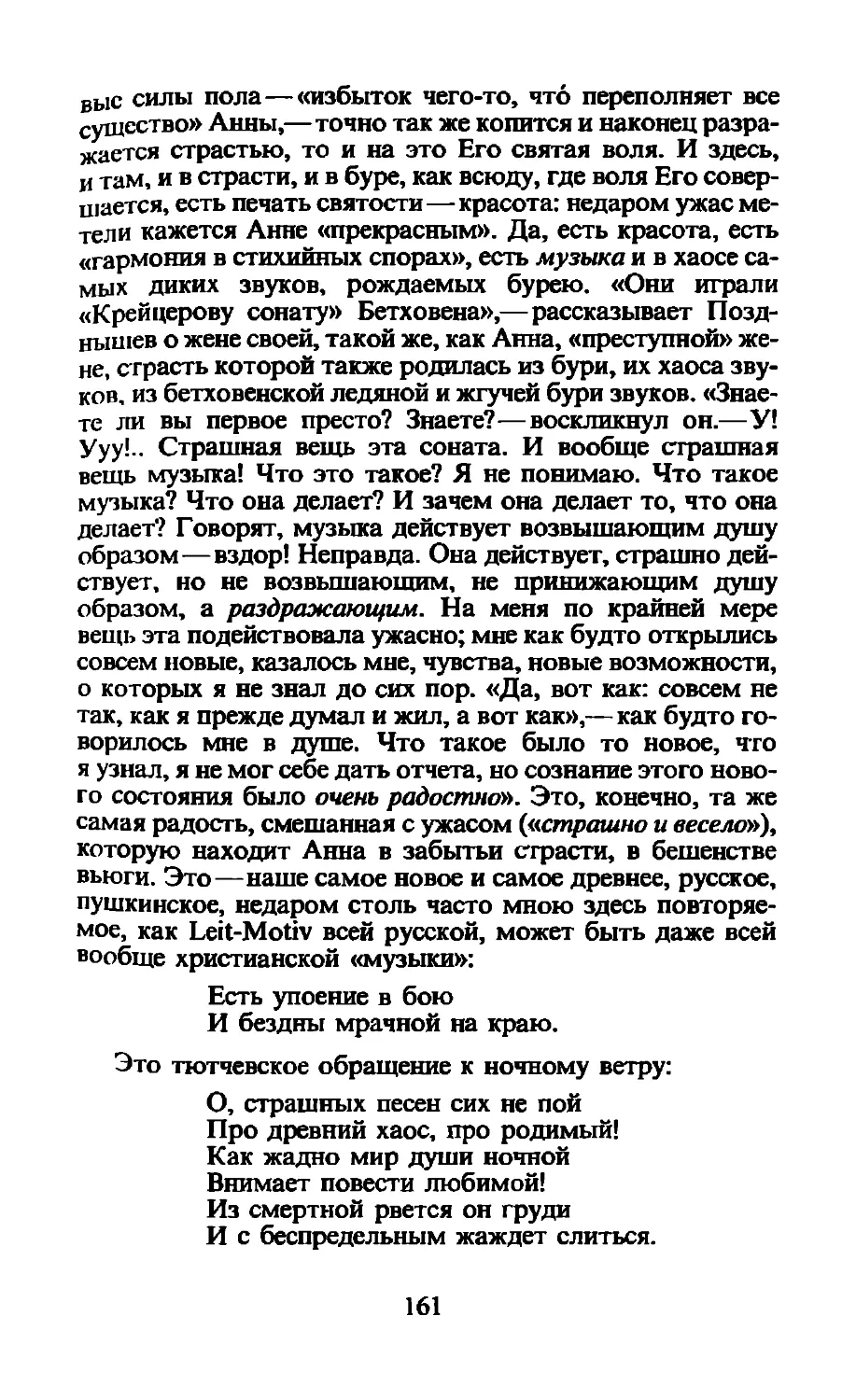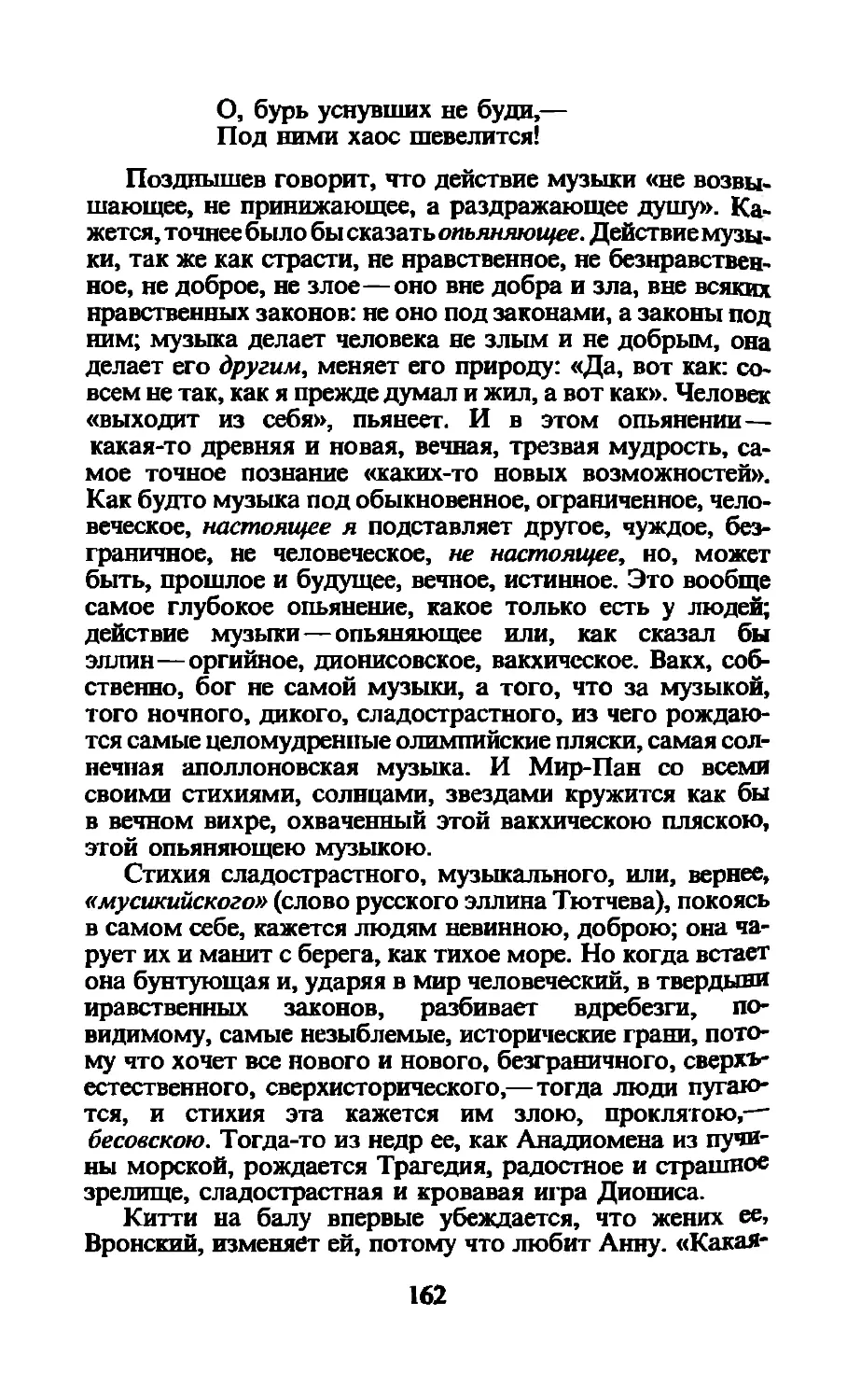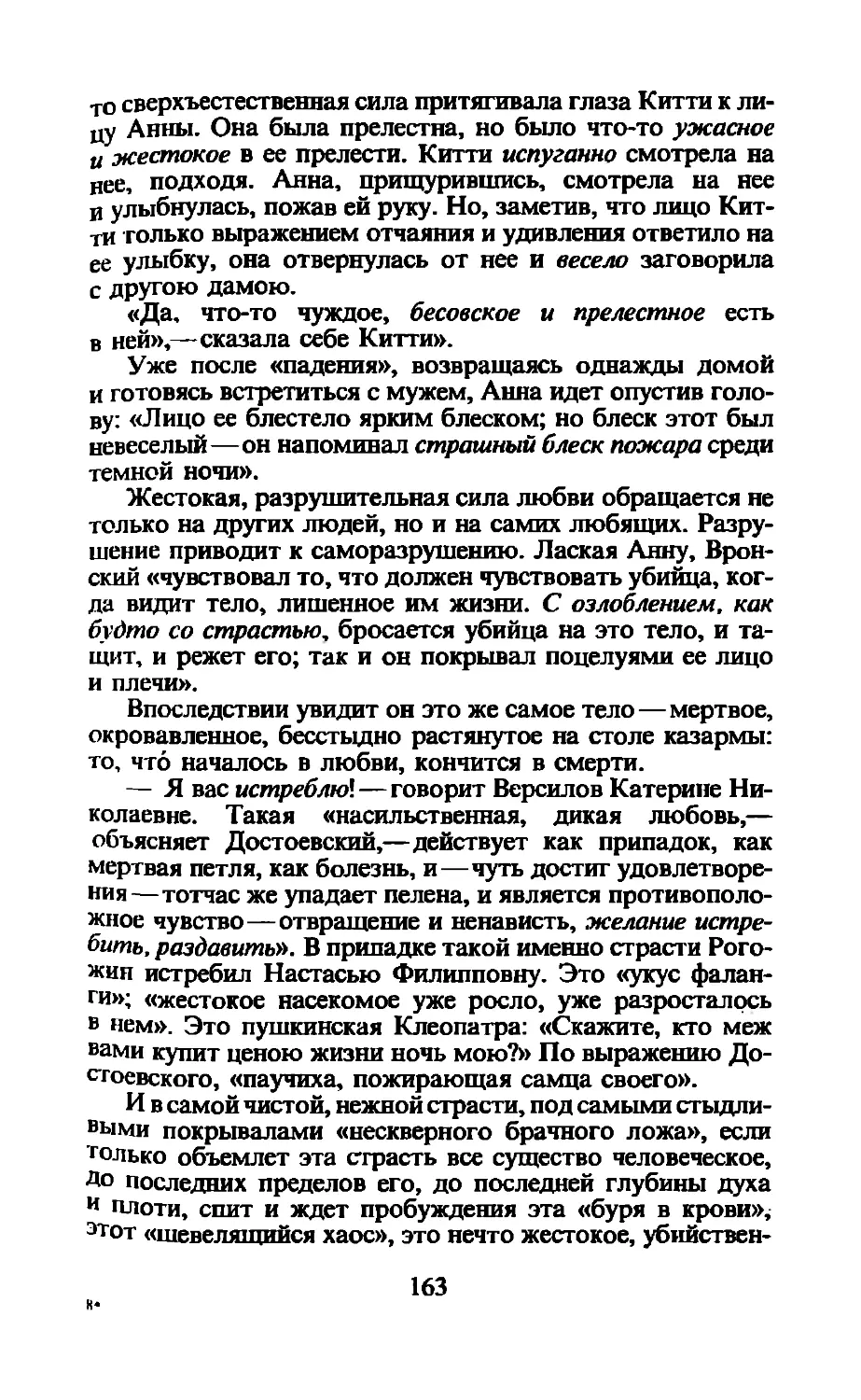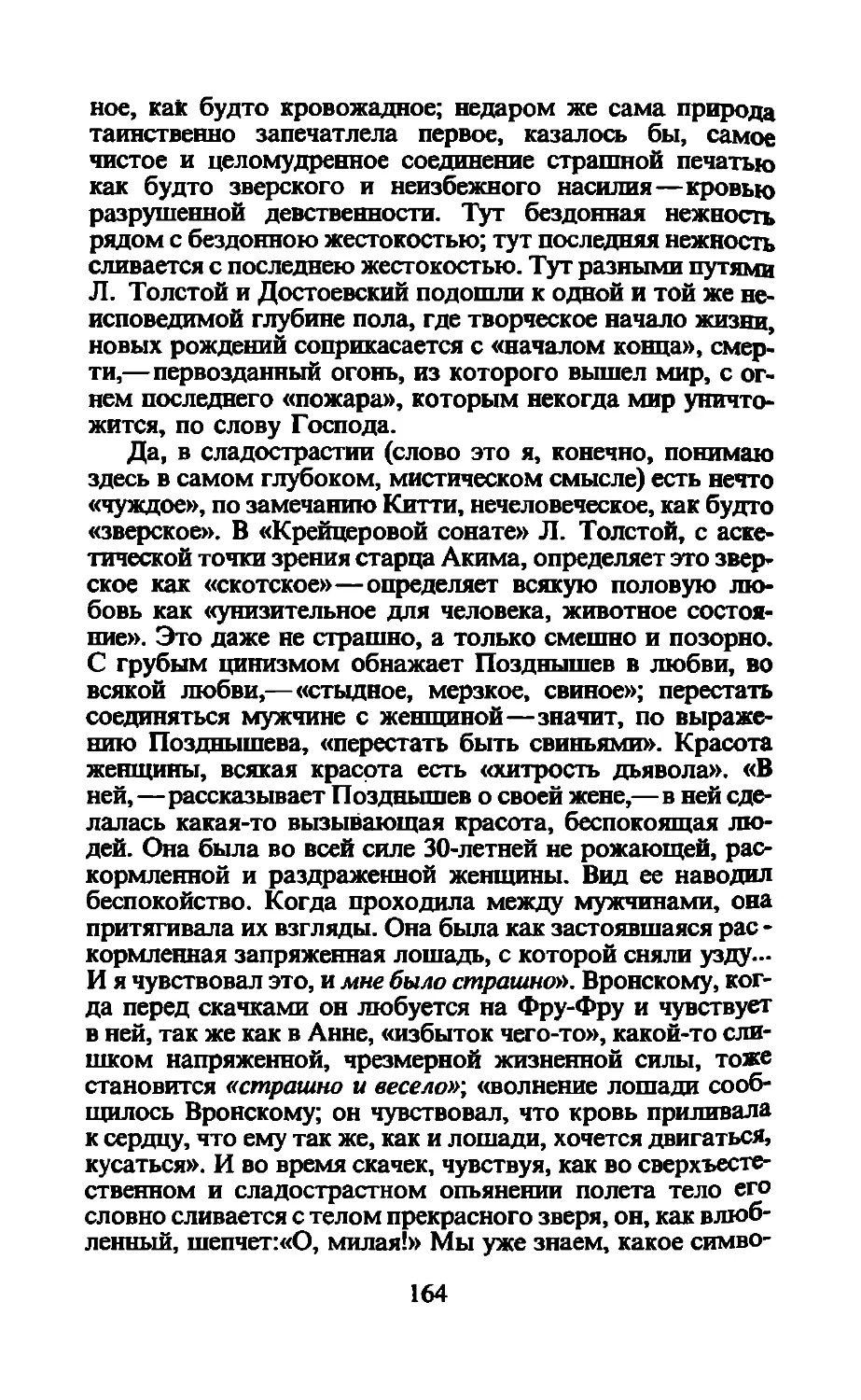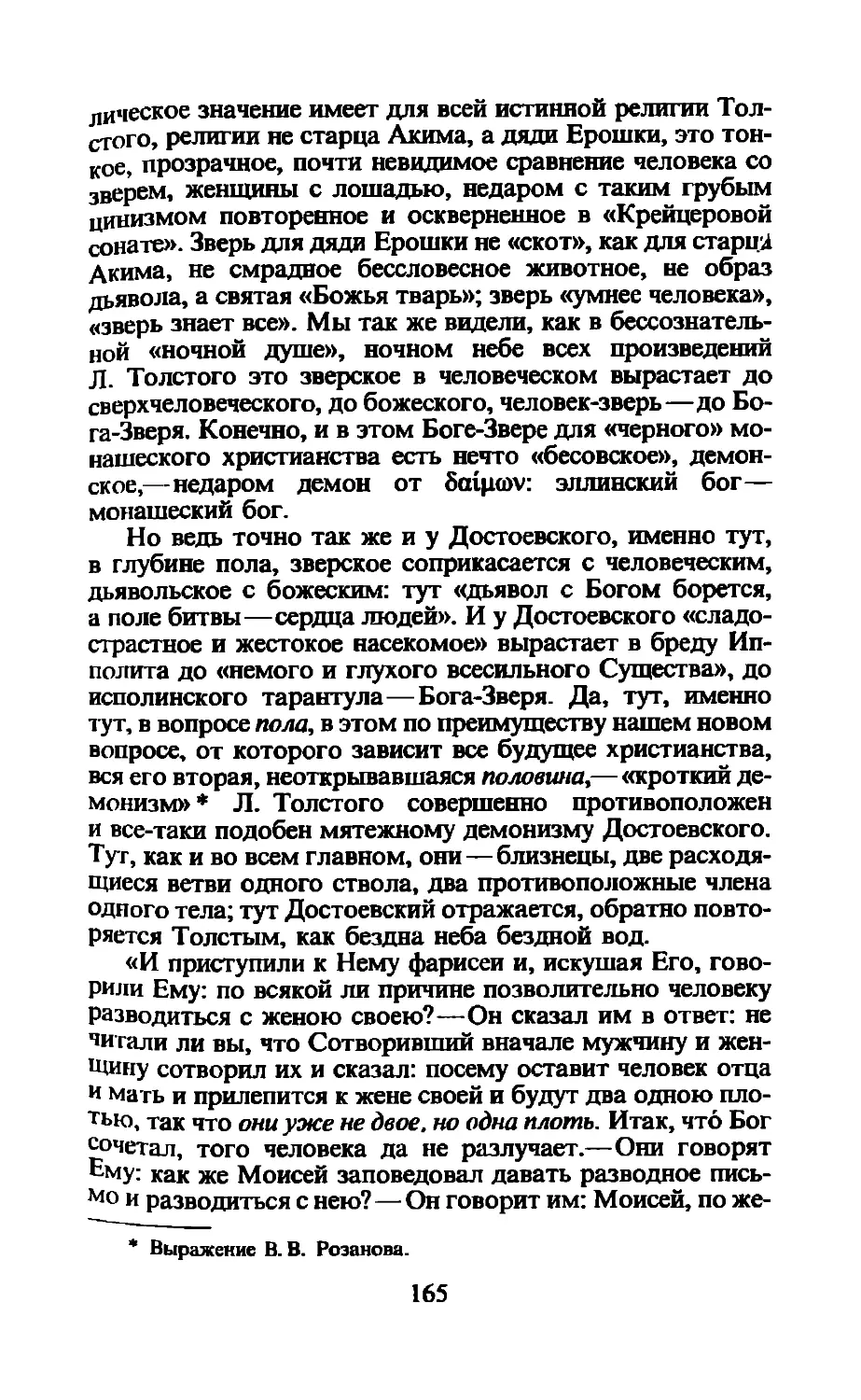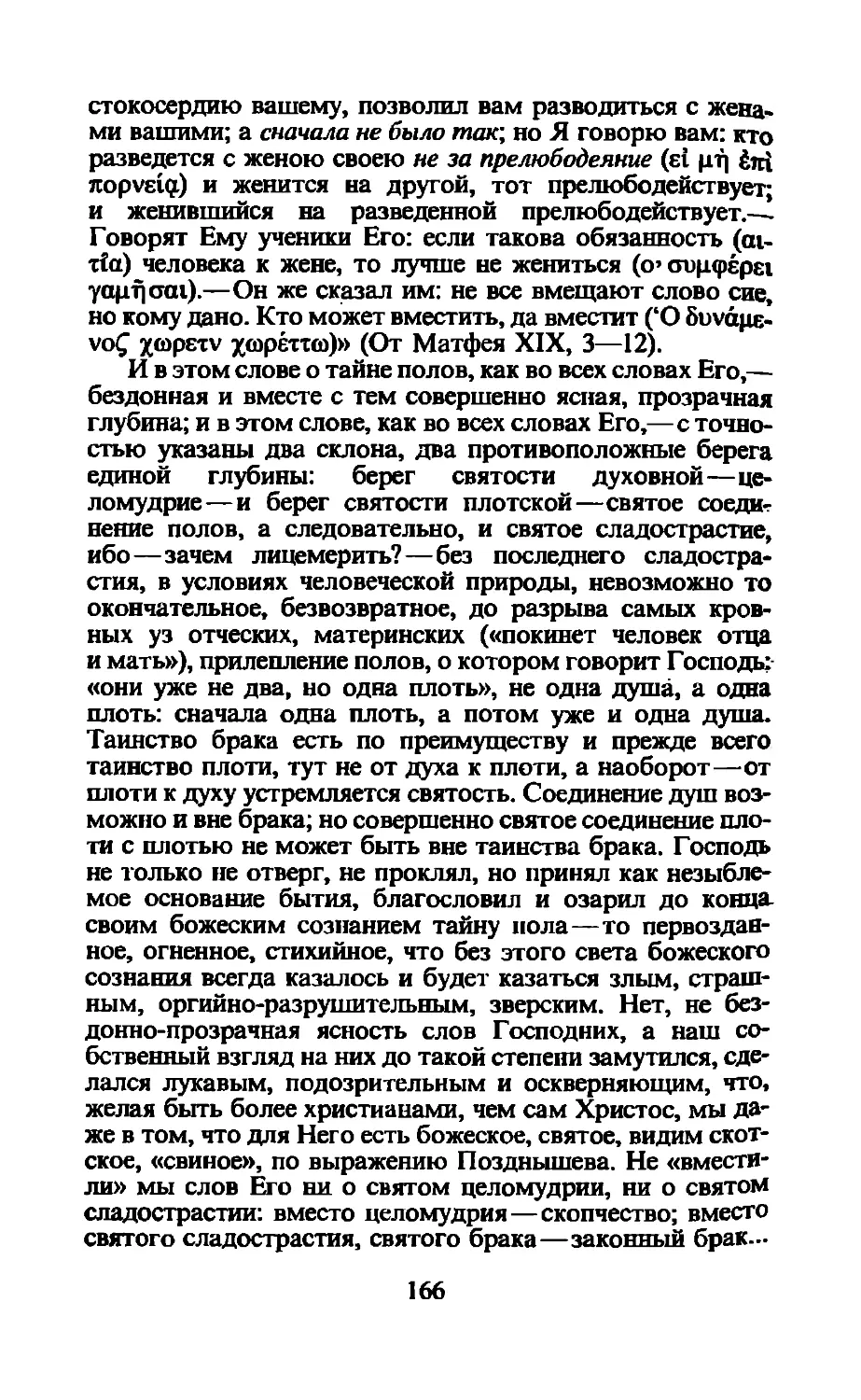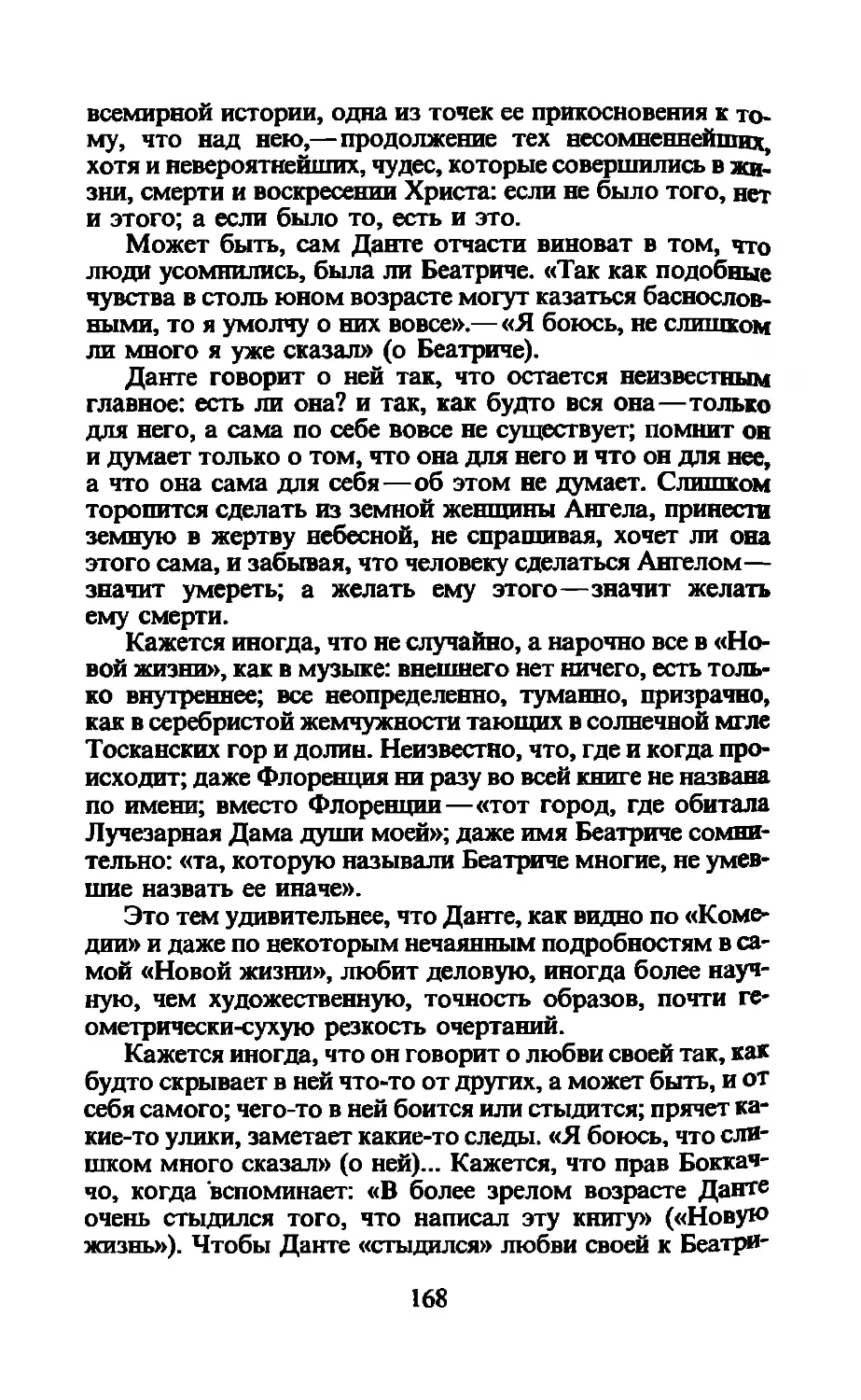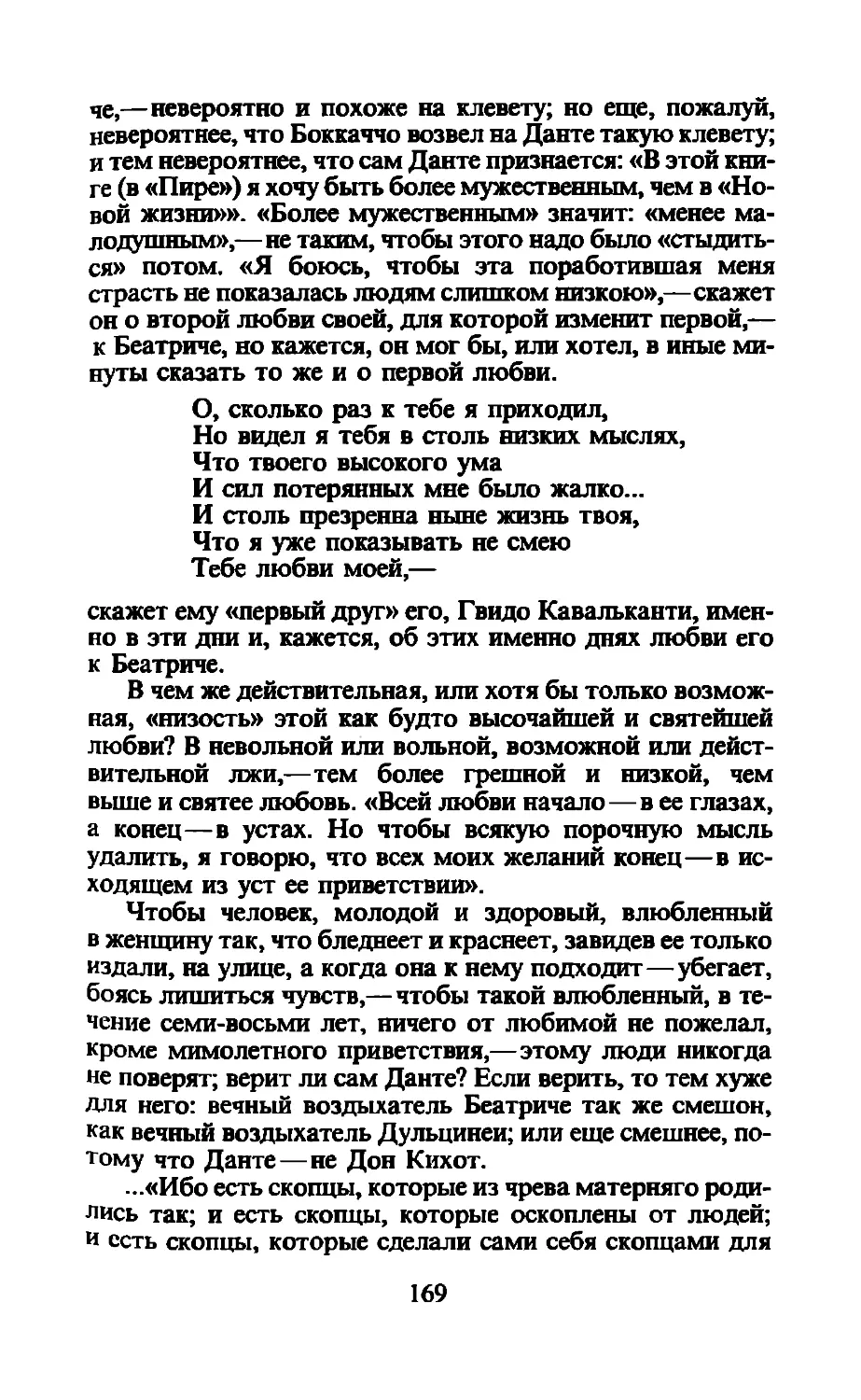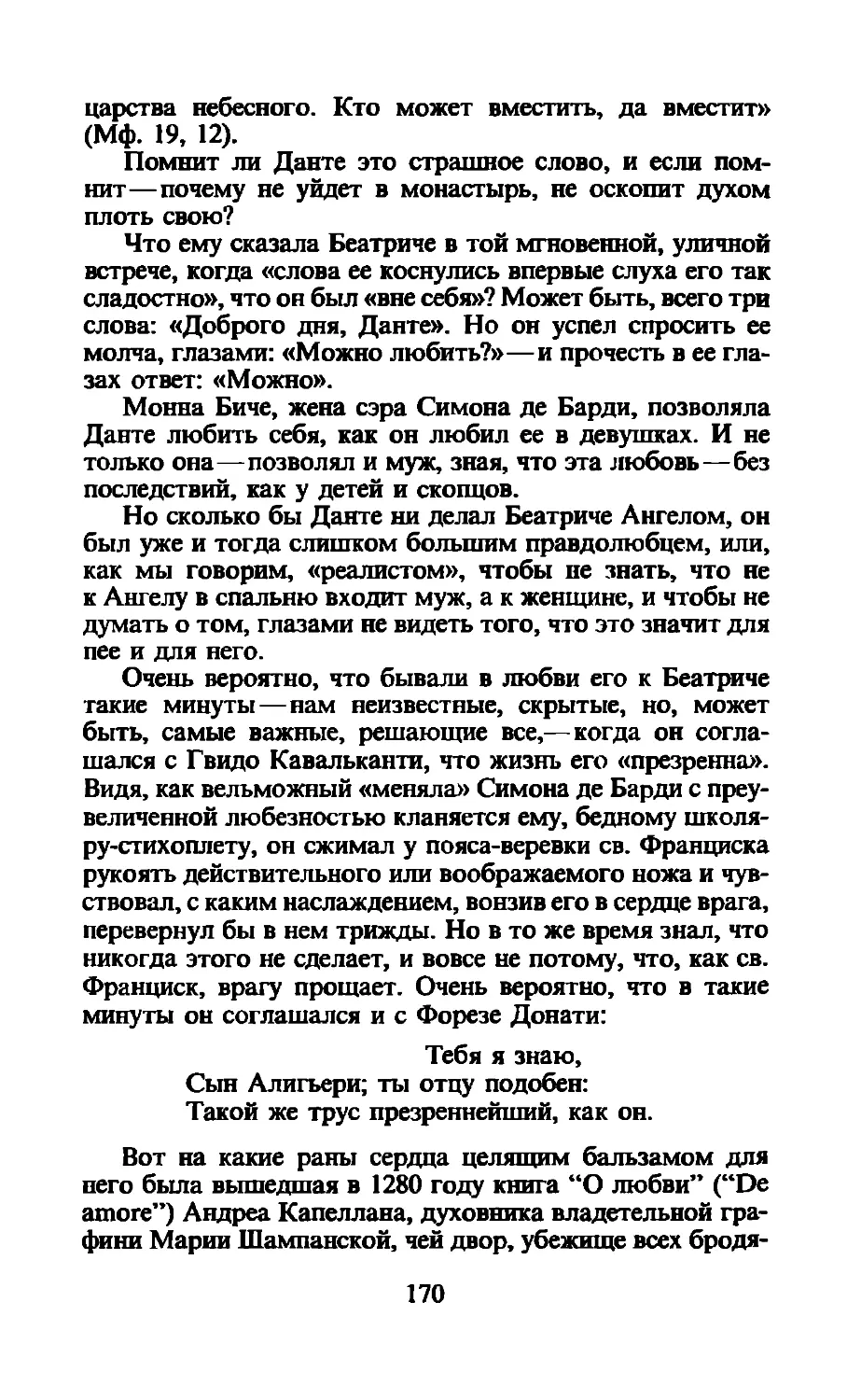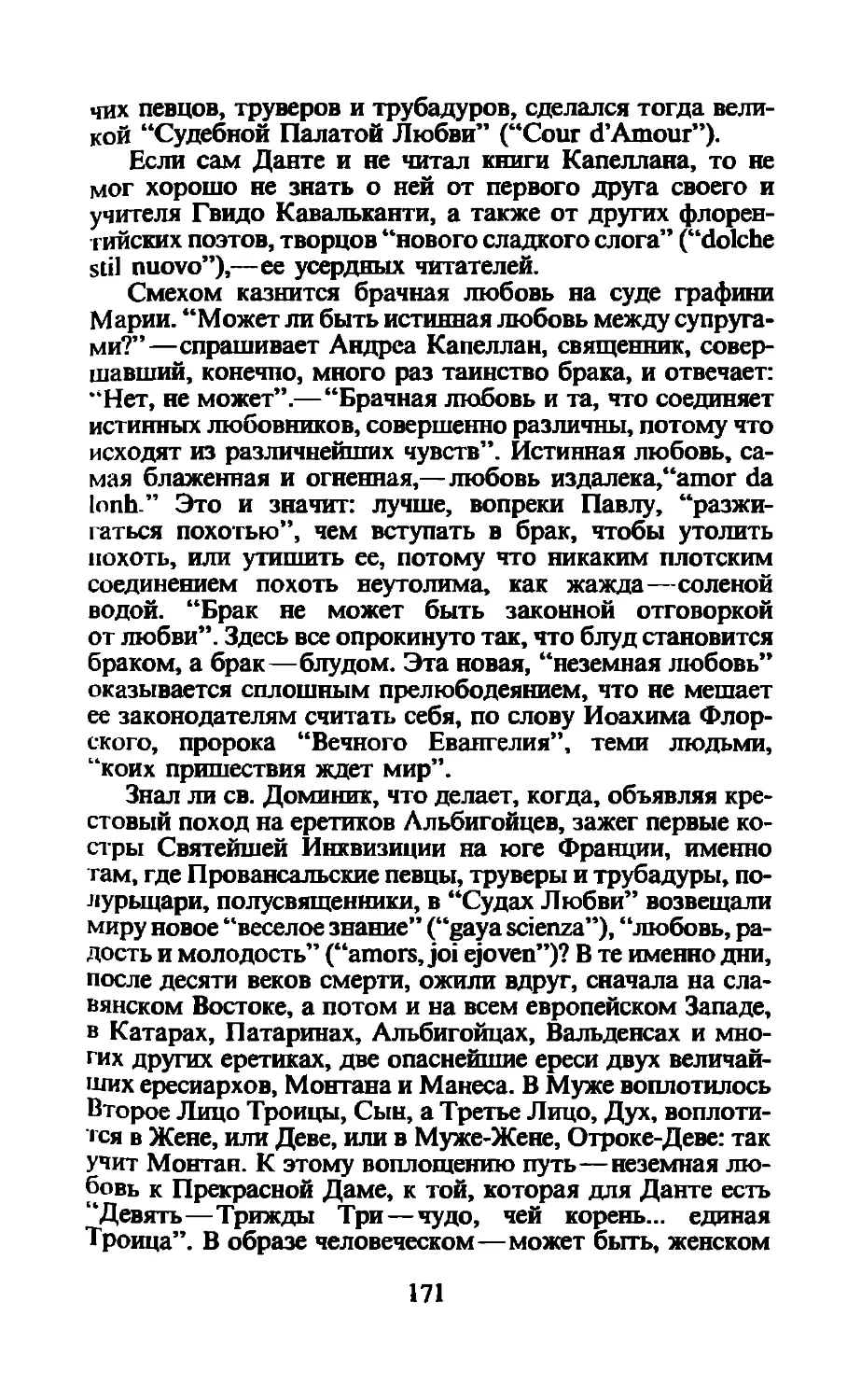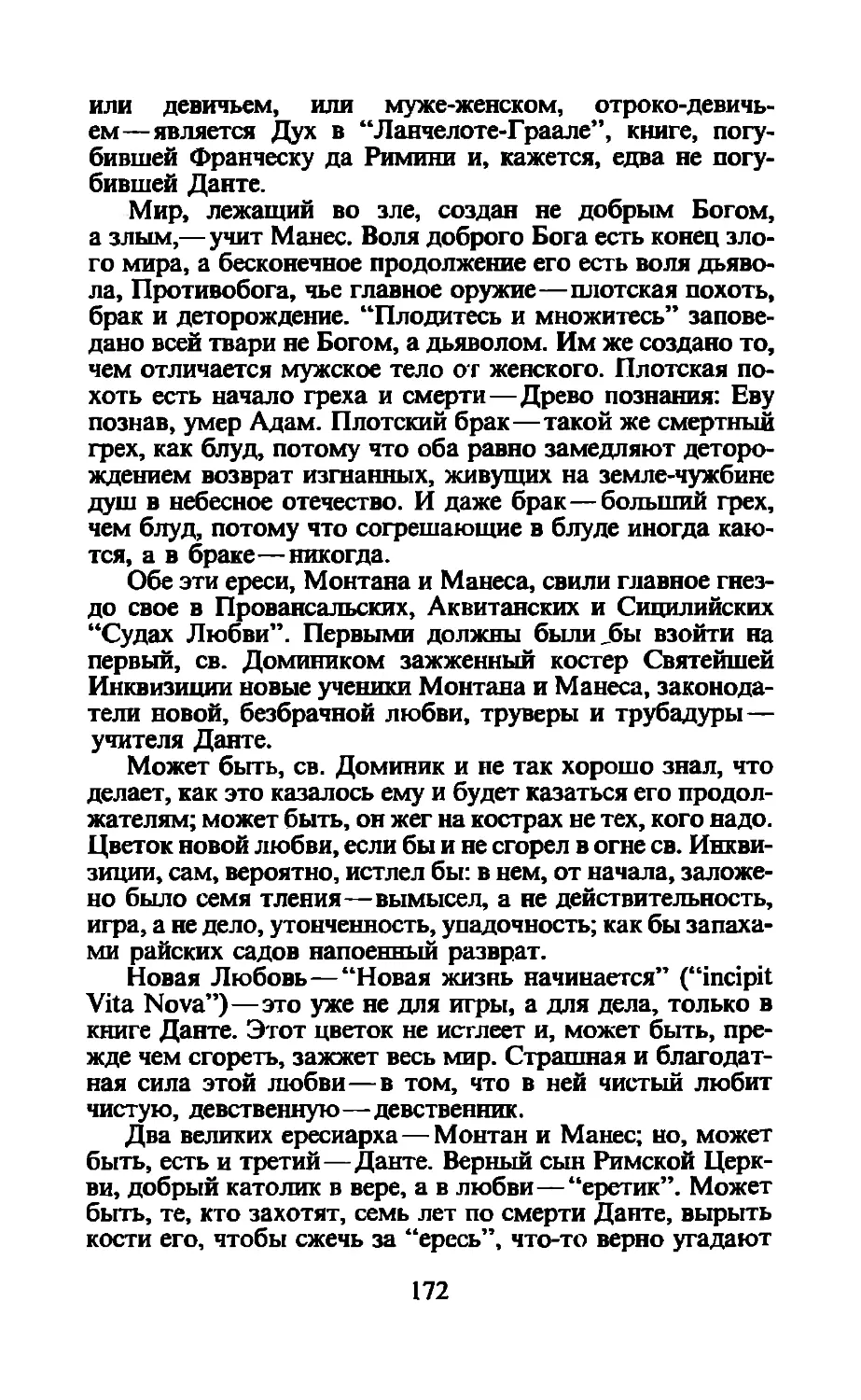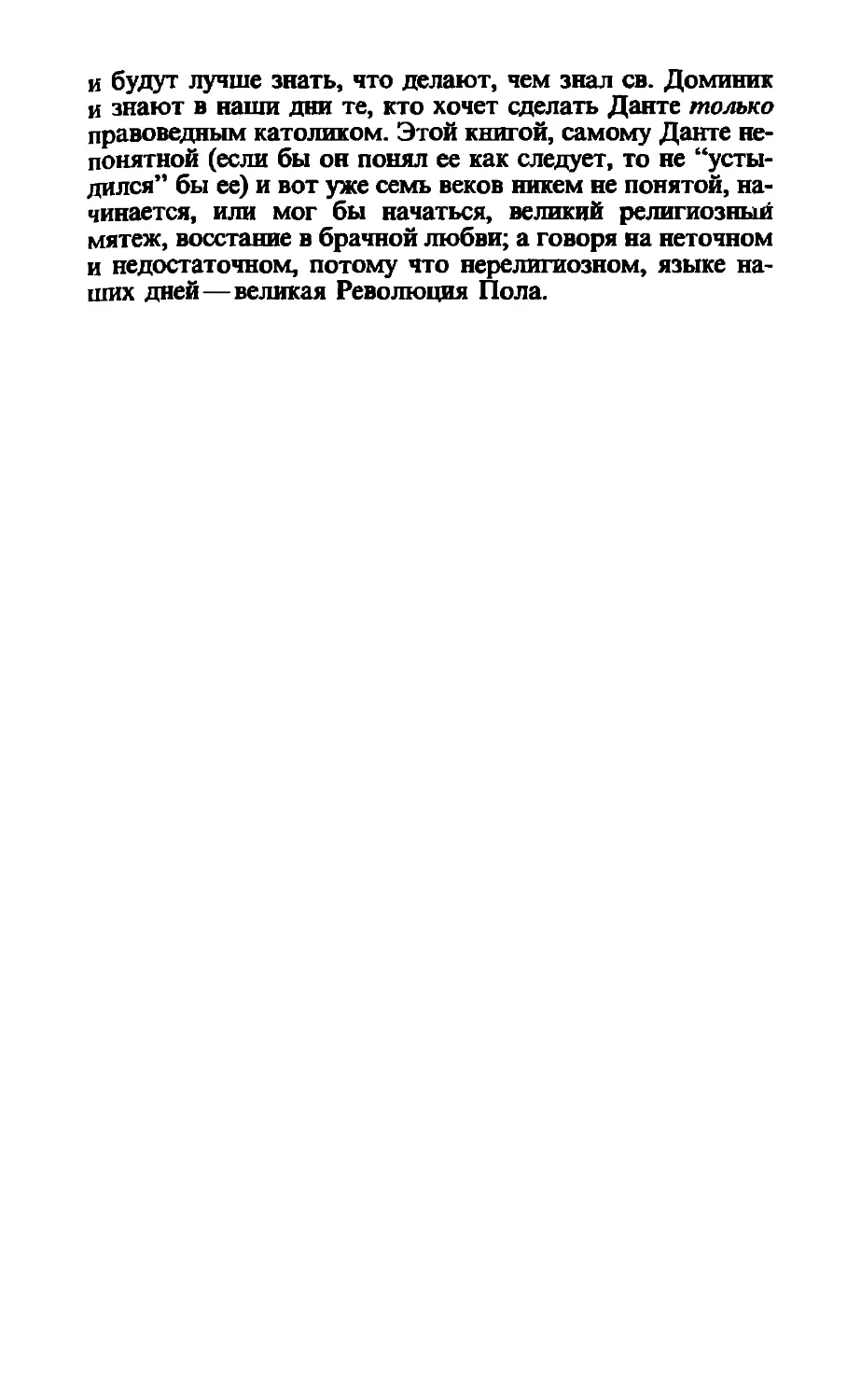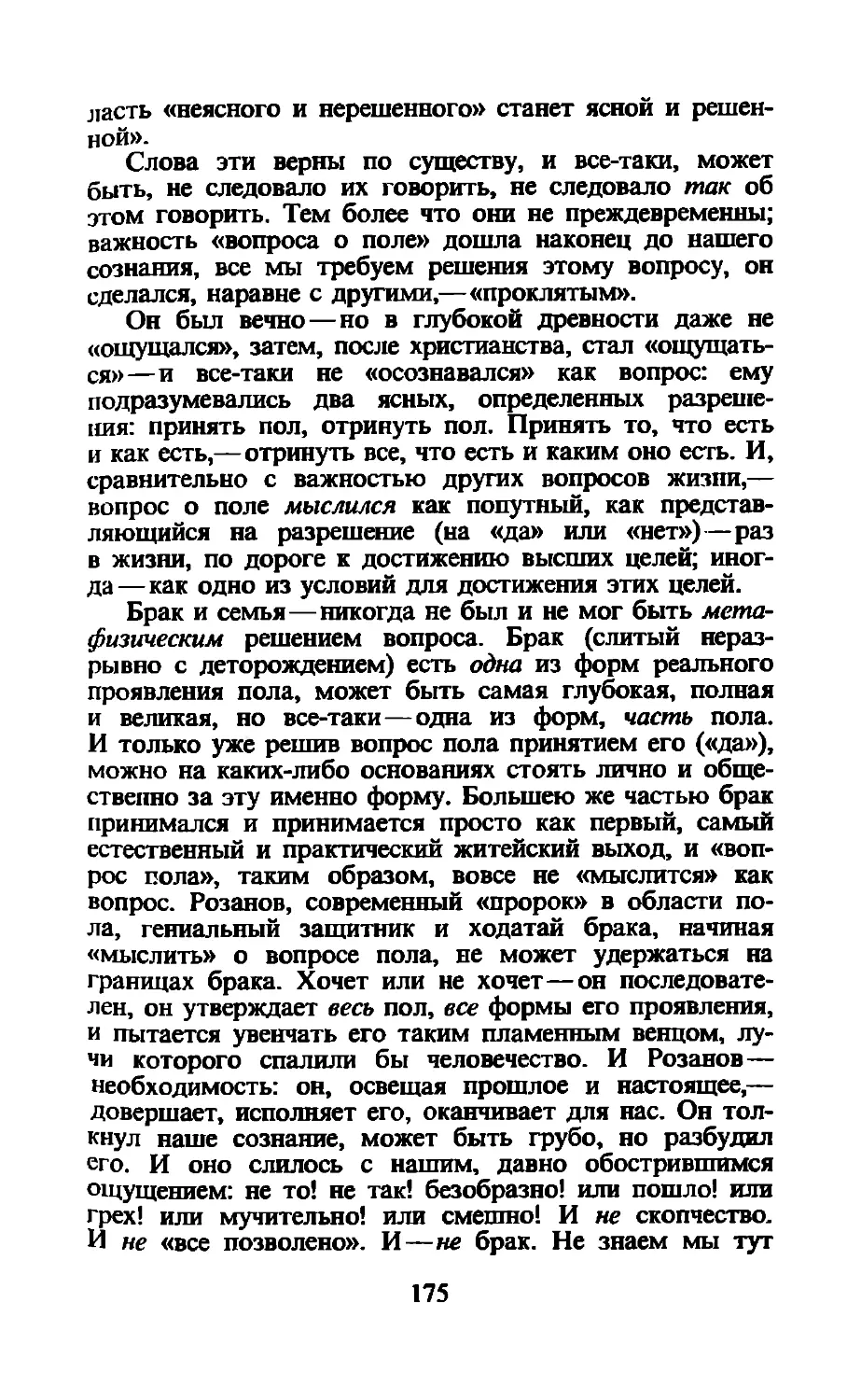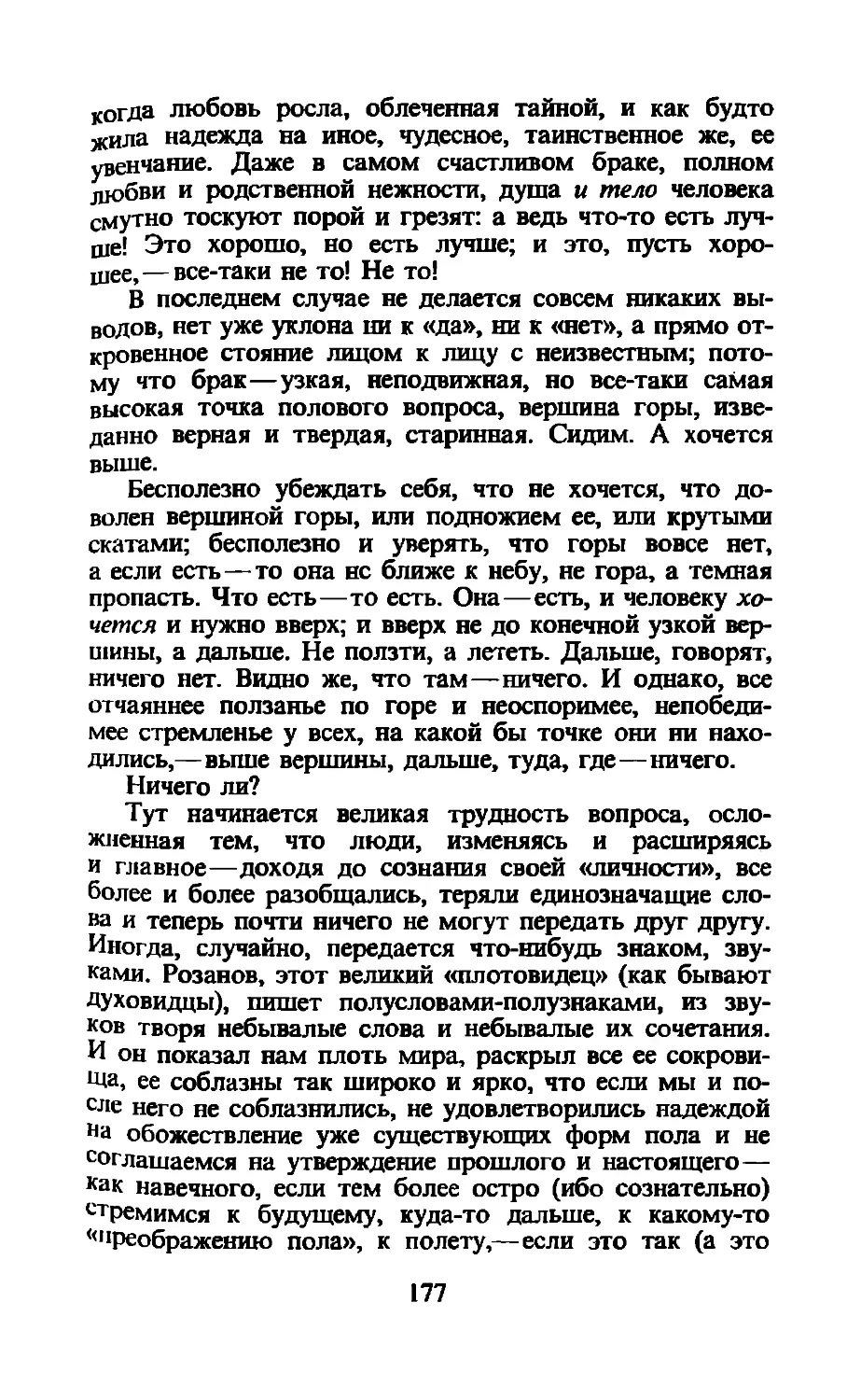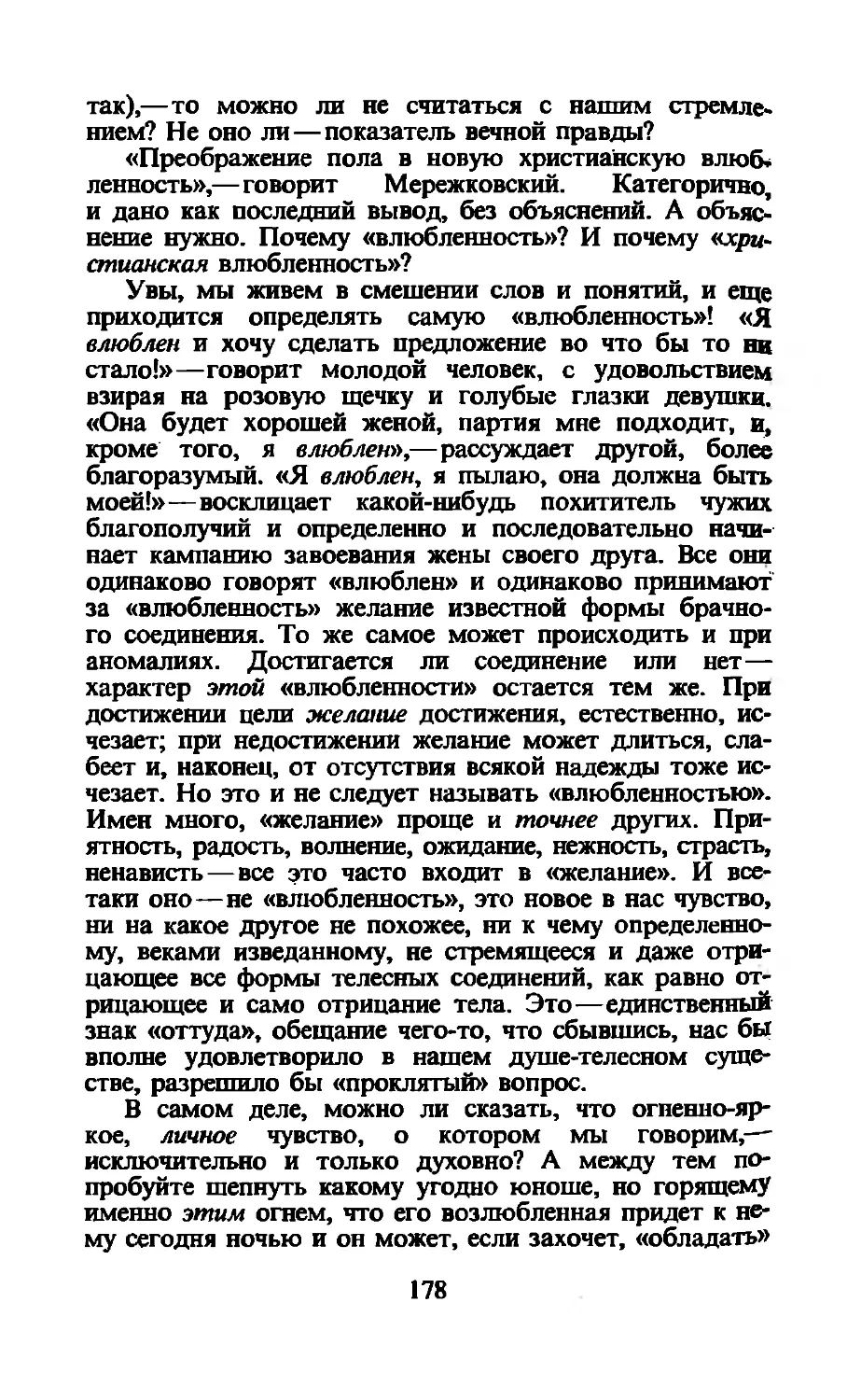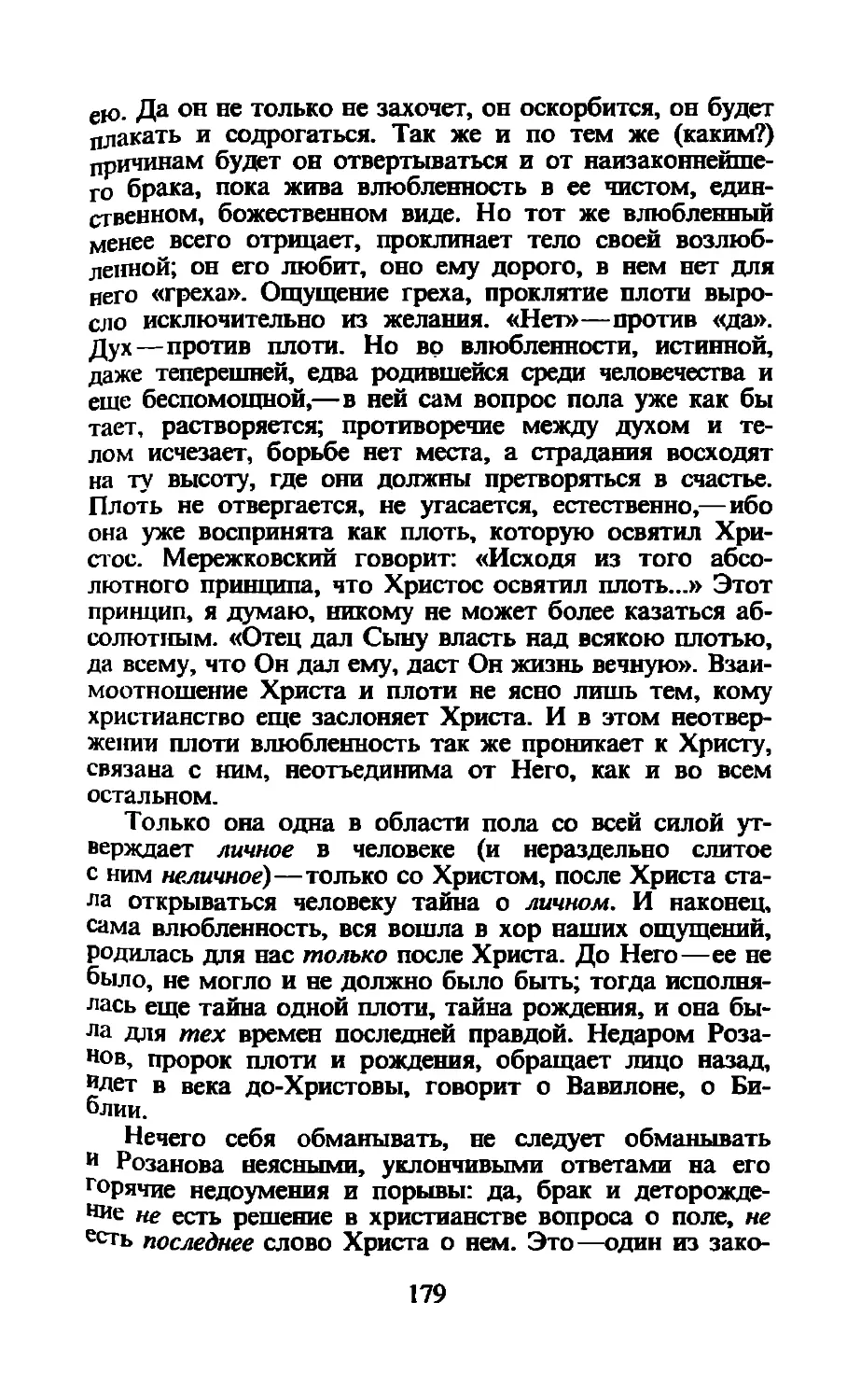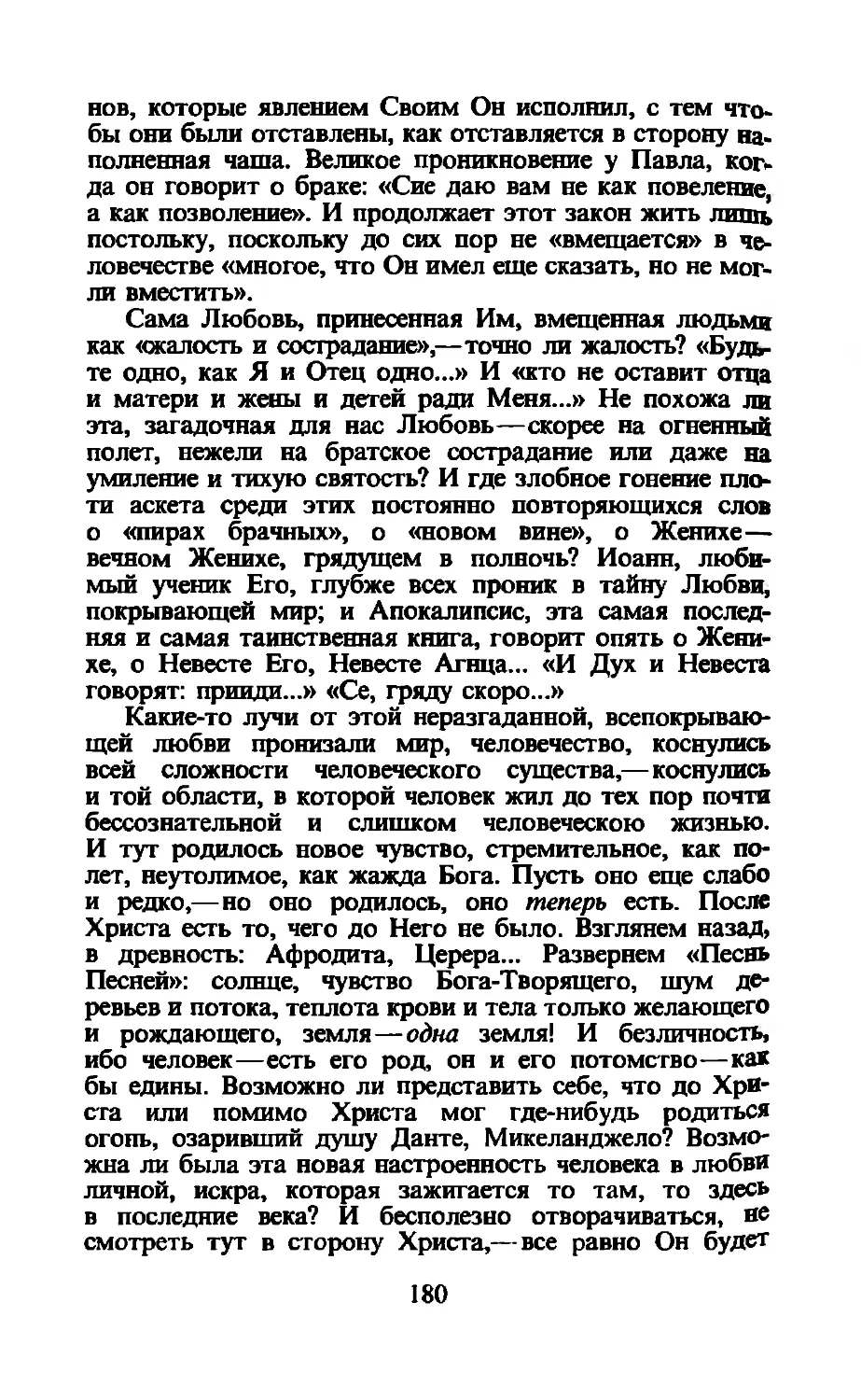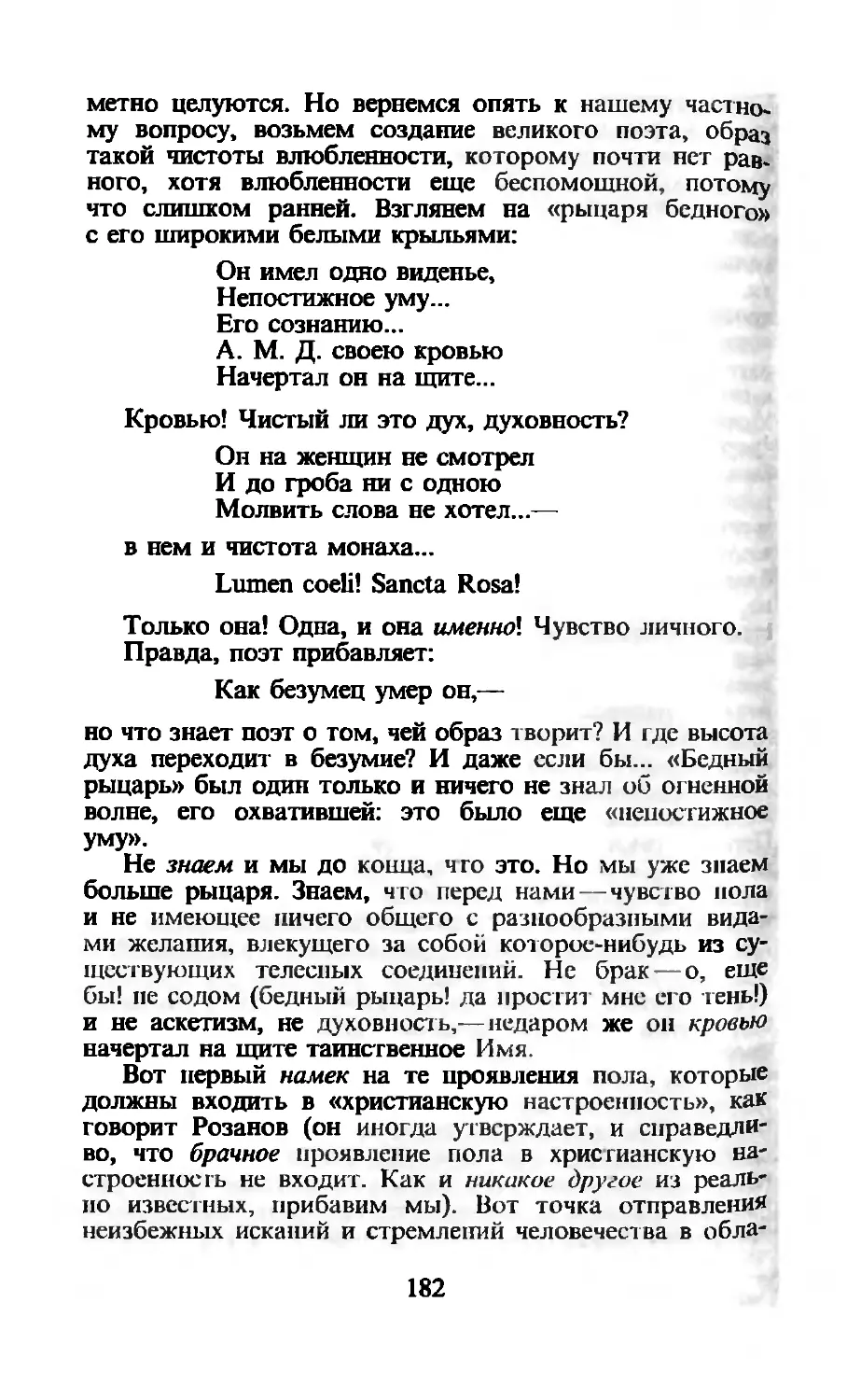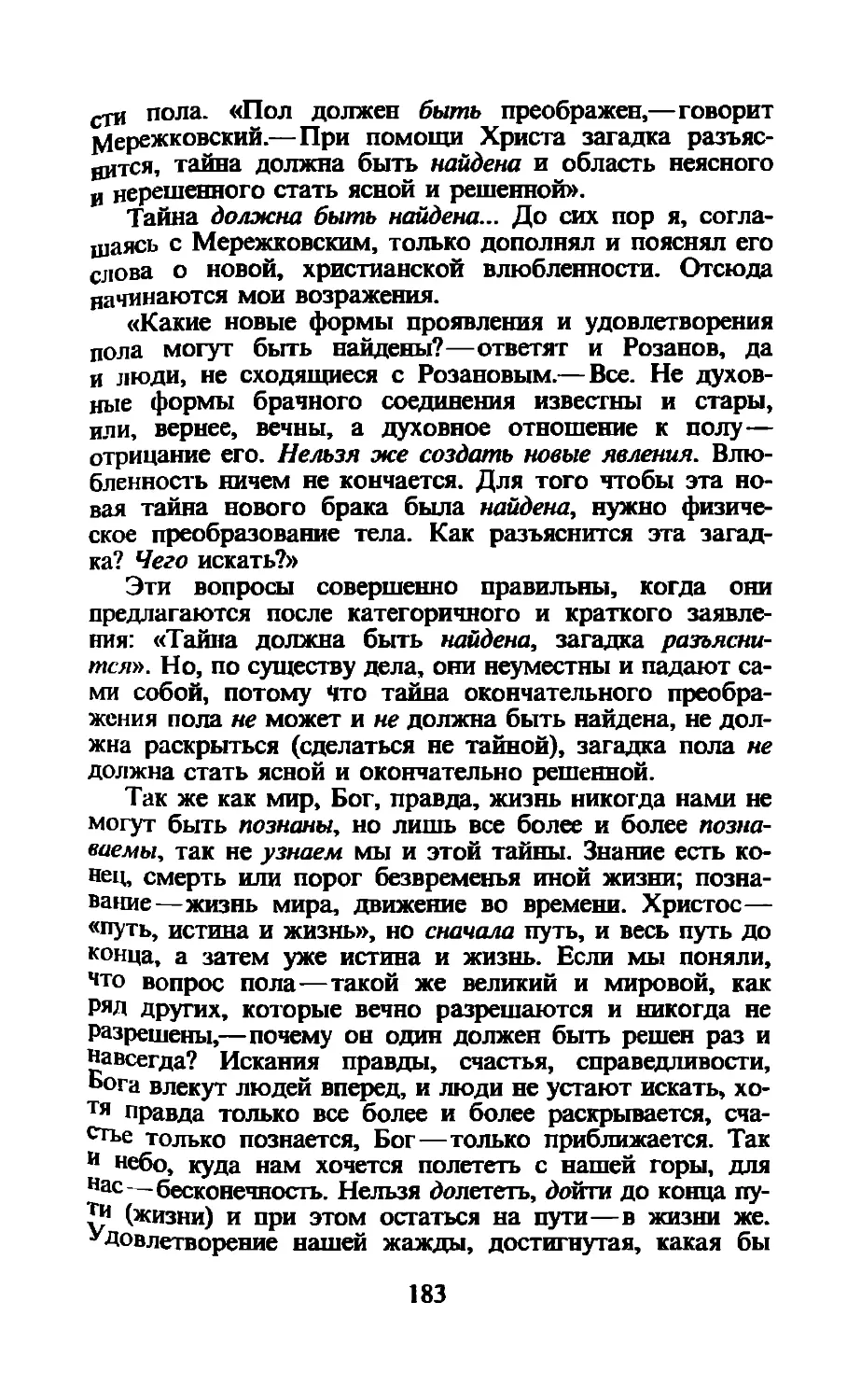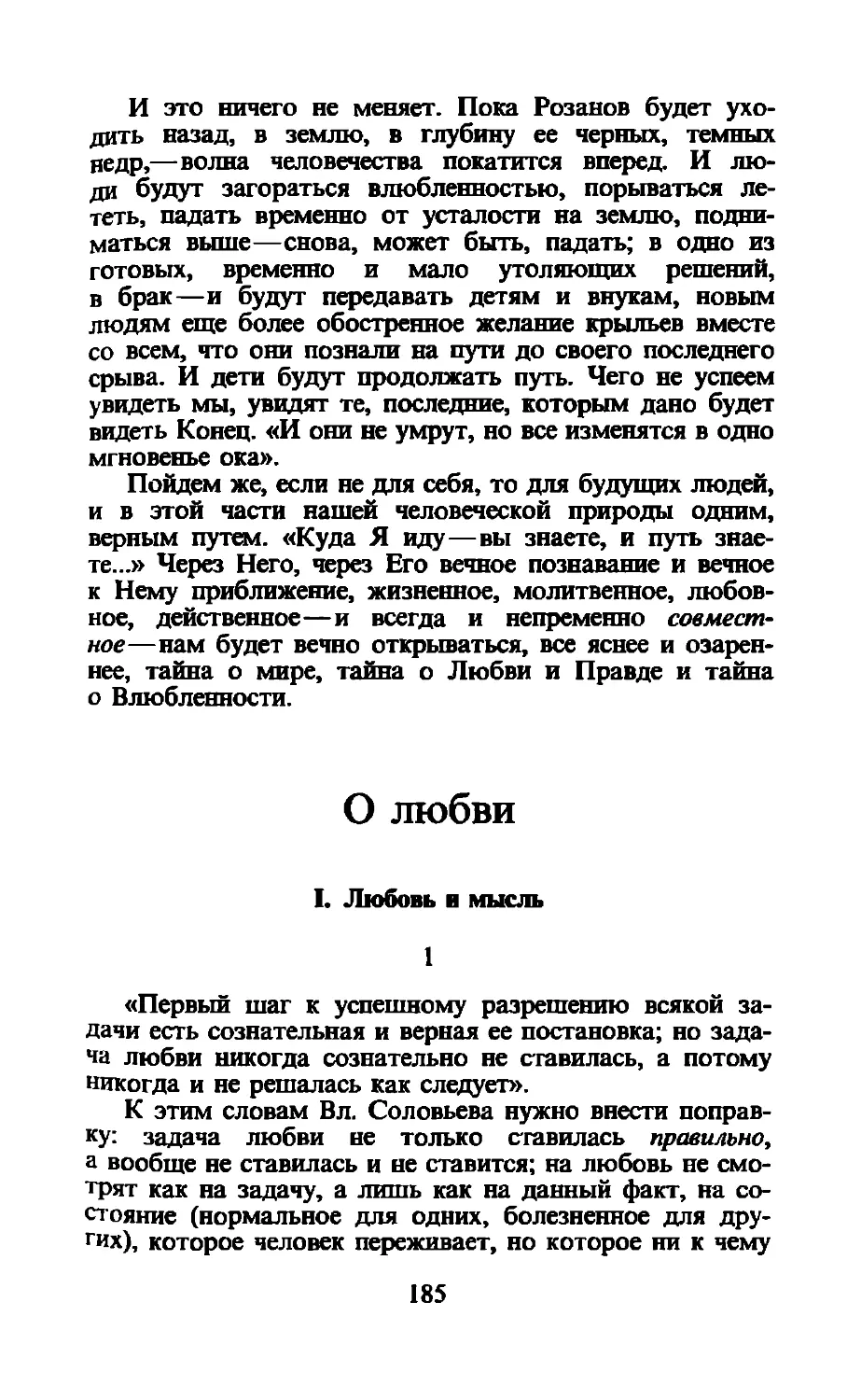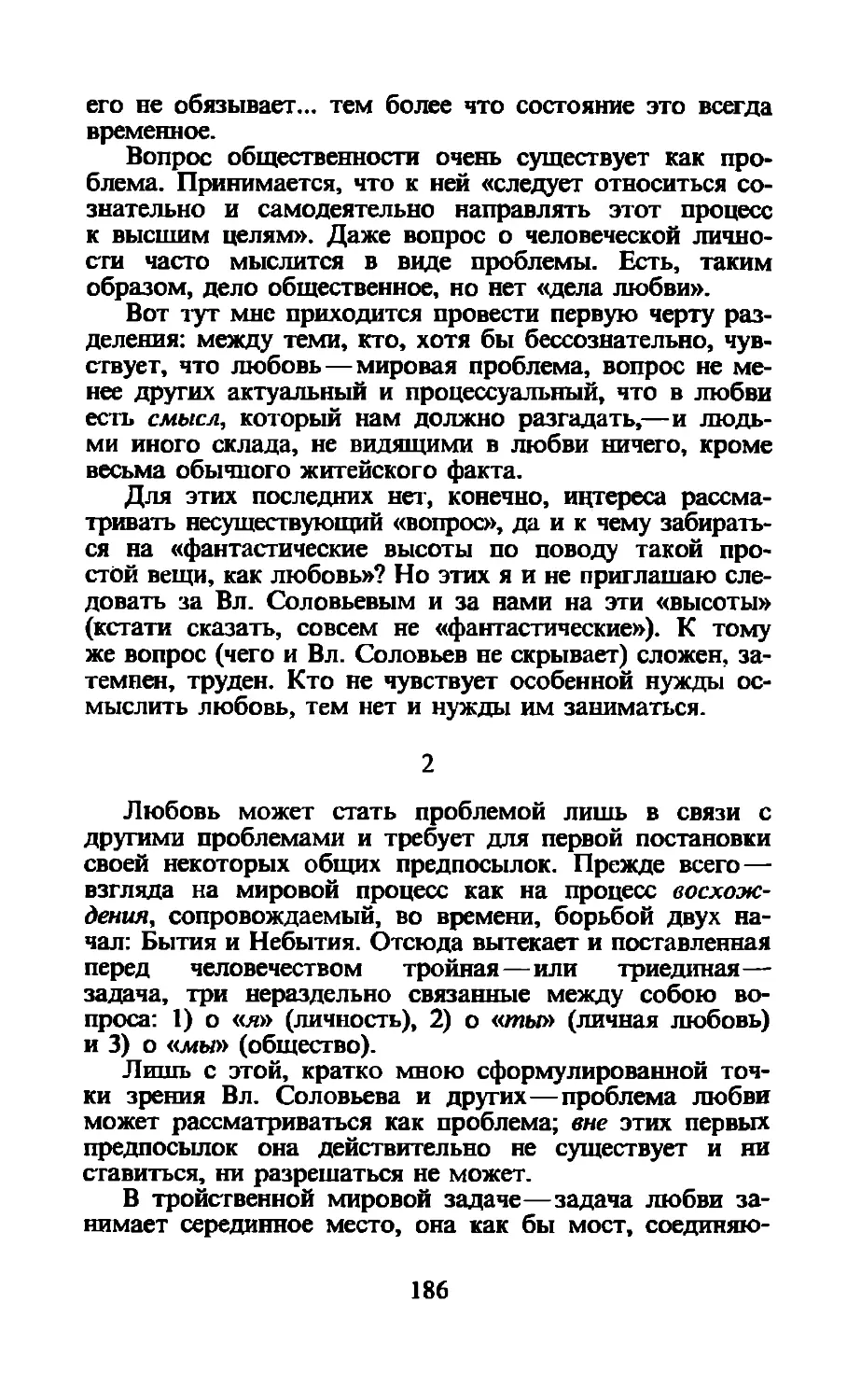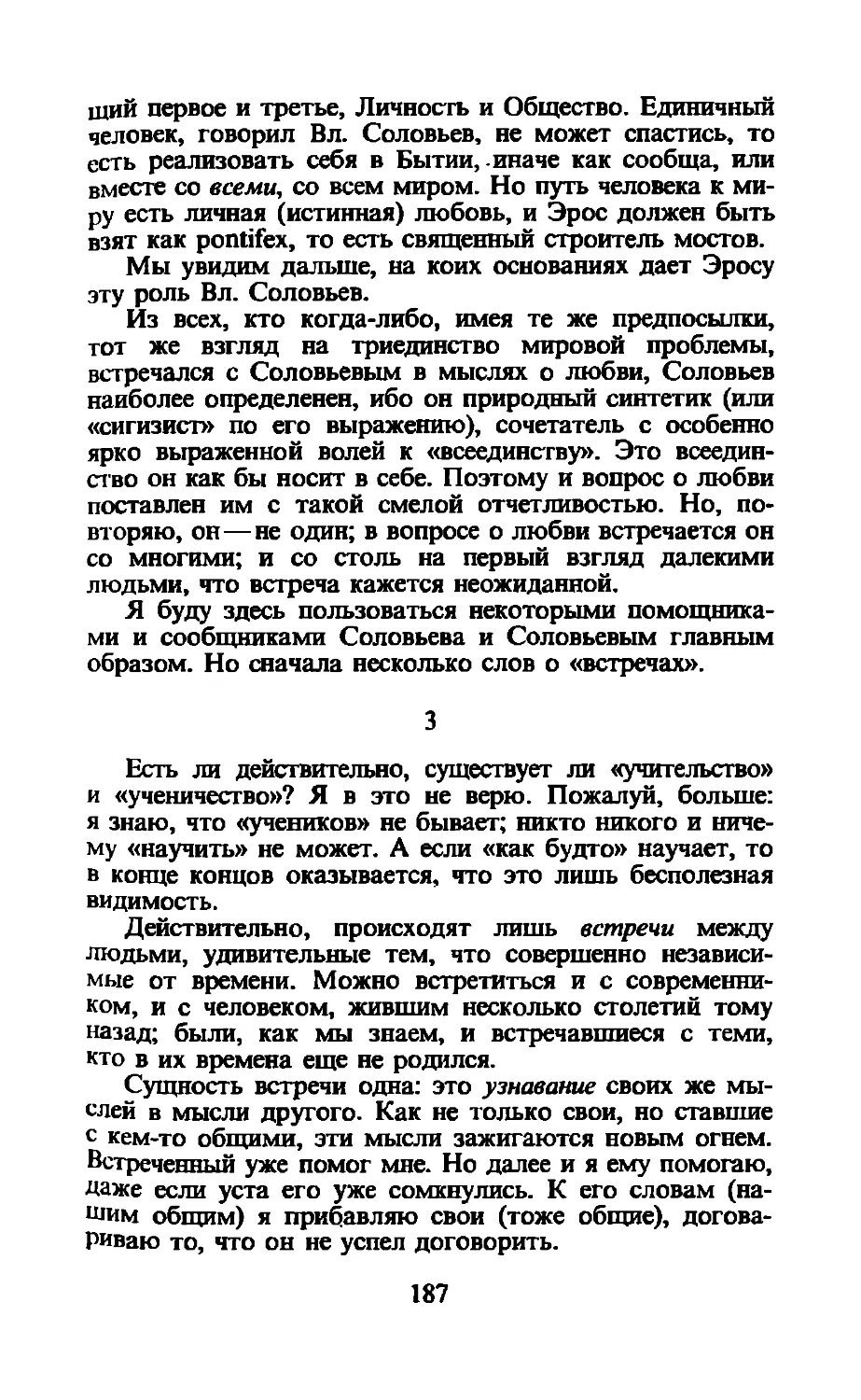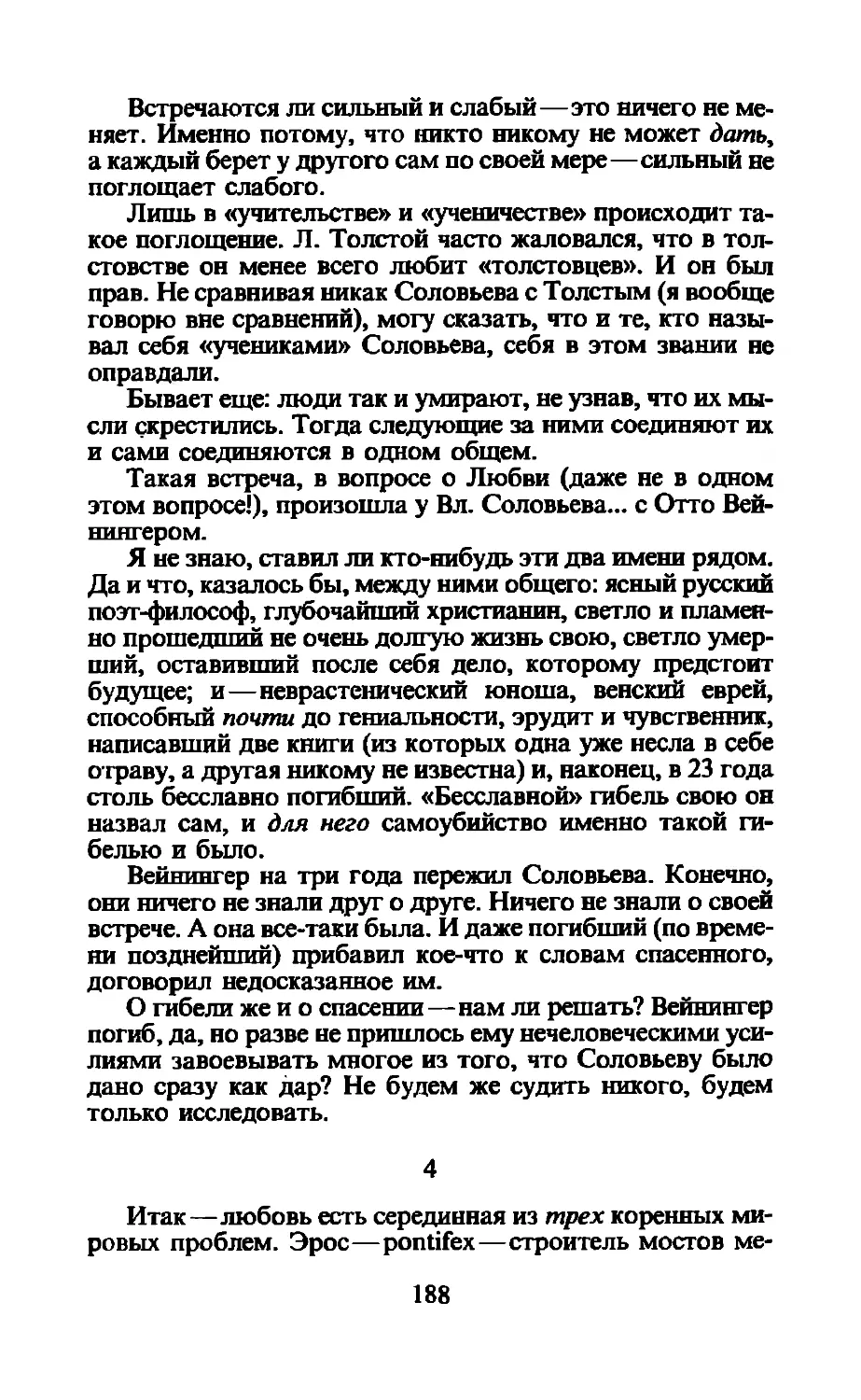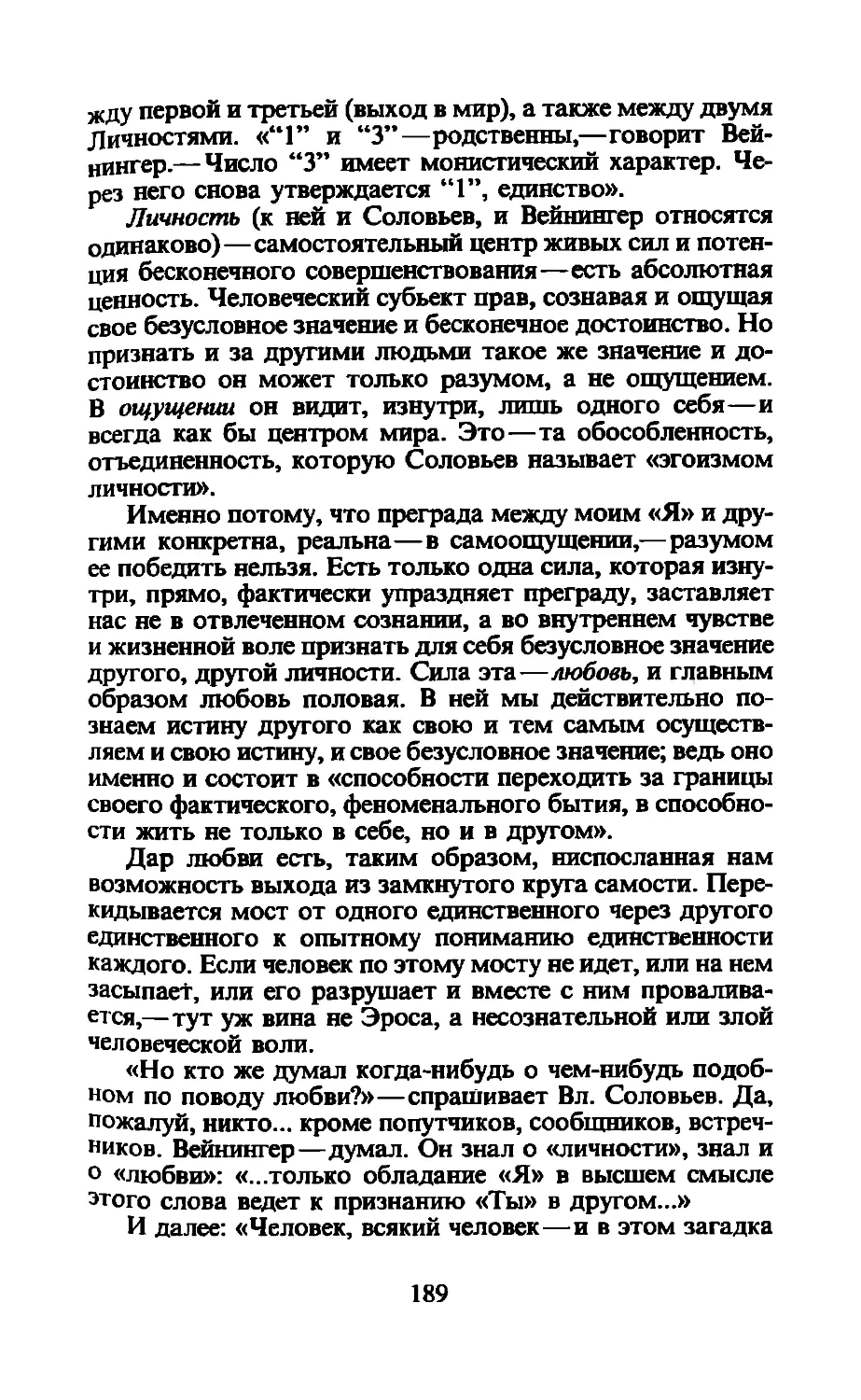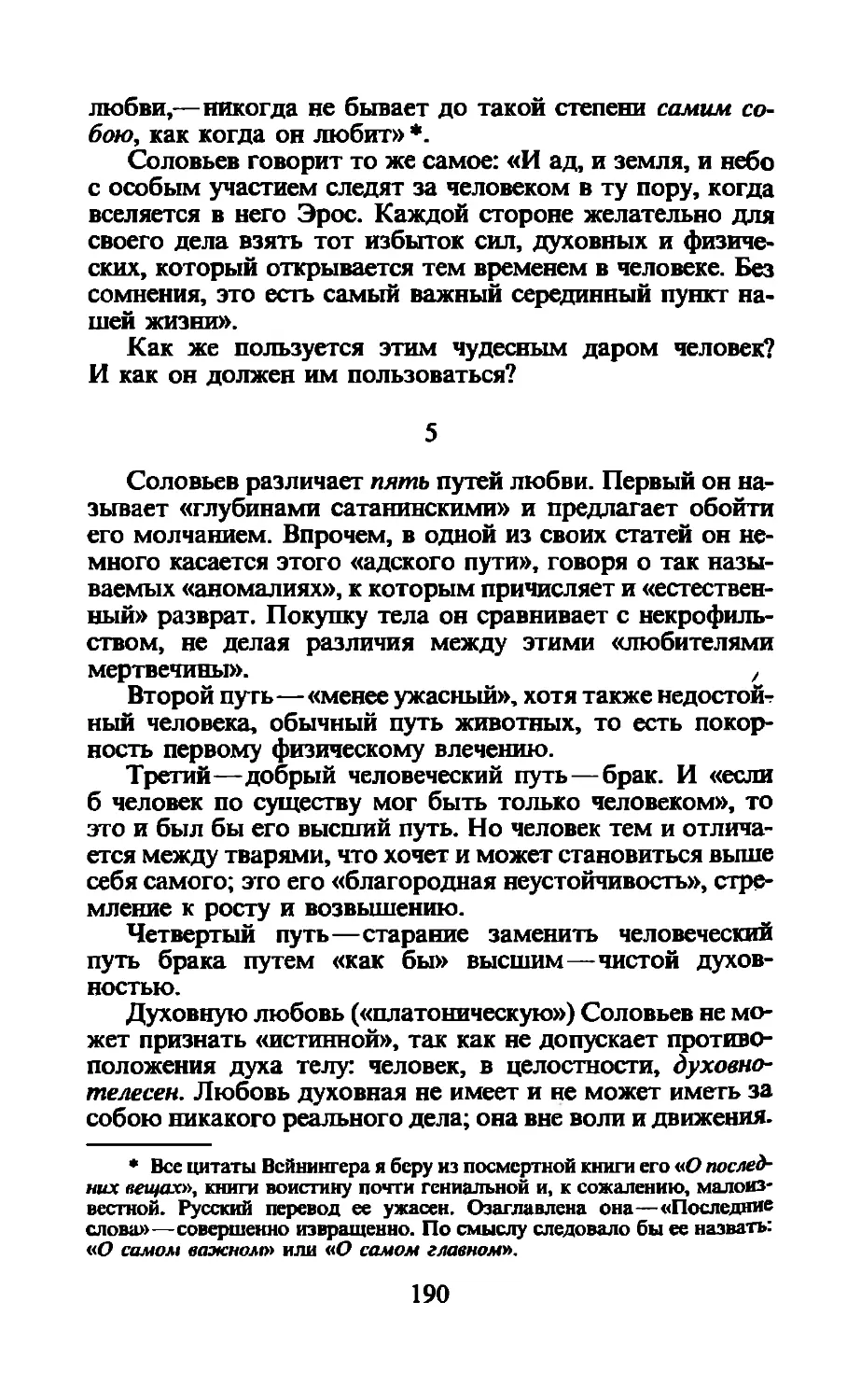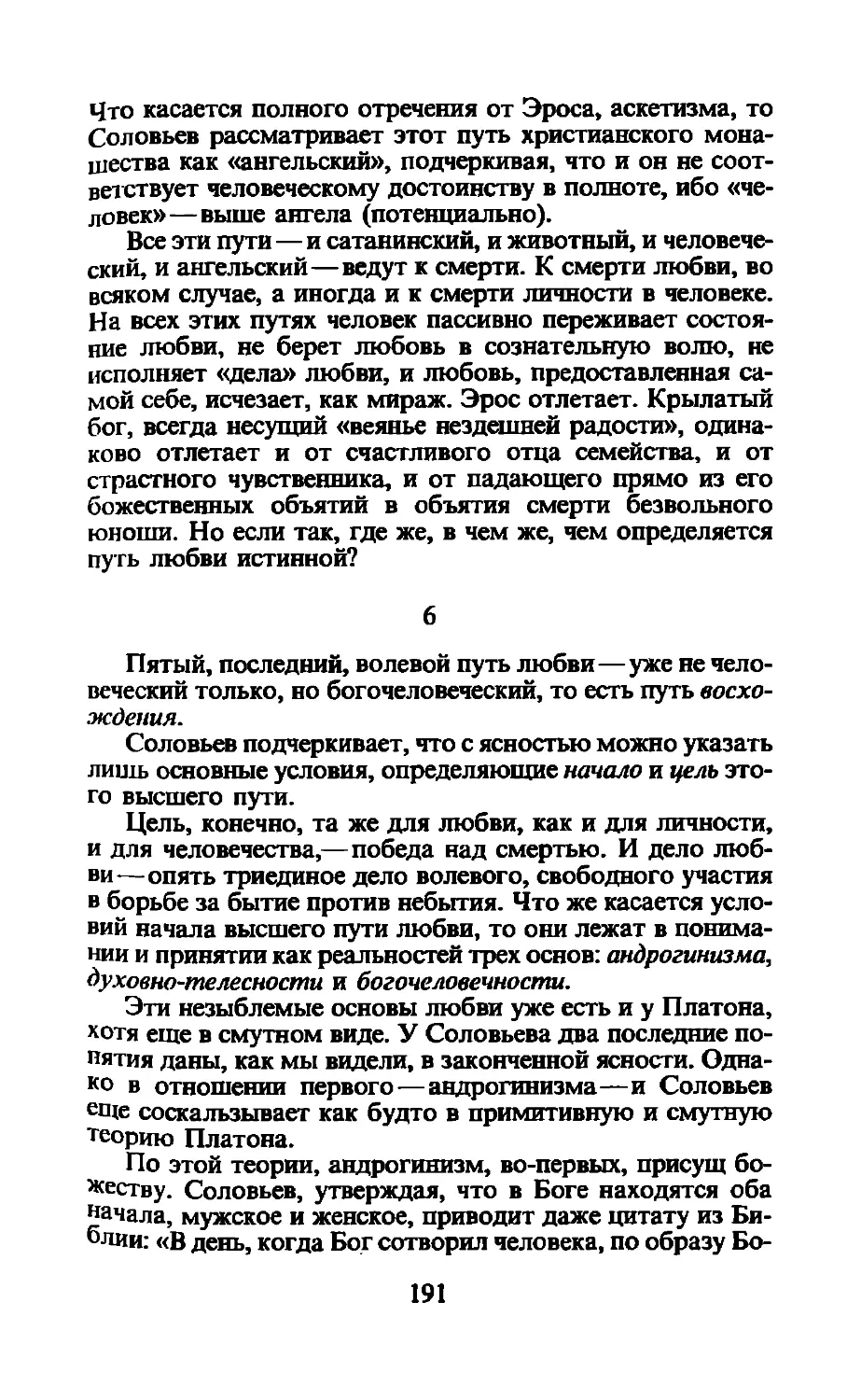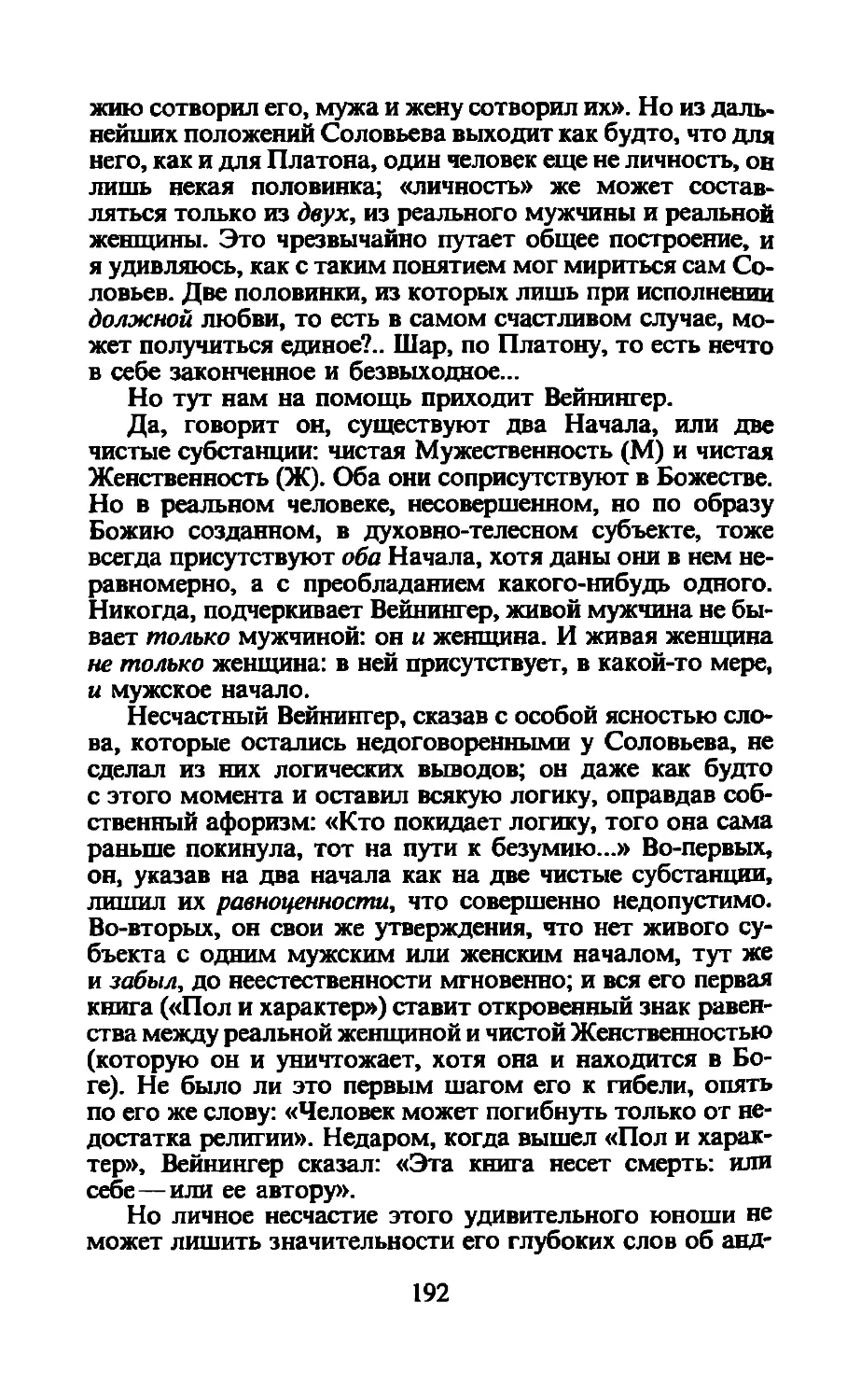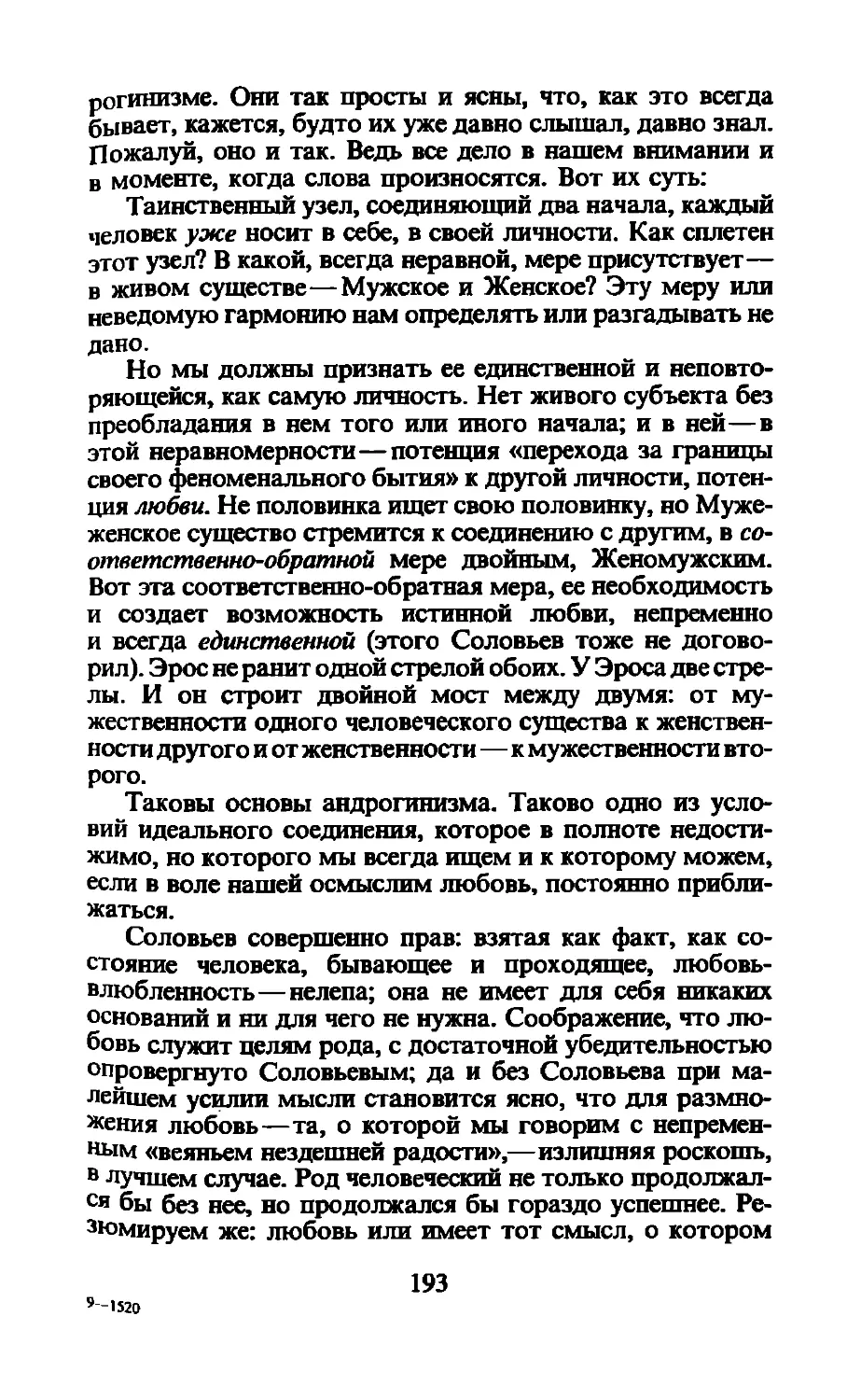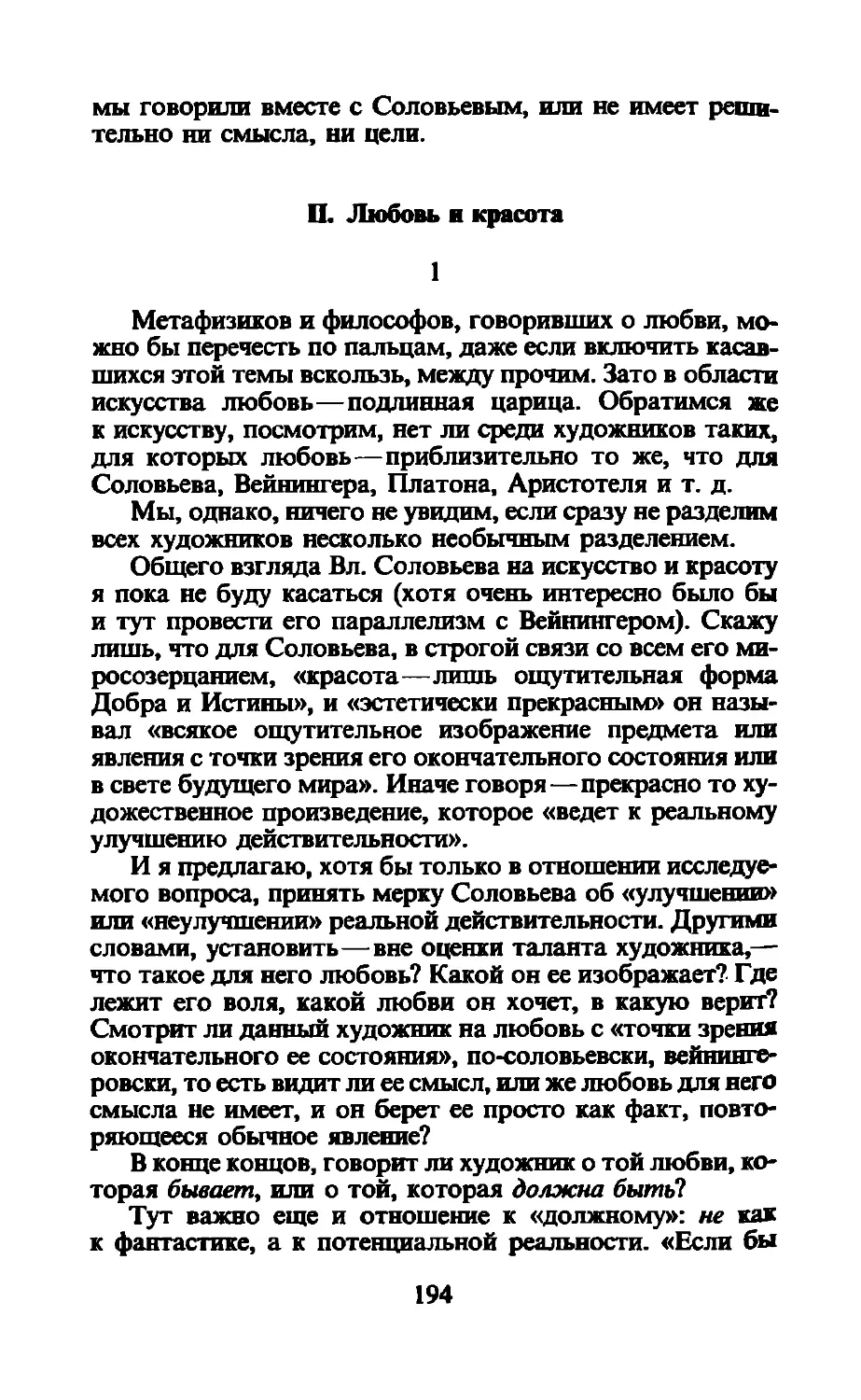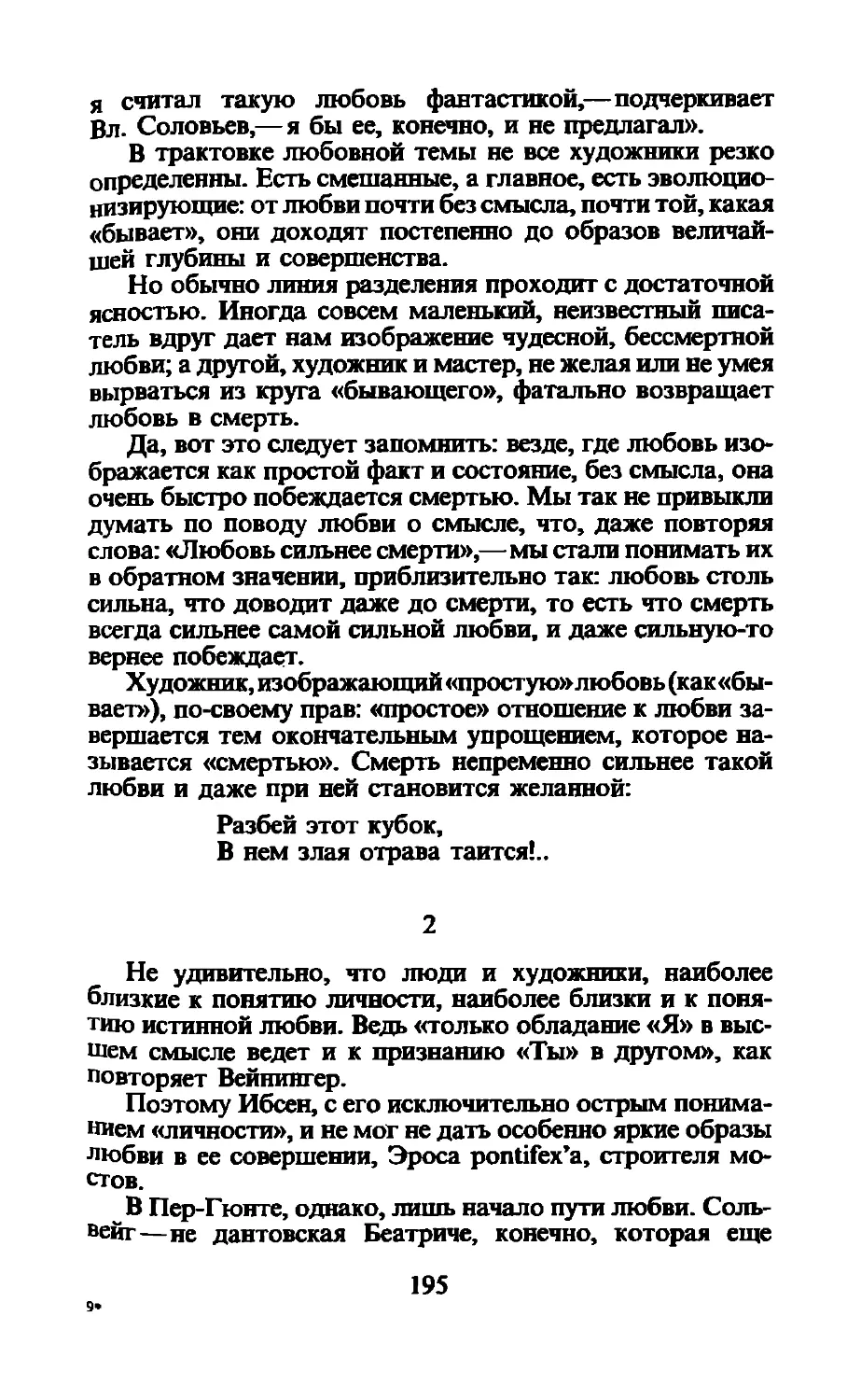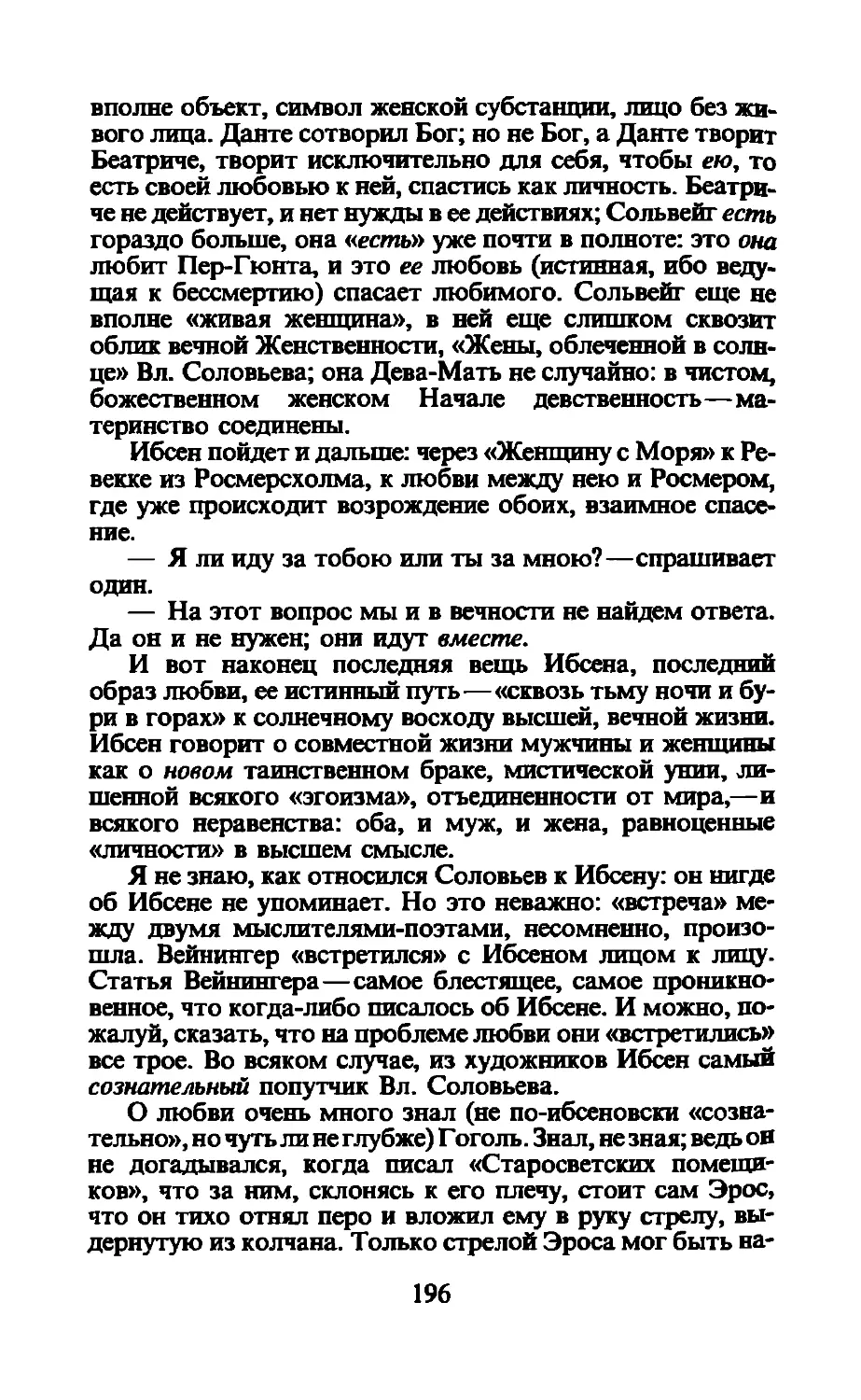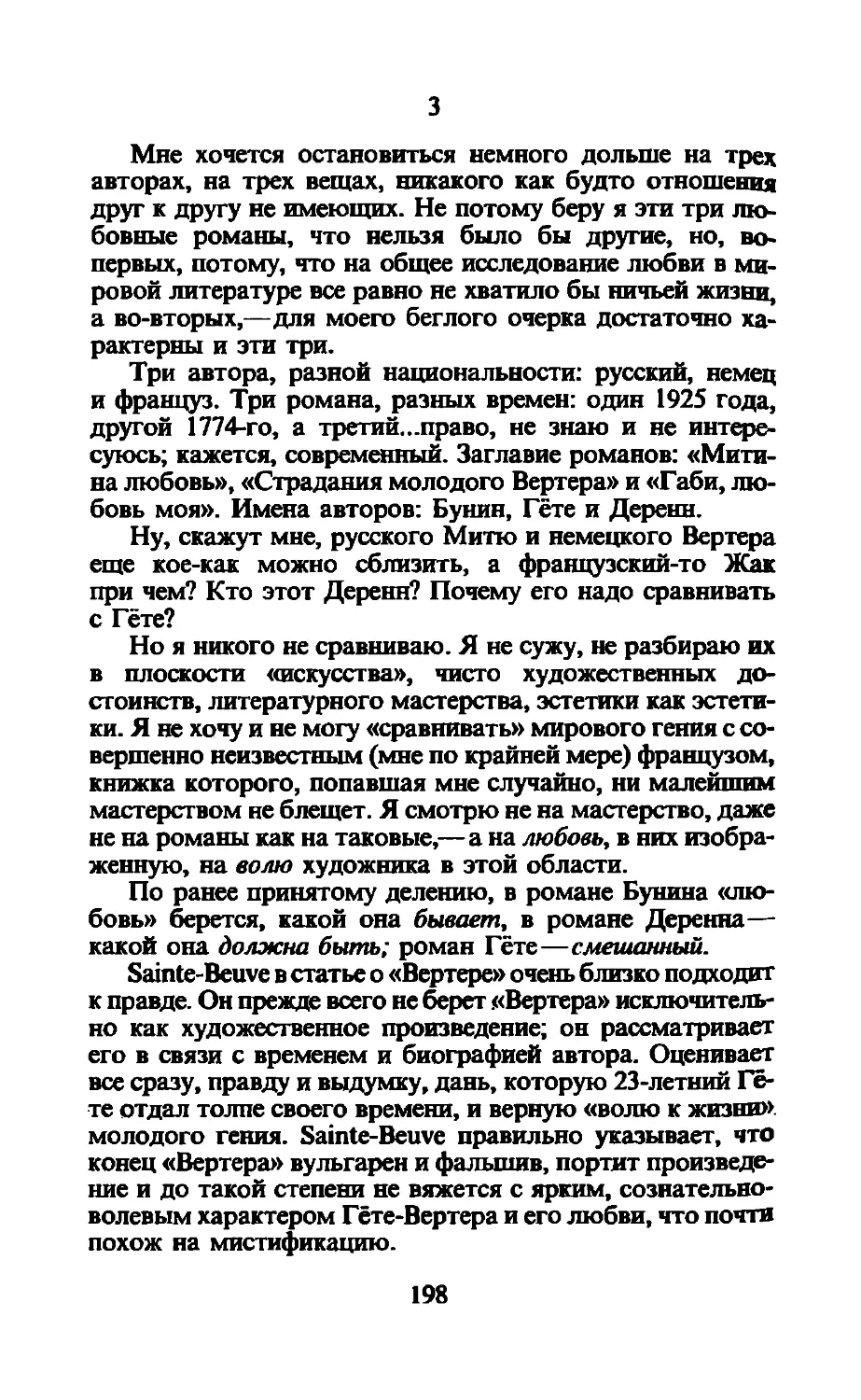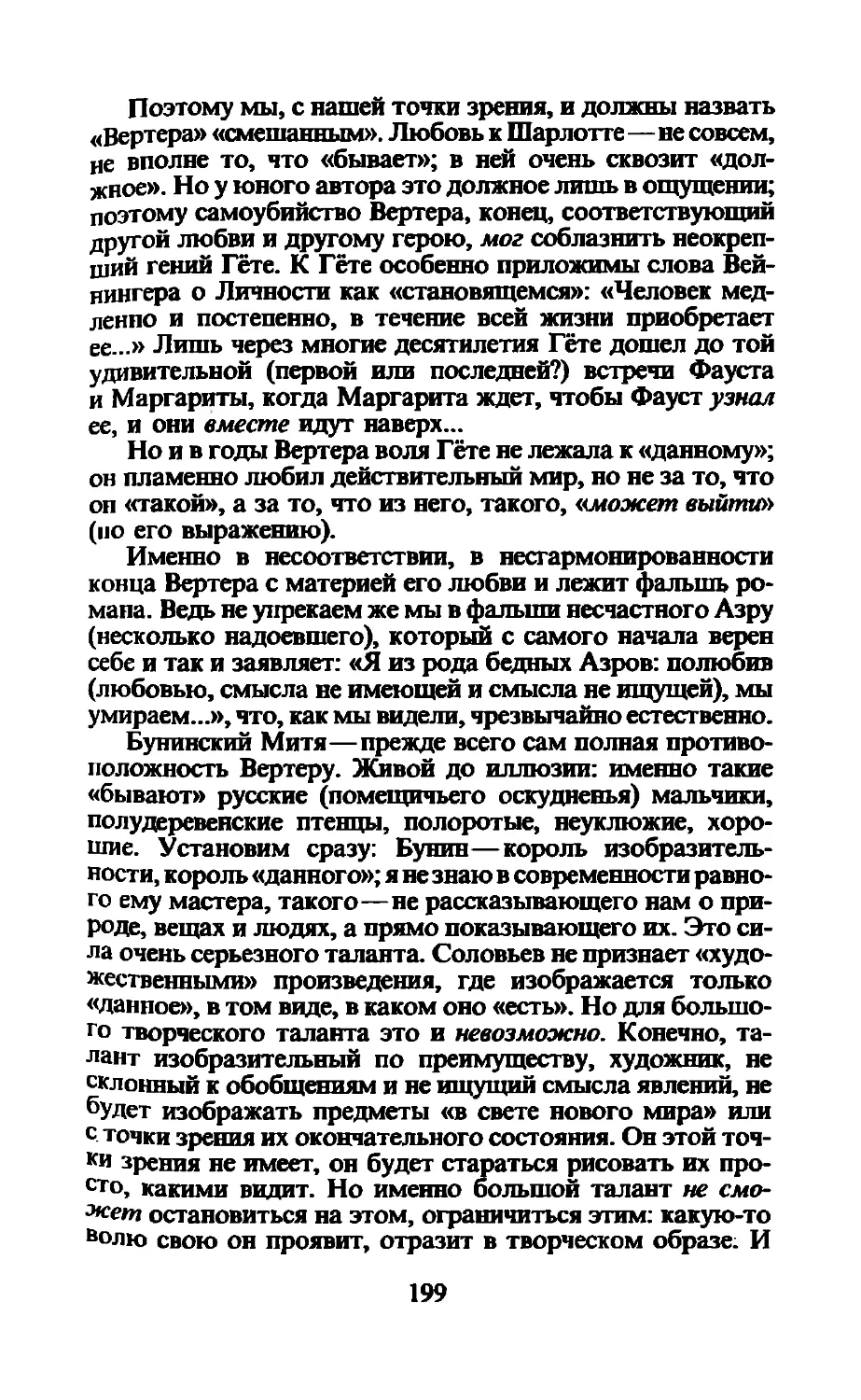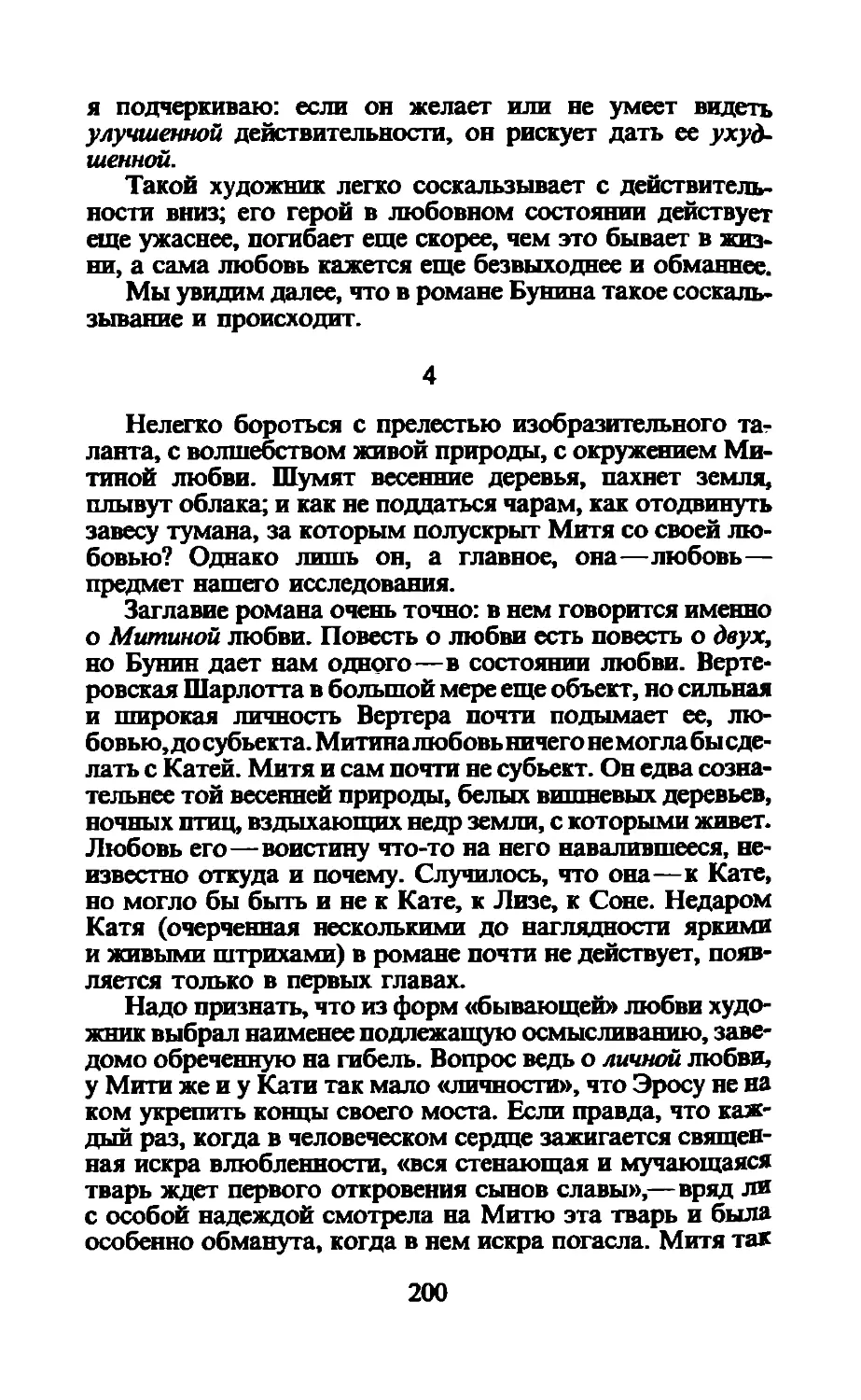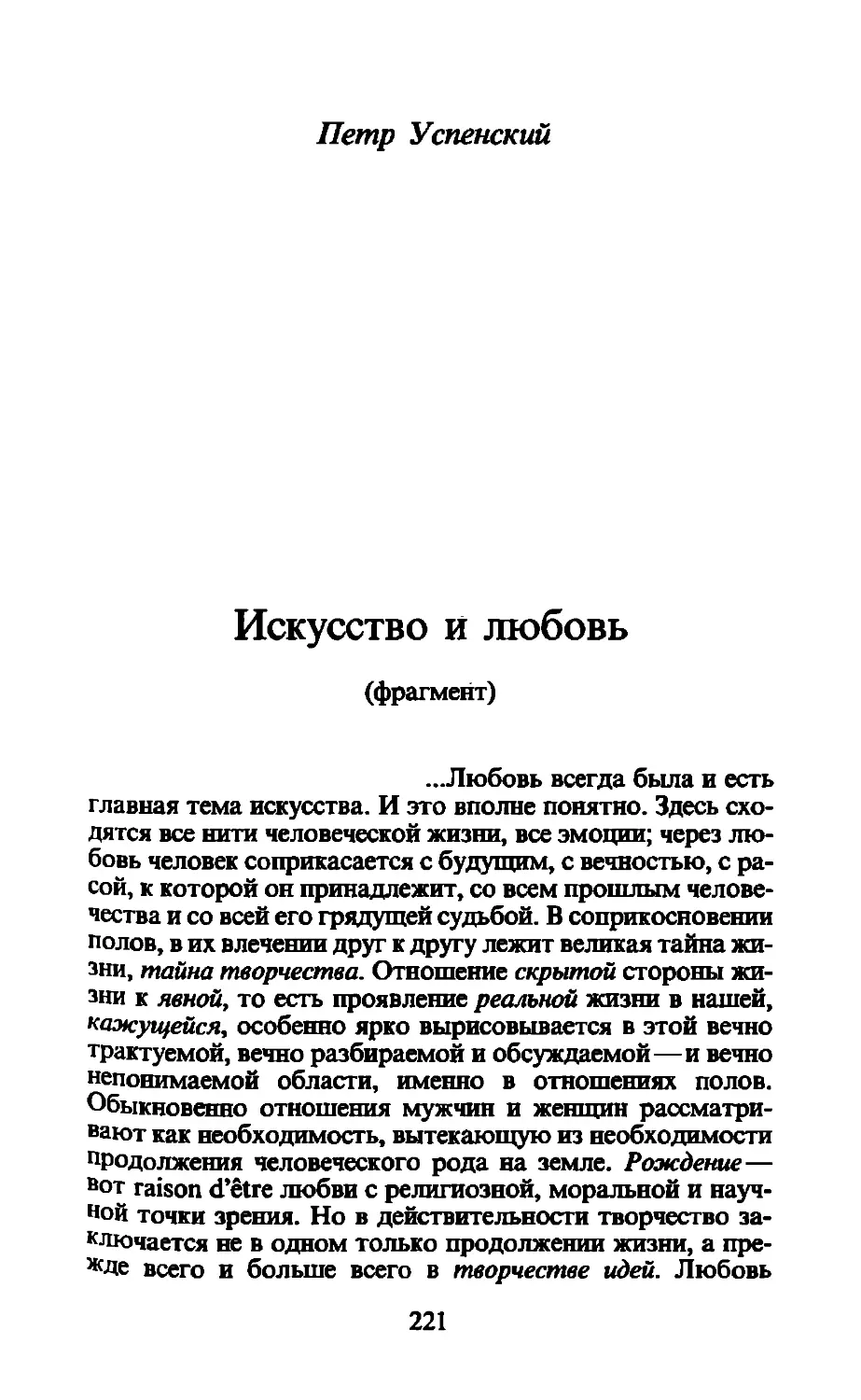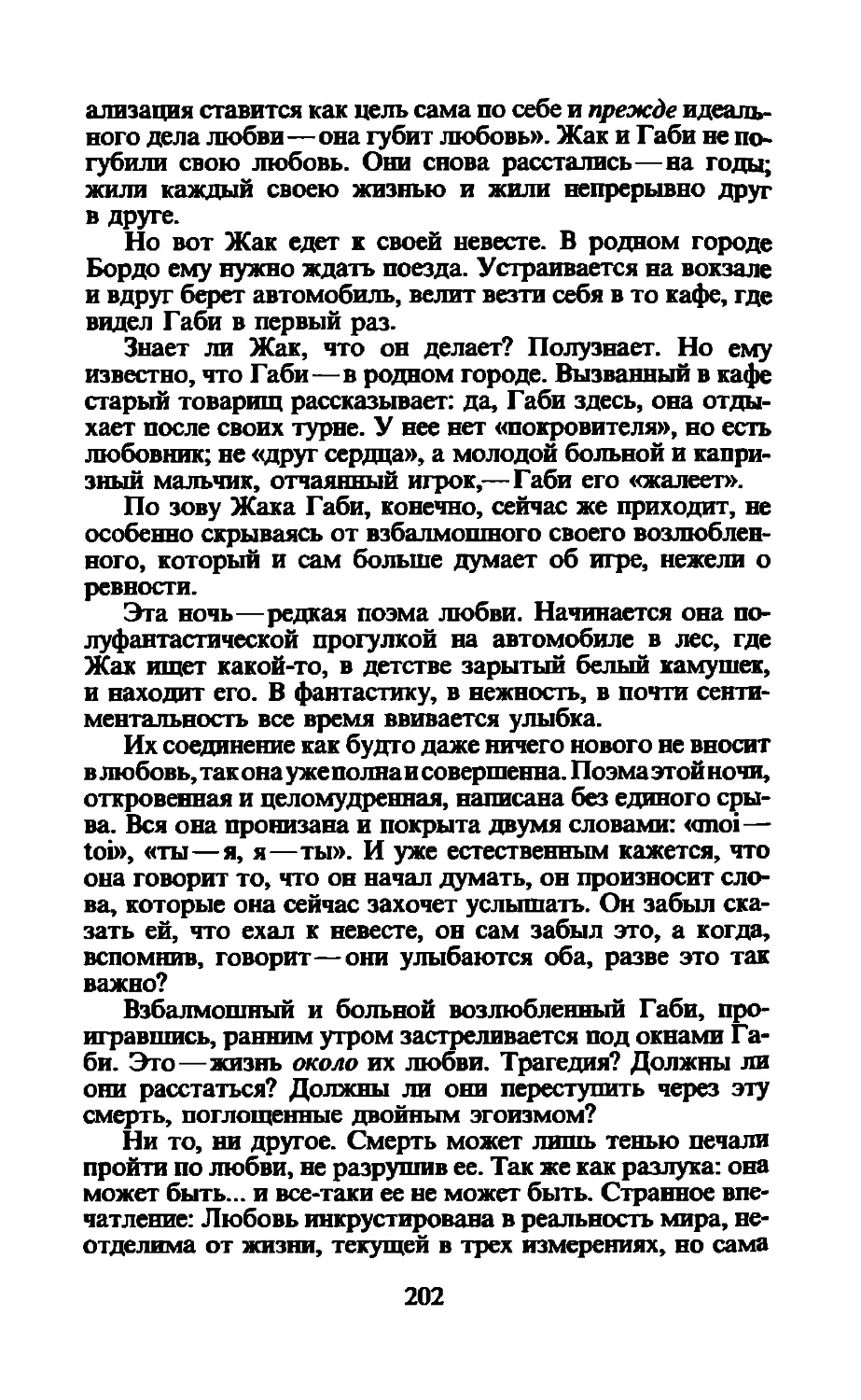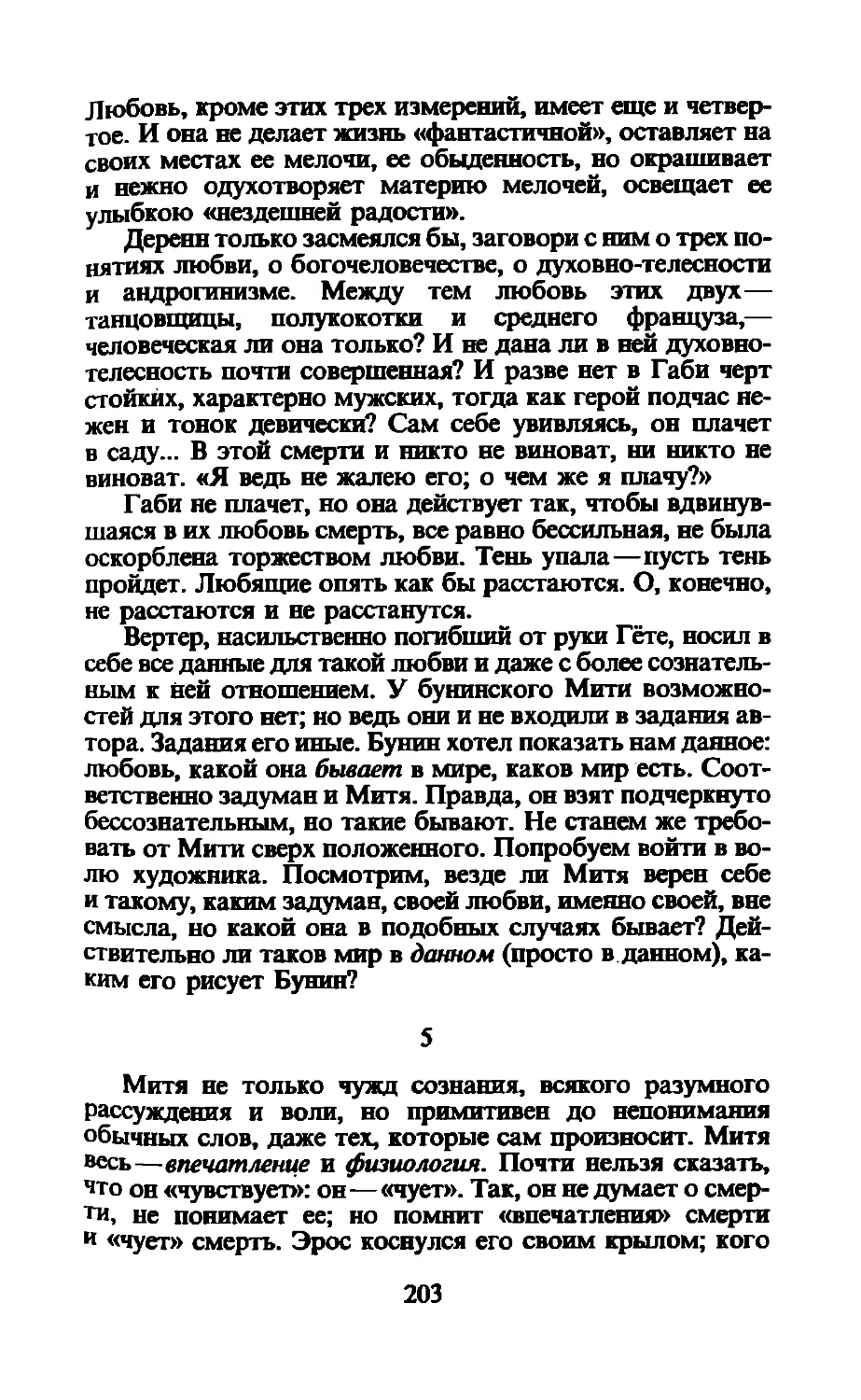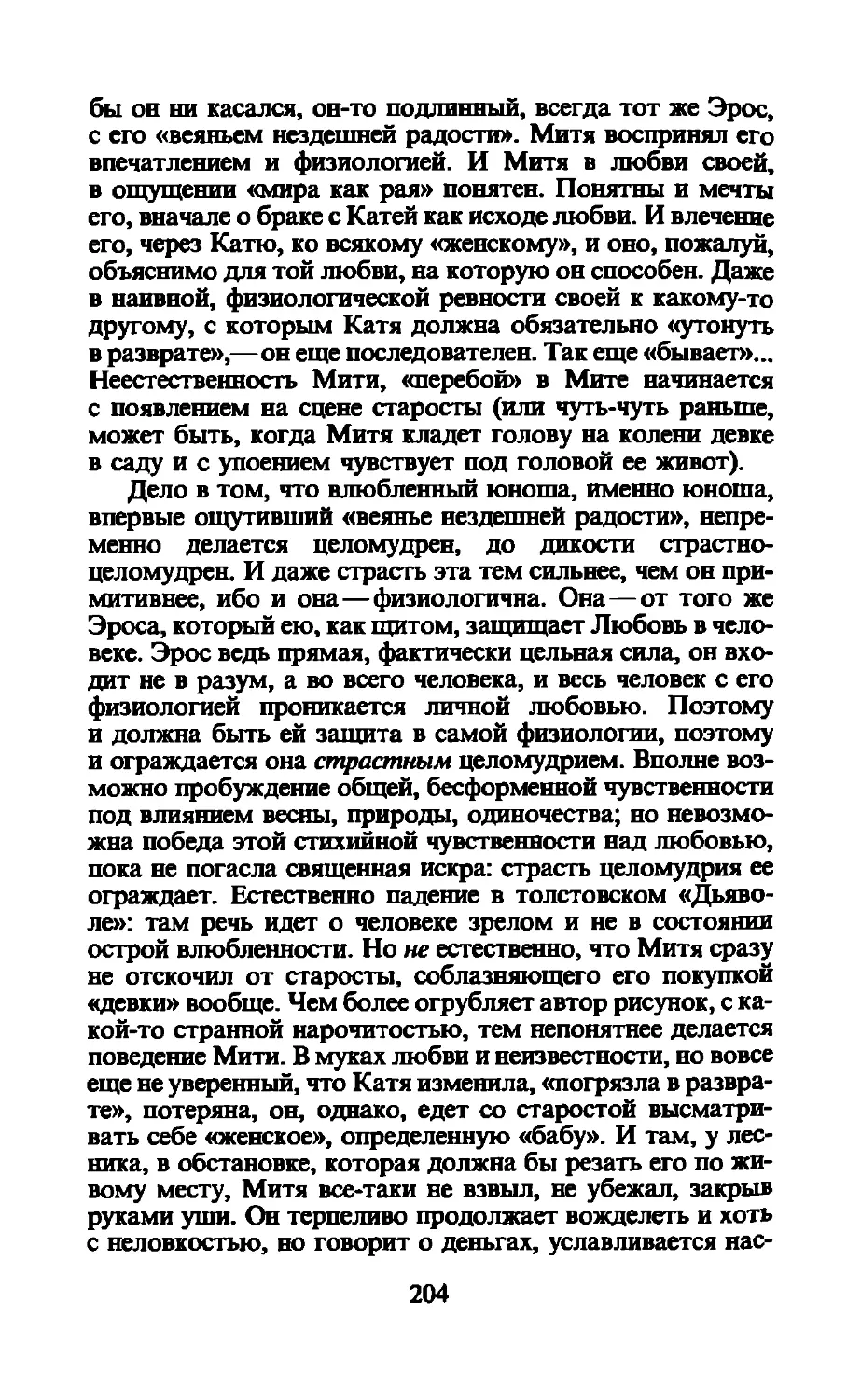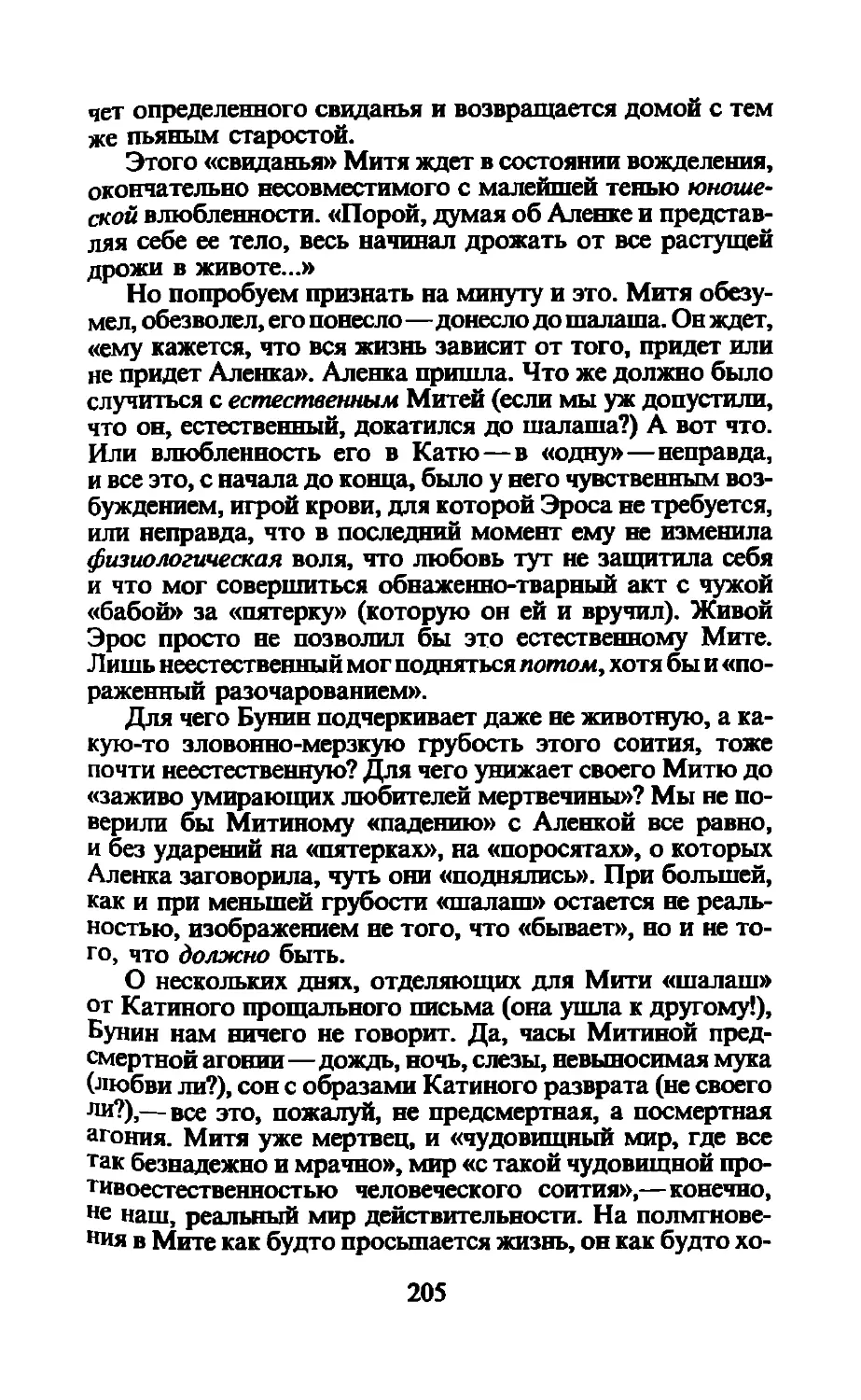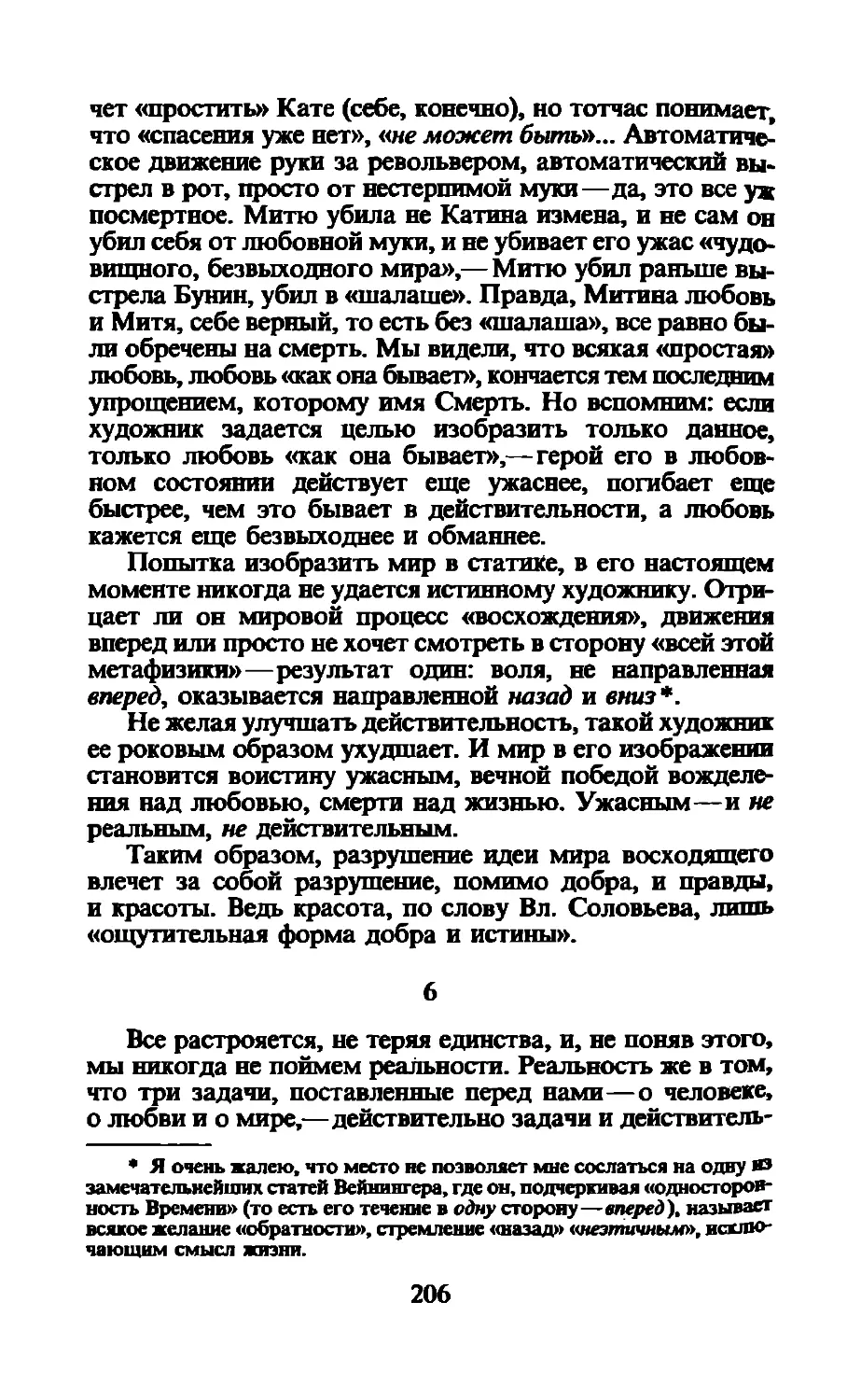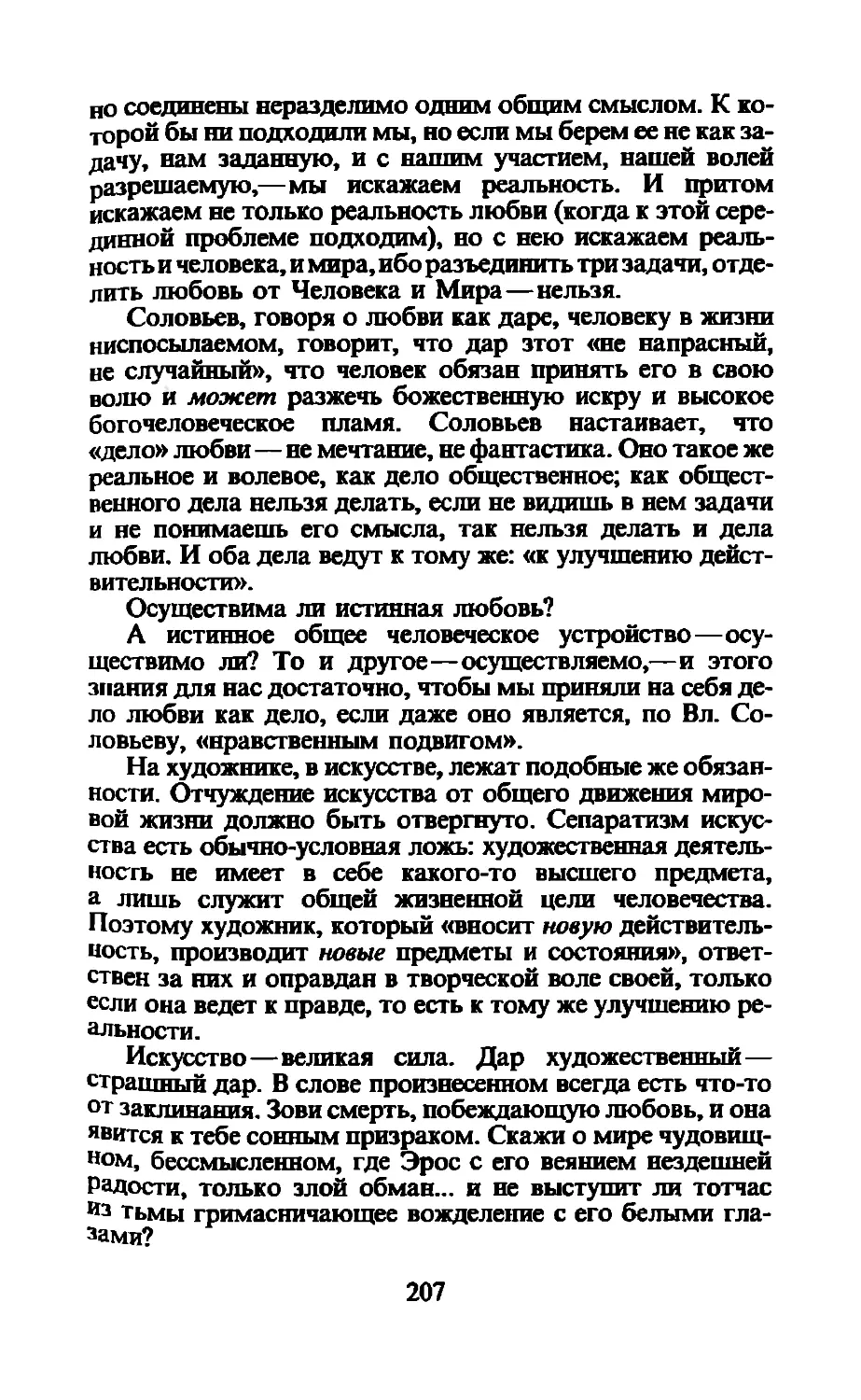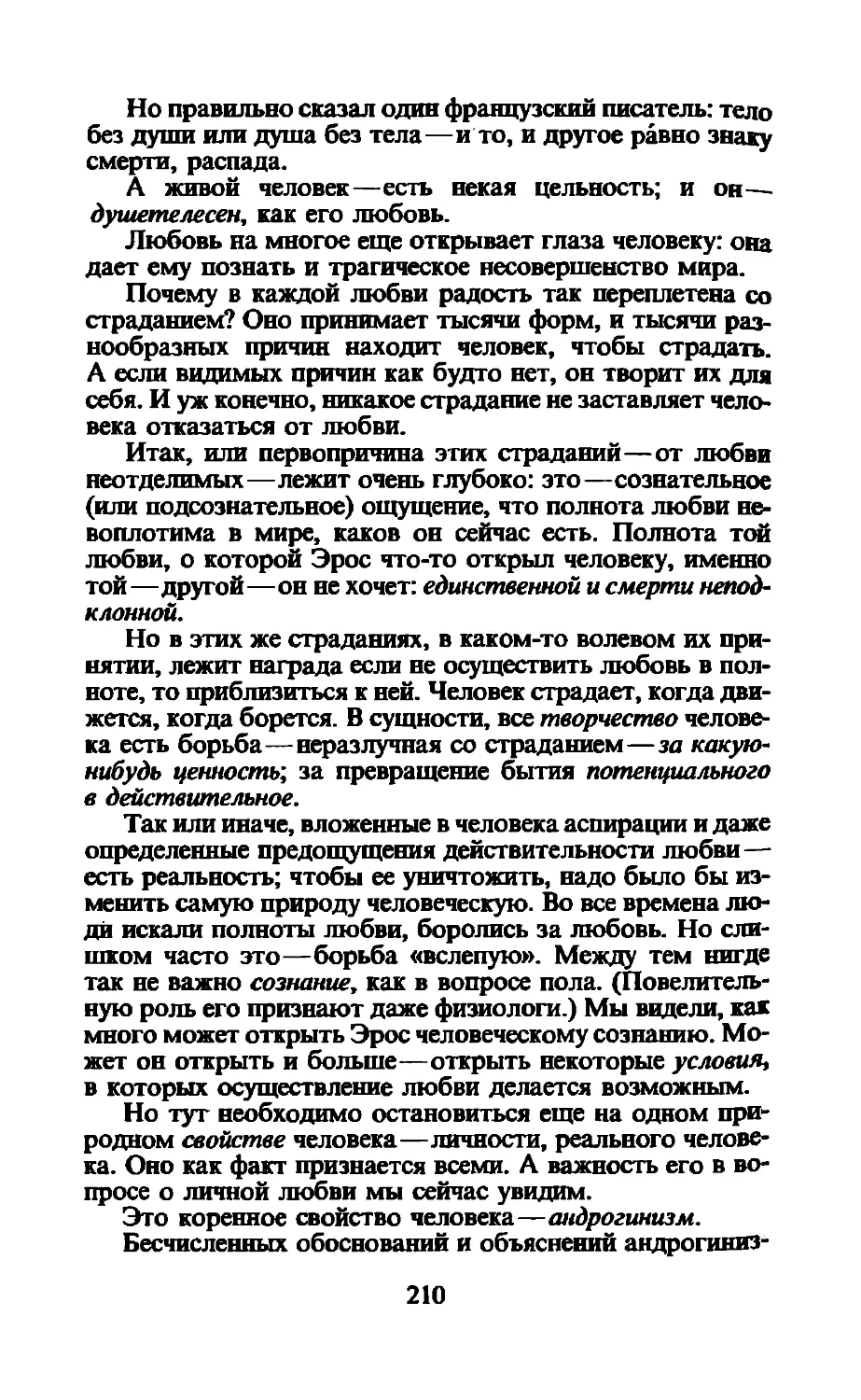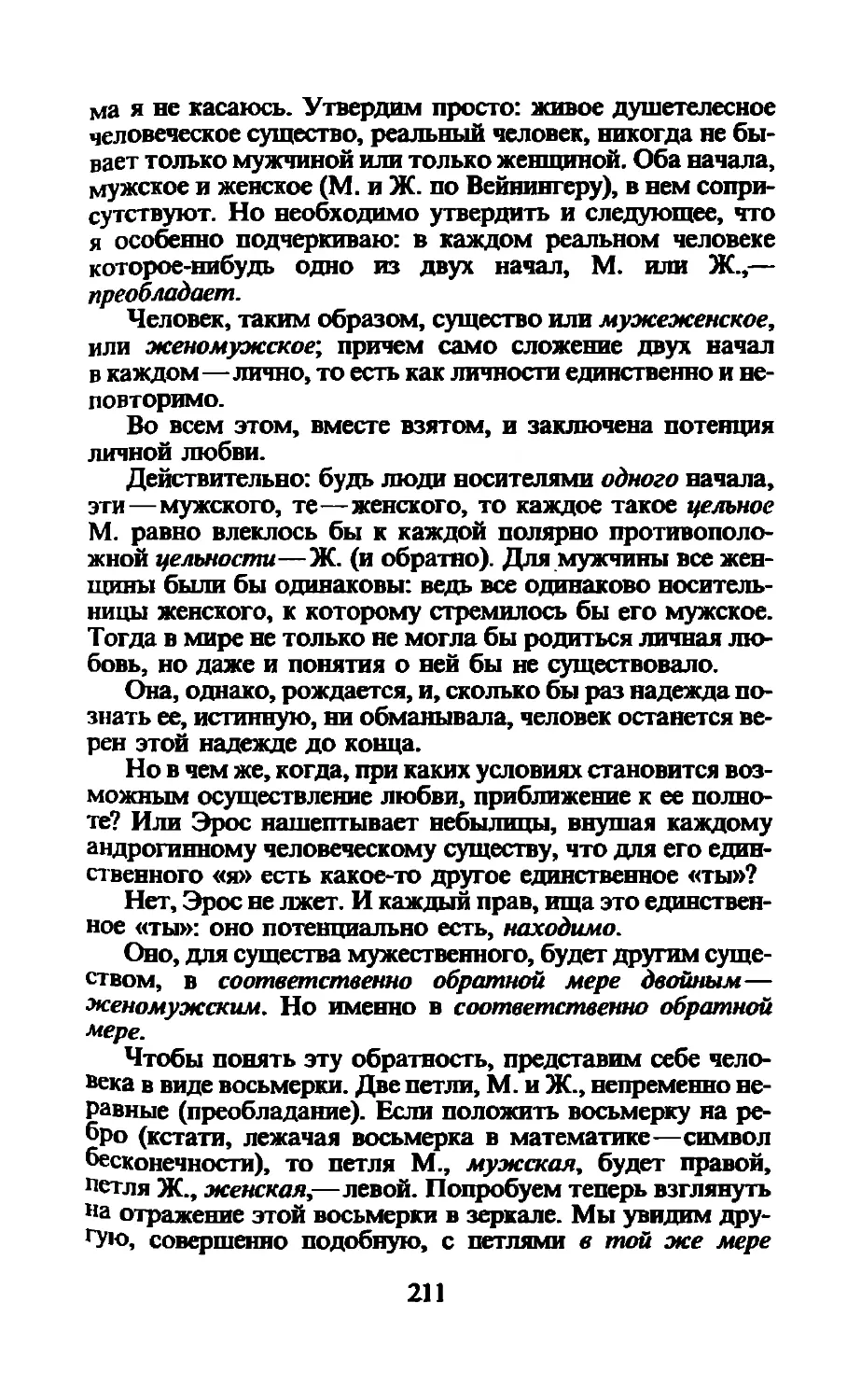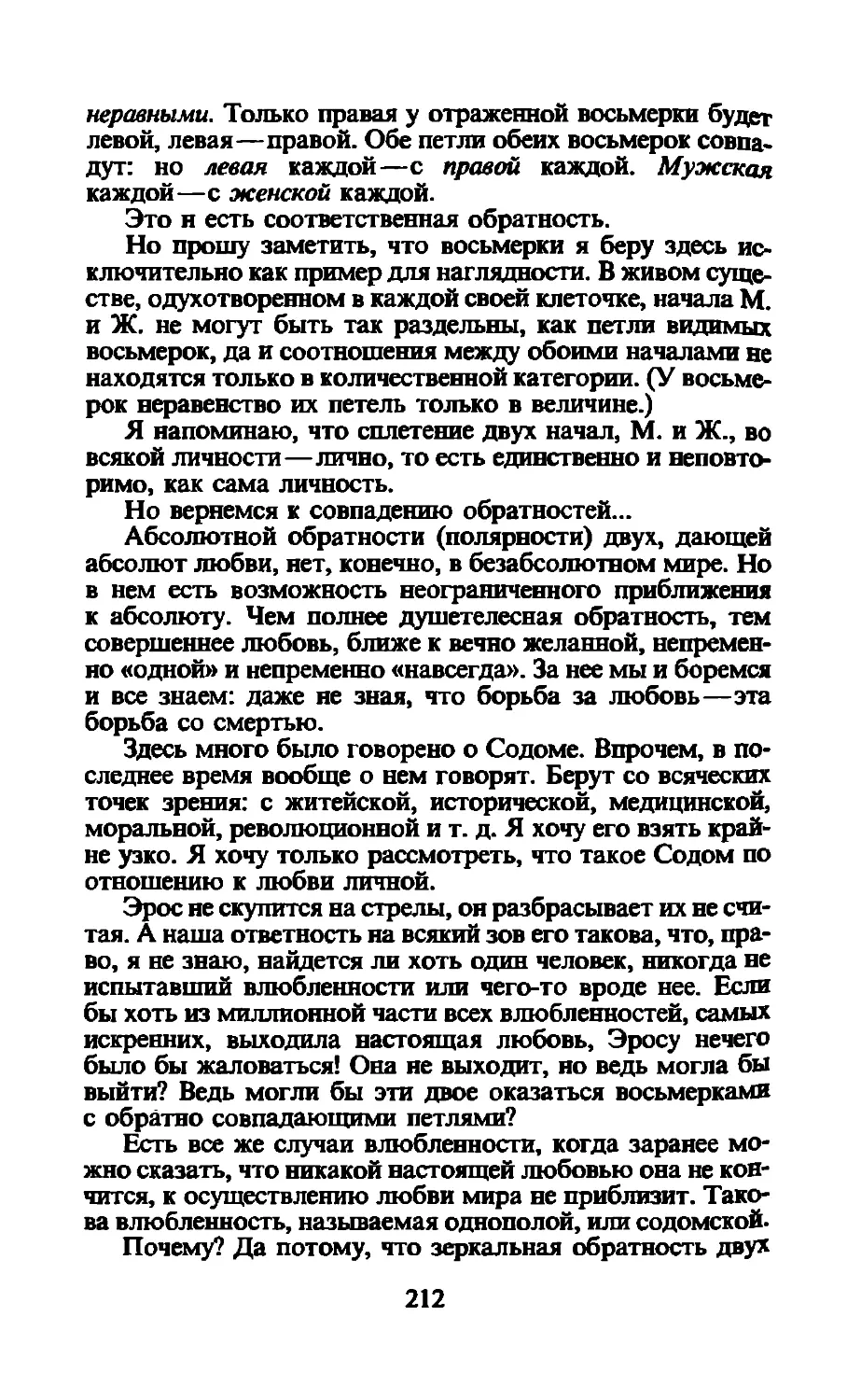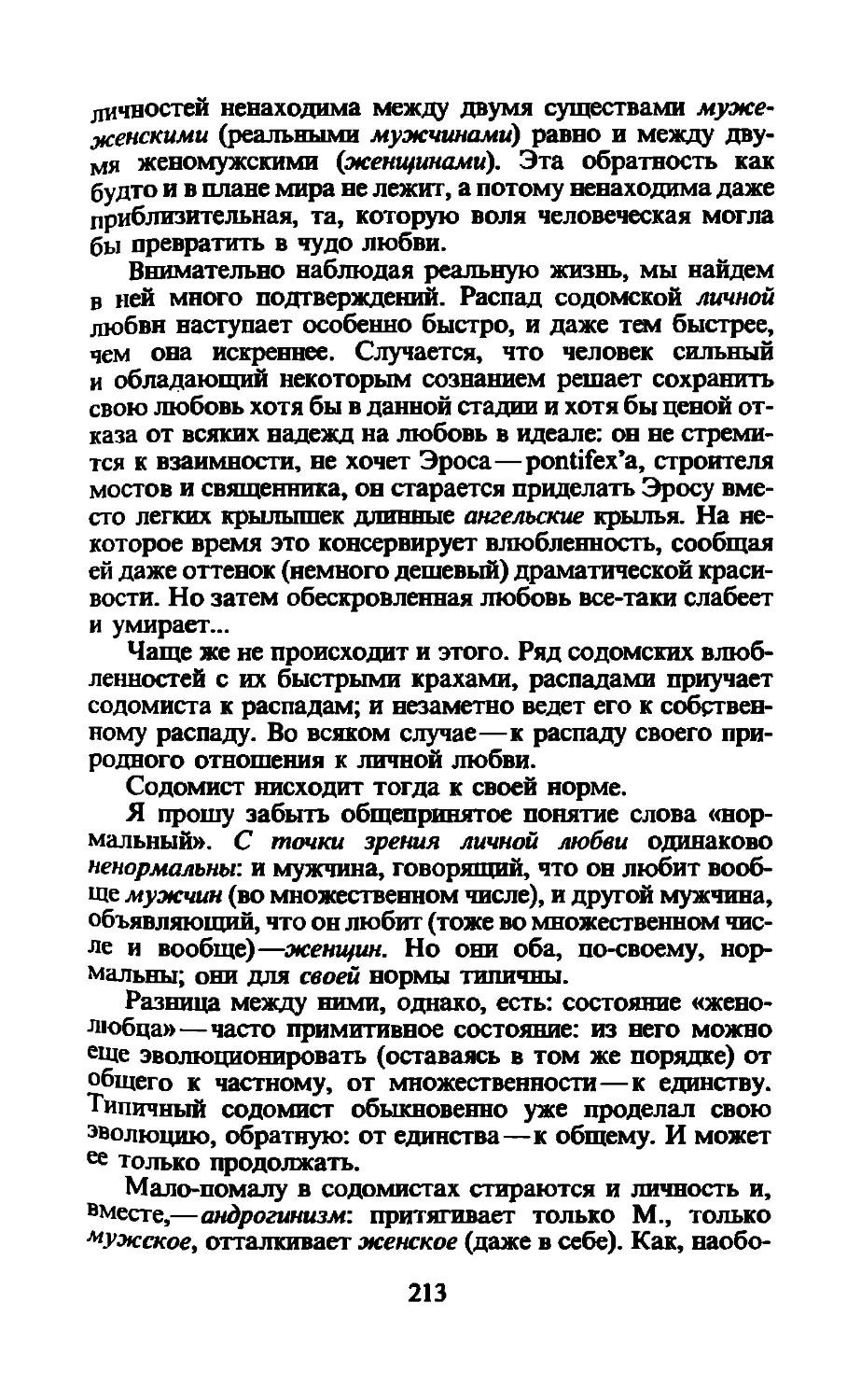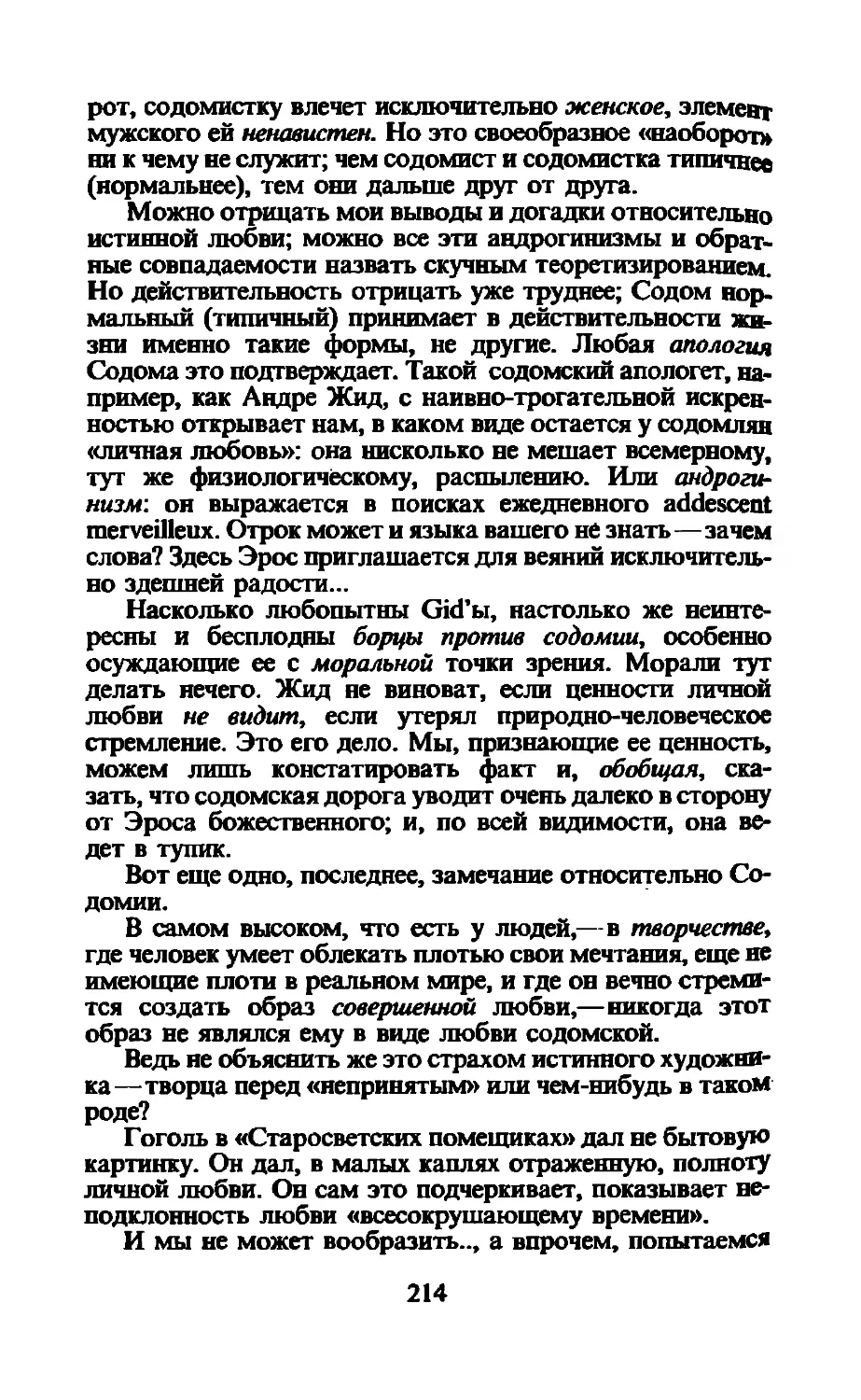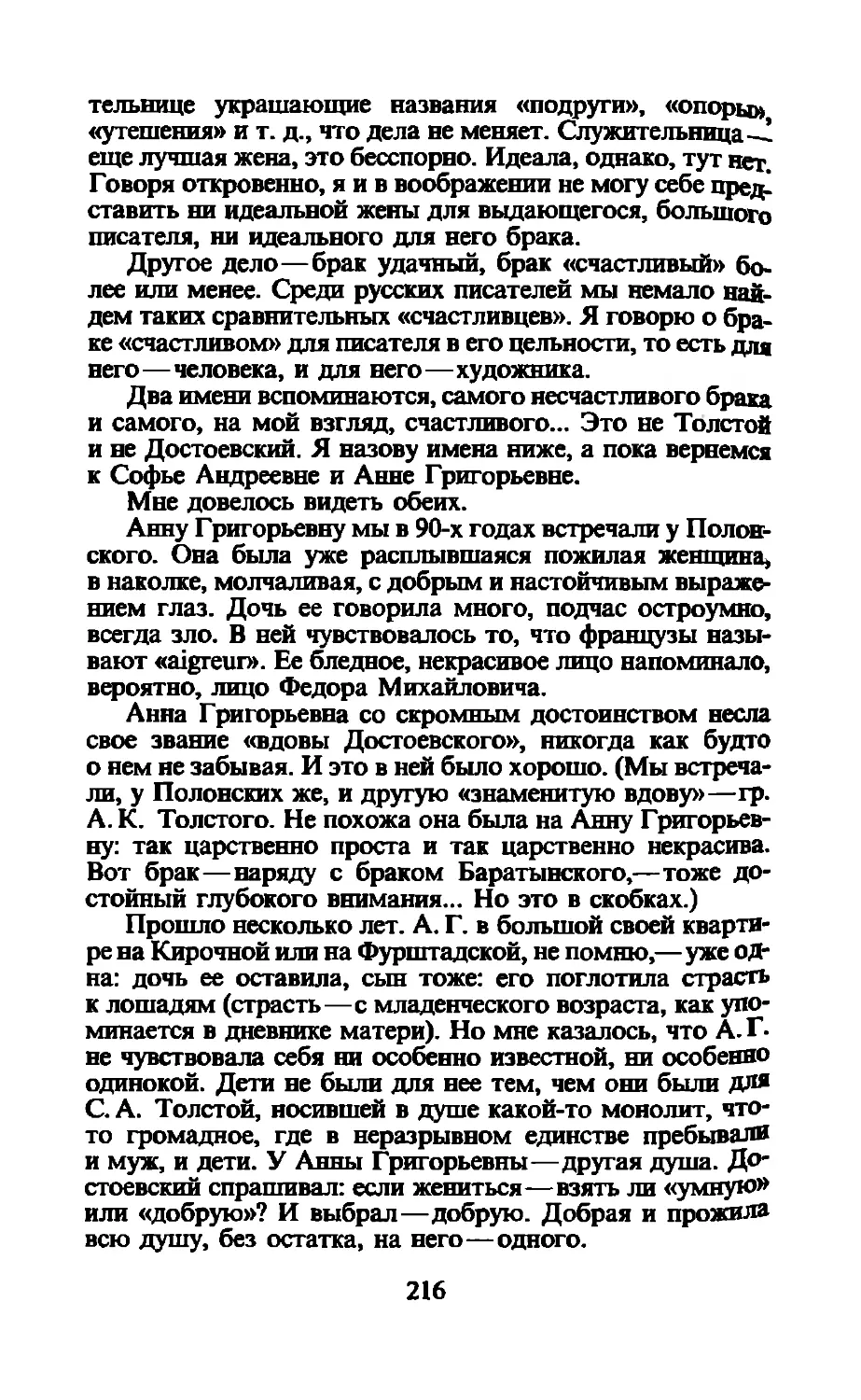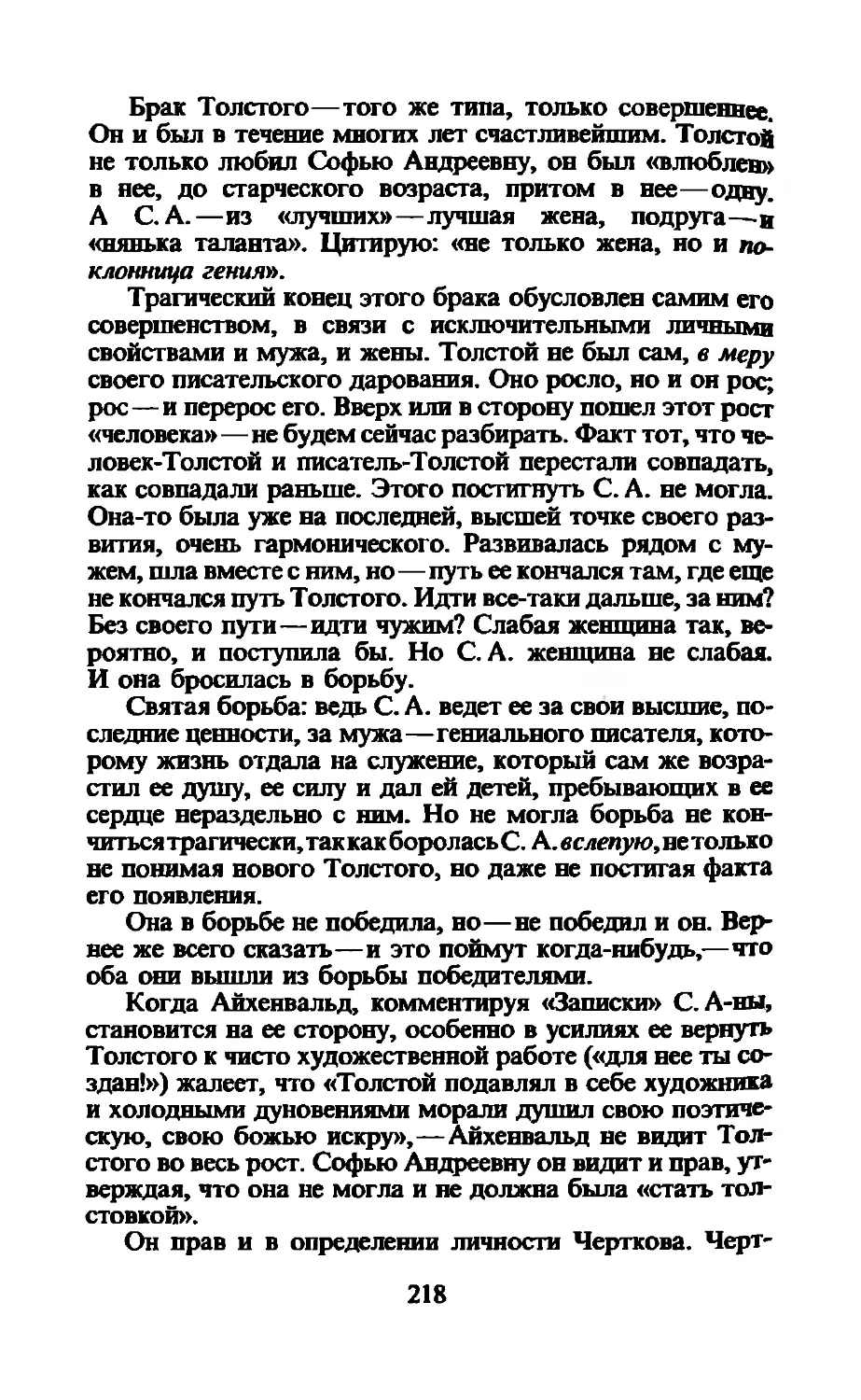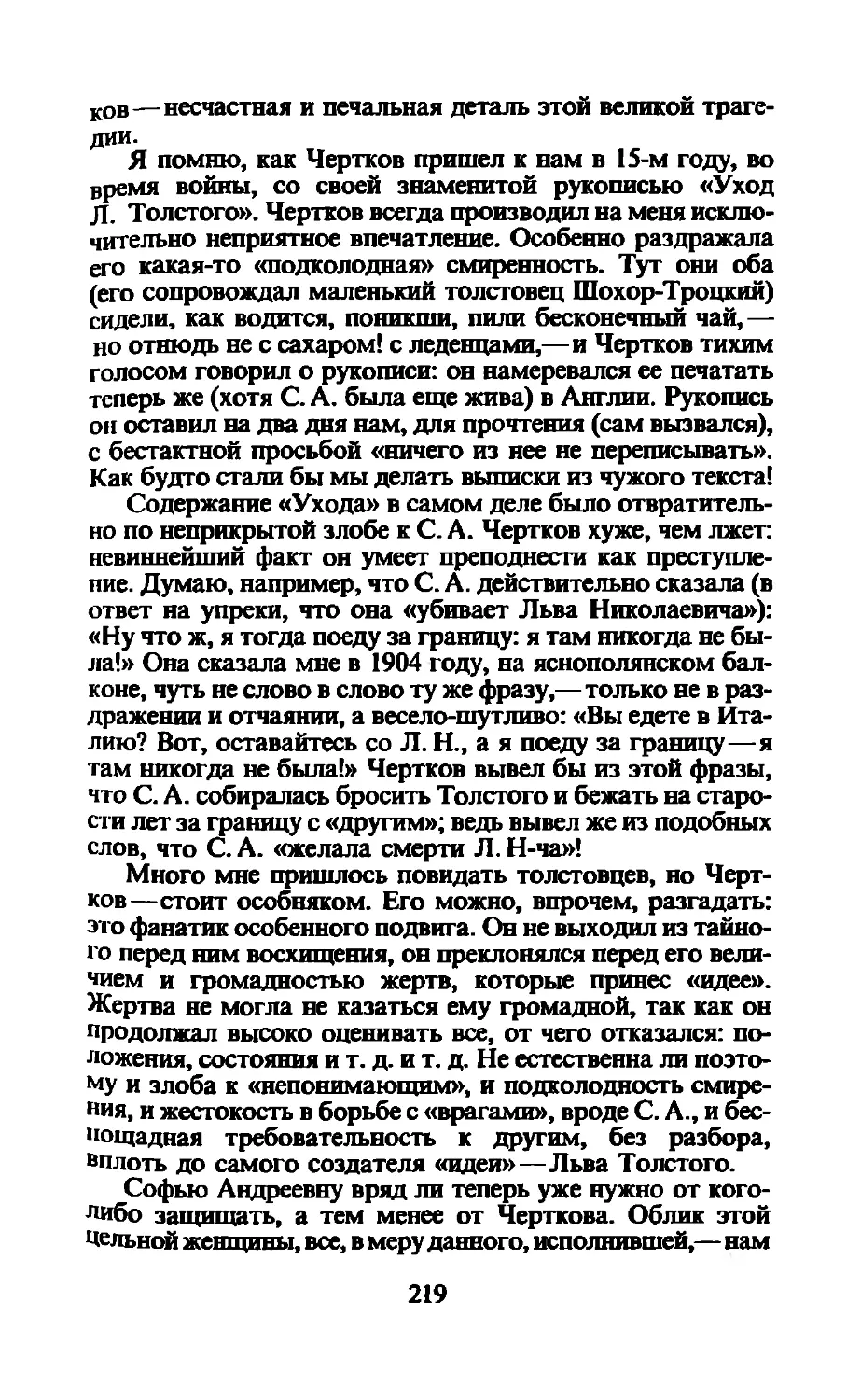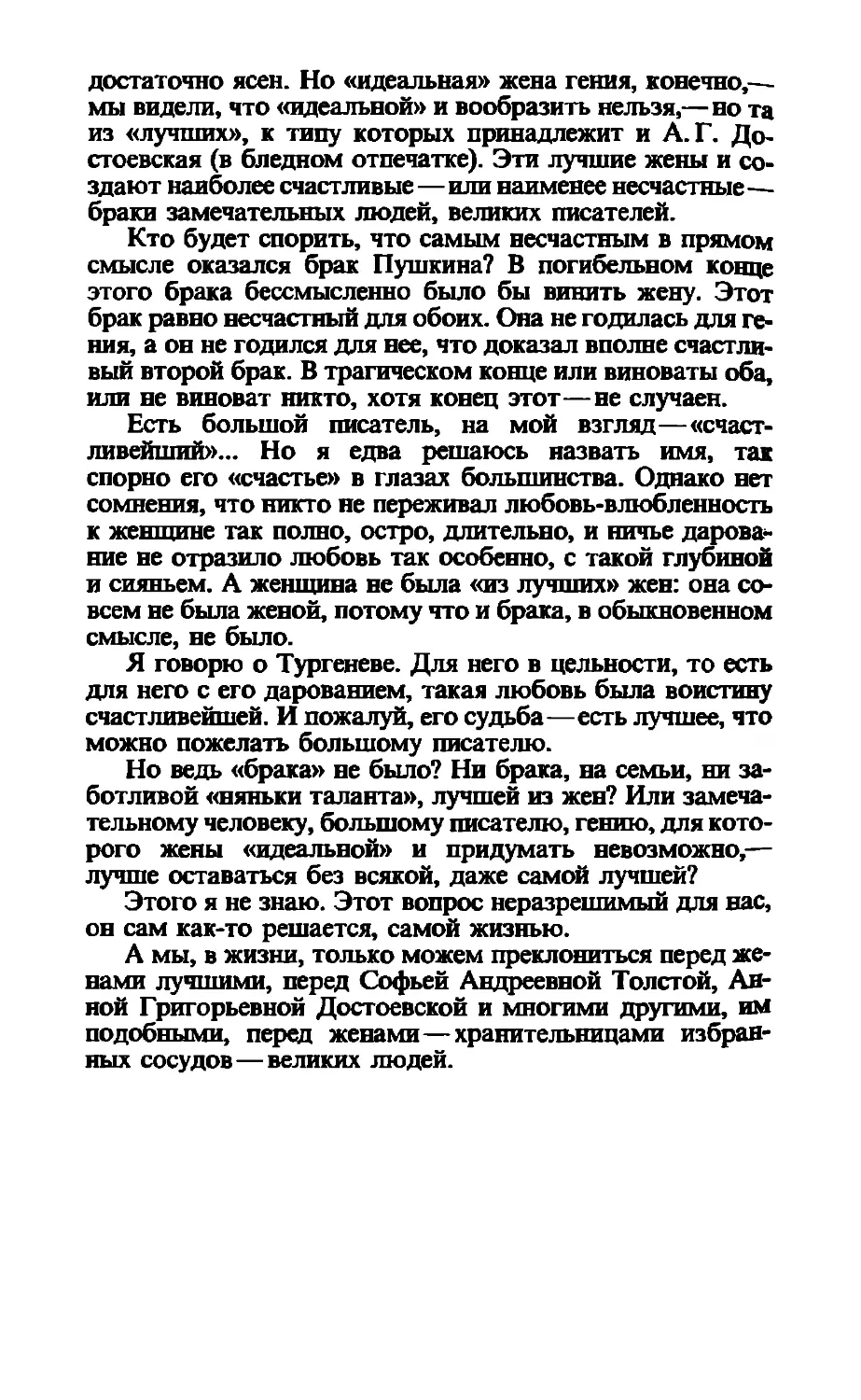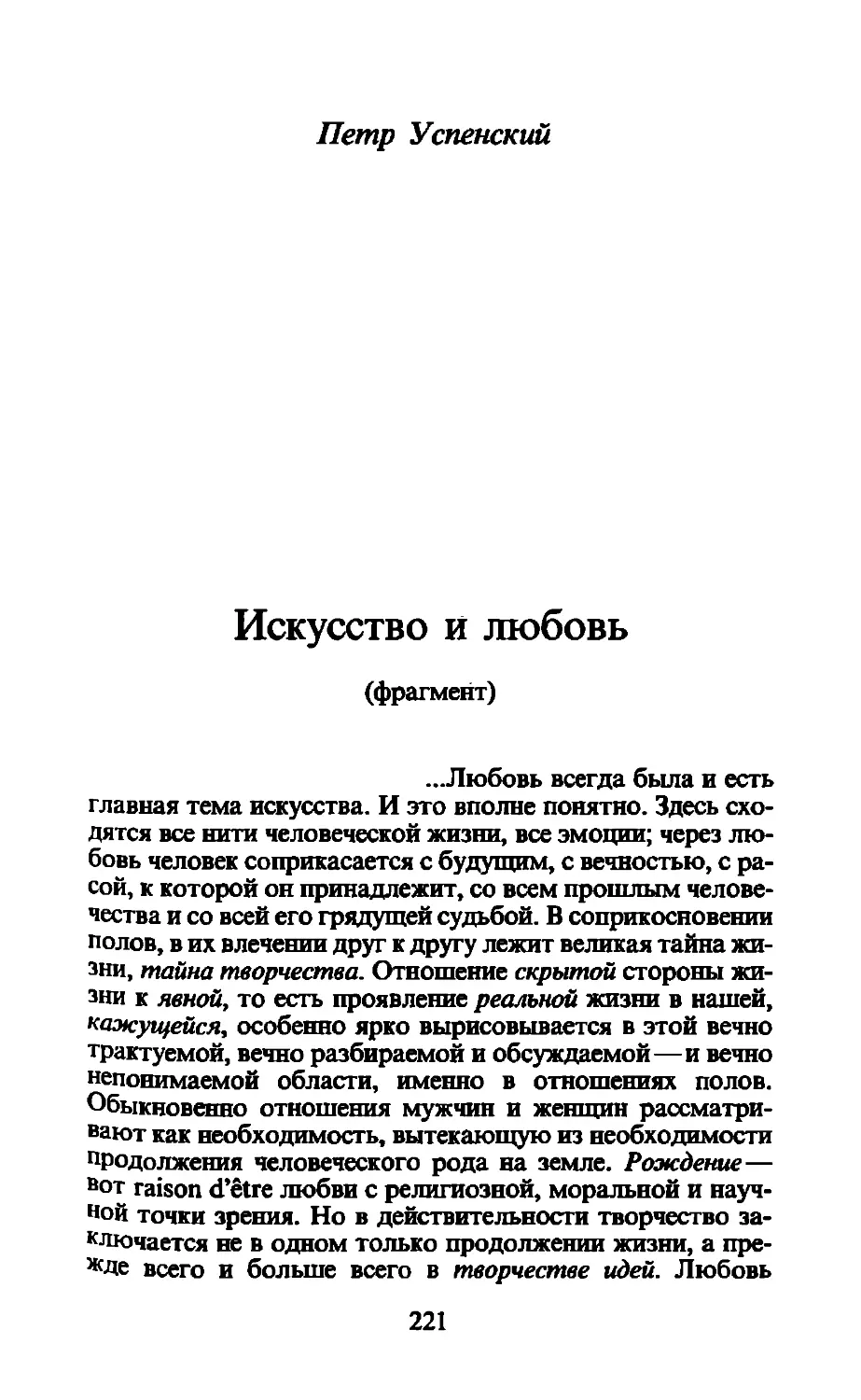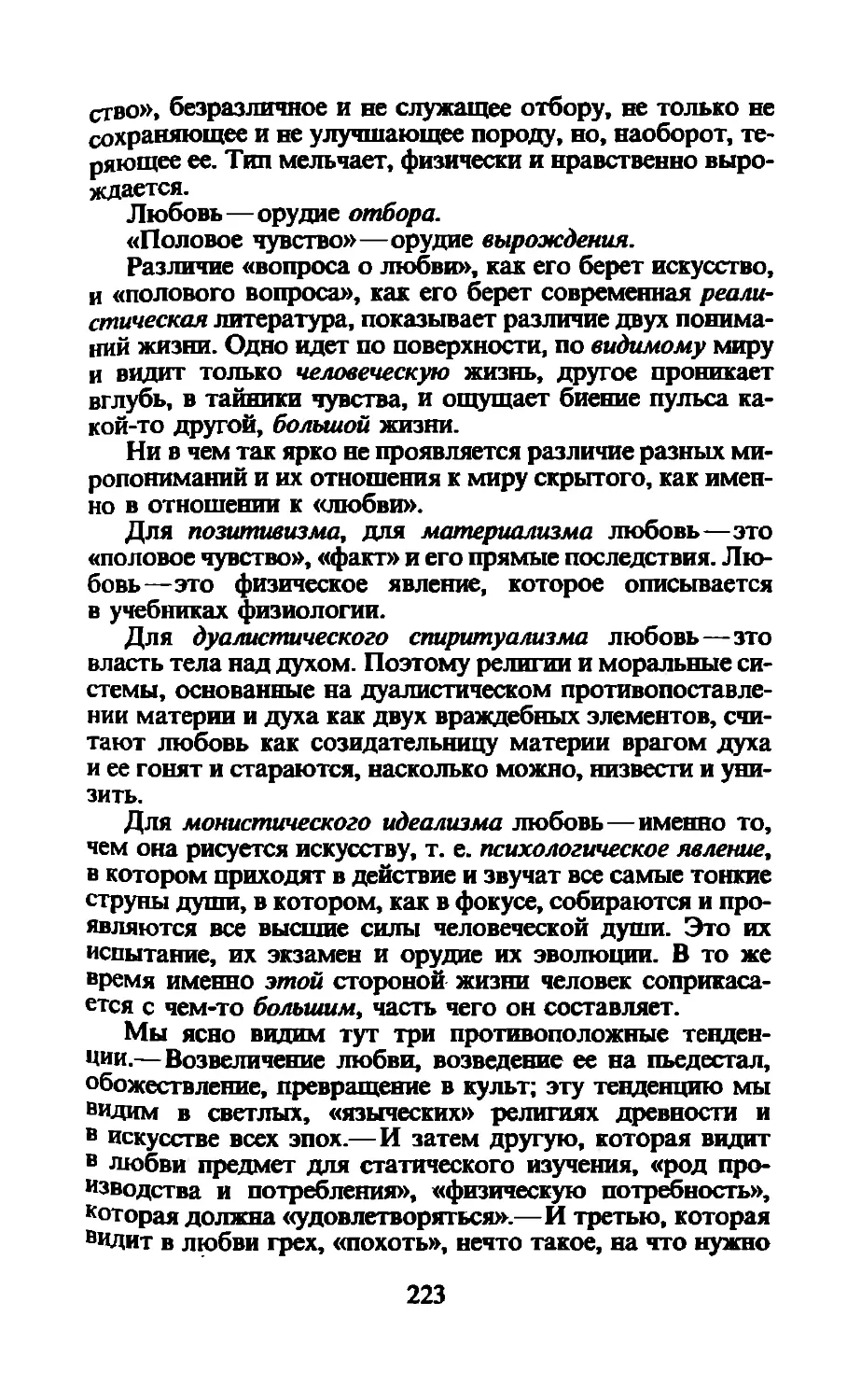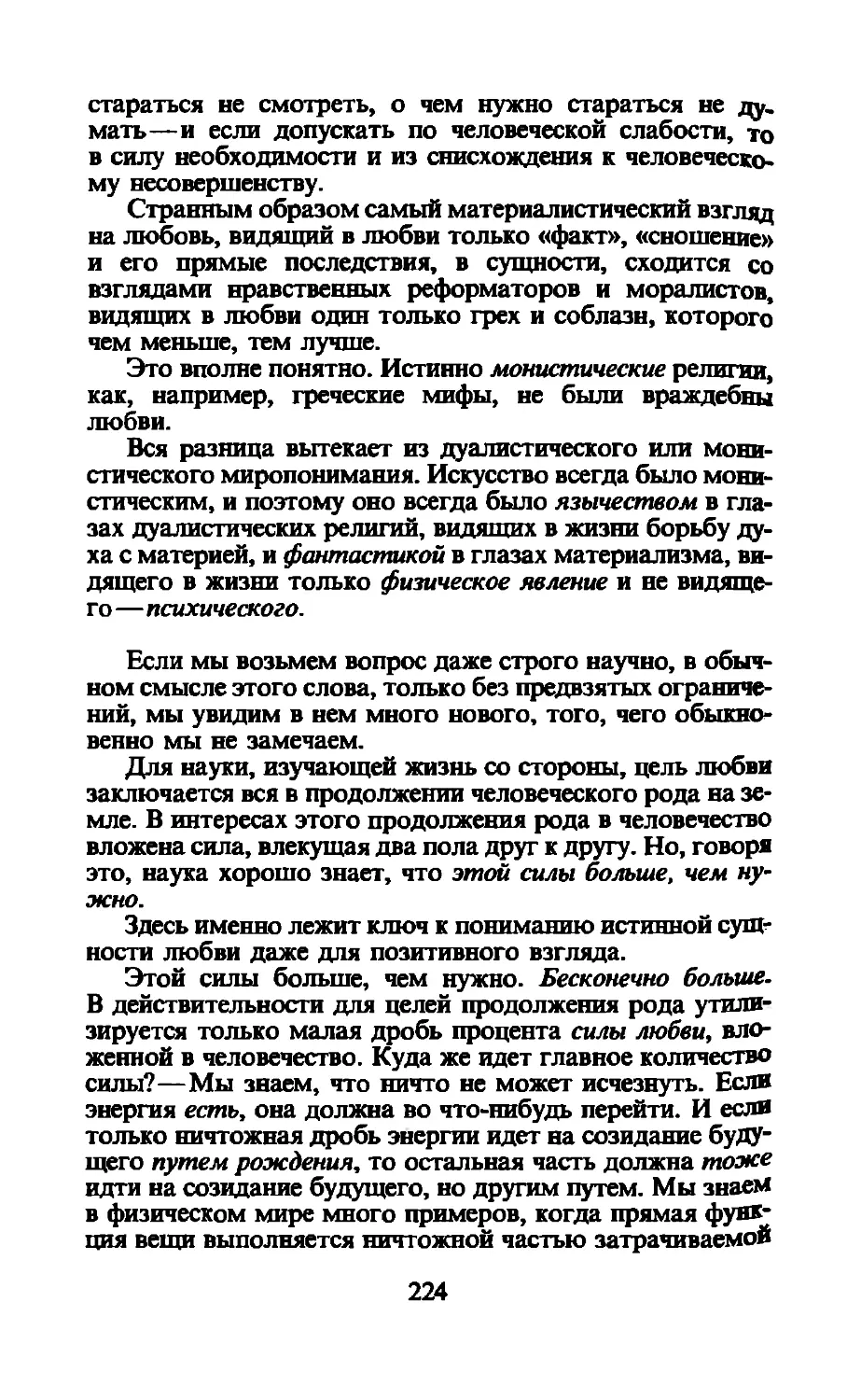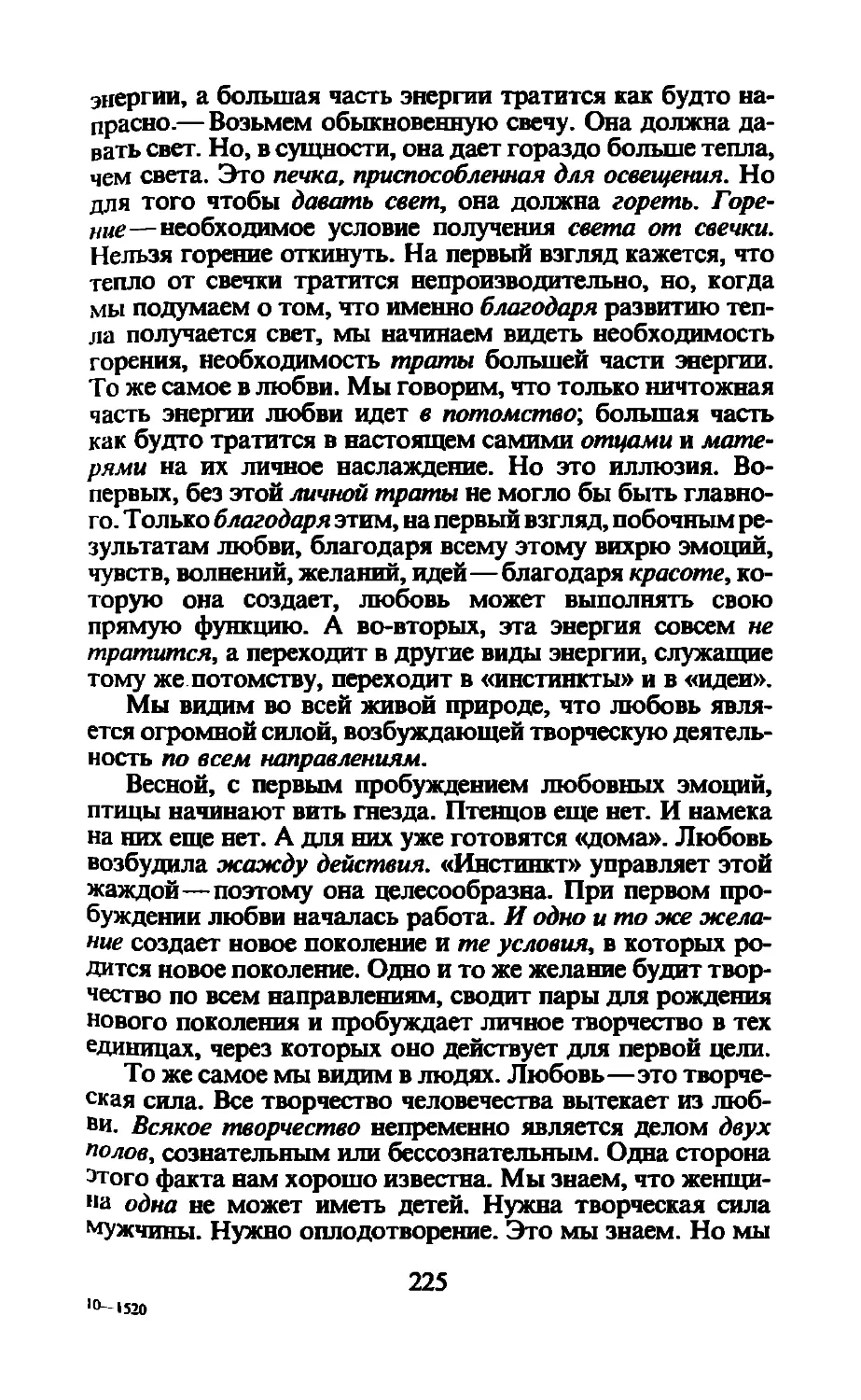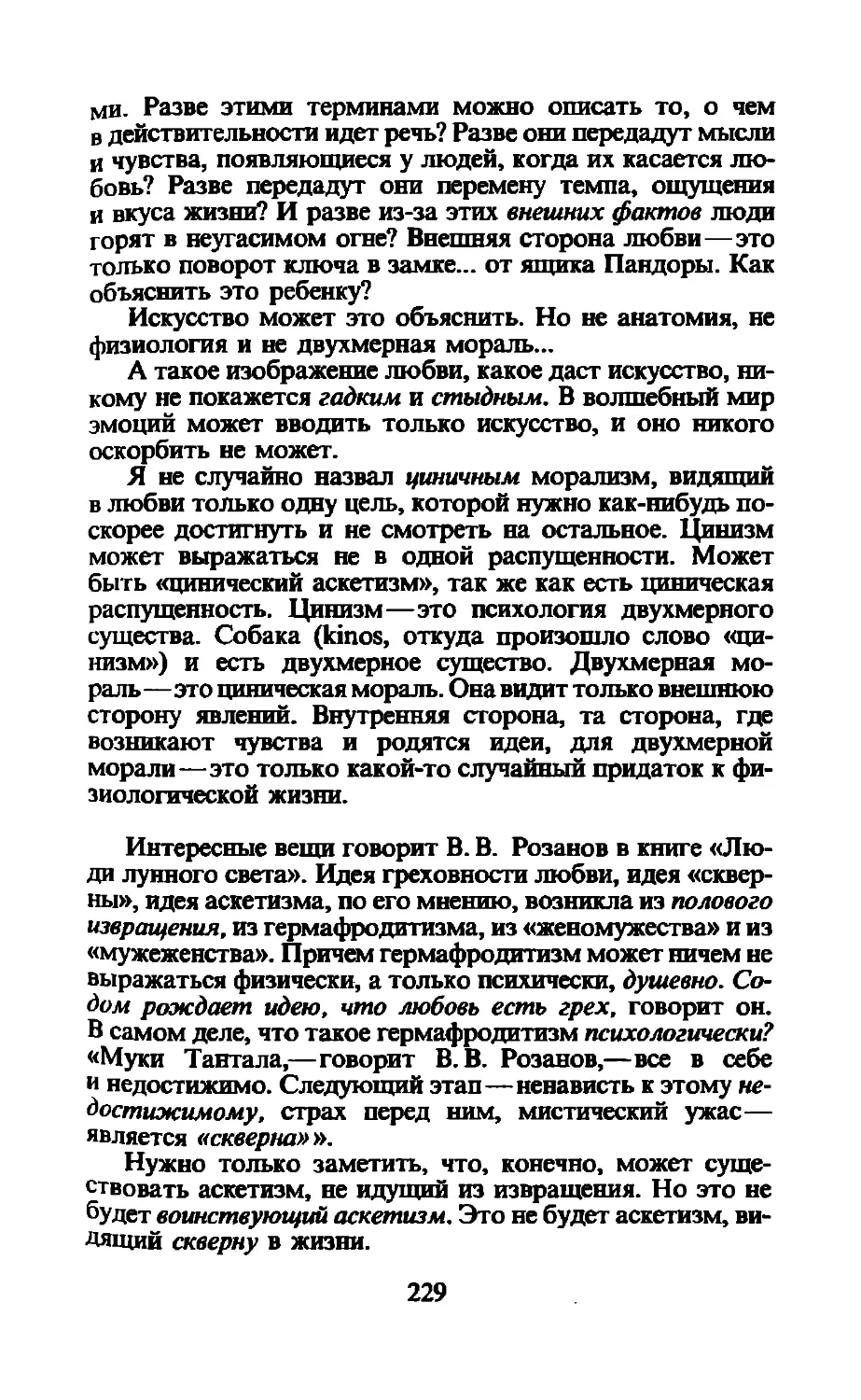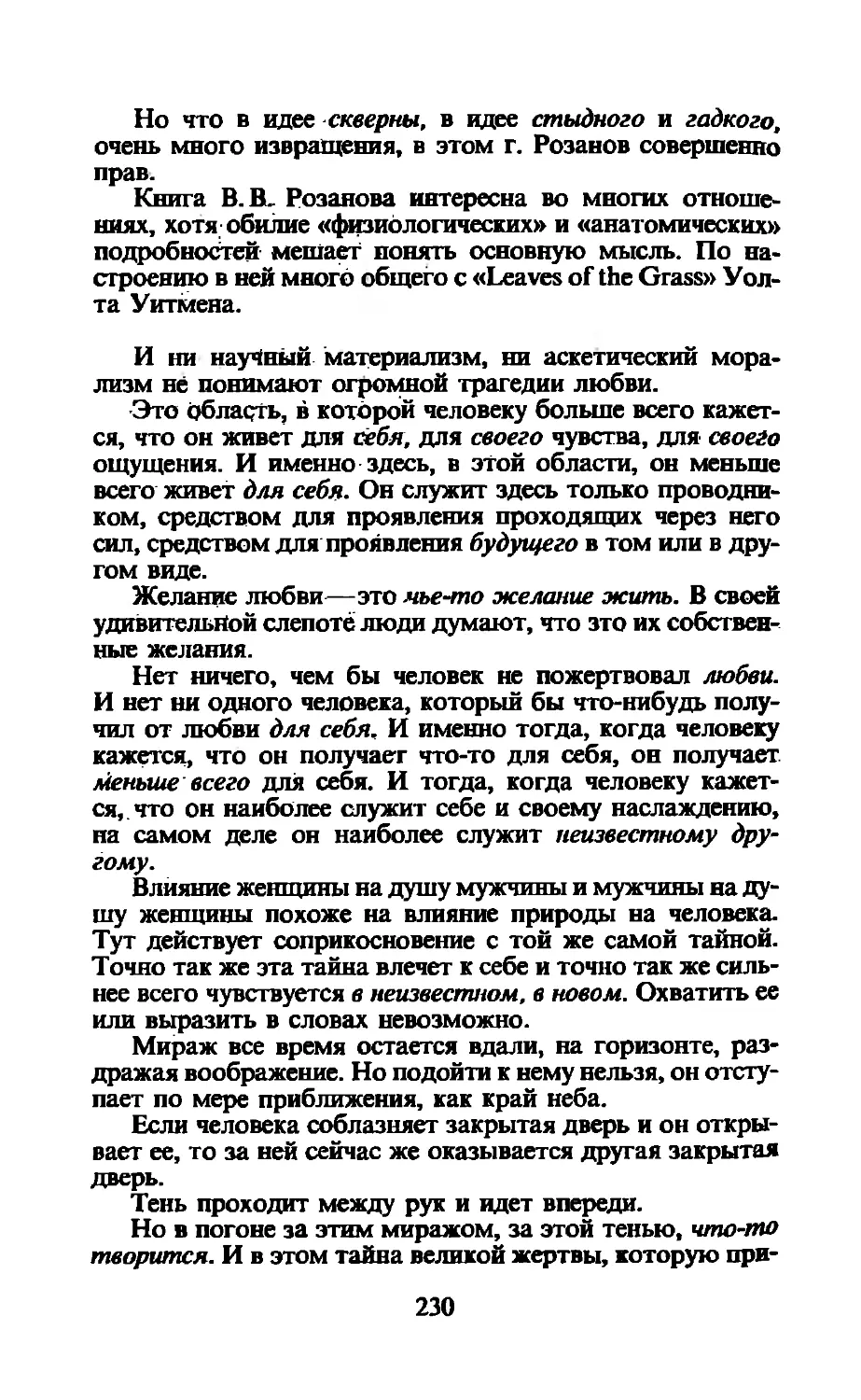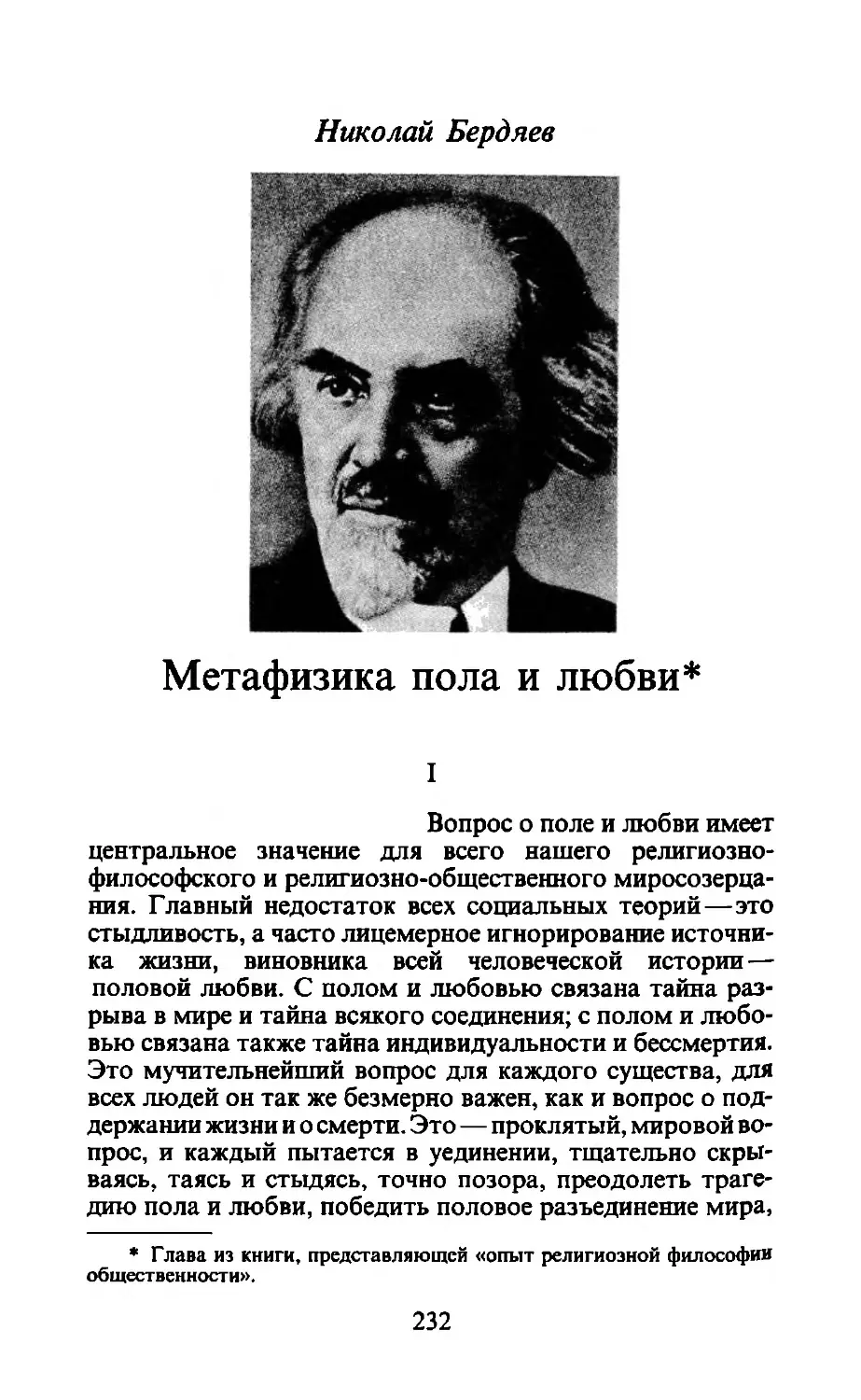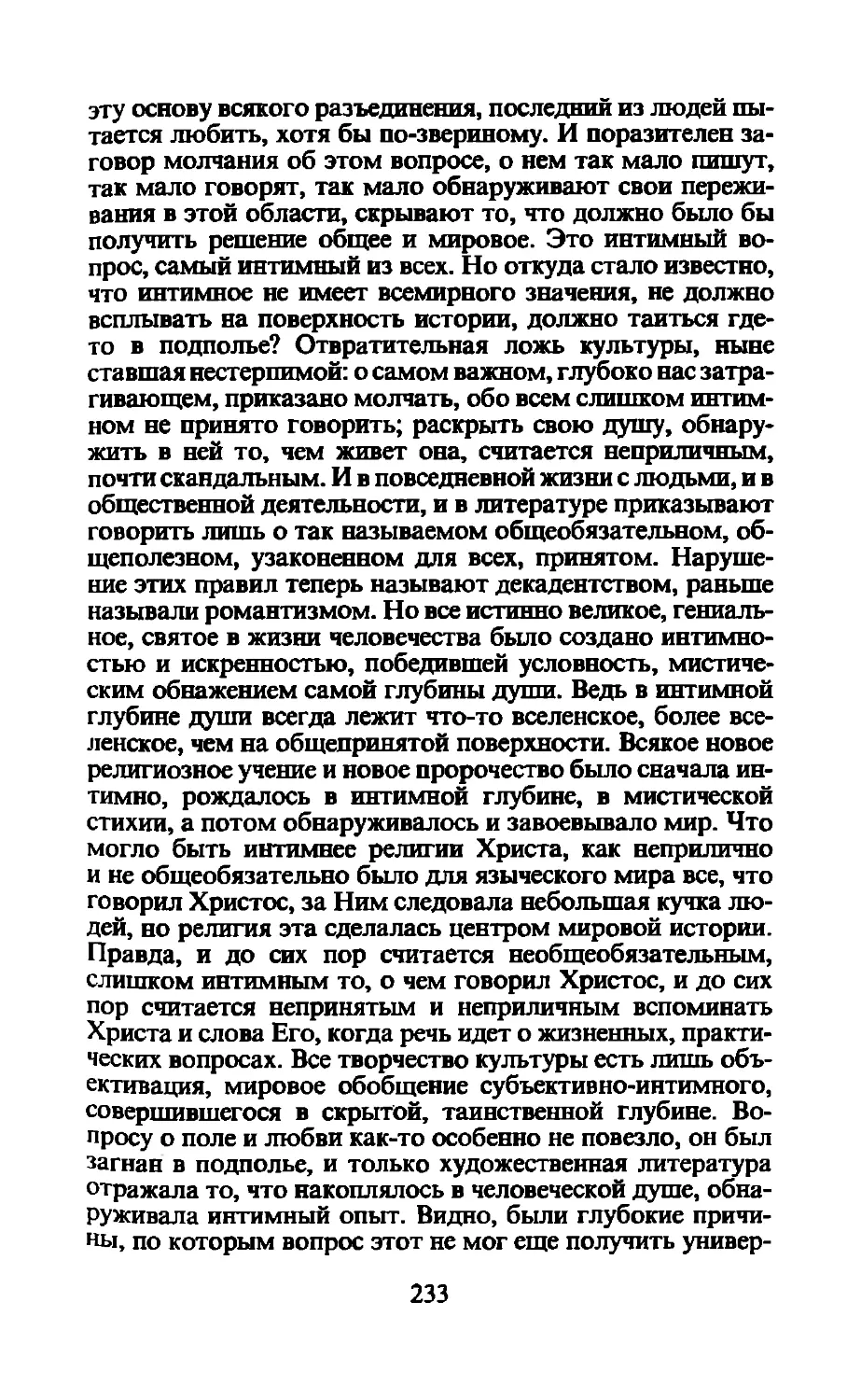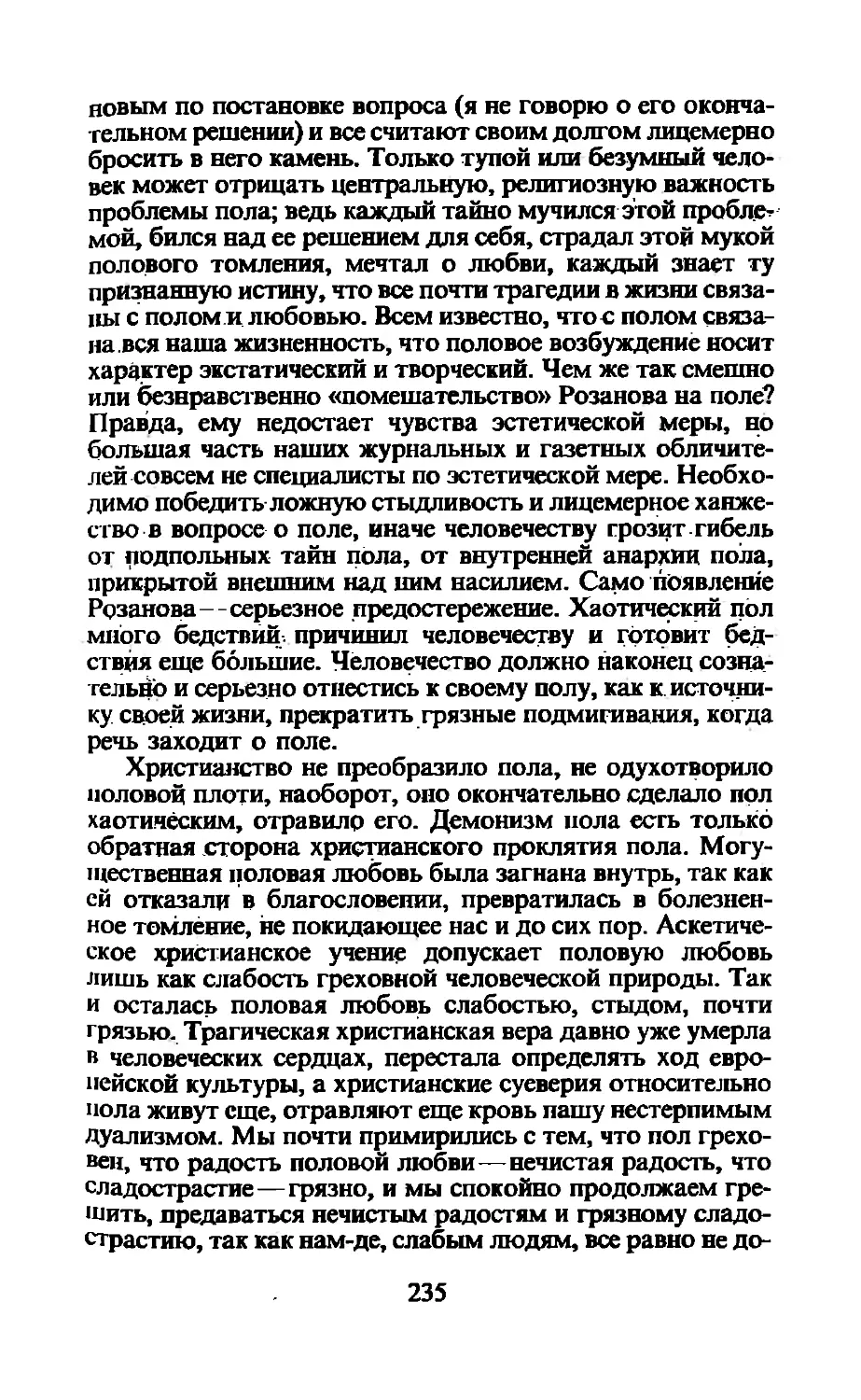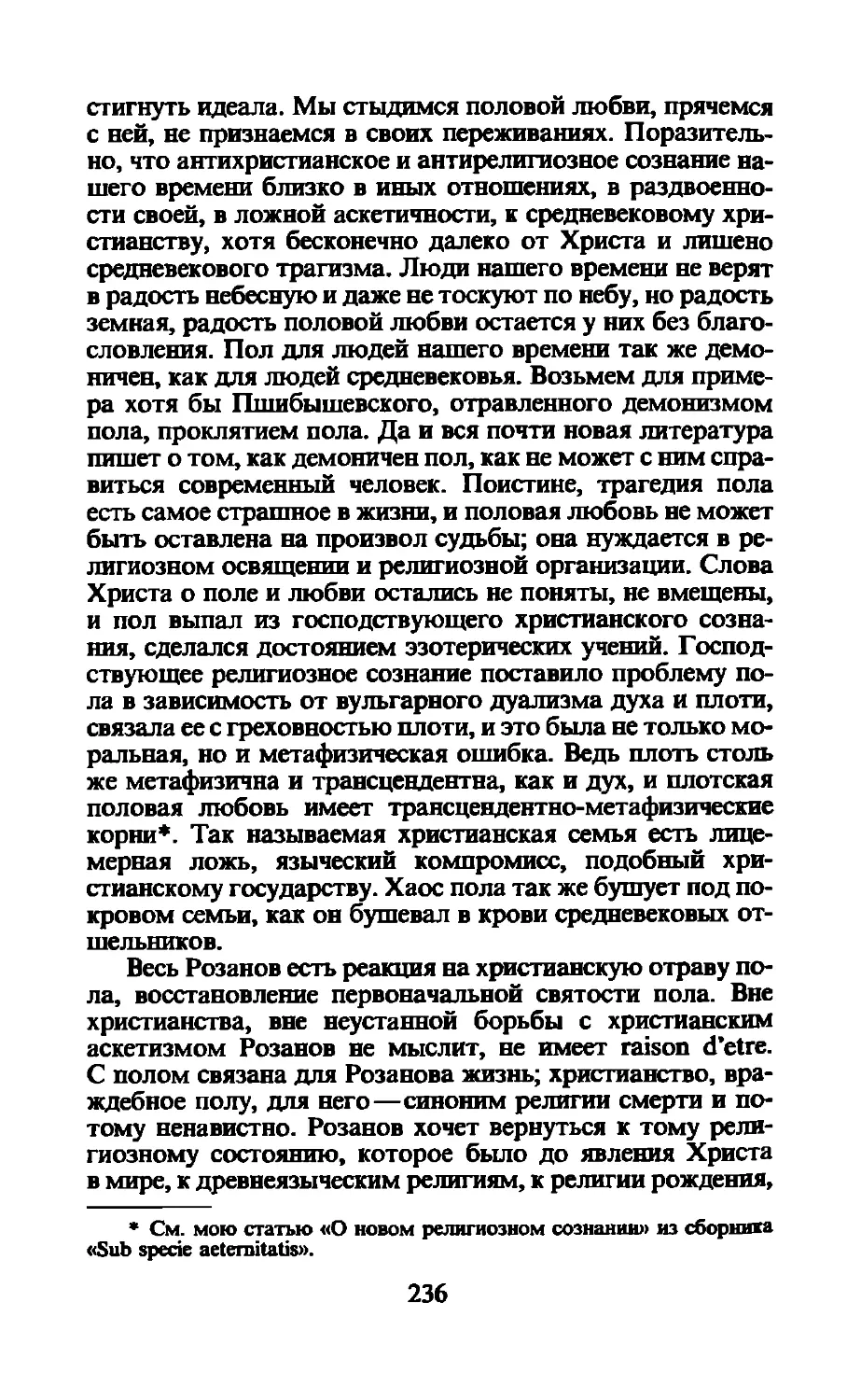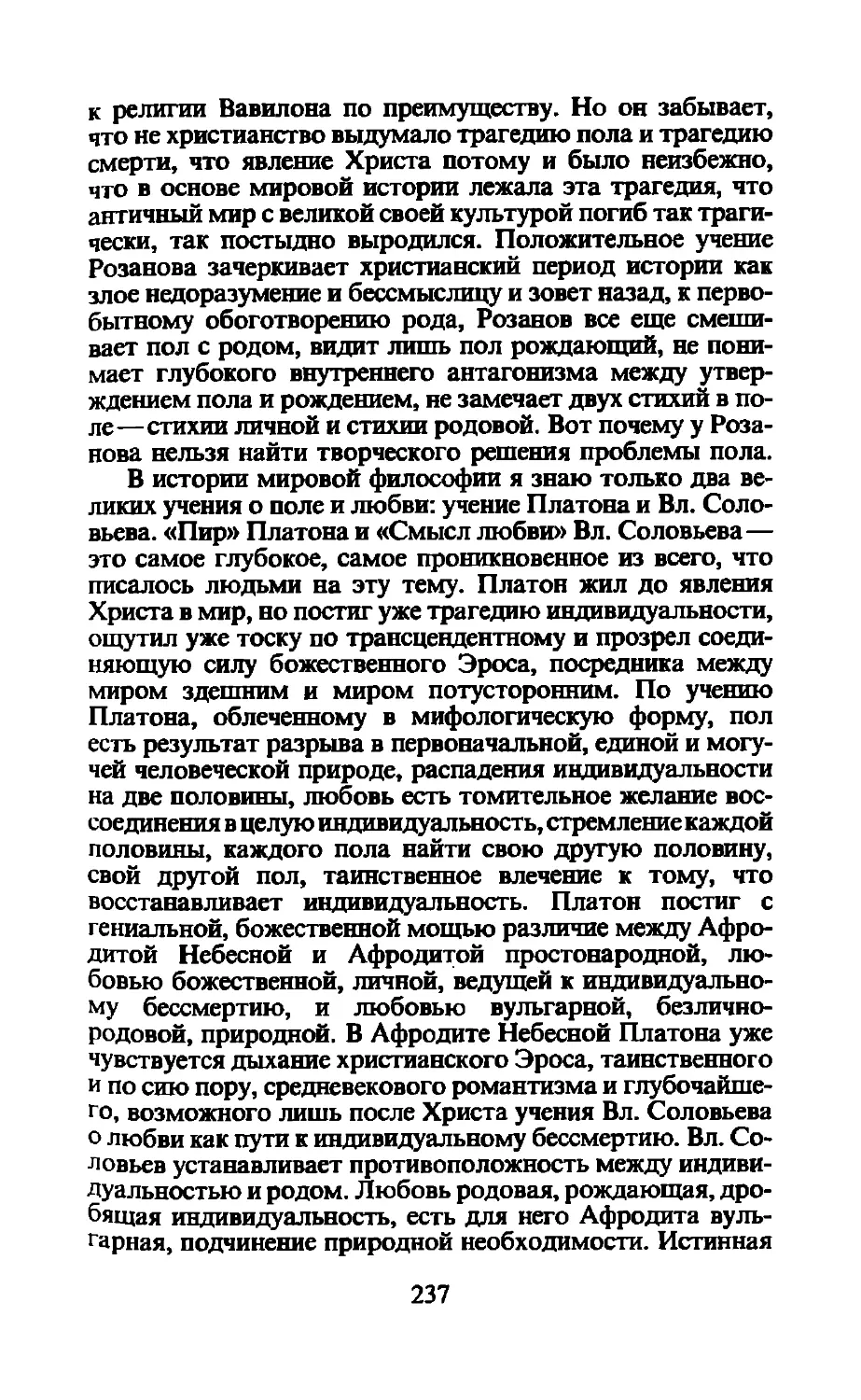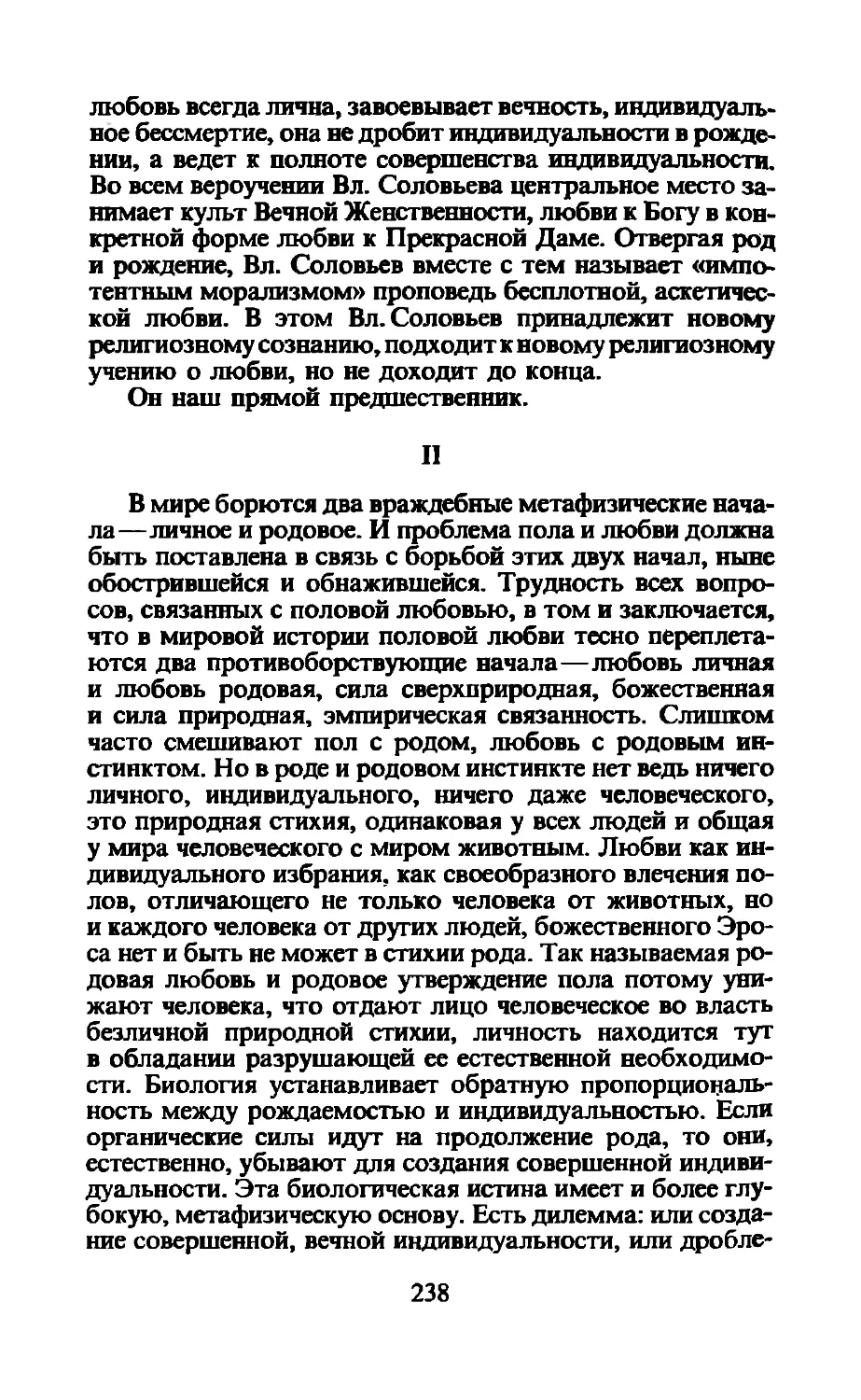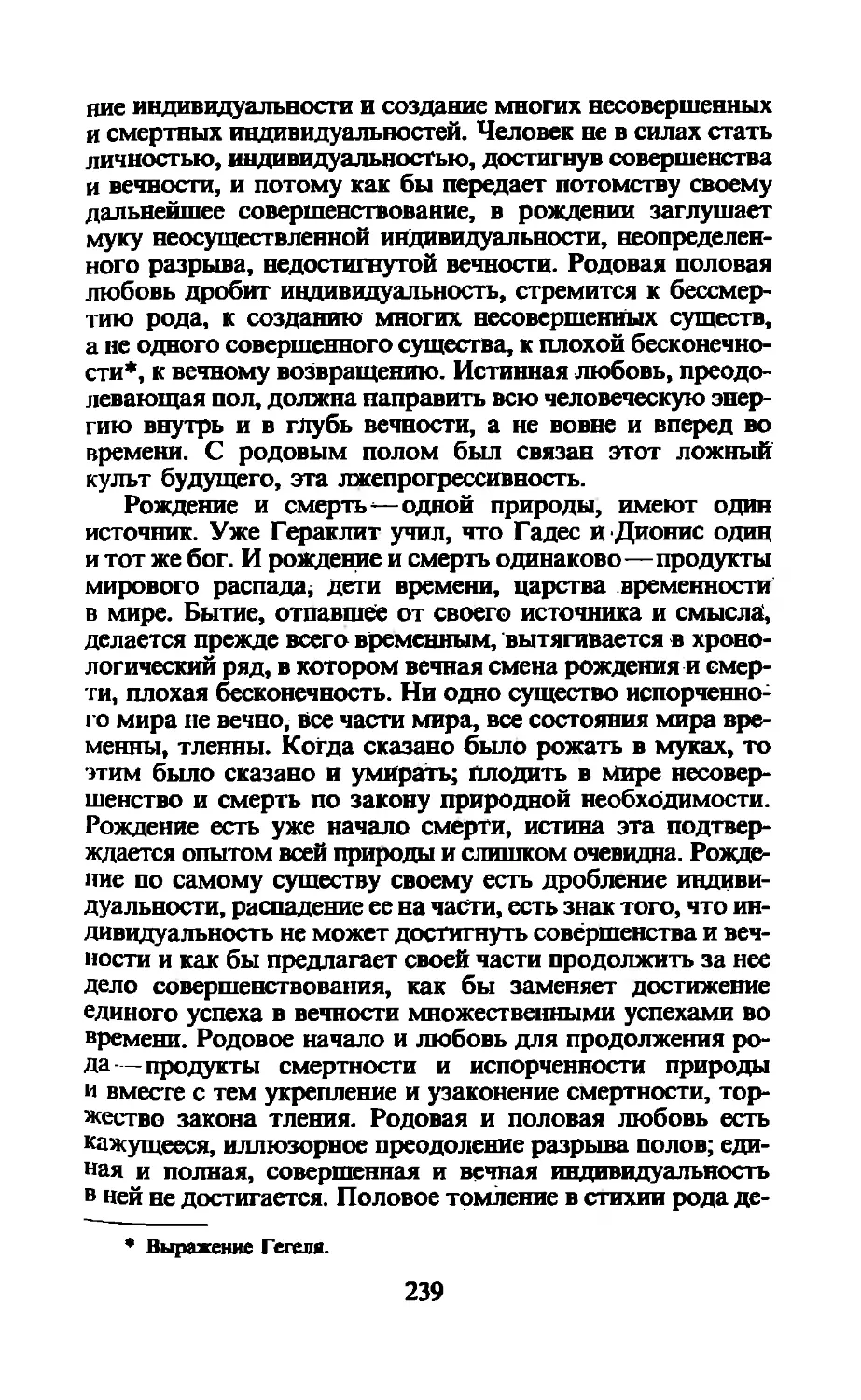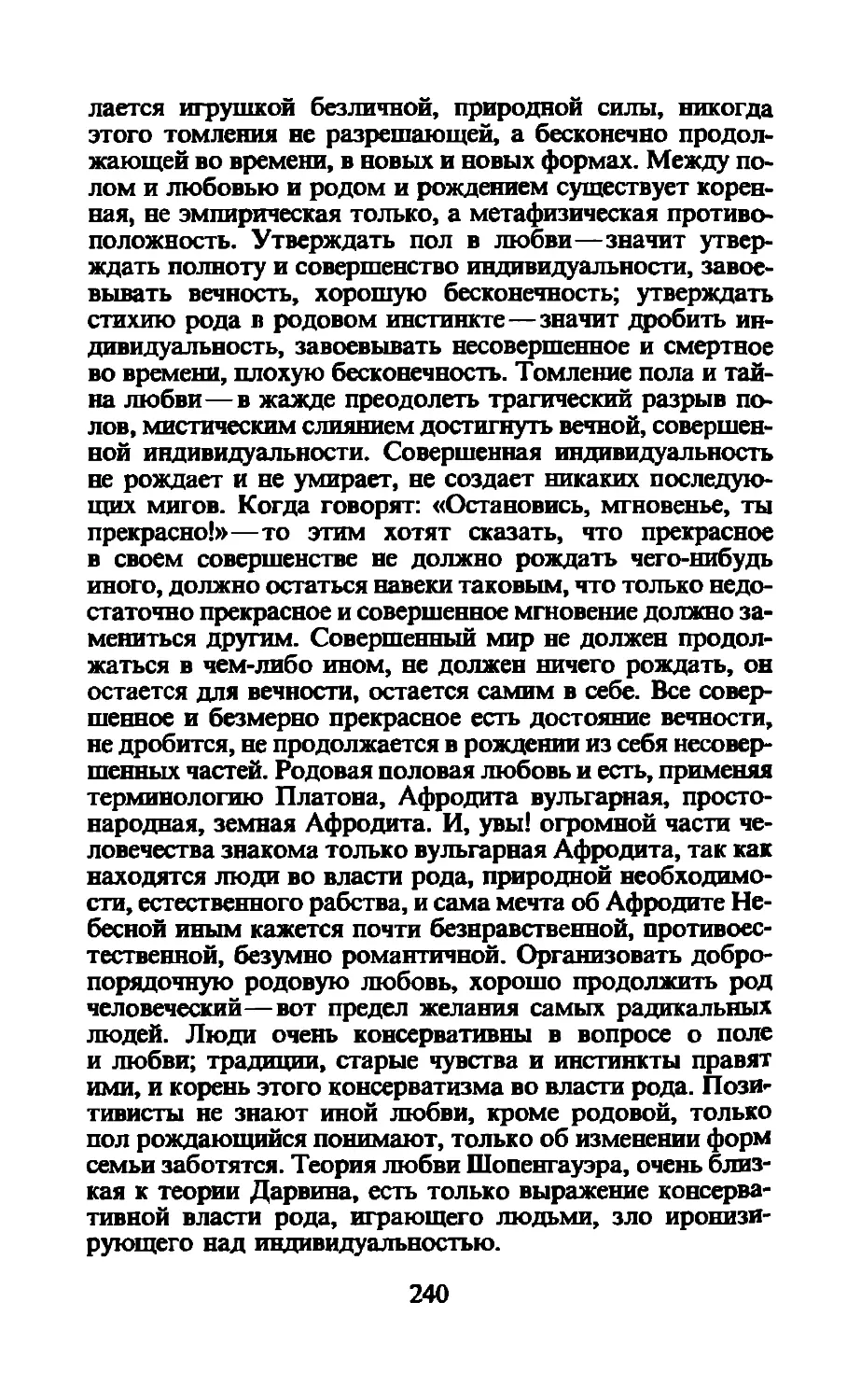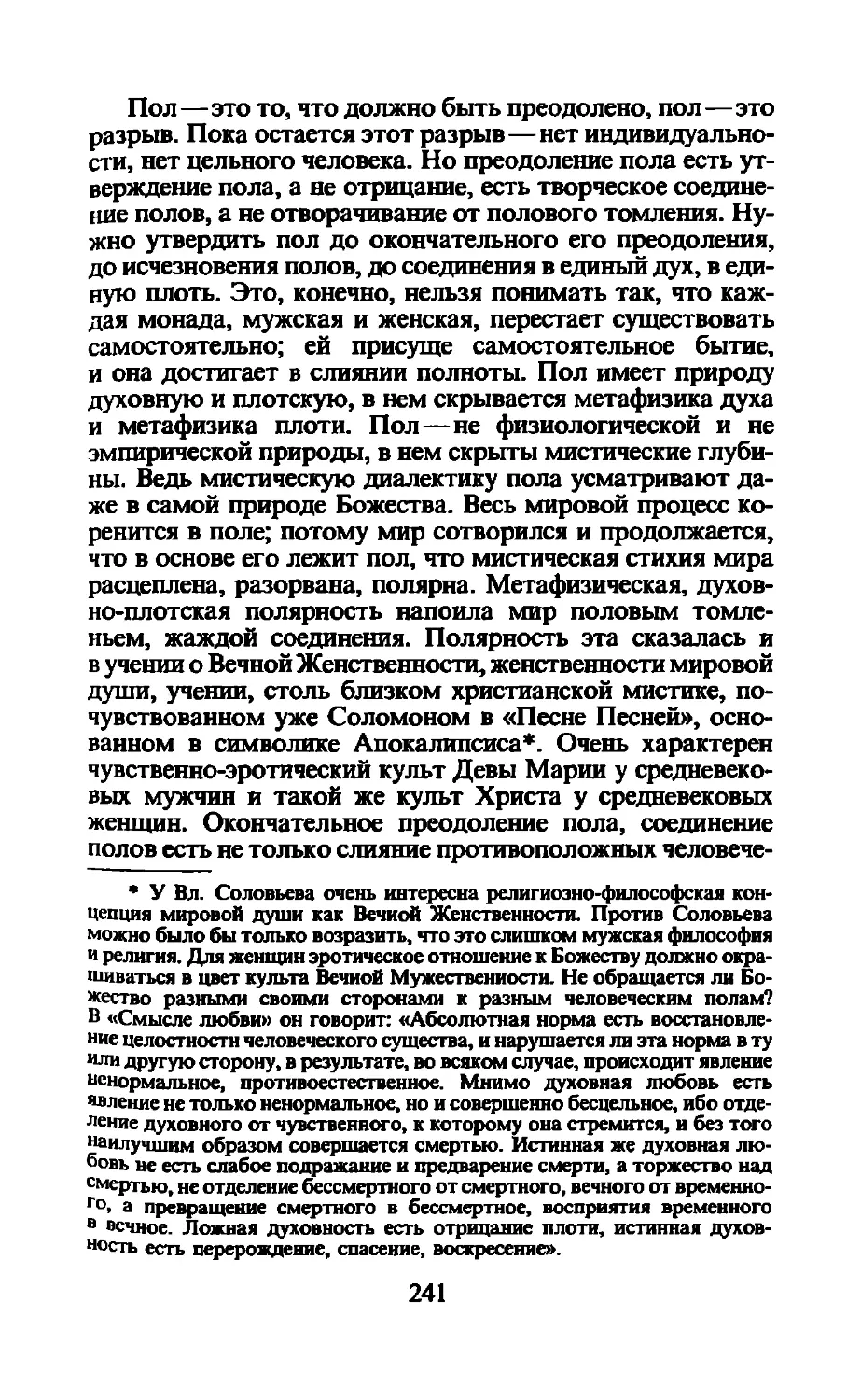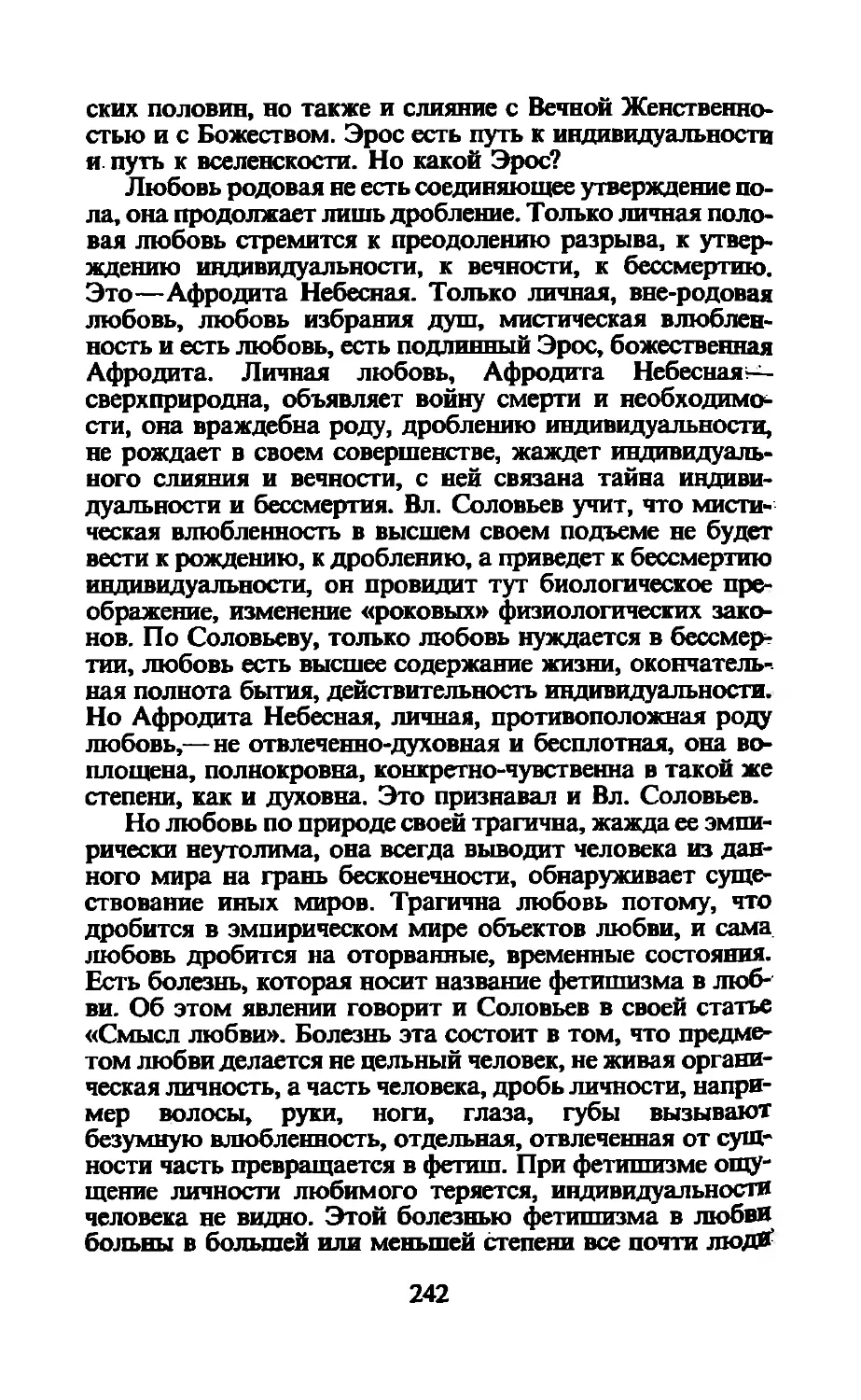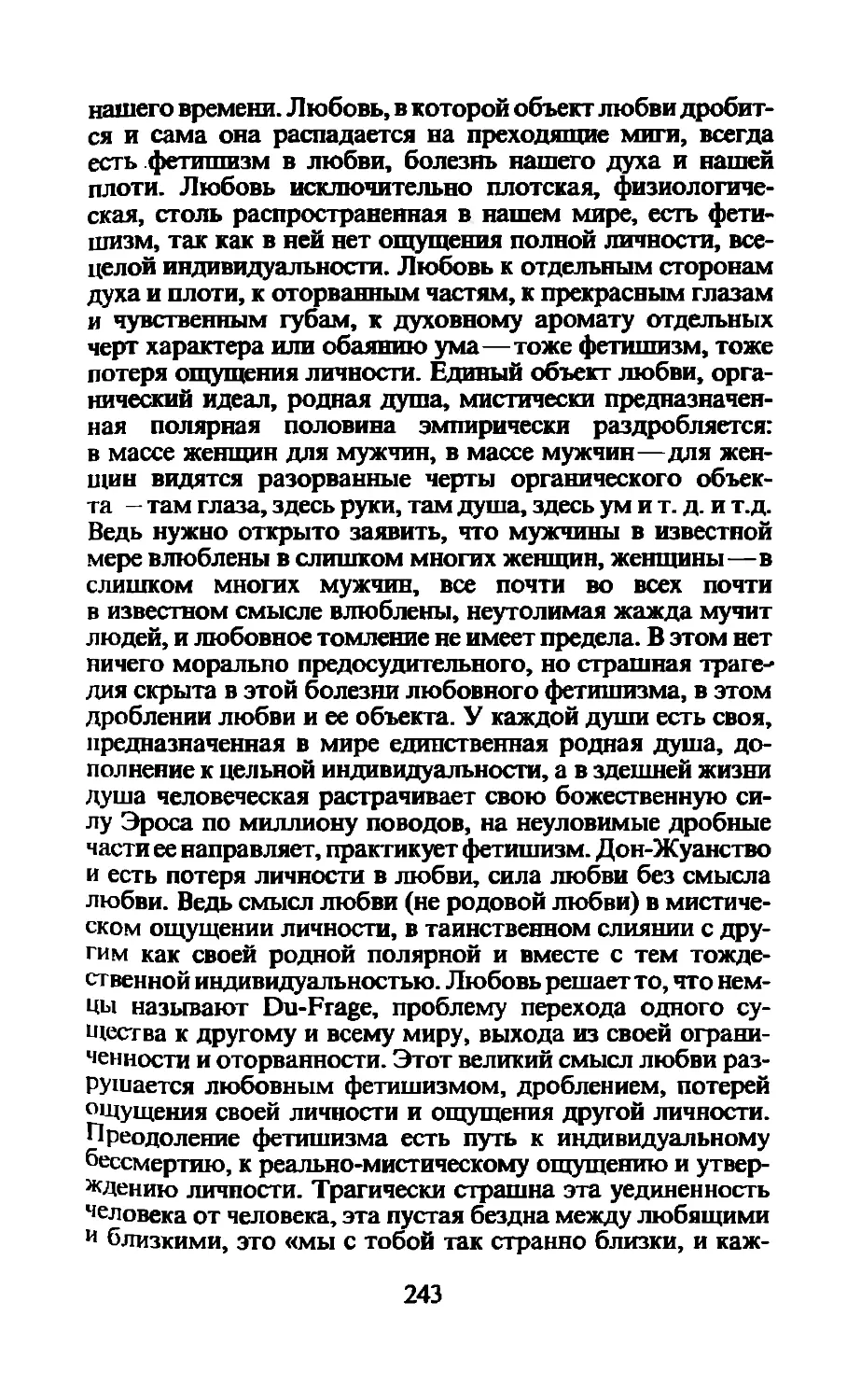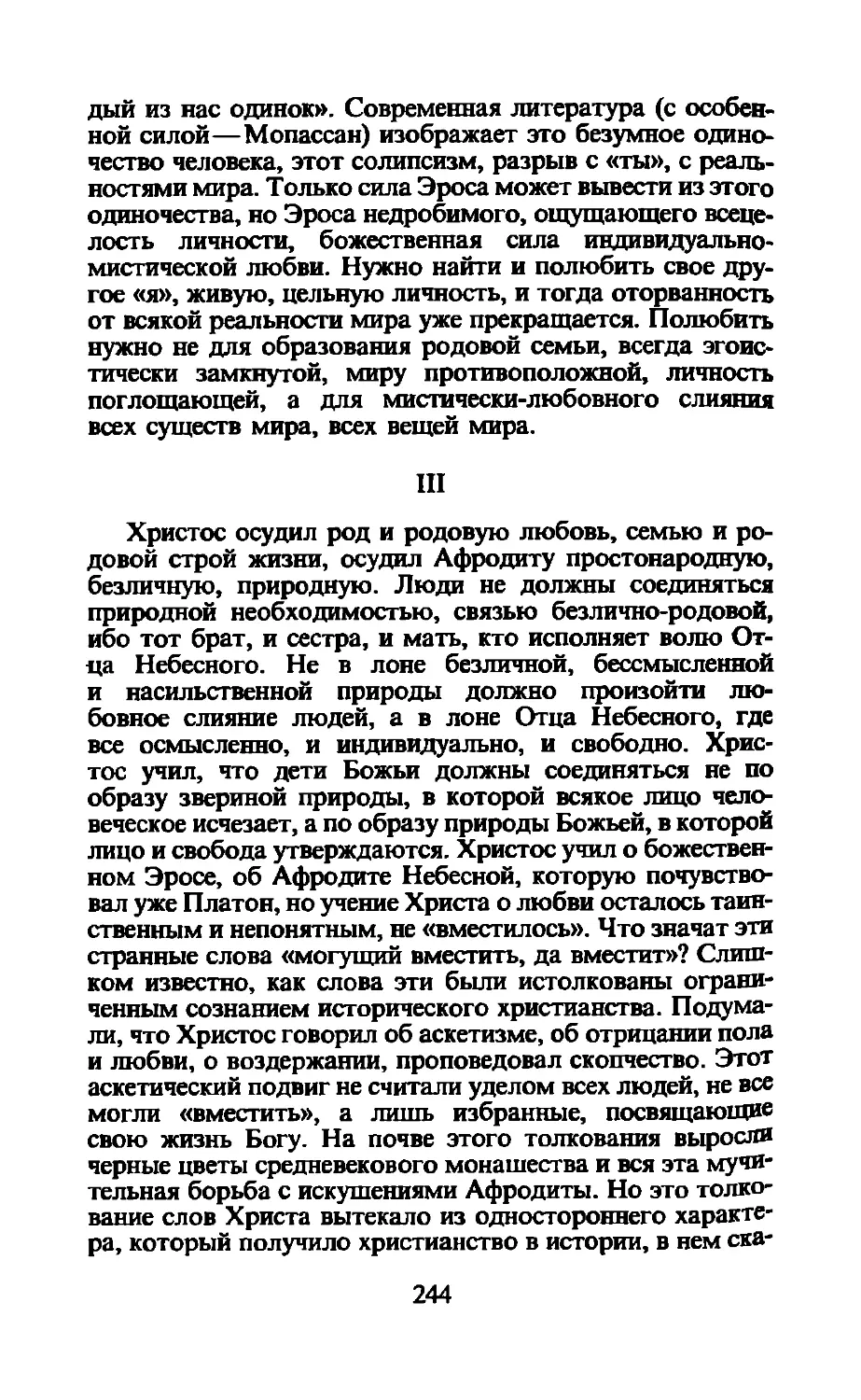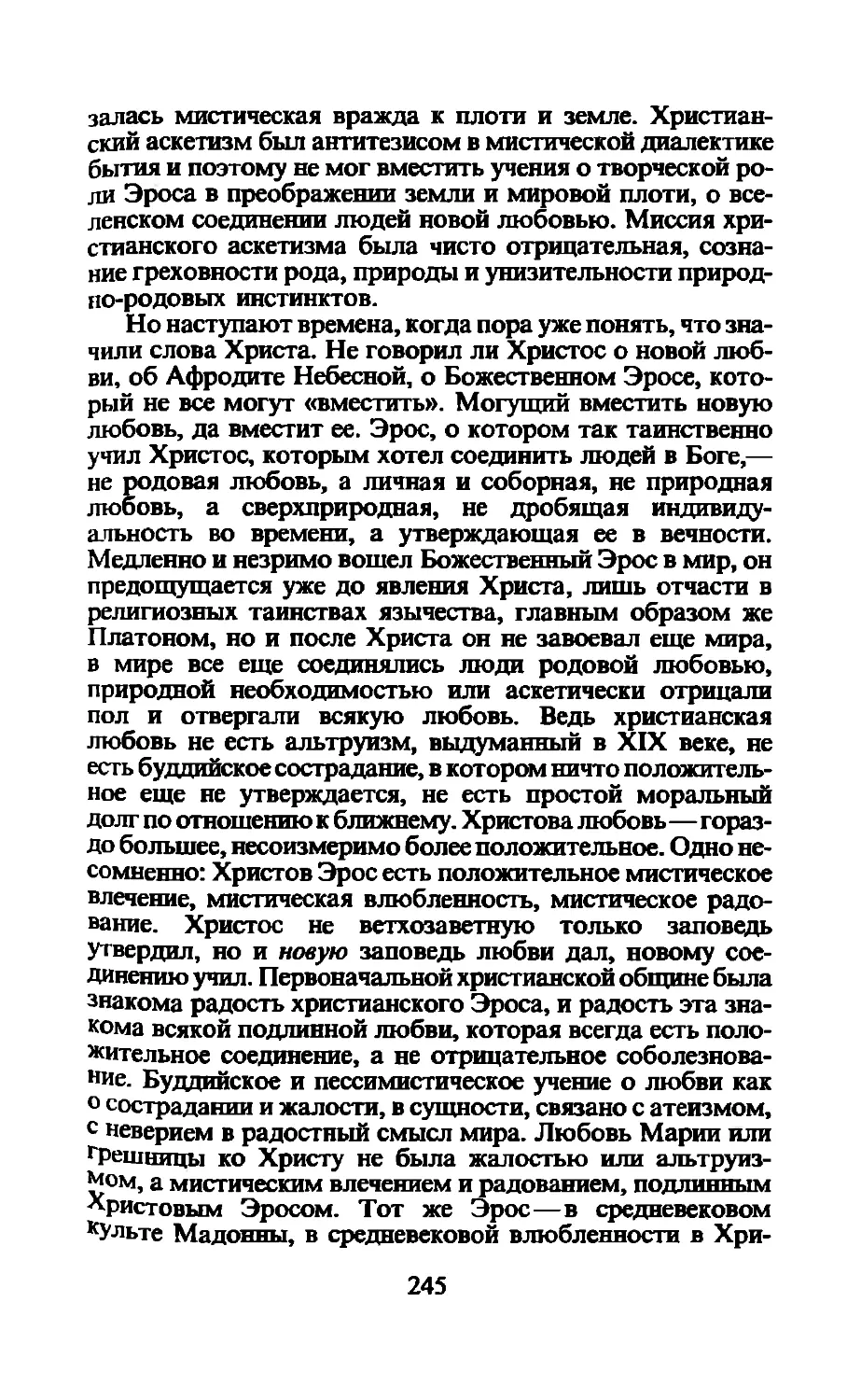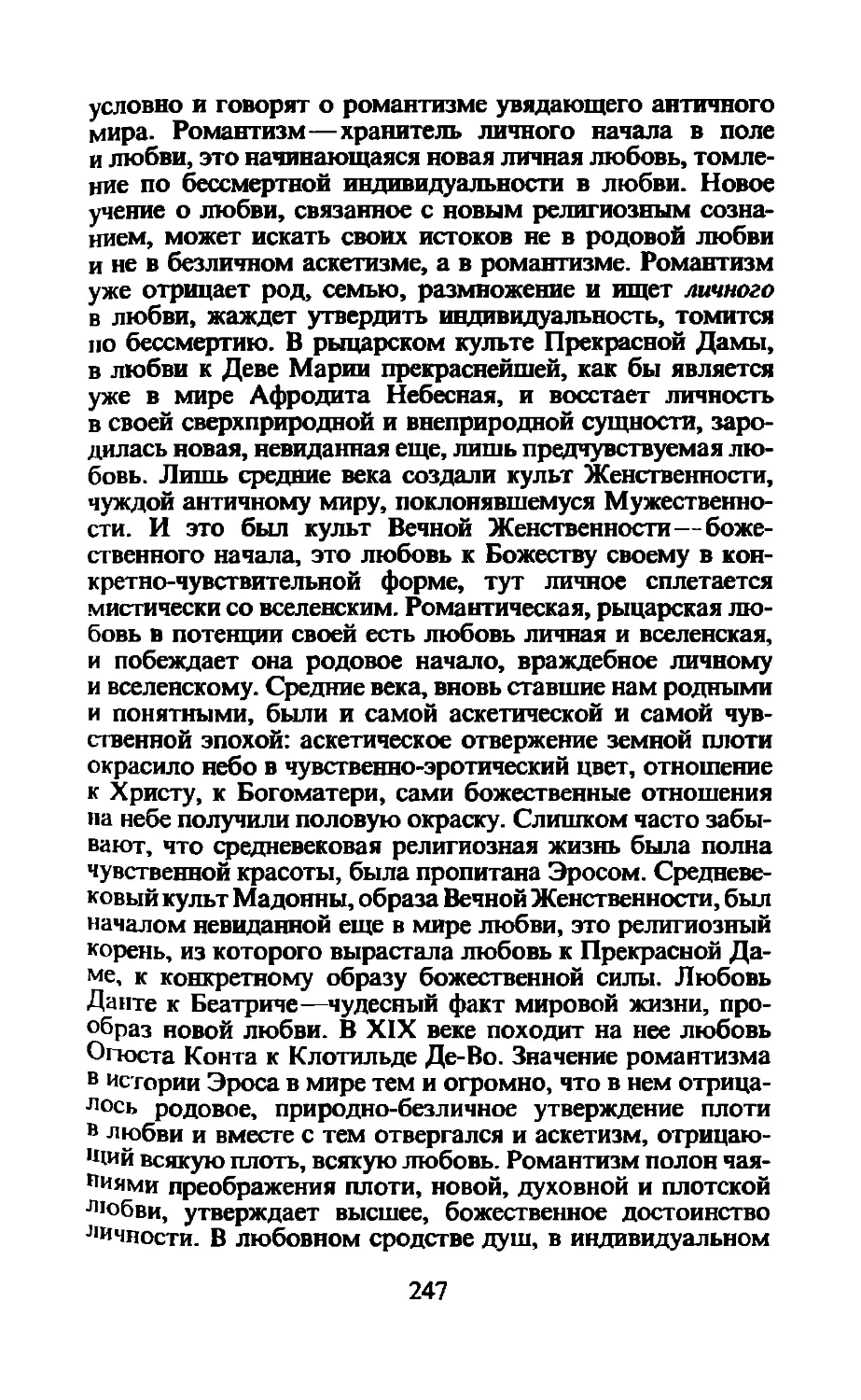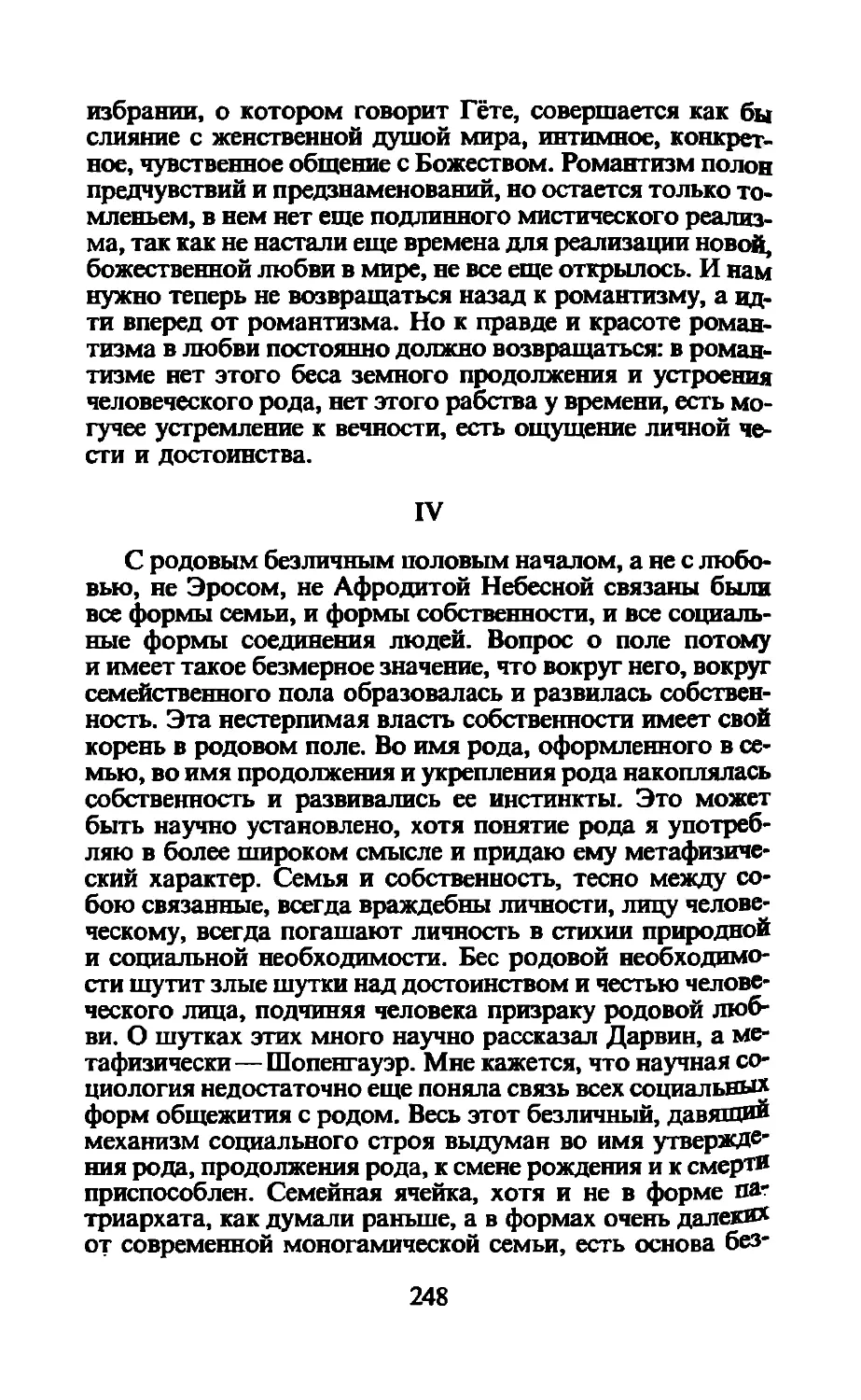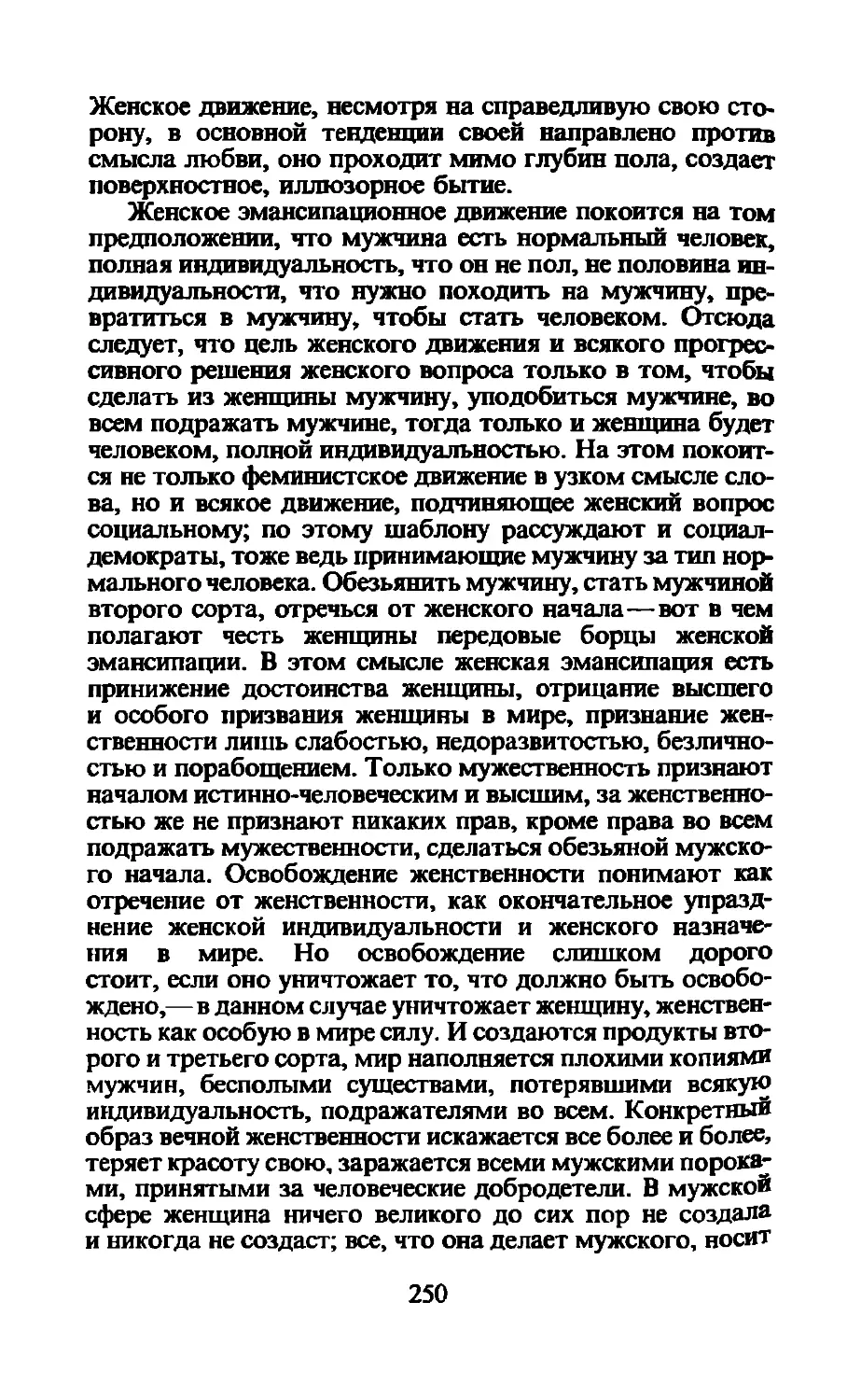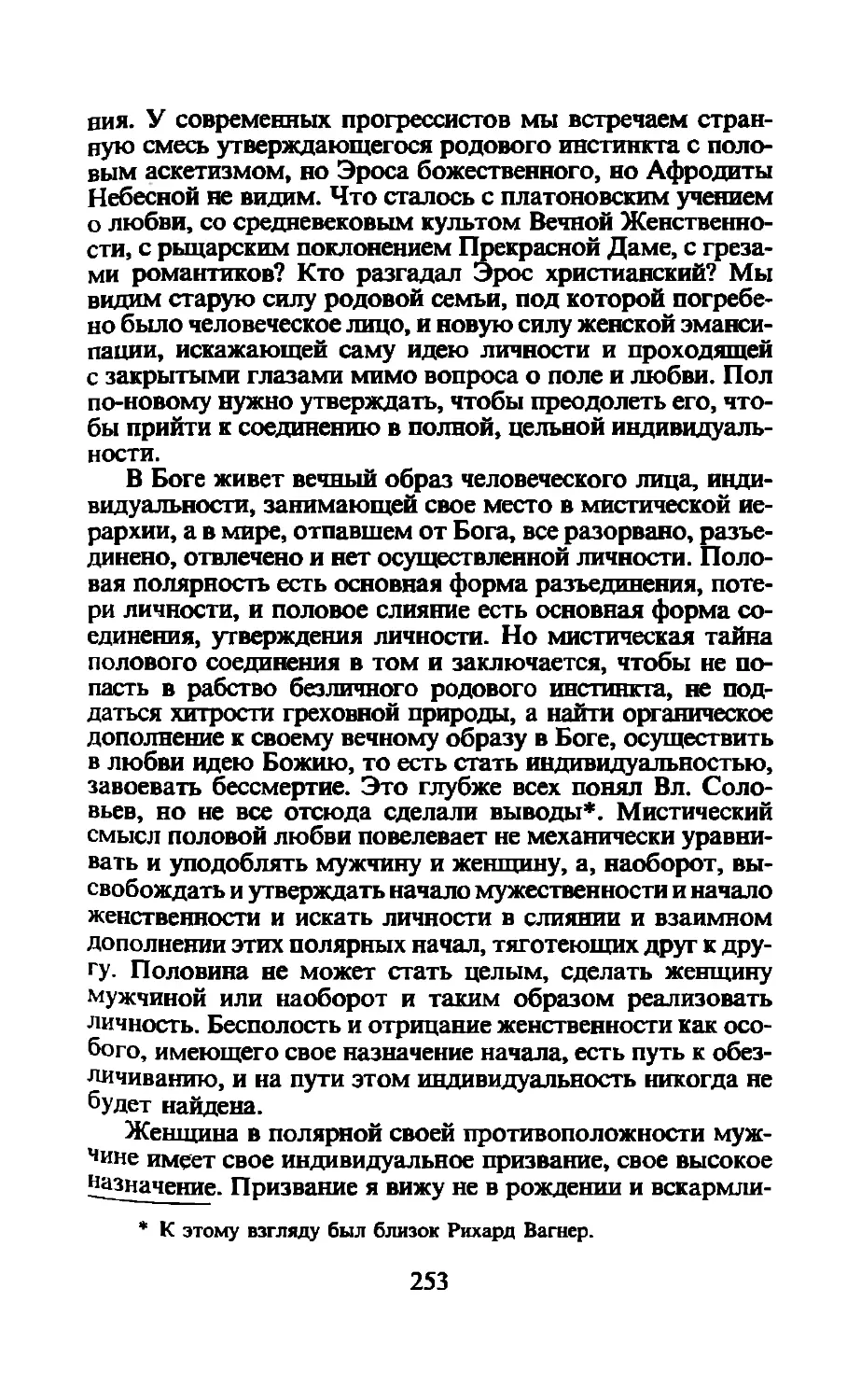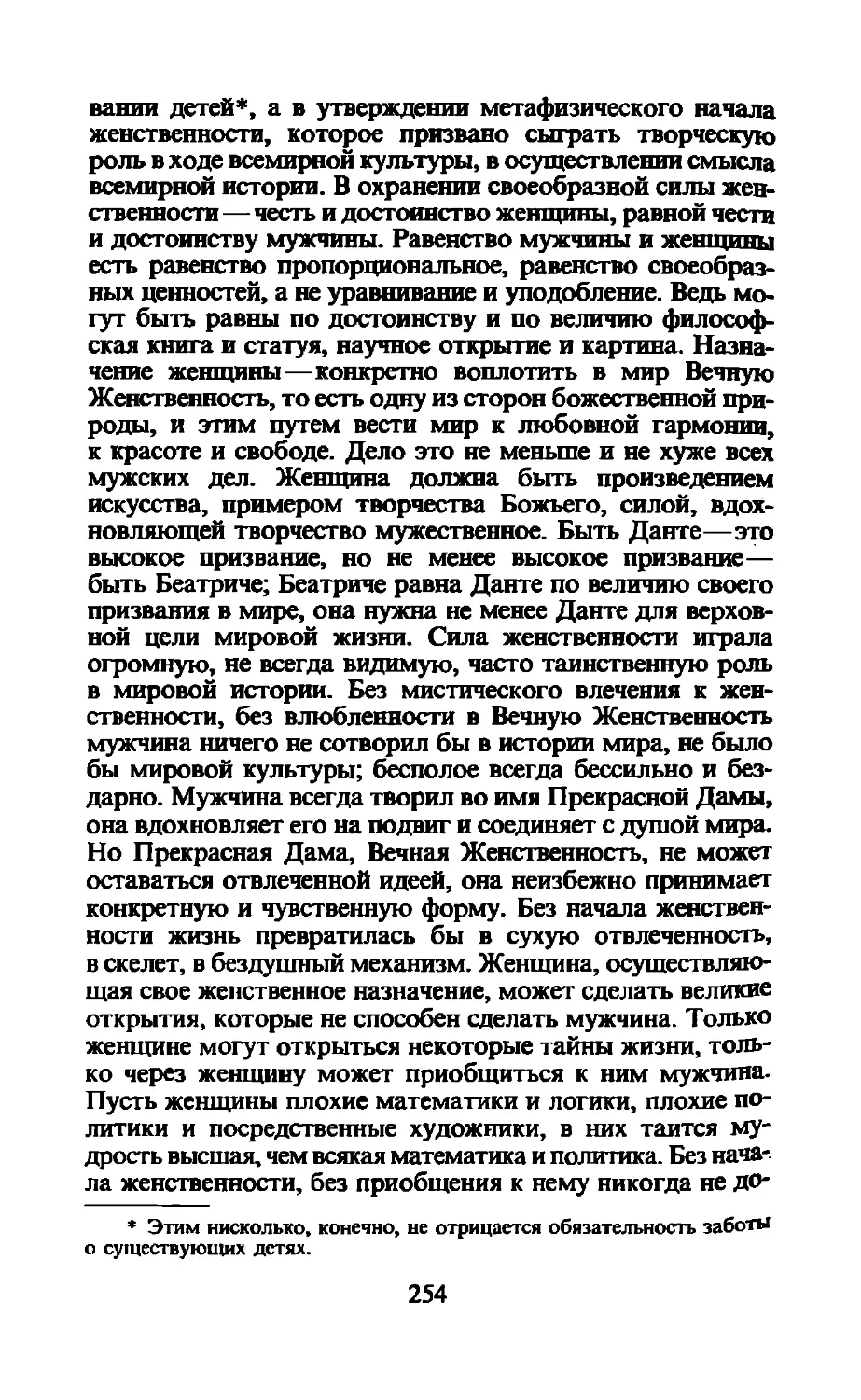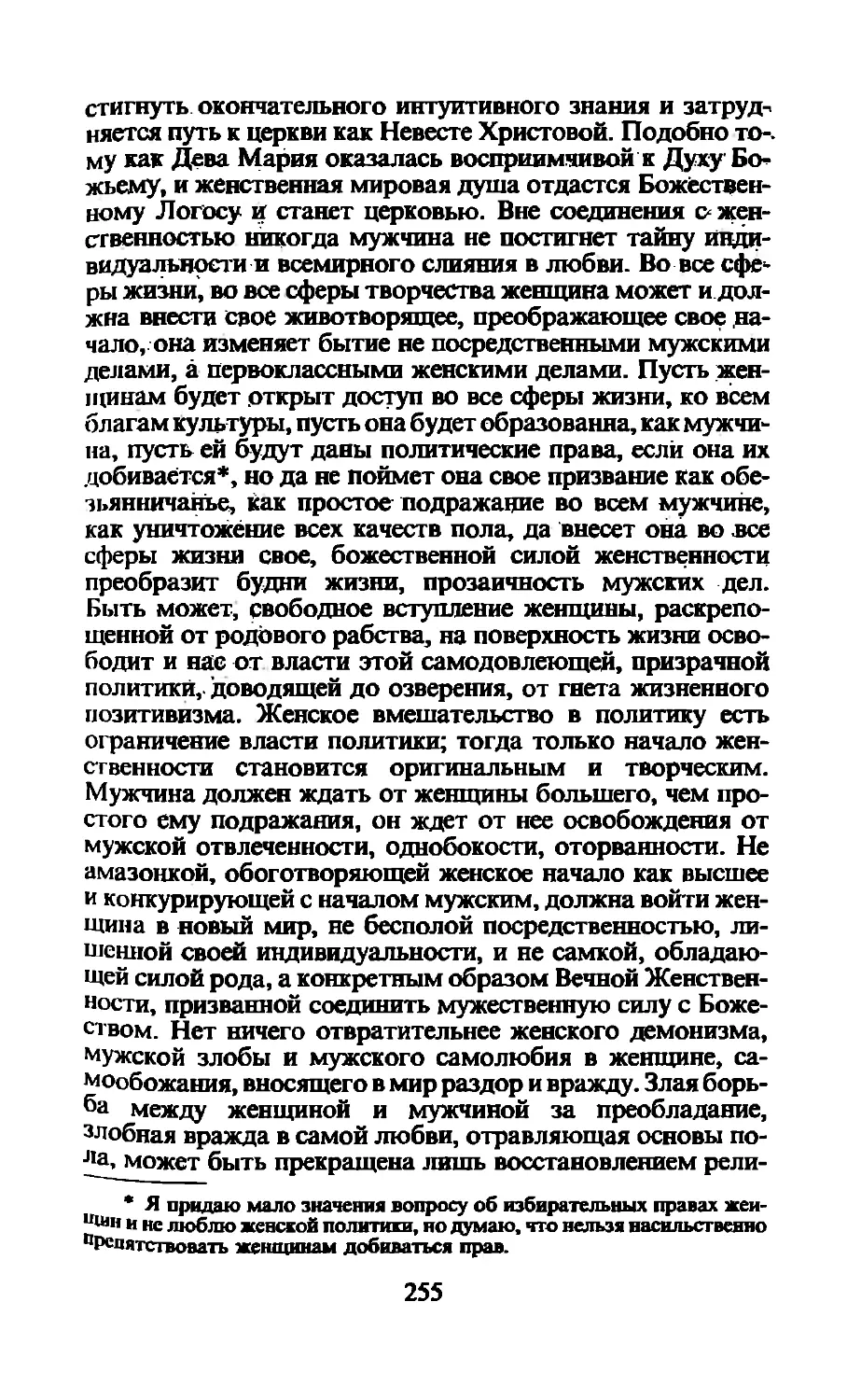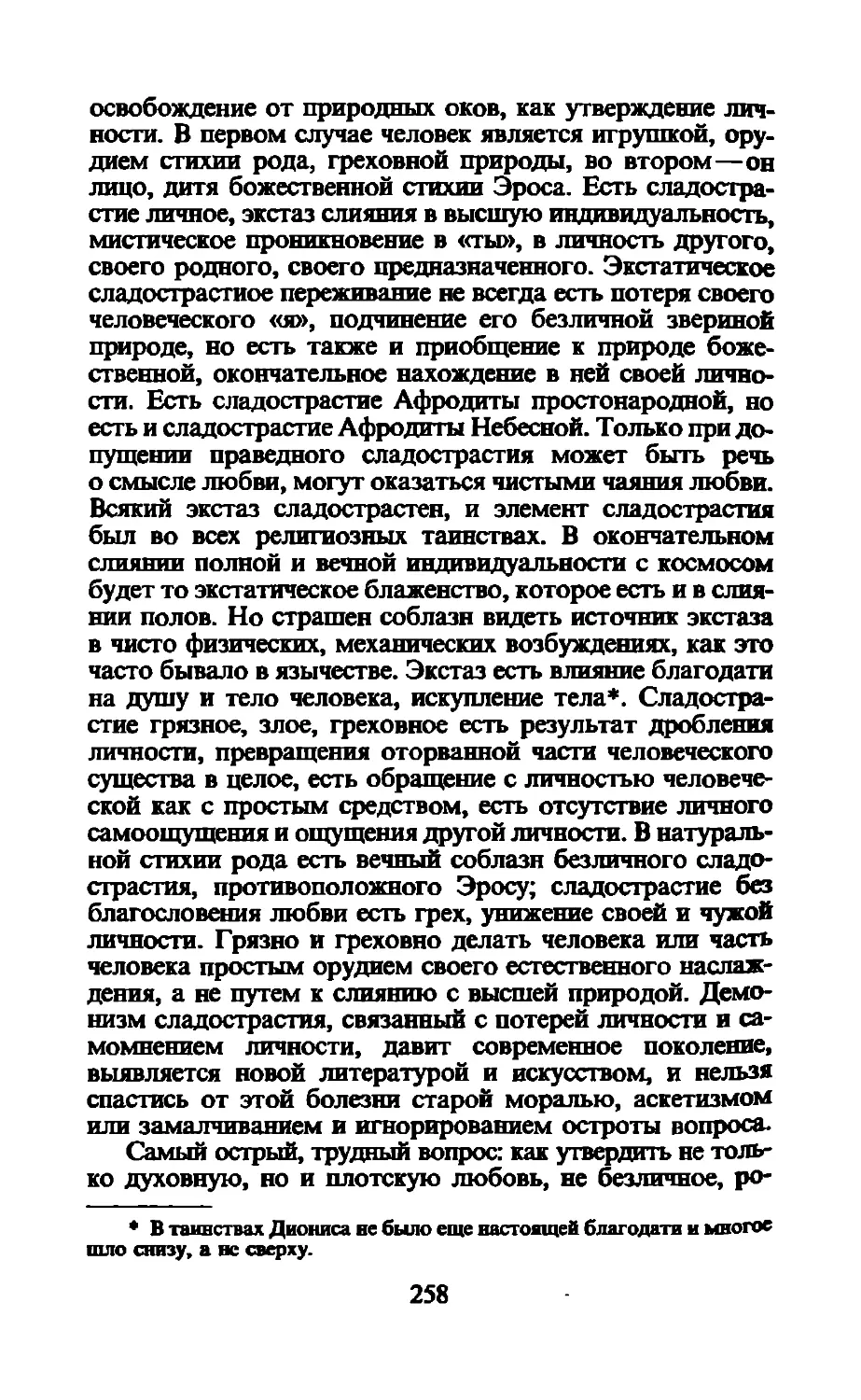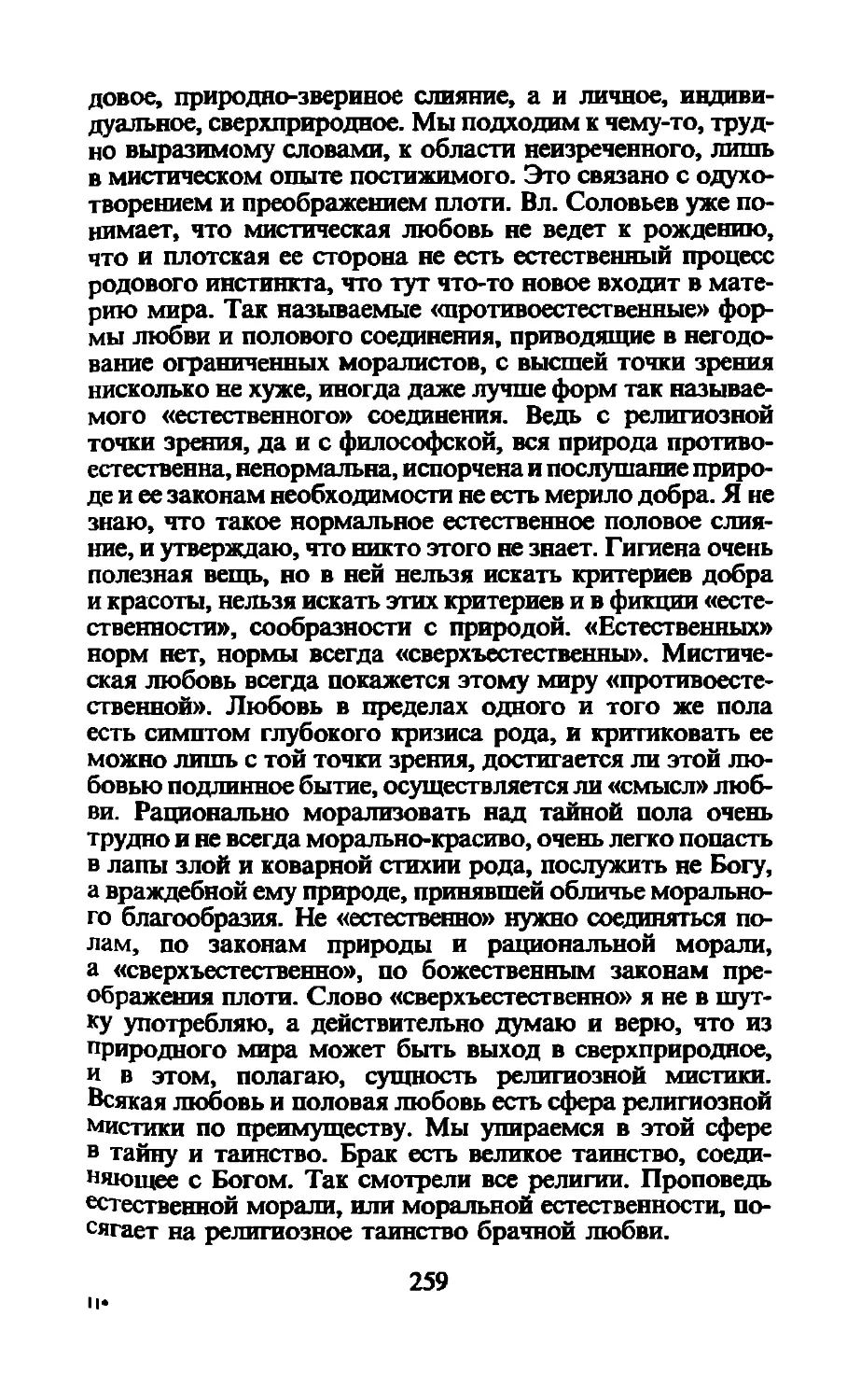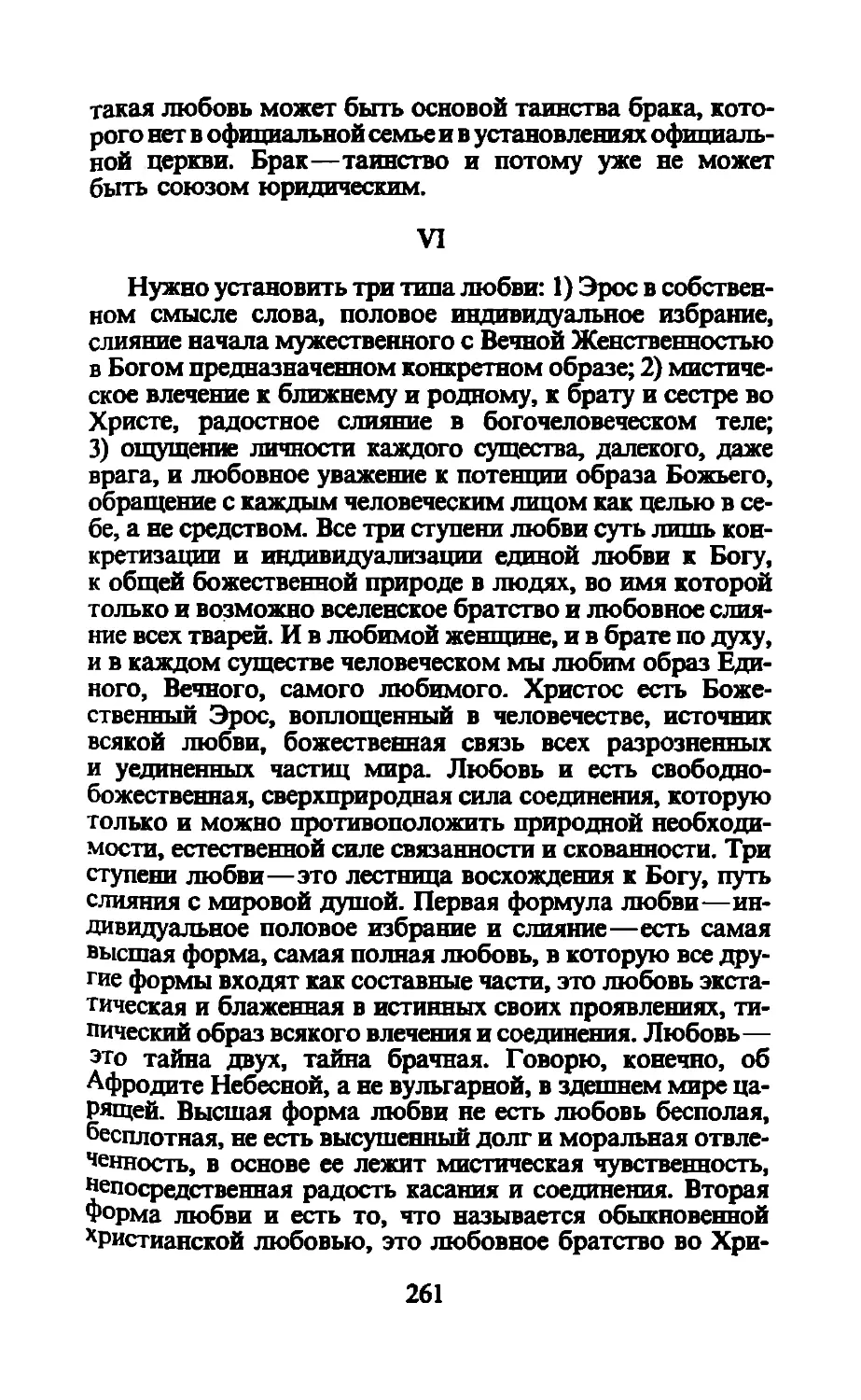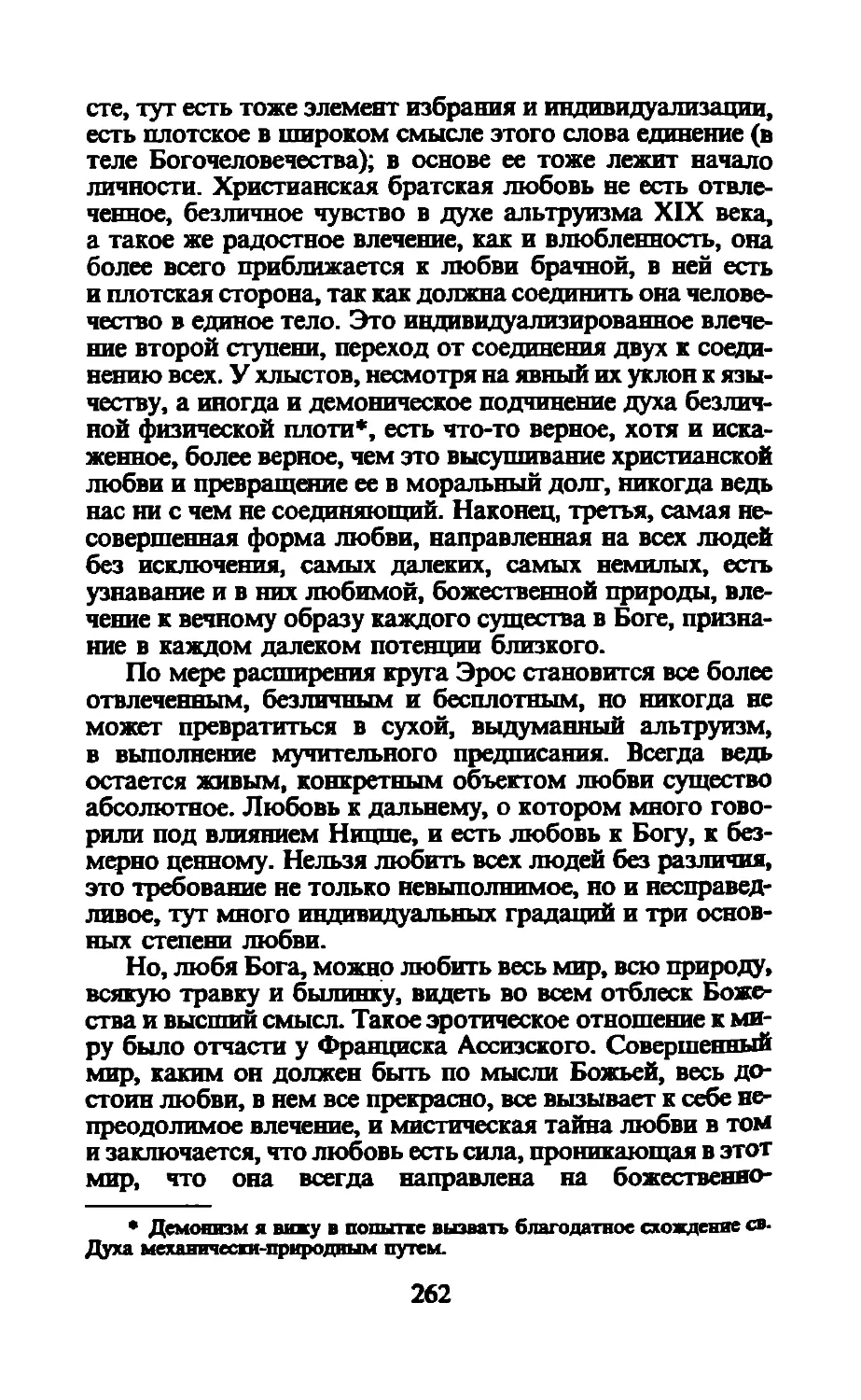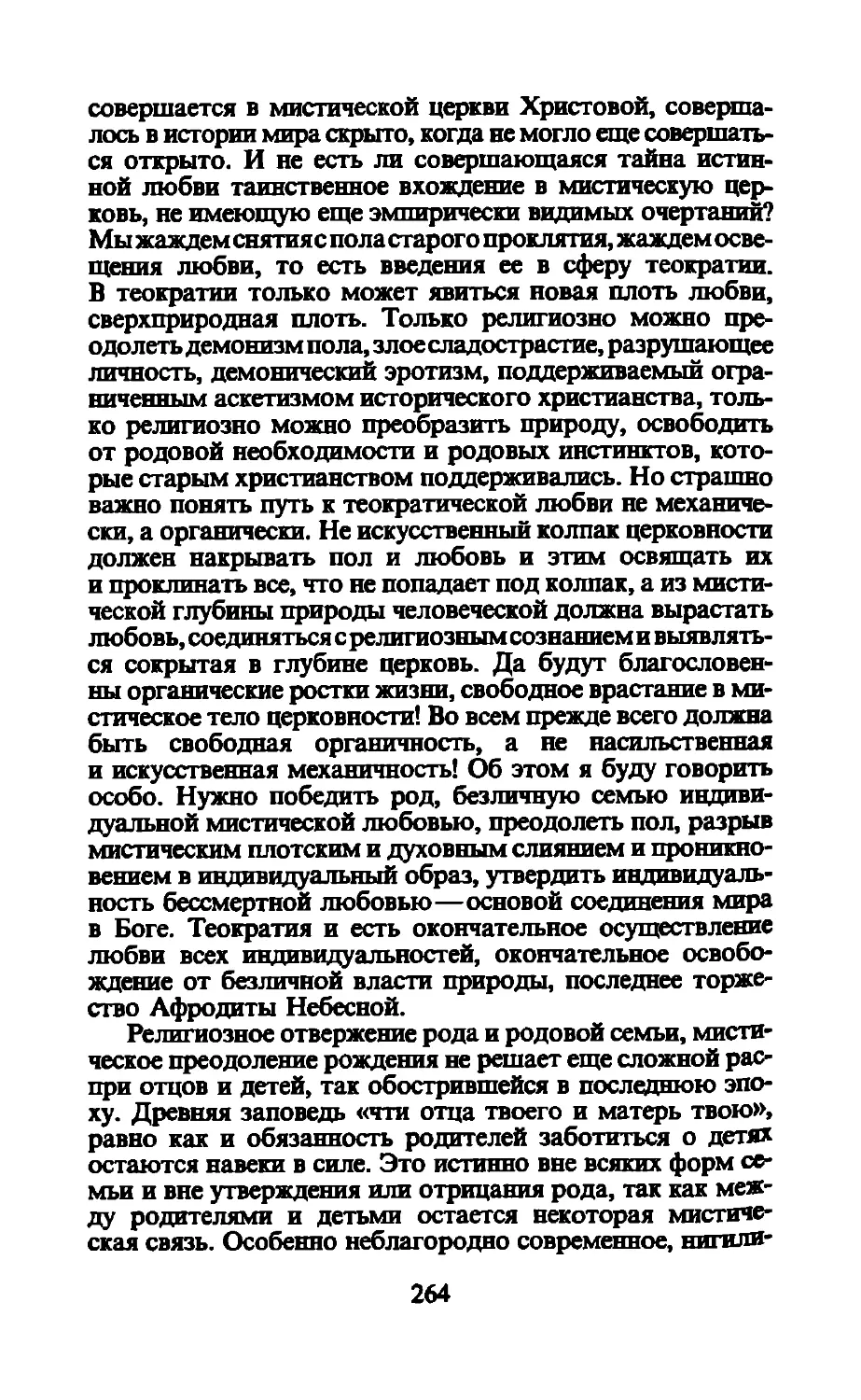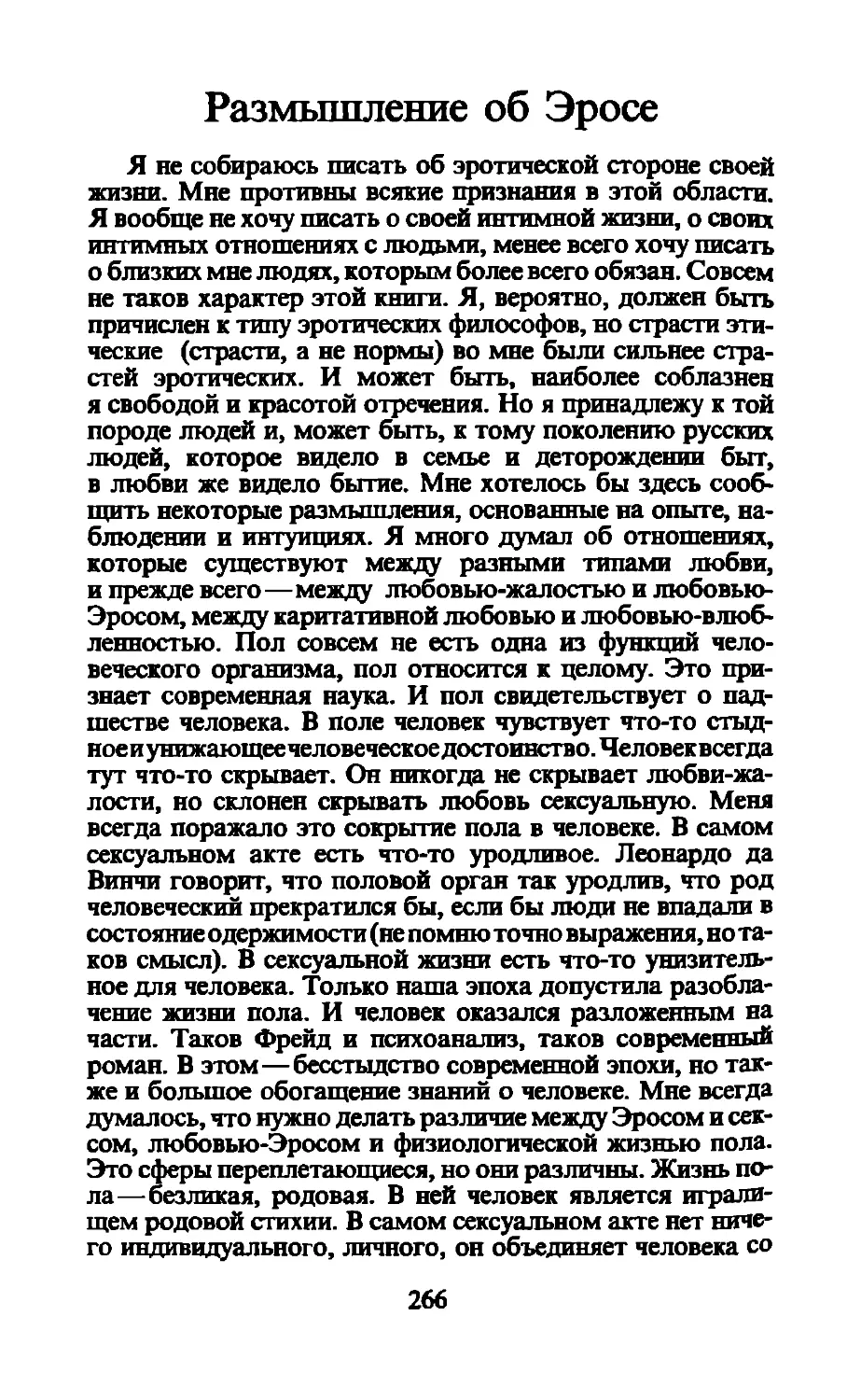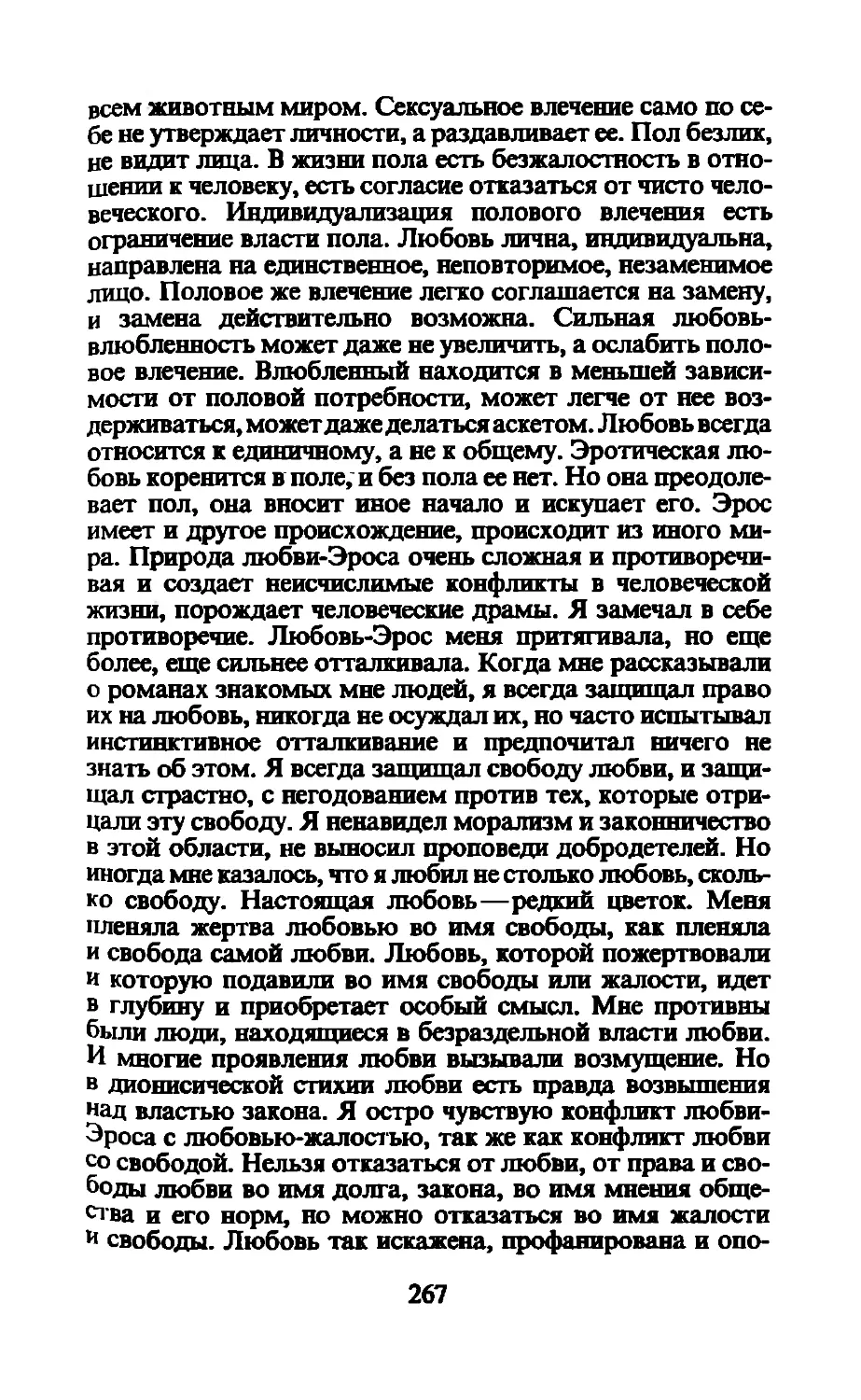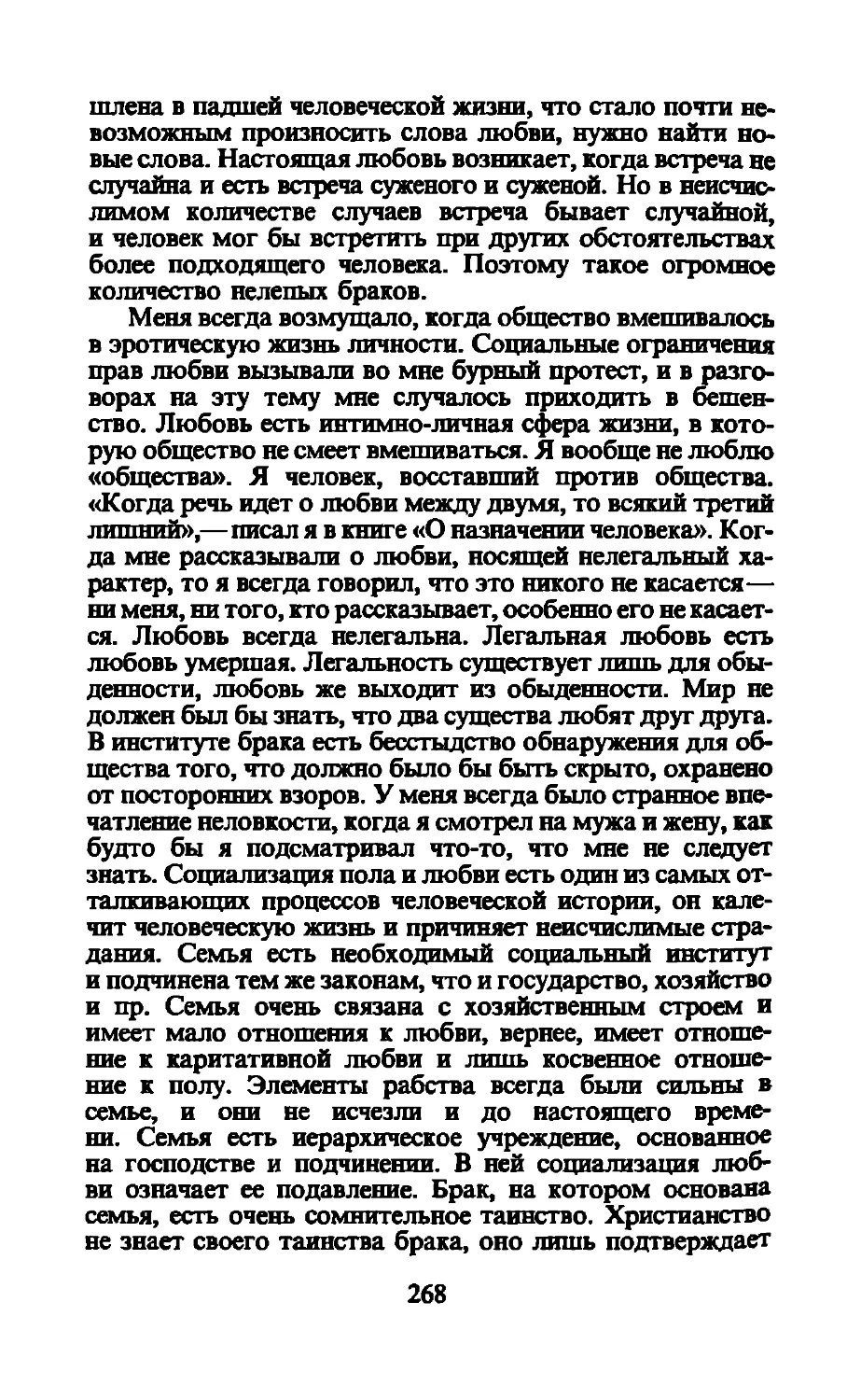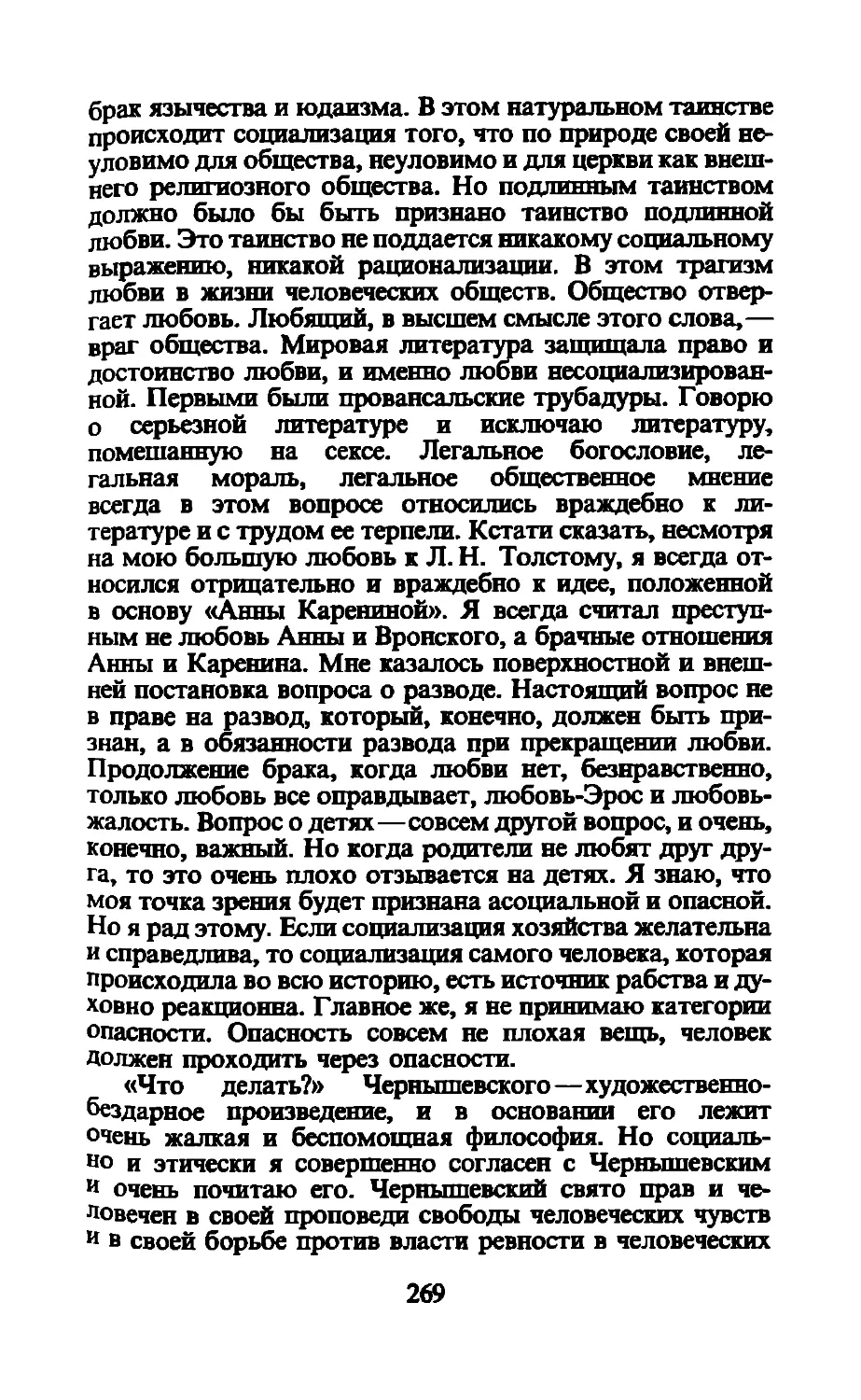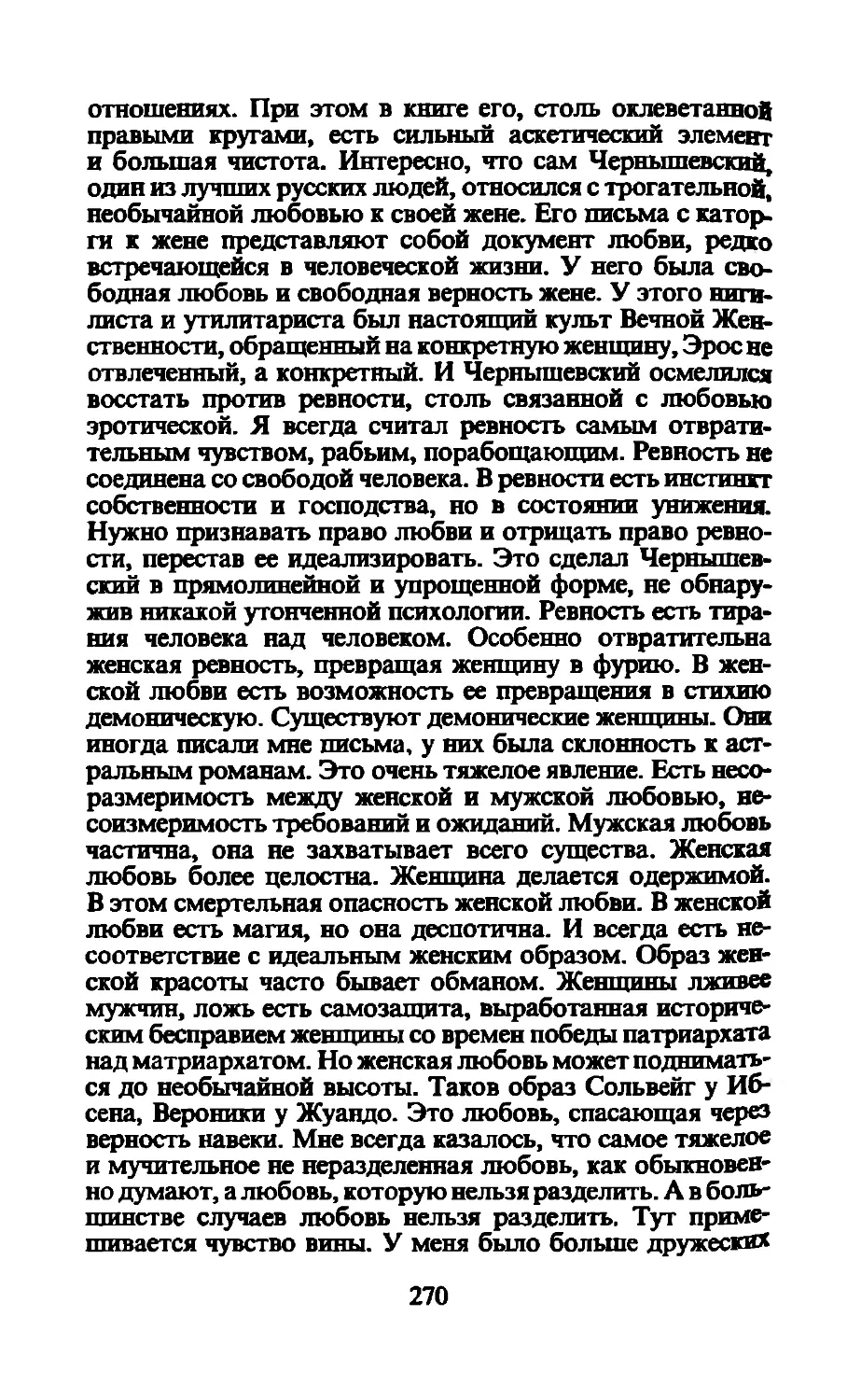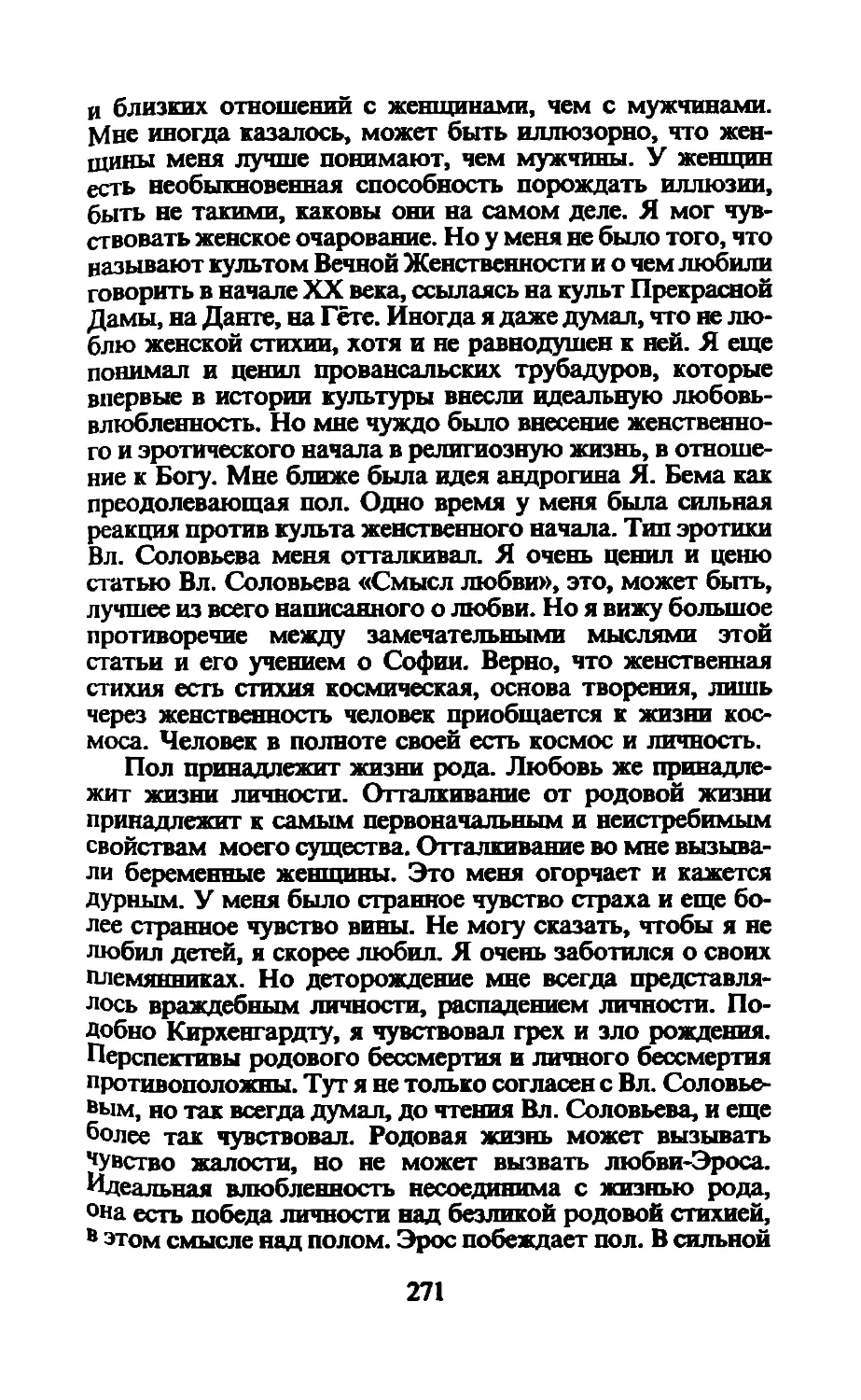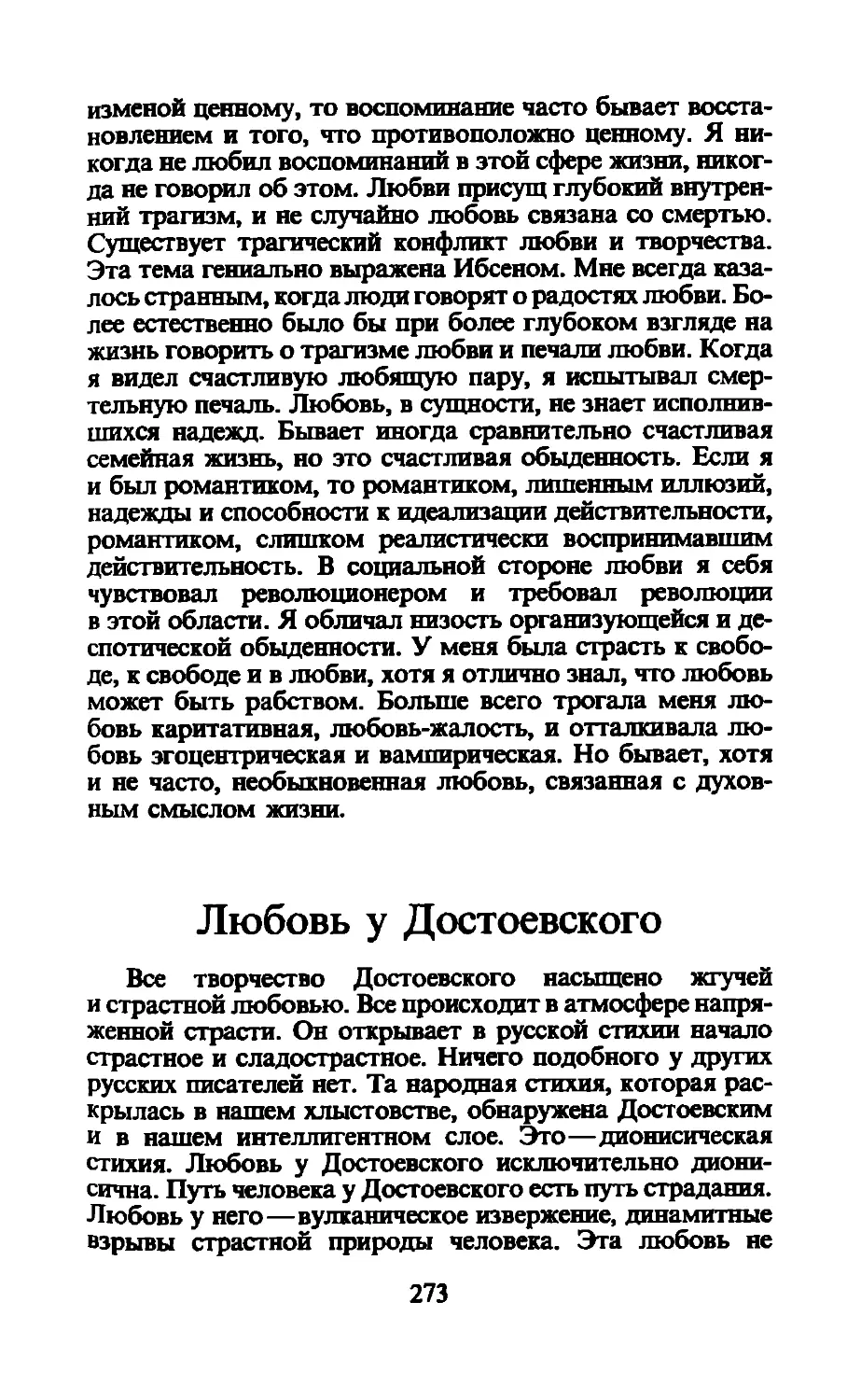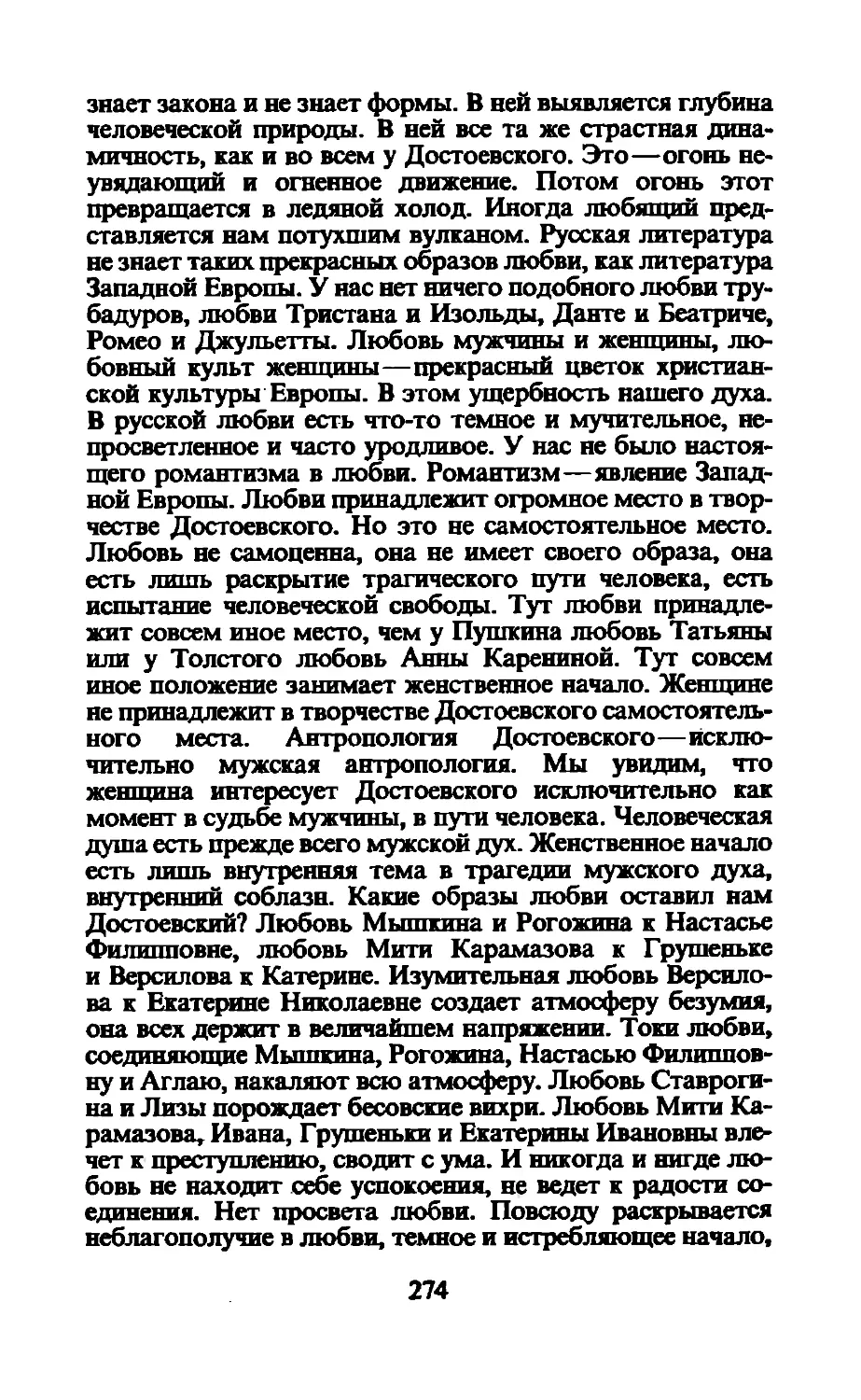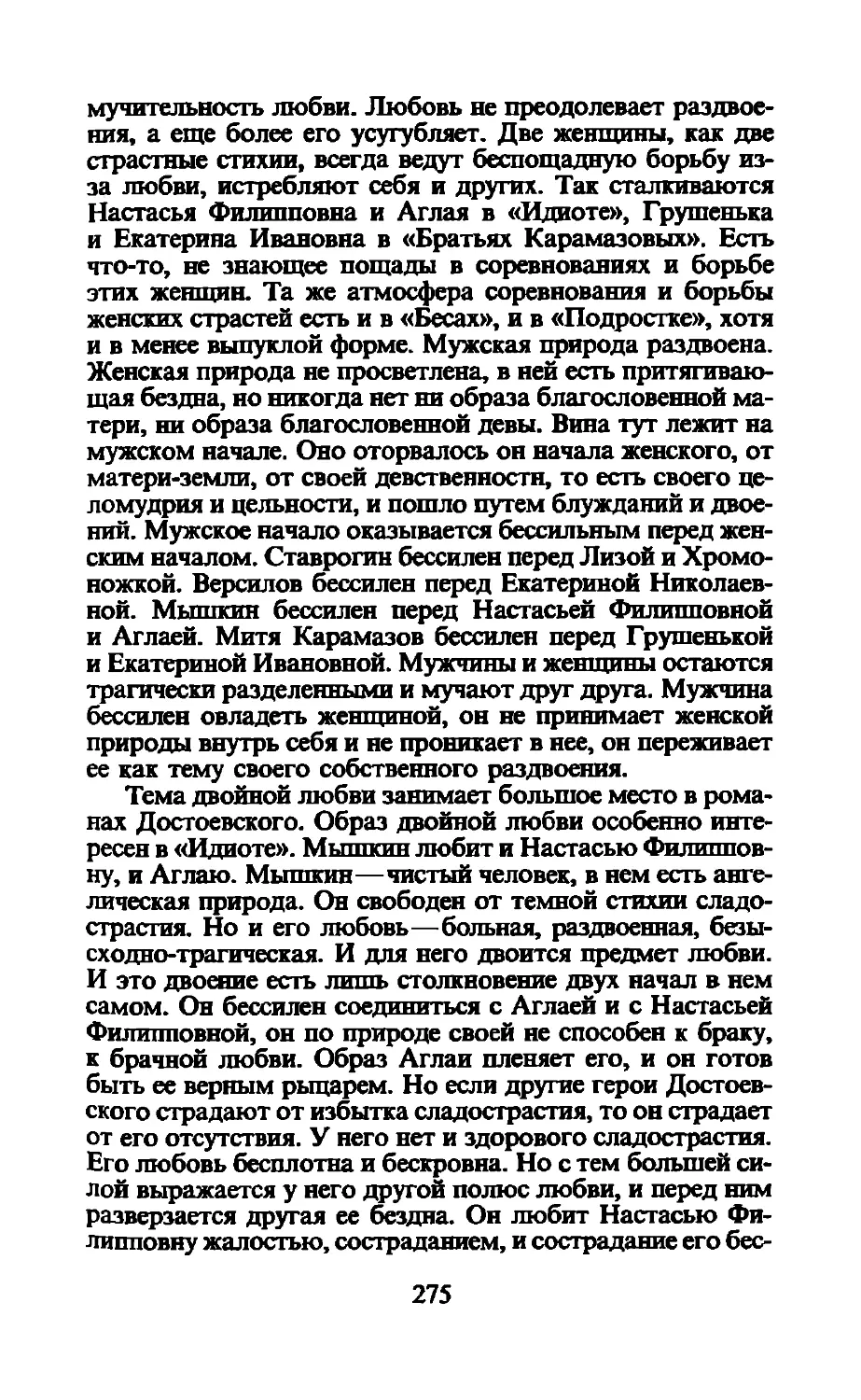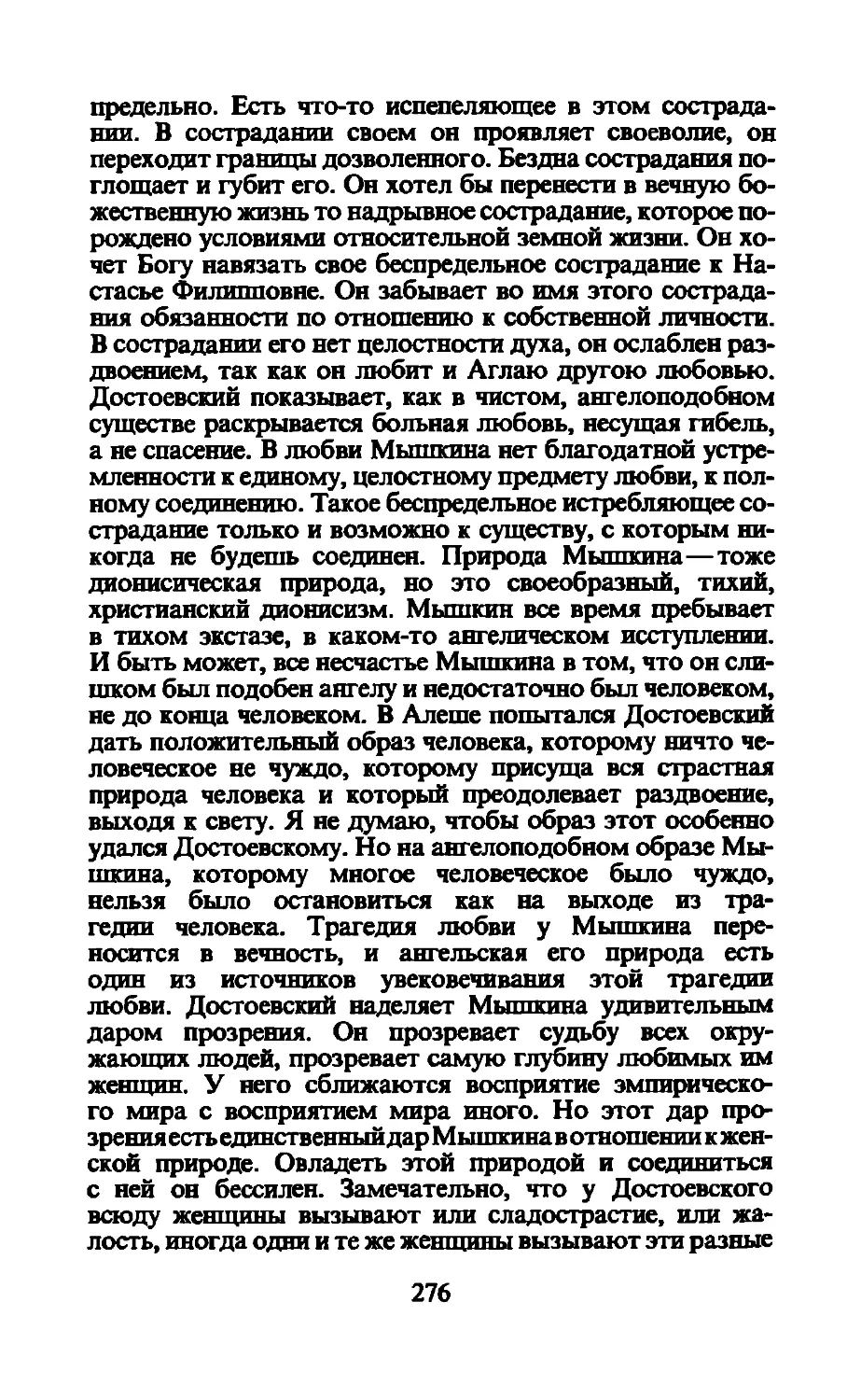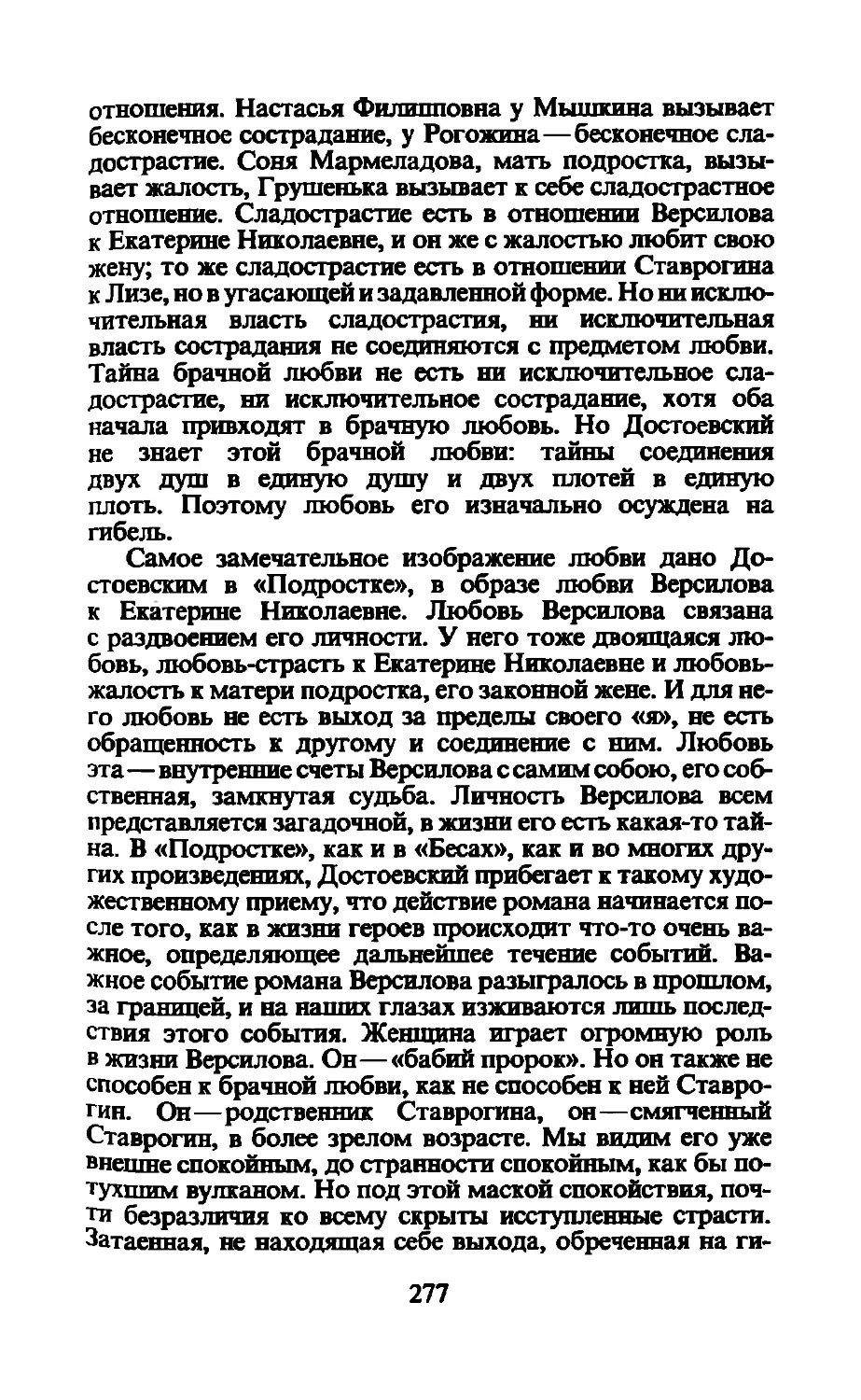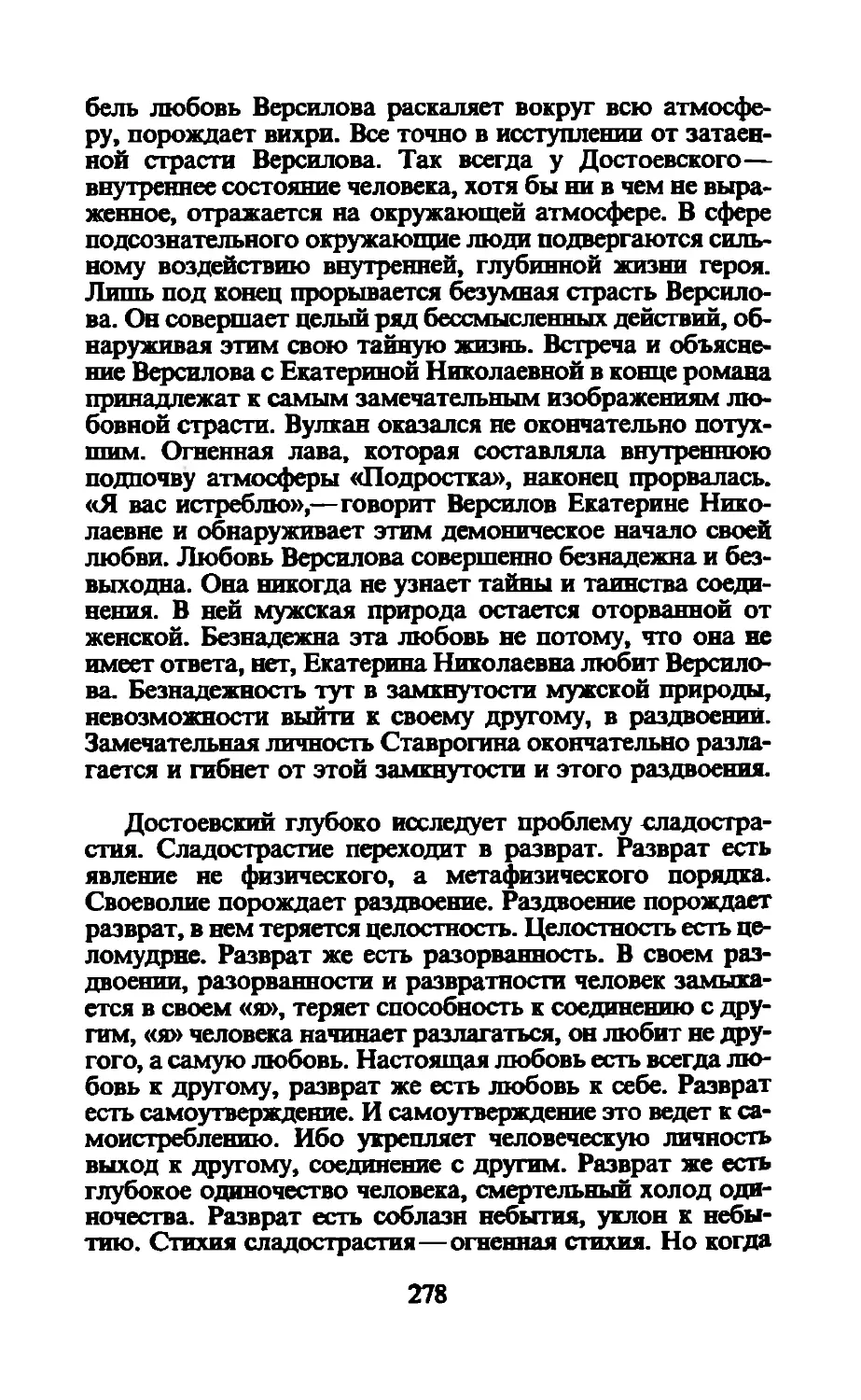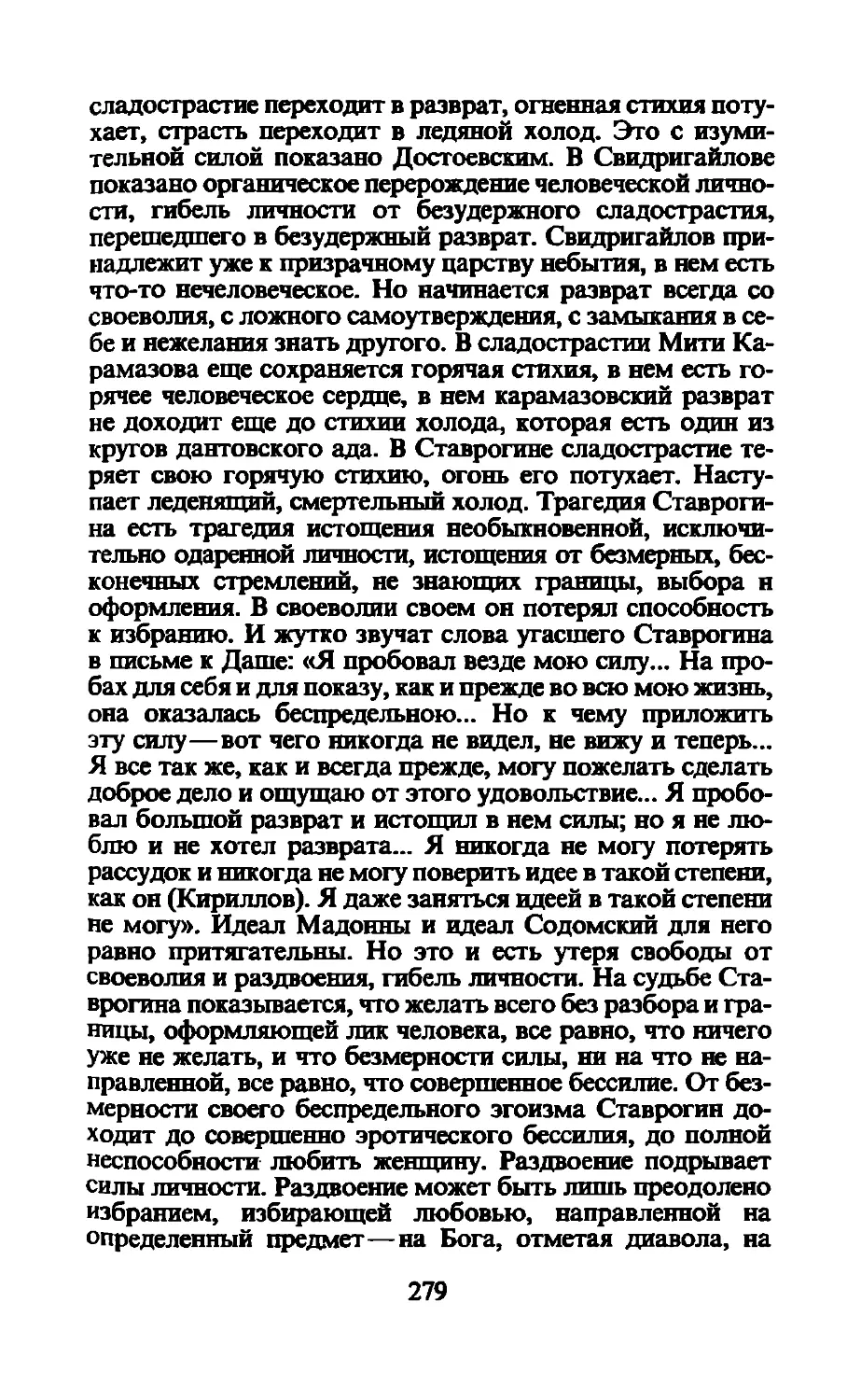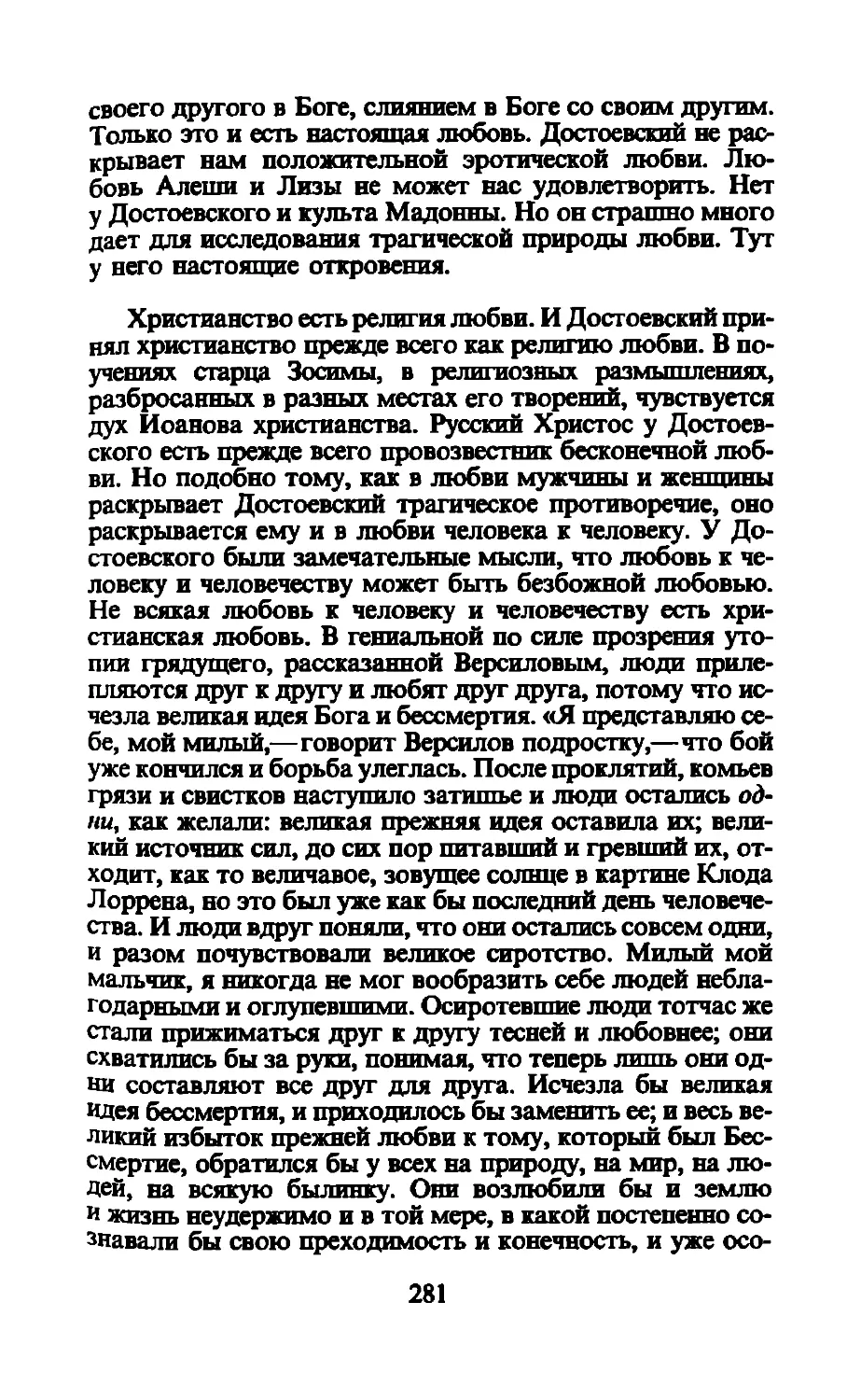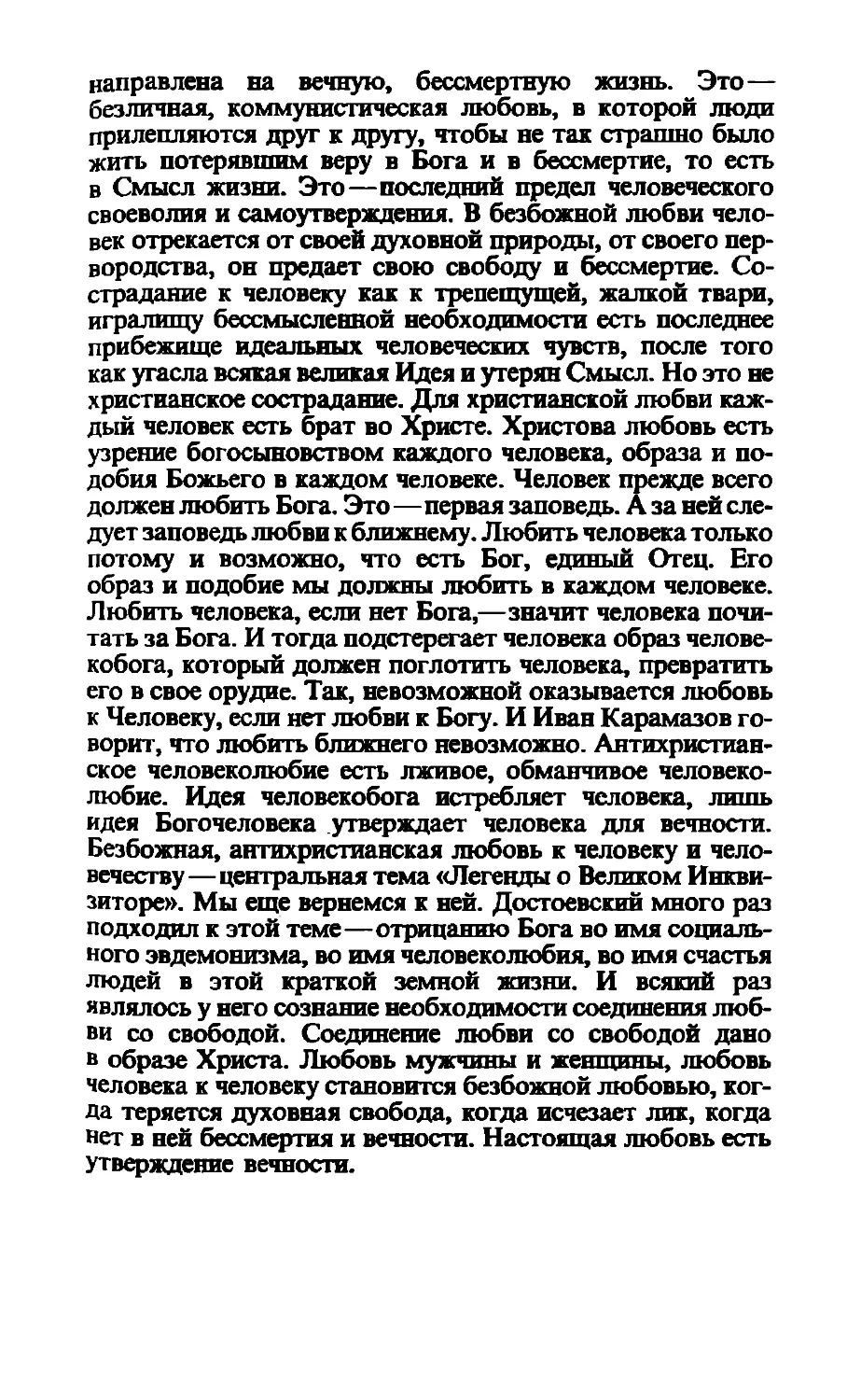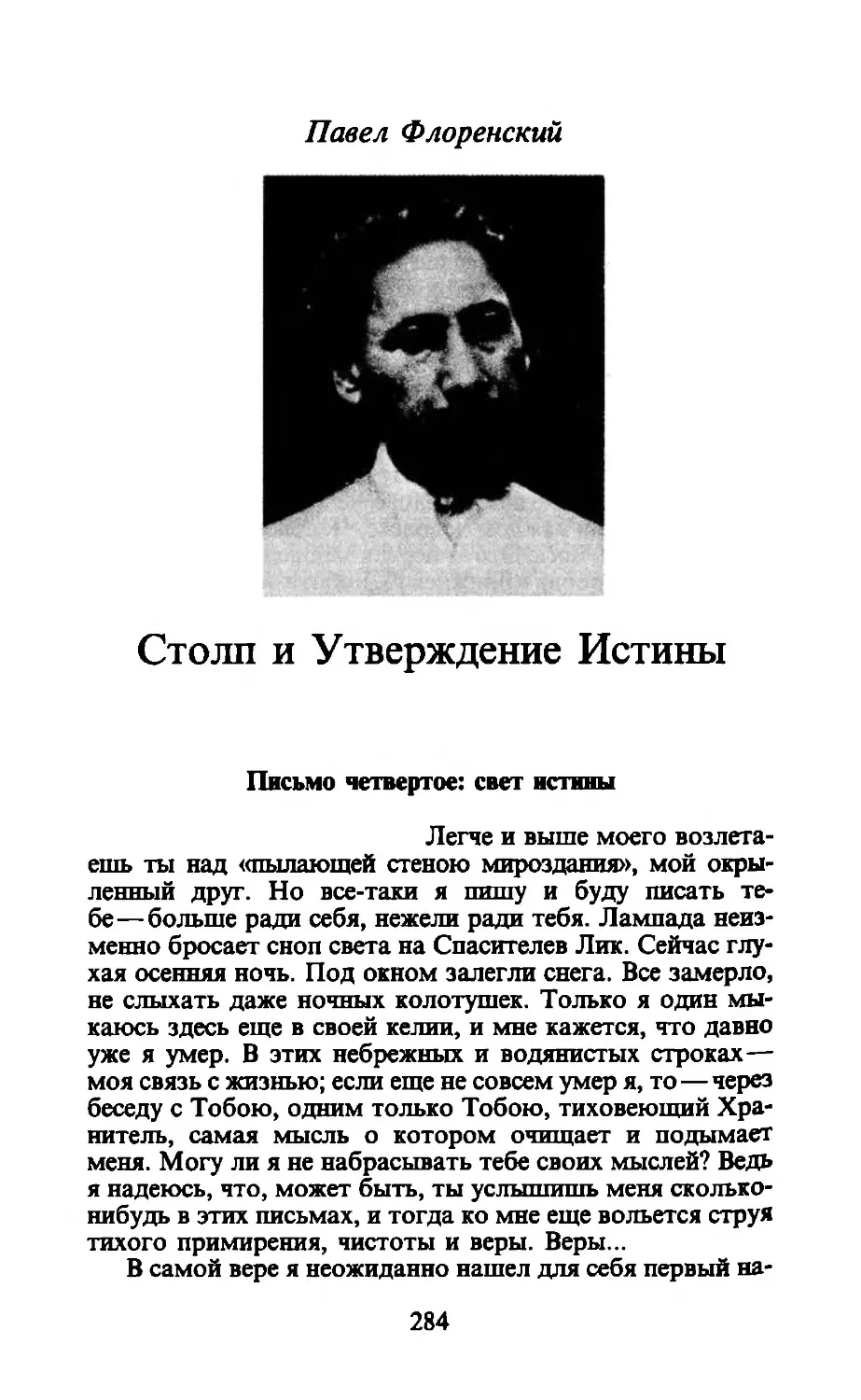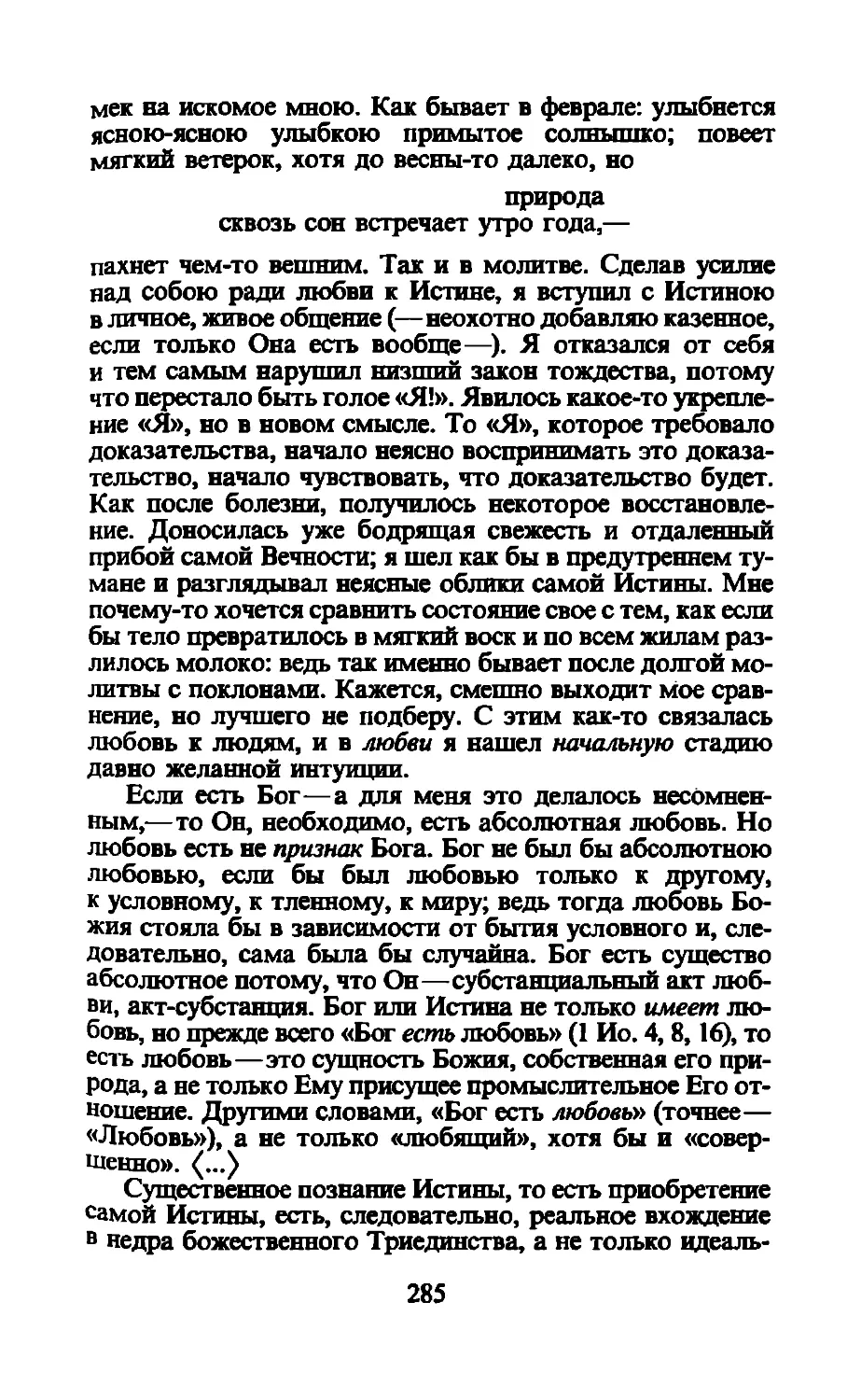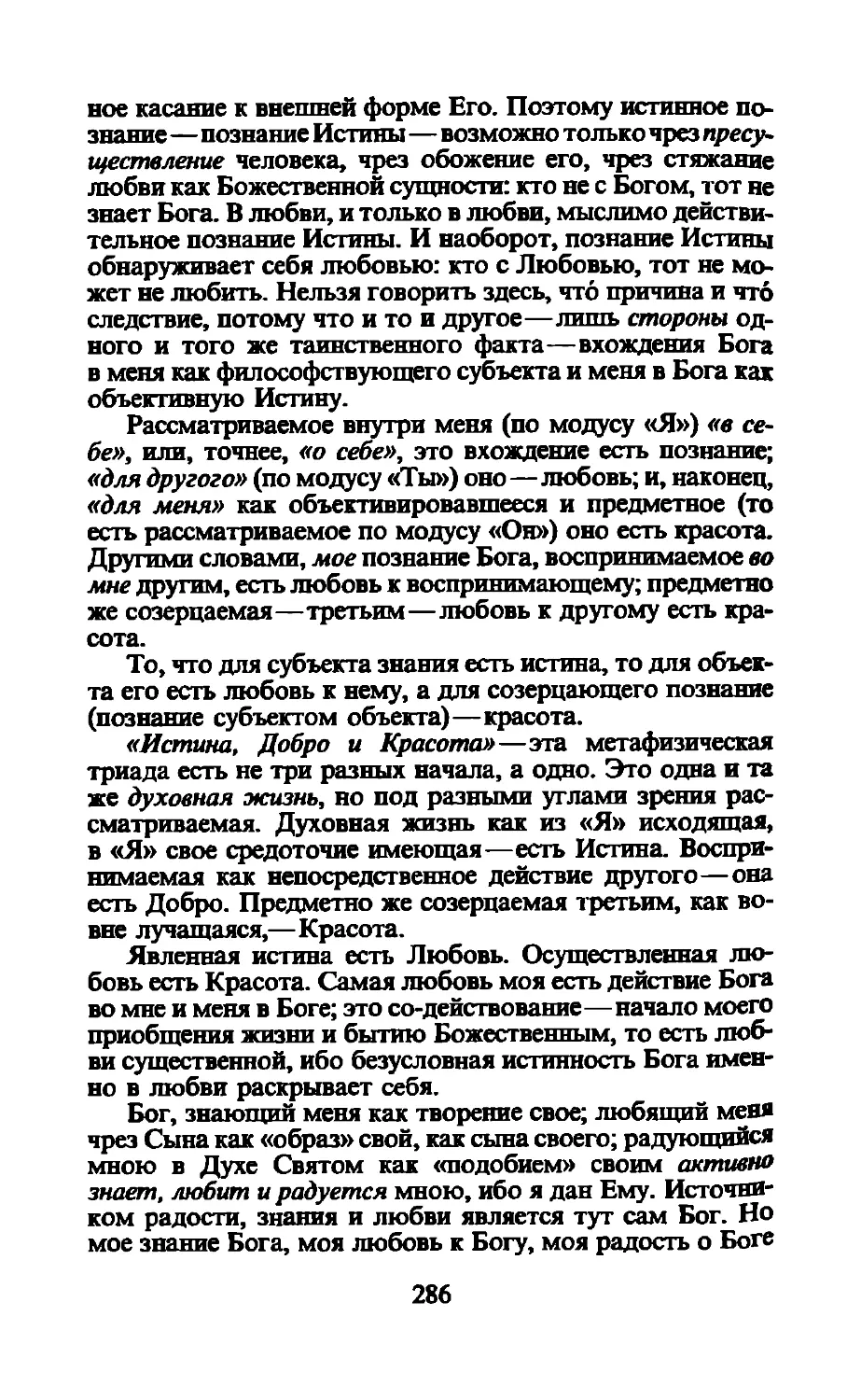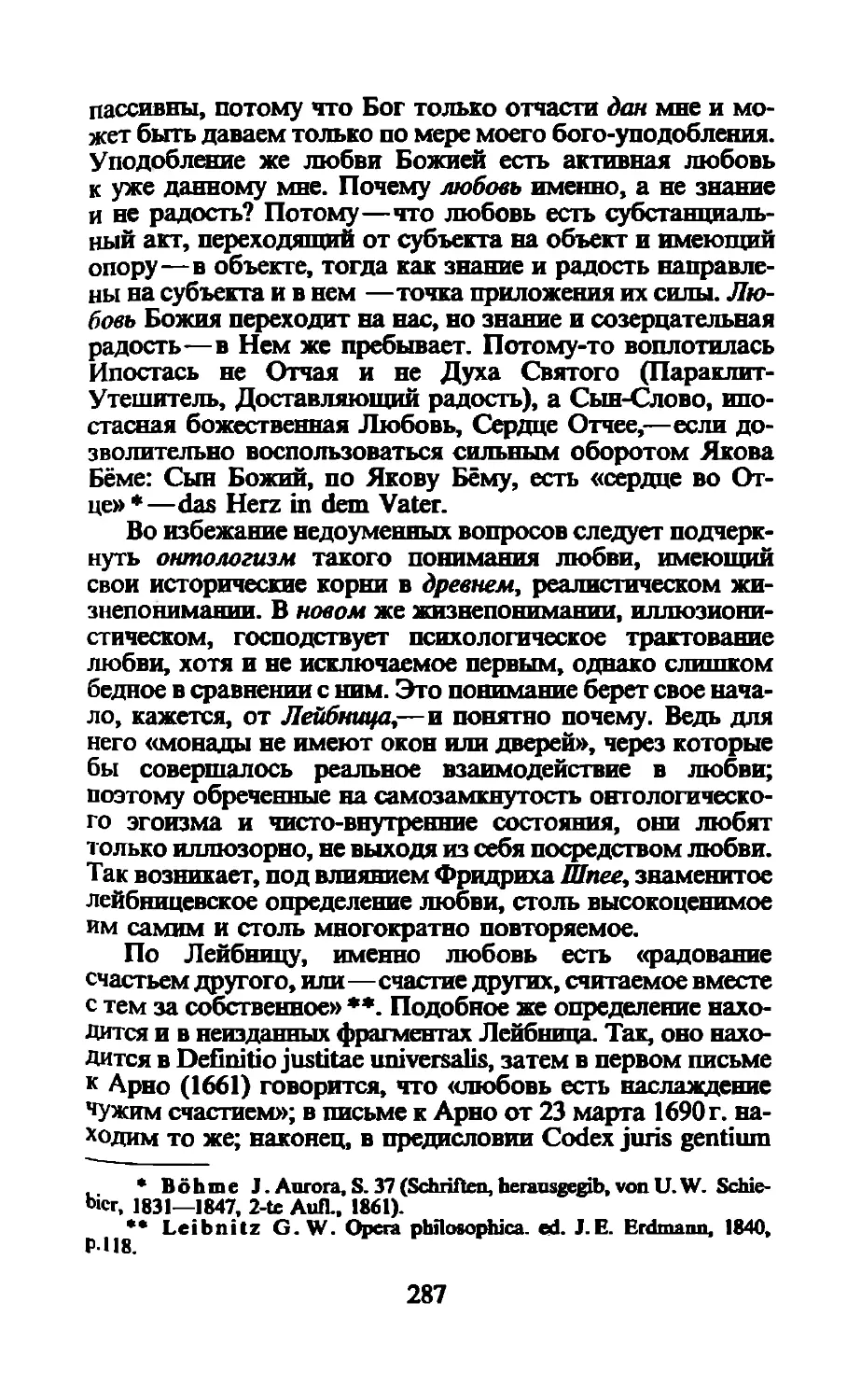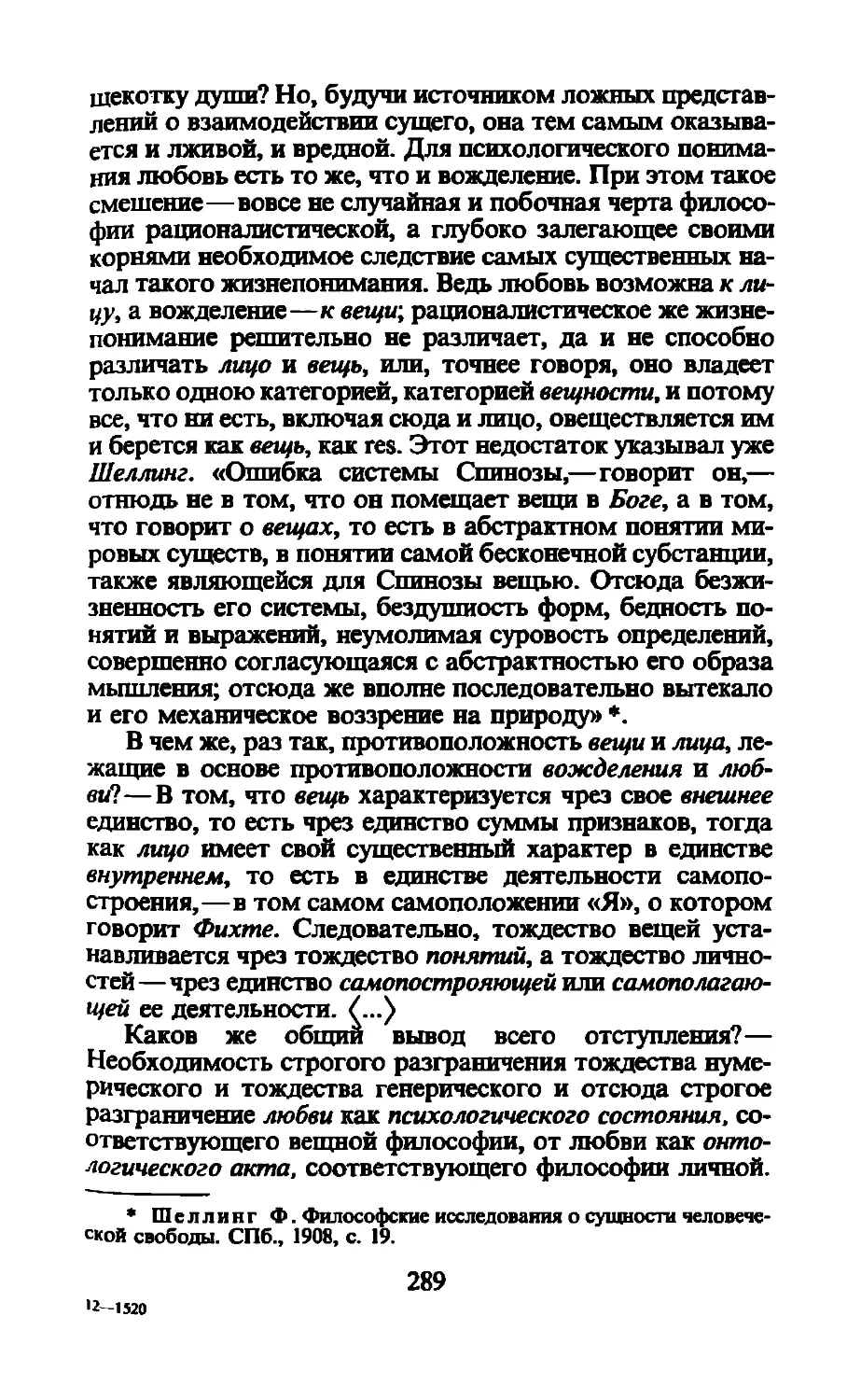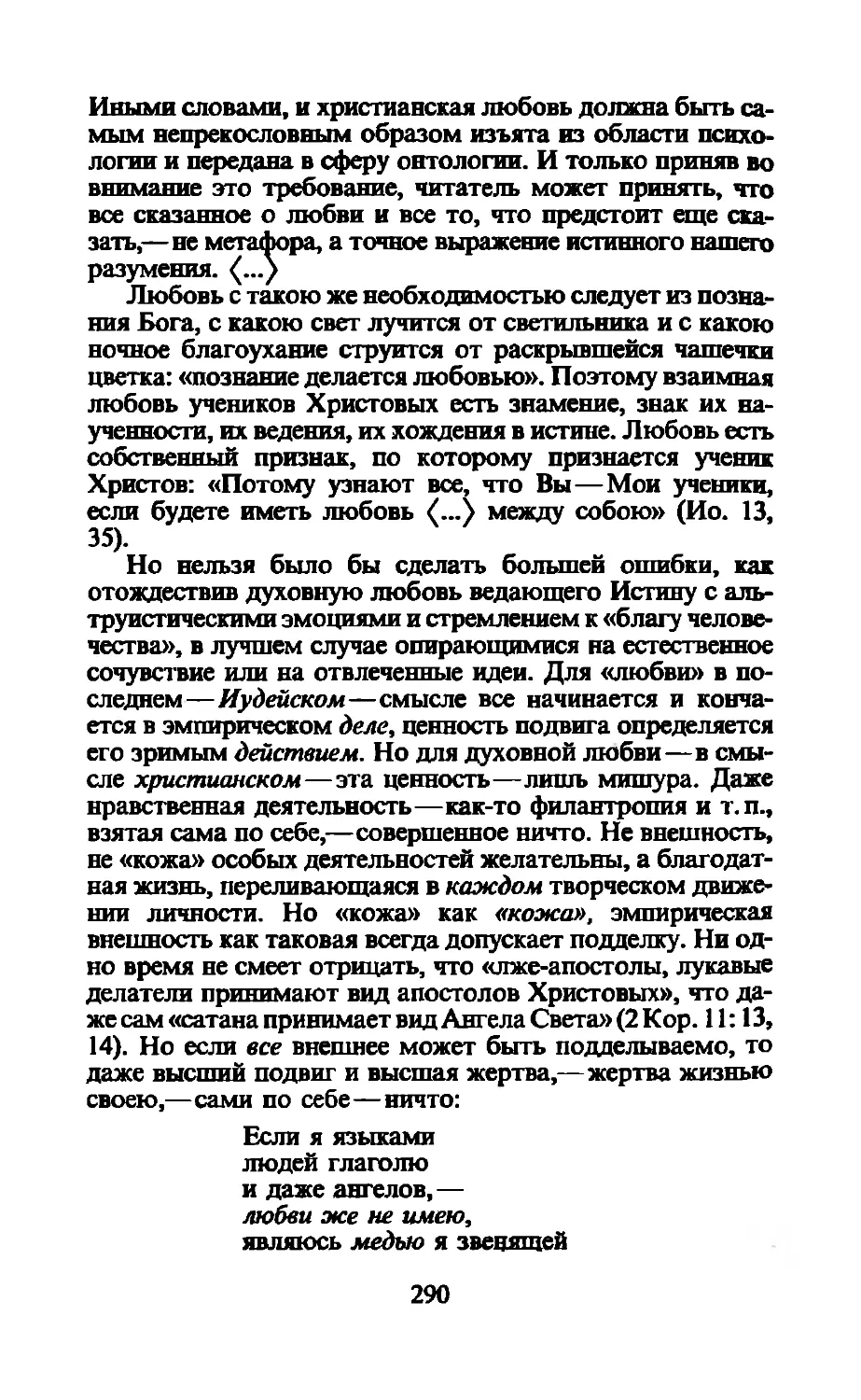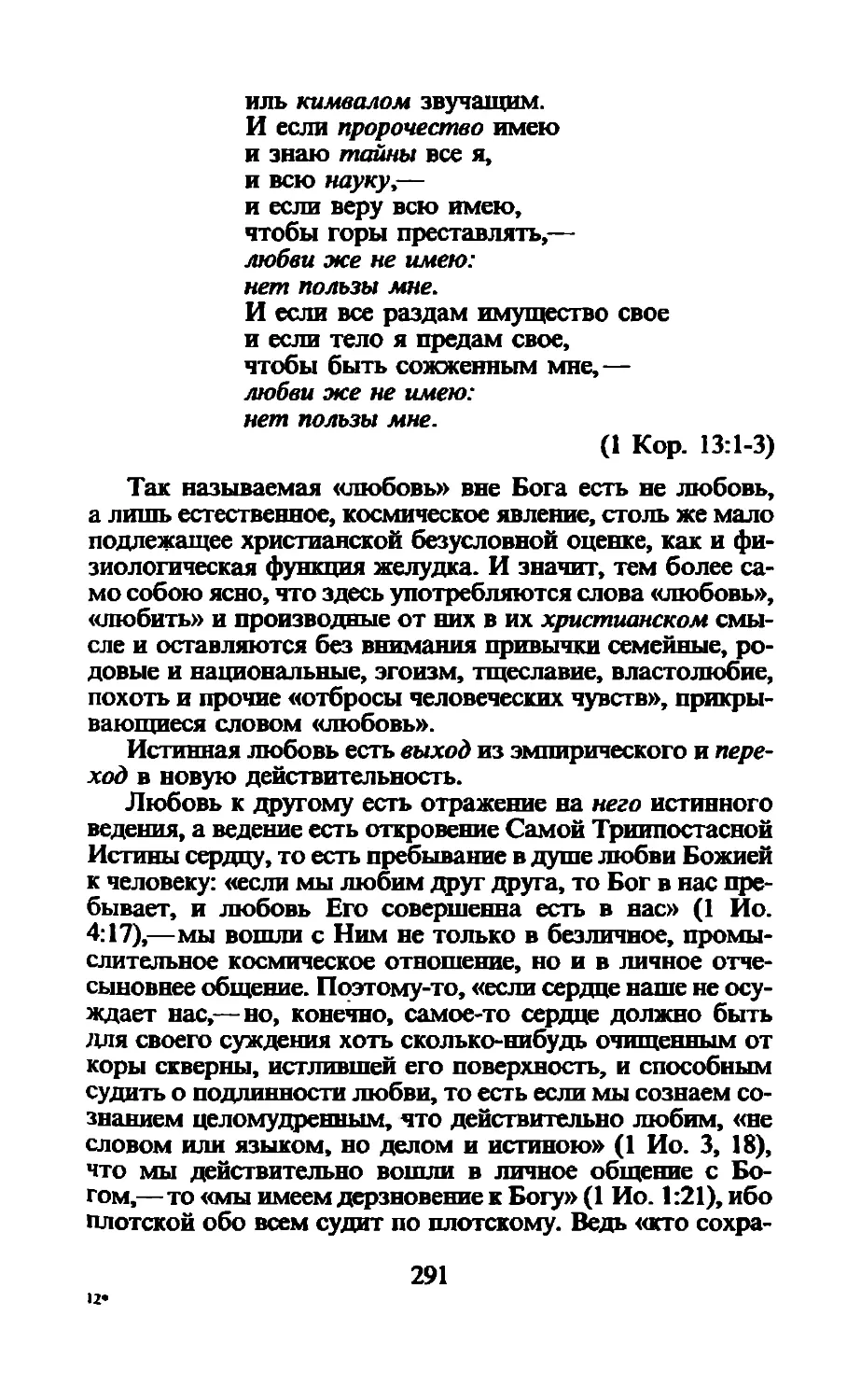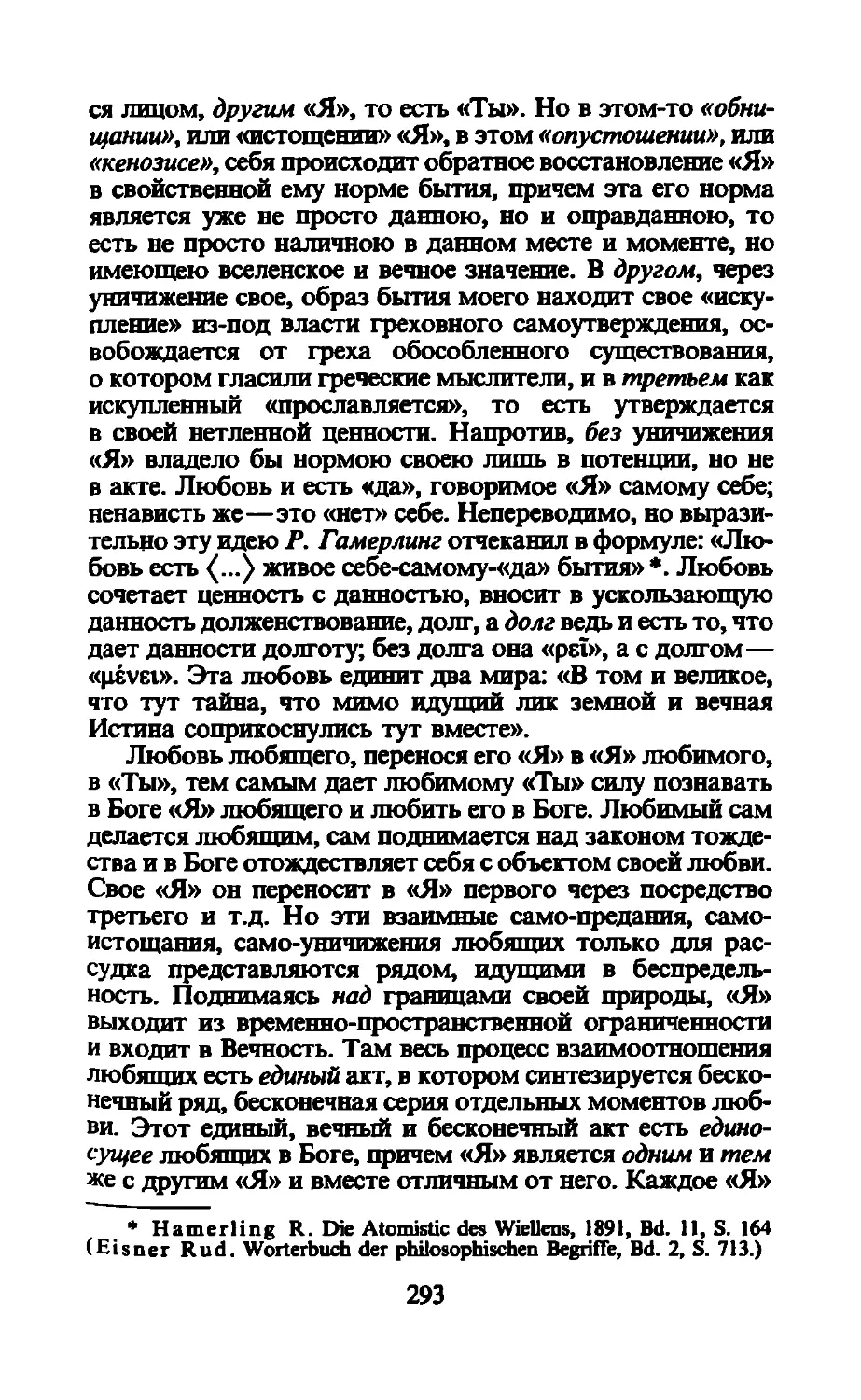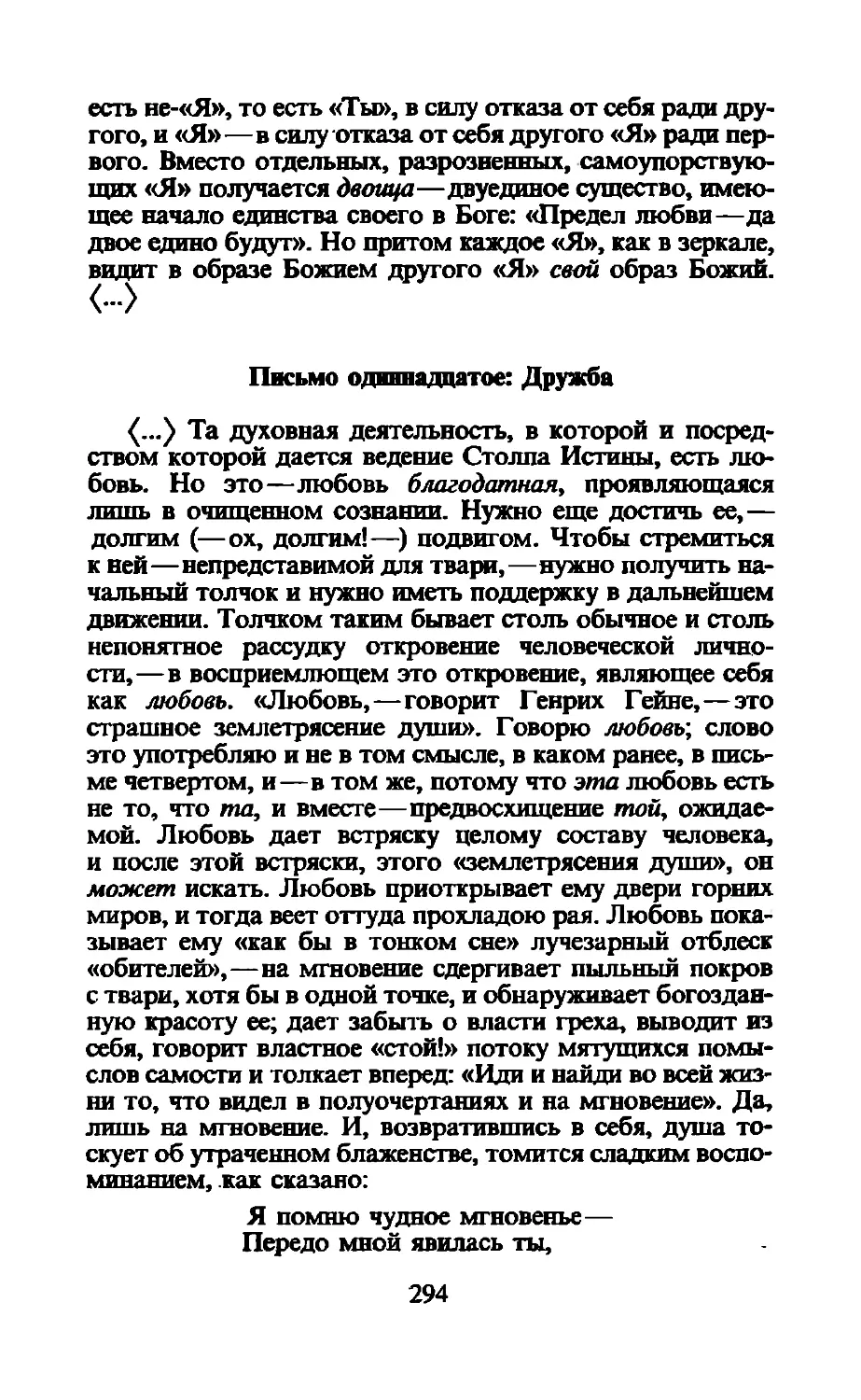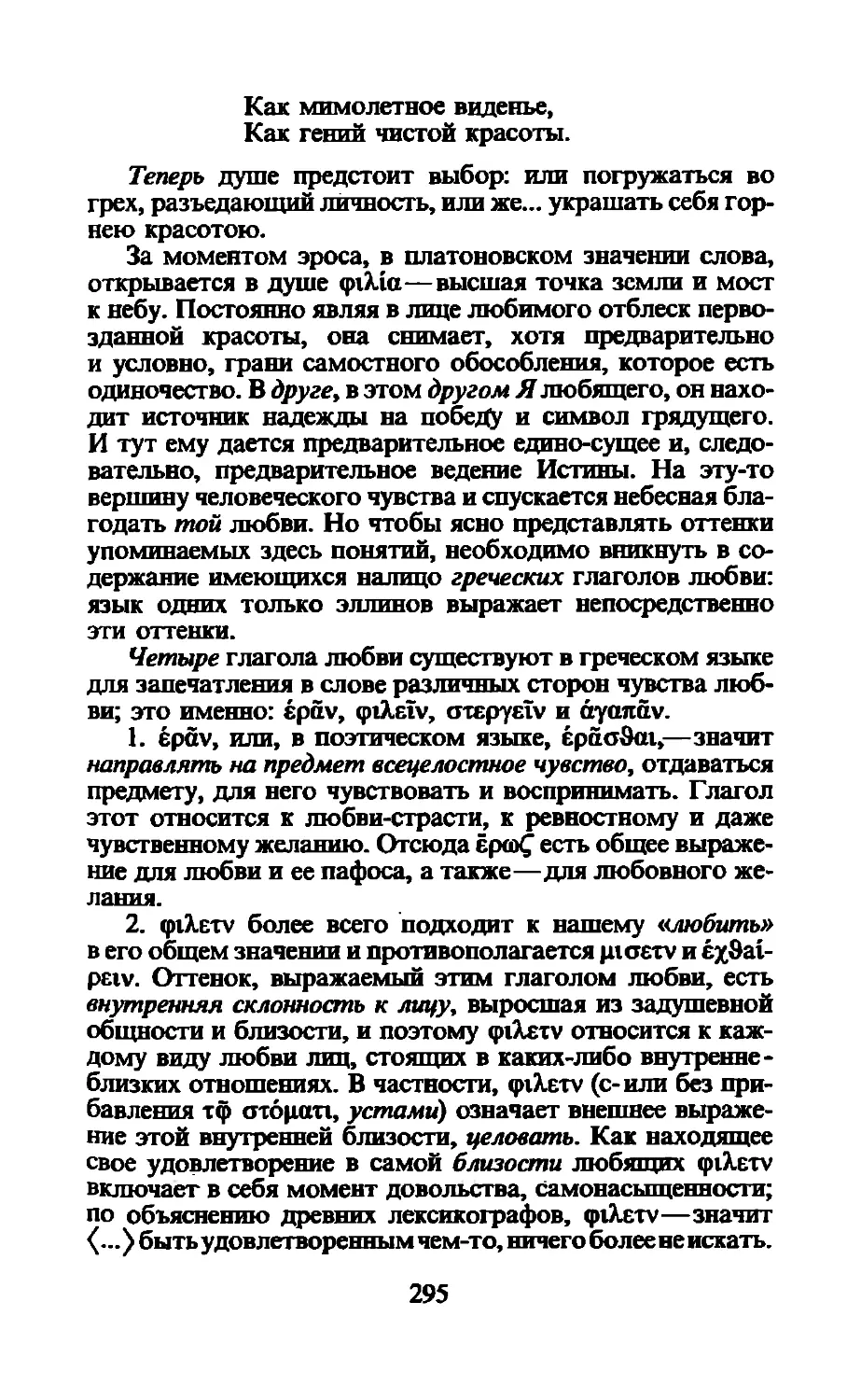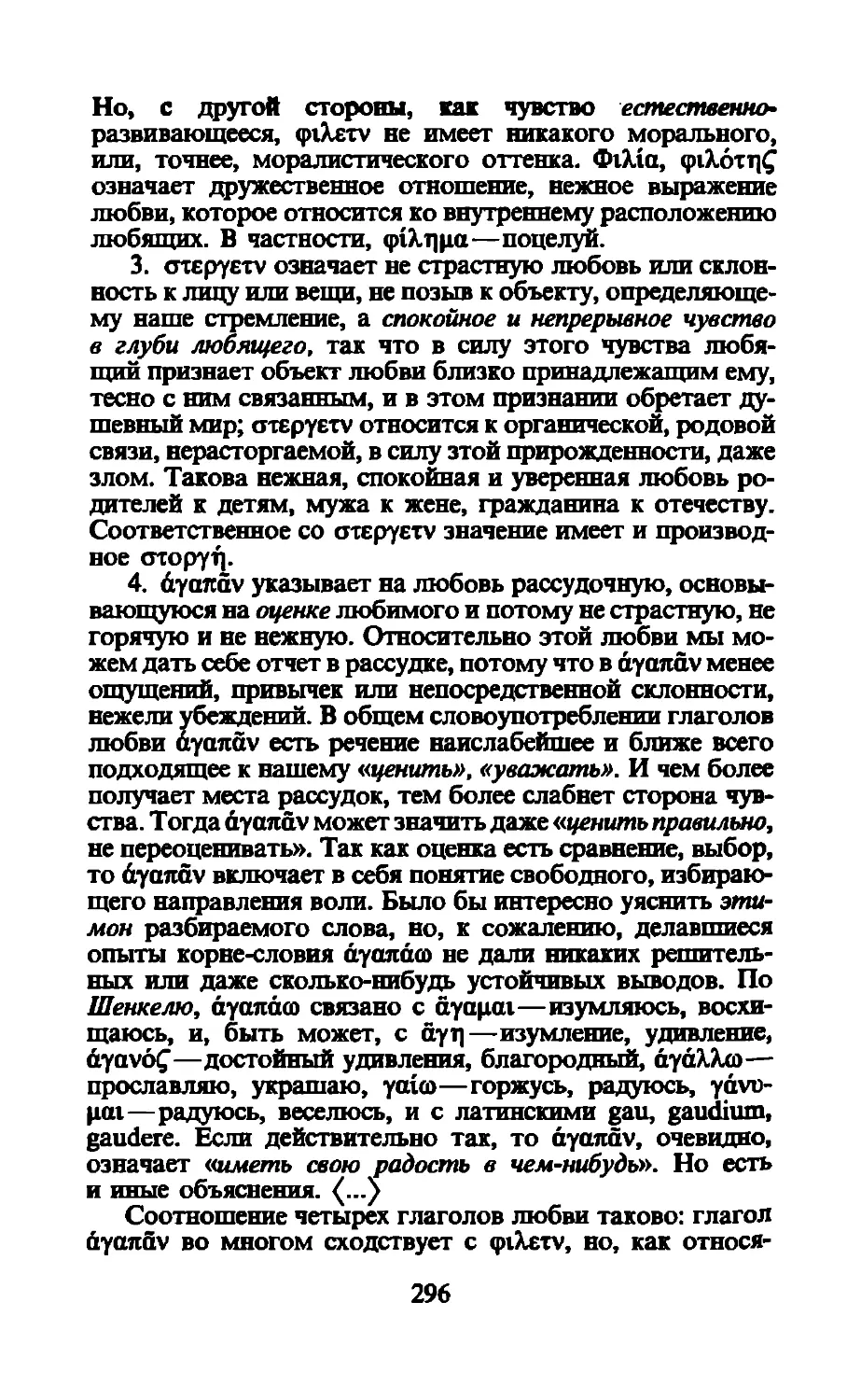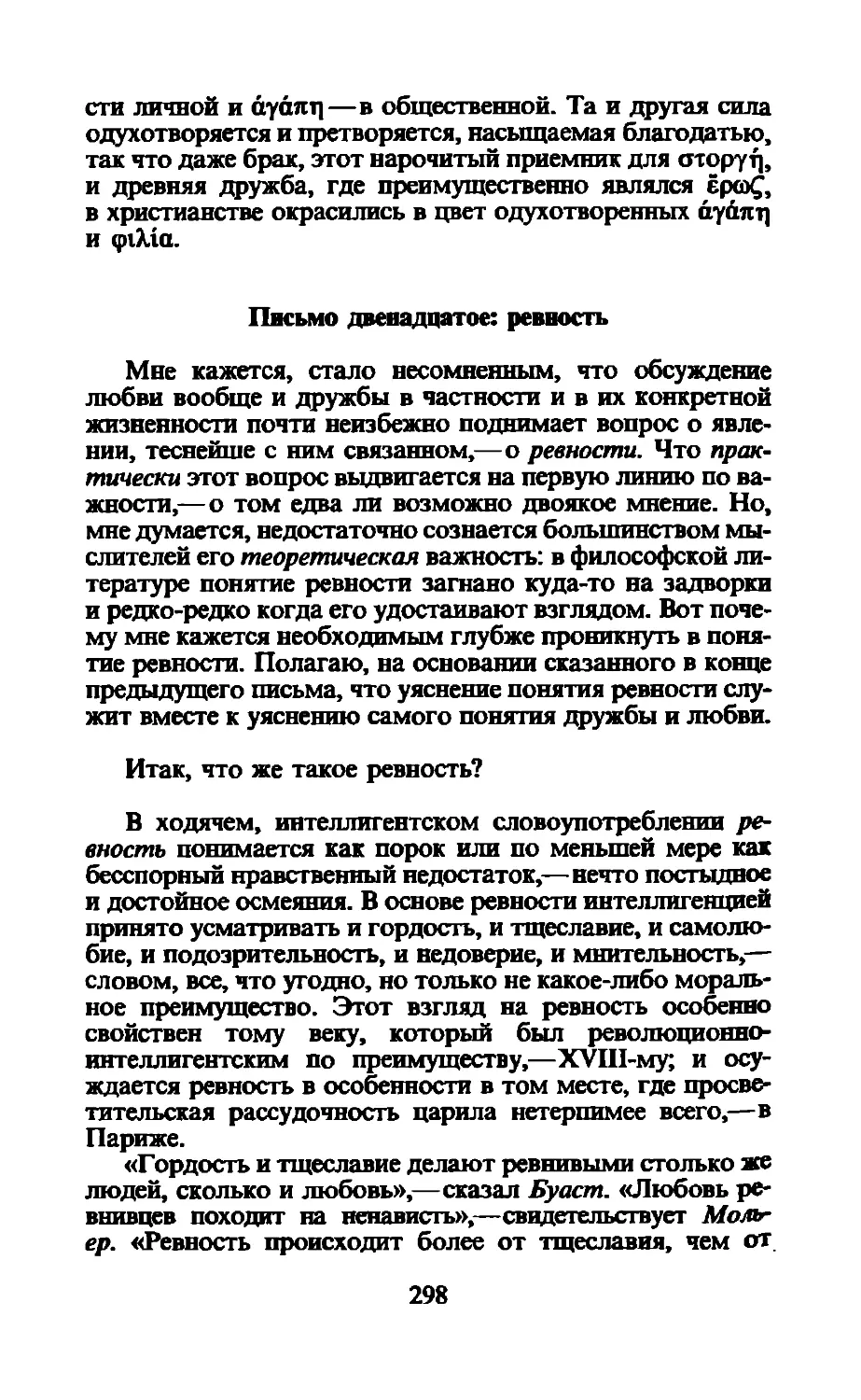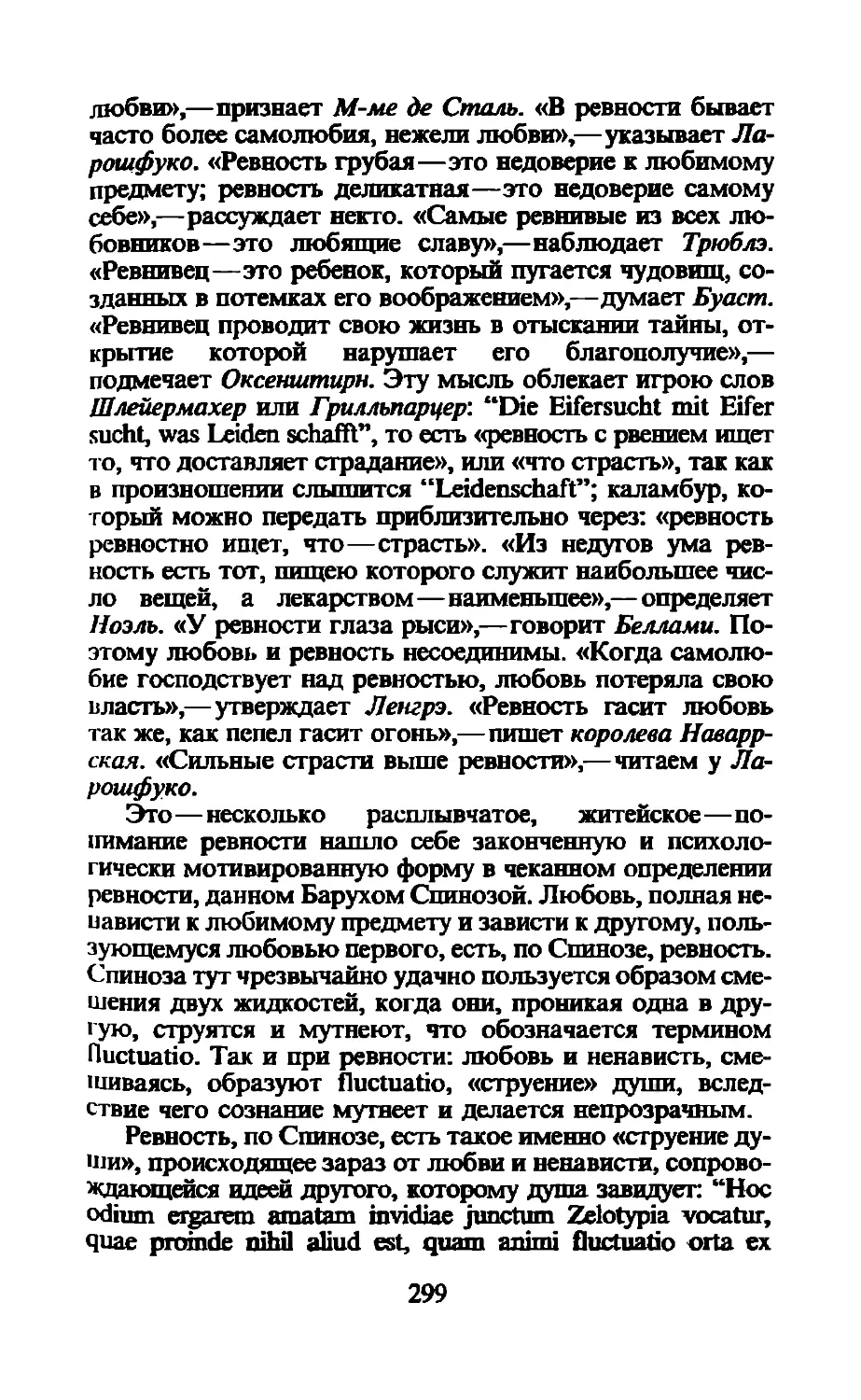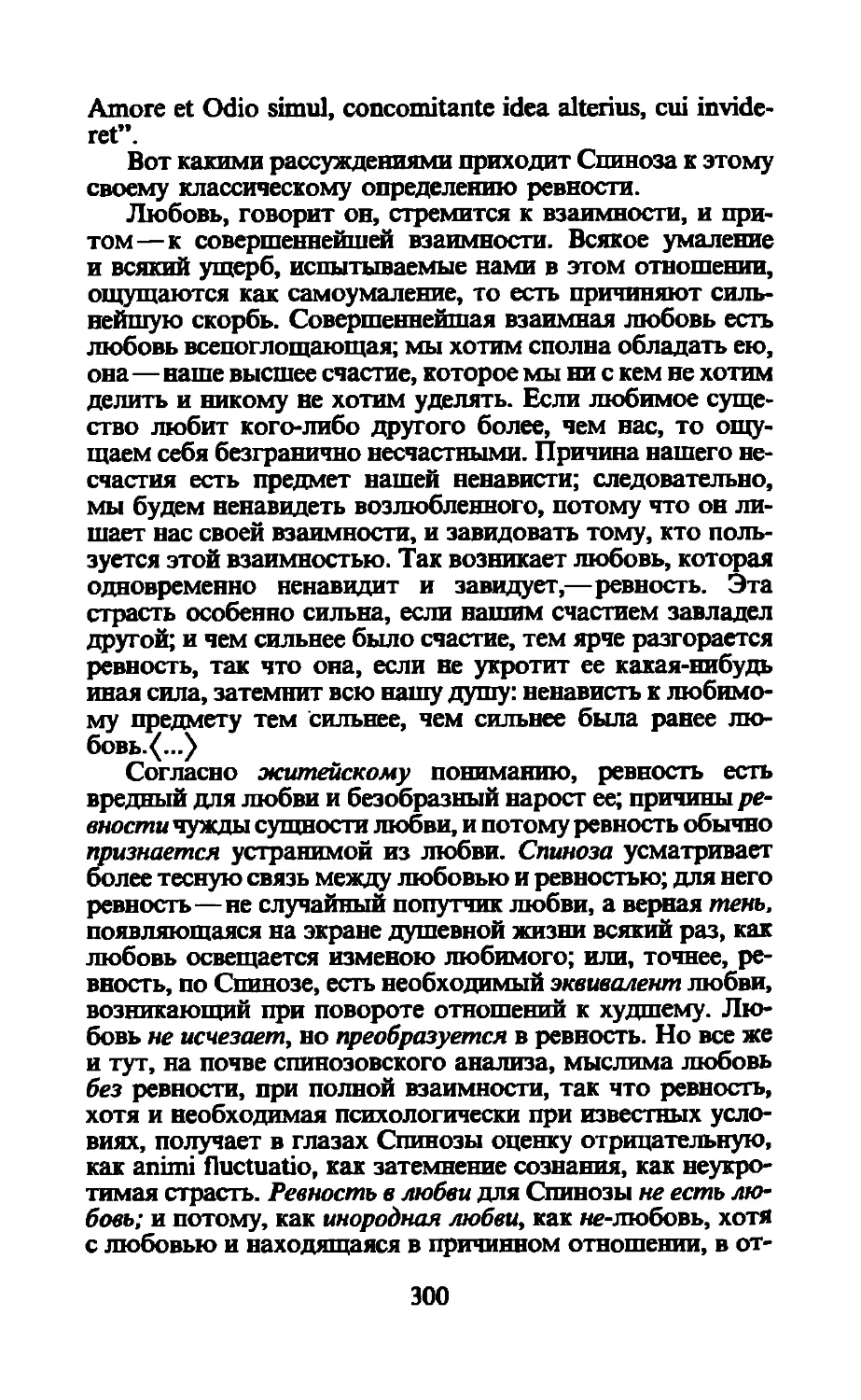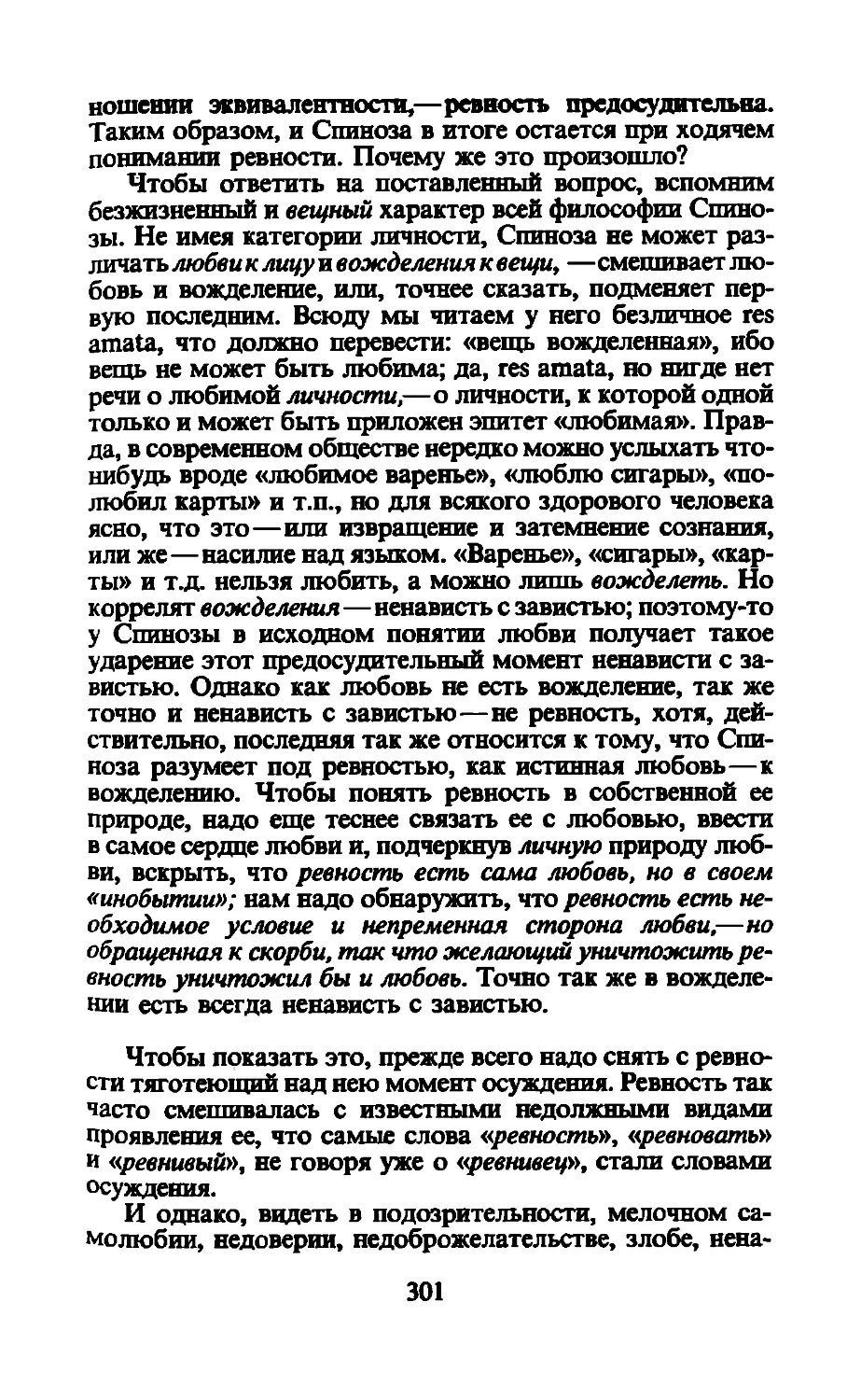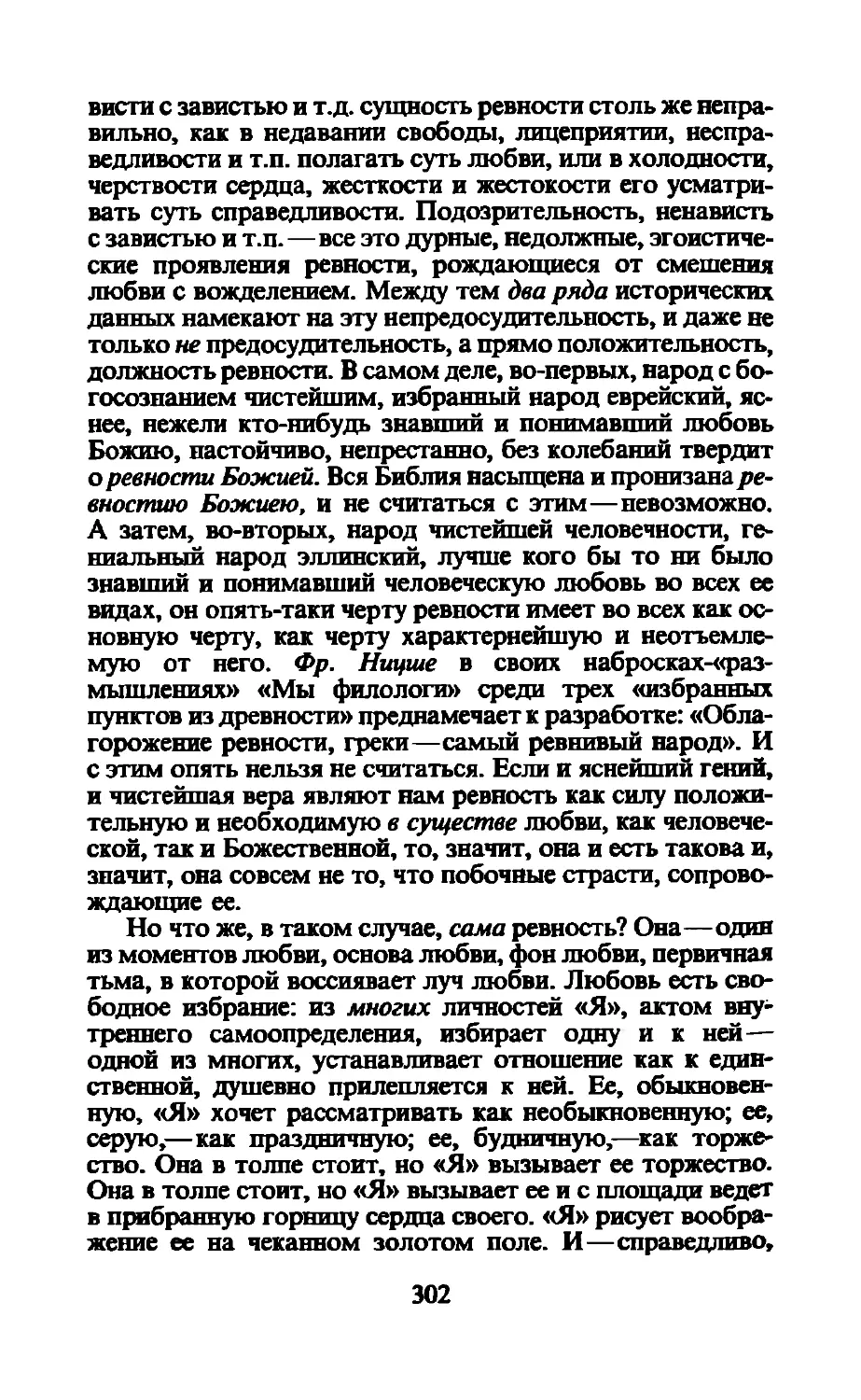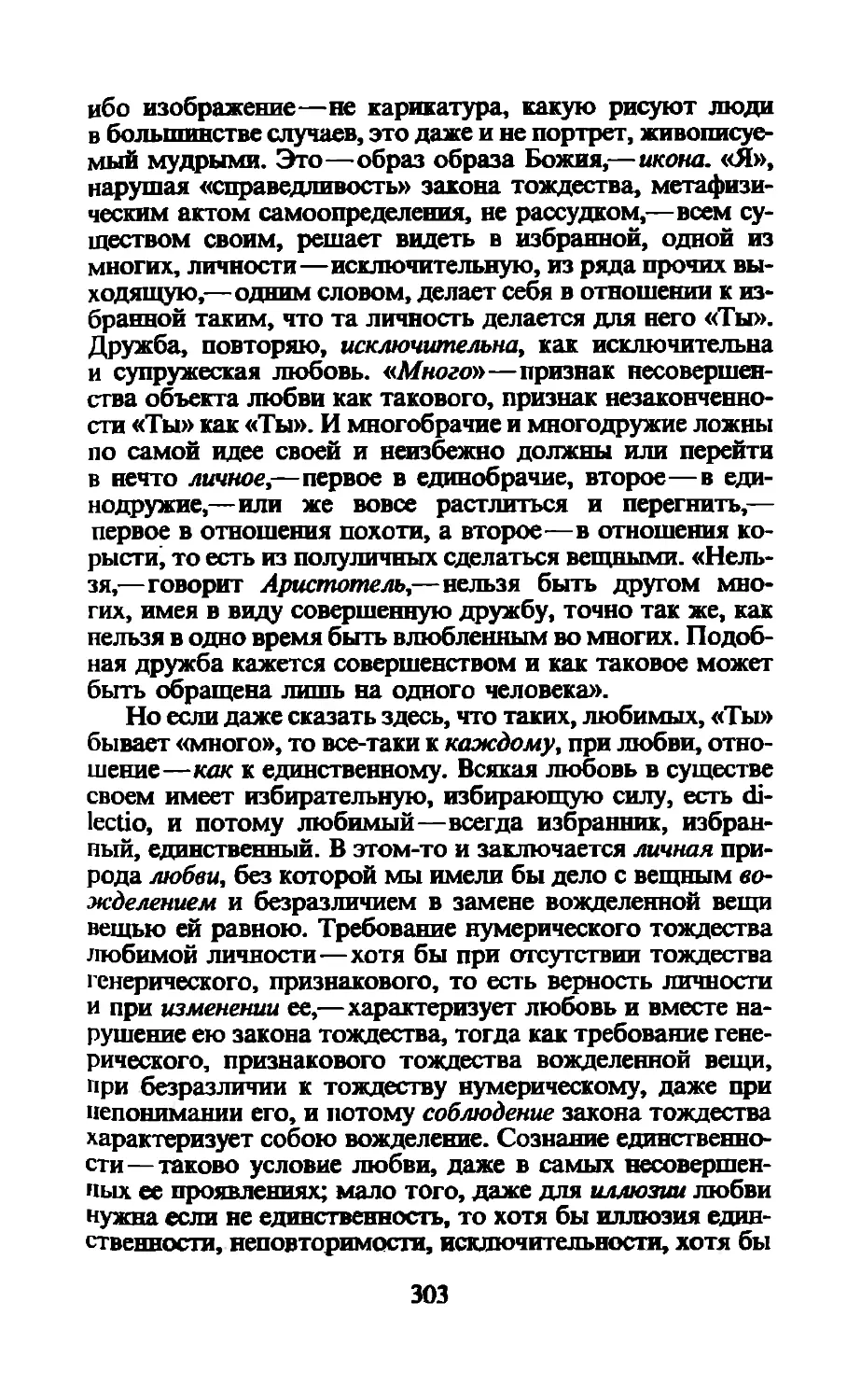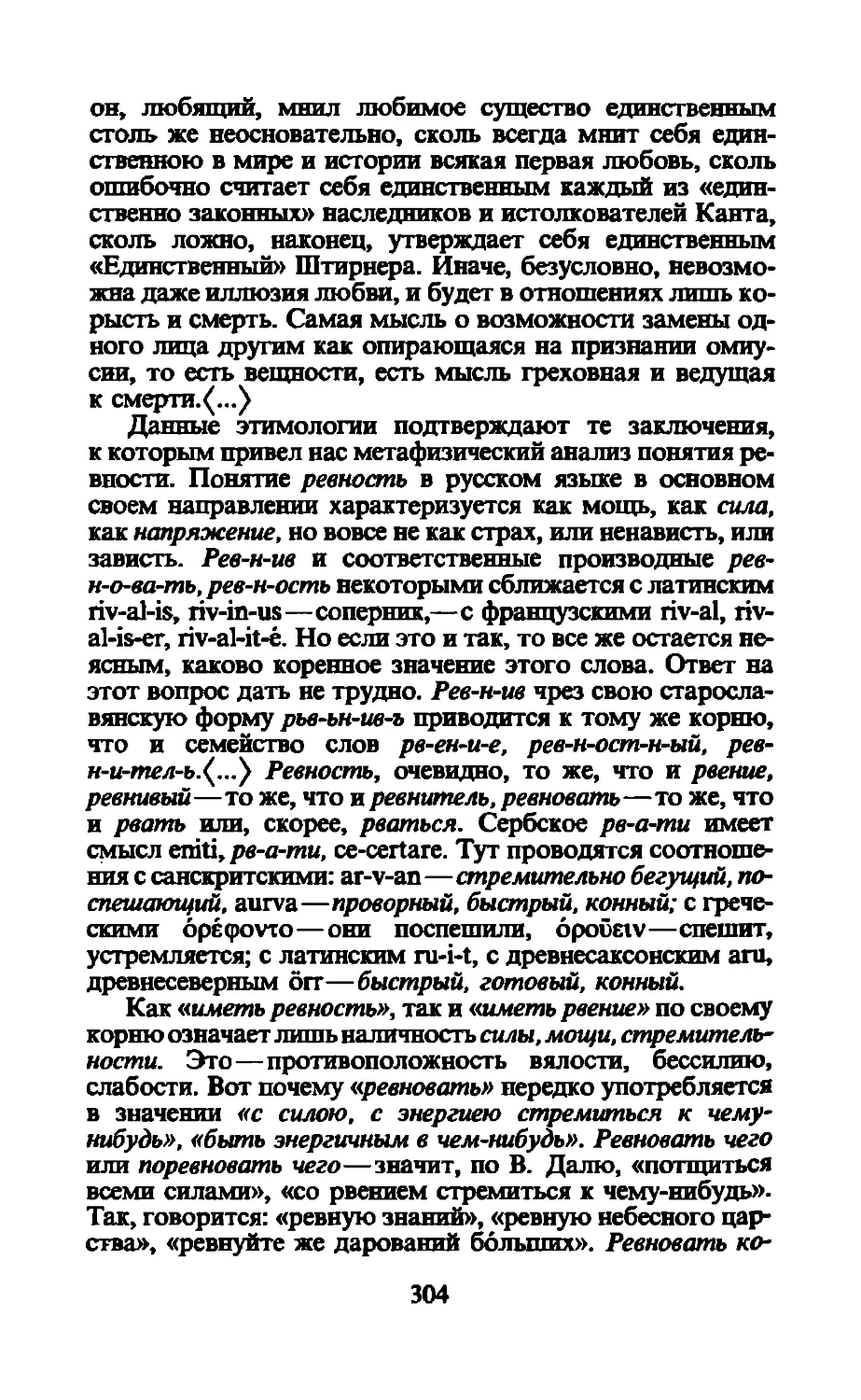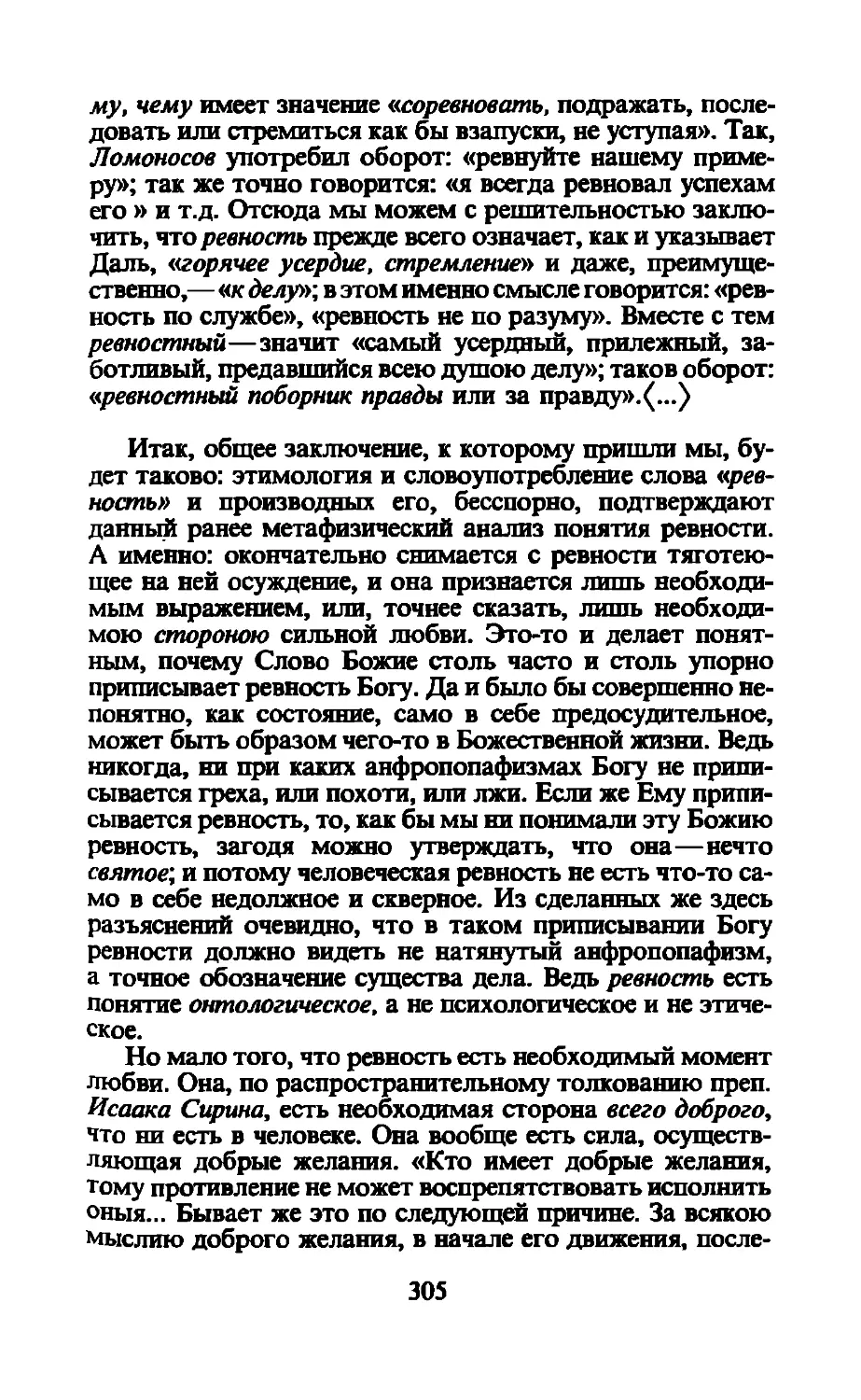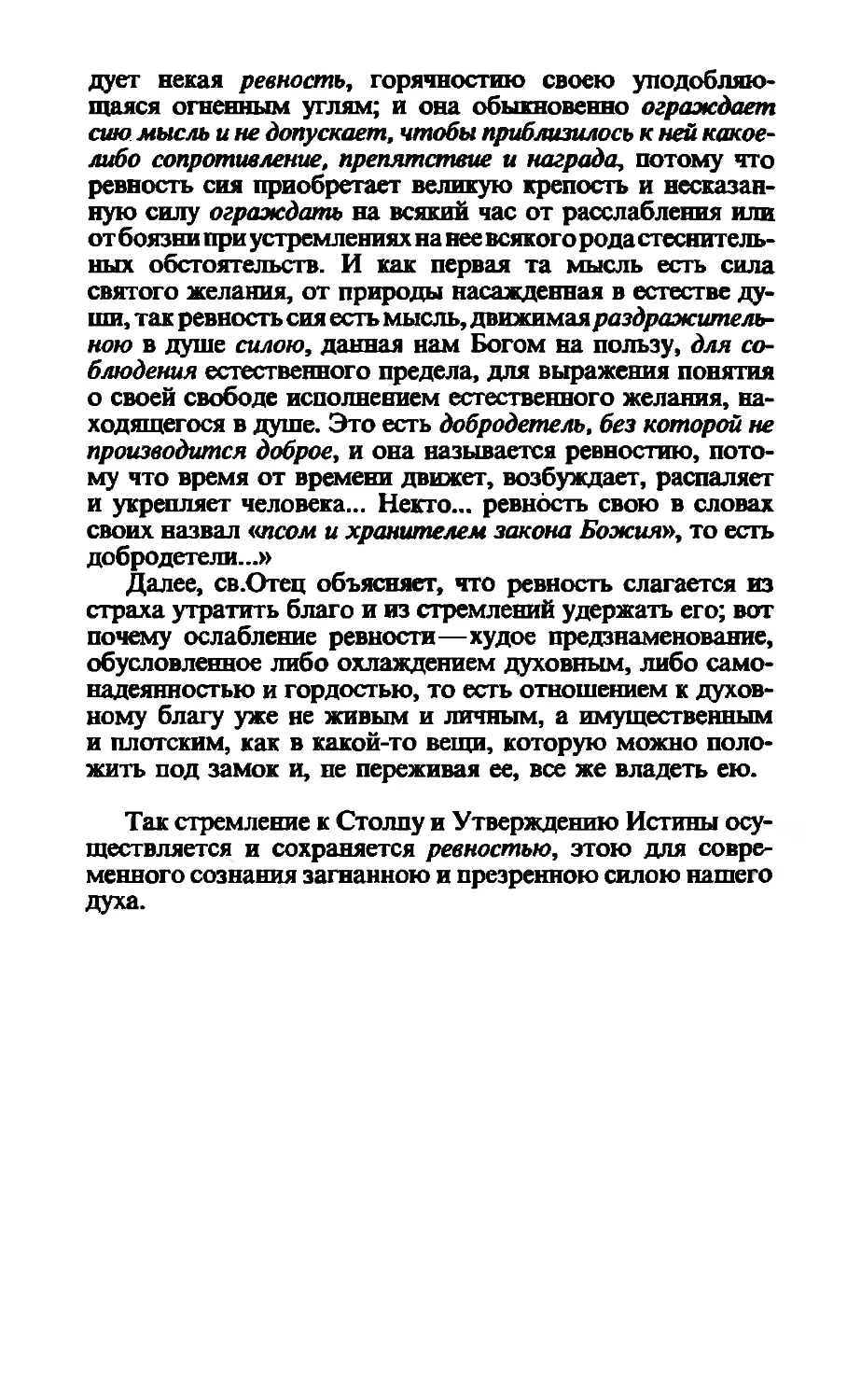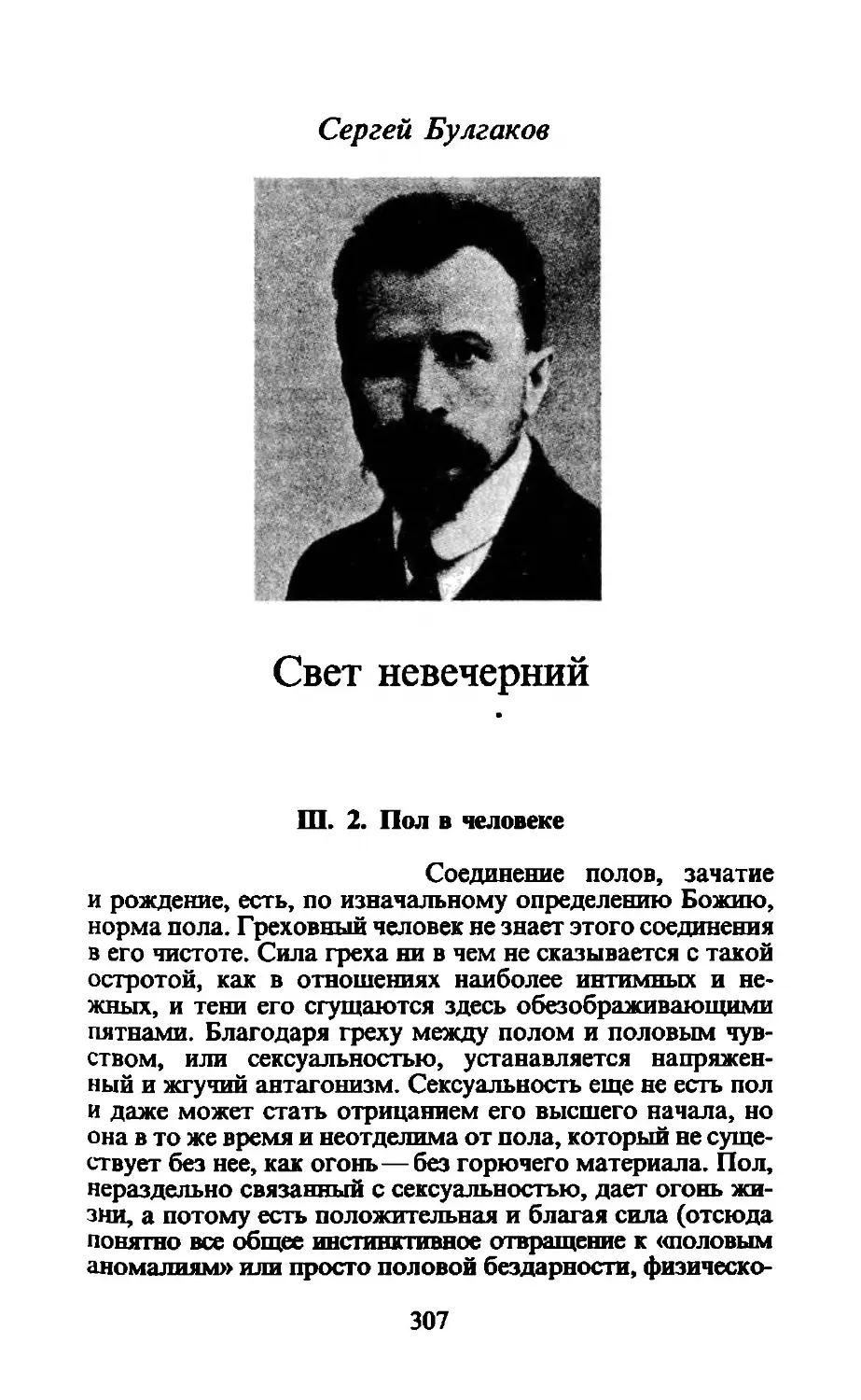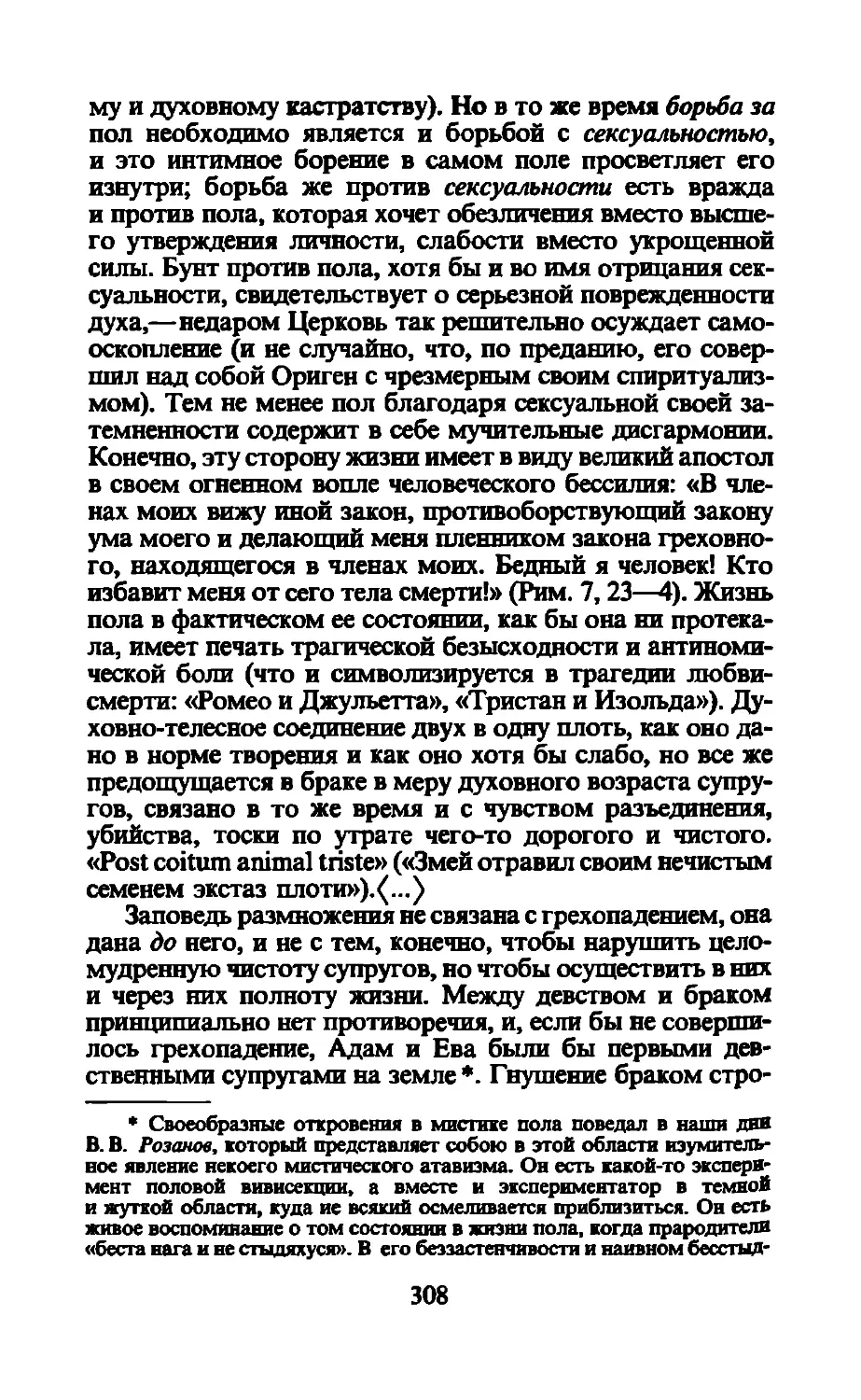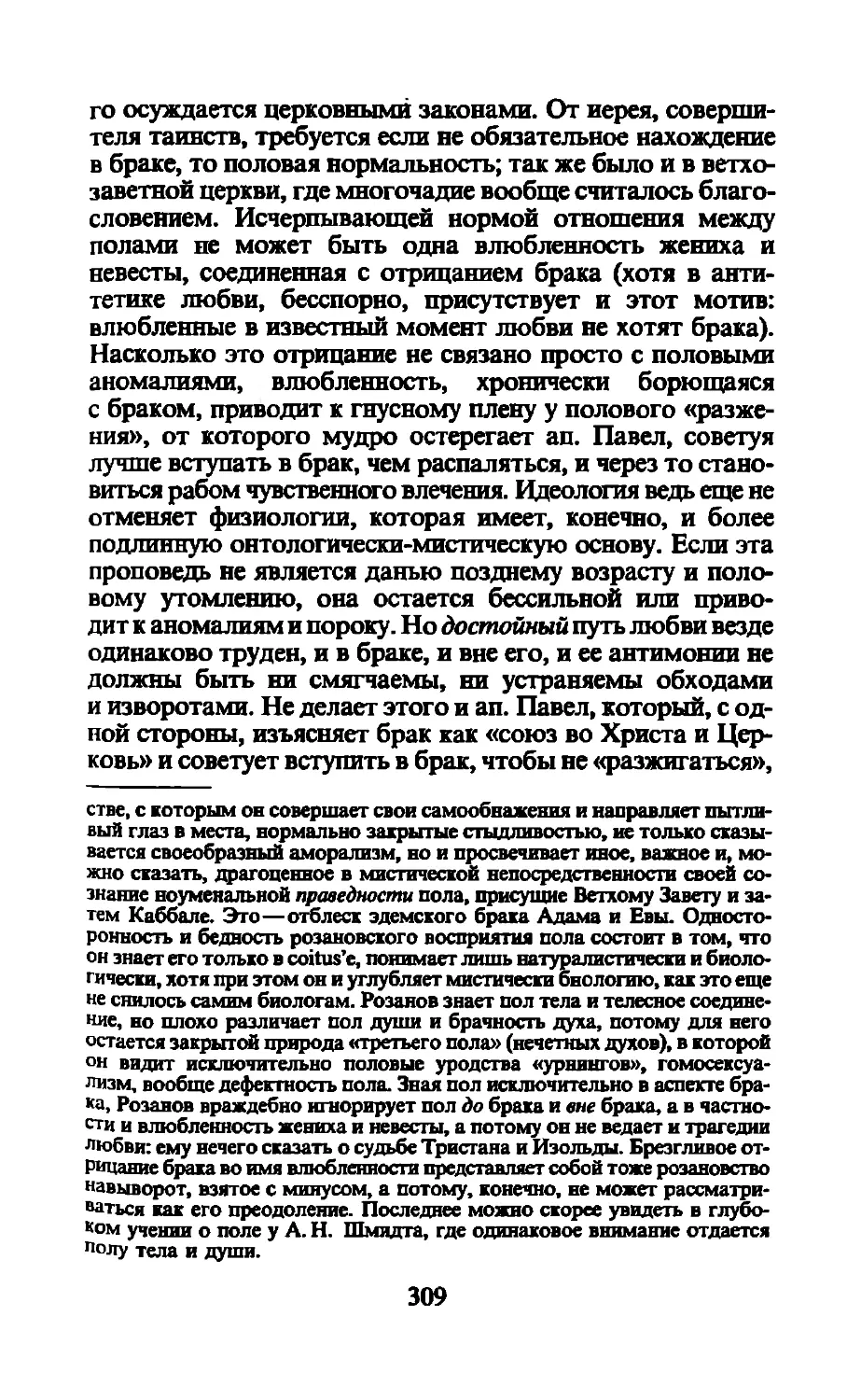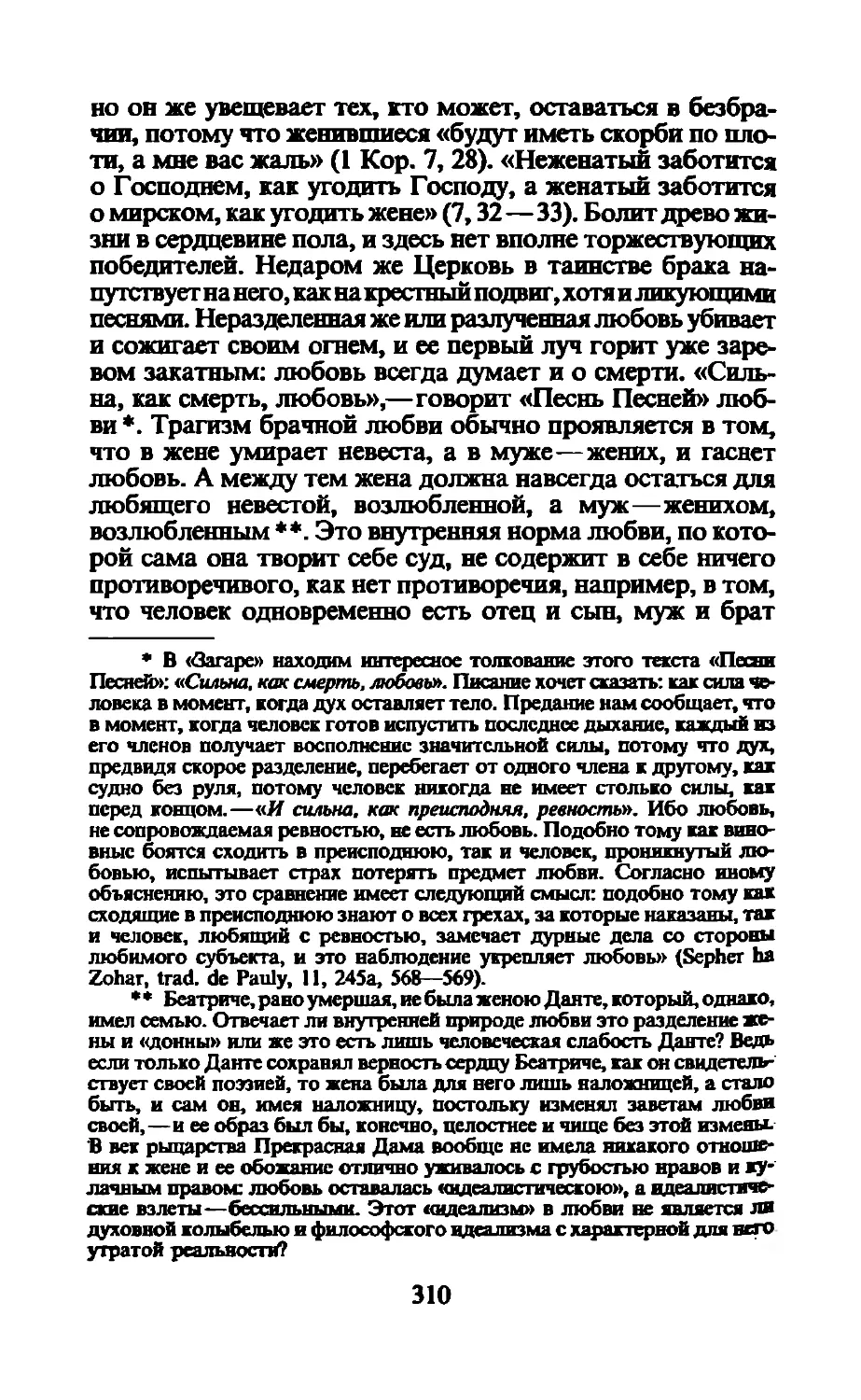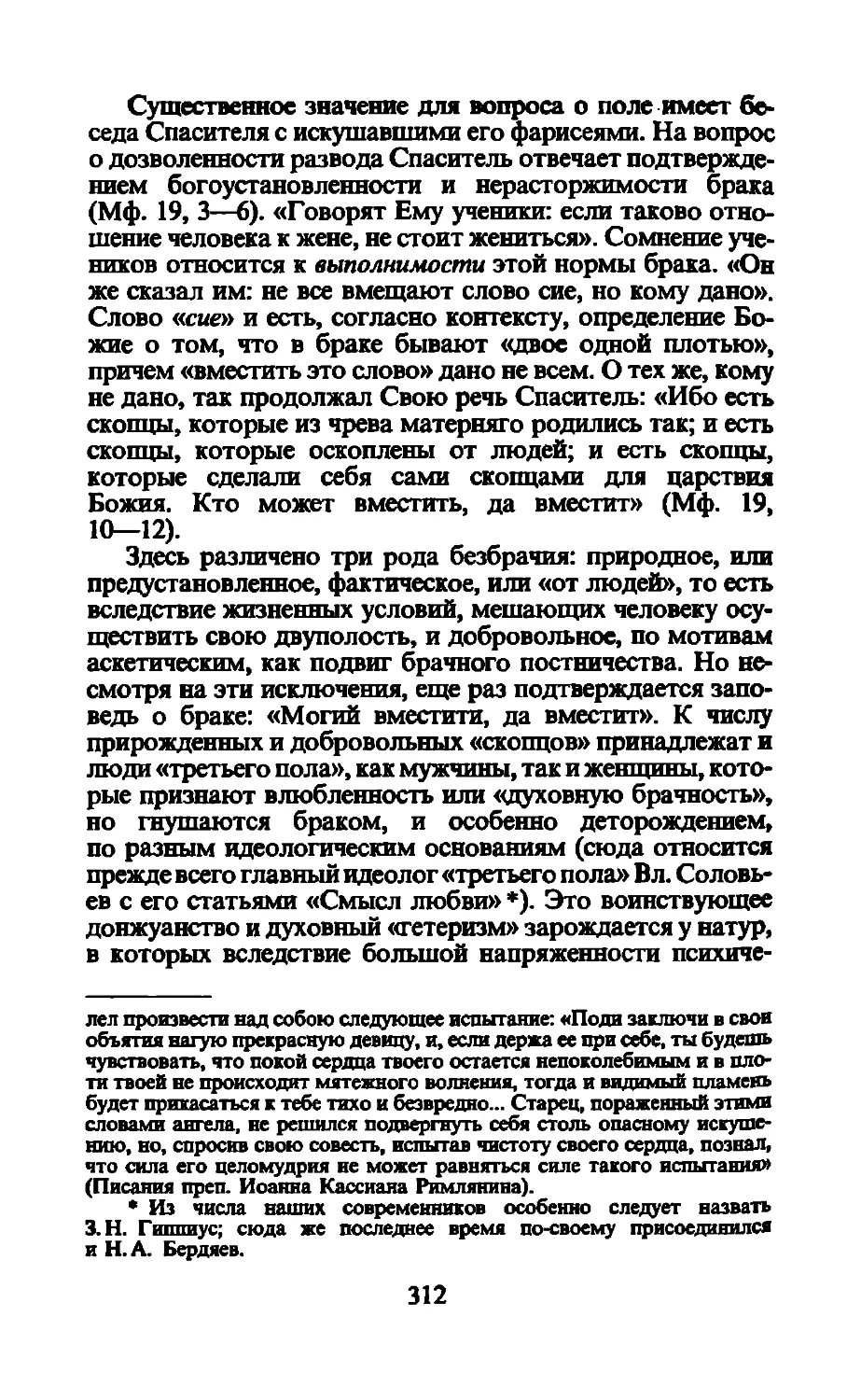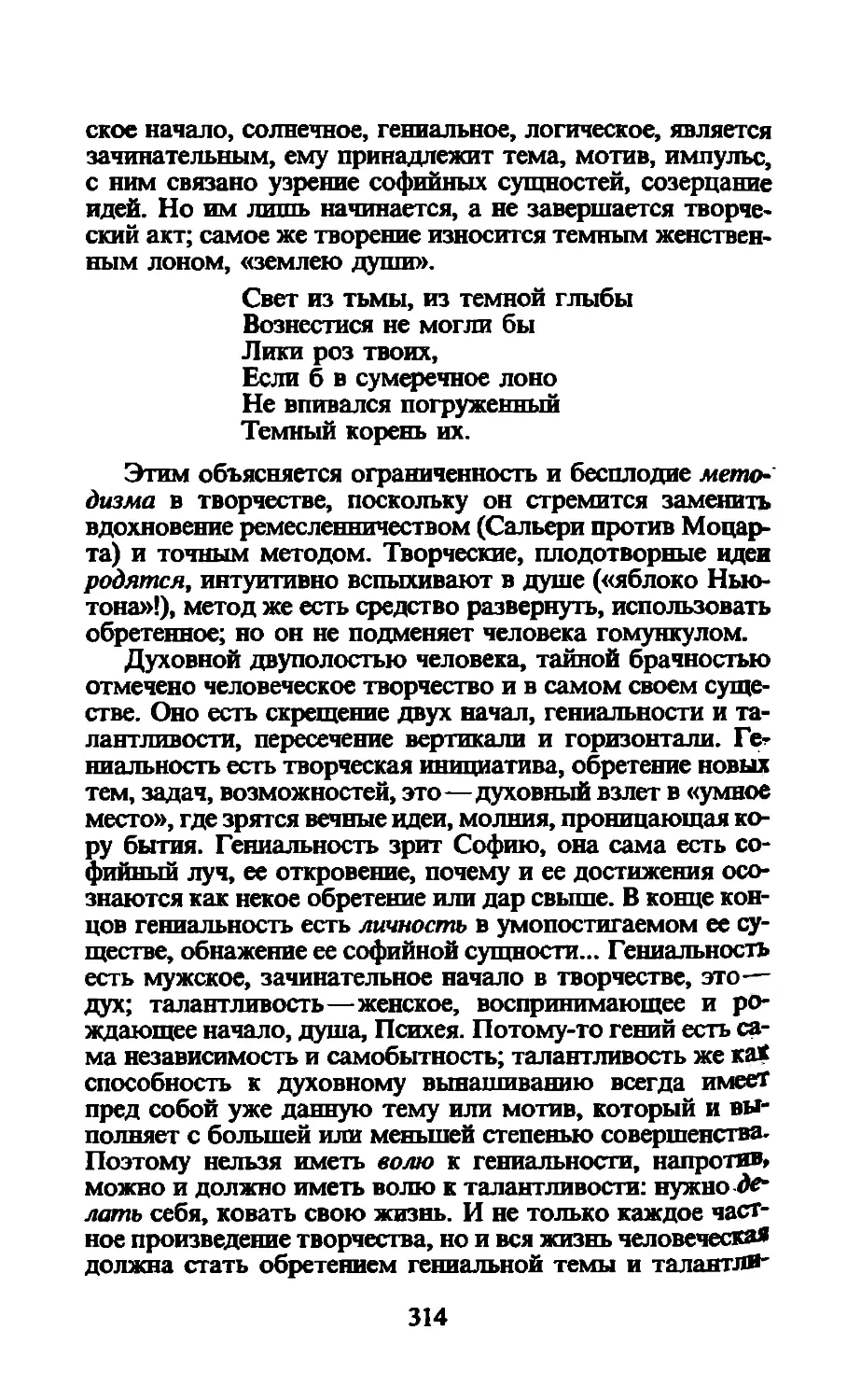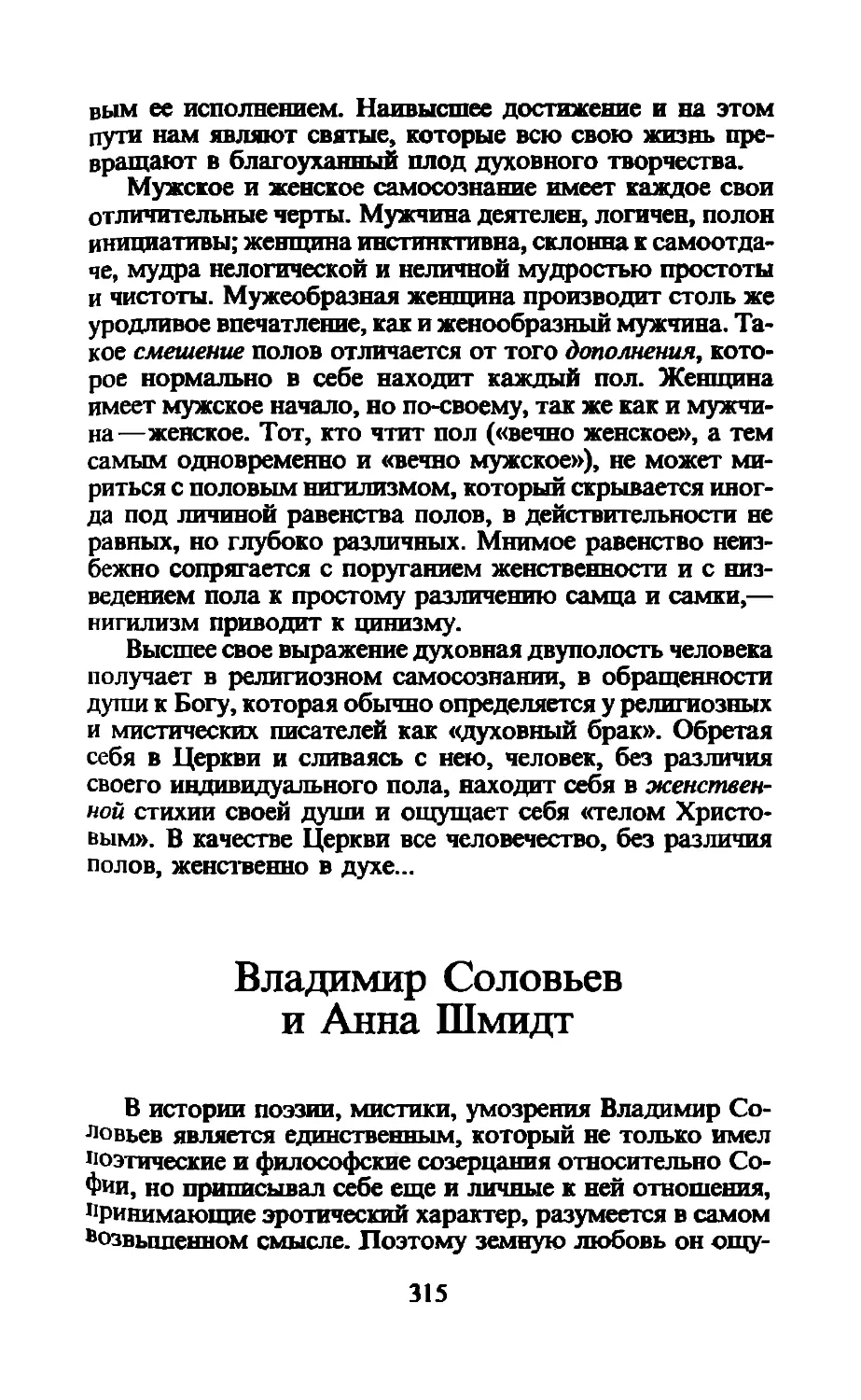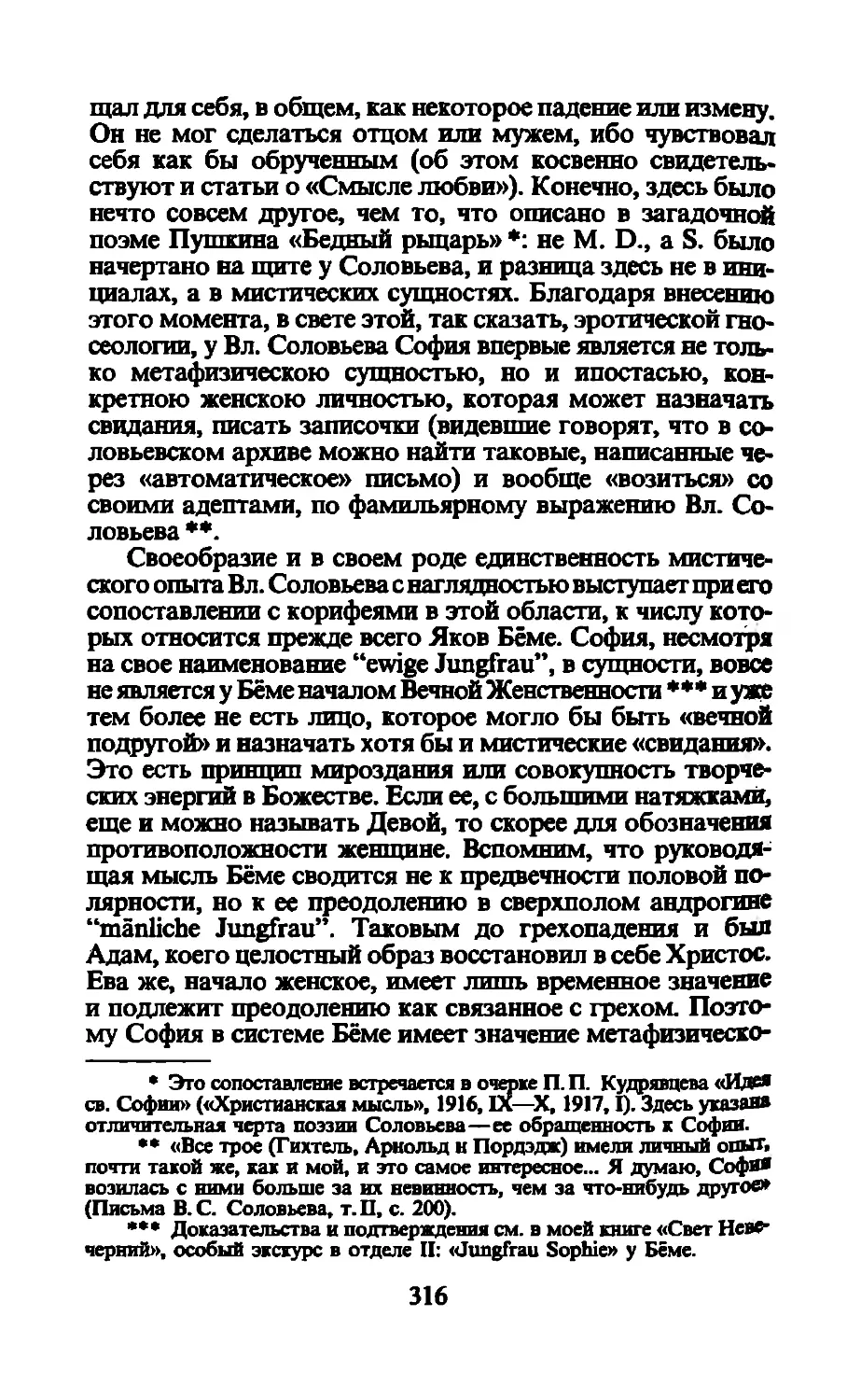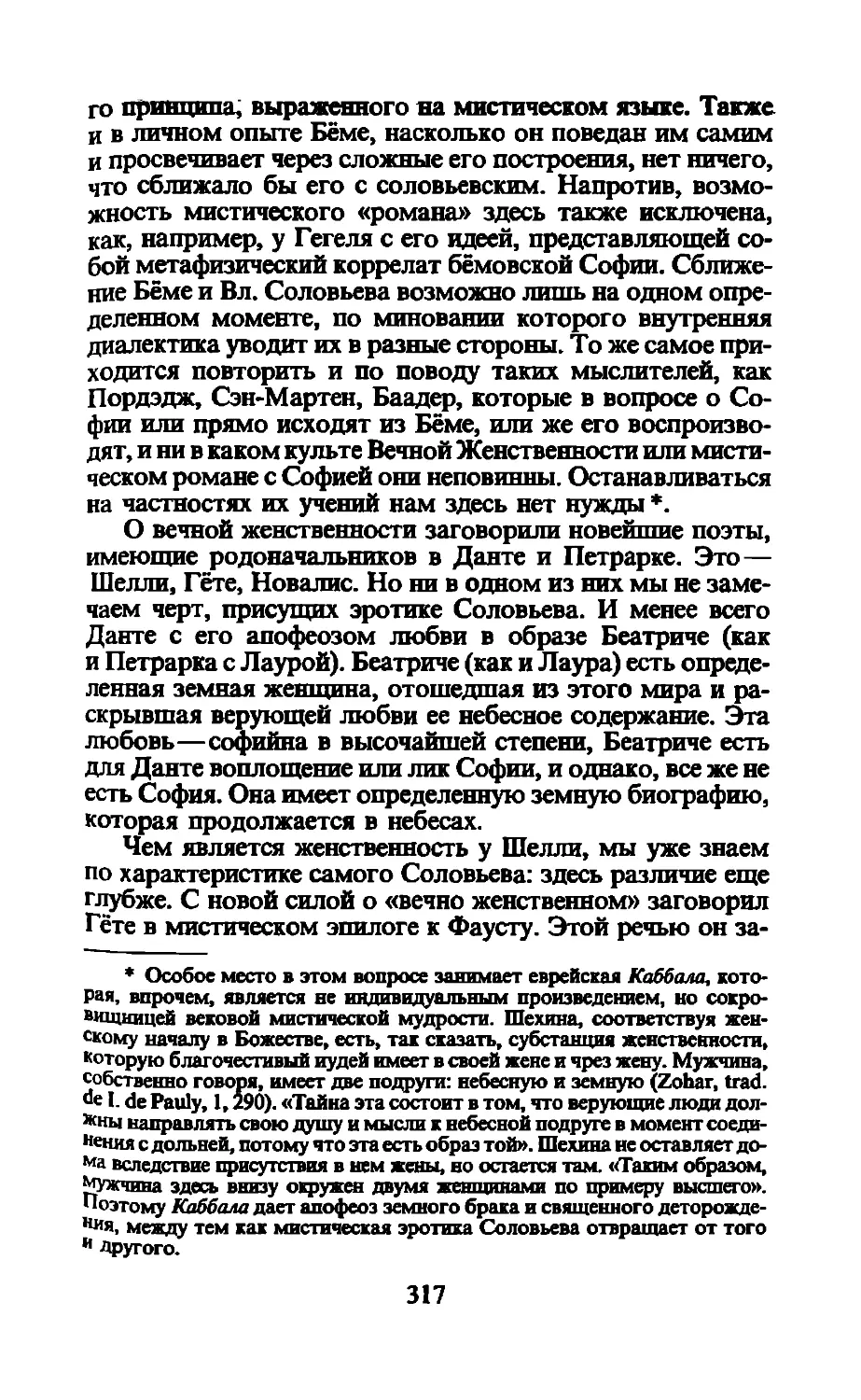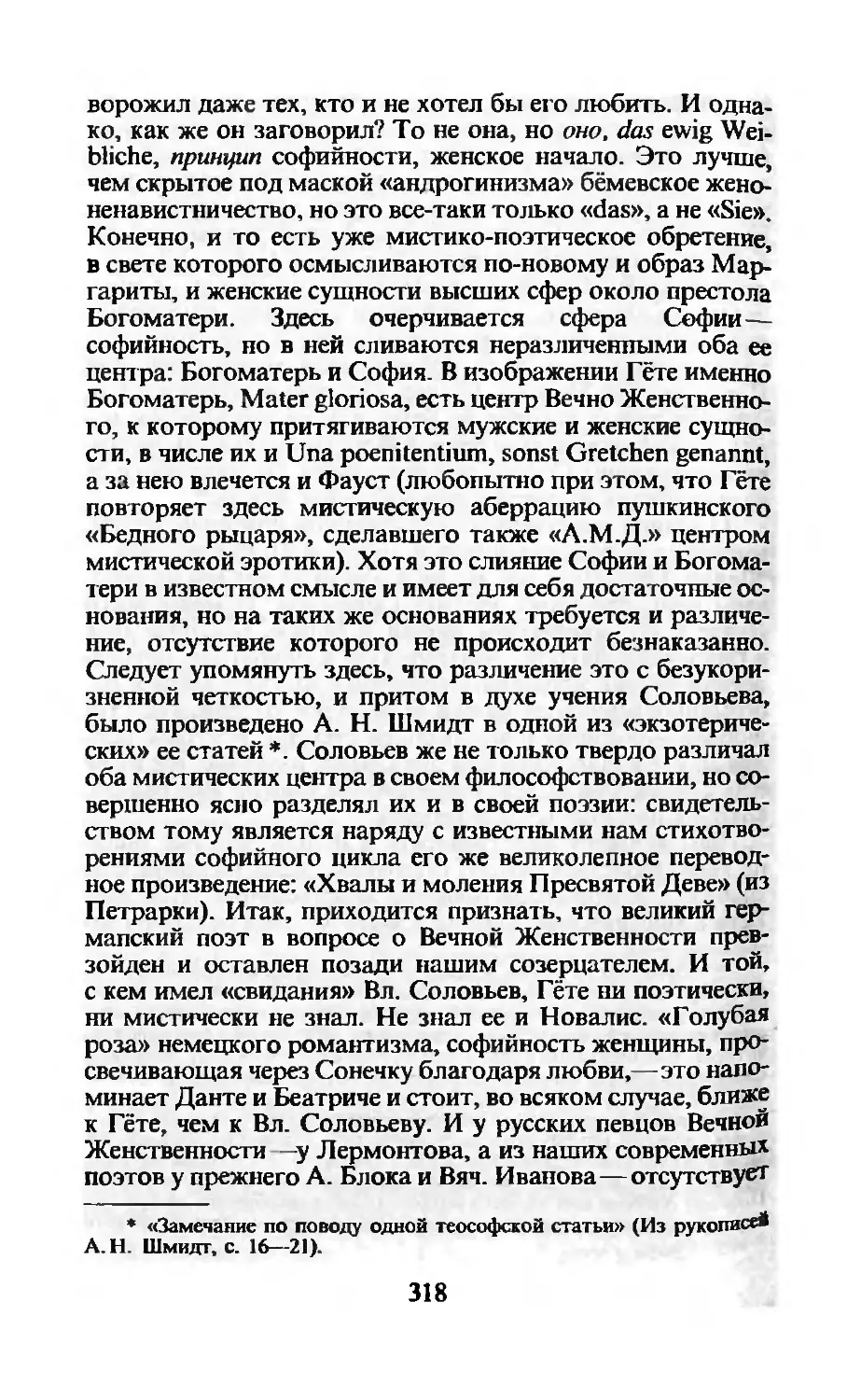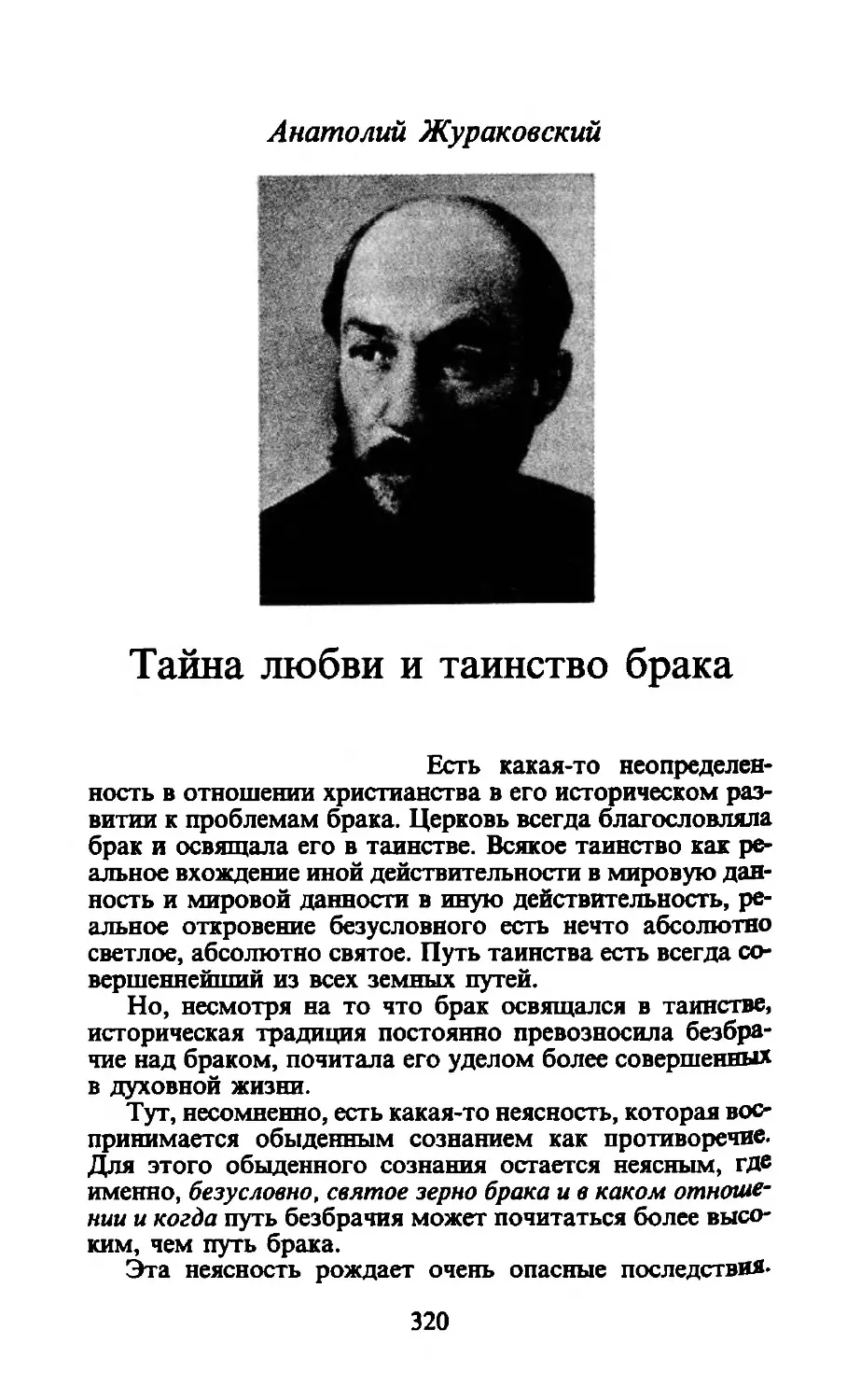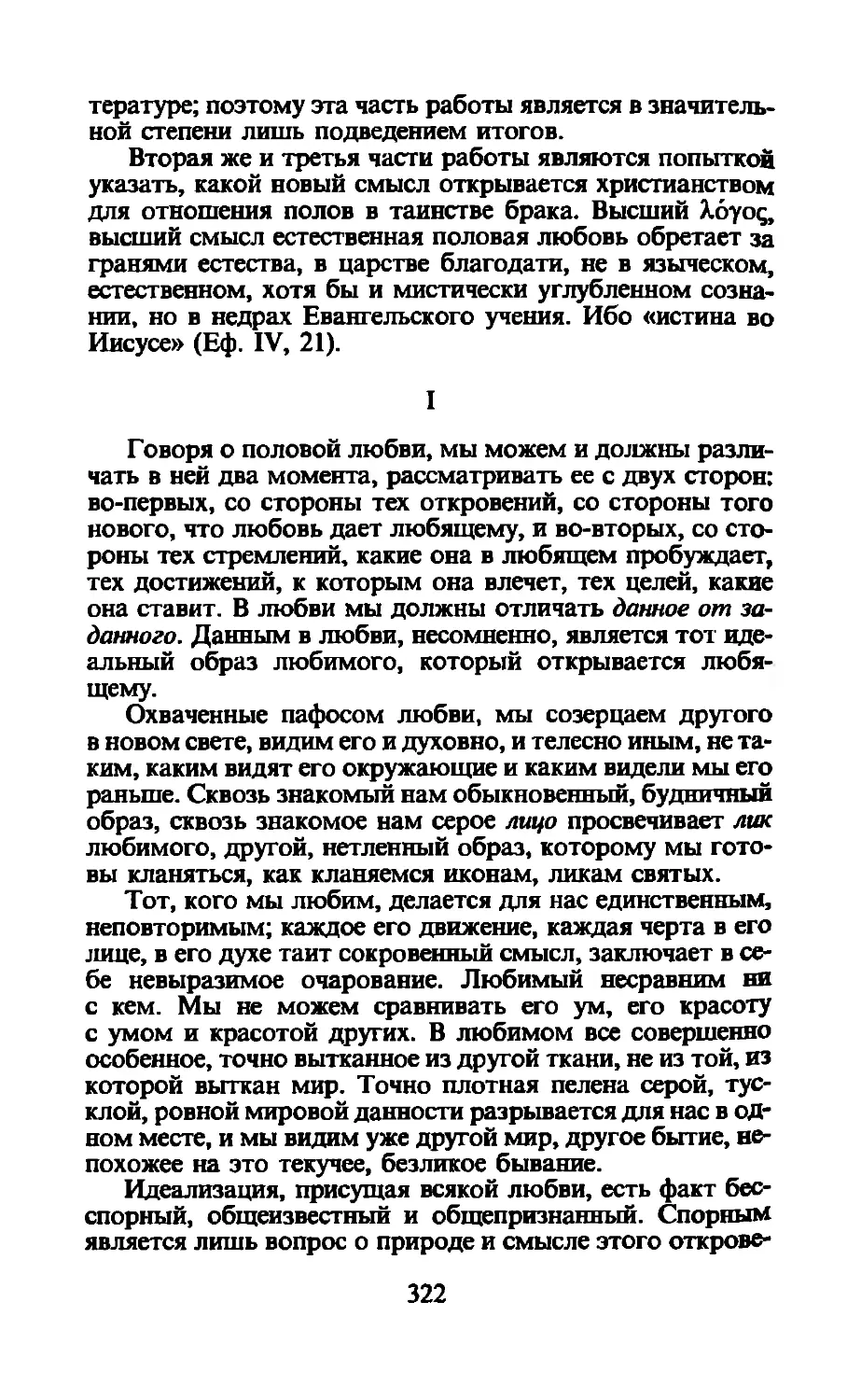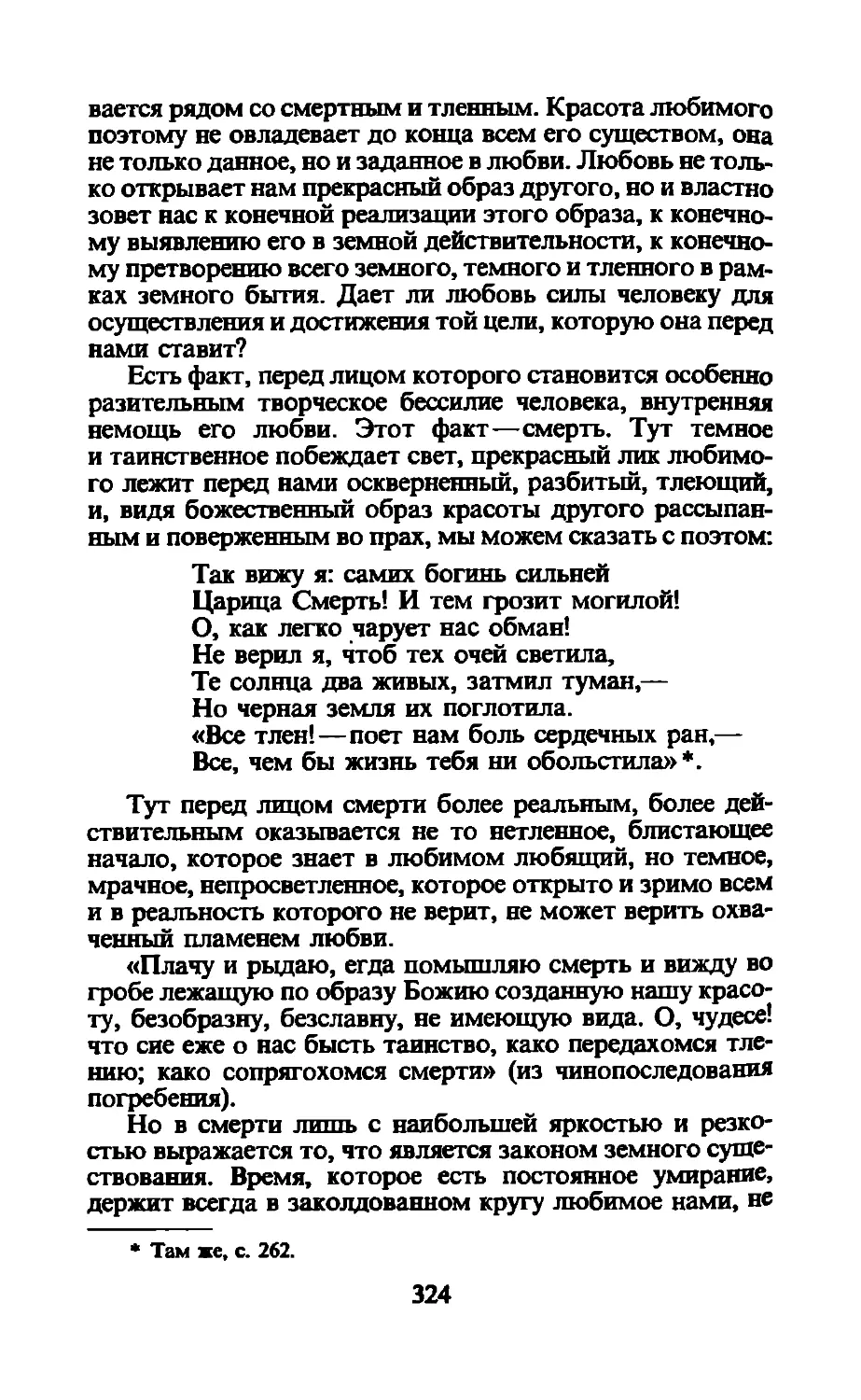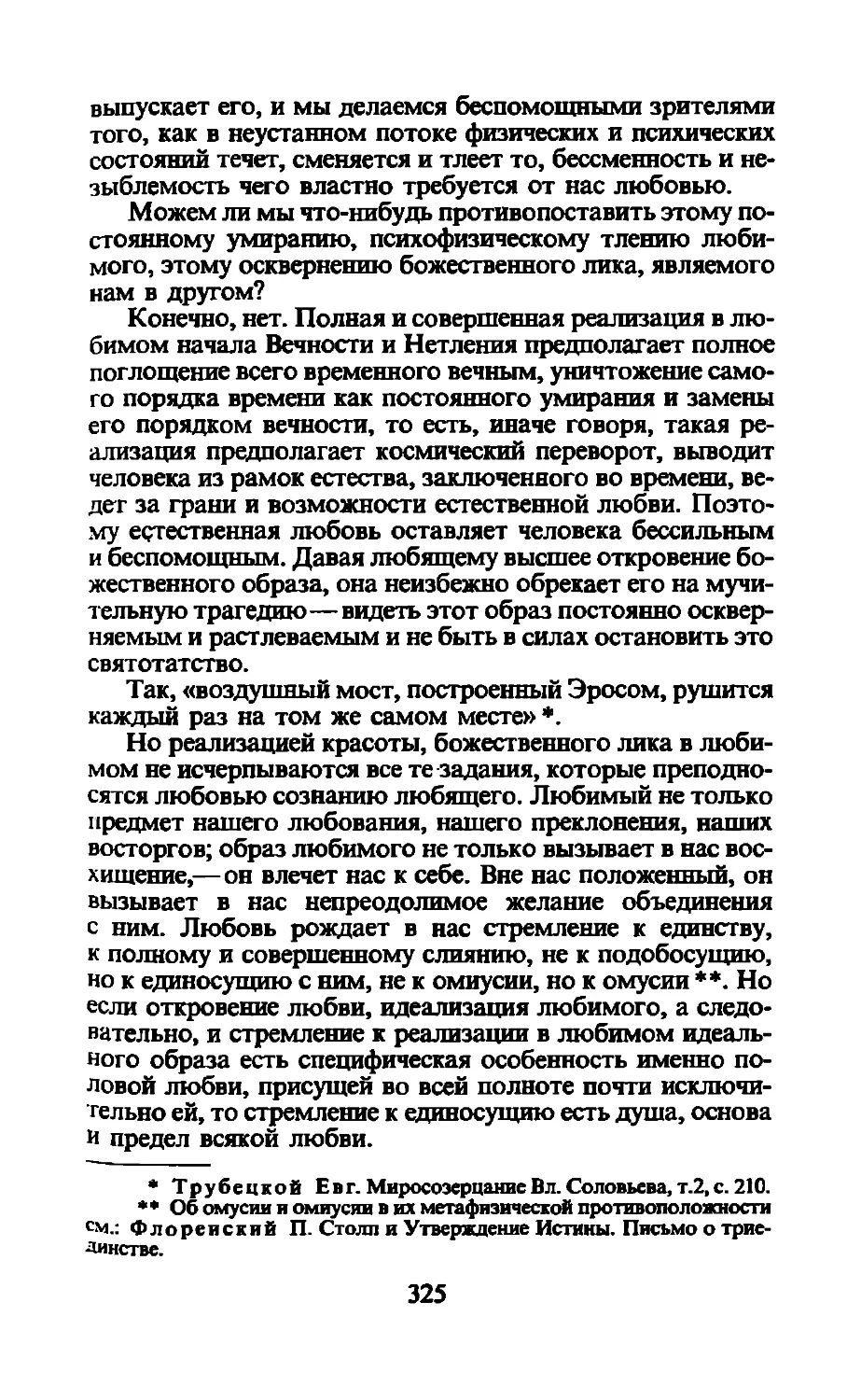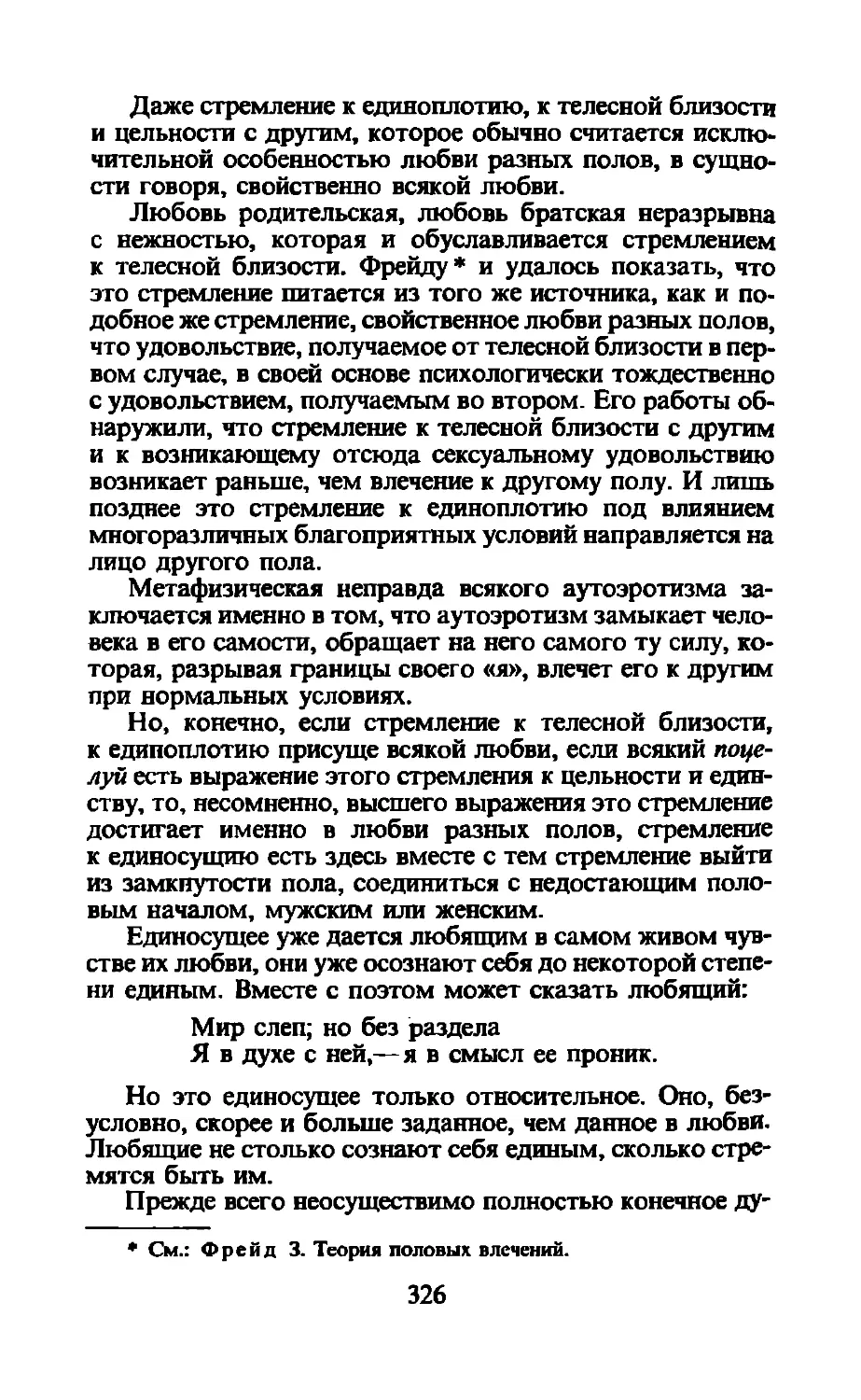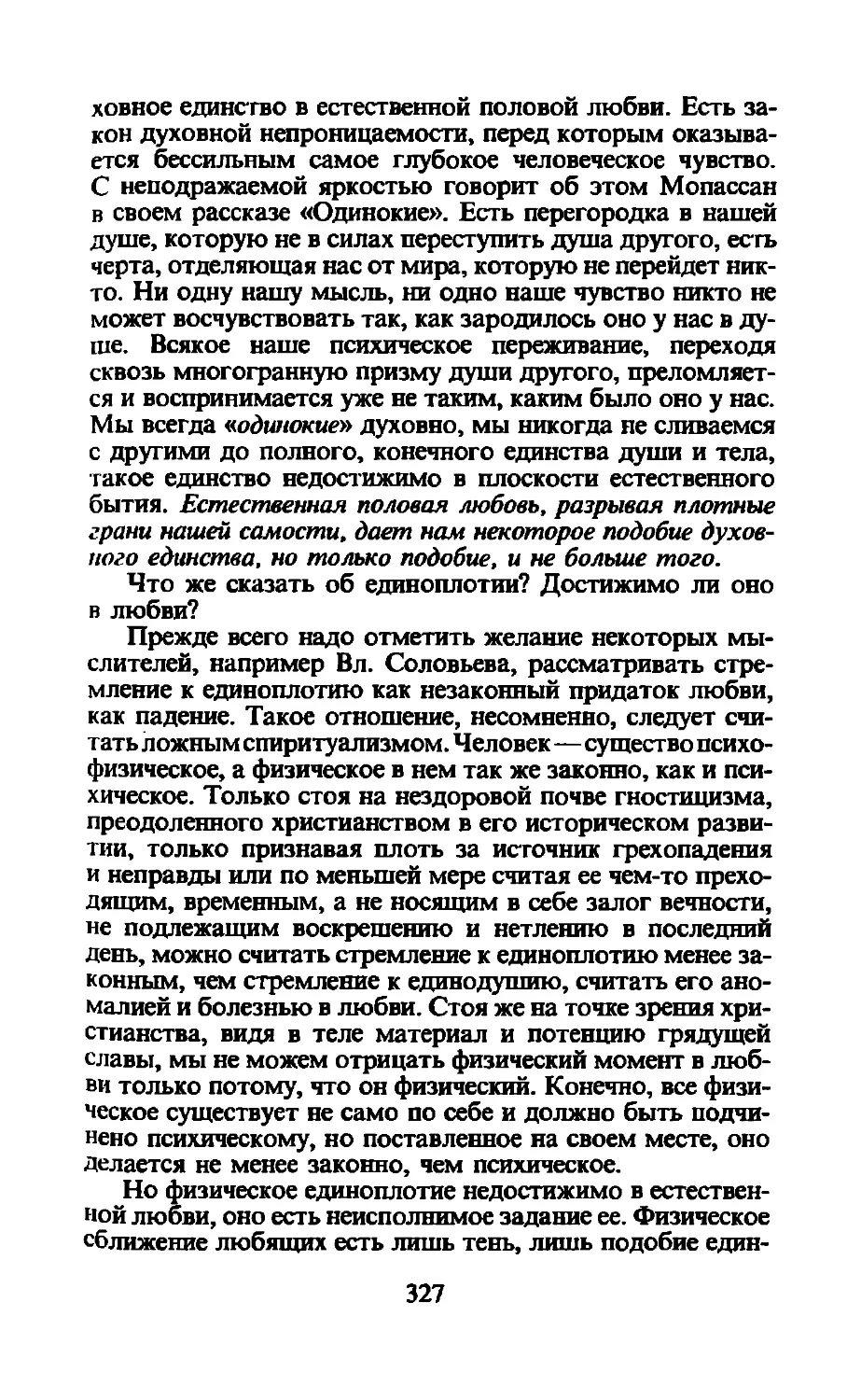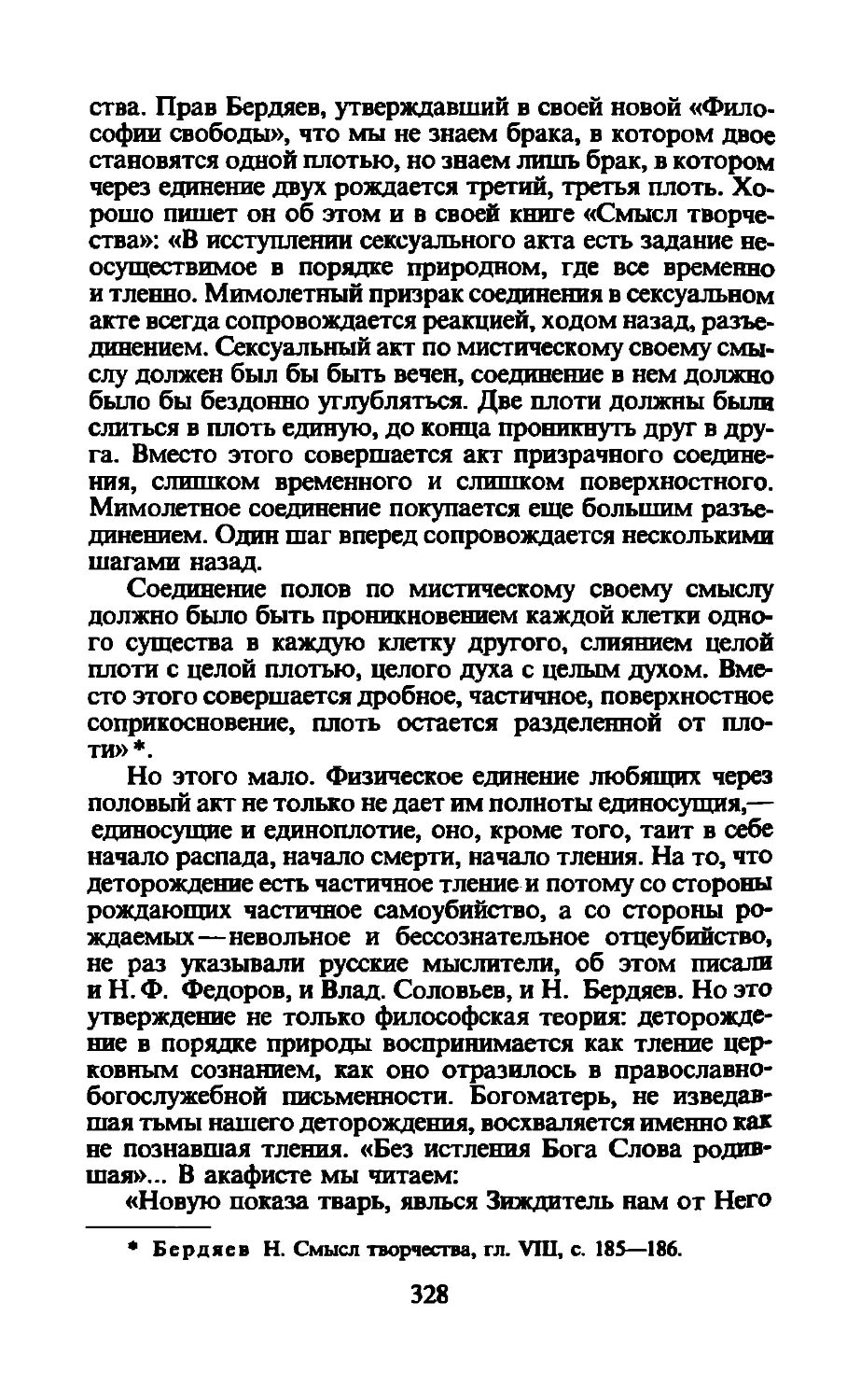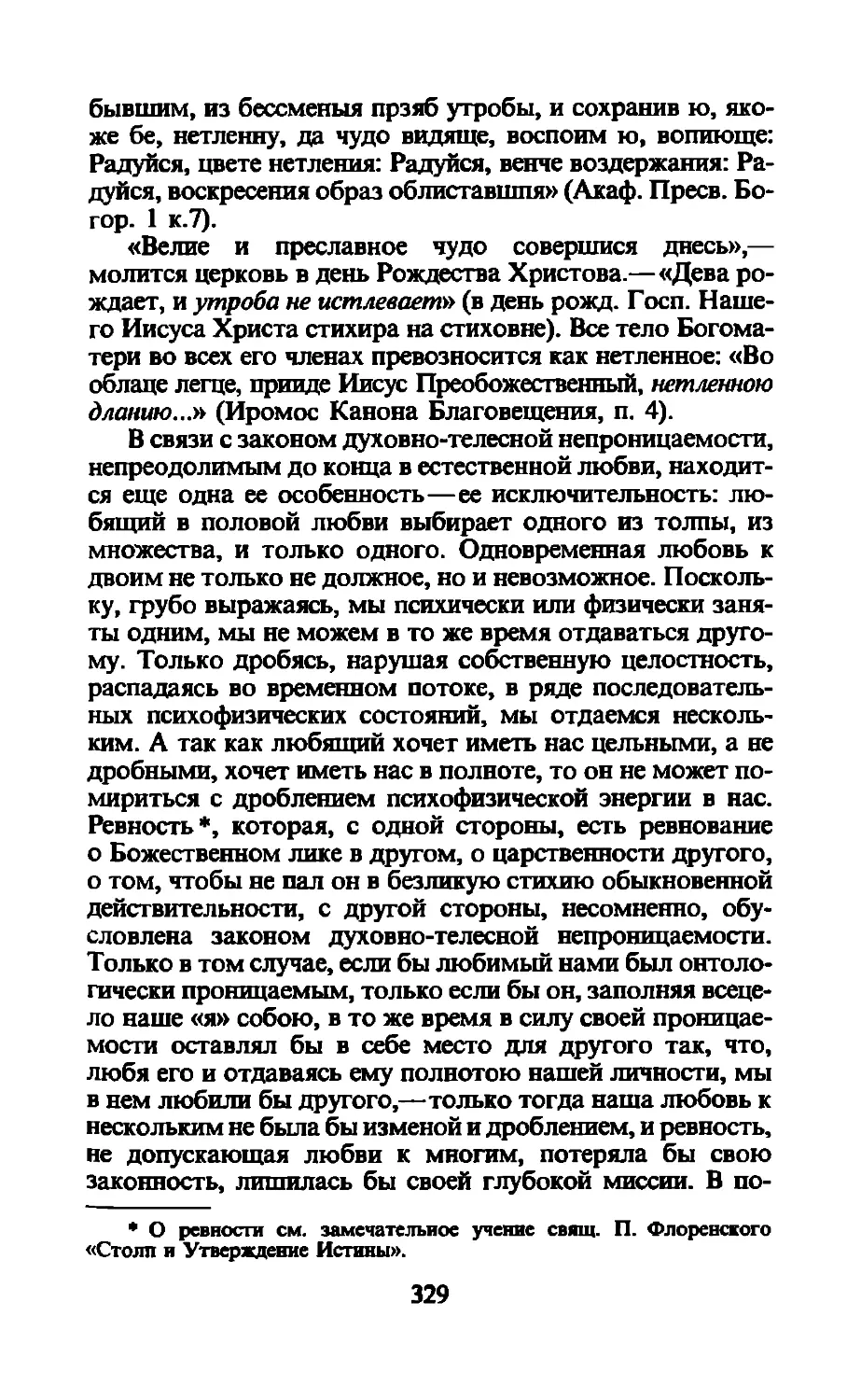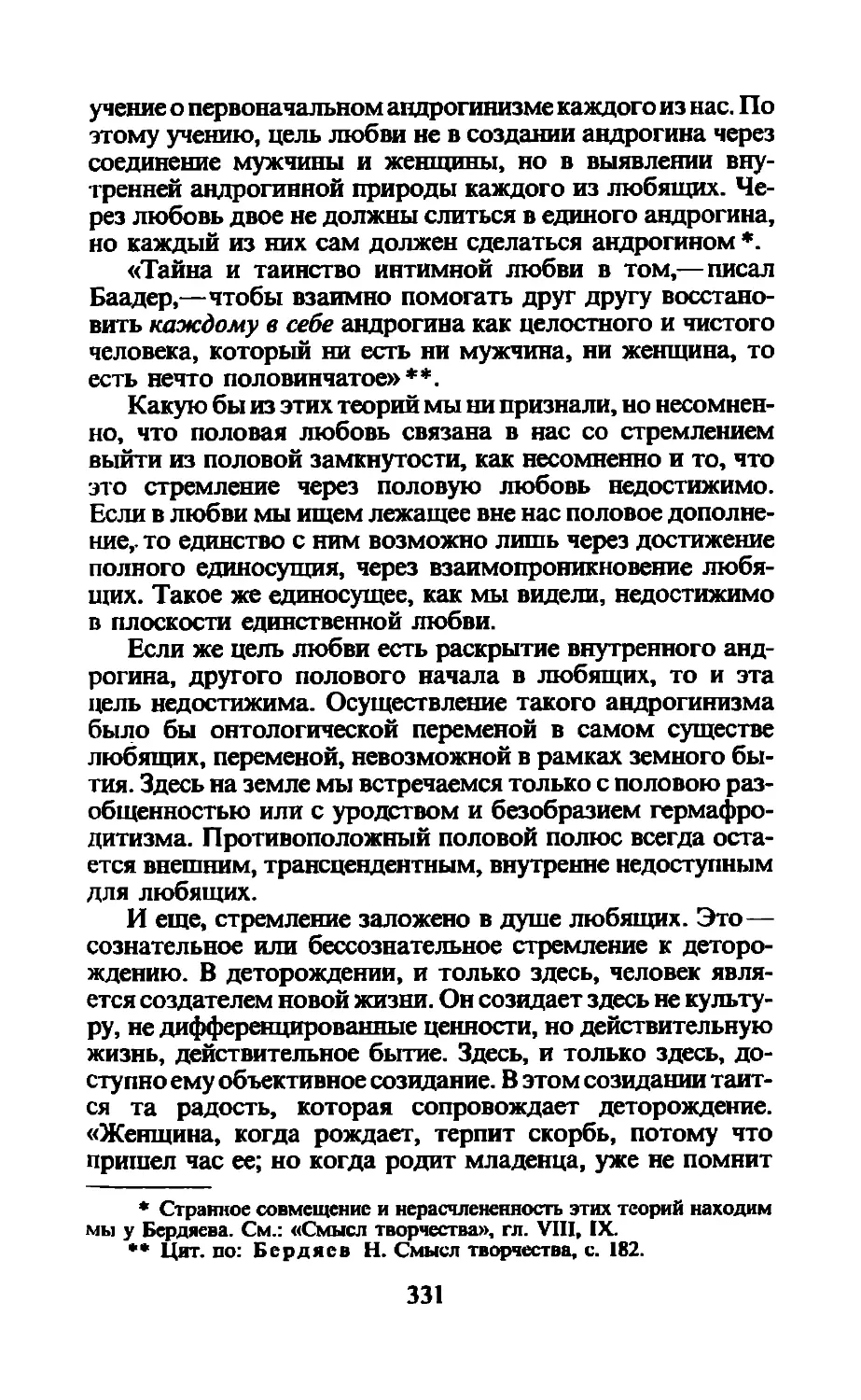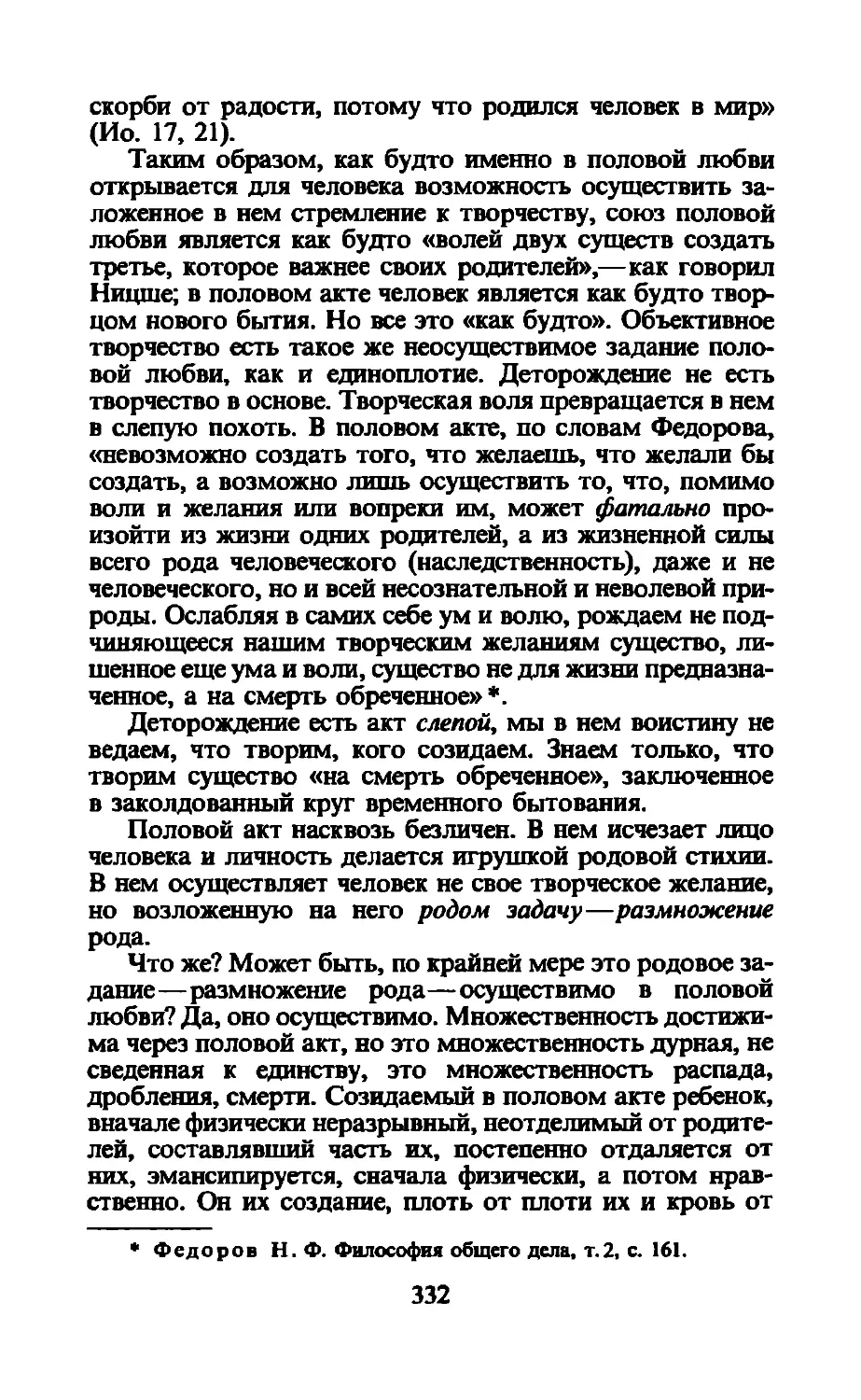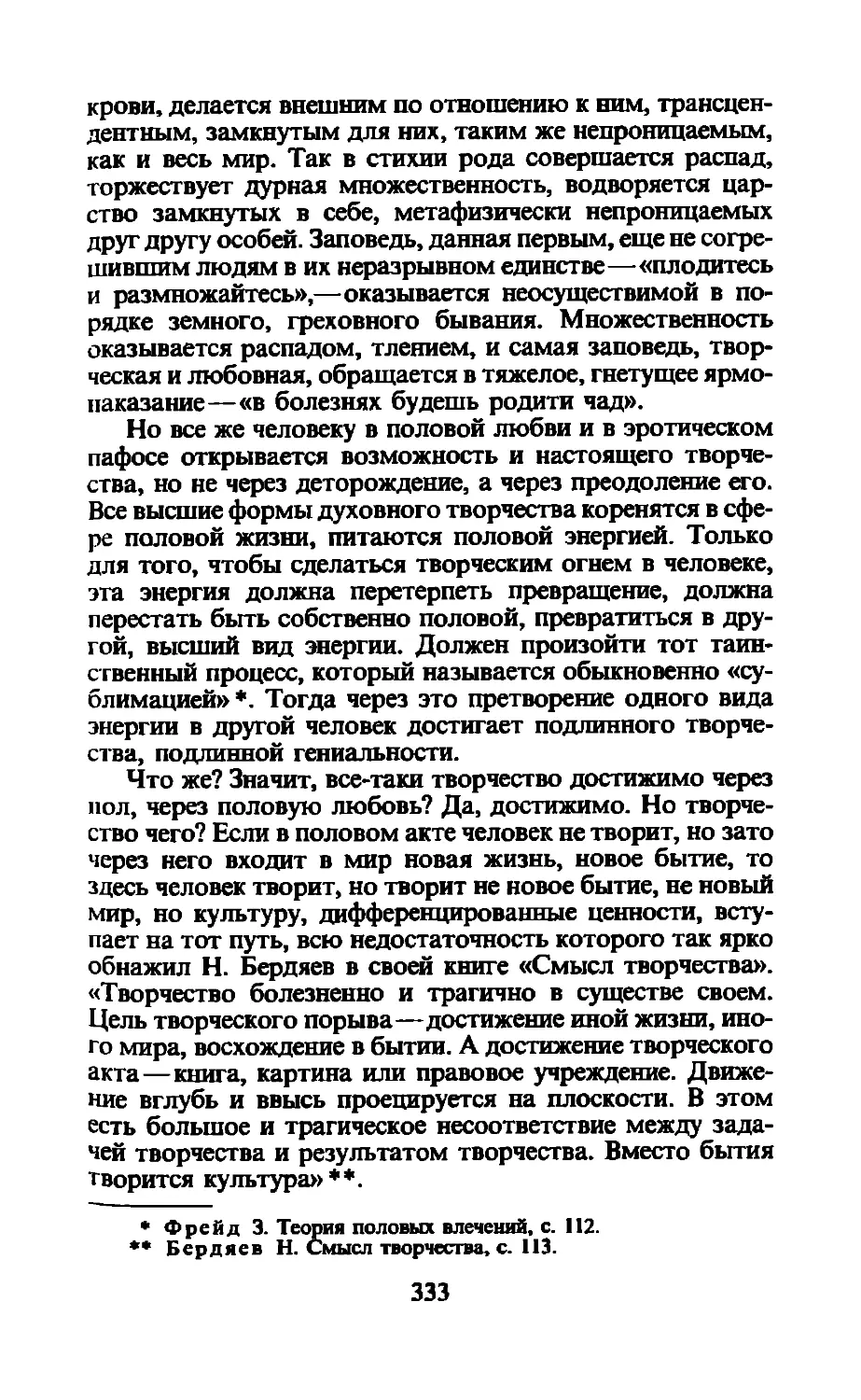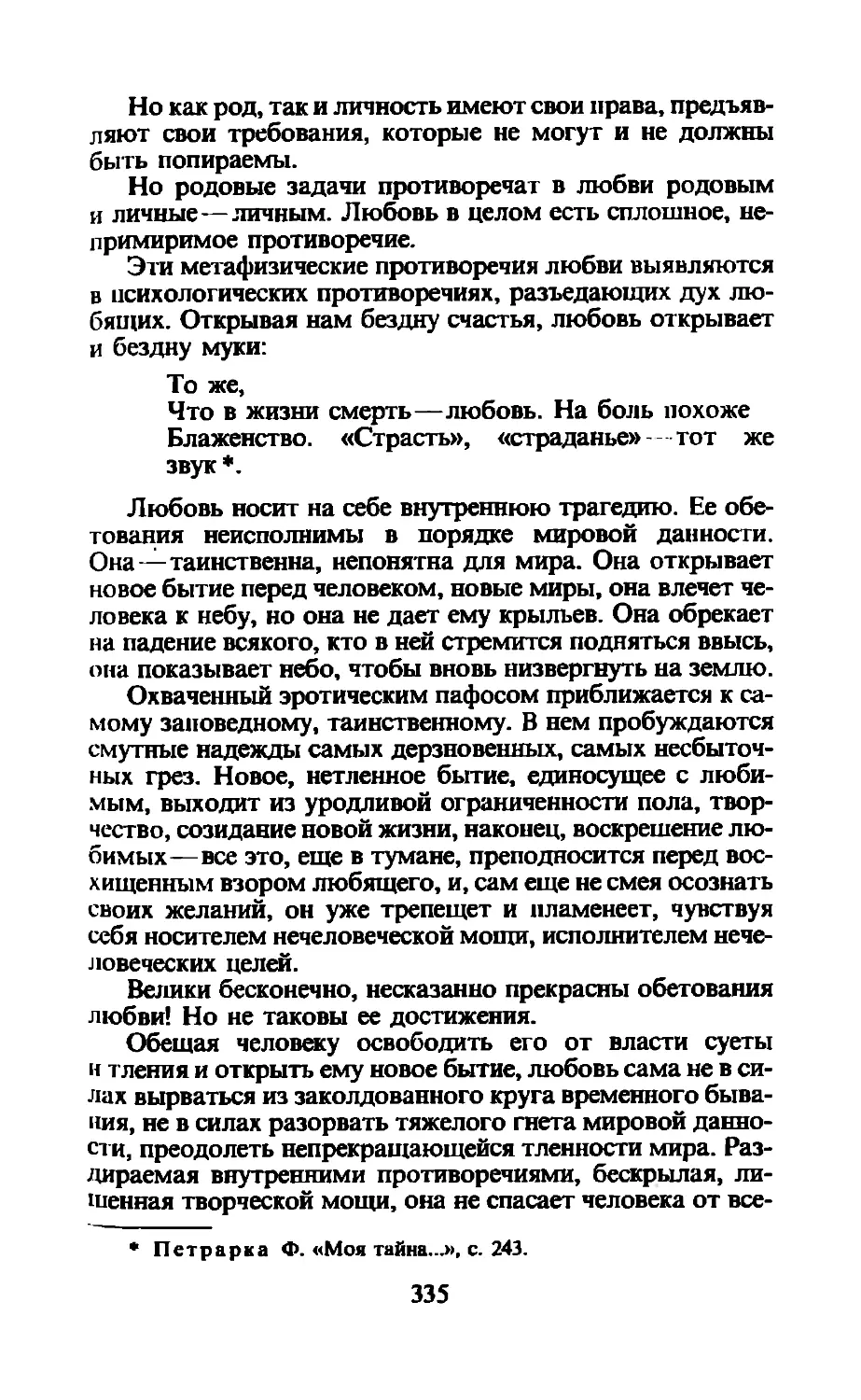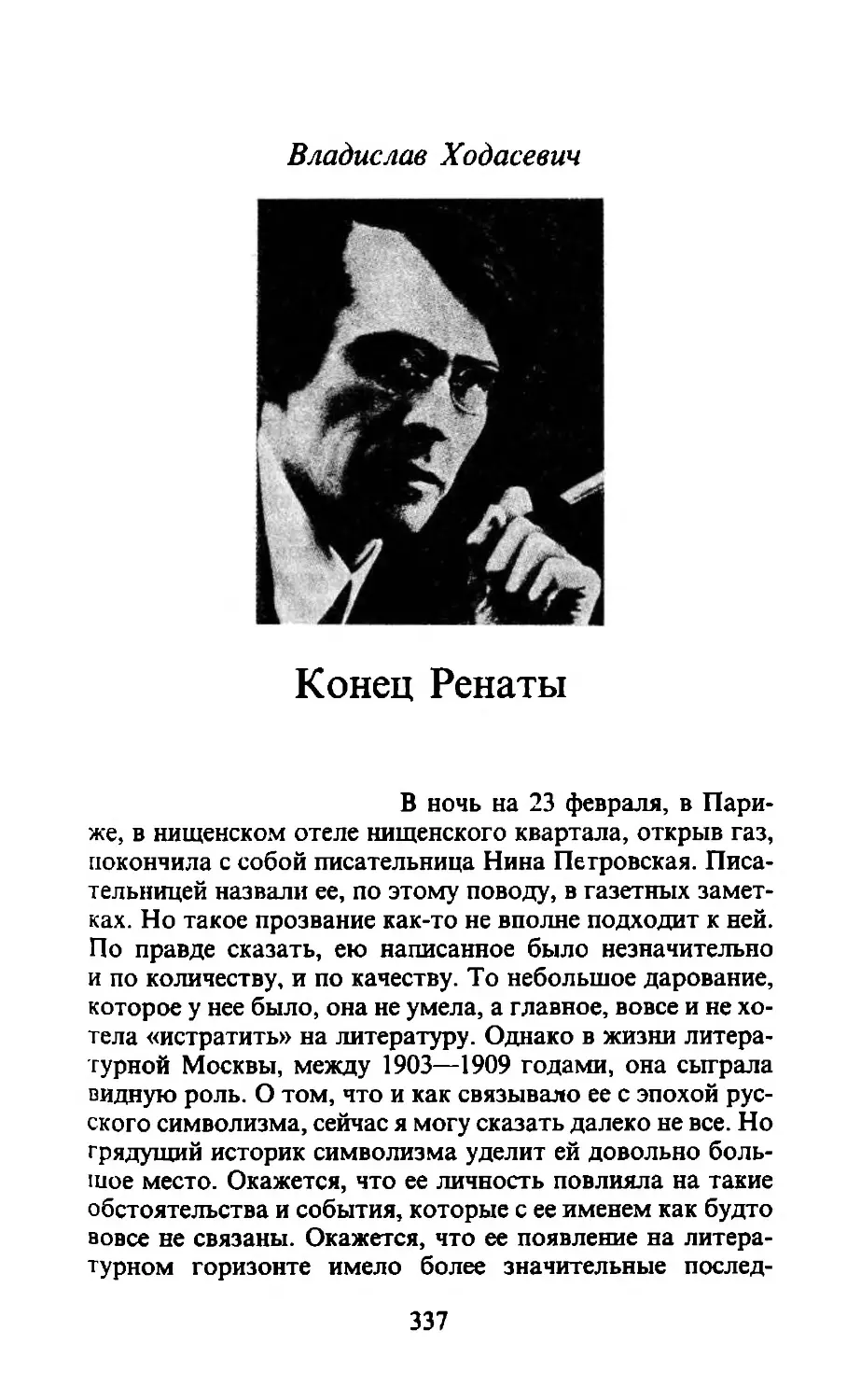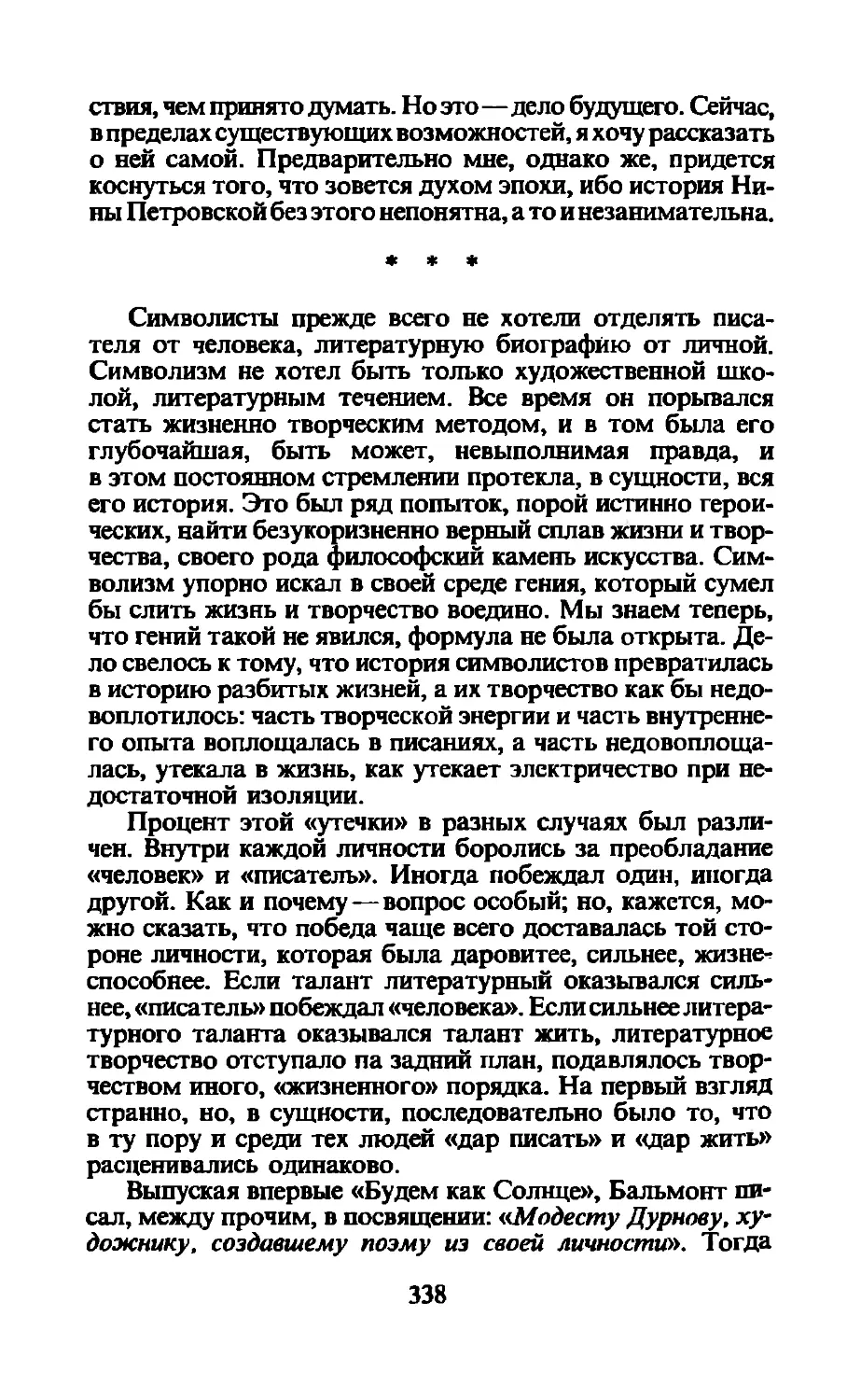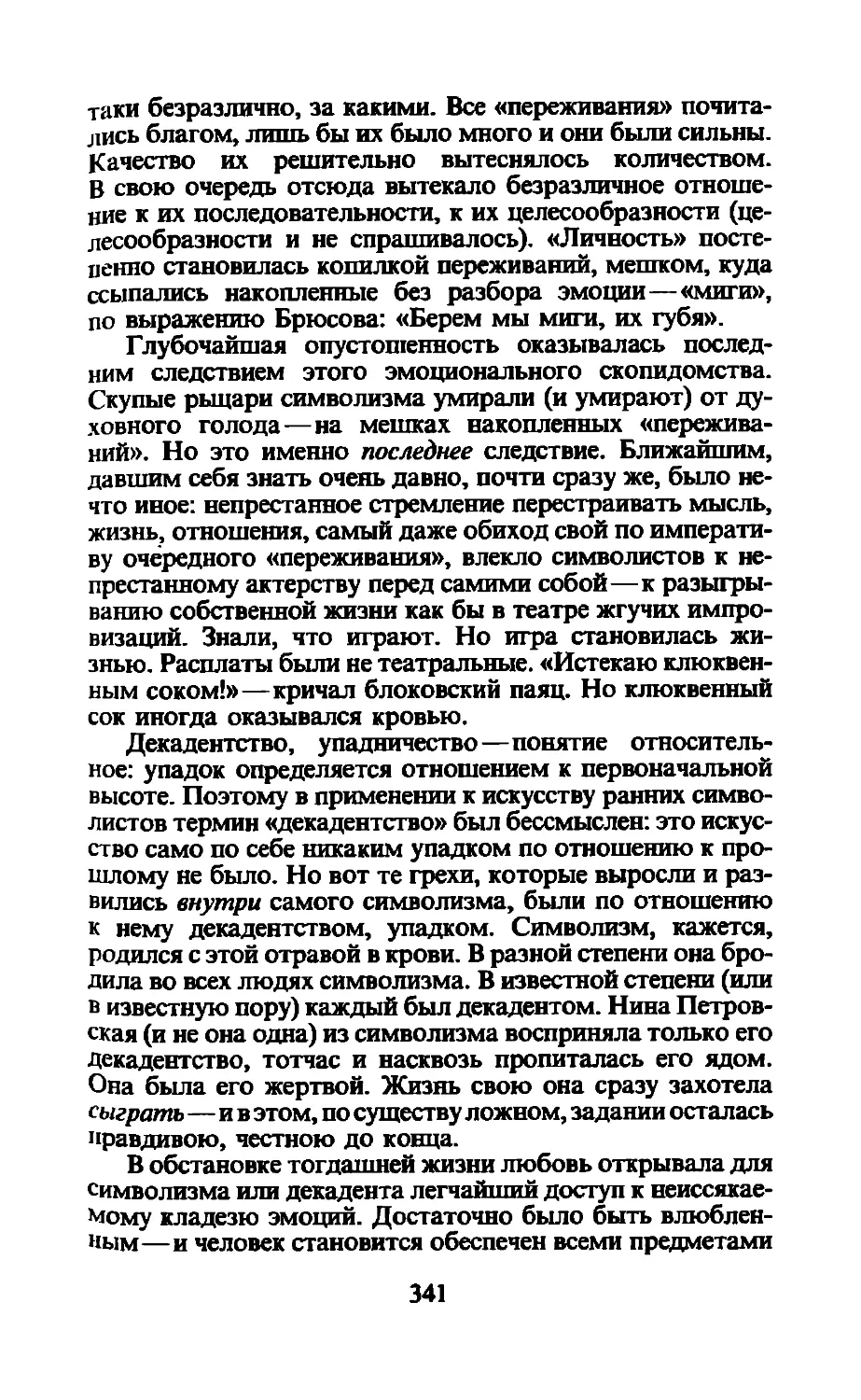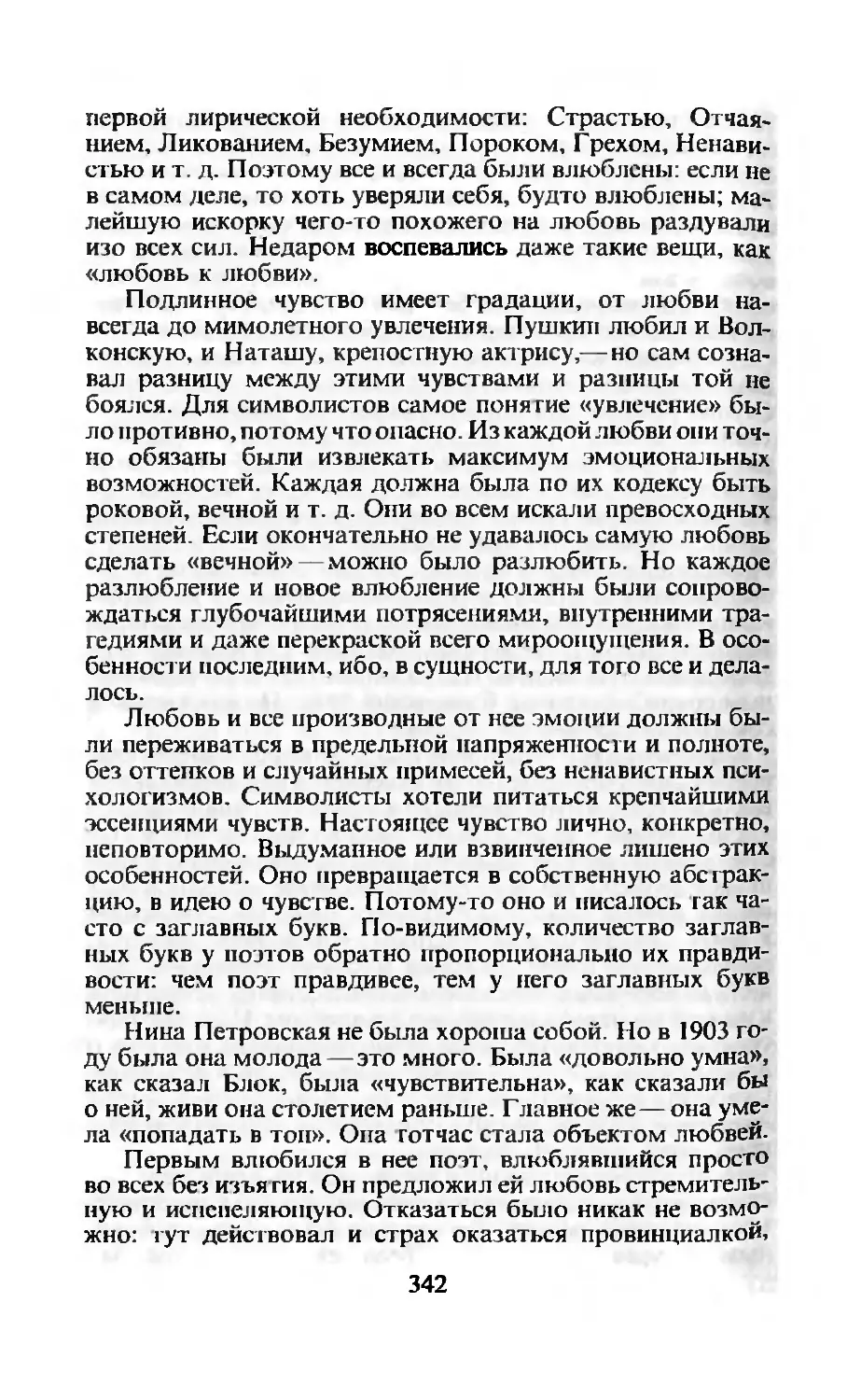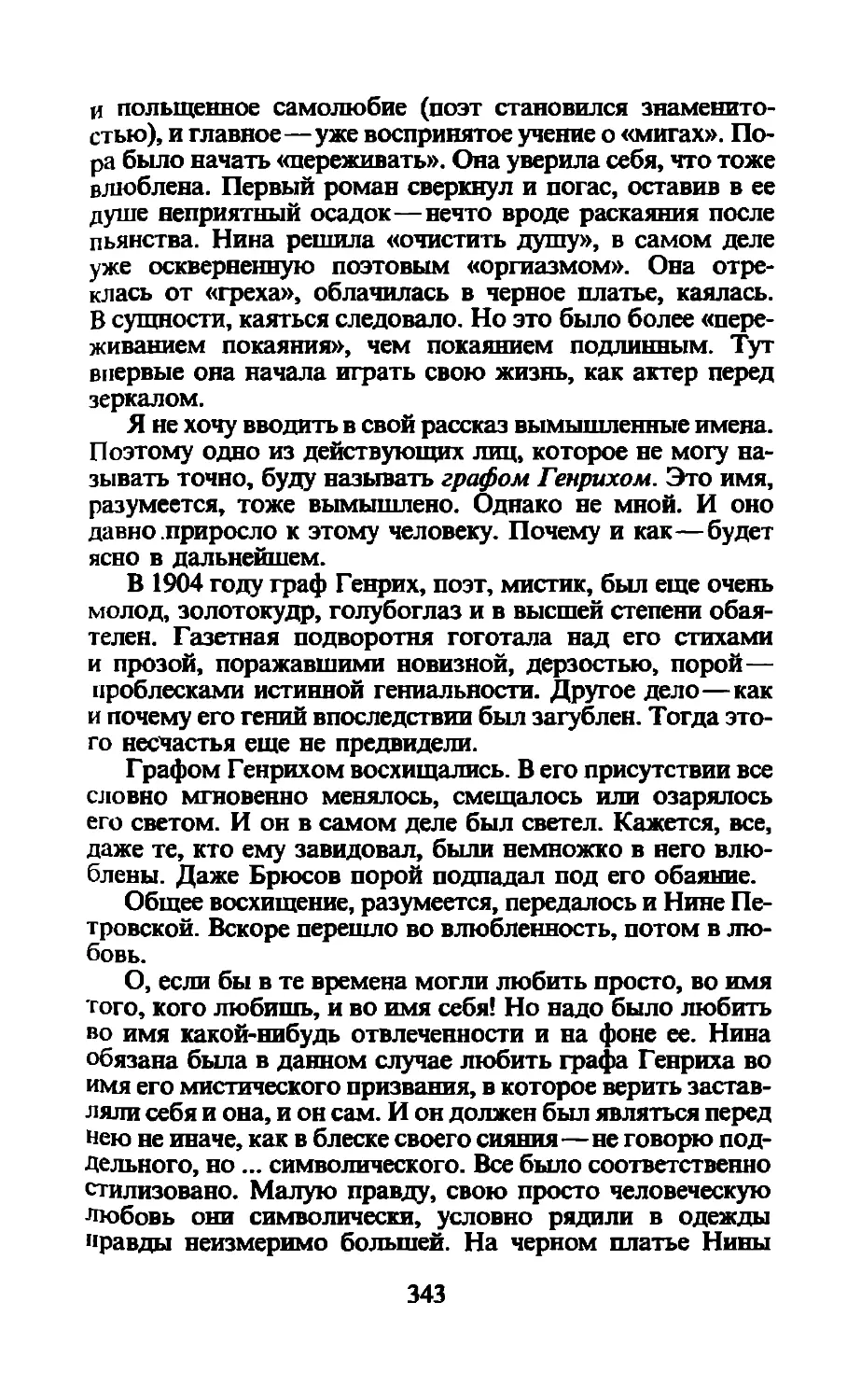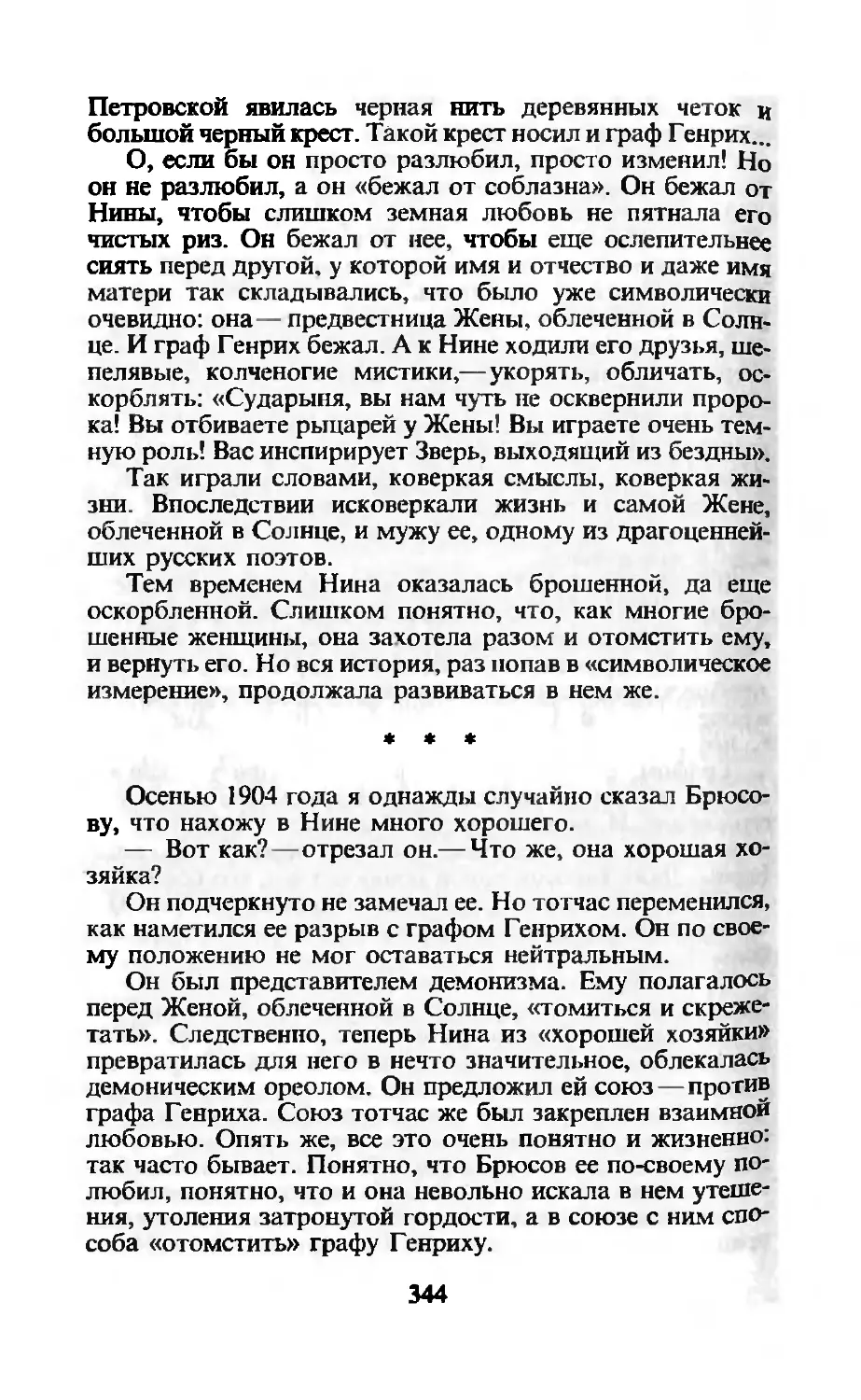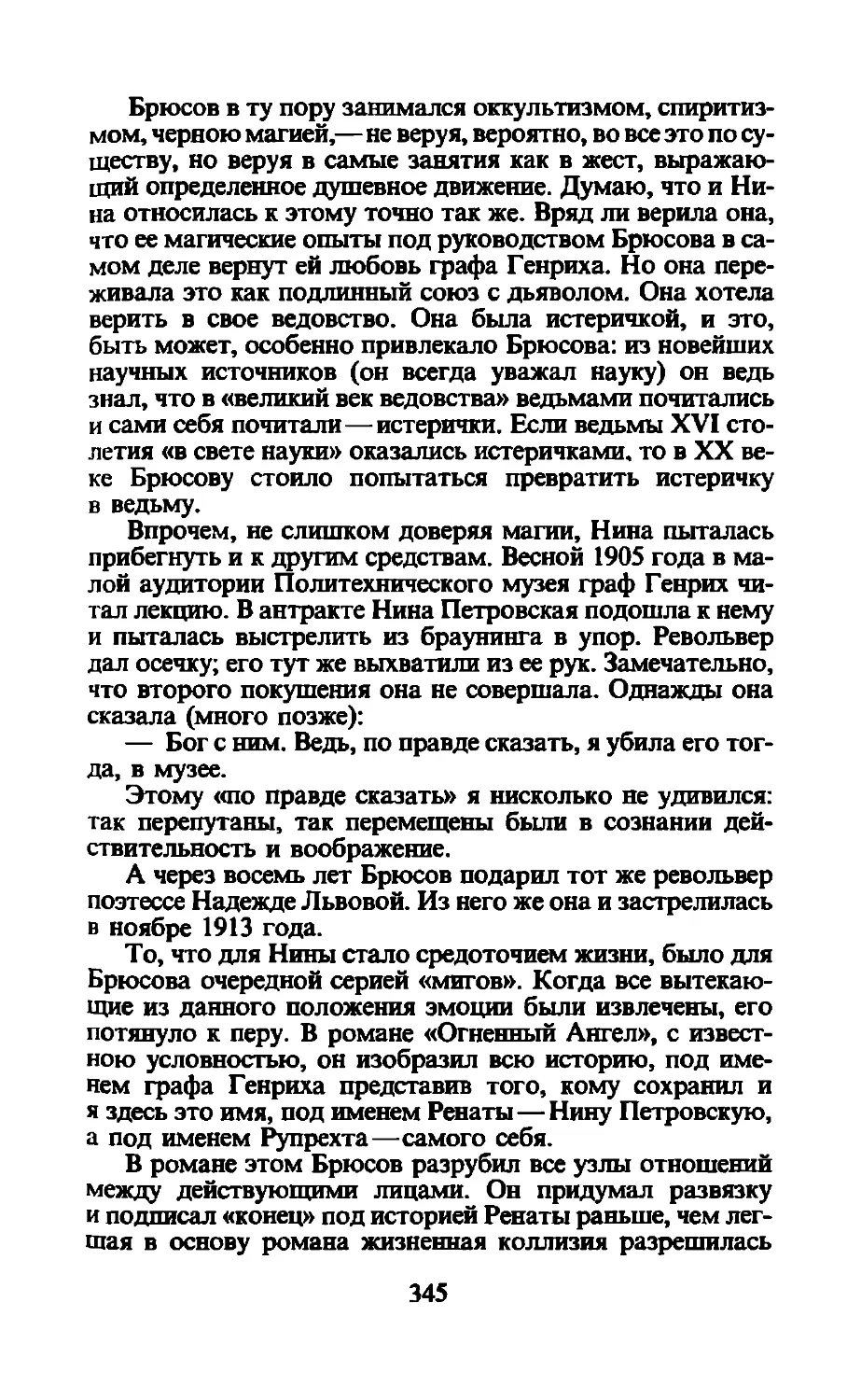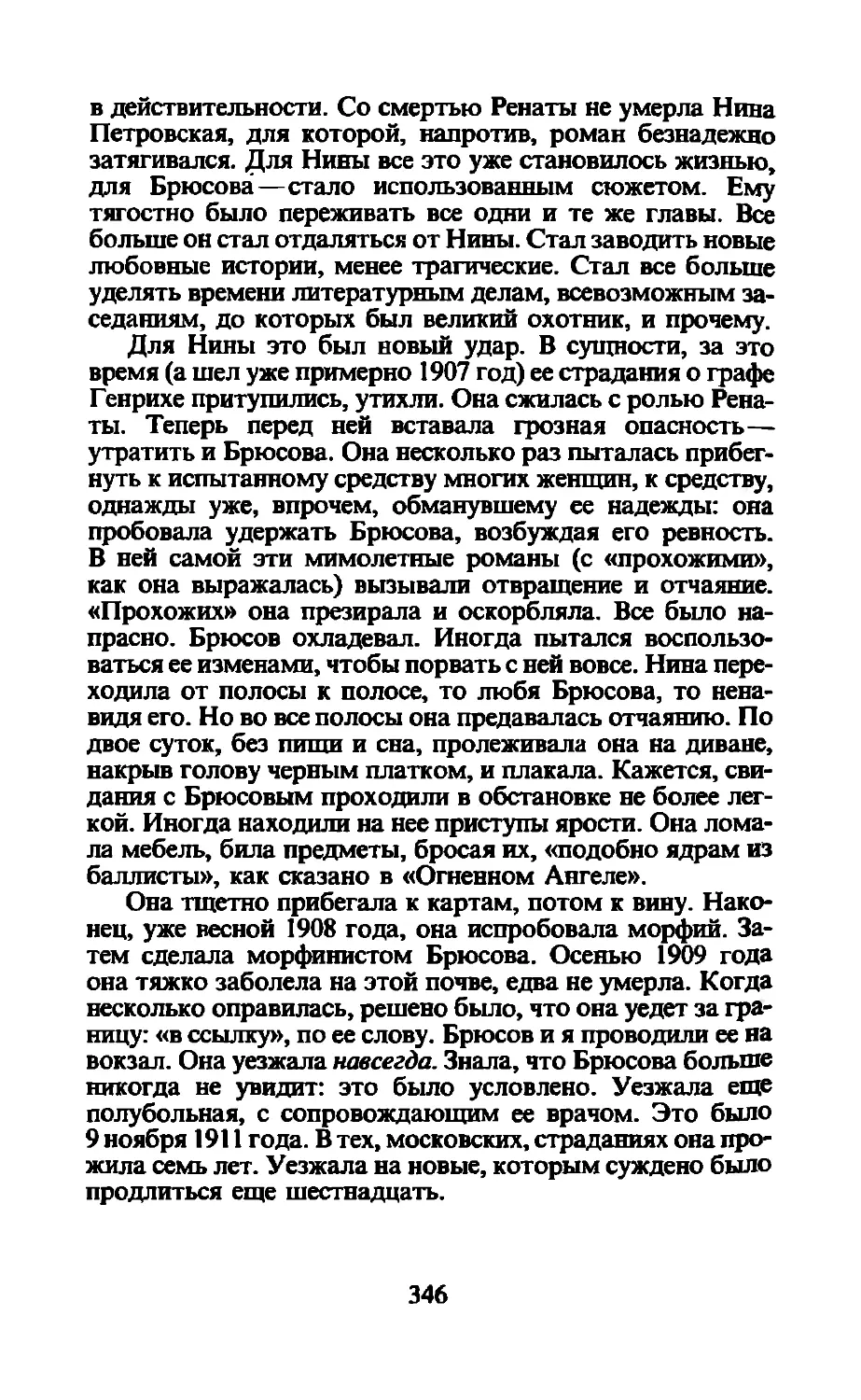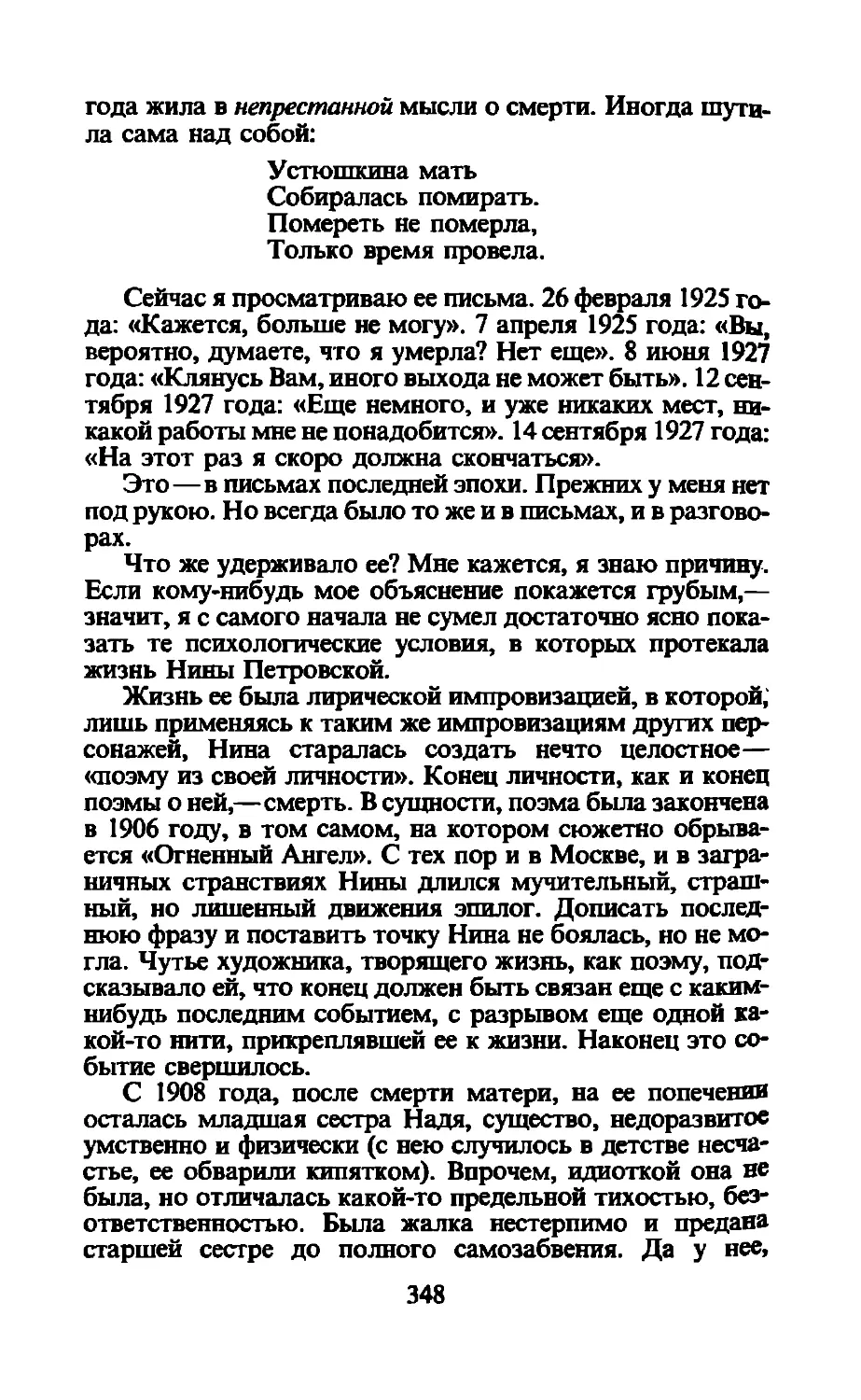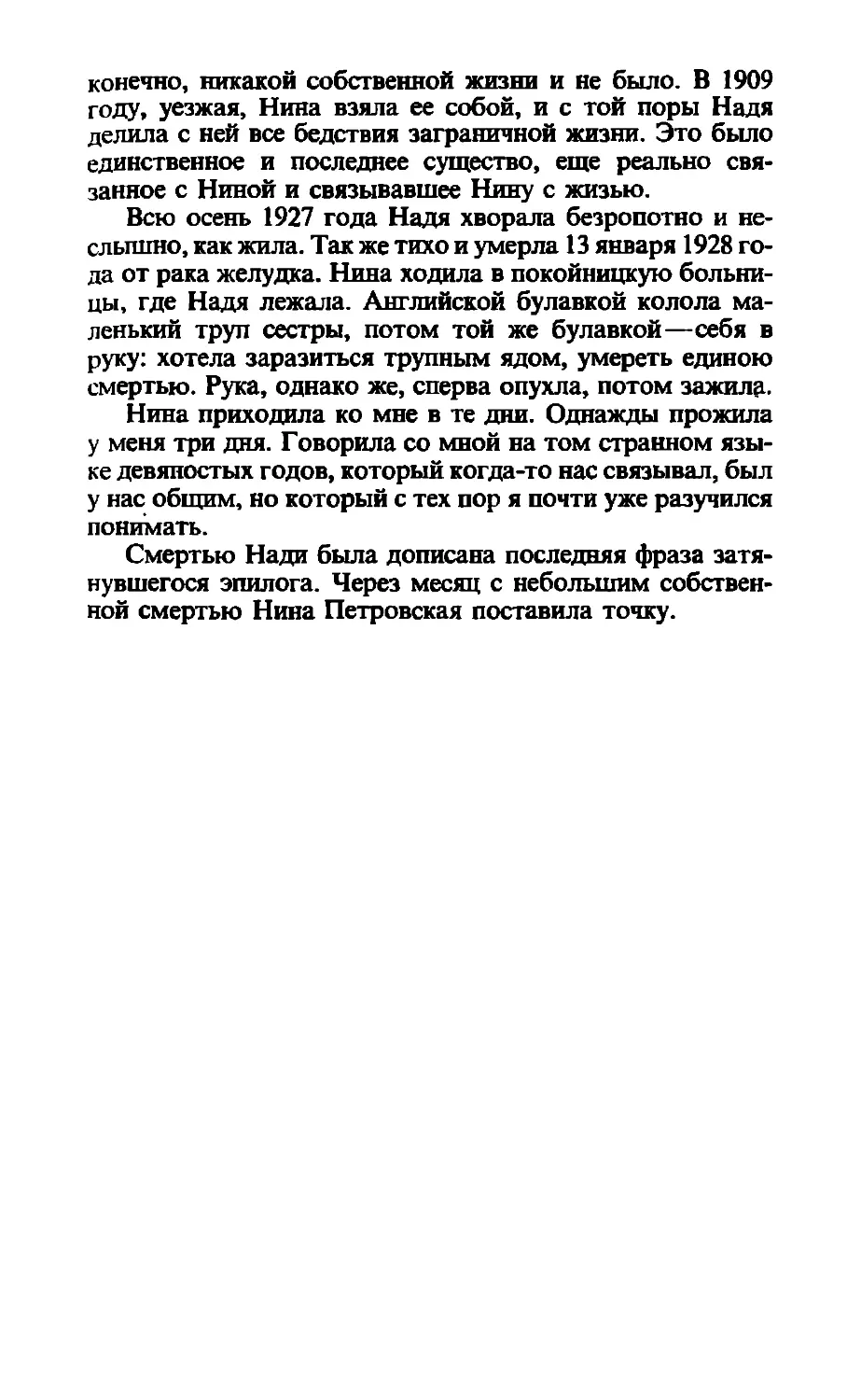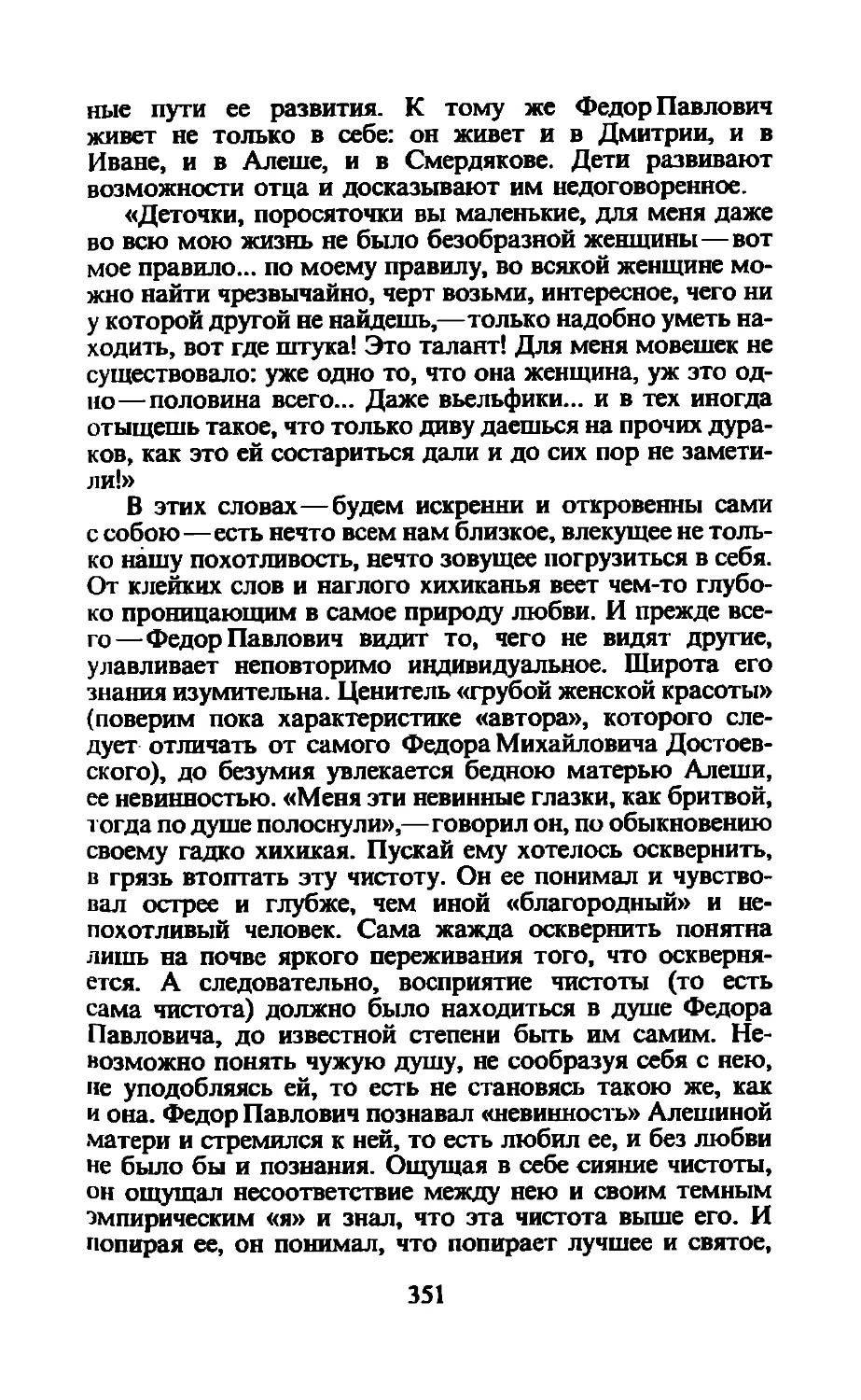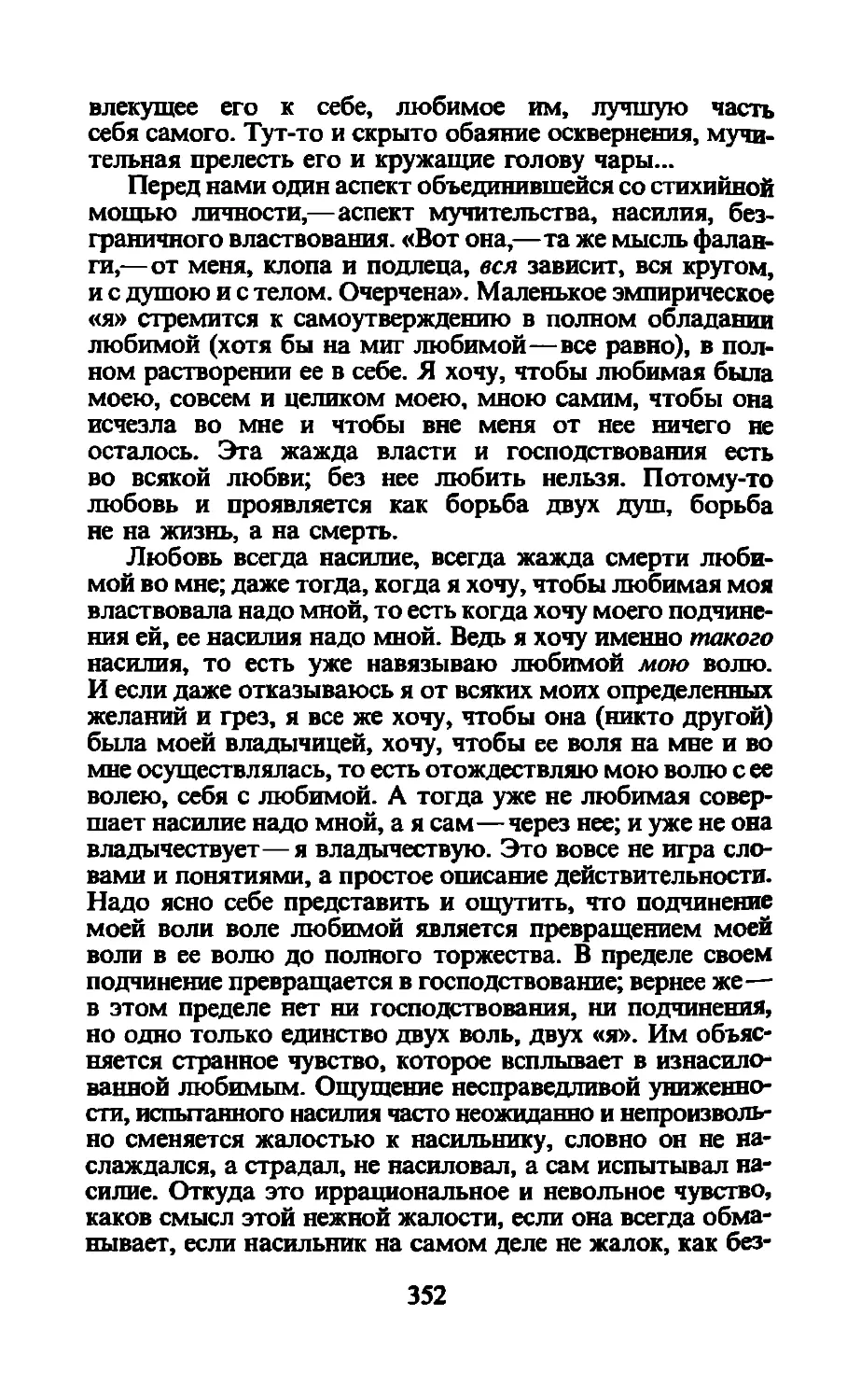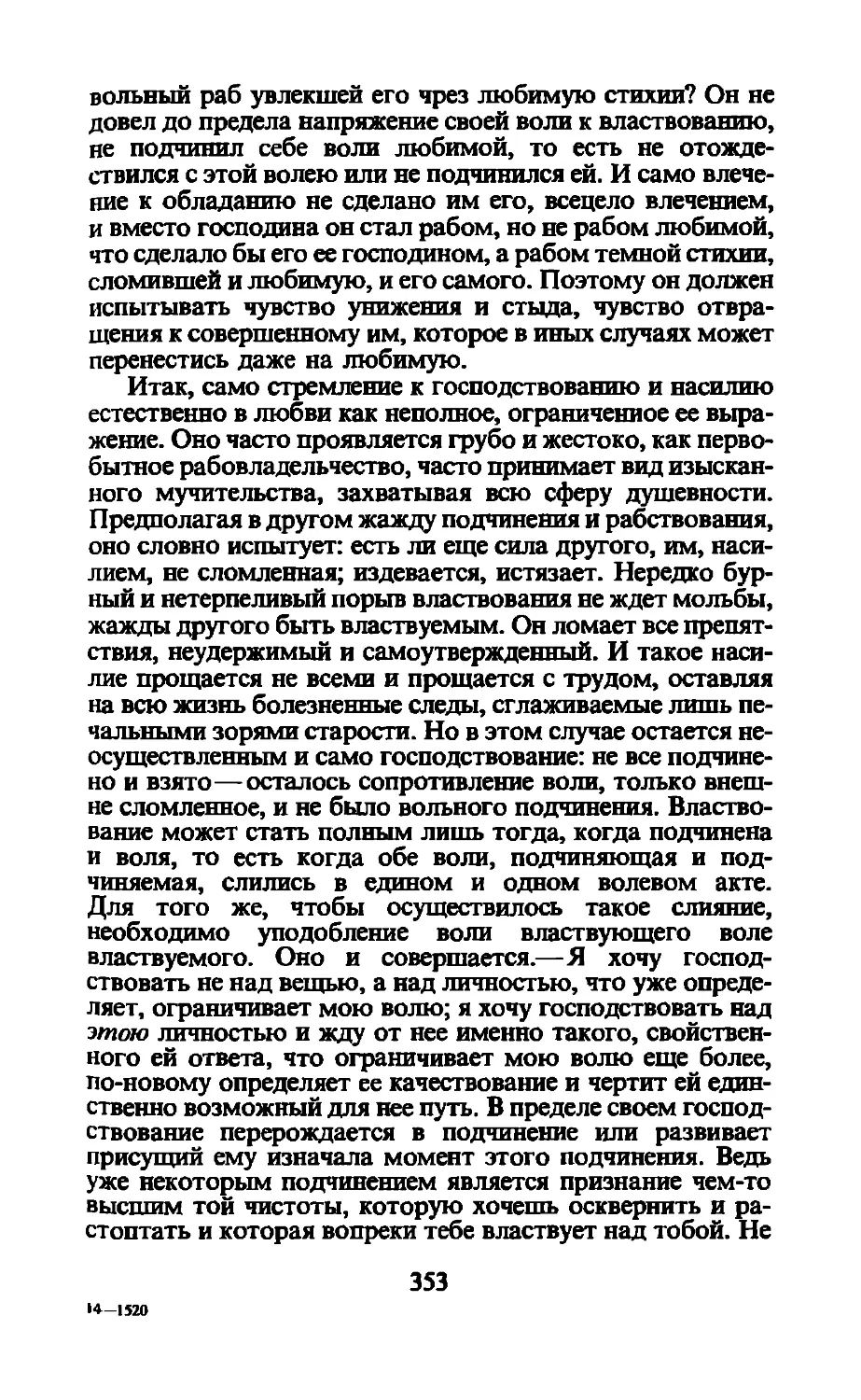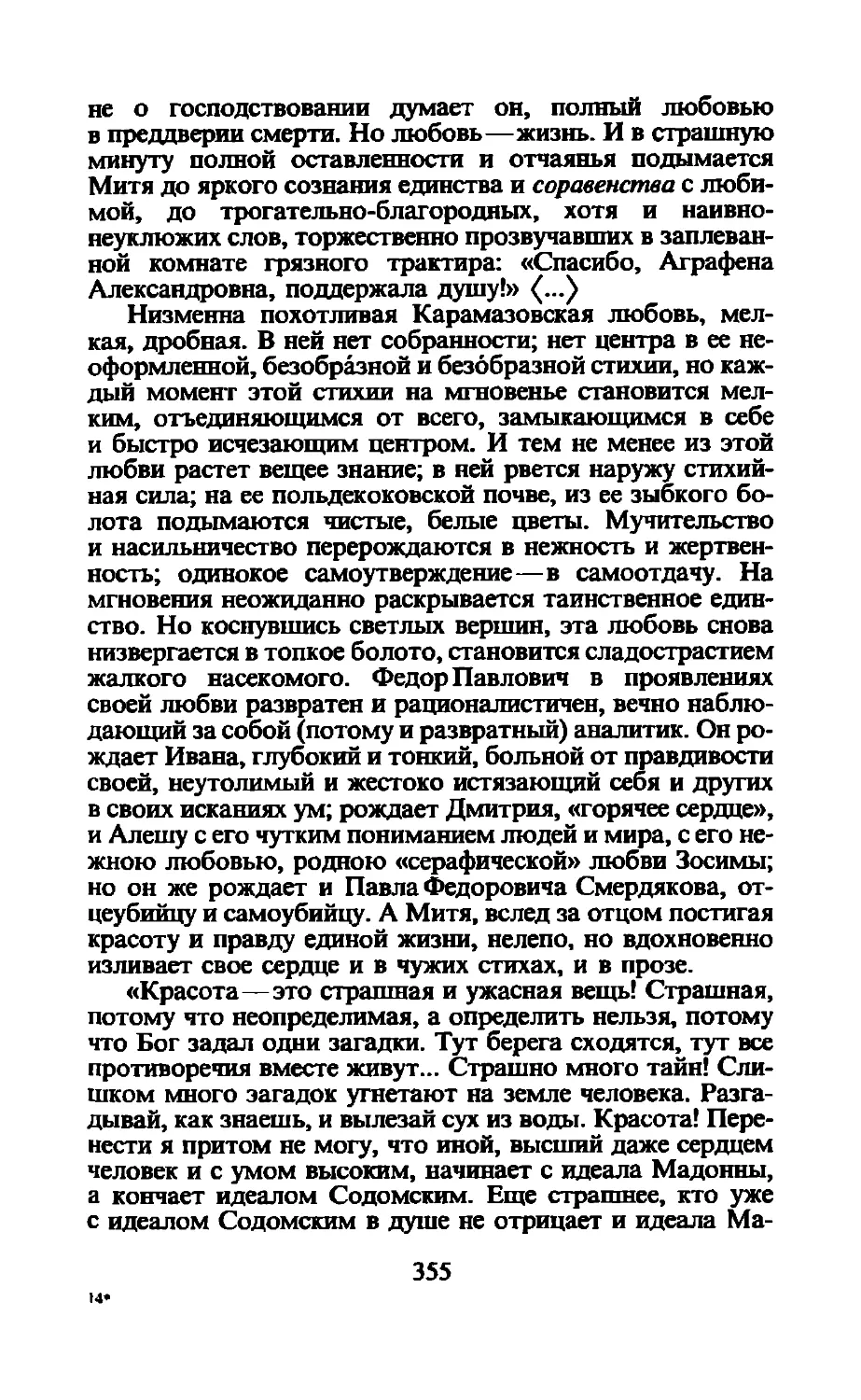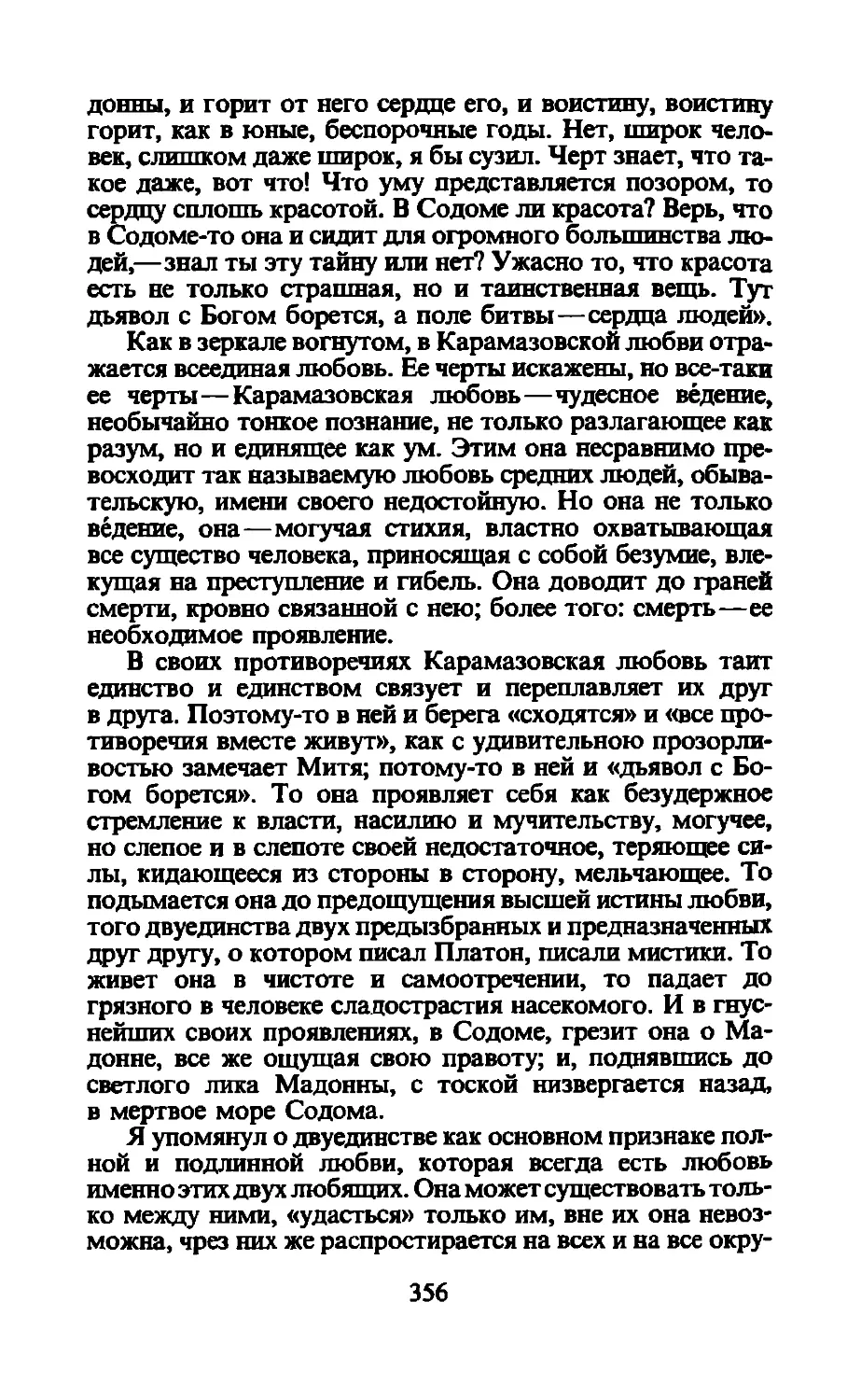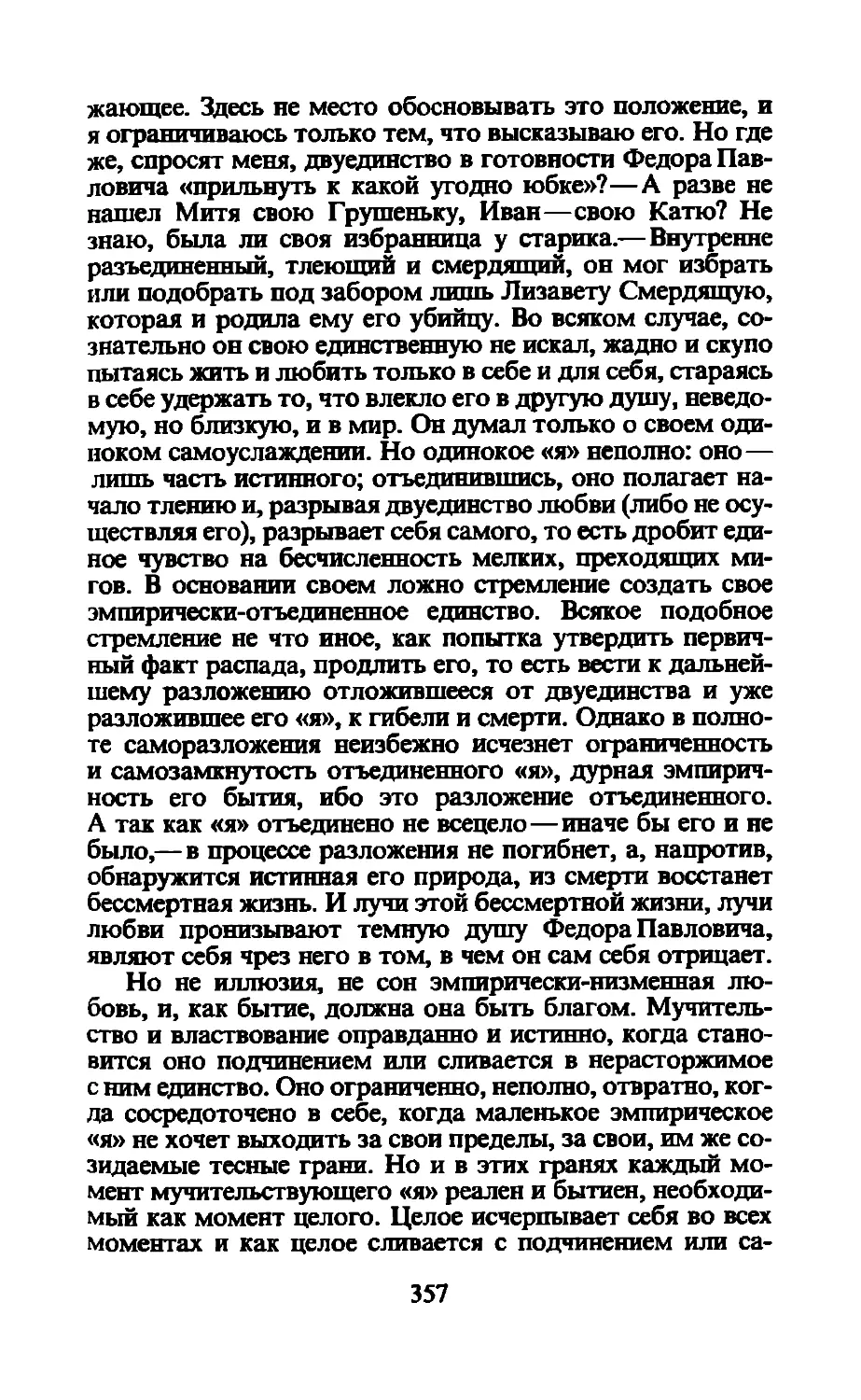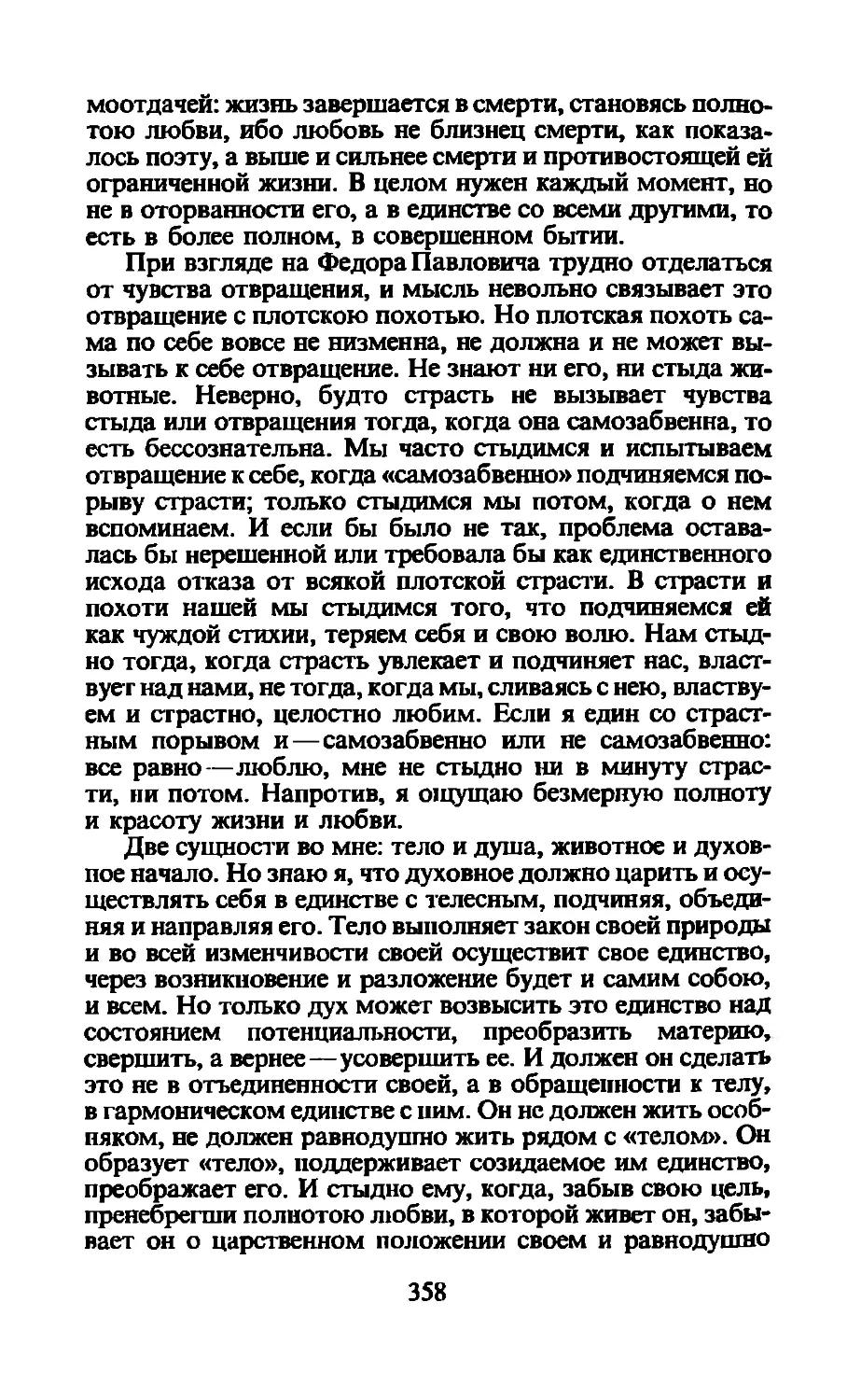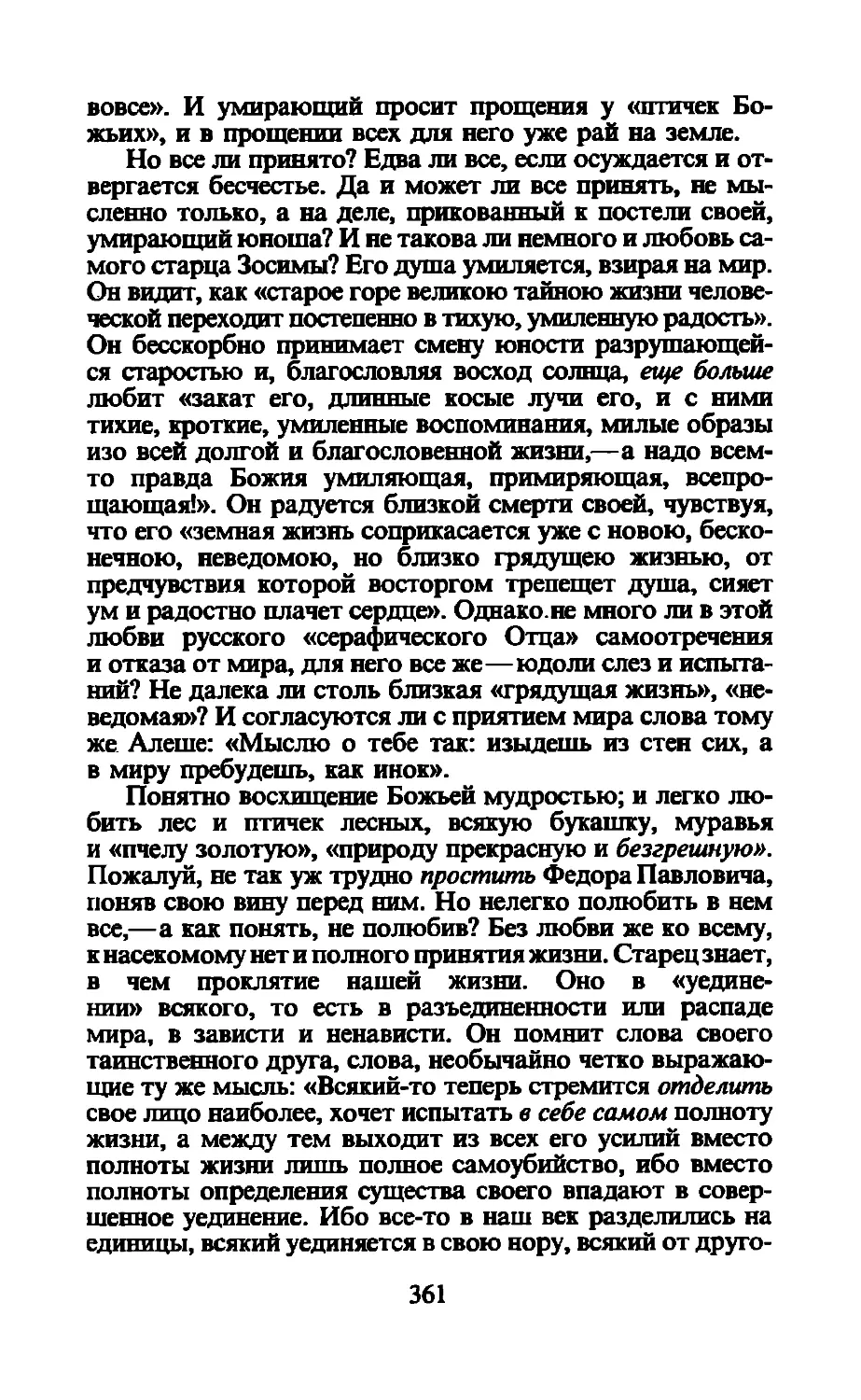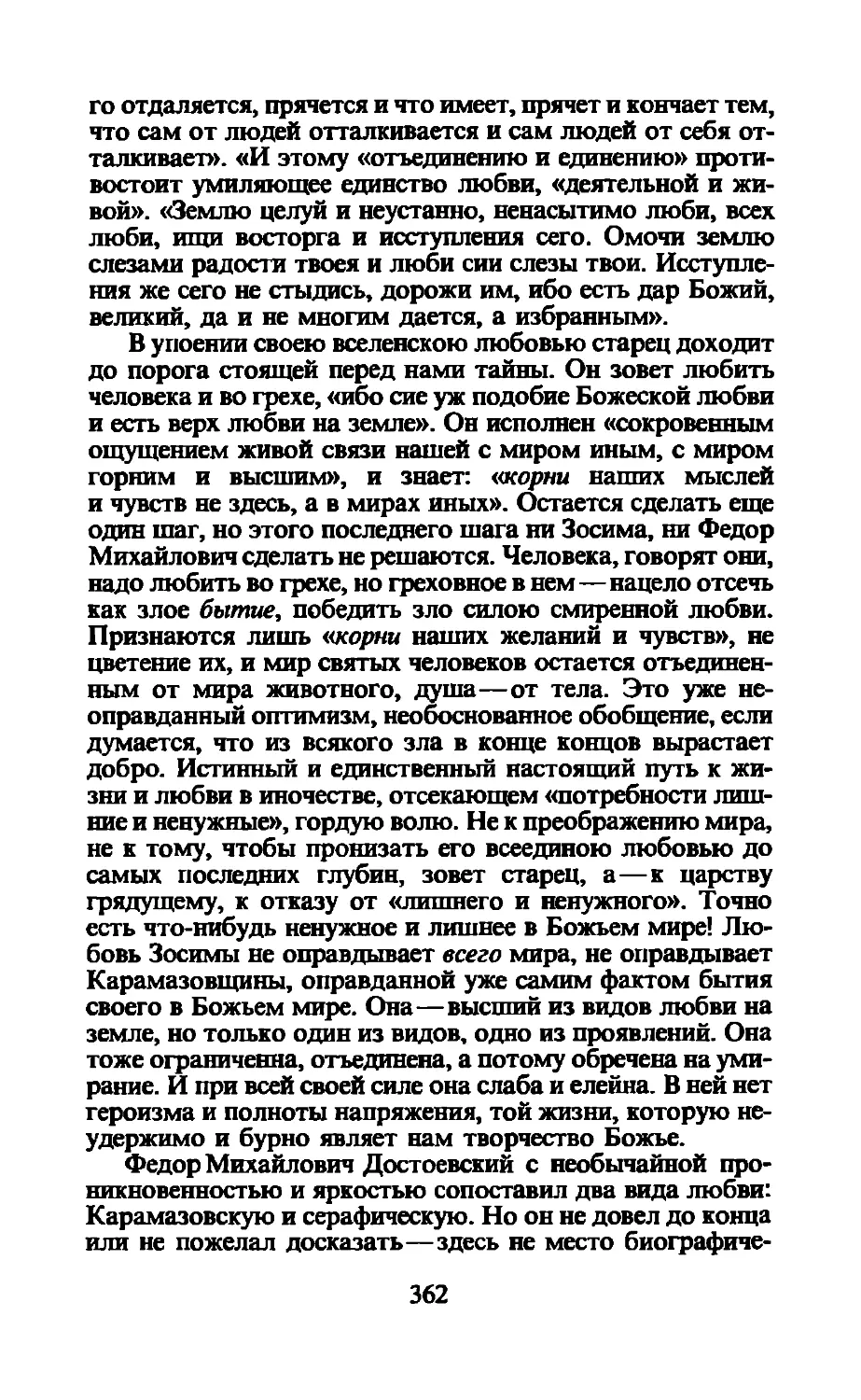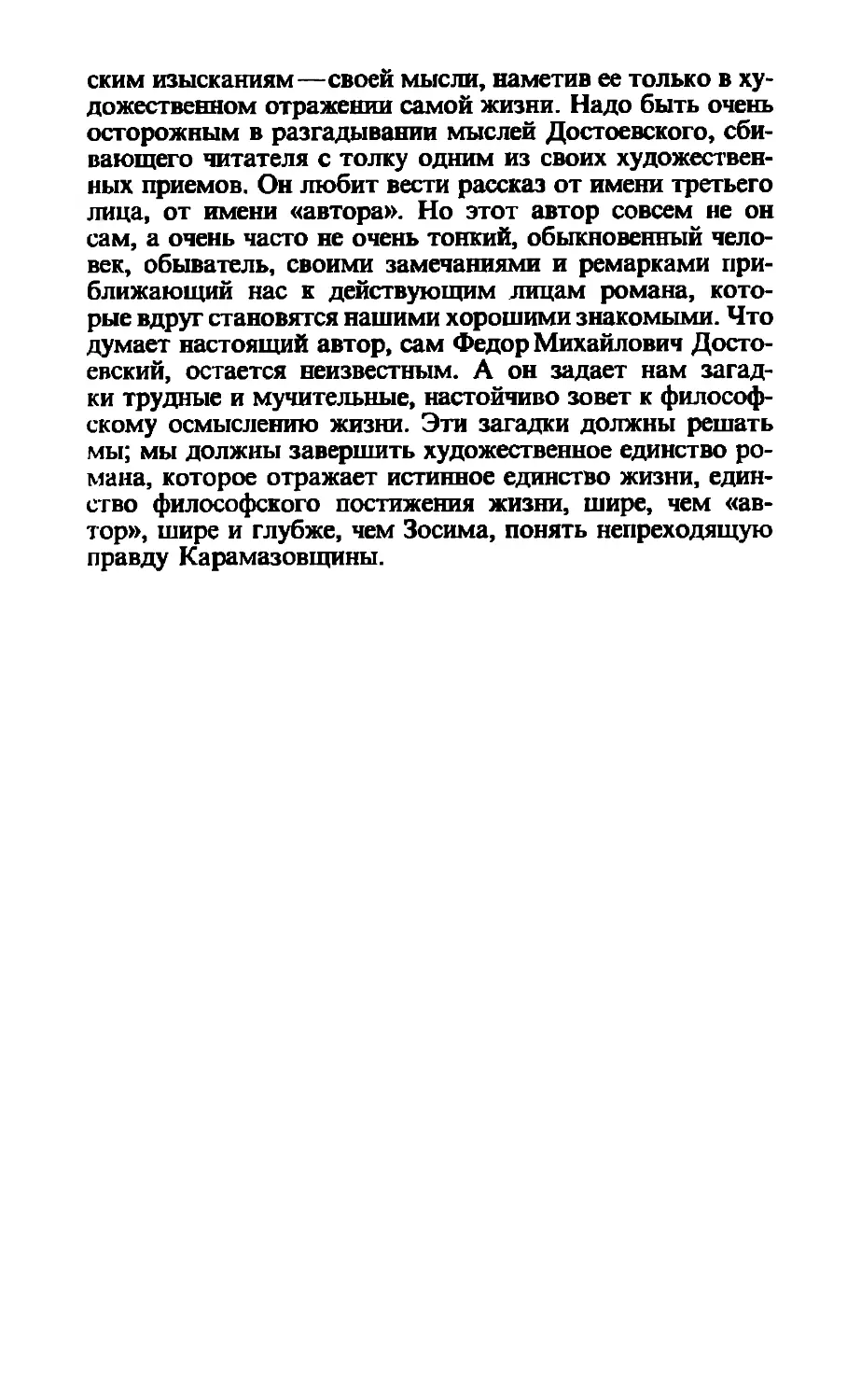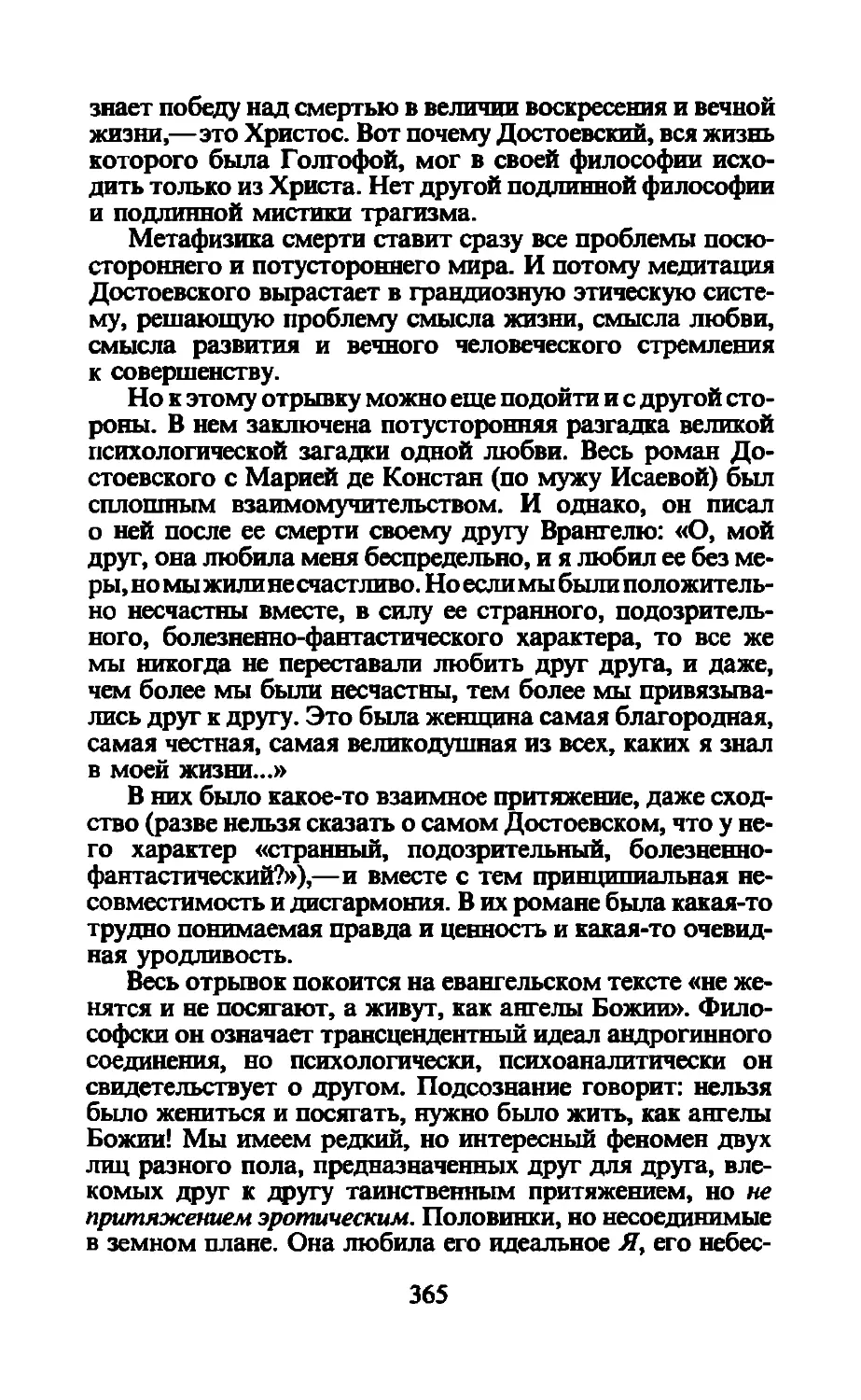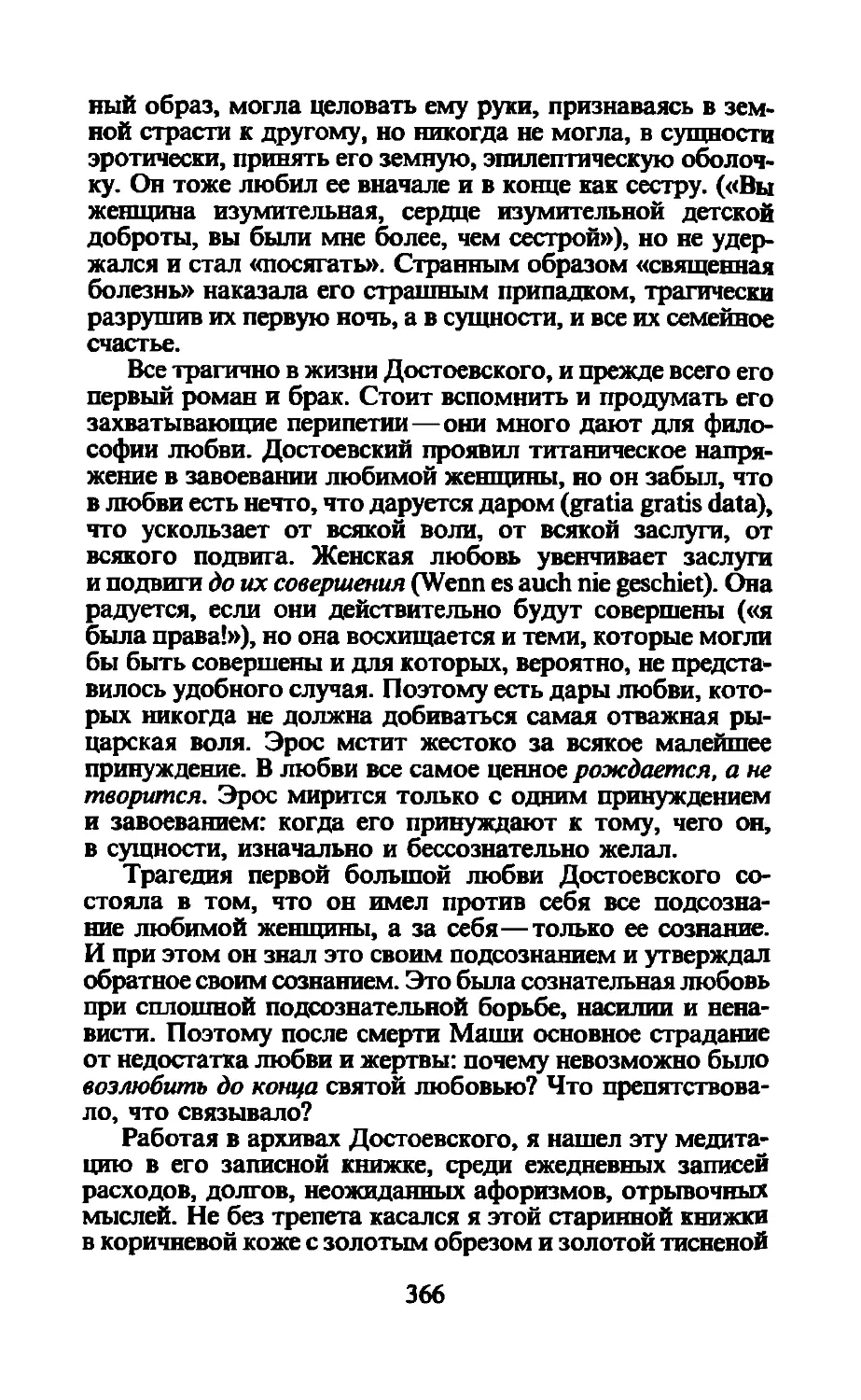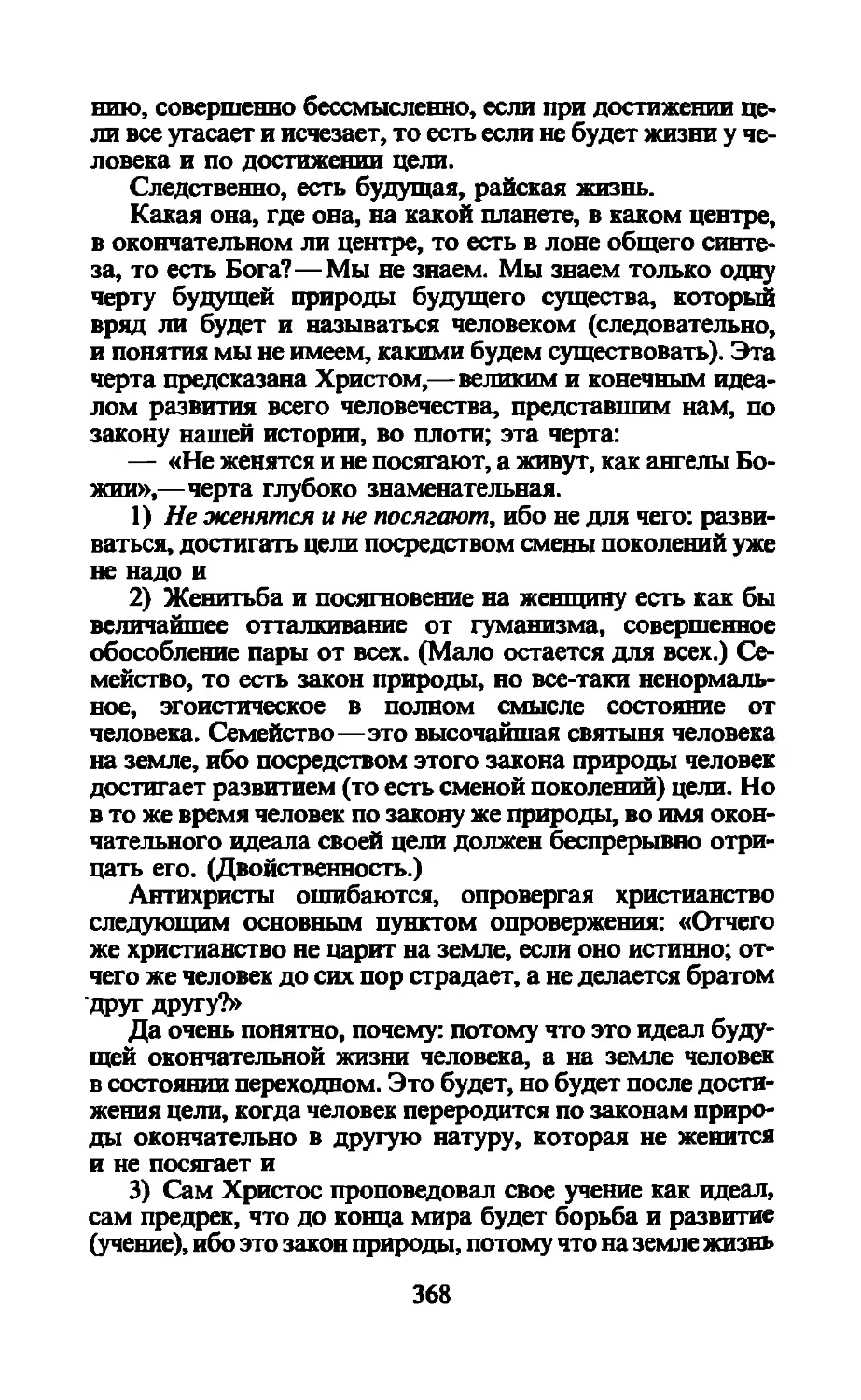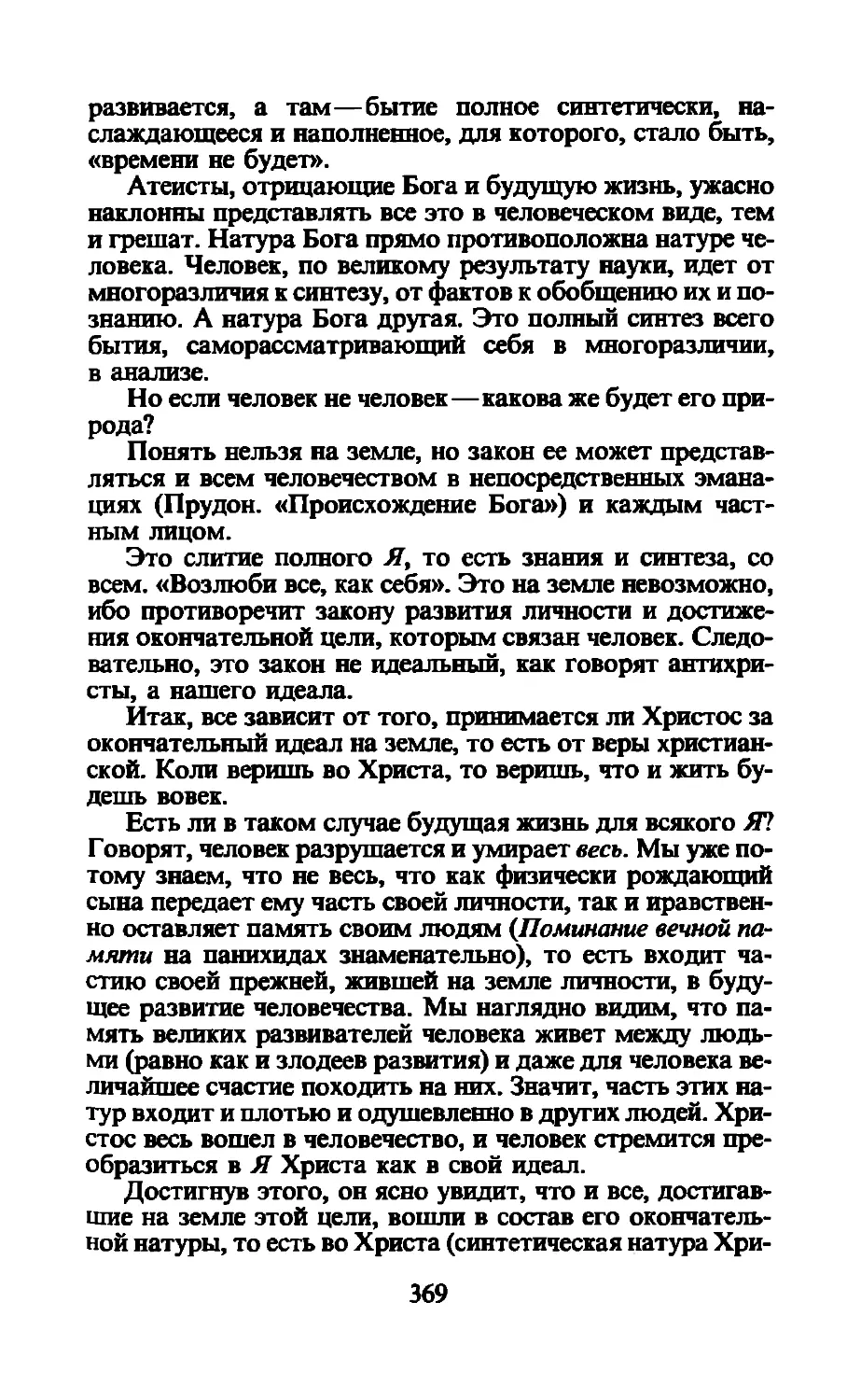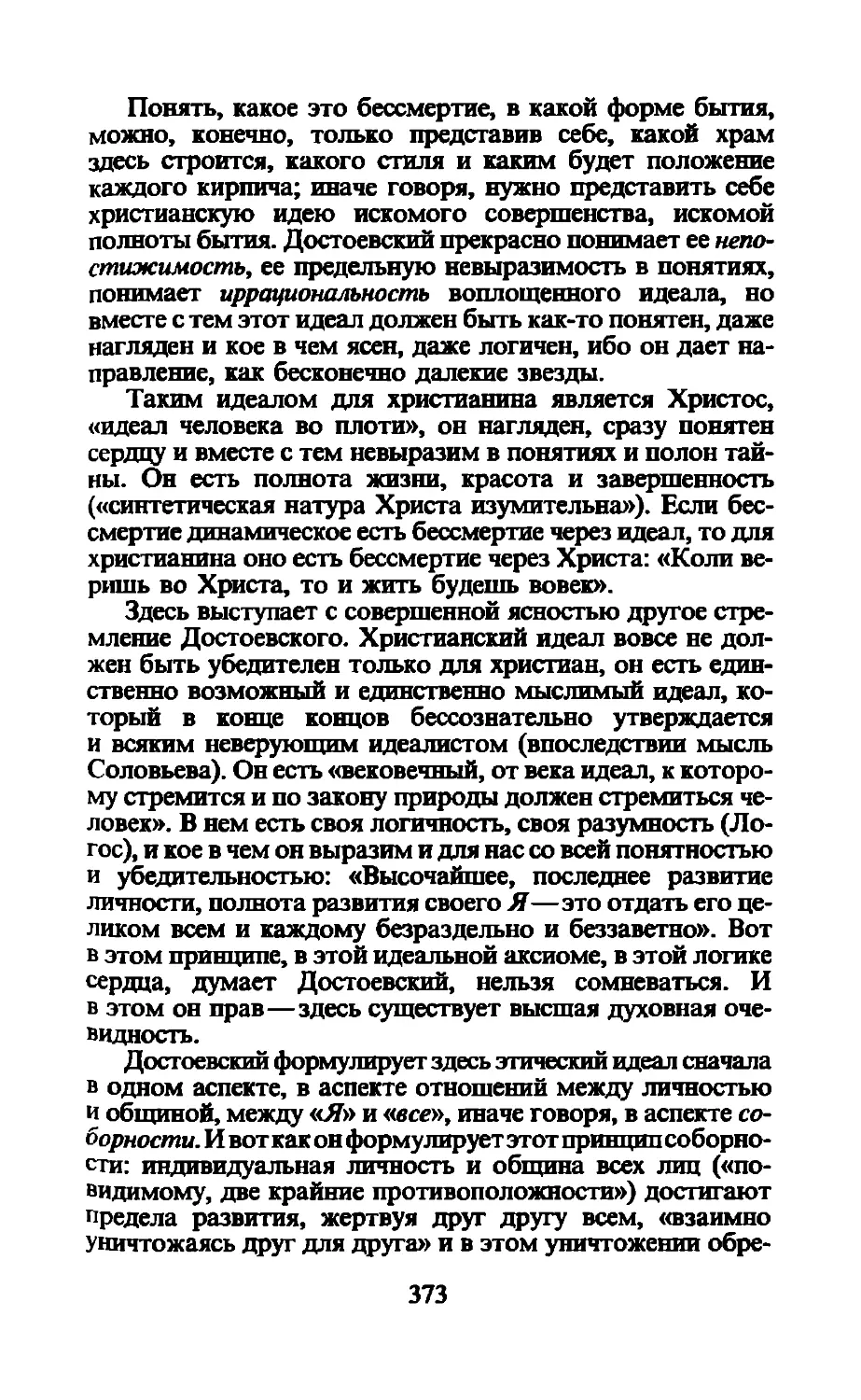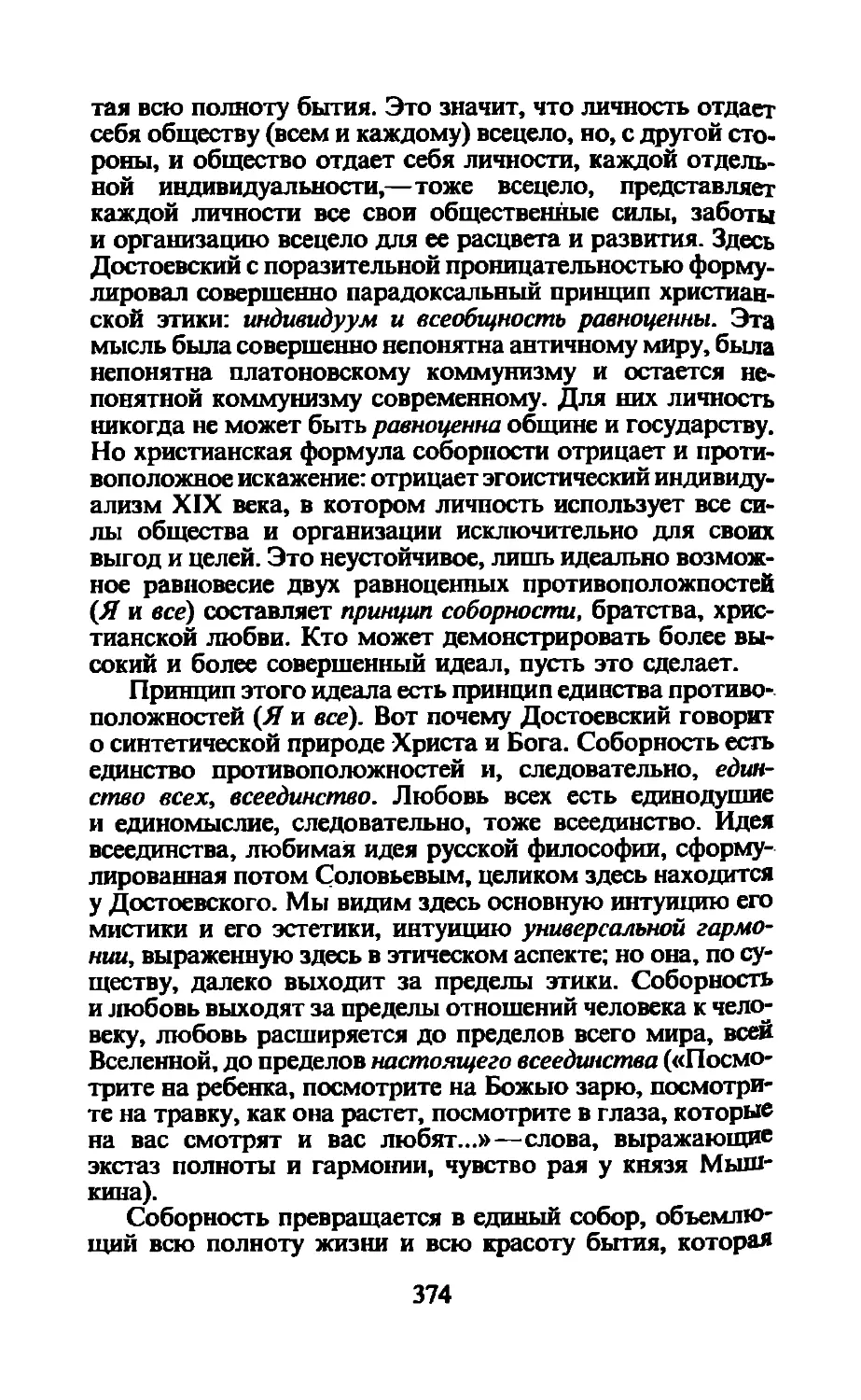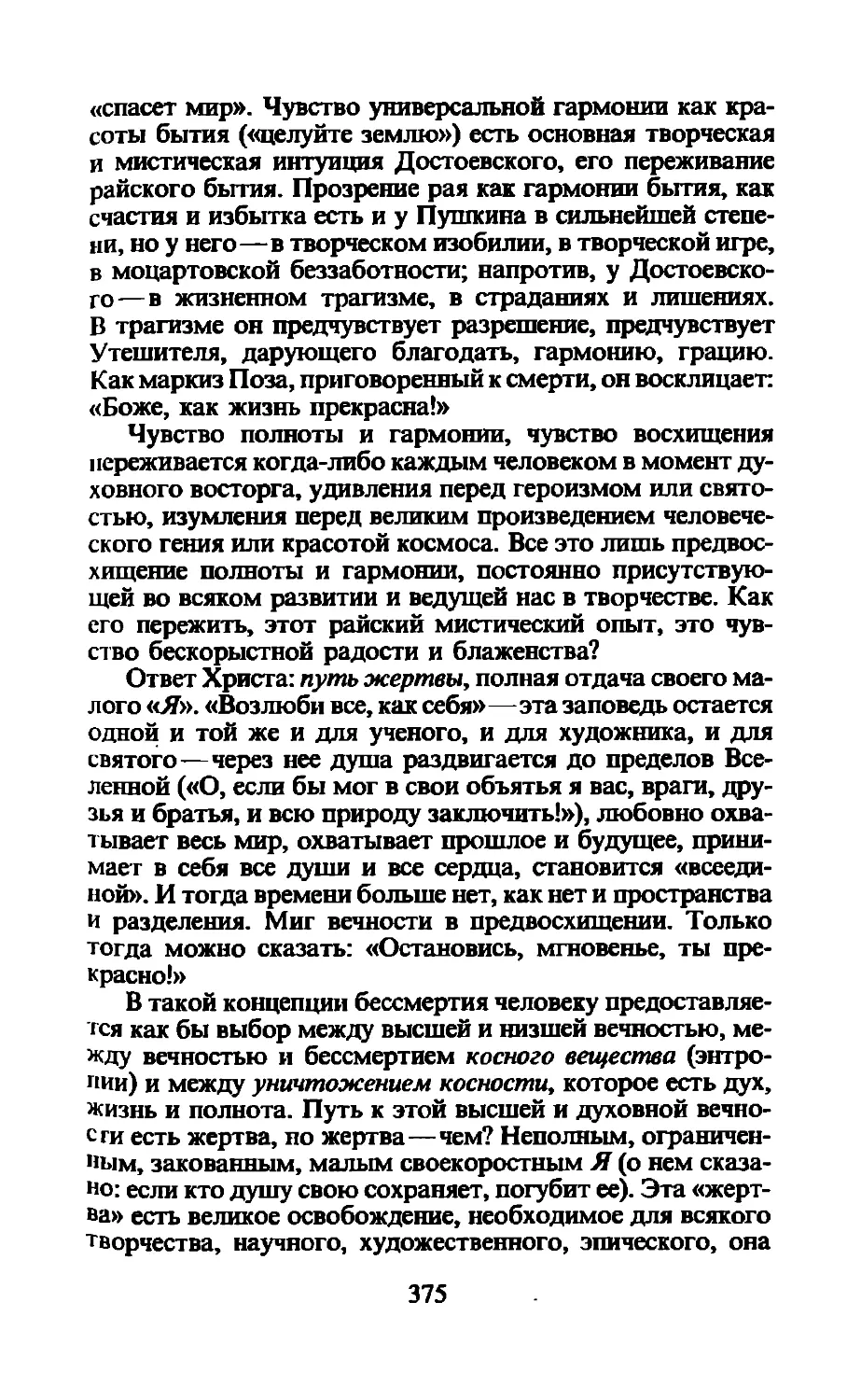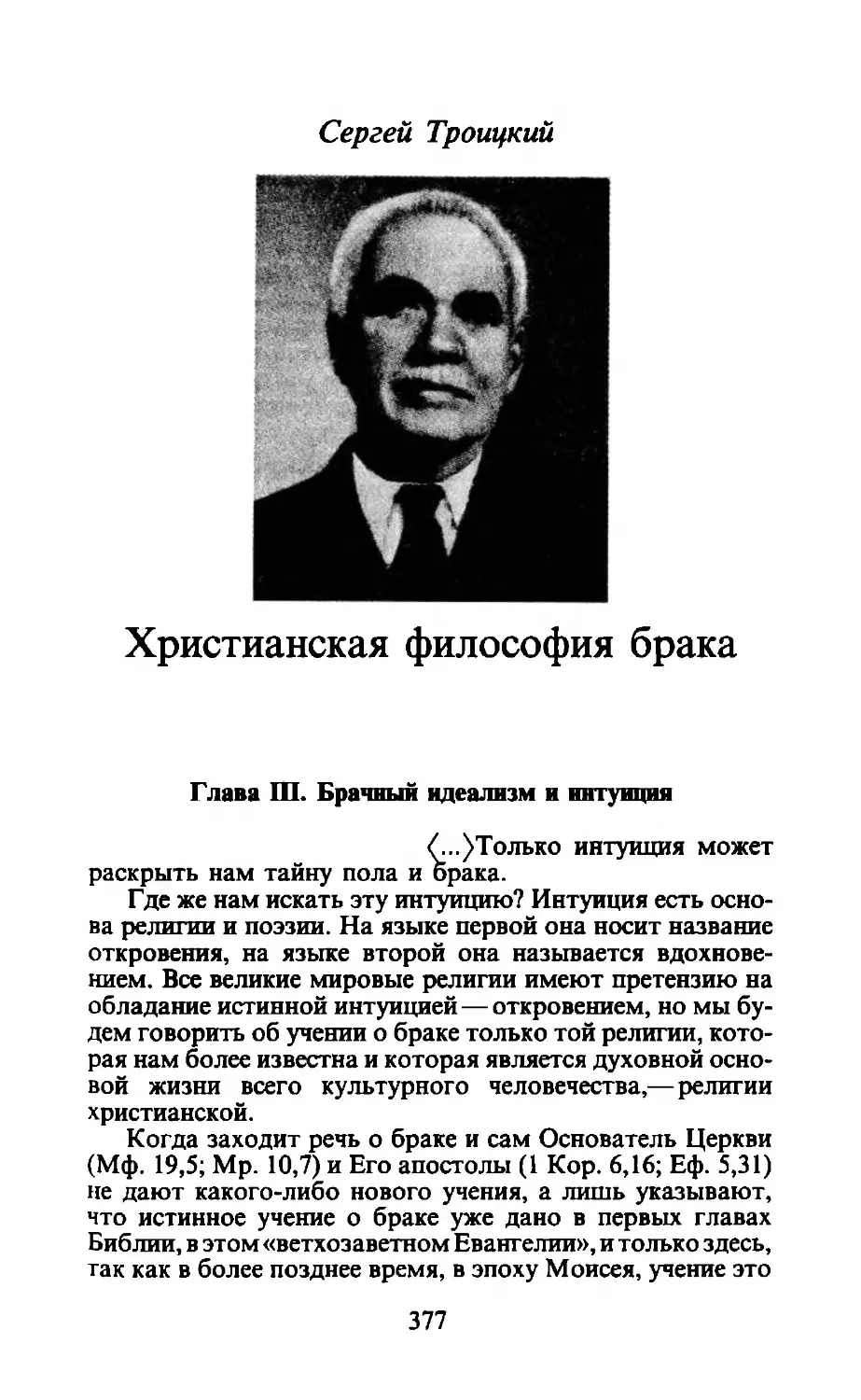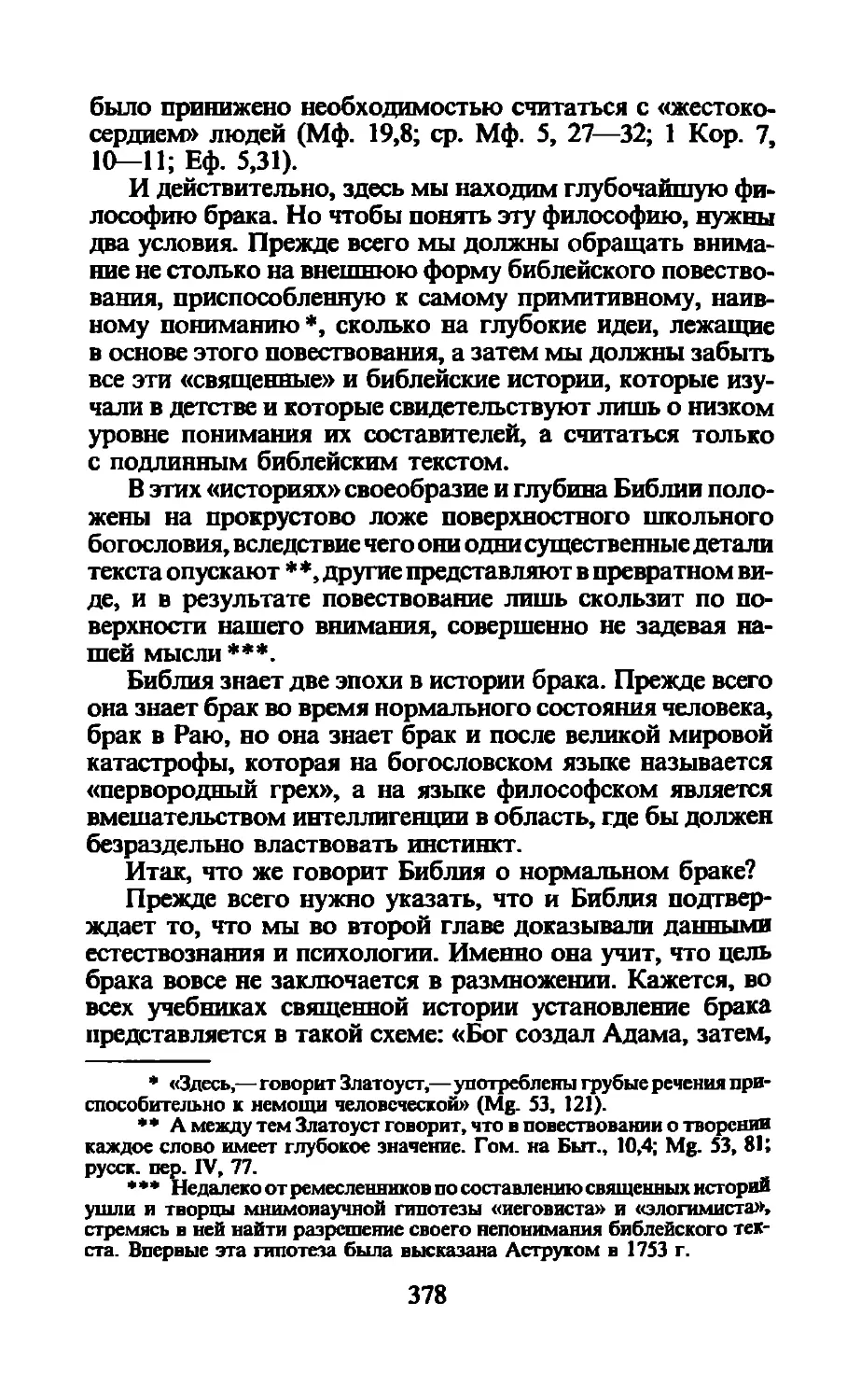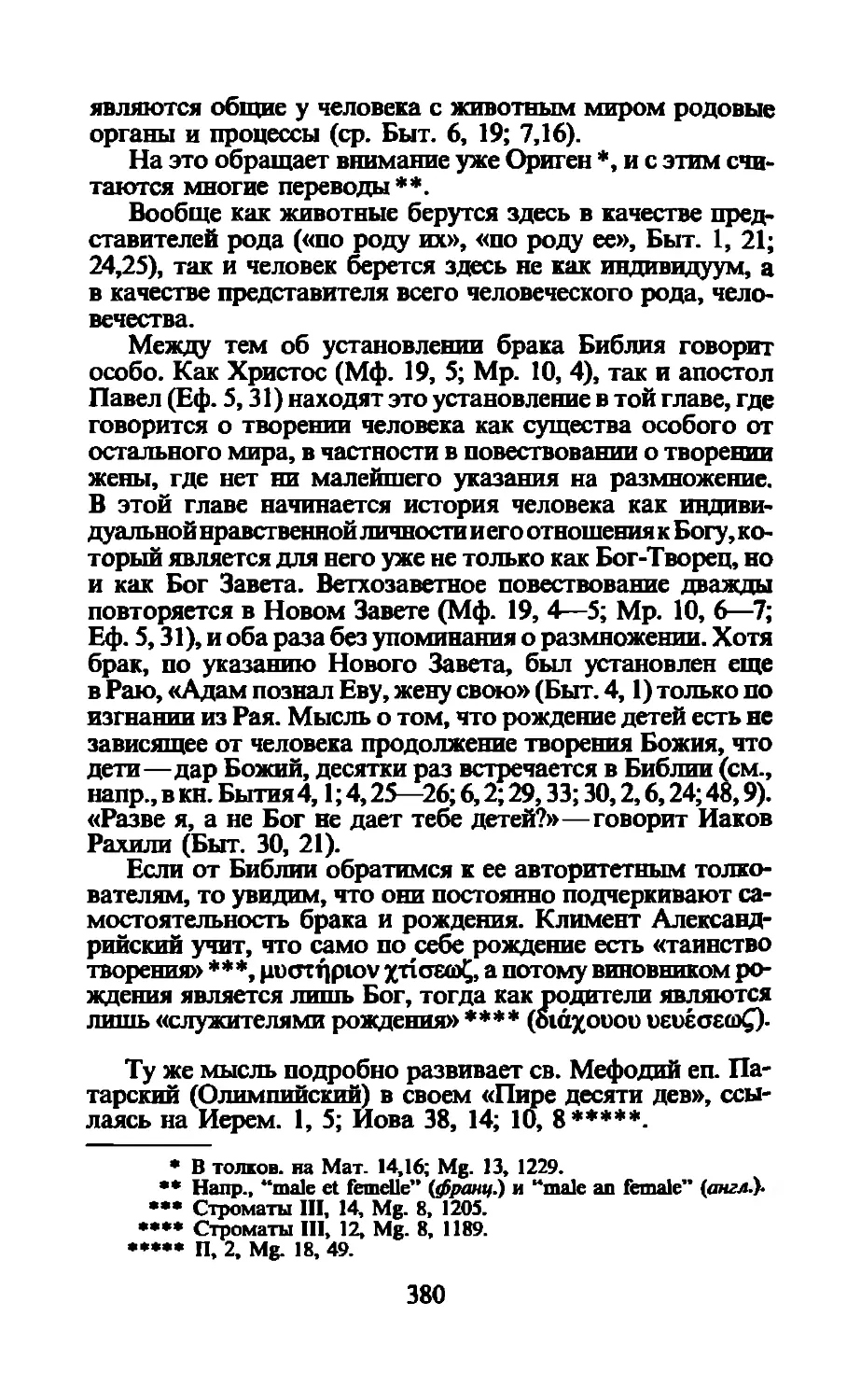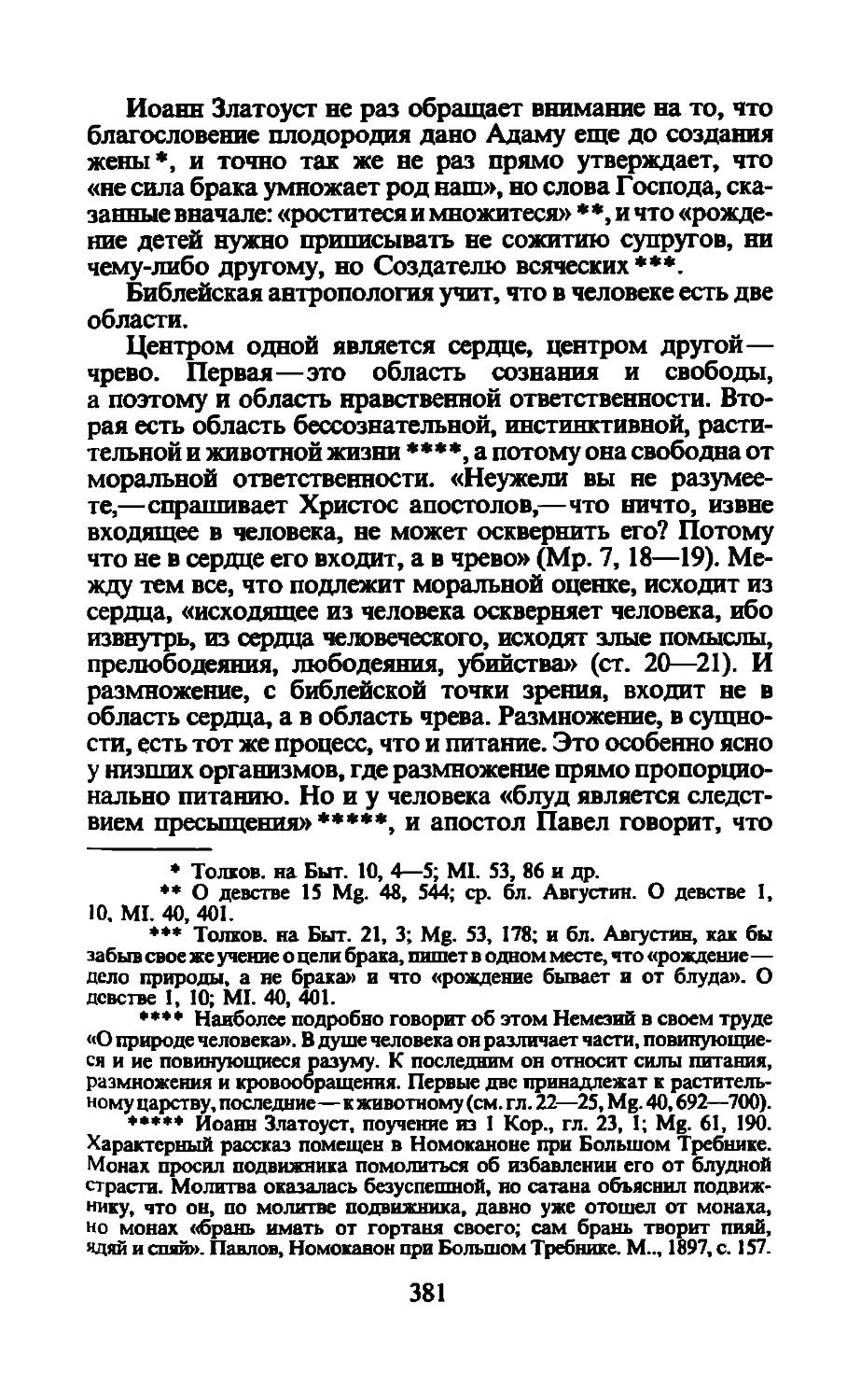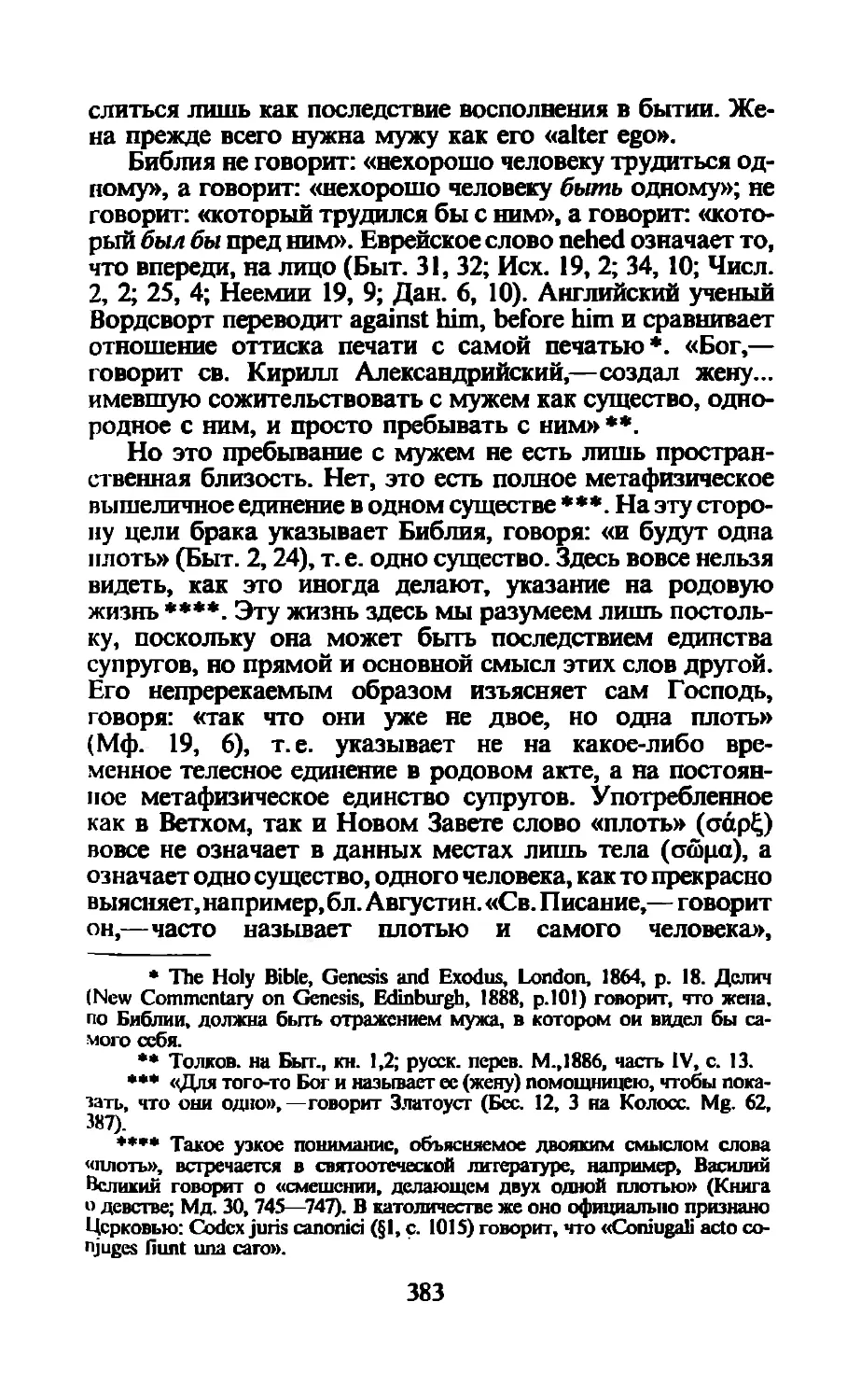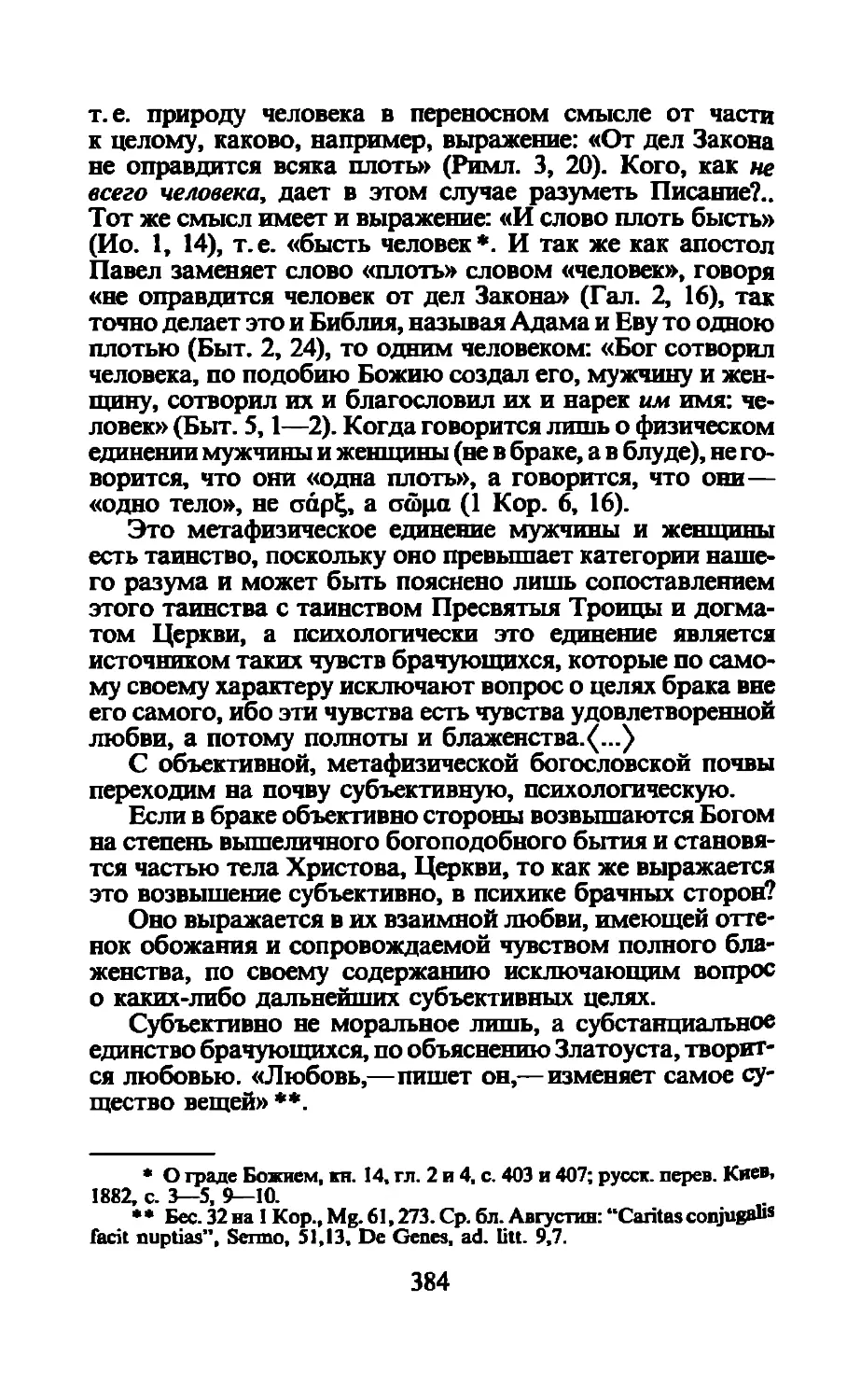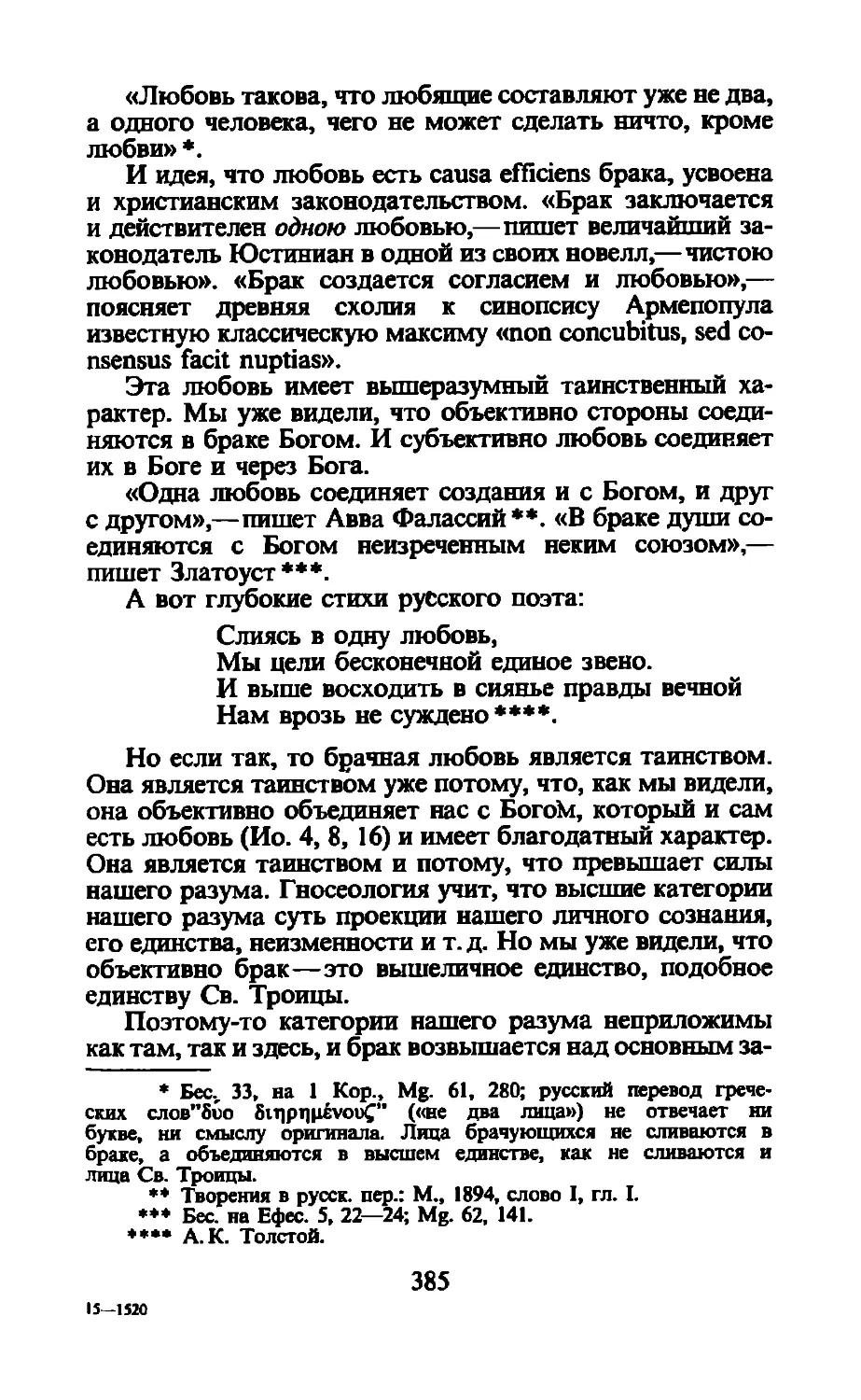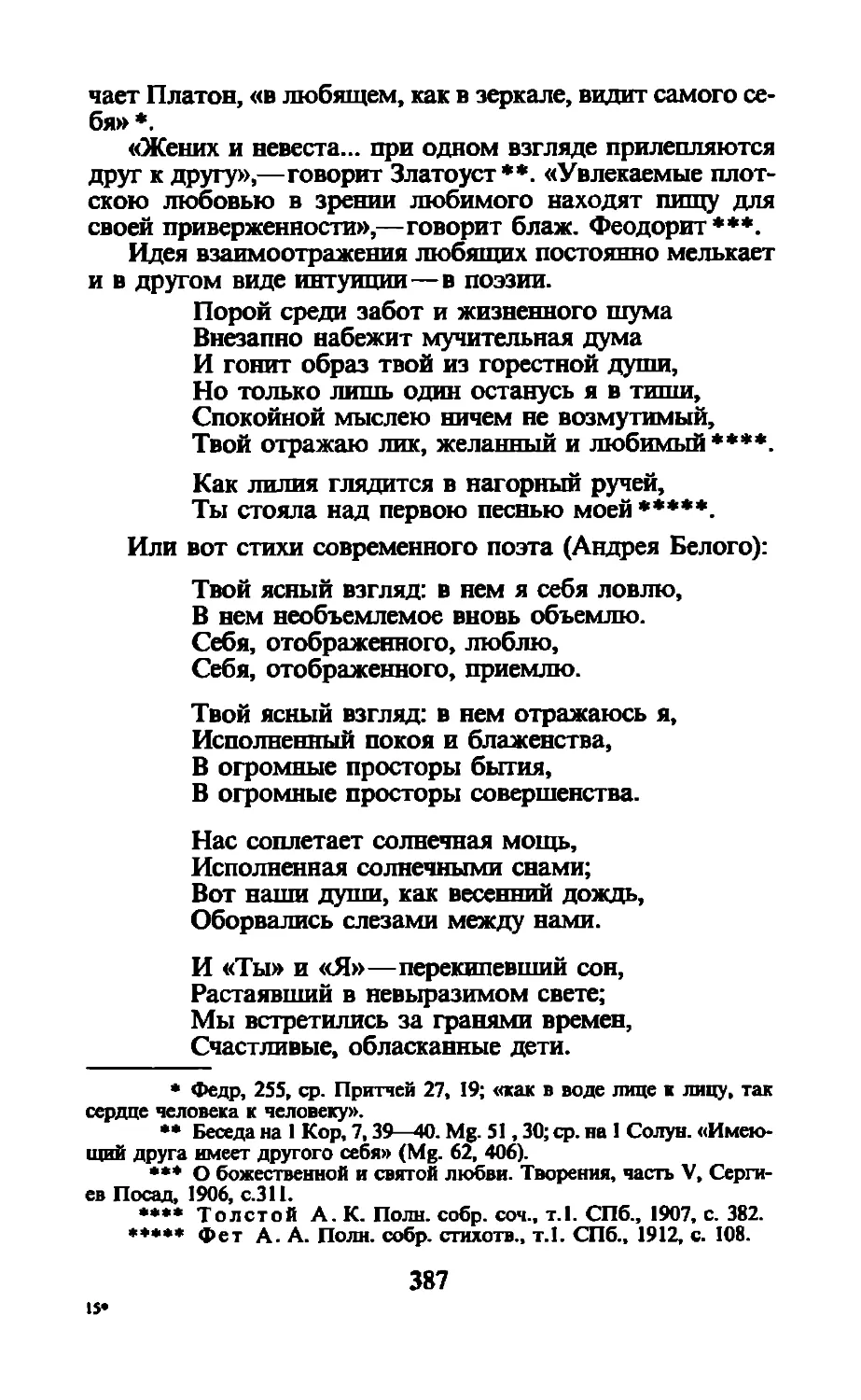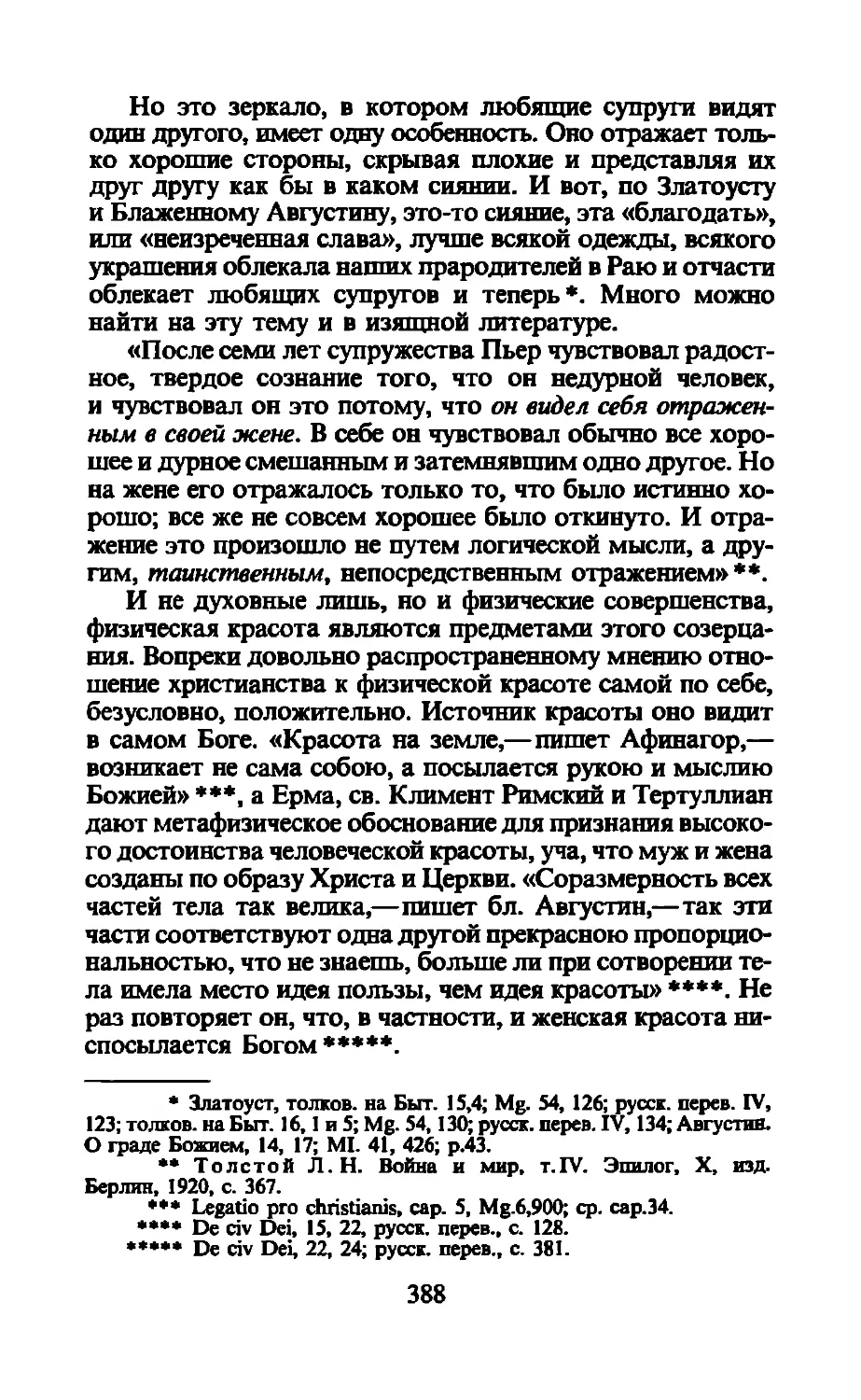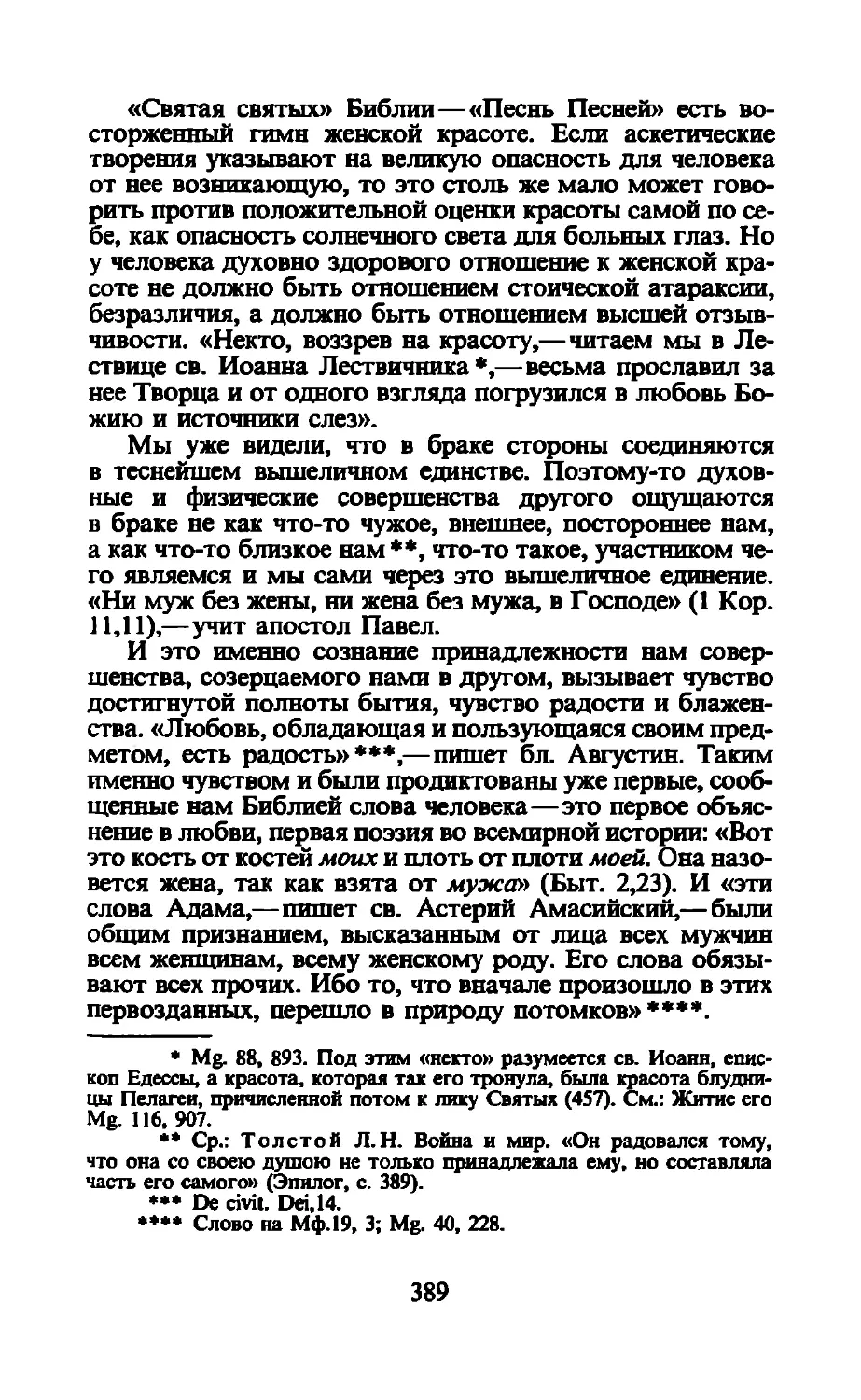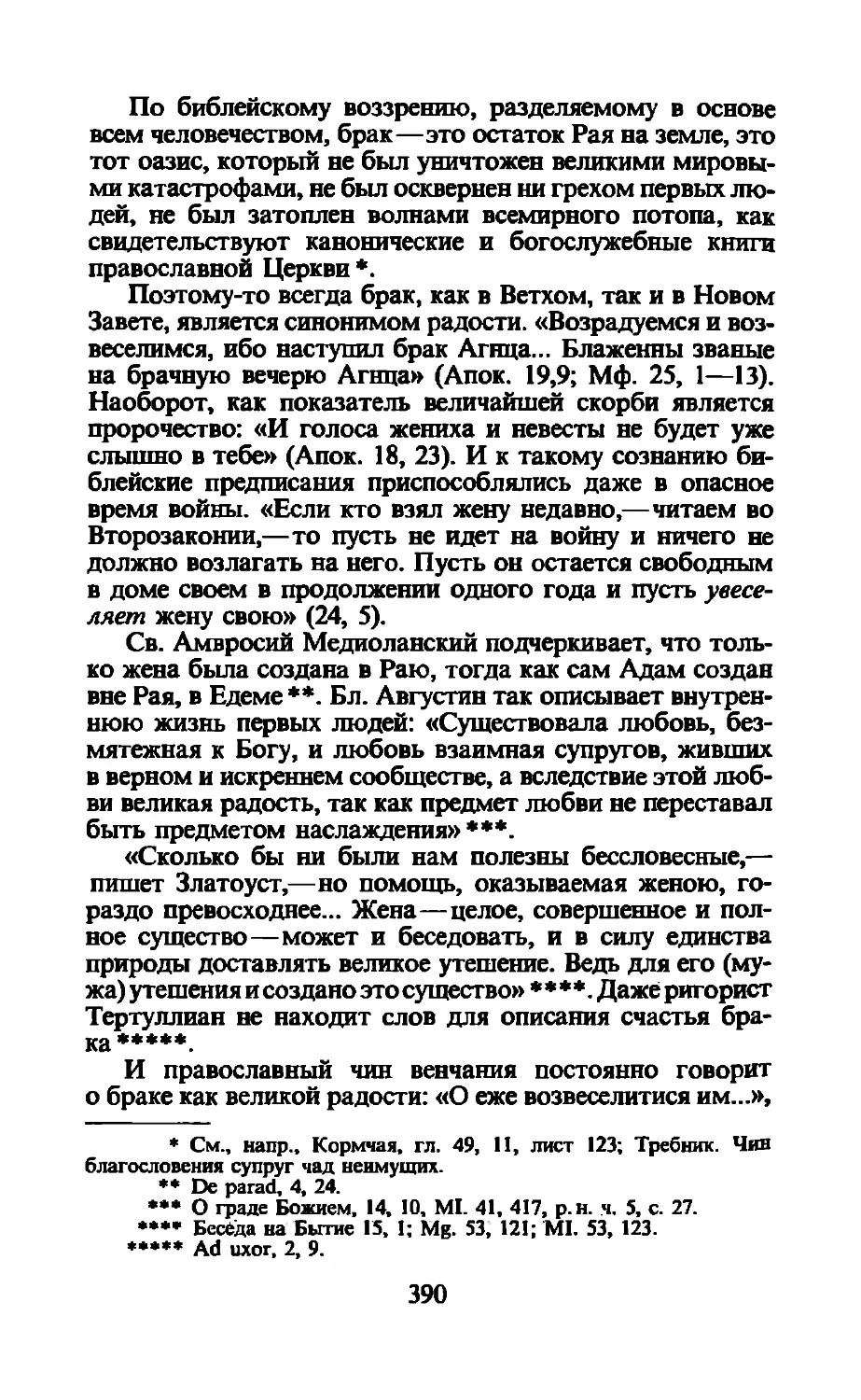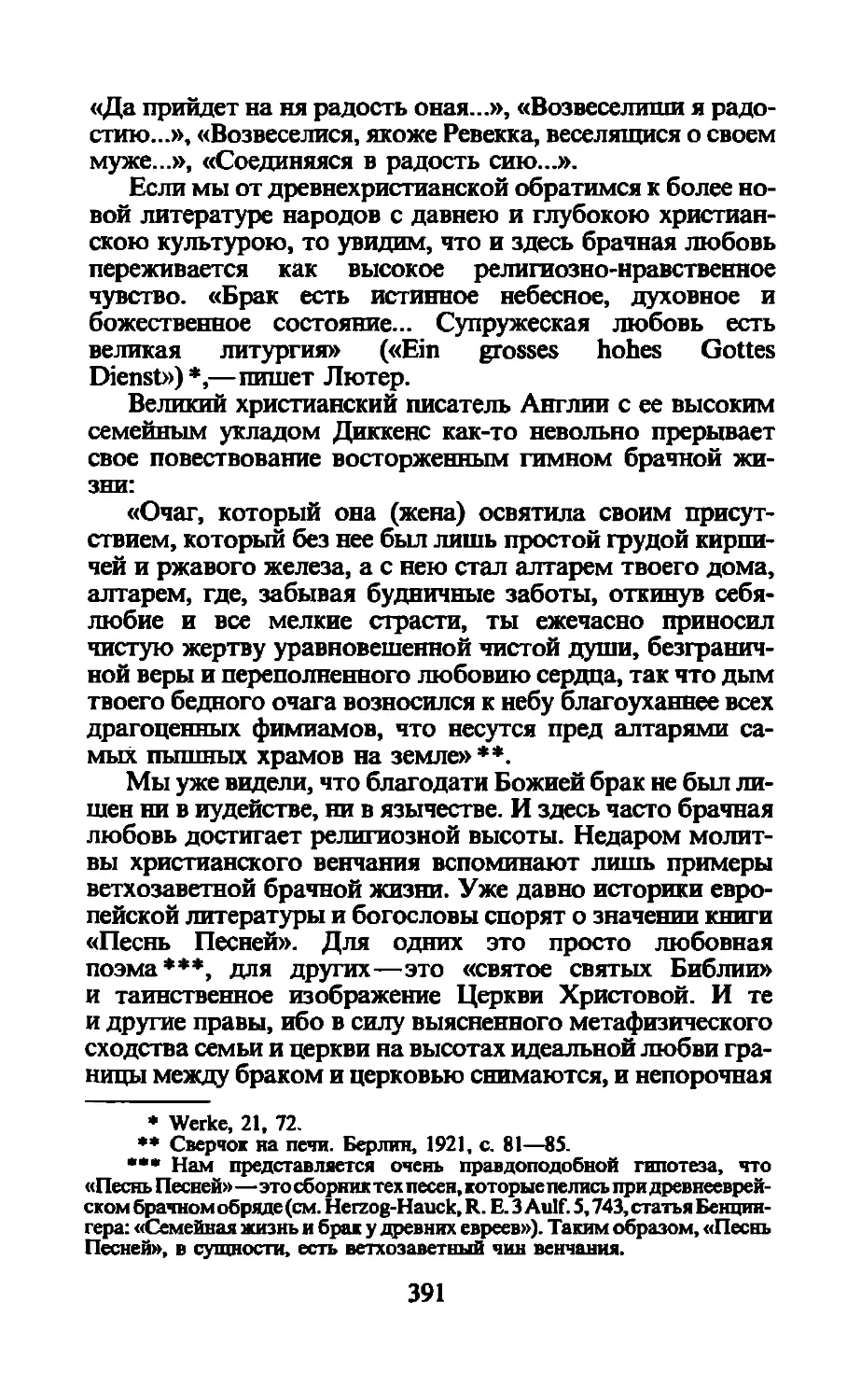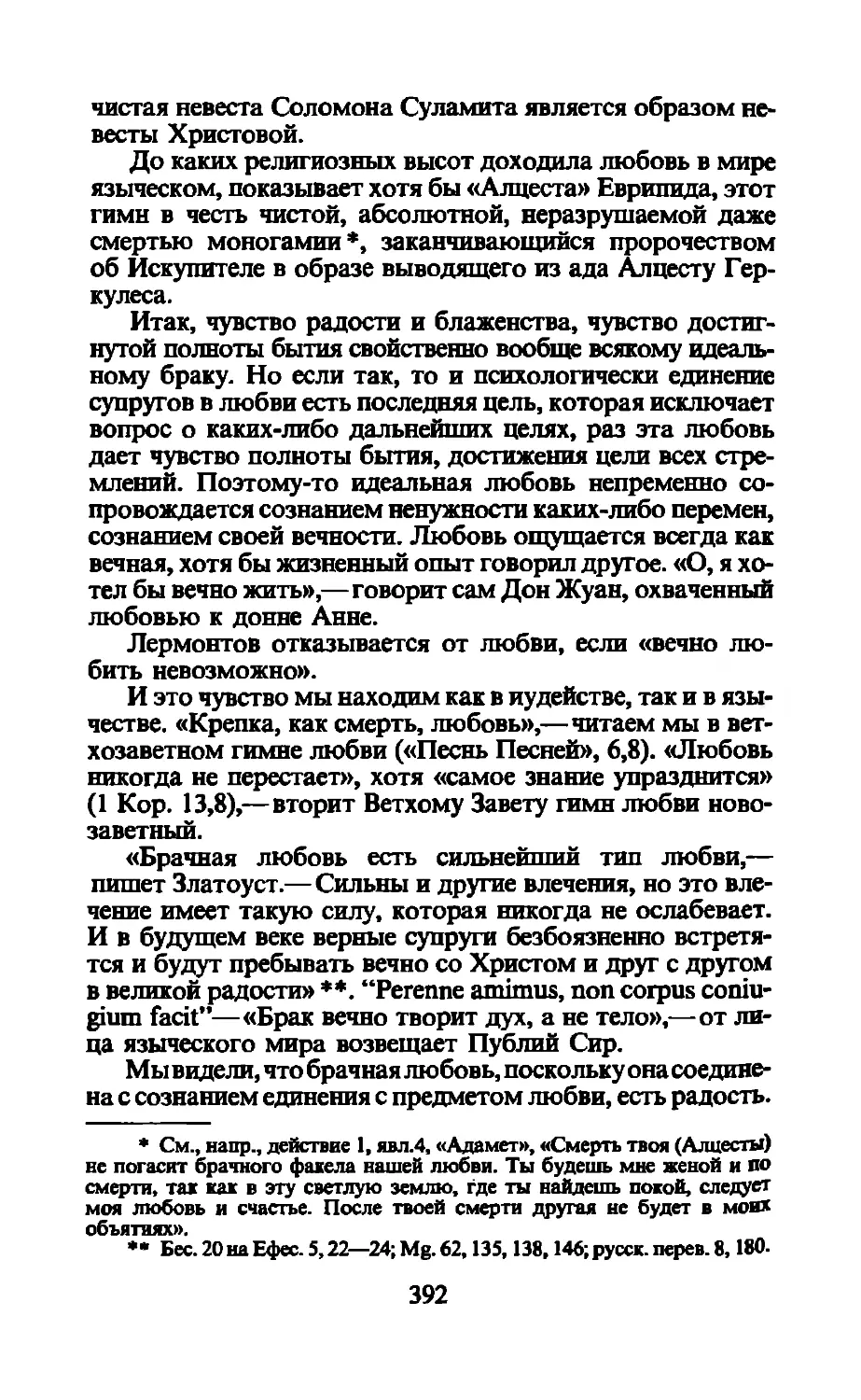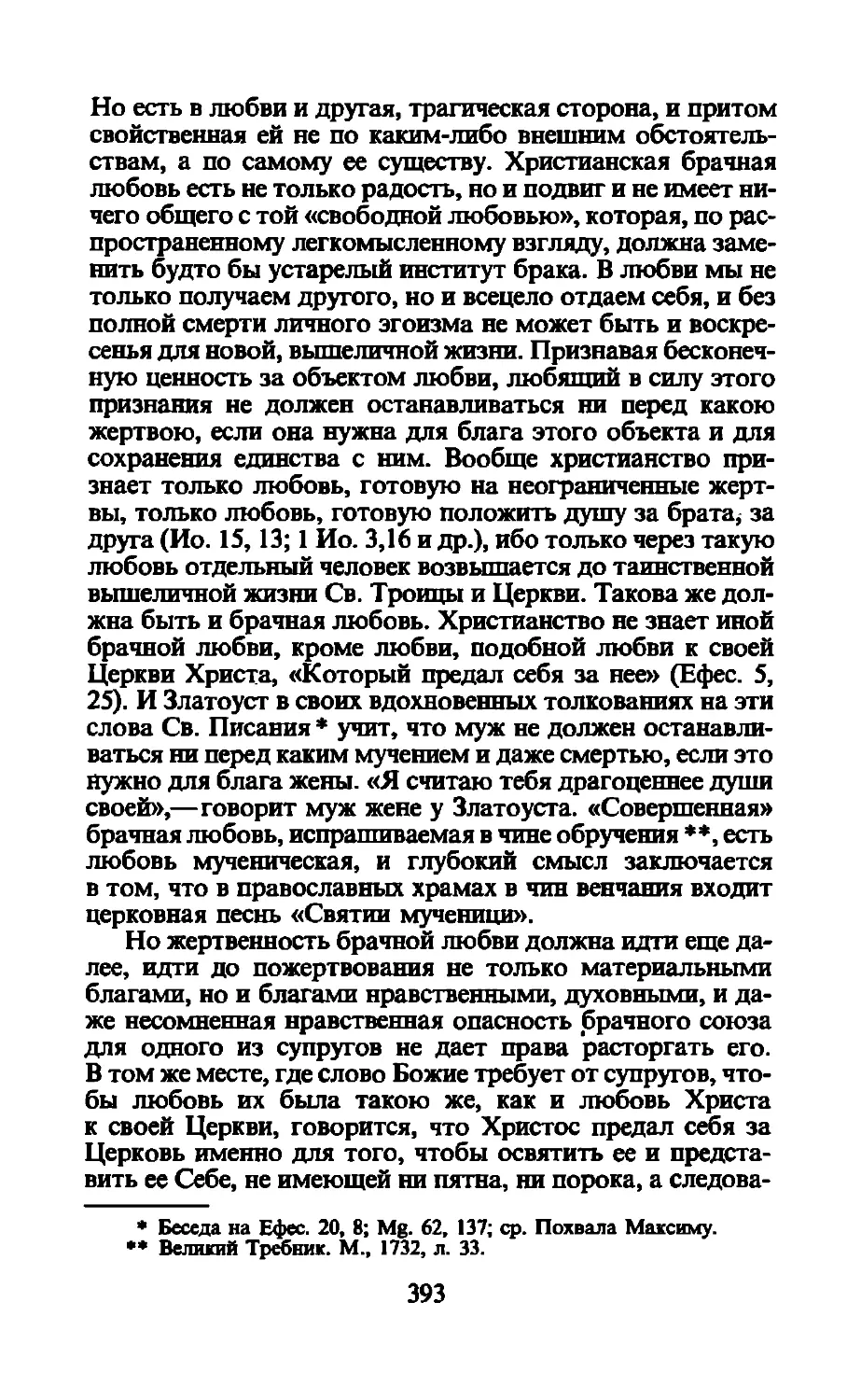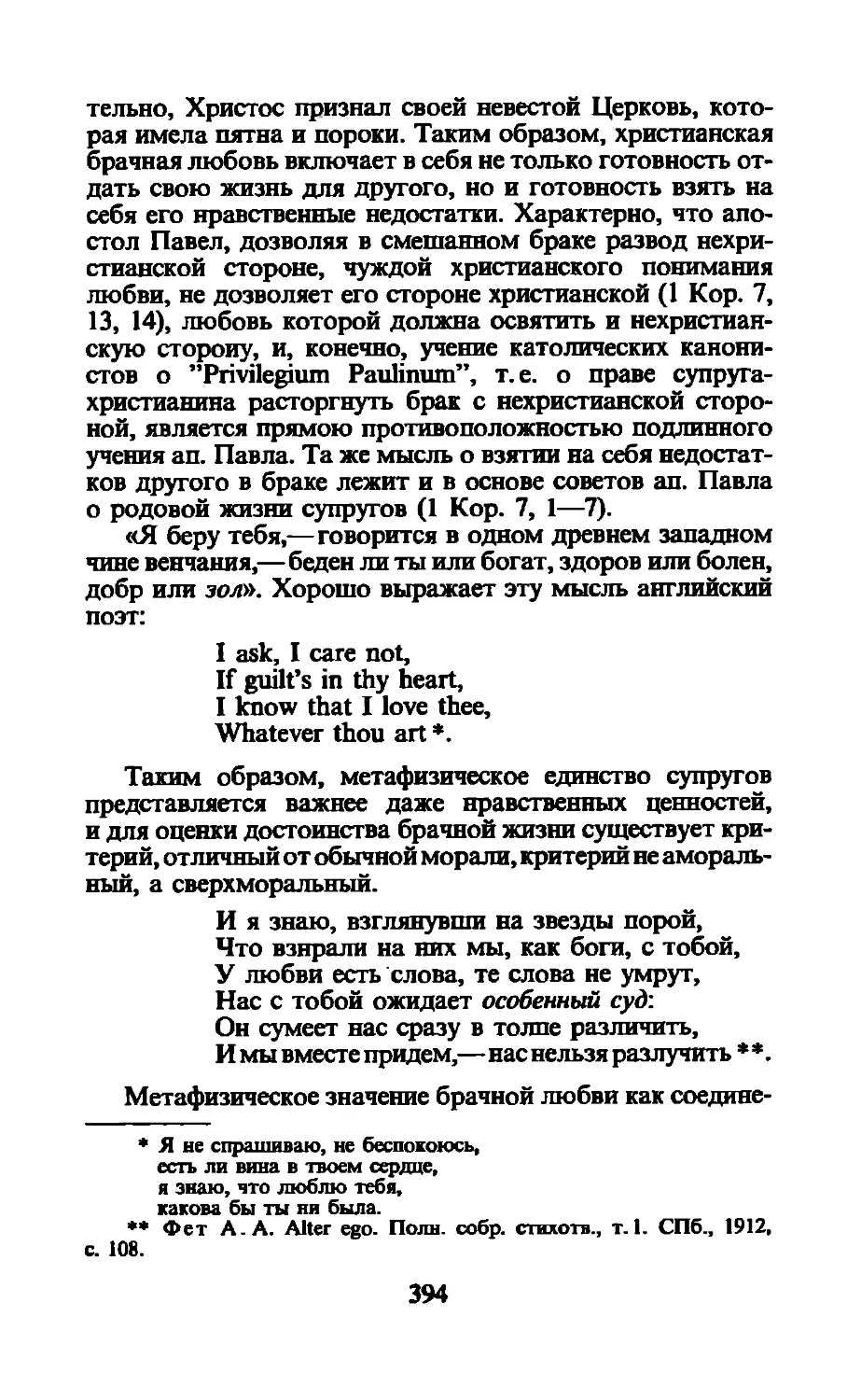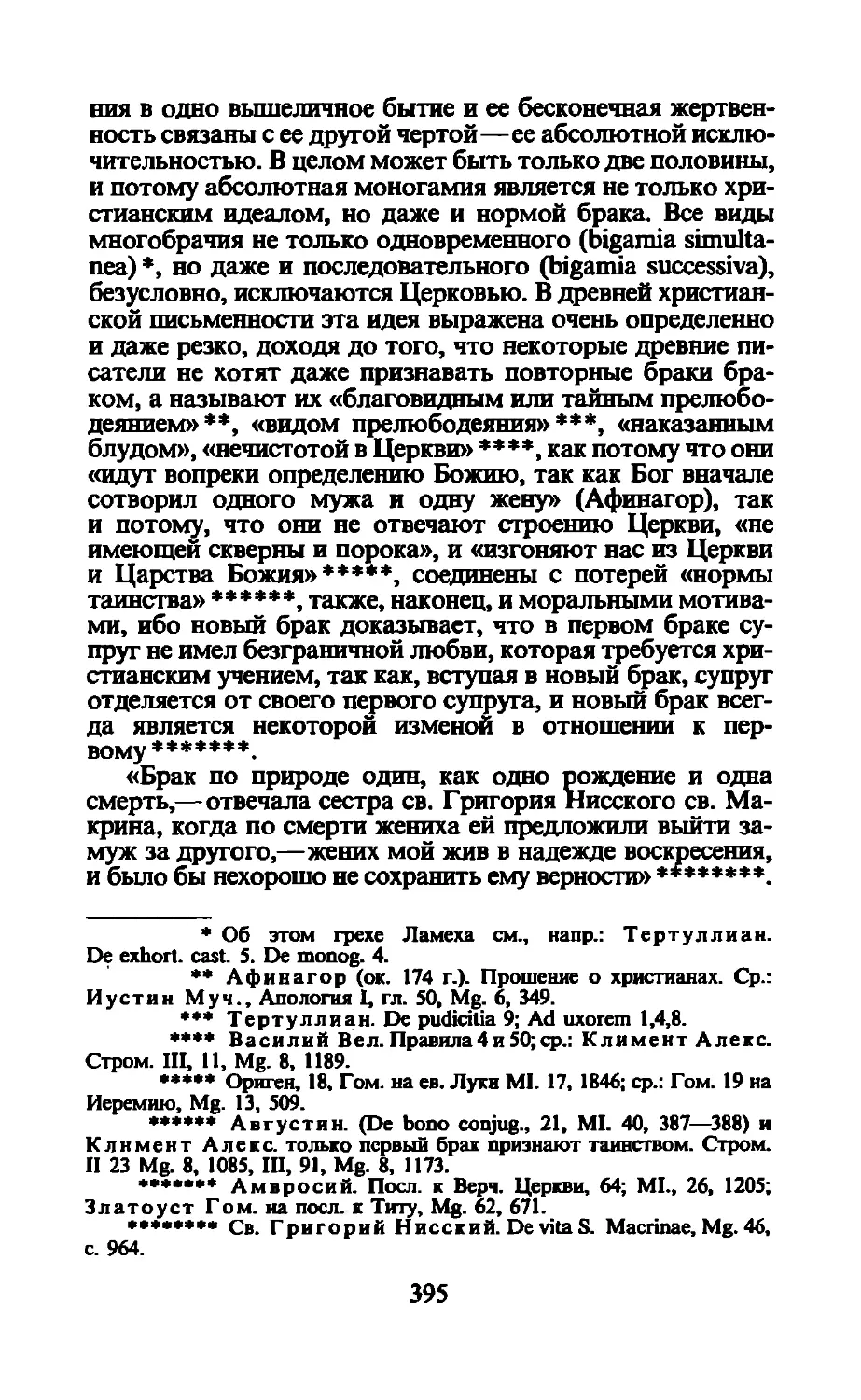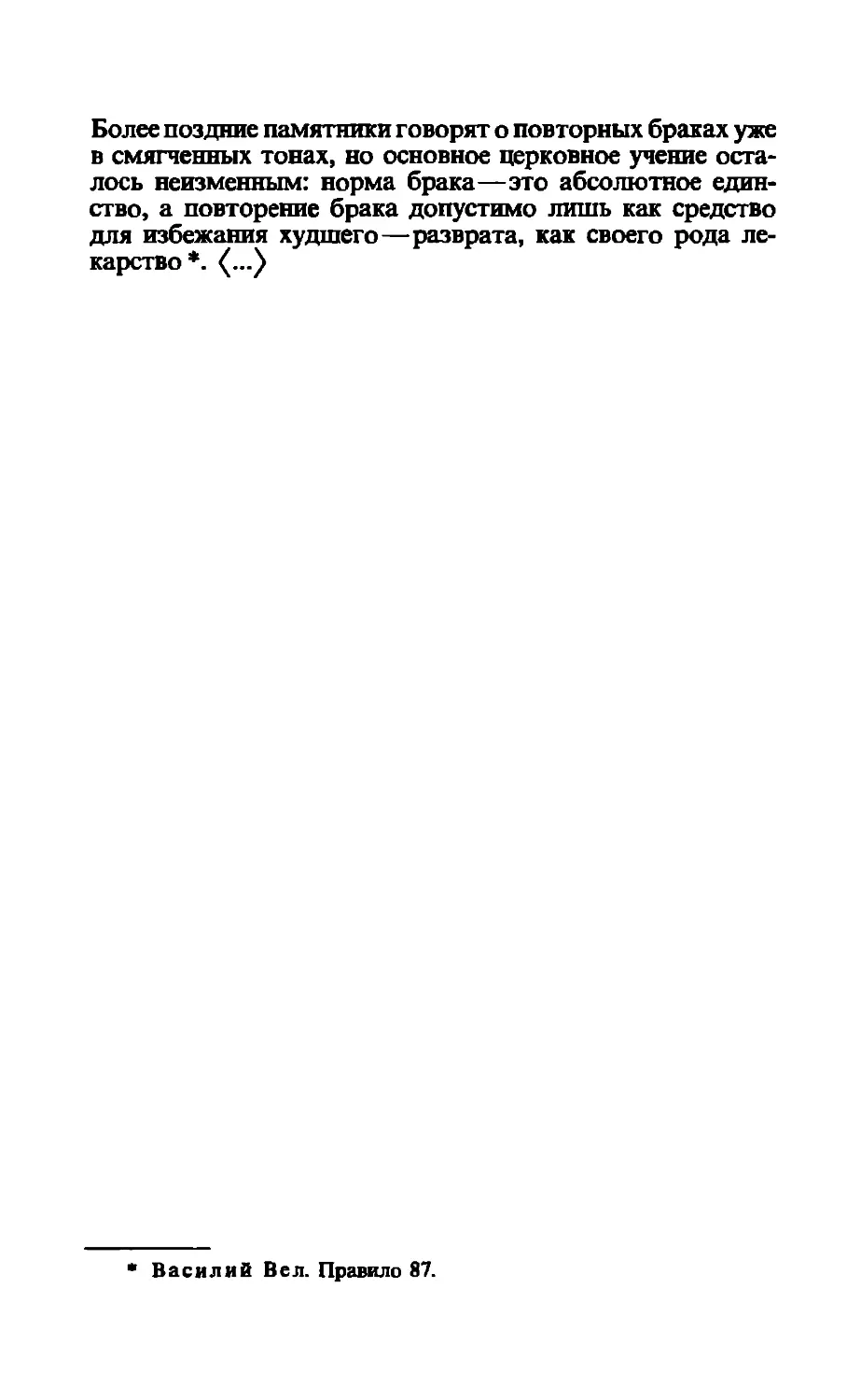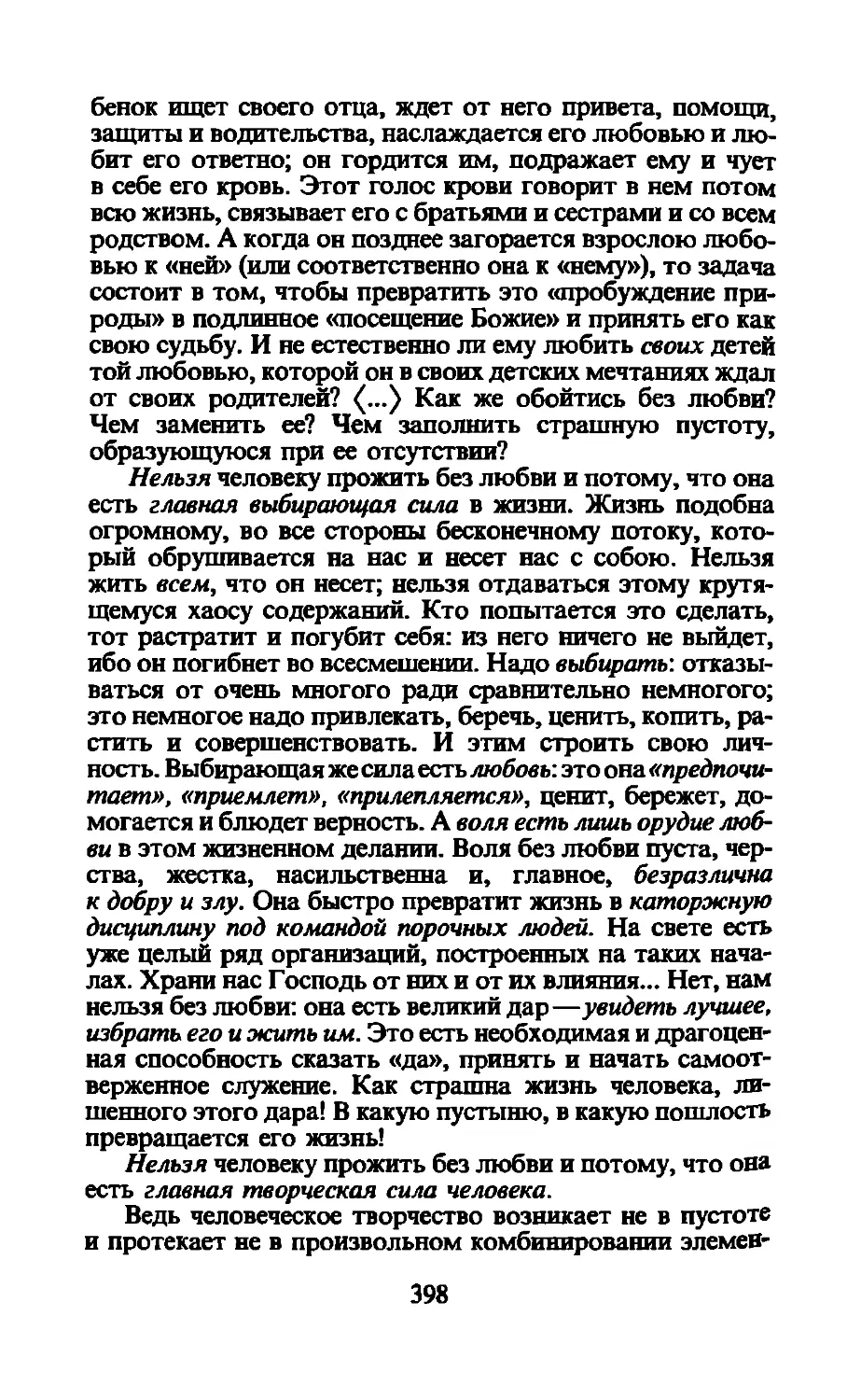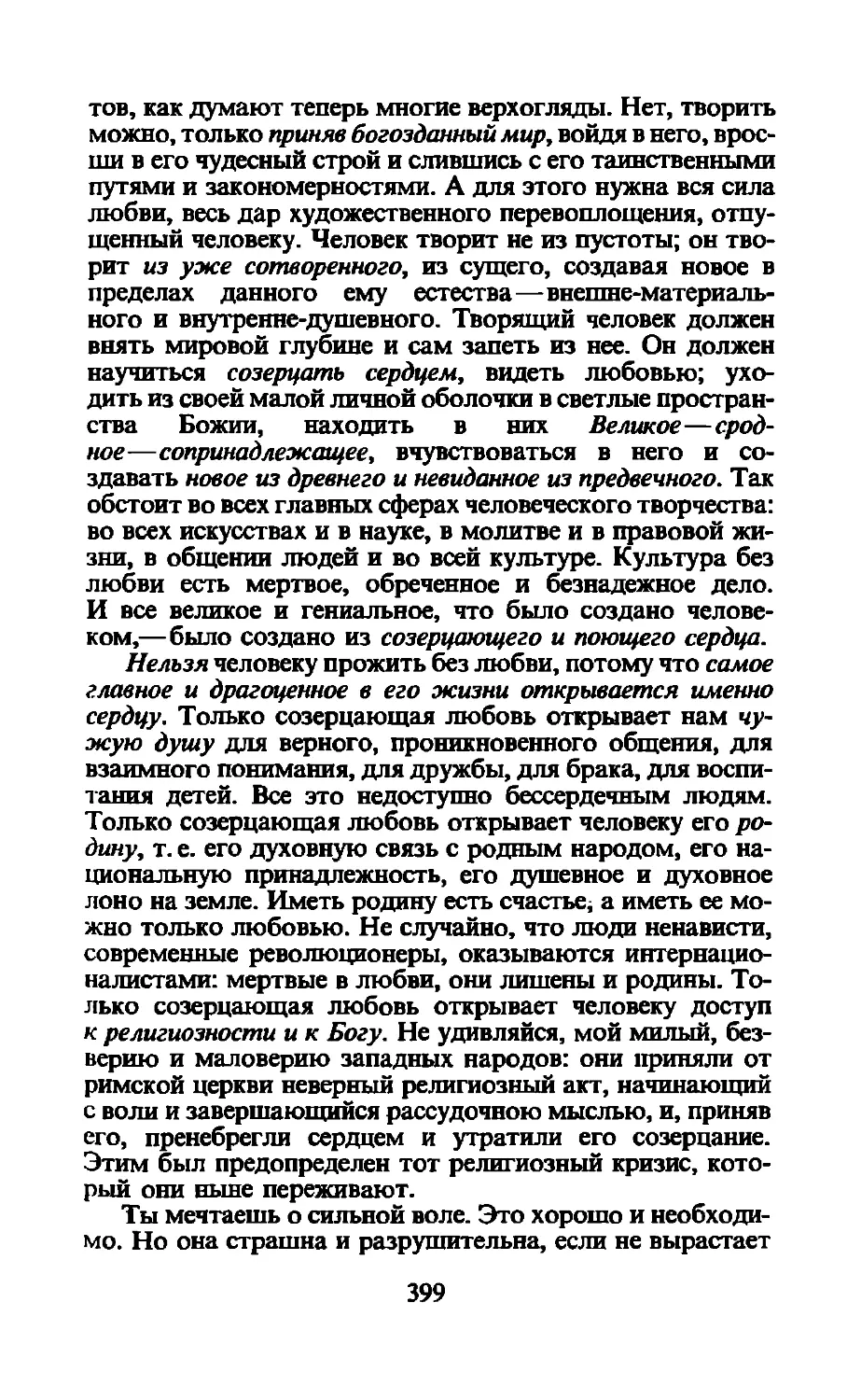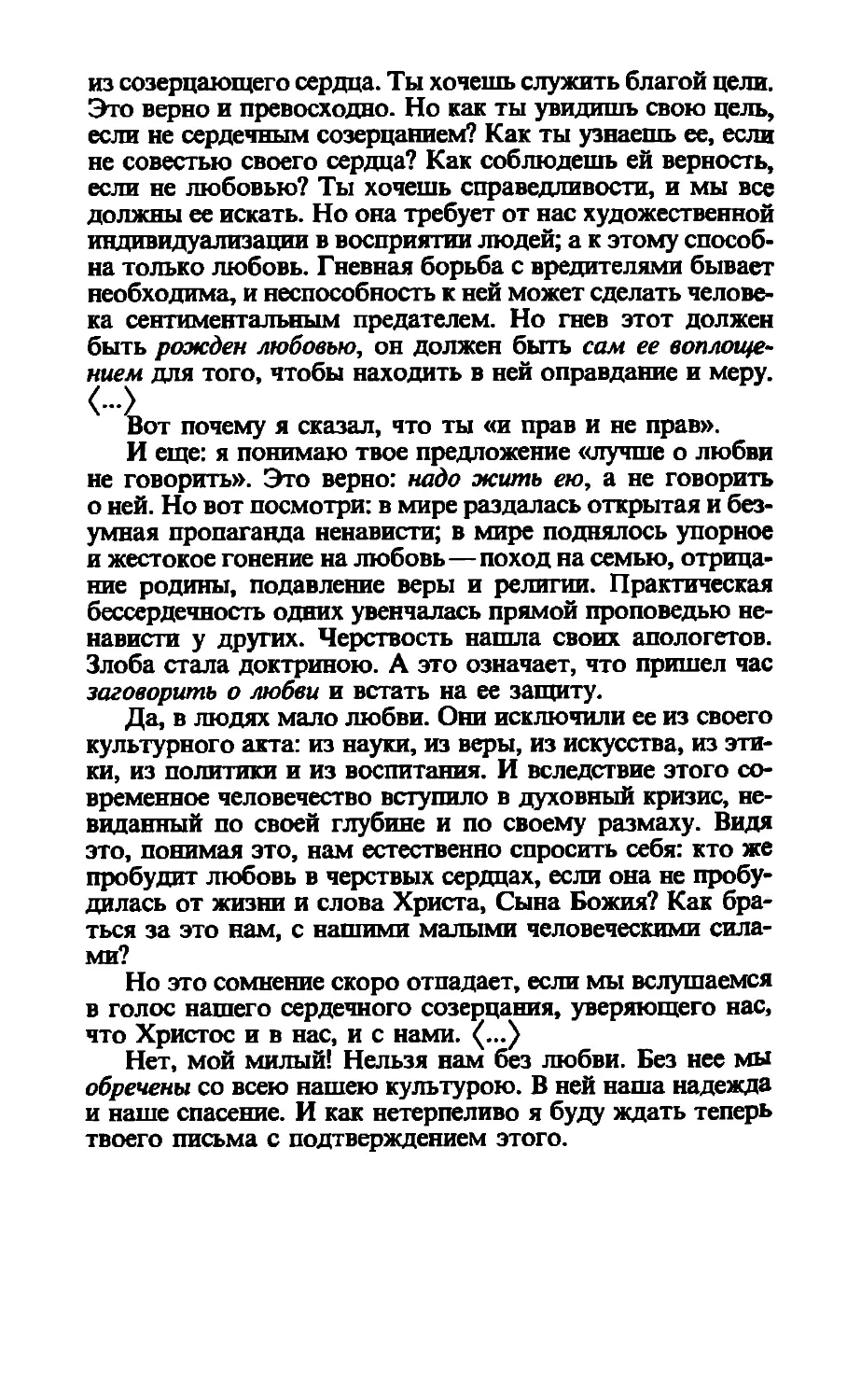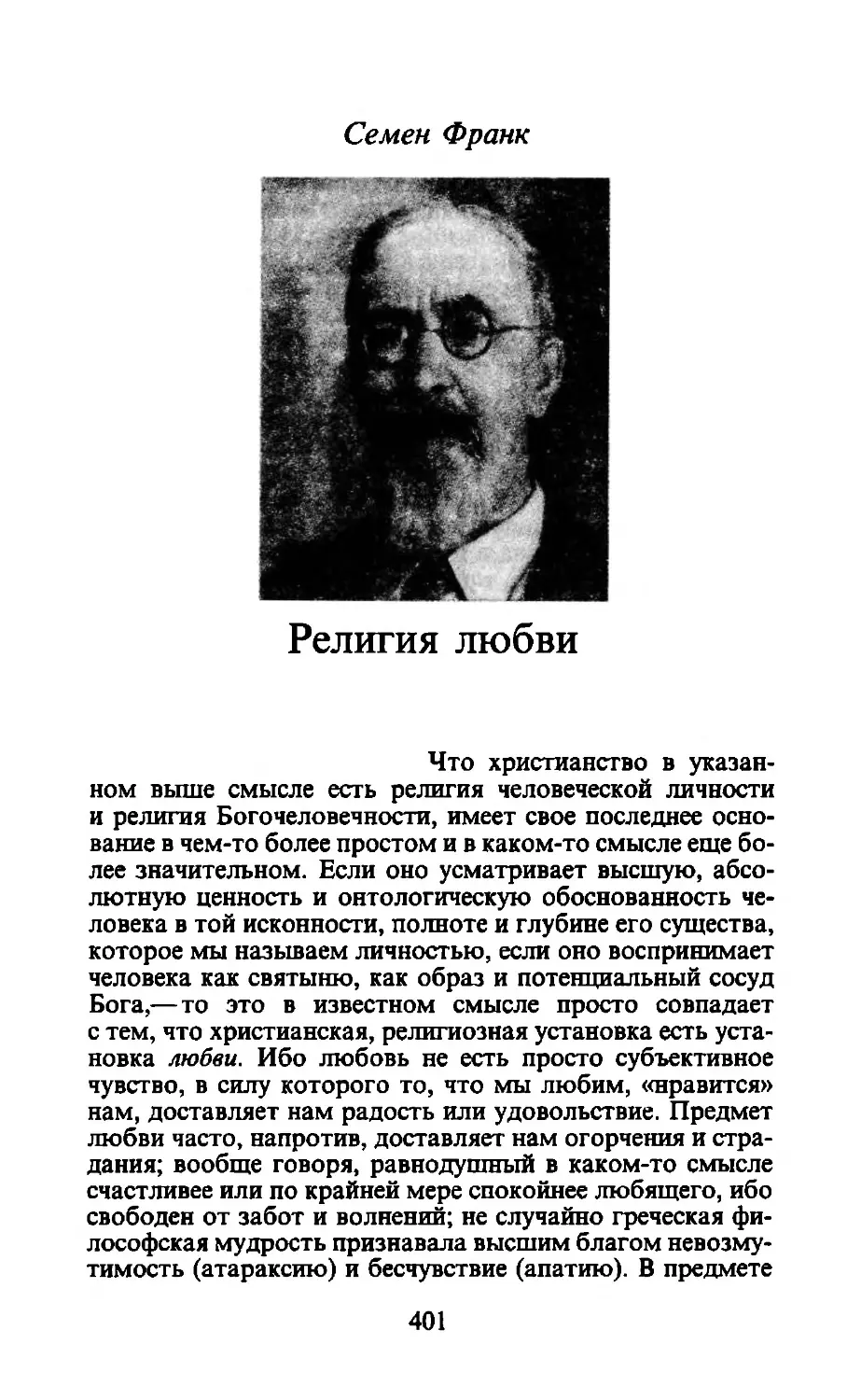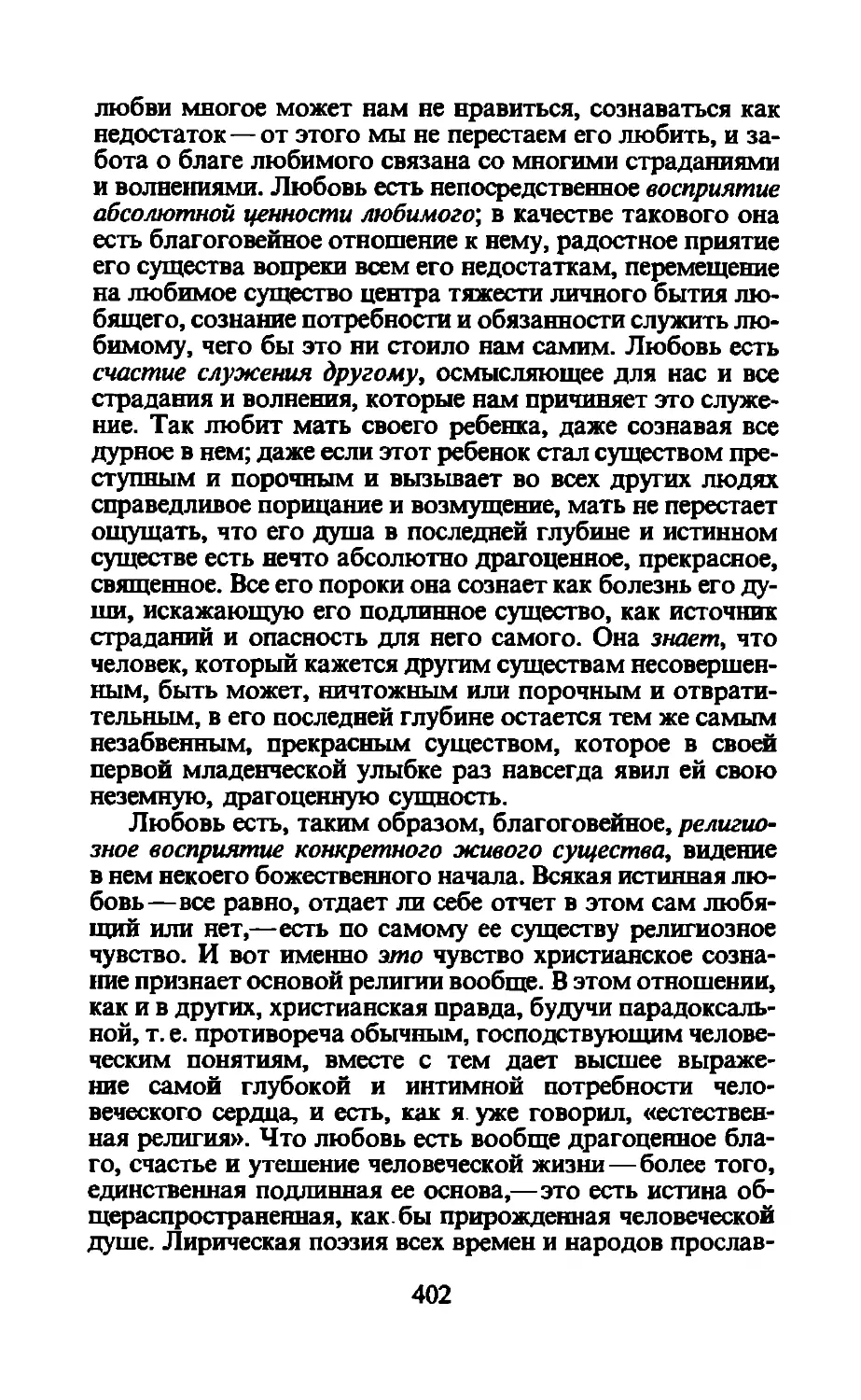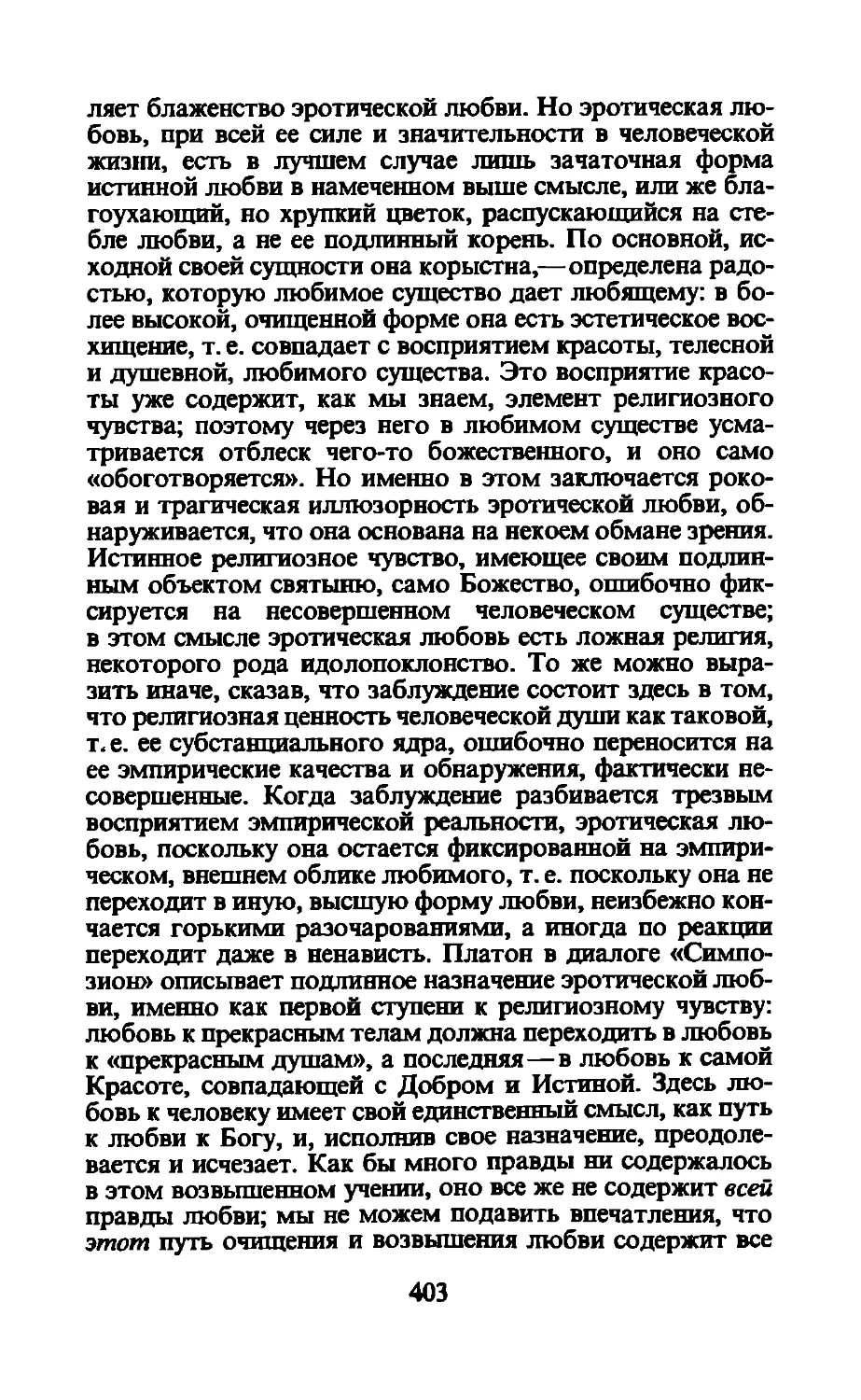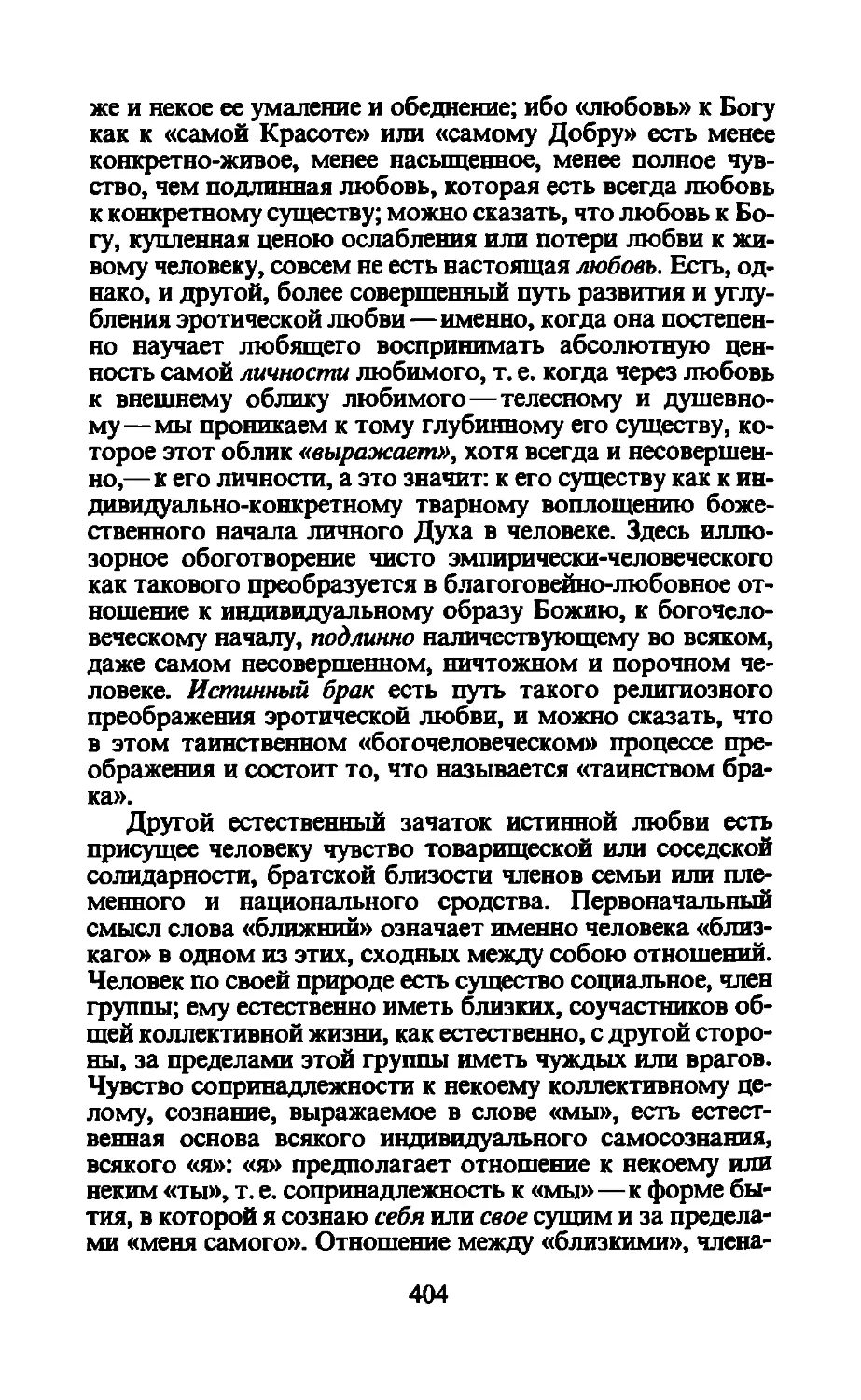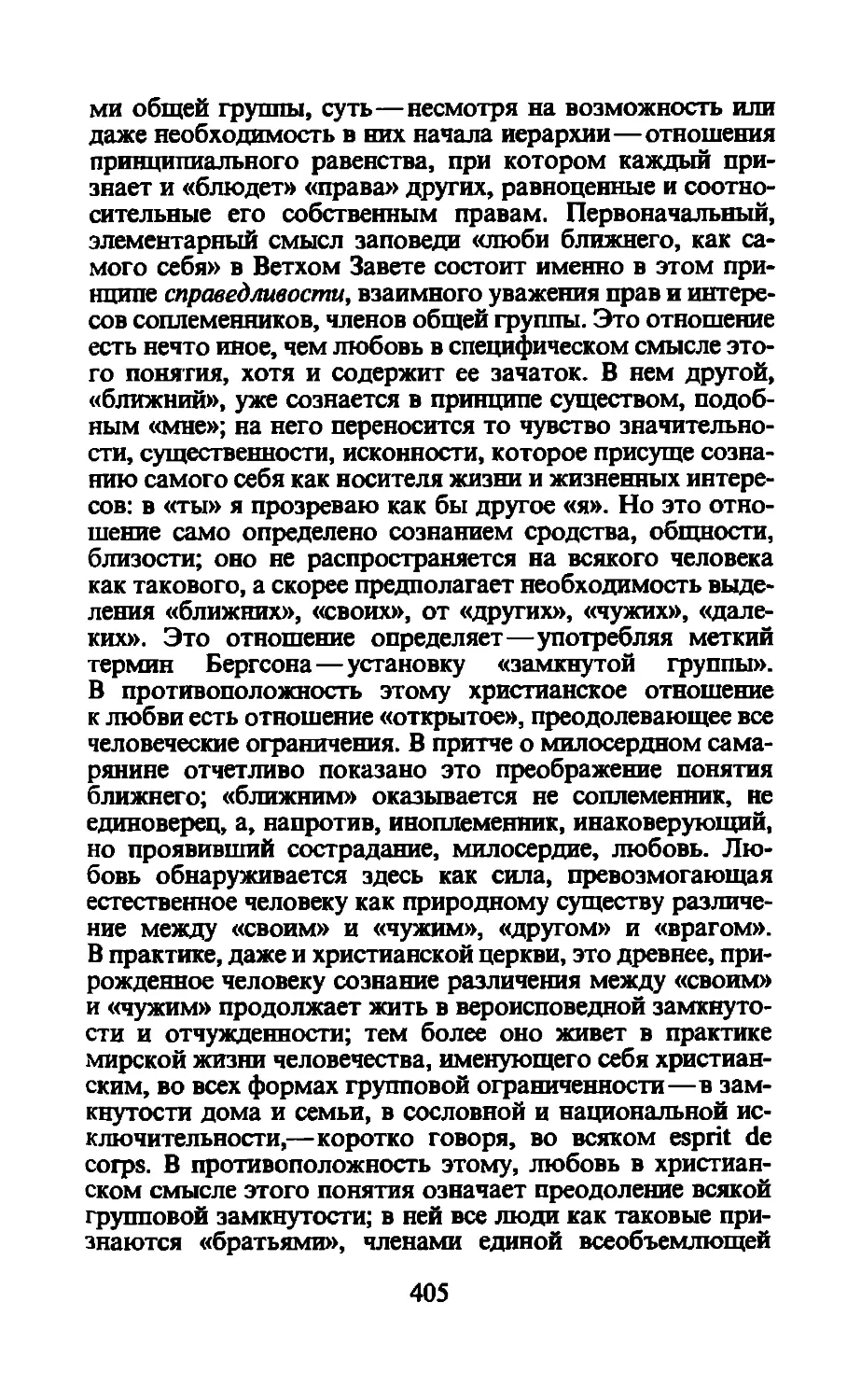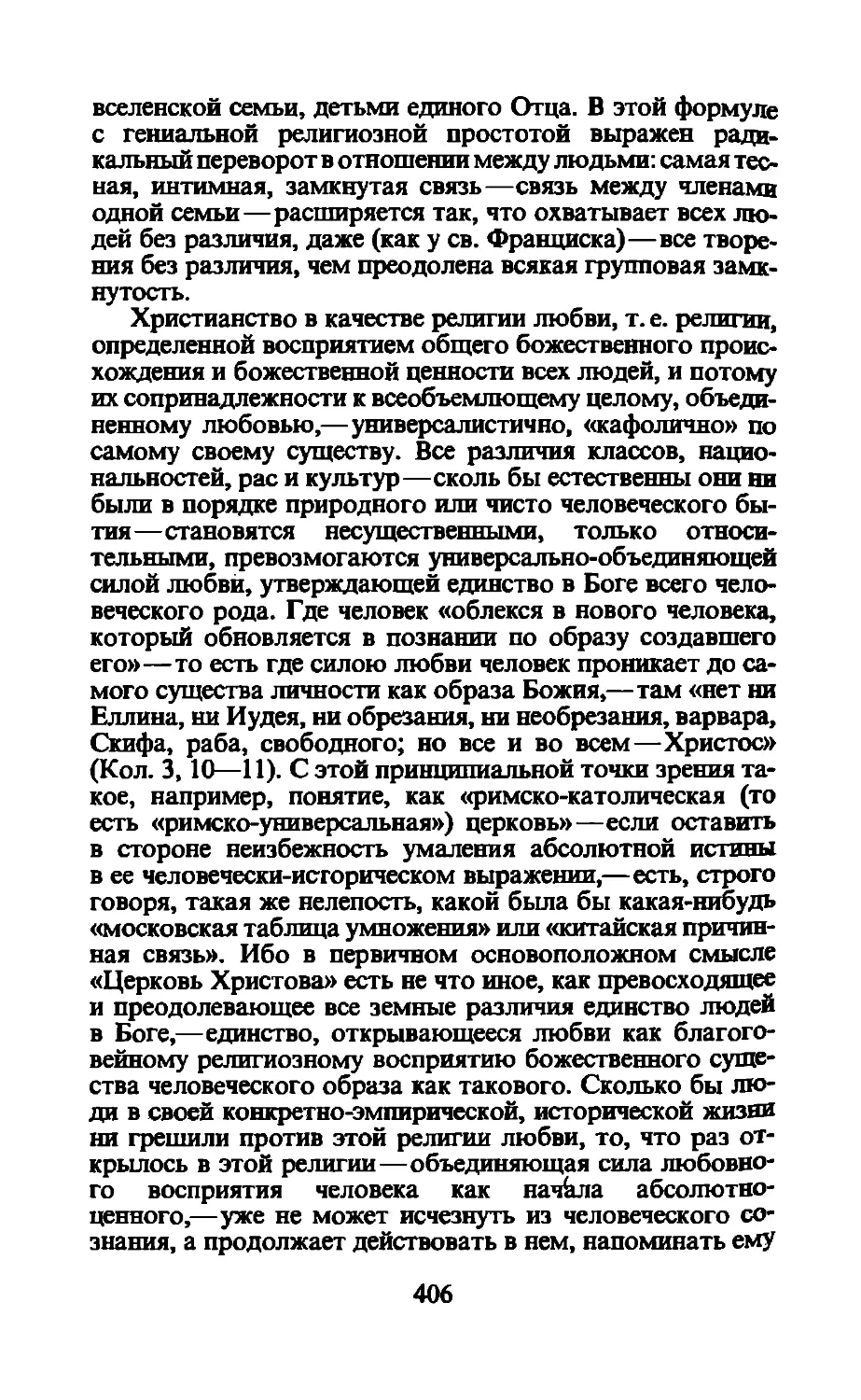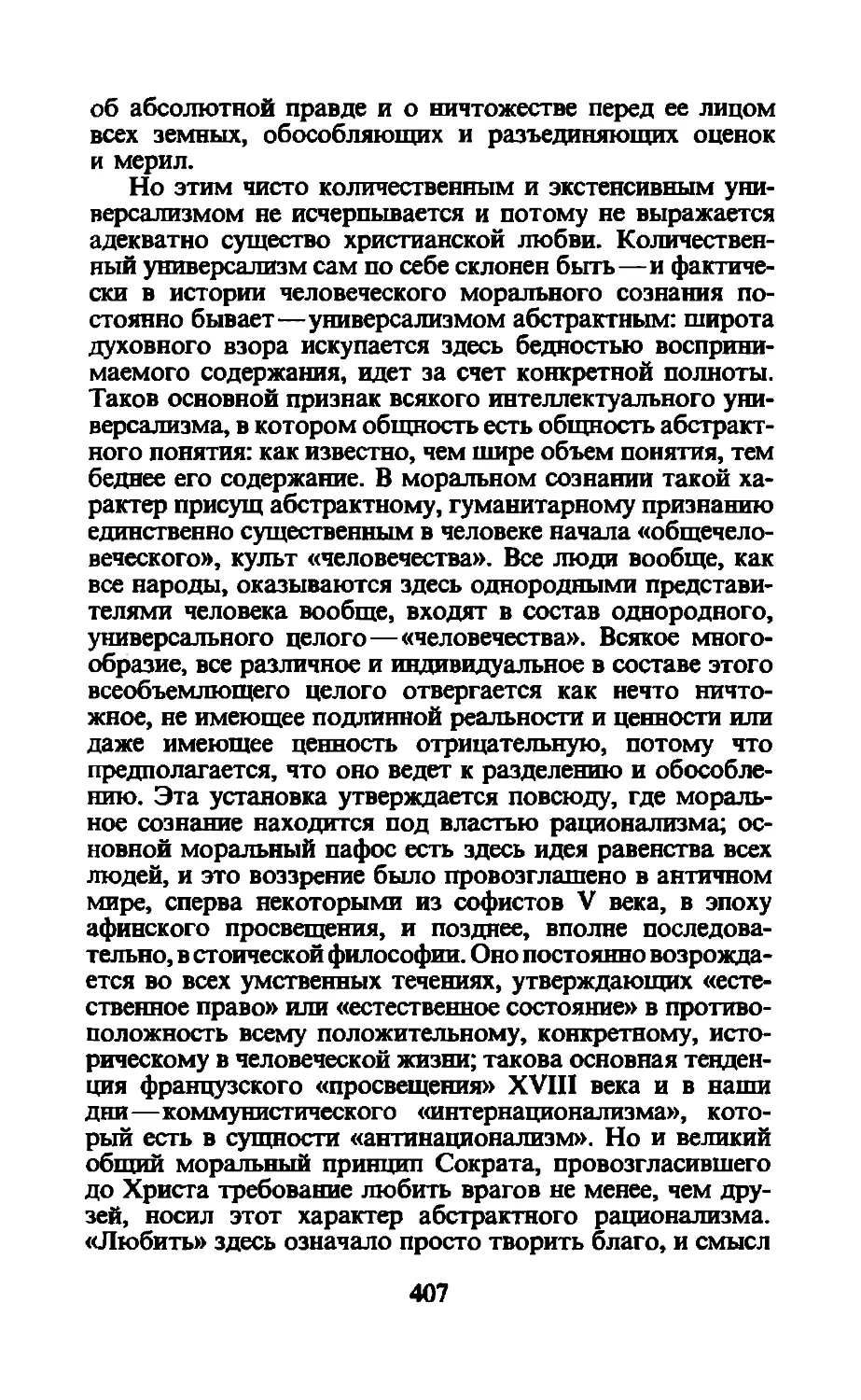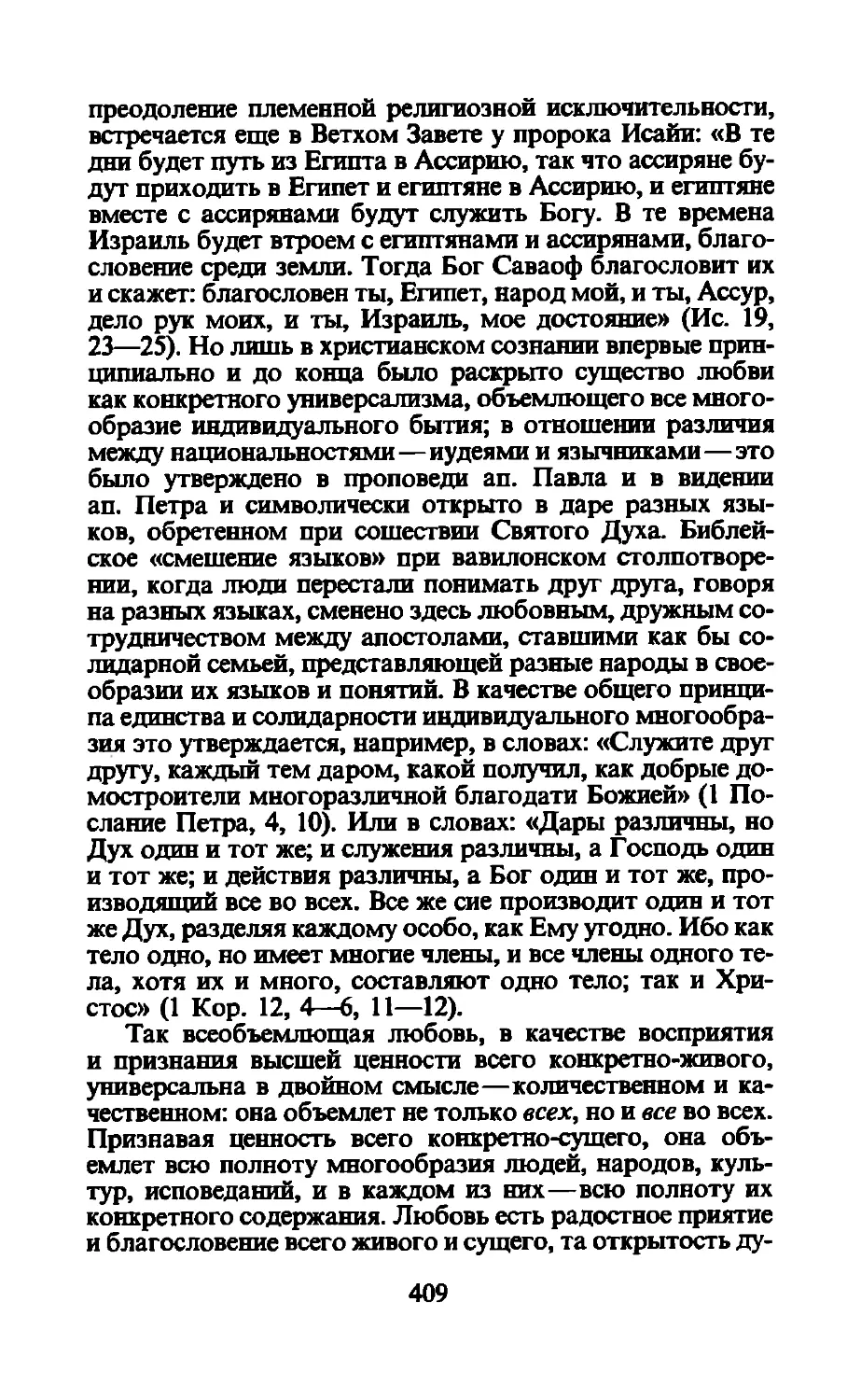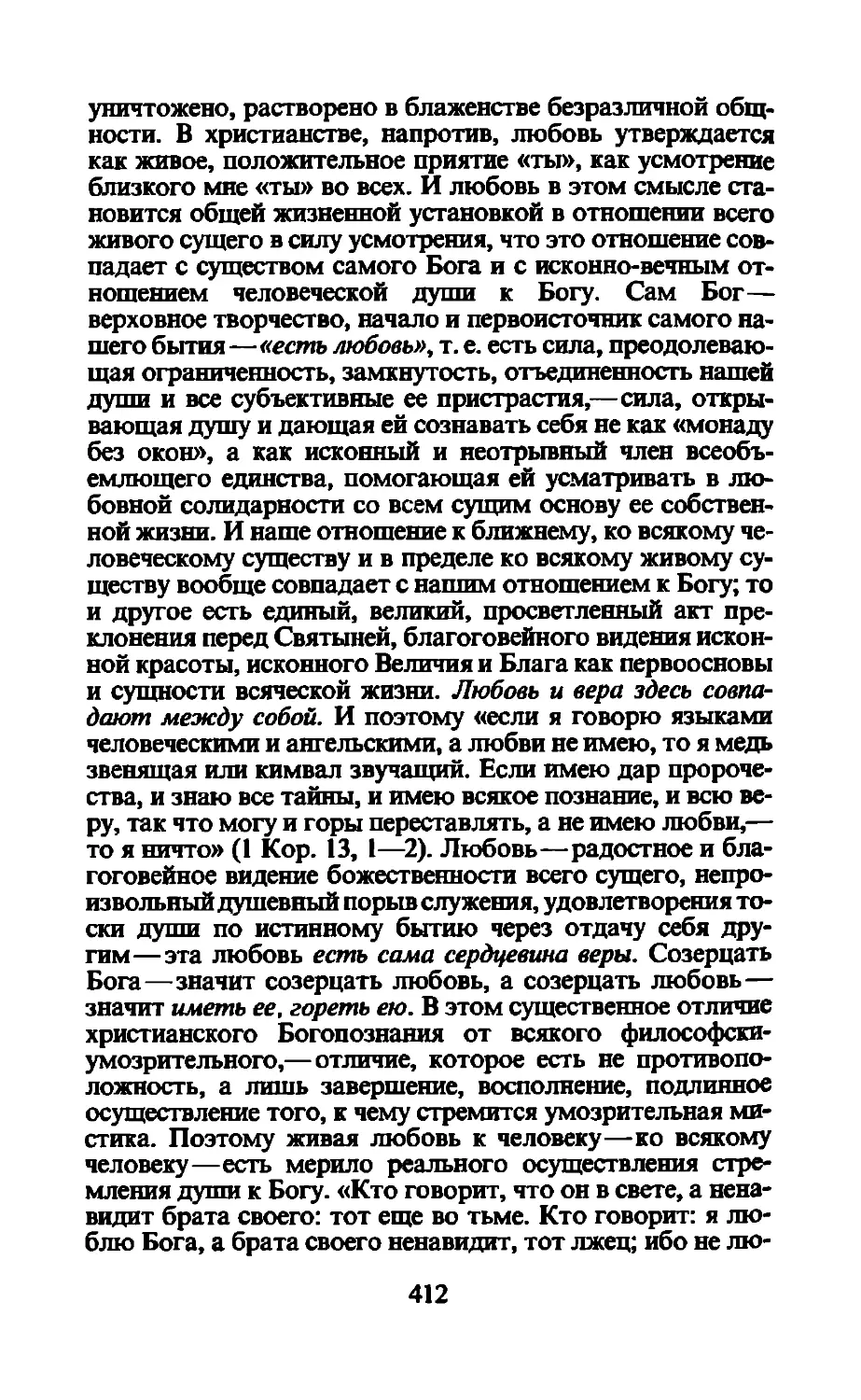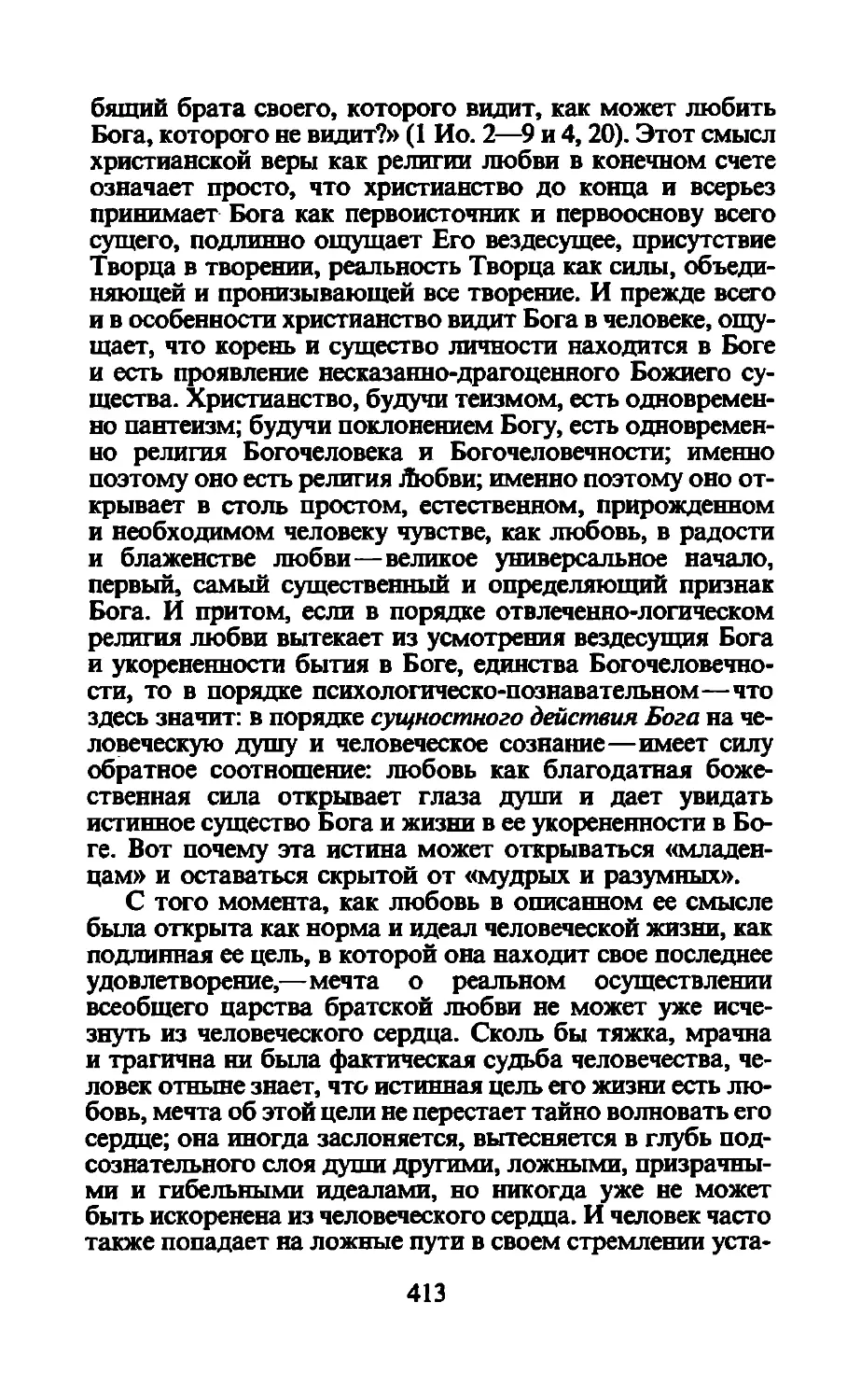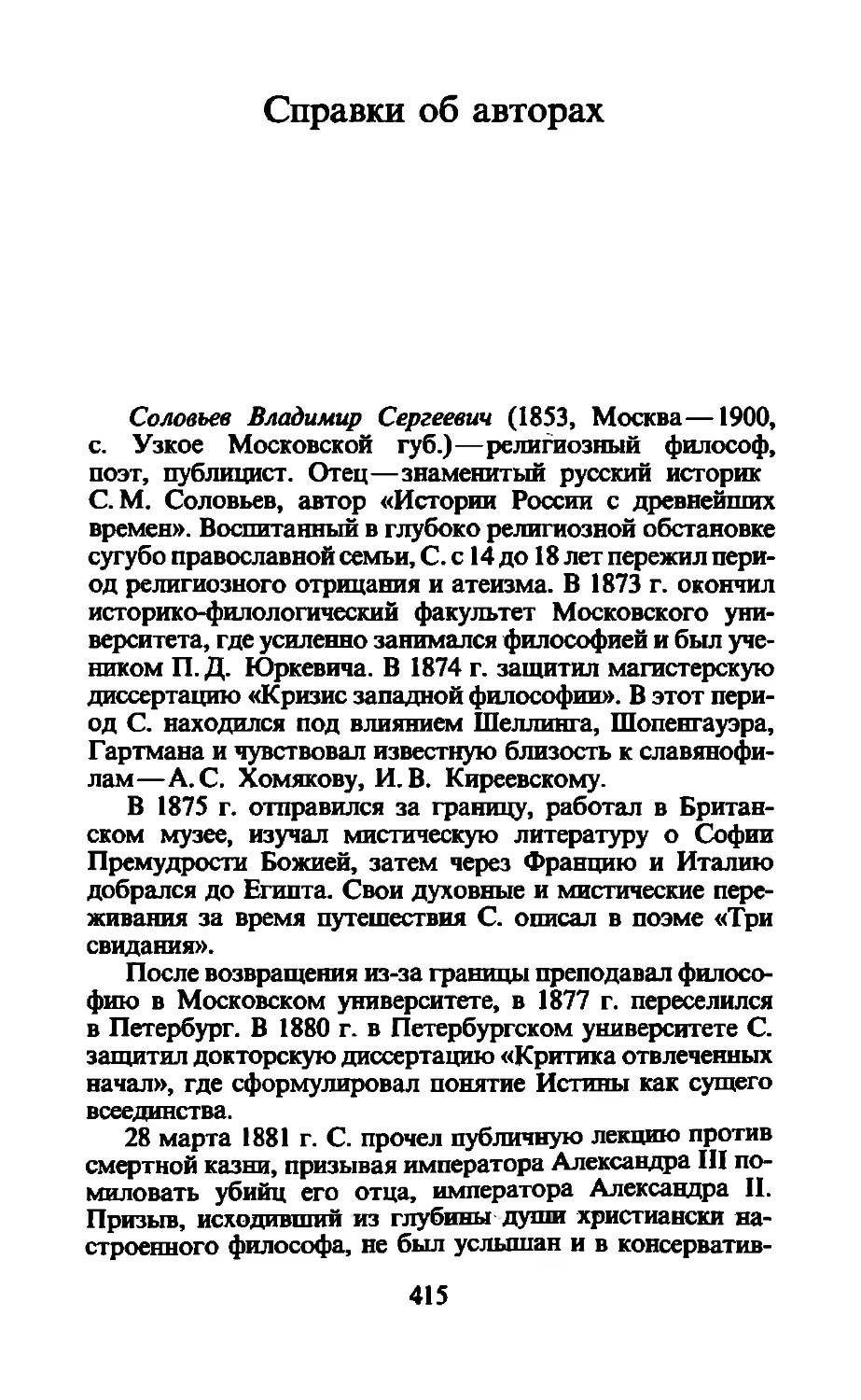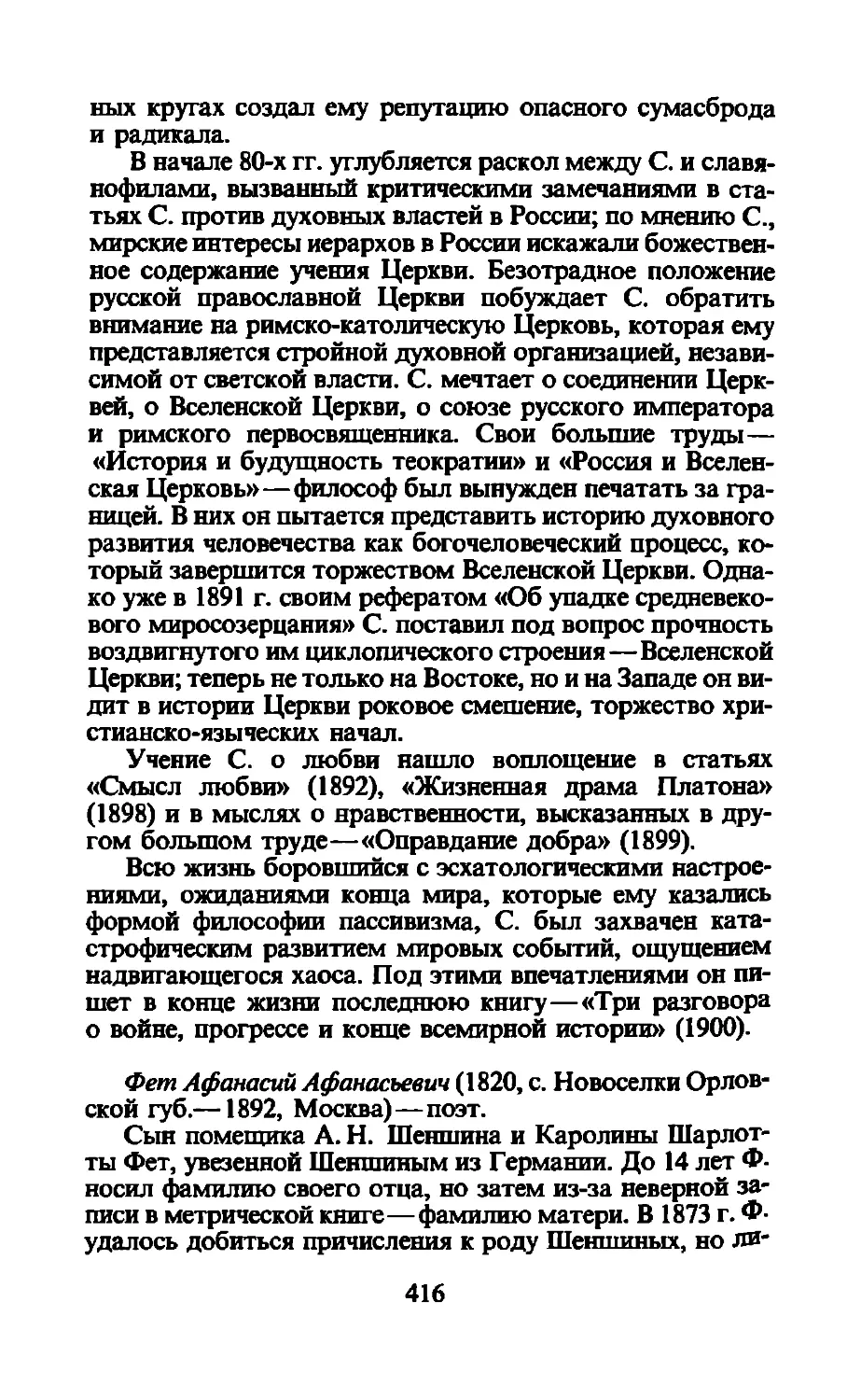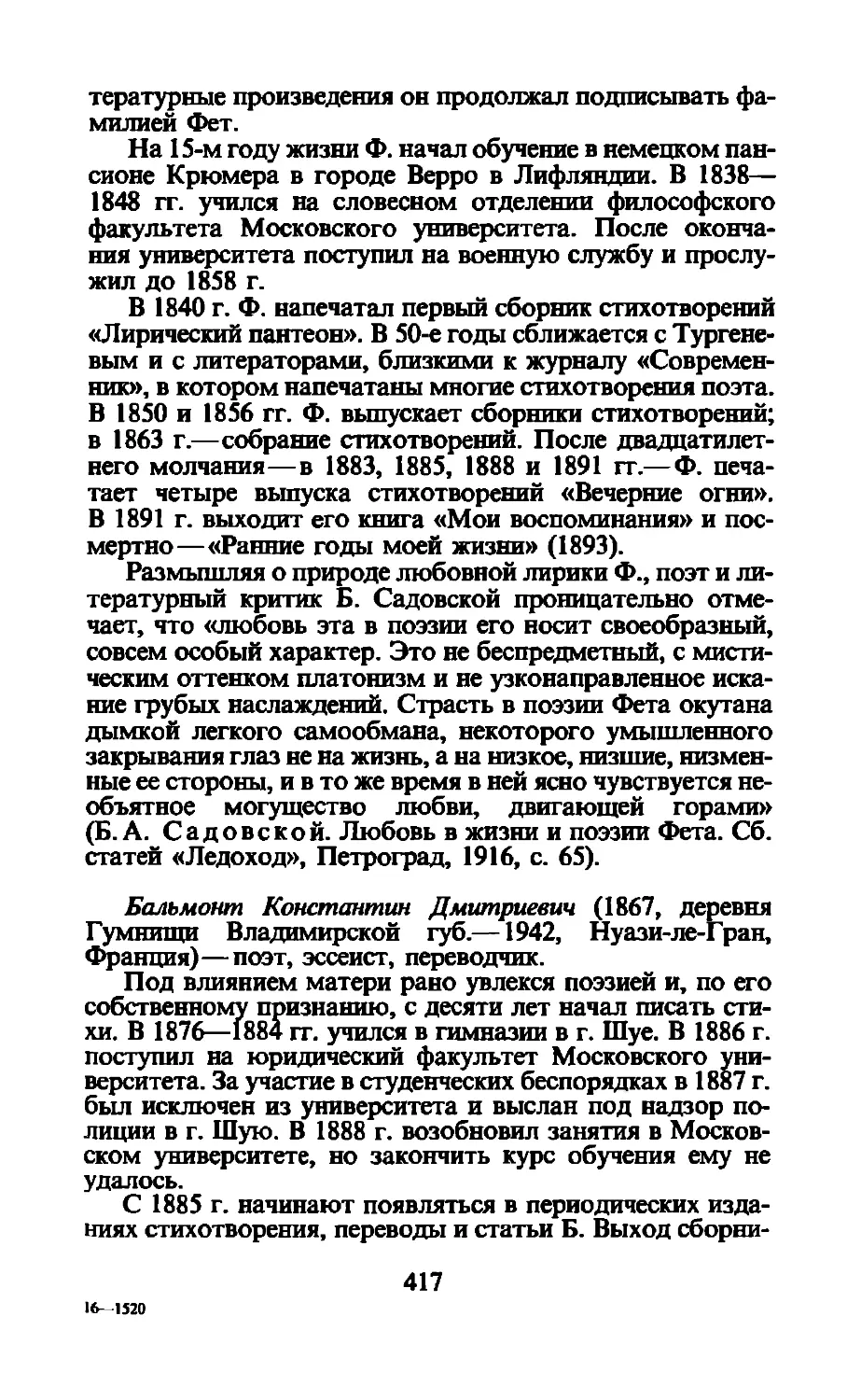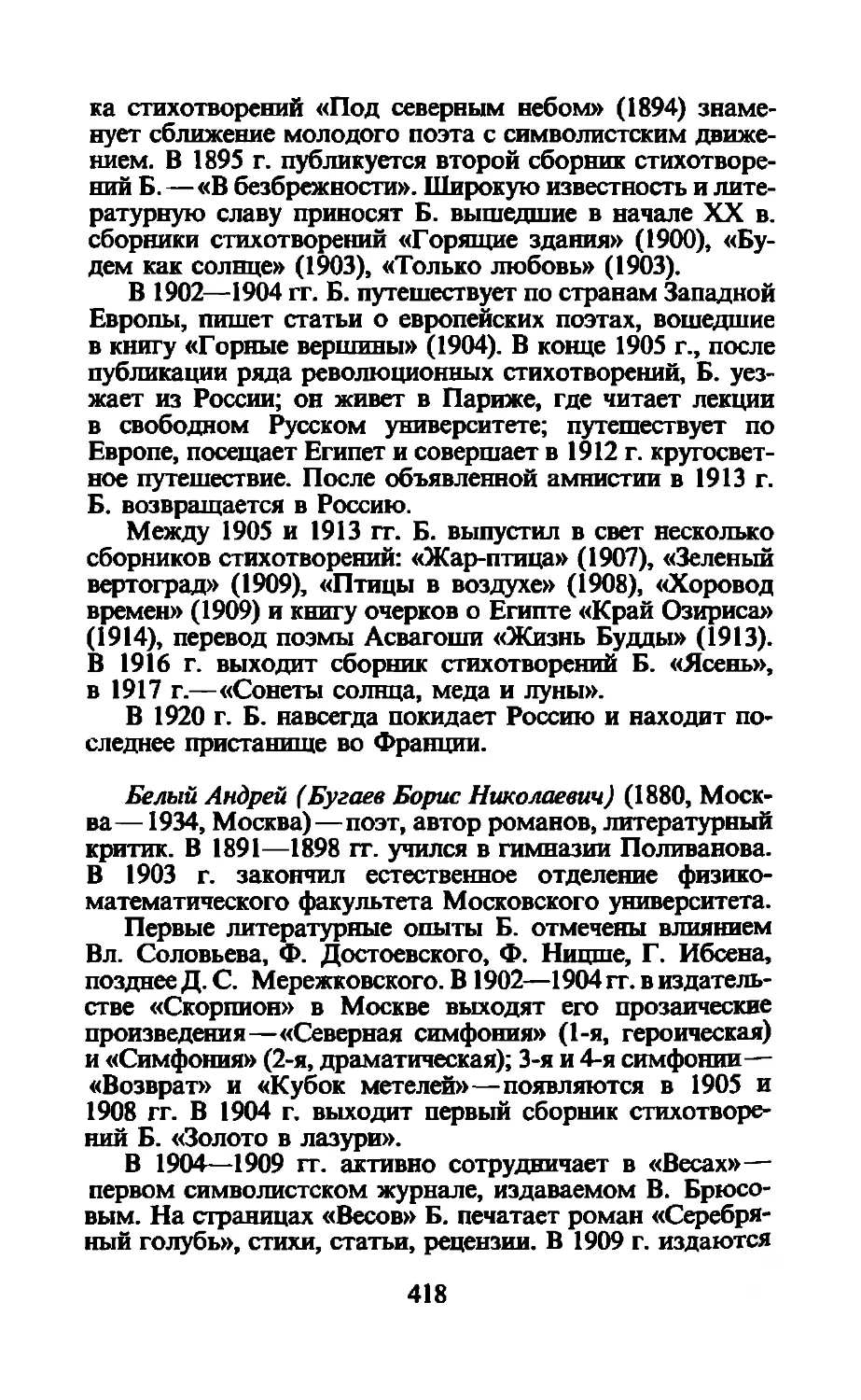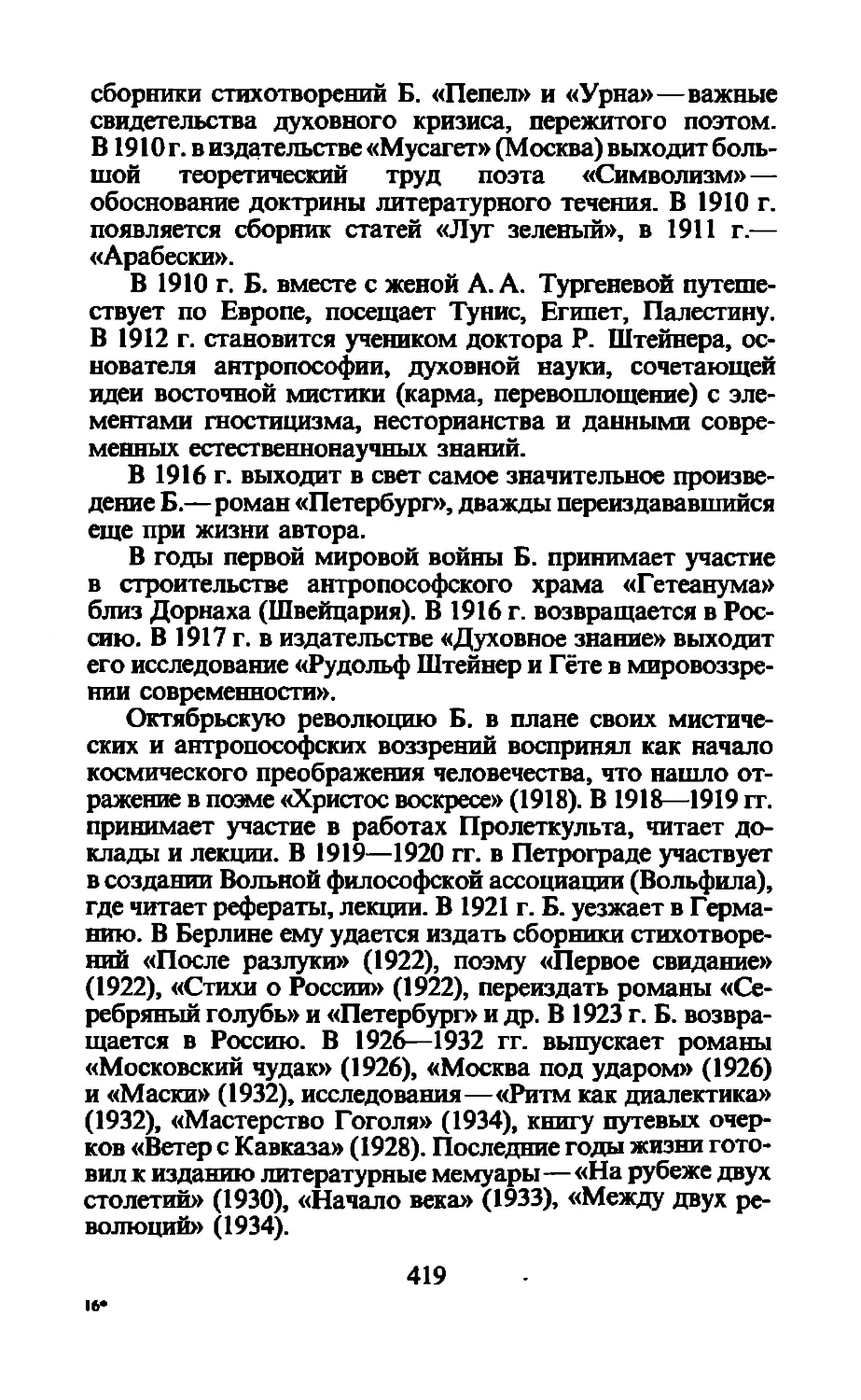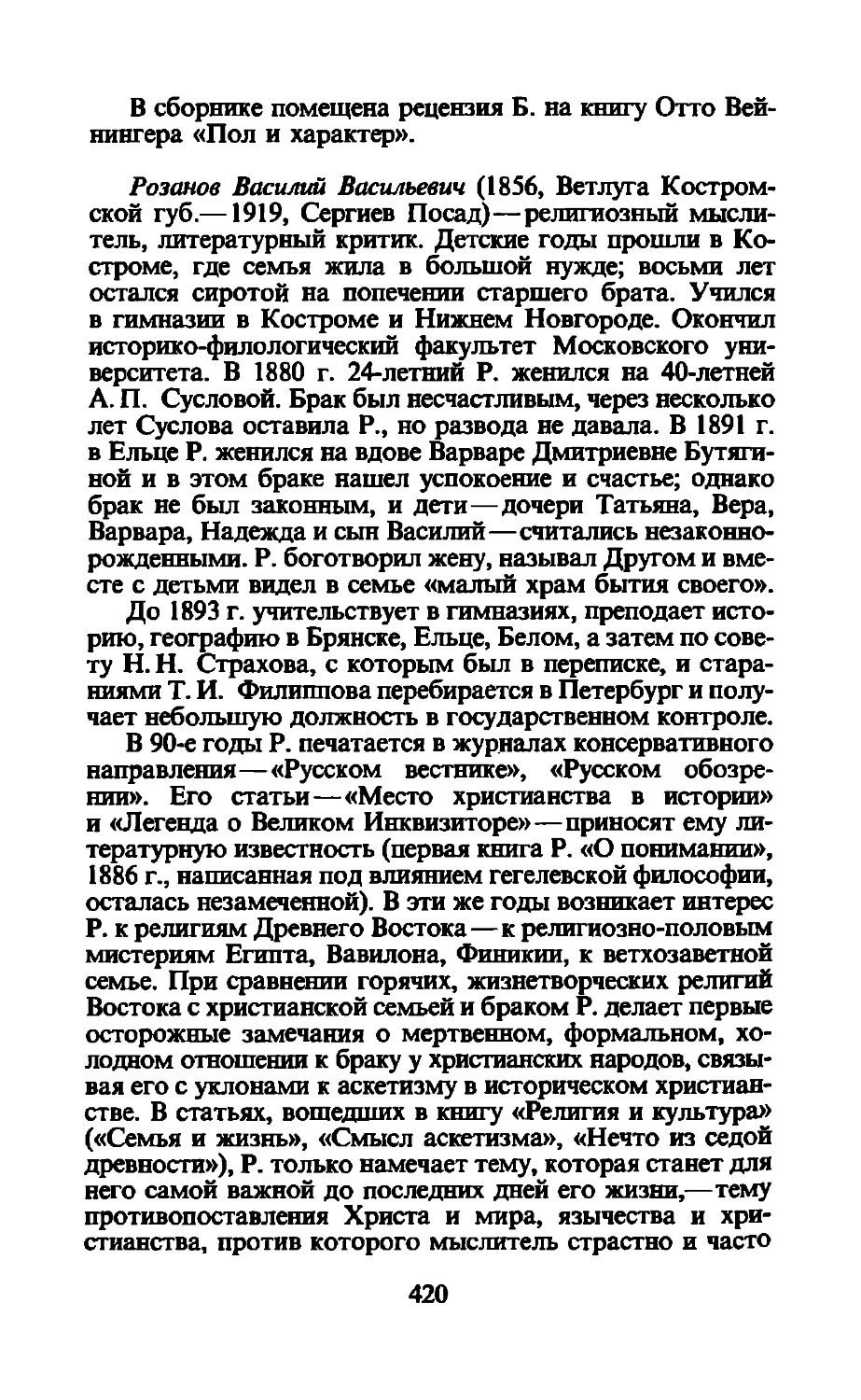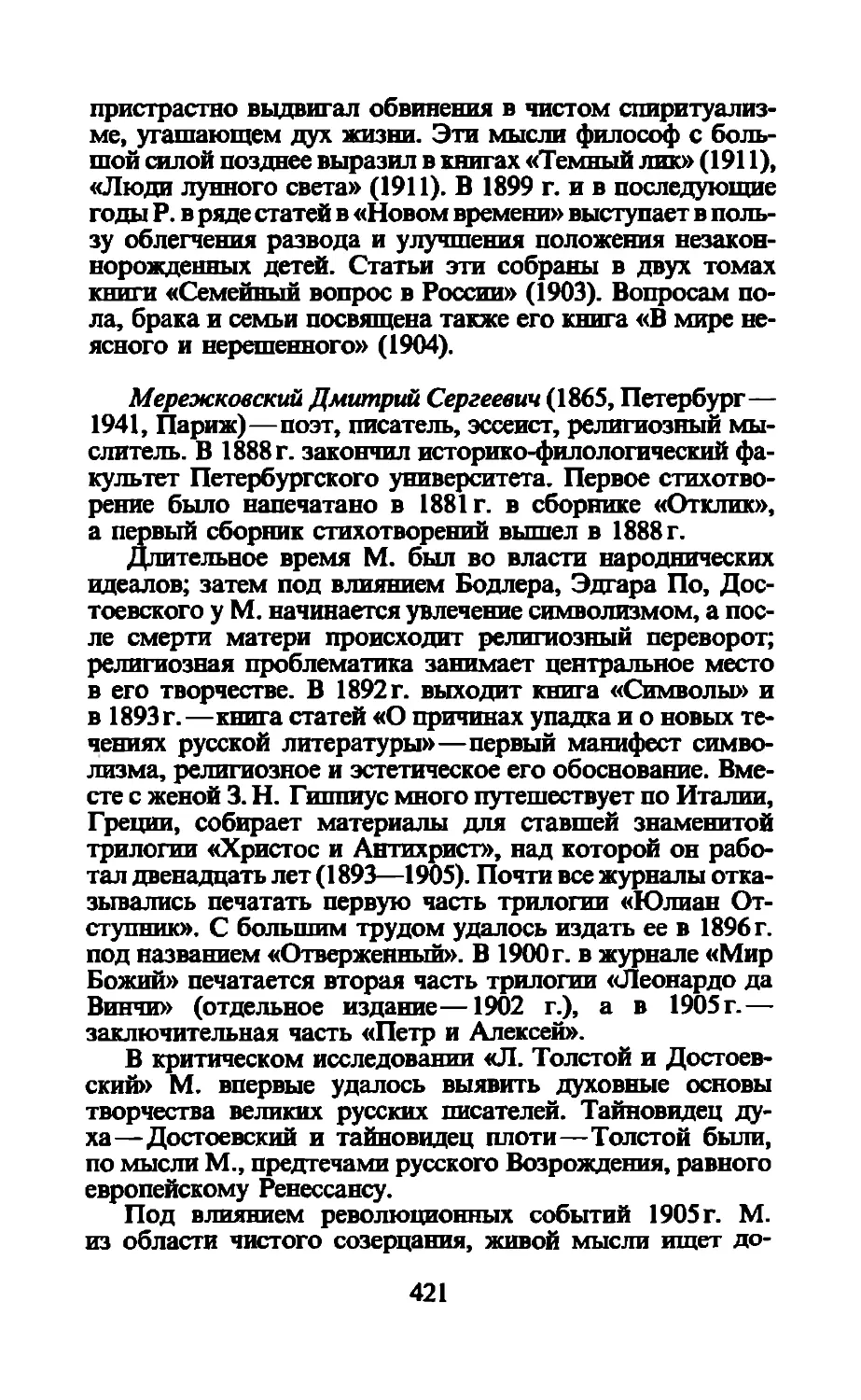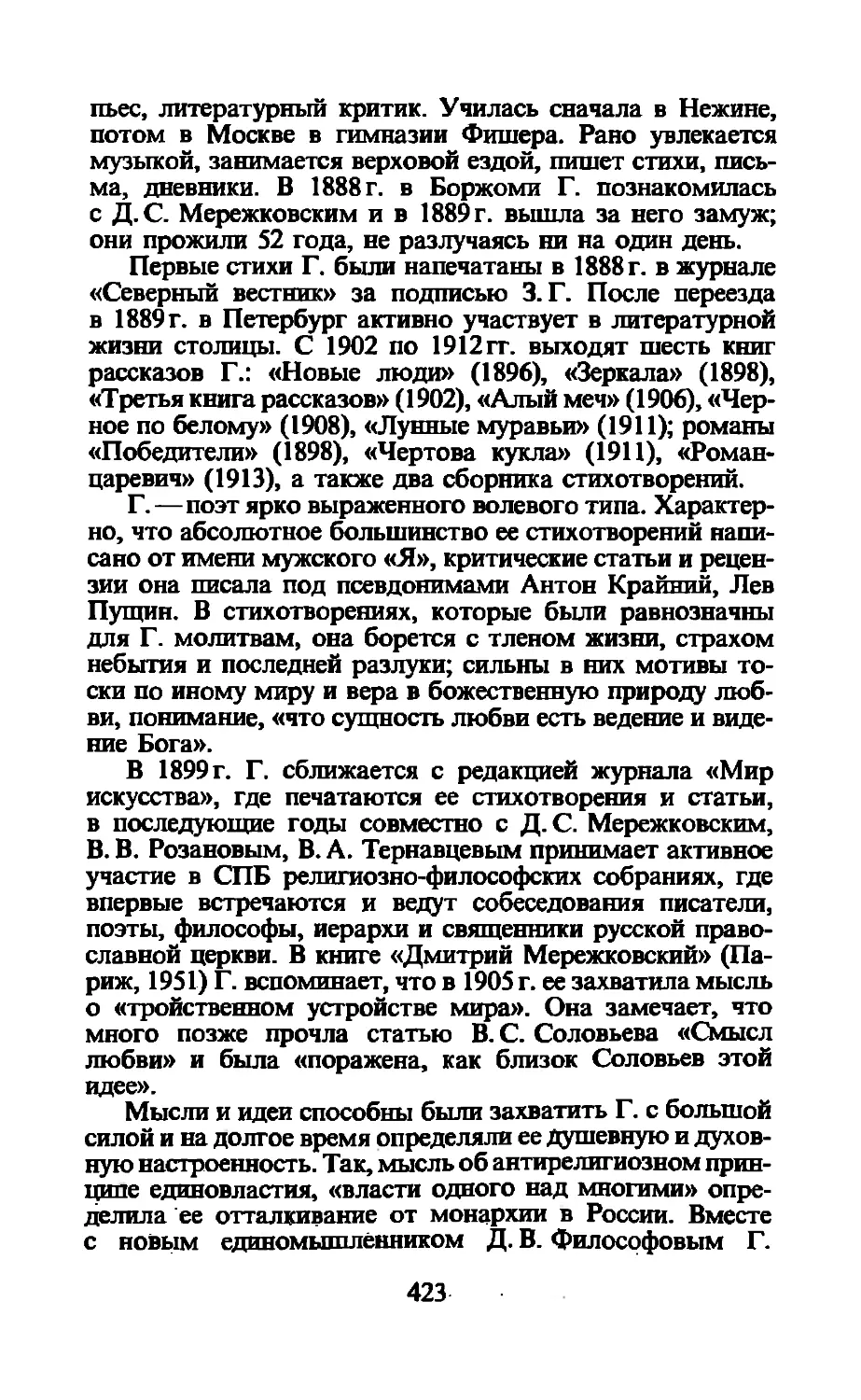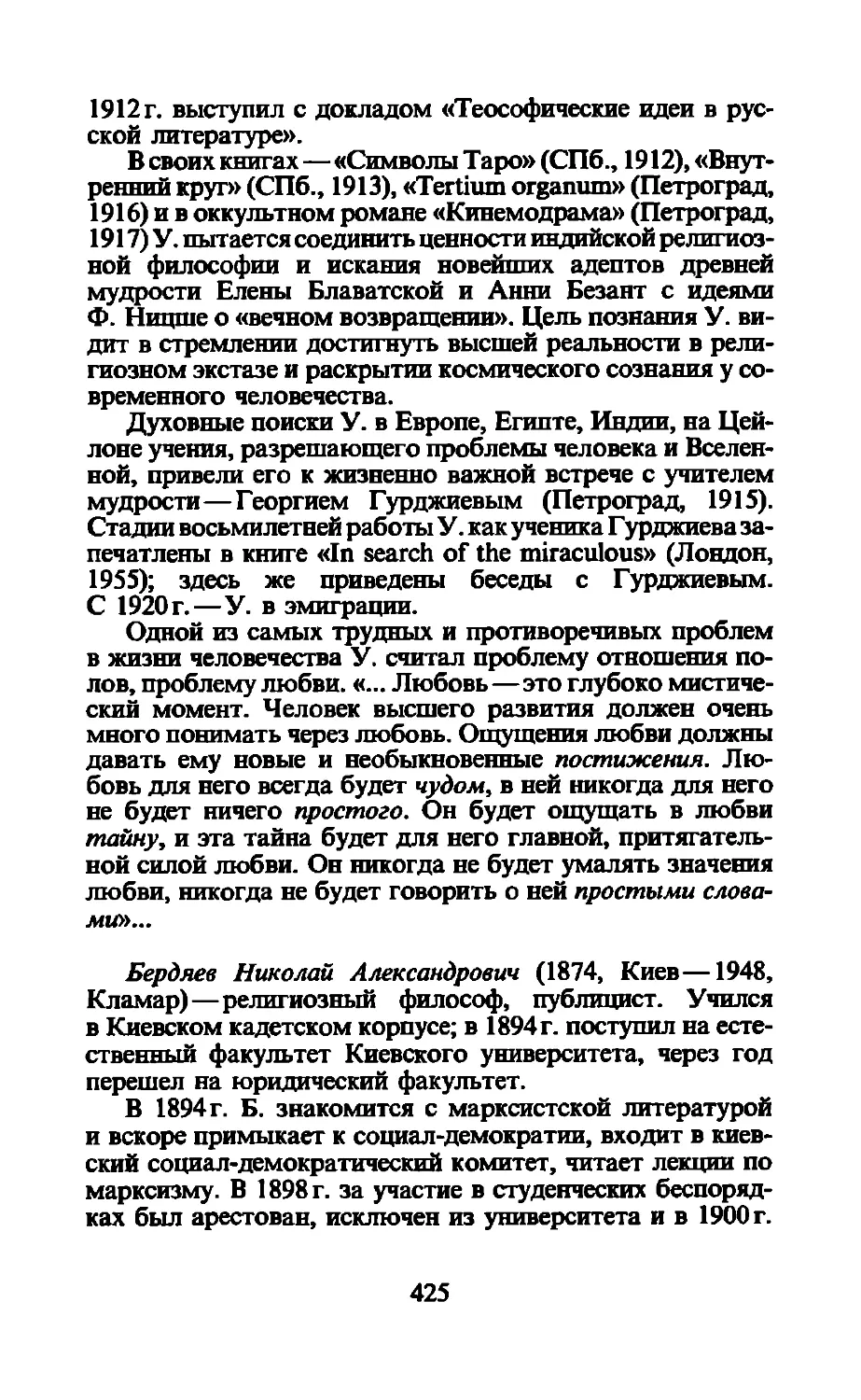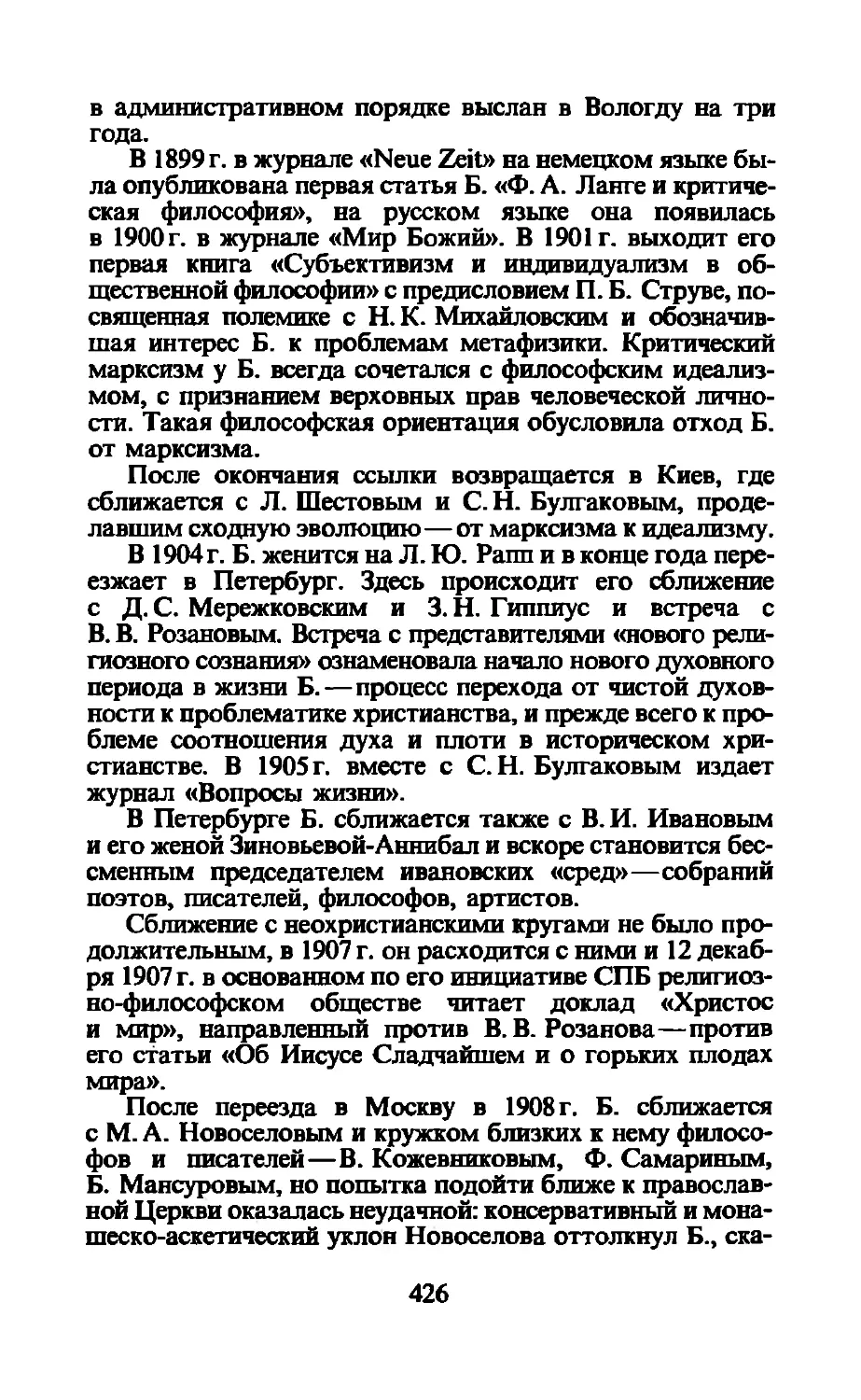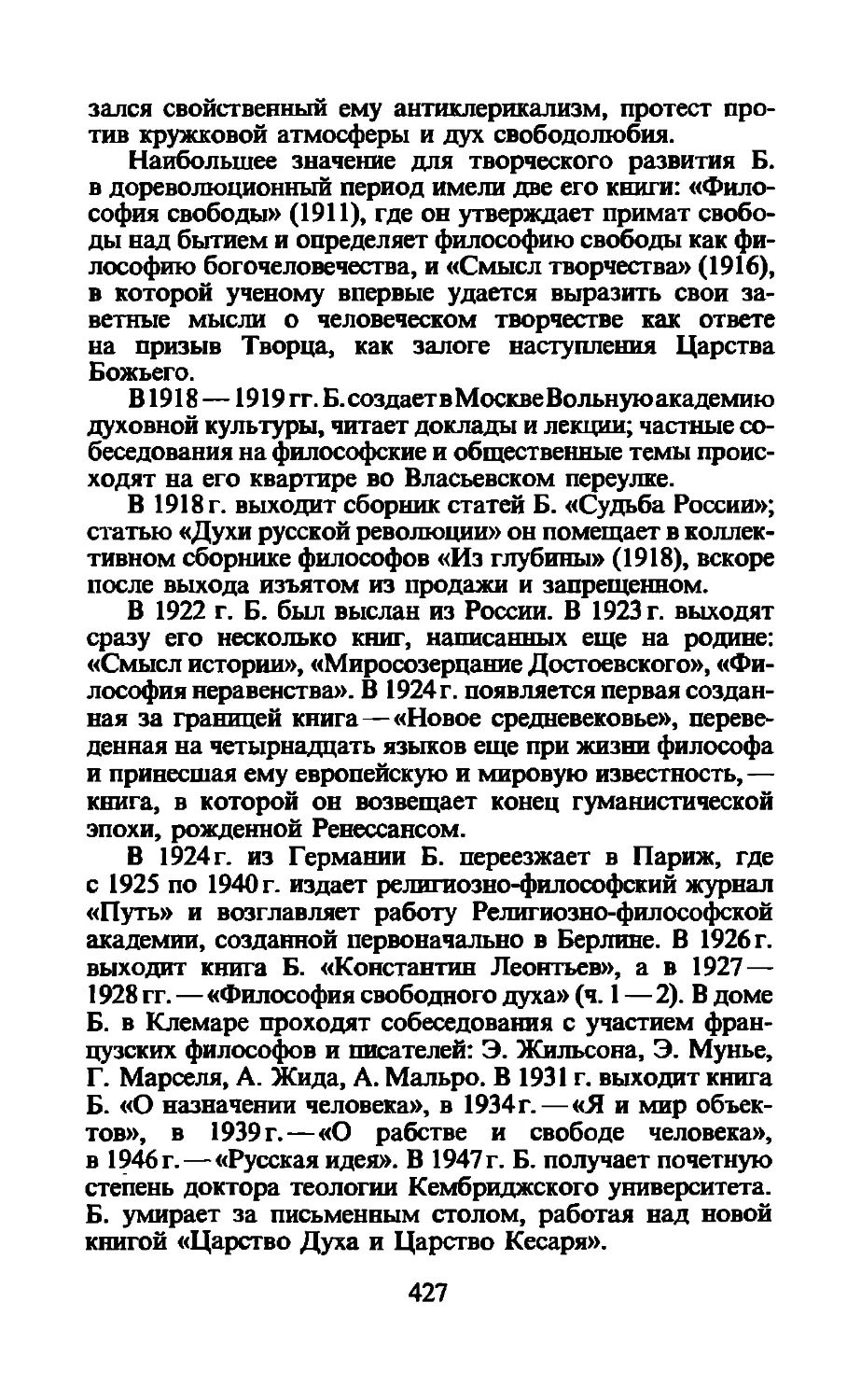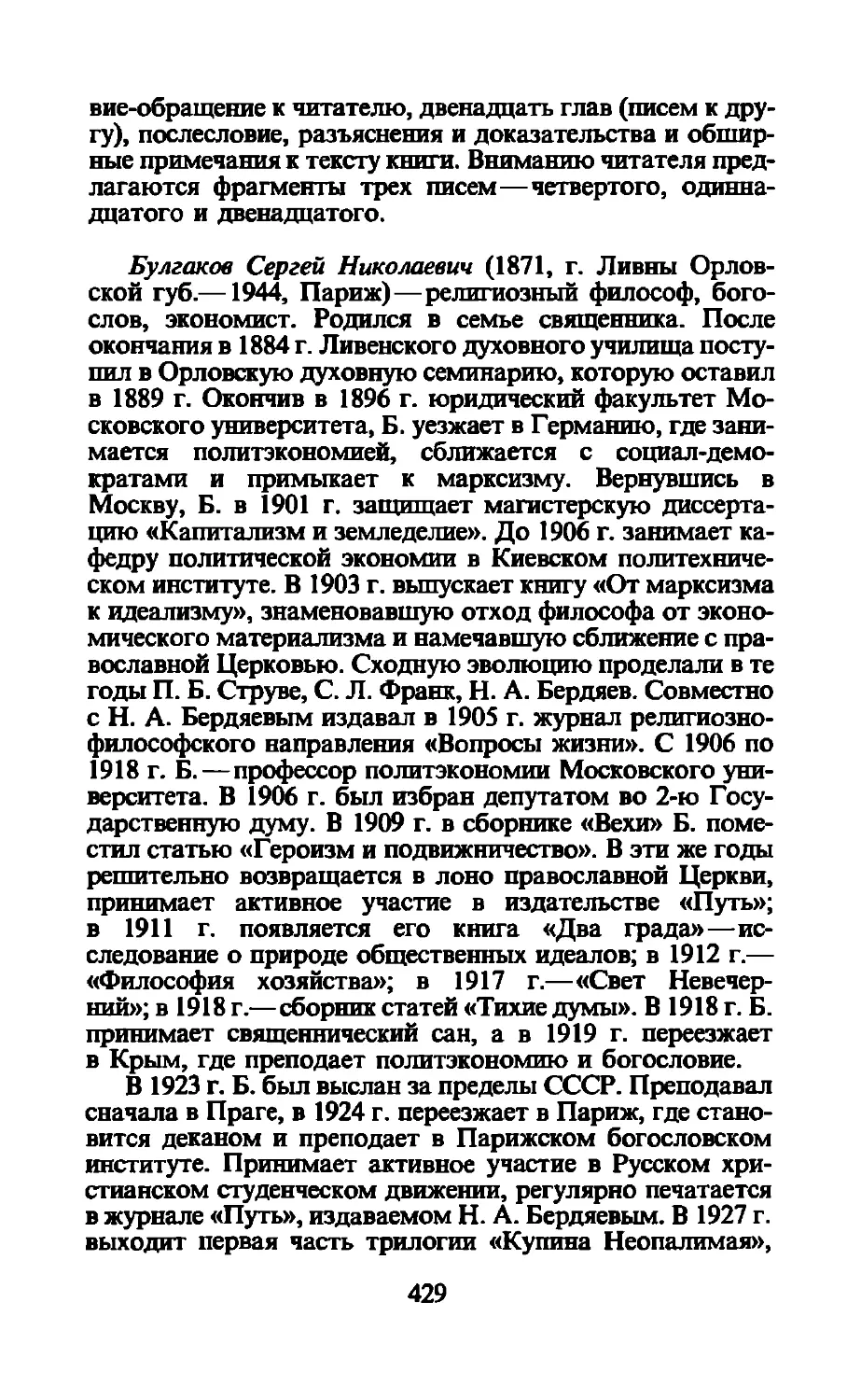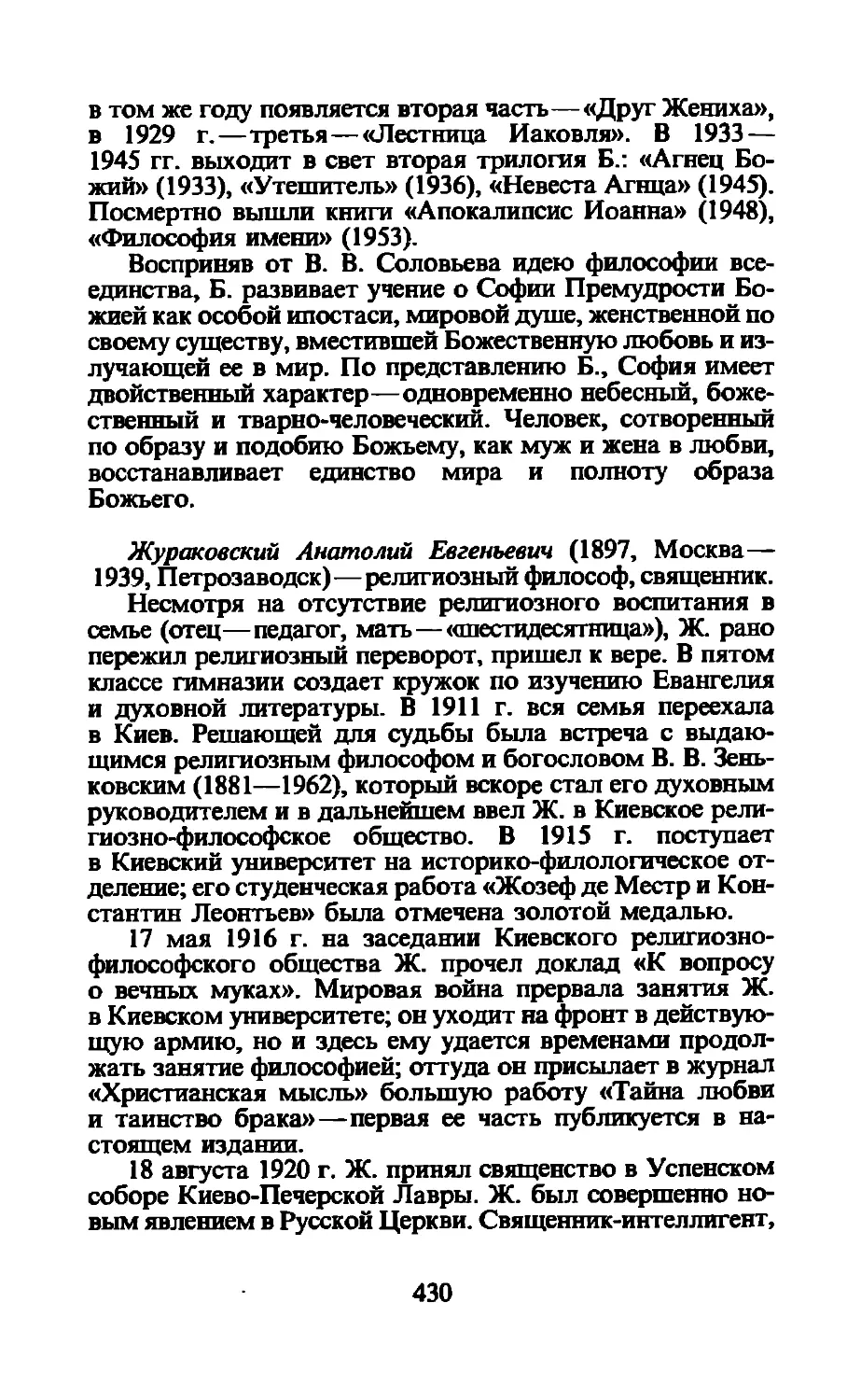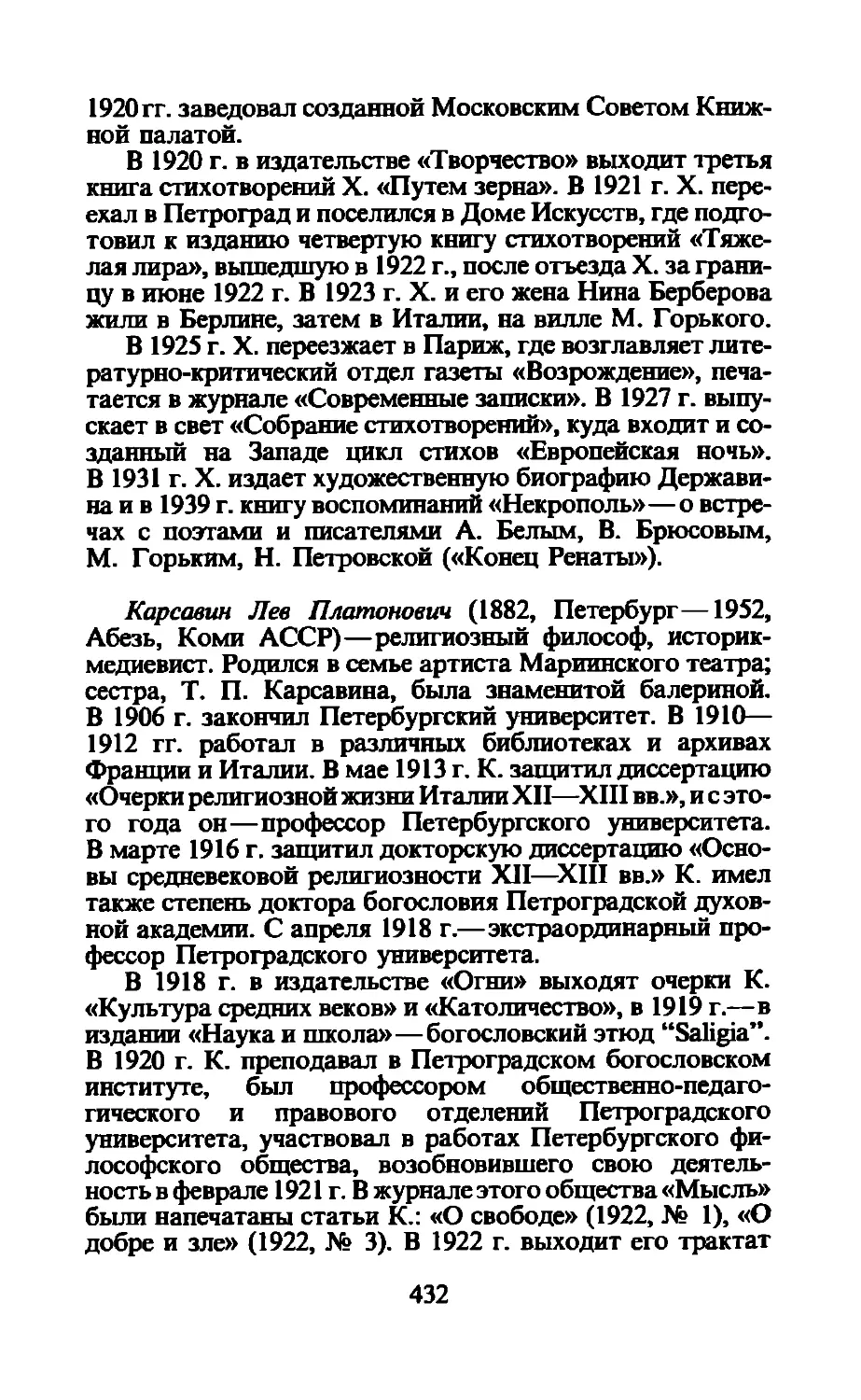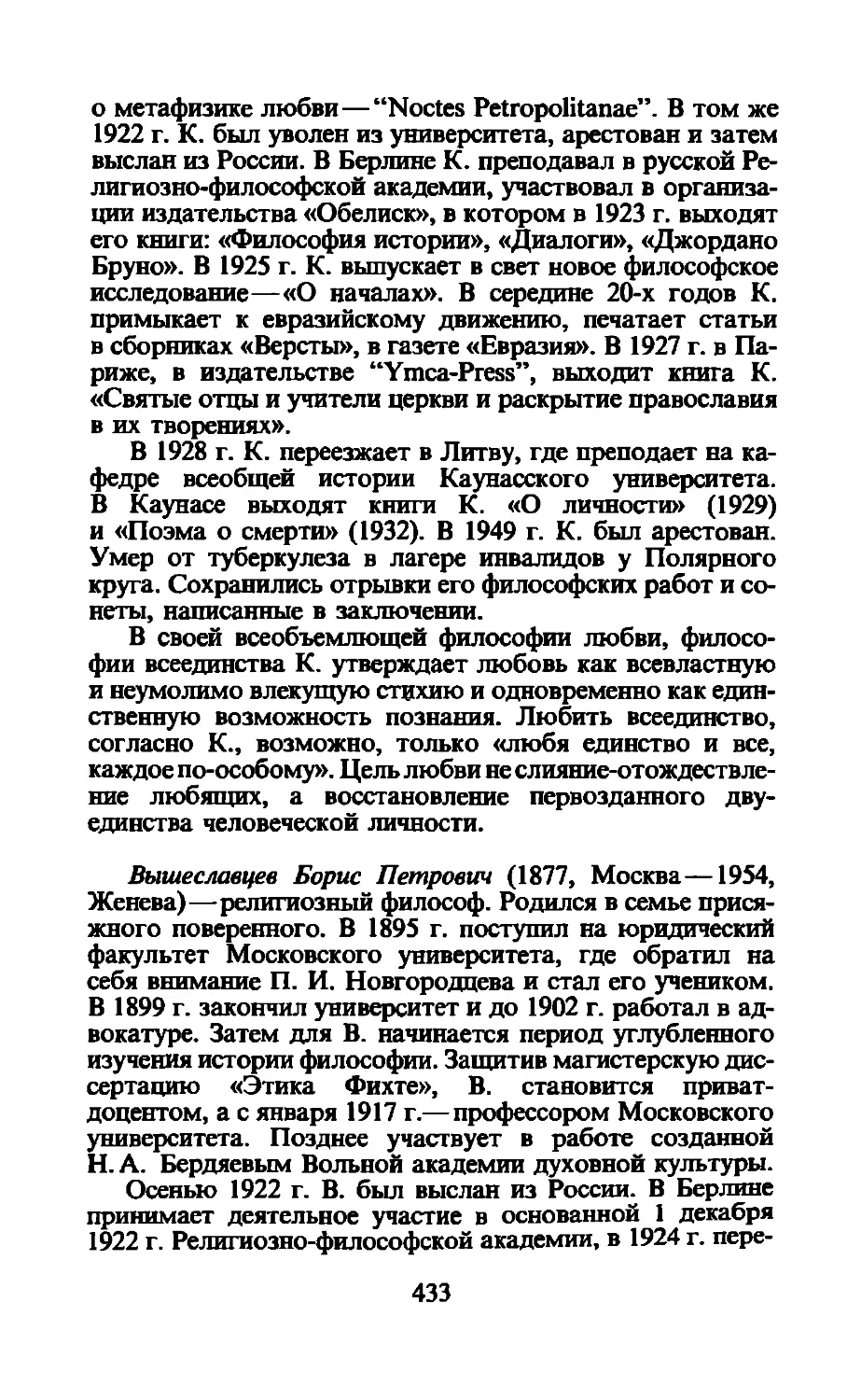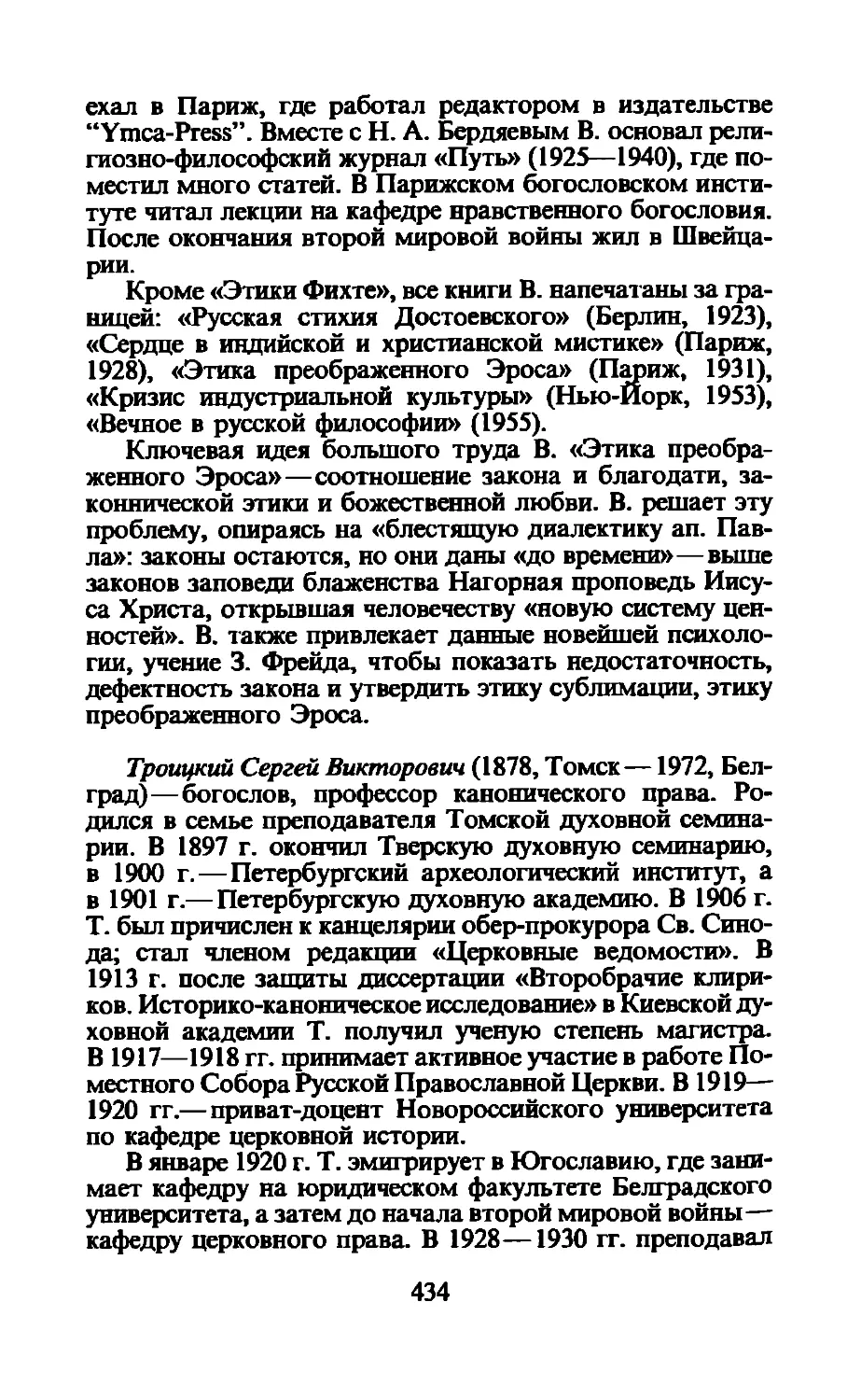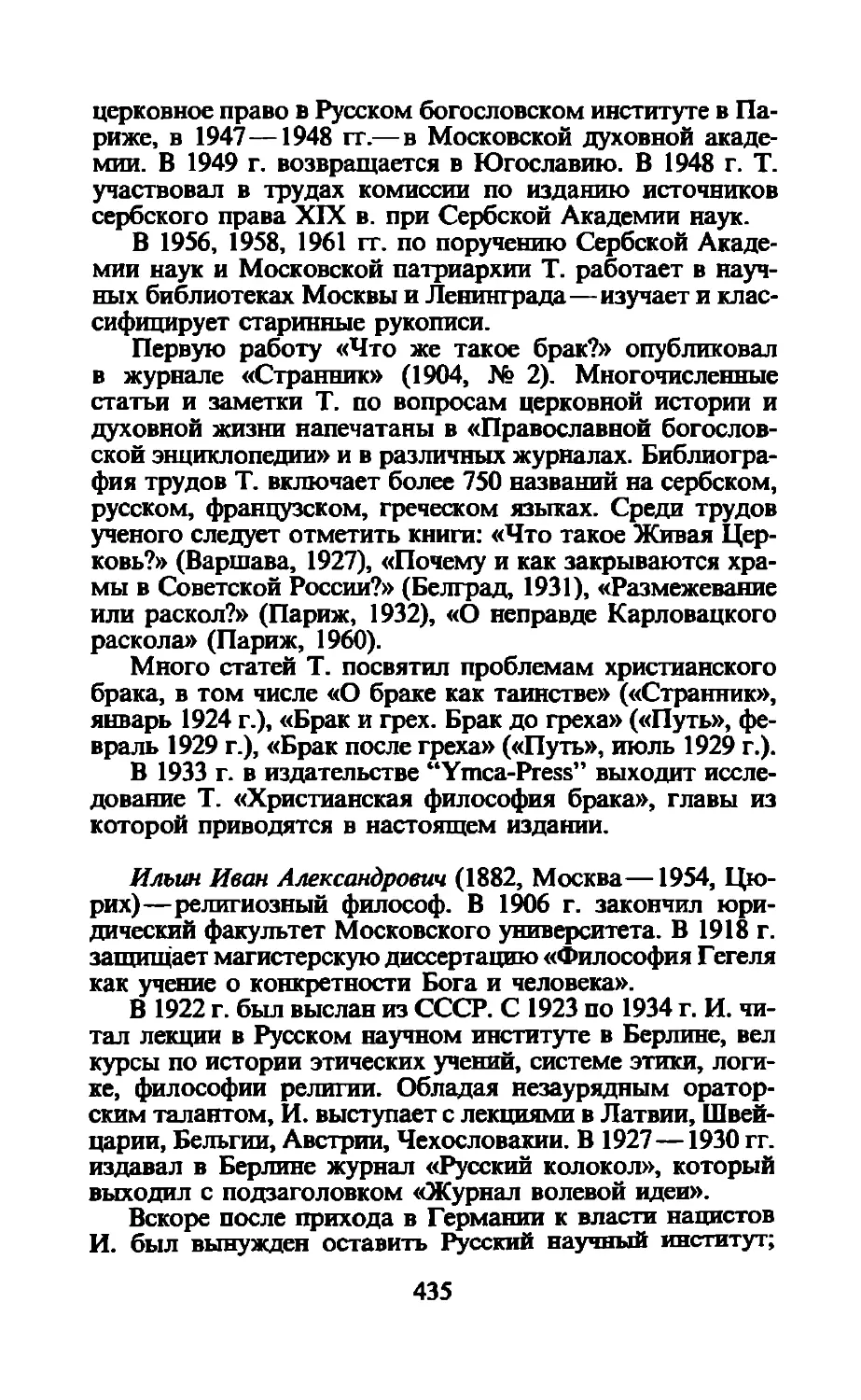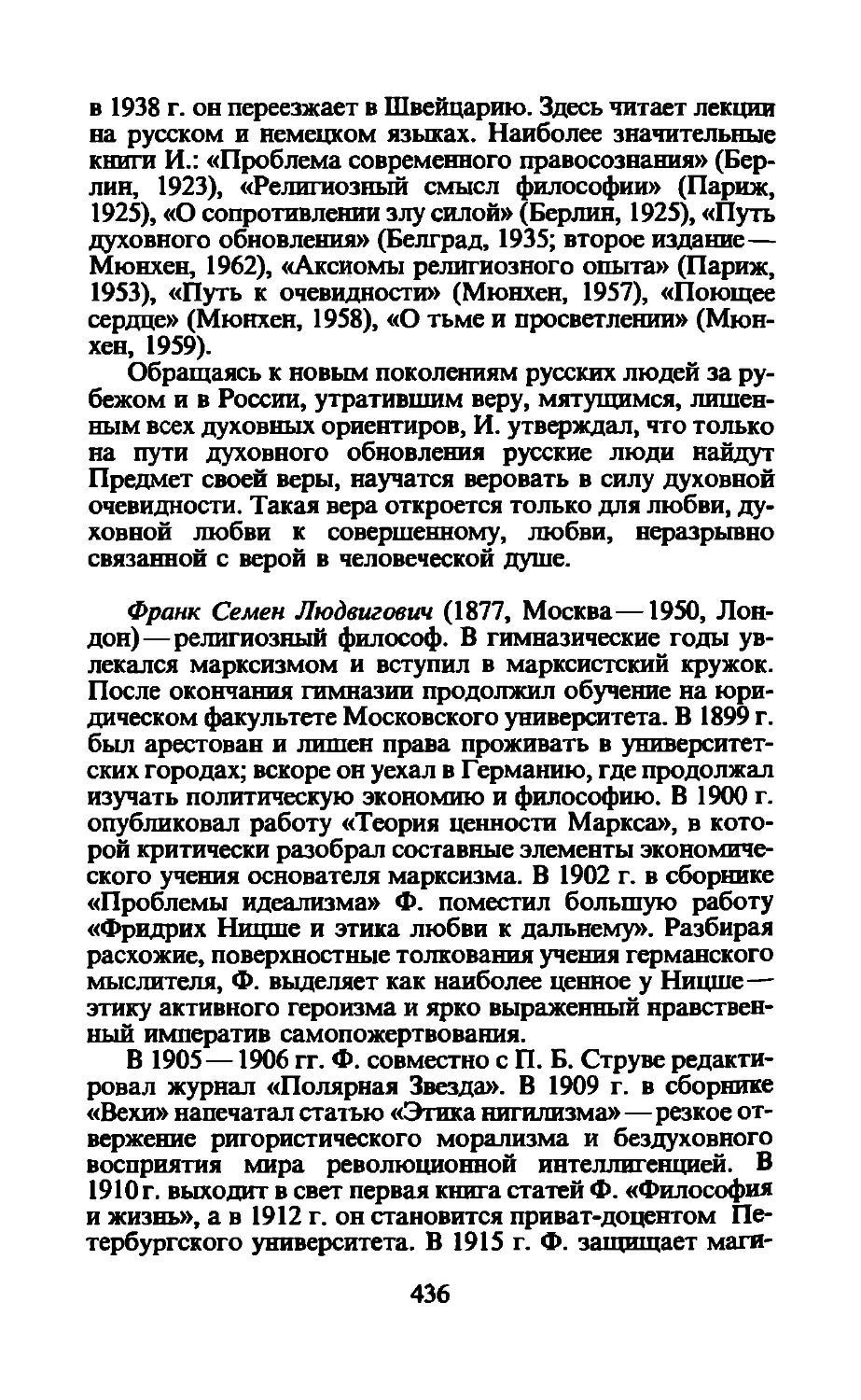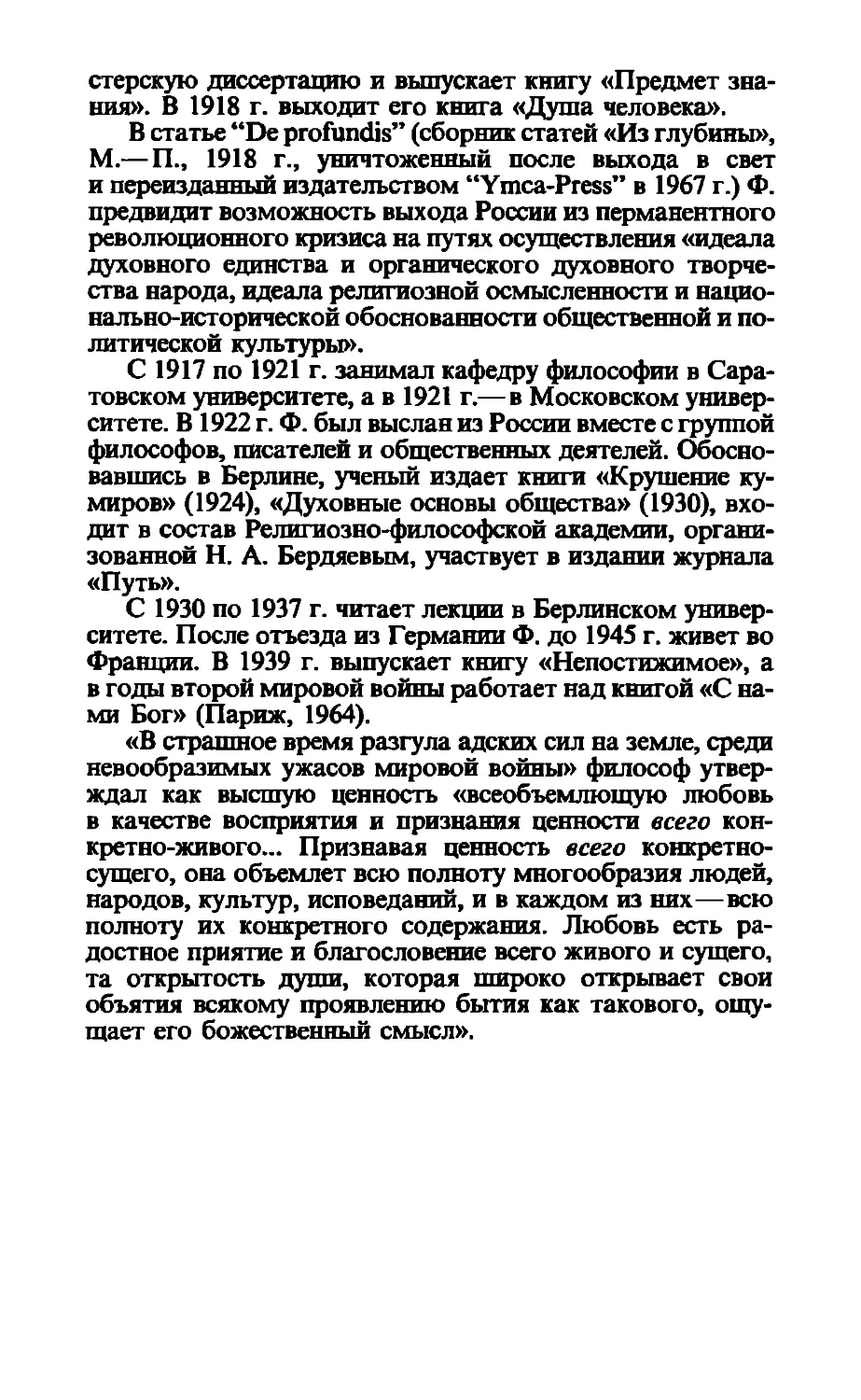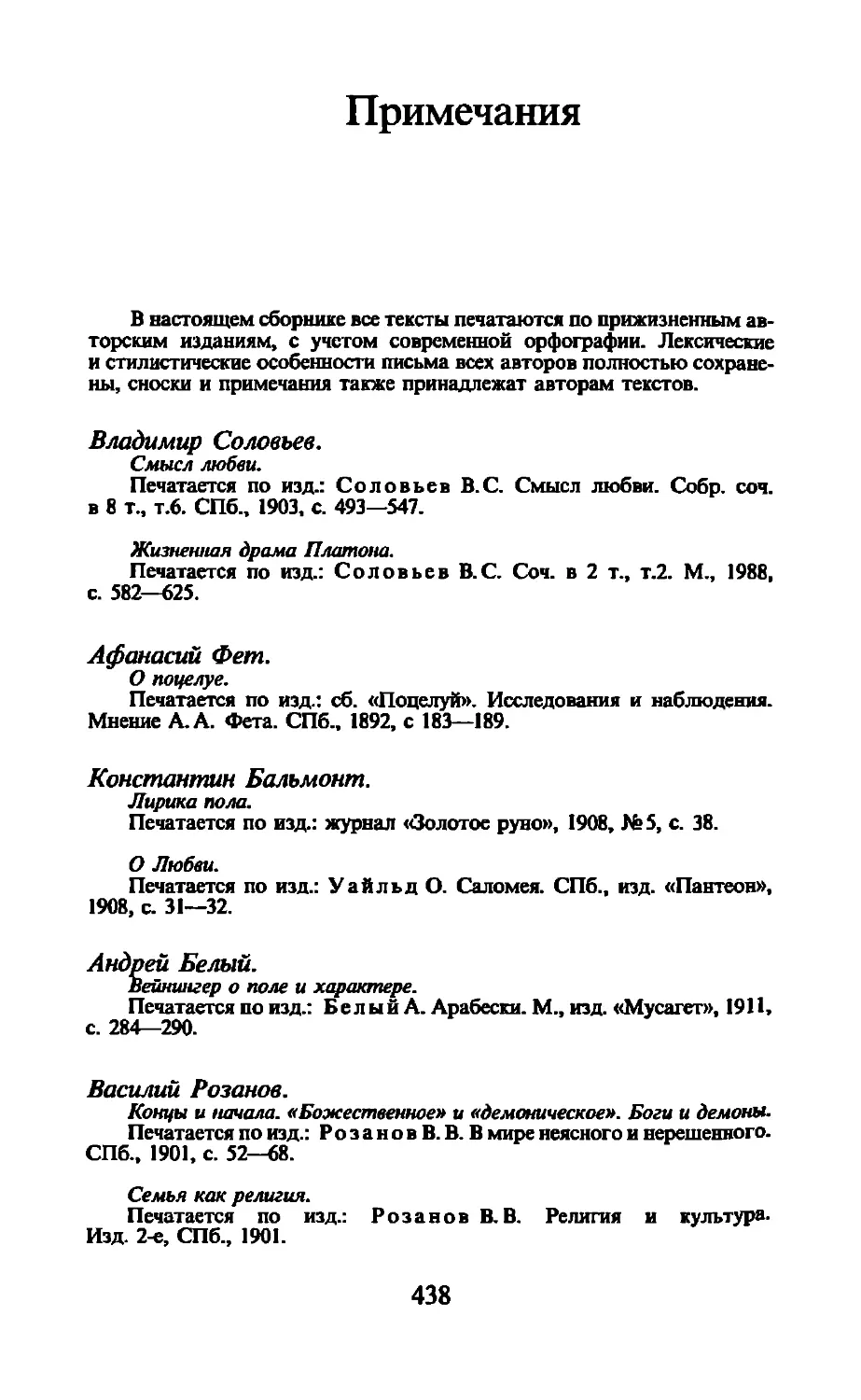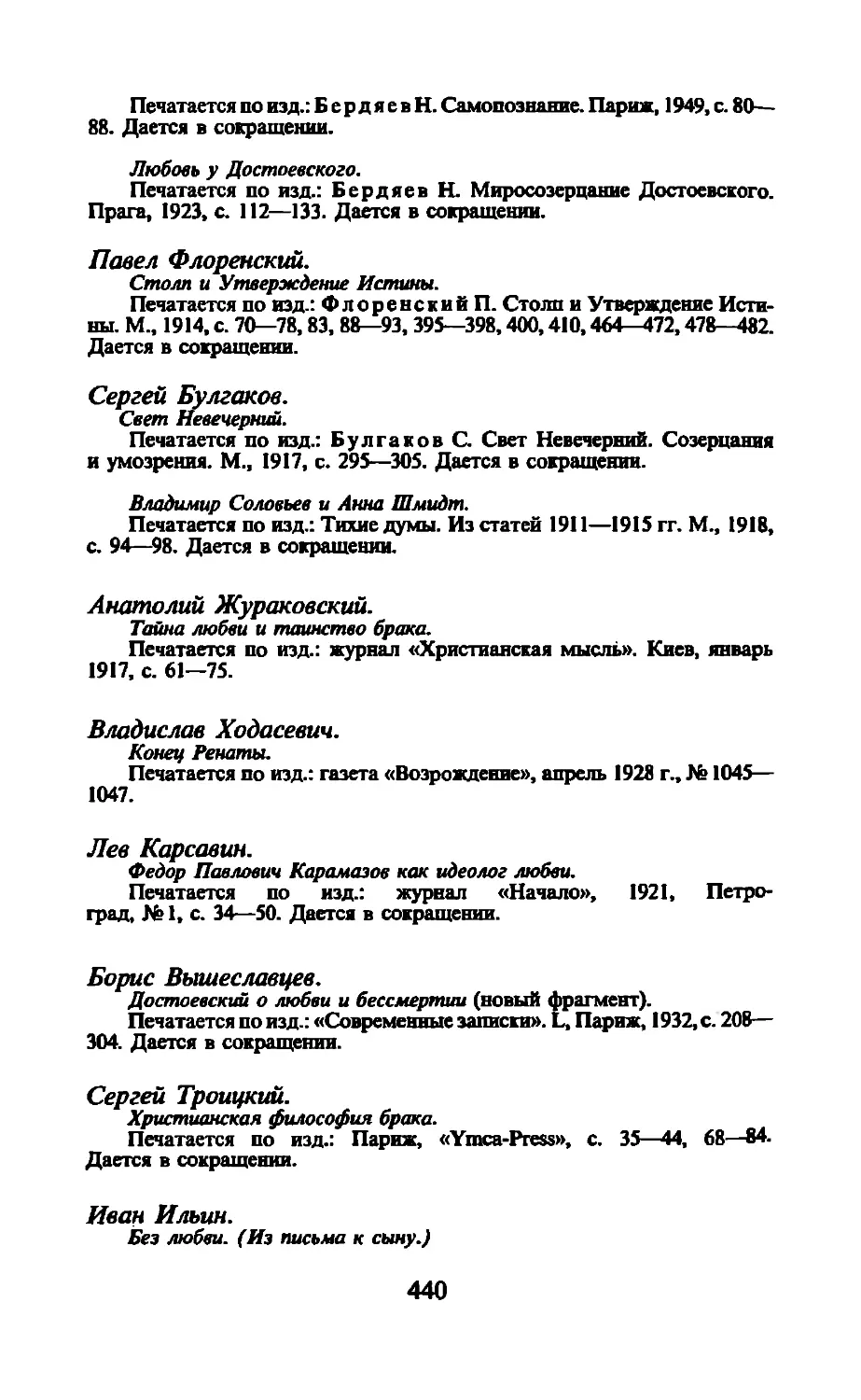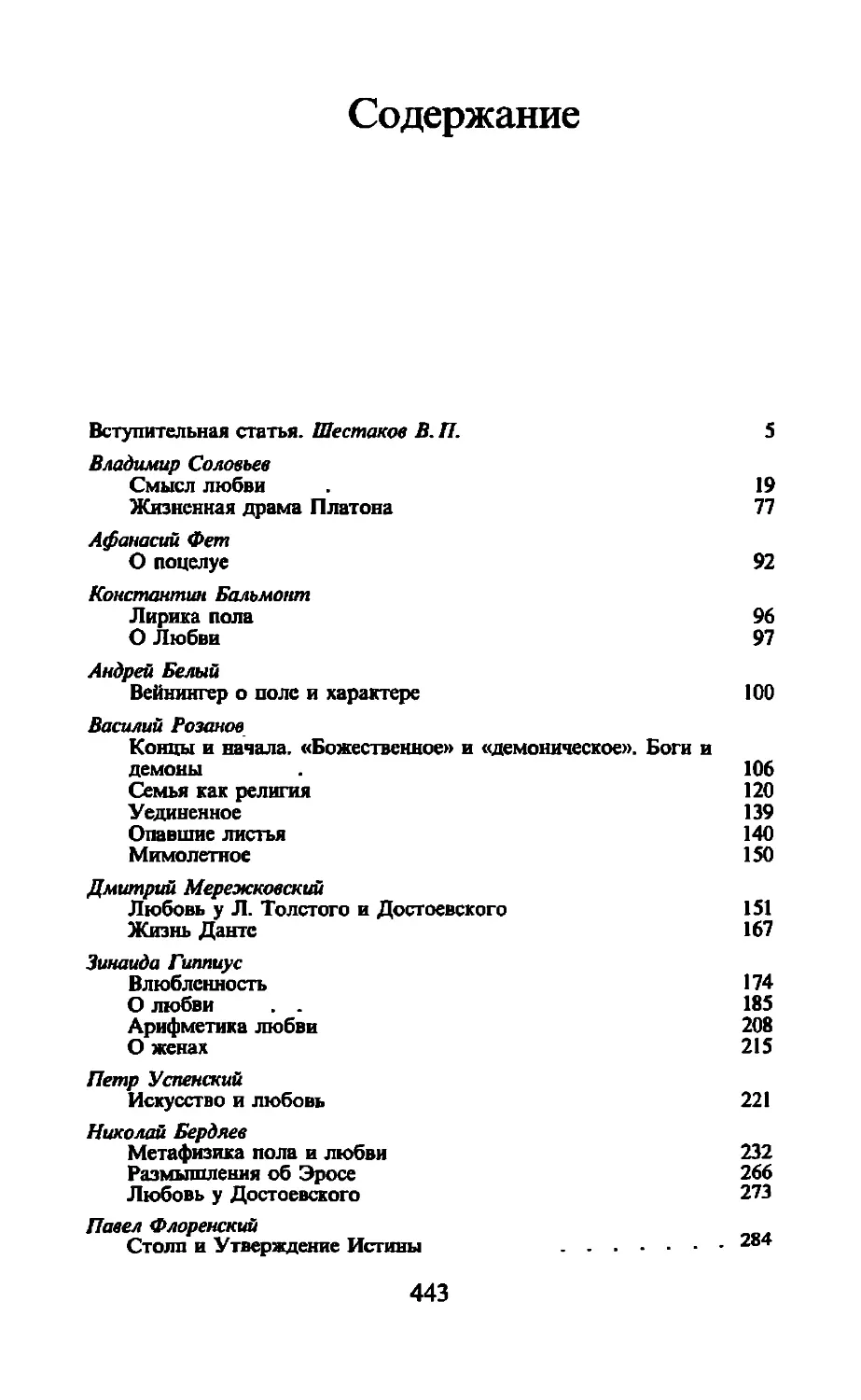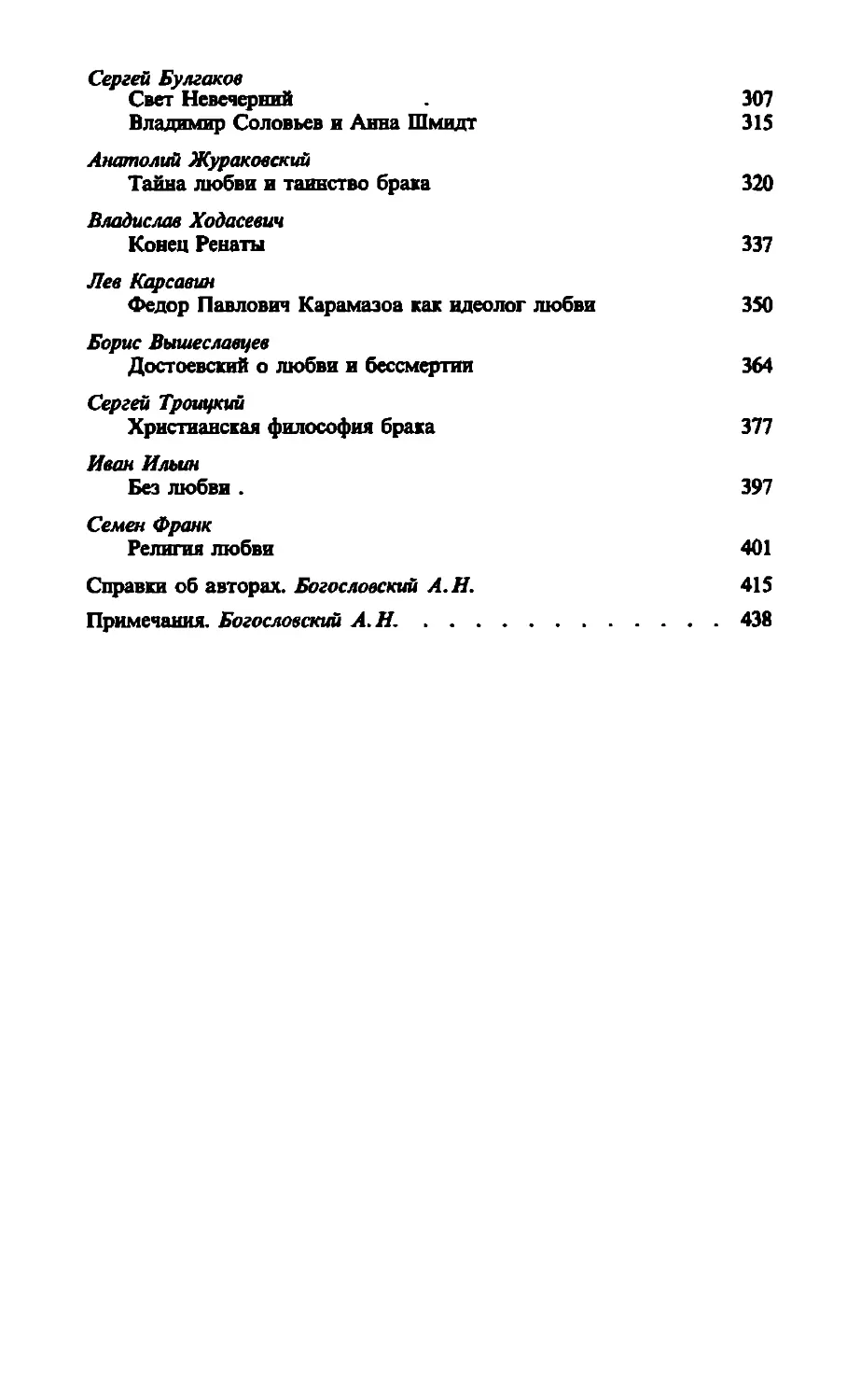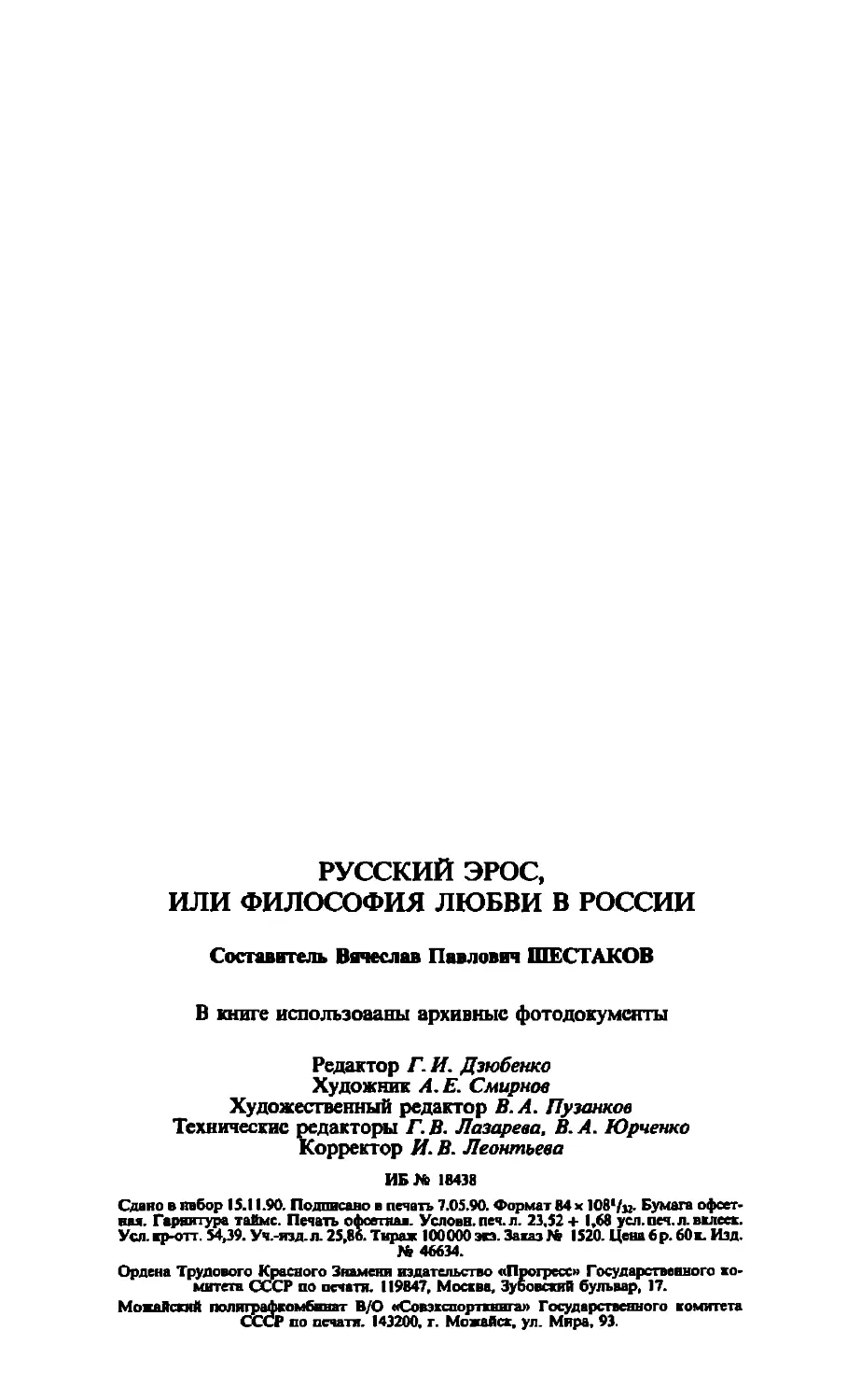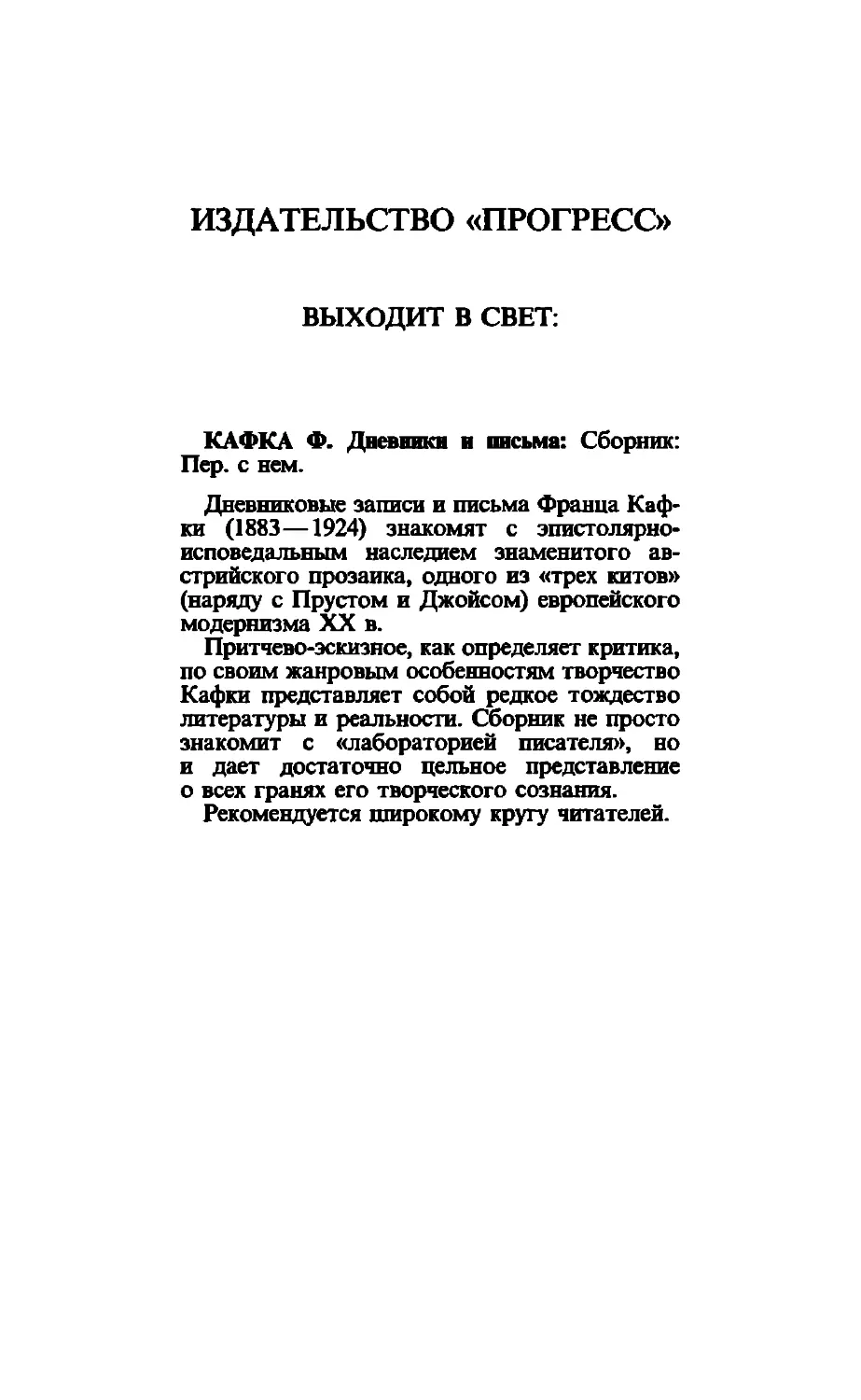Текст
psraaifl
ЭРОС
или
ФИЛОСОФИЯ
ЛЮБВИ
В РОССИИ
Владимир Соловьев
Афанасий Фет
Константин Бальмонт
Андрей Белый
Василий Розанов
Дмитрий Мережковский
Зинаида Гиппиус
Петр Успенский
Николай Бердяев
Павел Флоренский
Сергей Булгаков
Анатолий Жураковский
Владислав Ходасевич
Лев Карсавин
Борис Вышеславцев
Сергей Троицкий
Иван Ильин
Семен Франк
РУССКИЙ
ЭРОС
ИЛИ
ФИЛОСОФИЯ
ЛЮБВИ
В РОССИИ
Москва"Прогресс" 1991
ББК 87.7
Р 89
Составитель и автор вступительной статьи
д. филос. н. В. П. Шестаков
Комментарий А. Н. Богословского
Художник А. Е. Смирнов
Редактор Г. И. Дзюбенко
Р89 Русский Эрос, или Философия любви в России
/Сост. и авт. вступ. ст. В. П. Шестаков; Коммент.
А.Н. Богословского.—М.: Прогресс, 1991.—
448 с: ил.
Настоящая книга знакомит с работами русских авторов начала XX
века, рассматривающих вопросы теории и философии любви. В ней
публикуются забытые или малоизвестные современному читателю произведения
философов и религиозных мыслителей, писателей и поэтов: Вл. Соловьева,
Н. Бердяева, П. Флоренского, К. Бальмонта, Э. Гиппиус, Д.
Мережковского, В. Ходасевича, С. Булгакова, Л. Карсавина, В. Розанова и др. Издание
иллюстрировано работами выдающихся русских художников.
4702010204-220 ББК „л
006/01/—91
©Составление, вступительная статьи, комментарий, художественное
оформление издательства «Прогресс», 1991.
ISBN 5-01-002689
Вступительная статья
Существует традиционное
представление, что русская литература не знает таких
прекрасных образов любви, как литература Западной
Европы. У нас нет ничего подобного любви трубадуров,
любви Тристана и Изольды, Данте и Беатриче, Ромео
и Джульетты... Возможно, действительно в России
не было таких богатых традиций в развитии любовного
романа, какие были в Западной Европе. Между тем
русская литература XIX века дала глубокое освещение
феномена любви. Тема любвизасверкала всеми гранями в
произведениях Пушкина и Лермонтова, Гончарова и Тургенева,
Тютчева и Некрасова, Толстого и Достоевского, Лескова
и Куприна. В произведениях этих и многих других
писателей сложились черты русского Эроса, русского
отношения к вечной и возвышенной теме—любви.
Другое дело—художественная критика и философия.
Очевиден тот факт, что русская философия любви XIX
века чрезвычайно бедна: в огромной философской
литературе мы не найдем сколько-нибудь значительных сочинении
на эту тему. Более того, литературная критика с
необычайной и труднообъяснимой резкостью ополчалась
против малейшего элемента чувственности в романах
и поэзии, объявляя такую литературу «непристойной»,
«циничной», «мерзкой», «порнографической»*.
Пожалуй, единственным исключением была статья Н.
Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». В ней
Чернышевский попытался вскрыть странную особенность
Русского характера, особенно ярко отразившуюся в рома-
* Новополии Г. С. Порнографический элемент в русской лите-
Ратуре. СПб., 1908.
5
нах Гончарова: русский мужчина там, где ему нужно
проявить решительность в отношении к любимой женщине,
оказывается нерешительным, медлит, морализирует,
сомневается и готов бежать от женщины, которую любит,
проявляя чисто женскую застенчивость и пассивность. Он
готов пылко любить, но скорее в мечте, чем в реальности.
Нам представляется, что в своей статье Чернышевский
затронул важную черту русского характера, которая
отражается и в русском Эросе. Позднее эту тему развил
Н. Бердяев, когда он писал, о «вечно бабьем» в русском
характере.
Но в целом русская культура XIX века в отношении
к проблемам Эроса парадоксальна: она чрезвычайно
богата в художественно-литературном освещении любви
и исключительно бедна в философско-теоретическом
осмыслении этого феномена.
Довольно трудно объяснить причины этого, по сути
дела, негативного отношения к проблемам любви. В.
Розанов определял это невнимание к вопросам Эроса и пола
атеизмом. «Связь пола с Богом,—писал он в своей книге
«Уединенное»—большая, чем связь ума с Богом, чем
даже связь совести с Богом,—выступает из того факта, что
все а-секуалисты обнаруживали себя а-теистами. Те самые
господа, как Бокль и Спенсер, как Писарев и Белинский,
о «поле» сказавшие не больше слов, чем об Аргентинской
Республике, очевидно не более о нем и думавшие, в то
же-время до того изумительно атеистичны, как бы до
них и вокруг них не было никакой религии» *.
Можно по-разному относиться к этому выводу. Но
очевидно, что в строгой этике русских революционеров-
демократов оставалось мало места чувственной природе
человека. Поэтому рассуждения о любви воспринимались
как дань туманному романтизму, который, как известно,
не был особенно популярен в русской эстетике.
Приходится поэтому удивляться, с какой
вулканической энергией тема любви врывается в русскую
литературу конца XIX—начала XX века—в публицистику,
художественную критику, эссеистику, философию и теологию.
О любви пишут философы и теологи—Вл. Соловьев, Н.
Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Лосский, И.
Ильин, Л. Карсавин, Б. Вышеславцев, С. Франк и др.,
поэты и писатели—И. Бунин, А. Куприн, К. Бальмонт,
* Розанов В. В. Уединенное. СПб., 1922, с. 119.
6
А. Блок, А. Белый, В. Маяковский, Н. Гумилев, С.
Есенин, М. Цветаева, Б. Пастернак, 3. Гиппиус, А. Ахматова,
критики—В. Розанов, В. Ходасевич, Ю. Мандельштам,
Д. Мережковский, историки литературы и
литературоведы— В. Жирмунский, Н. Арсеньев, И. Голенищев-
Кутузов, А. Веселовский.
За несколько десятилетий в России о любви пишется
больше, чем за несколько веков. Причем литература эта
отличается глубиной мысли, интенсивными поисками
и оригинальностью мышления. Ничего подобного мы не
найдем в это время в европейской философии и
литературе, где господствующим типом рассуждений о любви
становится либо вульгарный позитивизм, либо
иррационализм.
В Западной Европе доминирующей концепцией,
определяющей понимание и интерпретацию секса, эротики,
любви, стал фрейдизм, поставивший биологические
потребности человека над социальными. Однако в России—
хотя всегда и очень чуткой ко всем направлениям
западной философии—фрейдизм не имел популярности. Более
того, он стал предметом острой критики и полемики.
В отличие от западных философов русские мыслители
начала века развивали гуманистическую традицию в
понимании природы любви и, обращаясь к потаенным
вопросам пола, связывали сексуальную энергию человека не
только с продолжением рода, но и с пониманием
духовной культуры человека—с религией, художественным
творчеством, с поиском новых нравственных ценностей.
Философия любви оказывается одновременно и этикой,
и эстетикой, и психологией, и постижением
божественного. Этот синкретизм—одна из характерных особенностей
русского Эроса.
Одним из первых, кто обратил внимание на
«проклятые», традиционно замалчиваемые вопросы пола, был
Василий Розанов. Бердяев не случайно назвал его
«гениальным провокатором и вопросителем христианской семьи».
Розанов своей публицистикой и критическими статьями
провоцировал русское общественное сознание, делал
запретную до тех пор тему предметом общественной
дискуссии.
Главным в работах Розанова была критика морали,
причем он критиковал не только мещанскую, обыденную
мораль, но и религиозную этику. Это постоянное
бунтарство, неистребимый критицизм, неудовлетворенность
7
обыденным сближают Розанова с Ницше, и не случайно
Розанова часто называли «русским Ницше».
Большое внимание привлекли афористические мысли
Розанова, собранные в книгах «Уединенное», «Опавшие
листья», «Мимолетное». Здесь Розанов выступает с
апологией любви, которую он сближает с красотой и
истиной. «Всякая любовь прекрасна. Потому что на земле
единственное «в себе самом истинное»—это любовь.
Любовь исключает ложь... Гаснет любовь—и гаснет истина.
Поэтому «истинствовать на земле»—значит постоянно
и истинно любить» *. «Мы рождаемся для любви. И
насколько мы не исполнили любви, мы томимся на свете.
И насколько мы не исполнили любви, мы будем наказаны
на том свете» **. Отсюда постоянные его рекомендации:
не обижайте любовь, любите больше, будьте верны в
любви, отстаивайте любовь, будьте крепки в любви и т. д.
В свое время Розанов получил широкую популярность
прежде всего как критик христианского учения о любви.
Действительно, он обнаружил серьезные противоречия,
свойственные этому учению. Христианство всегда с
подозрением относилось к полу, видело в нем знак
греховности человеческого рода. Но вместе с тем оно всегда
оправдывало семью и брак как условие продолжения
рода. Иными словами, христианство проклинало сам
половой акт, но благословляло его последствия—
деторождение. В этом противоречии Розанов увидел
лицемерие христианской морали и подвергал её резкой
критике.
В противоположность христианским идеологам
Розанов шел к язычеству, обожествляя плоть, половую
любовь как источник жизни. Провозглашая силу и вечно
обновляющую мощь родовой любви, Розанов вступает
в известный антагонизм и с Владимиром Соловьевым,
который видел в любви проявление личностного начала.
Это обстоятельство обнаружил и раскрыл впоследствии
Николай Бердяев: «В. Розанов—полюс,
противоположный В. Соловьеву. Учение о любви Вл. Соловьева персо-
налистично. Смерть побеждается личной любовью.
Учение о любви Розанова родовое, безличное, смерть
побеждается деторождением. Розанов имеет огромное
значение как критик христианского отношения к полу. Розанов
• Розанов В. В. Уединенное. СПб., 1912, с. 205.
•* Розанов В. В. Опавшие листья. СПб., 1913, короб 1, с. 322.
8
обоготворяет рождающий пол. Он видит в поле не знак
грехопадения, а благословение жизни: он исповедует
религию рождения и противопоставляет ее христианству
как религии смерти»*.
Представляет интерес и отношение Розанова к теме
любви в русской литературе, которой он посвятил
несколько специальных статей. Розанов полагал, что
отношение писателя к женщине может служить ключом к его
творчеству и раскрывать скрытые механизмы его
творческого воображения. Во всяком случае, из этого феномена
он выводил «демонизм» Лермонтова, мир инфернальных
образов Гоголя (у него все красавицы—ведьмы или
утопленницы) и изображение Толстым любви как
абсолютной муки и страдания.
Розанов подходит к вопросам любви как эссеист и
моралист, оставляя в стороне философию Эроса и связанные
с нею вопросы нравственности, этики и эстетики. Эта
сторона дела получила развитие в работах крупнейшего
мыслителя конца столетия Владимира Соловьева, а
затем—Николая Бердяева и др.
Основу философии Соловьева составляет учение
о «всеединстве», проявляющемся буквально во всем,
в частности в единстве божественного и человеческого
начал, которые достигаются самим человеком благодаря
нравственной свободе и способности к
совершенствованию. Это учение, развитое Соловьевым сначала в
«Чтениях о богочеловечестве» (1871—1881), вплотную
подводило его к концепции нравственного значения Эроса,
которую он обосновал в специальной работе «Смысл
любви» (1892).
По мнению Соловьева, у человека любовь носит
индивидуальный характер. Если у животного главное—
родовая жизнь, то у человека индивидуальное начало
торжествует над родовым. Каждому человеку естественно
смотреть на себя как на центр мира и относиться к
окружающим, исходя из своих личных потребностей и
интересов.
Единственная сила, которая в состоянии упразднить
эгоизм, не упраздняя индивидуальность, а, наоборот,
утверждая и поднимая ее, это—любовь. Смысл
человеческой любви, говорит Соловьев, есть оправдание и
спасение индивидуальности через жертву эгоизма. Это проис-
* Бердяев Н.О рабстве и свободе человека. Париж, 1939, с. 190.
9
ходит потому, что посредством любви мы утверждаем
безусловное значение другой индивидуальности.
Любовь—это полное изживание эгоизма, «перестановка
центра нашей жизни», «перенос нашего интереса из себя
в другое». В этом заключается огромная нравственная
сила любви, упраздняющая эгоизм и возрождающая
личность в новом, нравственном качестве.
Причем главной силой, способной устранить
врожденный человеку эгоизм, является именно половая любовь,
потому что именно она сохраняет равенство между
любимым и любящим. Все остальные типы и виды любви, так
или иначе, основываются на известном неравенстве
между любящим и объектом его любви.
Признавая важность плоти, половой любви, Соловьев
говорит о необходимости просветления и одухотворения
плоти. Физическая сторона в любви важна, но она не
является главной целью. Истинная любовь бывает и без
физического соединения, и физическое соединение бывает
без всякой любви. Иными словами, если физиология
становится целью, то она губит любовь.
Следует отметить, что Соловьев видел в любви два
начала: природное и идеальное, и поэтому процесс любви
включает в себя как восхождение, так и нисхождение, или,
говоря словами Платона, Афродиту небесную и
Афродиту земную. Но в конечном счете в любви, по мнению
Соловьева, возрождается образ Божий, то идеальное начало,
которое связано с образом вечной Женственности.
Воплощение в индивидуальной жизни этого начала создает те
проблески неизмеримого блаженства, то «веяние
нездешней радости», которое знакомо каждому человеку,
испытавшему когда-либо любовь.
Но любовь у Соловьева—это не только
воссоединение противоположных человеческих половин, в духе
платоновской философии, но и слияние с мировой душой,
которая, в духе средневековой мистики, ассоциируется у
него с образом вечной Женственности, с Софией.
Нельзя не видеть, что в основе философского учения
Соловьева лежит платонизм, правда глубоко и
оригинально переосмысленный и сочетающийся с принципами
христианской этики.
Конечно, учение Соловьева об Эросе имеет корни
в европейской культуре и философии. Но как и все,
написанное им, оно было оригинальным и органично связано
с русской культурой. Например, у Достоевского, памяти
10
которого он посвятил несколько речей, он заимствовал
мысль о единстве добра и красоты, придав
принципиально философский характер высказанной писателем мысли
о том, что «красота спасет мир» (у Соловьева—«любовь
спасет мир»).
То, что было начато Соловьевым, продолжил и развил
Николай Бердяев, для которого теория любви также
стала центральной темой его философии.
Признавая огромное влияние пола на духовную жизнь
человека, Бердяев полагает даже, что пол является
основой всякой религии. «Настоящая религия, мистическая
жизнь всегда оргиастична, а оргиазм, могучая сила
жизни, связан с половой полярностью. Половая полярность
есть основной закон жизни и, может быть, основа мира.
Это лучше понимали древние, а мы отвратительно
бессильны и вырождаемся все больше и больше» *.
В последующем эти мысли будут систематически
развиты Бердяевым в его теоретических работах,
посвященных философии любви. В 1907 году в журнале «Перевал»
появляется его большая статья «Метафизика пола и
любви», которая, по его словам, является главой из книги,
представляющей «опыт религиозной философии
общественности».
Проблемы любви и пола занимают значительное
место и в книге Бердяева «Смысл творчества» (1916). Здесь
появляются две новые темы, ставшие в дальнейшем
лейтмотивами творчества Бердяева: 1) эротическая энергия
представляет собой вечный источник творчества
(поэтому-то творчество нельзя понять без понимания природы
любви), 2) эротика связана с красотой, Эрос означает
поиски и путь к прекрасному.
Свою философию Эроса Бердяев связывал с русской
литературой, в особенности с творчеством Достоевского.
В книге «Миросозерцание Достоевского» (1923) он
говорит, что темой жгучей и страстной любви проникнуто все
творчество Достоевского.
Достоевский, по Бердяеву, описывает два типа любви,
столь свойственные русскому характеру: любовь-
сладострастие и любовь-жалость. Герои Достоевского
любят либо из сладострастия, либо из жалости. Оба эти
чувства важны в любви, составляют два ее полюса. Но
* Бердяев Н. Письмо будущей жене Л.Ю. Рапп.—«Память».
Исторический сборник. Вып. 4, Париж, 1981, с. 241.
11
особенно детально и психологически точно в романах
Достоевского описано сладострастие. Царство
карамазовщины, считает Бердяев, есть царство сладострастия.
Когда сладострастие становится целью, оно приводит к
разврату, а тот в свою очередь — к разрушению личности.
Любовь—это всегда путь к другому, поиски «себя
другого», разврат же означает невозможность выхода из
замкнутости в себе, из ложного самоутверждения. Такой тип
любви демонстрирует Федор Павлович Карамазов.
Любопытно отметить, что в этой интерпретации
карамазовщины как проявления любви-сладострастия
Бердяев смыкается с другим исследователем творчества
Достоевского, Львом Карсавиным. В 1921 году Карсавин
публикует статью «Федор Павлович Карамазов как идеолог
любви», в которой говорит о двух типах любви в романе
«Братья Карамазовы». Это совпадение взглядов на
творчество Достоевского у Бердяева и Карсавина
поразительно, оно выражает свойственный писателю дух Эроса,
которым проникнуты его произведения.
В 1922 году Карсавин написал оригинальный
философский трактат «Noctes Petropolitanae» («Петербургские
ночи»), целиком посвященный анализу философской,
нравственной и эстетической сущности любви, в основе
истолкования которой лежит диалектическая идея—о
«двуединстве» любви, о слиянии любви и любящего.
Диалектическая природа любви проявляется и в том,
полагает философ, что она представляет собой двуединство
жизни и смерти, свободной личности и абсолютного
бытия.
Таким образом, Карсавин определяет любовь
пантеистически, как всевластную, неодолимую, живую стихию.
В любви человек находит самого себя, свою личность.
В ней возрождается единая, истинная индивидуальность,
которой не существует в животном мире.
Идеал любви, который выдвигает Карсавин,
предполагает «двуединство» тела и духа, наслаждения и
разумного ограничения, разума и чувства, мужественности
и женственности.
Вместе с Карсавиным представителем философско-
платонического направления в русской теории любви был
Борис Вышеславцев. Большой специалист по немецкой
классической философии, автор книги об этике Фихте*,
* См.: Вышеславцев Б. Этика Фихте. М., 1914.
12
Вышеславцев задался целью сопоставить традицию
христианского платонизма, идущую от Соловьева и
Бердяева, с данными современной психологии, и прежде всего
с современной психологической школой. С этой целью он
пишет книгу «Этика преображенного Эроса» (1931),
дающую широкую панораму этических проблем, идущих еще
от возникновения христианства.
Главное содержание книги Вышеславцева—полемика
с психоанализом Фрейда. Вышеславцев признает за
Фрейдом заслугу в том, что он обнаруживает в основе самых
возвышенных форм человеческого сознания, таких, как
религия и искусство, подсознательные сексуальные
инстинкты. Но Фрейд не смог постичь истинный смысл
понятия «сублимация», заключающийся в возведении
низшего к высшему, а не в сведении высшего к низшему, по
Фрейду. Поэтому в системе идей Фрейда сублимация
вообще невозможна. Для Фрейда всякая возвышенная,
«сублимированная» форма иллюзорна: индивидуальная
любовь есть иллюзия; религия, нравственность и красота
тоже иллюзорны, так как представляют собой
подавленную сексуальность. Вышеславцев противопоставляет
Фрейду платоническое и христианское понимание
сублимации.
Как и Бердяев, Вышеславцев обращается к творчеству
Достоевского. В статье «Достоевский о любви и
бессмертии» он дает комментарий к сделанным после смерти
первой жены записным книжкам Достоевского. По мнению
Вышеславцева, Достоевский в своих размышлениях
о смерти, бессмертии, идеале христианской любви
предвидел многое из того, что позднее стало предметом
русской философской мысли, в особенности у Вл. Соловьева.
Мы видим, таким образом, что литература
«серебряного века» открывала для себя мир идей и образов
Достоевского и в этом мире Эрос занимал существенное
место.
Большое внимание теории любви уделяла поэт и
художественный критик Зинаида Гиппиус, написавшая на эту
тему серию статей: «Влюбленность» (1904), «О любви»
(1925), «Арифметика любви» (1931), «Черты любви»
(1928), «Искусство и любовь» (1953).
Быть может, в теоретическом отношении статьи
Гиппиус, основанные во многом на изложении теорий любви
Отто Вейнингера, Василия Розанова или Владимира
Соловьева, не слишком оригинальны. Причем последний
13
оказал на нее наибольшее влияние, и от него она
заимствовала три основных, по ее мнению, принципа любви:
андрогинизм (то есть совмещение в одной личности
мужского и женского начал), духовно-телесность и богочело-
вечность любви.
Гораздо более ценное в статьях Гиппиус—анализ
феномена любви в творчестве разных писателей, как
русских, так и зарубежных: Гоголя, Л. Толстого, Бунина,
Ибсена, Пруста, Достоевского. Особенно интересно
сопоставление Гиппиус трех литературных произведений:
«Страдания молодого Вертера» Гёте, «Митина любовь»
Бунина и «Габи, моя любовь» французского писателя Де-
ренна.
Соловьев, Карсавин, Вышеславцев и Гиппиус
представляли собой единую линию в русской философии
любви, связанную с обоснованием идеи неоплатонического
Эроса, попытками просветления и возвышения
чувственности, с защитой индивидуальной, личной любви, с
отрицанием аскетизма и пониманием связи Эроса и творчества.
Другая линия в этой
философии—ортодоксально-богословское направление, представленное именами П.
Флоренского, С. Булгакова, И. Ильина. Они ориентировались не
на античную теорию Эроса, а на средневековый «каритас»
и связанный с ним комплекс идей христианской этики,
относящийся к семье, браку.
Зачинателем этого направления был П. Флоренский,
один из крупнейших русских ученых и теологов начала
столетия. В своем сочинении «Столп и Утверждение
Истины» (1908) Флоренский рассматривает любовь как
способ познания божественной сущности. «Любовь,—
говорит Флоренский,—с такой же необходимостью
следует из познания Бога, как свет лучится от светильника и
с какою ночное благоухание струится из раскрывающейся
чашечки цветка» *.
Любовь, говорит Флоренский, всегда связана с
истиной. Но истину он понимает не в субъективно-
психологическом, а в объективно-метафизическом
смысле. Толстовская любовь, любовь к ближнему сюда никак
не подходит. Любовь всегда—вхождение в Бога.
Таким образом, у Флоренского любовь—не
столько индивидуальный, личностный акт, сколько родовой
* Флоренский П. Столп и Утверждение Истины. М., 1914,
с. 88.
14
процесс, процесс слияния всех любящих с божественной
сущностью. Это было выводом, итогом из христианского
учения о любви.
Линию Флоренского продолжил и развил другой
религиозный мыслитель—Сергей Булгаков. В своей книге
«Свет Невечерний» (1917) он посвящает специальную
главу вопросам о поле. Главное ее содержание связано
с комментированием библейских текстов, возрождением
представлений, согласно которым пол—греховное
начало в человеческой природе. «Жизнь пола,—пишет
Булгаков,—в фактическом ее состоянии имеет печать
трагической безысходности и антиномической боли (что и
символизируется в трагедии любви—смерти: «Ромео и
Джульетта», «Тристан и Изольда»)» *.
С этих позиций Булгаков резко выступает против
теории любви, развиваемой в русле философско-
платонической традиции Соловьевым, Бердяевым, 3.
Гиппиус. Соловьева он называет главным идеологом
«третьего пола», считая, что он и его последователи проповедуют
«духовное донжуанство», «гетеризм», которые стремятся
не к победе над сексуальностью, что, по мнению
Булгакова, должно быть главной целью истинного христианства,
а лишь к ее эстетизации. По его словам, философия любви
Соловьева прославляет «красивое уродство, которое
легко превращается в извращенность»; проповедь Эроса
вместо семейной любви—это дань артистизму,
свойственному художникам, людям с гипертрофированным
развитием психики.
Булгаков подверг критике и учение Соловьева о
Софии, находя, что оно носит слишком личный, интимный,
эротический характер. Анализируя поэзию Соловьева, он
не без иронии описывает идеал «вечно Женственного»
начала, постоянно присутстствующий в стихах философа,
его двусмысленность, обращенность одновременно к
земле и небу, что дало повод писательнице Анне Шмидт
объявить себя прообразом «вечной подруги» Соловьева * *.
Не менее критичен Булгаков и по отношению к В.
Розанову, которого он называет «экспериментатором
половой вивисекции», представителем некоего мистического
атавизма. По его мнению, Розанов мистифицирует биоло-
* Булгаков С. Свет Невечерний. М., 1914, с. 296.
** См.: Булгаков С. Владимир Соловьев и Анна Шмидт.— В
Кн-: Тихие думы. Из статей 1911—1915 гг. М., 1918, с. 94—98.
15
гию, или биологизирует мистику, он хорошо знает пол
тела, но «плохо различает пол души и брачность духа». Он
упрекает Розанова в беззастенчивости, наивном
бесстыдстве и самообнажении.
Действительный идеал простоты и чистоты человека
для Булгакова находится в средневековой аскетике, в
подвигах аскетов, которые боролись с грехом плоти и
показывали замечательные примеры воздержания.
В основе неприятия Булгаковым философской
концепции любви Вл. Соловьева и Н. Бердяева лежит не только
различие в понимании нравственной природы человека,
но и более глубокие, философские различия. Булгаков
полемизирует с идеей, что зло в природе человека может
быть радикально устранено. Этой либеральной идее
Булгаков противопоставляет традиционный тезис философии
консерватизма, утверждающий, что зло принципиально
неустранимо, ибо оно предопределено не только
обществом, но и природой, космосом. Поэтому концепция
христианской любви, которую обосновывает Булгаков,
категорически исключает положительное развитие
личности—она может быть лишь страданием, жалостью,
терпением.
К числу русских религиозных философов относится
и Иван Ильин, автор многих работ, посвященных
философии, праву, религии и культуре.
В любви он видел главный источник духовного
обновления, возрождения духовной культуры. Об этом он с
предельной отчетливостью писал в письме к сыну: «Да, в
людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного
акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из
политики и воспитания. И вследствие этого современное
человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей
глубине и размаху... Нельзя нам без любви. Без нее мы
обречены со всей нашей культурой. В ней наша надежда
и спасение»*.
Хотя И. А. Ильин прямо и не ссылается на своих
предшественников, очевидно, что в своей философии любви он
примыкает к традиции П. Флоренского. Довольно
подробно он развивает свою концепцию любви в книге «Путь
духовного обновления» (1935).
В русской религиозной философии XIX века мы обна-
* Ильин И. А. Без любви. (Письмо ж сыну.)—В кн.: Поющее
сердце. Книга тихих созерцаний. Мюнхен, 1958, с. 11.
16
руживаем две линии, два противостоящих друг другу
направления в развитии философии любви. Одно, идущее от
Соловьева, и другое—от Флоренского. Первое
возрождало и переосмысливало античную и основанную на ней
гуманистическую, в основе своей неоплатоническую
концепцию любви, любви-Эроса; второе—средневековое
христианское понимание любви как caritas—сострадания,
милосердия, жалости. Противостояние двух направлений
предстает в русской философии этого времени, и между
ними происходит, как мы видели, довольно острая
полемика.
Пожалуй, было бы логичным предположить, что оба
эти направления должны были хотя бы по закону
притяжения и отталкивания как-то сойтись друг с другом,
создать какой-то новый философский синтез. Но этого не
происходит. Только в последних работах Н. Бердяева мы
находим попытку к этому синтезу, желание соединить
любовь-Эрос с каритативной любовью,
любовью-состраданием. «Если любовь-Эрос не соединяется с любовью-
жалостью, то результаты ее бывают истребительные и
мучительные. В Эросе самом по себе есть жестокость,
он должен смиряться жалостью. Эрос может соединяться
с агапэ» *. Однако у Бердяева и у других представителей
русской религиозной мысли этот синтез хотя и наметился,
но на самом деле не осуществился. Он остался в форме
предвидения, предощущения. Но процесс отталкивания
возобладал над процессом притяжения. Очевидно,
слишком короткий период существования русской
религиозной школы, чрезвычайно тяжелые условия ее развития не
дали возможности осуществления, казалось бы,
естественного синтеза, так что в области философии любви
мы видим только параллельные линии, не
пересекающиеся в обозримом историческом пространстве.
Подводя итог, следует отметить, что русская
литература «серебряного века», публицистика и литературная
критика постоянно обращались к теме любви, настойчиво
пытаясь понять ее философский и нравственный смысл, ее
связь с явлениями мировой и отечественной культуры.
В этой традиции Эрос понимался широко и многозначно,
прежде всего как путь к творчеству, к поискам
духовности, к нравственному совершенствованию и моральной
* Бердяев Н. Самопознание. Париж, 1949, с. 87.
17
отзывчивости. Концепция Эроса предполагает единство
философии и искусства, и поэтому она так тесно связана
с миром литературных образов.
Русский Эрос не стоит в стороне от традиции
европейской и мировой культуры, однако многое в работах
русских философов не имеет аналога в западноевропейской
мысли. Очевидно, что вклад русской культуры в мировую
традицию, связанную с попытками познания любви,
должен быть внимательно оценен и изучен. Эту цель и
преследует издание настоящей книги.
Вячеслав Жестокое
ка у растении, партеногенез у высших насекомых), а во-
вторых, оставляя это в стороне и принимая как общее
правило, что высшие организмы размножаются при
посредстве полового соединения, мы должны заключить, что
половой фактор связан не с размножением вообще
(которое может происходить и помимо этого), а с
размножением высших организмов. Следовательно, смысл половой
дифференциации (и половой любви) следует искать никак
не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее
высшего организма.
Разительное этому подтверждение мы находим в
следующем великом факте. В пределах живых,
размножающихся исключительно половым образом (отдел
позвоночных), чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов,
тем сила размножения становится меньше, а сила
полового влечения, напротив, больше. В низшем классе этого
отдела —у рыб—размножение происходит в огромных
размерах: зародыши, порождаемые ежегодно каждой
самкой, считаются миллионами; эти зародыши
оплодотворяются самцом вне тела самки, и способ, каким это
делается, не позволяет предполагать сильного полового
влечения. Изо всех позвоночных животных этот
хладнокровный класс, несомненно, более всех размножается
и менее всех обнаруживает любовную страсть. На
следующей ступени—у земноводных и
гадов—размножение гораздо менее значительно, чем у рыб, хотя по
некоторым своим видам этот класс не без основания
относится Библией к числу существ, кишмя кишащих (ше-
рец ширцу) *; но при меньшем размножении мы уже
находим у этих животных более тесные половые отношения...
У птиц сила размножения гораздо меньше не только
сравнительно с рыбами, но и сравнительно, например, с
лягушками, а половое влечение и взаимная привязанность
между самцом и самкой достигают небывалого в двух
низших классах развития. У млекопитающих—они же
живородящие—размножение значительно слабее, чем у птиц,
а половое влечение хотя у большинства менее постоянно,
но зато гораздо интенсивнее. Наконец, у человека
сравнительно со всем животным царством размножение
совершается в наименьших размерах, а половая любовь
достигает наибольшего значения и высочайшей силы, соединяя
в превосходной степени постоянство отношения (как
* Быт. 1,20.
20
у птиц) и напряженность страсти (как у млекопитающих).
Итак, половая любовь и размножение рода находятся
между собой в обратном отношении: чем сильнее одно, тем
слабее другая.
Вообще все животное царство с рассматриваемой
стороны развивается в следующем порядке. Внизу огромная
сила размножения при полном отсутствии чего-нибудь
похожего на половую любовь (за отсутствием самого
деления на полы); далее, у более совершенных организмов
появляется половая дифференциация и соответственно ей
некоторое половое влечение—сначала крайне слабое,
затем оно постепенно увеличивается на дальнейших
степенях органического развития, по мере того как убывает
сила размножения (т.е. в прямом отношении к
совершенству организации и в обратном отношении к силе
размножения), пока, наконец, на самом верху—у человека—
является возможной сильнейшая половая любовь, даже
с полным ислючением размножения. Но если, таким
образом, на двух концах животной жизни мы находим,
с одной стороны, размножение без всякой половой
любви, а с другой стороны, половую любовь без всякого
размножения, то совершенно ясно, что эти два явления не
могут быть поставлены в неразрывную связь друг с
другом,—ясно, что каждое из них имеет свое
самостоятельное значение и что смысл одного не может состоять в том,
чтобы быть средством другого. То же самое выходит,
если рассматривать половую любовь исключительно
в мире человеческом, где она несравненно более, чем в
мире животном, принимает тот индивидуальный характер,
в силу которого именно это лицо другого пола имеет для
любящего безусловное значение как единственное и
незаменимое, как цель сама в себе.
II
Тут мы встречаемся с популярной теорией *, которая,
признавая вообще половую любовь за средство родового
инстинкта, или за орудие размножения, пытается, в
частности, объяснить индивидуализацию любовного чувства
У человека как некоторую хитрость или обольщение,
употребляемое природой или мировой волей для достижения
* Имеется в виду философия Шопенгауэра, ставшая очень
влиятельной в России начиная с 60-х годов прошлого века.
21
ее особых целей. В мире человеческом, где
индивидуальные особенности получают гораздо больше значения,
нежели в животном и растительном царстве, природа
(иначе—мировая воля, воля в жизни,
иначе—бессознательный или сверхсознательный мировой дух)
имеет в виду не только сохранение рода, но и
осуществление в его пределах множества возможных частных или
видовых типов и индивидуальных характеров. Но кроме
этой общей цели—проявления возможно полного
разнообразия форм,—жизнь человечества, понимаемая как
исторический процесс, имеет задачей возвышение и
усовершенствование человеческой природы. Для этого
требуется не только чтобы было как можно больше
различных образчиков человечества, но чтобы являлись на свет
лучшие его образчики, которые ценны не только сами по
себе, как индивидуальные типы, но и по своему
возвышающему и улучшающему действию на прочих. Итак,
при размножении человеческого рода та сила,—как бы
мы ее ни называли,—которая двигает мировым и
историческим процессом, заинтересована не в том только, чтобы
непрерывно нарождались человеческие особи по роду
своему, но и в том, чтобы нарождались эти определенные
и по возможности значительные индивидуальности. А для
этого недостаточно простого размножения путем
случайного и безразличного соединения особей разного пола:
для шитввдуальпо-определенного произведения
необходимо сочетание нндатщуальио-определенных
производителей, а следовательно, недостаточным является и общее
половое влечение, служащее воспроизведению рода у
животных. Так как в человечестве дело идет не только о
произведении потомства вообще, но и о произведении этого
наиболее пригодного для мировых целей потомства и так
как данное лицо может произвести это требуемое
потомство не со всяким лицом другого пола, а лишь с одним
определенным, то это одно и должно иметь для него
особую притягательную силу, казаться ему чем-то
исключительным, незаменимым, единственным и способным дать
высшее блаженство. Вот это-то и есть та
индивидуализация и экзальтация полового инстинкта, которою
человеческая любовь отличается от животной, но которая, как
и та, возбуждается в нас чуждою, хоть, может быть,
и высшею силою для ее собственных, посторонних
нашему личному сознанию целей,— возбуждается как ирра-
22
циональная роковая страсть, овладевающая нами и
исчезающая, как мираж, по миновании в ней надобности*.
Если б эта теория была верна, если б индивидуализация
и экзальтация любовного чувства имели весь свой смысл,
свою единственную причину и цель вне этого чувства,
именно в требуемых (для мировых целей) свойствах
потомства, то отсюда логически следовало бы, что степень
этой любовной индивидуализации и экзальтации, или
сила любви, находится в прямом отношении со степенью
типичности и значительности происходящего от нее
потомства: чем важнее потомство, тем сильнее должна бы
быть любовь родителей, и, обратно, чем сильнее любовь,
связывающая двух данных лиц, тем более замечательного
потомства должны бы мы были ожидать от них по этой
теории. Если вообще любовное чувство возбуждается
мировой волей ради требуемого потомства и есть только
средство для его произведения, то понятно, что в каждом
данном случае сила средства, употребляемого
космическим двигателем, должна быть соразмерна с важностью
для него достигаемой цели. Чем более мировая воля
заинтересована в имеющем явиться на свет произведении, тем
сильнее должна она притянуть друг к другу и связать
между собой двух необходимых производителей. Положим,
дело идет о рождении мирового гения, имеющего
огромное значение в историческом процессе. Управляющая
этим процессом высшая сила, очевидно, во столько раз
более заинтересована этим рождением сравнительно с
прочими, во сколько этот мировой гений есть явление более
редкое сравнительно с обыкновенными смертными, и,
следовательно, настолько же должно быть сильнее
обыкновенного то половое влечение, которым мировая воля
(по этой теории) обеспечивает себе в этом случае
достижение столь важной для нее цели. Конечно, защитники
теории могут отвергать мысль о точном количественном
отношении между важностью данного лица и силой страсти
его родителей, так как эти предметы точного измерения
не допускают; но совершенно бесспорно (с точки зрения
этой теории), что, если мировая воля чрезвычайно заинте-
* Я изложил общую сущность отвергаемого мною взгляда, не
останавливаясь на второстепенных видоизменениях, которые он
представляет у Шопенгауэра, Гартмана и др. В недавно вышедшей брошюре
«Основной двигатель наследственности» (М., 1891) Вальтер пытается
историческими фактами доказать, что великие люди являются плодом
сильной взаимной любви.
23
ресована в рождении какого-нибудь человека, она должна
принять чрезвычайные меры для обеспечения желанного
результата, т.е., по смыслу теории, должна возбудить
в родителях чрезвычайно сильную страсть, способную
сокрушить все препятствия к их соединению.
В действительности, однако, мы не находим ничего
подобного—никакого соотношения между силой любовной
страсти и значением потомства. Прежде всего мы
встречаем совершенно необъяснимый для этой теории факт,
что самая сильная любовь весьма часто бывает неразде-
ленною и не только великого, но и вовсе никакого
потомства не производит. Если вследствие такой любви люди
постригаются в монахи или кончают самоубийством, то
из-за чего же тут хлопотала заинтересованная в
потомстве мировая воля? Но если бы даже пламенный Вертер *
и не убил себя, то все-таки его несчастная страсть остается
необъяснимой загадкой для теории квалифицированного
потомства. Чрезвычайно индивидуализированная и
экзальтированная любовь Вертера к Шарлотте показывала
(с точки зрения этой теории), что именно с Шарлоттой он
должен был произвести особенно важное и нужное для
человечества потомство, ради которого мировая воля и
возбудила в нем эту необыкновенную страсть. Но как же эта
всеведущая и всемогущая воля не догадалась или не
смогла подействовать в желанном смысле и на Шарлотту, без
участия которой страсть Вертера была вполне бесцельной
и ненужной? Для телеологически действующей
субстанции love's labour lost ** есть совершенная нелепость.
Особенно сильная любовь большей частью бывает
несчастна, а несчастная любовь весьма обыкновенно ведет
к самоубийству в той или другой форме; и каждое из этих
многочисленных самоубийств от несчастной любви явно
опровергает ту теорию, по которой сильная любовь
только затем и возбуждается, чтобы во что бы то ни стало
произвести требуемое потомство, которого важность
знаменуется силой этой любви, тогда как на самом деле во
всех этих случаях сила любви именно исключает самую
возможность не только важного, но и какого бы то ни
было потомства.
* Здесь и далее поясняю свое рассуждение примерами
преимущественно из великих произведений поэзии. Они предпочтительнее
примеров из действительной жизни, так как представляют не отдельные
явления, а целые типы.
** Бесплодные усилия любви (англ.).
24
Случаи неразделенной любви слишком обычны, чтобы
видеть в них только исключение, которое можно оставить
без внимания. Да если бы и так, это мало помогло бы
делу, ибо и в тех случаях, где особенно сильно любовь
является с обеих сторон, она не приводит к тому, что
требуется теорией. По теории, Ромео и Джульетта должны
были бы соответственно своей великой взаимной страсти
породить какого-нибудь очень великого человека, по
крайней мере Шекспира, но на самом деле, как известно,
наоборот: не они создали Шекспира, как следовало бы по
теории, а он их, и при этом без всякой страсти—путем
бесполого творчества. Ромео и Джульетта, как и
большинство страстных любовников, умерли, не породив
никого, а породивший их Шекспир, как и прочие великие
люди, родился не от безумной влюбленной пары, а от
заурядного житейского брака (и сам он хотя испытывал
сильную любовную страсть, как видно, между прочим, из его
сонетов, но никакого замечательного потомства отсюда не
произошло). Рождение Христофора Колумба было,
может быть, для мировой воли еще важнее, чем рождение
Шекспира; но о какой-нибудь особенной любви у его
родителей мы ничего не знаем, а знаем о его собственной
сильной страсти к донне Беатрисе Энрикэс, и хотя он имел
от нее незаконнорожденного сына Диэго, но этот сын
ничего великого не сделал, а написал только биографию
своего отца, что мог бы исполнить и всякий другой.
Если весь смысл любви в потомстве и высшая сила
управляет любовными делами, то почему же вместо того,
чтобы стараться о соединении любящих, она, напротив,
как будто нарочно препятствует этому соединению, как
будто ее задача именно в том, чтобы во что бы то ни
стало отнять самую возможность потомства у истинных
любовников: она заставляет их по роковому недоразумению
закалываться в склепах, топит их в Геллеспонте и всякими
Другими способами доводит их до безвременной и
бездетной кончины. А в тех редких случаях, когда сильная
любовь не принимает трагического оборота, когда
влюбленная пара счастливо доживает до старости, она все-таки
остается бесплодной. Верное поэтическое чутье
действительности заставило и Овидия и Гоголя лишить потомства
Филимона и Бавкиду, Афанасия Ивановича и Пульхерию
Ивановну.
Невозможно признать прямого соответствия между
силой индивидуальной любви и значением потомства,
25
когда самое существование потомства при такой любви
есть лишь редкая случайность. Как мы видели, 1) сильная
любовь весьма обыкновенно остается неразделенной;
2) при взаимности сильная страсть приводит к
трагическому концу, не доходя до произведения потомства;
3) счастливая любовь, если она очень сильна, также
остается обыкновенно бесплодной. А в тех редких
случаях, когда необычайно сильная любовь производит
потомство, оно оказывается самым заурядным.
Как общее правило, из которого почти нет
исключений, можно установить, что особая интенсивность
половой любви или вовсе не допускает потомства, или
допускает только такое, которого значение нисколько не
соответствует напряженности любовного чувства и
исключительному характеру порождаемых им отношений.
Видеть смысл половой любви в целесообразности
деторождения—значит признавать этот смысл только там,
где самой любви вовсе нет, а где она есть, отнимать у нее
всякий смысл и всякое оправдание. Эта мнимая теория
любви, сопоставленная с действительностью,
оказывается не объяснением, а отказом от всякого объяснения.
III
Управляющая жизнью человеческая сила, которую
одни называют мировой волей, другие—бессознательным
духом и которая на самом деле есть Промысл Божий,
несомненно, распоряжается своевременным порождением
необходимым для ее целей провиденциальных людей,
устраивая в длинных рядах поколений должные сочетания
производителей ввиду будущих, не только ближайших, но
и отдаленнейших, произведений. Для этого
провиденциального подбора производителей употребляются самые
разнообразные средства, но любовь в собственном
смысле, т. е. исключительно индивидуализированное и
экзальтированное половое влечение, не принадлежит к числу
этих средств. Библейская история с ее истинным глубоким
реализмом, не исключающим, а воплощающим
идеальный смысл фактов в их эмпирических подробностях,—
библейская история дает свидетельство в этом случае, как
и всегда, правдивое и поучительное для всякого человека
с историческим и художественным смыслом, независимо
от религиозных верований.
Центральный факт библейской истории, рождение
26
Мессии, более всякого другого предполагает
провиденциальный план в выборе и соединении преемственных
производителей, и действительно, главный интерес
библейских рассказов сосредоточивается на разнообразных
и удивительных судьбах, которыми устраивались
рождения и сочетания «богоотцев» *. Но во всей этой сложной
системе средств, определивших в порядке исторических
явлений рождение Мессии, для любви в собственном
смысле не было места; она, конечно, встречается в Библии, но
лишь как факт самостоятельный, а не как орудие христо-
гонического процесса.—Священная книга не говорит,
женился ли Авраам на Саре в силу пламенной любви **, но,
во всяком случае, Провидение ждало, когда эта любовь
совершенно остынет, чтобы от столетних родителей
произвести дитя веры, а не любви. Исаак женился на Ревекке
пе по любви, а по заранее составленному решению и
плану своего отца. Иаков любил Рахиль, но эта любовь
оказывается ненужной для происхождения Мессии. Он
должен произойти от сына Иакова—Иуды, который
рождается не Рахилью, а нелюбимою мужем Лией. Для
произведения в данном поколении предка Мессии необходимо
было соединение Иакова именно с Лией; но чтобы
достигнуть этого соединения, Провидение не возбуждает в
Иакове сильной любовной страсти к будущей матери «бого-
родителя»—Иуды; не нарушая свободы сердечного
чувства, высшая сила оставляет его любить Рахиль, а для
необходимого соединения его с Лией пользуется средством
совсем иного рода: своекорыстною хитростью третьего
лица—преданного своим семейным и экономическим
интересам Лавана. Сам Иуда для произведения дальнейших
предков Мессии должен, помимо своего прежнего
потомства, на старость лет соединиться с невесткой своей
Тамарой. Так как подобное соединение вовсе не было в порядке
вещей и не могло бы произойти при обыкновенных
условиях, то цель достигается посредством крайне странного
приключения, весьма соблазнительного для
поверхностных читателей Библии. Ни о какой любви в этом
приключении не может быть и речи.—Не любовь соединяет
иерихонскую блудницу Рахаб с пришельцем евреем; она снача-
* Так называются на церковном языке преимущественно св.
Иоахим и Анна, но и прочие предки Богоматери носят иногда у церковных
писателей это название.
* * По-видимому, это исключается известным приключением в
Египте, которое при сильной любви было бы психологически невозможно.
27
ла отдается ему по своей профессии, а потом случайная
связь скрепляется ее верой в силу нового Бога и желанием
его покровительства для себя и своих. Не любовь
сочетала Давидова прадеда, старика Бооза, с молодою моави-
тянкою Руфью, и не от настоящей глубокой любви, а
только от случайной греховной прихоти стареющего
владыки родился Соломон.
В священной истории, так же как и в общей, половая
любовь не является средством или орудием исторических
целей; она не служит человеческому роду. Поэтому когда
субъективное чувство говорит нам, что любовь есть
самостоятельное благо, что она имеет собственно
безотносительную ценность для нашей личной жизни, то этому
чувству соответствует и в объективной действительности тот
факт, что сильная индивидуальная любовь никогда не
бывает служебным орудием родовых целей, которые
достигаются помимо нее. В общей, как и в священной, истории
половая любовь (в собственном смысле) никакой роли не
играет и прямого действия на исторический процесс не
оказывает: ее положительное значение должно
корениться в индивидуальной жизни.
Какой же смысл она имеет здесь?
Статья вторая
I
И у животных, и у человека половая любовь есть
высший расцвет индивидуальной жизни. Но так как у
животных родовая жизнь решительно перевешивает
индивидуальную, то и высшее напряжение этой последней идет лишь
на пользу родовому процессу. Не то чтобы половое
влечение было лишь средством для простого воспроизведения
или размножения организмов, но оно служит для
произведения организмов более совершенных с помощью
полового соперничества и подбора. Такое же значение
старались приписать половой любви и в мире человеческом,
но, как мы видели, совершенно напрасно. Ибо в
человечестве индивидуальность имеет самостоятельное значение
и не может быть в своем сильнейшем выражении лишь
орудием внешних ей целей исторического процесса. Или,
лучше сказать, истинная цель исторического процесса не
такого рода, чтобы человеческая личность могла служить
28
для нее лишь страдательным и преходящим орудием.
Убеждение в безотносительном достоинстве человека
основано не на самомнении, а также и не на том
эмпирическом факте, что мы не знаем другого, более
совершенного существа в порядке природы. Безотносительное
достоинство человека состоит в несомненно присущей ему
абсолютной форме (образе) разумного сознания.
Сознавая, как и животное, пережитые и переживаемые им
состояния, усматривая между ними ту или другую связь и на
основании этой связи предваряя умом состояние будущее,
человек, сверх того, имеет способность оценивать свои
состояния, и действия, и всякие факты вообще не только
по отношению их.к другим единичным фактам, но и
к всеобщим идеальным нормам; его сознание сверх
явлений жизни определяется еще разумом истины. Сообразуя
свои действия с этим высшим сознанием, человек может
бесконечно совершенствовать свою жизнь и природу, не
выходя из пределов человеческой формы. Поэтому-то он
и есть высшее Существо природного мира и
действительный конец мироздательного процесса; ибо, помимо
Существа, которое само есть вечная и абсолютная истина
между всякими другими, то, которое способно познавать
и осуществлять в себе истину, есть высшее—не в
относительном, а в безусловном смысле. Какое разумное
основание можно придумать для создания новых, по существу
более совершенных форм, когда есть уже форма,
способная к бесконечному самоусовершенствованию, могущая
вместить всю полноту абсолютного содержания? С
появлением такой формы дальнейший прогресс может
состоять только в новых степенях ее собственного развития,
а не в смене ее какими-нибудь созданиями другого рода,
другими, небывалыми формами бытия. В этом
существенное отличие между космогоническим и
историческим процессом. Первый создает (до появления человека)
все новые и новые роды существ, причем прежние частию
истребляются, как неудачные опыты, частию же вместе с
новым внешним образом сосуществуют и случайно
сталкиваются между собой, не образуя никакого действителъно-
го единства вследствие отсутствия в них общего сознания,
которое связывало бы их между собой и с космическим
прошлым. Такое общее сознание является в человечестве.
В мире животном преемство высших форм от низших,
при всей своей правильности и целесообразности, есть
факт для них самих, безусловно, внешний и чуждый, вовсе
29
для них несуществующий: слон и обезьяна ничего не
могут знать о сложном процессе геологических и
биологических трансформаций, обусловившем их действительное
появление на земле; сравнительно высшая степень
развития частного и единичного сознания не означает здесь
никакого прогресса в общем сознании, которое также
безусловно отсутствует у этих умных животных, как и у
глупой устрицы; сложный мозг высшего млекопитающего
столь же мало служит для самоосвещения природы в ее
целости, как и зачаточные нервные узлы какого-нибудь
червя. В человечестве, напротив, через повышенное
индивидуальное сознание, религиозное и научное,
прогрессирует сознание всеобщее. Индивидуальный ум здесь есть не
только орган личной жизни, но также орган
воспоминания и гадания для всего человечества и даже для всей
природы. Тот еврей, который написал: вот книга рождения
неба и земли (элле тол'дот гашаммаим ве гаарец)—и
далее: вот книга рождения человека (зэ сэфер тол'дот гаадам),
выражал не только свое личное и народное сознание—
через него впервые просияла в мире истина всемирного
и всечеловеческого единства *. И все дальнейшие успехи
сознания состоят лишь в развитии и воплощении этой
истины, им незачем и нельзя выходить из этой
всеобъемлющей формы: что иное может сделать самая
совершенная астрономия и геология, как не восстановить вполне
генезис небес и земли; точно так же высшей задачей
исторического познания может быть только—восстановить
«книгу рожений человека», т. е. генетическую
преемственную связь в жизни человечества, и, наконец, наша
творческая деятельность не может иметь высшей цели, как
воплощать в ощутительных образах это изначала созданное
и провозглашенное единство небес, земли и человека. Вся
истина—положительное единство всего—изначала
заложена в живом сознании человека и постепенно
осуществляется в жизни человечества с сознательной
преемственностью (ибо истина, не помнящая родства, не есть
истина). Благодаря безграничной растяжимости и
неразрывности своего преемственного сознания человек,
оставаясь самим собой, может постигать и осуществлять всю
беспредельную полноту бытия, и потому никакие высшие
роды существ на смену ему не нужны и невозможны.
* Если скажут, что эти слова боговдохновенны, то это будет не
возражение, а только перевод моей мысли на теологический язык.
30
В пределах своей данной действительности человек есть
только часть природы, но он постоянно и
последовательно нарушает эти пределы; в своих духовных
порождениях—религии и науке, нравственности и художестве—
он обнаруживается как центр всеобщего сознания
природы, как душа мира, как осуществляющаяся потенция
абсолютного всеединства, и, следовательно, выше его
может быть только это самое абсолютное в своем
совершенном акте, или вечном бытии, т. е. Бог.
II
Преимущество человека перед прочими существами
природы—способность познавать и осуществлять
истину—не есть только родовая, но и индивидуальная:
каждый человек способен познавать и осуществлять истину,
каждый может стать живым отражением абсолютного
целого, сознательным и самостоятельным органом
всемирной жизни. И в остальной природе есть истина (или образ
Божий), но лишь в своей объективной общности,
неведомой для частных существ; она образует их и действует
в них и чрез них—как роковая сила, как неведомый им
самим закон их бытия, которому они подчиняются
невольно и бессознательно; для себя самих, в своем внутреннем
чувстве и сознании, они не могут подняться над своим
данным частичным существованием, они находят себя
только в своей особенности, в отдельности от всего,
следовательно, вне истины; а потому истина, или всеобщее,
может торжествовать здесь только в смене поколений, в
пребывании рода и в гибели индивидуальной жизни, не
вмещающей в себя истину. Человеческая же
индивидуальность именно потому, что она может вмещать в себя истину,
не упраздняется ею, а сохраняется и усиливается в ее
торжестве.
Но для того чтобы индивидуальное существо нашло
в истине—всеединстве—свое оправдание и утверждение,
недостаточно с его стороны одного сознания истины—
оно должно быть в истине, а первоначально и
непосредственно индивидуальный человек, как и животное, не есть
в истине: он находит себя как обособленную частицу
всемирного целого, и это свое частичное бытие он
утверждает в эгоизме как целое для себя, хочет быть всем в
отдельности от всего—вне истины. Эгоизм как реальное
основное начало индивидуальной жизни всю ее проникает
31
и направляет, все в ней конкретно определяет, а потому
его никак не может перевесить и упразднить одно
теоретическое сознание истины. Пока живая сила эгоизма не
встретится в человеке с другою живою силою, ей
противоположною, сознание истины есть только внешнее
освещение, отблеск чужого света. Если бы человек только в этом
смысле мог вмещать истину, то связь с нею его
индивидуальности не была бы внутреннею и неразрьганою; его
собственное существо, оставаясь, как животное, вне
истины, было бы, как оно, обречено (в своей субъективности)
на гибель, сохраняясь только как идея в мысли
абсолютного ума.
Истина, как живая сила, овладевающая внутренним
существом человека и действительно выводящая его из
ложного самоутверждения, называется любовью. Любовь,
как действительное упразднение эгоизма, есть
действительное оправданней спасение индивидуальности. Любовь
больше, чем разумное сознание, но без него она не могла
бы действовать как внутренняя спасительная сила,
возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Только
благодаря разумному сознанию (или, что то же, сознанию
истины) человек может различать самого себя, т.е. свою
истинную индивидуальность, от своего эгоизма, а
потому, жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь сам любви, он
находит в ней не только живую, но и животворящую силу
и не теряет вместе со своим эгоизмом и свое
индивидуальное существо, а, напротив, увековечивает его. В мире
животных вследствие отсутствия у них собственного
разумного сознания истина, реализующаяся в любви, не находя
в них внутренней точки опоры для своего действия, может
действовать лишь прямо, как внешняя для них роковая
сила, завладевающая ими как слепыми орудиями для
чуждых им мировых целей; здесь любовь является как
одностороннее торжество общего, родового над
индивидуальным, поскольку у животных их индивидуальность
совпадает с эгоизмом в непосредственности частичного бытия,
а потому и гибнет вместе с ним.
III
Смысл человеческой любви вообще есть оправдание
и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма. На
этом общем основании мы можем разрешить и
специальную нашу задачу: объяснить смысл половой любви. Неда-
32
ром же половые отношения не только называются
любовью, но и представляют, по общему признанию, любовь
по преимуществу, являясь типом и идеалом всякой другой
любви (см. «Песнь Песней», Апокалипсис).
Ложь и зло эгоизма состоят вовсе не в том, что этот
человек слишком высоко себя ценит, придает себе
безусловное значение и бесконечное достоинство: в этом он
прав, потому что всякий человеческий субъект как
самостоятельный центр живых сил, как потенция
(возможность) бесконечного совершенства, как существо, могущее
в сознании и в жизни своей вместить абсолютную
истину,—всякий человек в этом качестве имеет
безотносительное значение и достоинство, есть нечто, безусловно,
незаменимое и слишком высоко оценить себя не может (по
евангельскому слову: что даст человек в обмен за душу
свою.?). Непризнание за собой этого безусловного
значения равносильно отречению от человеческого
достоинства; это есть основное заблуждение и начало всякого
неверия: он так малодушен, что даже в самого себя верить
не в силах,—как может он поверить во что-нибудь
другое? Основная ложь и зло эгоизма не в этом абсолютном
самосознании и самооценке субъекта, а в том, что,
приписывая себе по справедливости безусловное значение, он
несправедливо отказывает другим в этом значении;
признавая себя центром жизни, каков он и есть в самом деле,
он других относит к окружности своего бытия, оставляет
за ними только внешнюю и относительную ценность.
Разумеется, в отвлеченном, теоретическом сознании
всякий человек, не помешавшийся в рассудке, всегда
допускает полную равноправность других с собой; но в
сознании жизненном, в своем внутреннем чувстве и на деле он
утверждает бесконечную разницу, совершенную
несоизмеримость между собою и другими: он сам по себе есть
все, они сами по себе—ничто. Между тем именно при
таком исключительном самоутверждении человек и не
может быть в самом деле тем, чем он себя утверждает. То
безусловное значение, та абсолютность, которую он
вообще справедливо за собой признает, но несправедливо
отнимает у других, имеет сама по себе лишь потенциальный
характер—это только возможность, требующая своего
осуществления. Бог есть все, т. е. обладает в одном
абсолютном акте всем положительным содержанием, всей
полнотой бытия. Человек (вообще и всякий
индивидуальный человек в частности), будучи фактически только
2—1520
33
этим, а не другим, может становиться всем, лишь снимая
в своем сознании и жизни ту внутреннюю грань, которая
отделяет его от другого. «Этот» может быть «всем»
только вместе с другими, лишь вместе с другими может он
осуществить свое безусловное значение—стать
нераздельной и незаменимой частью всеединого целого,
самостоятельным живым и своеобразным органом
абсолютной жизни. Истинная индивидуальность есть некоторый
определенный образ всеединства, некоторый
определенный способ восприятия и усвоения себе всего другого.
Утверждая себя вне всего другого, человек тем самым
лишает смысла свое собственное существование, отнимает
у себя истинное содержание жизни и превращает свою
индивидуальность в пустую форму. Таким образом, эгоизм
никак не есть самосознание и самоутверждение
индивидуальности, а напротив—самоотрицание и гибель.
Метафизические и физические, исторические и
социальные условия человеческого существования всячески
видоизменяются и смягчают наш эгоизм, полагая сильные
и разнообразные преграды для обнаружения его в чистом
виде и во всех ужасных его последствиях. Но вся эта
сложная, Провидением предопределенная, природой и
историей осуществляемая система препятствий и коррективов
оставляет нетронутой самую основу эгоизма, который
постоянно выглядывает из-под покрова личной и
общественной нравственности, а при случае проявляется и
с полной ясностью. Есть только одна сила, которая
может изнутри, в корне, подорвать эгоизм, и действительно
его подрывает, именно любовь, и главным образом
любовь половая. Ложь и зло эгоизма состоят в
исключительном признании безусловного значения за собой и в
отрицании его у других; рассудок показывает нам, что это
неосновательно и несправедливо, а любовь прямо
фактически упраздняет такое несправедливое отношение,
заставляя нас не в отвлеченном сознании, а во внутреннем
чувстве и жизненной воле признать для себя безусловное
значение другого. Познавая в любви истину другого не
отвлеченно, а существенно, перенося на деле центр своей
жизни за пределы своей эмпирической особности, мы тем
самым проявляем и осуществляем свою собственную
истину, свое безусловное значение, которое именно и состоит
в способности переходить за границы своего
фактического феноменального бытия, в способности жить не только
в себе, но и в другом.
34
Всякая любовь есть проявление этой способности, но
не всякая осуществляет ее в одинаковой степени, не всякая
одинаково радикально подрывает эгоизм. Эгоизм есть
сила не только реальная, но основная, укоренившаяся в
самом глубоком центре нашего бытия и оттуда
проникающая и обнимающая всю нашу действительность,—сила,
непрерывно действующая во всех частностях и
подробностях нашего существования. Чтобы настоящим образом
подорвать эгоизм, ему необходимо противопоставить
такую же конкретно-определенную и все наше существо
проникающую, все в нем захватывающую любовь. То
другое, которое должно освободить из оков эгоизма нашу
индивидуальность, должно иметь соотношение со всей
этой индивидуальностью, должно быть таким же
реальным и конкретным, вполне объективированным
субъектом, как и мы сами, и вместе с тем должно во всем
отличаться от нас, чтобы быть действительно другим, т.е.,
имея все то существенное содержание, которое и мы
имеем, иметь его другим способом или образом, в другой
форме, так, чтобы всякое проявление нашего существа,
всякий жизненный акт встречали в этом другом
соответствующее, но неодинаковое проявление, так, чтобы
отношение одного к другому было полным и постоянным
обменом, полным и постоянным утверждением себя в
другом, совершенным взаимодействием и общением. Тогда
только эгоизм будет подорван и упразднен не в принципе
только, а во всей своей конкретной действительности.
Только при этом, так сказать, химическом соединении двух
существ, однородных и равнозначительных, но
всесторонне различных по форме, возможно (как в порядке
природном, так и в порядке духовном) создание нового человека,
действительное осуществление истинной человеческой
индивидуальности. Такое соединение или по крайней мере
ближайшую возможность к нему мы находим в половой
любви, почему и придаем ей исключительное значение как
необходимому и незаменимому основанию всего
дальнейшего совершенствования, как неизбежному и
постоянному условию, при котором только человек может
действительно быть в истине.
IV
Признавая вполне великую важность и высокое
достоинство других родов любви, которыми ложный спири-
35
туализм и импотентный морализм хотели бы заменить
любовь половую, мы видим, однако, что только эта
последняя удовлетворяет двум основным требованиям, без
которых невозможно решительное упразднение самости
в полном жизненном общении с другим. Во всех прочих
родах любви отсутствует или однородность, равенство
и взаимодействие между любящим и любимым, или же
всестороннее различие восполняющих друг друга свойств.
Так, в любви мистической предмет любви сводится
в конце концов к абсолютному безразличию,
поглощающему человеческую индивидуальность; здесь эгоизм
упраздняется только в том весьма недостаточном смысле,
в каком он упраздняется, когда человек впадает в
состояние глубокого сна (с которым в Упанишадах и Веданте
сравнивается, а иногда и прямо отождествляется
соединение индивидуальной души со всемирным духом). Между
живым человеком и мистической «Бездной» абсолютного
безразличия, по совершенной разнородности и
несоизмеримости этих величин, не только жизненного общения, но
и простой совместности быть не может: если есть предмет
любви, то любящего нет—он исчез, потерял себя,
погрузился как бы в глубокий сон без сновидений! а когда он
возвращается в себя, то предмет любви исчезает и вместо
абсолютного безразличия воцаряется пестрое многораз-
личие действительной жизни на фоне собственного
эгоизма, украшенного духовной гордостью. — История знает,
впрочем, таких мистиков и целые мистические школы, где
предмет любви понимался не как абсолютное
безразличие, а принимал конкретные формы, допускавшие живые
к нему отношения, но—весьма замечательно—эти
отношения получали здесь вполне ясный и последовательно
выдержанный характер половой любви...
Любовь родительская—в особенности материнская—
и по силе чувства, и по конкретности предмета
приближается к любви половой, но по другим причинам не
может иметь равного с нею значения для человеческой
индивидуальности. Она обусловлена фактом размножения
и сменою поколений, с законом, господствующим в
жизни животной, но не имеющим или, во всяком случае, не
долженствующим иметь такого значения в жизни
человеческой. У животных последующее поколение прямо и
быстро упраздняет своих предшественников и обличает
в бессмысленности их существование, чтобы быть сейчас
в свою очередь обличенным в такой же бессмысленности
36
существования со стороны своих собственных
порождений. Материнская любовь в человечестве, достигающая
иногда до высокой степени самопожертвования, какую
мы не находим в любви куриной, есть остаток,
несомненно пока необходимый, этого порядка вещей. Во всяком
случае, несомненно, что в материнской любви не может
быть полной взаимности и жизненного общения уже
потому, что любящая и любимые принадлежат к разным
поколениям, что для последних жизнь—в будущем с
новыми, самостоятельными интересами и задачами, среди
которых представители прошедшего являются лишь как
бледные тени. Достаточно того, что родители не могут
быть для детей целью жизни в том смысле, в каком дети
бывают для родителей.
Мать, полагающая всю свою душу в детей, жертвует,
конечно, своим эгоизмом, но она вместе с тем теряет
и свою индивидуальность, а в них материнская любовь
если и поддерживает индивидуальность, то сохраняет
и даже усиливает эгоизм. Помимо этого, в материнской
любви нет, собственно, признания безусловного значения
за любимым, признания его истинной индивидуальности,
ибо для матери хотя ее детище дороже всего, но именно
только как ее детище, не иначе, чем у прочих животных,
т.е. здесь мнимое признание безусловного значения за
другим в действительности обусловлено внешней
физиологической связью.
Еще менее могут иметь притязание заменить половую
любовь остальные роды симпатических чувств. Дружбе
между лицами одного и того же пола недостает
всестороннего формального различия восполняющих друг
друга качеств, и если тем не менее эта дружба достигает
особенной интенсивности, то она превращается в противу-
естественный суррогат половой любви. Что касается до
патриотизма и любви к человечеству, то эти чувства, при
всей своей важности, сами по себе жизненно и конкретно
Упразднить эгоизм не могут, по несоизмеримости
любящего с любимым: ни человечество, ни даже народ не
могут быть для отдельного человека таким же конкретным
предметом, как он сам. Пожертвовать свою жизнь народу
Или человечеству, конечно, можно, но создать из себя
нового человека, проявить и осуществить истинную
человеческую индивидуальность на основе этой экстенсивной
любви невозможно. Здесь в реальном центре все-таки
остается свое старое эгоистическое я, а народ и человече-
37
ство относятся на периферию сознания как предметы
идеальные. То же самое должно сказать о любви к науке,
искусству и т. п.
Указавши в немногих словах на истинный смысл
половой любви и на ее преимущества перед другими сродными
чувствами, я должен объяснить, почему она так слабо
осуществляется в действительности, и показать, каким
образом возможно ее полное осуществление. Этим я займусь
в последующих статьях.
Статья третья
I
Смысл и достоинство любви как чувства состоит
в том, что она заставляет нас действительно всем нашим
существом признать за другим то, безусловно,
центральное значение, которое в силу эгоизма мы ощущаем только
в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств,
а как перенесение всего нашего жизненного интереса из
себя в другое, как перестановка самого центра нашей
личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой
любви * по преимуществу; она отличается от других
родов любви и большей интенсивностью, более
захватывающим характером, и возможностью более полной'
и всесторонней взаимности; только эта любовь может
вести к действительному и неразрывному соединению
двух жизней в одну, только про нее и в слове Божьем
сказано: будут два в плоть едину, т. е. станут одним
реальным существом.
Чувство требует такой полноты соединения,
внутреннего и окончательного, но дальше этого субъективного
требования и стремления дело обыкновенно не идет, да
и то оказывается лишь преходящим. На деле вместо
поэзии вечного и центрального соединения происходит
лишь более или менее продолжительное, но все-таки
временное, более или менее тесное, но все-таки внешнее,
поверхностное сближение двух ограниченных существ
* Я называю половой любовью (за неимением лучшего названия)
исключительную привязанность (как обоюдную, так и одностороннюю)
между лицами разного пола, могущими быть между собою в отношении
мужа и жены, нисколько не предрешая ори этом вопроса о значении
физиологической стороны дела.
38
в узких рамках житейской прозы. Предмет любви не
сохраняет в действительности того безусловного значения,
которое придается ему влюбленною мечтой. Для
постороннего взгляда это ясно с самого начала; но невольный
оттенок насмешки, неизбежно сопровождающий чужое
отношение к влюбленным, оказывается лишь
предварением их собственного разочарования. Разом или
понемногу пафос любовного увлечения проходит, и хорошо
еще, если проявившаяся в нем энергия альтруистических
чувств не пропадает даром, а только, потерявши свою
сосредоточенность и высокий подъем, переносится в
раздробленном и разбавленном виде на детей, которые
рождаются и воспитываются для повторения того же
обмана. Я говорю «обман» с точки зрения индивидуальной
жизни и безусловного значения человеческой личности,
вполне признавая необходимость и целесообразность
деторождения и смены поколений для прогресса
человечества в его собирательной жизни. Но собственно любовь
гут ни при чем. Совпадение сильной любовной страсти
с успешным деторождением есть только случайность,
и притом довольно редкая; исторический и ежедневный
опыт, несомненно, показывает, что дети могут быть
удачно рождаемы, горячо любимы и прекрасно воспитываемы
своими родителями, хотя бы эти последние никогда не
были влюблены друг в друга. Следовательно,
общественные и всемирные интересы человечества, связанные со
сменой поколений, вовсе не требуют высшего пафоса
любви. А между тем в жизни индивидуальной этот
лучший ее расцвет оказывается пустоцветом.
Первоначальная сила любви теряет здесь весь свой смысл, когда ее
предмет с высоты безусловного центра увековеченной
индивидуальности низводится на степень случайного и
легкозаменимого средства для произведения нового, быть
может немного лучшего, а быть может немного худшего,
но, во всяком случае, относительного и преходящего
поколения людей.
Итак, если смотреть только на то, что обыкновенно
бывает, на фактический исход любви, то должно признать
ее за мечту, временно овладевающую нашим существом
и исчезающую, не перейдя ни в какое дело (так как
деторождение не есть, собственно, дело любви). Но, признавая
в силу очевидности, что идеальный смысл любви не
осуществляется в действительности, должны ли мы признать
его неосуществимым?
39
По самой природе человека, который в своем разумном
сознании, нравственной свободе и способности к
самосовершенствованию обладает бесконечными
возможностями, мы не имеем права заранее считать для него
неосуществимой какую бы то ни было задачу, если она не
заключает в себе внутреннего логического противоречия или же
несоответствия с общим смыслом вселенной и
целесообразным ходом космического и исторического развития.
Было бы совершенно несправедливо отрицать
осуществимость любви только на том основании, что она до сих
пор никогда не была осуществлена: ведь в том же
положении находилось некогда и многое другое, например все
науки и искусства, гражданское общество, управление
силами природы. Даже и самое разумное сознание, прежде
чем стать фактом в человеке, было только смутным и
безуспешным стремлением в мире животных. Столько
геологических и биологических эпох прошло в неудачных
попытках создать мозг, способный стать органом для
воплощения разумной мысли. Любовь для человека есть
пока то же, чем был разум для мира животного: она
существует в своих зачатках или задатках, но еще не на самом
деле. И если огромные мировые периоды—свидетели
неосуществленного разума — не помешали ему наконец
осуществиться, то тем более неосуществленность любви в
течение немногих сравнительно тысячелетий, пережитых
историческим человечеством, никак не дает права
заключить что-нибудь против ее будущей реализации. Следует
только хорошо помнить, что если действительность
разумного сознания явилась в человеке, но не через человека,
то реализация любви как высшая ступень к собственной
жизни самого человечества должна произойти не только
в нем, но и чрез него.
Задача любви состоит в том, чтобы оправдать на деле
тот смысл любви, который сначала дан только в чувстве;
требуется такое сочетание двух данных ограниченных
существ, которое создало бы из них одну абсолютную
идеальную личность. Эта задача не только не заключает в себе
никакого внутреннего противоречия и никакого
несоответствия со всемирным смыслом, но она прямо дана
нашей духовной природой, особенность которой состоит
именно в том, что человек может, оставаясь самим собой,
в своей собственной форме вместить абсолютное
содержание, стать абсолютной личностью. Но чтобы
наполниться абсолютным содержанием (которое на религиозном
40
языке называется вечной жизнью или царствием Божиим),
сама человеческая форма должна быть воссстановлена
в своей целости (интегрирована). В эмпирической
действительности человека как такового вовсе нет—он
существует лишь в определенной односторонности и
ограниченности, как мужская или женская индивидуальность (и
уже на этой основе развиваются все прочие различия). Но
истинный человек в полноте своей идеальной личности,
очевидно, не может быть только мужчиной или только
женщиной, а должен быть высшим единством обоих.
Осуществить это единство, или создать истинного человека,
как свободное единство мужского и женского начала,
сохраняющих свою формальную обособленность, но
преодолевших свою существенную рознь и распадение,—это
и есть собственная ближайшая задача любви.
Рассматривая те условия, которые требуются для ее
действительного разрешения, мы убедимся, что только несоблюдение
этих условий приводит любовь ко всегдашнему
крушению и заставляет признавать ее иллюзией.
II
Первый шаг к успешному решению всякой задачи есть
сознательная и верная ее постановка; но задача любви
никогда сознательно не ставилась, а потому никогда и не
решалась как следует. На любовь смотрели и смотрят только
как на данный факт, как на состояние (нормальное для
одних, болезненное для других), которое переживается
человеком, но ни к чему его не обязывает; правда, сюда
привязываются две задачи: физиологического обладания
любимым лицом и житейского с ним союза,—из них последняя
налагает некоторые обязанности,—но тут уже дело
подчиняется законам животной природы, с одной стороны,
и законам гражданского общежития—с другой, а
любовь, с начала и до конца предоставленная самой себе,
исчезает, как мираж. Конечно, прежде всего любовь есть
факт природы (или дар Божий), независимо от нас
возникающий естественный процесс; но отсюда не следует,
чтобы мы не могли и не должны были сознательно к нему
относиться и самодеятельно направлять этот естественный
процесс к высшим целям. Дар слова есть также
натуральная принадлежность человека, язык не выдумывается, как и
любовь. Однако было бы крайне печально, если бы мы
относились к нему только как к естественному процессу, ко-
41
торый сам собою в нас происходит, если бы мы говорили
так, как поют птицы, предавались бы естественным
сочетаниям звуков и слов для выражения невольно
проходящих чрез нашу душу чувств и представлений, а не делали
из языка орудия для последовательного проведения
известных мыслей, средства для достижения разумных
и сознательно поставленных целей. При исключительно
пассивном и бессознательном отношении к дару слова не
могли бы образоваться ни наука, ни искусство, ни
гражданское общежитие, да и самый язык вследствие
недостаточного применения этого дара не развился бы
и остался при одних зачаточных своих проявлениях.
Какое значение имеет слово для образования человеческой
общественности и культуры, такое же и еще большее
имеет любовь для создания истинной человеческой
индивидуальности. И если в первой области (общественной
и культурной) мы замечаем хотя и медленный, но
несомненный прогресс, тогда как индивидуальность
человеческая с начала исторических времен и доселе остается
неизменной в своих фактических ограничениях, то первая
причина такой разницы та, что к словесной деятельности и
к произведениям слова мы относимся все более и более
сознательно и самодеятельно, а любовь по-прежнему
оставляется всецело в темной области смутных аффектов
и невольных влечений.
Как истинное назначение слова состоит не в процессе
говорения самом по себе, а в том, что говорится,— в
откровении разума вещей через слова или понятия, так
истинное назначение любви состоит не в простом
испытывании этого чувства, а в том, что посредством него
совершается,—в деле любви: ей недостаточно чувствовать для
себя безусловное значение любимого предмета, а нужно
действительно дать или сообщить ему это значение,
соединиться с ним в действительном создании абсолютной
индивидуальности. И как высшая задача словесной
деятельности уже предопределена в самой природе слов,
которые неизбежно представляют общие и пребывающие
понятия, а не отдельные и преходящие впечатления и,
следовательно, уже сами по себе, будучи связью многого
воедино, наводят нас на разумение всемирного смысла,
подобным же образом и высшая задача любви уже предуказана
в самом любовном чувстве, которое неизбежно прежде
всякого осуществления вводит свой предмет в сферу
абсолютной индивидуальности, видит его в идеальном свете,
42
верит в его безусловность. Таким образом, в обоих
случаях (и в области словесного познания, и в области
любви) задача состоит не в том, чтобы выдумать от себя что-
нибудь совершенно новое, а лишь в том, чтобы
последовательно проводить далее и до конца то, что уже
зачаточно дано в самой природе дела, в самой основе процесса.
Но если слово в человечестве развивалось и развивается,
то относительно любви люди оставались и остаются до
сих пор при одних природных зачатках, да и те плохо
понимаются в их истинном смысле.
III
Всем известно, что при любви непременно бывает
особенная идеализация любимого предмета, который
представляется любящему совершенно в другом свете, нежели
в каком его видят посторонние люди. Я говорю здесь о
свете не в метафорическом только смысле, дело тут не в
особенной только нравственной и умственной оценке, а еще
в особенном чувственном восприятии: любящий
действительно видит, зрительно воспринимает не то, что другие.
И для него, впрочем, этот любовный свет скоро исчезает,
но следует ли отсюда, что он был ложным, что это была
только субъективная иллюзия?
Истинное существо человека вообще и каждого
человека не исчерпывается его данными эмпирическими
явлениями—этому положению нельзя противопоставить
разумных и твердых оснований ни с какой точки зрения. Для
материалиста и сенсуалиста не менее, чем для
спиритуалиста и идеалиста, то, что кажется, не тождественно с тем,
что есть, а когда дело идет о двух различных видах
кажущегося, то всегда законен вопрос, какой из этих видов
более совпадает с тем, что есть, или лучше выражает
природу вещей. Ибо кажущееся, или видимость вообще, есть
действительное отношение, или взаимодействие, между
видящим и видимым и, следовательно, определяется их
обоюдными свойствами. Внешний мир человека и
внешний мир крота—оба состоят лишь из относительных
явлений или видимостей; однако едва ли кто серьезно
Усомнится в том, что один из этих двух кажущихся ми-
Ров превосходнее другого, более соответствует тому, что
есть ближе к истине.
Мы знаем, что человек, кроме своей животной
материальной природы, имеет еще идеальную, связывающую
43
его с абсолютной истиной, или Богом. Помимо
материального или эмпирического содержания своей жизни,
каждый человек заключает в себе образ Божий, т. е. особую
форму абсолютного содержания. Этот образ Божий
теоретически и отвлеченно познается нами в разуме и через
разум, а в любви он познается конкретно и жизненно.
И если это откровение идеального существа, обыкновенно
закрытого материальным явлениям, не ограничивается
в любви одним внутренним чувством, но становится
иногда ощутительным и в сфере внешних чувств, то тем
большее значение должны мы признать за любовью как за
началом видимого восстановления образа Божия в
материальном мире, началом воплощения истинной
идеальной человечности. Сила любви, переходя в свет, преобразуя
и одухотворяя форму внешних явлений, открывает нам
свою объективную мощь, но затем уже дело за нами: мы
сами должны понять это откровение и воспользоваться
им, чтобы оно не осталось мимолетным и загадочным
проблеском какой-то тайны.
Духовно-физический процесс восстановления образа
Божия в материальном человечестве никак не может
совершиться сам собой, помимо нас. Начало его, как и всего
лучшего в этом мире, возникает из темной для нас
области несознаваемых процессов и отношений: там зачаток
и корни дерева жизни, но возрастить его мы должны
собственным сознательным действием; для начала
достаточно пассивной восприимчивости чувства, но затем
необходима деятельная вера, нравственный подвиг и труд,
чтобы удержать за собой, укрепить и развить этот дар
светлой и творческой любви, чтобы посредством него
воплотить в себе и в другом образ Божий и из двух
ограниченных и смертных существ создать одну абсолютную
и бессмертную индивидуальность. Если неизбежно и
невольно присущая любви идеализация показывает нам
сквозь эмпирическую видимость далекий идеальный
образ любимого предмета, то, конечно, не затем, чтобы
мы им только любовались, а затем, чтобы мы силой
истинной веры, действующего воображения и реального
творчества преобразовали по этому истинному образцу
не соответствующую ему действительность, воплотили
его в реальном явлении.
Но кто же думал когда-нибудь о чем-нибудь подобном
по поводу любви? Средневековые миннезингеры и рыцари
при своей сильной вере и слабом разуме успокаивались на
44
простом отождествлении любовного идеала с данным
лицом, закрывая глаза на их явное несоответствие. Эта вера
была столь же тверда, но и столь же бесплодна, как тот
камень, на котором «все в той же позиции» сидел
знаменитый рыцарь фон Грюнвалиус «у замка Амалии».
Кроме такой веры, заставлявшей только благоговейно
созерцать и восторженно воспевать мнимо воплощенный
идеал, средневековая любовь была, конечно, связана и
с жаждой подвигов. Но эти воинственные и
истребительные подвиги, не имея никакого отношения к
вдохновлявшему их идеалу, не могли вести к его осуществлению.
Даже тот бедный рыцарь, который совсем отдался
впечатлению открывшейся ему небесной красоты, не смешивая ее
с земными явлениями, и он вдохновлялся этим
откровением лишь на такие действия, которые служили более ко
вреду иноплеменников, нежели к пользе и славе «вечно-
женственного» *:
«Lumen coeli! Sancta rosa!» —
Восклицал он дик и рьян,
И, как гром, его угроза
Поражала мусульман. **
Для поражения мусульман, конечно, не было
надобности иметь «видение, непостижимое уму». Но над всем
средневековым рыцарством тяготело это раздвоение
между небесными видениями христианства и «дикими
и рьяными» силами в действительной жизни, пока
наконец знаменитейший и последний из рыцарей Дон-Кихот
Ламанчский, перебивши много баранов и сломав немало
крыльев у ветряных мельниц, но нисколько не
приблизивши тобосскую коровницу к идеалу Дульцинеи, не пришел
к справедливому, но только отрицательному сознанию
своего заблуждения; и если тот типичный рыцарь до
конца остался верен своему видению и, «как безумец, умер
он», то Дон-Кихот от безумия перешел только к
печальному и безнадежному разочарованию в своем идеале.
Это разочарование Дон-Кихота было завещанием
рыцарства новой Европе. Оно действует в нас и до сих пор.
Любовная идеализация, переставши быть источником
подвигов безумных, не вдохновляет ни к каким. Она
оказывается только приманкой, заставляющей нас желать
* См.: Гёте И.Фауст.
** Пушкин А. С. «Жил на свете рыцарь бедный..>
45
физического и житейского обладания, и исчезает, как
только эта совсем не идеальная цель достигнута. Свет
любви ни для кого не служит путеводным лучом к
потерянному раю; на него смотрят как на фантастическое освещение
краткого любовного «пролога на небе», которое затем
природа весьма своевременно гасит как совершенно
ненужное для последующего земного представления. На
самом деле этот свет гасит слабость и бессознательность
нашей любви, извращающей истинный порядок дела.
IV
Внешнее соединение, житейское и в особенности
физиологическое, не имеет определенного отношения к
любви. Оно бывает без любви, и любовь бывает без него. Оно
необходимо для любви не как ее непременное условие
и самостоятельная цель, а только как ее окончательная
реализация. Если эта реализация ставится как цель сама
по себе прежде идеального дела любви, она губит любовь.
Всякий внешний акт или факт сам по себе есть ничто;
любовь есть нечто только благодаря своему смыслу, или
идее, как восстановление единства или целости
человеческой личности, как создание абсолютной
индивидуальности. Значение связанных с любовью внешних актов и
фактов, которые сами по себе ничто, определяется их
отношением к тому, что составляет самое любовь и ее дело.
Когда нуль становится после целого числа, он увеличивает
его в десять раз, а когда ставится прежде него, то во
столько же уменьшает или раздробляет его, отнимает у него
характер целого числа, превращая его в десятичную
дробь; и чем больше этих нулей, предпосланных целому,
тем мельче дробь, тем ближе она сама становится к нулю.
Чувство любви само по себе есть только побуждение,
внушающее нам, что мы можем и должны воссоздать
целость человеческого существа. Каждый раз, когда в
человеческом сердце зажигается эта священная искра, вся
стенающая и мучающаяся тварь ждет нервного откровения
славы сьгаов Божьих. Но без действия сознательного
человеческого духа Божья искра гаснет, и обманутая
природа создает новые поколения сьгаов человеческих для
новых надежд.
Эти надежды не исполняются до тех пор, пока мы не
захотим вполне признать и осуществить до конца все то,
чего требует истинная любовь, что заключается в ее идее.
46
При сознательном отношении к любви и действительном
решении исполнить ее задачу прежде всего
останавливают два факта, по-видимому осуждающие нас на
бессилие и оправдывающие тех, которые считают любовь
иллюзией. В чувстве любви по основному его смыслу мы
утверждаем безусловное значение другой
индивидуальности, а через это-—и безусловное значение своей
собственной. Но абсолютная индивидуальность не может быть
преходящей, и она не может быть пустой. Неизбежность
смерти и пустота нашей жизни совершенно несовместимы
с тем повышенным утверждением индивидуальности
своей и другой, которое заключается в чувстве любви.
Это чувство, если оно сильно и вполне сознательно, не
может примириться с уверенностью в предстоящем
одряхлении и смерти любимого лица и своей собственной.
Между тем тот несомненный факт, что все люди всегда
умирали и умирают, всеми, или почти всеми, принимается за
безусловно непреложный закон (так что даже в
формальной логике принято пользоваться этой уверенностью для
составления образцового силлогизма: «Все люди
смертны; Кай человек, следовательно, Кай смертен»). Многие,
правда, верят в бессмертие души; но именно чувство
любви лучше всего показывает недостаточность этой
отвлеченной веры. Бесплотный дух есть не человек, а ангел; но
мы любим человека, целую человеческую
индивидуальность, и если любовь есть начало просветления и
одухотворения этой индивидуальности, то она необходимо требует
сохранения ее как таковой, требует вечной юности и
бессмертия этого определенного человека, этого в телесном
организме воплощенного живого духа. Ангел, или чистый
дух, не нуждается в просветлении и одухотворении;
просветляется и одухотворяется только плоть, и она есть
необходимый предмет любви. Представлять себе можно
все, что угодно, но любить можно только живое,
конкретное, а любя его действительно, нельзя примириться с
уверенностью в его разрушении.
Но если неизбежность смерти несовместима с
истинною любовью, то бессмертие совершенно несовместимо
с пустотою нашей жизни. Для большинства человечества
жизнь есть только смена тяжелого механического труда
и грубо чувственных, оглушающих сознание
удовольствий. А то меньшинство, которое имеет возможность
Деятельно заботиться не о средствах только, но и о це-
лях жизни, вместо этого пользуется своей свободой от
47
механической работы главным образом для
бессмысленного и безнравственного времяпровождения. Мне нечего
распространяться про пустоту и безнравственность—
невольную и бессознательную—всей этой мнимой жизни
после ее великолепного воспроизведения в «Анне
Карениной», «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонате» *.
Возвращаясь к своему предмету, укажу лишь на то
очевидное соображение, что для такой жизни смерть не
только неизбежна, но и крайне желательна: можно ли без
ужасающей тоски даже представить себе бесконечно
продолжающееся существование какой-нибудь светской дамы,
или какого-нибудь спортсмена, или карточного игрока?
Несовместимость бессмертия с таким существованием
ясна с первого взгляда. Но при большем внимании такую
же несовместимость мы должны будем признать и
относительно других, по-видимому более наполненных
существований. Если вместо светской дамы или игрока мы
возьмем на противоположном полюсе великих людей,
гениев, одаривших человечество бессмертными
произведениями или изменивших судьбу народов, то увидим, что
содержание их жизни и ее исторические плоды имеют
значение лишь как данные раз и навсегда, а при бесконечном
продолжении индивидуального существования этих
гениев на земле потеряли бы всякий смысл. Бессмертие
произведений, очевидно, нисколько не требует и даже само по
себе исключает непрерывное бессмертие произведших их
индивидуальностей. Можно ли представить себе
Шекспира, бесконечно сочиняющего свои драмы, или Ньютона,
бесконечно продолжающего изучать небесную механику,
не говоря уже о нелепости бесконечного продолжения
такой деятельности, какою прославились Александр
Великий или Наполеон. Очевидно, что искусство, наука,
политика, давая содержание отдельным стремлениям
человеческого духа и удовлетворяя временным историческим
потребностям человечества, вовсе не сообщают
абсолютного, самодовлеющего содержания человеческой
индивидуальности, а потому и не нуждаются в ее бессмертии.
В этом нуждается только любовь, и только она может
* Наше «общество», а в том числе и светские дамы с восхищением
читали эти произведения, в особенности «Крейцерову сонату»; но едва
ли хоть одна из них после этого чтения отказалась от какого-нибудь
приглашения на бал—так трудно одной моралью, хотя бы и в совершенной
художественной форме, изменить реальное действие общественной
среды.
48
этого достигнуть. Истинная любовь есть та, которая не
только утверждает в субъективном чувстве безусловное
значение человеческой индивидуальности в другом и в
себе, но и оправдывает это безусловное значение в
действительности, действительно избавляет нас от неизбежности
смерти и наполняет абсолютным содержанием нашу
жизнь.
Статья четвертая
I
«Дионис и Гадес—одно и то же»,—сказал глубойчай-
ший мыслитель древнего мира *. Дионис, молодой и
цветущий бог материальной жизни в полном напряжении ее
кипящих сил, бог возбужденной и плодотворной
природы,—то же самое, что Гадес, бледный владыка
сумрачного и безмолвного царства отшедших теней. Бог жизни
и бог смерти—один и тот же бог. Это есть истина,
бесспорная для мира природных организмов. Закипающая
в индивидуальном существе полнота жизненных сил не
есть его собственная жизнь, это жизнь чужая, жизнь
равнодушного и беспощадного к нему рода, которая для него
есть смерть. В низших отделах животного царства это
вполне ясно: здесь особи существуют только для того,
чтобы произвести потомство и затем умереть; у многих
видов они не переживают акта размножения, умирают тут
же на месте, у других переживают лишь на очень короткое
время. Но если эта связь между рождением и смертью,
между сохранением рода и гибелью особи есть закон
природы, то, с другой стороны, сама природа в своем
поступательном развитии все более и более ограничивает и
ослабляет этот свой закон; необходимость для особи служить
средством к поддержанию рода и умирать по исполнении
этой службы остается, но действие этой необходимости
обнаруживается все менее и менее прямо и
исключительно по мере совершенствования органических форм, по
мере возрастающей самостоятельности и сознательности
индивидуальных существ. Таким образом, закон
тождества Диониса и Гадеса—родовой жизни и
индивидуальной смерти,—или, что то же самое, закон противополо-
* Гераклит (Diels 15).
49
жности и противоборства между родом и особью, всего
сильнее действует на низших ступенях органического мира,
а с развитием высших форм все более и более
ослабляется; а если так, то с появлением безусловно-высшей
органической формы, облекающей индивидуальное существо,
самосознательное и самодеятельное, отделяющее себя от
природы, относящееся к ней как к объекту, следовательно,
способное к внутренней свободе от родовых
требований,—с появлением этого существа не должен ли
наступить конец этой тирании рода над особью? Если природа
в биологическом процессе стремится все более и более
ограничивать закон смерти, то не должен ли человек
в историческом процессе совершенно отменить этот
закон?
Само по себе ясно, что, пока человек размножается,
как животное, он и умирает, как животное. Но столь же
ясно, с другой стороны, и то, что простое воздержание от
родового акта нисколько не избавляет от смерти: лица,
сохранившие девство, умирают, умирают и скопцы; ни те,
ни другие не пользуются даже особенною
долговечностью. Это и понятно. Смерть вообще есть дезинтеграция
существа, распадение составляющих его факторов. Но
разделение полов, не устраняемое их внешним и
преходящим соединением в родовом акте,—это разделение
между мужеским и женским элементом человеческого
существа есть уже само по себе состояние дезинтеграции и
начало смерти. Пребывать в половой раздельности—
значит пребывать на пути смерти, а кто не хочет или не
может сойти с этого пути, должен по естественной
необходимости пройти его до конца. Кто поддерживает
корень смерти, тот неизбежно вкусит и плода ее.
Бессмертным может быть только целый человек, и если
физиологическое соединение не может действительно восстановить
цельность человеческого существа, то, значит, это ложное
соединение должно быть заменено истинным
соединением, а никак не воздержанием от всякого соединения,
т. е. никак не стремлением удержать in Status quo *
разделенную, распавшуюся и, следовательно, смертную
человеческую природу.
В чем же состоит и как осуществляется истинное
соединение полов? Наша жизнь так далека от истины в этом
отношении, что за норму принимается здесь только менее
* В прежнем состоянии {/шт.).
50
крайняя, менее вопиющая ненормальность. Это нужно
еще пояснить, прежде чем идти дальше.
II
В последнее время в психиатрической литературе
Германии и Франции появилось несколько специальных
книг, посвященных тому, что автор одной из них назвал
psychopathia sexualis *, т. е. разнообразным уклонениям от
нормы в половых отношениях. Эти сочинения, помимо
своего специального интереса для юристов, медиков и
самих больных, интересны еще с такой стороны, о которой,
наверное, не думали ни авторы, ни большинство
читателей, а именно: в этих трактатах, написанных почтенными
учеными, вероятно безукоризненной нравственности,
поражает отсутствие всякого ясного и определенного
понятия о норме половых отношений, о том, что и почему есть
лолжное в этой области, вследствие чего и определение
уклонений от нормы, т. е. самый предмет этих
исследований, оказывается взятым случайно и произвольно.
Единственным критерием оказывается обычность или
необычность явлений: те влечения и действия в половой области,
которые сравнительно редки, признаются
патологическими уклонениями, требующими лечения, а те, которые
обыкновенны и общеприняты, предполагаются как
норма. При этом смешении нормы с обычным уклонением
отождествление того, что должно быть, с тем, что зауряд
бывает, доходит здесь иногда до высокого комизма. Так,
в казуистической части одного из этих сочинений мы под
несколькими номерами находим повторение следующего
терапевтического приема: больного заставляют частью
настойчивым медицинским советом, преимущественно же
гипнотическим внушением, занимать свое воображение
представлением обнаженного женского тела или другими
непристойными картинами но/шольно-полового
характера (sic!), и затем лечение признается удавшимся и
выздоровление полным, если под влиянием этого искусственного
возбуждения пациент начнет охотно, часто и успешно
посещать lupanaria **. Удивительно, как эти почтенные
ученые не были остановлены хотя бы тем простым
соображением, что, чем удачнее будет терапия этого рода, тем лег-
* Половая психопатия (нем.).
** Публичный дом (дат.).
51
че пациент может быть поставлен в необходимость от
одной медицинской специальности обратиться к помощи
другой и что торжество психиатра может наделать
больших хлопот дерматологу.
Изучаемые в медицинских книгах извращения
полового чувства важны для нас как крайнее развитие того
самого, что вошло в житейский обиход нашего общества, что
считается позволительным и нормальным. Эти
необычные явления представляют только в более ярком виде то
самое безобразие, которое присуще нашим обычным
отношениям в этой области. Это можно было бы доказать
рассмотрением всех частных извращений полового
чувства; но я надеюсь, что в этом деле мне извинят неполноту
аргументации, и позволю себе ограничиться одной более
общей и менее отвратительной аномалией области
полового чувства. У многих лиц, почти всегда мужского пола,
это чувство возбуждается преимущественно, а иногда
и исключительно той или другой частью в существе
другого пола (напр., волосы, рука, нога), а то даже внешними
предметами—известными частями одежды и т.п. Эта
аномалия получила название фетишизма в любви.
Ненормальность такого фетишизма состоит, очевидно, в том,
что часть ставится на место целого, принадлежность—на
место сущности. Но если возбуждающие фетишиста
волосы или ноги суть части женского тела, то ведь само это
тело во всем своем составе есть только часть женского
существа, и однако же, столь многочисленные любители
женского тела самого по себе не называются
фетишистами, не признаются сумасшедшими и не подвергаются
никакому лечению. В чем же тут, однако, различие?
Неужели в том, что рука или нога представляют меньшую
поверхность, нежели все тело?
Если по принципу ненормально то половое
отношение, в котором часть ставится на место целого, то люди,
так или иначе покупающие тело женщин для
удовлетворения чувственной потребности и тем самым отделяющие
тело от души, должны быть признаны ненормальными
в половом отношении, психически больными,
фетишистами в любви или даже некрофилами. А между тем эти
заживо умирающие любители мертвечины считаются
людьми нормальными, и через эту вторую смерть проходит
почти все человечество!
Незаглушенная совесть и неэагрубелое эстетическое
чувство в полном согласии с философским разумением,
52
безусловно, осуждают всякое половое отношение,
основанное на отделении и обособлении низшей, животной
сферы человеческого существа от высших. А вне этого
принципа невозможно найти никакого твердого критерия
для различения между тем, что нормально и что
ненормально в половой области. Если потребность в известных
физиологических актах имеет право на удовлетворение во
что бы то ни стало потому только, что это потребность,
то совершенно такое же право на удовлетворение имеет
и потребность того «фетишиста в любви», для которого
единственным вожделенным предметом в половом
отношении оказывается висящий на веревке, только что
вымытый и еще не просохший передник *. Если и находить
различие между этим чудаком и каким-нибудь хроническим
посетителем лупанаров, то, разумеется, это различие
будет в пользу фетишиста; влечение к мокрому переднику
есть, несомненно, натуральное, неподдельное, ибо
никаких фальшивых мотивов для него придумать
невозможно, тогда как многие люди посещают лупанары вовсе не
по действительной в том нужде, а из ложных
гигиенических соображений, из подражания дурным примерам, под
влиянием опьянения и т.п.
Осуждают обыкновенно психопатические проявления
полового чувства на том основании, что они не
соответствуют естественному назначению полового акта, именно
размножению. Утверждать, что свежевымытый передник
или даже поношенный башмак могут служить для
произведения потомства, было бы, конечно, парадоксом; но
едва ли менее парадоксально будет предположение, что
этой цели соответствует институт публичных женщин.
«Естественный» разврат, очевидно, так же противен
деторождению, как и «противоестественный», так что и с этой
точки зрения нет ни малейшего основания считать один из
них нормальным, а другой ненормальным. Если же,
наконец, стать на точку зрения вреда для себя и других, то,
конечно, фетишист, отрезающий пряди волос у
незнакомых дам или ворующий у них платки, наносит ущерб
чужой собственности и своей репутации, но можно ли
сравнить этот вред с тем, который причиняют несчастные
распространители ужасной заразы, составляющей довольно
* См.: Binet. Le fetichisme en amour, а также Krafft-Ebing.
psychopatia sexualis.
53
обычное последствие «естественного» удовлетворения
«естественной» потребности?
III
Все это я говорю не в оправдание противуестествен-
ных, а в осуждение мнимо естественных способов
удовлетворения полового чувства. Вообще, говоря о
естественности или противуестественности, не следует
забывать, что человек есть существо сложное и что естественно
для одного из составляющих его начал или элементов,
может быть противуестественным для другого и,
следовательно, ненормальным для целого человека.
Для человека как животного совершенно естественно
неограниченное удовлетворение своей половой
потребности посредством известного физиологического действия,
но человек как существо нравственное находит это
действие противным своей высшей природе и стыдится его.
Как животному общественному человеку естественно
ограничивать физиологическую функцию, относящуюся
к другим лицам, требованиями социально-нравственного
закона. Этот закон извне ограничивает и закрывает
животное отправление, делает его средством для социальной
цели—образования семейного союза. Но существо дела
от этого не изменяется. Семейный союз основан все-таки
на внешнем материальном соединении полов: он
оставляет человека-животное в его прежнем
дезинтегрированном, половинчатом состоянии, которое необходимо ведет
к дальнейшей дезинтеграции человеческого существа, т. е.
к смерти.
Если бы человек сверх своей животпой природы был
только существом социально-нравственным, то из этих двух
противоборствующих элементов—одинаково для него
естественных—окончательное торжество оставалось бы
за первым. Социально-нравственный закон и его основная
объективация—семья—вводят животную природу
человека в границы, необходимые для родового прогресса,
они упорядочивают смертную жизнь, но не открывают
пути бессмертия. Индивидуальное существо так же
истощается и умирает в социально-нравственном порядке
жизни, как если бы оно оставалось исключительно под
законом жизни животной. Слон и ворон оказываются даже
значительно долговечнее самого добродетельного и акку-
54
ратного человека *. Но в человеке, кроме животной
природы и социально-нравственного закона, есть еще и
третье высшее начало—духовное, мистическое или
божественное. Оно и здесь, в области любви и половых
отношений, есть тот «камень, его же небрегоша зиждущий»,
и «той бысть во главу угла». Прежде физиологического
соединения в животной природе, которое ведет к смерти,
и прежде законного союза в порядке социально-
нравственном, который от смерти не спасает, должно быть
соединение в Боге, которое ведет к бессмертию, потому
что не ограничивает только смертную жизнь природы
человеческим законом, а перерождает ее вечной и нетленной
силой благодати. Этот третий, а в истинном порядке—
первый элемент, с присущими ему требованиями,
совершенно естествен для человека в его целости как существа,
причастного высшему божественному началу и
посредствующего между ним и миром. А два низшие
элемента—животная природа и социальный закон,—так же
естественные на своем месте, становятся противуесте-
ственными, когда берутся отдельно от высшего и
полагаются вместо него. В области половой любви противуе-
стественно для человека не только всякое беспорядочное,
лишенное высшего, духовного освящения удовлетворение
чувственных потребностей наподобие животных (помимо
разных чудовищных явлений половой психопатии), но
также недостойны человека и противуестественны и те
союзы между людьми разного пола, которые заключаются
и поддерживаются только на основании гражданского
закона, исключительно для целей морально-общественных
с устранением или при бездействии собственно духовного,
мистического начала в человеке. Но именно такая проти-
* По поводу недавних толков о смерти и страхе смерти нужно
заметить, что, кроме страха и равнодушия—одинаково недостойных
мыслящего и любящего существа,—есть и третье отношение—борьба и
торжество над смертью. Дело идет не о своей смерти, о которой
нравственно и физически здоровые люди, конечно, мало заботятся, а о смерти
других, любимых существ, к которой беспристрастное отношение для
любящего невозможно (см. Ев. Иоан. XI, 33—38).
Рсзигнация в этом отношении была бы требованием разума
только в том случае, если бы смерть человека была бы абсолютно
неизбежным исходом. Но это всегда лишь предполагают, но никогда не
доказывают, и не без причины, ибо доказать это невозможно. Что при известных
условиях смерть необходима, об этом, конечно, нет спора; но что эти
Условия суть единственно возможные, что их нельзя изменить и что,
следовательно, смерть есть необходимость безусловная,—для этого
нет даже тени разумного основания.
55
вуестественная, с точки зрения цельного человеческого
существа, перестановка этих отношений и господствует
в нашей жизни, и признается нормальной, и все осуждение
переносится на несчастных психопатов любви, которые
только доводят до смешных, безобразных, иногда
отвратительных, но большей частью безвредных сравнительно
крайностей это самое общепризнанное и господствующее
извращение.
IV
Те многообразные извращения полового инстинкта,
которыми занимаются психиатры, суть лишь диковинные
разновидности общего и всепроникающего извращения
этих отношений в человечестве,—того извращения,
которым поддерживается и увековечивается царство греха
и смерти. Хотя все три естественные для человека в его
целом отношении или связи между полами, именно связь
в животной жизни, или по низшей природе, затем связь
морально-житейская, или под законом, и, наконец, связь
в жизни духовной, или соединение в Боге,—хотя все эти
три отношения существуют в человечестве, но
осуществляются противуестественно, именно в отдельности одно
от другого, в обратной их истинному смыслу и порядку
последовательности и в неравной мере.
На первом месте в нашей действительности является
то, что поистине должно быть на последнем,—животная
физиологическая связь. Она признается основанием всего
дела, тогда как она должна быть лишь его крайним
завершением. Для многих здесь основание совпадает с
завершением: дальше животных отношений они и не идут; для
других на этом широком основании поднимается
социально-нравственная надстройка законного семейного
союза. Тут житейская средина принимается за вершину
жизни, и то, что должно служить свободным осмысленным
выражением во временном процессе вечного единства,
становится невольным руслом бессмысленной
материальной жизни. А затем, наконец, как редкое и
исключительное явление остается для немногих избранных чистая
духовная любовь, у которой все действительное содержание
уже заранее отнято другими, низшими связями, так что
ей приходится довольствоваться мечтательной и
бесплодной чувствительностью безо всякой реальной задачи
и жизненной цели. Эта несчастная духовная любовь напо-
56
минает маленьких ангелов старинной живописи, у
которых есть только голова да крылышки и больше ничего.
Эти ангелы ничего не делают за неимением рук и не могут
двигаться вперед, так как их крылышкам хватает силы
только на то, чтобы поддерживать их неподвижно на
известной высоте. В такой же возвышенном, но крайне
неудовлетворительном положении находится и духовная
любовь. Физическая страсть имеет перед собой известное
дело, хотя и постыдное; законный союз, семейный, также
исполняет дело пока необходимое, хотя и
посредственного достоинства. Но у духовной любви, какой она является
до сих пор, заведомо нет совсем никакого дела, а потому
неудивительно, что большинство дельных людей glaubt
an keine Liebe oder nimmt's fur Poesie *.
Эта исключительно духовная любовь есть, очевидно,
такая же аномалия, как и любовь исключительно
физическая и исключительно житейский союз. Абсолютная
норма есть восстановление целости человеческого существа,
и, нарушается ли эта норма в ту или другую сторону, в
результате, во всяком случае, происходит явление
ненормальное, противуестественное. Мнимо духовная любовь
есть явление не только ненормальное, но и совершенно
бесцельное, ибо то отделение духовного от чувственного,
к которому она стремится, и без того наилучшим образом
совершается смертью. Истинная же духовная любовь не
есть слабое подражание и предварение смерти, а
торжество над смертью, не отделение бессмертного от
смертного, вечного от временного, а превращение смертного
в бессмертное, восприятие временного в вечное. Ложная
духовность есть отрицание плоти, истинная духовность
есть ее перерождение, спасение, воскресение.
V
«В день, когда Бог сотворил человека, по образу Бо-
жию сотворил его, мужа и жену сотворил их».
«Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и
во Церковь»**.
Не к какой-нибудь отдельной части человеческого
существа, а к истинному единству двух основных сторон
* Не верят в любовь или обращаются к ней только из-за поэзии
(нем.).
♦* Быт. 5,1; Ефес. 5,32.
57
его, мужеской и женской, относится первоначально
таинственный образ Божий, по которому создан человек. Как
Бог относится к своему творению, как Христос относится
к своей Церкви, так муж должен относиться к жене.
Насколько общеизвестны эти слова, настолько же смысл их
мало разумеется. Как Бог творит вселенную, как Христос
созидает Церковь, так человек должен творить и созидать
свое женское дополнение. Что мужчина представляет
активное, а женщина—пассивное начало, что первый
должен образовательно влиять на ум и характер второй —
это, конечно, положения азбучные, но мы имеем в виду не
это поверхностное отношение, а ту «великую тайну», о
которой говорит апостол. Эта великая тайна представляет
существенную аналогию, хотя и не тождество, между
человеческим и божественным отношением. Ведь уже
созидание Церкви Христом различается от творения
вселенной Богом как таковым. Бог творит вселенную из ничего,
т. е. из чистой потенции бытия или пустоты,
последовательно наполняемой, т.е. воспринимающей от действия Бо-
жия реальные формы умопостигаемых вещей, тогда как
Христос созидает Церковь из материала, уже
многообразно оформленного, одушевленного и в частях своих
самодеятельного, которому нужно только сообщить начало
новой, духовной жизни в новой, высшей сфере единства.
Наконец, человек для своего творческого действия имеет
в лице женщины материал, ему самому равный по степени
актуализации, перед которым он пользуется только
потенциальным преимуществом почина, только правом
и обязанностью первого шага на пути к совершенству,
а не действительным совершенством. Бог относится к
твари, как всё к ничему, т. е. как абсолютная полнота бытия
к чистой потенции бытия, Христос относится к Церкви,
как актуальное совершенство к потенции совершенства,
образуемой в действительное совершенство; отношение
же между мужем и женой есть отношение двух различно
действующих, но одинаково несовершенных потенций,
достигающих совершенства только процессом
взаимодействия. Другими словами, Бог ничего не получает от
твари для себя, т. е. никакого приращения, а все дает ей;
Христос не получает от Церкви никакого приращения
в смысле совершенства, а все совершенство дает ей, но Он
получает от Церкви приращение в смысле полноты Его
собирательного тела; наконец, человек и его женское alter
ego восполняют- взаимно друг друга не только в реаль-
58
ном, но и в идеальном смысле, достигая совершенства
только через взаимодействие. Человек может зиждительно
восстановлять образ Божий в живом предмете своей
любви только так, чтобы вместе с тем восстановить этот
образ и в самом себе; а для этого он у самого себя силы не
имеет, ибо если бы имел, то не нуждался бы и в
восстановлении; не имея же у себя, должен получить от Бога.
Следовательно, человек (муж) есть творческое зиждительное
начало относительно своего женского дополнения не сам по
себе, а как посредник или проводник Божественной силы.
Собственно, и Христос созидает Церковь не какою-нибудь
отдельною своею силою, а тою же творческою силою
Божества; но, будучи сам Бог, он обладает этою силою по
естеству и actu, мы же—по благодати и усвоению, имея в себе
лишь возможность (потенцию) для ее восприятия.
Переходя к изложению основных моментов в процессе
осуществления истинной любви, т. е. в процессе
интеграции человеческого существа или восстановления в нем
образа Божия, я предвижу недоумение многих: зачем
забираться на такие недоступные и фантастические высоты
по поводу такой простой вещи, как любовь? Если бы
я считал религиозную норму любви фантастической, то я,
конечно, и не предлагал бы ее. Точно так же, если бы
я имел в виду только простую любовь, т.е.
обыкновенные, заурядные отношения между полами—то, что
бывает, а не то, что должно быть,—то, я конечно,
воздержался бы от всяких рассуждений по этому предмету, ибо,
несомненно, эти простые отношения принадлежат к тем
вещам, про которые кто-то сказал: нехорошо это делать,
но еще хуже об этом разговаривать. Но любовь, как я ее
понимаю, есть, напротив, дело чрезвычайно сложное,
затемненное и запутанное, требующее вполне сознательного
разбора и исследования, при котором нужно заботиться
пе о простоте, а об истине... Гнилой пень, несомненно,
проще многоветвистого дерева, и труп проще живого
человека. Простое отношение к любви завершается тем
окончательным и крайним упрощением, которое
называется смертью. Такой неизбежный и неудовлетворительный
конец «простой» любви побуждает нас искать для нее
другого, более сложного начала.
59
VI
Дело истинной любви прежде всего основывается на
вере. Коренной смысл любви, как было уже показано,
состоит в признании за другим существом безусловного
значения. Но в своем эмпирическом, подлежащем
реальному чувственному восприятию бытии это существо
безусловного значения не имеет: оно несовершенно по своему
достоинству и преходяще по своему существованию.
Следовательно, мы можем утверждать за ним безусловное
значение лишь верой, которая есть уповаемых извещение,
вещей обличение невидимых. Но к чему же относится вера
в настоящем случае? Что, собственно, значит верить
в безусловное, а тем самым и бесконечное значение этого
индивидуального лица? Утверждать, что оно само по
себе, как такое, в этой своей частности и отдельности
обладает абсолютным значением, было бы столь же нелепо,
сколько и богохульно. Конечно, слово «обожание» весьма
употребительно в сфере любовных отношений, но ведь
и слово «безумие» также имеет в этой области свое
законное применение. Итак, соблюдая закон логики, не
дозволяющий отождествлять противоречащих определений,
а также заповедь истинной религии, запрещающую
идолопоклонство, мы должны под верой в предмет нашей
любви разуметь утверждение этого предмета как
существующего в Боге и в этом смысле обладающего
бесконечным значением. Разумеется, это трансцендентное
отношение к своему другому, это мысленное перенесение
его в сферу Божества предполагает такое же отношение
к самому себе, такое же перенесение и утверждение себя
в абсолютной сфере. Признавать безусловное значение
за данным лицом или верить в него (без чего
невозможна истинная любовь) я могу, только утверждая
его в Боге, следовательно, веря в самого Бога и в
себя как имеющего в Боге средоточие и корень своего
бытия. Эта триединая вера есть уже некоторый
внутренний акт, и этим актом полагается первое основание к
истинному воссоединению человека с его другим и
восстановлению в нем (или в них) образа триединого Бога.
Акт веры в действительных условиях времени и места
есть молитва (в основном, не техническом смысле этого
слова). Нераздельное соединение себя и другого в этом
отношении есть первый шаг к действительному соедине-
60
нию. Сам по себе этот шаг мал, но без него невозможно
ничто дальнейшее и большее.
Так как для Бога, вечного и нераздельного, все есть
вместе и зараз, все в одном, то утверждать какое-нибудь
индивидуальное существо в Боге—значит утверждать его
не в его отдельности, а во всем, или, точнее, в единстве
всего. Но так как это индивидуальное существо в своей
данной действительности не входит в единство всего,
существует отдельно, как материально обособленное явление,
то предмет нашей верующей любви необходимо
различается от эмпирического объекта нашей инстинктивной
любви, хотя и нераздельно связан с ним. Это есть одно
и то же лицо в двух различных видах или в двух разных
сферах бытия—идеальной и реальной. Первое есть пока
только идея. Но в настоящей, верующей и зрячей любви
мы знаем, что эта идея не есть наше произвольное
измышление, а что она выражает истину предмета, только еще
не осуществленную в сфере внешних, реальных явлений.
Эта истинная идея любимого предмета хотя и
просвечивает в мгновения любовного пафоса сквозь реальное
явление, но в более ясном виде является сначала лишь как
предмет воображения. Конкретная форма этого
воображения, идеальный образ, в который я облекаю любимое
лицо в данный момент, создается, конечно, мною, но он
создается не из ничего, и субъективность этого образа как
такового, т. е. являющегося теперь и здесь перед очами
моей души, нисколько не доказывает субъективного, т. е. для
меня лишь существующего, характера самого
воображаемого предмета. Если для меня, находящегося по сю
сторону трансцендентного мира, известный идеальный
предмет является только как произведение моего
воображения, это не мешает его полной действительности в другой,
высшей сфере бытия. И хотя наша реальная жизнь
находится вне этой высшей сферы, но наш ум не совсем чужд
ей, и мы можем иметь некоторое умозрительное понятие
о законах ее бытия. И вот первый, основной закон: если
в нашем мире раздельное и изолированное существование
есть факт и актуальность, а единство—только понятие
и идея, то там, наоборот, действительность принадлежит
единству, или, точнее, всеединству, а раздельность и
обособленность существуют только потенциально и
субъективно.
А отсюда следует, что бытие этого лица в
трансцендентной сфере не есть индивидуальное в смысле здешнего
61
реального бытия. Там, т. е. в истине, индивидуальное
лицо есть только луч, живой и действительный, но
нераздельный луч одного идеального светила—всеединой
сущности. Это идеальное лицо, или олицетворенная идея,
есть только индивидуализация всеединства, которое
неделимо присутствует в каждой из этих своих
индивидуализацией. Итак, когда мы воображаем идеальную форму
любимого предмета, то под этой формой нам сообщается
сама всеединая сущность. Как же мы должны ее мыслить?
VII
Бог как единый, различая от себя свое другое, т. е. все,
что не Он сам, соединяет с собою это все, представляя
себе его вместе и зараз, в абсолютно совершенной форме,
следовательно, как единое. Это другое единство,
различное, хотя и неотделимое от первоначального единства Бо-
жия, есть относительно Бога единство пассивное,
женское, так как здесь вечная пустота (чистая потенция)
воспринимает полноту божественной жизни. Но если в основе
этой вечной Женственности лежит чистое ничто, то для
Бога это ничто вечно скрыто воспринимаемым от
Божества образом абсолютного совершенства. Это
совершенство, которое для нас еще только осуществляется, для
Бога, т.е. в истине, уже есть действительно. То идеальное
единство, к которому стремится наш мир и которое
составляет цель космического и исторического процесса,
оно не может быть только чьим-нибудь субъективным
понятием (ибо чьим же?), оно истинно есть как вечный
предмет любви Божией, как Его вечное другое.
Этот живой идеал Божией любви, предшествуя нашей
любви, содержит в себе тайну ее идеализации. Здесь
идеализация низшего существа есть вместе с тем
начинающаяся реализация высшего, и в этом истина любовного
пафоса. Полная же реализация, превращение индивидуального
женского существа в неотделимый от своего лучезарного
источника луч вечной Божественной Женственности будет
действительным, не субъективным только, а и
объективным воссоединением индивидуального человека с Богом,
восстановлением в нем живого и бессмертного образа
Божий.
Предмет истинной любви не прост, а двойствен: мы
любим, во-первых, то идеальное (не в смысле
отвлеченном, а в смысле принадлежности к другой, высшей сфере
62
бытия) существо, которое мы должны ввести в наш
реальный мир, и, во-вторых, мы любим то природное
человеческое существо, которое дает живой личный материал для
этой реализации и которое чрез это идеализируется не
в смысле нашего субъективного воображения, а в смысле
своей действительной объективной перемены или
перерождения. Таким образом, истинная любовь есть
нераздельно и восходящая и нисходящая (amor ascendens и amor
descenders, или те две Афродиты, которых Платон хорошо
различал, но дурно разделял,—'Афробил. Oupavia
и 'Афро81тл. ПолЯтщос,). Для Бога Его другое (т. е.
вселенная) имеет от века образ совершенной Женственности, по
Он хочет, чтобы этот образ был не только для Него, но
чтобы он реализовался и воплотился для каждого
индивидуального существа, способного с ним соединяться. К
такой же реализации и воплощению стремится и сама
вечная Женственность, которая не есть только
бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо,
обладающее всей полнотой сил и действий. Весь мировой
и исторический процесс есть процесс ее реализации и
воплощения в великом многообразии форм и степеней.
В половой любви, истинно понимаемой и истинно
осуществляемой, эта божественная сущность получает
средство для своего окончательного, крайнего воплощения
в индивидуальной жизни человека, способ самого
глубокого и вместе с тем самого внешнего реально-
ощутительного соединения с ним. Отсюда те проблески
неземного блаженства, то веяние нездешней радости,
которыми сопровождается любовь, даже несовершенная,
и которые делают ее, даже несовершенную, величайшим
наслаждением людей и богов—hominom divomque volup-
tas*. Отсюда же и глубочайшее страдание любви,
бессильной удержать свой истинный предмет и все более и
более от него удаляющийся.
Здесь получает свое законное место и тот элемент
обожания и беспредельной преданности, который так
свойствен любви и так мало имеет смысла, если относится
только к земному ее предмету в отдельности от небесного.
Мистическое основание двойственного, или, лучше
сказать, двустороннего характера любви разрешает
вопрос о возможности повторения любви. Небесный
предмет нашей любви только один, всегда и для всех один
* Людей и бессмертных услада (лат.).
63
и тот же—вечная Женственность Божия; но так как
задача истинной любви состоит не в том только, чтобы
поклоняться этому высшему предмету, а в том, чтобы
реализовать и воплотить его в другом, низшем существе той же
женской формы, не земной природы, оно же есть лишь
одно из многих, то его единственное значение для
любящего, конечно, может быть и преходящим. А должно ли
быть таковым и почему, это уже решается в каждом
индивидуальном случае и зависит не от единой и неизменной
мистической основы истинного любовного процесса, а от
его дальнейших нравственных и физических условий,
которые мы и должны рассмотреть.
Статья пятая
I
Невольное и непосредственное чувство открывает нам
смысл любви как высшего проявления индивидуальной
жизни, находящей в соединении с другим существом свою
собственную бесконечность. Не довольно ли этого
мгновенного откровения? Разве мало хоть раз в жизни
действительно почувствовать свое безусловное значение?
И я знаю, взглянувши на звезды порой,
Что взирали на них мы, как боги, с тобой.
Едва ли этого довольно даже для одного поэтического
чувства, а сознание истины и воля жизни решительно на
этом помириться не могут. Бесконечность только
мгновенная есть противоречие, нестерпимое для ума,
блаженство только в прошедшем есть страдание для воли. Есть
те проблески иного света, после которых
Еще темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы.
Если они только обман, то и в воспоминании могут
вызывать только стыд и горечь разочарования; а если они не
были обманом, если они открывали нам какую-то
действительность, которая потом закрылась и исчезла для
нас, то почему же должны мы мириться с этим
исчезновением? Если то, что потеряно, было истинным, тогда
задача сознания и воли не в том, чтобы принять потерю за
окончательную, а в том, чтобы понять и устранить ее
причины.
64
Ближайшая причина (как было отчасти показано
в предыдущей статье) состоит в извращении самого
любовного отношения. Это начинается очень рано: едва
только первоначальный пафос любви успеет показать нам
край иной, лучшей действительности—с другим
принципом и законом жизни, как мы сейчас же стараемся
воспользоваться подъемом энергии вследствие этого
откровения не для того, чтобы идти дальше, куда оно зовет нас,
а только для того, чтобы покрепче укорениться и
попрочнее устроиться в той прежней, дурной действительности,
над которой любовь только что приподняла нас; добрую
весть из потерянного рая—весть о возможносги его
возвращения—мы принимаем за приглашение окончательно
натурализоваться в земле изгнания, поскорее вступить
в полное и потомственное владение своим маленьким
участком со всеми его волчцами и терниями; тот разрыв
личной ограниченности, который знаменует любовную
страсть и составляет ее основной смысл, приводит на деле
только к эгоизму вдвоем, потом втроем и т. д. Это,
конечно, все-таки лучше, чем эгоизм в одиночку, но рассвет
любви открывал совсем иные горизонты.
Как скоро жизненная сфера любовного соединения
перенесена в материальную действительность, какова она
есть, так сейчас же соответственным образом
извращается и самый порядок соединения. Его «нездешняя»,
мистическая основа, которая так сильно давала о себе знать
в первоначальной страсти, забывается как мимолетная
экзальтация, а самым желательным, существенной целью
и вместе первым условием любви признается то, что
должно быть лишь ее крайним, обусловленным проявлением.
Это последнее—физическое соединение, поставленное на
место первого и лишенное таким образом своего
человеческого смысла, возвращение к смыслу животному,—
делает любовь не только бессильною против смерти, но
само неизбежно становится нравственною могилою
любви гораздо раньше, чем физическая могила возьмет
любящих.
Прямое личное противодействие такому порядку
труднее для исполнения, нежели для понимания: его
можно указать в нескольких словах. Чтобы упразднить этот
Дурной порядок жизненных явлений, нужно прежде всего
признать его ненормальным, утверждая тем самым, что
есть другой, нормальный, в котором все внешнее и слу-
3-IS20
65
чайное подчинено внутреннему смыслу жизни. Такое
утверждение не должно быть голословно; опыту внешних
чувств должен быть противопоставлен не отвлеченный
принцип, а другой опыт—опыт веры. Этот последний
несравненно труднее первого, ибо он обусловлен более
внутренним действием, нежели восприятием извне. Только
последовательными актами сознательной веры входим мы
в действительное соотношение с областью истинно-сущего,
а чрез это—в истинное соотношение с нашим «другим»;
только на этом основании может быть удержана и
укреплена в сознании та безусловность для нас другого лица
(а следовательно, и безусловность нашего соединения с
ним), которая непосредственно и безотчетно открывается
в пафосе любви, ибо этот любовный пафос приходит
и проходит, а вера любви остается.
Но чтобы не оставаться мертвой верой, ей нужно
непрерывно себя отстаивать против той действительной
среды, где бессмысленный случай созидает свое
господство на игре животных страстей и еще худших страстей
человеческих. Против этих враждебных сил у верующей
любви есть только оборонительное оружие—терпение до
конца. Чтобы заслужить свое блаженство, она должна
взять крест свой. В нашей материальной среде нельзя
сохранить истинную любовь, если не понять и не принять ее
как нравственный подвиг. Недаром православная церковь
в своем чине брака поминает святых мучеников и к их
венцам приравнивает венцы супружеские.
Религиозная вера и нравственный подвиг охраняет
индивидуального человека и его любовь от поглощения
материальною средою во время его жизни, но не дают еще
ему торжества над смертью. Внутреннее перерождение
любовного чувства, исправление извращенных
отношений любви не исправляет и не отменяет дурного закона
физической жизни не только во внешнем мире, но и в
самом человеке. Он реально остается по-прежнему
ограниченным существом, подчиненным материальной природе.
Внутреннее—мистическое и нравственное—соединение
его с дополняющей индивидуальностью не может
одолеть ни их взаимной отдельности и непроницаемости, ни
общей зависимости их от вещественного мира. Последнее
слово остается не за нравственным подвигом, а за
беспощадным законом органической жизни и смерти, и люди,
до конца отстаивавшие вечный идеал, умирают с
человеческим достоинством, но с животным бессилием.
66
Пока индивидуальный подвиг ограничивается только
своим ближайшим предметом—исправлением личного
извращенного отношения между двумя существами, — он
необходимо останется без окончательного успеха и в этом
своем прямом деле. Ибо то зло, с которым сталкивается
истинная любовь, зло материальной отдельности,
непроницаемости и внешнего противоборства двух существ,
внутренло восполняющих друг друга,—это зло есть
частный, хотя и типичный случай общего извращения,
которому подвержена наша жизнь, и не только наша, но и жизнь
всего мира.
Действительно спастись, т. е. возродить и увековечить
свою индивидуальную жизнь в истинной любви,
единичный человек может только сообща или вместе со всеми.
Он имеет право и обязанность отстаивать свою
индивидуальность от дурного закона общей жизни, но не
отделять свое благо от истинного блага всех живущих. Из
того, что самое глубокое и интенсивное проявление любви
выражается во взаимоотношении двух восполняющих
друг друга существ, никак не следует, чтобы это
взаимоотношение могло отделять и обособлять себя от всего
прочего как нечто самодовлеющее; напротив, такое
обособление есть гибель любви, ибо само по себе половое
отношение при всем своем субъективном значении
оказывается (объективно) лишь преходящим, эмпирическим
явлением. Точно так же из того, что совершенное
соединение таких единичных существ останется всегда основною
и истинною формою индивидуальной жизни, вовсе не
следует, что эта замкнутая в своем индивидуальном
совершенстве жизненная форма должна пребывать пустою,
когда она, напротив, по самой природе человека способна
и предназначена наполняться универсальным
содержанием. Наконец, если нравственный смысл любви требует
воссоединения того, что неправедно разделено, требует
отождествления себя и другого, то отделять задачу
нашего индивидуального совершенства от процесса
всемирного объединения было бы противно самому этому
нравственному смыслу любви, если бы даже такое отделение
было физически возможно.
II
Таким образом, всякая попытка уединить и обособить
индивидуальный процесс возрождения в истинной любви
з«
67
встречается с тройным неодолимым препятствием,
поскольку наша индивидуальная жизнь со своею любовью,
отделенная от процесса жизни всемирной, неизбежно
оказывается, во-первых, физически несостоятельной,
бессильной против времени и смерти, затем умственно пустой,
бессодержательной и, наконец, нравственно недостойной.
Если фантазия перескакивает через физическое и
логическое препятствие, то и она должна остановиться перед
нравственной невозможностью.
Предположим нечто совершенно фантастическое,
предположим, что какой-нибудь человек так усилил свой дух
последовательным сосредоточением сознания и воли
и так очистил свою телесную природу аскетическим
подвигом, что действительно восстановил (для себя и для
своего дополнительного «другого») истинную целость
человеческой индивидуальности, достиг полного
одухотворения и бессмертия. Будет ли эта возрожденная
индивидуальность наслаждаться своим одиноким блаженством
в той среде, где все по-прежнему страдает и гибнет? Но
пойдем еще дальше. Пусть эта переродившаяся чета
получила способность сообщать всем другим свое высшее
состояние, это, конечно, невозможно, поскольку оно
обусловлено личным нравственным подвигом, но пусть это
будет что-нибудь в роде философского камня или
жизненного эликсира. И вот все живущие на земле исцелены от
своих зол и болезней, все свободны и бессмертны. Но
чтобы быть при этом счастливыми, им нужно еще одно
условие: они должны забыть своих отцов, забыть настоящих
виновников этого своего благополучия, потому что, какое
бы фантастическое значение ни приписывалось личному
подвигу, все-таки нужно было, чтобы тысячи и тысячи
поколений своим совокупным собирательным трудом
создали ту культуру, те нравственные и умственные
построения, без которых задача индивидуального
перерождения не могла бы быть не только исполнена, но и
задумана. И эти миллиарды людей, положивших свою жизнь
за других, будут тлеть в своих могилах, а их праздные
потомки будут равнодушно наслаждаться своим даровым
счастьем! Но это предполагало бы нравственное одичание
и даже хуже, потому что и дикари чтут своих предков и
сохраняют общение с ними. Каким же образом
окончательное и высшее состояние человечества может быть
основано на несправедливости, неблагодарности и забвении?
Человек, достигший высшего совершенства, не может при-
68
нять такого недостойного дара; если он не в состоянии
вырвать у смерти всю свою добычу, он лучше откажется
от бессмертия.
Разбей этот кубок, в нем злая отрава таится.
К счастью, все это—только произвольная и праздная
фантазия, и до такого трагического испытания
нравственной солидарности в человечестве дело никогда не дойдет
в силу естественной солидарности нашей с целым
миром,—-в силу физической невозможности частного
решения жизненной задачи отдельным человеком или
отдельным поколением. Наше перерождение неразрывно
связано с перерождением вселенной, с преобразованием ее
форм пространства и времени. Истинная жизнь
индивидуальности в ее полном и безусловном значении
осуществляется и увековечивается только в
соответствующем развитии всемирной жизни, в котором мы можем
и должны деятельно участвовать, но которое не нами
создается. Наше личное дело, поскольку оно истинно, есть
общее дело всего мира—реализация и индивидуализация
всеединой идеи и одухотворения материи. Оно
подготовляется космическим процессом в природном мире,
продолжается и совершается историческим процессом в
человечестве. Наше неведение о всесторонней связи конкретных
частностей в единстве целого оставляет нам при этом
свободу действий, которая со всеми ее последствиями уже от
века вошла в абсолютный всеобъемлющий план.
Всеединая идея может окончательно реализоваться
или воплотиться только в полноте совершенных
индивидуальностей, значит, последняя цель всего дела есть
высшее развитие каждой индивидуальности в полнейшем
единстве всех, а это необходимо включает в себя и нашу
жизненную цель, которую нам, следовательно, нет ни
побуждения, ни возможности отделять или обособлять от
Цели всеобщей. Мы нужны миру столько же, сколько и он
нам; вселенная от века заинтересована в сохранении,
развитии и увековечении всего того, что действительно для
нас нужно и желательно, всего положительного и
достойного в нашей индивидуальности, и нам остается только
принимать возможно более сознательное и деятельное
Участие в общем историческом процессе—для самих себя
и Для всех других нераздельно.
69
Ill
Истинному бытию, или всеединой идее,
противополагается в нашем мире вещественное бытие—то самое, что
подавляет своим бессмысленным упорством и нашу
любовь и не дает осуществиться ее смыслу. Главное свойство
этого вещественного бытия есть двойная
непроницаемость: 1) непроницаемость во времени, в силу которой
всякий последующий момент бытия не сохраняет в себе
предыдущего, а исключает или вытесняет его собою из
существования, так что все новое в среде вещества
происходит на счет прежнего или в ущерб ему, и 2)
непроницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества
(два тела) не могут занимать зараз одного и того же места,
т. е. одной и той же части пространства, а необходимо
вытесняют друг друга. Таким образом, то, что лежит в
основе нашего мира, есть бытие в состоянии распадения,
бытие, раздробленное на исключающие друг друга части
и моменты. Вот какую глубокую почву и какую широкую
основу должны мы принять для того рокового разделения
существ, в котором все бедствие и нашей личной жизни.
Победить эту двойную непроницаемость тел и явлений,
сделать внешнюю реальную среду сообразной
внутреннему всеединству идеи—вот задача мирового процесса,
столь же простая в общем понятии, сколько сложная
и трудная в конкретном осуществлении.
Видимое преобладание материальной основы нашего
мира и жизни так еще велико, что многие, даже
добросовестные, но несколько односторонние умы думают, что,
кроме этого вещественного бытия в различных его
видоизменениях, вообще ничего не существует. Однако, не
говоря уже о том, что признание этого видимого мира за
единственный есть произвольная гипотеза, в которую
можно верить, но которой нельзя доказать, и не выходя из
пределов этого мира, должно признать, что материализм
все-таки не прав, даже с фактической точки зрения.
Фактически и в нашем видимом мире существует многое такое,
что не есть только видоизменение вещественного бытия
в его пространственной и временной непроницаемости,
а есть даже прямое отрицание и упразднение этой самой
непроницаемости. Таково, во-первых, всеобщее
тяготение, в котором части вещественного мира не исключают
друг друга, а, напротив, стремятся включить, вместить
70
себя взаимно. Можно ради предвзятого принципа строить
мнимо научные гипотезы одну на другой, но для
разумного понимания никогда не удастся из определений
инертного вещества объяснить факторы прямо
противоположного свойства: никогда не удастся протяжение свести к
протяжению, влечение вывести из непроницаемости и
стремление понять как косность. А между тем без этих
невещественных факторов невозможно было бы даже самое
простое, телесное бытие. Вещество само себе—ведь это
только неопределенная и бессвязная совокупность
атомов, которым более великодушно, чем основательно,
придают присущее им будто бы движение. Во всяком
случае, для определения и постоянного соединения
вещественных частиц в теле необходимо, чтоб их
непроницаемость, или, что то же, абсолютная бессвязанность,
заменилась в большей или меньшей степени положительным
взаимодействием между ними. Таким образом, и вся
наша вселенная, насколько она не есть хаос разрозненных
атомов, а единое и связное целое, предполагает, сверх
своего дробного материала, еще форму единства (а также
деятельную силу, покоряющую этому единству противные
ему элементы). Единство вещественного мира не есть
вещественное единство—такого вообще быть не может,
это contradictio in abjecta*. Образованное противуве-
щественным (а с точки зрения материализма, значит, про-
тивуестественным) законом тяготения, всемирное тело
есть целость реально-идеальная, психофиэическая, или
прямо (согласно мысли Ньютона о sensorium Dei**) оно
есть тело мистическое.
Сверх силы всемирного тяготения идеальное
всеединство осуществляется духовно-телесным образом в
мировом теле посредством света и других сродных явлений
(электричество, магнетизм, теплота), которых характер
находится в таком явном контрасте со свойствами
непроницаемого и косного вещества, что и материалистическая
наука принуждена очевидностью признать здесь особого
рода полувещественную субстанцию, которую она
называет эфиром. Это есть материя невесомая, всепроницае-
мая и всепроницающая—одним словом, вещество
невещественное.
Этими воплощениями всеединой идеи—тяготением
* Противоречие в определении (лат.).
** Чувствилище Божества (лат.).
71
и эфиром—держится наш действительный мир, а
вещество само по себе, т.е. мертвая совокупность косных
и непроницаемых атомов, только мыслится
отвлекающим рассудком, но не наблюдается и не открывается ни
в какой действительности. Мы не знаем такого момента,
когда бы материальному хаосу принадлежала настоящая
реальность, а космическая идея была бы бесплотною и
немощною тьмою; мы только предполагаем такой момент
как точку отправления мирового процесса в пределах
нашей видимой вселенной.
Уже и в природном мире идее принадлежит все, но
истинная ее сущность требует, чтобы не только ей
принадлежало все, все в нее включалось или ею обнималось, но
чтобы и она сама принадлежала всему, чтобы все, т. е. все
частные и индивидуальные существа, а следовательно, и
каждое из них, действительно обладали идеальным
всеединством, включали его в себя. Совершенное всеединство по
самому понятию своему требует полного равновесия,
равноценности и равноправности между единым и всем, между
целым и частями, между общим и единичным. Полнота
идеи требует, чтобы наибольшее единство целого
осуществлялось и наибольшей самостоятельности и свободе
частных и единичных элементов—в них самих, через них и для
них. В этом направлении космический процесс доходит до
сознания животной индивидуальности, для которой
единство идеи существует в образе рода и ощущается с полною
силою в момент полового влечения, когда внутреннее
единство, или общность с другим (со «всем»), конкретно
воплощается в отношении к единичной особи другого
пола, представляющей собой это дополнительное «все»—в
одном. Сама индивидуальная жизнь животного
организма уже содержит в себе некоторое, хотя ограниченное,
подобие всеединства, поскольку здесь осуществляется
полная солидарность и взаимность всех частных органов
и элементов в единстве живого тела. Но как эта
органическая солидарность в животном не переходит за пределы
его телесного состава, так и для него образ
восполняющего «другого» всецело ограничен таким же единичным
телом с возможностью только материального, частичного
соединения; а потому сверхвременная бесконечность, или
вечность идеи, действующая в жизненной творческой силе
любви, принимает здесь дурную прямолинейную форму
беспредельного размножения, т.е. повторения одного
72
и того же организма в однообразной смене единичных
временных существований.
В человеческой жизни прямая линия родового
размножения хотя и сохраняется в основе, но благодаря
развитию сознания и сознательного общения она
заворачивается историческим процессом все в более и более
обширные круги социальных и культурных организмов. Эти
социальные организмы производятся тою же жизненною
творческою силою любви, которая порождает и
организмы физические. Эта сила непосредственно создает семью,
а семья есть образующий элемент всякого общества.
Несмотря на эту генетическую связь, отношение
человеческой индивидуальности к обществу существенно иное,
нежели отношение животной индивидуальности к роду;
человек не есть преходящий экземпляр общества. Единство
социального организма действительно сосуществует
с каждым из его индивидуальных членов, имеет бытие не
только в нем и через него, но и для него, находится с ним
в определенной связи и соотношении: общественная
и индивидуальная жизнь со всех сторон взаимно
проникают друг друга. Следовательно, мы имеем здесь гораздо
более совершенный образ воплощения всеединой идеи,
нежели в организме физическом. Вместе с тем здесь
начинается извнутри (из сознания) процесс интеграции во
времени (или против времени). Несмотря на
продолжающуюся и в человечестве смену поколений, есть уже
начатки увековечения индивидуальности в религии предков—
этой основе всякой культуры, в предании—памяти
общества, в искусстве, наконец, в исторической науке.
Несовершенный, зачаточный характер такого увековечения
соответствует несовершенству самой человеческой
индивидуальности и самого общества. Но прогресс несомненен,
и окончательная задача становится яснее и ближе.
IV
Если корень ложного существования состоит в
непроницаемости, т. е. во взаимном исключении существ друг
Другом, то истинная жизнь есть то, чтобы жить в другом,
как в себе, или находить в другом положительное и
безусловное восполнение своего существа. Основанием и
типом этой истинной жизни остается и всегда останется
любовь половая, или супружеская. Но ее собственное
осуществление невозможно, как мы видели, без соответ-
73
ствующего преобразования всей внешней среды, т. е.
интеграция жизни индивидуальной необходимо требует такой
же интеграции в сферах жизни общественной и
всемирной. Определенное различие, или раздельность, жизненных
сфер, как индивидуальных, так и собирательных, никогда
не будет и не должно быть упразднено, потому что такое
всеобщее слияние привело бы к безразличию и к пустоте,
а не к полноте бытия. Истинное соединение предполагает
истинную раздельность соединяемых, т. е. такую, в силу
которой они не исключают, а взаимно полагают друг
друга, находя каждый в другом полноту собственной жизни.
Как в любви индивидуальной два различные, но
равноправные и равноценные существа служат один другому не
отрицательною границею, а положительным
восполнением, точно то же должно быть и во всех сферах жизни
собирательной; всякий социальный организм должен быть
для каждого своего члена не внешнею границею его
деятельности, а положительною опорою и восполнением: как
для половой любви (в сфере личной жизни) единичное
«другое» есть вместе с тем все, так со своей стороны
социальное все в силу положительной солидарности всех
своих элементов должно для каждого из них являться как
действительное единство, как бы другое, восполняющее
его (в новой, более широкой сфере) живое существо.
Если отношения индивидуальных членов общества
друг к другу должны быть братские ( и сыновние—по
отношению к прошедшим поколениям и их социальным
представителям), то связь их с целыми общественными
сферами—местными, национальными и, наконец, со
вселенскою—должна быть еще более внутренней,
всесторонней и значительной. Эта связь активного
человеческого начала (личного) с воплощенною в социальном
духовно-телесном организме всеединою идеею должна быть
живым сизигическим отношением *. Не подчиняться своей
общественной сфере и не господствовать над нею, а быть
с ней в любовном взаимодействии, служить для нее
деятельным, оплодотворяющим началом движения и
находить в ней полноту жизненных условий и возможностей—
таково отношение истинной человеческой индивидуаль-
* От сизигия (греч.).—сочетание. Я принужден ввести это новое
выражение, не находя в существующей терминологии другого, лучшего.
Замечу, что гностики употребляли слово «сизигия» в другом смысле и что
вообще употребление еретиками известного термина еще не делает его
еретическим.
74
поста не только к своей ближайшей социальной среде,
к своему народу, но и ко всему человечеству. В Библии
города, страны, народ израильский, а затем и все
возрожденное человечество или вселенская Церковь
представляются в образе женских индивидуальностей, и это не есть
простая метафора. Из того, что образ единства
социальных тел неощутителен для наших внешних чувств, никак
не следует, чтоб его вовсе не существовало: ведь и наш
собственный телесный образ совсем неощутителен и
неведом для отдельной мозговой клеточки или для кровяного
шарика: и если мы как индивидуальность, способная
к полноте бытия, отличаемся от этих элементарных
индивидуальностей не только большею ясностью и широтою
разумного сознания, но и большею силою творческого
воображения, то я не вижу надобности отказываться от
этого преимущества. Как бы то ни было, с образом или
без образа, требуется прежде всего, чтобы мы относились
к социальной и всемирной среде как к действительному
живому существу, с которым мы, никогда не сливаясь до
безразличия, находимся в самом тесном и полном
взаимодействии. Такое распространение сизигического
отношения на сферы собирательного и всеобщего бытия
совершенствует самую индивидуальность, сообщая ей
единство и полноту жизненного содержания, и тем самым
возвышает и увековечивает основную индивидуальную
форму любви.
Несомненно, что исторический процесс совершается
в этом направлении, постепенно разрушая ложные или
недостаточные формы человеческих союзов
(патриархальные, деспотические,
односторонне-индивидуалистические) и вместе с тем все более и более
приближаясь не только к объединению всего человечества
как солидарного целого, но и к установлению истинного
сизигического образа этого всечеловеческого единства.
По мере того как всеединая идея действительно
осуществляется чрез укрепление и усовершенствование своих
индивидуально-человеческих элементов, необходимо
ослабевают и сглаживаются формы ложного разделения, или
непроницаемости, существ в пространстве и времени. Но
Для полного их упразднения и для окончательного
увековечения всех индивидуальностей, не только настоящих,
ио и прошедших, нужно, чтобы процесс интеграции
перешел за пределы жизни социальной, или собственно-
человеческой, и включил в себя сферу космическую, из ко-
75
торой он вышел. В устроении физического мира
(космический процесс) божественная идея только снаружи облекла
царство материи и смерти покровом природной красоты:
чрез человечество, чрез действие его универсально-
разумного сознания она должна войти в это царство изв-
нутри, чтобы оживотворить природу и увековечить ее
красоту. В этом смысле необходимо изменить отношение
человека к природе. И с нею он должен установить то си-
зигическое единство, которым определяется его истинная
жизнь в личной и общественной сферах.
V
Природа до сих пор была—или всевластною,
деспотическою матерью младенчествующего человечества, или
чужою ему рабою, вещью. В эту вторую эпоху одни
только поэты сохранили еще и поддерживали, хотя
безотчетное и робкое, чувство любви к природе как к
равноправному существу, имеющему или могущему иметь жизнь в
себе. Истинные поэты всегда оставались пророками
всемирного восстановления жизни и красоты, как хорошо сказал
один из них своим собратьям:
Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.
С торжищ житейских, бесцветных и душных,
Видеть как радостно тонкие краски,
В радугах ваших прозрачно-воздушных
Неба родного мне чудятся ласки.
Установление истинного любовного, или сизигическо-
го, отношения человека не только к его социальной, но и
к его природной и всемирной среде—эта цель сама по себе
ясна. Нельзя сказать того же и о путях ее достижения для
«отдельного» человека. Не вдаваясь в преждевременные,
а потому сомнительные и неудобные подробности,
можно, основываясь на твердых аналогиях космического
и исторического опыта, с уверенностью утверждать, что
всякая сознательная деятельность человеческая,
определяемая идеею всемирной сизигии и имеющая целью
воплотить всеединый идеал в той или иной другой сфере,
тем самым действительно производит или освобождает
реальные духовно-телесные токи, которые постепенно ов-
76
ладевают материальною средою, одухотворяют ее и
воплощают в ней те или другие образы всеединства —
живые и вечные подобии абсолютной человечности. Сила
же этого духовно-телесного творчества в человеке есть
только превращение или обращение внутрь той самой
творческой силы, которая в природе, будучи обращена
наружу, производит дурную бесконечность физического
размножения организмов.
Связавши в идее всемирной сизигии (индивидуальную
половую) любовь с истинною сущностью всеобщей
жизни, я исполнил свою прямую задачу—определить смысл
любви, так как под смыслом какого-нибудь предмета
разумеется именно его внутренняя связь с всеобщей истиной.
Что касается до некоторых социальных вопросов,
которые мне пришлось затронуть, то я предполагаю еще к ним
вернуться.
Жизненная драма Платона
XIX
Немногочисленные, но согласные свидетельства
древности говорят, что Платон до встречи своей с Сократом
писал любовные стихи, которые он сжег, когда увлекся
речами «мудрейшего из эллинов». Сохранившиеся и
дошедшие до нас с именем Платона несколько эротических
стихотворений, если бы только они были подлинны,
указывали бы на действительные отношения будущего философа
к определенным лицам того или другого пола. Это и само
по себе вероятно как с психологической, так и с
исторической точки зрения. Но интересны не эти безотчетные
проявления инстинкта, а эротический кризис, сознательно
пережитый Платоном в средине его жизни и увековеченный
в Фэдре и Пиршестве.
О внешних биографических обстоятельствах этого
происшествия я говорить не буду по многим причинам,
и главным образом потому, что мы совершенно ничего об
этом не знаем. Но если история молчит о личных подроб-
77
ностях этого интересного романа, с кем и каким образом
он произошел, то два названные диалога достаточно
свидетельствуют как о самом факте, так и о том, что вынес из
него Платон. Только этот неизвестный, но необходимо
предполагаемый факт дает ключ к последовавшей
перемене в мировоззрении Платона, и он же один может
объяснить появление и характер Фэдра и Пиршества. Эти два
произведения и по светлому, жизнерадостному
настроению, в них отразившемуся, и по самому сюжету резко
выделяются из прочих писаний Платона; и есть ли какая-
нибудь возможность допустить, что философ,
смотревший перед тем на все человеческие дела и интересы как на
«не-сущее» и занятый отвлеченнейшими размышлениями
о гносеологических и метафизических вопросах, вдруг ни
с того ни с сего, без особого реального и жизненного
возбуждения, посвящает лучшие свои произведения любви—
предмету, вовсе не входившему в его философский
кругозор,—где излагает новую теорию, не имеющую никакой
опоры в его прежних воззрениях, но оставляющую
глубокий и неизгладимый, хотя косвенный, след во всем его
дальнейшем образе мыслей? Содержание Фэдра и
Пиршества, теоретически не связанное и несовместимое с
отрешенным идеализмом «двух миров», может быть понято
лишь как преобразование, прогресс в этом идеализме,
вызванный требованиями нового жизненного опыта. Говоря
это, я предполагаю, что эти два диалога принадлежат
к средней эпохе Платоновой жизни и творчества. Так это
и принимается большинством авторитетных ученых.
Правда, Шлейермахер признал Фэдра за первое,
юношеское произведение Платона, хотя никакой попытки
действительно доказать это основное для него положение мы
у него не находим. А с другой стороны, современный
филолог Константин Риттер находит возможным по
соображениям филологическим, которые, впрочем, никому,
кроме него, не показались убедительными, относить того же
Фэдра к старческому возрасту Платона. Эти два
парадокса взаимно друг друга уничтожают и оставляют общий
взгляд без изменения.
При первом серьезном знакомстве с Фэдром и
Пиршеством современный читатель должен испытывать
некоторое смущение и недоумение. Натуральная подкладка
эротических чувств и отношений здесь совсем не та, какая
вообще принята за нормальную в современной жизни
и литературе. Там, где у нас предполагается один ряд от-
78
ношений, древние греки, испорченные азиатскими
влияниями, допускали по крайней мере три.
Одна из уцелевших од знаменитой поэтессы Сафо из
Лесбоса начинается таким обращением к богине любви:
IToiKiXoSpov' 'aSdvoc' ' Aq>po5vrn, т.е. пестропрестоль-
ная, бессмертная Афродита! Вот эта пестрота Афродиты,
предполагаемая и Платоном, она-то и смущает его
современного читателя и почитателя, привьпсшего известные
предметы относить не к философии и поэзии, а к
психиатрии, с одной стороны, и к уголовному уложению—с
другой. Конечно, фактические аномалии в этой области у нас
еще пестрее, чем в классическом мире, но мы поражены
тем, что главные из них считались эллином не за
болезненные уклонения, а за что-то простое и естественное
и даже предпочтительное тому, что мы теперь признаем
за единственно натуральное.
Но ставить эту предосудительную особенность в вину
Платону—разумею, Платону-философу—было бы
несправедливо не только с исторической точки зрения, но
и по существу. Находя «пеструю» Афродиту как
узаконенный общим мнением факт, сам он в принципе отвергал ее
всю целиком, без различия ее видов. Всякая плотская
любовь независимо от той или другой формы признана им за
что-то вульгарное и низменное, недостойное истинного
человеческого призвания; это есть 'A<ppo8uti Шуб^цос,,
буквально «всенародная», в смысле дешевой, ничего не
стоящей и в отличие от истинной, или небесной,
Афродиты Урании, которая стоит многого и великого.
Правда, для земного человека обе имеют один корень,
вырастают из одной и той же материальной почвы—но
что же из этого? Мы знаем, что самые красивые цветы
и самые вкусные плоды растут из земли, и притом из
земли самой нечистой, унавоженной. Это не портит их вкуса
и аромата, но и не сообщает благоухания навозу,
который не становится благородным от тех благородных
произрастаний, которым он служит.
XX
Разбирать различные сорта органического удобрения
интересно для агронома-специалиста. Общую важность
имеют здесь лишь две истины: во-первых, что всякий сорт
этого товара есть одинаково продукт разложения жизни
79
и что жить и питаться в этой разлагающейся среде могут
только черви, а не люди, и, во-вторых, что люди могут
и должны своею духовною работою извлекать из этой
темной гнили прекрасные цветы и бессмертные плоды
жизни.
Свет из тьмы! Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их...
Да, конечно, таков закон земли. Но следует ли из
этого, что сама тьма есть уже свет, или хотя бы то, что свет
есть прямое естественное порождение тьмы, порождение,
являющееся без борьбы, без труда из одной этой темной
материи, без действия иного, более ему сродного
отеческого начала, —без решительного подчинения низшего
высшему?
Не напрасно, не по наивному недоразумению с именем
Платона соединяется представление о высокой и чистой,
идеальной, одним словом—платонической любви. Из
эротического ила, который, по-видимому, в роковую пору
втянул, но не мог надолго затянуть его душу, Платон
вырастил если и не плоды живые духовного перерождения,
то по крайней мере блестящий и чистый цветок своей
эротической теории. Припомним эту теорию: она поможет
нам понять и оценить срединный перелом в жизненной
драме ее автора.
XXI
Под влиянием смерти Сократа, открывшей перед
глазами его ученика всю бездну мирского зла, сложился у
него, как сказано, дуалистический идеализм, прямо по
существу противуполагающий всю нашу живую
действительность тому, что истинно есть и должно быть. В телесной
и практической жизни нет ничего подлинного и
достойного; все подлинное и достойное пребывает в своей чистой
идеальности, за пределами этого нашего мира: оно
«трансцендентно»—нет настоящего моста между двумя
мирами. Сам человек, хотя принадлежит к обоим мирам,
не образует, однако, внутреннего связующего звена
между ними: дуализм упраздняет и единство человека. Две
80
разнородные половины нашего фактического существа
спаяны только внешним случайным образом. У
подлинного или нормального человека, т.е. мудрого и
праведного, истинное его существо—ум созерцающий—
обращено исключительно и всецело к иному,
запредельному свету; такой человек, по-настоящему, живет лишь
в космосе идей, а на земле его призрачная жизнь, общая
с другими людьми, есть для него только умирание. Когда
это хроническое умирание завершается острым,
случайная связь порывается окончательно и безусловно, и
освобожденный из житейской тюрьмы философский ум, отря-
хая прах от ног своих, всецело и без оглядки переходит
в идеальный космос и вступает в общение с другими
пребывающими там чистыми умами.
Меня всегда поражала в диалоге «Фэдон», где
особенно ярко выражен этот дуализм, характерная черта
наивного бессердечия и неделикатности, которую, я уверен,
нужно поставить на счет Платону, а не Сократу. В одном
месте беседы умирающий мудрец дает ясно понять, а
в другом—прямо говорит своим плачущим ученикам,
что разлука с ними нисколько его не огорчает, так как
в загробном мире он рассчитывает встретиться и
беседовать с людьми гораздо более интересными, чем они*.
Я думаю, что если б болезнь не помешала Платону
находиться самому в числе этих плачущих учеников, то он уже
из одного самолюбия остерегся бы вложить в уста
Сократа столь бесцеремонное утешение. Но хотя в этом особом
случае дуалистический идеализм мог бы быть выражен
более тонким и изящным образом, сущность его
достаточно определилась в уме Платона, и совершенно ясно,
что при этом воззрении нет никакой логической точки
опоры для установления положительной связи между
двумя мирами.
XXII
Не находил родоначальник идеализма никакого
соединительного пути пребывающим на умопостигаемых
высотах существом истины и здешнею юдолью, затопленною
потоком чувственных обманов. Не было связи между
совершенною полнотою богов идей и безнадежною пусто-
* Поучительно сравнить с этим прощальную беседу Христа с
апостолами в Евангелиях.
81
тою смертной жизни. Не было связи для разума. Но
произошло нечто иррациональное. Явилась сила, средняя
между богами и смертными, — не Бог и не человек, а некое
могучее демоническое и героическое существо*. Имя
ему—Эрот, а должность—строить мост между небом
и землей и между ними и преисподнею. Это не Бог, но
естественный и верховный священник божества, т. е.
посредник—делатель моста. Младший брат и наследник
Греции—парод римский—тождество этих понятий
выражает одним словом—«pontifex», что значит и священник,
и строитель моста, — разумеется, не чрез обыкновенные
реки, а чрез Стикс и Ахэрон, чрез Флегетон и Коцит; и тот
же всемирный народ сохранял предание, что истинное
имя его Вечного города должно читаться священным, или
понтификальным, способом—справа налево,—и тогда
оно из силы превращается в любовь: Roma (соотв.
греческому Р<Ьцл—сила, по дорийскому диалекту ГТюца,
сравни известное Хатре uoi, РГца, ©суатлр 'Apfjoi;), читаемое
первоначальным, семитическим способом — Amor.
Без посредничества этого могучего демона нельзя
обойтись ничему живущему; так или ипаче, оно прошло
и пройдет по его мосту. Вопрос лишь в том, как
воспользуется человек этою помощью, какую долю небесных
благ проведет он чрез священную постройку в смертную
жизнь.
Когда Эрот входит в земное существо, он сразу
преображает его; влюбленный ощущает в себе новую силу
бесконечности, он получил новый великий дар. Но тут
неизбежно является соперничество и противоборство двух
сторон, или стремлений души, — высшей и низшей:
которая из них захватит себе, обратит в свою пользу могучую
силу Эроса, чтобы стать бесконечно плодотворною, или
рождающею в своей области и в своем направлении.
Низшая душа хочет бесконечных порождений в чувственной
безмерности—отрицательная, дурная бесконечно,
единственно доступная для матери-победительницы:
постоянное повторение одних и тех же исчезающих явлений,
увековеченная жажда и голод без насыщения, живая пустота
без наполнения, бесконечность и вечность Тантала,
Сизифа и Данаид. Чувственная душа тянет книзу крылатого
демона и надевает повязку на глаза его, чтобы он поддер-
* В первоначальных религиозных воззрениях греков бейцшу и flfxoC
имели вообще одно и то же значение.
82
жал жизнь в пустом порядке материальных явлений,
чтобы он сохранял и приводил в действие закон дурной
бесконечности, чтобы он работал как служебное орудие для
бессмысленной безмерности материальных вожделений.
Но что же даст бесконечная сила Эроса высшей,
разумной душе? Обратит ли ее к мысленному созерцанию
истинно-сущего, идеального космоса? Но это уже
свойственно уму по собственной его природе и делается им без
помощи Эроса. Он же сам, по собственному существу
своему, следовательно, и в высшей душе, есть не
теоретическая, или созерцательная, а творческая—бесконечно
рождающая сила. В чем состоит и что дает бесконечное
рождение Эрота под властью низшей, чувственной души,
достаточно известно не только людям, но также животным и
растениям. Но что же он рождает для той души, которая
возвысилась над служением смертной жизни? Где могут
быть ее порождения—не от Аполлона, не от Гермеса, а от
Эрота? Не в мире идей и чистых божественных умор, ибо
там обитает лишь неизменное истинно-сущее, которому и
пе нужно, и невозможно рождаться в своей собственной
вечной области. А рождать в не-сущем не подобает
крылатому и зрячему полубогу, когда он свободен, а не находится
в неволе у низшей, физической души, отнимающей у него
и крылья, и зрение. Значит, для его настоящего творчества
остается то место сопредельности, или соприкосновения,
двух миров, которое пазывается красотою.
По определению Платона, истинное дело Эрота—
рождать в красоте. Что же это значит? Если бы можно
было приписать Платону точку зрения новейших
«эстетов», то это определение было бы понятно как несколько
ходульное обозначение для художественного творчества,
или для занятия искусствами. Но такое понимание совсем
песогласно с образом мыслей нашего философа в
различные эпохи его жизни. Искусство—и то лишь в некоторой,
элементарной его части—он мог признать
второстепенным, предварительным проявлением Эрота, но никак не
его главным и окончательным делом. Из своего
идеального города он изгоняет важнейшие формы поэзии, а
также всякую музыку (в нашем смысле), за исключением
военных песен. К искусствам пластическим он нигде не
показывает никакого интереса. «Рождение в красоте»
есть, во всяком случае, нечто гораздо более важное, чем
занятие искусствами. Но что же именно? Прямого ответа
мы не найдем у Платона. В гениальной речи Диотимы,
83
передаваемой Сократом в «Пиршестве», но
принадлежащей, конечно, не Диотиме и не Сократу, а самому
Платону, он доходит до логически ясной и многообещающей
мысли, что дело Эрота и в лучших душах есть
существенная задача, столь же реальная, как животное рождение, но
неизмеримо более высокая по значению, соответственно
истинному достоинству человека как существа разумного,
как мудреца и праведника,—дойдя до этого, Платон как
будто сбивается с пути и начинает блуждать по неясным
и безысходным тропинкам. Его теория любви,
неслыханная в языческом мире, глубокая и смелая, остается
недосказанною. Но то, что он в ней дает в соединении с кое-
чем, что мир узнал после него, позволяет нам договорить
речь Диотимы и тем самым понять, почему Платон не
досказал ее. А угадав истинную причину этой
недосказанности, мы увидим и то, как она отразилась на дальнейшей
судьбе Платона.
XXIII
Если Эрос есть положительная и существенная связь
двух природ—божественной и смертной,—во вселенной
разделенных, а в человеке соединенных лишь внешним
образом, то в чем же другом может состоять его истинное
и окончательное дело, как не в том, чтобы саму смертную
природу сделать бессмертною? Ведь высшею стороною
своего существа, своею разумною душою, человек и так
бессмертен, по Платону,—тут нет никакого дела или
задачи: и Эрос тут ни при чем. Задача же эротическая может
состоять лишь в сообщении бессмертия той части нашей
природы, которая сама по себе его не имеет, которая
обычно поглощается материальным потоком рождения
и умирания. Логически Платон должен бы был прийти
к такому заключению. И в «Фэдре», и в «Пиршестве» он
ясно и решительно различает и противополагает низшее
и высшее дело Эроса—его дело в человеке-животном
и его дело в истинном, сверхживотном человеке. При
этом должно помнить, что и в высшем человеке Эрос
действует, творит, рождает, а не мыслит и созерцает
только. Значит, и здесь его прямой предмет не
умопостигаемые идеи, а полная телесная жизнь, и противуположность
между двумя Эротами есть лишь противуположность
нравственного и безнравственного отношения к этой
жизни при соответственной противуположности целей и ре-
84
зультатов действий в ней. Если Эрос животный,
подчиняясь слепому, стихийному влечению, воспроизводит на
краткое время жизнь в телах, непрерывно умирающих, то
высший, человеческий Эрос истинною своею целью
должен иметь возрождение, или воскресение, жизни навеки
в телах, отнятых у материального процесса.
Греческий язык не беден на речения, обозначающие
любовь, и если такой мастер мысли и слова, как Платон,
философствуя о высшем проявлении жизни человеческой,
пе пользуется терминами qnAia, ауйят), аторут), а говорит
именно: "Ер<о<;—выражение, относящееся и к низшей,
животной страсти, то ясно, что вся противуположность в
направлении этих двух душевных
движений—стихийно-животного и духовно-человеческого—не
упраздняет реальной общности в их основе, ближайшем
предмете и материале. Любовь как эротический пафос—в
высшем или низшем направлении, все равно,—не
похожа на любовь к Богу, на человеколюбие, на любовь
к родителям и к родине, к братьям и друзьям—это есть
непременно любовь к телесности, и спрашивается
только —для чего! К чему, собственно, стремится любовь
относительно телесности: к тому ли, чтобы повторились в ней
без конца одни и те же стихийные факты возникновения
и исчезания, одна и та же адская победа безобразия,
смерти и тления, или к тому, чтобы сообщить телесному
действительную жизнь в красоте, бессмертии и нетлении?
Так как Платон собственную задачу Эрота определяет
как рождение в красоте, то ясно, что его задача не
разрешается физическим рождением тел к смертной жизни—в
чем нет красоты—и что он должен обращаться на
возрождение, или воскресение, этой жизни к бессмертию.
Последнего Платон не говорит, но именно с этим
умолчанием связано и то, что его теория любви есть прекрасный
махровый цветок без плода.
XXIV
Если Эрос, сын Пороса и Пэнии (божественного
изобилия и материальной скудости), когда он одолевается
и пленяется низшею, материнскою своею природою,
в этом падении и пленении понапрасну тратит свои силы
в пустой ее безмерности и может только прикрывать
безобразие и тленность ее порождений мгновенным видом
жизни и красоты, то что же делает он, когда отцовское на-
85
чало одолевает в нем низшую природу,—что делает
Эрос-победитель? Да в чем может состоять и самая его
победа, как не в том, что он останавливает процесс
умирания и тления, закрепляет жизнь в мгновенно живущем
и умирающем, а избытком своей торжествующей силы
оживляет, воскрешает умершее? Торжество ума—в
чистом созерцании истины, торжество любви—в полном
воскрешении жизни.
Если Эрос есть действительный посредник и pontifex —
делатель моста—между небом, землею и преисподнею,
то его истинная цель есть полное и окончательное их
соединение. Откуда может взяться это ограничение дел его
дела: давай красоту, но только красоту кажущуюся,
поверхностную—красоту повапленного гроба; давай
жизнь, но только минутную, тлеющую и умирающую!
Такую скудность он мог бы иметь от матери, но разве он не
сын богатого отца? В чем это богатство, как не в
изобилующей полноте жизни и красоты? Отчего же он не дает
их полною мерою всему тому, что в них нуждается,—
всему мертвому и тленному? И благородство отцовского
происхождения не позволит ему брать назад свои дары.
Настоящая задача любви—действительно
увековечить любимое, действительно избавить его от смерти
и тления, окончательно переродить его в красоте. Роковое
эротическое крушение философа любви могло состоять
лишь в том, что, подойдя мыслию к этой задаче, он
остановился перед ней, не решился до конца понять и принять
ее, а затем, конечно, и фактически отказался от нее.
Изведавши в чувстве силу обоих Эротов и признав умом
превосходство одного из них, он не дал ему побед на деле. Он
удовлетворился его мысленным образом, забывая, что по
самому значению этой мысли она неразрывно связана
с долгом ее исполнения, с требованием, чтобы она не
оставалась только мыслию; забыв свое собственное
сознание, что Эрос «рождает в красоте», т.е. в
ощутительной реализации идеала, Платон оставил его рождать
только в умозрении.
Какая же причина этой несостоятельности? Самая
общая: и он, поднявшись в теории над большинством
смертных, оказался в жизни обыкновенным человеком.
Столкновение высоких требований с реальною немощью более
драматично у Платона именно потому, что он яснее
других сознавал эти требования и легче других мог бы
одолеть эту немощь своим гением.
86
XXV
И ад, и земля, и небо с особым участием следят за
человеком в ту роковую пору, когда вселяется в него Эрос.
Каждой стороне желательно для своего дела взять тот
избыток сил, духовных и физических, который открывается
тем временем в человеке. Без сомнения, это есть самый
важный, срединный момент нашей жизни. Он нередко
бывает очень краток, может также дробиться, повторяться,
растягиваться на годы и десятилетия, но в конце концов
никто не минует рокового вопроса: на что и чему отдать
тс могучие крылья, которые дает нам Эрос? Это вопрос
о главном качестве жизненного пути, о том, чей образ
и чье подобие примет или оставит за собою человек.
Ясно различается здесь пять главных путей. Первый,
адский путь, о котором говорить не будем. Второй, менее
ужасный, но также недостойный человека, хотя довольно
обычный ему, есть путь животных, принимающих Эрос
с одной физической его стороны и действующих так, как
будго простой факт известного влечения есть уже
достаточное основание для неограниченного и неразборчивого
его удовлетворения. Такой наивный образ мыслей и
действий вполне извинителен со стороны животных, и
человек, ему предающийся, под конец с успехом уподобляется
соответственным тварям, даже и не подвергаясь
принимаемой Платоном загробной метаморфозе. Третий,
действительно человеческий путь Эрота есть тот, на котором
полагается разумная мера животным влечениям—в
пределах, необходимых для сохранения и прогресса
человеческого рода. Если подражать корнесловиям Платонова
«Кратила», то можно было бы слово брак производить от
того, что в этом учреждении человек отвергает, бракует
свою непосредственную животность и принимает, берет
норму разума. Без этого великого учреждения, как без
хлеба и вина, без огня, без философии, человечество
могло бы, конечно, существовать, но недостойным человека
образом—обычаем звериным.
XXVI
Если бы человек по существу своему мог быть только
человеком, если бы так называемая «человеческая
ограниченность» была не фактом только, а непременным и окон-
87
нательным законом, для всех и каждого обязательным, —
тогда брак был бы навсегда высшим и единственно
сообразным человеческому достоинству путем любви. Но
человек тем-то и выделяется по преимуществу между
прочими тварями, что он хочет и может становиться выше
себя самого; его отличительный признак есть именно
эта благородная неустойчивость, способность и
стремление к бесконечному росту и возвышению. И мы знаем, что
с начала истории не всех людей удовлетворяли чисто
человеческие пути и образы жизни—не удовлетворял
и этот,—вообще необходимый, почтенный и
благословенный, но в основе своей только естественный, чисто
человеческий путь Эроса-Гименея, если не в красоте, то в
законе рождающего и воспитывающего новые поколения
для сохранения и продолжения рода человеческого, пока
нужно ему такое продолжение. Недовольство этим
законным путем у иных—у большей части—приводило к
печальному возврату на низшие, покинутые человеческим
образованием беззаконные пути—возвращало людей
к доисторическому обычаю звериному, а то и к допотоп- ш
ным «глубинам сатанинским».
Но некоторые, уклоняясь от человеческого пути брака,
честно старались заменить его не низшими,
беззаконными, а высшими, или сверхзаконными, путями, из коих
первый (в общем счете четвертый) есть аскетизм (половой,
или безбрачие), стремящийся более чем к ограничению
чувственных влечений—к совершенной их нейтрализации
отрицательными усилиями духа в воздержании. Аскетизм
есть дело очень раннего исторического происхождения
и универсального распространения если не в смысле
успеха, то хоть в смысле намерения и предприятия.
Замечательно, однако, что полнейшая из исторических
организаций этого пути—христианское монашество—уже
сопровождается невольным сознанием, что при всем своем
высоком достоинстве это не есть высший, окончательный,
сверхчеловеческий путь любви.
Само монашество считает и называет себя чином
ангельским; истинный монах носит образ и подобие ангела, он
есть «ангел во плоти»: за величайшим монахом западного
христианства, св. Франциском Ассизским, остается
прозвание pater serahicus и т.д. Но с христианской точки
зрения ангел не есть высшее из созданий: он ниже человека по
существу и назначению,—человека, каким он должен
быть и бывает в известных случаях. Представительница
88
христианского человечества признается царицей ангелов,
а у апостола Павла читаем, что все истинные христиане
будут судить и ангелов. Ангелы же не судят людей,
а лишь исполняют при них службу Божию.
Если человек по существу и преимуществу есть образ
и подобие Божие, то носить образ и подобие служебного
духа может быть для него лишь временною,
предварительною честью. Те самые восточные отцы Церкви, которые
и восхваляли и установляли «ангельский чин»—
монашество, они же высшею целью и уделом человека
признавали совершенное соединение с божеством—
обожествление, или обджение, Эвдоц *, а не ayyek&aiq.
И действительно, аскетизм не может быть высшим
путем любви для человека. Его цель—уберечь силу
божественного Эроса в человеке от расхищения бунтующим
материальным хаосом, сохранить эту силу в чистоте и
неприкосновенности. Сохранить в чистоте—но для чего
же1 Полезно и необходимо очищение Эрота, особенно
когда за долгие века человеческой истории он успел так
ужасно загрязниться. Но сыну божественного обилия
одной чистоты мало. Он требует полноты сил для живого
творчества.
Итак, должен быть для человека, кроме и выше
четырех указанных путей любви—двух проклятых и двух
благословенных,—еще пятый, совершенный и
окончательный путь истинно перерождающей и обожествляющей
любви. Я могу указать здесь только основные условия,
определяющие начало и цель этого высшего пути. Создал
Предвечный Бог человека, по образу и подобию Своему
создал его: мужа и жену, создал их. Значит, образ и
подобие Божие, то, что подлежит восстановлению, относится
не к половине, не к полу человека, а к целому человеку, т.е.
к положительному соединению мужеского и женского
начал,—истинный андрогинизм—без внешнего смешения
форм,—что есть уродство,—и без внутреннего
разделения личности и жизни,—что есть несовершенство и
начало смерти. Другое начало смерти, устраняемое высшим
путем любви, есть противоположение духа телу. И в этом
отношении дело идет о целом человеке, и истинное начало
его восстановления есть начало духовно-телесное. Но как
* Весьма употребительный термин у св. Макария Египетского, св.
Афанасия Александрийского, св. Григория Богослова и др.
89
невозможно для божества духовно-телесно переродить
человека без участия самого человека—это был бы путь
химический или какой другой, но не человеческий,—
точно так же невозможно, чтобы человек из самого себя
создал себе сверхчеловечность—это все равно что
самому поднять себя за волосы; ясно, что человек может
стать божественным лишь действительною силою не
становящегося, а вечно существующего Божества и что
путь высшей любви, совершенно соединяющей мужеское
с женским, духовное с телесным, необходимо уже в
самом начале есть соединение или взаимодействие
божеского с человеческим, или есть процесс богочеловеческий.
Любовь, в смысле эротического пафоса, всегда имеет
своим собственным предметом телесность; но
телесность, достойная любви, т.е. прекрасная и бессмертная, не
растет сама собою из земли и не падает готовою с неба,
а добывается подвигом духовно-физическим и богочело-
веческим.
XXVII
Три указанные понятия, определяющие высший путь
любви, — понятия андрогинизма, духовной телесности
и богочеловечности—мы находим и у Платона, хотя
лишь в смутном виде. Первое—в мифе, вложенном в уста
Аристофана (Пиршество), второе—в определении
красоты (Фэдр) и третье—в самом понятии Эрота как
посредствующей силы между Божеством и смертною
природою (речь Диотимы в Пиршестве). Но у Платона эти три
принципа являются как мимолетные фантазии. Он не
связал их вместе и не положил в реальное начало высшего
жизненного пути, а потому и конец этого пути—
воскрешение мертвой природы для вечной жизни—
остался для него сокрытым, хотя логически вытекал из
его собственных мыслей. Он подошел в понятии к
творческому делу Эрота, понял его как жизненную задачу—
«рождения в красоте»,—но не определил
окончательного содержания этой задачи, не говоря уже о ее
исполнении.
Платонов Эрос, которого природа и общее назначение
так прекрасно описаны философом-поэтом, не совершил
этого своего назначения, не соединил неба с землею
90
и преисподнею, не построил между ними никакого
действительного моста и равнодушно упорхнул с пустыми
руками в мир идеальных умозрений. А философ остался
на земле—тоже с пустыми руками,—на пустой земле,
где правда не живет.
Прибегая для краткости к сравнению, представим себе
жизнь мироздания в виде цветущей и доступной нашим
чувствам долины, с одной стороны, и с другой—в виде
недоступной взорам горной вершины, теряющейся
в облаках. Невзирая на такую недоступность, мы знаем
песомненно, что с этих невидимых вершин нисходит к нам
живительная влага, без которой жизнь в долине
невозможна. И насколько нам показалось бы нелепым
утверждение, что водопады беспричинно сами собой порождаются
на уступах, с которых падают, настолько же
неосновательно кажется нам сказать про те или другие явления, что
они, не истекая из трансцендентального мира, возникают
сами собою. Но проникнув в храмину основных причин,
т. е. творчества мировой воли, не позволим себе
бессмысленного вопроса: почему эта воля хочет в данном случае
того, а не другого? Если эта воля, осуществляясь всюду,
даже в мире неорганическом, желает бытия, то на самой
границе органического мира она уже к желанию бытия
присоединяет желание воспроизведения себя в потомстве.
Мы не только напрямик отказываемся отвечать, почему
воля хочет того или другого, но отказываемся даже
понимать и то, что, несомненно, происходит у нас перед
глазами. Ибо сплошь да рядом происходит не только
невероятное, но логически невозможное. Прибегайте к какой
угодно диалектике, но — яйцо содержит не только будущую
курицу или петуха, но и бесконечный ряд их потомств.
Другими словами, тесно ограниченная скорлупа содержит
в себе безграничный ряд птичьих поколений, что
представляет логическое противоречие. Как бы то ни было,
стремление к воспроизведению себе подобных резко
отличает органический мир от неорганического, и сближение
полов между собою есть путь, избранный природою для
своей главной цели. Неотразимую прелесть, какою она
окружила акт сближения и взаимного проникновения,
Шопенгауэр называет преднамеренным обманом, без
которого никто добровольно не взвалил бы на себя нередко
непосильной семейной обузы. Мужчина, в первый раз
инстинктивно потянувший себя за ус при виде незнакомой
ему девушки, и девушка, прошедшая мимо него с
опущенными глазами, уже стали на двух концах лестницы
сближения; они еще сильнее его почувствуют, связанные друг
с другом лентою, изображающею в котильоне вожжи;
^Це сильнее будет сближение, когда, отбросивши вожжи,
он в вальсе обхватит ее талию, хотя бы и затянутую в кор-
93
сет. Но болезненно возрастающий жар, не утоляясь
новою степенью сближения, требует еще большего и
инстинктивно находит его в поцелуе. Инстинкт в выборе
своем непогрешим; невозможно придумать более
наглядного и осязательного сближения, чем сближение
жаждущих друг друга уст.
Слизистая оболочка, выбегая из нашей внутренности
и являясь на языке единственной хранительницей чувства
вкуса, сводит одновременно в устах и драгоценные звуки
голоса, и сладостное дыхание любимого существа. Но
удивительно, что соприкосновение двух влюбленных уст
представляет предпоследнюю ступень возможного
сближения. Это просмотренный и помеченный банком вексель
для выдачи полной суммы. Таково значение любовного
поцелуя между двумя полами. Но все другого рода
поцелуи являются следствием привычки, подобно тому как
отставные военные, расшаркиваясь, иногда щелкают как бы
шпорами, которых давно нет. Но там, где еще говорит
безыскусственная страсть, ищущая сближения с любимым
существом, поцелуй бывает так же влажен, как у истинно
влюбленных. Так иногда целует мать обожаемого
ребенка, которого ей как бы хочется проглотить. И кажется, д-р
Даль, в своем словаре справедливо производя «поцелуй»
и «целовать» от слова «целость», не прав, объясняя его
желанием целости лобзаемого, в смысле: желаю
здравствовать. Не вернее ли сказать, что целовать—значит
стремиться ко всецелому обладанию предметом страсти.
Нежнейший и прелестнейший цветок интимности—поцелуй,
кроме пустой и холодной формальности, с которою
ежедневно обходит равнодушные друг Другу лица, способен
быть выражением различных непритворных чувств. Там,
где за страстным поцелуем последовала полная выдача
суммы, поцелуй, потерявший свое наступательное
движение, нередко принимает форму живой признательности.
Тогда у любимой женщины, погружая уста в обожаемую
руку, целуют ладонь. Конечно, на такой поцелуй надо
иметь известное право.
Каемся, во всех широких мировых и психологических
вопросах мы охотнее всего обращаемся к поэтам. На что
требуется великой подготовительной работы, чтобы
только правильно поставить вопрос, тому у поэта в
немногих стихах находится наилучшее его объяснение.
В данном случае идею взаимного слияния и
проникновения в поцелуе невозможно выразить с большею яр-
94
костью, чем она высказана у Шиллера в знаменитом
стихотворении «Das Geheimnis der Reminiscens», весьма
удачно переведенном Григорьевым:
Вечно льнуть к устам с безумной страстью,
Кто ненасыщаемому счастью,
Этой жажде пить твое дыханье,
Слить с твоим свое существованье
Даст истолкованье?
Нельзя не заметить, что Шиллер, иллюстрируя этим
стихотворением мысль о слиянии, взаимном
проникновении представителей двух полов, по праву поэта берется
вдохновенно раскрыть первоначальную причину,
наследованную из трансцендентального мира. Сначала
разгадка вопроса является только догадкою:
Или мы когда-то единились,
Иль затем сердца в нас страсто бились?
Не в луче ль погасших звезд с тобою
Были мы единою душою,
Жизнью одною?
Но затем порыв вдохновения превращает догадку в
несомненное событие:
Да, мы были, внутренне была ты
В тех зонах (им же нет возврата)
Связана со мною... Так в скрижали
Мне прочесть в той довременной дали
Вдохновенья дали.
Разделенное на две половины существо, свободно
парившее в трансцендентальном мире, попавши в мир
явлений, вынуждено искать своего воссоединения, и силы
духа, там свободные, делаются здесь рабами.
Оттого-то так рабы охотно,
Отдаваясь власти безотчетно,
Силы духа быстрой чередою
Через жизни мост бегут, с тобою
Жизнью жить одною.
Вот все, что мы нашли необходимым сказать об этом
своеобразном и сладостном явлении.
ся друг другом, прижимаются друг к другу, как птички
на ветвях, сливаются, любятся, целуются, целуются;—от
глаз ли к глазам увидевшим, от губ ли к губам
услышавшим,—я счастлив, когда я целую. Не знаю почему, но
я вдруг начинаю глубоко дышать. Словно воздух стал
другим. Я чувствую радость дыхания. Впервые, целуя,—
опять и опять впервые, целуя, я понимаю, что такое есть
жизнь, вижу Небо и Землю, слышу все свое тело и нежное
тело другое. Целую ее, кого люблю, а душою своею
говорю с былинкой, что качается у ног ее, под легким
ветерком. Слышу и вижу все, не ушами лишь только и
глазами—всем телом и всем существом. От поцелуя все тело
становится певучим, зорким и слышащим. Слепнут глаза,
а видят ярче. Гаснут мысли, а все мыслью становится.
Великая внезапно воцаряется тишина, и все безгласно
начинает говорить: деревья, цветы, и пылинки, и стены, и
самая малая вещь, самая простая, сейчас же милая и
тонкие звоны, нежно зачинающие Песню Песней в крови,
и эти близкие розовые губы, красные губы, что целуют—и
глядят...
О Любви
«Тайна любви больше, чем тайна смерти»,—говорит
Саломея за несколько мгновений перед своей смертью,
когда жизнь ее уже окончилась, когда смерть уже
окружила ее, коснулась ее своею тенью и дала ей свою мудрость.
В том и величие, и тайна, и восторг Любви, что жизнь
и смерть становятся равны для того, кто полюбит. Жизнь
своя и чужая. В том сила и ужас Любви. Пред ней
смолкают все голоса, кроме голоса властного желания,
которое ослепляет глаза своим чрезмерным светом, меняет
души, меняет людей, меняет предметы—и драгоценные
предметы становятся ничем, а ничто становится
безбрежным царством, и люди становятся богами и
зверьми, входят в мир нечеловеческий, и души бьются,
безумствуют, светятся, души горят исступленные, плачут,
и в первый раз живут, и в первый раз видят, видят
все—влюбляясь в тела, как некогда Ангелы
влюблялись в дочерей Земли. Ангелы бросили Небо для Земли и
тем связали изумрудную Землю с бездонностью синего
4 -IS20
97
Эфира, в котором рождается все. Они удвоили мир, и мы
живем между двух зеркальностей. Нам страшно среди
отражений. Нам холодно, мы цепенеем и тонем в
зеркальных глубинах. Но мы любим, мы любим, и ради Любви
совершим геройство, и ради Любви совершим
преступление, ради одной минуты Любви создадим жизнь и
растопчем жизнь. В этом Любовь.
Любовь ужасна, беспощадна, она чудовищна. Любовь
нежна, Любовь воздушна, Любовь неизреченна и
необъяснима, и что бы ни говорить о Любви, ее не замкнешь
в слова, как не расскажешь музыку и не нарисуешь
Солнце. Но только одно верно: тайна Любви больше, чем
тайна смерти, потому что сердце захочет жить и умереть
ради Любви, но не захочет жить без Любви.
Любовь иногда приводит к безумию. Иногда? Быть
может, всегда? О, конечно, всегда, но только порою это
безумие тонет в красках и словах, схваченных лиризмом,
или в поступках поразительной красоты, или в цветах,
вспоенных кровью,—тонет, вспыхнув, и больше нет
Любви, потому что вот больше уже нет безумья, — а
порою безумье кончается буднями, то светлыми, то
темными буднями, жизнью, реальностью, самой нереальной,
хоть она и повседневна. Когда безумье кончается
буднями, нельзя больше говорить о Любви, как нельзя
говорить о свежести здоровья, видя перед собой
излечившегося калеку, которого бросило что-то под колесо, но
который исправил свои изломы.
Любовь, сказка мужской мечты и женской, не
смешивается с жизнью. Она возникает в ней, как сновиденье
и уходит из нее, как сновиденье, иногда оставляя по себе
поразительные воспоминания, иногда не оставляя
никакого следа—только ранив душу сознаньем, что было что-
то, чего больше нет, чего не будет, чего не вспомнишь, не
вызовешь опять никакими усильями.
Любовь возносит или бросает в яму. Любовь дает нам
быть в Аду или в Раю, но никогда не останавливается на
среднем царстве, находящемся между двумя этими
полюсами. В Любви нет тепла, в ней есть только жгучесть или
холод. То, что толпа называет теплыми словами, есть
мерзость пред Богом. Пламя или мертвый лед. Между
ними нет третьего, а эти два могут быть вместе в одном, как
вместе дышат в мире Бог и Дьявол. Среди Европейских
людей никто так этого не понял, как Испанцы. Героини
Испанских драм в таинственный, в решительный момент
98
возникновения любви восклицают: «Я вся—огонь и лед!»
Это понял также и Оскар Уайльд.
У Любви нет человеческого лица. У нее только есть
лик Бога и лик Дьявола. В роскошной панораме,
исполненной яркого безумия, Оскар Уайльд показал нам лик
Дьявола в Любви.
в Вейнингере; многоголосая книга; и голоса в ней звучат
нестройно; и оттого-то, чтоб избавиться от раздирающих
противоречий сознания, Отто Вейнингер делает выпад
к фельетону; вся книга—огромный фельетон,
приноровленный к среднему, далеко не требовательному читателю.
Постановка вопроса—не фельетонная, серьезная;
материал разработки—драгоценный. И будь Вейнингер
только идеалист, только позитивист или только символист, он
справился бы достойно со своей задачей, но он—то,
другое и третье: то, другое и третье—одновременно.
Обосновывая свой взгляд на пол данными естествознания, он
варварски распоряжается этими данными; предается
необузданному резонерству (дурной метафизике); не
преодолевает, а прошибает естествознание—и главное, чем
прошибает? Он взывает к метафизическим сущностям,
обращается к вечно-женственному началу. Идеей вечно-
женственного и вечно-мужественного не охарактеризуешь
половой клетки; и потому-то обращение к исследованиям
Нэгели и Гертвига только предлог "пометафизициро-
вать"; такое свободное отношение к данным
естествознания ведет к непроизвольной мистификации. Пусть уверяет
нас Вейнингер, что копенгагенский зоолог Стенструп
утверждает, будто пол заключается во всем теле; пусть
уверяет он, что Бишоф и Рюдингер установили различие
полов относительно мозга; что Юстус и Гауль нашли
различия в легких, печени, селезенке,—только
самостоятельные изыскания в области анатомии и физиологии дают
право опираться на те или иные естественнонаучные
теории. Мы, естественники по образованию, знаем цену
точным результатам исследования; но мы, естественники,
отделяем результаты исследований от многообразных
гипотетических теорий; ими изобилует естествознание; ими
злоупотребляет Вейнингер. Есть гипотезы, способные
стать гипотезами рабочими; и есть гипотезы
сегодняшнего дня: гипотезы моды. Когда-то увлекались "Protobati-
bius'om" Геккеля; потом увлекались Вейсманом: делили
клеточку на иды, иданты, детерминанты; но стройную в
свое время теорию Вейсмана разбили впоследствии
микробиологические исследования.
Сильный теософический ум Рудольфа Штейнера
воскрешает опять биологическую фантастику Вейсмана;
и нам, естественникам, это непонятно вовсе. В годы моего
студенчества так увлекались мы альвеолярной гипотезой
Бючли и неовитализмом. Теория гранулярного строения
101
клеточки, изложенная Альтманом, находила себе
поклонников среди увлекающихся естествоиспытателей. Кто
теперь читает Альтмана? Многие ли помнят его теорию?
Когда появляется биологическое исследование,
остроумно группирующее факты, даже специалисты-
биологи неспособны тотчас же определить его научной
значимости. И потому-то «кантианизированный
ницшеанец» Вейнингер не имеет никакого права основываться на
гипотетических данных биологии: выбором этих данных
руководит вкус, а не критика; метафизическая теория Вей-
нингера может себе подбирать в области естествознания,
что ей нравится; мы должны помнить, что такой отбор—
не обоснование вовсе; такой отбор—индивидуальная
прикраса теории, и только. И потому-то «Введение» и
главы «Мужчины и женщины», «Arrhenoplasma и theiyplas-
та», «Законы полового притяжения» никакого научного
значения не имеют.
Между тем quasi-научный тон дает автору ложное
право считать обоснованным свое исследование.
В главах VI и VII автор старается дать философскую
базу своему труду; это ему не удается. Он указывает на то,
что логика и этика независимы от психологии; он
объявляет себя врагом Брентано, Липпса, Штумпфа,
Авенариуса; он присоединяется, наоборот, к Виндельбанду, Когену,
Наторпу: казалось бы, такое присоединение свяжет
автора в выводах относительно женщины, пола, характера;
или исследование его не имеет целью что-либо доказать;
но он доказывает тем, что вносит живой психологический
смысл в научные теории, еще не установившиеся, т. е.
поступает как раз вопреки Когену, Наторпу и его школе.
Или наоборот: признав себя независимым от психологии
и биологии, автор мог бы отдаться с правом самым
безудержным грезам о поле; тогда труд Отто Вейнингера
рассматривали бы мы как художественное творчество, как
творчество, полное гениальных догадок; и действительно:
в книге Вейнингера есть страницы художественного
прозрения; но в книге Вейнингера прозрения эти
обесцениваются quasi-философскими упражнениями автора. На
странице 165-й автор указывает на то, что его книга
«могла и должна (?!) была оставаться до сих пор книгой
психологической, не будучи окрашена ни в какой психологизм».
С точки зрения Когена, которого призывает в
единомышленники Вейнингер, его книга должна бы быть книгой
методологической, т. е. она должна была бы определить
102
приемы исследования в области пола и характера. Но
у Вейнингера нет определенного выработанного приема;
у него смесь приемов. Стоит только внимательно
проследить, как доказывает он отсутствие памяти у женщин, как
полемизирует он с Зиммелем, чтобы увидеть вместо
методического анализа талантливую отсебятину; но зачем
.прикрывает ее он то Кантом, то наукой? Так умаляет он
себя как художника; так отрицает в себе мистика. Данные
биологии нужны ему—для чего? Обмануть наивных
читателей, подсунуть им горькую метафизическую пилюлю
в сладкой обертке из терминов биологии? Читают и
принимают; глотают пилюлю; недоумевают. Так детей
потчуют касторкой, соблазняя вареньем; так в старину
принимали хинин в вине.
В мужчине и женщине автор видит оба начала
(мужское и женственное) в смешанном виде; начала эти для
него—метафизические сущности. А если так, то не
женщина вовсе определяет женственное: наоборот—
женственностью определима она сама. Между тем "Ж"
(женственность) у Вейнингера—постулат; и только
постулат. Положение его критическое. Если его постулат—
абстрагированные свойства реальной женщины, то Вей-
нингер попадает в зависимость от анатомии и физиологии
женщины; но сомнительны анатомические и
физиологические познания Вейнингера; и выводы его относительно
женщин сомнительны тоже. Если "Ж"—метафизическая
сущность, то требуется раскрытие этого "Ж" Такое
метафизическое раскрытие встречаем мы у Шеллинга («Wel-
tseele»), у Соловьева, у новоплатоников, у гностиков,
У многих других; здесь вскрываются мистические
предпосылки самой метафизики. Тогда выводы Вейнингера из
свойств мистически неясного для него начала «Ж»—не
выводы вовсе.
Но Вейнингер—ни физиолог до конца, ни тем более
до конца мистик. Ему остается одно: забыть все то, что
говорит о несоединимости женственного начала с реаль-
пой женщиной; женственное начало, открывающееся
в женщине, остается ему подменить физиологической
женщиной; но такая женщина, по его же словам, не
женщина только. И выводы его, касающиеся женщины
только, не только ее касаются; вернее, они не касаются ее.
Оттого-то выводы эти обесцениваются; оттого-то бесценен
его отрицательный взгляд на женщин; фельетонную
правдоподобность имеет этот взгляд—и только. В любом
103
разговоре мы можем защитить любую мысль; софист
понимает это прекрасно, когда имеет дело со средним
собеседником. Умел же О. Уайльд доказывать все навыворот.
Красота таких доказательств—в оригинальности
процесса высказывания их, а не в объективной значимости.
В том, что Вейнингер остроумен и глубоко умен, мы не
сомневаемся; и потому-то должны мы восстать против
злоупотребления умом. Вейнингер увлечен эстетикой
своих доказательств; между тем многие принимают
эстетику эту за истинность. Вейнингер прибегает к
биологическим данным, между тем отношение его к женщине не
оправдывается биологией.
Вейнингер называет себя сторонником
неокантианства; между тем его способ излагать тему отзывается
дурной, докантианской метафизикой.
Метафизически трактуя вопросы пола, Вейнингер не
находит метафизических оснований для своего
отрицательного взгляда на женщин; примеры, приводимые им, все
апеллируют к опыту.
Остается допустить в нем совершенно
иррациональную подкладку ненависти к женщине. Но, став на точку
зрения мистицизма, Вейнингер идет вопреки воззрению
выдающихся мистиков; выдающиеся мистики вносили
элемент женственности в самое начало божества.
Но, оставаясь на точке зрения самого Вейнингера, мы
могли бы предъявить ему ряд возражений. Здесь не место
развивать возражения эти. Скажем только, что взгляд на
женщину как на существо, лишенное творчества, критики
не выдерживает. Женщина творит мужчину не только
актом физического рождения; женщина творит мужчину
и актом рождения в нем духовности. Женщина
оплодотворяет творчество гения; стоит только припомнить
влияние женщины на ход развития гения Гёте, Байрона, Данте.
Чем был бы Данте без Беатриче? Гёте без женщины не
написал бы своего «Вертера». Вагнер не дал бы
«Тристана и Изольды». С одной стороны, мы не встречаемся почти
с гениальными женщинами. С другой стороны, без
влияния женщины на мужчину человечество не имело бы тех
гениев, которыми оно справедливо гордится и
существование которых наталкивает Вейнингера на мысль о
превосходстве мужского начала.
Биологическая, гносеологическая, метафизическая
и мистическая значимость разбираемого сочинения
Вейнингера ничтожна.
104
«Пол и характер»—драгоценный психологический
документ гениального юноши, не более. И самый документ
этот только намекает нам на то, что у Вейнингера с
женщиной были какие-то личные счеты.
Мы с увлечением читаем гениальный фельетон; мы
сожалеем, что смерть отняла у нас Отто Вейнингера.
Но и только...
в Петербурге. Но что читать? А я страшно торопился.
Полочек, шкафчиков специально с Египтом—нет. О! Теперь
я уже знаю все уголки, где старый египетский аист свил
себе гнезда, но тогда не знал. К счастью, помог мне
случайно встреченный там знакомый. «Да вот длинные красные
томы «Denkmaber Lepsius"a», ну и довольно, и
насытитесь, и нечего больше искать. Смотрите—какие
двенадцать томищев: каждый нужно на лошади везти».
И я погрузился. В шесть дней недели я не терял
минуты; потом—немножко страстной недели, потом—
субботы летом (день, свободный от занятий в
Петербурге) и среди обычно-служебной недели хоть денек
скажешься больным—и все сюда, в знаменитые и
прекраснейшие «отделения». Согрешил, украл у христианского
Бога одно говенье и заглянул в Фивские и Гелиополь-
ские святилища.
Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую;
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе.
Сколько богов и богинь, и героев...
Право, лучше, чем этих стихов Пушкина, не умею
изобразить то веселое, раскатистое чувство, с каким при
изнурении физических сил я все глубже и глубже
закапывался в египетские фолианты. «Золотой сон
человечества»—его я увидел здесь воочию. Я увидел его как
картину, а не как рассказ. Право же, египетскими рисунками
можно иллюстрировать, как миниатюрами по полям
книги, весь «Сои смешного человека» Достоевского, как
и беседу Версилова с сыном, и много, много страниц из
Лермонтова. Весь Египет есть только необозримая и по
широте, и по разнообразию, и по углубленности
иллюстрация к стихотворению
Когда волнуется желтеющая нива
или, vice-versa, это знаменитое стихотворение с
заключительным
И в небесах я вижу Бога
есть только странный атавизм, «заговорившие в пра-
»ра-правнуке предки», жившие еще на берегу горячего
Нила. Все, как и у Лермонтова,—там: серебристые
ландыши, тенистые сады, прячущийся в зелени листов
пунцовый плод и... Бог, везде—Бог, все—боги:
107
Сколько богов и богинь...
О! «Боги сходили там на землю и роднились с
людьми». Из трогательных рисунков перед нами один.
Нарисован ряд осликов, целое стадо, вереница. Все, вероятно,
видали у конечных пунктов петербургских конок в знойные
летние дни, как наши добрые кондуктора-мужички, жалея
уставших лошадей, мочат обильно тряпки и кладут им на
усталый череп. Я заметил, что кондукторы (сами очень
усталые) неутомимо, безустанно это делают. Но вот, что
я раз заметил на адмиралтейском конце конки: кондуктор
положил лошадиную морду на плечо себе и, обняв ее
шею, долго так держал. Это уже ласка, это
одухотворение, это не (медицинская) помощь. Теперь, на
поразившем меня египетском рисунке осликов ли или лошадей
они все заложили морду за шею друг другу, то есть все
стоят в ласке, в одухотворении. Ничего подобного и
никогда я не видел во всемирной живописи. Через три года
в той же Публичной библиотеке я нашел изображение
ланей, но в странном сочетании: черепа их как бы
раскрыты, оттуда тянутся рога, но и вместе выходит человек,
что-то человекообразное, голова, руки, туловище, и так
согнутое, как бы говорит: «Вот—я родился! Вот—из
какой родины!» Вполне удивляюсь, как историки культуры
и религии никогда не воспроизвели этого рисунка: в нем
уже вся Греция, со множеством мифов, с царями Миноса-
ми и Минотаврами, с Гераклами в львиной шкуре и проч.
И вместе здесь тоже и родина «Рейнеке-Лис» Гёте
(животный и человекообразный эпос).
Высокое счастье, высокая радость бытия разлиты
в египетских лицах. Слова Достоевского: «Они были
прекрасны, потому что были похожи на детей»—совершенно
определенно описывают сущность прелести египетских
лиц. Например, на одном рисунке «Экспедиции
французской армии под предводительством Бонопартэ»
(многотомный атлас) перенесена живопись с какой-то стены
храма: лица (фигурки)—человеческие, они очень невелики,
каждая в мизинец величины, и все, то есть такое огромное
множество, улыбаются. Улыбается египтянин (как я
рассмотрел на других больших рисунках) не губами, а лицом:
губы чуть-чуть изогнуты в улыбку, но она своеобразно
стянула и щеки и лоб, и вы получаете впечатление не
смеющегося человека, а образованного или известием,
или находкою, или удачею, но вообще каким-то благопо-
108
лучием. Сонм благополучных лиц—вот впечатление.
Грех еще не начался, скорби еще нет, уныния не знаем.
Улыбка тонкая и нежная, несколько таинственная, именно
как у детей. Дети ведь еще другого мира, чем мы, без
греха, то есть без главной нашей психологии. Таковы
египтяне; в меньшей степени—греки; почти совсем этого нет—
у римлян. При Андриане у них уже было только
декадентство, и вот, однако, отрывок из этого декадентства
(возобновленный культ Иэиды) все еще прекрасен, звучен,
цветист, душист:
Последняя туча рассеянной бури...
«Не было чувства греха»,—говорит (о греках) Хри-
санф. «У них вовсе не было того жестокого
сладострастия, которое у нас составляет почти единственный
источник всех и всяких грехов»,— описывает Достоевский
людей другой планеты, и в тоне слов его слышатся почти
слезы, слезы скорби о настоящем, слезы указания на
будущее. А он был слишком проницателен, чтобы ошибиться;
автор «Карамазовых» именно в теме сладострастия был
слишком компетентен, чтобы сказать пустое определение.
Что же тут за тайна, которую он хотел выразить?! «У них
рождались дети; но эти дети были как бы общие, и все эти
прекрасные, добрые, еще не согрешившие люди
составляли одну семью». Если мы спросим, чем семья и ее
существо отличаются от общества, от компании, от
государства (в их существе), от всех видов человеческого общения
и связанности, то ответим: святым и чистым своим духом,
святою и чистою своею настроенностью. Семья есть
самое непорочное на земле явление; в отношениях между ее
членами упал, умер, стерт грех. Все—просты. Все
незложелательны. Говорят, что думают; делают, что хотят;
прощают, терпят; всегда веселы, и все в союзе. Грех—на
периферии, за границами семьи. Члены семьи в
отношении к внешним уже обманывают, гневаются, хитрят.
Безгрешность среди жителей целой страны («Сон смешного
человека» Достоевского) очевидна и осуществима только
через один путь: через устранение вовсе периферии с
семьи, то есть через раздвижение семьи на всю страну,
включение всей страны в семью *. Мать мне—не одна эта
* Одна из поразительных тайн юдаизма, еврейства,
поддерживаемых такими учреждениями их, как абсолютное закрытие брачных связей
с чужеплеменниками, как миква (священное погружение в бассейне воды
ПеРед субботою) и проч., заключается в том, что все еврейское племя, на
109
старушка, а все старушки, каждая встреченная на дороге;
но и дальше, больше: Улисс, как родную, увидел старую
собаку, которая встретила его после 20 лет отлучки и,
завиляв хвостом, умерла. И она есть член дома, не чуждая
Улиссу*; и так—все друг другу, так—вся страна.
Гомер, старец, человек еще почти «золотого века», уловил
эту «собаку»: животное есть непременная принадлежность
полного дома, и коровки, и лошадки, и овцы—все.
Человек вместе с животными, друг животного—это прежде
всего человек, оставивший гордость. А гордость
«Эдемом» исключается. Отсюда невинные и дружные человеку
животные введены как органическое звено в «рай» первых
человеков. Но вернемся к указанию Достоевского: «У них
не было жестокого сладострастия». Сцена его «Сна» до
такой степени полна субъективного экстаза, что он,
конечно, ничего не вспоминал, когда писал ее. Между тем
в «Бытии» также сказано, что грех человека,
грехопадение, хотя оно заключалось только в неповиновении Богу,
однако сопровождалось странным последствием: что-то
моментально произошло в поле и люди закрылись
древесными листьями. Началось «жестокое сладострастие».
Грех, смерть, стыд связаны, как числитель и знаменатель
одной дроби. Изменяется знаменатель—не остается тем
же и числитель, хотя бы цифра его была та же.
У греков «не было чувства греха» (Хрисанф). Как же
они смотрели на пол? Обратно нашему. Как мы смотрим?
Как на грех. Грех и пол для нас тождественны, пол есть
первый грех, источник греха. Откуда мы это взяли? Еще
невинные и в раю, мы были благословлены к рождению.
Мысль, что в роднике семьи, в поле» содержится грех,
есть одна из непостижимых исторических аберраций; она
сейчас же перенесла святость в смерть, в гроб. Как только
человек подумал, что в рождении—грех, испугался его,
застыдился: сейчас же святость и славу он перенес в моги-
всем земном шаре, имеет родственное сложение и психологию только
очень разросшейся, но одной семьи. Отсюда их эгоизм к внешним и
необыкновенная теплота друг к другу. У европейцев все отношения суть
соседские, гражданские, римские, или отношение соучеников на парте (в
линии религиозной связи).
* Поразительно до сих нор чувство животных у магометан: они их
не трогают, не гоняют и не убивают Не смеют (психологически) этого
и не хотят. Этим объясняется безобразие Константинополя, которого
улицы — что собачий двор: но собаки, как мне передавали, до того тихи,
что через каждую можно безопасно перешагнуть. Это некрасивая форма
прелестного венецианского обычая: во всей Венеции не убивают голубей.
110
лу и за могилу и поклонился смертному и смерти. Вот где
связь трех факторов грехопадения: поверив Искусителю
и вождю смерти, со ipso, человек застыдился, осудил в
себе родники жизни; а осудив родники жизни (стыд)—
причастился смерти, стал смертей.
* * *
Мы уже подходим здесь совершенно к теме «Демона».
У Достоевского сказано: «Дети были общие, невинные
люди радовались рождению их как участников земного
своего блаженства. Чем более сядет за стол гостей, тем
радостней пиршество. И о смерти они не скорбели: но
смерть, даже безболезненная, есть уход, сокрытие. Гость
вышел из-за стола и ушел в иное место. Если даже он
ушел в лучшее место, это лучшее—для него, а у нас, за
нашим пиршеством, стоит пустой стул. Хоть легкая тень
скорби останется при виде пустого стула. Итак, смерть
все-таки есть скорбь, но рождение: «Здравствуй, еще
человек, гряди в мир!» Древний теизм, да и теизм в видении
Достоевского есть как бы разлившееся молоко,
пожалуй—как бы разлитие по всем нашим жилам чего-то
нежного, мягкого, любящего, бессловесного, подымающего
грудь, без имен, без статуй, без средоточий в один пункт
или минуту. Посему первые храмы не имели ничего
общего с нашими: идешь, идешь—поле; не очень много
святости; входишь в лес—больше святости! Тут и птички, и ди-.
кая коза, и такая большая куча листочков—«божков».
День—хорошо; сияет солнце, есть святость; по ночь —
зажигаются мириады солнц, все небо «в очах»—тут
святость гуще, тут слезы подступают к горлу. Все и везде свято;
по нажим святости сосредоточивается в некоторых местах,
областях, пространствах, временах. Но из этих времен
субъективно для каждого есть одно особенное и
исключительное, по странности, по радости, по глубоким благодатным
последствиям—это рождение, мое или от меня.
Представить себе можно этих первых людей в момент
влюбленности. Достоевский и говорит: «Они все были как бы
влюбленные друг в друга». Тургенев рисует нам влюбленных,
и он, старик, в старый фазис цивилизации рисует их, как
Древние—своих полубогов, а мы все, не сговариваясь,
называем их «героями». Любовь исключает обман; вот кого
не обманет жених: свою невесту. Пожертвует жизнью.
Они не лукавствуют, не хвастают, не лгут, не зложелатель-
111
ствуют: назовите мне грех между ними, и я дам на
отсечение свою голову. Это—сейчас, в пору старости. «Весь
избыток молодых сил уходил у них на любовь»,—
говорит Достоевский. Что же должны были чувствовать,
влюбляясь, ранние человеки, и главное, как должны были
быть удивлены, поражены этим чувством, его феноменом,
его неразгаданною сущностью?! Но тут пусть скажет два
слова наша наука:
«Мы обозрели все явления органической жизни—
питание тканей, рост, старость—и видим, что ни к
одному из них положительная наука, да и какая бы то ни было
гипотеза, не дает ключа. Но мы ничего еще не сказали
о поле: все живые существа, без какого-либо исключения,
суть или мужские, или женские. Но что такое пол—это
наука менее знает, чем что-либо». Так кончает на
последней странице Страхов свою философскую книгу,
посвященную проникновеннейшему и осторожнейшему
исследованию органических явлений» *.
Если в XIX после Р. X. веке Страхов не знал, то что же
знали за XIX веков ранее Р. X. египтяне, греки? А если это
тайна и вековая тайна, то уж позвольте, как и всякую
тайну, разложить ее на «здесь» и «там», земное и
сверхземное, обыкновенное и чудесное, рациональное и
мистическое, человеческое и божественное? демоническое!
Как хотите. Если грех есть рождение демоническое,
а если рождение свято—божественное. В «Трех
разговорах» Соловьев, человек весьма религиозный и до конца
дней, написал (разговор третий): «Сила зла царством
смерти подтверждалась бы». И несколько далее: «Есть
зло индивидуальное (перечисляются его виды), есть зло
общественное (опять перечисление), есть, наконец, зло
физическое в человеке—в том, что низшие, материальные,
химические и механические элементы его тела
сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в
прекрасную форму организма; сопротивляются и расторгают эту
форму, уничтожая реальную подкладку (т. е. тело) всего
высшего (психической деятельности). Это и есть крайнее
(его курсив) зло, называемое смертью». Так предсмертно
написал Соловьев. Он был благочестив. Итак: смерть—-
«крайнее зло», абсолют зла. Следовательно, одолеваю-
* «Об основных понятиях психологии и физиологии», последняя
страница.
112
щее смерть рождение есть абсолют добра... Кто же оно?
Демон?
Лермонтов назвал «демон», а древние называли
«богом». В том белом, безымянном, без-фигурном теизме,
какой вздымал их грудь в «золотом сне», они и называли
«чудесным», «святым», «непостижимым» и «страшно
могущественным» (о, беспредельно!), а наконец, и
волшебным по своим действиям необъяснимое для нас, и ни для
кого, чувство любви и феномен пола. Его вторую неясную
и мистическую половину, сверх видной и ясной, они
отнесли «туда»... Куда? В лес густой—более, чем в поле; в
ночь—более, чем в день, куда-нибудь, в «тайну», в место
нажима теизма *. Но который пол? Да конечно—два! Вот
Соловьев, так благочестиво умерший, по напечатанным
воспоминаниям его друзей высказывался, что Бог есть
существо женского рода («Вечная Мировая
Женственность», см. в предисловии к 3. изд. его стихотворений), а по
одному воспоминанию г. Энгельгардта по ночам он
иногда запирался и «молился какой-то розовой тени». Я
никогда ей не молился, потому что не видал; но если
Соловьев молился, то очевидно, что он ее видел! Не слову же,
не фетишу звуковому он молился. Он видел «розовую
тень», по сказаниям, по напечатанным словам
стихотворения «Три свидания» он видел ее всего три раза: в
детстве, девяти лет, в Британском музее и в Египте, причем
в последний поехал по назначенному там свиданию. Что
это такое—я не знаю. Но знаю, что евреи перед каждою
субботою и в каждую хижину ждут тоже какую-то
золотую гостью небесную, именуемую «Царица Шабас».
А евреи—народ довольно религиозный и вместе с тем не
фантастический народ; если еще допустимо, что Соловьев
фантазировал, то евреи верят... как? Религиозно. Женское
начало, прямо видение, образ, уже фигурно и поименно
введено в религию строжайшего, суровейшего, вечно се-
минарствующего народа.
Так что же мы будем кричать на «Геру» греков, «Изи-
ДУ» египтян, «Астарту» сидонян? Да это и есть «розовая
тень» Соловьева, «Царица Шабас» евреев:
Для этого названья нет,
Все чувство...
* Идея священных рощ, идея храма, у египтян, имитирующего
рощу.
113
Я не видал ни Геры, ни Изиды, ни Шабас, ни «розовой
тени». Но если у меня нет проказы, то я все-таки знаю, что
есть прокаженные, и если не испытал «aura» эпилептиков,
то верю ощущению «мировой гармонии» перед
припадком «священной болезни», какое описывает Достоевский.
Я — не все. А показаниям моих братьев не могу не верить.
Но я могу читать и вот вижу, что первая строка
«Книги Бытия» «борейшись бара Элогим»: «вначале сотворил
Бог»—имеет сказуемое в единственном числе, а
подлежащее—к преткновению всех ученых—не в единственном,
а во множественном числе (единственное число Елоах,
аравийское—Аллах). Каким образом это может быть
и как же тогда перевести это место? Да ведь, очевидно, не
было никакого основания для Соловьева думать, что
к его исключительному и личному удовольствию есть
только «розовая тень», может быть, около нее есть «грозная
тень»; и если есть «Царица Шабас», то есть и «Адонай»—
уже в единственном числе. Речи-то пророков ведь все
льются в двух тонах: страшных угроз и нежнейшего
утешения, как бы один голос слышится из-за другого, и из-за
второго опять выступает первый, сплетаясь, как два
вервия в одно. Загадкою филологическою разрешается
загадка метафизическая: «бара Элогим», очевидно, и нужно
перевести «сотворила Чета» (мистическая «Двоица»
Пифагора). Да и понятно это. Если пол—тайна,
непостижимость (мнение Страхова), имеет свое «здесь» и свое «там»,
то как здесь есть мужское начало и женское, то и «там»,
в структуре звезд что ли, в строении света, в эфире, в
магнетизме, в электричестве есть «мужественное», «храброе»,
«воинственное», «грозное», «сильное» и есть
«жалостливое», «нежное», «ласкающее», «милое»,
«сострадательное». Тогда опять выражение Библии о человеке: «По
образу нашему сотворим человека, мужчину и женщину
сотворим его»—понятно же.
Вот мы и подошли совсем к теме «Демона». Мы
сделали ее уже совершенно понятной, нашей, близкой, родной.
Но я скажу более: мы сделали ее научной; просто—
научной, как арифметика. «Демон» вовсе не фантазия,
а самая реальная «быль», со мной не бывшая, но вот с
Соловьевым бывшая, и только с Лермонтовым бывшая
в платье другого покроя, не в тунике, а в тоге, не с нежною
улыбкой, а с грозящим пальцем.
114
п
Древних греческих философов, до Сократа, историки
называли «физиологами», хотя они не рассекали трупов
и едва ли что знали из нашей науки физиологии. Такое
имя им дали по характеру и по теме их размышления. Вот
таким не физиологом-мудрецом, но физиологом-поэтом,
в древнем и особенном смысле, был Лермонтов:
О грезах юности томим воспоминаньем
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю,
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок...
Это совсем другой состав слов и движение души, чем
у Пушкина:
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: «Прости»...
Пушкин чувствует младенца, если можно так
выразиться, идиллически, картинно,
Лермонтов—физиологически. Последнее—гораздо глубже, и слово «с
содроганьем» (смотрю) тут—не обмолвка. Это—взгляд
отца, взгляд—матери, любовь—не скользящая по
предмету художественным лучом, а падающая на предмет
вертикально, как луч полуденного солнца, пронзающая
предмет, сжигающая предмет. И такие вертикальные лучи,
негодования ли, любви ли, палящие, знойные, действующие,
ударяющие—везде у Лермонтова; в противоположность
горизонтальным лучам, художественно успокоенным,
У Пушкина. От этого действие их на душу глубоко,
быстро, смущающе: без всякого преувеличения, слезы
навертываются при чтении его строк, или сердцем овладевает
восторг, победа. «Веди нас, вождь наш»,—хочется
сказать поэту. И его чувство о себе, о поэте:
Бывало, мирный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы.
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой...
115
Это не преувеличение,, а правда. Из-под уланского
мундира всегда у Лермонтова высовывается шкура Не-
мейского льва, одевающая плечи Геркулеса. Древний он
поэт, старый он поэт. И сложение стиха у него, и думы
его, и весь он—тысячелетнего возраста. Точно он был
и плакал при творении мира, когда «и сказал Бог—да
будет свет, и стал вечер и стало утро—день первый». Он
все это запомнил, и вот этою давнею любовью,
дедовскою, родною, лешею, «ангельскою» ли, «демоническою»
ли (как хотите, по выбору), полна его поэзия.
«Антропоморфизм» религии... смешно читать в
исторических книгах издевательства над этою древнею верою.
Как будто, имея понятие о себе как «образе и подобии Бо-
жием» мы исповедуем что-нибудь иное. Какова
фотография, таков и оригинал. Нет, из «антропоморфизма» не
только не нужно, но и невозможно вырваться, и
«розовые тени» (Соловьев) в неизъяснимых глубинах неба, как
и «грозящие пальцы» в них же—не одна фантазия. У
Лермонтова, кроме физиологии, есть романтизм природы;
или, точнее, потому-то его физиология и есть
мистическая, что она—собственно, везде разлагается на игру
«розовой» и «грозной тени», «туники» и «плаща»; везде—
тучка и утес, везде—тоска разлуки или ожидание
свиданья, везде;—роман, везде—начало жизни, и небесной
и земной, в слиянии.
По небу полуночи Ангел летел
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез
Вот, что видит Лермонтов за начальным мигом
человеческого существования, позади первого детского на
земле вздоха, крика. Это—миф сзади физиологии,
священный миф, в этом и мы ему не откажем. Все—
«антропоморфично» в небе, все—богообразно на земле.
Все—чудище, лес дриад, в котором запутался бедный
странник, человек.
И звуков тех слов заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Геродот, когда в своих странствованиях дошел до
Вавилона, то жрецы, то есть певцы и поэты народа, показали
ему древнейший в городе храм, который он описывает.
«Это—четырехугольник, каждая сторона которого имеет
116
две стадии. Уцелел он до моего времени (конец «Золотого
сна»). Посредине храма стоит массивная башня, имеющая
по одной стадии в длину я ширину; над этой башней
поставлена другая, над второй—третья и так дальше до
восьмой. Подъем на них сделан снаружи; он идет кольцом
вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема,
находишь место для отдыха со скамейками; восходящие на
башни садятся здесь отдохнуть. На последней башне есть
большой храм, а в храме стоит большое прекрасное
убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого
кумира в храме, однако, нет. Провести ночь в храме никому не
дозволяется, за исключением одной только туземки,
которую выбирает себе божество из числа всех женщин. Так
рассказывают халдеи, жрецы этого божества». (Первая
книга, гл. 181). Ну, и что же дальше?
Лишь только мир волшебным словом
Завороженный—замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно *,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет—
К тебе я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать.
«Халдеи же говорят,— оканчивает Геродот,—чему,
однако, я не верю, будто божество само посещает храм и
почивает на ложе; нечто подобное таким же способом
совершается в египетских Фивах, по словам египтян; и там
будто бы ложится спать женщина в храме Зевса Фивского,
как здесь—в храме Зевса—Бела, причем ни вавилонянка,
ни фивянка не имеют, говорят, вовсе сношений с
мужчинами. Подобно этому в Ликии, в Патарах, прорицатель-
* Совершенны тема и тон стихотворения «Когда волнуется
желтеющая нива». Но там появляющееся среди всего этого названо «Бог»,
здесь—«демон».
117
ница—если только она бывает, ибо оракул там
непостоянный,—запирается по ночам в храме».
Вот общее, и без взаимного конечного соглашения — в
Египте, Вавилоне, Греции Азиатской. Очевидно, везде
был вопрос: «Что Богу понести самого чудесного?»... нет,
иначе другими словами: «На высоту, ближе к звездам,
в восьмой ярус, к первому дню творения, с чем я пойду
чудодейственным, непостижимым, меня радующим, меня
возвышающим в героя, чистым, развязывающим узы
греха?»
И везде инстинктивно ответили: «Пойду с чудом
любви, с таинственною магией влюбленности, которую
никогда-то никто не умел постичь, и все перед ней плакали,
умилялись на нее, от Тургенева до Шекспира.
О, ночь блаженства!
И радости! Подумать страшно мне,
Не грезой ли ночной я очарован!
Все то, что испытал я, слишком нежно,
Чтоб быть действительным.
Джульетта.
Еще два слова
Ромео, милый мой, а там—простимся
С тобой совсем! Когда любовь твоя
Честна и благородна, и коль скоро
Ее ты завершить намерен браком,
Пришли сказать мне завтра с тем, кого
Пришлю к тебе сама я, день и час,
Который ты назначишь для венчанья.
Себя и все свое с минуты этой
Отдам тебе во власть я и пойду
Вслед за тобой, хотя б на край вселенной...
Конечно—узы греха развязаны. Это такая чистота,
такая невинность, с которой куда же и бежать, как не
в точку нажима религиозного чувства, в «священную
рощу», на восьмую башню—на Евфрате, или, как поступили
Веронские несчастливцы—в падре Лоренцо. Но куда-то
вообще в «алтарь» или «к алтарю» священного места.
Всемирный инстинкт, всемирно-человеческий, на чем,
собственно, а не на каких-нибудь приказаниях, держится
доселе, в своих остатках, брак, «венчанный», «коронованный»,
с глазами, обращенными к небу. Но что же чувствует
вавилонская, фиванская или патарская девушка?
118
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл—ничто в сравненьи!
Все чувства в ней кипели вдруг.
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно новый,
Ей мнилось, все еще звучал
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил.
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и страшной:
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей;
То не был ада дух ужасный
Порочный мученик—о, нет!
Он был похож на вечер ясный.
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет!..
Образ человекообразный—рассеивается в природу
(«ландыши полевые», «ни день—ни ночь—ни мрак—ни
свет»), хотя за минуту еще природа встала перед очами...
духом, «богом», «небожителем», которого Лермонтов не
смеет похвалить, не в силах и порицать. Душа его
смущена и встревожена... немножко, как у вавилонской девушки.
Вернемся к древним девушкам: к ним сходил—«Бел»
в Вавилоне, «Озирис» в Фивах, «Зевс» в Патарах. Что
имена? Грудь вздымалась.
Падал небесный цветок на землю—и девушка ловила
его. Жрецы-младенцы не лукавили, говоря, что «никто
туда не входил».[...]
119
Семья как религия
Гр. Л. Н. Толстой. «Крейцерова соната», 1890.
Гр. Л. Л. Толстой. «Прелюдия к Шопену», 1898
I
Самое длительное впечатление и самое глубокое
оставляет произведение писателя, иногда несовершенное
по форме, но в котором сжат сок остальных его творений.
Может ли кому-нибудь придти на ум писать теперь
горячие возражения против «Войны и мира», «Анны
Карениной»? Но бедная романтической стороной, бедная вообще
художеством «Крейцерова соната» вызвала в «Прелюдии
к Шопену» ответ сына отцу (в июле на столбцах «Нов.
вр.»). И он не опоздал. Никто не нашел ответ неуместным
по времени, т. е. между тем, как «Война и мир» и «Анна
Каренина» устарели для текущей минуты, «Крейцерова
соната» сохраняет свежесть, как бы была вчера написана
и прочитана. Припоминая время ее появления, мы знаем,
что на несколько недель она взволновала всю Россию. Ее
каждый про себя или вслух обсудил: но новый пересуд
никого не утомляет. В ней есть вечность, и вечная, она как
бы сегодня сказана.
«Крейцерова соната» имеет два смысла: тайный
и явный, явный ее смысл кажется направленным против
брака. «Лучше не жениться»—эти слова Евангелия
раздвинуты в обширные страницы и требовательный закон.
Таинственные слова—по духу, по положению, по судьбе
в истории. Только одна строка, неуловимо нежное
указание; но в то время, как тысячекратно повторенные слова
о любви «даже и к врагам» не получили никакого
развития в христианском мире, не выросли в катехизис, не
сложили из себя богословия, не оделись в каноническое право
и не создали никакого специального учреждения, если не
считать нарезных пушек и игольчатых ружей «для
врагов»,—это нежное указание, собственно, обволокло все
христианство, всему ему сообщив колорит, тембр. Оно
так кратно, так необыкновенно, так ново по отношению
к Ветхому Завету, что, принимая во внимание слова: «Я не
разрушить пришел закон, а исполнить», его можно было
бы счесть интерполяцией текста, если бы еще некоторые
в Евангелии слова не составляли отдаленно к нему преду-
120
готовления. «Кто матерь твоя и братья твои?»—
«Слушающие слово Мое суть братья Мои и Матерь Моя».
Это—небесное училище, без кровных связей и даже с
неуловимо тонким их отрицанием. «Кто ради Меня не
оставит мать свою и отца своего—несть Меня достоин».
Опять специальной нужды упоминать именно родные,
кровные узы как предмет разрыва—не было здесь; и
можно думать, что центр тяжести здесь именно в этих узах,
а «несть Меня достоин» есть лишь случай и повод указать
на противоположность Христова и плотского. «Ты—
Петр, и на сем камне (пустыня) созижду церковь Мою»
есть как бы предуготовление, что вся церковь, почти вся,
будет построена на характере пустынного, пустынножи-
тельного бытия. Голгофа! Все эти тайные указания суть
предуказания Голгофы, и христианство не ошиблось в
постижении Евангелия, выросши все в духе, в глубину, в
философию и поэзию Голгофы. «Сораспинаемся Христу»,
«распинаем страсти»... «Что есть человек?—трава сельная;
днесь есть и на завтра нет ее»,—поет один церковный
стих. Да и один ли? Религия «сред» и «пятков», она увита,
повита погребальными покровами. Как кратко крещение,
как бледно венчание, краткотечны и торопливы исповедь
и причастие! Но человек умирает, и вдруг христианство
вырастает во всю силу: какие песни, какие слова! какая
мысль и, повторяем, поэзия!..
Великая, одна из великих, неразгаданных тайн
Евангелия! Не все Евангелие, даже не важнейшая в нем черта,
а только мимолетное указание, те «йоты», которым «не
прийти»: и вот мы наблюдаем, что они действительно
опутали и облекли в смертные пелены, в погребальные
покровы весь христианский мир. Мы пока не
интерпретируем; мы—очерчиваем дух и понимание веков,
смиренных, упившихся евангельским восторгом человеческих
сердец: вкусили «йоты»...
Явный смысл «Крейцеровой сонаты», ее эпиграфы,
некоторые в ней абзацы, т. е. прямо напечатанные слова, по-
видимому, сливаются с этим вековечным мотивом
христианства. Нужно заметить, что все сочинения, тема коих
невообразимо трудна и в глубине своей не только не
решена, но и не может быть решена автором, заключают в
себе, так сказать, риторически-словесные вставки. В
«Крейцеровой сонате» таковы вставки о прекращении рода
человеческого и еще несколько аналогичных против брака.
Если мы примем во внимание, что ее всю проницает, от
121
ранних строк и до поздних, доходящая до уличного
пафоса брань «мерзавцев, которые научили мою жену не
рожать» (доктора),—мы догадаемся, что тут же
рядом вставляемое рассуждение о «прекращении рода
человеческого» есть только словесный переход,
без мысли и силы в нем, от одной значащей мысли
к другой, напр. от мысли о растленной семье к
картине скорби: «Почему я убил ее?» Мы переходим
теперь к тайной мысли «Сонаты». Она вся состоит в
утверждении брака, но с глубоким недоумением: что же
он такое? роман Бетси Терской с Тушкевичем и с лакеем
(«Анна Каренина»)? любовь Николая Левина к его
Марии Ивановне? эфирность Китти, которую рвет Толстой,
изображая ее животные крики в родах? печальная картина
«ухмыляющихся протопопов» в предчувствии грязи
развода Анны с мужем? адвокат, при разговоре об этом
ловящий моль и сокрушающийся, что обивка мебели к осени
будет испорчена? Скорбь и недоумение, которое уже
душило автора при написании «Карениной», вылилось
перед непонимающей публикой рыданиями и
проклятиями Позднышева-Толстого... «Вы не умеете понимать
картин»; «вы так деревянны, что не захотели сказать ни да, ни
нет после Анны Карениной и Войны и Мира о том, о чем,
как брат братьев я вас спрашивал:—ну, вот вам
зарезанная женщина, вот оголенные, без художества, монологи:
наконец, вы скажете-ли * да или нет!
Изобразив в «Войне и мире» параллельные романы
Наташи и Марии Болконской с Ростовым и Безуховым;
заставив сухого и государственного Андрея Болконского
умереть; нарисовав целый ряд параллельных семей в
«Карениной», Толстой что, собственно, делает? Почему его
произведения дороги, ценны и новы в русской литературе?
Все занимались его философией войны и философией
истории в первом большом произведении; но что не здесь
—центр дела, тяжесть дум автора, показывает то, как
он отрицает сейчас войну, заигрывает с поляками, мутит,
* Одна из причин отчуждения Толстого от церкви лежала, быть
может, в том, что так внимательно даже с канонической стороны
разобранный в «Карениной» брак и, наконец, печальная, трагическая смерть
последней, потрясшая всю Россию, не нашли никакого отзвука в духовной
литературе, никакого ответа на мучительнейшие проблемы. «Вам нет
дела до подробностей, до частностей центральнейшего в жизни; ну—
мне нет дела до подробностей ваших догматов»—вот как бы логика его
отпадения и глухоты к церкви.
122
что палкой реку, течение истории и пишет с болезненной
страстностью в эти же почти годы «Крейцерову сонату».
Вот что не умерло в нем, вот где центр его дум... Он дал,
в тихих и прекрасных картинах, поэзию и почти начало
религии семьи. Анна разрешается от бремени; Китти — в
муках рождения кричит; Наташа смотрит пеленки
ребенка и, перебивая политические речи мужа, говорит: «Не
надо доктора, опять желтым». Это так ново после
гражданства Тургенева, вечного быта—у Гончарова, «купцов»—
Островского. Все ново тут, и смелость не попадавшего
никогда в литературу рисунка, но главное—нов сам
автор. Сколько недоразумений вызвала «Крейцерова
соната», а между тем она вся есть только «послесловие»
к странному диалогу между Долли и Анной, в доме-
дворце Вронского, после коего назавтра Долли выехала
из этого дома с каким-то страхом, а Анна говорила
накануне:
— Нет, я именно несчастна! Ты не вправе и не смеешь
осуждать меня...
Она спустилась к гостю нарядная и веселая, и Долли
смутилась за свою заплатанную ночную кофточку. Она
полна любви и жалости к Анне; в ответ на жалость
раскрывается бедное, гибнущее сердце Анны; она начинает
в мажорном тоне, как «она счастлива с Вронским»,
«свободна и легка в своем положении». Разговор углубляется,
переходит в шепот: что-то о детях и о том, почему Анна не
может, а главное—не хочет* рожать. Тема «Крейцеро-
вой сонаты», уже ее печальный тембр! Покров опущен
стыдливым автором; назавтра Анна остается умирать.
Долли—жить (религия семьи). «Мне отмщение—и Аз
воздам». За что? Из тысяч читателей никто не спросил
себя об этом?
«Мне отмщение—и Аз воздам» растлением, смертью,
* Это вариант разговора между Ник. Ростовым и некрасивой Marie
Болконской («Война и мир»), ставшей его женой:
«— Как это безобразно,—сказала она, указывая па жнвот
свой.—Ты не будешь меня любить...
— Если бы я в тебе красоту любил, отвечает недалекий и честный
Ник. Ростов,—то поверь, всегда для всякой красивой женщины
найдется еще красивейшая».
То есть, фундаментом семьи не служит ни красота, ни ее часть—
молодость; не служит также и связь умов, тонкая и одухотворенная
Marie бесконечно любит туповатого Николая и, обратно, бесконечно им
любима; фундамент ее, будучи животно-плотским, именно в этом
животно-плотском мистичен н религиозен.
123
ужасной мукой под колесами поезда (Анна), под ножом
мужа (жена Позднышева), воздам в «слезах» и
недоумении этого маниака-сумасшедшего, который сосет
папиросы и бормочет печальные монологи в вагоне первому
встречному. За что «воздам»? Да все за то же: «дом Отца
Моего не делайте предметом паскудства». Я сказал, что
высота и особенность, новизна Толстого состоит в том,
что он первый постигнул, а через художество свое и дал
почувствовать какой-то не просто идеализм, а тонкий,
пока еще едва различимый, чуть-чуть брезжущий
религиозный свет, коим струится «дом Божий» в каждой бедной
веси, около всяких Вифлеемских «яслей» («заплаты» на
Долли), если это есть правильно сложенная, хотя бы в
одной стороне правильная (Долли и Стива) семья. Он дал
почувствовать, сам постигнув, «ветхую» скинью,
которую около себя каждый носит, исполняя некоторый
«Ветхий Завет»... Ветхое-ветхое что-то и новое-новое
заговорил он.
«А если, анафемы, вы этого не понимаете, то лучше не
женитесь...»—крикнул он в «Крейцеровой сонате» и
разбил скрижали, показав читателям нож и кровь.
Замечательно, что нигде еще, кроме «Крейцеровой сонаты», нет
убийства у Толстого. Женоубийство, растленный муж-
убийца, растленная жена-убитая суть единственная у него
кровь—у него, так глубоко ее чуждающегося! «Дом
Божий»... но в его тайны он не проник иначе как
собственным воображением и стыдливо опустил покров над
шепотом Долли и Анны о подробностях их супружества.
Вся литературная деятельность Толстого вытянулась
в тонкую и осторожную педагогику около «семьи»,
«яслей», «Вифлеемской» стороны нашего бытия; но, во
всяком случае—в направлениях, абсолютно полярных
Голгофе. Еще замечательно: похорон нигде он не описал,
да и сам как человек на шестом десятке лет точает, ничто-
же сумняся, «сапоги» и даже перетачивает их на новые
фасоны: истинный израильтянин, с шилом и около Ревекки!
Ремесленник и богоносец! Но pruderie дворянства и
хорошего слога удержала его на черте; крики рожениц он еще
допустил... но над интимностями Долли и Анны опустил
.завесу.
Это—при устроении скиньи Моисеевой все мелькают
слова: «и завесь завесою, и покрой крышкою»...
Измученный Достоевский, евший из одного корыта
124
с каторжниками, игравший на рулетке и мучительно
жаждавший выиграть...
...«И золото той земли хорошо, там—рубин и бол-
дах»,—сказано при описании самого Рая в Бытии (какая,
казалось бы, память о золоте!)...
— Итак, этот хромой и заикающийся в человечестве
малец, «с запекшейся в руке кровью и седыми волосами»,
как сказано о рождении Тамерлана, бесстыдно разорвал
«завесы», сбросил с «заветного» крышки и обнажил перед
всем светом содержание шепота Долли и Анны. Чувство
бесстыдности лежит на всех произведениях каторжника.
«Иди и виждь»,—говорит он ухмыляясь; и мы видим,
видим— и недоумеваем. «Только?»—«Только».
Завеса падает. Один умер, ничего не договорив, другой
с мучительнейшей и вековечной темы перешел к
вегетарианству. «Первой ступеньке», «и, опуская акриды и
коренья» в графский суп, кое-как дотягивает век. Тема стоит
жгучая. Тема вечная. Тема—я скажу больше и глубже—
колебания всей нашей цивилизации.
II
Тема колебания самой Голгофы; возведенная в «ho-
sanna»—она дала христианство; утренним легким и
каким-то новым дуновением на нас тянет из дома-скинии
Долли, вечной клушки, водящей детей к причастию;
Наташа— с пеленками, и опять утренний ветерок какой-то
скинии... Бог с ней, с политикой,—это от сего мира, там,
около колыбельки,—начало иного мира. Но углубим
колыбель и получим—так удивительно похожий на
шепот Долли и Анны—шепот, тоже спальный, Рахили и
Иакова:
— Дай мне детей, а если нет—то я умираю.
— Безумная! Разве я Бог, чтобы мог дать тебе плод
чрева?
Но мы углубим и «Ветхий Завет»; еще откинем
«покров», скинем «крышку» с шепота Иакова и Рахили—и
получим откровенности Достоевского, который
заговорил о том, о чем все шепчутся. Я же сказал, что он—«с
седыми волосами», «с запекшейся кровью». Эти
откровенности откидывают нас в глубь тысячелетий, за самое
«Бытие», за Авраама—в таинственные страны, куда он
путешествовал и откуда Моисей снес... откуда он вынес (по
Апостолу) свои заветы.
125
Оставим исторические дали и будем пока судить
каждого мужа, каждую семью. Есть религия Голгофы; но
может быть и религия Вифлеема; есть религия «пустыни»,
«Петровая камня», но есть и религия «животных стад»,
окруживших «ясли», и многодумных «волхвов с Востока»,
пришедших в Вифлеем поклониться исполнению каких-то
своих чаяний. Гроб есть второе житие человека, за коим
начинается поздняя бесконечность; но и колыбель есть его
первое житие, и ему также предшествует ранняя
бесконечность.
Мы подходим к фундаменту религии и наблюдаем,
что их—два: за гробом, перед рождением. Там и здесь —
«тот свет». Мы их предчувствуем, предчувствовал
Гамлет:
... умереть—уснуть.
Но если сон виденья посетят?
Однако есть и иной стих: о предвременных видениях
души, о доземных выслушанных ею «песнях», памятью
коих жива и бывает утешена она на земле!
Он душу младую в объятиях нес
Для мира, печали и слез...
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.
О Боге Великом он пел...
И звук этих песен в душе молодой
Остался без слов, но живой.
И долго на свете томилась она
Желаньем...
Чаяния человечества, не только поэтов и мудрецов, но
и сущих сирот—в знании, равно ожидают Бога как там,
так и здесь. Свято—«успнуть», свято, однако, и
«родиться». Христос «родился», был «младенцем», имел
земную «матерь». Храм есть Голгофа, но храм—и Вифлеем;
религия есть монастырь, но почему не быть религиею
и семье? Раскопаем, разроем ее неясную «землю»...
Рахиль и Иаков, Долли и Анна; но в глубине, но дальше, за
«завесами», под «крышкою»,—то, над чем сорвав покров,
отошел в сторону Достоевский... Моисей и его скрижали
с заповедью «чти отца и мать», впереди поставленною
(ближе к Богу), чем «не убий»; дальше, за Моисеем,
126
...чуждый тени
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.
Царство праха, царство давнего забвения; царство
мумий и иероглифов и странных сфинксов. Это—страна,
которая даже по писаниям нам современных христианских
историков была полна самого пламенного теизма и
глубоко мистических созерцаний; страна, которая в начале
нашей эры сыграла фундаментальную роль в построении
самого христианства (Ориген, Климент
Александрийский). У нас, в Петербурге, возле Николаевского моста,
есть два сфинкса, мимо которых нельзя пройти без волне-
Ш1Я. Как неувядаемо жизненно сложение их членов!
Улыбка, через четыре тысячи лет—улыбка печальным, хмурым
петербуржцам: юные и веселые лица сфинксов точно
хотят прыснуть смехом на недогадливого зрителя. Аллеи
таких сфинксов, как известно, вели к египетским
храмам—неразгаданного поклонения (и по Хрисанфу, нет
удовлетворительной теории для объяснения характерного
для египтян поклонения животным). Мысль сфинкса—
«ищи Бога в животном»; «ищи—в жизни»; «ищи Его—
как Жизнедавца».
Маленькое соображение: по очертанию львиных
частей сфинкс изображает Бога и есть только комментарий
к одному стиху открытой Липсиусом «Книги мертвых»:
«Я—великая кошка» (слова о себе Pa-Солнца); но Бог—
как может видеть каждый петербуржец—оканчивается
спереди человеком, и, следовательно, полная мысль
сфинкса читается: «Бого-человек». Если припомним кое-
какие записи у Геродота о Фивах и Вавилоне, мы
догадаемся, что «волхвы с востока» в самом деле тысячелетия
уже ожидали «во-площения» Божества и евангельского:
«Слово—плоть бысть и вселися в ны». А радостная
улыбка сфинксов—ее может каждый видеть—есть
выражение, что не только радостно будет исполнение,
пронесется «благою вестью» человечеству, но что и теперь, при
Моисее и даже раньше Моисея, сердца уже наполняются
восторгом этого ожидания.
Но здесь «восторг» сфинксов сливается с
«удивительными пятнами восторгов», какие перемежаются у нашего
«седовласого» романиста с пятнами же глубокого у него
неприличия:
127
«Есть секунды: их всего зараз приходит пять или
шесть—и вы вдруг чувствуете присутствие вечной
гармонии, совершенно достигнутой. Это—неземное; я не про то,
что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не
может перенести: надо перемениться физически или
умереть. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг
говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в
конце каждого дня создания говорил: «Да—это правда,
это—хорошо». Это—не умиление, а только так, радость.
Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего.
Вы не то что любите—о, тут выше любви! Всего
страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если больше
пяти секунд—то душа не выдержит и должна исчезнуть.
В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю
мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять
секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек
должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие,
коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в
воскресении не будут родить, а будут как Ангелы Божий. Намек.
Ваша жена родит!
— Кириллов, это часто приходит?
— В три дня раз, в неделю раз.
— Это вы зажгли в углу лампаду?
— Я зажег («Бесы», изд. 1882 г., с. 528).
Теперь, спутав узор истории и романа, мы перейдем
к мучительнейшей теме «Крейцеровой сонаты».
III
Есть цикл идей, и именно теизма, приняв который
каждая вещь начала бы струиться религиозным светом; это —
цикл, по коему каждый муж ощущал бы в жене своей
начало религиозного чего-то, и именно как в жене; обратно
и жена ощущала бы в муже своем начало опять чего-то
религиозного *; связь их, самая связь, в одной строке
«Ветхого Завета» выраженная, ощущалась бы не только как
религиозная, но и как «ветхая» форма и прототип вообще
религии. Вы ощущаете, что семья тогда не в оболочке
и имени своем** была бы религиозной, но в сущности
* В сущности, мы только дорисовываем то, начало чего есть: уже
сейчас это—«буди, буди» всякой семьи и брака.
* * Плач «Крейцеровой сонаты»—о том, что мы имеем имя семьи,
звук семьи, фикцию семьи; но у нас нет вещи семьи, и даже непонятно
(недоумение «Сонаты»), как и в цикле каких идей она могла бы устано-
128
и реально; и религия, внесенная в таинственный завиток
бытия, брызнула бы религиозным светом на детей,
религиозным светом на родителей*. Но вы постигаете, что
для этого в Спасителе нужно поклониться не чертам
Голгофы, не печали гроба, но чертам Вифлеема, восторгу
«Бого-воплощения». Тембр и колорит всей европейской
цивилизации меняется, и, собственно, «образ Божий» в
человеке перестанавливается из
академически-катехизических нюансов в кровно жизненные. С тем
вместе (всякий дом и каждая высь вырастает в храм) в
«ветхую скинью» древнейшего поклонения. Но тут... но тут
с египетскими сфинксами, которые умерли в прошлом,
встречаются ожидания Апостола, которые обещаны
будущему: именно, что придет Некто, кто «сведет огонь с не-
беси» и о коем, чудясь, заговорят люди:
— Кто подобен зверю сему? Он дал нам огонь с не-
беси!
«Зверь» **—это опять «ищите Божьего в животном» ***,
виться. Ее картины суть картины разврата после венчания, причем муж
для себя продолжает его, но на путь порока увлекает с собою теперь
и девушку. Заслуга и новизна «Сонаты» и лежит в этом, что она
поставила углом вопрос о реализме брака и спрашивает, а частью и отвергает
(недоумения Толстого) возможность целомудренной реализации его.
* В цикле теперешних наших религиозных идей, или колеблющихся
в отношении к полу, или отрицающих (уничтожающих) его,
религиозность связи родителей и детей есть просто риторический вздор. Она
вдалбливается детям как непонятный и искусственный урок, быстро
забываемый, потому что он ни с чем не связан и несвяэуем. В сущности, при
отрицании пола мы имеем экономическую и юридическую, но не
религиозную семью. Если она все-таки именуется «священною», то это есть плод
распорядительного акта, а не ее внутреннего характера; и не связанное
внутренним ощущением, человеческое проиэволенье вечно пытается
выйти из-под этого распорядительного mandat (разложение европейской
семьи).
* * Апокалипсис—книга неразгаданного. Но что в нем можно
понимать, это глубокое его отличие, отличие самого характера его написания
(образы, фигуры, виденья) от повествовательно-словесного характера
Евангелий. По-видимому, в нем выразилось некоторое недоумение о
направлении, которое сейчас же после Голгофы и под впечатлением
Голгофы стало принимать христианство. Образы «жены, облеченной в солнце
и кричащей в муках рождения», «четырех животных перед престолом
Божьим» и, наконец, «зверя, приносящего огонь с небеси»,—все это не
только не вписуемо в Евангелия—по крайней мере Матфея, Луки
и Марка,—но как-то и противоположно им по духу. Только Евангелие
°т Иоанна с его «Слово—плоть бысть и вселился в ны» имеет в себе
нечто предуготовительное к Апокалипсису. См. также определение в нем
Себя Спасителем: «Аз есмь хлеб животный, сшедый с небес».
* * * Да не смущается ум читателя, по-видимому, грубым нашим
выражением, которое мы вторично вынуждены употребить: пусть вспомнит
5-1520
129
на что указывают сфинксы; а «огонь с небеси», «небесный
огонь», есть огонь пламени брачных уз, постигнутых в
небесном своем происхождении, которым свяжется
человечество, начав религию рождений взамен религии
умирания. Но тогда все меняется; одни столбы цивилизации
вырываются и вкапываются другие. В монастырь, не меняя
его молитв, под их покров вводится семья; обратно, в
семью, не меняя ее существа, вводится именно для этого
существа строгая размеренность как бы монастырского
ритуала. Вы понимаете, что отдаленно именно об этом
шептались Долли и Анна, плачет—Позднышев. Они хотят
семьи как религии. Но никому не приходило на ум, как
далеко это идет...
Пункт—в откровешюстях Достоевского. Не без
причины его мистицизм—возвышеннее, чем у Толстого; его
религиозный пафос—неизмеримо страстнее. Он вовсе
сам не предчувствовал, куда ведут его «Карамазовы»,
и умер, не кончив их—потому что не умел бы кончить.
Эмбрион всех сфинксов и того, кто принесет «огонь с
небеси», заключается уже теперь в институте брака,
который как только из речитатива «Господи, помилуй»
переведем к красоте и неге мистической херувимской песни —
мы и получим новую религию... мы получим
христианство же, но выраженное столь жизненно-сладостно, что
около Голгофы, аскетической его фазы, оно представится
как бы новой религией...
IV
«Семья—да будет дом Божий», «брак—
несокрушимым и вечным таинством»,—плачемся мы,
люди, законы, царства. Но, ради Бога, как, откуда он
будет «домом Божиим», если глубь его сливается с идеей
последнего греха? Переверните все, внесите в эту глубь свет
Божий, поместите туда Поклоня-емое Лицо Божие, и
семья станет в самом деле бого-пок-лонением, а брак—не
фиктивно-религиозным таинством. Вы хотите теитизации
бытия; «мир—от Бога»: однако—поверхностно или
каждый у евангелиста Иоанна слова Спасителя о Себе в тайном и
непостижимом раскрытии ученикам Своей природы: «Аз есмь хлеб
животный, сшедый с небес», и еще: «Аз есмь лоза и выветви». Дело в том, что
космос распадается на минеральную и жизненную, животную сторону:
Бога, конечно, предлежит искать во второй. Но узел жизни лежит в
точках и секундах, нами трактуемых по поводу «Крейцеровой сонаты».
130
в глубине? Вы поставили образ Божий около дома:
естественно, что дом наш и не светится им. Внесите этот образ
в дом—и он станет храм, «домом молитвы» наречется.
Но «дом» бытия нашего—на дне брачного завитка: если
там Бог—мир храм; и никогда вы не постигнете, и ничем
вы не достигнете, чтобы мир был «Божий», если оттуда
вынесите образ Божий и поставите «около», на крыше,
«крыле храма» и вообще где-нибудь «инуду». Но оставим
мир, будем судить жену и мужа: святы ли они друг для
друга? О, как хотелось бы! Однако—чем? Мы имеем
брак: драгоценные его черты выражены ли в
академических нюансах, в том, что он—«образован» и она—
«хороша»? Какая профанация! Глубже, глубже! «И в
болезни—не оставляй», «и в безобразии—сохрани». Да
почему? почему?—Да потому, что «святое» их обоих, тот
факт, что они «святятся» друг для друга—не по
поверхности скользит, но уходит в глубь именно и специально по
линиям их связи: к Единому Образу, которому они там
поклонились. Вот откуда—свет брака! Брак есть
поклонение «невидимому свету». Отрицательный ли он? Да он-
то и побеждает смерть, не иносказательно, но фактом: где
мое и женино в этом младенце? Мы—живы в нем, а через
его нарождения—живы в бесконечность. «Смерть—где
твое жало?» Мать умирает за младенца, она—в нем;
и краткий обрывок частного в себе бытия, естественно,
жертвует за бесконечное (в будущем) свое же «я». Не
только в колорите, в тембре рождение противоположно
смерти: оно в самом деле вечно вырывает у нее жертву,
оставляя в руках ее, «под косою», скорее скорлупу бытия,
нежели самое бытие, ускользающее через рождение—в жизнь.
Но оставим философию, займемся религией: что значит,
что мы там «образу поклоняемся»? В чем сущность
поклонения? Где—о чем плачет Позднышев—граница
между «развратом», кощунством в браке, и «религией»,
«святым» брака? Здесь мы подходим к труднейшей
стороне темы; но вот несколько черт ответа. Свет образа
отражается светлым поклонением: если есть свет, душа не
темна и не скорбна в секунды брака—он правилен; замутне-
ние его раньше и чутче всего сказывается на расстройстве
его глубины. Искусство жить в семье заключается в
вынесении, в выбрасывании тотчас каждой соринки, которая
в житейском быту со стороны попадает в нее или по
несчастью и греховности человеческой природы зарождается
в ней же (семье). Вина ли—сейчас покайся; слаб, немо-
131
щен—не ищи на стороне утешения. Воистину—«дом
Божий», где «все вместе». Поразительно, что малейшая тень
неуважения, казалось бы так мало относящаяся к
существу плоти, сейчас ее расстраивает. Наступает вид
плотского друг к другу отвращения. Итак, сущность чистого
брака есть совершенная любовь; брак «свят»,
«религия»—когда бы в «истине» и «в любви»; а без любви, при
обмане—«разврат»*. Даже отрицательные феномены
поучительны здесь; всякий вид духовного идеализма
между встретившимися заканчивается плотским союзом; не
свидетельство ли, что глубь идеализма уходит сюда? Но
вот—союз расторгается; прежде всего, какая скорбь,
даже для окружающих: что-то жалостливое-жалостливое,
слезы и муки, как бы в самом деле еще Тит разрушает
опять Иерусалим... религиозно-жалостливое! Но
распадение совершилось, мертвое зернышко греха, попав в
скинию, раскололо ее на половины: что же делает каждая
половина, до могилы, путем всех жертв? Собственно
«разврат» каждому открыт, да и друг с другом они могли бы
продолжать «разврат»; но именно от него они уходят
в новое поклонение, ищут сияния, доверия, уважения,
тысячи душевных черт около такого, казалось бы,
бессодержательного, «животного» акта. Но «ищите Божьего в
животном»: мысль сфинксов не только скрывает идею брака,
но и указывает его закон—нимб светлого, духовного
около него сияния, как отграничение его от разврата. Но,
продолжаем, тема эта бесконечно трудна, здесь тысячи
вариантов в зависимости от тысячи варьирующихся лиц.
Вот, однако, еще одна черта религиозного, святого в
браке.
Это—целомудрие, как «je suis» пола. Удивительная его
черта, что оно не исключает плотской связи. Собственно,
целомудрие есть сияние пола, но идеалы величайшего
целомудрия суть жены, а не девы. Мысленно обежав
* Вот почему глубочайшее есть кощунство настаивать на
продолжении брака, когда в нем умерла любовь и правда. Это значит настаивать,
заставлять, принуждать к разврату (не чистые соединения, ругательства
перед Образом). Одно соединение с отравленной совестью заражает
непоправимым грехом тело и душу человека. Вероятно, догадываясь об
этом, чуткие евреи не допустили только, но потребовали непременным
условием семьи субъективный (по воле мужа) развод: «Я грешен против
нее—и не могу более с нею соединиться», «целый мир меня до этого (до
супружеских отношений) допускает и она сама; но я знаю мой грех и не
хочу оскорблять Бога». Требование развода есть следствие страха Бо-
жия в семье.
132
взглядом ряд известных вам лиц, вы непременно
остановитесь как на особенно целомудренных, именно на
льющих из себя какой-то религиозный свет,—на редких, но
именно женщинах. Тарквиний остановился на Лукреции;
Толстое дал нам ряд лиц, которых не нужно называть;
Дездемона—вот еще пример. Итак, это удивительно, но
и бесспорно, что святой союз не исключает дымки
величия, не срывает таинственности и святости с пола. При
умелом браке девственно-венчальная фата как бы не
снимается вовсе, не снимается никогда с чела: и уже в
морщинах и многоплодные, супруги еще радуются один на
другого, как бы невеста и жених *. Но сосредоточимся на
целомудрии: оно есть черта именно и специально только
пола; это—не качество ума, не особенность сердца, не
принадлежность характера; это—уважение человека к
своему полу, молчаливое и бережное отношение к нему как
к ненарушимо-свята/иу в себе. Между высокими
качествами ума и сердца нет, однако, ни одного, которое бы
идентично было целомудрию: оно их превосходит всех именно
каким-то небесным сиянием, от него льющимся. Мы
назовем «героинею» самоотверженную женщину; но
«святою» не только не назовем оскопленную женщину, но
и преднамеренно-упорную старую деву; а назовем так
невесту—в отношении к обещанному жениху, жену—в
отношении к мужу, мать—в отношении к младенцу; т. е.
целомудрие есть черта деятельного, а не молчащего пола.
Теперь станем наблюдать дальше—и мы будем
восходить в удивлении: именно целомудренная-то женщина
и становится источником глубочайшего к ней влечения.
Тарквиний рискнул короной для одной такой;
Достоевский, вовсе не догадываясь о конечном смысле своего
рисунка, дал нам ряд таких порывов («карамазовщина»,
Свидригайлов). Но о чем все эти пугающие факты
свидетельствуют, как не об отраднейшей—для постигающего
Ума—вещи, что истина пола и душа полового
притяжения не разврат, но чистота, целомудрие и, наконец,
высший его луч—нечто религиозное. На этом порыве—
религиозном и к религиозному—и завязывается брак;
и он не только не разрушает целомудрия, но еще удлиняет
его таинственные и влекущие ресницы, уплотняет фату
* Образ этой старой радости дан в «Старосветских помещиках»
У Гоголя; нельзя не заметить, что как бы призыв к этой старой радости
содержится в обетовании Божием уже девяностолетним и безнадежным
саре и Аврааму.
133
девства. Половой акт, в душе и правде своей для нас
совсем теперь утерянной, есть именно акт не разрушения,
а приобретения целомудрия; и только пройдя через
бездны его отрицания, невыносимого его загрязнения, мы
впали в действительность, из которой даже взглянуть
и увидеть радостную истину нам почти не дано *.
V
Толстой не подметил, не знал этого Достоевский, да
и вообще ускользает это от внимания людей, что
отрицательно-грязные явления пола возникают не на почве
утвердительного к нему отношения, но именно —
отрицательно-ослабленного. Позднышев, коего без
нескромности мы можем отождествить с Толстым,—он
плачет о браке; это—не он убил жену: он взят как
иллюстрация, как иллюстрирующий, и иллюстрирующий Тол-
стой-Позднышев не только не «убил» жену, но в
мелкорастленном обществе вырос в столп постижения семейной
красоты и создал почти литературу целомудрия. Но вот
факт поразительнее: ссыльный, игрок, автор невыразимо
грязных картин, Достоевский автобиографически дал
почти прототип трогательнейшего семьянина: «А Евангелие
передай Феде» (старшему сыну)—были его предсмертные
слова жене, и в какой трогательнейшей обстановке
подробностей!
Оба писателя «поклонились» полу; отсюда их тайно-
видение жизни пола. Но поистине лучший плод, нежели
это видение, есть их биография, их труд, их какая-то
религиозность в семье—как и что-то чуть-чуть, но кровное же
и страстное в религии. Мы подошли к узлу великой нсто-
* Замечательная безгрешность младенца вытекает отсюда. В
сущности, около младенца всякая взрослая (гражданская) добродетель
является уменьшенною и ограниченною, и человек, чем далее отходит от
момента рождения, тем более темнеет. В сиянии младенца есть
ноуменальная, по-ту-свстная святость, как бы влага по-ту-стороннего света, еще
не сбежавшая с ресниц его. Дом без детей—темен (морально), с
детьми—светел; долго смотря или общаясь с младенцем, мы исправляемся,
возвращаемся к незлобию и правде. Откуда все это, когда это
«барахтающееся животное» (говорят циники) есть плод «животкейшего» акта
(говорят еще худшие циники)? С их точки зрения, все непостижимо; но как
только мы отождествим душу пола с целомудрием и его ритм—с
восхождением по ступеням целомудрия, тотчас мы и поймем, что младенец,
плод полового акта, есть отелеснешюе целомудрие, от коего он и
заимствует все черты свои (невинность). Плод виновного акта был бы
виновен же, скареден: иначе невозможно ни метафизически, ни религиозно.
134
рической загадки: как существует брак, как он может
существовать, не разлагая либо религии собою, либо жизни?
Ведь что такое «брак», как не утвердительнейшее
отношение к полу, не доведение этого отношения до религии, до
культа, до начинающегося склонения перед ним и
поклонения ему? Помилуйте, человек «оставляет отца и мать»
и берет обузу на себя на весь остаток жизни—за что? За
мелочи, характерно выраженные Достоевским; ибо без
них невозможна вечная дружба, но только с этими
«мелочами», кровью и семенем, начинается «брак». Конечно,
это поклонение, и в такой сфере, что, казалось бы, оно
должно бы разорвать в клочки жизнь, как вихрь
разрывает сплошную тучу. Но в «буре—Бог», как уже заметил
Иов: не только жизнь не разорвана этим культом пола, но
она им сцементирована до неразрываемой прочности, до
совершенной несокрушимости жизненной ячейки—
семьи. Взглянем теперь на религию: ей ли, «чистой»
и «бесплотной», не загрязниться, не протрястись до
фундамента, не извратиться до глубины от касаний пола?
Какая чудовищная несовместимость! Но будьте терпеливы,
но будьте зорче: религия почти во всей своей
существующей полноте струится от пола; это—молитвы отцов о
детях, матерей—о них же; молитвы детей, повторяющих
слова за няней. Там и здесь—это молитвы пола, т.е.
имеющие пол в скрытой глубине своей. Холодны ли они?
Притворны ли? Нет глубочайших, нет страстнейших
молитв!.. Даже Некрасов-«гражданин» подметил их:
Внимая ужасам войны
Одни я в мире подсмотрел
Прямые истинные слезы—
То слезы бедных матерей:
Им не забыть своих детей!
Так не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.
Нет высшей красоты религии, нежели религия семьи.
Но тогда и семья, т.е. в кровности своей, в плотскости
своей, в своей очевидной телесной зависимости и
связности, не есть ли также обоюдно и взамен религия? Т. е. если
столь очевидно религия льется из плотских отношений, то
и обратно—нет ли религиозности в самих плотских
отношениях? В их фактуре? Все это безмолвно и для всех
неощутимо выражено в самом институте «брака»: он и есть
135
теитизация пола, т. е. это не только факт склонения
человека перед полом до культа, до религии, но это—самою
церковью выраженное признание, что тут возможно
религиозное склонение, т. е. что начала пола не только не
враждебны или не сторонни для нее, но и, напротив,
существенно входят в нее. Если «брак» есть или может быть
«религиозен», то, конечно, потому и при том лишь
условии, что «религия» имеет что-либо в себе «половое». Пол
теитизируется: это дает эфирнейший цветок бытия—
семью; но и теизм непременно и сейчас же сексуализируе-
тся: мы становимся целомудренно-возвышенны в браке,
но (по-видимому) низводя к чему-то несколько земному
и даже чуть-грязному—религию. Возможно ли это?
Можно ли подниматься к Богу ценой понижения Его? Не
«возможно» только—но факт: земная Матерь, в самом
деле в подробностях своего материнства—как
посредство между «Небесным Отцом» и небесным же, но и вместе
«Человеческим сыном». Тайна Бого-воплощения:
«Слово—плоть бысть и вселися в ны».
Таким образом, фундаментальное очертание
христианства не только не без-«поло», как думают некоторые, не
без-«плотно»: но именно эта религия, с во-«плошением»
в центре, и есть истинное поклонение ставшей божескою
плоти. В одном удивительнейшем и собственном,
единственном, Христом оставленном таинстве, это и
выражено: «вкусите Тела, и живы будете», «испейте Крови—в
жизнь вечную». Что за непонятные слова! Но вот что
совершенно бесспорно и понятно в них: Христос открыл
через них ученикам, что «Тело—в жизнь вечную» не только
не есть что-то земное и печальное в Нем, след земного
и недостаточного около Него материнства, но что это-
то «Тело», плод земной Матери, и особенно важно,
«спасительно», даже спасительнее Его слов, для людей. Ни об
одном речении, ни о какой истине Им не сказано слов
такой значительности, как о Своем «Теле». Таким образом,
«телесность», «плотскость» христианства совершенно
бесспорна не только из тайны во-«площения», но и из
глубоко связанного с ним таинства эвхаристии. Но одно и
другое имеет на земле для себя отражение: это—семья, брак;
теитизация пола и узел связей, где все «во-образ Отца»,
«по образу Сына», по примеру полу-небесной,
полуземной «Матери»*.
* Нельзя не настаивать твердо, что в Божией Матери мы поклон?'
136
VI
Таким образом, семья точно так же имеет для себя
религию в христианстве, как и институт монашества; и если
аскеты, как мы знаем, именуют себя «небесными
человеками», «земными ангелами», то и многоплодный и
заботливый отец, покорный родителям сын, целомудренная
дочь, завтра вырастающая в еще целомудреннейшую
жену,—суть также образы небесных прообразов. Они не
суть ослабевшие в грехе люди: они восходят в некоторую
положительную святость, и только по иной, полярно-
противоположной Голгофе скале: «зла»—«блага».
Выраженное в нюансах Голгофы христианство,
естественно, отнесло в гроб, «схиму» в заживо-погребенность
идею последнего торжества над грехом, окончательного
подчинения Христу. В чине «великого пострига»,
постригаемый, на коего наброшена темно-пепельная мантия
с изображениями мертвой головы и костей, под нею
сложенных крестом, на вопрос, троекратно повторяемый:
— По ком грядеши?
Отвечает троекратно же:
— По Тебе, Господи.
Это—смерть, возведенная в апофеоз святости;
Голгофа, которую несет человек, как Спаситель нес гвозди
и крест. Более чем постижимо, что величайшее отрицание
смерти, до некоторой степени над нею победа и ее
упразднение, лежащее в глубине брачного завитка, слилось
с идеею последнего греха. Но это—все относительно:
перенесемся в Вифлеем—и Голгофа представится
в истинном своем свете, как страдание, как враждебное
Христу, как в самом деле—распинание Его. Смерть и
к ней ступени предстанут в истинном своем виде—как
ступени греха, как виды отрицания; а виды святости,
нисходя по ступеням семейного труда, семейного «несения
тяготы друг друга», «благочестивого в семье веселья» па-
емся именно Пречистому Телу Ея как Престолу Божию,—но не скорби
Ея перед Голгофою, и вообще не остальному Ея жизненному пути.
Дело в том, что в христианстве мы имеем ноуменальное событие,
но дали ему исключительно феноменальную разработку,
прицепились мыслью и вниманием к понятному и рациональному в нем, как
понятна скорбь, понятная любовь к ближнему, понятное страдание
(Христа) за правду. Везде мы взяли в Христе понятное и обходим
безмолвно Божеское.
137
дают как к «первому святому» в самый завиток бытия
человеческого. Христианство, читаемое правильно, от
начала к концу, из рыдания над гробом и около гроба
переходит в неизъяснимую глубину херувимской песни около
брака. И «Слово плоть бысть» Нового Завета сливается
с «бысть два в плоть едину» Завета Ветхого. Только при
этом постижении становятся доказуемо-ясными слова:
«Я не разрушить пришел закон, а—исполнить». В
противном случае («лучше не жениться») получалось бы
расхождение Ветхого и Нового Завета с последствиями
(такового расхождения), которых и предвидеть нельзя...
Мы начали с «йот» евангельских, которым
поработило себя восторженное и неразумное человеческое сердце,
с сомнительного колорита в нем и неясных указаний,
никогда внимательно не разобранных. Мы привели нить
рассуждения чрезвычайно опасную: так узок путь, по
коему она тянется,—и страшные стремнины,
бедственнейшие заблуждения тесно сжимают пробирающуюся между
ними истину. «Торжество пола»:—не торжество ли
разврата? Не разнузданность ли чувственности? Нет и нет!
Не эта конечная гибель манила нас в наших рассуждениях:
совершенно обратное—страх Божий, который окружил
бы родник бытия человеческого и всякое подхождение
человека к бездонной его пропасти. Именно сюда, именно
в узел,— откуда без молитвы исходят чудовищные
гарпии,—мы зовем молитву, благочестие, тихую радость;
а раскрывая значение пола, заглядывая в глубь его
бездны, мы утверждаем, что молитва здесь есть не только
предохранение, но что она и соответствует его
мистически-неясной глубине. Не без великого смущения мы
написали здесь многие слова; но пусть читатель доверится, что
автор знал весь риск этих слов, и, значит, были они
неизбежны, когда, поставив их полными буквами и в
надлежащем порядке, он и сам прошел чрезвычайно близко
к краю величайшего и гибельного осуждения, какому
вообще может быть подвергнуто имя писателя. Все
рискованно здесь—в мысли, для имени пишущего; но нет еще
областей, которые содержали бы такие великие обещания,
какие находит человек здесь, подходя к утреннему лучу
своего «я» и с любопытством рассматривая его,
открывает точно природу «горнего мира», в которой нет иных
путей, кроме этих опаснейших. Есть и еще иной,
темный—могила; но с того пути «никто не возвращался»...
138
Уединенное
(фрагменты)
Связь «пола» с Богом—большая, чем связь ума с
Богом, даже чем связь совести с Богом,—выступает из того,
что все а-сексуалисты обнаруживают себя а-теистами. Те
самые господа, как Бокль или Спенсер, как Писарев или
Белинский, о «поле» сказавшие не больше слов, чем об
Аргентинской Республике, очевидно не более о нем и
думавшие, в то же время до того изумительно атеистичны,
как бы никогда до них и вокруг них не было никакой
религии. Это буквально «некрещеные» в каком-то странном,
особенном смысле. Суть «метерлинковского поворота» за
20—30 лет заключалась в том, что очень много людей
начали «смотреть в корень» не в прутковском, а в роэанов-
ском смысле: стал всем интересен его пол, личный свой
пол. Вероятно, тут произошло что-нибудь в семени (и
яйце): замечательно, что теперь стали уже рождаться
другими, чем лет 60—70 назад. Рождается «новая
генерация»... Одна умная матушка (А. А. А-бова) сказала
раз: «Перелом теперь в духовенстве все больше
сказывается в том, какое множество молодых матушек страдает
бесплодием». Она не договорила ту мысль, которую через
год я услышал от нее: именно что «не жены священников
не зачинают, а их мужья не имеют силы зачать в них».
Поразительно.
Вот в этом роде что-то произошло и во всей метерлин-
ковской генерации. Произошло не в образе мыслей, а
в поле;—и уже потом и в образе мыслей.
Человек стоит на двух якорях: родители, их «дом», его
младенчество—это один якорь. «Первая любовь». 13—14
лет—есть перелом; предвестие, что потянул «другой
якорь»... Исход и—венец; пристань «отчала» и пристань
«причала». Причал окончательный—могилы; и
замечательно, что уже любовь подводит к ней. Но любовь—
это «опять рожу» и стану для детей «пристанью отчала».
По этому сложению жизни до чего очевидно, что
genitalia в нас важнее мозга. «Мозг»—это капитан: тот,
который правит. Но для «мореплавания», очевидно, важен не
139
капитан, лицо сменяемое или наемное, а вековые «отчалы
и причалы».
Всякая любовь прекрасна. И только она одна и
прекрасна.
Потому что на земле единственное «в себе самом
истинное»—это любовь.
Любовь исключает ложь: первое «я солгал» означает:
«я уже не люблю», «я меньше люблю».
Гаснет любовь—и гаснет истина. Поэтому «истин-
ствовать на земле»—значит постоянно и истинно
любить.
Опавшие листья
(фрагменты)
Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным
любовь многих.
Даже неинтересно...
После книгопечатания любовь стала невозможной.
Какая же любовь «с книгою»?
Из каждой страницы Вейнингера слышится кр«к:«Я
люблю мужчин!»—«Ну, что же: ты—содомит». И на
этом можно закрыть книгу.
Она вся сплетена из vola * и scio * *, его scio—гениально,
по крайней мере где касается обзора природы. Женским
глазом он уловил тысячи дотоле незаметных
подробностей; даже заметил, что «кормление ребенка возбуждает
женщину». (Отсюда, собственно, и происходит вечное
«перекармливание» кормилицами и матерями и
последующее заболевание у младенцев желудка, с которым
«нет справы».)
— Фу, какая баба!—«Точно ты сам кормил ребенка
или хотел его выкормить!»
«Женщина бесконечно благодарна мужчине за
совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это—
кульминационная точка ее существования»,—это он не
* Хочу (лат.).
•• Знаю (лат.).
140
повторяет, а твердит в своей книге. Можно погрозить
пальчиком: «Не выдавай тайны, баба! Скрой тщательнее
свои грезы!» Он говорит о всех женщинах, как бы они
были все его соперницами,—с этим же раздражением. Но
женщины великодушнее. Имея каждая своего верного
мужа, они нимало не претендуют на уличных самцов
и оставляют на долю Вейнингера совершенно достаточно
брюк.
Ревнование (мужчин) к женщинам заставило его
ненавидеть «соперниц». С тем вместе он полон глубочайшей
нравственной тоски: и в ней раскрыл глубокую
нравственность женщин, которую в ревности отрицает. Он перешел
в христианство: как и вообще женщины (св. Ольга, св.
Клотильда, св. Берта) первые приняли христианство.
Напротив, евреев он ненавидит: и опять—потому, что
они/оне суть его «соперницы» (бабья натура евреев—моя
идея fixe).
Все очерчено и окончено в человеке, кроме половых
органов, которые кажутся около остального каким-то
многоточием или неясностью... которую встречает и с
которой связывается неясность или многоточие другого
организма. И тогда —оба ясны. Не от этой ли неоконченности
отвратительный вид их (на который все жалуются): и—
восторг в минуту, когда недоговоренное—кончается (акт
в ощущении)?
Как бы Б(ог) хотел сотворить акт; но не исполнил
движение свое, а дал его начало в мужчине и начало в
женщине. И они уже оканчивают это первоначальное движение.
Отсюд» его сладость и неодолимость.
В «S» же (utrjusque secus homines) все уже кончено: вот
отчего с «S» связано столько таланта.
Любовь есть боль. Кто не болит (о другом), тот и не
любит (другого).
Отстаивай любовь своими ногтями, отстаивай любовь
своими зубами. Отстаивай ее против ума, отстаивай ее
против власти.
Будь крепок в любви—и Бог тебя благословит.
Но любовь—корень жизни. А Бог есть жизнь.
Все же именно любовь меня не обманывала. Обманулся
в вере, в цивилизации, в литературе. В людях вообще. Но
141
те два человека, которые меня любили,—я в них не
обманулся никогда. И не то, чтобы мне было хорошо от любви
их, вообще нет: но жажда видеть идеальное, правдивое—
вечна в человеке. В двух этих привязанных к себе людях
(«друге» и Юлии) я и увидел правду, на которой не было
«ущерба луны»,—и на светозарном лице их я вообще не
подметил ни одной моральной «Морщины».
Если бы я сам был таков—моя жизнь была бы полна
и я был бы совершенно счастлив, без конституции, без
литературы и без красивого лица...
Больше любви; больше любви, дайте любви. Я
задыхаюсь в холоде.
У, как везде холодно.
Любовь подобна жажде. Она есть жаждание души тела
(то есть души, коей проявлением служит тело). Любовь
всегда—к тому, чего «особенно недостает мне»,
жаждущему.
Любовь есть томление: она томит; и убивает, когда
не удовлетворена.
Поэтому-то любовь, насыщаясь, всегда возрождает.
Любовь есть возрождение.
Любовь есть взаимное пожирание, поглощение.
Любовь—это всегда обмен,—души—тела. Поэтому, когда
нечему обмениваться, любовь погасает. И она всегда
погасает по одной причине: исчерпанности материала для
обмена, остановке обмена, сытости взаимной, сходства-
тождества когда-то любивших и разных.
Зубцы (разница) перетираются, сглаживаются, не
зацепляются друг за друга. И «вал» останавливается,
«работа» остановилась: потому что исчезла машина как
стройность и гармония противоположностей.
Эта любовь, естественно умершая, никогда не
возродится...
Отсюда, раньше ее (полного) окончания, вспыхивают,
измены как последняя надежда любви: ничто так не
отдаляет (творит разницу) любящих, как измена которого-
нибудь. Последний, еще не стершийся зубец нарастает, и
с ним зацепливается противолежащий зубчик. Движение
опять возможно, есть—сколько-нибудь. Измена есть,
таким образом, самоисцеление любви, «починка» любви,
«заплата» на изношенное и ветхое. Очень нередко «над-
142
треснутая» любовь разгорается от измены еще
возможным для нее пламенем и образует сносное счастье до
конца жизни. Тогда как без «измены» любовники или
семья равнодушно бы отпали, отвалились,
развалились; умерли окончательно.
Мы рождаемся для любви.
И насколько мы не исполнили любви, мы томимся на
свете.
И насколько мы не исполнили любви, мы будем
наказаны на том свете.
Мы не по думанью любим, а по любви думаем.
Даже и в мысли—сердце первое.
Будь верен человеку, и Бог ничто тебе не поставит в
неверность.
Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных
заповедей можешь и не исполнить.
Любить—значит «не могу без тебя быть», «мне
тяжело без тебя», «везде скучно, где не ты».
Это внешнее описание, но самое точное.
Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь —
воздух. Без нее—нет дыхания, а при ней «дышится
легко».
Вот и все.
Только такая любовь к человеку есть настоящая, не
преумышленная против существа любви и ее задачи, где
любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не
разделяется как бы в самой крови и нервах от любимого.
«Анунциата была высока ростом и бела, как мрамор»
(Гоголь)—такие слова мог бы сказать только человек, не
взглянувший ни на какую женщину хоть «с каким-нибудь
интересом».
Интересна половая загадка Гоголя. Ни в каком случае
она не заключалась ц он... как все предполагают
(разговоры). Но в чем? Он, бесспорно, «не знал женщины», то
есть у него не было физиологического аппетита к ней. Что
же было? Поразительная яркость кисти везде, где он гово-
143
рит о покойниках. «Красавица (колдунья) в гробу»—как
сейчас видишь. «Мертвецы, поднимающиеся из могил»,
которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая
на лодке мимо кладбища,—поразительны. То же—
утопленница Ганна. Везде покойник у него живет
удвоенною жизнью, покойник нигде не «мертв», тогда как живые
люди удивительно мертвы. Это—куклы, схемы,
аллегории пороков. Напротив, покойники—и Ганна, и
колдунья—прекрасны и индивидуально интересны. Это «уж не
Собакевич-с». Я и думаю, что половая тайна Гоголя
находилась где-то тут, в «прекрасном упокоином мире», по
слову Евангелия: «где будет сокровище ваше—там и душа
ваша». Поразительно, что ведь ни одного мужского
покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но
они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими
не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц,—и
не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких.
Бурульбаш сказал бы: «Вишь, турецкая душа, чего
захотел». И перекрестился бы.
Кстати, я как-то не умею представить себе, чтобы
Гоголь «перекрестился». Путешествовал в Палестину—да,
был ханжою—да. Но перекреститься не мог. И просто
смешно бы вышло. «Гоголь крестится»—точно медведь
в менуэте.
Животных тоже он нигде не описывает, кроме быков,
разбодавших поляков (под Бубно). Имя собаки, я не знаю,
попадется ли у него. Замечательно, что нравственный
идеал—Уленька—похожа на покойницу. Бледна,
прозрачна, почти не говорит и только плачет. «Точно ее
вытащили из воды», а она взяла да (для удовольствия Гоголя)
и ожила, но самая жизнь проявилась в прелести
капающих слез, напоминающих, как каплет вода с утопленницы,
вытащенной и поставленной на ноги.
Бездонная глубина и загадка.
Покорить брак закону любви...
казалось бы, в этом ведь христианство: все—покорять
закону согласия, мира, тишины. Но именно в
христианстве—не в мусульманстве, не в еврействе—две тысячи
лет бьется другой принцип:
Покорить любовь закону брака.
И все в этом задыхаются.
Кажется, что в нашем браке—и не Евангелие, и не Би-
144
блия (уж, конечно); это—римский государственный брак.
Отцы Церкви были все обывателями Греко-Римской
империи—или чисто Римской—и понятие об «основной
социальной клеточке» взяли из окружающей жизни.
Вот почему мои порывы к новой семье хотя кажутся
и суть «антиканонические», но суть подлинно евангель-
ско-библейские стремления, и только антиримско-
языческие, неосторожно взятые в «каноны».
Бог сотворил любовь. Адам и Ева были в любви—и
посему единственно Библия их нарекла иш и иша
(сопряженные), муж и жена. Любовь древнее «закона
брачного». И понятно, что древнейшее и основное не умеет
покориться новому и прибавочному.
Не «существительное» согласуется в роде, числе и
падеже с «прилагательным», а «прилагательное» согласуется
с «существительным».
И следуйте этому, попы; или, во всяком случае, вам не
будут повиноваться.
Будете убивать за это, и все-таки вам повиноваться не
будут: по слову Писания—«любовь сильнее даже и
смерти».
Любовь есть совершенная отдача себя другому.
«Меня» уже пет, а «все—твое».
Любовь есть чудо. Нравственное чудо.
Развод—регулятор брака, тела его, души его. Кто
захотел бы разрушить брак, но анонимно, тайно, скрыл
«дело под сукно»—ему достаточно было бы испортить
развод.
«Учение (и законы) о разводе» не есть учение только
о разводе, но это-то и есть почти все учение о самом
браке. В нем уже все содержится: мудрость, воля. К
сожалению, «в нашем» о нем учении ничего не содержится, кроме
глупости и злоупотреблений.
Что выше, любовь или история любви?
Ах, все «истории любви» все-таки не стоят кусочка
«сейчас любви».
Я теперь пишу «историю», потому что счастье мое
прошло.
Основание моей привязанности—нравственное. Хотя
мне все нравилось в ее теле, в фигуре, в слабом коротень-
145
ком мизинчике (удивительно изящные руки), в «одной»
ямке на щеках (после смерти первого мужа другая ямка
исчезла),—это было то, что только не мешало развиться
нравственной любви.
В христианском мире уже только возможна
нравственная любовь, нравственная привязанность. Тело как
святыня (Ветхий Завет) действительно умерло, и
телесная любовь невозможна. Телесная любовь осталась
только для улицы и имеет уличные формы.
Я любил ее, как грех любит праведность, и как кривое
любит прямое, и как другое—правду.
Вот отчего в любви моей есть какое-то странное
«разделение». Оно-то и сообщило ей жгучесть, рыдание. Оно-
то и сделало ее вечным алканием, без сытости и
удовлетворения. Оно исполнило ее тоски, муки и
необыкновенного счастья.
Почти всегда, если мы бывали одни и опа не бывала со
мною (не разговаривала), она молилась. Это и раньше
бывало, по за последние пять-шесть-семь лет постоянно.
И за годы, когда я постоянно видел возле себя
молящегося человека,—мог ли я не привыкнуть, не воспитаться,
не убедиться, не почувствовать со всей силой умиления,
что молитва есть лучшее, главное.
(Ночью в слезах, 1 ноября, в постели.)
Ни Новоселов, ни Флоренский], ни Цвет[ков], ни
Булгаков, которые все время думают, чувствуют и говорят
о церкви, о христианстве, ничего не сказали, и главное, не
скажут и потом ничего о браке, семье, о поле. Вл.
Соловьев написал «Смысл любви», но ведь «смысл любви» —
это естественная философская тема; но и он ни одной
строчки в десяти томах «Сочин[ений]>> не посвятил
разводу, девственности вступающих в брак, измене и вообще
терниям и муке семьи. Ни одной строчкой ей не помог.
Когда я издал два тома «Семейного вопроса в России», то
па книгу не только не обратили никакого внимания, но во
всей печати о ней не было сделано ни одной рецензии и ни
одного указания или ссылки.
«Семейного вопроса в России» и не существует. И
семья насколько страшно нужна каждому порознь,
настолько же вообще все—коллективным национальным
146
умом коллективным христианским умом, собирательным
церковным сердцем—к ней равнодушны и безучастны.
Это дело полиции и консистории—дело взятки,
протокола и позорного судбища. Как ясно, что оно именно не
«таинство», а грязь и мерзость во всем ее реальном
содержании («два в плоть едину»)—как об этом все они и
говорят в сердце своем, в сочинениях своих, в молчании своем.
Флоренский] мог бы и смел бы сказать: но он более
и более уходит в сухую, высокомерную, жестокую
церковность. «Засыхают цветочки» Франциска Ассизского.
Любовь продажная кажется «очень удобною»: «у кого
есть пять рублей, входи и бери». Да, но
Облетели цветы
И угасли огни...
Что же он берет? Кусок мертвой резины. Лайковую
перчатку, притом заплеванную и брошенную на пол,
которую подымает и натягивает на свою офицерскую руку
и свою студенческую руку. «Продажная любовь» есть
поистине гнусность, которая должна быть истреблена
пушками (моя гимназическая мечта), порохом и ножом. На
нее нужно смотреть как на выделку «фальшивой монеты»,
подрывающей «кредит государства». Ибо она, все эти
«лупанары» и переполняющие улицы ночью шляющиеся
проститутки—«подрывают кредит семьи»,
«опровергают семью», «делают ненужным (осязательно и прямо)
брак». Ну, а уж «брак» и «семья» не менее важны для
нации, чем фиск, казна.
Как поршень действует в цилиндре насоса?—под
поршнем образуется пустота. И природа с ее terror vacui
стремится наполнить ее. Выступают и поднимаются воды
земли, собираются воды земли (почвы) и устремляются
к уходящему поршню... И жизнь, и силы, и кровь. Вот
отчего «весь организм» как бы собирается в одну точку.
И поистине эта точка и в это время есть «фокус организма
в жизни», подобно как есть «фокус» в оптических стеклах.
Оплодотворение детей входит неописуемым чувством
в родителей: «Вот я прикрепился к земле», «земля уродни-
лась мне», «теперь меня с земли (планеты) ничто не
ссадит», не изгладит, не истребит.
147
Отсюда обряд, песни, цветы у всех народов, у нас—
венчание; белое платье, венцы на головы врачующихся.
Но это—глубже, это не обряд; обряд пришел «совсем
потом» и показует не свою важность, а важность того,
к чему он прикрепился.
Отсюда же в древности «пир происходил», когда
новобрачные уже отводились в опочивальню (в
Иерусалиме—в «хуппу»), и они начинали совокупляться во время
самого пира; у нас, русских, до последнего времени
выносилась «в пир» и показывалась гостям снятая после
совокупления сорочка новобрачной со всеми знаками его силы
и ее чистоты. Но это—не «проверка»: разве психология
пира такова, чтобы «рассматривать подпись на долговой
расписке». Совершалось это вначале по наивной и
открытой радости родителей, что крови начали уже сливаться,
два рода—его род и ее род—слились в одну реку,
срослись в один ствол Вечного Дерева; что «Древо Жизни»
преуспело и снесло еще яблоко. У Андрея Т. Болотова,
в его «Записках», описывается подробно этот вынос
рубашки новобрачной. В Смоленской губернии торжество
омоченной срачицы сохраняется до сих пор в
благочестивом простом народе, у мещан по городам и везде в селах.
Но все это—«приложилось». В основе лежит чувство
родителей, как бы вторично и более полным образом
рождающихся в мире. Совокупление детей есть для
родителей собственное их второе рождение. Едва крови—
прорвав ткани—слились, как в родителей входит
метафизическое знание, что от них отделилась нить, которая
связалась в узел с нитью, вышедшей из пуповины «кого-
то другого», «совсем нового», «чуждого вот нашему
роду». Это близко к тому, как насекомое-наездник, опустив
яйцевод, просверливает кожу куколки и опускает в тело
куколки яйцо свое, из коего вылупится «я» этого
наездника и будет питаться телом этой куколки. Только там
это—жестоко и убийственно, а здесь это—благо,
любящее, в наслаждение «яйцекладчиков» и в Вечную Жизнь.
Отсюда же древние обычаи: что финикиянки выходили на
берег и отдавались приплывавшим иностранцам, то есть
«как тело куколки», но сладко «принимали яйцо
«наездника», чтобы унести себе его в дом и там родить и
вырастить. Отсюда же почти везде в древности
существовавшая «семейная проституция», которая на самом деле есть
вовсе не это отвратительное и денежное ремесло, но тоже
«приятие в себе в дом яйца» как некоторой абсолютной
148
мировой ценности, что ведь, в сущности, и есть так.
Поэтому она никого не оскорбляла, а оскорблял,
напротив, отказ иностранца, путника или гостя дать яйцо. «Как
курица — побыла сутки в доме, но ничего не оставила».
Это обижало, это отталкивало, это разделяло, это
вводило людей в тоску и слезы. Напротив, «приняв яйцо»,
радовались и гоготали, как курица после яйцеснесения.
Курица-то почему кричит? Да что она «принесла пользу миру»;
более «не чужая миру»; она кричит: «мир—мой», а «я—
мировая», то есть мировая вещь, мировое лицо; я теперь
«мировое существо»—в «середочках», а не «с краешку»
(конец мира).
Если курица чувствует, насколько ярче и сильнее чуз-
ствует человек! Дети—не верьте родителям: они
скрываются.
Проклятое уныние склонило чело их долу. Но это—
тоска времени, и она пройдет.
Поднимите глаза: солнце восходит.
Солнце жизни...
Солнце улыбок...
(открытие Розанова)
Женщина—исподнее существо. Договаривают: «и—
преисподнее». Нет, она небесное существо.
Cul. ph. непонятен и невозможен вне родства, в
родстве же он непонятен и неизбежен как средоточие этого
родства, его источник и возбудитель, тайная его поэзия и,
наконец, религия.
Cul. phal. был продиктован кем-то очень старым,
«ветхим деньми». Молодому он и на ум не может придти,
в молодом он возбудил бы только «смех или забавное
отношение».
Он смешон для братьев и сыновей, но не смешон —для
родителей; смешон для дочерей, для сестер—но не
смешон «для свекра и свекрови, для тестя с тещей». Он
совершенно понятен для всякого деда и бабки. «Кто дал его
(первому человечеству)—был непременно «с
развевающимися по ветру седыми волосами», был око (зрение, все-
ВДдение).
Супружество как замок и дужка: если чуть-чуть не
подходят, то можно только бросить. «Отпереть нельзя»,
«запреть нельзя», «сохранить имущество нельзя». Только
бросить (расторжение брака, развод).
149
Но русские ужасно как любят сберегать имущество
замками, к которым дужка только приставлена. «Вор не
догадается и не тронет». И блаженствует.
Мимолетное
(фрагмент)
Не обижайте любовь... Не тесните, не гоните ее, не
подсматривайте за нею. Не клевещите на нее. Не
сплетничайте о ней. Родители, не обижайте любовь своих детей.
Общества, не обижайте своих членов. Господа, не
обижайте любовь своей прислуги.
Начальство учебных заведений, не обижайте любовь
учеников и учениц.
Ах, как коротка жизнь! Как тяжела! Как скучна!
Однообразна, томительна.
«Други мои, если это так,—а это, несомненно, так,—
то неужели вы «в жестокой руке» сожжете почти
единственный, во всяком случае главный и всему живому
дарованный цветок—любовь? Как странно. Как горестно.
О, разожмите, разожмите руку, выпустите. Пусть цветет
и благоухает. Берегите его. Целуйте его. С покрывалами
(полотнищами) станьте около любви и закройте ее от
осуждения злых. И не подозревайте: «Она будет коротка». Не
клевещите: «Она будет неверна». Ничего не думайте. «Как
Господь устроит». Вы же берегите и берегите всякое
«Есть» любви.
И не случайно Достоевский предсказал всемирное
значение Л. Толстого по поводу именно «Анны Карениной»:
«Если у нас есть литературные произведения такой силы,
мысли и исполнения, то... почему нам отказывает Европа
в нашем своем собственном слове?—вот вопрос, который
рождается сам собою». В этом произведении, утверждает
Достоевский, выражена величайшая тайна мира, тайна
зла, «с страшной глубиной и силою, с небывалым доселе
у нас реализмом художественного исполнения»; здесь
выражено то, что «законы духа человеческого столь еще
неизвестны... столь таинственны, что нет и не может быть
судей окончательных, а есть Тот, Который говорит:«Мне
отмщение, и Аз воздам». Ему одному известна вся тайна
мира сего и окончательная судьба человека. Человек же
пока не может браться решать ничего с гордостью своей
непогрешимости—не пришли еще времена и сроки».
Одну сцену Достоевский считает главною, называет самою
«гениальною»; и уж конечно, для него в этой сцене, живом
средоточии всей «Анны Карениной», может быть, всего
художественного толстовского творчества, с наибольшею
силою и ясностью выражена главная идея романа—
тайна незавершенного мира, тайна зла и
несоизмеримость тайны этой с человеческим разумом («не может быть
судей окончательных»); это—та сцена, где Анна
Каренина, чувствуя приближение смерти, делает мужу
поразительное признание:
«Я все та же, но во мне есть другая, я ее боюсь... Та не
я. Теперь я настоящая, я вся». Достоевский мог бы
сказать Анне Карениной то, что он говорит неизвестной в
одном из своих предсмертных писем: «Вы мне родная,
потому что это раздвоение в вас точь-в-точь, как и во мне,—и
всю жизнь во мне было». Раздвоение всю жизнь было и
в Анне; в ней были два я, и весь ужас ее трагедии в
неразрешимости для ее сознания, для ее совести вопроса, какое
из этих двух я настоящее. Когда особое состояние
плоти—горячечный жар, бред, ощущение близкой смерти—
дает ее сознанию ясновидение, и она решает, что не
любит и никогда не любила Вронского, а любит только
мужа, и даже в то время, как хотела его ненавидеть, любила
его,—то это ложь, или, вернее, одна половина правды без
другой, одна из «двух правд», между которыми она живет
и умирает, тех вечных «двух правд», о которых говорит
и Черт Ивану Карамазову. Когда другое полярно проти-
152
воположное состояние плоти—оргийный избыток
жизни—дает ее сознанию другое, опять-таки полярно
противоположное ясновидение, и она решает, что любит
Вронского и ненавидит мужа,—это опять ложь или половина,
другая половина правды. А совершенная, полная
правда —то, что она любит и любовника, и мужа в одно и то же
время, любит обоих вместе, что оба я, живущие в ней,—
Анна, любящая Вронского, и Анна, любящая мужа,—
одинаково искренние, одинаково истинные. Это
невозможно, противоестественно, это слишком страшно,
страшнее смерти—она ведь действительно и умирает,
чтобы только не видеть этой постепенно обнажающейся
перед нею полной правды, которая кажется ей
чудовищно-бесстыдною, безобразною,—но это так. И недаром
вещий сон соединяет для нее жизнь со смертью, одну
половину правды с другой, приподымая уголок покрова над
этой последнею единою истиной.
Вскоре после того, как Анна впервые отдалась
Вронскому и стали «двое одна плоть»,—«во сне, когда она не
имела власти над своими мыслями, ее положение
представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно
сновидение почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось,
что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои
ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и
говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут
же, и он был также ее муж. И она удивлялась тому, что
прежде ей казалось это невозможным, объясняла им,
смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь
довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар,
давило ее, и она просыпалась с ужасом». Тут всего
поразительнее то, что Анна смеется во сне. Это, конечно, все тот же,
слишком знакомый нам по раздвоенным героям
Достоевского, страшный смех от смешения; это смешное от
смешанного («внезапный демон иронии»—«я весь точно
заряжен смехом»). Анна «просыпается с ужасом», и это
ужас, от которого действительно можно сойти с ума или
«умереть во сне», как боится умереть князь Мышкин,
мучимый таким же бредом двойной любви.
— Как же? Стало быть, обеих хотите любить?—
спрашивает Идиота простой жизненный человек.
— О, да, да,—отвечает тот с ужасным простодушием,
которое делает его похожим на настоящего Идиота... или
на святого.
153
— Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!
И простой человек смеется беззаботным смехом: «Как
это—любить двух? Двумя разными любвями какими-
нибудь? Это интересно... бедный Идиот! И что с ним
будет теперь?»
Прежде было ясно и просто: любить двух нельзя; это
грешно или смешно, гадко, пошло—смешно потому, что
две чувственности, смешиваясь, обезображиваются этим
смешением. Прежде также было ясно, за что и кому
именно принадлежит «отмщение». Но вот «святой» князь Мыш-
кин, хотя и «чувствует себя виноватым во всем», но
вместе с тем сознает, что не может и не хочет любить иначе,
как «обеих вместе». И страстная, может быть даже
сладострастная (хотя и новым, почти никому еще неведомым
сладострастием), любовь его к «мадонне» Аглае так же
безгрешна, как его бесстрастная любовь-жалость к
вакханке Настасье Филипповне. Если бы он изменил одной
из них, то спас бы обеих, но он чувствует, что не должен
изменять ни той, ни другой и этой верностью губит обеих,
от нее гибнет сам. Где же тут, собственно, грешное,
прелюбодейное? И где смешное? Кому отомщение и за что?
Мы этого пока не знаем—«не пришли еще времена и
сроки». Но ведь и Анна гибнет вовсе не потому, что изменила
мужу для любовника, как всем и ей самой кажется, а
наоборот—именно потому, что хочет и не может изменить
ни мужу для любовника, ни любовнику для мужа и
остается верною обоим даже до смерти, до самоуничтожения.
В том-то весь ужас ее трагедии, что любовь к Вронскому
не только не разрушает, а, напротив, обостряет,
углубляет до бесконечности любовь ее к мужу. Это не
прелюбодеяние, по крайней мере не старое обычное
прелюбодеяние, не грех и смех, не две смешанные и этим
смешением оскверненные чувственности, а два самые великие,
самые чистые и совершенно противоположные, для ее
сознания несоединимые чувства или даже две какие-то всю
ее жизнь, всю нашу жизнь пронизывающие, хотя и для нее
так же, как для большинства из нас, все еще
бессознательные мысли. Тут «две мысли вместе сошлись,—говорит
Идиот.—Это очень часто случается, со мной
беспрерывно... С этими двойными мыслями ужасно трудно
бороться». От этих-то двойных, «двоящихся мыслей» погиб
князь Мышкин, сошел с ума—«умер во сне». Эти
двойные чувства и мысли—по преимуществу наши, новые,
никогда никем в прошлых веках с такою силою не испытан-
154
ные чувства и мысли. В минуты самого яркого сознания,
когда Анна с отчаянием обращается за помощью к
религии, к христианству, «ей не только тяжело,—говорит
Л. Толстой,— но она начинает испытывать страх перед
новым, никогда не испытанным ею душевным
состоянием; она чувствует, что в душе ее все начинает двоиться,
как двоятся иногда предметы в усталых глазах». И она,
подобно Идиоту, погибнет от этого раздвоения, убьет
себя, чтобы только уйти от невыносимого ужаса двойной
любви. Трагедия Анны Карениной есть трагедия князя
Мышкина, и не его одного, но и всех вообще раздвоенных
героев Достоевского. И в Анне, как в Раскольникове,
«точно два противоположные характера поочередно
сменяются». И Анна, подобно Версилову, «обладает
способностью чувствовать два самые противоположные чувства
в одно и то же время», и как тот, сама не знает иногда,
страшно ли это, потому что безумно, или только низко
и бесчестно, «потому что слишком благоразумно». И ее
душа, как душа Ставрогина, вечно колеблется между
«двумя полюсами», находя в обоих если не
«одинаковость наслаждения», то одинаковость муки. И она, как
Дмитрий Карамазов, начиная «идеалом Мадонны»—
целомудренной жены, рождающей матери,—кончает
«идеалом Содомским»—нерождающей любовницы,
сладострастной вакханки, которую оргииная чрезмерность
любви приводит к необходимости смерти, к жажде
саморазрушения («я хочу себя разрушать», как Лиза говорит
Алеше). И что еще страшнее—«уже с идеалом
Содомским в душе не отрицает она и идеала Мадонны, и горит
от него сердце ее, воистину горит, как и в юные
непорочные годы»; и «что уму не представляется позором, то
сердцу сплошь красотой». Красота и для нее, и даже в ней
самой, по слову Дмитрия,—«не только страшная, но
и таинственная вещь», ибо «тут берега сходятся, тут все
противоречия вместе живут». Если Наташа, Китти —
явная, дневная, то Анна Каренина тайная, ночная муза
Л. Толстого, может быть более близкая сердцу его; во
всяком случае, это в русской литературе самое
совершенное воплощение той красоты, о которой всю жизнь думал
Достоевский, о которой Л. Толстой никогда не думал, но
которую он чувствовал не менее глубоко, чем
Достоевский,—той «страшной и таинственной» красоты, из-за
которой, опять-таки по слову Дмитрия, «дьявол с Богом
борется, а поле битвы—сердца людей».
155
Итак, в своем величайшем произведении, в «Анне
Карениной», Л. Толстой, ясновидец плоти, углубляясь в ее
бессознательную стихию, коснулся той же тайны мира,
тайны раздвоения—Двух в Едином, которую вечно
испытывал и ясновидец духа Достоевский, проникая в высшие,
отвлеченнейшие от бессознательной стихии области
человеческого сознания. Тут разными языками оба они
говорят об одном и том же; тут их кровное родство, их сроще-
ние, их общие, неразрывно сплетенные, соединяющие эти
две столь противоположные вершины русского духа
подземные корни; тут их вечное, самое древнее и самое новое,
русское, пушкинское единство.
И чем пристальнее всматриваешься в эти «две
правды», «два я», которые борются в Анне Карениной, тем
яснее обнаруживается совершенное единство главного
трагического действия в лучшем из произведений Л.
Толстого и во всех произведениях Достоевского.
Одно из этих «я» легко определимо: оно освещено
светом нашего общенародного, даже общеевропейского,
и частного толстовского религиозного сознания, которое
кажется ему и почти всем «христианским», исчерпывающим
сущность того, что привыкли называть «христианством».
Это именно то из двух «я», которое является самой Анне
при вспышке «белого света смерти» и которое считает она
единственно подлинным, праведным, святым. Это та,
будто бы настоящая прежняя Анна, которая любит не
Вронского, а мужа любовью почти чуждою
пола—бесстрастною любовью-жалостью. «Он добр, он сам не знает, как
он добр. Никто не знал. Одна я, и то мне тяжело стало.
Его глаза надо знать, у Сережи точно такие же, и я
их видеть не могу от этого».
Она смотрит на мужа «с такой умиленною и
восторженною нежностью», какой он никогда не видал.— «Нет,
нет, уйди, ты слишком хорош».—Она держала одною
горячею рукой его руку, другою отталкивала его. И когда
он стал на колени и, положив голову на ее руку, зарыдал,
как ребенок, она обняла его плешивеющую голову,
подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла кверху
глаза:
— Вот он, я знала!
И, обращаясь к Вронскому, который закрывает лицо
руками.
— Открой лицо, смотри на него. Он святой,—сказала
она.—Да открой, открой лицо!—сердито заговорила
156
она.—Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу
его видеть.
Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел
их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда,
которые были на нем.
— Подай ему руку. Прости его.
Она в это мгновение наслаждается позором молодого,
красивого, гордого любовника и величием старого,
безобразного, смешного мужа.
— Вы можете затоптать меня в грязь, сделать
посмешищем света, я не покину ее и никогда ни слова упрека не
скажу вам,—говорит муж любовнику.
Да, «он добр, он слишком хорош, он святой».
В бреду мечтает она и для себя о той же святости: «Л
ужасна, но мне няня говорила: святая мученица, как ее
звали? Она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыня».
Муж и любовник простили друг другу; грешная жена
уйдет в пустыню спасаться, подобно святой Марии
Египетской. «Чтобы не погибнуть от убеждения в
таинственной и роковой неизбежности зла,—говорит
Достоевский,—человеку указан исход. Он гениально намечен
поэтом в гениальной сцене романа, в сцене смертельной
болезни героини, когда преступники и враги вдруг
преображаются в существа высшие, в братьев, все
простивших друг другу, в существа, которые сами взаимным
всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность и тем
разом оправдали себя с полным сознанием, что получили
право на то». Вот исход единственный, будто бы
указанный человеку Богом; другого нет: так думает или по
крайней мере хочет думать Достоевский; так думал, конечно,
и сам Л. Толстой, создавая «Анну Каренину».
Действительно, это все еще пока единственный исход старого
религиозного сознания, которое считает себя
исчерпывающим христианство. Достоевский говорит тут о «полном
сознании» кающихся «преступников», то есть Вронского
и Анны. Но па самом деле, было ли тут «полное
сознание»? Было ли тут даже вообще какое бы то ни было
религиозное сознание чем-то главным, решающим?
Пробуждение «настоящего», исключительно будто бы
«христианского» я в Анне—любви ее к мужу—
начинается не столько в сознании (на самом деле
сознание это потухает в ней вместе со вспышкой «белого света
смерти», так что, выздоровев от родильной горячки,
остается она в прежней, «языческой» темноте и слепоте),
157
не в сознании, а в бессознательной стихии, не в глубине
духа, а в глубине плоти, так же как все великие чувства
и мысли у Л. Толстого. В глубине плоти, в тайне пола
у женщины рядом с началом нерождающего оргийного
сладострастия есть противоположное, или кажущееся
противоположным, начало материнства. Анна не
только— вакханка, любовница, «преступная» жена, но и мать,
все еще «святая мать», «Мадонна». И даже в то время,
когда всеми силами своего полного сознания оправдывает
она себя и любовь свою к Вронскому, ненависть к мужу,
эта бессознательная, противоположная правда, правда
материнства, возмущается в ней.
Вронский не мог понять, как она со своею сильною,
честною натурой могла переносить это положение
обмана и не желать выйти из него; но он не догадывался, что
главная причина этого была то слово сын, которого она не
могла выговорить. Когда она думала о сыне и о его
будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так
становилось страшно за то, что она сделала, что она не
рассуждала, а, как женщина, старалась только успокоить
себя лживыми рассуждениями и словами, с тем чтобы все
оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про
страшный вопрос, что будет с сыном.
— «Я прошу тебя, я умоляю тебя, никогда не говори
со мной об этом!
— Но, Анна...
— Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас
своего положения я знаю; но это не так легко решить, как
ты думаешь».
Действительно, это не так легко решить, как думают
все. Уйти от мужа? Забыть прошлое и начать новую
жизнь? Но ведь вот—глаза у Сережи совсем такие же, как
у отца. Она не может их видеть, не может подумать о них.
И никуда не уйдет она от этих глаз—из-за них и
погибнет. Не может она не быть навеки женою своего мужа,
потому что не может не быть навеки матерью своего сына.
Это связь крови и плоти, «связь души с телом»; чтобы
порвать ее, надо порвать нить самой жизни, и
действительно, она, порывая ее, убивает себя.
А был другой исход: надо было пожертвовать своим
оргийным сладострастием своему материнству, своею
плотью своему духу, потому что дух свят, а плоть грешна,
потому что духовная Анна—истинная, а плотская—
ложная, не «настоящая». Так опять-таки думает сама она
158
и Л. Толстой, и Достоевский, и все читатели романа,
и вся дневная, явная при свете двухтысячелетнего
исторического дня христианская культура, от пустыни, где
спасалась святая Мария Египетская, до той пустыни, в которую
зовет яснополянский отшельник.
Анна отвергла этот единственный исход и погибла,
казненная по закону божеского правосудия: «Мне
отмщение, и Аз воздам». Вот опять-таки дневная, явная мысль
произведения, понятая, принятая всеми. Но так ли это на
самом деле? Единственная ли это и самая ли глубокая
мысль художника? Нет, кажется, и в «Анне Карениной», так
же как во всех созданиях Л. Толстого,—«ночь глубока
и глубже, чем думал день», по слову Заратустры, die Nacht
ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Кроме этой дневной,
явной мысли, тут есть и другая, тайная, для самого
художника бессознательная, ночная мысль.
Чтобы измерить всю ее глубину, надо пристальнее
всмотреться и в другое, «не настоящее», будто бы не
«христианское» я в существе Анны. Что же это за я? Откуда
опо и куда идет? И главное, в каком религиозном
отношении находится это второе я к первому, настоящему, будто
бы христианскому?
Анна возвращается из Москвы в Петербург, еще
совершенно невинная, целомудренная, даже в самых тайных
мыслях своих. «Ну, все кончено, и слава Богу!—думает
она, сидя ночью в вагоне.—Завтра увижу Сережу и
Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и
привычная, по-старому». Вдруг вспомнила она Вронского «и
чуть вслух не засмеялась от радости, беспричинно
овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны,
натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся
колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются все
больше и больше, что пальцы па руках и ногах нервно
движутся, что внутри что-то давит дыханье и что все
образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с
необычайной яркостью поражают ее. На нее беспрестанно
находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или
назад, или вовсе стоит. «Что там на ручке, шуба ли это или
зверь? И что сама я тут? Я сама или другая!» Вот первое
сомнение Анны в единстве и подлинности своего я; вот
первая, чуть видимая трещина великого раздвоения.
В этом бреду жизни, чрезмерного здоровья она могла бы
сказать то же, теми же словами, что скажет впоследствии,
в бреду болезни и смерти—только в обратном смысле:
159
«Я все та же, но во мне есть другая... Та не я. Теперь я
настоящая, я вся». «Ей страшно было отдаваться этому
забытью. Но что-то втягивало ее в него, и она по произволу
могла отдаваться ему и воздерживаться». Все смешалось;
она окончательно впадает в забытье. «Анна
почувствовала, что она провалилась, но все это было не страшно,
а весело». Потом, когда выходит она на площадку вагона,
«метель и ветер рванулись ей навстречу. Ветер как будто
только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить
и унести ее. Буря рвалась и свистела между колесами
вагонов, по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы,
люди, все, что было видно,—было занесено с одной стороны
снегом и заносилось все больше и больше. На мгновенье
буря затихала, но потом опять налетала такими
порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей». В этой-
то ледяной буре Вронский говорит Анне первые слова
любви. «И в это же время, как бы одолев препятствия,
ветер посыпал снег с крыш вагонов, затрепал каким-то
железным оторванным листом, и впереди, плачевно и
мрачно, заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели
показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то
самое, чего желала ее душа, но чего она боялась
рассудком». И когда она вернулась в вагон, «напряженное
состояние не только возобновилось, но усилилось и дошло
до того, что она боялась, что всякую минуту порвется
в ней что-то слишком натянутое... Но в этом напряжении
не было ничего неприятного и мрачного, напротив, было
что-то радостное, жгучее и возбуждающее».
Радостный ужас метели извне, радостный ужас страсти
внутри—как будто одно и то же: одно из другого
рождается, одно сливается с другим. Анна ничего не ответила
Вронскому, она и себе самой не призналась в любви; она,
может быть, все еще безгрешна, «как ангел»; «но и в тебе,
ангел, это насекомое живет, и в твоей крови бури родит,
потому что сладострастие—буря, больше бури». И в
сладострастии, и в буре есть нечто стихийное, страшное
и веселое, ледяное и жгучее; по нет ничего человечески
злого или доброго; между сердцем любящим и
природою—никаких преград, никаких законов; и эдесь, и там
все дико, просто и невинно, все так, как вышло из рук
Творца; и здесь, и там, и в сердце, и в стихии совершается
воля Того, Кто вызвал стихию и сердце из небытия.
И ежели стихийные силы копятся в воздухе и наконец
разражаются бурею—на то Его святая воля; и ежели грозо-
160
Bbic силы пола—«избыток чего-то, что переполняет все
существо» Анны,—точно так же копится и наконец
разражается страстью, то и на это Его святая воля. И здесь,
и там, и в страсти, и в буре, как всюду, где воля Его
совершается, есть печать святости—красота: недаром ужас
метели кажется Анне «прекрасным». Да, есть красота, есть
«гармония в стихийных спорах», есть музыка и в хаосе
самых диких звуков, рождаемых бурею. «Они играли
«Крейцерову сонату» Бетховена»,—рассказывает Позд-
нышев о жене своей, такой же, как Анна, «преступной»
жене, страсть которой также родилась из бури, их хаоса
звуков, из бетховенской ледяной и жгучей бури звуков.
«Знаете ли вы первое престо? Знаете?—воскликнул он.—У!
Ууу!.. Страшная вещь эта соната. И вообще страшная
вещь музыка! Что это такое? Я не понимаю. Что такое
музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она
делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу
образом—вздор! Неправда. Она действует, страшно
действует, но не возвышающим, не принижающим душу
образом, а раздражающим. На меня по крайней мере
вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись
совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности,
о которых я не знал до сих пор. «Да, вот как: совсем не
так, как я прежде думал и жил, а вот как»,— как будто
говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что
я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого
нового состояния было очень радостно». Это, конечно, та же
самая радость, смешанная с ужасом («страшно и весело»),
которую находит Анна в забытьи страсти, в бешенстве
вьюги. Это—наше самое новое и самое древнее, русское,
пушкинское, недаром столь часто мною здесь
повторяемое, как Leit-Motiv всей русской, может быть даже всей
вообще христианской «музыки»:
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.
Это тютчевское обращение к ночному ветру:
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться.
161
О, бурь уснувших не буди,—
Под ними хаос шевелится!
Позднышев говорит, что действие музыки «не
возвышающее, не принижающее, а раздражающее душу».
Кажется, точнее было бы сказать опьяняющее. Действие
музыки, так же как страсти, не нравственное, не
безнравственное, не доброе, не злое—оно вне добра и зла, вне всяких
нравственных законов: не оно под законами, а законы под
ним; музыка делает человека не злым и не добрым, она
делает его другим, меняет его природу: «Да, вот как:
совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как». Человек
«выходит из себя», пьянеет. И в этом опьянении—
какая-то древняя и новая, вечная, трезвая мудросгь,
самое точное познание «каких-то новых возможностей».
Как будто музыка под обыкновенное, ограниченное,
человеческое, настоящее я подставляет другое, чуждое,
безграничное, не человеческое, не настоящее, но, может
быть, прошлое и будущее, вечное, истинное. Это вообще
самое глубокое опьянение, какое только есть у людей;
действие музыки—опьяняющее или, как сказал бы
эллин—оргийное, дионисовское, вакхическое. Вакх,
собственно, бог не самой музыки, а того, что за музыкой,
того ночного, дикого, сладострастного, из чего
рождаются самые целомудренные олимпийские пляски, самая
солнечная аполлоновская музыка. И Мир-Пан со всеми
своими стихиями, солнцами, звездами кружится как бы
в вечном вихре, охваченный этой вакхическою пляскою,
этой опьяняющею музыкою.
Стихия сладострастного, музыкального, или, вернее,
«мусикийского» (слово русского эллина Тютчева), покоясь
в самом себе, кажется людям невинною, доброю; она
чарует их и манит с берега, как тихое море. Но когда встает
она бунтующая и, ударяя в мир человеческий, в твердыни
нравственных законов, разбивает вдребезги, по-
видимому, самые незыблемые, исторические грани,
потому что хочет все нового и нового, безграничного,
сверхъестественного, сверхисторического,—тогда люди
пугаются, и стихия эта кажется им злою, проклятою,—
бесовскою. Тогда-то из недр ее, как Анадиомена из
пучины морской, рождается Трагедия, радостное и страшное
зрелище, сладострастная и кровавая игра Диониса.
Китти на балу впервые убеждается, что жених ее,
Вронский, изменяет ей, потому что любит Анну. «Какая-
162
то сверхъестественная сила притягивала глаза Китти к
лицу Анны. Она была прелестна, но было что-то ужасное
и жестокое в ее прелести. Китти испуганно смотрела на
нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее
и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо
Китти только выражением отчаяния и удивления ответило на
ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила
с другою дамою.
«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть
в ней»,—сказала себе Китти».
Уже после «падения», возвращаясь однажды домой
и готовясь встретиться с мужем, Анна идет опустив
голову: «Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был
невеселый—он напоминал страшный блеск пожара среди
темной ночи».
Жестокая, разрушительная сила любви обращается не
только на других людей, но и на самих любящих.
Разрушение приводит к саморазрушению. Лаская Анну,
Вронский «чувствовал то, что должен чувствовать убийца,
когда видит тело, лишенное им жизни. С озлоблением, как
будто со страстью, бросается убийца на это тело, и
тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо
и плечи».
Впоследствии увидит он это же самое тело—мертвое,
окровавленное, бесстыдно растянутое на столе казармы:
то, что началось в любви, кончится в смерти.
— Я вас истреблю] — говорит Версилов Катерине
Николаевне. Такая «насильственная, дикая любовь,—
объясняет Достоевский,—действует как припадок, как
мертвая петля, как болезнь, и—чуть достиг
удовлетворения—тотчас же упадает пелена, и является
противоположное чувство—отвращение и ненависть, желание
истребить, раздавить». В припадке такой именно страсти
Рогожин истребил Настасью Филипповну. Это «укус
фаланги»; «жестокое насекомое уже росло, уже разросталось
в нем». Это пушкинская Клеопатра: «Скажите, кто меж
вами купит ценою жизни ночь мою?» По выражению
Достоевского, «паучиха, пожирающая самца своего».
И в самой чистой, нежной страсти, под самыми
стыдливыми покрывалами «нескверного брачного ложа», если
только объемлет эта страсть все существо человеческое,
До последних пределов его, до последней глубины духа
и плоти, спит и ждет пробуждения эта «буря в крови»,
этот «шевелящийся хаос», это нечто жестокое, убийствен-
«•
163
ное, как будто кровожадное; недаром же сама природа
таинственно запечатлела первое, казалось бы, самое
чистое и целомудренное соединение страшной печатью
как будто зверского и неизбежного насилия—кровью
разрушенной девственности. Тут бездонная нежность
рядом с бездонною жестокостью; тут последняя нежность
сливается с последнею жестокостью. Тут разными путями
Л. Толстой и Достоевский подошли к одной и той же
неисповедимой глубине пола, где творческое начало жизни,
новых рождении соприкасается с «началом конца»,
смерти,—первозданный огонь, из которого вышел мир, с
огнем последнего «пожара», которым некогда мир
уничтожится, по слову Господа.
Да, в сладострастии (слово это я, конечно, понимаю
здесь в самом глубоком, мистическом смысле) есть нечто
«чуждое», по замечанию Китти, нечеловеческое, как будто
«зверское». В «Крейцеровой сонате» Л. Толстой, с
аскетической точки зрения старца Акима, определяет это
зверское как «скотское»—определяет всякую половую
любовь как «унизительное для человека, животное
состояние». Это даже не страшно, а только смешно и позорно.
С грубым цинизмом обнажает Позднышев в любви, во
всякой любви,—«стыдное, мерзкое, свиное»; перестать
соединяться мужчине с женщиной—значит, по
выражению Позднышева, «перестать быть свиньями». Красота
женщины, всякая красота есть «хитрость дьявола». «В
ней,—рассказывает Позднышев о своей жене,—в ней
сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая
людей. Она была во всей силе 30-летней не рожающей,
раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил
беспокойство. Когда проходила между мужчинами, она
притягивала их взгляды. Она была как застоявшаяся рас -
кормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду—
И я чувствовал это, и мне было страшно». Вронскому,
когда перед скачками он любуется на Фру-Фру и чувствует
в ней, так же как в Анне, «избыток чего-то», какой-то
слишком напряженной, чрезмерной жизненной силы, тоже
становится «страшно и весело»; «волнение лошади
сообщилось Вронскому; он чувствовал, что кровь приливала
к сердцу, что ему так же, как и лошади, хочется двигаться,
кусаться». И во время скачек, чувствуя, как во
сверхъестественном и сладострастном опьянении полета тело его
словно сливается с телом прекрасного зверя, он, как
влюбленный, шепчет:«0, милая!» Мы уже знаем, какое симво-
164
лическое значение имеет для всей истинной религии
Толстого, религии не старца Акима, а дяди Брошки, это
тонкое, прозрачное, почти невидимое сравнение человека со
зверем, женщины с лошадью, недаром с таким грубым
цинизмом повторенное и оскверненное в «Крейцеровой
сонате». Зверь для дяди Брошки не «скот», как для старца
Акима, не смрадное бессловесное животное, не образ
дьявола, а святая «Божья тварь»; зверь «умнее человека»,
«зверь знает все». Мы так же видели, как в
бессознательной «ночной душе», ночном небе всех произведений
Л. Толстого это зверское в человеческом вырастает до
сверхчеловеческого, до божеского, человек-зверь—до
Бога-Зверя. Конечно, и в этом Боге-Звере для «черного»
монашеского христианства есть нечто «бесовское»,
демонское,—недаром демон от Saiucov: эллинский бог—
монашеский бог.
Но ведь точно так же и у Достоевского, именно тут,
в глубине пола, зверское соприкасается с человеческим,
дьявольское с божеским: тут «дьявол с Богом борется,
а поле битвы—сердца людей». И у Достоевского
«сладострастное и жестокое насекомое» вырастает в бреду
Ипполита до «немого и глухого всесильного Существа», до
исполинского тарантула—Бога-Зверя. Да, тут, именно
тут, в вопросе пола, в этом по преимуществу нашем новом
вопросе, от которого зависит все будущее христианства,
вся его вторая, неоткрывавшаяся половина,— «кроткий
демонизм»* Л. Толстого совершенно противоположен
и все-таки подобен мятежному демонизму Достоевского.
Тут, как и во всем главном, они — близнецы, две
расходящиеся ветви одного ствола, два противоположные члена
одного тела; тут Достоевский отражается, обратно
повторяется Толстым, как бездна неба бездной вод.
«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его,
говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку
Разводиться с женою своею?—Он сказал им в ответ: не
читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и
женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца
и мать и прилепится к жене своей и будут два одною
плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человека да не разлучает.—Они говорят
Ему: как же Моисей заповедовал давать разводное
письмо и разводиться с нею?—Он говорит им: Моисей, по же-
* Выражение В. В. Розанова.
165
стокосердию вашему, позволил вам разводиться с
женами вашими; а сначала не было так; но Я говорю вам: кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние (ei \x.r\ 1ц{
nopveiq) и женится на другой, тот прелюбодействует;
и женившийся на разведенной прелюбодействует.—
Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность (щ-
х£а) человека к жене, то лучше не жениться (о'оицчрёры
у(ш,т|очп).—Он же сказал им: не все вмещают слово сие,
но кому дано. Кто может вместить, да вместит ('О Suvauc-
vo£ x<opEtv хюрё'*'101)» (От Матфея XIX, 3—12).
И в этом слове о тайне полов, как во всех словах Его,—
бездонная и вместе с тем совершенно ясная, прозрачная
глубина; и в этом слове, как во всех словах Его,—с
точностью указаны два склона, два противоположные берега
единой глубины: берег святости
духовной—целомудрие—и берег святости плотской—святое соеди-г
нение полов, а следовательно, и святое сладострастие,
ибо—зачем лицемерить?—без последнего
сладострастия, в условиях человеческой природы, невозможно то
окончательное, безвозвратное, до разрыва самых
кровных уз отческих, материнских («покинет человек отца
и мать»), прилепление полов, о котором говорит Господь:
«они уже не два, но одна плоть», не одна душа, а одна
плоть: сначала одна плоть, а потом уже и одна душа.
Таинство брака есть по преимуществу и прежде всего
таинство плоти, тут не от духа к плоти, а наоборот—от
плоти к духу устремляется святость. Соединение душ
возможно и вне брака; но совершенно святое соединение
плоти с плотью не может быть вне таинства брака. Господь
не только не отверг, не проклял, но принял как
незыблемое основание бытия, благословил и озарил до конца-
своим божеским сознанием тайну пола—то
первозданное, огненное, стихийное, что без этого света божеского
сознания всегда казалось и будет казаться злым,
страшным, оргийно-разрушительным, зверским. Нет, не
бездонно-прозрачная ясность слов Господних, а наш
собственный взгляд на них до такой степени замутился,
сделался лукавым, подозрительным и оскверняющим, что,
желая быть более христианами, чем сам Христос, мы
даже в том, что для Него есть божеское, святое, видим
скотское, «свиное», по выражению Позднышева. Не
«вместили» мы слов Его ни о святом целомудрии, ни о святом
сладострастии: вместо целомудрия—скопчество; вместо
святого сладострастия, святого брака—законный брак—
166
Жизнь Данте
Гл. V. Ересь любви
«Я полагаю, что никогда никакой Беатриче не было,
а было такое же баснословное существо, как Пандора,
осыпанная всеми дарами богов, по измышлению
поэтов»,—это говорит поздний, XV века, и плохо
осведомленный, только рабски повторяющий Боккаччо и
Леонардо Бруни, жизнеописатель Данте Джиованни Марио
Филельфо. Первый усомнился он в существовании
Беатриче. В XIX веке сомнение это было жадно подхвачено
и, хотя потом рассеяно множеством найденных
свидетельств об историческом бытии монны Биче Портинари,
так что вопрос: была ли Беатриче?—почти столь же
нелеп, как вопрос: был ли Данте?—сомнение все же
осталось и, вероятно, навсегда останется, потому что самый
вопрос: что такое любовь Данте к Беатриче, история или
мистерия,— относится к религиозному,
сверхисторическому порядку бытия.
Эта часть жизни Данте освещена, может быть, самым
ярким, но как бы не нашим светом невидимых для нас
инфракрасных или ультрафиолетовых лучей. В этой любви
у всего—запах, вкус, цвет, звук, осязаемость
недействительного, нездешнего, чудесного, но не более ли
действительного, чем все, что нам кажется таким,— в этом весь
вопрос. Но что он не существует вовсе для большинства
людей, видно из того, что ближайший ко времени Данте
жизнеописатель его Леонардо Бруни уже ничего не понимает
в этой любви: «Лучше бы упомянул Боккаччо о доблести,
с какой сражался Данте в этом бою (под Кампальдино),
чем о любви девятилетнего мальчика и о тому подобных
пустяках». Это «пустяки»; этого не было и не могло быть,
потому что это слишком похоже на чудо, а чудес не
бывает. Ну, а если все-таки было? Здесь, хотя и в бесконечно
низшем порядке, тот же вопрос, как об историческом
бытии Христа по евангельским свидетельствам: было это
или не было? история или мистерия?
Любовь Данте к Беатриче, в самом деле, одно из чудес
167
всемирной истории, одна из точек ее прикосновения к
тому, что над нею,—продолжение тех несомненнейших,
хотя и невероятнейших, чудес, которые совершились в
жизни, смерти и воскресении Христа: если не было того, нет
и этого; а если было то, есть и это.
Может быть, сам Данте отчасти виноват в том, что
люди усомнились, была ли Беатриче. «Так как подобные
чувства в столь юном возрасте могут казаться
баснословными, то я умолчу о них вовсе».— «Я боюсь, не слишком
ли много я уже сказал» (о Беатриче).
Данте говорит о ней так, что остается неизвестным
главное: есть ли она? и так, как будто вся она—только
для него, а сама по себе вовсе не существует; помнит он
и думает только о том, что она для него и что он для нее,
а что она сама для себя—об этом не думает. Слишком
торопится сделать из земной женщины Ангела, принести
земную в жертву небесной, не спрашивая, хочет ли она
этого сама, и забывая, что человеку сделаться Ангелом—
значит умереть; а желать ему этого—значит желать
ему смерти.
Кажется иногда, что не случайно, а нарочно все в
«Новой жизни», как в музыке: внешнего нет ничего, есть
только внутреннее; все неопределенно, туманно, призрачно,
как в серебристой жемчужности тающих в солнечной мгле
Тосканских гор и долин. Неизвестно, что, где и когда
происходит; даже Флоренция ни разу во всей книге не названа
по имени; вместо Флоренции—«тот город, где обитала
Лучезарная Дама души моей»; даже имя Беатриче
сомнительно: «та, которую называли Беатриче многие, не
умевшие назвать ее иначе».
Это тем удивительнее, что Данте, как видно по
«Комедии» и даже по некоторым нечаянным подробностям в
самой «Новой жизни», любит деловую, иногда более
научную, чем художественную, точность образов, почти
геометрически-сухую резкость очертаний.
Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как
будто скрывает в ней что-то от других, а может быть, и от
себя самого; чего-то в ней боится или стыдится; прячет
какие-то улики, заметает какие-то следы. «Я боюсь, что
слишком много сказал» (о ней)... Кажется, что прав Боккач-
чо, когда вспоминает: «В более зрелом возрасте Данте
очень стыдился того, что написал эту книгу» («Новую
жизнь»). Чтобы Данте «стыдился» любви своей к Беатри-
168
че,—невероятно и похоже на клевету; но еще, пожалуй,
невероятнее, что Боккаччо возвел на Данте такую клевету;
и тем невероятнее, что сам Данте признается: «В этой
книге (в «Пире») я хочу быть более мужественным, чем в
«Новой жизни»». «Более мужественным» значит: «менее
малодушным»,—не таким, чтобы этого надо было
«стыдиться» потом. «Я боюсь, чтобы эта поработившая меня
страсть не показалась людям слишком низкою»,—скажет
он о второй любви своей, для которой изменит первой,—
к Беатриче, но кажется, он мог бы, или хотел, в иные
минуты сказать то же и о первой любви.
О, сколько раз к тебе я приходил,
Но видел я тебя в столь низких мыслях,
Что твоего высокого ума
И сил потерянных мне было жалко...
И столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей,—
скажет ему «первый друг» его, Гвидо Кавальканти,
именно в эти дни и, кажется, об этих именно днях любви его
к Беатриче.
В чем же действительная, или хотя бы только
возможная, «низость» этой как будто высочайшей и святейшей
любви? В невольной или вольной, возможной или
действительной лжи,—тем более грешной и низкой, чем
выше и святее любовь. «Всей любви начало—в ее глазах,
а конец—в устах. Но чтобы всякую порочную мысль
удалить, я говорю, что всех моих желании конец—в
исходящем из уст ее приветствии».
Чтобы человек, молодой и здоровый, влюбленный
в женщину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только
издали, на улице, а когда она к нему подходит—убегает,
боясь лишиться чувств,— чтобы такой влюбленный, в
течение семи-восьми лет, ничего от любимой не пожелал,
кроме мимолетного приветствия,—этому люди никогда
не поверят; верит ли сам Данте? Если верить, то тем хуже
Для него: вечный воздыхатель Беатриче так же смешон,
как вечный воздыхатель Дульцинеи; или еще смешнее,
потому что Данте—не Дон Кихот.
...«Ибо есть скопцы, которые из чрева матерняго
родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей;
и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для
169
царства небесного. Кто может вместить, да вместит»
(Мф. 19, 12).
Помнит ли Данте это страшное слово, и если
помнит—почему не уйдет в монастырь, не оскопит духом
плоть свою?
Что ему сказала Беатриче в той мгновенной, уличной
встрече, когда «слова ее коснулись впервые слуха его так
сладостно», что он был «вне себя»? Может быть, всего три
слова: «Доброго дня, Данте». Но он успел спросить ее
молча, глазами: «Можно любить?»—и прочесть в ее
глазах ответ: «Можно».
Монна Биче, жена сэра Симона де Барди, позволяла
Данте любить себя, как он любил ее в девушках. И не
только она—позволял и муж, зная, что эта любовь—без
последствий, как у детей и скопцов.
Но сколько бы Данте ни делал Беатриче Ангелом, он
был уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или,
как мы говорим, «реалистом», чтобы не знать, что не
к Ангелу в спальню входит муж, а к женщине, и чтобы не
думать о том, глазами не видеть того, что это значит для
пее и для него.
Очень вероятно, что бывали в любви его к Беатриче
такие минуты—нам неизвестные, скрытые, но, может
быть, самые важные, решающие все,— когда он
соглашался с Гвидо Кавальканти, что жизнь его «презренна».
Видя, как вельможный «меняла» Симона де Барди с
преувеличенной любезностью кланяется ему, бедному
школяру-стихоплету, он сжимал у пояса-веревки св. Франциска
рукоять действительного или воображаемого ножа и
чувствовал, с каким наслаждением, вонзив его в сердце врага,
перевернул бы в нем трижды. Но в то же время знал, что
никогда этого не сделает, и вовсе не потому, что, как св.
Франциск, врагу прощает. Очень вероятно, что в такие
минуты он соглашался и с Форезе Донати:
Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он.
Вот на какие раны сердца целящим бальзамом для
пего была вьппедшая в 1280 году книга "О любви" ("De
amore") Андрея Капеллана, духовника владетельной
графини Марии Шампанской, чей двор, убежище всех бродя-
170
чих певцов, труверов и трубадуров, сделался тогда
великой "Судебной Палатой Любви" ("Cour d'Amour").
Если сам Данте н не читал книги Капеллана, то не
мог хорошо не знать о ней от первого друга своего и
учителя Гвидо Кавальканти, а также от других
флорентийских поэтов, творцов "нового сладкого слога" ("dolche
stil nuovo"),—ее усердных читателей.
Смехом казнится брачная любовь на суде графини
Марии. "Может ли быть истинная любовь между
супругами?"—спрашивает Андреа Капеллан, священник,
совершавший, конечпо, много раз таинство брака, и отвечает:
"Нет, не может".—"Брачная любовь и та, что соединяет
истинных любовников, совершенно различны, потому что
исходят из различнейших чувств". Истинная любовь,
самая блаженная и огненная,—любовь издалека/'amor da
lonh." Это и значит: лучше, вопреки Павлу,
"разжигаться похотью", чем вступать в брак, чтобы утолить
похоть, или утишить ее, потому что никаким плотским
соединением похоть неутолима, как жажда—соленой
водой. "Брак не может быть законной отговоркой
от любви". Здесь все опрокинуто так, что блуд становится
браком, а брак—блудом. Эта новая, "неземная любовь"
оказывается сплошным прелюбодеянием, что не мешает
ее законодателям считать себя, по слову Иоахима Флор-
ского, пророка "Вечного Евангелия", теми людьми,
"коих пришествия ждет мир".
Знал ли св. Доминик, что делает, когда, объявляя
крестовый поход на еретиков Альбигойцев, зажег первые
костры Святейшей Инквизиции на юге Франции, именно
гам, где Провансальские певцы, труверы и трубадуры,
полурыцари, полусвященники, в "Судах Любви" возвещали
миру новое "веселое знание" ("gaya scienza"), "любовь,
радость и молодость" ("amors, joi ejoven")? В те именно дни,
после десяти веков смерти, ожили вдруг, сначала на
славянском Востоке, а потом и на всем европейском Западе,
в Катарах, Патаринах, Альбигойцах, Вальденсах и
многих других еретиках, две опаснейшие ереси двух
величайших ересиархов, Монтана и Манеса. В Муже воплотилось
Второе Лицо Троицы, Сын, а Третье Лицо, Дух,
воплотится в Жене, или Деве, или в Муже-Жене, Отроке-Деве: так
учит Монтан. К этому воплощению путь—неземная
любовь к Прекрасной Даме, к той, которая для Данте есть
"Девять—Трижды Три — чудо, чей корень... единая
Троица". В образе человеческом—может быть, женском
171
или девичьем, или муже-женском, отроко-девичь-
ем—является Дух в "Ланчелоте-Граале", книге,
погубившей Франческу да Римини и, кажется, едва не
погубившей Данте.
Мир, лежащий во зле, создан не добрым Богом,
а злым,— учит Манес. Воля доброго Бога есть конец
злого мира, а бесконечное продолжение его есть воля
дьявола, Противобога, чье главное оружие—плотская похоть,
брак и деторождение. "Плодитесь и множитесь"
заповедано всей твари не Богом, а дьяволом. Им же создано то,
чем отличается мужское тело от женского. Плотская
похоть есть начало греха и смерти—Древо познания: Еву
познав, умер Адам. Плотский брак—такой же смертный
грех, как блуд, потому что оба равно замедляют
деторождением возврат изгнанных, живущих на земле-чужбине
душ в небесное отечество. И даже брак—больший грех,
чем блуд, потому что согрешающие в блуде иногда
каются, а в браке—никогда.
Обе эти ереси, Монтана и Манеса, свили главное
гнездо свое в Провансальских, Аквитанских и Сицилийских
"Судах Любви". Первыми должны были_бы взойти на
первый, св. Домиником зажженный костер Святейшей
Инквизиции новые ученики Монтана и Манеса,
законодатели новой, безбрачной любви, труверы и трубадуры —
учителя Данте.
Может быть, св. Доминик и не так хорошо знал, что
делает, как это казалось ему и будет казаться его
продолжателям; может быть, он жег на кострах не тех, кого надо.
Цветок новой любви, если бы и не сгорел в огне св.
Инквизиции, сам, вероятно, истлел бы: в нем, от начала,
заложено было семя тления—вымысел, а не действительность,
игра, а не дело, утонченность, упадочность; как бы
запахами райских садов напоенный разврат.
Новая Любовь—"Новая жизнь начинается" ("incipit
Vita Nova")—это уже не для игры, а для дела, только в
книге Данте. Этот цветок не истлеет и, может быть,
прежде чем сгореть, зажжет весь мир. Страшная и
благодатная сила этой любви—в том, что в ней чистый любит
чистую, девственную—девственник.
Два великих ересиарха—Монтан и Манес; но, может
быть, есть и третий—Данте. Верный сын Римской
Церкви, добрый католик в вере, а в любви—"еретик". Может
быть, те, кто захотят, семь лет по смерти Данте, вырыть
кости его, чтобы сжечь за "ересь", что-то верно угадают
172
и будут лучше знать, что делают, чем знал св. Доминик
и знают в наши дни те, кто хочет сделать Данте только
правоведным католиком. Этой книгой, самому Данте
непонятной (если бы он понял ее как следует, то не
"устыдился" бы ее) и вот уже семь веков никем не понятой,
начинается, или мог бы начаться, великий религиозный
мятеж, восстание в брачной любви; а говоря на неточном
и недостаточном, потому что нерелигиозном, языке
наших дней—великая Революция Пола.
ласть «неясного и нерешенного» станет ясной и
решенной».
Слова эти верны по существу, и все-таки, может
быть, не следовало их говорить, не следовало так об
этом говорить. Тем более что они не преждевременны;
важность «вопроса о поле» дошла наконец до нашего
сознания, все мы требуем решения этому вопросу, он
сделался, наравне с другими,—«проклятым».
Он был вечно—но в глубокой древности даже не
«ощущался», затем, после христианства, стал
«ощущаться»—и все-таки не «осознавался» как вопрос: ему
подразумевались два ясных, определенных
разрешения: принять пол, отринуть пол. Принять то, что есть
и как есть,—отринуть все, что есть и каким оно есть. И,
сравнительно с важностью других вопросов жизпи,—
вопрос о поле мыслился как попутный, как
представляющийся на разрешение (на «да» или «нет»)—раз
в жизни, по дороге к достижению высших целей;
иногда— как одно из условий для достижения этих целей.
Брак и семья—никогда не был и не мог быть
метафизическим решением вопроса. Брак (слитый
неразрывно с деторождением) есть одна из форм реального
проявления пола, может быть самая глубокая, полная
и великая, но все-таки—одна из форм, часть пола.
И только уже решив вопрос пола принятием его («да»),
можно на каких-либо основаниях стоять лично и
общественно за эту именно форму. Большею же частью брак
принимался и принимается просто как первый, самый
естественный и практический житейский выход, и
«вопрос пола», таким образом, вовсе не «мыслится» как
вопрос. Розанов, современный «пророк» в области
пола, гениальный защитник и ходатай брака, начиная
«мыслить» о вопросе пола, не может удержаться на
границах брака. Хочет или не хочет—он
последователен, он утверждает весь пол, все формы его проявления,
и пытается увенчать его таким пламенным венцом,
лучи которого спалили бы человечество. И Розанов—
необходимость: он, освещая прошлое и настоящее,—
довершает, исполняет его, оканчивает для нас. Он
толкнул наше сознание, может быть грубо, но разбудил
его. И оно слилось с нашим, давно обострившимся
ощущением: не то! не так! безобразно! или пошло! или
грех! или мучительно! или смешно! И не скопчество.
И не «все позволено». И—не брак. Не знаем мы тут
175
правды, не знаем, в чем правда для нашего цельного
существа, для всей нашей природы.
Действительно, если бы вопрос сводился бы к
противоречию между телом и духом—он не был бы и
мировым. Просто в зависимости от той или другой волны
в истории человеческого развития он решался бы
общественно то «нет», то еда», в частности «брак»; и
лично—в соответствии с сильной или слабой волей
каждого. В таком положении для человеческого сознания он
и находился издавна. Для многих, невнимательных
к своим ощущениям, находится и теперь. Ощущения
дрожат слепо, глухо, поднимается что-то, шевелится
под покрывалом—видишь только волнующуюся
поверхность. Верность ощущения выражается помимо
сознания в творчестве,—в искусстве,—и даже в самой
жизни. Ощущением этим не приемлется (для духа и для
тела равно) ни одно из двух известных решений
вопроса о поле, ни «да» (все позволено), ни «нет» (аскетизм
и его вожделенный венец—скошгачество), ни частное
полурешение—брак. Не приемлется ни одно—как
окончательное, желанное, удовлетворяющее вполне—
все наше человеческое существо в целом.
Бессознательно уже почти всякий знает, что оно, это существо,
цельно, а не размыкается легко и произвольно на дух—
плоть, душу—тело, разум—сердце и т. д. Решив
покорить тело душе, мы оскорбляем душу же через тело;
оскорбляя душу или не принимая ее во внимание, мы
оскорбляем тело через душу.
В ощущении неприемлемости никакой из реально
существующих форм пола сходятся люди самые
разнообразные: позитивисты, демонисты, сторонники
святого брака по любви и семьи. Они различны, лишь
начиная мыслить, ибо хватаются тут за одно из готовых
решений. Позитивисты кричат: «Не то! Везде разврат!
Мерзость! Болезни!» Решение: надо упорядочить брак.
Демонист со своим «все позволено», дойдя внезапно до
отвращения, неожиданного чувства ужаса, греха,—и
он говорит: «Не то!»,— но мечтает о монашеской
чистоте; верящий в правду и святость брака, совершив
чистый брак, сойдясь плотью с чистой девушкой,
которую любит, вдруг мгновениями тоскует, стыдится,
чувствует себя безмерно одиноким, чем-то в себе
оскорбленным, что-то потерявшим; примиряется, конечно,
но всегда с туманной болью вспоминает о времени,
176
кОГда любовь росла, облеченная тайной, и как будто
жила надежда на иное, чудесное, таинственное же, ее
увенчание. Даже в самом счастливом браке, полном
любви и родственной нежности, душа и тело человека
смутно тоскуют порой и грезят: а ведь что-то есть
лучше! Это хорошо, но есть лучше; и это, пусть
хорошее,— все-таки не то! Не то!
В последнем случае не делается совсем никаких
выводов, нет уже уклона ни к «да», ни к «нет», а прямо
откровенное стояние лицом к лицу с неизвестным;
потому что брак—узкая, неподвижная, но все-таки самая
высокая точка полового вопроса, вершина горы, изве-
данно верная и твердая, старинная. Сидим. А хочется
выше.
Бесполезно убеждать себя, что не хочется, что
доволен вершиной горы, или подножием ее, или крутыми
скатами; бесполезно и уверять, что горы вовсе нет,
а если есть—то она не ближе к небу, не гора, а темная
пропасть. Что есть—то есть. Она—есть, и человеку
хочется и нужно вверх; и вверх не до конечной узкой
вершины, а дальше. Не ползти, а лететь. Дальше, говорят,
ничего нет. Видно же, что там—ничего. И однако, все
отчаяннее ползанье по горе и неоспоримее,
непобедимее стремленье у всех, на какой бы точке они ни
находились,—выше вершины, дальше, туда, где—ничего.
Ничего ли?
Тут начинается великая трудность вопроса,
осложненная тем, что люди, изменяясь и расширяясь
и главное—доходя до сознания своей «личности», все
более и более разобщались, теряли единозначащие
слова и теперь почти ничего не могут передать друг другу.
Иногда, случайно, передается что-нибудь знаком,
звуками. Розанов, этот великий «плотовидец» (как бывают
Духовидцы), пишет полусловами-полузнаками, из
звуков творя небывалые слова и небывалые их сочетания.
И он показал нам плоть мира, раскрыл все ее
сокровища, ее соблазны так широко и ярко, что если мы и
после него не соблазнились, не удовлетворились надеждой
ьа обожествление уже существующих форм пола и не
соглашаемся на утверждение прошлого и настоящего—
Как навечного, если тем более остро (ибо сознательно)
стремимся к будущему, куда-то дальше, к какому-то
«преображению пола», к полету,—если это так (а это
177
так),—то можно ли не считаться с нашим
стремлением? Не оно ли—показатель вечной правды?
«Преображение пола в новую христианскую влюб»
ленность»,—говорит Мережковский. Категорично,
и дано как последний вывод, без объяснений. А
объяснение нужно. Почему «влюбленность»? И почему
«христианская влюбленность»?
Увы, мы живем в смешении слов и понятий, и еще
приходится определять самую «влюбленность»! «Я
влюблен и хочу сделать предложение во что бы то ни
стало!»—говорит молодой человек, с удовольствием
взирая на розовую щечку и голубые глазки девушки.
«Она будет хорошей женой, партия мне подходит, и,
кроме того, я влюблен»,—рассуждает другой, более
благоразумый. «Я влюблен, я пылаю, она должна быть
моей!»—восклицает какой-нибудь похититель чужих
благополучии и определенно и последовательно
начинает кампанию завоевания жены своего друга. Все они
одинаково говорят «влюблен» и одинаково принимают
за «влюбленность» желание известной формы
брачного соединения. То же самое может происходить и при
аномалиях. Достигается ли соединение или нет—
характер этой «влюбленности» остается тем же. При
достижении цели желание достижения, естественно,
исчезает; при недостижении желание может длиться,
слабеет и, наконец, от отсутствия всякой надежды тоже
исчезает. Но это и не следует называть «влюбленностью».
Имен много, «желание» проще и точнее других.
Приятность, радость, волнение, ожидание, нежность, страсть,
ненависть—все это часто входит в «желание». И все-
таки оно—не «влюбленность», это новое в нас чувство,
ни на какое другое не похожее, ни к чему
определенному, веками изведанному, не стремящееся и даже
отрицающее все формы телесных соединений, как равно
отрицающее и само отрицание тела. Это—единственный
знак «оттуда», обещание чего-то, что сбывшись, нас бы
вполне удовлетворило в нашем душе-телесном
существе, разрешило бы «проклятый» вопрос.
В самом деле, можно ли сказать, что
огненно-яркое, личное чувство, о котором мы говорим,—■
исключительно и только духовно? А между тем
попробуйте шепнуть какому угодно юноше, но горящему
именно этим огнем, что его возлюбленная придет к
нему сегодня ночью и он может, если захочет, «обладать»
178
ею. Да он не только не захочет, он оскорбится, он будет
плакать и содрогаться. Так же и по тем же (каким?)
причинам будет он отвертываться и от
наизаконнейшего брака, пока жива влюбленность в ее чистом,
единственном, божественном виде. Но тот же влюбленный
менее всего отрицает, проклинает тело своей
возлюбленной; он его любит, оно ему дорого, в нем нет для
него «греха». Ощущение греха, проклятие плоти
выросло исключительно из желания. «Нет»—против «да».
Дух—против плоти. Но во влюбленности, истинной,
даже теперешней, едва родившейся среди человечества и
еще беспомощной,—в ней сам вопрос пола уже как бы
тает, растворяется; противоречие между духом и
телом исчезает, борьбе нет места, а страдания восходят
на ту высоту, где они должны претворяться в счастье.
Плоть не отвергается, не угасается, естественно,—ибо
она уже воспринята как плоть, которую освятил
Христос. Мережковский говорит: «Исходя из того
абсолютного принципа, что Христос освятил плоть...» Этот
принцип, я думаю, никому не может более казаться
абсолютным. «Отец дал Сыну власть над всякою плотью,
да всему, что Он дал ему, даст Он жизнь вечную».
Взаимоотношение Христа и плоти не ясно лишь тем, кому
христианство еще заслоняет Христа. И в этом
неотвержения плоти влюбленность так же проникает к Христу,
связана с ним, неотъединима от Него, как и во всем
остальном.
Только она одна в области пола со всей силой
утверждает личное в человеке (и нераздельно слитое
с ним неличное)—только со Христом, после Христа
стала открываться человеку тайна о личном. И наконец,
сама влюбленность, вся вошла в хор наших ощущений,
родилась для нас только после Христа. До Него—ее не
было, не могло и не должно было быть; тогда
исполнялась еще тайна одной плоти, тайна рождения, и она
была для тех времен последней правдой. Недаром
Розанов, пророк плоти и рождения, обращает лицо назад,
идет в века до-Христовы, говорит о Вавилоне, о
Библии.
Нечего себя обманывать, не следует обманывать
и Розанова неясными, уклончивыми ответами на его
горячие недоумения и порывы: да, брак и
деторождение не есть решение в христианстве вопроса о поле, не
есть последнее слово Христа о нем. Это—один из зако-
179
нов, которые явлением Своим Он исполнил, с тем
чтобы они были отставлены, как отставляется в сторону
наполненная чаша. Великое проникновение у Павла,
когда он говорит о браке: «Сие даю вам не как повеление,
а как позволение». И продолжает этот закон жить лишь
постольку, поскольку до сих пор не «вмещается» в
человечестве «многое, что Он имел еще сказать, но не
могли вместить».
Сама Любовь, принесенная Им, вмещенная людьми
как «жалость и сострадание»,—точно ли жалость?
«Будьте одно, как Я и Отец одно...» И «кто не оставит отца
и матери и жены и детей ради Меня...» Не похожа ли
эта, загадочная для нас Любовь—скорее на огненный
полет, нежели на братское сострадание или даже на
умиление и тихую святость? И где злобное гонение
плоти аскета среди этих постоянно повторяющихся слов
о «пирах брачных», о «новом вине», о Женихе—
вечном Женихе, грядущем в полночь? Иоанн,
любимый ученик Его, глубже всех проник в тайну Любви,
покрывающей мир; и Апокалипсис, эта самая
последняя и самая таинственная книга, говорит опять о
Женихе, о Невесте Его, Невесте Агнца... «И Дух и Невеста
говорят: прииди...» «Се, гряду скоро...»
Какие-то лучи от этой неразгаданной, всепокрываю-
щей любви пронизали мир, человечество, коснулись
всей сложности человеческого существа,—коснулись
и той области, в которой человек жил до тех пор почти
бессознательной и слишком человеческою жизнью.
И тут родилось новое чувство, стремительное, как
полет, неутолимое, как жажда Бога. Пусть оно еще слабо
и редко,—но оно родилось, оно теперь есть. После
Христа есть то, чего до Него не было. Взглянем назад,
в древность: Афродита, Церера... Развернем «Песнь
Песней»: солнце, чувство Бога-Творящего, шум
деревьев и потока, теплота крови и тела только желающего
и рождающего, земля—одна земля! И безличность»
ибо человек—есть его род, он и его потомство—как
бы едины. Возможно ли представить себе, что до
Христа или помимо Христа мог где-нибудь родиться
огопь, озаривший душу Данте, Микеланджело?
Возможна ли была эта новая настроенность человека в любви
личной, искра, которая зажигается то там, то здесь
в последние века? И бесполезно отворачиваться, не
смотреть тут в сторону Христа,— все равно Он будет
180
около от еще слишком романтических средних веков,
через Возрождение до наших дней, до нашего
Владимира Соловьева, певшего о «Деве радужных ворот»,
понимавшего или чуявшего грядущее влюбленности—
искры бегут, бегут и все разгораются. Влюбленного
оскорбляет мысль о «браке»; но он не гонит плоть,
видя ее свято; и уже мысль о поцелуе его бы не
оскорбила. Поцелуй, эта печать близости и равенства двух «я»,
принадлежит влюбленности; желание, страсть, от
жадности украли у нее поцелуй—давно, когда она еще
спала,— и приспособили его для себя, изменив, окрасив
в свой цвет. Он ведь им, в сущности, совсем не нужен.
У животных его и нет, они честно выполняют закон—
творить. И замечательно, что в Азию, к язычникам, он
был уже в этом извращенном виде занесен не в очень
давние времена «хрисгианами». Поцелуй—это первое
звено в цепи явлений телесной близости, рожденное
влюбленностью; первый шаг ее жизненного пути. Но
благодаря тому что страсть его украла, изменив,
сделала всем доступным,—нам теперь и о поцелуе так же
страшно и трудно говорить, страшно употреблять
«слово», как слово «влюбленность». Один из наших
маленьких поэтов («дух дышит где хочет»; и то, что
полет— ощущение «не того» в поле—доступно не только
избранным, не доказывает ли его общечеловечность?),
один из неизбранников, наш Надсон, тоже тоскует
о влюбленности, чуя что-то в своем: «Только утро
любви хорошо, хороши только первые, беглые встречи...
Перекрестных намеков и взглядов игра ...» Но он уже
испугался, спутался на первом шаге и говорит дальше:
«Поцелуй—это шаг к охлажденью... С поцелуем
роняет венок чистота ...» О да, конечно, если это он,
поцелуй желания, украденная, запыленная, исковерканная
драгоценность...
Обернемся—и опять тут, около, какие-то
непонятные сближения слов, касание к многогранной Тайне:
прочтите всю Библию—часто ли встретите поцелуи,
братские, отеческие, нежные, страшные? А там, дальше
Закона Ветхого: «Ты целования не дал Мне, а она не
перестает лобызать Мне ноги...» «Приветствуйте друг
Друга целованием святым»,—не устают твердить
ученики, главное Иоанн. И был ли кто-нибудь, есть ли где-
нибудь праздник поцелуев? Неужели это лишь печать
«равенства и братства»? Родные братья редко и неза-
181
метно целуются. Но вернемся опять к нашему частно,
му вопросу, возьмем создание великого поэта, образ
такой чистоты влюбленности, которому почти нет
равного, хотя влюбленности еще беспомощной, потому
что слишком ранней. Взглянем на «рыцаря бедного»
с его широкими белыми крыльями:
Он имел одно виденье,
Непостижное уму...
Его сознанию...
А. М. Д. своею кровью
Начертал он на щите...
Кровью! Чистый ли это дух, духовность?
Он на женщин не смотрел
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел...—
в нем и чистота монаха...
Lumen coeli! Sancta Rosa!
Только она! Одна, и она именно] Чувство личного, j
Правда, поэт прибавляет:
Как безумец умер он,—
но что знает поэт о том, чей образ творит? И где высота
духа переходит в безумие? И даже если бы... «Бедный
рыцарь» был один только и ничего не знал об огненной
волне, его охватившей: это было еще «непостижное
уму».
Не знаем и мы до конца, чго это. Но мы уже знаем
больше рыцаря. Знаем, что перед нами — чувство пола
и не имеющее ничего общего с разнообразными
видами желания, влекущего за собой которое-нибудь из
существующих телесных соединений. Не брак — о, еще
бы! не содом (бедный рыцарь! да простит мне его тень!)
и не аскетизм, не духовность,—недаром же он кровью
начертал на щите таинственное Имя.
Вот первый намек на те проявления пола, которые
должны входить в «христианскую настроенность», как
говорит Розанов (он иногда утверждает, и
справедливо, что брачное проявление пола в христианскую
настроенное гь не входит. Как и никакое другое из
реально извесгных, прибавим мы). Вот точка отправления
неизбежных исканий и стремлений человечества в обла-
182
^j-и пола. «Пол должен быть преображен,—говорит
Бережковский.—При помощи Христа загадка
разъяснится, тайна должна быть найдена и область неясного
„ нерешенного стать ясной и решенной».
Тайна должна быть найдена... До сих пор я,
соглашаясь с Мережковским, только дополнял и пояснял его
слова о новой, христианской влюбленности. Отсюда
начинаются мои возражения.
«Какие новые формы проявления и удовлетворения
пола могут быть найдены?—ответят и Розанов, да
и люди, не сходящиеся с Розановым.— Все. Не
духовные формы брачного соединения известны и стары,
или, вернее, вечны, а духовное отношение к полу—
отрицание его. Нельзя же создать новые явления.
Влюбленность ничем не кончается. Для того чтобы эта
новая тайна нового брака была найдена, нужно
физическое преобразование тела. Как разъяснится эта
загадка? Чего искать?»
Эти вопросы совершенно правильны, когда они
предлагаются после категоричного и краткого
заявления: «Тайна должна быть найдена, загадка
разъяснится». Но, по существу дела, они неуместны и падают
сами собой, потому Что тайна окончательного
преображения пола не может и не должна быть найдена, не
должна раскрыться (сделаться не тайной), загадка пола не
должна стать ясной и окончательно решенной.
Так же как мир, Бог, правда, жизнь никогда нами не
могут быть познаны, но лишь все более и более
познаваемы, так не узнаем мы и этой тайны. Знание есть
конец, смерть или порог безвременья иной жизни;
познавание—жизнь мира, движение во времени. Христос—
«путь, истина и жизнь», но сначала путь, и весь путь до
конца, а затем уже истина и жизнь. Если мы поняли,
что вопрос пола—такой же великий и мировой, как
Ряд других, которые вечно разрешаются и никогда не
Разрешены,—почему он один должен быть решен раз и
навсегда? Искания правды, счастья, справедливости,
Бога влекут людей вперед, и люди не устают искать,
хотя правда только все более и более раскрывается, сча-
СТье только познается, Бог—только приближается. Так
и небо, куда нам хочется полететь с нашей горы, для
нас—бесконечность. Нельзя долететь, дойти до конца пу-
*У (жизни) и при этом остаться на пути—в жизни же.
Удовлетворение нашей жажды, достигнутая, какая бы
183
то ни было, цель лишает смысла искание, останавлв>
вает нас—нашу жизнь, нашу кровь, наше сердце. Овц
для этого мира созданы ищущими, познающими, во
времени для времени; у познавшего, у нашедшего будет
иная жизнь, иное, новое сердце. Мы здесь—только
стремимся, мчимся к концу, или к «туда». И так
созданы, что не умеем остановиться, даже если бы хотели.
Путь, лишь путь... Но в пути есть «дальше» и
«ближе», и если путь вверх, то есть «ниже» и «выше».
Говоря о пути и конце его, об искании и цели, о
недостижимости и все большем и большем познавании, я
говорю о каждом отдельном человеке и его пределе и о веек
человечестве и конце мира. Это ведь все равно.
«Истина» не будет познана здесь ни отдельным человеком, ни
человечеством. Но как она все расширяется для
каждого идущего, так соответственно растет и для
человечества. Сын Человеческий не сказал нам «знайте», но—
«верьте». «Ибо вкусив с древа познания—смертью
умрете». Нам неведомы времена и сроки, неведома
долгота пути, мера того, что мы можем «вместить»,
познавая, приближаясь, подходя, находя. Но мы верим, что
многое можем расширить, преобразить, высветлить—
лишь бы путь был верен, соответствовал нашей
стремительной человеческой природе, и непременно всей,
в целом,—и духу и плоти. Такой, единственно соответ1-
ственный путь—дан. «Я есть Путь...» За Ним «истина
и жизнь».
Если вопрос пола—мировой вопрос, если в поле есть
истинное и тайное (а это мы познали через влюблен*
ность), тайна будет вечно раскрываться, до конца
оставаясь тайной. «Нельзя создавать новых явлений...»—
но мы ничего не создаем, создает Отец, который «и
доныне делает». А если и мы здесь думаем, хотим,
надеемся, должны что-нибудь делать—то не сами, не
одни, а только с Сыном, только вместе с Ним, ибо
помним слова: «Без Меня не можете делать ничего».
Влюбленность создалась через Него, как нечто новое,
духовно-телесное, на наших глазах; из нее родился
поцелуй, таинственный знак ее телесной близости, ее
соединения двух—без'потери «я»; мы не знаем, что еще
встретим на пути, пока не встретим. Но загадка должяа
раскрываться, и внешне и внутренне, в явлениях и
познавании их, звенья цепи должны нанизываться одно
к другому... Лишь последнее—за рубежом.
184
И это ничего не меняет. Пока Розанов будет
уходить назад, в землю, в глубину ее черных, темных
недр,—волна человечества покатится вперед. И
люди будут загораться влюбленностью, порываться
лететь, падать временно от усталости на землю,
подниматься выше—снова, может быть, падать; в одно из
готовых, временно и мало утоляющих решений,
в брак—и будут передавать детям и внукам, новым
людям еще более обостренное желание крыльев вместе
со всем, что они познали на пути до своего последнего
срыва. И дети будут продолжать путь. Чего не успеем
увидеть мы, увидят те, последние, которым дано будет
видеть Конец. «И они не умрут, но все изменятся в одно
мгновенье ока».
Пойдем же, если не для себя, то для будущих людей,
и в этой части нашей человеческой природы одним,
верным путем. «Куда Я иду—вы знаете, и путь
знаете...» Через Него, через Его вечное познавание и вечное
к Нему приближение, жизненное, молитвенное,
любовное, действенное—и всегда и непременно
совместное—нам будет вечно открываться, все яснее и оэарен-
нее, тайна о мире, тайна о Любви и Правде и тайна
о Влюбленности.
О любви
I. Любовь и мысль
1
«Первый шаг к успешному разрешению всякой
задачи есть сознательная и верная ее постановка; но
задача любви никогда сознательно не ставилась, а потому
никогда и не решалась как следует».
К этим словам Вл. Соловьева нужно внести
поправку: задача любви не только ставилась правильно,
а вообще не ставилась и не ставится; на любовь не
смотрят как на задачу, а лишь как на данный факт, на
состояние (нормальное для одних, болезненное для
других), которое человек переживает, но которое ни к чему
185
его не обязывает... тем более что состояние это всегда
временное.
Вопрос общественности очень существует как
проблема. Принимается, что к ней «следует относиться
сознательно и самодеятельно направлять этот процесс
к высшим целям». Даже вопрос о человеческой
личности часто мыслится в виде проблемы. Есть, таким
образом, дело общественное, но нет «дела любви».
Вот тут мне приходится провести первую черту
разделения: между теми, кто, хотя бы бессознательно,
чувствует, что любовь—мировая проблема, вопрос не
менее других актуальный и процессуальный, что в любви
есть смысл, который нам должно разгадать,—и
людьми иного склада, не видящими в любви ничего, кроме
весьма обычного житейского факта.
Для этих последних нет-, конечно, ицтереса
рассматривать несуществующий «вопрос», да и к чему
забираться на «фантастические высоты по поводу такой
простой вещи, как любовь»? Но этих я и не приглашаю
следовать за Вл. Соловьевым и за нами на эти «высоты»
(кстати сказать, совсем не «фантастические»). К тому
же вопрос (чего и Вл. Соловьев не скрывает) сложен,
затемнен, труден. Кто не чувствует особенной нужды
осмыслить любовь, тем нет и нужды им заниматься.
2
Любовь может стать проблемой лишь в связи с
другими проблемами и требует для первой постановки
своей некоторых общих предпосылок. Прежде всего —
взгляда на мировой процесс как на процесс
восхождения, сопровождаемый, во времени, борьбой двух
начал: Бытия и Небытия. Отсюда вытекает и поставленная
перед человечеством тройная—или триединая—
задача, три нераздельно связанные между собою
вопроса: 1) о «л» (личность), 2) о «ты» (личная любовь)
и 3) о «мы» (общество).
Лишь с этой, кратко мною сформулированной
точки зрения Вл. Соловьева и других—проблема любви
может рассматриваться как проблема; вне этих первых
предпосылок она действительно не существует и ни
ставиться, ни разрешаться не может.
В тройственной мировой задаче—задача любви
занимает серединное место, она как бы мост, соединяю-
186
щий первое и третье, Личность и Общество. Единичный
человек, говорил Вл. Соловьев, не может спастись, то
есть реализовать себя в Бытии, иначе как сообща, или
вместе со всеми, со всем миром. Но путь человека к
миру есть личная (истинная) любовь, и Эрос должен быть
взят как pontifex, то есть священный строитель мостов.
Мы увидим дальше, на коих основаниях дает Эросу
эту роль Вл. Соловьев.
Из всех, кто когда-либо, имея те же предпосылки,
тот же взгляд на триединство мировой проблемы,
встречался с Соловьевым в мыслях о любви, Соловьев
наиболее определенен, ибо он природный синтетик (или
«сигизист» по его выражению), сочетатель с особенно
ярко выраженной волей к «всеединству». Это
всеединство он как бы носит в себе. Поэтому и вопрос о любви
поставлен им с такой смелой отчетливостью. Но,
повторяю, он—не один; в вопросе о любви встречается он
со многими; и со столь на первый взгляд далекими
людьми, что встреча кажется неожиданной.
Я буду здесь пользоваться некоторыми
помощниками и сообщниками Соловьева и Соловьевым главным
образом. Но сначала несколько слов о «встречах».
3
Есть ли действительно, существует ли «учительство»
и «ученичество»? Я в это не верю. Пожалуй, больше:
я знаю, что «учеников» не бывает; никто никого и
ничему «научить» не может. А если «как будто» научает, то
в конце концов оказывается, что это лишь бесполезная
видимость.
Действительно, происходят лишь встречи между
людьми, удивительные тем, что совершенно
независимые от времени. Можно встретиться и с
современником, и с человеком, жившим несколько столетий тому
назад; были, как мы знаем, и встречавшиеся с теми,
кто в их времена еще не родился.
Сущность встречи одна: это узнавание своих же
мыслей в мысли другого. Как не только свои, но ставшие
с кем-то общими, эти мысли зажигаются новым огнем.
Встреченный уже помог мне. Но далее и я ему помогаю,
Даже если уста его уже сомкнулись. К его словам
(нашим общим) я прибавляю свои (тоже общие),
договариваю то, что он не успел договорить.
187
Встречаются ли сильный и слабый—это ничего не
меняет. Именно потому, что никто никому не может дать,
а каждый берет у другого сам по своей мере—сильный не
поглощает слабого.
Лишь в «учительстве» и «ученичестве» происходит
такое поглощение. Л. Толстой часто жаловался, что в
толстовстве он менее всего любит «толстовцев». И он был
прав. Не сравнивая никак Соловьева с Толстым (я вообще
говорю вне сравнений), могу сказать, что и те, кто
называл себя «учениками» Соловьева, себя в этом звании не
оправдали.
Бывает еще: люди так и умирают, не узнав, что их
мысли скрестились. Тогда следующие за ними соединяют их
и сами соединяются в одном общем.
Такая встреча, в вопросе о Любви (даже не в одном
этом вопросе!), произошла у Вл. Соловьева... с Отто Вей-
нингером.
Я не знаю, ставил ли кто-нибудь эти два имени рядом.
Да и что, казалось бы, между ними общего: ясный русский
поэт-философ, глубочайший христианин, светло и
пламенно прошедший не очень долгую жизнь свою, светло
умерший, оставивший после себя дело, которому предстоит
будущее; и—неврастенический юноша, венский еврей,
способный почти до гениальности, эрудит и чувственник,
написавший две книги (из которых одна уже несла в себе
отраву, а другая никому не известна) и, наконец, в 23 года
столь бесславно погибший. «Бесславной» гибель свою он
назвал сам, и для него самоубийство именно такой
гибелью и было.
Вейнингер на три года пережил Соловьева. Конечно,
они ничего не знали друг о друге. Ничего не знали о своей
встрече. А она все-таки была. И даже погибший (по
времени позднейший) прибавил кое-что к словам спасенного,
договорил недосказанное им.
О гибели же и о спасении—нам ли решать? Вейнингер
погиб, да, но разве не пришлось ему нечеловеческими
усилиями завоевывать многое из того, что Соловьеву было
дано сразу как дар? Не будем же судить никого, будем
только исследовать.
4
Итак—любовь есть серединная из трех коренных
мировых проблем. Эрос—pontifex—строитель мостов ме-
188
жду первой и третьей (выход в мир), а также между двумя
Личностями. «"1" и "3"—родственны,—говорит Вей-
нингер.— Число "3" имеет монистический характер.
Через него снова утверждается "1", единство».
Личность (к ней и Соловьев, и Вейнингер относятся
одинаково)—самостоятельный центр живых сил и
потенция бесконечного совершенствования—есть абсолютная
ценность. Человеческий субьект прав, сознавая и ощущая
свое безусловное значение и бесконечное достоинство. Но
признать и за другими людьми такое же значение и
достоинство он может только разумом, а не ощущением.
В ощущении он видит, изнутри, лишь одного себя—и
всегда как бы центром мира. Это—та обособленность,
огьединенность, которую Соловьев называет «эгоизмом
личности».
Именно потому, что преграда между моим «Я» и
другими конкретна, реальна—в самоощущении,—разумом
ее победить нельзя. Есть только одна сила, которая
изнутри, прямо, фактически упраздняет преграду, заставляет
нас не в отвлеченном сознании, а во внутреннем чувстве
и жизненной воле признать для себя безусловное значение
другого, другой личности. Сила эта—любовь, и главным
образом любовь половая. В ней мы действительно
познаем истину другого как свою и тем самым
осуществляем и свою истину, и свое безусловное значение; ведь оно
именно и состоит в «способности переходить за границы
своего фактического, феноменального бытия, в
способности жить не только в себе, но и в другом».
Дар любви есть, таким образом, ниспосланная нам
возможность выхода из замкнутого круга самости.
Перекидывается мост от одного единственного через другого
единственного к опытному пониманию единственности
каждого. Если человек по этому мосту не идет, или на нем
засыпает, или его разрушает и вместе с ним
проваливается,—тут уж вина не Эроса, а несознательной или злой
человеческой воли.
«Но кто же думал когда-нибудь о чем-нибудь
подобном по поводу любви?»—спрашивает Вл. Соловьев. Да,
пожалуй, никто... кроме попутчиков, сообщников, встреч-
ников. Вейнингер—думал. Он знал о «личности», знал и
° «любви»: «...только обладание «Я» в высшем смысле
этого слова ведет к признанию «Ты» в другом...»
И далее: «Человек, всякий человек—и в этом загадка
189
любви,—никогда не бывает до такой степени самим
собою, как когда он любит» *.
Соловьев говорит то же самое: «И ад, и земля, и небо
с особым участием следят за человеком в ту пору, когда
вселяется в него Эрос. Каждой стороне желательно для
своего дела взять тот избыток сил, духовных и
физических, который открывается тем временем в человеке. Без
сомнения, это есть самый важный серединный пункт
нашей жизни».
Как же пользуется этим чудесным даром человек?
И как он должен им пользоваться?
5
Соловьев различает пять путей любви. Первый он
называет «глубинами сатанинскими» и предлагает обойти
его молчанием. Впрочем, в одной из своих статей он
немного касается этого «адского пути», говоря о так
называемых «аномалиях», к которым причисляет и
«естественный» разврат. Покупку тела он сравнивает с
некрофильством, не делая различия между этими «любителями
мертвечины». /
Второй путь—«менее ужасный», хотя также недостой-г
ный человека, обычный путь животных, то есть
покорность первому физическому влечению.
Третий—добрый человеческий путь—брак. И «если
б человек по существу мог быть только человеком», то
это и был бы его высший путь. Но человек тем и
отличается между тварями, что хочет и может становиться выше
себя самого; это его «благородная неустойчивость»,
стремление к росту и возвышению.
Четвертый путь—старание заменить человеческий
путь брака путем «как бы» высшим—-чистой
духовностью.
Духовную любовь («платоническую») Соловьев не
может признать «истинной», так как не допускает
противоположения духа телу: человек, в целостности, духовно-
телесен. Любовь духовная не имеет и не может имегь за
собою никакого реального дела; она вне воли и движения.
* Все цитаты Всйнингера я беру из посмертной книги его «О
последних вещах», книги воистину почти гениальной и, к сожалению,
малоизвестной. Русский перевод ее ужасен. Озаглавлена она—«Последние
слова»—совершенно извращенно. По смыслу следовало бы ее назвать:
«О самом важном» или «О самом главном».
190
Что касается полного отречения от Эроса, аскетизма, то
Соловьев рассматривает этот путь христианского
монашества как «ангельский», подчеркивая, что и он не
соответствует человеческому достоинству в полноте, ибо
«человек»—выше ангела (потенциально).
Все эти пути — и сатанинский, и животный, и
человеческий, и ангельский—ведут к смерти. К смерти любви, во
всяком случае, а иногда и к смерти личности в человеке.
На всех этих путях человек пассивно переживает
состояние любви, не берет любовь в сознательную волю, не
исполняет «дела» любви, и любовь, предоставленная
самой себе, исчезает, как мираж. Эрос отлетает. Крылатый
бог, всегда несущий «веянье нездешней радости»,
одинаково отлетает и от счастливого отца семейства, и от
страстного чувственника, и от падающего прямо из его
божественных объятий в объятия смерти безвольного
юноши. Но если так, где же, в чем же, чем определяется
путь любви истинной?
6
Пятый, последний, волевой путь любви—уже не
человеческий только, но богочеловеческий, то есть путь
восхождения.
Соловьев подчеркивает, что с ясностью можно указать
лишь основные условия, определяющие начало и цель
этого высшего пути.
Цель, конечно, та же для любви, как и для личности,
и для человечества,—победа над смертью. И дело
любви—опять триединое дело волевого, свободного участия
в борьбе за бытие против небытия. Что же касается
условий начала высшего пути любви, то они лежат в
понимании и принятии как реальностей трех основ: андрогинизма,
духовно-телесности и богочеловечности.
Эти незыблемые основы любви уже есть и у Платона,
хотя еще в смутном виде. У Соловьева два последние
понятия даны, как мы видели, в законченной ясности.
Однако в отношении первого — андрогинизма—и Соловьев
еЩе соскальзывает как будто в примитивную и смутную
теорию Платона.
По этой теории, андрогинизм, во-первых, присущ
божеству. Соловьев, утверждая, что в Боге находятся оба
начала, мужское и женское, приводит даже цитату из
Библии: «В день, когда Бог сотворил человека, по образу Бо-
191
жию сотворил его, мужа и жену сотворил их». Но из
дальнейших положений Соловьева выходит как будто, что для
него, как и для Платона, один человек еще не личность, он
лишь некая половинка; «личность» же может
составляться только из двух, из реального мужчины и реальной
женщины. Это чрезвычайно путает общее построение, и
я удивляюсь, как с таким понятием мог мириться сам
Соловьев. Две половинки, из которых лишь при исполнении
должной любви, то есть в самом счастливом случае,
может получиться единое?.. Шар, по Платону, то есть нечто
в себе законченное и безвыходное...
Но тут нам на помощь приходит Вейнингер.
Да, говорит он, существуют два Начала, или две
чистые субстанции: чистая Мужественность (М) и чистая
Женственность (Ж). Оба они соприсутствуют в Божестве.
Но в реальном человеке, несовершенном, но по образу
Божию созданном, в духовно-телесном субъекте, тоже
всегда присутствуют оба Начала, хотя даны они в нем
неравномерно, а с преобладанием какого-нибудь одного.
Никогда, подчеркивает Вейнингер, живой мужчина не
бывает только мужчиной: он и женщина. И живая женщина
не только женщина: в ней присутствует, в какой-то мере,
и мужское начало.
Несчастный Вейнингер, сказав с особой ясностью
слова, которые остались недоговоренными у Соловьева, не
сделал из них логических выводов; он даже как будто
с этого момента и оставил всякую логику, оправдав
собственный афоризм: «Кто покидает логику, того она сама
раньше покинула, тот на пути к безумию...» Во-первых,
он, указав на два начала как на две чистые субстанции,
лишил их равноценности, что совершенно недопустимо.
Во-вторых, он свои же утверждения, что нет живого
субъекта с одним мужским или женским началом, тут же
и забыл, до неестественности мгновенно; и вся его первая
книга («Пол и характер») ставит откровенный знак
равенства между реальной женщиной и чистой Женственностью
(которую он и уничтожает, хотя она и находится в
Боге). Не было ли это первым шагом его к гибели, опять
по его же слову: «Человек может погибнуть только от
недостатка религии». Недаром, когда вышел «Пол и
характер», Вейнингер сказал: «Эта книга несет смерть: или
себе—или ее автору».
Но личное несчастие этого удивительного юноши не
может лишить значительности его глубоких слов об анд*
192
рогинизме. Они так просты и ясны, что, как это всегда
бывает, кажется, будто их уже давно слышал, давно знал.
Пожалуй, оно и так. Ведь все дело в нашем внимании и
в моменте, когда слова произносятся. Вот их суть:
Таинственный узел, соединяющий два начала, каждый
человек уже носит в себе, в своей личности. Как сплетен
этот узел? В какой, всегда неравной, мере присутствует—
в живом существе—Мужское и Женское? Эту меру или
неведомую гармонию нам определять или разгадывать не
дано.
Но мы должны признать ее единственной и
неповторяющейся, как самую личность. Нет живого субъекта без
преобладания в нем того или иного начала; и в ней—в
этой неравномерности—потенция «перехода за границы
своего феноменального бытия» к другой личности,
потенция любви. Не половинка ищет свою половинку, но М уже-
женское существо стремится к соединению с другим, в
соответственно-обратной мере двойным, Женомужским.
Вот эта соответственно-обратная мера, ее необходимость
и соэдает возможность истинной любви, непременно
и всегда единственной (этого Соловьев тоже не
договорил). Эрос не ранит одной стрелой обоих. У Эроса две
стрелы. И он строит двойной мост между двумя: от
мужественности одного человеческого существа к
женственности другого и от женственности—к мужественности
второго.
Таковы основы андрогинизма. Таково одно из
условий идеального соединения, которое в полноте
недостижимо, но которого мы всегда ищем и к которому можем,
если в воле нашей осмыслим любовь, постоянно
приближаться.
Соловьев совершенно прав: взятая как факт, как
состояние человека, бывающее и проходящее, любовь-
влюбленность— нелепа; она не имеет для себя никаких
оснований и ни для чего не нужна. Соображение, что
любовь служит целям рода, с достаточной убедительностью
опровергнуто Соловьевым; да и без Соловьева при
малейшем усилии мысли становится ясно, что для
размножения любовь—та, о которой мы говорим с
непременным «веяньем нездешней радости»,—излишняя роскошь,
в лучшем случае. Род человеческий не только
продолжался бы без нее, но продолжался бы гораздо успешнее.
Резюмируем же: любовь или имеет тот смысл, о котором
9 -1520
193
мы говорили вместе с Соловьевым, или не имеет
решительно ни смысла, ни цели.
П. Любовь ■ красота
1
Метафизиков и философов, говоривших о любви,
можно бы перечесть по пальцам, даже если включить
касавшихся этой темы вскользь, между прочим. Зато в области
искусства любовь—подлинная царица. Обратимся же
к искусству, посмотрим, нет ли среди художников таких,
для которых любовь—приблизительно то же, что для
Соловьева, Вейнингера, Платона, Аристотеля и т. д.
Мы, однако, ничего не увидим, если сразу не разделим
всех художников несколько необычным разделением.
Общего взгляда Вл. Соловьева на искусство и красоту
я пока не буду касаться (хотя очень интересно было бы
и тут провести его параллелизм с Вейнингером). Скажу
лишь, что для Соловьева, в строгой связи со всем его
миросозерцанием, «красота—лишь ощутительная форма
Добра и Истины», и «эстетически прекрасным» он
называл «всякое ощутительное изображение предмета или
явления с точки зрения его окончательного состояния или
в свете будущего мира». Иначе говоря—прекрасно то
художественное произведение, которое «ведет к реальному
улучшению действительности».
И я предлагаю, хотя бы только в отношении
исследуемого вопроса, принять мерку Соловьева об «улучшении»
или «неулучшении» реальной действительности. Другими
словами, установить—вне оценки таланта художника,—
что такое для него любовь? Какой он ее изображает? Где
лежит его воля, какой любви он хочет, в какую верит?
Смотрит ли данный художник на любовь с «точки зрения
окончательного ее состояния», по-соловьевски, вейнииге-
ровски, то есть видит ли ее смысл, или же любовь для него
смысла не имеет, и он берет ее просто как факт,
повторяющееся обычное явление?
В конце концов, говорит ли художник о той любви,
которая бывает, или о той, которая должна быть?
Тут важно еще и отношение к «должному»: не как
к фантастике, а к потенциальной реальности. «Если бы
194
я считал такую любовь фантастикой,—подчеркивает
Вл. Соловьев,—я бы ее, конечно, и не предлагал».
В трактовке любовной темы не все художники резко
определенны. Есть смешанные, а главное, есть эволюцио-
низирующие: от любви почти без смысла, почти той, какая
«бывает», они доходят постепенно до образов
величайшей глубины и совершенства.
Но обычно линия разделения проходит с достаточной
ясностью. Иногда совсем маленький, неизвестный
писатель вдруг дает нам изображение чудесной, бессмертной
любви; а другой, художник и мастер, не желая или не умея
вырваться из круга «бывающего», фатально возвращает
любовь в смерть.
Да, вот это следует запомнить: везде, где любовь
изображается как простой факт и состояние, без смысла, она
очень быстро побеждается смертью. Мы так не привыкли
думать по поводу любви о смысле, что, даже повторяя
слова: «Любовь сильнее смерти»,—мы стали понимать их
в обратном значении, приблизительно так: любовь столь
сильна, что доводит даже до смерти, то есть что смерть
всегда сильнее самой сильной любви, и даже сильную-то
вернее побеждает.
Художник, изображающий «простую» любовь (как
«бывает»), по-своему прав: «простое» отношение к любви
завершается тем окончательным упрощением, которое
называется «смертью». Смерть непременно сильнее такой
любви и даже при ней становится желанной:
Разбей этот кубок,
В нем злая отрава таится!..
2
Не удивительно, что люди и художники, наиболее
близкие к понятию личности, наиболее близки и к
понятию истинной любви. Ведь «только обладание «Я» в
высшем смысле ведет и к признанию «Ты» в другом», как
повторяет Вейнингер.
Поэтому Ибсен, с его исключительно острым
пониманием «личности», и не мог не дать особенно яркие образы
любви в ее совершении, Эроса pontifex'a, строителя
мостов.
В Пер-Гюнте, однако, лишь начало пути любви.
Сольвейг—не дантовская Беатриче, конечно, которая еще
9»
195
вполне объект, символ женской субстанции, лицо без
живого лица. Данте сотворил Бог; но не Бог, а Данте творит
Беатриче, творит исключительно для себя, чтобы ею, то
есть своей любовью к ней, спастись как личность.
Беатриче не действует, и нет нужды в ее действиях; Сольвейг есть
гораздо больше, она «есть» уже почти в полноте: это она
любит Пер-Гюнта, и это ее любовь (истинная, ибо
ведущая к бессмертию) спасает любимого. Сольвейг еще не
вполне «живая женщина», в ней еще слишком сквозит
облик вечной Женственности, «Жены, облеченной в
солнце» Вл. Соловьева; она Дева-Мать не случайно: в чистом,
божественном женском Начале
девственность—материнство соединены.
Ибсен пойдет и дальше: через «Женщину с Моря» к
Ревекке из Росмерсхолма, к любви между нею и Росмером,
где уже происходит возрождение обоих, взаимное
спасение.
— Я ли иду за тобою или ты за мною?—спрашивает
один.
— На этот вопрос мы и в вечности не найдем ответа.
Да он и не нужен; они идут вместе.
И вот наконец последняя вещь Ибсена, последний
образ любви, ее истинный путь—«сквозь тьму ночи и
бури в горах» к солнечному восходу высшей, вечной жизни.
Ибсен говорит о совместной жизни мужчины и женщины
как о новом таинственном браке, мистической унии,
лишенной всякого «эгоизма», отъединенности от мира,—и
всякого неравенства: оба, и муж, и жена, равноценные
«личности» в высшем смысле.
Я не знаю, как относился Соловьев к Ибсену: он нигде
об Ибсене не упоминает. Но это неважно: «встреча»
между двумя мыслителями-поэтами, несомненно,
произошла. Вейнингер «встретился» с Ибсеном лицом к лицу.
Статья Вейнингера—самое блестящее, самое
проникновенное, что когда-либо писалось об Ибсене. И можно,
пожалуй, сказать, что на проблеме любви они «встретились»
все трое. Во всяком случае, из художников Ибсен самый
сознательный попутчик Вл. Соловьева.
О любви очень много знал (не по-ибсеновски
«сознательно», но чуть ли не глубже) Гоголь. Знал, не зная; ведь он
не догадывался, когда писал «Старосветских
помещиков», что за ним, склонясь к его плечу, стоит сам Эрос,
что он тихо отнял перо и вложил ему в руку стрелу,
выдернутую из колчана. Только стрелой Эроса мог быть на-
196
чертан образ любви Афанасия Ивановича и Пульхерии
Ивановны, любви, над которой бессильно «всемогущее
время».
Достоевский? Толстой? Гёте?
Достоевский обладал слишком большим запасом
всего, что требует реализации; и в процессе реализирования
он находился еще в той стадии всеразделения, которая
необходима для последующего, подлинного всесобирания.
Он еще разорван и в разорванности обострен. Слишком
много знает о смысле реальности, больше, чем о самой
реальности,—и сознает свою дисгармоничность. Отсюда
его крик: «Любите жизнь раньше смысла ее!» У
Достоевского начатки истинной любви не там, где он думает, не
в возвышенных девицах и дамах, а в другой стороне,
в Грушенькиной «инфернальности», в Грушенькином
«мизинчике»; тут он начинает нащупывать «духовно-
телесность» любви. Из трех основных понятий,
обусловливающих подлинную любовь, Достоевский до последней
глубины ощутил и проник в «богочеловечность»; «духов-
но-телесность» лишь нащупывал, а об «андрогинизме»
почти не знал ничего. Только в одном романе
Достоевского ясное указание на любовь истинную, полную,
должную: любовь Раскольникова и Сони. Но... любовь эта
осталась неизображенной, роман—ненаписанным: он
лишь обещан в «Преступлении и наказании».
Во всяком случае, Достоевский менее всего
изобразитель «данного», «как бывает». Он и реальность-то хочет
полюбить для того, чтобы полнее взять ее «с точки зрения
окончательного ее состояния и в свете будущего мира»,
о котором он уже знает, как никто. К изображению
просто данного человек масштаба Достоевского не мог иметь
и природной склонности.
Ее не имел и Лев Толстой. Но он, «полюбив жизнь
раньше смысла ее», слишком долго любил ее вне смысла;
оттого с таким страданием вырывался он на склоне лет из
кольца обычного, бывающего, данного. Оттого
возненавидел, до несправедливости, свои романы, и с такой
беспорядочной поспешностью бросился искать «смысл
жизни». Любовь для него остро стала как проблема; но он
не пошел дальше отрицания ее реализма, то есть дальше
«ангельского», по Соловьеву, пути. Других путей, кроме
этих двух—дьявольского и ангельского—Толстой не
признавал.
197
3
Мне хочется остановиться немного дольше на трех
авторах, на трех вещах, никакого как будто отношения
друг к другу не имеющих. Не потому беру я эти три
любовные романы, что нельзя было бы другие, но, во-
первых, потому, что на общее исследование любви в
мировой литературе все равно не хватило бы ничьей жизни,
а во-вторых,—для моего беглого очерка достаточно
характерны и эти три.
Три автора, разной национальности: русский, немец
и француз. Три романа, разных времен: один 1925 года,
другой 1774-го, а третий...право, не знаю и не
интересуюсь; кажется, современный. Заглавие романов:
«Митина любовь», «Страдания молодого Вертера» и «Габи,
любовь моя». Имена авторов: Бунин, Гёте и Деренн.
Ну, скажут мне, русского Митю и немецкого Вертера
еще кое-как можно сблизить, а французский-то Жак
при чем? Кто этот Деренн? Почему его надо сравнивать
с Гёте?
Но я никого не сравниваю. Я не сужу, не разбираю их
в плоскости «искусства», чисто художественных
достоинств, литературного мастерства, эстетики как
эстетики. Я не хочу и не могу «сравнивать» мирового гения с
совершенно неизвестным (мне по крайней мере) французом,
книжка которого, попавшая мне случайно, ни малейшим
мастерством не блещет. Я смотрю не на мастерство, даже
не на романы как на таковые,—а на любовь, в них
изображенную, на волю художника в этой области.
По ранее принятому делению, в романе Бунина
«любовь» берется, какой она бывает, в романе Деренна—
какой она должна быть; роман Гёте—смешанный.
Sainte-Beuve в статье о «Вертере» очень близко подходит
к правде. Он прежде всего не берет .«Вертера»
исключительно как художественное произведение; он рассматривает
его в связи с временем и биографией автора. Оценивает
все сразу, правду и выдумку, дань, которую 23-летний
Гёте отдал толпе своего времени, и верную «волю к жизни»,
молодого гения. Sainte-Beuve правильно указывает, что
конец «Вертера» вульгарен и фальшив, портит
произведение и до такой степени не вяжется с ярким, сознательно-
волевым характером Гёте-Вертера и его любви, что почти
похож на мистификацию.
198
Поэтому мы, с нашей точки зрения, и должны назвать
«Вертера» «смешанным». Любовь к Шарлотте—не совсем,
не вполне то, что «бывает»; в ней очень сквозит
«должное». Но у юного автора это должное лишь в ощущении;
поэтому самоубийство Вертера, конец, соответствующий
другой любви и другому герою, мог соблазнить
неокрепший гений Гёте. К Гёте особенно приложимы слова Вей-
нингера о Личности как «становящемся»: «Человек
медленно и постепенно, в течение всей жизни приобретает
ее...» Лишь через многие десятилетия Гёте дошел до той
удивительной (первой или последней?) встречи Фауста
и Маргариты, когда Маргарита ждет, чтобы Фауст узнал
ее, и они вместе идут наверх...
Но и в годы Вертера воля Гёте не лежала к «данному»;
он пламенно любил действительный мир, но не за то, что
он «такой», а за то, что из него, такого, «может выйти»
(по его выражению).
Именно в несоответствии, в несгармонированности
конца Вертера с материей его любви и лежит фальшь
романа. Ведь не упрекаем же мы в фальши несчастного Азру
(несколько надоевшего), который с самого начала верен
себе и так и заявляет: «Я из рода бедных Азров: полюбив
(любовью, смысла не имеющей и смысла не ищущей), мы
умираем...», что, как мы видели, чрезвычайно естественно.
Бунинский Митя—прежде всего сам полная
противоположность Вертеру. Живой до иллюзии: именно такие
«бывают» русские (помещичьего оскудненья) мальчики,
полудеревенские птенцы, полоротые, неуклюжие,
хорошие. Установим сразу: Бунин—король
изобразительности, король «данного»; я не знаю в современности
равного ему мастера, такого—не рассказывающего нам о
природе, вещах и людях, а прямо показывающего их. Это
сила очень серьезного таланта. Соловьев не признает
«художественными» произведения, где изображается только
«данное», в том виде, в каком оно «есть». Но для
большого творческого таланта это и невозможно. Конечно,
талант изобразительный по преимуществу, художник, не
склонный к обобщениям и не ищущий смысла явлений, не
будет изображать предметы «в свете нового мира» или
с точки зрения их окончательного состояния. Он этой
точки зрения не имеет, он будет стараться рисовать их
просто, какими видит. Но именно большой талант не
сможет остановиться на этом, ограничиться этим: какую-то
волю свою он проявит, отразит в творческом образе. И
199
я подчеркиваю: если он желает или не умеет видеть
улучшенной действительности, он рискует дать ее
ухудшенной.
Такой художник легко соскальзывает с
действительности вниз; его герой в любовном состоянии действует
еще ужаснее, погибает еще скорее, чем это бывает в
жизни, а сама любовь кажется еще безвыходнее и обманнее.
Мы увидим далее, что в романе Бунина такое
соскальзывание и происходит.
4
Нелегко бороться с прелестью изобразительного
таланта, с волшебством живой природы, с окружением Ми-
тиной любви. Шумят весенние деревья, пахнет земля,
плывут облака; и как не поддаться чарам, как отодвинуть
завесу тумана, за которым полускрыт Митя со своей
любовью? Однако лишь он, а главное, она—любовь—
предмет нашего исследования.
Заглавие романа очень точно: в нем говорится именно
о Мишиной любви. Повесть о любви есть повесть о двух,
но Бунин дает нам одного—в состоянии любви. Верте-
ровская Шарлотта в большой мере еще объект, но сильная
и широкая личность Вертера почти подымает ее,
любовью, до субъекта. Митина любовь ничего не могла бы
сделать с Катей. Митя и сам почти не субъект. Он едва
сознательнее той весенней природы, белых вишневых деревьев,
ночных птиц, вздыхающих недр земли, с которыми живет.
Любовь его—воистину что-то на него навалившееся,
неизвестно откуда и почему. Случилось, что она—к Кате,
но могло бы быть и не к Кате, к Лизе, к Соне. Недаром
Катя (очерченная несколькими до наглядности яркими
и живыми штрихами) в романе почти не действует,
появляется только в первых главах.
Надо признать, что из форм «бывающей» любви
художник выбрал наименее подлежащую осмысливанию,
заведомо обреченную на гибель. Вопрос ведь о личной любви,
у Мити же и у Кати так мало «личности», что Эросу не на
ком укрепить концы своего моста. Если правда, что
каждый раз, когда в человеческом сердце зажигается
священная искра влюбленности, «вся стенающая и мучающаяся
тварь ждет первого откровения сынов славы»,—вряд ли
с особой надеждой смотрела на Митю эта тварь и была
особенно обманута, когда в нем искра погасла. Митя так
200
Петр Успенский
Искусство и любовь
(фрагмент)
...Любовь всегда была и есть
главная тема искусства. И это вполне понятно. Здесь
сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции; через
любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с
расой, к которой он принадлежит, со всем прошлым
человечества и со всей его грядущей судьбой. В соприкосновении
полов, в их влечении друг к другу лежит великая тайна
жизни, тайна творчества. Отношение скрытой стороны
жизни к явной, то есть проявление реальной жизни в нашей,
кажущейся, особенно ярко вырисовывается в этой вечно
трактуемой, вечно разбираемой и обсуждаемой—и вечно
непонимаемой области, именно в отношениях полов.
Обыкновенно отношения мужчин и женщин
рассматривают как необходимость, вытекающую из необходимости
пРодолжения человеческого рода на земле. Рождение—
в°т raison d'etre любви с религиозной, моральной и
научной точки зрения. Но в действительности творчество
заключается не в одном только продолжении жизни, а
прежде всего и больше всего в творчестве идей. Любовь
221
алиэация ставится как цель сама по себе и прежде
идеального дела любви—она губит любовь». Жак и Габи не
погубили свою любовь. Они снова расстались—на годы;
жили каждый своею жизнью и жили непрерывно друг
в друге.
Но вот Жак едет к своей невесте. В родном городе
Бордо ему нужно ждать поезда. Устраивается на вокзале
и вдруг берет автомобиль, велит везти себя в то кафе, где
видел Габи в первый раз.
Знает ли Жак, что он делает? Полузнает. Но ему
известно, что Габи—в родном городе. Вызванный в кафе
старый товарищ рассказывает: да, Габи здесь, она
отдыхает после своих турне. У нее нет «покровителя», но есть
любовник; не «друг сердца», а молодой больной и
капризный мальчик, отчаянный игрок,—Габи его «жалеет».
По зову Жака Габи, конечно, сейчас же приходит, не
особенно скрываясь от взбалмошного своего
возлюбленного, который и сам больше думает об игре, нежели о
ревности.
Эта ночь—редкая поэма любви. Начинается она
полуфантастической прогулкой на автомобиле в лес, где
Жак ищет какой-то, в детстве зарытый белый камушек,
и находит его. В фантастику, в нежность, в почти
сентиментальность все время ввивается улыбка.
Их соединение как будто даже ничего нового не вносит
в любовь, таконаужеполнаисовершенна. Поэма этой ночи,
откровенная и целомудренная, написана без единого
срыва. Вся она пронизана и покрыта двумя словами: «moi—
toi», «ты—я, я—ты». И уже естественным кажется, что
она говорит то, что он начал думать, он произносит
слова, которые она сейчас захочет услышать. Он забыл
сказать ей, что ехал к невесте, он сам забыл это, а когда,
вспомнив, говорит—они улыбаются оба, разве это так
важно?
Взбалмошный и больной возлюбленный Габи,
проигравшись, ранним утром застреливается под окнами
Габи. Это—жизнь около их любви. Трагедия? Должны ли
они расстаться? Должны ли они переступить через эту
смерть, поглощенные двойным эгоизмом?
Ни то, ни другое. Смерть может лишь тенью печали
пройти по любви, не разрушив ее. Так же как разлука: она
может быть... и все-таки ее не может быть. Странное
впечатление: Любовь инкрустирована в реальность мира,
неотделима от жизни, текущей в трех измерениях, но сама
202
Любовь, кроме этих трех измерений, имеет еще и
четвертое. И она не делает жизнь «фантастичной», оставляет на
своих местах ее мелочи, ее обыденность, но окрашивает
и нежно одухотворяет материю мелочей, освещает ее
улыбкою «нездешней радости».
Деренн только засмеялся бы, заговори с ним о трех
понятиях любви, о богочеловечестве, о духовно-телесности
и андрогинизме. Между тем любовь этих двух—
танцовщицы, полукокотки и среднего француза,—
человеческая ли она только? И не дана ли в ней духовно-
телесность почти совершенная? И разве нет в Габи черт
стойких, характерно мужских, тогда как герой подчас
нежен и тонок девически? Сам себе увивляясь, он плачет
в саду... В этой смерти и никто не виноват, ни никто не
виноват. «Я ведь не жалею его; о чем же я плачу?»
Габи не плачет, но она действует так, чтобы
вдвинувшаяся в их любовь смерть, все равно бессильная, не была
оскорблена торжеством любви. Тень упала—пусть тень
пройдет. Любящие опять как бы расстаются. О, конечно,
не расстаются и не расстанутся.
Вертер, насильственно погибший от руки Гёте, носил в
себе все данные для такой любви и даже с более
сознательным к ней отношением. У бунинского Мити
возможностей для этого нет; но ведь они и не входили в задания
автора. Задания его иные. Бунин хотел показать нам данное:
любовь, какой она бывает в мире, каков мир есть.
Соответственно задуман и Митя. Правда, он взят подчеркнуто
бессознательным, но такие бывают. Не станем же
требовать от Мити сверх положенного. Попробуем войти в
волю художника. Посмотрим, везде ли Митя верен себе
и такому, каким задуман, своей любви, именно своей, вне
смысла, но какой она в подобных случаях бывает?
Действительно ли таков мир в данном (просто в данном),
каким его рисует Бунин?
5
Митя не только чужд сознания, всякого разумного
рассуждения и воли, но примитивен до непонимания
обычных слов, даже тех, которые сам произносит. Митя
весь—впечатление и физиология. Почти нельзя сказать,
что он «чувствует»: он—«чует». Так, он не думает о
смерти» не понимает ее; но помнит «впечатления» смерти
и «чует» смерть. Эрос коснулся его своим крылом; кого
203
бы он ни касался, он-то подлинный, всегда тот же Эрос,
с его «веяньем нездешней радости». Митя воспринял его
впечатлением и физиологией. И Митя в любви своей,
в ощущении «мира как рая» понятен. Понятны и мечты
его, вначале о браке с Катей как исходе любви. И влечение
его, через Катю, ко всякому «женскому», и оно, пожалуй,
объяснимо для той любви, на которую он способен. Даже
в наивной, физиологической ревности своей к какому-то
другому, с которым Катя должна обязательно «утонуть
в разврате»,—он еще последователен. Так еще «бывает»...
Неестественность Мити, «перебой» в Мите начинается
с появлением на сцене старосты (или чуть-чуть раньше,
может быть, когда Митя кладет голову на колени девке
в саду и с упоением чувствует под головой ее живот).
Дело в том, что влюбленный юноша, именно юноша,
впервые ощутивший «веянье нездешней радости»,
непременно делается целомудрен, до дикости страстно-
целомудрен. И даже страсть эта тем сильнее, чем он
примитивнее, ибо и она—физиологична. Она—от того же
Эроса, который ею, как щитом, защищает Любовь в
человеке. Эрос ведь прямая, фактически цельная сила, он
входит не в разум, а во всего человека, и весь человек с его
физиологией проникается личной любовью. Поэтому
и должна быть ей защита в самой физиологии, поэтому
и ограждается она страстным целомудрием. Вполне
возможно пробуждение общей, бесформенной чувственности
под влиянием весны, природы, одиночества; но
невозможна победа этой стихийной чувственности над любовью,
пока не погасла священная искра: страсть целомудрия ее
ограждает. Естественно падение в толстовском
«Дьяволе»: там речь идет о человеке зрелом и не в состоянии
острой влюбленности. Но не естественно, что Митя сразу
не отскочил от старосты, соблазняющего его покупкой
«девки» вообще. Чем более огрубляет автор рисунок, с
какой-то странной нарочитостью, тем непонятнее делается
поведение Мити. В муках любви и неизвестности, но вовсе
еще не уверенный, что Катя изменила, «погрязла в
разврате», потеряна, он, однако, едет со старостой
высматривать себе «женское», определенную «бабу». И там, у
лесника, в обстановке, которая должна бы резать его по
живому месту, Митя все-таки не взвыл, не убежал, закрыв
руками уши. Он терпеливо продолжает вожделеть и хоть
с неловкостью, но говорит о деньгах, уславливается нас-
204
чет определенного свиданья и возвращается домой с тем
же пьяным старостой.
Этого «свиданья» Митя ждет в состоянии вожделения,
окончательно несовместимого с малейшей тенью
юношеской влюбленности. «Порой, думая об Аленке и
представляя себе ее тело, весь начинал дрожать от все растущей
дрожи в животе...»
Но попробуем признать на минуту и это. Митя
обезумел, обезволел, его понесло—донесло до шалаша. Он ждет,
«ему кажется, что вся жизнь зависит от того, придет или
не придет Аленка». Аленка пришла. Что же должно было
случиться с естественным Митей (если мы уж допустили,
что он, естественный, докатился до шалаша?) А вот что.
Или влюбленность его в Катю—в «одну»—неправда,
и все это, с начала до конца, было у него чувственным
возбуждением, игрой крови, для которой Эроса не требуется,
или неправда, что в последний момент ему не изменила
физиологическая воля, что любовь тут не защитила себя
и что мог совершиться обнаженно-тварный акт с чужой
«бабой» за «пятерку» (которую он ей и вручил). Живой
Эрос просто не позволил бы это естественному Мите.
Лишь неестественный мог подняться потом, хотя бы и
«пораженный разочарованием».
Для чего Бунин подчеркивает даже не животную, а
какую-то зловонно-мерзкую грубость этого соития, тоже
почти неестественную? Для чего унижает своего Митю до
«заживо умирающих любителей мертвечины»? Мы не
поверили бы Митиному «падению» с Аленкой все равно,
и без ударений на «пятерках», на «поросятах», о которых
Аленка заговорила, чуть они «поднялись». При большей,
как и при меньшей грубости «шалаш» остается не
реальностью, изображением не того, что «бывает», но и не
того, что должно быть.
О нескольких днях, отделяющих для Мити «шалаш»
от Катиного прощального письма (она ушла к другому!),
Бунин нам ничего не говорит. Да, часы Митиной
предсмертной агонии—дождь, ночь, слезы, невыносимая мука
(любви ли?), сон с образами Катиного разврата (не своего
ли?),— все это, пожалуй, не предсмертная, а посмертная
агония. Митя уже мертвец, и «чудовищный мир, где все
так безнадежно и мрачно», мир «с такой чудовищной
противоестественностью человеческого соития»,—конечно,
не наш, реальный мир действительности. На
полмгновения в Мите как будто просыпается жизнь, он как будто хо-
205
чет «простить» Кате (себе, конечно), но тотчас понимает,
что «спасения уже нет», «не может быть»...
Автоматическое движение руки за револьвером, автоматический
выстрел в рот, просто от нестерпимой муки—да, это все ух
посмертное. Митю убила не Катина измена, и не сам он
убил себя от любовной муки, и не убивает его ужас
«чудовищного, безвыходного мира»,— Митю убил раньше
выстрела Бунин, убил в «шалаше». Правда, Митина любовь
и Митя, себе верный, то есть без «шалаша», все равно
были обречены на смерть. Мы видели, что всякая «простая»
любовь, любовь «как она бывает», кончается тем последним
упрощением, которому имя Смерть. Но вспомним: если
художник задается целью изобразить только данное,
только любовь «как она бывает»,—герой его в
любовном состоянии действует еще ужаснее, погибает еще
быстрее, чем это бывает в действительности, а любовь
кажется еще безвыходнее и обманнее.
Попытка изобразить мир в статике, в его настоящем
моменте никогда не удается истинному художнику.
Отрицает ли он мировой процесс «восхождения», движения
вперед или просто не хочет смотреть в сторону «всей этой
метафизики»—результат один: воля, не направленная
вперед, оказывается направленной назад и вниз*.
Не желая улучшать действительность, такой художник
ее роковым образом ухудшает. И мир в его изображении
становится воистину ужасным, вечной победой
вожделения над любовью, смерти над жизнью. Ужасным—и не
реальным, не действительным.
Таким образом, разрушение идеи мира восходящего
влечет за собой разрушение, помимо добра, и правды,
и красоты. Ведь красота, по слову Вл. Соловьева, лишь
«ощутительная форма добра и истины».
6
Все растрояется, не теряя единства, и, не поняв этого,
мы никогда не поймем реальности. Реальность же в том,
что три задачи, поставленные перед нами—о человеке,
о любви и о мире,—действительно задачи и действитель-
* Я очень жалею, что место не позволяет мне сослаться на одну из
замечательнейших статей Вейнингера, где он, подчеркивая
«односторонность Времени» (то есть его течение в одну сторону—вперед), называет
всякое желание «обратное™», стремление «назад» «неэтичным»,
исключающим смысл жизни.
206
но соединены неразделимо одним общим смыслом. К
которой бы ни подходили мы, но если мы берем ее не как
задачу, нам заданную, и с нашим участием, нашей волей
разрешаемую,—мы искажаем реальность. И притом
искажаем не только реальность любви (когда к этой
серединной проблеме подходим), но с нею искажаем
реальность и человека, и мира, ибо разъединить три задачи,
отделить любовь от Человека и Мира—нельзя.
Соловьев, говоря о любви как даре, человеку в жизни
ниспосылаемом, говорит, что дар этот «не напрасный,
не случайный», что человек обязан принять его в свою
волю и может разжечь божественную искру и высокое
богочеловеческое пламя. Соловьев настаивает, что
«дело» любви—не мечтание, не фантастика. Оно такое же
реальное и волевое, как дело общественное; как
общественного дела нельзя делать, если не видишь в нем задачи
и не понимаешь его смысла, так нельзя делать и дела
любви. И оба дела ведут к тому же: «к улучшению
действительности».
Осуществима ли истинная любовь?
А истинное общее человеческое
устройство—осуществимо ли? То и другое—осуществляемо,—и этого
знания для нас достаточно, чтобы мы приняли на себя
дело любви как дело, если даже оно является, по Вл.
Соловьеву, «нравственным подвигом».
На художнике, в искусстве, лежат подобные же
обязанности. Отчуждение искусства от общего движения
мировой жизни должно быть отвергнуто. Сепаратизм
искусства есть обычно-условная ложь: художественная
деятельность не имеет в себе какого-то высшего предмета,
а лишь служит общей жизненной цели человечества.
Поэтому художник, который «вносит новую
действительность, производит новые предметы и состояния»,
ответствен за них и оправдан в творческой воле своей, только
если она ведет к правде, то есть к тому же улучшению
реальности.
Искусство—великая сила. Дар художественный—
страшный дар. В слове произнесенном всегда есть что-то
от заклинания. Зови смерть, побеждающую любовь, и она
явится к тебе сонным призраком. Скажи о мире
чудовищном, бессмысленном, где Эрос с его веянием нездешней
Радости, только злой обман... и не выступит ли тотчас
из тьмы гримасничающее вожделение с его белыми
глазами?
207
Но праведная воля человеческая не хочет такого мира.
Пускай еще не сознательно, но ищет, не уставая,
человечество смысла своей любви и своей жизни в вечной борьбе
с небытием—за бытие.
А чего нельзя найти—того и нельзя искать, сказал Вл.
Соловьев. Он же сказал слова, которые не могут остаться
непонятыми, если они могли быть произнесены:
«Торжество вечной жизни—вот окончательный
смысл Вселенной. Содержание этой жизни есть внутреннее
единство всего, или—Любовь; ее форма—Красота, ее
условие—Свобода».
Арифметика любви *
Я буду говорить только о личной любви, то есть о
мосте, который строит Эрос между двумя личностями. Эрос
римляне так и называли: "pontifex", что значит
«строитель мостов» (и «священник»).
Но если это мост между двумя личностями, то
необходимо сначала условиться о понятии личности, хотя бы
в первоосновах, иначе и дальше мы ничего не поймем.
Первоосновы личности такие: абсолютная
единственность, неповторяемость и потенция абсолютного
бытия (вечности). Другие определения мы найдем, когда
будем рассматривать, как личность выражается в любви.
И вот что замечательно: стоит подойти к человеку не
лично, взять его просто как одну из особей, случайно
населяющих случайный мир,—как тотчас этот мир
окажется полон несообразностей. Одна из них—любовь.
Очевидная нелепость! Все попытки ее к чему-нибудь
приспособить—например, к необходимости продолжения
рода человеческого—бесплодны: давно известно, что
и без нее род человеческий продолжался бы, притом
гораздо лучше. С точки зрения «особей», ее существование
необъяснимо и ничем не оправдано.
Чувство любви, состояние любви, о которой мы
говорим, более или менее знакомо всякому. Все поэтому
знают, что оно неизбежно сопровождается ощущением,
во-первых, абсолютной единственности любимого и, во-
вторых, вечности любви. (Как раз то, что первично,
утверждается и в личности—для личности.)
* Текст выступления на собрании «Зеленой Лампы».
208
Ощущение единственности—полное: предложите
любящему в обмен какое угодно другое человеческое
существо или хоть все другие,—он даже не взглянет: в
любимом для него ценность абсолютная. Ощущение же, что
любовь эта—навсегда, навек, усложнено еще каким-то
волевым утверждением вечности, огненным в ее
прозрении, хотя бы вопреки рассудку. Главная мука Марселя
Пруста во время влюбленности была в рассудочном
предвидении, что эта любовь—пройдет. Всю жизнь Пруст
бился «на пороге личности», понимал ее, но так и умер, не
посмев сказать себе, что понимает.
Впрочем, у слишком многих есть это твердое знание:
«Разлюблю». А рядом такое же твердое: «Никогда!»
Меньше чем на вечность любовь не соглашается.
У любви-влюбленности есть, кроме этих, и другие
общие свойства, хотя, конечно, нет и не было одинаковой
любви, как нет и не было одинаковой личности. Эрос—
один, а если разнится, то как вода в разных по величине,
форме и цвету сосудах. В чем же еще, кроме
утверждения единственности любимого и вечности любви,
проявляет себя Эрос одинаково во всех влюбленных?
Никогда не бывает эта любовь чистой духовностью
(даже когда такой воображается). Но не бывает она
и чистой телесностью. Мы ведь условились исключить из
понятия любви как благородный «жар ученого к науке»,
так и вспышки голо-физиологического, полового
инстинкта. Мы говорим только об Эросе, несущем с собой
«веянье нездешней радости» (по выражению Вл.
Соловьева). Это «веянье» знает каждый влюбленный, оно
охватывает человека всего, целиком, изменяет внешне и
внутренне. Подлинная влюбленность всегда духовно-телесна.
И тут любовь опять есть подобие самой человеческой
личности.
О душетелесности человека немало нам твердили, но
все, кажется, напрасно. Мы так привыкли делить его на
душу и тело, что ни от языка, ни от воображения не
можем этой привычки оторвать. Мы не представляем себе
человека, одухотворенного в каждой клеточке своей, но
довольно неопределенно воображаем человеческую форму,
внутри которой где-то лежит прозрачно-тонким клубком
Душа. В отличие от материалистов, которые и клубка не
признают, идеалисты уповают на бессмертие души.
Вылетит комок из человека и будет вечно носиться в
пространстве...
209
Но правильно сказал один французский писатель: тело
без души или душа без тела—и то, и другое равно знаку
смерти, распада.
А живой человек—есть некая цельность; и он—-
душетелесен, как его любовь.
Любовь на многое еще открывает глаза человеку: она
дает ему познать и трагическое несовершенство мира.
Почему в каждой любви радость так переплетена со
страданием? Оно принимает тысячи форм, и тысячи
разнообразных причин находит человек, чтобы страдать.
А если видимых причин как будто нет, он творит их для
себя. И уж конечно, никакое страдание не заставляет
человека отказаться от любви.
Итак, или первопричина этих страданий—от любви
неотделимых—лежит очень глубоко: это—сознательное
(или подсознательное) ощущение, что полнота любви не-
воплотима в мире, каков он сейчас есть. Полнота той
любви, о которой Эрос что-то открыл человеку, именно
той—другой—он не хочет: единственной и смерти непод-
клонной.
Но в этих же страданиях, в каком-то волевом их
принятии, лежит награда если не осуществить любовь в
полноте, то приблизиться к ней. Человек страдает, когда
движется, когда борется. В сущности, все творчество
человека есть борьба—неразлучная со страданием—за какую-
нибудь ценность; за превращение бытия потенциального
в действительное.
Так или иначе, вложенные в человека аспирации и даже
определенные предощущения действительности любви—
есть реальность; чтобы ее уничтожить, надо было бы
изменить самую природу человеческую. Во все времена
люди искали полноты любви, боролись за любовь. Но
слишком часто это—борьба «вслепую». Между тем нигде
так не важно сознание, как в вопросе пола.
(Повелительную роль его признают даже физиологи.) Мы видели, как
много может открыть Эрос человеческому сознанию.
Может он открыть и больше—открыть некоторые условия,
в которых осуществление любви делается возможным.
Но тут необходимо остановиться еще на одном
природном свойстве человека—личности, реального
человека. Оно как факт признается всеми. А важность его в
вопросе о личной любви мы сейчас увидим.
Это коренное свойство человека—андрогинизм.
Бесчисленных обоснований и объяснений андрогиниз-
210
ма я не касаюсь. Утвердим просто: живое душетелесное
человеческое существо, реальный человек, никогда не
бывает только мужчиной или только женщиной. Оба начала,
мужское и женское (М.иЖ. по Вейнингеру), в нем
соприсутствуют. Но необходимо утвердить и следующее, что
я особенно подчеркиваю: в каждом реальном человеке
которое-нибудь одно из двух начал, М. или Ж.,—
преобладает.
Человек, таким образом, существо или мужеженское,
или женомужское; причем само сложение двух начал
в каждом—лично, то есть как личности единственно и
неповторимо.
Во всем этом, вместе взятом, и заключена потенция
личной любви.
Действительно: будь люди носителями одного начала,
эти—мужского, те—женского, то каждое такое цельное
М. равно влеклось бы к каждой полярно
противоположной цельности—Ж. (и обратно). Для мужчины все
женщины были бы одинаковы: ведь все одинаково
носительницы женского, к которому стремилось бы его мужское.
Тогда в мире не только не могла бы родиться личная
любовь, но даже и понятия о ней бы не существовало.
Она, однако, рождается, и, сколько бы раз надежда
познать ее, истинную, ни обманывала, человек останется
верен этой надежде до конца.
Но в чем же, когда, при каких условиях становится
возможным осуществление любви, приближение к ее
полноте? Или Эрос нашептывает небылицы, внушая каждому
андрогинному человеческому существу, что для его
единственного «я» есть какое-то другое единственное «ты»?
Нет, Эрос не лжет. И каждый прав, ища это
единственное «ты»: оно потенциально есть, находимо.
Оно, для существа мужественного, будет другим
существом, в соответственно обратной мере двойным—
Женомужским. Но именно в соответственно обратной
мере.
Чтобы понять эту обратность, представим себе
человека в виде восьмерки. Две петли, М. и Ж., непременно
неравные (преобладание). Если положить восьмерку на
ребро (кстати, лежачая восьмерка в математике—символ
бесконечности), то петля М., мужская, будет правой,
петля Ж., женская,—левой. Попробуем теперь взглянуть
на отражение этой восьмерки в зеркале. Мы увидим
другую, совершенно подобную, с петлями в той же мере
211
неравными. Только правая у отраженной восьмерки будет
левой, левая—правой. Обе петли обеих восьмерок
совпадут: но левая каждой—с правой каждой. Мужская
каждой—с женской каждой.
Это н есть соответственная обратность.
Но прошу заметить, что восьмерки я беру здесь
исключительно как пример для наглядности. В живом
существе, одухотворенном в каждой своей клеточке, начала М.
и Ж. не могут быть так раздельны, как петли видимых
восьмерок, да и соотношения между обоими началами не
находятся только в количественной категории. (У
восьмерок неравенство их петель только в величине.)
Я напоминаю, что сплетение двух начал, М. и Ж., во
всякой личности—лично, то есть единственно и
неповторимо, как сама личность.
Но вернемся к совпадению обратностей...
Абсолютной обратности (полярности) двух, дающей
абсолют любви, нет, конечно, в безабсолютном мире. Но
в нем есть возможность неограниченного приближения
к абсолюту. Чем полнее душетелесная обратность, тем
совершеннее любовь, ближе к вечно желанной,
непременно «одной» и непременно «навсегда». За нее мы и боремся
и все знаем: даже не зная, что борьба за любовь—эта
борьба со смертью.
Здесь много было говорено о Содоме. Впрочем, в
последнее время вообще о нем говорят. Берут со всяческих
точек зрения: с житейской, исторической, медицинской,
моральной, революционной и т. д. Я хочу его взять
крайне узко. Я хочу только рассмотреть, что такое Содом по
отношению к любви личной.
Эрос не скупится на стрелы, он разбрасывает их не
считая. А наша ответность на всякий зов его такова, что,
право, я не знаю, найдется ли хоть один человек, никогда не
испытавший влюбленности или чего-то вроде нее. Если
бы хоть из миллионной части всех влюбленностей, самых
искренних, выходила настоящая любовь, Эросу нечего
было бы жаловаться! Она не выходит, но ведь могла бы
выйти? Ведь могли бы эти двое оказаться восьмерками
с обратно совпадающими петлями?
Есть все же случаи влюбленности, когда заранее
можно сказать, что никакой настоящей любовью она не
кончится, к осуществлению любви мира не приблизит.
Такова влюбленность, называемая однополой, или содомской-
Почему? Да потому, что зеркальная обратность двух
212
личностей ненаходима между двумя существами муже-
женскими (реальными мужчинами) равно и между
двумя женомужскими {женщинами). Эта обратность как
будто и в плане мира не лежит, а потому ненаходима даже
приблизительная, та, которую воля человеческая могла
бы превратить в чудо любви.
Внимательно наблюдая реальную жизнь, мы найдем
в ней много подтверждений. Распад содомской личной
любви наступает особенно быстро, и даже тем быстрее,
чем она искреннее. Случается, что человек сильный
и обладающий некоторым сознанием решает сохранить
свою любовь хотя бы в данной стадии и хотя бы ценой
отказа от всяких надежд на любовь в идеале: он не
стремится к взаимности, не хочет Эроса—pontifex'a, строителя
мостов и священника, он старается приделать Эросу
вместо легких крылышек длинные ангельские крылья. На
некоторое время это консервирует влюбленность, сообщая
ей даже оттенок (немного дешевый) драматической
красивости. Но затем обескровленная любовь все-таки слабеет
и умирает...
Чаще же не происходит и этого. Ряд содомских
влюбленностей с их быстрыми крахами, распадами приучает
содомиста к распадам; и незаметно ведет его к
собственному распаду. Во всяком случае—к распаду своего
природного отношения к личной любви.
Содомист нисходит тогда к своей норме.
Я прошу забыть общепринятое понятие слова
«нормальный». С точки зрения личной любви одинаково
ненормальны: и мужчина, говорящий, что он любит
вообще мужчин (во множественном числе), и другой мужчина,
объявляющий, что он любит (тоже во множественном
числе и вообще)—женщин. Но они оба, по-своему,
нормальны; они для своей нормы типичны.
Разница между ними, однако, есть: состояние
«женолюбца»—часто примитивное состояние: из него можно
еЩе эволюционировать (оставаясь в том же порядке) от
общего к частному, от множественности—к единству.
Типичный содомист обыкновенно уже проделал свою
эволюцию, обратную: от единства—к общему. И может
ге только продолжать.
Мало-помалу в содомистах стираются и личность и,
вместе,—андрогинизм: притягивает только М., только
мУЖское, отталкивает женское (даже в себе). Как, наобо-
213
рот, содомистку влечет исключительно женское, элемент
мужского ей ненавистен. Но это своеобразное «наоборот»
ни к чему не служит; чем содомист и содомистка типичнее
(нормальнее), тем они дальше друг от друга.
Можно отрицать мои выводы и догадки относительно
истинной любви; можно все эти андрогинизмы и
обратные совпадаемости назвать скучным теоретизированием.
Но действительность отрицать уже труднее; Содом нор.
мальный (типичный) принимает в действительности
жизни именно такие формы, не другие. Любая апология
Содома это подтверждает. Такой содомский апологет,
например, как Андре Жид, с наивно-трогательной
искренностью открывает нам, в каком виде остается у содомлян
«личная любовь»: она нисколько не мешает всемерному,
тут же физиологическому, распылению. Или андроги-
низм: он выражается в поисках ежедневного addescent
merveilleux. Отрок может и языка вашего не знать—зачем
слова? Здесь Эрос приглашается для веяний
исключительно здешней радости...
Насколько любопытны Gid'bi, настолько же
неинтересны и бесплодны борцы против содомии, особенно
осуждающие ее с моральной точки зрения. Морали тут
делать нечего. Жид не виноват, если ценности личной
любви не видит, если утерял природно-человеческое
стремление. Это его дело. Мы, признающие ее ценность,
можем лишь констатировать факт и, обобщая,
сказать, что содомская дорога уводит очень далеко в сторону
от Эроса божественного; и, по всей видимости, она
ведет в тупик.
Вот еще одно, последнее, замечание относительно
Содомии.
В самом высоком, что есть у людей,—в творчестве,
где человек умеет облекать плотью свои мечтания, еще не
имеющие плоти в реальном мире, и где он вечно
стремится создать образ совершенной любви,—никогда этот
образ не являлся ему в виде любви содомской.
Ведь не объяснить же это страхом истинного
художника—творца перед «непринятым» или чем-нибудь в таком
роде?
Гоголь в «Старосветских помещиках» дал не бытовую
картинку. Он дал, в малых каплях отраженную, полноту
личной любви. Он сам это подчеркивает, показывает не-
подклонность любви «всесокрушающему времени».
И мы не может вообразить.., а впрочем, попытаемся
214
все-таки; вообразим хоть на минуту, что Гоголь, думая
о совершенной любви, берет не Пульхерию Ивановну
и Афанасия Ивановича, а—Ивана Ивановича и Ивана
Никифоровича. Это они не ссорятся из-за гусака, а разве
нежно подшучивают друг над другом. Это Иван
Иванович во дни молодости похитил Ивана Никифоровича,
взял его увозом, и с тех пор оба неразлучны днем и
ночью. Это Иван Никифорович.., да мало ли что еще
можно вообразить! Лучше оставим, чтобы не обижать
соломистое невольным смехом, и вовсе не гоголевским,
«сквозь слезы» (да ведь Гоголь этого и не писал!), а
самым обыкновенным смехом над гримасой любви.
Я кончаю, хотя вопрос о личной любви тут только
начинается. Исполнения любви как задачи, стоящей перед
волей человеческой, я касаться не хочу, да и не могу-
Слишком пришлось бы для этого раздвинуть горизонты... Вл.
Соловьев годами твердил о «конечных целях любви»,
о «деле любви»; кое-что не досказал, но и сказанного
никто пе услышал. Он говорил о должном, а мы ведь и
данного еще не понимаем.
Много ли мы понимаем о личности? Много ли о
любви! Недаром Соловьев, пытаясь о ней что-то
сказать новое и важное, вдруг сам себя с отчаяньем
прерывал: «Да кто же когда-нибудь думал о чем-нибудь
подобном по поводу любви?»
Ну что ж. Если и не думал, может быть, впоследствии
подумает.
О женах
«Две жены» («Толстая и Достоевская», комментарий
Ю. Айхенвальда)—книжечка скромная, нужная, очень
интересная. Жаль, конечно, что она отрывочная, что
дневник Достоевской приведен не целиком... Новый богатый
материал еще остается несобранным и большинству
неизвестным. Но это впереди, а пока—хорошо, что
выходят и такие, многим доступные издания.
Помимо своей интересности, книга наводит на общие
Размышления. Жены великих людей? Какой должна быть,
в идеале, жена замечательного человека, гениального
писателя? Беззаветно преданное женское существо, нянька,
любящая кухарка, словом—самоотверженная
«служительница гения?» Многие думают так, прибавляя служи-
215
тельнице украшающие названия «подруги», «опоры»
«утешения» и т. д., что дела не меняет. Служительница—!
еще лучшая жена, это бесспорно. Идеала, однако, тут нет.
Говоря откровенно, я и в воображении не могу себе пред!
ставить ни идеальной жены для выдающегося, большого
писателя, ни идеального для него брака.
Другое дело—брак удачный, брак «счастливый»
более или менее. Среди русских писателей мы немало
найдем таких сравнительных «счастливцев». Я говорю о
браке «счастливом» для писателя в его цельности, то есть для
него—человека, и для него—художника.
Два имени вспоминаются, самого несчастливого брака
и самого, на мой взгляд, счастливого... Это не Толстой
и не Достоевский. Я назову имена ниже, а пока вернемся
к Софье Андреевне и Анне Григорьевне.
Мне довелось видеть обеих.
Анну Григорьевну мы в 90-х годах встречали у
Полонского. Она была уже расплывшаяся пожилая женщина,
в наколке, молчаливая, с добрым и настойчивым
выражением глаз. Дочь ее говорила много, подчас остроумно,
всегда зло. В ней чувствовалось то, что французы
называют «aigreur». Ее бледное, некрасивое лицо напоминало,
вероятно, лицо Федора Михайловича.
Анна Григорьевна со скромным достоинством несла
свое звание «вдовы Достоевского», никогда как будто
о нем не забывая. И это в ней было хорошо. (Мы
встречали, у Полонских же, и другую «знаменитую вдову»—гр.
А. К. Толстого. Не похожа она была на Анну
Григорьевну: так царственно проста и так царственно некрасива.
Вот брак—наряду с браком Баратынского,—тоже
достойный глубокого внимания... Но это в скобках.)
Прошло несколько лет. А. Г. в большой своей
квартире на Кирочной или на Фурштадской, не помню,—уже
одна: дочь ее оставила, сын тоже: его поглотила страсть
к лошадям (страсть—с младенческого возраста, как
упоминается в дневнике матери). Но мне казалось, что А. Г.
не чувствовала себя ни особенно известной, ни особенно
одинокой. Дети не были для нее тем, чем они были для
С. А. Толстой, носившей в душе какой-то монолит, что-
то громадное, где в неразрывном единстве пребывали
и муж, и дети. У Анны Григорьевны—другая душа.
Достоевский спрашивал: если жениться—взять ли «умную»
или «добрую»? И выбрал—добрую. Добрая и прожила
всю душу, без остатка, на него—одного.
216
К нему, человеку, она подошла через «великого
человека», притом—не случайно!—через физическое,
конкретное касание к его дару: знакомство началось с
«Игрока», написанного под его диктовку. И физическое,
плотское отношение к созданному Достоевским осталось у
жены его на всю жизнь. Одна, без детей, в пустой своей
квартире, она продолжала жить той же благословенной,
любовной заботой о плоти произведений своего великого
мужа: вся была в его письмах, в хранении каждой
бумажки и в деле издания его книг. Начала издавать еще при
нем, толчок дало, конечно, бедственное положение
Достоевского и практическая сметка жены; но главной
оставалась любовь к его книгам, которую она соответственно
и выражала. После смерти Достоевского издания стали
приносить большой доход. Насколько радовало это Анну
Григорьевну—не знаю; во всяком случае, жила она
внутренне, в меру своего духа, не этим, а именно делом
любви к тому, во что проникнуть, быть может, не могла, но
что осязала как великое.
Да, жизнь Анны Григорьевны при человеке с
характером Достоевского была не жизнью, а «житием».
Достоевский любил ее, но «влюблен» в нее, конечно, не был
никогда. Влюблен мог он быть скорее в такое страшное—и
низменное—существо, как Аполинария Суслова
(приукрашенная Полина в «Игроке»). Совсем ли он был
свободен от этой едкой влюбленности, диктуя «Игрока»
молоденькой стенографистке? Не думаю. И уж если где видеть
руку Божию, то, конечно, в своевременном ниспослании
Достоевскому этой милой девушки. От Сусловой, уже
сорокалетней, не спасся юный В. Розанов. Но Розанову,
пожалуй, и следовало пройти годы испытания, когда
ежедневно смешивал он, умываясь, теплые слезы с холодной
водой. В свое время послано было избавление и Розанову.
Я не могу удлинять моего очерка еще этой «женой».
Скажу лишь, что стоит раз взглянуть в глаза Сусловой,
Даже старческие, чтобы поверить в каждодневные слезы
розановские, и в утопившуюся воспитанницу старухи, и во
многое другое.., вплоть до возможной влюбленности
Достоевского. Не между «умной» и «доброй» пришлось ему
выбирать, а между «злой» и «доброй». Благо нам, что он
выбрал «добрую».
Анна Григорьевна—из тех, «лучших» жен,
«служительниц гения», в браке с которымы великие находят
возможное для них «счастье».
217
Брак Толстого—того же типа, только совершеннее.
Он и был в течение многих лет счастливейшим. Толстой'
не только любил Софью Андреевну, он был «влюблен»
в нее, до старческого возраста, притом в нее—одну.
А С. А.—из «лучших»—лучшая жена, подруга—-и
«нянька таланта». Цитирую: «не только жена, но и
поклонница гения».
Трагический конец этого брака обусловлен самим его
совершенством, в связи с исключительными личными
свойствами и мужа, и жены. Толстой не был сам, в меру
своего писательского дарования. Оно росло, но и он рос;
рос—и перерос его. Вверх или в сторону пошел этот рост
«человека»—не будем сейчас разбирать. Факт тот, что
человек-Толстой и писатель-Толстой перестали совпадать,
как совпадали раньше. Этого постигнуть С. А. не могла.
Она-то была уже на последней, высшей точке своего
развития, очень гармонического. Развивалась рядом с
мужем, шла вместе с ним, но—путь ее кончался там, где еще
не кончался путь Толстого. Идти все-таки дальше, за ним?
Без своего пути—идти чужим? Слабая женщина так,
вероятно, и поступила бы. Но С. А. женщина не слабая.
И она бросилась в борьбу.
Святая борьба: ведь С. А. ведет ее за свои высшие,
последние ценности, за мужа—гениального писателя,
которому жизнь отдала на служение, который сам же
возрастил ее душу, ее силу и дал ей детей, пребывающих в ее
сердце нераздельно с ним. Но не могла борьба не
кончиться трагически, так как боролась С. А. вслепую, не только
не понимая нового Толстого, но даже не постигая факта
его появления.
Она в борьбе не победила, но—не победил и он.
Вернее же всего сказать—и это поймут когда-нибудь,—что
оба они вышли из борьбы победителями.
Когда Айхенвальд, комментируя «Записки» С. А-ны,
становится на ее сторону, особенно в усилиях ее вернуть
Толстого к чисто художественной работе («для нее ты
создан!») жалеет, что «Толстой подавлял в себе художника
и холодными дуновениями морали душил свою
поэтическую, свою божью искру»,—Айхенвальд не видит
Толстого во весь рост. Софью Андреевну он видит и прав,
утверждая, что она не могла и не должна была «стать
толстовкой».
Он прав и в определении личности Черткова. Черт-
218
ков—несчастная и печальная деталь этой великой
трагедии.
Я помню, как Чертков пришел к нам в 15-м году, во
время войны, со своей знаменитой рукописью «Уход
Л. Толстого». Чертков всегда производил на меня
исключительно неприятное впечатление. Особенно раздражала
его какая-то «подколодная» смиренность. Тут они оба
(его сопровождал маленький толстовец Шохор-Троцкий)
сидели, как водится, поникши, пили бесконечный чай,—
но отнюдь не с сахаром! с леденцами,—и Чертков тихим
голосом говорил о рукописи: он намеревался ее печатать
теперь же (хотя С. А. была еще жива) в Англии. Рукопись
он оставил на два дня нам, для прочтения (сам вызвался),
с бестактной просьбой «ничего из нее не переписывать».
Как будто стали бы мы делать выписки из чужого текста!
Содержание «Ухода» в самом деле было
отвратительно по неприкрытой злобе к С. А. Чертков хуже, чем лжет:
невиннейший факт он умеет преподнести как
преступление. Думаю, например, что С. А. действительно сказала (в
ответ на упреки, что она «убивает Льва Николаевича»):
«Ну что ж, я тогда поеду за границу: я там никогда не
была!» Она сказала мне в 1904 году, на яснополянском
балконе, чуть не слово в слово ту же фразу,—только не в
раздражении и отчаянии, а весело-шутливо: «Вы едете в
Италию? Вот, оставайтесь со Л. Н., а я поеду за границу—я
там никогда не была!» Чертков вывел бы из этой фразы,
что С. А. собиралась бросить Толстого и бежать на
старости лет за границу с «другим»; ведь вывел же из подобных
слов, что С. А. «желала смерти Л. Н-ча»!
Много мне пришлось повидать толстовцев, но
Чертков—стоит особняком. Его можно, впрочем, разгадать:
это фанатик особенного подвига. Он не выходил из
тайного перед ним восхищения, он преклонялся перед его
величием и громадностью жертв, которые принес «идее».
Жертва не могла не казаться ему громадной, так как он
продолжал высоко оценивать все, от чего отказался:
положения, состояния и т. д. и т. д. Не естественна ли
поэтому и злоба к «непонимающим», и подколодность
смирения, и жестокость в борьбе с «врагами», вроде С. А., и
беспощадная требовательность к другим, без раэбора,
вплоть до самого создателя «идеи»—Льва Толстого.
Софью Андреевну вряд ли теперь уже нужно от кого-
либо защищать, а тем менее от Черткова. Облик этой
Цельной женщины, все, в меру данного, исполнившей,—нам
219
достаточно ясен. Но «идеальная» жена гения, конечно,—
мы видели, что «идеальной» и вообразить нельзя,—но та
из «лучших», к типу которых принадлежит и А. Г.
Достоевская (в бледном отпечатке). Эти лучшие жены и
создают наиболее счастливые—или наименее несчастные—
браки замечательных людей, великих писателей.
Кто будет спорить, что самым несчастным в прямом
смысле оказался брак Пушкина? В погибельном конце
этого брака бессмысленно было бы винить жену. Этот
брак равно несчастный для обоих. Она не годилась для
гения, а он не годился для нее, что доказал вполне
счастливый второй брак. В трагическом конце или виноваты оба,
или не виноват никто, хотя конец этот—не случаен.
Есть большой писатель, на мой
взгляд—«счастливейший»... Но я едва решаюсь назвать имя, так
спорно его «счастье» в глазах большинства. Однако нет
сомнения, что никто не переживал любовь-влюбленность
к женщине так полно, остро, длительно, и ничье
дарование не отразило любовь так особенно, с такой глубиной
и сияньем. А женщина не была «из лучших» жен: она
совсем не была женой, потому что и брака, в обыкновенном
смысле, не было.
Я говорю о Тургеневе. Для него в цельности, то есть
для него с его дарованием, такая любовь была воистину
счастливейшей. И пожалуй, его судьба—есть лучшее, что
можно пожелать большому писателю.
Но ведь «брака» не было? Ни брака, на семьи, ни
заботливой «няньки таланта», лучшей из жен? Или
замечательному человеку, большому писателю, гению, для
которого жены «идеальной» и придумать невозможно,—
лучше оставаться без всякой, даже самой лучшей?
Этого я не знаю. Этот вопрос неразрешимый для нас,
он сам как-то решается, самой жизнью.
А мы, в жизни, только можем преклониться перед
женами лучшими, перед Софьей Андреевной Толстой,
Анной Григорьевной Достоевской и многими другими, им
подобными, перед женами—хранительницами
избранных сосудов—великих людей.
Петр Успенский
Искусство и любовь
(фрагмент)
...Любовь всегда была и есть
главная тема искусства. И это вполне понятно. Здесь
сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции; через
любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с
расой, к которой он принадлежит, со всем прошлым
человечества и со всей его грядущей судьбой. В соприкосновении
полов, в их влечении друг к другу лежит великая тайна
жизни, тайна творчества. Отношение скрытой стороны
жизни к явной, то есть проявление реальной жизни в нашей,
кажущейся, особенно ярко вырисовывается в этой вечно
трактуемой, вечно разбираемой и обсуждаемой—и вечно
непонимаемой области, именно в отношениях полов.
Обыкновенно отношения мужчин и женщин
рассматривают как необходимость, вытекающую из необходимости
пРодолжения человеческого рода на земле. Рождение—
в°т raison d'etre любви с религиозной, моральной и
научной точки зрения. Но в действительности творчество
заключается не в одном только продолжении жизни, а
прежде всего и больше всего в творчестве идей. Любовь
221
является огромной силой, производящей идеи, будящей
творческую способность человека.
Когда сольются две силы, заключающиеся в любви—
сила жизни и сила идеи,—человечество сознательно
пойдет «к своим высшим судьбам».
Пока только искусство чувствует это.
Все, что говорится о любви «реалистически», всегда
грубо и плоско.
Ни в чем так резко не проявляется различие глубокого
«оккультного» понимания жизни и поверхностного
«позитивного», как в вопросе о любви.
В ряду других вопросов современности у нас есть
ужасный «половой вопрос». Это вопрос целиком из быта
двухмерных существ, живущих на плоскости и
движущихся по двум направлениям—производства и
потребления.
Для людей существует вопрос о любви.
Любовь—это индивидуализированное чувство,
направленное на определенный объект, на одну женщину
или на одного мужчину. Другая или другой не могут
заменить любимого.
«Половое чувство»—это не индивидуализированное
чувство, тут годится всякий более или менее подходящий
мужчина, всякая более или менее молодая женщина.
Любовь—орудие познания, она сближает людей,
открывает перед одним человеком душу другого, дает
возможность заглянуть в душу природы, почувствовать
действие космических сил.
Любовь—это признак породы.
Она проявляется уже у животных в тех породах, где
действует отбор, у диких хищных животных, у кровных
лошадей, у породистых собак.
У людей любовь—это орудие совершенствования
расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть
ищут красоты, чувства, взаимности, то они
вырабатывают тип, ищущий любви и способный на любовь, тип
эволюционирующий, восходящий.
Когда из поколения в поколение люди сходятся, как
попало, без любви, без красоты, без чувства, без
взаимности —или по соображениям, посторонним любви, из
расчета, из экономических выгод, в интересах «дела» или
«хозяйства», то они теряют инстинкт любви, инстинкт
отбора. Вместо «любви» у них вырабатывается «половое чув-
222
ство», безразличное и не служащее отбору, не только не
сохраняющее и не улучшающее породу, но, наоборот,
теряющее ее. Тип мельчает, физически и нравственно
вырождается.
Любовь—орудие отбора.
«Половое чувство»—орудие вырождения.
Различие «вопроса о любви», как его берет искусство,
и «полового вопроса», как его берет современная
реалистическая литература, показывает различие двух
пониманий жизни. Одно идет по поверхности, по видимому миру
и видит только человеческую жизнь, другое проникает
вглубь, в тайники чувства, и ощущает биение пульса
какой-то другой, большой жизни.
Ни в чем так ярко не проявляется различие разных
миропонимании и их отношения к миру скрытого, как
именно в отношении к «любви».
Для позитивизма, для материализма любовь—это
«половое чувство», «факт» и его прямые последствия.
Любовь— это физическое явление, которое описывается
в учебниках физиологии.
Для дуалистического спиритуализма любовь—зто
власть тела над духом. Поэтому религии и моральные
системы, основанные на дуалистическом
противопоставлении материи и духа как двух враждебных элементов,
считают любовь как созидателышцу материи врагом духа
и ее гонят и стараются, насколько можно, низвести и
унизить.
Для монистического идеализма любовь—именно то,
чем она рисуется искусству, т. е. психологическое явление,
в котором приходят в действие и звучат все самые тонкие
струны души, в котором, как в фокусе, собираются и
проявляются все высшие силы человеческой души. Это их
испытание, их экзамен и орудие их эволюции. В то же
время именно этой стороной жизни человек
соприкасается с чем-то большим, часть чего он составляет.
Мы ясно видим тут три противоположные
тенденции.—Возвеличение любви, возведение ее на пьедестал,
обожествление, превращение в культ; эту тенденцию мы
видим в светлых, «языческих» религиях древности и
в искусстве всех эпох.—И затем другую, которая видит
в любви предмет для статического изучения, «род
производства и потребления», «физическую потребность»,
которая должна «удовлетворяться».—И третью, которая
видит в любви грех, «похоть», нечто такое, на что нужно
223
стараться не смотреть, о чем нужно стараться не ду.
мать—и если допускать по человеческой слабости, то
в силу необходимости и из снисхождения к
человеческому несовершенству.
Странным образом самый материалистический взгляд
на любовь, видящий в любви только «факт», «сношение»
и его прямые последствия, в сущности, сходится со
взглядами нравственных реформаторов и моралистов,
видящих в любви один только грех и соблазн, которого
чем меньше, тем лучше.
Это вполне понятно. Истинно монистические религии,
как, например, греческие мифы, не были враждебны
любви.
Вся разница вытекает из дуалистического или
монистического миропонимания. Искусство всегда было
монистическим, и поэтому оно всегда было язычеством в
глазах дуалистических религий, видящих в жизни борьбу
духа с материей, и фантастикой в глазах материализма,
видящего в жизни только физическое явление и не
видящего —психического.
Если мы возьмем вопрос даже строго научно, в
обычном смысле этого слова, только без предвзятых
ограничений, мы увидим в нем много нового, того, чего
обыкновенно мы не замечаем.
Для науки, изучающей жизнь со стороны, цель любви
заключается вся в продолжении человеческого рода на
земле. В интересах этого продолжения рода в человечество
вложена сила, влекущая два пола друг к другу. Но, говоря
это, наука хорошо знает, что этой силы больше, чем
нужно.
Здесь именно лежит ключ к пониманию истинной
сущности любви даже для позитивного взгляда.
Этой силы больше, чем нужно. Бесконечно больше.
В действительности для целей продолжения рода
утилизируется только малая дробь процента силы любви,
вложенной в человечество. Куда же идет главное количество
силы?—Мы знаем, что ничто не может исчезнуть. Еслн
энергия есть, она должна во что-нибудь перейти. И если
только ничтожная дробь энергии идет на созидание
будущего путем рождения, то остальная часть должна тоже
идти на созидание будущего, но другим путем. Мы знаем
в физическом мире много примеров, когда прямая
функция вещи выполняется ничтожной частью затрачиваемой
224
энергии, а большая часть энергии тратится как будто
напрасно.— Возьмем обыкновенную свечу. Она должна
давать свет. Но, в сущности, она дает гораздо больше тепла,
чем света. Это печка, приспособленная для освещения. Но
для того чтобы давать свет, она должна гореть.
Горение— необходимое условие получения света от свечки.
Нельзя горение откинуть. На первый взгляд кажется, что
тепло от свечки тратится непроизводительно, но, когда
мы подумаем о том, что именно благодаря развитию
тепла получается свет, мы начинаем видеть необходимость
горения, необходимость траты большей части энергии.
То же самое в любви. Мы говорим, что только ничтожная
часть энергии любви идет в потомство; большая часть
как будто тратится в настоящем самими отцами и
матерями на их личное наслаждение. Но это иллюзия. Во-
первых, без этой личной траты не могло бы быть
главного. Только благодаря этим, на первый взгляд, побочным
результатам любви, благодаря всему этому вихрю эмоций,
чувств, волнений, желаний, идей—благодаря красоте,
которую она создает, любовь может выполнять свою
прямую функцию. А во-вторых, эта энергия совсем не
тратится, а переходит в другие виды энергии, служащие
тому же потомству, переходит в «инстинкты» и в «идеи».
Мы видим во всей живой природе, что любовь
является огромной силой, возбуждающей творческую
деятельность по всем направлениям.
Весной, с первым пробуждением любовных эмоций,
птицы начинают вить гнезда. Птенцов еще нет. И намека
на них еще нет. А для них уже готовятся «дома». Любовь
возбудила жажду действия. «Инстинкт» управляет этой
жаждой—поэтому она целесообразна. При первом
пробуждении любви началась работа. И одно и то же
желание создает новое поколение и те условия, в которых
родится новое поколение. Одно и то же желание будит
творчество по всем направлениям, сводит пары для рождения
нового поколения и пробуждает личное творчество в тех
единицах, через которых оно действует для первой цели.
То же самое мы видим в людях. Любовь—это
творческая сила. Все творчество человечества вытекает из
любви. Всякое творчество непременно является делом двух
полов, сознательным или бессознательным. Одна сторона
этого факта нам хорошо известна. Мы знаем, что
женщина одна не может иметь детей. Нужна творческая сила
мужчины. Нужно оплодотворение. Это мы знаем. Но мы
">~1520
225
не знаем, что вся творческая деятельность мужчины идет
от женщины. Как с внешней, физической стороны—для
целей рождения детей—мужчина оплодотворяет
женщину, прививает к ней зачаток новой жизни, так с
внутренней, духовной стороны женщина оплодотворяет мужчину,
прививает к нему зачаток новых идей.
В одной книжке по «половому вопросу», которая
обратила на себя внимание в Германии и скоро должна выйти
в русском переводе, одна немецкая писательница
признает область деятельности женщины совсем другой, чем
область деятельности мужчины, признает, что «женщина
не осушила ни одного болота, не написала ни одной
картины, о которой стоило бы говорить»,—и требует для
женщины «права иметь детей», отнятого цивилизацией.
Это довольно обычный взгляд.
Но что, если женщина осушила все болота, которые
когда-либо были осушены, написала все картины, о
которых стоит говорить?
Конечно, никто не будет отнимать у женщины права
иметь детей. Но зачем отнимать у нее роль в творчестве
мужчины? Ведь мужчина работает для женщины, ради
женщины и под влиянием женщины. И женщина проявляет
себя в его творчестве.
Все идейное, все интуитивное творчество человечества
является результатом энергии, возникающей из эмоций.1
любви.—Идейное творчество мужчины идет от
женщины. Идейное творчество женщины идет от мужчины. Без,
этого обмена эмоций творчество невозможно. Возможно-
только «воспитание чужих детей». Под «идейным
творчеством» я подразумеваю всякое творчество, в котором
создается или осуществляется идея. Творчество
палеолитического человека, делающего себе каменный топор, было
идейным творчеством, и за этим творчеством непременно
стояла женщина. Chercher la femme! Этот принцип нужно
применять не только к раскрытию преступлений, а ко всей
нашей культуре, созданной мужчиной—следовательно,
женщиной. В творчестве каждой эпохи можно найти след
влияния женщины данной эпохи. История культуры—это
«история любви».
Мужчина и женщина должны дополнять друг друга
и взаимно возбуждать друг друга идейно, образуя вместе
«гармонического» человека, могущего творить жизнь.
Поэтому с психологической точки зрения гармониче-
226
ский брак будет только такой, где обе стороны будут
действовать одна на другую оплодотворяющим образом,
повторяя в масштабе личной жизни действие одной на
другую двух половин человеческого рода.
И очень может быть, что этот гармонический брак
и существует только между полами, взятыми в целом,
прикрывая и оправдывая своей гармонией дисгармонию,
вероятно неизбежную между людьми или возможную
только в отдельные моменты.
Мужчина стремится к женщине, не думая о детях, он
ищет наслаждения или бежит от одиночества. Во всяком
случае, он ищет чего-то для себя. И женщина тоже ищет
«счастья» для себя. Дети являются как бы сами по себе.
Точно так же идеи, которые возбуждает женщина. Она
рождает в мужчине идеи, но это совсем не значит, что она
что-нибудь сознательно дает или хочет дать. Она тоже
может искать только личного наслаждения, брать
мужчину для себя, для своего желания, для своего ощущения
и этим самым давать жизнь новым идеям. И может
совсем ничего не искать, даже не знать, не видеть мужчины,
пройти мимо него, и не заметить его, и одним своим
существованием оплодотворить его фантазию на всю жизнь.
Бесконечно разнообразны здесь способы оплодотворения
духа. Иногда для этого нужно наслаждение, вся красота
любви. Иногда нужно страдание, острое и глубокое,
проникающее до самых глубин души. Иногда нужно
преступление, иногда—отречение, жертва.
Иногда достаточно силуэта в окне. Одной линии
фигуры или одного случайного взгляда, которым
обмениваются незнакомые встречные. Поэзия знает это. Она
знает ценность и того, что было, и того, чего не было в
любви.
Если рождение детей есть свет, идущий от любви, то
этот свет идет от большого огня. И в этом непрестанном
огне, в котором горит все человечество и весь мир,
вырабатываются, утончаются все силы человеческого духа
и гения.
Аскетические тепденции наложили очень тяжелый
отпечаток на наше отношение к любви и к морали. Мы не
можем представить себе неаскетической морали.— Или
полное отсутствие всякой морали, или мораль, враждебно
ю-
227
относящаяся к жизни. В действительности, конечно, эта
самая скверная ложь, какой обманывали человечество.
Мораль, враждебная жизни, видит в любви один дым. Но
мы даже из физики знаем, что дым есть результат
неполного сгорания.
Огонь, в котором горит человечество,—это огонь
жизни, огонь вечного обновления. Моралисты же с
удовольствием загасили бы этот огонь, с которым они не знают,
что делать, который нарушает порядок в их вселенной
и которого они боятся, чувствуя его силу и власть.
И они дуют на него, не понимая, что это начало всего.
Божество, которому поклонялись древние народы в лице
Солнца и его лучей и в лице Огня.
Поэтому только искусство может говорить о любви.
Нет ничего циничнее и грубее холодного
морализирования, которое видит в любви грех и похоть.
Например,—какая темная ложь кроется во всех
моральных рассуждениях «Крейцеровой сонаты» и
«Послесловия».
«Спросите чистую, невинную девушку или ребенка,
и они скажут вам, что это гадко и стыдно»; «сама
природа устроила так, что это мерзко и стыдно».
Но что это?
Как вы объясните ребенку, о чем идет речь? Он не
может ответить на вопрос «Послесловия», не может,
потому что его нельзя спросить. Слова не выражают эмоций,
а речь идет об эмоциях. Нельзя же отрезать внутреннюю
сторону от внешней и спрашивать о внешней, не касаясь
внутренней.
Как же объяснить ребенку, о чем его спрашивают?
Все, что можно сделать,—это описать грубыми
анатомическими и физиологическими терминами внешнюю,
физическую сторону любви. Но внутренняя,
психологическая, эмоциональная останется закрытой, а ведь именно
в ней заключается главная сущность. Если «глухой» будет
описывать рояль и скажет, что это «черный ящик» на трех
ножках, который открывают с одной стороны и стучат по
нему «пальцами», то это не будет правильное описание.
Анатомические и физиологические термины, как и все на
свете, необходимы на своем месте в учебниках и курсах
анатомии и физиологии; но они не годятся для
определения эстетического и морального характера любви, и здесь
они являются грубыми и ненужными, и главное, неверны-
228
ми. Разве этими терминами можно описать то, о чем
в действительности идет речь? Разве они передадут мысли
и чувства, появляющиеся у людей, когда их касается
любовь? Разве передадут они перемену темпа, ощущения
и вкуса жизни? И разве из-за этих внешних фактов люди
горят в неугасимом огне? Внешняя сторона любви—это
только поворот ключа в замке... от ящика Пандоры. Как
объяснить это ребенку?
Искусство может это объяснить. Но не анатомия, не
физиология и не двухмерная мораль...
А такое изображение любви, какое даст искусство,
никому не покажется гадким и стыдным. В волшебный мир
эмоций может вводить только искусство, и оно никого
оскорбить не может.
Я не случайно назвал циничным морализм, видящий
в любви только одну цель, которой нужно как-нибудь
поскорее достигнуть и не смотреть на остальное. Цинизм
может выражаться не в одной распущенности. Может
быть «цинический аскетизм», так же как есть циническая
распущенность. Цинизм—это психология двухмерного
существа. Собака (kinos, откуда произошло слово
«цинизм») и есть двухмерное существо. Двухмерная
мораль—это циническая мораль. Она видит только внешнюю
сторону явлений. Внутренняя сторона, та сторона, где
возникают чувства и родятся идеи, для двухмерной
морали—это только какой-то случайный придаток к
физиологической жизни.
Интересные вещи говорит В. В. Розанов в книге
«Люди лунного света». Идея греховности любви, идея
«скверны», идея аскетизма, по его мнению, возникла из полового
извращения, из гермафродитизма, из «женомужества» и из
«мужеженства». Причем гермафродитизм может ничем не
выражаться физически, а только психически, душевно.
Содом рождает идею, что любовь есть грех, говорит он.
В самом деле, что такое гермафродитизм психологически?
«Муки Тантала,—говорит В. В. Розанов,—все в себе
и недостижимо. Следующий этап—ненависть к этому
недостижимому, страх перед ним, мистический ужас—
является «скверна»».
Нужно только заметить, что, конечно, может
существовать аскетизм, не идущий из извращения. Но это не
будет воинствующий аскетизм. Это не будет аскетизм,
видящий скверну в жизни.
229
Но что в идее скверны, в идее стыдного и гадкого,
очень много извращения, в этом г. Розанов совершенно
прав.
Книга В. В.. Розанова интересна во многих
отношениях, хотя обилие «физиологических» и «анатомических»
подробностей мешает понять основную мысль. По
настроению в ней много общего с «Leaves of the Grass»
Уолта Уитмена.
И ни научный материализм, ни аскетический
морализм не понимают огромной трагедии любви.
Это область, в которой человеку больше всего
кажется, что он живет для себя, для своего чувства, для своего
ощущения. И именно здесь, в этой области, он меньше
всего живет для себя. Он служит здесь только
проводником, средством для проявления проходящих через него
сил, средством для проявления будущего в том или в
другом виде.
Желание любви—это чье-то желание жить. В своей
удивительной слепоте люди думают, что зто их
собственные желания.
Нет ничего, чем бы человек не пожертвовал любви.
И нет ни одного человека, который бы что-нибудь
получил от любви для себя. И именно тогда, когда человеку
кажется, что он получаег что-то для себя, он получает.
меньше всего для себя. И тогда, когда человеку
кажется,, что он наиболее служит себе и своему наслаждению,
на самом деле он наиболее служит неизвестному
другому.
Влияние женщины на душу мужчины и мужчины на
душу женщины похоже на влияние природы на человека.
Тут действует соприкосновение с той же самой тайной.
Точно так же эта тайна влечет к себе и точно так же
сильнее всего чувствуется в неизвестном, в новом. Охватить ее
или выразить в словах невозможно.
Мираж все время остается вдали, на горизонте,
раздражая воображение. Но подойти к нему нельзя, он
отступает по мере приближения, как край неба.
Если человека соблазняет закрытая дверь и он
открывает ее, то за ней сейчас же оказывается другая закрытая
дверь.
Тень проходит между рук и идет впереди.
Но в погоне за этим миражом, за этой тенью, что-то
творится. И в этом тайна великой жертвы, которую при-
230
носит человек в любви. Он идет на костер и сгорает, служа
чему-то, чего он не знает, и думая, что он служит своему
наслажденью.
Мы окружены какой-то огромной жизнью, которой
мы не видим и часть которой мы составляем. Иногда
проблесками мы ощущаем ее. Иногда забываем опять и
начинаем считать реальной и настоящей свою жизнь.
эту основу всякого разъединения, последний из людей
пытается любить, хотя бы no-звериному. И поразителен
заговор молчания об этом вопросе, о нем так мало пишут,
так мало говорят, так мало обнаруживают свои
переживания в этой области, скрывают то, что должно было бы
получить решение общее и мировое. Это интимный
вопрос, самый интимный из всех. Но откуда стало известно,
что интимное не имеет всемирного значения, не должно
всплывать на поверхность истории, должно таиться где-
то в подполье? Отвратительная ложь культуры, ныне
ставшая нестерпимой: о самом важном, глубоко нас
затрагивающем, приказано молчать, обо всем слишком
интимном не принято говорить; раскрыть свою душу,
обнаружить в ней то, чем живет она, считается неприличным,
почти скандальным. И в повседневной жизни с людьми, и в
общественной деятельности, и в литературе приказывают
говорить лишь о так называемом общеобязательном,
общеполезном, узаконенном для всех, принятом.
Нарушение этих правил теперь называют декадентством, раньше
называли романтизмом. Но все истинно великое,
гениальное, святое в жизни человечества было создано
интимностью и искренностью, победившей условность,
мистическим обнажением самой глубины души. Ведь в интимной
глубине души всегда лежит что-то вселенское, более
вселенское, чем на общепринятой поверхности. Всякое новое
религиозное учение и новое пророчество было сначала
интимно, рождалось в интимной глубине, в мистической
стихии, а потом обнаруживалось и завоевывало мир. Что
могло быть интимнее религии Христа, как неприлично
и не общеобязательно было для языческого мира все, что
говорил Христос, за Ним следовала небольшая кучка
людей, но религия эта сделалась центром мировой истории.
Правда, и до сих пор считается необщеобязательным,
слишком интимным то, о чем говорил Христос, и до сих
пор считается непринятым и неприличным вспоминать
Христа и слова Его, когда речь идет о жизненных,
практических вопросах. Все творчество культуры есть лишь
объективация, мировое обобщение субъективно-интимного,
совершившегося в скрытой, таинственной глубине.
Вопросу о поле и любви как-то особенно не повезло, он был
загнан в подполье, и только художественная литература
отражала то, что накоплялось в человеческой душе,
обнаруживала интимный опыт. Видно, были глубокие
причины, по которым вопрос этот не мог еще получить универ-
233
сального решения. Но современный религиозный кризис
требует решения этого вопроса: религиозный вопрос ныне
тесно связан с проблемой пола и любви. Вокруг пола
и любви накопился мистический опыт, который все еще
остается хаотическим и нуждается в религиозном
освещении. Люди нового мистического опыта и нового
религиозного сознания требуют, чтобы самое интимное было
отныне вынесено на вселенский исторический путь,
обнаружено в нем и определяло его.
Над Розановым смеются или возмущаются им с
моральной точки зрения, но заслуги этого человека
огромны и будут оценены лишь впоследствии. Он первый с
невиданной смелостью нарушил условное, лживое
молчание, громко, с неподражаемым талантом сказал то, что все
люди ощущали, но и таили в себе, обнаружил всеобщую
муку. Говорят, Розанов—половой психопат, эротоман.
Вопрос скорее медицинский, чем литературный, и я
считаю недостойным самый разговор на эту тему, но главное
в том, что все ведь люди, все люди без исключения,
в известном смысле половые психопаты и эротоманы.
Какой-нибудь литературный моралист поносит Розанова за
то, что тот так открыто пишет о поле, так много говорит
о половом вопросе, так помешан на этом вопросе. Но
очень возможно, что этот моралист в литературе в жизни
сам помешан на поле, что половой вопрос и для него
самый мучительный и основной, что он во много раз более
эротоман, чем Розанов, но считает неприличным,
непринятым это обнаружить, предпочитает писать о всеобщем
избирательном праве, хотя вопрос этот, столь
общественный, для него внутренне неинтересен, в тысячу раз менее
важен, чем вопрос о поле. Это я и называю лицемерием,
условной литературной ложью, над которой Розанов
мужественно сумел подняться. Розанов с гениальной
откровенностью и искренностью заявил во всеуслышанье, что
половой вопрос—самый важный в жизни, основной
жизненный вопрос, не менее важный, чем так называемый
вопрос социальный, правовой, образовательный и другие
общепризнанные, получившие санкцию вопросы, что
вопрос этот лежит гораздо глубже форм семьи и в корне
своем связан с религией, что все религии вокруг пола
образовывались и развивались, так как половой вопрос
есть вопрос о жизни и смерти. Все люди, я утверждаю, что
все без исключения люди в глубине своего существа
ощущают то, что Розанов сказал громко, все согласны с Роза-
234
новым по постановке вопроса (я не говорю о его
окончательном решении) и все считают своим долгом лицемерно
бросить в него камень. Только тупой или безумный
человек может отрицать центральную, религиозную важность
проблемы пола; ведь каждый тайно мучился этой проблем
моё, бился над ее решением для себя, страдал этой мукой
полового томления, мечтал о любви, каждый знает ту
признанную истину, что все почти трагедии в жизни
связаны с полом и любовью. Всем известно, что с полом
связана .вся наша жизненность, что половое возбуждение носит
характер экстатический и творческий. Чем же так смешно
или безнравственно «помешательство» Розанова на поле?
Правда, ему недостает чувства эстетической меры, но
большая часть наших журнальных и газетных
обличителей совсем не специалисты по эстетической мере.
Необходимо победить ложную стыдливость и лицемерное
ханжество в вопросе о поле, иначе человечеству грозит.гибель
от подпольных тайн пола, от внутренней анархии пола,
прикрытой внешним над ним насилием. Само появление
Розанова-серьезное предостережение. Хаотический пол
много бедствий, причинил человечеству и готовит
бедствия еще большие. Человечество должно наконец
сознательно и серьезно отнестись к своему полу, как к
источнику своей жизни, прекратить грязные подмигивания, когда
речь заходит о поле.
Христианство не преобразило пола, не одухотворило
половой плоти, наоборот, оно окончательно сделало пол
хаотическим, отравило его. Демонизм пола есть только
обратная сторона христианского проклятия пола.
Могущественная половая любовь была загнана внутрь, так как
ей отказали в благословении, превратилась в
болезненное томление, не покидающее нас и до сих пор.
Аскетическое христианское учение допускает половую любовь
лишь как слабость греховной человеческой природы. Так
и осталась половая любовь слабостью, стыдом, почти
грязью. Трагическая христианская вера давно уже умерла
в человеческих сердцах, перестала определять ход
европейской культуры, а христианские суеверия относительно
пола живут еще, отравляют еще кровь пашу нестерпимым
дуализмом. Мы почти примирились с тем, что пол
греховен, что радость половой любви—нечистая радость, что
сладострастие—грязно, и мы спокойно продолжаем
грешить, предаваться нечистым радостям и грязному
сладострастию, так как нам-де, слабым людям, все равно не до-
235
стигнуть идеала. Мы стыдимся половой любви, прячемся
с ней, не признаемся в своих переживаниях.
Поразительно, что антихристианское и антирелигиозное сознание
нашего времени близко в иных отношениях, в
раздвоенности своей, в ложной аскетичное™, к средневековому
христианству, хотя бесконечно далеко от Христа и лишено
средневекового трагизма. Люди нашего времени не верят
в радость небесную и даже не тоскуют по небу, но радость
земная, радость половой любви остается у них без благо-
словления. Пол для людей нашего времени так же демо-
ничен, как для людей средневековья. Возьмем для
примера хотя бы Пшибышевского, отравленного демонизмом
пола, проклятием пола. Да и вся почти новая литература
пишет о том, как демоничен пол, как не может с ним
справиться современный человек. Поистине, трагедия пола
есть самое страшное в жизни, и половая любовь не может
быть оставлена на произвол судьбы; она нуждается в
религиозном освящении и религиозной организации. Слова
Христа о поле и любви остались не поняты, не вмещены,
и пол выпал из господствующего христианского
сознания, сделался достоянием эзотерических учений.
Господствующее религиозное сознание поставило проблему
пола в зависимость от вульгарного дуализма духа и плоти,
связала ее с греховностью плоти, и это была не только
моральная, но и метафизическая ошибка. Ведь плоть столь
же метафизична и трансцендентна, как и дух, и плотская
половая любовь имеет трансцендентно-метафизические
корни*. Так называемая христианская семья есть
лицемерная ложь, языческий компромисс, подобный
христианскому государству. Хаос пола так же бушует под
покровом семьи, как он бушевал в крови средневековых
отшельников.
Весь Розанов есть реакция на христианскую отраву
пола, восстановление первоначальной святости пола. Вне
христианства, вне неустанной борьбы с христианским
аскетизмом Розанов не мыслит, не имеет raison d'etre.
С полом связана для Розанова жизнь; христианство,
враждебное полу, для него—синоним религии смерти и
потому ненавистно. Розанов хочет вернуться к тому
религиозному состоянию, которое было до явления Христа
в мире, к древнеязыческим религиям, к религии рождения,
* См. мою статью «О новом религиозном сознании» из сборника
«Sub specie aetemitatis».
236
к религии Вавилона по преимуществу. Но он забывает,
что не христианство выдумало трагедию пола и трагедию
смерти, что явление Христа потому и было неизбежно,
что в основе мировой истории лежала эта трагедия, что
античный мир с великой своей культурой погиб так
трагически, так постыдно выродился. Положительное учение
Розанова зачеркивает христианский период истории как
злое недоразумение и бессмыслицу и зовет назад, к
первобытному обоготворению рода, Розанов все еще
смешивает пол с родом, видит лишь пол рождающий, не
понимает глубокого внутреннего антагонизма между
утверждением пола и рождением, не замечает двух стихии в
поле—стихии личной и стихии родовой. Вот почему у
Розанова нельзя найти творческого решения проблемы пола.
В истории мировой философии я знаю только два
великих учения о поле и любви: учение Платона и Вл.
Соловьева. «Пир» Платона и «Смысл любви» Вл. Соловьева—
это самое глубокое, самое проникновенное из всего, что
писалось людьми на эту тему. Платон жил до явления
Христа в мир, но постиг уже трагедию индивидуальности,
ощутил уже тоску по трансцендентному и прозрел
соединяющую силу божественного Эроса, посредника между
миром здешним и миром потусторонним. По учению
Платона, облеченному в мифологическую форму, пол
есть результат разрыва в первоначальной, единой и
могучей человеческой природе, распадения индивидуальности
на две половины, любовь есть томительное желание
воссоединения в целую индивидуальность, стремление каждой
половины, каждого пола найти свою другую половину,
свой другой пол, таинственное влечение к тому, что
восстанавливает индивидуальность. Платон постиг с
гениальной, божественной мощью различие между
Афродитой Небесной и Афродитой простонародной,
любовью божественной, личной, ведущей к
индивидуальному бессмертию, и любовью вульгарной, безлично-
родовой, природной. В Афродите Небесной Платона уже
чувствуется дыхание христианского Эроса, таинственного
и по сию пору, средневекового романтизма и
глубочайшего, возможного лишь после Христа учения Вл. Соловьева
о любви как пути к индивидуальному бессмертию. Вл.
Соловьев устанавливает противоположность между
индивидуальностью и родом. Любовь родовая, рождающая,
дробящая индивидуальность, есть для него Афродита
вульгарная, подчинение природной необходимости. Истинная
237
любовь всегда лична, завоевывает вечность,
индивидуальное бессмертие, она не дробит индивидуальности в
рождении, а ведет к полноте совершенства индивидуальности.
Во всем вероучении Вл. Соловьева центральное место
занимает культ Вечной Женственности, любви к Богу в
конкретной форме любви к Прекрасной Даме. Отвергая род
и рождение, Вл. Соловьев вместе с тем называет
«импотентным морализмом» проповедь бесплотной,
аскетической любви. В этом Вл. Соловьев принадлежит новому
религиозному сознанию, подходит к новому религиозному
учению о любви, но не доходит до конца.
Он наш прямой предшественник.
II
В мире борются два враждебные метафизические
начала—личное и родовое. И проблема пола и любви должна
быть поставлена в связь с борьбой этих двух начал, ныне
обострившейся и обнажившейся. Трудность всех
вопросов, связанных с половой любовью, в том и заключается,
что в мировой истории половой любви тесно
переплетаются два противоборствующие начала—любовь личная
и любовь родовая, сила сверхприродная, божественная
и сила природная, эмпирическая связанность. Слишком
часто смешивают пол с родом, любовь с родовым
инстинктом. Но в роде и родовом инстинкте нет ведь ничего
личного, индивидуального, ничего даже человеческого,
это природная стихия, одинаковая у всех людей и общая
у мира человеческого с миром животным. Любви как
индивидуального избрания, как своеобразного влечения
полов, отличающего не только человека от животных, но
и каждого человека от других людей, божественного
Эроса нет и быть не может в стихии рода. Так называемая
родовая любовь и родовое утверждение пола потому
унижают человека, что отдают лицо человеческое во власть
безличной природной стихии, личность находится тут
в обладании разрушающей ее естественной
необходимости. Биология устанавливает обратную
пропорциональность между рождаемостью и индивидуальностью. Если
органические силы идут на продолжение рода, то они,
естественно, убывают для создания совершенной
индивидуальности. Эта биологическая истина имеет и более
глубокую, метафизическую основу. Есть дилемма: или
создание совершенной, вечной индивидуальности, или дробле-
238
ние индивидуальности и создание многих несовершенных
и смертных индивидуальностей. Человек не в силах стать
личностью, индивидуальностью, достигнув совершенства
и вечности, и потому как бы передает потомству своему
дальнейшее совершенствование, в рождении заглушает
муку неосуществленной индивидуальности,
неопределенного разрыва, недостигнутой вечности. Родовая половая
любовь дробит индивидуальность, стремится к
бессмертию рода, к созданию многих несовершенных существ,
а не одного совершенного существа, к плохой
бесконечности*, к вечному возвращению. Истинная любовь,
преодолевающая пол, должна направить всю человеческую
энергию внутрь и в глубь вечности, а не вовне и вперед во
времени. С родовым полом был связан этот ложный
культ будущего, эта лжепрогрессивность.
Рождение и смерть <—одной природы, имеют один
источник. Уже Гераклит учил, что Гадес и Дионис один
и тот же бог. И рождение и смерть одинаково—продукты
мирового распада, дети времени, царства временности
в мире. Бытие, отпавшее от своего источника и смысла,
делается прежде всего временным, вытягивается в
хронологический ряд, в котором вечная смена рождения и
смерти, плохая бесконечность. Ни одно существо
испорченного мира не вечно, все части мира, все состояния мира
временны, тленны. Когда сказано было рожать в муках, то
этим было сказано и умирать; плодить в мире
несовершенство и смерть по закону природной необходимости.
Рождение есть уже начало смерти, истина эта
подтверждается опытом всей природы и слишком очевидна.
Рождение по самому существу своему есть дробление
индивидуальности, распадение ее на части, есть знак того, что
индивидуальность не может достигнуть совершенства и
вечности и как бы предлагает своей части продолжить за нее
дело совершенствования, как бы заменяет достижение
единого успеха в вечности множественными успехами во
времени. Родовое начало и любовь для продолжения
рода—продукты смертности и испорченности природы
и вместе с тем укрепление и узаконение смертности,
торжество закона тления. Родовая и половая любовь есть
кажущееся, иллюзорное преодоление разрыва полов;
единая и полная, совершенная и вечпая индивидуальность
в ней не достигается. Половое томление в стихии рода де-
* Выражение Гегеля.
239
лается игрушкой безличной, природной силы, никогда
этого томления не разрешающей, а бесконечно
продолжающей во времени, в новых и новых формах. Между
полом и любовью и родом и рождением существует
коренная, не эмпирическая только, а метафизическая
противоположность. Утверждать пол в любви—значит
утверждать полноту и совершенство индивидуальности,
завоевывать вечность, хорошую бесконечность; утверждать
стихию рода в родовом инстинкте—значит дробить
индивидуальность, завоевывать несовершенное и смертное
во времени, плохую бесконечность. Томление пола и
тайна любви—в жажде преодолеть трагический разрыв
полов, мистическим слиянием достигнуть вечной,
совершенной индивидуальности. Совершенная индивидуальность
не рождает и не умирает, не создает никаких
последующих мигов. Когда говорят: «Остановись, мгновенье, ты
прекрасно!»—то этим хотят сказать, что прекрасное
в своем совершенстве не должно рождать чего-нибудь
иного, должно остаться навеки таковым, что только
недостаточно прекрасное и совершенное мгновение должно
замениться другим. Совершенный мир не должен
продолжаться в чем-либо ином, не должен ничего рождать, он
остается для вечности, остается самим в себе. Все
совершенное и безмерно прекрасное есть достояние вечности,
не дробится, не продолжается в рождении из себя
несовершенных частей. Родовая половая любовь и есть, применяя
терминологию Платона, Афродита вульгарная,
простонародная, земная Афродита. И, увы! огромной части
человечества знакома только вульгарная Афродита, так как
находятся люди во власти рода, природной
необходимости, естественного рабства, и сама мечта об Афродите
Небесной иным кажется почти безнравственной,
противоестественной, безумно романтичной. Организовать
добропорядочную родовую любовь, хорошо продолжить род
человеческий—вот предел желания самых радикальных
людей. Люди очень консервативны в вопросе о поле
и любви; традиции, старые чувства и инстинкты правят
ими, и корень этого консерватизма во власти рода.
Позитивисты не знают иной любви, кроме родовой, только
пол рождающийся понимают, только об изменении форм
семьи заботятся. Теория любви Шопенгауэра, очень
близкая к теории Дарвина, есть только выражение
консервативной власти рода, играющего людьми, зло
иронизирующего над индивидуальностью.
240
Пол—это то, что должно быть преодолено, пол—это
разрыв. Пока остается этот разрыв—нет
индивидуальности, нет цельного человека. Но преодоление пола есть
утверждение пола, а не отрицание, есть творческое
соединение полов, а не отворачивание от полового томления.
Нужно утвердить пол до окончательного его преодоления,
до исчезновения полов, до соединения в единый дух, в
единую плоть. Это, конечно, нельзя понимать так, что
каждая монада, мужская и женская, перестает существовать
самостоятельно; ей присуще самостоятельное бытие,
и она достигает в слиянии полноты. Пол имеет природу
духовную и плотскую, в нем скрывается метафизика духа
и метафизика плоти. Пол—не физиологической и не
эмпирической природы, в нем скрыты мистические
глубины. Ведь мистическую диалектику пола усматривают
даже в самой природе Божества. Весь мировой процесс
коренится в поле; потому мир сотворился и продолжается,
что в основе его лежит пол, что мистическая стихия мира
расцеплена, разорвана, полярна. Метафизическая,
духовно-плотская полярность напоила мир половым
томленьем, жаждой соединения. Полярность эта сказалась и
в учении о Вечной Женственности, женственности мировой
души, учении, столь близком христианской мистике,
почувствованном уже Соломоном в «Песне Песней»,
основанном в символике Апокалипсиса*. Очень характерен
чувственно-эротический культ Девы Марии у
средневековых мужчин и такой же культ Христа у средневековых
женщин. Окончательное преодоление пола, соединение
полов есть не только слияние противоположных человече-
* У Вл. Соловьева очень интересна религиозно-философская
концепция мировой души как Вечной Женственности. Против Соловьева
можно было бы только возразить, что это слишком мужская философия
и религия. Для женщин эротическое отношение к Божеству должно
окрашиваться в цвет культа Вечной Мужественности. Не обращается ли
Божество разными своими сторонами к разным человеческим полам?
В «Смысле любви» он говорит: «Абсолютная норма есть
восстановление целостности человеческого существа, и нарушается ли эта норма в ту
или другую сторону, в результате, во всяком случае, происходит явление
ненормальное, противоестественное. Мнимо духовная любовь есть
явление не только ненормальное, но и совершенно бесцельное, ибо
отделение духовного от чувственного, к которому она стремится, и без того
наилучшим образом совершается смертью. Истинная же духовная
любовь не есть слабое подражание и предварение смерти, а торжество над
смертью, не отделение бессмертного от смертного, вечного от временно-
Го> а превращение смертного в бессмертное, восприятия временного
8 вечное. Ложная духовность есть отрицание плоти, истинная
духовность есть перерождение, спасение, воскресение».
241
ских половин, но также и слияние с Вечной
Женственностью и с Божеством. Эрос есть путь к индивидуальности
и. путь к вселенскости. Но какой Эрос?
Любовь родовая не есть соединяющее утверждение
пола, она продолжает лишь дробление. Только личная
половая любовь стремится к преодолению разрыва, к
утверждению индивидуальности, к вечности, к бессмертию.
Это—Афродита Небесная. Только личная, вне-родовая
любовь, любовь избрания душ, мистическая
влюбленность и есть любовь, есть подлинный Эрос, божественная
Афродита. Личная любовь, Афродита Небесная^—
сверхприродна, объявляет войну смерти и
необходимости, она враждебна роду, дроблению индивидуальности,
не рождает в своем совершенстве, жаждет
индивидуального слияния и вечности, с ней связана тайна
индивидуальности и бессмертия. Вл. Соловьев учит, что
мистическая влюбленность в высшем своем подъеме не будет
вести к рождению, к дроблению, а приведет к бессмертию
индивидуальности, он провидит тут биологическое
преображение, изменение «роковых» физиологических
законов. По Соловьеву, только любовь нуждается в
бессмертии, любовь есть высшее содержание жизни,
окончательная полнота бытия, действительность индивидуальности.
Но Афродита Небесная, личная, противоположная роду
любовь,— не отвлеченно-духовная и бесплотная, она
воплощена, полнокровна, конкретно-чувственна в такой же
степени, как и духовна. Это признавал и Вл. Соловьев.
Но любовь по природе своей трагична, жажда ее
эмпирически неутолима, она всегда выводит человека из
данного мира на грань бесконечности, обнаруживает
существование иных миров. Трагична любовь потому, что
дробится в эмпирическом мире объектов любви, и сама
любовь дробится на оторванные, временные состояния.
Есть болезнь, которая носит название фетишизма в
любви. Об этом явлении говорит и Соловьев в своей статье
«Смысл любви». Болезнь эта состоит в том, что
предметом любви делается не цельный человек, не живая
органическая личность, а часть человека, дробь личности,
например волосы, руки, ноги, глаза, губы вызывают
безумную влюбленность, отдельная, отвлеченная от
сущности часть превращается в фетиш. При фетишизме
ощущение личности любимого теряется, индивидуальности
человека не видно. Этой болезнью фетишизма в любви
больны в большей или меньшей степени все почти люди*
242
нашего времени. Любовь, в которой объект любви
дробится и сама она распадается на преходящие миги, всегда
есть фетишизм в любви, болезнь нашего духа и нашей
плоти. Любовь исключительно плотская,
физиологическая, столь распространенная в нашем мире, есть
фетишизм, так как в ней нет ощущения полной личности,
всецелой индивидуальности. Любовь к отдельным сторонам
духа и плоти, к оторванным частям, к прекрасным глазам
и чувственным губам, к духовному аромату отдельных
черт характера или обаянию ума—тоже фетишизм, тоже
потеря ощущения личности. Единый объект любви,
органический идеал, родная душа, мистически
предназначенная полярная половина эмпирически раздробляется:
в массе женщин для мужчин, в массе мужчин—для
женщин видятся разорванные черты органического
объекта — там глаза, здесь руки, там душа, здесь ум и т. д. и т.д.
Ведь нужно открыто заявить, что мужчины в известной
мере влюблены в слишком многих женщин, женщины—в
слишком многих мужчин, все почти во всех почти
в известном смысле влюблены, неутолимая жажда мучит
людей, и любовное томление не имеет предела. В этом нет
ничего морально предосудительного, но страшная
трагедия скрыта в этой болезни любовного фетишизма, в этом
дроблении любви и ее объекта. У каждой души есть своя,
предназначенная в мире единственная родная душа,
дополнение к цельной индивидуальности, а в здешней жизни
душа человеческая растрачивает свою божественную
силу Эроса по миллиону поводов, на неуловимые дробные
части ее направляет, практикует фетишизм. Дон-Жуанство
и есть потеря личности в любви, сила любви без смысла
любви. Ведь смысл любви (не родовой любви) в
мистическом ощущении личности, в таинственном слиянии с
другим как своей родной полярной и вместе с тем
тождественной индивидуальностью. Любовь решает то, что
немцы называют Du-Frage, проблему перехода одного
существа к другому и всему миру, выхода из своей
ограниченности и оторванности. Этот великий смысл любви
разрушается любовным фетишизмом, дроблением, потерей
ощущения своей личности и ощущения другой личности.
Преодоление фетишизма есть путь к индивидуальному
бессмертию, к реально-мистическому ощущению и
утверждению личности. Трагически страшна эта уединенность
человека от человека, эта пустая бездна между любящими
и близкими, это «мы с тобой так странно близки, и каж-
243
дый из нас одинок». Современная литература (с
особенной силой—Мопассан) изображает это безумное
одиночество человека, этот солипсизм, разрыв с «ты», с
реальностями мира. Только сила Эроса может вывести из этого
одиночества, но Эроса недробимого, ощущающего всеце-
лость личности, божественная сила индивидуально-
мистической любви. Нужно найти и полюбить свое
другое «я», живую, цельную личность, и тогда оторванность
от всякой реальности мира уже прекращается. Полюбить
нужно не для образования родовой семьи, всегда
эгоистически замкнутой, миру противоположной, личность
поглощающей, а для мистически-любовного слияния
всех существ мира, всех вещей мира.
III
Христос осудил род и родовую любовь, семью и
родовой строй жизни, осудил Афродиту простонародную,
безличную, природную. Люди не должны соединяться
природной необходимостью, связью безлично-родовой,
ибо тот брат, и сестра, и мать, кто исполняет волю
Отца Небесного. Не в лоне безличной, бессмысленной
и насильственной природы должно произойти
любовное слияние людей, а в лоне Отца Небесного, где
все осмысленно, и индивидуально, и свободно.
Христос учил, что дети Божьи должны соединяться не по
образу звериной природы, в которой всякое лицо
человеческое исчезает, а по образу природы Божьей, в которой
лицо и свобода утверждаются. Христос учил о
божественном Эросе, об Афродите Небесной, которую
почувствовал уже Платон, но учение Христа о любви осталось
таинственным и непонятным, не «вместилось». Что значат эти
странные слова «могущий вместить, да вместит»?
Слишком известно, как слова эти были истолкованы
ограниченным сознанием исторического христианства.
Подумали, что Христос говорил об аскетизме, об отрицании пола
и любви, о воздержании, проповедовал скопчество. Этот
аскетический подвиг не считали уделом всех людей, не все
могли «вместить», а лишь избранные, посвящающие
свою жизнь Богу. На почве этого толкования выросли
черные цветы средневекового монашества и вся эта
мучительная борьба с искушениями Афродиты. Но это
толкование слов Христа вытекало из одностороннего
характера, который получило христианство в истории, в нем ска-
244
залась мистическая вражда к плоти и земле.
Христианский аскетизм был антитезисом в мистической диалектике
бытия и поэтому не мог вместить учения о творческой
роли Эроса в преображении земли и мировой плоти, о
вселенском соединении людей новой любовью. Миссия
христианского аскетизма была чисто отрицательная,
сознание греховности рода, природы и унизительности природ-
но-родовых инстинктов.
Но наступают времена, когда пора уже понять, что
значили слова Христа. Не говорил ли Христос о новой
любви, об Афродите Небесной, о Божественном Эросе,
который не все могут «вместить». Могущий вместить новую
любовь, да вместит ее. Эрос, о котором так таинственно
учил Христос, которым хотел соединить людей в Боге,—
не родовая любовь, а личная и соборная, не природная
любовь, а сверхприродная, не дробящая
индивидуальность во времени, а утверждающая ее в вечности.
Медленно и незримо вошел Божественный Эрос в мир, он
предощущается уже до явления Христа, лишь отчасти в
религиозных таинствах язычества, главным образом же
Платоном, но и после Христа он не завоевал еще мира,
в мире все еще соединялись люди родовой любовью,
природной необходимостью или аскетически отрицали
пол и отвергали всякую любовь. Ведь христианская
любовь не есть альтруизм, выдуманный в XIX веке, не
есть буддийское сострадание, в котором ничто
положительное еще не утверждается, не есть простой моральный
долг по отношению к ближнему. Христова
любовь—гораздо большее, несоизмеримо более положительное. Одно
несомненно: Христов Эрос есть положительное мистическое
влечение, мистическая влюбленность, мистическое радо-
вание. Христос не ветхозаветную только заповедь
утвердил, но и новую заповедь любви дал, новому
соединению учил. Первоначальной христианской общине была
знакома радость христианского Эроса, и радость эта
знакома всякой подлинной любви, которая всегда есть
положительное соединение, а не отрицательное
соболезнование. Буддийское и пессимистическое учение о любви как
о сострадании и жалости, в сущности, связано с атеизмом,
с неверием в радостный смысл мира. Любовь Марии или
гРешницы ко Христу не была жалостью или
альтруизмом, а мистическим влечением и радованием, подлинным
Христовым Эросом. Тот же Эрос—в средневековом
кУльте Мадонны, в средневековой влюбленности в Хри-
245
ста, столь, казалось бы, противоположных аскетическому
фону жизни. А наша любовь к Богу есть образец всякой
любви, так нужно и людей любить. Бога нельзя жалеть,
нельзя к нему относиться «альтруистически», и
совершенная любовь к людям есть восхищение, любование,
влечение. Любовь к людям, всякая любовь есть лишь
эмпирический образ единой любви к Богу, единого
божественного восторга и радости, любви к эманирующей
частице Божества. Любовь нарождается, когда начинается
восхищение, любование, когда лицо радует, влечет к себе*
когда прекращается уединенность, оторванность,
эгоистическая замкнутость и самодовольство.
Альтруистическая мораль, которую нам преподносят вместо
Христовой любви, не преодолевает разрыва между людьми,
внутреннего распада, она—холодна и мертва, «стеклянная»
любовь, по удивительному выражению Розанова.
Безличной, заказанной, только человеческой любви не может
быть. Христова любовь—это прежде всего ощущение
личности, мистическое проникновение в личность
другого, узнавание своего брата, своей сестры, по Отцу
Небесному. В Христовой любви отношения равные, и
ничье достоинство не умаляется. Вместе с тем Христов
Эрос связан с полом, этим первоисточником всякого
разрыва и всякого соединения. Христов Эрос не бесполый
и не бесплотный, не «импотентно-моральный», как
выражается Вл. Соловьев, он преображает плоть и
преодолевает пол, утверждая его сверхприродно. Могущий
вместить, да вместит новую плоть любви, но не настали еще
времена для вмещения ее в коллективной жизни
человечества. В истории мы видим смесь родовой, безличной
любви с бесплотным аскетизмом. Эрос пробивался в виде
ручейков, а не большого потопа. Новое религиозное
сознание и религиозное творчество связаны ныне с Эросом,-
с религиозным решением проблемы пола и любви.
И остается исходной истиной, что Христос приходил
в мир победить смерть, а следовательно, и рождение,
утвердить индивидуальность в вечности, а следовательно,
отвергнуть дробление индивидуальности в продолжении
рода во времени.
Но христианство создало не только монашеский
аскетизм, отрицание пола и любви, не только противное духу
Христову оправдание родовой семьи,—из христианства
вышел романтизм и рыцарский культ Прекрасной Дамы.
Романтизм немыслим до Христа и вне Христа, хотя
246
условно и говорят о романтизме увядающего античного
мира. Романтизм—хранитель личного начала в поле
и любви, это начинающаяся новая личная любовь,
томление по бессмертной индивидуальности в любви. Новое
учение о любви, связанное с новым религиозным
сознанием, может искать своих истоков не в родовой любви
и не в безличном аскетизме, а в романтизме. Романтизм
уже отрицает род, семью, размножение и ищет личного
в любви, жаждет утвердить индивидуальность, томится
по бессмертию. В рыцарском культе Прекрасной Дамы,
в любви к Деве Марии прекраснейшей, как бы является
уже в мире Афродита Небесная, и восстает личность
в своей сверхприродной и внеприродной сущности,
зародилась новая, невиданная еще, лишь предчувствуемая
любовь. Лишь средние века создали культ Женственности,
чуждой античному миру, поклонявшемуся
Мужественности. И это был культ Вечной
Женственности—божественного начала, это любовь к Божеству своему в
конкретно-чувствительной форме, тут личное сплетается
мистически со вселенским. Романтическая, рыцарская
любовь в потенции своей есть любовь личная и вселенская,
и побеждает она родовое начало, враждебное личному
и вселенскому. Средние века, вновь ставшие нам родными
и понятными, были и самой аскетической и самой
чувственной эпохой: аскетическое отвержение земной плоти
окрасило небо в чувственно-эротический цвет, отношение
к Христу, к Богоматери, сами божественные отношения
на небе получили половую окраску. Слишком часто
забывают, что средневековая религиозная жизнь была полна
чувственной красоты, была пропитана Эросом.
Средневековый культ Мадонны, образа Вечной Женственности, был
началом невиданной еще в мире любви, это религиозный
корень, из которого вырастала любовь к Прекрасной
Даме, к конкретному образу божественной силы. Любовь
Данте к Беатриче—чудесный факт мировой жизни,
прообраз новой любви. В XIX веке походит на нее любовь
Огюста Конта к Клотильде Де-Во. Значение романтизма
в истории Эроса в мире тем и огромно, что в нем
отрицалось родовое, природно-безличное утверждение плоти
в любви и вместе с тем отвергался и аскетизм,
отрицающий всякую плоть, всякую любовь. Романтизм полон
чаяниями преображения плоти, новой, духовной и плотской
любви, утверждает высшее, божественное достоинство
личности. В любовном сродстве душ, в индивидуальном
247
избрании, о котором говорит Гёте, совершается как бы
слияние с женственной душой мира, интимное,
конкретное, чувственное общение с Божеством. Романтизм полон
предчувствий и предзнаменований, но остается только
томленьем, в нем нет еще подлинного мистического
реализма, так как не настали еще времена для реализации новой,
божественной любви в мире, не все еще открылось. И нам
нужно теперь не возвращаться назад к романтизму, а
идти вперед от романтизма. Но к правде и красоте
романтизма в любви постоянно должно возвращаться: в
романтизме нет этого беса земного продолжения и устроения
человеческого рода, нет этого рабства у времени, есть
могучее устремление к вечности, есть ощущение личной
чести и достоинства.
IV
С родовым безличным половым началом, а не с
любовью, не Эросом, не Афродитой Небесной связаны были
все формы семьи, и формы собственности, и все
социальные формы соединения людей. Вопрос о поле потому
и имеет такое безмерное значение, что вокруг него, вокруг
семейственного пола образовалась и развилась
собственность. Эта нестерпимая власть собственности имеет свой
корень в родовом поле. Во имя рода, оформленного в
семью, во имя продолжения и укрепления рода накоплялась
собственность и развивались ее инстинкты. Это может
быть научно установлено, хотя понятие рода я
употребляю в более широком смысле и придаю ему
метафизический характер. Семья и собственность, тесно между
собою связанные, всегда враждебны личности, лицу
человеческому, всегда погашают личность в стихии природной
и социальной необходимости. Бес родовой
необходимости шутит злые шутки над достоинством и честью
человеческого лица, подчиняя человека призраку родовой
любви. О шутках этих много научно рассказал Дарвин, а
метафизически— Шопенгауэр. Мне кажется, что научная
социология недостаточно еще поняла связь всех социальных
форм общежития с родом. Весь этот безличный, давящий
механизм социального строя выдуман во имя
утверждения рода, продолжения рода, к смене рождения и к смерти
приспособлен. Семейная ячейка, хотя и не в форме
патриархата, как думали раньше, а в формах очень далеких
от современной моногамической семьи, есть основа без-
248
личной, родовой, необходимой общественности, из нее
развивались сложные формы социального и
государственного бытия, столь же безличные. Вопрос о росте
народонаселения есть основной социологический и
экономический вопрос, а рост народонаселения связан с
полом и родовой любовью. Урегулирование роста
народонаселения, столь необходимое для экономического
благополучия человечества, есть урегулирование пола, есть
изменение в стихии родовой любви. Слишком
несомненно, что социальный вопрос, так болезненно мучающий
нашу эпоху, не может быть решен иначе, как в связи с
проблемами пола и любви. Личное начало восстает против
рода, против роста народонаселения, против
собственности, против семьи, и останавливается наше поколение
в мучительном недоумении перед вопросом: может ли
быть соединение человечества не в род, не по
необходимости, не безличное соединение, а в мистический,
сверхприродный организм, возможна ли новая, соединяющая
любовь, возможно ли превращение человеческого рода
в Богочеловечество? Проследим связь социальных
проблем с полом и любовью на так называемом «женском
вопросе», в такой же мере и мужском.
Ведь женский вопрос, который сейчас рассматривается
в связи с социальным, и есть вопрос половой. Женский
вопрос решается той или иной метафизикой пола, а
социально-экономическая его сторона производна.
Эмансипационное женское движение, конечно, заключает в себе
великую правду, как и всякое движение, освобождающее от
рабства. Недостойно спорят о том, что раскрепощение
женщины от власти мужа, уничтожение гнетущей
зависимости от семьи, высвобождение личности в женщине есть
благо и справедливость. Это элементарно, и такая
отрицательная постановка этого вопроса мало нас интересует.
Пусть женщина будет экономически независима от
мужчины, пусть будет ей дан свободный доступ ко всем
благам культуры, пусть личное начало в женщине восстанет
против рабства семьи, пусть права женщины будут ничем
не ограничены,—осуществление всех этих благих свобод
не затрагивает сущности женского вопроса, не дает
положительного решения. А в женской эмансипации, как она
проявляется в современную эпоху, есть и обратная
сторона: этому мировому движению присуща ложная
тенденция, разрушающая самые прекрасные мечты, мистические
грезы о Божественном Эросе, об Афродите Небесной.
249
Женское движение, несмотря на справедливую свою
сторону, в основной тенденции своей направлено против
смысла любви, оно проходит мимо глубин пола, создает
поверхностное, иллюзорное бытие.
Женское эмансипационное движение покоится на том
предположении, что мужчина есть нормальный человек,
полная индивидуальность, что он не пол, не половина
индивидуальности, что нужно походить на мужчину,
превратиться в мужчину, чтобы стать человеком. Отсюда
следует, что цель женского движения и всякого
прогрессивного решения женского вопроса только в том, чтобы
сделать из женщины мужчину, уподобиться мужчине, во
всем подражать мужчине, тогда только и женщина будет
человеком, полной индивидуальностью. На этом
покоится не только феминистское движение в узком смысле
слова, но и всякое движение, подчиняющее женский вопрос
социальному; по этому шаблону рассуждают и социал-
демократы, тоже ведь принимающие мужчину за тип
нормального человека. Обезьянить мужчину, стать мужчиной
второго сорта, отречься от женского начала—вот в чем
полагают честь женщины передовые борцы женской
эмансипации. В этом смысле женская эмансипация есть
принижение достоинства женщины, отрицание высшего
и особого призвания женщины в мире, признание
женственности лишь слабостью, недоразвитостью,
безличностью и порабощением. Только мужественность признают
началом истинно-человеческим и высшим, за
женственностью же не признают никаких прав, кроме права во всем
подражать мужественности, сделаться обезьяной
мужского начала. Освобождение женственности понимают как
отречение от женственности, как окончательное
упразднение женской индивидуальности и женского
назначения в мире. Но освобождение слишком дорого
стоит, если оно уничтожает то, что должно быть
освобождено,—в данном случае уничтожает женщину,
женственность как особую в мире силу. И создаются продукты
второго и третьего сорта, мир наполняется плохими копиями
мужчин, бесполыми существами, потерявшими всякую
индивидуальность, подражателями во всем. Конкретный
образ вечной женственности искажается все более и более,
теряет красоту свою, заражается всеми мужскими
пороками, принятыми за человеческие добродетели. В мужской
сфере женщина ничего великого до сих пор не создала
и никогда не создаст; все, что она делает мужского, носит
250
на себе печать посредственности, среднего качества.
К мужской деятельности женщин относятся очень
снисходительно, удивляются самому малому; созданное
женщиной в политике, в науке, в литературе стараются
приравнять к тому, что создает мужчина средних дарований, но
подобная снисходительность очень оскорбительна для
достоинства женщины. Софья Ковалевская была недурным
математиком, как среднехороший математик-мужчина;
но она женщина, и потому все удивляются ее
математическому таланту: от женщины ничего нельзя было ожидать.
Но ведь женщина не ниже мужчины, она по меньшей мере
равна ему, а то и выше его, призвание женщины велико,
но в женском, женственном, не в мужеском. В русском
революционном движении женщина играла огромную роль,
но потому только, что движение это не было мужской
политикой, потому только, что женщина вносила в это
движение женственное начало, что-то свое, а не подражала
мужчине. Теперь изменился характер движения,
мужская политика царит, и политическая роль женщины
слишком часто становится смешной и жалкой. Все эти
девицы из зубоврачебных курсов, потерявшие облик
женщины, с истерической торопливостью бегающие на все
сходки и митинги, производят отталкивающее впечатление,
это существа, не имеющие своего «я», обезьяны, мужчины
третьего сорта. Неэстетичность, надругательство над
Вечной Женственностью — вот в чем осуждение современных
эмансипированных женщин, набрасывающихся с
подражательным жаром на мужские дела. Глаза этих женщин,
отрекающихся от начала Вечной Женственности,
слишком быстро становятся подслеповатыми от не
соответствующих их назначению занятий, и они надевают очки,
превращаются в символ обезьянничества, искажающий
природу женщины. Женщина как бы уже не хочет быть
прекрасной, вызывать к себе восхищение, быть
предметом любви, она теряет обаяние, грубеет, заражается
вульгарностью. Женщина не хочет быть прекрасным
творением Божиим, произведением искусства, она сама хочет
создавать произведения искусства. Это глубокий кризис
не только женского бытия, но и всего человеческого
бытия, и связан он с крушением родового начала, с
обострением проблемы личности.
Родовой быт во всех своих видах и формах видел
назначение женщины в рождении детей. С образованием
моногамической семьи на основе родовой же призвание жен-
251
щины полагали в семье, в детях, в воспитании рода. Се-
мейно-родовой взгляд на женщину признает своеобразие
женщины и особенность ее назначения, но всегда
враждебен личному началу в женщине, всегда угнетает и
порабощает человеческое лицо женщины. Женщина рождает
в муках и становится рабом безличной родовой стихии,
давящей ее через социальный институт семьи. Семья
калечит личность не только женщины, но и мужчины, так как
представляет интересы рода и родовой собственности.
Родовая семья—могила личности и личной любви, в среде
этой чахнет Эрос. Личность восстала наконец против
рода и семьи, против природного рабства, закрепляемого
рабством социальным, но сознание личности осталось
неясным, ощущение личности приняло ложное, призрачное
направление. Женщина справедливо пожелала стать
личностью, человеком, а не орудием родовой стихии, не
рабой безличной семьи. Но где искать утверждение
личности, где человек? Полной человеческой индивидуальности
нет, пока не преодолен пол; от решения проблемы пола, от
соединения полов, половинок зависит судьба личности.
Нельзя стать личностью, осуществить индивидуальность
по ту сторону вопроса о поле и любви. Мужчина не
только не есть нормальный тип человека, но и вообще не
человек еще сам по себе, не личность, не индивидуальность без
любви. Мужчина только пол, половина, он продукт
мировой разорванности и разобщенности, осколок цельного
бытия. И женщина—пол, половина, тоже осколок.
Относительно женщины это достаточно признано, но выход из
этого полового, половинчатого, разорванного состояния
почему-то видят в том, чтобы превратить женщину
в мужчину, уподобить ее мужчине, то есть тоже половине,
части человека. Желание походить на мужчину и есть
ложное ощущение личности в женщине*. Эта ложная
тенденция видит утверждение личности в бесполости, в
уничтожении половой полярности, в как можно большем
сходстве между мужчиной и женщиной. Передовое сознание
нашего времени думает, что быть личностью—значит
быть бесполым, не быть ни мужчиной, ни женщиной,
потерять ощущение половой разорванности и полярности.
Сознание это целиком пребывает в старых категориях
родового утверждения пола или аскетического его отрипа-
* С ложным ощущением личности связано также превращение му*"
чины в женщину. И тут скрывается кризис рода.
252
вия. У современных прогрессистов мы встречаем
странную смесь утверждающегося родового инстинкта с
половым аскетизмом, но Эроса божественного, но Афродиты
Небесной не видим. Что сталось с платоновским учением
о любви, со средневековым культом Вечной
Женственности, с рыцарским поклонением Прекрасной Даме, с
грезами романтиков? Кто разгадал Эрос христианский? Мы
видим старую силу родовой семьи, под которой
погребено было человеческое лицо, и новую силу женской
эмансипации, искажающей саму идею личности и проходящей
с закрытыми глазами мимо вопроса о поле и любви. Пол
по-новому нужно утверждать, чтобы преодолеть его,
чтобы прийти к соединению в полной, цельной
индивидуальности.
В Боге живет вечный образ человеческого лица,
индивидуальности, занимающей свое место в мистической
иерархии, а в мире, отпавшем от Бога, все разорвано,
разъединено, отвлечено и нет осуществленной личности.
Половая полярность есть основная форма разъединения,
потери личности, и половое слияние есть основная форма
соединения, утверждения личности. Но мистическая тайна
полового соединения в том и заключается, чтобы не
попасть в рабство безличного родового инстинкта, не
поддаться хитрости греховной природы, а найти органическое
дополнение к своему вечному образу в Боге, осуществить
в любви идею Божию, то есть стать индивидуальностью,
завоевать бессмертие. Это глубже всех понял Вл.
Соловьев, но не все отсюда сделали выводы*. Мистический
смысл половой любви повелевает не механически
уравнивать и уподоблять мужчину и женщину, а, наоборот,
высвобождать и утверждать начало мужественности и начало
женственности и искать личности в слиянии и взаимном
дополнении этих полярных начал, тяготеющих друг к
другу. Половина не может стать целым, сделать женщину
мужчиной или наоборот и таким образом реализовать
личность. Бесполость и отрицание женственности как
особого, имеющего свое назначение начала, есть путь к
обезличиванию, и на пути этом индивидуальность никогда не
будет найдена.
Женщина в полярной своей противоположности
мужчине имеет свое индивидуальное призвание, свое высокое
"Значение. Призвание я вижу не в рождении и вскармли-
* К этому взгляду был близок Рихард Вагнер.
253
вании детей*, а в утверждении метафизического начала
женственности, которое призвано сыграть творческую
роль в ходе всемирной культуры, в осуществлении смысла
всемирной истории. В охранении своеобразной силы
женственности —честь и достоинство женщины, равной чести
и достоинству мужчины. Равенство мужчины и женщины
есть равенство пропорциональное, равенство
своеобразных ценностей, а не уравнивание и уподобление. Ведь
могут быть равны по достоинству и по величию
философская книга и статуя, научное открытие и картина.
Назначение женщины—конкретно воплотить в мир Вечную
Женственность, то есть одну из сторон божественной
природы, и этим путем вести мир к любовной гармонии,
к красоте и свободе. Дело это не меньше и не хуже всех
мужских дел. Женщина должна быть произведением
искусства, примером творчества Божьего, силой,
вдохновляющей творчество мужественное. Быть Данте—это
высокое призвание, но не менее высокое призвание—
быть Беатриче; Беатриче равна Данте по величию своего
призвания в мире, она нужна не менее Данте для
верховной цели мировой жизни. Сила женственности играла
огромную, не всегда видимую, часто таинственную роль
в мировой истории. Без мистического влечения к
женственности, без влюбленности в Вечную Женственность
мужчина ничего не сотворил бы в истории мира, не было
бы мировой культуры; бесполое всегда бессильно и
бездарно. Мужчина всегда творил во имя Прекрасной Дамы,
она вдохновляет его на подвиг и соединяет с душой мира.
Но Прекрасная Дама, Вечная Женственность, не может
оставаться отвлеченной идеей, она неизбежно принимает
конкретную и чувственную форму. Без начала
женственности жизнь превратилась бы в сухую отвлеченность,
в скелет, в бездушный механизм. Женщина,
осуществляющая свое женственное назначение, может сделать великие
открытия, которые не способен сделать мужчина. Только
женщине могут открыться некоторые тайны жизни,
только через женщину может приобщиться к ним мужчина.
Пусть женщины плохие математики и логики, плохие
политики и посредственные художники, в них таится
мудрость высшая, чем всякая математика и политика. Без
начала женственности, без приобщения к нему никогда не до-
* Этим нисколько, конечно, не отрицается обязательность заботы
о существующих детях.
254
стигнуть окончательного интуитивного знания и
затрудняется путь к церкви как Невесте Христовой. Подобно то-.
му как Дева Мария оказалась восприимчивой к Духу
Божьему, и женственная мировая душа отдастся
Божественному Логосу и станет церковью. Вне соединения о
женственностью никогда мужчина не постигнет тайну
индивидуальности и всемирного слияния в любви. Во все
сферы жизни, во все сферы творчества женщина может и
должна внести свое животворящее, преображающее свое
.начало, она изменяет бытие не посредственными мужскими
делами, а первоклассными женскими делами. Пусть
женщинам будет открыт доступ во все сферы жизни, ко всем
благам культуры, пусть она будет образованна, как
мужчина, пусть ей будут даны политические права, если она их
добивается*, но да не поймет она свое призвание как
обезьянничанье, как простое подражание во всем мужчине,
как уничтожение всех качеств пола, да внесет она во лее
сферы жизни свое, божественной силой женственности
преобразит будни жизни, прозаичность мужских дел.
Выть может, свободное вступление женщины,
раскрепощенной от родового рабства, на поверхность жизни
освободит и нас от власти этой самодовлеющей, призрачной
политики,, доводящей до озверения, от гнета жизненного
позитивизма. Женское вмешательство в политику есть
ограничение власти политики; тогда только начало
женственности становится оригинальным и творческим.
Мужчина должен ждать от женщины большего, чем
простого ему подражания, он ждет от нее освобождения от
мужской отвлеченности, однобокости, оторванности. Не
амазонкой, обоготворяющей женское начало как высшее
и конкурирующей с началом мужским, должна войти
женщина в новый мир, не бесполой посредственностью,
лишенной своей индивидуальности, и не самкой,
обладающей силой рода, а конкретным образом Вечной
Женственности, призванной соединить мужественную силу с
Божеством. Нет ничего отвратительнее женского демонизма,
мужской злобы и мужского самолюбия в женщине,
самообожания, вносящего в мир раздор и вражду. Злая
борьба между женщиной и мужчиной за преобладание,
злобная вражда в самой любви, отравляющая основы
пола, может быть прекращена лишь восстановлением рели-
* Я придаю мало значения вопросу об избирательных правах жеи-
"Шп и не люблю женской политики, но думаю, что нельзя насильственно
"Рспятствовать женщинам добиваться прав.
255
гиозного смысла любви. Не в современном, прогрессив-
но-эмансипаторском отношении к женщине нужно искать
искры Божьей, а скорее в отношении рыцарском, полном
великих предчувствий. Социальные реформы и
перевороты не только не решают женского и полового вопроса, но
и проходят мимо самой сущности вопроса, затрагивают
лишь чисто внешнюю, нейтральную среду.
Экономическое освобождение женщины—прекрасная вещь, как и
раскрепощение семьи, но в существе своем женский вопрос
есть половой вопрос, он решается лишь в связи с
метафизикой пола.
V
Тайна рождения может быть хоть сколько-нибудь
постигнута, если допустить предсуществование
человеческих монад. Вечность, которую мы философски и
религиозно пророчим человеческой индивидуальности, не
может иметь начала в здешней эмпирической жизни, вечное
не могло создаться во времени, не могло зачаться в том
биологическом факте, который мы здесь называем
рождением. Человеческое существо, как и всякая
индивидуальность в мире, есть предвечно эманирующая из
Божества монада, не начинающаяся и не кончающаяся, образ
каждой личности, рожденной на Земле во времени,
предвечно пребывает в Боге, абсолютно существует,
творческим актом Бога создается в вечности, до времени.
Рождение, как и смерть, есть лишь эмпирическая видимость,
лукавая игра греховной, оторванной от Бога природы.
Рождение и смерть—это не начало и не конец, как хочет
убедить нас природная необходимость, а переселение из
иных миров и в иные миры. Время есть дитя предмирного
грехопадения, и вошла во времени в силу стихия рода,
вытянула в хронологический ряд предвечную иерархию
индивидуальных монад. Рождение, как и смерть,—во власти
времени, произошло от греховности. Цель мирового
процесса—последовательный во времени ряд существ,
рождающихся и умирающих, ввести в вечность, преодолеть
рождение и смерть, закрыть окончательно двери к
временному, несовершенному миру, к искушению дьявольской
природы. Между миром трансцендентным и миром
имманентным нет пропасти и противоположности, это один я
тот же мир, но в разных состояниях—состоянии
совершенства и состоянии испорченности. Пол есть окно в
256
иной мир, любовь—окно в бесконечность. И не
затаилось ли в сладострастии пола томление по иным мирам,
жажда разбить эмпирические грани? Только жажда эта
часто не разбивает эти грани, а скрепляет их еще более.
Сладострастие вовсе не есть простое физиологическое
состояние, которое вызывает к себе отрицательное
отношение у людей, настроенных спиритуалистически, и
отношение положительное у настроенных материалистически.
Есть сладострастие плоти и сладострастие духа, и всегда
оно лежит глубже эмпирических явлений, всегда есть
ощущение в известном смысле трансцендентное, выводящее
за грани. Аскетическое морализирование над стихией
сладострастия поистине жалкое производит впечатление,
нельзя справиться с могуществом этой стихии никакими
императивами. Если признать греховным всякое
сладострастие, если видеть в нем только падение, то нужно
отрицать в корне половую любовь, видеть сплошную грязь
в плоти любви. Тогда невозможен экстаз любви,
невозможна чистая мечта о любви, так как любовь сладострастна
по существу своему, без сладострастия превращается в
сухую отвлеченность. Опыт отвержения всякого
сладострастия как греховного был уже сделан человечеством, этот
опыт дорого стоил, он загрязнил источники любви, а не
очистил их. Мы до сих пор отравлены этим ощущением
греховности и нечистоты всякого сладострастия любви
и грязним этим ощущением тех, кого любим. Нельзя
соединить чистоту и поэзию этой жажды слияния с
любимым с ощущением греха и грязи сладострастия этого
слияния. Вопрос о сладострастии иначе должен быть
поставлен, пора перестать видеть в сладострастии уступку
слабости греховной человеческой плоти, пора увидеть
правду, святость и чистоту сладострастного слияния. Не
только аскеты средневекового духа, но и аскеты гораздо
менее красивого, позитивного и бескровного духа наших
Дней боятся сладострастия, как «черта», и предаются ему
как тайному пороку. От этой условной лжи, потерявшей
Уже всякий высший смысл, мы должны, нравственно
обязаны освободиться. Нужно восстать против лицемерия,
связанного с половым сладострастием. Слишком уж
становится очевидным для людей нового сознания, что само
сладострастие может быть разное: может быть дурное
и Уродливое, но может быть хорошее и прекрасное.
Может быть сладострастие как рабство у природной стихии,
как потеря личности, но может быть и сладострастие как
11 -1520
257
освобождение от природных оков, как утверждение
личности. В первом случае человек является игрушкой,
орудием стихии рода, греховной природы, во втором—он
лицо, дитя божественной стихии Эроса. Есть
сладострастие личное, экстаз слияния в высшую индивидуальность,
мистическое проникновение в «ты», в личность другого,
своего родного, своего предназначенного. Экстатическое
сладострастиое переживание не всегда есть потеря своего
человеческого «я», подчинение его безличной звериной
природе, но есть также и приобщение к природе
божественной, окончательное нахождение в ней своей
личности. Есть сладострастие Афродиты простонародной, но
есть и сладострастие Афродиты Небесной. Только при
допущении праведного сладострастия может быть речь
о смысле любви, могут оказаться чистыми чаяния любви.
Всякий экстаз сладострастен, и элемент сладострастия
был во всех религиозных таинствах. В окончательном
слиянии полной и вечной индивидуальности с космосом
будет то экстатическое блаженство, которое есть и в
слиянии полов. Но страшен соблазн видеть источник экстаза
в чисто физических, механических возбуждениях, как это
часто бывало в язычестве. Экстаз есть влияние благодати
на душу и тело человека, искупление тела*.
Сладострастие грязное, злое, греховное есть результат дробления
личности, превращения оторванной части человеческого
существа в целое, есть обращение с личностью
человеческой как с простым средством, есть отсутствие личного
самоощущения и ощущения другой личности. В
натуральной стихии рода есть вечный соблазн безличного
сладострастия, противоположного Эросу; сладострастие без
благословения любви есть грех, унижение своей и чужой
личности. Грязно и греховно делать человека или часть
человека простым орудием своего естественного
наслаждения, а не путем к слиянию с высшей природой.
Демонизм сладострастия, связанный с потерей личности и
самомнением личности, давит современное поколение,
выявляется новой литературой и искусством, и нельзя
спастись от этой болезни старой моралью, аскетизмом
или замалчиванием и игнорированием остроты вопроса.
Самый острый, трудный вопрос: как утвердить не
только духовную, но и плотскую любовь, не безличное, ро-
* В таинствах Диониса не было еще настоящей благодати и многое
шло снизу, а не сверху.
2S8
довое, природно-звериное слияние, а и личное,
индивидуальное, сверхприродное. Мы подходим к чему-то,
трудно выразимому словами, к области неизреченного, лишь
в мистическом опыте постижимого. Это связано с
одухотворением и преображением плоти. Вл. Соловьев уже
понимает, что мистическая любовь не ведет к рождению,
что и плотская ее сторона не есть естественный процесс
родового инстинкта, что тут что-то новое входит в
материю мира. Так называемые «противоестественные»
формы любви и полового соединения, приводящие в
негодование ограниченных моралистов, с высшей точки зрения
нисколько не хуже, иногда даже лучше форм так
называемого «естественного» соединения. Ведь с религиозной
точки зрения, да и с философской, вся природа
противоестественна, ненормальна, испорчена и послушание
природе и ее законам необходимости не есть мерило добра. Я не
знаю, что такое нормальное естественное половое
слияние, и утверждаю, что никто этого не знает. Гигиена очень
полезная вещь, но в ней нельзя искать критериев добра
и красоты, нельзя искать этих критериев и в фикции
«естественности», сообразности с природой. «Естественных»
норм нет, нормы всегда «сверхъестественны».
Мистическая любовь всегда покажется этому миру
«противоестественной». Любовь в пределах одного и того же пола
есть симптом глубокого кризиса рода, и критиковать ее
можно лишь с той точки зрения, достигается ли этой
любовью подлинное бытие, осуществляется ли «смысл»
любви. Рационально морализовать над тайной пола очень
трудно и не всегда морально-красиво, очень легко попасть
в лапы злой и коварной стихии рода, послужить не Богу,
а враждебной ему природе, принявшей обличье
морального благообразия. Не «естественно» нужно соединяться
полам, по законам природы и рациональной морали,
а «сверхъестественно», по божественным законам
преображения плоти. Слово «сверхъестественно» я не в
шутку употребляю, а действительно думаю и верю, что из
природного мира может быть выход в сверхприродное,
и в этом, полагаю, сущность религиозной мистики.
Всякая любовь и половая любовь есть сфера религиозной
мистики по преимуществу. Мы упираемся в этой сфере
в тайну и таинство. Брак есть великое таинство,
соединяющее с Богом. Так смотрели все религии. Проповедь
естественной морали, или моральной естественности,
посягает на религиозное таинство брачной любви.
259
Плоть метафизически равноценна духу, и плотское
в любви равноценно духовному. Это прежде всего должно
быть установлено. Как я не раз уже говорил, плоть не есть
физическое явление, не есть материя, исчерпывающаяся
физическими или химическими свойствами, плоть так же
метафизична, мистична, как и дух, плоть не есть
подчинение природе, естественной необходимости, хотя явления
плоти могут оказаться таким подчинением, как и явления
духа. Трансцендентные, посторонние корни плотской
жизни видны религиозному и философскому сознанию. И
плоть любви не есть физика и химия, не исчерпывается
физиологическим процессом, хотя может попасть в рабство
(и слишком часто попадает) к природной необходимости.
Плотское любовное слияние есть по смыслу своему
преодоление эмпирических граней человеческого существа,
жажда победить препятствие, поставленное природной
необходимостью, победить естественность разделения.
Сладострастное томление есть, быть может, корень
жажды победить в мире разделение, непереходимость
граней между людьми, есть мистическое предчувствие
блаженства всеобщего слияния в Боге. Но страшной ошибкой
было бы строить мистическое слияние по образцу
отвлеченно-физического. Преображение природы, победа над
безличными инстинктами достигается
индивидуализированием любовного влечения, усилиями найти лицо, ощутить
в слиянии образ, начертанный в Боге, не допустить
превращения своей личности и личности другого в простое
орудие рода. Индивидуализированная любовь, которую
только и можно назвать Эросом, есть самый тонкий
продукт мировой культуры, есть уже исход из природной
необходимости. История Эроса в мире имеет мало точек
соприкосновения с историей семьи. Уже в Греции любовь
возникала и развивалась вне форм семейного, то есть
родового, соединения полов. И в средние века рыцарская
любовь, единственно истинная любовь, существовала вне
форм семьи, Прекрасная Дама никогда не бывала женой,
признанной институтом семьи. В Новое время семья
слишком часто признается могилой любви и Эрос
поселяется в романтике свободной любви, нередко, впрочем,
вырождающейся в пошлость и адюльтер. Эрос входит в мир
незримыми, неофициальными, противозаконными и
противоестественными путями; индивидуализированная
любовь, Богом указанное избрание, с великим трудом
побеждает природу и подготовляет ее преображение. Только
260
такая любовь может быть основой таинства брака,
которого нет в официальной семье и в установлениях
официальной церкви. Брак—таинство и потому уже не может
быть союзом юридическим.
VI
Нужно установить три типа любви: 1) Эрос в
собственном смысле слова, половое индивидуальное избрание,
слияние начала мужественного с Вечной Женственностью
в Богом предназначенном конкретном образе; 2)
мистическое влечение к ближнему и родному, к брату и сестре во
Христе, радостное слияние в богочеловеческом теле;
3) ощущение личности каждого существа, далекого, даже
врага, и любовное уважение к потенции образа Божьего,
обращение с каждым человеческим лицом как целью в
себе, а не средством. Все три ступени любви суть лишь
конкретизации и индивидуализации единой любви к Богу,
к общей божественной природе в людях, во имя которой
только и возможно вселенское братство и любовное
слияние всех тварей. И в любимой женщине, и в брате по духу,
и в каждом существе человеческом мы любим образ
Единого, Вечного, самого любимого. Христос есть
Божественный Эрос, воплощенный в человечестве, источник
всякой любви, божественная связь всех разрозненных
и уединенных частиц мира. Любовь и есть свободно-
божественная, сверхприродная сила соединения, которую
только и можно противоположить природной
необходимости, естественной силе связанности и скованности. Три
ступени любви—это лестница восхождения к Богу, путь
слияния с мировой душой. Первая формула
любви—индивидуальное половое избрание и слияние—есть самая
высшая форма, самая полная любовь, в которую все
другие формы входят как составные части, это любовь
экстатическая и блаженная в истинных своих проявлениях,
типический образ всякого влечения и соединения. Любовь—
это тайна двух, тайна брачная. Говорю, конечно, об
Афродите Небесной, а не вульгарной, в здешнем мире
царящей. Высшая форма любви не есть любовь бесполая,
бесплотная, не есть высушенный долг и моральная
отвлеченность, в основе ее лежит мистическая чувственность,
Непосредственная радость касания и соединения. Вторая
форма любви и есть то, что называется обыкновенной
христианской любовью, это любовное братство во Хри-
261
сте, тут есть тоже элемент избрания и индивидуализации,
есть плотское в широком смысле этого слова единение (в
теле Богочеловечества); в основе ее тоже лежит начало
личности. Христианская братская любовь не есть
отвлеченное, безличное чувство в духе альтруизма XIX века,
а такое же радостное влечение, как и влюбленность, она
более всего приближается к любви брачной, в ней есть
и плотская сторона, так как должна соединить она
человечество в единое тело. Это индивидуализированное
влечение второй ступени, переход от соединения двух к
соединению всех. У хлыстов, несмотря на явный их уклон к
язычеству, а иногда и демоническое подчинение духа
безличной физической плоти*, есть что-то верное, хотя и
искаженное, более верное, чем это высушивание христианской
любви и превращение ее в моральный долг, никогда ведь
нас ни с чем не соединяющий. Наконец, третья, самая
несовершенная форма любви, направленная на всех людей
без исключения, самых далеких, самых немилых, есть
узнавание и в них любимой, божественной природы,
влечение к вечному образу каждого существа в Боге,
признание в каждом далеком потенции близкого.
По мере расширения круга Эрос становится все более
отвлеченным, безличным и бесплотным, но никогда не
может превратиться в сухой, выдуманный альтруизм,
в выполнение мучительного предписания. Всегда ведь
остается живым, конкретным объектом любви существо
абсолютное. Любовь к дальнему, о котором много
говорили под влиянием Ницше, и есть любовь к Богу, к
безмерно ценному. Нельзя любить всех людей без различия,
это требование не только невыполнимое, но и
несправедливое, тут много индивидуальных градаций и три
основных степени любви.
Но, любя Бога, можно любить весь мир, всю природу,
всякую травку и былинку, видеть во всем отблеск
Божества и высший смысл. Такое эротическое отношение к
миру было отчасти у Франциска Ассизского. Совершенный
мир, каким он должен быть по мысли Божьей, весь
достоин любви, в нем все прекрасно, все вызывает к себе
непреодолимое влечение, и мистическая тайна любви в том
и заключается, что любовь есть сила, проникающая в этот
мир, что она всегда направлена на божественнс-
* Демонизм я вижу в попытке вызвать благодатное схождение св.
Духа механически-природным путем.
262
прекрасный мир. Нельзя любить испорченность мира,
нельзя восхищаться гнилью и смрадом, нельзя влечься
к уродству, но можно и должно прозревать за
эмпирической испорченностью и изуродованностью мир вечной,
божественной красоты и ее любить безмерно.
Последний суд принадлежит только Богу, человек же
никогда не может осудить тварь Божью как погибшую
окончательно и поэтому должен любить потенцию
спасения.
Любовь есть сила, преображающая мир,
освобождающая от призраков тления и уродства. И покрытое
проказой лицо любимого существа можно силой любви
увидеть в свете преображенном, прозреть чистый образ этого
существа в Боге. С лица всего мира спадет проказа от
силы любви. Познавательная любовь к Богу у Спинозы,
amor Dei intellectualis, выражала только часть истины, но
и этот мудрец уже понимал, что только любовью
заслуживается бессмертие, что только в любви к Богу мир
преображается. А нам все предлагают любить смрадное
и уродливое, повинуясь отвлеченному долгу, сделать из
заповеди любви мучение вместо блаженства, и мы ничего
не любим, все для нас стало уродливым и смрадным, мы
ищем в оторванных кусках достойных предметов любви
и не способны прозревать божественную красоту мира,
соединенного Эросом.
И романы людей современной эпохи стали уродливо-
пошлыми, и альтруистические упражнения в любви—
жалки и беспочвенны.
Эросом связан всякий экстаз и всякое творческое
преображение жизни. Индивидуальная половая любовь есть
осуществление вечного индивидуального образа в Боге,
достижение полноты для каждой половины, но и всякая
иная любовь (не родовой, конечно, инстинкт) есть
прозрение в этот индивидуальный образ.
Полное осуществление царства любви, высочайшее
воплощение Эроса в мировой жизни возможно лишь в
теократии, в царстве Божьем и на земле, как и на небе;
царство Божье и есть царство любви, связь мировых частей,
основанная на мистически-свободном влечении, а не на
насилии и принуждении. Все органические ростки
истинной любви ведут к теократии, всякая истинная любовь
есть уже начинающаяся теократия. Таинство брачной
любви, и не только брачной любви двух полов, но и всех
существ мира, соединяющихся в тело богочеловеческое,
263
совершается в мистической церкви Христовой,
совершалось в истории мира скрыто, когда не могло еще
совершаться открыто. И не есть ли совершающаяся тайна
истинной любви таинственное вхождение в мистическую
церковь, не имеющую еще эмпирически видимых очертаний?
Мы жаждем снятия с пола старого проклятия, жаждем
освещения любви, то есть введения ее в сферу теократии.
В теократии только может явиться новая плоть любви,
сверхприродная плоть. Только религиозно можно
преодолеть демонизм пола, злое сладострастие, разрушающее
личность, демонический эротизм, поддерживаемый
ограниченным аскетизмом исторического христианства,
только религиозно можно преобразить природу, освободить
от родовой необходимости и родовых инстинктов,
которые старым христианством поддерживались. Но страшно
важно понять путь к теократической любви не
механически, а органически. Не искусственный колпак церковности
должен накрывать пол и любовь и этим освящать их
и проклинать все, что не попадает под колпак, а из
мистической глубины природы человеческой должна вырастать
любовь, соединяться с религиозным сознанием и
выявляться сокрытая в глубине церковь. Да будут
благословенны органические ростки жизни, свободное врастание в
мистическое тело церковности! Во всем прежде всего должна
быть свободная органичность, а не насильственная
и искусственная механичность! Об этом я буду говорить
особо. Нужно победить род, безличную семью
индивидуальной мистической любовью, преодолеть пол, разрыв
мистическим плотским и духовным слиянием и
проникновением в индивидуальный образ, утвердить
индивидуальность бессмертной любовью—основой соединения мира
в Боге. Теократия и есть окончательное осуществление
любви всех индивидуальностей, окончательное
освобождение от безличной власти природы, последнее
торжество Афродиты Небесной.
Религиозное отвержение рода и родовой семьи,
мистическое преодоление рождения не решает еще сложной
распри отцов и детей, так обострившейся в последнюю
эпоху. Древняя заповедь «чти отца твоего и матерь твою»,
равно как и обязанность родителей заботиться о детях
остаются навеки в силе. Это истинно вне всяких форм
семьи и вне утверждения или отрицания рода, так как
между родителями и детьми остается некоторая
мистическая связь. Особенно неблагородно современное, нигили-
264
стическое отношение детей к отцам, неуважение к
старости. Эта неспособность увидеть человеческое лицо и в
старости, этот взгляд на стариков как на простое средство
коренятся в безрелигиозности эпохи, в отрицании
трансцендентного смысла жизни и безусловного значения
личности. Старые имеют не меньшую ценность, чем молодые,
для них все уходит в жизни, и последние дни их пусть
будут скрашены. Всегда считалась признаком рыцарского
благородства защита стариков, равно как детей и
женщин. Только утилитарное бесстыдство, столь теперь
распространенное, изгоняет стариков из жизни за
ненужностью. Что касается любви к детям, то она есть сама
природа. Слова Христа, осудившие родовую связь и
провозгласившие новую связь по Духу, не были отменой старой
заповеди и лишь открытием истины еще более важной
и высшей.
Мы видели уже, что «социальный вопрос» связан с
полом и любовью. Все новая и новая постановка
социального вопроса коренится в росте народонаселения, то есть
в рождении, в антагонизме между личностью и родом,
в необходимости преодолеть хаотическое разъединение.
Гармонизация хаотической половой жизни, подчинение
этой стихии высшему смыслу будут иметь большое
значение для решения социального вопроса, относительного,
конечно, решения, так как абсолютное решение
эмпирически немыслимо. Социально необходимы не только
развитие материальной культуры, не только
распределительная справедливость, но и регулирование роста
народонаселения, то есть рождаемости. Изменение же
рождаемости связано с переворотом в мистике пола. Отсюда уже
пойдут и изменения в собственности, образовавшейся
вокруг рода и во имя рода. Вопрос о любви и поле лежит
внутри всякой общественности, составляя интимную ее
сущность, так как вопрос об общественности есть вопрос
о личном и свободном, а не родовом и необходимом
соединении людей. Тайна общественного, свободного
соединения только в любви, а высшая форма любви есть
любовь половая, Эрос—то, что Платон называл
Афродитой Небесной, «будем любить друг друга, потому что
любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога
и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь» (2-е поел. Иоанна).
265
Размышление об Эросе
Я не собираюсь писать об эротической стороне своей
жизни. Мне противны всякие признания в этой области.
Я вообще не хочу писать о своей интимной жизни, о своих
интимных отношениях с людьми, менее всего хочу писать
о близких мне людях, которым более всего обязан. Совсем
не таков характер этой книги. Я, вероятно, должен быть
причислен к типу эротических философов, но страсти
этические (страсти, а не нормы) во мне были сильнее
страстей эротических. И может быть, наиболее соблазнен
я свободой и красотой отречения. Но я принадлежу к той
породе людей и, может быть, к тому поколению русских
людей, которое видело в семье и деторождении быт,
в любви же видело бытие. Мне хотелось бы здесь
сообщить некоторые размышления, основанные на опыте,
наблюдении и интуициях. Я много думал об отношениях,
которые существуют между разными типами любви,
и прежде всего—между любовью-жалостью и любовью-
Эросом, между каритативной любовью и
любовью-влюбленностью. Пол совсем пе есть одна из функций
человеческого организма, пол относится к целому. Это
признает современная наука. И пол свидетельствует о пад-
шестве человека. В поле человек чувствует что-то стьщ-
ноеиунижающее человеческое достоинство. Человеквсегда
тут что-то скрывает. Он никогда не скрывает
любви-жалости, но склонен скрывать любовь сексуальную. Меня
всегда поражало это сокрытие пола в человеке. В самом
сексуальном акте есть что-то уродливое. Леонардо да
Винчи говорит, что половой орган так уродлив, что род
человеческий прекратился бы, если бы люди не впадали в
состояние одержимости (не помню точно выражения, но
таков смысл). В сексуальной жизни есть что-то
унизительное для человека. Только наша эпоха допустила
разоблачение жизни пола. И человек оказался разложенным на
части. Таков Фрейд и психоанализ, таков современный
роман. В этом—бесстыдство современной эпохи, но
также и большое обогащение знаний о человеке. Мне всегда
думалось, что нужно делать различие между Эросом и
сексом, любовью-Эросом и физиологической жизнью пола.
Это сферы переплетающиеся, но они различны. Жизнь
пола—безликая, родовая. В ней человек является
игралищем родовой стихии. В самом сексуальном акте нет
ничего индивидуального, личного, он объединяет человека со
266
всем животным миром. Сексуальное влечение само по
себе не утверждает личности, а раздавливает ее. Пол безлик,
не видит лица. В жизни пола есть безжалостность в
отношении к человеку, есть согласие отказаться от чисто
человеческого. Индивидуализация полового влечения есть
ограничение власти пола. Любовь лична, индивидуальна,
направлена на единственное, неповторимое, незаменимое
лицо. Половое же влечение легко соглашается на замену,
и замена действительно возможна. Сильная любовь-
влюбленность может даже не увеличить, а ослабить
половое влечение. Влюбленный находится в меньшей
зависимости от половой потребности, может легче от нее
воздерживаться, может даже делаться аскетом. Любовь всегда
относится к единичному, а не к общему. Эротическая
любовь коренится в поле, и без пола ее нет. Но она
преодолевает пол, она вносит иное начало и искупает его. Эрос
имеет и другое происхождение, происходит из иного
мира. Природа любви-Эроса очень сложная и
противоречивая и создает неисчислимые конфликты в человеческой
жизни, порождает человеческие драмы. Я замечал в себе
противоречие. Любовь-Эрос меня притягивала, но еще
более, еще сильнее отталкивала. Когда мне рассказывали
о романах знакомых мне людей, я всегда защищал право
их на любовь, никогда не осуждал их, но часто испытывал
инстинктивное отталкивание и предпочитал ничего не
знать об этом. Я всегда защищал свободу любви, и
защищал страстно, с негодованием против тех, которые
отрицали эту свободу. Я ненавидел морализм и законничество
в этой области, не выносил проповеди добродетелей. Но
иногда мне казалось, что я любил не столько любовь,
сколько свободу. Настоящая любовь—редкий цветок. Меня
пленяла жертва любовью во имя свободы, как пленяла
и свобода самой любви. Любовь, которой пожертвовали
и которую подавили во имя свободы или жалости, идет
в глубину и приобретает особый смысл. Мне противны
были люди, находящиеся в безраздельной власти любви.
И многие проявления любви вызывали возмущение. Но
в дионисической стихии любви есть правда возвышения
над властью закона. Я остро чувствую конфликт любви-
Эроса с любовью-жалостью, так же как конфликт любви
со свободой. Нельзя отказаться от любви, от права и
свободы любви во имя долга, закона, во имя мнения
общества и его норм, но можно отказаться во имя жалости
и свободы. Любовь так искажена, профанирована и опо-
267
шлена в падшей человеческой жизни, что стало почти
невозможным произносить слова любви, нужно найти
новые слова. Настоящая любовь возникает, когда встреча не
случайна и есть встреча суженого и суженой. Но в
неисчислимом количестве случаев встреча бывает случайной,
и человек мог бы встретить при других обстоятельствах
более подходящего человека. Поэтому такое огромное
количество нелепых браков.
Меня всегда возмущало, когда общество вмешивалось
в эротическую жизнь личности. Социальные ограничения
прав любви вызывали во мне бурный протест, и в
разговорах на эту тему мне случалось приходить в
бешенство. Любовь есть интимно-личная сфера жизни, в
которую общество не смеет вмешиваться. Я вообще не люблю
«общества». Я человек, восставший против общества.
«Когда речь идет о любви между двумя, то всякий третий
липший»,—писал я в книге «О назначении человека».
Когда мне рассказывали о любви, носящей нелегальный
характер, то я всегда говорил, что это никого не касается—
ни меня, ни того, кто рассказывает, особенно его не
касается. Любовь всегда нелегальна. Легальная любовь есть
любовь умершая. Легальность существует лишь для
обыденности, любовь же выходит из обыденности. Мир не
должен был бы знать, что два существа любят друг друга.
В институте брака есть бесстыдство обнаружения для
общества того, что должно было бы быть скрыто, охранено
от посторонних взоров. У меня всегда было странное
впечатление неловкости, когда я смотрел на мужа и жену, как
будто бы я подсматривал что-то, что мне не следует
знать. Социализация пола и любви есть один из самых
отталкивающих процессов человеческой истории, он
калечит человеческую жизнь и причиняет неисчислимые
страдания. Семья есть необходимый социальный институт
и подчинена тем же законам, что и государство, хозяйство
и пр. Семья очень связана с хозяйственным строем и
имеет мало отношения к любви, вернее, имеет
отношение к каритативной любви и лишь косвенное
отношение к полу. Элементы рабства всегда были сильны в
семье, и они не исчезли и до настоящего
времени. Семья есть иерархическое учреждение, основанное
на господстве и подчинении. В ней социализация
любви означает ее подавление. Брак, на котором основана
семья, есть очень сомнительное таинство. Христианство
не знает своего таинства брака, оно лишь подтверждает
268
брак язычества и юдаизма. В этом натуральном таинстве
происходит социализация того, что по природе своей
неуловимо для общества, неуловимо и для церкви как
внешнего религиозного общества. Но подлинным таинством
должно было бы быть признано таинство подлинной
любви. Это таинство не поддается никакому социальному
выражению, никакой рационализации. В этом трагизм
любви в жизни человеческих обществ. Общество
отвергает любовь. Любящий, в высшем смысле этого слова,—
враг общества. Мировая литература защищала право и
достоинство любви, и именно любви несоциализирован-
ной. Первыми были провансальские трубадуры. Говорю
о серьезной литературе и исключаю литературу,
помешанную на сексе. Легальное богословие,
легальная мораль, легальное общественное мнение
всегда в этом вопросе относились враждебно к
литературе и с трудом ее терпели. Кстати сказать, несмотря
на мою большую любовь к Л. Н. Толстому, я всегда
относился отрицательно и враждебно к идее, положенной
в основу «Анны Карениной». Я всегда считал
преступным не любовь Анны и Вронского, а брачные отношения
Анны и Каренина. Мне казалось поверхностной и
внешней постановка вопроса о разводе. Настоящий вопрос не
в праве на развод, который, конечно, должен быть
признан, а в обязанности развода при прекращении любви.
Продолжение брака, когда любви нет, безнравственно,
только любовь все оправдывает, любовь-Эрос и любовь-
жалость. Вопрос о детях—совсем другой вопрос, и очень,
конечно, важный. Но когда родители не любят друг
друга, то это очень плохо отзывается на детях. Я знаю, что
моя точка зрения будет признана асоциальной и опасной.
Но я рад этому. Если социализация хозяйства желательна
и справедлива, то социализация самого человека, которая
происходила во всю историю, есть источник рабства и
духовно реакционна. Главное же, я не принимаю категории
опасности. Опасность совсем не плохая вещь, человек
должен проходить через опасности.
«Что делать?» Чернышевского—художественно-
бездарное произведение, и в основании его лежит
°чень жалкая и беспомощная философия. Но
социально и этически я совершенно согласен с Чернышевским
и очень почитаю его. Чернышевский свято прав и
человечен в своей проповеди свободы человеческих чувств
и в своей борьбе против власти ревности в человеческих
269
отношениях. При этом в книге его, столь оклеветанной
правыми кругами, есть сильный аскетический элемент
и большая чистота. Интересно, что сам Чернышевский,
один из лучших русских людей, относился с трогательной,
необычайной любовью к своей жене. Его письма с
каторги к жене представляют собой документ любви, редко
встречающейся в человеческой жизни. У него была
свободная любовь и свободная верность жене. У этого
нигилиста и утилитариста был настоящий культ Вечной
Женственности, обращенный на конкретную женщину, Эрос не
отвлеченный, а конкретный. И Чернышевский осмелился
восстать против ревности, столь связанной с любовью
эротической. Я всегда считал ревность самым
отвратительным чувством, рабьим, порабощающим. Ревность не
соединена со свободой человека. В ревности есть инстинкт
собственности и господства, но в состоянии унижения.
Нужно признавать право любви и отрицать право
ревности, перестав ее идеализировать. Это сделал
Чернышевский в прямолинейной и упрощенной форме, не
обнаружив никакой утонченной психологии. Ревность есть
тирания человека над человеком. Особенно отвратительна
женская ревность, превращая женщину в фурию. В
женской любви есть возможность ее превращения в стихию
демоническую. Существуют демонические женщины. Они
иногда писали мне письма, у них была склонность к
астральным романам. Это очень тяжелое явление. Есть несо-
размеримость между женской и мужской любовью,
несоизмеримость требований и ожиданий. Мужская любовь
частична, она не захватывает всего существа. Женская
любовь более целостна. Женщина делается одержимой.
В этом смертельная опасность женской любви. В женской
любви есть магия, но она деспотична. И всегда есть
несоответствие с идеальным женским образом. Образ
женской красоты часто бывает обманом. Женщины лживее
мужчин, ложь есть самозащита, выработанная
историческим бесправием женщины со времен победы патриархата
над матриархатом. Но женская любовь может
подниматься до необычайной высоты. Таков образ Сольвейг у
Ибсена, Вероники у Жуандо. Это любовь, спасающая через
верность навеки. Мне всегда казалось, что самое тяжелое
и мучительное не неразделенная любовь, как
обыкновенно думают, а любовь, которую нельзя разделить. А в
большинстве случаев любовь нельзя разделить. Тут
примешивается чувство вины. У меня было больше дружеских
270
и близких отношений с женщинами, чем с мужчинами.
Мне иногда казалось, может быть иллюзорно, что жен-
шины меня лучше понимают, чем мужчины. У женщин
есть необыкновенная способность порождать иллюзии,
быть не такими, каковы они на самом деле. Я мог
чувствовать женское очарование. Но у меня не было того, что
называют культом Вечной Женственности и о чем любили
говорить в начале XX века, ссылаясь на культ Прекрасной
Дамы, на Данте, на Гёте. Иногда я даже думал, что не
люблю женской стихии, хотя и не равнодушен к ней. Я еще
понимал и ценил провансальских трубадуров, которые
впервые в истории культуры внесли идеальную любовь-
влюбленность. Но мне чуждо было внесение
женственного и эротического начала в религиозную жизнь, в
отношение к Богу. Мне ближе была идея андропша Я. Бема как
преодолевающая пол. Одно время у меня была сильная
реакция против культа женственного начала. Тип эротики
Вл. Соловьева меня отталкивал. Я очень ценил и ценю
статью Вл. Соловьева «Смысл любви», это, может быть,
лучшее из всего написанного о любви. Но я вижу большое
противоречие между замечательными мыслями этой
статьи и его учением о Софии. Верно, что женственная
стихия есть стихия космическая, основа творения, лишь
через женственность человек приобщается к жизни
космоса. Человек в полноте своей есть космос и личность.
Пол принадлежит жизни рода. Любовь же
принадлежит жизни личности. Отталкивание от родовой жизни
принадлежит к самым первоначальным и неистребимым
свойствам моего существа. Отталкивание во мне
вызывали беременные женщины. Это меня огорчает и кажется
дурным. У меня было странное чувство страха и еще
более странное чувство вины. Не могу сказать, чтобы я не
любил детей, я скорее любил. Я очень заботился о своих
племянниках. Но деторождение мне всегда
представлялось враждебным личности, распадением личности.
Подобно Кирхенгардту, я чувствовал грех и зло рождения.
Перспективы родового бессмертия и личного бессмертия
противоположны. Тут я не только согласен с Вл.
Соловьевым, но так всегда думал, до чтения Вл. Соловьева, и еще
более так чувствовал. Родовая жизнь может вызывать
чувство жалости, но не может вызвать любви-Эроса.
Идеальная влюбленность несоединима с жизнью рода,
она есть победа личности над безликой родовой стихией,
в этом смысле над полом. Эрос побеждает пол. В сильной
271
эмоции любви есть глубина бесконечности. Но пол может
не интегрироваться в целостную преображенную жизнь,
может остаться изолированной сферой падшести. В этой
изолированности его от целостной личности и
заключается ужас пола. Поэтому он так легко может делаться
началом распада. Нельзя допустить автономию пола. Было
уже сказано, что любовь есть выход из обыденности, для
многих людей, может быть, единственный. Но таково
только начало любви. В своем развитии она легко
подпадает под власть обыденного. В любви есть бесконечность,
но есть и конечность, ограничивающая эту бесконечность.
Любовь есть прорыв в объективированном природном
и социальном порядке. В ней есть проникновение в
красоту лица другого, видение лица в Боге, победа над
уродством, торжествующим в падшем мире. Но любовь не
обладает способностью к развитию в этом мире. И если
любовь-Эрос не соединяется с любовью-жалостью, то
результаты ее бывают истребительные и мучительные. В
Эросе самом по себе есть жестокость, он должен смиряться
жалостью, caritas, Эрос может соединяться с Агапэ.
Безжалостная любовь отвратительна. Отношение между
любовью эротической и любовью каритативной, между
любовью восходящей, притяжением красоты и высоты,
и любовью нисходящей, притяжением страдания и горя
в низменном мире, есть огромная и трудная тема. Эрос
платонический сам по себе безличен, он направлен на
красоту, на божественную высоту, а не на конкретное
существо. Но в христианском мире Эрос трансформируется,
в него проникает начало личности. Половой пантеизм,
который так блестяще защищал Розанов, не есть Эрос, это
возврат к языческому полу. Полюс, обратный мыслям Вл.
Соловьева и моим мыслям. У Вл. Соловьева в
противоположность его персоналистическому учению о любви был
силен Эрос платонический, который направлен на Вечную
Женственность Божью, а не на конкретную женщину.
Эрос порождает прельщающие иллюзии, и их не так легко
отличить от реальности. Человеку свойственна мечта
о любви. Это прекрасно описано Шатобрианом. Но
в Эросе есть реальное ядро, заслуживающее вечности.
Очень мучительно забвение. В забвении есть измена,
предание вечности потоку времени. Иногда сон напоминает
о забытом, н тогда печаль охватывает душу. Жизнь
эротическая, за вычетом отдельных мгновений,—самая
печальная сторона человеческой жизни. Если забвение бывает
272
изменой ценному, то воспоминание часто бывает
восстановлением и того, что противоположно ценному. Я
никогда не любил воспоминаний в этой сфере жизни,
никогда не говорил об этом. Любви присущ глубокий
внутренний трагизм, и не случайно любовь связана со смертью.
Существует трагический конфликт любви и творчества.
Эта тема гениально выражена Ибсеном. Мне всегда
казалось странным, когда люди говорят о радостях любви.
Более естественно было бы при более глубоком взгляде на
жизнь говорить о трагизме любви и печали любви. Когда
я видел счастливую любящую пару, я испытывал
смертельную печаль. Любовь, в сущности, не знает
исполнившихся надежд. Бывает иногда сравнительно счастливая
семейная жизнь, но это счастливая обыденность. Если я
и был романтиком, то романтиком, лишенным иллюзий,
надежды и способности к идеализации действительности,
романтиком, слишком реалистически воспринимавшим
действительность. В социальной стороне любви я себя
чувствовал революционером и требовал революции
в этой области. Я обличал низость организующейся и
деспотической обыденности. У меня была страсть к
свободе, к свободе и в любви, хотя я отлично знал, что любовь
может быть рабством. Больше всего трогала меня
любовь каритативная, любовь-жалость, и отталкивала
любовь эгоцентрическая и вампирическая. Но бывает, хотя
и не часто, необыкновенная любовь, связанная с
духовным смыслом жизни.
Любовь у Достоевского
Все творчество Достоевского насыщено жгучей
и страстной любовью. Все происходит в атмосфере
напряженной страсти. Он открывает в русской стихии начало
страстное и сладострастное. Ничего подобного у других
русских писателей нет. Та народная стихия, которая
раскрылась в нашем хлыстовстве, обнаружена Достоевским
и в нашем интеллигентном слое. Это—дионисическая
стихия. Любовь у Достоевского исключительно диони-
сична. Путь человека у Достоевского есть путь страдания.
Любовь у него—вулканическое извержение, динамитные
взрывы страстной природы человека. Эта любовь не
273
знает закона и не знает формы. В ней выявляется глубина
человеческой природы. В ней все та же страстная
динамичность, как и во всем у Достоевского. Это—огонь
неувядающий и огненное движение. Потом огонь этот
превращается в ледяной холод. Иногда любящий
представляется нам потухшим вулканом. Русская литература
не знает таких прекрасных образов любви, как литература
Западной Европы. У нас нет ничего подобного любви
трубадуров, любви Тристана и Изольды, Данте и Беатриче,
Ромео и Джульетты. Любовь мужчины и женщины,
любовный культ женщины—прекрасный цветок
христианской культуры Европы. В этом ущербность нашего духа.
В русской любви есть что-то темное и мучительное,
непросветленное и часто уродливое. У нас не было
настоящего романтизма в любви. Романтизм—явление
Западной Европы. Любви принадлежит огромное место в
творчестве Достоевского. Но это не самостоятельное место.
Любовь не самоценна, она не имеет своего образа, она
есть лишь раскрытие трагического пути человека, есть
испытание человеческой свободы. Тут любви
принадлежит совсем иное место, чем у Пушкина любовь Татьяны
или у Толстого любовь Анны Карениной. Тут совсем
иное положение занимает женственное начало. Женщине
не принадлежит в творчестве Достоевского
самостоятельного места. Антропология
Достоевского—исключительно мужская антропология. Мы увидим, что
женщина интересует Достоевского исключительно как
момент в судьбе мужчины, в пути человека. Человеческая
душа есть прежде всего мужской дух. Женственное начало
есть лишь внутренняя тема в трагедии мужского духа,
внутренний соблазн. Какие образы любви оставил нам
Достоевский? Любовь Мышкина и Рогожина к Настасье
Филипповне, любовь Мити Карамазова к Грушеньке
и Версилова к Катерине. Изумительная любовь Версило-
ва к Екатерине Николаевне создает атмосферу безумия,
она всех держит в величайшем напряжении. Токи любви,
соединяющие Мышкина, Рогожина, Настасью
Филипповну и Аглаю, накаляют всю атмосферу. Любовь Ставроги-
на и Лизы порождает бесовские вихри. Любовь Мити
Карамазова, Ивана, Грушеньки и Екатерины Ивановны
влечет к преступлению, сводит с ума. И никогда и нигде
любовь не находит себе успокоения, не ведет к радости
соединения. Нет просвета любви. Повсюду раскрывается
неблагополучие в любви, темное и истребляющее начало,
274
мучительность любви. Любовь не преодолевает
раздвоения, а еще более его усугубляет. Две женщины, как две
страстные стихии, всегда ведут беспощадную борьбу из-
за любви, истребляют себя и других. Так сталкиваются
Настасья Филипповна и Аглая в «Идиоте», Грушенька
и Екатерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Есть
что-то, не знающее пощады в соревнованиях и борьбе
этих женщин. Та же атмосфера соревнования и борьбы
женских страстей есть и в «Бесах», и в «Подростке», хотя
и в менее выпуклой форме. Мужская природа раздвоена.
Женская природа не просветлена, в ней есть
притягивающая бездна, но никогда нет ни образа благословенной
матери, ни образа благословенной девы. Вина тут лежит на
мужском начале. Оно оторвалось он начала женского, от
матери-земли, от своей девственности, то есть своего
целомудрия и цельности, и пошло путем блужданий и
двоений. Мужское начало оказывается бессильным перед
женским началом. Ставрогин бессилен перед Лизой и
Хромоножкой. Версилов бессилен перед Екатериной
Николаевной. Мышкин бессилен перед Настасьей Филипповной
и Аглаей. Митя Карамазов бессилен перед Грушенькой
и Екатериной Ивановной. Мужчины и женщины остаются
трагически разделенными и мучают друг друга. Мужчина
бессилен овладеть женщиной, он не принимает женской
природы внутрь себя и не проникает в нее, он переживает
ее как тему своего собственного раздвоения.
Тема двойной любви занимает большое место в
романах Достоевского. Образ двойной любви особенно
интересен в «Идиоте». Мышкин любит и Настасью
Филипповну, и Аглаю. Мышкин—чистый человек, в нем есть анге-
лическая природа. Он свободен от темной стихии
сладострастия. Но и его любовь—больная, раздвоенная,
безысходно-трагическая. И для него двоится предмет любви.
И это двоение есть лишь столкновение двух начал в нем
самом. Он бессилен соединиться с Аглаей и с Настасьей
Филипповной, он по природе своей не способен к браку,
к брачной любви. Образ Аглаи пленяет его, и он готов
быть ее верным рыцарем. Но если другие герои
Достоевского страдают от избытка сладострастия, то он страдает
от его отсутствия. У него нет и здорового сладострастия.
Его любовь бесплотна и бескровна. Но с тем большей
силой выражается у него другой полюс любви, и перед ним
разверзается другая ее бездна. Он любит Настасью
Филипповну жалостью, состраданием, и сострадание его бес-
275
предельно. Есть что-то испепеляющее в этом
сострадании. В сострадании своем он проявляет своеволие, он
переходит границы дозволенного. Бездна сострадания
поглощает и губит его. Он хотел бы перенести в вечную
божественную жизнь то надрывное сострадание, которое
порождено условиями относительной земной жизни. Он
хочет Богу навязать свое беспредельное сострадание к
Настасье Филипповне. Он забывает во имя этого
сострадания обязанности по отношению к собственной личности.
В сострадании его нет целостности духа, он ослаблен
раздвоением, так как он любит и Аглаю другою любовью.
Достоевский показывает, как в чистом, ангелоподобном
существе раскрывается больная любовь, несущая гибель,
а не спасение. В любви Мышкина нет благодатной
устремленности к единому, целостному предмету любви, к
полному соединению. Такое беспредельное истребляющее
сострадание только и возможно к существу, с которым
никогда не будешь соединен. Природа Мышкина—тоже
дионисическая природа, но это своеобразный, тихий,
христианский дионисизм. Мышкин все время пребывает
в тихом экстазе, в каком-то ангелическом исступлении.
И быть может, все несчастье Мышкина в том, что он
слишком был подобен ангелу и недостаточно был человеком,
не до конца человеком. В Алеше попытался Достоевский
дать положительный образ человека, которому ничто
человеческое не чуждо, которому присуща вся страстная
природа человека и который преодолевает раздвоение,
выходя к свету. Я не думаю, чтобы образ этот особенно
удался Достоевскому. Но на ангелоподобном образе
Мышкина, которому многое человеческое было чуждо,
нельзя было остановиться как на выходе из
трагедии человека. Трагедия любви у Мышкина
переносится в вечность, и ангельская его природа есть
один из источников увековечивания этой трагедии
любви. Достоевский наделяет Мышкина удивительным
даром прозрения. Он прозревает судьбу всех
окружающих людей, прозревает самую глубину любимых им
женщин. У него сближаются восприятие
эмпирического мира с восприятием мира иного. Но этот дар
прозрения есть единственный дар Мышкина в отношении к
женской природе. Овладеть этой природой и соединиться
с ней он бессилен. Замечательно, что у Достоевского
всюду женщины вызывают или сладострастие, или
жалость, иногда одни и те же женщины вызывают эти разные
276
отношения. Настасья Филипповна у Мышкина вызывает
бесконечное сострадание, у Рогожина—бесконечное
сладострастие. Соня Мармеладова, мать подростка,
вызывает жалость, Грушенька вызывает к себе сладострастное
отношение. Сладострастие есть в отношении Версилова
к Екатерине Николаевне, и он же с жалостью любит свою
жену; то же сладострастие есть в отношении Ставрогина
к Лизе, но в угасающей и задавленной форме. Но ни
исключительная власть сладострастия, ни исключительная
власть сострадания не соединяются с предметом любви.
Тайна брачной любви не есть ни исключительное
сладострастие, ни исключительное сострадание, хотя оба
начала привходят в брачную любовь. Но Достоевский
не знает этой брачной любви: тайны соединения
двух душ в единую душу и двух плотей в единую
плоть. Поэтому любовь его изначально осуждена на
гибель.
Самое замечательное изображение любви дано
Достоевским в «Подростке», в образе любви Версилова
к Екатерине Николаевне. Любовь Версилова связана
с раздвоением его личности. У него тоже двоящаяся
любовь, любовь-страсть к Екатерине Николаевне и любовь-
жалость к матери подростка, его законной жене. И для
него любовь не есть выход за пределы своего «я», не есть
обращенность к другому и соединение с ним. Любовь
эта—внутренние счеты Версилова с самим собою, его
собственная, замкнутая судьба. Личность Версилова всем
представляется загадочной, в жизни его есть какая-то
тайна. В «Подростке», как и в «Бесах», как и во многих
других произведениях, Достоевский прибегает к такому
художественному приему, что действие романа начинается
после того, как в жизни героев происходит что-то очень
важное, определяющее дальнейшее течение событий.
Важное событие романа Версилова разыгралось в прошлом,
за границей, и на наших глазах изживаются лишь
последствия этого события. Женщина играет огромную роль
в жизни Версилова. Он—«бабий пророк». Но он также не
способен к брачной любви, как не способен к ней Ставро-
гин. Он—родственник Ставрогина, он—смягченный
Ставрогин, в более зрелом возрасте. Мы видим его уже
внешне спокойным, до странности спокойным, как бы
потухшим вулканом. Но под этой маской спокойствия,
почти безразличия ко всему скрыты исступленные страсти.
Затаенная, не находящая себе выхода, обреченная на ги-
277
бель любовь Версилова раскаляет вокруг всю
атмосферу, порождает вихри. Все точно в исступлении от
затаенной страсти Версилова. Так всегда у Достоевского—
внутреннее состояние человека, хотя бы ни в чем не
выраженное, отражается на окружающей атмосфере. В сфере
подсознательного окружающие люди подвергаются
сильному воздействию внутренней, глубинной жизни героя.
Лишь под конец прорывается безумная страсть
Версилова. Он совершает целый ряд бессмысленных действий,
обнаруживая этим свою тайную жизнь. Встреча и
объяснение Версилова с Екатериной Николаевной в конце романа
принадлежат к самым замечательным изображениям
любовной страсти. Вулкан оказался не окончательно
потухшим. Огненная лава, которая составляла внутреннюю
подпочву атмосферы «Подростка», наконец прорвалась.
«Я вас истреблю»,—говорит Версилов Екатерине
Николаевне и обнаруживает этим демоническое начало своей
любви. Любовь Версилова совершенно безнадежна и
безвыходна. Она никогда не узнает тайны и таинства
соединения. В ней мужская природа остается оторванной от
женской. Безнадежна эта любовь не потому, что она не
имеет ответа, нет, Екатерина Николаевна любит
Версилова. Безнадежность тут в замкнутости мужской природы,
невозможности выйти к своему другому, в раздвоений.
Замечательная личность Ставрогина окончательно
разлагается и гибнет от этой замкнутости и этого раздвоения.
Достоевский глубоко исследует проблему
сладострастия. Сладострастие переходит в разврат. Разврат есть
явление не физического, а метафизического порядка.
Своеволие порождает раздвоение. Раздвоение порождает
разврат, в нем теряется целостность. Целостность есть
целомудрие. Разврат же есть разорванность. В своем
раздвоении, разорванности и развратности человек
замыкается в своем «я», теряет способность к соединению с
другим, «я» человека начинает разлагаться, он любит не
другого, а самую любовь. Настоящая любовь есть всегда
любовь к другому, разврат же есть любовь к себе. Разврат
есть самоутверждение. И самоутверждение это ведет к
самоистреблению. Ибо укрепляет человеческую личность
выход к другому, соединение с другим. Разврат же есть
глубокое одиночество человека, смертельный холод
одиночества. Разврат есть соблазн небытия, уклон к
небытию. Стихия сладострастия—огненная стихия. Но когда
278
сладострастие переходит в разврат, огненная стихия
потухает, страсть переходит в ледяной холод. Это с
изумительной силой показано Достоевским. В Свидригайлове
показано органическое перерождение человеческой
личности, гибель личности от безудержного сладострастия,
перешедшего в безудержный разврат. Свидригайлов
принадлежит уже к призрачному царству небытия, в нем есть
что-то нечеловеческое. Но начинается разврат всегда со
своеволия, с ложного самоутверждения, с замыкания в
себе и нежелания знать другого. В сладострастии Мити
Карамазова еще сохраняется горячая стихия, в нем есть
горячее человеческое сердце, в нем карамазовский разврат
не доходит еще до стихии холода, которая есть один из
кругов дантовского ада. В Ставропгае сладострастие
теряет свою горячую стихию, огонь его потухает.
Наступает леденящий, смертельный холод. Трагедия
Ставрогина есть трагедия истощения необыкновенной,
исключительно одаренной личности, истощения от безмерных,
бесконечных стремлений, не знающих границы, выбора н
оформления. В своеволии своем он потерял способность
к избранию. И жутко звучат слова угасшего Ставрогина
в письме к Даше: «Я пробовал везде мою силу... На
пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь,
она оказалась беспредельною... Но к чему приложить
эту силу—вот чего никогда не видел, не вижу и теперь...
Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать
доброе дело и ощущаю от этого удовольствие... Я
пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не
люблю и не хотел разврата... Я никогда не могу потерять
рассудок и никогда не могу поверить идее в такой степени,
как он (Кириллов). Я даже заняться идеей в такой степени
не могу». Идеал Мадонны и идеал Содомский для него
равно притягательны. Но это и есть утеря свободы от
своеволия и раздвоения, гибель личности. На судьбе
Ставрогина показывается, что желать всего без разбора и
границы, оформляющей лик человека, все равно, что ничего
уже не желать, и что безмерности силы, ни на что не
направленной, все равно, что совершенное бессилие. От
безмерности своего беспредельного эгоизма Ставрогин
доходит до совершенно эротического бессилия, до полной
неспособности любить женщину. Раздвоение подрывает
силы личности. Раздвоение может быть лишь преодолено
избранием, избирающей любовью, направленной на
определенный предмет—на Бога, отметая диавола, на
279
Мадонну, отметая Содом, на конкретную женщину,
отметая дурную множественность неисчислимого количества
других женщин. Разврат есть последствие неспособности
к избранию, результат утери свободы и центра воли,
погружение в небытие вследствие бессилия завоевать себе
царство бытия. Разврат есть линия наименьшего
сопротивления. К разврату следует подходить не с
моралистической, а с онтологической точки зрения. Так делает и
Достоевский.
Царство Карамазовщины есть царство сладострастия,
утерявшего свою цельность. Сладострастие,
сохраняющее цельность, внутренне оправдано, оно входит в
любовь как ее неустранимый элемент. Но сладострастие
раздвоенное есть разврат, в нем раскрывается идеал
Содомский. В царстве Карамазовых загублена человеческая
свобода, и возвращается она лишь Алеше через Христа.
Собственными силами человек не мог выйти из этой
притягивающей к небытию стихии. В Федоре Павловиче
Карамазове окончательно утеряна возможность свободы
избрания. Она целиком находится во власти дурной
множественности женственного начала в мире. Для него нет уже
«безбрачных женщин», нет «мовешек», для него и
Елизавета Смердящая—женщина. Тут принцип
индивидуализации окончательно снимается, личность загублена. Но
разврат не есть первичное начало, гибельное для
личности. Он—уже последствие, предполагающее глубокие
повреждения в строе человеческой личности. Он уже есть
выражение распадения личности. Распад же этот есть плод
своеволия и самоутверждения. По гениальной диалектике
Достоевского, своеволие губит свободу, самоутверждение
губит личность. Для сохранения свободы, для сохранения
личности необходимо смирение перед тем, что выше
твоего «я». Личность связана с любовью, но с любовью,
направленной на соединение со своим другом. Когда стихия
любви замыкается в «я», она порождает разврат и губит
личность. Разверзающаяся бездна сострадания—другой
полюс любви—не спасает личности, не избавляет от
демона сладострастия, ибо и в сострадании может
открыться исступленное сладострастие, и сострадание может не
быть выходом к другому, слиянием с другим. И в
сладострастии и в сострадании есть вечные стихийные начала,
без которых невозможна любовь. И страсть и жалость
к любимому вполне правомерны и оправданны. Но эти
стихии должны быть просветлены увидением образа, лика
280
своего другого в Боге, слиянием в Боге со своим другим.
Только это и есть настоящая любовь. Достоевский не
раскрывает нам положительной эротической любви.
Любовь Алеши и Лизы не может нас удовлетворить. Нет
у Достоевского и культа Мадонны. Но он страшно много
дает для исследования трагической природы любви. Тут
у него настоящие откровения.
Христианство есть религия любви. И Достоевский
принял христианство прежде всего как религию любви. В
поучениях старца Зосимы, в религиозных размышлениях,
разбросанных в разных местах его творений, чувствуется
дух Иоанова христианства. Русский Христос у
Достоевского есть прежде всего провозвестник бесконечной
любви. Но подобно тому, как в любви мужчины и женщины
раскрывает Достоевский трагическое противоречие, оно
раскрывается ему и в любви человека к человеку. У
Достоевского были замечательные мысли, что любовь к
человеку и человечеству может быть безбожной любовью.
Не всякая любовь к человеку и человечеству есть
христианская любовь. В гениальной по силе прозрения
утопии грядущего, рассказанной Версиловым, люди
прилепляются друг к другу и любят друг друга, потому что
исчезла великая идея Бога и бессмертия. «Я представляю
себе, мой милый,—говорит Версилов подростку,—что бой
уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев
грязи и свистков наступило затишье и люди остались
одни, как желали: великая прежняя идея оставила их;
великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их,
отходит, как то величавое, зовущее солнце в картине Клода
Лоррена, но это был уже как бы последний день
человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни,
и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой
мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей
неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же
стали прижиматься друг к другу тесней и любовнее; они
схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они
одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая
идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь
великий избыток прежней любви к тому, который был
Бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на
людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы и землю
и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно
сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже осо-
281
бенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы
замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны,
каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на
природу иными глазами, взглядом любовника на
возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг
друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что
это—все, что у них остается. Они работали бы друг для
друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем
одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и
чувствовал, что всякий на земле ему как отец и мать.
«Пусть завтра последний день мой,—думал бы каждый,
смотря на заходящее солнце,—но все равно я умру,
но останутся все они, а после них дети их». И эта мысль,
что они останутся, все так же любя и трепеща друг за
друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они
торопились бы любить, чтобы затушить всякую грусть
в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но
сделались бы робкими друг для друга: каждый трепетал
бы за жизнь и счастье каждого. Они стали бы нежней друг
к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы
друг друга глубоким и осмысленным взглядом, и во
взгляде их была бы любовь и грусть». В этих
изумительных главах Версилов рисует картину безбожной любви.
Это—любовь, противоположная христианской, не от
Смысла бытия, а от бессмыслицы бытия, не для
утверждения вечной жизни, а для использования преходящего
мгновения жизни. Это—фантастическая утопия. Такой
любви никогда не будет в безбожном человечестве; в
безбожном человечестве будет то, что нарисовано в «Бесах».
Никогда ведь не бывает того, что преподносится в
утопиях. Но эта утопия очень важна для раскрытия идеи
Достоевского о любви. Безбожное человечество должно
придти к жестокости, к истреблению друг друга, к
превращению человека в простое средство. Есть любовь человека
в Боге. Она раскрывает и утверждает для вечной жизни
лик каждого человека. Только это и есть истинная
любовь, любовь христианская. Истинная любовь связана
с бессмертием, она и есть не что иное, как утверждение
бессмертия, вечной жизни. Это—мысль, центральная для
Достоевского. Истинная любовь связана с личностью,
личность связана с бессмертием. Это верно и для любви
эротической, и для всякой иной любви человека к
человеку. Но есть любовь к человеку вне Бога; она не знает
вечного лика человека, ибо он лишь в Боге существует. Она не
282
направлена на вечную, бессмертную жизнь. Это—
безличная, коммунистическая любовь, в которой люди
прилепляются друг к другу, чтобы не так страшно было
жить потерявшим веру в Бога и в бессмертие, то есть
в Смысл жизни. Это—последний предел человеческого
своеволия и самоутверждения. В безбожной любви
человек отрекается от своей духовной природы, от своего
первородства, он предает свою свободу и бессмертие.
Сострадание к человеку как к трепещущей, жалкой твари,
игралищу бессмысленной необходимости есть последнее
прибежище идеальных человеческих чувств, после того
как угасла всякая великая Идея и утерян Смысл. Но это не
христианское сострадание. Для христианской любви
каждый человек есть брат во Христе. Христова любовь есть
узрение богосыновством каждого человека, образа и
подобия Божьего в каждом человеке. Человек прежде всего
должен любить Бога. Это—первая заповедь. А за ней
следует заповедь любви к ближнему. Любить человека только
потому и возможно, что есть Бог, единый Отец. Его
образ и подобие мы должны любить в каждом человеке.
Любить человека, если нет Бога,—значит человека
почитать за Бога. И тогда подстерегает человека образ челове-
кобога, который должен поглотить человека, превратить
его в свое орудие. Так, невозможной оказывается любовь
к Человеку, если нет любви к Богу. И Иван Карамазов
говорит, что любить ближнего невозможно.
Антихристианское человеколюбие есть лживое, обманчивое
человеколюбие. Идея человекобога истребляет человека, лишь
идея Богочеловека утверждает человека для вечности.
Безбожная, антихристианская любовь к человеку и
человечеству —центральная тема «Легенды о Великом
Инквизиторе». Мы еще вернемся к ней. Достоевский много раз
подходил к этой теме—отрицанию Бога во имя
социального эвдемонизма, во имя человеколюбия, во имя счастья
людей в этой краткой земной жизни. И всякий раз
являлось у него сознание необходимости соединения
любви со свободой. Соединение любви со свободой дано
в образе Христа. Любовь мужчины и женщины, любовь
человека к человеку становится безбожной любовью,
когда теряется духовная свобода, когда исчезает лик, когда
пет в ней бессмертия и вечности. Настоящая любовь есть
утверждение вечности.
мек на искомое мною. Как бывает в феврале: улыбнется
ясною-ясною улыбкою примытое солнышко; повеет
мягкий ветерок, хотя до весны-то далеко, но
природа
сквозь сон встречает утро года,—
пахнет чем-то вешним. Так и в молитве. Сделав усилие
над собою ради любви к Истине, я вступил с Истиною
в личное, живое общение (—неохотно добавляю казенное,
если только Она есть вообще—). Я отказался от себя
и тем самым нарушил низший закон тождества, потому
что перестало быть голое «Я!». Явилось какое-то
укрепление «Я», но в новом смысле. То «Я», которое требовало
доказательства, начало неясно воспринимать это
доказательство, начало чувствовать, что доказательство будет.
Как после болезни, получилось некоторое
восстановление. Доносилась уже бодрящая свежесть и отдаленный
прибой самой Вечности; я шел как бы в предутреннем
тумане и разглядывал неясные облики самой Истины. Мне
почему-то хочется сравнить состояние свое с тем, как если
бы тело превратилось в мягкий воск и по всем жилам
разлилось молоко: ведь так именно бывает после долгой
молитвы с поклонами. Кажется, смешно выходит мое
сравнение, но лучшего не подберу. С этим как-то связалась
любовь к людям, и в любви я нашел начальную стадию
давно желанной интуиции.
Если есть Бог—а для меня это делалось
несомненным,—то Он, необходимо, есть абсолютная любовь. Но
любовь есть не признак Бога. Бог не был бы абсолютною
любовью, если бы был любовью только к другому,
к условному, к тленному, к миру; ведь тогда любовь Бо-
жия стояла бы в зависимости от бытия условного и,
следовательно, сама была бы случайна. Бог есть существо
абсолютное потому, что Он—субстанциальный акт
любви, акт-субстанция. Бог или Истина не только имеет
любовь, но прежде всего «Бог есть любовь» (1 Ио. 4,8,16), то
есть любовь—это сущность Божия, собственная его
природа, а не только Ему присущее промыслительное Его
отношение. Другими словами, «Бог есть любовь» (точнее—
«Любовь»), а не только «любящий», хотя бы и
«совершенно». (...)
Существенное познание Истины, то есть приобретение
самой Истины, есть, следовательно, реальное вхождение
в недра божественного Триединства, а не только идеаль-
285
ное касание к внешней форме Его. Поэтому истинное
познание —познание Истины—возможно только чрез
пресуществление человека, чрез обожение его, чрез стяжание
любви как Божественной сущности: кто не с Богом, тот не
знает Бога. В любви, и только в любви, мыслимо
действительное познание Истины. И наоборот, познание Истины
обнаруживает себя любовью: кто с Любовью, тот не
может не любить. Нельзя говорить здесь, что причина и что
следствие, потому что и то и другое—лишь стороны
одного и того же таинственного факта—вхождения Бога
в меня как философствующего субъекта и меня в Бога как
объективную Истину.
Рассматриваемое внутри меня (по модусу «Я») «в
себе», или, точнее, «о себе», это вхождение есть познание;
«для другого» (по модусу «Ты») оно—любовь; и, наконец,
«для меня» как объективировавшееся и предметное (то
есть рассматриваемое по модусу «Он») оно есть красота.
Другими словами, мое познание Бога, воспринимаемое во
мне другим, есть любовь к воспринимающему; предметно
же созерцаемая—третьим—любовь к другому есть
красота.
То, что для субъекта знания есть истина, то для
объекта его есть любовь к нему, а для созерцающего познание
(познание субъектом объекта)—красота.
«Истина, Добро и Красота»—эта метафизическая
триада есть не три разных начала, а одно. Это одна и та
же духовная жизнь, но под разными углами зрения
рассматриваемая. Духовная жизнь как из «Я» исходящая,
в «Я» свое средоточие имеющая—есть Истина.
Воспринимаемая как непосредственное действие другого—она
есть Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как
вовне лучащаяся,—Красота.
Явленная истина есть Любовь. Осуществленная
любовь есть Красота. Самая любовь моя есть действие Бога
во мне и меня в Боге; это со-действование—начало моего
приобщения жизни и бытию Божественным, то есть
любви существенной, ибо безусловная истинность Бога
именно в любви раскрывает себя.
Бог, знающий меня как творение свое; любящий меня
чрез Сына как «образ» свой, как сына своего; радующийся
мною в Духе Святом как «подобием» своим активно
знает, любит и радуется мною, ибо я дан Ему.
Источником радости, знания и любви является тут сам Бог. Но
мое знание Бога, моя любовь к Богу, моя радость о Боге
286
пассивны, потому что Бог только отчасти дан мне и
может быть даваем только по мере моего бого-уподобления.
Уподобление же любви Божией есть активная любовь
к уже данному мне. Почему любовь именно, а не знание
и не радость? Потому—что любовь есть
субстанциальный акт, переходящий от субъекта на объект и имеющий
опору—в объекте, тогда как знание и радость
направлены на субъекта и в нем —точка приложения их силы.
Любовь Божия переходит на нас, но знание и созерцательная
радость—в Нем же пребывает. Потому-то воплотилась
Ипостась не Отчая и не Духа Святого (Параклит-
Утешитель, Доставляющий радость), а Сын-Слово, ипо-
стасная божественная Любовь, Сердце Отчее,—если
дозволительно воспользоваться сильным оборотом Якова
Бёме: Сын Божий, по Якову Бёму, есть «сердце во
Отце» *—das Herz in dem Vater.
Во избежание недоуменных вопросов следует
подчеркнуть онтологизм такого понимания любви, имеющий
свои исторические корни в древнем, реалистическом
жизнепонимании. В новом же жизнепонимании,
иллюзионистическом, господствует психологическое трактование
любви, хотя и не исключаемое первым, однако слишком
бедное в сравнении с ним. Это понимание берет свое
начало, кажется, от Лейбница,—и понятно почему. Ведь для
него «монады не имеют окон или дверей», через которые
бы совершалось реальное взаимодействие в любви;
поэтому обреченные на самозамкнутость
онтологического эгоизма и чисто-внутренние состояния, они любят
только иллюзорно, не выходя из себя посредством любви.
Так возникает, под влиянием Фридриха Шпее, знаменитое
лейбницевское определение любви, столь высокоценимое
им самим и столь многократно повторяемое.
По Лейбницу, именно любовь есть «радование
счастьем другого, или—счастие других, считаемое вместе
с тем за собственное» **. Подобное же определение
находится и в неизданных фрагментах Лейбница. Так, оно
находится в Definitio justitae universalis, затем в первом письме
к Арно (1661) говорится, что «любовь есть наслаждение
чужим счастием»; в письме к Арно от 23 марта 1690 г.
находим то же; наконец, в предисловии Codex juris gentium
* Bohme J. Aurora, S. 37 (Schriften, herausgegjb, von U.W. Schie-
bicr, 1831—1847, 2-te Aufl., 1861).
•• Leibnitz G. W. Opera philosophica. ed. J.E. Erdmann, 1840,
287
diplomaticus (1693) читаем: «Милосердие есть вселенское
благоволение, а благоволение—состояние любви или це-
нения. Любить же или ценить—значит наслаждаться
счастием другого, или, что сводится к тому же, чужое
счастье признается за свое» * и т. д.
С небольшими видоизменениями лейбницевское
определение неоднократно было повторяемо и в последующей
философии. —
По Хр. Вольфу, «любовь есть расположение души к
получению наслаждения от счастия другого»**. Или еще:
«Расположение из счастия другого создавать
значительное удовлетворение есть любовь»***.
Мендельсон определяет: «Любовь есть гордость
удовлетворяться счастием другого»****.
Столь же, если не более, иллюзорно понимание любви
у Спинозы: это, впрочем, можно было бы предвидеть и
загодя, зная, что сущность нашей души, по Спинозе,— в
познании и что самую душу Спиноза называет не иначе, как
mens, что значит ум, мысль. «Любовь есть наслаждение,
сопровождающееся идеей внешней причины» *****,—
говорит он в «Этике», причем психологизм этих слов
особенно характерен, если принимать во внимание общую
онтологическую окраску спинозизма. Для Лейбница и его
последователей, как мы видели, любовь обусловливается
представлением счастия другого; для Спинозы же «идея
внешней причины», то есть идея о некотором не-«Я», только
сопутствует наслаждению как чисто субъективному
состоянию «Я». Но и при первом, и при втором понимании
любви она истолковывается исключительно
психологически и, значит, лишается своей значимости как ценность.
Мало того, она может считаться даже нежелательной:
ведь в самом деле, если любовь никого никуда
метафизически не выводит, если она никого ни с кем не соединяет
реально, если она не онтологична, а лишь психологична,
то почему видеть в ней что-то более ценное, чем простую
* Couturat Louis. La Logigue de Leibnitz d'apres des
documents, Paris. 1901.
♦* Wolfius. Psychology empirica, 1738, § 633.
••• Wolf Chr. Vernuftige Gedanken von dem gesellschitl. Leben
des Menschen, 1721, 1, § 449.
**** Mendelson M. Ahhanding fiber die Evidenz in dem
metaphisischen Wissenschaften, 1764.
••••• Eisner Rud. Worterbuch der pbilosophiscben Begrifie, 3-te
Auf., Bd. 11, Berlin, 1910, S. 712, Art.—«Liebe».
288
щекотку души? Но, будучи источником ложных
представлений о взаимодействии сущего, она тем самым
оказывается и лживой, и вредной. Для психологического
понимания любовь есть то же, что и вожделение. При этом такое
смешение—вовсе не случайная и побочная черта
философии рационалистической, а глубоко залегающее своими
корнями необходимое следствие самых существенных
начал такого жизнепонимания. Ведь любовь возможна к
лицу, а вожделение—к вещи; рационалистическое же
жизнепонимание решительно не различает, да и не способно
различать лицо и вещь, или, точнее говоря, оно владеет
только одною категорией, категорией вещности, и потому
все, что ни есть, включая сюда и лицо, овеществляется им
и берется как вещь, как res. Этот недостаток указывал уже
Шеллинг. «Ошибка системы Спинозы,—говорит он,—
отнюдь не в том, что он помещает вещи в Боге, а в том,
что говорит о вещах, то есть в абстрактном понятии
мировых существ, в понятии самой бесконечной субстанции,
также являющейся для Спинозы вещью. Отсюда
безжизненность его системы, бездушность форм, бедность
понятий и выражений, неумолимая суровость определений,
совершенно согласующаяся с абстрактностью его образа
мышления; отсюда же вполне последовательно вытекало
и его механическое воззрение на природу» *.
В чем же, раз так, противоположность вещи и лица,
лежащие в основе противоположности вожделения и
любви!— В том, что вещь характеризуется чрез свое внешнее
единство, то есть чрез единство суммы признаков, тогда
как лицо имеет свой существенный характер в единстве
внутреннем, то есть в единстве деятельности
самопостроения,—в том самом самоположении «Я», о котором
говорит Фихте. Следовательно, тождество вещей
устанавливается чрез тождество понятий, а тождество
личностей—чрез единство самопострояющей или
самополагающей ее деятельности. (...)
Каков же общий вывод всего отступления?—
Необходимость строгого разграничения тождества нуме-
рического и тождества генерического и отсюда строгое
разграничение любви как психологического состояния,
соответствующего вещной философии, от любви как
онтологического акта, соответствующего философии личной.
* Шеллинг Ф. Философские исследования о сущности
человеческой свободы. СПб., 1908, с. 19.
289
«2—1520
Иными словами, и христианская любовь должна быть
самым непрекословным образом изъята из области
психологии и передана в сферу онтологии. И только приняв во
внимание это требование, читатель может принять, что
все сказанное о любви и все то, что предстоит еще
сказать,—не метафора, а точное выражение истинного нашего
разумения. (...)
Любовь с такою же необходимостью следует из
познания Бога, с какою свет лучится от светильника и с какою
ночное благоухание струится от раскрывшейся чашечки
цветка: «познание делается любовью». Поэтому взаимная
любовь учеников Христовых есть знамение, знак их на-
ученности, их ведения, их хождения в истине. Любовь есть
собственный признак, по которому признается ученик
Христов: «Потому узнают вое, что Вы—Мои ученики,
если будете иметь любовь (...) между собою» (Ио. 13,
35).
Но нельзя было бы сделать большей ошибки, как
отождествив духовную любовь ведающего Истину с
альтруистическими эмоциями и стремлением к «благу
человечества», в лучшем случае опирающимися на естественное
сочувствие или на отвлеченные идеи. Для «любви» в
последнем—Иудейском—смысле все начинается и
кончается в эмпирическом деле, ценность подвига определяется
его зримым действием. Но для духовной любви—в
смысле христианском—эта ценность—лишь мишура. Даже
нравственная деятельность—как-то филантропия и т.п.,
взятая сама по себе,—совершенное ничто. Не внешность,
не «кожа» особых деятельностей желательны, а
благодатная жизнь, переливающаяся в каждом творческом
движении личности. Но «кожа» как «кожа», эмпирическая
внешность как таковая всегда допускает подделку. Ни
одно время не смеет отрицать, что «лже-апостолы, лукавые
делатели принимают вид апостолов Христовых», что
даже сам «сатана принимает вид Ангела Света» (2 Кор. 11:13,
14). Но если все внешнее может быть подделываемо, то
даже высший подвиг и высшая жертва,—жертва жизнью
своею,—сами по себе—ничто:
Бели я языками
людей глаголю
и даже ангелов,—
любви же не имею,
являюсь медью я звенящей
290
иль кимвалом звучащим.
И если пророчество имею
и знаю тайны все я,
и всю науку,—
и если веру всю имею,
чтобы горы преставлять,—
любви же не имею:
нет пользы мне.
И если все раздам имущество свое
и если тело я предам свое,
чтобы быть сожженным мне,—
любви же не имею:
нет пользы мне.
(1 Кор. 13:1-3)
Так называемая «любовь» вне Бога есть не любовь,
а лишь естественное, космическое явление, столь же мало
подлежащее христианской безусловной оценке, как и
физиологическая функция желудка. И значит, тем более
само собою ясно, что здесь употребляются слова «любовь»,
«любить» и производные от них в их христианском
смысле и оставляются без внимания привычки семейные,
родовые и национальные, эгоизм, тщеславие, властолюбие,
похоть и прочие «отбросы человеческих чувств»,
прикрывающиеся словом «любовь».
Истинная любовь есть выход из эмпирического и
переход в новую действительность.
Любовь к другому есть отражение на него истинного
ведения, а ведение есть откровение Самой Триипостасной
Истины сердцу, то есть пребывание в душе любви Божией
к человеку: «если мы любим друг друга, то Бог в нас
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ио.
4:17),—мы вошли с Ним не только в безличное, промы-
слительное космическое отношение, но и в личное отче-
сыновеее общение. Поэтому-то, «если сердце наше не
осуждает нас,— но, конечно, самое-то сердце должно быть
Аля своего суждения хоть сколько-нибудь очищенным от
коры скверны, истлившей его поверхность, и способным
судить о подлинности любви, то есть если мы сознаем
сознанием целомудренным, что действительно любим, «не
словом или языком, но делом и истиною» (1 Ио. 3, 18),
что мы действительно вошли в личное общение с
Богом,—то «мы имеем дерзновение к Богу» (1 Ио. 1:21), ибо
плотской обо всем судит по плотскому. Ведь «кто сохра-
291
12*
няет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том» (1
Ио. 3:21); если мы любим Его, то «мы в Нем пребываем
и Он в нас» (1 Ио. 4:12).
Мы говорим «любовь». Но, спрашивается, в чем же
конкретно выражается эта духовная любовь?—В
преодолении границ самости, в выхождении из себя, для чего
нужно духовное общение друг с другом. «Если мы говорим,
что имеем общение с Ним (Богом), а ходим во тьме, то
лжем и не поступаем по истине; если же ходим в свете,
подобно как Он в свете, то имеем общение друг с другом»
(1 Ио. 4:13).
Абсолютная Истина познается в любви. Но слово
«любовь», как уже разъяснено, разумеется не в смысле
субъективно-психологическом, а в смысле
объективно-метафизическом. Не то, чтобы самая любовь к брату была
содержанием Истины, как утверждают это толстовцы
и другие им подобные религиозные нигилисты; не то,
чтобы ею, этою любовию к брату все исчерпывалось. Нет,
и нет. Любовь к брату—это явление другому, переход на
другого, как бы «течение в другого того вхождения в
Божественную жизнь, которое в самом Богообщающемся
субъекте сознается им как ведение Истины.
Метафизическая природа любви—в сверхлогическом преоборании
голого самотождества «Я-Я» и в выхождении из себя; а это
происходит при истечении на другого, при влиянии в
другого силы Божьей, расторгающей узы человеческой
конечной самости. В силу этого выхождения «Я» делается
в другом, в не-«Я», делается едино-сущньш брату,—
едино-сущным, а не только подобно-сушцым, каковое
подобно-сущие и составляет морализм, то есть тщетную
внутренне безумную попытку человеческой, вне-
божественной любви. Подымаясь над логическим,
бессодержательно-пустым законом тождества и
отождествляясь с любимым братом, «Я» тем самым свободно делает
себя не-«Я», или, выражаясь языком священных
песнопений, «опустошает» себя, «истощает», «обхищает»,
«уничижает» (ср. Фил. 2:7), то есть лишает себя необходимо-
данных и примущих ему атрибутов и естественных
законов внутренней деятельности по закону онтологического
эгоизма или тождества; ради нормы чужого бытия «Я»
выходит из своего рубежа, из нормы своего бытия
и добровольно подчиняется новому образу, чтобы тем
включить свое «Я» в «Я» другого существа, являющееся
для него не-«Я». Таким образом, безличное не-«Я» делает-
292
ся лицом, другим «Я», то есть «Ты». Но в этом-то
«обнищании», или «истощении» «Я», в этом «опустошении», или
«кенозисе», себя происходит обратное восстановление «Я»
в свойственной ему норме бытия, причем эта его норма
является уже не просто данною, но и оправданною, то
есть не просто наличною в данном месте и моменте, но
имеющею вселенское и вечное значение. В другом, через
уничижение свое, образ бытия моего находит свое
«искупление» из-под власти греховного самоутверждения,
освобождается от греха обособленного существования,
о котором гласили греческие мыслители, и в третьем как
искупленный «прославляется», то есть утверждается
в своей нетленной ценности. Напротив, без уничижения
«Я» владело бы нормою своею лишь в потенции, но не
в акте. Любовь и есть «да», говоримое «Я» самому себе;
ненависть же—это «нет» себе. Непереводимо, но
выразительно эту идею Р. Гамерлинг отчеканил в формуле:
«Любовь есть (...) живое себе-самому-«да» бытия» *. Любовь
сочетает ценность с данностью, вносит в ускользающую
данность долженствование, долг, а долг ведь и есть то, что
дает данности долготу; без долга она «pet», а с долгом—
«HEvei». Эта любовь единит два мира: «В том и великое,
что тут тайна, что мимо идущий лик земной и вечная
Истина соприкоснулись тут вместе».
Любовь любящего, перенося его «Я» в «Я» любимого,
в «Ты», тем самым дает любимому «Ты» силу познавать
в Боге «Я» любящего и любить его в Боге. Любимый сам
делается любящим, сам поднимается над законом
тождества и в Боге отождествляет себя с объектом своей любви.
Свое «Я» он переносит в «Я» первого через посредство
третьего и т.д. Но эти взаимные само-предания, само-
истощания, само-уничижения любящих только для
рассудка представляются рядом, идущими в
беспредельность. Поднимаясь над границами своей природы, «Я»
выходит из временно-пространственной ограниченности
и входит в Вечность. Там весь процесс взаимоотношения
любящих есть единый акт, в котором синтезируется
бесконечный ряд, бесконечная серия отдельных моментов
любви. Этот единый, вечный и бесконечный акт есть едино-
сущее любящих в Боге, причем «Я» является одним и тем
же с другим «Я» и вместе отличным от него. Каждое «Я»
* Hamerling R. Die Atomistic des Wiellens, 1891, Bd. 11, S. 164
(Eisner Rud. Worterbuch der philosophischen Begrifle, Bd. 2, S. 713.)
293
есть не-«Я», то есть «Ты», в силу отказа от себя ради
другого, и «Я»—в силу отказа от себя другого «Я» ради
первого. Вместо отдельных, разрозненных,
самоупорствующих «Я» получается двоица—двуединое существо,
имеющее начало единства своего в Боге: «Предел любви—да
двое едино будут». Но притом каждое «Я», как в зеркале,
видит в образе Божием другого «Я» свой образ Божий.
Письмо одиннадцатое: Дружба
(...) Та духовная деятельность, в которой и
посредством которой дается ведение Столпа Истины, есть
любовь. Но это—любовь благодатная, проявляющаяся
лишь в очищенном сознании. Нужно еще достичь ее,—
долгим (—ох, долгим!—) подвигом. Чтобы стремиться
к ней—непредставимой для твари,—нужно получить
начальный толчок и нужно иметь поддержку в дальнейшем
движении. Толчком таким бывает столь обычное и столь
непонятное рассудку откровение человеческой
личности,—в восприемлющем это откровение, являющее себя
как любовь. «Любовь,—говорит Генрих Гейне,—это
страшное землетрясение души». Говорю любовь; слово
это употребляю и не в том смысле, в каком ранее, в
письме четвертом, и—в том же, потому что эта любовь есть
не то, что та, и вместе—предвосхищение той,
ожидаемой. Любовь дает встряску целому составу человека,
и после этой встряски, этого «землетрясения души», он
может искать. Любовь приоткрывает ему двери горних
миров, и тогда веет оттуда прохладою рая. Любовь
показывает ему «как бы в тонком сне» лучезарный отблеск
«обителей»,—на мгновение сдергивает пыльный покров
с твари, хотя бы в одной точке, и обнаруживает богоздан-
ную красоту ее; дает забыть о власти греха, выводит из
себя, говорит властное «стой!» потоку мятущихся
помыслов самости и толкает вперед: «Иди и найди во всей
жизни то, что видел в полуочертаниях и на мгновение». Да,
лишь на мгновение. И, возвратившись в себя, душа
тоскует об утраченном блаженстве, томится сладким
воспоминанием, как сказано:
Я помню чудное мгновенье—
Передо мной явилась ты,
294
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Теперь душе предстоит выбор: или погружаться во
грех, разъедающий личность, или же... украшать себя
горнею красотою.
За моментом эроса, в платоновском значении слова,
открывается в душе «piAia—высшая точка земли и мост
к небу. Постоянно являя в лице любимого отблеск
первозданной красоты, она снимает, хотя предварительно
и условно, грани самостного обособления, которое есть
одиночество. В друге, в этом другом Я любящего, он
находит источник надежды на победу и символ грядущего.
И тут ему дается предварительное едино-сущее и,
следовательно, предварительное ведение Истины. На эту-то
вершину человеческого чувства и спускается небесная
благодать той любви. Но чтобы ясно представлять оттенки
упоминаемых здесь понятий, необходимо вникнуть в
содержание имеющихся налицо греческих глаголов любви:
язык одних только эллинов выражает непосредственно
эти оттенки.
Четыре глагола любви существуют в греческом языке
для запечатления в слове различных сторон чувства
любви; это именно: epav, <pi%.£iv, atepyeiv и ayanav.
1. epav, или, в поэтическом языке, epaodai,—значит
направлять на предмет всецелостное чувство, отдаваться
предмету, для него чувствовать и воспринимать. Глагол
этот относится к любви-страсти, к ревностному и даже
чувственному желанию. Отсюда ёра>С есть общее
выражение для любви и ее пафоса, а также—для любовного
желания.
2. <piA.£TV более всего подходит к нашему «любить»
в его общем значении и противополагается uiaexv и exOai-
peiv. Оттенок, выражаемый этим глаголом любви, есть
внутренняя склонность к лицу, выросшая из задушевной
общности и близости, и поэтому (piXstv относится к
каждому виду любви лиц, стоящих в каких-либо внутренне-
близких отношениях. В частности, yikzxv (с-или без
прибавления тф отошт, устами) означает внешнее
выражение этой внутренней близости, целовать. Как находящее
свое удовлетворение в самой близости любящих фЛету
включает в себя момент довольства, самонасыщенности;
по объяснению древних лексикографов, фЛету—значит
(...) быть удовлетворенным чем-то, ничего более не искать.
295
Но, с другой стороны, как чувство естественно-
развивающееся, (piKezv не имеет никакого морального,
или, точнее, моралистического оттенка. Oikia, <piA.6xT]Cj
означает дружественное отношение, нежное выражение
любви, которое относится ко внутреннему расположению
любящих. В частности, «р&лца—поцелуи.
3. ахсрусту означает не страстную любовь или
склонность к лицу или вещи, не позыв к объекту,
определяющему наше стремление, а спокойное и непрерывное чувство
в глуби любящего, так что в силу этого чувства
любящий признает объект любви близко принадлежащим ему,
тесно с ним связанным, и в этом признании обретает
душевный мир; атеруету относится к органической, родовой
связи, нерасторгаемой, в силу зтой прирожденности, даже
злом. Такова нежная, спокойная и уверенная любовь
родителей к детям, мужа к жене, гражданина к отечеству.
Соответственное со атеруету значение имеет и
производное aropyf|.
4. dyanav указывает на любовь рассудочную,
основывающуюся на оценке любимого и потому не страстную, не
горячую и не нежную. Относительно этой любви мы
можем дать себе отчет в рассудке, потому что в dyanav менее
ощущений, привычек или непосредственной склонности,
нежели убеждений. В общем словоупотреблении глаголов
любви dyanav есть речение наислабейшее и ближе всего
подходящее к нашему «ценить», «уважать». И чем более
получает места рассудок, тем более слабнет сторона
чувства. Тогда dyanav может значить даже «ценить правильно,
не переоценивать». Так как оценка есть сравнение, выбор,
то dyanav включает в себя понятие свободного,
избирающего направления воли. Было бы интересно уяснить
этимон разбираемого слова, но, к сожалению, делавшиеся
опыты корне-словия dyandco не дали никаких
решительных или даже сколько-нибудь устойчивых выводов. По
Шенкелю, dyandco связано с ayajuu—изумляюсь,
восхищаюсь, и, быть может, с аул—изумление, удивление,
uyav6£—достойный удивления, благородный, dydAAco—
прославляю, украшаю, yaito—горжусь, радуюсь, ydvu-
цш.—радуюсь, веселюсь, и с латинскими gau, gaudium,
gaudere. Если действительно так, то dyanav, очевидно,
означает «иметь свою радость в чем-нибудь». Но есть
и иные объяснения. {...]>
Соотношение четырех глаголов любви таково: глагол
dyanav во многом сходствует с «piXetv, но, как относя-
296
щнйся к рассудочно-моральаой стороне душевной жизни,
он не включает в себя идеи об охотном, непосредственно
из сердца идущем действии, которое выявило бы
внутреннюю склонность; ауапах лишено усвоенных yikexv
оттенков «делать охотно», «лобызать» (поцелуй и есть одно из
таких «охотных», непосредственных выражений чувства),
обвыкнуть делать...
Подводя итог, в (pikerv можно отметить следующие
черты:
1. Непосредственность происхождения, основанного
на личном соприкосновении, но не обусловленного
одними лишь органическими связями,—естественность.
2. Проникновенность в самого человека, а не только
оценка его качеств.
3. Тихий, задушевный, нерассудочный характер
чувства, но в то же время и не страстный, не импульсивный,
не безудержный, не слепой и не бурный.
4. Близость, и притом личная, нутряная.
Итак, греческий язык различает четыре направления
в любви: стремительный, порывистый ёрю£, или любовь
ощущения, страсть; нежную, органическую оторут), или
любовь родовую, привязанность; суховатую, рассудочную
ауажг\, или любовь оценки, уважение; задушевную,
искреннюю «piXia, или любовь внутреннего признания,
личного прозрения, приязнь. В сущности, ни одно из этих
слов не выражает той любви-дружбы, о которой идет речь
в настоящем письме, любви, совмещающей в себе
моменты «piXia, ёрсо£ и ауйтсц, что отчасти и пытались выразить
древние сложным словом (piXotppoouvi]. Но, во всяком
случае, изо всех слов ближе всего подходит сюда (piXexv
с производными. (...)
Двойным скрепом объединяется и сдерживается
религиозное общество. Во-первых, это—личная связь, идущая
от человека и опирающаяся на ощущение
сверхэмпирической реальности друг друга у членов общества
как самобытных единиц, как монад. Во-вторых, этим
скрепом бывает восприятие друг друга в свете идеи о
целом обществе, и тогда уже не единичная личность сама по
себе, а все общество, проектируемое на личность, является
объектом любви. Для античного общества такими двумя
скрепами были Ёрю£ как сила личная и оторут| как начало
родовое; именно в них лежал метафизический устой
общественного бытия. Напротив, естественною почвою для
христианского общества как такового стали фШа в обла-
297
сти личной и ауапц—в общественной. Та и другая сила
одухотворяется и претворяется, насыщаемая благодатью,
так что даже брак, этот нарочитый приемник для аторут),
и древняя дружба, где преимущественно являлся ёр©£,
в христианстве окрасились в цвет одухотворенных ауаял
и «piAia.
Письмо двенадцатое: ревность
Мне кажется, стало несомненным, что обсуждение
любви вообще и дружбы в частности и в их конкретной
жизненности почти неизбежно поднимает вопрос о
явлении, теснейше с ним связанном,—о ревности. Что
практически этот вопрос выдвигается на первую линию по
важности,—о том едва ли возможно двоякое мнение. Но,
мне думается, недостаточно сознается большинством
мыслителей его теоретическая важность: в философской
литературе понятие ревности загнано куда-то на задворки
и редко-редко когда его удостаивают взглядом. Вот
почему мне кажется необходимым глубже проникнуть в
понятие ревности. Полагаю, на основании сказанного в конце
предыдущего письма, что уяснение понятия ревности
служит вместе к уяснению самого понятия дружбы и любви.
Итак, что же такое ревность?
В ходячем, интеллигентском словоупотреблении
ревность понимается как порок или по меньшей мере как
бесспорный нравственный недостаток,—нечто постыдное
и достойное осмеяния. В основе ревности интеллигенцией
принято усматривать и гордость, и тщеславие, и
самолюбие, и подозрительность, и недоверие, и мнительность,—
словом, все, что угодно, но только не какое-либо
моральное преимущество. Этот взгляд на ревность особенно
свойствен тому веку, который был революционно-
интеллигентским по преимуществу,—XVIII-му; и
осуждается ревность в особенности в том месте, где
просветительская рассудочность царила нетерпимее всего,—в
Париже.
«Гордость и тщеславие делают ревнивыми столько же
людей, сколько и любовь»,—сказал Буаст. «Любовь
ревнивцев походит на ненависть»,—свидетельствует
Мольер. «Ревность происходит более от тщеславия, чем от
298
любви»,—признает М-ме де Сталь. «В ревности бывает
часто более самолюбия, нежели любви»,—указывает
Ларошфуко. «Ревность грубая—это недоверие к любимому
предмету; ревность деликатная—это недоверие самому
себе»,—рассуждает некто. «Самые ревнивые из всех
любовников—это любящие славу»,—наблюдает Трюблэ.
«Ревнивец—это ребенок, который пугается чудовищ,
созданных в потемках его воображением»,—думает Буаап.
«Ревнивец проводит свою жизнь в отыскании тайны,
открытие которой нарушает его благополучие»,—
подмечает Оксенштпирн. Эту мысль облекает игрою слов
Шлейермахер или Гриллыгарцер: "Die Eifersucht mit Eifer
sucht, was Leiden schafft", то есть «ревность с рвением ищет
то, что доставляет страдание», или «что страсть», так как
в произношении слышится "Leidenschaft"; каламбур,
который можно передать приблизительно через: «ревность
ревностно ищет, что—страсть». «Из недугов ума
ревность есть тот, пищею которого служит наибольшее
число вещей, а лекарством—наименьшее»,—определяет
Ноэль. «У ревности глаза рыси»,—говорит Беллами.
Поэтому любовь и ревность несоединимы. «Когда
самолюбие господствует над ревностью, любовь потеряла свою
класть»,—утверждает Лечгрэ. «Ревность гасит любовь
так же, как пепел гасит огонь»,—пишет королева Наварр-
ская. «Сильные страсти выше ревности»,—читаем у
Ларошфуко.
Это—несколько расплывчатое,
житейское—понимание ревности нашло себе законченную и
психологически мотивированную форму в чеканном определении
ревности, данном Барухом Спинозой. Любовь, полная не-
иависти к любимому предмету и зависти к другому,
пользующемуся любовью первого, есть, по Спинозе, ревность.
Спиноза тут чрезвычайно удачно пользуется образом
смешения двух жидкостей, когда они, проникая одна в
другую, струятся и мутнеют, что обозначается термином
fluctuatio. Так и при ревности: любовь и ненависть,
смешиваясь, образуют fluctuatio, «струение» души,
вследствие чего сознание мутнеет и делается непрозрачным.
Ревность, по Спинозе, есть такое именно «струение
души», происходящее зараз от любви и ненависти,
сопровождающейся идеей другого, которому душа завидует: "Нос
odium ergarem amatam invidiae junctum Zelotypia vocatur,
quae proinde nihil aliud est, quam animi fluctuatio orta ex
299
Amore et Odio simul, concomitante idea alterius, cui invide-
ret".
Вот какими рассуждениями приходит Спиноза к этому
своему классическому определению ревности.
Любовь, говорит он, стремится к взаимности, и
притом—к совершеннейшей юаимности. Всякое умаление
и всякий ущерб, испытываемые нами в этом отношении,
ощущаются как самоумаление, то есть причиняют
сильнейшую скорбь. Совершеннейшая взаимная любовь есть
любовь всепоглощающая; мы хотим сполна обладать ею,
она—наше высшее счастие, которое мы ни с кем не хотим
делить и никому не хотим уделять. Если любимое
существо любит кого-либо другого более, чем нас, то
ощущаем себя безгранично несчастными. Причина нашего
несчастия есть предмет нашей ненависти; следовательно,
мы будем ненавидеть возлюбленного, потому что он
лишает нас своей взаимности, и завидовать тому, кто
пользуется этой взаимностью. Так возникает любовь, которая
одновременно ненавидит и завидует,—ревность. Эта
страсть особенно сильна, если нашим счастием завладел
другой; и чем сильнее было счастие, тем ярче разгорается
ревность, так что она, если не укротит ее какая-нибудь
иная сила, затемнит всю нашу душу: ненависть к
любимому предмету тем сильнее, чем сильнее была ранее
любовь^...)
Согласно житейскому пониманию, ревность есть
вредный для любви и безобразный нарост ее; причины
ревности чужды сущности любви, и потому ревность обычно
признается устранимой из любви. Спиноза усматривает
более тесную связь между любовью и ревностью; для него
ревность—не случайный попутчик любви, а верная тень,
появляющаяся на экране душевной жизни всякий раз, как
любовь освещается изменою любимого; или, точнее,
ревность, по Спинозе, есть необходимый эквивалент любви,
возникающий при повороте отношений к худшему.
Любовь не исчезает, но преобразуется в ревность. Но все же
и тут, на почве спинозовского анализа, мыслима любовь
без ревности, при полной взаимности, так что ревность,
хотя и необходимая психологически при известных
условиях, получает в глазах Спинозы оценку отрицательную,
как animi fluctuatio, как затемнение сознания, как
неукротимая страсть. Ревность в любви для Спинозы не есть
любовь; и потому, как инородная любви, как «е-любовь, хотя
с любовью и находящаяся в причинном отношении, в от-
300
ношении эквивалентности,—ревность предосудительна.
Таким образом, и Спиноза в итоге остается при ходячем
понимании ревности. Почему же это произошло?
Чтобы ответить на поставленный вопрос, вспомним
безжизненный и вещный характер всей философии
Спинозы. Не имея категории личности, Спиноза не может
различать любви к лицу и вожделения к вещи, — смешивает
любовь и вожделение, или, точнее сказать, подменяет
первую последним. Всюду мы читаем у него безличное res
amata, что должно перевести: «вещь вожделенная», ибо
вещь не может быть любима; да, res amata, но нигде нет
речи о любимой личности,—о личности, к которой одной
только и может быть приложен эпитет «любимая».
Правда, в современном обществе нередко можно услыхать что-
нибудь вроде «любимое варенье», «люблю сигары»,
«полюбил карты» и т.п., но для всякого здорового человека
ясно, что это—или извращение и затемнение сознания,
или же—насилие над языком. «Варенье», «сигары»,
«карты» и т.д. нельзя любить, а можно лишь вожделеть. Но
коррелят вожделения—ненависть с завистью; поэтому-то
у Спинозы в исходном понятии любви получает такое
ударение этот предосудительный момент ненависти с
завистью. Однако как любовь не есть вожделение, так же
точно и ненависть с завистью—не ревность, хотя,
действительно, последняя так же относится к тому, что
Спиноза разумеет под ревностью, как истинная любовь—к
вожделению. Чтобы понять ревность в собственной ее
природе, надо еще теснее связать ее с любовью, ввести
в самое сердце любви и, подчеркнув личную природу
любви, вскрыть, что ревность есть сама любовь, но в своем
«инобытии»; нам надо обнаружить, что ревность есть
необходимое условие и непременная сторона любви,—но
обращенная к скорби, так что желающий уничтожить
ревность уничтожил бы и любовь. Точно так же в
вожделении есть всегда ненависть с завистью.
Чтобы показать это, прежде всего надо снять с
ревности тяготеющий над нею момент осуждения. Ревность так
часто смешивалась с известными недолжными видами
проявления ее, что самые слова «ревность», «ревновать»
и «ревнивый», не говоря уже о «ревнивец», стали словами
осуждения.
И однако, видеть в подозрительности, мелочном
самолюбии, недоверии, недоброжелательстве, злобе, нена-
301
висти с завистью и т.д. сущность ревности столь же
неправильно, как в недавании свободы, лицеприятии,
несправедливости и т.п. полагать суть любви, или в холодности,
черствости сердца, жесткости и жестокости его
усматривать суть справедливости. Подозрительность, ненависть
с завистью и т.п.—все это дурные, недолжные,
эгоистические проявления ревности, рождающиеся от смешения
любви с вожделением. Между тем два ряда исторических
данных намекают на эту непредосудительность, и даже не
только не предосудительность, а прямо положительность,
должность ревности. В самом деле, во-первых, народ с бо-
госознанием чистейшим, избранный народ еврейский,
яснее, нежели кто-нибудь знавший и понимавший любовь
Божию, настойчиво, непрестанно, без колебаний твердит
о ревности Божией. Вся Библия насыщена и пронизана ре-
вностию Божиею, и не считаться с этим—невозможно.
А затем, во-вторых, народ чистейшей человечности,
гениальный народ эллинский, лучше кого бы то ни было
знавший и понимавший человеческую любовь во всех ее
видах, он опять-таки черту ревности имеет во всех как
основную черту, как черту характернейшую и
неотъемлемую от него. Фр. Ницше в своих набросках-«раз-
мышлениях» «Мы филологи» среди трех «избранных
пунктов из древности» преднамечает к разработке:
«Облагорожение ревности, греки—самый ревнивый народ». И
с этим опять нельзя не считаться. Если и яснейший гений,
и чистейшая вера являют нам ревность как силу
положительную и необходимую в существе любви, как
человеческой, так и Божественной, то, значит, она и есть такова и,
значит, она совсем не то, что побочные страсти,
сопровождающие ее.
Но что же, в таком случае, сама ревность? Она—один
из моментов любви, основа любви, фон любви, первичная
тьма, в которой воссиявает луч любви. Любовь есть
свободное избрание: из многих личностей «Я», актом
внутреннего самоопределения, избирает одну и к ней—
одной из многих, устанавливает отношение как к
единственной, душевно прилепляется к ней. Ее,
обыкновенную, «Я» хочет рассматривать как необыкновенную; ее,
серую,—как праздничную; ее, будничную,—как
торжество. Она в толпе стоит, но «Я» вызывает ее торжество.
Она в толпе стоит, но «Я» вызывает ее и с площади ведет
в прибранную горницу сердца своего. «Я» рисует
воображение ее на чеканном золотом поле. И—справедливо»
302
ибо изображение—не карикатура, какую рисуют люди
в большинстве случаев, это даже и не портрет,
живописуемый мудрыми. Это—образ образа Божия,—икона. «Я»,
нарушая «справедливость» закона тождества,
метафизическим актом самоопределения, не рассудком,—всем
существом своим, решает видеть в избранной, одной из
многих, личности—исключительную, из ряда прочих
выходящую,—одним словом, делает себя в отношении к
избранной таким, что та личность делается для него «Ты».
Дружба, повторяю, исключительна, как исключительна
и супружеская любовь. «Много»—признак
несовершенства объекта любви как такового, признак
незаконченности «Ты» как «Ты». И многобрачие и многодружие ложны
по самой идее своей и неизбежно должны или перейти
в нечто личное,—первое в единобрачие, второе—в еди-
нодружие,—или же вовсе растлиться и перегнить,—
первое в отношения похоти, а второе—в отношения
корысти, то есть из полуличных сделаться вещными.
«Нельзя,—говорит Аристотель,—нельзя быть другом
многих, имея в виду совершенную дружбу, точно так же, как
нельзя в одно время быть влюбленным во многих.
Подобная дружба кажется совершенством и как таковое может
быть обращена лишь на одного человека».
Но если даже сказать здесь, что таких, любимых, «Ты»
бывает «много», то все-таки к каждому, при любви,
отношение—как к единственному. Всякая любовь в существе
своем имеет избирательную, избирающую силу, есть di-
lectio, и потому любимый—всегда избранник,
избранный, единственный. В этом-то и заключается личная
природа любви, без которой мы имели бы дело с вещным
вожделением и безразличием в замене вожделенной вещи
вещью ей равною. Требование нумерического тождества
любимой личности—хотя бы при отсутствии тождества
гснерического, признакового, то есть верность личности
и при изменении ее,—характеризует любовь и вместе
нарушение ею закона тождества, тогда как требование гене-
рического, признакового тождества вожделенной вещи,
при безразличии к тождеству нумерическому, даже при
непонимании его, и потому соблюдение закона тождества
характеризует собою вожделение. Сознание
единственности— таково условие любви, даже в самых
несовершенных ее проявлениях; мало того, даже для иллюзии любви
нужна если не единственность, то хотя бы иллюзия
единственности, неповторимости, исключительности, хотя бы
303
он, любящий, мнил любимое существо единственным
столь же неосновательно, сколь всегда мнит себя
единственною в мире и истории всякая первая любовь, сколь
ошибочно считает себя единственным каждый из
«единственно законных» наследников и истолкователей Канта,
сколь ложно, наконец, утверждает себя единственным
«Единственный» Штирнера. Иначе, безусловно,
невозможна даже иллюзия любви, и будет в отношениях лишь
корысть и смерть. Самая мысль о возможности замены
одного лица другим как опирающаяся на признании омиу-
сии, то есть вещности, есть мысль греховная и ведущая
к смерти.^...)
Данные этимологии подтверждают те заключения,
к которым привел нас метафизический анализ понятия
ревности. Понятие ревность в русском языке в основном
своем направлении характеризуется как мощь, как сила,
как напряжение, но вовсе не как страх, или ненависть, или
зависть. Рев-н-ив и соответственные производные рев-
н-о-ва-ть, рев-н-ость некоторыми сближается с латинским
riv-al-is, riv-in-us—соперник,—с французскими riv-al, riv-
al-is-er, riv-al-it-e. Но если это и так, то все же остается
неясным, каково коренное значение этого слова. Ответ на
этот вопрос дать не трудно. Рев-н-ив чрез свою
старославянскую форму рьв-ьн-ив-ъ приводится к тому же корню,
что и семейство слов рв-ен-и-е, рев-н-ост-н-ый, рев-
н-и-тел-ъ.(...у Ревность, очевидно, то же, что и рвение,
ревнивый—то же, что и ревнитель, ревновать—то же, что
и рвать или, скорее, рваться. Сербское рв-а-ти имеет
смысл егай, рв-а-ти, ce-certare. Тут проводятся
соотношения с санскритскими: ar-v-an—стремительно бегущий,
поспешающий, aurva—проворный, быстрый, конный; с
греческими орёфоуто—они поспешили, opoueiv—спешит,
устремляется; с латинским ru-i-t, с древнесаксонским аги,
древнесеверным бгг—быстрый, готовый, конный.
Как «иметь ревность», так и «иметь рвение» по своему
корню означает лишь наличность силы, мощи,
стремительности. Это—противоположность вялости, бессилию,
слабости. Вот почему «ревновать» нередко употребляется
в значении «с силою, с энергиею стремиться к чему-
нибудь», «быть энергичным в чем-нибудь». Ревновать чего
или поревновать чего—значит, по В. Далю, «потщиться
всеми силами», «со рвением стремиться к чему-нибудь»-
Так, говорится: «ревную знаний», «ревную небесного
царства», «ревнуйте же дарований больших». Ревновать ко-
304
му, чему имеет значение «соревноватъ, подражать,
последовать или стремиться как бы взапуски, не уступая». Так,
Ломоносов употребил оборот: «ревнуйте нашему
примеру»; так же точно говорится: «я всегда ревновал успехам
его » и т.д. Отсюда мы можем с решительностью
заключить, что ревность прежде всего означает, как и указывает
Даль, «горячее усердие, стремление» и даже,
преимущественно,—«к делу»; в этом именно смысле говорится:
«ревность по службе», «ревность не по разуму». Вместе с тем
ревностный—значит «самый усердный, прилежный,
заботливый, предавшийся всею душою делу»; таков оборот:
«ревностный поборник правды или за правду».(...)
Итак, общее заключение, к которому пришли мы,
будет таково: этимология и словоупотребление слова
«ревность» и производных его, бесспорно, подтверждают
данный ранее метафизический анализ понятия ревности.
А именно: окончательно снимается с ревности
тяготеющее на ней осуждение, и она признается лишь
необходимым выражением, или, точнее сказать, лишь
необходимою стороною сильной любви. Это-то и делает
понятным, почему Слово Божие столь часто и столь упорно
приписывает ревность Богу. Да и было бы совершенно
непонятно, как состояние, само в себе предосудительное,
может быть образом чего-то в Божественной жизни. Ведь
никогда, ни при каких анфропопафизмах Богу не
приписывается греха, или похоти, или лжи. Бели же Ему
приписывается ревность, то, как бы мы ни понимали эту Божию
ревность, загодя можно утверждать, что она—нечто
святое; и потому человеческая ревность не есть что-то
само в себе недолжное и скверное. Из сделанных же здесь
разъяснений очевидно, что в таком приписывании Богу
ревности должно видеть не натянутый анфропопафизм,
а точное обозначение существа дела. Ведь ревность есть
понятие онтологическое, а не психологическое и не
этическое.
Но мало того, что ревность есть необходимый момент
любви. Она, по распространительному толкованию преп.
Исаака Сирина, есть необходимая сторона всего доброго,
что ни есть в человеке. Она вообще есть сила,
осуществляющая добрые желания. «Кто имеет добрые желания,
тому противление не может воспрепятствовать исполнить
оныя... Бывает же это по следующей причине. За всякою
мыслию доброго желания, в начале его движения, после-
305
дует некая ревность, горячностию своею
уподобляющаяся огненным углям; и она обыкновенно ограждает
сию мысль и не допускает, чтобы приблизилось к ней какое-
либо сопротивление, препятствие и награда, потому что
ревность сия приобретает великую крепость и
несказанную силу ограждать на всякий час от расслабления или
от боязни при устремлениях на нее всякого рода
стеснительных обстоятельств. И как первая та мысль есть сила
святого желания, от природы насажденная в естестве
души, так ревность сия есть мысль, движимы
раздражительною в душе силою, данная нам Богом на пользу, для
соблюдения естественного предела, для выражения понятия
о своей свободе исполнением естественного желания,
находящегося в душе. Это есть добродетель, без которой не
производится доброе, и она называется ревностию,
потому что время от времени движет, возбуждает, распаляет
и укрепляет человека... Некто... ревность свою в словах
своих назвал «псом и хранителем закона Божия», то есть
добродетели...»
Далее, св.Отец объясняет, что ревность слагается из
страха утратить благо и из стремлений удержать его; вот
почему ослабление ревности—худое предзнаменование,
обусловленное либо охлаждением духовным, либо
самонадеянностью и гордостью, то есть отношением к
духовному благу уже не живым и личным, а имущественным
и плотским, как в какой-то вещи, которую можно
положить под замок и, не переживая ее, все же владеть ею.
Так стремление к Столпу и Утверждению Истины
осуществляется и сохраняется ревностью, этою для
современного сознания загнанною и презренною силою нашего
духа.
му и духовному кастратству). Но в то же время борьба за
пол необходимо является и борьбой с сексуальностью,
и это интимное борение в самом поле просветляет его
изнутри; борьба же против сексуальности есть вражда
и против пола, которая хочет обезличения вместо
высшего утверждения личности, слабости вместо укрощенной
силы. Бунт против пола, хотя бы и во имя отрицания
сексуальности, свидетельствует о серьезной поврежденности
духа,—недаром Церковь так решительно осуждает
самооскопление (и не случайно, что, по преданию, его
совершил над собой Ориген с чрезмерным своим
спиритуализмом). Тем не менее пол благодаря сексуальной своей за-
темненности содержит в себе мучительные дисгармонии.
Конечно, эту сторону жизни имеет в виду великий апостол
в своем огненном вопле человеческого бессилия: «В
членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона
греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто
избавит меня от сего тела смерти!» (Рим. 7, 23—4). Жизнь
пола в фактическом ее состоянии, как бы она ни
протекала, имеет печать трагической безысходности и
антиномической боли (что и символизируется в трагедии любви-
смерти: «Ромео и Джульетта», «Тристан и Изольда»).
Духовно-телесное соединение двух в одну плоть, как оно
дано в норме творения и как оно хотя бы слабо, но все же
предощущается в браке в меру духовного возраста
супругов, связано в то же время и с чувством разъединения,
убийства, тоски по утрате чего-то дорогого и чистого.
«Post coitum animal triste» («Змей отравил своим нечистым
семенем экстаз плоти»).(...)
Заповедь размножения не связана с грехопадением, она
дана до него, и не с тем, конечно, чтобы нарушить
целомудренную чистоту супругов, но чтобы осуществить в них
и через них полноту жизни. Между девством и браком
принципиально нет противоречия, и, если бы не
совершилось грехопадение, Адам и Ева были бы первыми
девственными супругами на земле *. Гнушение браком стро-
* Своеобразные откровения в мистике пола поведал в наши дни
В. В. Розанов, который представляет собою в этой области
изумительное явление некоего мистического атавизма. Он есть какой-то
эксперимент половой вивисекции, а вместе и экспериментатор в темной
и жуткой области, куда ие всякий осмеливается приблизиться. Он есть
живое воспоминание о том состоянии в жизни пола, когда прародители
«беста нага и не стыдяхуся». В его беззастенчивости и наивном бесстыд-
308
го осуждается церковными законами. От иерея,
совершителя таинств, требуется если не обязательное нахождение
в браке, то половая нормальность; так же было и в
ветхозаветной церкви, где многочадие вообще считалось
благословением. Исчерпывающей нормой отношения между
полами не может быть одна влюбленность жениха и
невесты, соединенная с отрицанием брака (хотя в анти-
тетике любви, бесспорно, присутствует и этот мотив:
влюбленные в известный момент любви не хотят брака).
Насколько это отрицание не связано просто с половыми
аномалиями, влюбленность, хронически борющаяся
с браком, приводит к гнусному плену у полового «разже-
ния», от которого мудро остерегает ап. Павел, советуя
лучше вступать в брак, чем распаляться, и через то
становиться рабом чувственного влечения. Идеология ведь еще не
отменяет физиологии, которая имеет, конечно, и более
подлинную онтологически-мистическую основу. Если эта
проповедь не является данью позднему возрасту и
половому утомлению, она остается бессильной или
приводит к аномалиям и пороку. Но достойный путь любви везде
одинаково труден, и в браке, и вне его, и ее антимонии не
должны быть ни смягчаемы, ни устраняемы обходами
и изворотами. Не делает этого и ап. Павел, который, с
одной стороны, изъясняет брак как «союз во Христа и
Церковь» и советует вступить в брак, чтобы не «разжигаться»,
стве, с которым он совершает свои самообнажения и направляет
пытливый глаз в места, нормально закрытые стыдливостью, ие только
сказывается своеобразный аморализм, но и просвечивает иное, важное и,
можно сказать, драгоценное в мистической непосредственности своей
сознание ноуменальной праведности пола, присущие Ветхому Завету и
затем Каббале. Это—отблеск эдемского брака Адама и Евы.
Односторонность и бедность розановского восприятия пола состоит в том, что
он знает его только в coitus'e, понимает лишь натуралистически и
биологически, хотя при этом он и углубляет мистически биологию, как это еще
не снилось самим биологам. Розанов знает пол тела и телесное
соединение, но плохо различает пол души и брачность духа, потому для него
остается закрытой природа «третьего пола» (нечетных духов), в которой
он видит исключительно половые уродства «урнингов»,
гомосексуализм, вообще дефектность пола. Зная пол исключительно в аспекте
брака, Розанов враждебно игнорирует пол до брака и вне брака, а в
частности и влюбленность жениха и невесты, а потому он не ведает и трагедии
любви: ему нечего сказать о судьбе Тристана и Изольды. Брезгливое
отрицание брака во имя влюбленности представляет собой тоже розановство
навыворот, взятое с минусом, а потому, конечно, не может
рассматриваться как его преодоление. Последнее можно скорее увидеть в
глубоком учении о поле у А. Н. Шмидта, где одинаковое внимание отдается
полу тела и души.
309
но он же увещевает тех, кто может, оставаться в
безбрачии, потому что женившиеся «будут иметь скорби по
плоти, а мне вас жаль» (1 Кор. 7, 28). «Неженатый заботится
о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится
о мирском, как угодить жене» (7,32—33). Болит древо
жизни в сердцевине пола, и здесь нет вполне торжествующих
победителей. Недаром же Церковь в таинстве брака на-
путствует на него, как на крестный подвиг, хотя и ликующими
песнями. Неразделенная же или разлученная любовь убивает
и сожигает своим огнем, и ее первый луч горит уже
заревом закатным: любовь всегда думает и о смерти.
«Сильна, как смерть, любовь»,—говорит «Песнь Песней»
любви *. Трагизм брачной любви обычно проявляется в том,
что в жене умирает невеста, а в муже—жених, и гаснет
любовь. А между тем жена должна навсегда остаться для
любящего невестой, возлюбленной, а муж—женихом,
возлюбленным **. Это внутренняя норма любви, по
которой сама она творит себе суд, не содержит в себе ничего
противоречивого, как нет противоречия, например, в том,
что человек одновременно есть отец и сын, муж и брат
* В «Загаре» находим интересное толкование этого текста «Песни
Песней»: «Сильна, как смерть, любовь». Писание хочет сказать: как сила
человека в момент, когда дух оставляет тело. Предание нам сообщает, что
в момент, когда человек готов испустить последнее дыхание, каждый из
его членов получает восполнение значительной силы, потому что дух,
предвидя скорое разделение, перебегает от одного члена к другому, как
судно без руля, потому человек никогда не имеет столько силы, как
перед концом.—«Я сильна, как преисподняя, ревность». Ибо любовь,
не сопровождаемая ревностью, не есть любовь. Подобно тому как
виновные боятся сходить в преисподнюю, так и человек, проникнутый
любовью, испытывает страх потерять предмет любви. Согласно иному
объяснению, это сравнение имеет следующий смысл: подобно тому как
сходящие в преисподнюю знают о всех грехах, за которые наказаны, так
и человек, любящий с ревностью, замечает дурные дела со стороны
любимого субъекта, и это наблюдение укрепляет любовь» (Sepher ha
Zohar, trad, de Pauly, 11, 245a, 568—569).
* * Беатриче, рано умершая, ие была женою Данте, который, однако,
имел семью. Отвечает ли внутренней природе любви это разделение
жены и «донны» или же это есть лишь человеческая слабость Данте? Ведь
если только Данте сохранял верность сердцу Беатриче, как он
свидетельствует своей поэзией, то жена была для него лишь наложницей, а стало
быть, и сам он, имея наложницу, постольку изменял заветам любви
своей,—и ее образ был бы, конечно, целостнее и чище без этой измены.
В век рыцарства Прекрасная Дама вообще не имела никакого
отношения к жене и ее обожание отлично уживалось с грубостью нравов и
кулачным правом: любовь оставалась «идеалистическою», а
идеалистические взлеты—бессильными. Этот «идеализм» в любви не является ля
духовной колыбелью и философского идеализма с характерной для него
утратой реальности?
310
или мать и дочь, сестра и жена. Любовь многолика и
многогранна, и нет основания противопоставлять ее грани
как взаимно исключающиеся. Это девственное
соединение любви и супружества есть внутреннее задание
христианского брака, и в таинстве подается благо дать брача-
щимся, дабы возрождать целомудрие и укреплять
здоровье пола, утерянное в грехопадении. Задача эта так
трудна, что даже и приближение к ней является чудесным.
Жизнь пола с огненными ее антиномиями и трагическими
надрывами есть наиболее чувствительный барометр
религиозной жизни; здесь, в незримой миру интимности,
совершаются победы и достижения, происходят поражения
и срывы... «Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без
греха, первым брось в нее камень. Они же, услышав то
и будучи обличаемы совестию, стали уходить один за
другим, начиная от старших до последних, и остался один
Иисус и женщина, стоявшая посреди» (Ио. 8,7,9). Кто
были эти ревнители закона—блудники ли и распутники?
Нет, это были строгие законники, хранители добрых
нравов. И однако, Иисус остался один. И пусть каждый
вопросит себя в сердце своем, как он отозвался бы на слово
Господа? Иисус же сказал «женщине, взятой в
прелюбодеянии»: «И я не осуждаю тебя, иди и вперед не греши»
(II). Что это? Господь не осуждает прелюбодеяния? Он,
Который сказал, что «всякий, кто только посмотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней
в сердце своем» (Мф. 5, 28)? Или это жест
сентиментальности в ответ на злорадство фарисеев? Конечно, нет.
Господь осуждает грех, но не отметает грешницу, ее не
лишает Он и надежды на исправление: иди и впредь не
греши. Но не чувствует ли себя пред лицом Господа и каждая
человеческая душа такой же женщиной, взятой в
прелюбодеянии, хотя бы совершено оно было не делом, а
только словом, взглядом, мыслью, пробежавшей невольно?
Ибо глубоко отравлена и мучительно болит трепетная
стихия пола,—и лучше всего знали огненную ее силу
аскеты. Оздоровление пола, чистота и целомудрие не есть
только отрицательное качество полового воздержания,
которое может соединяться и с глубокой развращенностью,
оно есть и положительная сила—безгрешности в поле*.
fc>
* Из бесчисленных свидетельств об этом в аскетической литературе
приведем для примера только одно. Авве Пафнутию, который считал
себя уже совершенно свободным от плотских вожделений, «ангел лове-
311
Существенное значение для вопроса о поле имеет
беседа Спасителя с искушавшими его фарисеями. На вопрос
о дозволенности развода Спаситель отвечает
подтверждением богоустановленности и нерасторжимости брака
(Мф. 19, 3—6). «Говорят Ему ученики: если таково
отношение человека к жене, не стоит жениться». Сомнение
учеников относится к выполнимости этой нормы брака. «Он
же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано».
Слово «сие» и есть, согласно контексту, определение Бо-
жие о том, что в браке бывают «двое одной плотью»,
причем «вместить это слово» дано не всем. О тех же, кому
не дано, так продолжал Свою речь Спаситель: «Ибо есть
скопцы, которые из чрева матерняго родились так; и есть
скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы,
которые сделали себя сами скопцами для царствия
Божия. Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19,
10—12).
Здесь различено три рода безбрачия: природное, или
предустановленное, фактическое, или «от людей», то есть
вследствие жизненных условий, мешающих человеку
осуществить свою двуполость, и добровольное, по мотивам
аскетическим, как подвиг брачного постничества. Но
несмотря на эти исключения, еще раз подтверждается
заповедь о браке: «Могий вместити, да вместит». К числу
прирожденных и добровольных «скопцов» принадлежат и
люди «третьего пола», как мужчины, так и женщины,
которые признают влюбленность или «духовную брачность»,
но гнушаются браком, и особенно деторождением,
по разным идеологическим основаниям (сюда относится
прежде всего главный идеолог «третьего пола» Вл.
Соловьев с его статьями «Смысл любви» *). Это воинствующее
донжуанство и духовный «гетеризм» зарождается у натур,
в которых вследствие большой напряженности психиче-
лел проювести над собою следующее испытание: «Поди заключи в свои
объятия нагую прекрасную девицу, и, если держа ее при себе, ты будешь
чувствовать, что покой сердца твоего остается непоколебимым и в
плоти твоей не происходит мятежного волнения, тогда и видимый пламень
будет прикасаться к тебе тихо и безвредно... Старец, пораженный этими
словами ангела, не решился подвергнуть себя столь опасному
искушению, но, спросив свою совесть, испытав чистоту своего сердца, познал,
что сила его целомудрия не может равняться силе такого испытания»
(Писания прел. Иоанна Кассиана Римлянина).
* Из числа наших современников особенно следует назвать
З.Н. Гиппиус; сюда же последнее время по-своему присоединился
и Н.А. Бердяев.
312
ской жизни и творчества получается не духовное
просветление пола, основывающееся на победе над
сексуальностью, но его сублимация, при которой далеко не всегда
побеждается даже потребность разврата. Иначе сказать,
это не духовная победа над сексуальностью, какую знают
аскеты, люди религиозного подвига, но душевное ее
утончение. Это красивое уродство, легко переходящее в
извращенность, обычно сопровождается донжуанской
потребностью новых переживаний влюбленности. Оно
свойственно натурам артистическим, художникам и поэтам,
которые нередко рождают своих детей в мире
«астральном», смешивая его с духовным. Этот духовный склад
находится в связи и со своеобразным нарушением
духовного и эротического равновесия и ослаблением одних
жизненных функций при гипертрофированном развитии
других, при особенной жадности к жизни, «метафизическом
эгоизме», монадности. В отдельных случаях это приводит
к трагическим конфликтам между жизнью пола и
творчеством; особенно обречены на них творческие женщины,
которым приходится выбирать между радостями семьи
и творчеством, брать на себя иногда непосильное бремя
«гетеризма» в безбрачии *. Донжуанство имеет свои
глубокие корни в антиномической природе любви, но видеть
в «третьем поле» и третьем пути (помимо девства и
брака) какое-то преодоление и победу, или же нечто
эсхатологическое, нет никаких оснований.
Полный образ человека есть мужчина и женщина в
соединении, в духовно-телесном браке. Каждый в отдельности есть
получеловек, однако является самостоятельной личностью,
ипостасью, имеет свою духовную судьбу. В недрах же
духа всякий человек остается все-таки двуполым, потому
что иначе невозможна была бы его жизнь. И духовный
пол вообще бывает сложным, ибо каждая личность
представляет собой индивидуальное и своеобразное смешение
стихии мужской и женской, и этим обусловлена
творческая напряженность, эротика духа. Эта имманентная
брачность человеческого духа таит в себе разгадку
творчества, которое есть не волевой акт, но духовное рождение,
как об этом свидетельствует и гений языка, охотно
применяющего к нему образы из области половой жизни. Муж-
* Выразительный пример такого конфликта дает жизнь С. В.
Ковалевской, которая была им надорвана и пала жертвой трагедии
женского творчества.
313
ское начало, солнечное, гениальное, логическое, является
зачинательным, ему принадлежит тема, мотив, импульс,
с ним связано узрение софийных сущностей, созерцание
идей. Но им лишь начинается, а не завершается
творческий акт; самое же творение износится темным
женственным лоном, «землею души».
Свет из тьмы, из темной глыбы
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумеречное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.
Этим объясняется ограниченность и бесплодие
методизма в творчестве, поскольку он стремится заменить
вдохновение ремесленничеством (Сальери против
Моцарта) и точным методом. Творческие, плодотворные идеи
родятся, интуитивно вспыхивают в душе («яблоко
Ньютона»!), метод же есть средство развернуть, использовать
обретенное; но он не подменяет человека гомункулом.
Духовной двуполостью человека, тайной брачностью
отмечено человеческое творчество и в самом своем
существе. Оно есть скрещение двух начал, гениальности и
талантливости, пересечение вертикали и горизонтали.
Гениальность есть творческая инициатива, обретение новых
тем, задач, возможностей, это—духовный взлет в «умное
место», где зрятся вечные идеи, молния, проницающая
кору бытия. Гениальность зрит Софию, она сама есть со-
фийный луч, ее откровение, почему и ее достижения
осознаются как некое обретение или дар свыше. В конце
концов гениальность есть личность в умопостигаемом ее
существе, обнажение ее софийной сущности... Гениальность
есть мужское, зачинательное начало в творчестве, это—
дух; талантливость—женское, воспринимающее и
рождающее начало, душа, Психея. Потому-то гений есть
сама независимость и самобытность; талантливость же как
способность к духовному вынашиванию всегда имеет
пред собой уже данную тему или мотив, который и
выполняет с большей или меньшей степенью совершенства.
Поэтому нельзя иметь волю к гениальности, напротив»
можно и должно иметь волю к талантливости: нужно де*
лать себя, ковать свою жизнь. И не только каждое
частное произведение творчества, но и вся жизнь человеческая
должна стать обретением гениальной темы и талантлВ-
314
вым ее исполнением. Наивысшее достижение и на этом
пути нам являют святые, которые всю свою жизнь
превращают в благоуханный плод духовного творчества.
Мужское и женское самосознание имеет каждое свои
отличительные черты. Мужчина деятелен, логичен, полон
инициативы; женщина инстинктивна, склонна к
самоотдаче, мудра нелогической и неличной мудростью простоты
и чистоты. Мужеобразная женщина производит столь же
уродливое впечатление, как и женообразный мужчина.
Такое смешение полов отличается от того дополнения,
которое нормально в себе находит каждый пол. Женщина
имеет мужское начало, но по-своему, так же как и
мужчина—женское. Тот, кто чтит пол («вечно женское», а тем
самым одновременно и «вечно мужское»), не может
мириться с половым нигилизмом, который скрывается
иногда под личиной равенства полов, в действительности не
равных, но глубоко различных. Мнимое равенство
неизбежно сопрягается с поруганием женственности и с
низведением пола к простому различению самца и самки,—
нигилизм приводит к цинизму.
Высшее свое выражение духовная двуполость человека
получает в религиозном самосознании, в обращенности
души к Богу, которая обычно определяется у религиозных
и мистических писателей как «духовный брак». Обретая
себя в Церкви и сливаясь с нею, человек, без различия
своего индивидуального пола, находит себя в
женственной стихии своей души и ощущает себя «телом
Христовым». В качестве Церкви все человечество, без различия
полов, женственно в духе...
Владимир Соловьев
и Анна Шмидт
В истории поэзии, мистики, умозрения Владимир
Соловьев является единственным, который не только имел
поэтические и философские созерцания относительно
Софии, но приписывал себе еще и личные к ней отношения,
принимающие эротический характер, разумеется в самом
возвышенном смысле. Поэтому земную любовь он ощу-
315
щал для себя, в общем, как некоторое падение или измену.
Он не мог сделаться отцом или мужем, ибо чувствовал
себя как бы обрученным (об этом косвенно свидетель*
ствуют и статьи о «Смысле любви»). Конечно, здесь было
нечто совсем другое, чем то, что описано в загадочной
поэме Пушкина «Бедный рыцарь» *: не М. D., a S. было
начертано на щите у Соловьева, и разница здесь не в
инициалах, а в мистических сущностях. Благодаря внесению
этого момента, в свете этой, так сказать, эротической
гносеологии, у Вл. Соловьева София впервые является не
только метафизическою сущностью, но и ипостасью,
конкретною женскою личностью, которая может назначать
свидания, писать записочки (видевшие говорят, что в со-
ловьевском архиве можно найти таковые, написанные
через «автоматическое» письмо) и вообще «возиться» со
своими адептами, по фамильярному выражению Вл.
Соловьева **.
Своеобразие и в своем роде единственность
мистического опыта Вл. Соловьева с наглядностью выступает при его
сопоставлении с корифеями в этой области, к числу
которых относится прежде всего Яков Бёме. София, несмотря
на свое наименование "ewige Jungfrau", в сущности, вовсе
не является у Бёме началом Вечной Женственности *** и уже
тем более не есть лицо, которое могло бы быть «вечной
подругой» и назначать хотя бы и мистические «свидания».
Это есть принцип мироздания или совокупность
творческих энергий в Божестве. Если ее, с большими натяжками,
еще и можно называть Девой, то скорее для обозначения
противоположности женщине. Вспомним, что
руководящая мысль Бёме сводится не к предвечности половой
полярности, но к ее преодолению в сверхполом андрогине
"manliche Jungfrau". Таковым до грехопадения и был
Адам, коего целостный образ восстановил в себе Христос.
Ева же, начало женское, имеет лишь временное значение
и подлежит преодолению как связанное с грехом.
Поэтому София в системе Бёме имеет значение метафизическо-
* Это сопоставление встречается в очерке П. П. Кудрявцева «Иде»
св. Софии» («Христианская мысль», 1916, IX—X, 1917,1). Здесь указана
отличительная черта поэзии Соловьева—ее обращенность к Софии.
** «Все трое (Гихтель, Арнольд н Пордэдж) имели личный опыт,
почти такой же, как и мой, и это самое интересное... Я думаю, Софи*
возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое»
(Письма B.C. Соловьева, т.П. с. 200).
*** Доказательства и подтверждения см. в моей книге «Свет
Невечерний», особый экскурс в отделе II: «Jungfrau Sophie» у Бёме.
316
го принципа, выраженного на мистическом языке. Также
и в личном опыте Бёме, насколько он поведан им самим
и просвечивает через сложные его построения, нет ничего,
что сближало бы его с соловьевским. Напротив,
возможность мистического «романа» здесь также исключена,
как, например, у Гегеля с его идеей, представляющей
собой метафизический коррелат бёмовской Софии.
Сближение Бёме и Вл. Соловьева возможно лишь на одном
определенном моменте, по миновании которого внутренняя
диалектика уводит их в разные стороны. То же самое
приходится повторить и по поводу таких мыслителей, как
Пордэдж, Сэн-Мартен, Баадер, которые в вопросе о
Софии или прямо исходят из Бёме, или же его
воспроизводят, и ни в каком культе Вечной Женственности или
мистическом романе с Софией они неповинны. Останавливаться
на частностях их учений нам здесь нет нужды *.
О вечной женственности заговорили новейшие поэты,
имеющие родоначальников в Данте и Петрарке. Это—
Шелли, Гёте, Новалис. Но ни в одном из них мы не
замечаем черт, присущих эротике Соловьева. И менее всего
Данте с его апофеозом любви в образе Беатриче (как
и Петрарка с Лаурой). Беатриче (как и Лаура) есть
определенная земная женщина, отошедшая из этого мира и
раскрывшая верующей любви ее небесное содержание. Эта
любовь—софийна в высочайшей степени, Беатриче есть
для Данте воплощение или лик Софии, и однако, все же не
есть София. Она имеет определенную земную биографию,
которая продолжается в небесах.
Чем является женственность у Шелли, мы уже знаем
по характеристике самого Соловьева: здесь различие еще
глубже. С новой силой о «вечно женственном» заговорил
Гёте в мистическом эпилоге к Фаусту. Этой речью он за-
* Особое место в этом вопросе занимает еврейская Каббала, кото-
Рая, впрочем, является не индивидуальным произведением, но
сокровищницей вековой мистической мудрости. Шехина, соответствуя
женскому началу в Божестве, есть, так сказать, субстанция женственности,
которую благочестивый иудей имеет в своей жене и чрез жену. Мужчина,
собственно говоря, имеет две подруги: небесную и земную (Zohar, trad,
de I. de Pauly, 1,290). «Тайна эта состоит в том, что верующие люди дол-
ясны направлять свою душу и мысли к небесной подруге в момент
соединения с дольней, потому что эта есть образ той». Шехина не оставляет
дома вследствие присутствия в нем жены, но остается там. «Таким образом,
^Ужчина здесь внизу окружен двумя женщинами по примеру высшего».
Поэтому Каббала дает апофеоз земного брака и священного
деторождения, между тем как мистическая эротика Соловьева отвращает от того
н Другого.
317
ворожил даже тех, кто и не хотел бы его любить. И
однако, как же он заговорил? То не она, но оно, das ewig Wei-
bliche, принцип софийности, женское начало. Это лучше,
чем скрытое под маской «андрогинизма» бёмевское
женоненавистничество, но это все-таки только «das», а не «Sie».
Конечно, и то есть уже мистико-поэтическое обретение,
в свете которого осмысливаются по-новому и образ
Маргариты, и женские сущности высших сфер около престола
Богоматери. Здесь очерчивается сфера Софии—
софийность, но в ней сливаются неразличенпыми оба ее
центра: Богоматерь и София. В изображении Гёте именно
Богоматерь, Mater gloriosa, есть центр Вечно
Женственного, к которому притягиваются мужские и женские
сущности, в числе их и Una poenitentium, sonst Gretchen genannt,
а за нею влечется и Фауст (любопытно при этом, что Гёте
повторяет здесь мистическую аберрацию пушкинского
«Бедного рыцаря», сделавшего также «А.М.Д.» центром
мистической эротики). Хотя это слияние Софии и
Богоматери в известном смысле и имеет для себя достаточные
основания, но на таких же основаниях требуется и
различение, отсутствие которого не происходит безнаказанно.
Следует упомянуть здесь, что различение это с
безукоризненной четкостью, и притом в духе учения Соловьева,
было произведено А. Н. Шмидт в одпой из
«экзотерических» ее статей *. Соловьев же не только твердо различал
оба мистических центра в своем философствовании, но
совершенно ясно разделял их и в своей поэзии:
свидетельством тому является наряду с известными нам
стихотворениями софийного цикла его же великолепное
переводное произведение: «Хвалы и моления Пресвятой Деве» (из
Петрарки). Итак, приходится признать, что великий гер-
мапский поэт в вопросе о Вечной Женственности
превзойден и оставлен позади нашим созерцателем. И той,
с кем имел «свидания» Вл. Соловьев, Гёте ни поэтически,
ни мистически не знал. Не знал ее и Новалис. «Голубая
роза» немецкого романтизма, софийность женщины,
просвечивающая через Сонечку благодаря любви,—это
напоминает Данте и Беатриче и стоит, во всяком случае, ближе
к Гёте, чем к Вл. Соловьеву. И у русских певцов Вечной
Женственности —у Лермонтова, а из наших современных
поэтов у прежнего А. Блока и Вяч. Иванова—отсутствует
* «Замечание по поводу одной теософской статьи» (Из рукописе*
А.Н. Шмидт, с. 16—21).
318
совпадение с Соловьевым в этом решающем пункте. Они
созвучны с ним, поскольку дело идет о Вечной
Женственности под разными ликами: о небесной лазури, о
Прекрасной Даме или незнакомке, о пышной мистической розе, но
они чужды этого личного устремления непосредственно
к «Софии Урании». Случай Соловьева пока остается все
же единственным, по крайней мере в литературе.
Она ведет к тому, что пытаются осознать проблему брака
вне христианства, исходят из данных опыта естественной
половой любви. Так создается языческая, то есть чисто
человеческая, метафизика брака, которая в лучшем случае
лишь не находится в явном противоречии с Христовым
учением.
Мало того. Не находя определенного и точно
формулированного ответа на мучительные вопросы, связанные
с проблемой брака, начинают утверждать, что такого
ответа нет в недрах христианства, что христианство неполно
в этом отношении, что нужно еще «третье откровение»,
которое одно только способно удовлетворить наши
сомнения. Так около Евангелия создаются всякого рода
пристройки, плод чисто человеческого, естественного
сознания. В нашу переходную эпоху особенно следует
остерегаться всякого рода «подделок» под христианство. Мы
должны особенно помнить апостольский завет:
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям
мира, а не по Христу» (Колос. 11,8).
Пользуясь достижениями такой естественной
философии, как светом, при помощи которого мы можем
разобраться в непосредственной данности окружающего нас,
мы всегда должны помнить, что такая «философия по
стихиям мира» никогда не может дать полноту ведения
нам, перешедшим из царства природы в царство
благодати. И в вопросе брака философии «по стихиям мира»,
естественной метафизике мы должны противопоставить
такую метафизику брака, которая в самой своей
сердцевине вытекала бы из сердцевины, из глубины христианского
учения.
Если брак есть таинство, то он неразрывно связан
с центром христианского учения, находится в центре
христианских ценностей, а отнюдь не лежит вне или на
периферии христианства.
Данная работа и является попыткой осознать
глубинную связь между сердцевиной таинства брака и центром
Христовой истины.
Первая часть работы рассматривает естественную
половую любовь в ее непосредственной данности. Так как
природа естественной половой любви привлекла к себе
внимание наиболее чутких и глубоких мыслителей
русских за последние десятилетия, то вопрос этот можно
считать достаточно выясненным в русской философской ли-
321
4-13»
тературе; поэтому эта часть работы является в
значительной степени лишь подведением итогов.
Вторая же и третья части работы являются попыткой
указать, какой новый смысл открывается христианством
для отношения полов в таинстве брака. Высший Хоуос,,
высший смысл естественная половая любовь обретает за
гранями естества, в царстве благодати, не в языческом,
естественном, хотя бы и мистически углубленном
сознании, но в недрах Евангельского учения. Ибо «истина во
Иисусе» (Еф. IV, 21).
I
Говоря о половой любви, мы можем и должны
различать в ней два момента, рассматривать ее с двух сторон:
во-первых, со стороны тех откровений, со стороны того
нового, что любовь дает любящему, и во-вторых, со
стороны тех стремлений, какие она в любящем пробуждает,
тех достижений, к которым она влечет, тех целей, какие
она ставит. В любви мы должны отличать данное от
заданного. Данным в любви, несомненно, является тот
идеальный образ любимого, который открывается
любящему.
Охваченные пафосом любви, мы созерцаем другого
в новом свете, видим его и духовно, и телесно иным, не
таким, каким видят его окружающие и каким видели мы его
раньше. Сквозь знакомый нам обыкновенный, будничный
образ, сквозь знакомое нам серое лицо просвечивает лик
любимого, другой, нетленный образ, которому мы
готовы кланяться, как кланяемся иконам, ликам святых.
Тот, кого мы любим, делается для нас единственным,
неповторимым; каждое его движение, каждая черта в его
лице, в его духе таит сокровенный смысл, заключает в
себе невыразимое очарование. Любимый несравним ни
с кем. Мы не можем сравнивать его ум, его красоту
с умом и красотой других. В любимом все совершенно
особенное, точно вытканное из другой ткани, не из той, из
которой выткан мир. Точно плотная пелена серой,
тусклой, ровной мировой данности разрывается для нас в
одном месте, и мы видим уже другой мир, другое бытие,
непохожее на это текучее, безликое бывание.
Идеализация, присущая всякой любви, есть факт
бесспорный, общеизвестный и общепризнанный. Спорным
является лишь вопрос о природе и смысле этого открове-
322
ния любви. Нужно ли считать его лишь призраком, лишь
субъективным обманом, хитростью природы,
употребляемой ею в целях полового подбора, или же идеальный
образ другого действителен, истинен.
Критика Соловьева с достаточной очевидностью
выявила несостоятельность теории обмана. Да и стоя на
религиозной точке зрения в вопросе о человеке, мы не
можем отрицать реальности образа Божия, образа красоты
в нем, считать за действительность лицо серое,
обыкновенное и тусклое, а не светящийся, блистающий лик. Тот
факт, что для нас обыкновенно скрыт образ Божий в
другом, скрыта красота и обаяние каждого человека, мы
должны считать следствием нашей слепоты, в силу которой
мы видим лишь тленную оболочку мира.
Но тем не менее то же откровение любви таит в себе
внутреннее противоречие. Лик любимого не светит, но
просвечивает сквозь его внешнюю, тленную оболочку.
Красота и нетление идеального образа не овладевают до
конца тленностью и тусклостью обыкновенного,
будничного лица и не уничтожают их. Если действителен и
реален новый человек, которого мы познаем на празднике
любви, то действителен и реален и безобразный человек
обыкновенных будней.
Тленность и безобразие человеческого лица также не
есть субъективный признак. Если правда то, что человек
носит в себе образ Божий, то правда и то, что этот образ
он исказил и осквернил.
Если прав был Петрарка, утверждавший, что Лаура—
женщина, чей дух, чуждый земных забот, горит небесной
жаждой, в чьих чертах, если только есть правда в мире,
сияет отблеск божественной красоты, чей характер—
образец нравственного совершенства, в чьем голосе
и взоре нет ничего смертного, чья походка обличает
существо высшее—человека *, если действительно все это
было в Лауре, то правы были и окружающие ее, видевшие
в ней лишь мать одиннадцати детей, чье «тело, будучи
истощено болезнями, частыми родами, утратило
значительную часть своей прежней крепости»4"1'.
Человек двойствен. Божественный лик в нем искажен
и осквернен, нетленное и бессмертное совмещается и ужи-
* Петрарка Ф. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к
миру. Изд. «Памятники мировой литературы», с. 165.
** Там же, с. 166.
323
13«
вается рядом со смертным и тленным. Красота любимого
поэтому не овладевает до конца всем его существом, она
не только данное, но и заданное в любви. Любовь не
только открывает нам прекрасный образ другого, но и властно
зовет нас к конечной реализации этого образа, к
конечному выявлению его в земной действительности, к
конечному претворению всего земного, темного и тленного в
рамках земного бытия. Дает ли любовь силы человеку для
осуществления и достижения той цели, которую она перед
нами ставит?
Есть факт, перед лицом которого становится особенно
разительным творческое бессилие человека, внутренняя
немощь его любви. Этот факт—смерть. Тут темное
и таинственное побеждает свет, прекрасный лик
любимого лежит перед нами оскверненный, разбитый, тлеющий,
и, видя божественный образ красоты другого
рассыпанным и поверженным во прах, мы можем сказать с поэтом:
Так вижу я: самих богинь сильней
Царица Смерть! И тем грозит могилой!
О, как легко чарует нас обман!
Не верил я, чтоб тех очей светила,
Те солнца два живых, затмил туман,—
Но черная земля их поглотила.
«Все тлен!—поет нам боль сердечных ран,—
Все, чем бы жизнь тебя ни обольстила»4'.
Тут перед лицом смерти более реальным, более
действительным оказывается не то нетленное, блистающее
начало, которое знает в любимом любящий, но темное,
мрачное, непросветленное, которое открыто и зримо всем
и в реальность которого не верит, не может верить
охваченный пламенем любви.
«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во
гробе лежащую по образу Божию созданную нашу
красоту, безобразну, безславну, не имеющую вида. О, чудесе!
что сие еже о нас бысть таинство, како передахомся
тлению; како сопрягохомся смерти» (из чинопоследования
погребения).
Но в смерти лишь с наибольшей яркостью и
резкостью выражается то, что является законом земного
существования. Время, которое есть постоянное умирание,
держит всегда в заколдованном кругу любимое нами, не
* Там же, с. 262.
324
выпускает его, и мы делаемся беспомощными зрителями
того, как в неустанном потоке физических и психических
состояний течет, сменяется и тлеет то, бессменность и
незыблемость чего властно требуется от нас любовью.
Можем ли мы что-нибудь противопоставить этому
постоянному умиранию, психофизическому тлению
любимого, этому осквернению божественного лика, являемого
нам в другом?
Конечно, нет. Полная и совершенная реализация в
любимом начала Вечности и Нетления предполагает полное
поглощение всего временного вечным, уничтожение
самого порядка времени как постоянного умирания и замены
его порядком вечности, то есть, иначе говоря, такая
реализация предполагает космический переворот, выводит
человека из рамок естества, заключенного во времени,
ведет за грани и возможности естественной любви.
Поэтому естественная любовь оставляет человека бессильным
и беспомощным. Давая любящему высшее откровение
божественного образа, она неизбежно обрекает его на
мучительную трагедию—видеть этот образ постоянно
оскверняемым и растлеваемым и не быть в силах остановить это
святотатство.
Так, «воздушный мост, построенный Эросом, рушится
каждый раз на том же самом месте» *.
Но реализацией красоты, божественного лика в
любимом не исчерпываются все те задания, которые
преподносятся любовью сознанию любящего. Любимый не только
предмет нашего любования, нашего преклонения, наших
восторгов; образ любимого не только вызывает в нас
восхищение,—он влечет нас к себе. Вне нас положенный, он
вызывает в нас непреодолимое желание объединения
с ним. Любовь рождает в нас стремление к единству,
к полному и совершенному слиянию, не к подобосущию,
но к единосущию с ним, не к омиусии, но к омусии **. Но
если откровение любви, идеализация любимого, а
следовательно, и стремление к реализации в любимом
идеального образа есть специфическая особенность именно
половой любви, присущей во всей полноте почти
исключительно ей, то стремление к единосущию есть душа, основа
и предел всякой любви.
* Трубецкой Евг. Миросозерцание Вл. Соловьева, т.2,с. 210.
** Об омусии и омиусии в их метафизической противоположности
см.: Флоренский П. Столп и Утверждение Истины. Письмо о
триединстве.
325
Даже стремление к единоплотию, к телесной близости
и цельности с другим, которое обычно считается
исключительной особенностью любви разных полов, в
сущности говоря, свойственно всякой любви.
Любовь родительская, любовь братская неразрывна
с нежностью, которая и обуславливается стремлением
к телесной близости. Фрейду* и удалось показать, что
это стремление питается из того же источника, как и
подобное же стремление, свойственное любви разных полов,
что удовольствие, получаемое от телесной близости в
первом случае, в своей основе психологически тождественно
с удовольствием, получаемым во втором. Его работы
обнаружили, что стремление к телесной близости с другим
и к возникающему отсюда сексуальному удовольствию
возникает раньше, чем влечение к другому полу. И лишь
позднее это стремление к единоплотию под влиянием
многоразличных благоприятных условий направляется на
лицо другого пола.
Метафизическая неправда всякого аутоэротизма
заключается именно в том, что аутоэротизм замыкает
человека в его самости, обращает на него самого ту силу,
которая, разрывая границы своего «я», влечет его к другим
при нормальных условиях.
Но, конечно, если стремление к телесной близости,
к едипоплотию присуще всякой любви, если всякий
поцелуй есть выражение этого стремления к цельности и
единству, то, несомненно, высшего выражения это стремление
достигает именно в любви разных полов, стремление
к единосущию есть здесь вместе с тем стремление выйти
из замкнутости пола, соединиться с недостающим
половым началом, мужским или женским.
Единосущее уже дается любящим в самом живом
чувстве их любви, они уже осознают себя до некоторой
степени единым. Вместе с поэтом может сказать любящий:
Мир слеп; но без раздела
Я в духе с ней,—я в смысл ее проник.
Но это единосущее только относительное. Оно,
безусловно, скорее и больше заданное, чем данное в любви.
Любящие не столько сознают себя единым, сколько
стремятся быть им.
Прежде всего неосуществимо полностью конечное ду-
* См.: Фрейд 3. Теория половых влечений.
326
ховное единство в естественной половой любви. Есть
закон духовной непроницаемости, перед которым
оказывается бессильным самое глубокое человеческое чувство.
С неподражаемой яркостью говорит об этом Мопассан
в своем рассказе «Одинокие». Есть перегородка в нашей
душе, которую не в силах переступить душа другого, есгь
черта, отделяющая нас от мира, которую не перейдет
никто. Ни одну нашу мысль, ни одно наше чувство никто не
может восчувствовать так, как зародилось оно у нас в
душе. Всякое наше психическое переживание, переходя
сквозь многогранную призму души другого,
преломляется и воспринимается уже не таким, каким было оно у нас.
Мы всегда «.одинокие» духовно, мы никогда не сливаемся
с другими до полного, конечного единства души и тела,
такое единство недостижимо в плоскости естественного
бытия. Естественная половая любовь, разрывая плотные
грани нашей самости, дает нам некоторое подобие
духовного единства, но только подобие, и не больше того.
Что же сказать об единоплотии? Достижимо ли оно
в любви?
Прежде всего надо отметить желание некоторых
мыслителей, например Вл. Соловьева, рассматривать
стремление к единоплотию как незаконный придаток любви,
как падение. Такое отношение, несомненно, следует
считать ложным спиритуализмом. Человек—существо
психофизическое, а физическое в нем так же законно, как и
психическое. Только стоя на нездоровой почве гностицизма,
преодоленного христианством в его историческом
развитии, только признавая плоть за источник грехопадения
и неправды или по меньшей мере считая ее чем-то
преходящим, временным, а не носящим в себе залог вечности,
не подлежащим воскрешению и нетлению в последний
день, можно считать стремление к единоплотию менее
законным, чем стремление к единодушию, считать его
аномалией и болезнью в любви. Стоя же на точке зрения
христианства, видя в теле материал и потенцию грядущей
славы, мы не можем отрицать физический момент в
любви только потому, что он физический. Конечно, все
физическое существует не само по себе и должно быть
подчинено психическому, но поставленное на своем месте, оно
Делается не менее законно, чем психическое.
Но физическое единоплотие недостижимо в
естественной любви, оно есть неисполнимое задание ее. Физическое
сближение любящих есть лишь тень, лишь подобие един-
327
ства. Прав Бердяев, утверждавший в своей новой
«Философии свободы», что мы не знаем брака, в котором двое
становятся одной плотью, но знаем лишь брак, в котором
через единение двух рождается третий, третья плоть.
Хорошо пишет он об этом и в своей книге «Смысл
творчества»: «В исступлении сексуального акта есть задание
неосуществимое в порядке природном, где все временно
и тленно. Мимолетный призрак соединения в сексуальном
акте всегда сопровождается реакцией, ходом назад,
разъединением. Сексуальный акт по мистическому своему
смыслу должен был бы быть вечен, соединение в нем должно
было бы бездонно углубляться. Две плоти должны были
слиться в плоть единую, до конца проникнуть друг в
друга. Вместо этого совершается акт призрачного
соединения, слишком временного и слишком поверхностного.
Мимолетное соединение покупается еще большим
разъединением. Один шаг вперед сопровождается несколькими
шагами назад.
Соединение полов по мистическому своему смыслу
должно было быть проникновением каждой клетки
одного существа в каждую клетку другого, слиянием целой
плоти с целой плотью, целого духа с целым духом.
Вместо этого совершается дробное, частичное, поверхностное
соприкосновение, плоть остается разделенной от
плоти»*.
Но этого мало. Физическое единение любящих через
половый акт не только не дает им полноты единосущия,—
единосущие и единоплотие, оно, кроме того, таит в себе
начало распада, начало смерти, начало тления. На то, что
деторождение есть частичное тление и потому со стороны
рождающих частичное самоубийство, а со стороны
рождаемых—невольное и бессознательное отцеубийство,
не раз указывали русские мыслители, об этом писали
и Н. Ф. Федоров, и Влад. Соловьев, и Н. Бердяев. Но это
утверждение не только философская теория:
деторождение в порядке природы воспринимается как тление
церковным сознанием, как оно отразилось в православно-
богослужебной письменности. Богоматерь, не
изведавшая тьмы нашего деторождения, восхваляется именно как
не познавшая тления. «Без нетления Бога Слова
родившая»... В акафисте мы читаем:
«Новую показа тварь, явлься Зиждитель нам от Него
* Бердяев Н. Смысл творчества, гл. VIII, с. 185—186.
328
бывшим, из бессменыя прзяб утробы, и сохранив ю, яко-
же бе, нетленну, да чудо видяще, воспоим ю, вопиюще:
Радуйся, цвете нетления: Радуйся, венче воздержания:
Радуйся, воскресения образ облиставшпя» (Акаф. Пресв. Бо-
гор. 1 к.7).
«Велие и преславное чудо совершися днесь»,—
молится церковь в день Рождества Христова.—«Дева
рождает, и утроба не истлевает» (в день рожд. Госп.
Нашего Иисуса Христа стихира на стиховне). Все тело
Богоматери во всех его членах превозносится как нетленное: «Во
облаце леще, прииде Иисус Преобожественный, нетленною
дланию...» (Иромос Канона Благовещения, п. 4).
В связи с законом духовно-телесной непроницаемости,
непреодолимым до конца в естественной любви,
находится еще одна ее особенность—ее исключительность:
любящий в половой любви выбирает одного из толпы, из
множества, и только одного. Одновременная любовь к
двоим не только не должное, но и невозможное.
Поскольку, грубо выражаясь, мы психически или физически
заняты одним, мы не можем в то же время отдаваться
другому. Только дробясь, нарушая собственную целостность,
распадаясь во временном потоке, в ряде
последовательных психофизических состояний, мы отдаемся
нескольким. А так как любящий хочет иметь нас цельными, а не
дробными, хочет иметь нас в полноте, то он не может
помириться с дроблением психофизической энергии в нас.
Ревность4', которая, с одной стороны, есть ревнование
о Божественном лике в другом, о царственности другого,
о том, чтобы не пал он в безликую стихию обыкновенной
действительности, с другой стороны, несомненно,
обусловлена законом духовно-телесной непроницаемости.
Только в том случае, если бы любимый нами был
онтологически проницаемым, только если бы он, заполняя
всецело наше «я» собою, в то же время в силу своей
проницаемости оставлял бы в себе место для другого так, что,
любя его и отдаваясь ему полнотою нашей личности, мы
в нем любили бы другого,—только тогда наша любовь к
нескольким не была бы изменой и дроблением, и ревность,
не допускающая любви к многим, потеряла бы свою
законность, лишилась бы своей глубокой миссии. В по-
* О ревности см. замечательное учение свищ. П. Флоренского
«Столп и Утверждение Истины».
329
рядке же естественной любви исключительность и
ревность, присущие ей, неизбежны и законны.
Единоплотие не является единственным заданием
половой любви. Если стремление к нему есть основа всякой
любви, то в половой любви заложено и другое
стремление, присущее исключительно ей, составляющее ее
основную особенность, делающее ее половой любовью. Это
стремление любящего к очарованию противоположного
пола, к выходу из половой ограниченности, к цельности.
Пол в половой любви ощущается, с одной стороны, как
сила, как богатство, которое мы несем другому, с
другой—как ограниченность, как скудость, которую надо
восполнять даром другого.
С этой стороны именно половая полярность
возбуждает и пробуждает любовь.
В истолковании смысла и природы этого стремления
мы встречаемся с теорией андрогинизма в двух ее формах.
Первая форма, которая нашла себе яркое выражение
в платоновском «Пире», рассматривает человека как
распавшееся единство мужеженского, видит в половом
человеке половинное существо, которое ищет своего
дополнения, своей половины в существе другого пола. По этой
теории, в половой любви человек хочет завладеть полом
другого, приблизиться к нему, вместить в себя
противоположный половой полюс. Два существа, мужчина и
женщина, хотят в любви слиться в единое—андрогима. По
другой теории, которая в своем психофизиологическом
аспекте есть теория биосексуальности, каждый человек
есть существо двуполое, но в этом двуполом существе
развито только одно половое начало. «Ни у одного
нормального индивидуума мужского или женского пола не
отсутствуют совершенно следы полового аппарата
противоположного пола,—пишет Фрейд.—Следы эти или
остаются только в виде рудиментарных органов, не
выполняя никакой функции, или преобразуются, берут на
себя другие функции. Из этих уже давно известных
анатомических фактов вытекает учение о первоначальной
биосексуальной основе организма, причем эта
биосексуальность только в течение последующего развития
преобразуется в моносексуальность с ничтожными остатками
неразвитого пола»*. Этому психофизиологическому
учению о биосексуальности соответствует и метафизическое
* Фрейд 3. Теория половых влечений, с. 10.
330
учение о первоначальном апдрогинизме каждого из нас. По
этому учению, цель любви не в создании андрогина через
соединение мужчины и женщины, но в выявлении
внутренней андрогинной природы каждого из любящих.
Через любовь двое не должны слиться в единого андрогина,
но каждый из них сам должен сделаться андрогином *.
«Тайна и таинство интимной любви в том,—писал
Баадер,—чтобы взаимно помогать друг другу
восстановить каждому в себе андрогина как целостного и чистого
человека, который ни есть ни мужчина, ни женщина, то
есть нечто половинчатое»**.
Какую бы из этих теорий мы ни признали, но
несомненно, что половая любовь связана в нас со стремлением
выйти из половой замкнутости, как несомненно и то, что
это стремление через половую любовь недостижимо.
Если в любви мы ищем лежащее вне нас половое
дополнение,, то единство с ним возможно лишь через достижение
полного единосущия, через взаимопроникновение
любящих. Такое же единосущее, как мы видели, недостижимо
в плоскости единственной любви.
Если же цель любви есть раскрытие внутренного
андрогина, другого полового начала в любящих, то и эта
цель недостижима. Осуществление такого андрогинизма
было бы онтологической переменой в самом существе
любящих, переменой, невозможной в рамках земного
бытия. Здесь на земле мы встречаемся только с половою
разобщенностью или с уродством и безобразием
гермафродитизма. Противоположный половой полюс всегда
остается внешним, трансцендентным, внутренне недоступным
для любящих.
И еще, стремление заложено в душе любящих. Это—
сознательное или бессознательное стремление к
деторождению. В деторождении, и только здесь, человек
является создателем новой жизни. Он созидает здесь не
культуру, не дифференцированные ценности, но действительную
жизнь, действительное бытие. Здесь, и только здесь,
доступно ему объективное созидание. В этом созидании
таится та радость, которая сопровождает деторождение.
«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что
пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит
* Странное совмещение и нерасчлененность этих теорий находим
мы у Бердяева. См.: «Смысл творчества», гл. VIII, IX.
** Цит. по: Бердяев Н. Смысл творчества, с. 182.
331
скорби от радости, потому что родился человек в мир»
(Ио. 17, 21).
Таким образом, как будто именно в половой любви
открывается для человека возможность осуществить
заложенное в нем стремление к творчеству, союз половой
любви является как будто «волей двух существ создать
третье, которое важнее своих родителей»,—как говорил
Ницше; в половом акте человек является как будто
творцом нового бытия. Но все это «как будто». Объективное
творчество есть такое же неосуществимое задание
половой любви, как и единоплотие. Деторождение не есть
творчество в основе. Творческая воля превращается в нем
в слепую похоть. В половом акте, по словам Федорова,
«невозможно создать того, что желаешь, что желали бы
создать, а возможно лишь осуществить то, что, помимо
воли и желания или вопреки им, может фатально
произойти из жизни одних родителей, а из жизненной силы
всего рода человеческого (наследственность), даже и не
человеческого, но и всей несознательной и неволевой
природы. Ослабляя в самих себе ум и волю, рождаем не
подчиняющееся нашим творческим желаниям существо,
лишенное еще ума и воли, существо не для жизни
предназначенное, а на смерть обреченное»*.
Деторождение есть акт слепой, мы в нем воистину не
ведаем, что творим, кого созидаем. Знаем только, что
творим существо «на смерть обреченное», заключенное
в заколдованный круг временного бытования.
Половой акт насквозь безличен. В нем исчезает лицо
человека и личность делается игрушкой родовой стихии.
В нем осуществляет человек не свое творческое желание,
но возложенную на него родом задачу—размножение
рода.
Что же? Может быть, по крайней мере это родовое
задание—размножение рода—осуществимо в половой
любви? Да, оно осуществимо. Множественность
достижима через половой акт, но это множественность дурная, не
сведенная к единству, это множественность распада,
дробления, смерти. Созидаемый в половом акте ребенок,
вначале физически неразрывный, неотделимый от
родителей, составлявший часть их, постепенно отдаляется от
них, эмансипируется, сначала физически, а потом
нравственно. Он их создание, плоть от плоти их и кровь от
* Федоров Н. Ф. Философия общего дела, т.2, с. 161.
332
крови, делается внешним по отношению к ним,
трансцендентным, замкнутым для них, таким же непроницаемым,
как и весь мир. Так в стихии рода совершается распад,
торжествует дурная множественность, водворяется
царство замкнутых в себе, метафизически непроницаемых
друг другу особей. Заповедь, данная первым, еще не
согрешившим людям в их неразрывном единстве—«плодитесь
и размножайтесь»,—оказывается неосуществимой в
порядке земного, греховного бывания. Множественность
оказывается распадом, тлением, и самая заповедь,
творческая и любовная, обращается в тяжелое, гнетущее ярмо-
наказание—«в болезнях будешь родити чад».
Но все же человеку в половой любви и в эротическом
пафосе открывается возможность и настоящего
творчества, но не через деторождение, а через преодоление его.
Все высшие формы духовного творчества коренятся в
сфере половой жизни, питаются половой энергией. Только
для того, чтобы сделаться творческим огнем в человеке,
эта энергия должна перетерпеть превращение, должна
перестать быть собственно половой, превратиться в
другой, высший вид энергии. Должен произойти тот
таинственный процесс, который называется обыкновенно
«сублимацией»*. Тогда через это претворение одного вида
энергии в другой человек достигает подлинного
творчества, подлинной гениальности.
Что же? Значит, все-таки творчество достижимо через
пол, через половую любовь? Да, достижимо. Но
творчество чего? Если в половом акте человек не творит, но зато
через него входит в мир новая жизнь, новое бытие, то
здесь человек творит, но творит не новое бытие, не новый
мир, но культуру, дифференцированные ценности,
вступает на тот путь, всю недостаточность которого так ярко
обнажил Н. Бердяев в своей книге «Смысл творчества».
«Творчество болезненно и трагично в существе своем.
Цель творческого порыва—достижение иной жизни,
иного мира, восхождение в бытии. А достижение творческого
акта—книга, картина или правовое учреждение.
Движение вглубь и ввысь проецируется на плоскости. В этом
есть большое и трагическое несоответствие между
задачей творчества и результатом творчества. Вместо бытия
творится культура»**.
* Фрейд 3. Теория половых влечений, с. 112.
** Бердяев Н. Смысл творчества, с. 113.
333
Создание новой жизни через половую любовь не есть
творчество, а творчество не есть создание новой жизни.
Объективный и субъективный моменты здесь разорваны,
разделены.
В деторождении на человека возложена не только
задача размножения рода, но и сохранение и увековечивание
его. В половом влечении говорит в человеке голос
множества умерших, ушедших поколений, жаждущих своего
восстановления к жизни. Это гениально открыл Н.
Федоров. Деторождение с этой точки зрения по своему смыслу
должно было бы быть воскрешением, восстановлением
к жизни всех умерших отцов. Но деторождение не
воскрешает отцов, а лишь вводит в мир их заместителей. Оно
сохраняет род не как живое многоединство, но лишь как
смену, как дурную бесконечность. Но, как писал Вл.
Соловьев, «если род живет только в таких непрерывно
гибнущих поколениях, то жизнь рода есть постоянная смерть
и путь природы есть явный обман» *.
При таком порядке бывания, в царстве смены
поколений «самой-то жизни мы и не находим нигде, а везде
только порыв и переход к чему-то другому, и только в одной
смерти постоянство и неизменность». Так и полное
сохранение рода есть неосуществимое задание любви.
Но мало того, что задания любви все и всегда
недостижимы: они еще находятся во внутренней вражде,
внутреннем противоречии друг с другом, они обращены друг
против друга своими остриями. Достигая хотя бы частично
одного, мы теряем другое. Осуществляя наше стремление
к единосущию в половом акте, мы тем самым растлеваем
божественный образ другого, теряем открывшийся нам
лик, отказываемся от реализации, хотя и частичной,
нетления и бессмертия в другом. Создавая новое существо
через деторождение, мы отказываемся от творчества, ибо,
по словам Бердяева, «наиболее рождающий—наименее
творящий» **. Исполняя возложенные на нас родовые
задачи, мы отказываемся от личных, исполняя личные,
грешим против давшего нам жизнь рода. Род и личность
борются в роде друг с другом. Одни, как Вл. Соловьев,
всецело на стороне личности, другие, например Федоров,—
на стороне рода.
* Соловьев В л. Духовные основы жизни, т. Ш, изд.
«Просвещение», с. 307.
** Бердяев Н. Смысл творчества, с. 194.
334
Но как род, так и личность имеют свои нрава,
предъявляют свои требования, которые не могут и не должны
быть попираемы.
Но родовые задачи противоречат в любви родовым
и личные—личным. Любовь в целом есть сплошное,
непримиримое противоречие.
Эти метафизические противоречия любви выявляются
в психологических противоречиях, разъедающих дух
любящих. Открывая нам бездну счастья, любовь открывает
и бездну муки:
То же,
Что в жизни смерть—любовь. На боль похоже
Блаженство. «Страсть», «страданье» - тот же
звук*.
Любовь носит на себе внутреннюю трагедию. Ее
обетования неисполнимы в порядке мировой данности.
Она—таинственна, непонятна для мира. Она открывает
новое бытие перед человеком, новые миры, она влечет
человека к небу, но она не дает ему крыльев. Она обрекает
на падение всякого, кто в ней стремится подняться ввысь,
она показывает небо, чтобы вновь низвергнуть на землю.
Охваченный эротическим пафосом приближается к
самому заповедному, таинственному. В нем пробуждаются
смутные надежды самых дерзновенных, самых
несбыточных грез. Новое, нетленное бытие, единосущее с
любимым, выходит из уродливой ограниченности пола,
творчество, созидание новой жизни, наконец, воскрешение
любимых—все это, еще в тумане, преподносится перед
восхищенным взором любящего, и, сам еще не смея осознать
своих желаний, он уже трепещет и пламенеет, чувствуя
себя носителем нечеловеческой мощи, исполнителем
нечеловеческих целей.
Вошки бесконечно, несказанно прекрасны обетования
любви! Но не таковы ее достижения.
Обещая человеку освободить его от власти суеты
н тления и открыть ему новое бытие, любовь сама не в
силах вырваться из заколдованного круга временного быва-
пия, не в силах разорвать тяжелого гнета мировой
данности, преодолеть непрекращающейся тленности мира.
Раздираемая внутренними противоречиями, бескрылая,
лишенная творческой мощи, она не спасает человека от все-
* Петрарка Ф. «Моя тайна...», с. 243.
335
поглощающей смерти и сама, несущая в себе неземное
благоухание мистической розы, рассыпается в зловонных
парах вместе со всем естеством.
Так исполняется и здесь нерушимое слово Иисуса—
«Без Меня не можете творити ничесоже» (Ио. гл. XV,
ст. 5).
ствия, чем принято думать. Но это—дело будущего. Сейчас,
в пределах существующих возможностей, я хочу рассказать
о ней самой. Предварительно мне, однако же, придется
коснуться того, что зовется духом эпохи, ибо история
Нины Петровской без этого непонятна, а то и незанимательна.
* * *
Символисты прежде всего не хотели отделять
писателя от человека, литературную биографию от личной.
Символизм не хотел быть только художественной
школой, литературным течением. Все время он порывался
стать жизненно творческим методом, и в том была его
глубочайшая, быть может, невыполнимая правда, и
в этом постоянном стремлении протекла, в сущности, вся
его история. Это был ряд попыток, порой истинно
героических, найти безукоризненно верный сплав жизни и
творчества, своего рода философский камень искусства.
Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел
бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь,
что гений такой не явился, формула не была открыта.
Дело свелось к тому, что история символистов превратилась
в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недо-
воплотилось: часть творческой энергии и часть
внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплоща-
лась, утекала в жизнь, как утекает электричество при
недостаточной изоляции.
Процент этой «утечки» в разных случаях был
различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание
«человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда
другой. Как и почему—вопрос особый; но, кажется,
можно сказать, что победа чаще всего доставалась той
стороне личности, которая была даровитее, сильнее,
жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался
сильнее, «писатель» побеждал «человека». Если сильнее
литературного таланта оказывался талант жить, литературное
творчество отступало па задний план, подавлялось
творчеством иного, «жизненного» порядка. На первый взгляд
странно, но, в сущности, последовательно было то, что
в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить»
расценивались одинаково.
Выпуская впервые «Будем как Солнце», Бальмонт
писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, ху'
дожнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда
338
это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен
дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец,
в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых
стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций—
и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды,
и я верю, что он заслужил их. Художник, «создающий
поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законченным
явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не очень
одинок. Таких, как он, было много, в том числе Нина
Петровская. Литературный дар ее был невелик. Дар жить—
неизмеримо больше.
Из жизни бедной и случайной
Я сделал трепет без конца.
Она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из
жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет.
Из творчества—ничего. Искуснее других создала она
«поэму из своей жизни».
Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об
этом речь впереди.
* * *
Нина скрывала свои годы. Думаю, что она родилась
приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м.
Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется,
была она дочерью чиновника, но не уверен. Кончила
гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестой
одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались
драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не
любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала
«литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей
бедным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как
очутилась в кругу символистов и декадентов, в кругу
«Скорпиона» и «Грифа».
Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее
прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не
похожей. Здесь пытались претворить искусство в
действительность, а действительность—в искусство. События
жизненные в связи с неясностью, шаткостью линий,
которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не
переживались как только и просто жизненные; они тотчас
становились частью внутренного мира и частью
творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было станови-
339
лось реальным, жизненным событием для всех. Таким
образом, и действительность, и литература создавались
как бы общими, порою враждующими, но и во вражде
соединенными силами всех, попавших в эту необычную
жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется,
подлинный случай коллективного творчества.
Жили в неистовом напряжении, в вечном
возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в
нескольких планах. В конце концов, были сложнейше запутаны
в общую сеть любви и ненависти, личных и литературных.
Вскоре Нина Петровская сделалась одним из
центральных узлов, одною из главных петель той сети.
Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее
природный характер». Блок, приезжавший в 1904 году
знакомиться с московскими символистами, писал о ней
своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие
определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал
двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой
и упрямой, трусливой и смелой, послушной и
своевольной, правдивой и лживой, благородной и низкой. Одно
было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во
лжи—всегда, во всем хотела она доходить до конца, до
предела, до полноты. И требовала того же. «Все или
ничего»—могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это
в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.
О попытке слить воедино жизнь и творчество я
говорил выше, как о правде символизма. Она и останется за
ним, хотя не ему одному принадлежит. Это—вечная
правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко
пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение
символизма, его смертный грех. Провозгласив культ
личности, символизм не поставил перед нею никаких задач,
кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие
совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении—
он не предуказал, предуказывать почитал себя не вправе.
От каждого, вступавшего в орден (а символизм в
известном смысле был орденом), требовалось лишь
непрестанное горение, движение—безразлично, во имя чего. Все
пути были открыты с одной лишь обязанностью—идти как
можно быстрей и как можно дальше. Это был его
единственный догмат. Можно было прославлять и Бога,
и Дьявола, и что угодно. Разрешалось быть одержимым
чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.
Отсюда лихорадочная погоня за эмоциями, опять-
340
таки безразлично, за какими. Все «переживания»
почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны.
Качество их решительно вытеснялось количеством.
В свою очередь отсюда вытекало безразличное
отношение к их последовательности, к их целесообразности
(целесообразности и не спрашивалось). «Личность»
постепенно становилась копилкой переживаний, мешком, куда
ссыпались накопленные без разбора эмоции—«миги»,
по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».
Глубочайшая опустошенность оказывалась
последним следствием этого эмоционального скопидомства.
Скупые рыцари символизма умирали (и умирают) от
духовного голода—на мешках накопленных
«переживаний». Но это именно последнее следствие. Ближайшим,
давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было
нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль,
жизнь, отношения, самый даже обиход свой по
императиву очередного «переживания», влекло символистов к
непрестанному актерству перед самими собой—к
разыгрыванию собственной жизни как бы в театре жгучих
импровизаций. Знали, что играют. Но игра становилась
жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю
клюквенным соком!»—кричал блоковский паяц. Но клюквенный
сок иногда оказывался кровью.
Декадентство, упадничество—понятие
относительное: упадок определяется отношением к первоначальной
высоте. Поэтому в применении к искусству ранних
символистов термин «декадентство» был бессмыслен: это
искусство само по себе никаким упадком по отношению к
прошлому не было. Но вот те грехи, которые выросли и
развились внутри самого символизма, были по отношению
к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется,
родился с этой отравой в крови. В разной степени она
бродила во всех людях символизма. В известной степени (или
в известную пору) каждый был декадентом. Нина
Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его
Декадентство, тотчас и насквозь пропиталась его ядом.
Она была его жертвой. Жизнь свою она сразу захотела
сыграть—ив этом, по существу ложном, задании осталась
правдивою, честною до конца.
В обстановке тогдашней жизни любовь открывала для
символизма или декадента легчайший доступ к
неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть
влюбленным—и человек становится обеспечен всеми предметами
341
первой лирической необходимости: Страстью,
Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом,
Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не
в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены;
малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували
изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как
«любовь к любви».
Подлинное чувство имеет градации, от любви
навсегда до мимолетного увлечения. Пушкин любил и
Волконскую, и Наташу, крепостную актрису,— но сам
сознавал разницу между этими чувствами и разницы той не
боялся. Для символистов самое понятие «увлечение»
было противно, потому что опасно. Из каждой любви они
точно обязаны были извлекать максимум эмоциональных
возможностей. Каждая должна была по их кодексу быть
роковой, вечной и т. д. Они во всем искали превосходных
степеней. Если окончательно не удавалось самую любовь
сделать «вечной»—можно было разлюбить. Но каждое
разлюбление и новое влюбление должны были
сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними
трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В
особенности последним, ибо, в сущности, для того все и
делалось.
Любовь и все производные от нее эмоции должны
были переживаться в предельной напряженности и полноте,
без оттегасов и случайных примесей, без ненавистных пси-
хологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими
эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно,
неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих
особенностей. Оно превращается в собственную
абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось гак
часто с заглавных букв. По-видимому, количество
заглавных букв у поэтов обратно пропорционально их
правдивости: чем поэт правдивее, тем у него заглавных букв
меньше.
Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903
году была она молода—это много. Была «довольно умна»,
как сказал Блок, была «чувствительна», как сказали бы
о ней, живи она столетием раньше. Главное же—она
умела «попадать в тон». Опа тотчас стала объектом любвей.
Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто
во всех без изъятия. Он предложил ей любовь
стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак не
возможно: тут действовал и страх оказаться провинциалкой,
342
и польщенное самолюбие (поэт становился
знаменитостью), и главное—уже воспринятое учение о «мигах».
Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже
влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее
душе неприятный осадок—нечто вроде раскаяния после
пьянства. Нина решила «очистить душу», в самом деле
уже оскверненную поэтовым «оргиазмом». Она
отреклась от «греха», облачилась в черное платье, каялась.
В сущности, каяться следовало. Но это было более
«переживанием покаяния», чем покаянием подлинным. Тут
впервые она начала играть свою жизнь, как актер перед
зеркалом.
Я не хочу вводить в свой рассказ вымышленные имена.
Поэтому одно из действующих лиц, которое не могу
называть точно, буду называть графом Генрихом. Это имя,
разумеется, тоже вымышлено. Однако не мной. И оно
давно .приросло к этому человеку. Почему и как—будет
ясно в дальнейшем.
В 1904 году граф Генрих, поэт, мистик, был еще очень
молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени
обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами
и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, порой—
проблесками истинной гениальности. Другое дело—как
и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда
этого несчастья еще не предвидели.
Графом Генрихом восхищались. В его присутствии все
словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось
его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все,
даже те, кто ему завидовал, были немножко в него
влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние.
Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине
Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в
любовь.
О, если бы в те времена могли любить просто, во имя
того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить
во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина
обязана была в данном случае любить графа Генриха во
имя его мистического призвания, в которое верить
заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед
нею не иначе, как в блеске своего сияния—не говорю под-
Дельного, но ... символического. Все было соответственно
стилизовано. Малую правду, свою просто человеческую
любовь они символически, условно рядили в одежды
правды неизмеримо большей. На черном платье Нины
343
Петровской явилась черная нить деревянных четок и
большой черный крест. Такой крест носил и граф Генрих...
О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но
он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от
Нины, чтобы слишком земная любовь не пятнала его
чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее
сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя
матери так складывались, что было уже символически
очевидно: она— предвестница Жены, облеченной в
Солнце. И граф Генрих бежал. А к Нине ходили его друзья,
шепелявые, колченогие мистики,—укорять, обличать,
оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили
пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень
темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».
Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая
жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене,
облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из
драгоценнейших русских поэтов.
Тем временем Нина оказалась брошенной, да еще
оскорбленной. Слишком понятно, что, как многие
брошенные женщины, она захотела разом и отомстить ему,
и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое
измерение», продолжала развиваться в нем же.
* * *
Осенью 1904 года я однажды случайно сказал Брюсо-
ву, что нахожу в Нине много хорошего.
— Вот как?—отрезал он.— Что же, она хорошая
хозяйка?
Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился,
как наметился ее разрыв с графом Генрихом. Он по
своему положению не мог оставаться нейтральным.
Он был представителем демонизма. Ему полагалось
перед Женой, облеченной в Солнце, «томиться и
скрежетать». Следственно, теперь Нина из «хорошей хозяйки»
превратилась для него в нечто значительное, облекалась
демоническим ореолом. Он предложил ей союз—против
графа Генриха. Союз тотчас же был закреплен взаимной
любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно:
так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему
полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем
утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним
способа «отомстить» графу Генриху.
344
Брюсов в ту пору занимался оккультизмом,
спиритизмом, черною магией,—не веруя, вероятно, во все это по
существу, но веруя в самые занятия как в жест,
выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и
Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она,
что ее магические опыты под руководством Брюсова в
самом деле вернут ей любовь графа Генриха. Но она
переживала это как подлинный союз с дьяволом. Она хотела
верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это,
быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших
научных источников (он всегда уважал науку) он ведь
знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались
и сами себя почитали—истерички. Если ведьмы XVI
столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX
веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку
в ведьму.
Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась
прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года в
малой аудитории Политехнического музея граф Генрих
читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему
и пыталась выстрелить из браунинга в упор. Револьвер
дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно,
что второго покушения она не совершала. Однажды она
сказала (много позже):
— Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я убила его
тогда, в музее.
Этому «по правде сказать» я нисколько не удивился:
так перепутаны, так перемещены были в сознании
действительность и воображение.
А через восемь лет Брюсов подарил тот же револьвер
поэтессе Надежде Львовой. Из него же она и застрелилась
в ноябре 1913 года.
То, что для Нины стало средоточием жизни, было для
Брюсова очередной серией «мигов». Когда все
вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его
потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с
известною условностью, он изобразил всю историю, под
именем графа Генриха представив того, кому сохранил и
я здесь это имя, под именем Ренаты—Нину Петровскую,
а под именем Рупрехта—самого себя.
В романе этом Брюсов разрубил все узлы отношений
между действующими лицами. Он придумал развязку
и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем
легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась
345
в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина
Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно
затягивался. Для Нины все это уже становилось жизнью,
для Брюсова—стало использованным сюжетом. Ему
тягостно было переживать все одни и те же главы. Все
больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые
любовные истории, менее трагические. Стал все больше
уделять времени литературным делам, всевозможным
заседаниям, до которых был великий охотник, и прочему.
Для Нины это был новый удар. В сущности, за это
время (а шел уже примерно 1907 год) ее страдания о графе
Генрихе притупились, утихли. Она сжилась с ролью
Ренаты. Теперь перед ней вставала грозная опасность—
утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась
прибегнуть к испытанному средству многих женщин, к средству,
однажды уже, впрочем, обманувшему ее надежды: она
пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность.
8 ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими»,
как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние.
«Прохожих» она презирала и оскорбляла. Все было
напрасно. Брюсов охладевал. Иногда пытался
воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина
переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то
ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По
двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване,
накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется,
свидания с Брюсовым проходили в обстановке не более
легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она
ломала мебель, била предметы, бросая их, «подобно ядрам из
баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле».
Она тщетно прибегала к картам, потом к вину.
Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий.
Затем сделала морфинистом Брюсова. Осенью 1909 года
она тяжко заболела на этой почве, едва не умерла. Когда
несколько оправилась, решено было, что она уедет за
границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на
вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше
никогда не увидит: это было условлено. Уезжала еще
полубольная, с сопровождающим ее врачом. Это было
9 ноября 1911 года. В тех, московских, страданиях она
прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было
продлиться еще шестнадцать.
346
* * *
Ее скитания за границей известны мне не столь
подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву,
потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она
выбросилась из окна гостиницы на бульваре Сен-Мишель.
Сломала ногу, которая плохо срослась. Она осталась
хромой.
Война застала ее в Риме, где прожила она до осени
1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния,
го в припадках смирения, которое сменялось
отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила
милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для
одной кинематографической актрисы, опять голодала.
Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения.
Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя,
записанное где-то в нестираемых свитках St. Pietro,—
Рената»,—писала она мне.
Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого
счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие
страдают. Почем я знала—какие другие,—Львову он уже
в го время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым
движением, каждым помышлением».
Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года.
Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее немало друзей.
Помогали ей, как могли, и, кажется, иногда больше, чем
могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать
она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она
уже была точно по другую сторону жизни.
* * *
В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная
запись: «Нина Ивановна Петровская "умирает"». Известие
»то Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает»
он написал в кавычках?
Нина в те дни действительно умирала: это была та
болезнь перед отъездом из России, о которой я говорил
выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому
что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему
было известно, что с 1906 года Нина Петровская
постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два
347
года жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда
шутила сама над собой:
Устюшкина мать
Собиралась помирать.
Помереть не померла,
Только время провела.
Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 192S
года: «Кажется, больше не могу». 7 апреля 1925 года: «Вы,
вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927
года: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12
сентября 1927 года: «Еще немного, и уже никаких мест,
никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927 года:
«На этот раз я скоро должна скончаться».
Это—в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет
под рукою. Но всегда было то же и в письмах, и в
разговорах.
Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.
Если кому-нибудь мое объяснение покажется грубым,—
значит, я с самого начала не сумел достаточно ясно
показать те психологические условия, в которых протекала
жизнь Нины Петровской.
Жизнь ее была лирической импровизацией, в которой;
лишь применяясь к таким же импровизациям других
персонажей, Нина старалась создать нечто целостное—
«поэму из своей личности». Конец личности, как и конец
поэмы о ней,—смерть. В сущности, поэма была закончена
в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно
обрывается «Огненный Ангел». С тех пор и в Москве, и в
заграничных странствиях Нины длился мучительный,
страшный, но лишенный движения эпилог. Дописать
последнюю фразу и поставить точку Нина не боялась, но не
могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму,
подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-
нибудь последним событием, с разрывом еще одной
какой-то нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец это
событие свершилось.
С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении
осталась младшая сестра Надя, существо, недоразвитое
умственно и физически (с нею случилось в детстве
несчастье, ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она яе
была, но отличалась какой-то предельной тихостью,
безответственностью. Была жалка нестерпимо и предана
старшей сестре до полного самозабвения. Да у нее,
348
конечно, никакой собственной жизни и не было. В 1909
году, уезжая, Нина взяла ее собой, и с той поры Надя
делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было
единственное и последнее существо, еще реально
связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизью.
Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и
неслышно, как жила. Так же тихо и умерла 13 января 1928
гола от рака желудка. Нина ходила в покойницкую
больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола
маленький труп сестры, потом той же булавкой—себя в
руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть единою
смертью. Рука, однако же, сперва опухла, потом зажила.
Нина приходила ко мне в те дни. Однажды прожила
у меня три дня. Говорила со мной на том странном
языке девяностых годов, который когда-то нас связывал, был
у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился
понимать.
Смертью Нади была дописана последняя фраза
затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим
собственной смертью Нина Петровская поставила точку.
ные пути ее развития. К тому же Федор Павлович
живет не только в себе: он живет и в Дмитрии, и в
Иване, и в Алеше, и в Смердякове. Дети развивают
возможности отца и досказывают им недоговоренное.
«Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня даже
во всю мою жизнь не было безобразной женщины—вот
мое правило... по моему правилу, во всякой женщине
можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни
у которой другой не найдешь,—только надобно уметь
находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не
существовало: уже одно то, что она женщина, уж это
одно—половина всего... Даже вьельфики... и в тех иногда
отыщешь такое, что только диву даешься на прочих
дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не
заметили!»
В этих словах—будем искренни и откровенны сами
с собою—есть нечто всем нам близкое, влекущее не
только нашу похотливость, нечто зовущее погрузиться в себя.
От клейких слов и наглого хихиканья веет чем-то
глубоко проницающим в самое природу любви. И прежде
всего—Федор Павлович видит то, чего не видят другие,
улавливает неповторимо индивидуальное. Широта его
знания изумительна. Ценитель «грубой женской красоты»
(поверим пока характеристике «автора», которого
следует отличать от самого Федора Михайловича
Достоевского), до безумия увлекается бедною матерью Алеши,
ее невинностью. «Меня эти невинные глазки, как бритвой,
тогда по душе полоснули»,—говорил он, по обыкновению
своему гадко хихикая. Пускай ему хотелось осквернить,
в грязь втоптать эту чистоту. Он ее понимал и
чувствовал острее и глубже, чем иной «благородный» и
непохотливый человек. Сама жажда осквернить понятна
лишь на почве яркого переживания того, что
оскверняется. А следовательно, восприятие чистоты (то есть
сама чистота) должно было находиться в душе Федора
Павловича, до известной степени быть им самим.
Невозможно понять чужую душу, не сообразуя себя с нею,
не уподобляясь ей, то есть не становясь такою же, как
и она. Федор Павлович познавал «невинность» Алешиной
матери и стремился к ней, то есть любил ее, и без любви
не было бы и познания. Ощущая в себе сияние чистоты,
он ощущал несоответствие между нею и своим темным
эмпирическим «я» и знал, что эта чистота выше его. И
попирая ее, он понимал, что попирает лучшее и святое,
351
влекущее его к себе, любимое им, лучшую часть
себя самого. Тут-то и скрыто обаяние осквернения,
мучительная прелесть его и кружащие голову чары...
Перед нами один аспект объединившейся со стихийной
мощью личности,—аспект мучительства, насилия,
безграничного властвования. «Вот она,—та же мысль
фаланги,—от меня, клопа и подлеца, вся зависит, вся кругом,
и с душою и с телом. Очерчена». Маленькое эмпирическое
«я» стремится к самоутверждению в полном обладании
любимой (хотя бы на миг любимой—все равно), в
полном растворении ее в себе. Я хочу, чтобы любимая была
моею, совсем и целиком моею, мною самим, чтобы она
исчезла во мне и чтобы вне меня от нее ничего не
осталось. Эта жажда власти и господствования есть
во всякой любви; без нее любить нельзя. Потому-то
любовь и проявляется как борьба двух душ, борьба
не на жизнь, а на смерть.
Любовь всегда насилие, всегда жажда смерти
любимой во мне; даже тогда, когда я хочу, чтобы любимая моя
властвовала надо мной, то есть когда хочу моего
подчинения ей, ее насилия надо мной. Ведь я хочу именно такого
насилия, то есть уже навязываю любимой мою волю.
И если даже отказываюсь я от всяких моих определенных
желаний и грез, я все же хочу, чтобы она (никто другой)
была моей владычицей, хочу, чтобы ее воля на мне и во
мне осуществлялась, то есть отождествляю мою волю с ее
волею, себя с любимой. А тогда уже не любимая
совершает насилие надо мной, а я сам—через нее; и уже не она
владычествует— я владычествую. Это вовсе не игра
словами и понятиями, а простое описание действительности.
Надо ясно себе представить и ощутить, что подчинение
моей воли воле любимой является превращением моей
воли в ее волю до полного торжества. В пределе своем
подчинение превращается в господствование; вернее же—
в этом пределе нет ни господствования, ни подчинения,
но одно только единство двух воль, двух «я». Им
объясняется странное чувство, которое всплывает в
изнасилованной любимым. Ощущение несправедливой
униженности, испытанного насилия часто неожиданно и
непроизвольно сменяется жалостью к насильнику, словно он не
наслаждался, а страдал, не насиловал, а сам испытывал
насилие. Откуда это иррациональное и невольное чувство,
каков смысл этой нежной жалости, если она всегда
обманывает, если насильник на самом деле не жалок, как без-
352
вольный раб увлекшей его чрез любимую стихии? Он не
довел до предела напряжение своей воли к властвованию,
не подчинил себе воли любимой, то есть не
отождествился с этой волею или не подчинился ей. И само
влечение к обладанию не сделано им его, всецело влечением,
и вместо господина он стал рабом, но не рабом любимой,
что сделало бы его ее господином, а рабом темной стихии,
сломившей и любимую, и его самого. Поэтому он должен
испытывать чувство унижения и стыда, чувство
отвращения к совершенному им, которое в иных случаях может
перенестись даже на любимую.
Итак, само стремление к господствованию и насилию
естественно в любви как неполное, ограниченное ее
выражение. Оно часто проявляется грубо и жестоко, как
первобытное рабовладельчество, часто принимает вид
изысканного мучительства, захватывая всю сферу душевности.
Предполагая в другом жажду подчинения и рабствования,
оно словно испытует: есть ли еще сила другого, им,
насилием, не сломленная; издевается, истязает. Нередко
бурный и нетерпеливый порыв властвования не ждет мольбы,
жажды другого быть властвуемым. Он ломает все
препятствия, неудержимый и самоутвержденный. И такое
насилие прощается не всеми и прощается с трудом, оставляя
на всю жизнь болезненные следы, сглаживаемые лишь
печальными зорями старости. Но в этом случае остается
неосуществленным и само господствование: не все
подчинено и взято—осталось сопротивление воли, только
внешне сломленное, и не было вольного подчинения.
Властвование может стать полным лишь тогда, когда подчинена
и воля, то есть когда обе воли, подчиняющая и
подчиняемая, слились в едином и одном волевом акте.
Для того же, чтобы осуществилось такое слияние,
необходимо уподобление воли властвующего воле
властвуемого. Оно и совершается.—Я хочу
господствовать не над вещью, а над личностью, что уже
определяет, ограничивает мою волю; я хочу господствовать над
этою личностью и жду от нее именно такого,
свойственного ей ответа, что ограничивает мою волю еще более,
по-новому определяет ее качествование и чертит ей
единственно возможный для нее путь. В пределе своем
господствование перерождается в подчинение или развивает
присущий ему изначала момент этого подчинения. Ведь
уже некоторым подчинением является признание чем-то
высшим той чистоты, которую хочешь осквернить и
растоптать и которая вопреки тебе властвует над тобой. Не
353
14-1520
подчиняясь ей, не признавая ее высшим и лучшим,
невозможно попирать ее и сквернить. Именно потому, что
властвование и рабствование изначально едины как два
проявления одного и того же, и возможен переход одного
в другое, вечный их перелив. Потому-то вслед за самим
актом обладания в душе обладавшего рождается чувство
нежной благодарности, преодолевающее отвращение
и стыд. Какой смысл этой благодарности, если все
сводилось к насилию, если не было, хотя бы на одно мгновение,
свободного дара, вольной самоотдачи со стороны
любимой, то есть единства двух воль?
Есть своя правда, свое бытие и в рабовладении, и
в рабствовании, хотя и бытие ущербленное, ограниченное.
И то и другое—два как бы разъединившихся лика единой
любви, живых в ее единстве. И не только Митя, даже
Федор Павлович стремится к этому единству, к «восторгу»,
болезненно ощущая «обман». Но если правильны наши,
на первый взгляд далекие от Федора Павловича
наблюдения,—в обоих, и в отце и в сыне, должен проявляться
и другой лик любви: не могут они быть только «злыми
насекомыми» и не подниматься душою от низости.
Как представляет себе Дмитрий Федорович свое
возможное будущее с Грушенькой?
— Буду мужем ее, в супруги удостоюсь, а коли придет
любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду
калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на
посылках бегать.
Здесь много чувства оскорбленного человеческого
достоинства, много презрения к себе и горечи, но по
существу—готовность беспредельного подчинения. Нужды
нет, что Митя, как и сам он знает, его перенести не
сможет. Выше этого чувства поднимается он, когда мчится
в Мокрое, чтобы в последний раз взглянуть на свою Гру-
шеньку и умереть. «Счастье твое губить не хотел!»—в
блаженстве лепетал Митя, уже счастливый взаимностью
любви. Любовь, сама жизнь довела его в самоотвержении
до последней черты своей—до смерти. И глубокою
искренностью звучит стенание его истерзанной
хождениями по мытарствам души: «Прости, Груша, меня за
любовь мою, за то, что любовью моею и тебя сгубил».
Митя уже знает, что единство любви нерасторжимо и
гибель одного неизбежно влечет за собою гибель другого.
И не о «цветочках польдекоковских», не об «изгибе», даже
354
не о господствовании думает он, полный любовью
в преддверии смерти. Но любовь—жизнь. И в страшную
минуту полной оставленности и отчаянья подымается
Митя до яркого сознания единства и соравенства с
любимой, до трогательно-благородных, хотя и наивно-
неуклюжих слов, торжественно прозвучавших в
заплеванной комнате грязного трактира: «Спасибо, Аграфена
Александровна, поддержала душу!» (...)
Низменна похотливая Карамазовская любовь,
мелкая, дробная. В ней нет собранности; нет центра в ее
неоформленной, безобразной и безобразной стихии, но
каждый момент этой стихии на мгновенье становится
мелким, отъединяющимся от всего, замыкающимся в себе
и быстро исчезающим центром. И тем не менее из этой
любви растет вещее знание; в ней рвется наружу
стихийная сила; на ее польдекоковской почве, из ее зыбкого
болота подымаются чистые, белые цветы. Мучительство
и насильничество перерождаются в нежность и
жертвенность; одинокое самоутверждение—в самоотдачу. На
мгновения неожиданно раскрывается таинственное
единство. Но коснувшись светлых вершин, эта любовь снова
низвергается в топкое болото, становится сладострастием
жалкого насекомого. Федор Павлович в проявлениях
своей любви развратен и рационалистичен, вечно
наблюдающий за собой (потому и развратный) аналитик. Он
рождает Ивана, глубокий и тонкий, больной от правдивости
своей, неутолимый и жестоко истязающий себя и других
в своих исканиях ум; рождает Дмитрия, «горячее сердце»,
и Алешу с его чутким пониманием людей и мира, с его
нежною любовью, родною «серафической» любви Зосимы;
но он же рождает и Павла Федоровича Смердякова,
отцеубийцу и самоубийцу. А Митя, вслед за отцом постигая
красоту и правду единой жизни, нелепо, но вдохновенно
изливает свое сердце и в чужих стихах, и в прозе.
«Красота—это страшная и ужасная вещь! Страшная,
потому что неопределимая, а определить нельзя, потому
что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все
противоречия вместе живут... Страшно много тайн!
Слишком много загадок угнетают на земле человека.
Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота!
Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем
человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны,
а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже
с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Ма-
14»
355
донны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину
горит, как в юные, беспорочные годы. Нет, широк
человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что
такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то
сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что
в Содоме-то она и сидит для огромного большинства
людей,—знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота
есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут
дьявол с Богом борется, а поле битвы—сердца людей».
Как в зеркале вогнутом, в Карамазовской любви
отражается всеединая любовь. Ее черты искажены, но все-таки
ее черты—Карамазовская любовь—чудесное ведение,
необычайно тонкое познание, не только разлагающее как
разум, но и единящее как ум. Этим она несравнимо
превосходит так называемую любовь средних людей,
обывательскую, имени своего недостойную. Но она не только
ведение, она—могучая стихия, властно охватывающая
все существо человека, приносящая с собой безумие,
влекущая на преступление и гибель. Она доводит до граней
смерти, кровно связанной с нею; более того: смерть—ее
необходимое проявление.
В своих противоречиях Карамазовская любовь таит
единство и единством связует и переплавляет их друг
в друга. Поэтому-то в ней и берега «сходятся» и «все
противоречия вместе живут», как с удивительною
прозорливостью замечает Митя; потому-то в ней и «дьявол с
Богом борется». То она проявляет себя как безудержное
стремление к власти, насилию и мучительству, могучее,
но слепое и в слепоте своей недостаточное, теряющее
силы, кидающееся из стороны в сторону, мельчающее. То
подымается она до предощущения высшей истины любви,
того двуединства двух предызбранных и предназначенных
друг другу, о котором писал Платон, писали мистики. То
живет она в чистоте и самоотречении, то падает до
грязного в человеке сладострастия насекомого. И в
гнуснейших своих проявлениях, в Содоме, грезит она о
Мадонне, все же ощущая свою правоту; и, поднявшись до
светлого лика Мадонны, с тоской низвергается назад,
в мертвое море Содома.
Я упомянул о двуединстве как основном признаке
полной и подлинной любви, которая всегда есть любовь
именно этих двух любящих. Она может существовать
только между ними, «удасться» только им, вне их она
невозможна, чрез них же распростирается на всех и на все окру-
356
жающее. Здесь не место обосновывать это положение, и
я ограничиваюсь только тем, что высказываю его. Но где
же, спросят меня, двуединство в готовности Федора
Павловича «прильнуть к какой угодно юбке»?—А разве не
нашел Митя свою Грушенысу, Иван—свою Катю? Не
знаю, была ли своя избранница у старика.—Внутренне
разъединенный, тлеющий и смердящий, он мог избрать
или подобрать под забором лишь Лизавету Смердящую,
которая и родила ему его убийцу. Во всяком случае,
сознательно он свою единственную не искал, жадно и скупо
пытаясь жить и любить только в себе и для себя, стараясь
в себе удержать то, что влекло его в другую душу,
неведомую, но близкую, и в мир. Он думал только о своем
одиноком самоуслаждении. Но одинокое «я» неполно: оно—
лишь часть истинного; отъединившись, оно полагает
начало тлению и, разрывая двуединство любви (либо не
осуществляя его), разрывает себя самого, то есть дробит
единое чувство на бесчисленность мелких, преходящих
мигов. В основании своем ложно стремление создать свое
эмпирически-отъединенное единство. Всякое подобное
стремление не что иное, как попытка утвердить
первичный факт распада, продлить его, то есть вести к
дальнейшему разложению отложившееся от двуединства и уже
разложившее его «я», к гибели и смерти. Однако в
полноте саморазложения неизбежно исчезнет ограниченность
и самозамкнутость отъединенного «я», дурная
эмпиричность его бытия, ибо это разложение отъединенного.
А так как «я» отъединено не всецело—иначе бы его и не
было,— в процессе разложения не погибнет, а, напротив,
обнаружится истинная его природа, из смерти восстанет
бессмертная жизнь. И лучи этой бессмертной жизни, лучи
любви пронизывают темную душу Федора Павловича,
являют себя чрез него в том, в чем он сам себя отрицает.
Но не иллюзия, не сон эмпирически-низменная
любовь, и, как бытие, должна она быть благом.
Мучительство и властвование оправданно и истинно, когда
становится оно подчинением или сливается в нерасторжимое
с ним единство. Оно ограниченно, неполно, отвратно,
когда сосредоточено в себе, когда маленькое эмпирическое
«я» не хочет выходить за свои пределы, за свои, им же
созидаемые тесные грани. Но и в этих гранях каждый
момент мучительствующего «я» реален и бытиен,
необходимый как момент целого. Целое исчерпывает себя во всех
моментах и как целое сливается с подчинением или са-
357
моотдачей: жизнь завершается в смерти, становясь
полнотою любви, ибо любовь не близнец смерти, как
показалось поэту, а выше и сильнее смерти и противостоящей ей
ограниченной жизни. В целом нужен каждый момент, но
не в оторванности его, а в единстве со всеми другими, то
есть в более полном, в совершенном бытии.
При взгляде на Федора Павловича трудно отделаться
от чувства отвращения, и мысль невольно связывает это
отвращение с плотскою похотью. Но плотская похоть
сама по себе вовсе не низменна, не должна и не может
вызывать к себе отвращение. Не знают ни его, ни стыда
животные. Неверно, будто страсть не вызывает чувства
стыда или отвращения тогда, когда она самозабвенна, то
есть бессознательна. Мы часто стыдимся и испытываем
отвращение к себе, когда «самозабвенно» подчиняемся
порыву страсти; только стыдимся мы потом, когда о нем
вспоминаем. И если бы было не так, проблема
оставалась бы нерешенной или требовала бы как единственного
исхода отказа от всякой плотской страсти. В страсти и
похоти нашей мы стыдимся того, что подчиняемся ей
как чуждой стихии, теряем себя и свою волю. Нам
стыдно тогда, когда страсть увлекает и подчиняет нас,
властвует над нами, не тогда, когда мы, сливаясь с нею,
властвуем и страстно, целостно любим. Если я един со
страстным порывом и—самозабвенно или не самозабвенно:
все равно—люблю, мне не стыдно ни в минуту
страсти, ни потом. Напротив, я ощущаю безмерную полноту
и красоту жизни и любви.
Две сущности во мне: тело и душа, животное и духов-
пое начало. Но знаю я, что духовное должно царить и
осуществлять себя в единстве с телесным, подчиняя,
объединяя и направляя его. Тело выполняет закон своей природы
и во всей изменчивости своей осуществит свое единство,
через возникновение и разложение будет и самим собою,
и всем. Но только дух может возвысить это единство над
состоянием потенциальности, преобразить материю,
свершить, а вернее—усовершить ее. И должен он сделать
это не в отъединенности своей, а в обращенности к телу,
в гармоническом единстве с ним. Он не должен жить
особняком, не должен равнодушно жить рядом с «телом». Он
образует «тело», поддерживает созидаемое им единство,
преображает его. И стыдно ему, когда, забыв свою цель,
пренебрегши полнотою любви, в которой живет он,
забывает он о царственном положении своем и равнодушно
358
смотрит на «безумные» стремления своего тела, когда
живет той малою степенью любви, которая дана телу.
Всякое действие тела безвинно, оно не знает, что творит;
всякое в себе прекрасно и благо. Но всякое не полно, не
совершенно, отрываясь от единства, преходя и не достигая
полноты. Достижение же полноты не в отказе от него, а
в его развитии, когда утверждение одного момента
является и утверждением всех других, то есть отказом его от
себя, когда любовь и в теле осуществляется единством
жизни и смерти.
Карамазовская похоть отталкивает потому, что
остается в низинах животности, там, где для духа болото,
усеянное польдекоковскими цветочками. Она низменна
для духа в ее отъединенности, допускаемой косною
леностью духа; гнусна, как отрицающая все, кроме себя самой.
Извращенность же, изысканность, расчленение и
многообразие похоти—признаки попыток достичь полноты
собиранием жалких крох и создать единство отрывочно-
порывистыми усилиями. Они возможны потому, что дух
не находит в себе сил или не хочет объединить все, сам
разлагаясь. Разврат—распадение духа, утрата им своего
единства в отрыве от того духа, который его дополняет,
и от связующей их любви. В Карамазовщине
отвратительна Смердяковщина; ужасен тяжелый запах тления.
Федор Павлович не тупое животное; в нем нет даже тупого
самодовольства Смердякова, разве в потенции. В
отъединенности своей, в самоутверждении и сосредоточии на
эмпирически своем он всю мощь своего духа влагает в жизнь
своей животности, не преображая ее и не возвышая,
а держась на ее уровне, не объединяя ее, но пронизывая
силою своего духа разъединенные ее моменты в особно-
сти и мгновенности каждого из них. И дух его разлагается
и тлеет в тлении невинной и безумной, как невинна и
безумна Лизавета Смердящая, животности. Федор Павлович
стихийно любит, но любит низменно или—только
животно, одухотворяя миги разорванной своей любви. Он
чувствует свою правоту и в признании плотского, и в
одухотворении его, стыд и страдание—в недостаточности
такого одухотворения. Его любовь—и правда; и
недостаточная как правда мерзость. Не веря лучшему в себе—
своему сердцу, не слушая зовов любви и сами озарения,
ниспосылаемые ею, воспринимая или стремясь воспринять
только как свое наслаждение, он борется с собою и в
животной слепоте, воинствуя, утверждает плоть. И он нахо-
359
дат предел в плотской любви, в обладании безумным
телом, телом идиотки, пронизывает его чистую
материальность духом, но, не поднявшись над ним и его не подняв,
раскрывает смысл ограниченно-плотской любви. Лизаве-
та рожает ему смерть—его убийцу, мертвого и пустого
душою от колыбели Смердякова, повара и хама.
Федор Михайлович Достоевский, кровно близкий
своему герою и тезке, искал какого-то оправдания
Карамазовщине, учившей его, Федора Михайловича, любить,
как Версилов, как старец Зосима. Он пытался примирить
Зосиму с Карамазовыми вопреки безобразной сцене в
келье «священного старца». И Зосима как будто понял—а
можно ли понять, не полюбив?—и Федора Павловича,
и Митю, и Ивана. Он земно поклонился великому
страданию Мити, словно оправдав и освятив его жизненный путь.
Он и Алешу посылал в мир, предрекая и предуказуя ему
женитьбу и чрез него благословляя жизнь. «Много
несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив
будешь и жизнь благословишь, и других благословить
заставишь,—что важнее всего...» Но удалось ли это
примирение Карамазовых с Зосимой; действительно ли все
прияла в себе любовь старца? Отчего от усопшего старца
изошел «тлетворный дух» так скоро, что «естество
предупредил»; отчего и он «провонял»?
Яркая и острая, но болезненная и только словами
осуществленная любовь чахоточного брата запала в душу
девятилетнего Зиновия-Зосимы. Это нежная, радующаяся
и радующая любовь бессильного телесно, тихого и
кроткого юноши: «Мама, не плачь, жизнь есть рай, и все мы
в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать,
завтра же и стал бы на всем свете рай». «Матушка, крови-
нушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова
тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя
милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми
и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе
это, но чувствую, что это так, до мучения. И как это
мы жили, сердились и ничего не знали тогда?»
Так он вставал со сна, каждый день все больше и
больше умиляясь и радуясь и весь трепеща любовию. И
хотелось ему «гулять и резвиться, друг друга любить, и
восхвалять, и целовать, и нашу жизнь благословлять».
«Да, говорит, была такая Божья слава кругом меня:
птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре,
один все бесчестил, а красы и славы не приметил
360
вовсе». И умирающий просит прощения у «птичек
Божьих», и в прощении всех для него уже рай на земле.
Но все ли принято? Едва ли все, если осуждается и
отвергается бесчестье. Да и может ли все принять, не
мысленно только, а на деле, прикованный к постели своей,
умирающий юноша? И не такова ли немного и любовь
самого старца Зосимы? Его душа умиляется, взирая на мир.
Он видит, как «старое горе великою тайною жизни
человеческой переходит постепенно в тихую, умиленную радость».
Он бесскорбно принимает смену юности
разрушающейся старостью и, благословляя восход солнца, еще больше
любит «закат его, длинные косые лучи его, и с ними
тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы
изо всей долгой и благословенной жизни,—а надо всем-
то правда Божия умиляющая, примиряющая,
всепрощающая!». Он радуется близкой смерти своей, чувствуя,
что его «земная жизнь соприкасается уже с новою,
бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от
предчувствия которой восторгом трепещет душа, сияет
ум и радостно плачет сердце». Однако, не много ли в этой
любви русского «серафического Отца» самоотречения
и отказа от мира, для него все же—юдоли слез и
испытаний? Не далека ли столь близкая «грядущая жизнь»,
«неведомая»? И согласуются ли с приятием мира слова тому
же Алеше: «Мыслю о тебе так: изыдешь из стен сих, а
в миру пребудешь, как инок».
Понятно восхищение Божьей мудростью; и легко
любить лес и птичек лесных, всякую букашку, муравья
и «пчелу золотую», «природу прекрасную и безгрешную».
Пожалуй, не так уж трудно простить Федора Павловича,
поняв свою вину перед ним. Но нелегко полюбить в нем
все,—а как понять, не полюбив? Без любви же ко всему,
к насекомому нет и полного принятия жизни. Старец знает,
в чем проклятие нашей жизни. Оно в
«уединении» всякого, то есть в разъединенности или распаде
мира, в зависти и ненависти. Он помнит слова своего
таинственного друга, слова, необычайно четко
выражающие ту же мысль: «Всякий-то теперь стремится отделить
свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту
жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо
полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо
полноты определения существа своего впадают в
совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на
единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от друго-
361
го отдаляется, прячется и что имеет, прячет и кончает тем,
что сам от людей отталкивается и сам людей от себя
отталкивает». «И этому «отъединению и единению»
противостоит умиляющее единство любви, «деятельной и
живой». «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех
люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю
слезами радости твоея и люби сии слезы твои.
Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий,
великий, да и не многим дается, а избранным».
В упоении своею вселенскою любовью старец доходит
до порога стоящей перед нами тайны. Он зовет любить
человека и во грехе, «ибо сие уж подобие Божеской любви
и есть верх любви на земле». Он исполнен «сокровенным
ощущением живой связи нашей с миром иным, с миром
горним и высшим», и знает: «корни наших мыслей
и чувств не здесь, а в мирах иных». Остается сделать еще
один шаг, но этого последнего шага ни Зосима, ни Федор
Михайлович сделать не решаются. Человека, говорят они,
надо любить во грехе, но греховное в нем—нацело отсечь
как злое бытие, победить зло силою смиренной любви.
Признаются лишь «корни наших желаний и чувств», не
цветение их, и мир святых человеков остается
отъединенным от мира животного, душа—от тела. Это уже
неоправданный оптимизм, необоснованное обобщение, если
думается, что из всякого зла в конце концов вырастает
добро. Истинный и единственный настоящий путь к
жизни и любви в иночестве, отсекающем «потребности
лишние и ненужные», гордую волю. Не к преображению мира,
не к тому, чтобы пронизать его всеединою любовью до
самых последних глубин, зовет старец, а—к царству
грядущему, к отказу от «лишнего и ненужного». Точно
есть что-нибудь ненужное и лишнее в Божьем мире!
Любовь Зосимы не оправдывает всего мира, не оправдывает
Карамазовщины, оправданной уже самим фактом бытия
своего в Божьем мире. Она—высший из видов любви на
земле, но только один из видов, одно из проявлений. Она
тоже ограниченна, отъединена, а потому обречена на
умирание. И при всей своей силе она слаба и елейна. В ней нет
героизма и полноты напряжения, той жизни, которую
неудержимо и бурно являет нам творчество Божье.
Федор Михайлович Достоевский с необычайной
проникновенностью и яркостью сопоставил два вида любви:
Карамазовскую и серафическую. Но он не довел до конца
или не пожелал досказать—здесь не место биографиче-
362
ским изысканиям—своей мысли, наметив ее только в
художественном отражении самой жизни. Надо быть очень
осторожным в разгадывании мыслей Достоевского,
сбивающего читателя с толку одним из своих
художественных приемов. Он любит вести рассказ от имени третьего
лица, от имени «автора». Но этот автор совсем не он
сам, а очень часто не очень тонкий, обыкновенный
человек, обыватель, своими замечаниями и ремарками
приближающий нас к действующим лицам романа,
которые вдруг становятся нашими хорошими знакомыми. Что
думает настоящий автор, сам Федор Михайлович
Достоевский, остается неизвестным. А он задает нам
загадки трудные и мучительные, настойчиво зовет к
философскому осмыслению жизни. Эти загадки должны решать
мы; мы должны завершить художественное единство
романа, которое отражает истинное единство жизни,
единство философского постижения жизни, шире, чем
«автор», шире и глубже, чем Зосима, понять непреходящую
правду Карамазовщины.
знает победу над смертью в величии воскресения и вечной
жизни,—это Христос. Вот почему Достоевский, вся жизнь
которого была Голгофой, мог в своей философии
исходить только из Христа. Нет другой подлинной философии
и подлинной мистики трагизма.
Метафизика смерти ставит сразу все проблемы
посюстороннего и потустороннего мира. И потому медитация
Достоевского вырастает в грандиозную этическую
систему, решающую проблему смысла жизни, смысла любви,
смысла развития и вечного человеческого стремления
к совершенству.
Но к этому отрывку можно еще подойти и с другой
стороны. В нем заключена потусторонняя разгадка великой
психологической загадки одной любви. Весь роман
Достоевского с Марией де Констан (по мужу Исаевой) был
сплошным взаимомучительством. И однако, он писал
о ней после ее смерти своему другу Врангелю: «О, мой
друг, она любила меня беспредельно, и я любил ее без
меры, но мы жили не счастливо. Но если мы были
положительно несчастны вместе, в силу ее странного,
подозрительного, болезненно-фантастического характера, то все же
мы никогда не переставали любить друг друга, и даже,
чем более мы были несчастны, тем более мы
привязывались друг к другу. Это была женщина самая благородная,
самая честная, самая великодушная из всех, каких я знал
в моей жизни...»
В них было какое-то взаимное притяжение, даже
сходство (разве нельзя сказать о самом Достоевском, что у
него характер «странный, подозрительный, болезненно-
фантастический?»),—и вместе с тем принципиальная
несовместимость и дисгармония. В их романе была какая-то
трудно понимаемая правда и ценность и какая-то
очевидная уродливость.
Весь отрывок покоится на евангельском тексте «не
женятся и не посягают, а живут, как ангелы Божий».
Философски он означает трансцендентный идеал андрогинного
соединения, но психологически, психоаналитически он
свидетельствует о другом. Подсознание говорит: нельзя
было жениться и посягать, нужно было жить, как ангелы
Божий! Мы имеем редкий, но интересный феномен двух
лиц разного пола, предназначенных друг для друга,
влекомых друг к другу таинственным притяжением, но не
притяжением эротическим. Половинки, но несоединимые
в земном плане. Она любила его идеальное Я, его небес-
365
ный образ, могла целовать ему руки, признаваясь в
земной страсти к другому, но никогда не могла, в сущности
эротически, принять его земную, эпилептическую
оболочку. Он тоже любил ее вначале и в конце как сестру. («Вы
женщина изумительная, сердце изумительной детской
доброты, вы были мне более, чем сестрой»), но не
удержался и стал «посягать». Странным образом «священная
болезнь» наказала его страшным припадком, трагически
разрушив их первую ночь, а в сущности, и все их семейное
счастье.
Все трагично в жизни Достоевского, и прежде всего его
первый роман и брак. Стоит вспомнить и продумать его
захватывающие перипетии—они много дают для
философии любви. Достоевский проявил титаническое
напряжение в завоевании любимой женщины, но он забыл, что
в любви есть нечто, что даруется даром (gratia gratis data),
что ускользает от всякой воли, от всякой заслуги, от
всякого подвига. Женская любовь увенчивает заслуги
и подвиги до их совершения (Wenn es auch nie geschiet). Она
радуется, если они действительно будут совершены («я
была права!»), но она восхищается и теми, которые могли
бы быть совершены и для которых, вероятно, не
представилось удобного случая. Поэтому есть дары любви,
которых никогда не должна добиваться самая отважная
рыцарская воля. Эрос мстит жестоко за всякое малейшее
принуждение. В любви все самое ценное рождается, а не
творится. Эрос мирится только с одним принуждением
и завоеванием: когда его принуждают к тому, чего он,
в сущности, изначально и бессознательно желал.
Трагедия первой большой любви Достоевского
состояла в том, что он имел против себя все
подсознание любимой женщины, а за себя—только ее сознание.
И при этом он знал это своим подсознанием и утверждал
обратное своим сознанием. Это была сознательная любовь
при сплошной подсознательной борьбе, насилии и
ненависти. Поэтому после смерти Маши основное страдание
от недостатка любви и жертвы: почему невозможно было
возлюбить до конца святой любовью? Что
препятствовало, что связывало?
Работая в архивах Достоевского, я нашел эту
медитацию в его записной книжке, среди ежедневных записей
расходов, долгов, неожиданных афоризмов, отрывочных
мыслей. Не без трепета касался я этой старинной книжки
в коричневой коже с золотым обрезом и золотой тисненой
366
надписью: Notes. По множеству причин я был связан в
желании опубликовать этот отрывок, и лишь теперь, когда
он продан Пипперу в Мюнхене, я считаю себя свободным.
Во всяком случае, этот отрывок никогда не появлялся
в зарубежной печати. Когда он был мною прочитан на
юбилейном собрании в память Достоевского, я мог
убедиться, что он неизвестен никому, даже знатокам
Достоевского.
* * *
«16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли я с
Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди
Христовой—невозможно. Закон личности на земле
связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но
Христос был вековечный, от века идеал, к которому
стремится, и по закону природы должен стремиться человек.
Между тем после появления Христа как идеала человека во
плоти стало ясно как день, что высочайшее, последнее
развитие личности именно и должно дойти до того (в
самом конце развития, в самом пункте достижения цели),
чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей природы
убедился, что высочайшее употребление, которое может
делать человек из своей личности, из полноты развития
своего Я,—это как бы уничтожить это Я, отдать его
целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это
величайшее счастье. Таким образом, закон Я сливается с
законом гуманизма, и в слитии оба, и Я и все
(по-видимому, две крайние противоположности), взаимно
уничтожаясь друг для друга, в то же самое время достигают и
высшей цели своего индивидуального развития каждый
особо.
Это и есть рай Христов. Вся история как человечества,
так отчасти и каждого отдельно есть только развитие,
борьба, стремление и достижение этой цели.
Но если это цель окончательная человечества
(достигнув которой, ему не надо будет развиваться, то есть
достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих
идеал и вечно стремиться к нему,—стало быть, не надо
будет жить)—то, следственно, человек есть на земле
существо только развивающееся, следовательно, не
оконченное, а переходное.
Но достигать такой великой цели, по моему рассужде-
367
нию, совершенно бессмысленно, если при достижении
цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у
человека и по достижении цели.
Следственно, есть будущая, райская жизнь.
Какая она, где она, на какой планете, в каком центре,
в окончательном ли центре, то есть в лоне общего
синтеза, то есть Бога?—Мы не знаем. Мы знаем только одну
черту будущей природы будущего существа, который
вряд ли будет и называться человеком (следовательно,
и понятия мы не имеем, какими будем существовать). Эта
черта предсказана Христом,—великим и конечным
идеалом развития всего человечества, представшим нам, по
закону нашей истории, во плоти; эта черта:
— «Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы
Божий»,—черта глубоко знаменательная.
1) Не женятся и не посягают, ибо не для чего:
развиваться, достигать цели посредством смены поколений уже
не надо и
2) Женитьба и посягновение на женщину есть как бы
величайшее отталкивание от гуманизма, совершенное
обособление пары от всех. (Мало остается для всех.)
Семейство, то есть закон природы, но все-таки
ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от
человека. Семейство—это высочайшая святыня человека
на земле, ибо посредством этого закона природы человек
достигает развитием (то есть сменой поколений) цели. Но
в то же время человек по закону же природы, во имя
окончательного идеала своей цели должен беспрерывно
отрицать его. (Двойственность.)
Антихристы ошибаются, опровергая христианство
следующим основным пунктом опровержения: «Отчего
же христианство не царит на земле, если оно истинно;
отчего же человек до сих пор страдает, а не делается братом
друг другу?»
Да очень понятно, почему: потому что это идеал
будущей окончательной жизни человека, а на земле человек
в состоянии переходном. Это будет, но будет после
достижения цели, когда человек переродится по законам
природы окончательно в другую натуру, которая не женится
и не посягает и
3) Сам Христос проповедовал свое учение как идеал,
сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие
(учение), ибо это закон природы, потому что на земле жизнь
368
развивается, а там—бытие полное синтетически,
наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть,
«времени не будет».
Атеисты, отрицающие Бога и будущую жизнь, ужасно
наклонны представлять все это в человеческом виде, тем
и грешат. Натура Бога прямо противоположна натуре
человека. Человек, по великому результату науки, идет от
многоразличия к синтезу, от фактов к обобщению их и
познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего
бытия, саморассматривающий себя в многоразличии,
в анализе.
Но если человек не человек—какова же будет его
природа?
Понять нельзя на земле, но закон ее может
представляться и всем человечеством в непосредственных эмана-
циях (Прудон. «Происхождение Бога») и каждым
частным лицом.
Это слитие полного Я, то есть знания и синтеза, со
всем. «Возлюби все, как себя». Это на земле невозможно,
ибо противоречит закону развития личности и
достижения окончательной цели, которым связан человек.
Следовательно, это закон не идеальный, как говорят
антихристы, а нашего идеала.
Итак, все зависит от того, принимается ли Христос за
окончательный идеал на земле, то есть от веры
христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить
будешь вовек.
Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого Я1
Говорят, человек разрушается и умирает весь. Мы уже
потому знаем, что не весь, что как физически рождающий
сына передает ему часть своей личности, так и
нравственно оставляет память своим людям (Поминание вечной
памяти на панихидах знаменательно), то есть входит
частик» своей прежней, жившей на земле личности, в
будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что
память великих развивателей человека живет между
людьми (равно как и злодеев развития) и даже для человека
величайшее счастие походить на них. Значит, часть этих
натур входит и плотью и одушевленно в других людей.
Христос весь вошел в человечество, и человек стремится
преобразиться в Я Христа как в свой идеал.
Достигнув этого, он ясно увидит, что и все,
достигавшие на земле этой цели, вошли в состав его
окончательной натуры, то есть во Христа (синтетическая натура Хри-
369
ста изумительна. Ведь это натура Бога, значит, Христос
есть отражение Бога на земле). Как воскресает тогда
каждое Я—в общем синтезе,—трудно представить.
Но живое, не умершее даже до самого достижения
и отразившееся в окончательном идеале, должно ожить
в жизнь окончательную, синтетическую, бесконечную.
Мы будем лица, не переставая сливаться во всем, не
посягая и не женясь, и в различных разрядах («В дому Отца
моего обители мнози суть»).
Всё себя тогда почувствует и познает. Навечно. Но как
это будет, в какой форме, в какой природе—человеку
трудно и представить себе окончательно.
Итак, человек стремится на земле к идеалу,—
противоположному его натуре. Когда человек не
исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил
любовь в жертву своего Я людям или другому существу (Я
и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние
грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать
страдание, которое уравновешивается райским
наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и
равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна.
Учение матерьялистов,—всеобщая косность и
механизм вещества, значит смерть.
Учение истинной философии—уничтожение косности,
то есть центр и синтез Вселенной и наружной формы ее—
вещества, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная».
Изумляет рациональная форма философствования
и сила доказательства в этом отрывке, он хочет быть
несомненным, неопровержимым для всякого атеиста,
позитивиста, материалиста. В него Достоевский вложил свою
железную логику и вместе с тем свое основное мистическое
прозрение, свою основную эстетическую интуицию.
Прежде всего, никто не может утверждать полную
смертность человека; никто не может отрицать проблему
бессмертия: в той или другой форме она существует для
всякого неверующего: «Говорят, человек разрушается
и умирает весь»,—неправда! Существует несомненное
бессмертие материальное, органическое и духовное.
Развитие рода, память истории («Вечная память») сохрапяет
в себе все прошедшие времена, все когда-то жившие
индивидуальности. Такое позитивно-научное бессмертие ни-
370
кем не может быть отрицаемо: ни физиком, ни геологом,
ни биологом, ни психологом. Для физика оно покоится на
принципе сохранения материи и энергии. Для наук о
жизни оно покоится на идее эволюции; ее-то Достоевский
и берет в основание. С точки зрения эволюции вечно
существует и живет в каждом моменте настоящего все, что
было. В современной геологической структуре Земли
увековечены все бурные моменты истории этой планеты.
Современная психология утверждает то же относительно
человеческой души: в подсознании скрываются древние
пласты, содержащие в себе всю историю пережитых
человечеством душевных восприятий и эмоций (Юнг). Это
одинаково верно для истории неба, истории человечества
и истории души.
Но такого статического бессмертия недостаточно
человеку. Недостаточно бессмертие субстанциональное,
бессмертие химического элемента, бессмертие
органической клетки, даже бессмертие душевной субстанции (в духе
Декарта). С точки зрения такого бессмертия ничего не
изменяется, тогда как в эволюции все изменяется.
Недостаточно вечно жить в прошлом, недостаточно и того, что
прошлое вечно живет в настоящем. Человеческая жажда
бессмертия есть жажда жить в будущем, жить «во все
времена». Это—идея динамического бессмертия, к которой
приходит Достоевский. Статическое бессмертие материи
недостаточно, движущееся, но консервативное бессмертие
сохранения рода, сохранения клетки—недостаточно.
Но, может быть, никакого иного и нет? Так скажет
позитивно-атеистический мыслитель. Однако и он не сможет
остановиться на простом отрицании. Существует
некоторое идеальное состояние бессмертия, которым мы не
обладаем, но к которому стремимся. Существует
несомненный психологический факт, более того,
неотъемлемое свойство души: стремление к бессмертию. Проблему
бессмертия нельзя отрицать: человек создан так, что
он действительно жаждет некоторой идеальной полноты
неумирающей жизни; и вместе с тем он ею не обладает,
а потому всегда может сказать, что «нет бессмертия».
Здесь выступает вся сила платоновской диалектики:
человек не смертен и не бессмертен—он лишь стремится
к бессмертию! Это и есть динамическая установка
Достоевского: человек на земле есть переходное, неполное,
незаконченное существо, вся его жизнь есть развитие,
борьба, стремление.
Существует ли высшее духовное, динамическое бес-
371
смертие? Бессмертие личности, ее замыслов и
достижений, ее идеалов и устремлений? Будет ли жить все
задуманное и невыполненное, все страстно-желанное и
неудавшееся? Ответ: идеал такого бессмертия стоит перед нами,
он есть неотъемлемое свойство души. Можно отрицать
факт бессмертия, но нельзя отрицать идеал бессмертия.
Во времена Леонардо да Винчи можно было отрицать
факт полета, но нельзя было отрицать проблему
летательной машины; и при этом в сфере духовной жизни,
стремления и творчества все факты вытекают из
поставленных проблем, из творческих идеалов.
Возможно ли, однако, достижение этого идеала? Не
бессмыслен ли он? Прежде всего, невозможность
достижения ничего не говорит против идеала (старая мысль
Канта). Невозможно быть в современных условиях
абсолютно здоровым, но от этого здоровье не перестает быть
вечным идеалом медицины. Вся история человечества
определяется стремлением достигнуть недостижимых
идеалов справедливости и свободы и любви. Культура
и история невозможны без творческого стремления к
некоторому идеалу, хотя бы неясному, рационально-
невыразимому. История есть тоже эволюция, только
эволюция духовно-творческая.
Достоевский кладет в основу своего размышления
несомненное понятие развития. Всякое развитие утверждает
и содержит в себе некоторое бессмертие. История
человечества есть тоже развитие, но творческое, такое, которое
ставит себе вопрос: во что человечество желает развиться?
Это творческое развитие содержит в себе особую
творческую идею бессмертия. Эволюция есть обогащение
бытия, нарастание жизни, а потому в ней уже содержится
проблема полноты и завершенности жизни. Человечество
творит свою историю, определяясь предчувствием какой-
то конечной полноты и завершенности жизни,
определяясь конечной целью—идеалом. Оно как бы строит
великий храм жизни, в котором, когда он будет завершен,
не только будет воплощена идея архитектора, но навеки
будет сохранено каждое творческое усилие каменщика,
каждый положенный им камень (метафора ап. Павла).
Вот это есть особое бессмертие через творческий идеал,
специально христианское динамическое бессмертие
через конечную цель, бессмертие «в конце концов». Это
чисто христианская идея, родственная платонизму, но
совершенно противоположная индийской идее бессмертия.
372
Понять, какое это бессмертие, в какой форме бытия,
можно, конечно, только представив себе, какой храм
здесь строится, какого стиля и каким будет положение
каждого кирпича; иначе говоря, нужно представить себе
христианскую идею искомого совершенства, искомой
полноты бытия. Достоевский прекрасно понимает ее
непостижимость, ее предельную невыразимость в понятиях,
понимает иррациональность воплощенного идеала, но
вместе с тем этот идеал должен быть как-то понятен, даже
нагляден и кое в чем ясен, даже логичен, ибо он дает
направление, как бесконечно далекие звезды.
Таким идеалом для христианина является Христос,
«идеал человека во плоти», он нагляден, сразу понятен
сердцу и вместе с тем невыразим в понятиях и полон
тайны. Он есть полнота жизни, красота и завершенность
(«синтетическая натура Христа изумительна»). Если
бессмертие динамическое есть бессмертие через идеал, то для
христианина оно есть бессмертие через Христа: «Коли
веришь во Христа, то и жить будешь вовек».
Здесь выступает с совершенной ясностью другое
стремление Достоевского. Христианский идеал вовсе не
должен быть убедителен только для христиан, он есть
единственно возможный и единственно мыслимый идеал,
который в конце концов бессознательно утверждается
и всяким неверующим идеалистом (впоследствии мысль
Соловьева). Он есть «вековечный, от века идеал, к
которому стремится и по закону природы должен стремиться
человек». В нем есть своя логичность, своя разумность
(Логос), и кое в чем он выразим и для нас со всей понятностью
и убедительностью: «Высочайшее, последнее развитие
личности, полнота развития своего Я—это отдать его
целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно». Вот
в этом принципе, в этой идеальной аксиоме, в этой логике
сердца, думает Достоевский, нельзя сомневаться. И
в этом он прав—здесь существует высшая духовная
очевидность.
Достоевский формулирует здесь этический идеал сначала
в одном аспекте, в аспекте отношений между личностью
и общиной, между «Я» и «все», иначе говоря, в аспекте
соборности. И вот как он формулирует этот принцип
соборности: индивидуальная личность и община всех лиц («по-
видимому, две крайние противоположности») достигают
предела развития, жертвуя друг другу всем, «взаимно
уничтожаясь друг для друга» и в этом уничтожении обре-
373
тая всю полноту бытия. Это значит, что личность отдает
себя обществу (всем и каждому) всецело, но, с другой
стороны, и общество отдает себя личности, каждой
отдельной индивидуальности,—тоже всецело, представляет
каждой личности все свои общественные силы, заботы
и организацию всецело для ее расцвета и развития. Здесь
Достоевский с поразительной проницательностью
формулировал совершенно парадоксальный принцип
христианской этики: индивидуум и всеобщность равноценны. Эта
мысль была совершенно непонятна античному миру, была
непонятна платоновскому коммунизму и остается
непонятной коммунизму современному. Для них личность
никогда не может быть равноценна общине и государству.
Но христианская формула соборности отрицает и
противоположное искажение: отрицает эгоистический
индивидуализм XIX века, в котором личность использует все
силы общества и организации исключительно для своих
выгод и целей. Это неустойчивое, лишь идеально
возможное равновесие двух равноценных противоположностей
(Я и всё) составляет принцип соборности, братства,
христианской любви. Кто может демонстрировать более
высокий и более совершенный идеал, пусть это сделает.
Принцип этого идеала есть принцип единства
противоположностей (Я и все). Вот почему Достоевский говорит
о синтетической природе Христа и Бога. Соборность есть
единство противоположностей и, следовательно,
единство всех, всеединство. Любовь всех есть единодушие
и единомыслие, следовательно, тоже всеединство. Идея
всеединства, любимая идея русской философии,
сформулированная потом Соловьевым, целиком здесь находится
у Достоевского. Мы видим здесь основную интуицию его
мистики и его эстетики, интуицию универсальной
гармонии, выраженную здесь в этическом аспекте; но она, по
существу, далеко выходит за пределы этики. Соборность
и любовь выходят за пределы отношений человека к
человеку, любовь расширяется до пределов всего мира, всей
Вселенной, до пределов настоящего всеединства
(«Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю,
посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые
на вас смотрят и вас любят...»—слова, выражающие
экстаз полноты и гармонии, чувство рая у князя МыШ-
кина).
Соборность превращается в единый собор,
объемлющий всю полноту жизни и всю красоту бытия, которая
374
«спасет мир». Чувство универсальной гармонии как
красоты бытия («целуйте землю») есть основная творческая
и мистическая интуиция Достоевского, его переживание
райского бытия. Прозрение рая как гармонии бытия, как
счастия и избытка есть и у Пушкина в сильнейшей
степени, но у него—в творческом изобилии, в творческой игре,
в моцартовской беззаботности; напротив, у
Достоевского— в жизненном трагизме, в страданиях и лишениях.
В трагизме он предчувствует разрешение, предчувствует
Утешителя, дарующего благодать, гармонию, грацию.
Как маркиз Поза, приговоренный к смерти, он восклицает:
«Боже, как жизнь прекрасна!»
Чувство полноты и гармонии, чувство восхищения
переживается когда-либо каждым человеком в момент
духовного восторга, удивления перед героизмом или
святостью, изумления перед великим произведением
человеческого гения или красотой космоса. Все это лишь
предвосхищение полноты и гармонии, постоянно
присутствующей во всяком развитии и ведущей нас в творчестве. Как
его пережить, этот райский мистический опыт, это
чувство бескорыстной радости и блаженства?
Ответ Христа: путь жертвы, полная отдача своего
малого «Я». «Возлюби все, как себя»—эта заповедь остается
одной и той же и для ученого, и для художника, и для
святого—через нее душа раздвигается до пределов
Вселенной («О, если бы мог в свои объятья я вас, враги,
друзья и братья, и всю природу заключить!»), любовно
охватывает весь мир, охватывает прошлое и будущее,
принимает в себя все души и все сердца, становится «всееди-
ной». И тогда времени больше нет, как нет и пространства
и разделения. Миг вечности в предвосхищении. Только
тогда можно сказать: «Остановись, мгновенье, ты
прекрасно!»
В такой концепции бессмертия человеку
предоставляется как бы выбор между высшей и низшей вечностью,
между вечностью и бессмертием косного вещества
(энтропии) и между уничтожением косности, которое есть дух,
жизнь и полнота. Путь к этой высшей и духовной
вечности есть жертва, но жертва—чем? Неполным,
ограниченным, закованным, малым своекоростным Я (о нем
сказано: если кто душу свою сохраняет, погубит ее). Эта
«жертва» есть великое освобождение, необходимое для всякого
творчества, научного, художественного, эпического, она
375
есть выход из порочного круга эгоизма и солипсизма,
выход в полноту всеединства.
И еще одна мысль в этом отрывке Достоевского,
которую мы рассмотрели лишь в качестве психологического
симптома его личной драмы. Как такой идеал, и с ним
такая идея бессмертия, оценивает брак, любовь, семью? Что
бессмертно в половой любви, что имеет в ней вечное
значение? Достоевский отвечает: деторождение,
продолжение рода и родовая любовь имеют смысл во времени, но
не в вечности, имеют смысл в течение развития
человечества, в течение переходного состояния, но не в
окончательном идеале, не в полной завершенности и гармонии.
Вечное значение имеет только гармония двух взаимно
восполняющих индивидуальностей как двух
противоположностей. Отсюда—двойственный взгляд на семью:
«Семейство—это высочайшая святыня на земле» (залог
развития, смены поколений, движения к идеалу), ноне на
небе, ибо там развитие и стремление не нужны. Семья есть,
с одной стороны, преодоление эгоизма, зарождение и
вечный символ любви; но вместе с тем существует и семейный
эгоизм, и ложная самодостаточность семьи. Это те самые
идеи, которые заложены в платоновском учении об Эросе
и впоследствии с таким блеском развиты Соловьевым
в его «Смысле любви». Можно только удивляться, в
какой степени у Достоевского присутствуют любимые идеи
русской философии; христианский платонизм, космизм
и идея всеединства. Он предвидел даже ту дилемму, в
которой может быть выражена философская трагедия
современной России: всеобщая косность и механизм
вещества (учение материалистов)—«или уничтожение
косности, то есть центр и синтез Вселенной и наружной формы
ее—вещества, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная».
было принижено необходимостью считаться с
«жестокосердием» людей (Мф. 19,8; ср. Мф. 5, 27—32; 1 Кор. 7,
10—11; Еф. 5,31).
И действительно, здесь мы находим глубочайшую
философию брака. Но чтобы понять эту философию, нужны
два условия. Прежде всего мы должны обращать
внимание не столько на внешнюю форму библейского
повествования, приспособленную к самому примитивному,
наивному пониманию4', сколько на глубокие идеи, лежащие
в основе этого повествования, а затем мы должны забыть
все эти «священные» и библейские истории, которые
изучали в детстве и которые свидетельствуют лишь о низком
уровне понимания их составителей, а считаться только
с подлинным библейским текстом.
В этих «историях» своеобразие и глубина Библии
положены на прокрустово ложе поверхностного школьного
богословия, вследствие чего они одни существенные детали
текста опускают * *, другие представляют в превратном
виде, и в результате повествование лишь скользит по
поверхности нашего внимания, совершенно не задевая
нашей мысли ***.
Библия знает две эпохи в истории брака. Прежде всего
она знает брак во время нормального состояния человека,
брак в Раю, но она знает брак и после великой мировой
катастрофы, которая на богословском языке называется
«первородный грех», а на языке философском является
вмешательством интеллигенции в область, где бы должен
безраздельно властвовать инстинкт.
Итак, что же говорит Библия о нормальном браке?
Прежде всего нужно указать, что и Библия
подтверждает то, что мы во второй главе доказывали данными
естествознания и психологии. Именно она учит, что цель
брака вовсе не заключается в размножении. Кажется, во
всех учебниках священной истории установление брака
представляется в такой схеме: «Бог создал Адама, затем,
* «Здесь,—говорит Златоуст,—употреблены грубые речения
приспособительно к немощи человеческой» (Mg. 53, 121).
** А между тем Златоуст говорит, что в повествовании о творении
каждое слово имеет глубокое значение. Гом. на Быт., 10,4; Mg. S3, 81;
русск. пер. IV, 77.
* * * Недалеко от ремесленников по составлению священных историй
ушли и творцы мнимоиаучной гипотезы «иеговиста» и «элогимиста»,
стремясь в ней найти разрешение своего непонимания библейского
текста. Впервые эта гипотеза была высказана Аструком в 1753 г.
378
создав из его ребра ему жену Еву, дал им заповедь:
плодитесь и размножайтесь».
Иное находим мы в подлинном библейском тексте.
Библия говорит совершенно особо о размножении и
о браке, и притом говорит о размножении ранее, чем
о браке. О даровании человеку способности размножаться
говорится в первой главе Бытия, в общей истории
творения. Сказав о сотворении Богом животных и
благословении им «плодиться и размножаться», Библия говорит
о творении человека и о благословении ему на
размножение, выраженном в тех же словах.
Таким образом, по Библии, размножение есть прямое
продолжение творения животного мира, не имеющее
отношения к браку и вообще к тому, чем человек отличается
от животных. Никакой «заповеди» размножаться, о чем
любят говорить протестанты *, в Библии нет. Всякая
заповедь может быть воспринята духовно свободным
существом и потому не может быть дана животным, тогда как
благословение как односторонний божественный
творческий акт одинаково приложимо и к человеку, и к
животным. Что Библия, говоря о благословении размножения
человеку, берет его не в качестве высшего, чем животный
мир, существа, а как члена этого животного мира, видно
из того, что при этом она говорит о человеке в терминах,
которые обычно применяются в Библии лишь к
животному царству. Подлинный еврейский текст первой главы
Книги Бытия вовсе не говорит, что первосозданный
человек, которому дано благословение, был мужем («иш»)
и женой («иша»), как говорят некоторые переводы, а
говорит, что он был самцом («закар») и самкой («нэкба»);
другими словами, что осуществлением этого благословения
* Считая, что слова «плодитесь и размножайтесь» являются
устанавливающею брак заповедью, основатели протестантства не
останавливались и перед выводами, отсюда вытекающими, рекомендуя даже
одновременную полигамию. «Нечего попусту совеститься,— цисал Карл-
штадт Лютеру.— Будем двоеженцами и троеженцами, будем иметь
столько жен, сколько можем прокормить». «Плодитесь и размножайтесь:
не так ли, Лютер? пусть же исполнится заповедь неба». И сам Лютер
советует жене бесплодного мужа сойтись с его родственником или
посторонним человеком, а мужу слишком воздержанной жены сойтись со
служанкой или другой женщиной. Филиппу Гессенскому он дозволил
одновременную бигамию (см. новейшее издание сочинений Лютера: Weimar,
1883, VI, 558,33. — De captivitate Babylonica; ср.: X, 11,279, 290,291.—
«Sermo de matrimonio»).
379
являются общие у человека с животным миром родовые
органы и процессы (ср. Быт. 6, 19; 7,16).
На это обращает внимание уже Ориген *, и с этим
считаются многие переводы4"1'.
Вообще как животные берутся здесь в качестве
представителей рода («по роду их», «по роду ее», Быт. 1, 21;
24,25), так и человек берется здесь не как индивидуум, а
в качестве представителя всего человеческого рода,
человечества.
Между тем об установлении брака Библия говорит
особо. Как Христос (Мф. 19, 5; Мр. 10, 4), так и апостол
Павел (Еф. 5,31) находят это установление в той главе, где
говорится о творении человека как существа особого от
остального мира, в частности в повествовании о творении
жены, где нет ни малейшего указания на размножение.
В этой главе начинается история человека как
индивидуальной нравственной личности и его отношения к Богу,
который является для него уже не только как Бог-Творец, но
и как Бог Завета. Ветхозаветное повествование дважды
повторяется в Новом Завете (Мф. 19, 4—5; Мр. 10, 6—7;
Еф. 5,31), и оба раза без упоминания о размножении. Хотя
брак, по указанию Нового Завета, был установлен еще
в Раю, «Адам познал Еву, жену свою» (Быт. 4,1) только по
изгнании из Рая. Мысль о том, что рождение детей есть не
зависящее от человека продолжение творения Божия, что
дети—дар Божий, десятки раз встречается в Библии (см.,
напр., в кн. Бытия 4,1; 4,25—26; 6,2; 29,33; 30,2,6,24; 48,9).
«Разве я, а не Бог не дает тебе детей?»—говорит Иаков
Рахили (Быт. 30, 21).
Если от Библии обратимся к ее авторитетным
толкователям, то увидим, что они постоянно подчеркивают
самостоятельность брака и рождения. Климент
Александрийский учит, что само по себе рождение есть «таинство
творения» ***, iiuatripiov хтгових^, а потому виновником
рождения является лишь Бог, тогда как родители являются
лишь «служителями рождения» **** (oiaxouou ueueoetoO-
Ту же мысль подробно развивает св. Мефодий еп. Па-
тарский (Олимпийский) в своем «Пире десяти дев»,
ссылаясь на Иерем. 1, 5; Иова 38, 14; 10, 8*****.
* В толков, на Мат. 14,16; Mg. 13, 1229.
** Напр., "male et femelle" (франц.) и "male an female" (англ.)-
••• Строматы III, 14, Mg. 8, 1205.
••** Строматы III, 12, Mg. 8, 1189.
•**•• П, 2, Mg. 18, 49.
380
Иоанн Златоуст не раз обращает внимание на то, что
благословение плодородия дано Адаму еще до создания
жены*, и точно так же не раз прямо утверждает, что
«не сила брака умножает род наш», но слова Господа,
сказанные вначале: «роститеся и множитеся» * *, и что
«рождение детей нужно приписывать не сожитию супругов, ни
чему-либо другому, но Создателю всяческих***.
Библейская антропология учит, что в человеке есть две
области.
Центром одной является сердце, центром другой—
чрево. Первая—это область сознания и свободы,
а поэтому и область нравственной ответственности.
Вторая есть область бессознательной, инстинктивной,
растительной и животной жизни ****, а потому она свободна от
моральной ответственности. «Неужели вы не
разумеете,—спрашивает Христос апостолов,—что ничто, извне
входящее в человека, не может осквернить его? Потому
что не в сердце его входит, а в чрево» (Мр. 7,18—19).
Между тем все, что подлежит моральной оценке, исходит из
сердца, «исходящее из человека оскверняет человека, ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства» (ст. 20—21). И
размножение, с библейской точки зрения, входит не в
область сердца, а в область чрева. Размножение, в
сущности, есть тот же процесс, что и питание. Это особенно ясно
у низших организмов, где размножение прямо
пропорционально питанию. Но и у человека «блуд является
следствием пресыщения»*****, и апостол Павел говорит, что
* Толков, на Быт. 10, 4—5; Ml. S3, 86 и др.
♦* О девстве 15 Mg. 48, 544; ср. бл. Августин. О девстве I,
10, Ml. 40, 401.
♦♦* Толков, на Быт. 21, 3; Mg. 53, 178; и бл. Августин, как бы
забыв свое же учение о цели брака, пишет в одном месте, что «рождение—
дело природы, а не брака» и что «рождение бывает и от блуда». О
девстве 1, 10; Ml. 40, 401.
**** Наиболее подробно говорит об этом Немеэий в своем труде
«О природе человека». В душе человека он различает части,
повинующиеся и ие повинующиеся разуму. К последним он относит силы питания,
размножения и кровообращения. Первые две принадлежат к
растительному царству, последние—к животному (см. гл. 22—25, Mg. 40,692—700).
***** Иоанн Златоуст, поучение из I Кор., гл. 23, I; Mg. 61, 190.
Характерный рассказ помещен в Номоканоне при Большом Требнике.
Монах просил подвижника помолиться об избавлении его от блудной
страсти. Молитва оказалась безуспешной, но сатана объяснил
подвижнику, что он, по молитве подвижника, давно уже отошел от монаха,
но монах «брань иметь от гортаня своего; сам брань творит пияй,
чцяй и спяй». Павлов, Номоканон при Большом Требнике. М.., 1897, с. 157.
381
пьянство является причиной блуда (Еф. 5, 18). Библия
говорит, что благословение на размножение дано вместе
с благословением на питание: «И благословил их Бог
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь... вот Я дал
вам всякую траву... в пищу» (Быт. 1, 28—29).
Совсем иначе говорит Библия о браке. О нем
говорится во 2-й главе Бытия, где идет речь о человеке как о
существе, отличном от остального животного и растительного
мира. О размножении здесь не упоминается. Человек здесь
берется не с бессознательной, инстинктивной стороны
своего бытия, а как носитель сознания и свободы. Человек
берет здесь на себя задачу подчинения себе всего внешнего
мира—макрокосмоса, работая в Раю и охраняя его,
а вместе с тем он берет на себя и задачу подчинения
высшим духовным целям своей внутренней физической
жизни-микрокосмоса, принимая заповедь о невкушении
плода с древа познания добра и зла. Свою творческую
свободу человек обнаруживает в создании языка и в подчинении
себе животного мира (Быт. 2,19). И только после этих
актов сознания и свободы человека как наиболее яркое их
проявление является брак. По Библии, Бог не творит жену
вместе с мужем и, таким образом, не принуждает на брак
человека, а только тогда, когда Адам, этот еврейский
Фауст, проявил свою свободу, когда он создал идею жены
и пожелал ее осуществления, Бог мысли человека дает
бытие, человек становится мужем и женой.
Говоря о свободе как основной черте брака, Библия
в то же время говорит и об его главной цели.
Она указывает только одну цель брака—жена
творится для того, чтобы быть «помощницей» мужа. В чем же
должна состоять эта помощь? Употребленное в русском
и славянском переводе слово «помощник» подает мысль
о помощи в тех трудах, которые Бог возложил на мужа
(Быт. 2, 15), и обычное понимание его таково. Но в таком
случае вполне уместно возражение бл. Августина,
повторенное Фомой Аквинатом, что для помощи во всяком
другом деле, кроме рождения, другой мужчина был бы
пригоднее женщины. Однако слово «помощник», так же
как и соответствующие слова в переводе 70-ти и в
Вульгате, не передает точно глубокого смысла еврейского
подлинника. Более точный перевод был бы: «Сотворим ему
восполняющего, который был бы пред ним». Таким
образом, здесь говорится не о восполнении в труде, а о
восполнении в самом бытии, так что помощь в труде может мы-
382
слиться лишь как последствие восполнения в бытии.
Жена прежде всего нужна мужу как его «alter ego».
Библия не говорит: «нехорошо человеку трудиться
одному», а говорит: «нехорошо человеку быть одному»; не
говорит: «который трудился бы с ним», а говорит:
«который был бы пред ним». Еврейское слово nehed означает то,
что впереди, на лицо (Быт. 31, 32; Исх. 19, 2; 34, 10; Числ.
2, 2; 25, 4; Неемии 19, 9; Дан. 6, 10). Английский ученый
Вордсворт переводит against him, before him и сравнивает
отношение оттиска печати с самой печатью*. «Бог,—
говорит св. Кирилл Александрийский,—создал жену...
имевшую сожительствовать с мужем как существо,
однородное с ним, и просто пребывать с ним» **.
Но это пребывание с мужем не есть лишь
пространственная близость. Нет, это есть полное метафизическое
выше личное единение в одном существе ***. На эту
сторону цели брака указывает Библия, говоря: «и будут одна
плоть» (Быт. 2,24), т. е. одно существо. Здесь вовсе нельзя
видеть, как это иногда делают, указание на родовую
жизнь ****. Эту жизнь здесь мы разумеем лишь
постольку, поскольку она может быть последствием единства
супругов, но прямой и основной смысл этих слов другой.
Его непререкаемым образом изъясняет сам Господь,
говоря: «так что они уже не двое, но одна плоть»
(Мф. 19, 6), т.е. указывает не на какое-либо
временное телесное единение в родовом акте, а на
постоянное метафизическое единство супругов. Употребленное
как в Ветхом, так и Новом Завете слово «плоть» (capQ
вовсе не означает в данных местах лишь тела (очйца), a
означает одно существо, одного человека, как то прекрасно
выясняет, например, бл. Августин. «Св. Писание,— говорит
он,—часто называет плотью и самого человека»,
* The Holy Bible, Genesis and Exodus, London, 1864, p. 18. Дслич
(New Commentary on Genesis, Edinburgh, 1888, p.101) говорит, что жена,
по Библии, должна быть отражением мужа, в котором ои видел бы
самого себя.
** Толков, на Быт., кн. 1,2; русск. персв. М.,1886, часть IV, с. 13.
*** «Для того-то Бог и называет ее (жену) помощницею, чтобы
покачать, что они одно»,—говорит Златоуст (Бес 12, 3 на Колосс. Mg. 62,
387).
♦*»* Такое узкое понимание, объясняемое двояким смыслом слова
«плоть», встречается в святоотеческой литературе, например, Василий
Великий говорит о «смешении, делающем двух одной плотью» (Книга
о девстве; Мд. 30, 74S—747). В католичестве же оно официально признано
Церковью: Codex juris canonici (§1, с. 1015) говорит, что «Coniugali acto co-
njuges fiunt una саго».
383
т.е. природу человека в переносном смысле от части
к целому, каково, например, выражение: «От дел Закона
не оправдится всяка плоть» (Римл. 3, 20). Кого, как не
всего человека, дает в этом случае разуметь Писание?..
Тот же смысл имеет и выражение: «И слово плоть бысть»
(Ио. 1, 14), т.е. «бысть человек*. И так же как апостол
Павел заменяет слово «плоть» словом «человек», говоря
«не оправдится человек от дел Закона» (Гал. 2, 16), так
точно делает это и Библия, называя Адама и Еву то одною
плотью (Быт. 2, 24), то одним человеком: «Бог сотворил
человека, по подобию Божию создал его, мужчину и
женщину, сотворил их и благословил их и нарек им имя:
человек» (Быт. 5, 1—2). Когда говорится лишь о физическом
единении мужчины и женщины (не в браке, а в блуде), не
говорится, что они «одна плоть», а говорится, что они—
«одно тело», не стар!;, а скопа (1 Кор. 6, 16).
Это метафизическое единение мужчины и женщины
есть таинство, поскольку оно превышает категории
нашего разума и может быть пояснено лишь сопоставлением
этого таинства с таинством Пресвятыя Троицы и
догматом Церкви, а психологически это единение является
источником таких чувств брачующихся, которые по
самому своему характеру исключают вопрос о целях брака вне
его самого, ибо эти чувства есть чувства удовлетворенной
любви, а потому полноты и блаженства.^...)
С объективной, метафизической богословской почвы
переходим на почву субъективную, психологическую.
Если в браке объективно стороны возвышаются Богом
на степень вышеличного богоподобного бытия и
становятся частью тела Христова, Церкви, то как же выражается
это возвышение субъективно, в психике брачных сторон?
Оно выражается в их взаимной любви, имеющей
оттенок обожания и сопровождаемой чувством полного
блаженства, по своему содержанию исключающим вопрос
о каких-либо дальнейших субъективных целях.
Субъективно не моральное лишь, а субстанциальное
единство брачующихся, по объяснению Златоуста,
творится любовью. «Любовь,—пишет он,— изменяет самое
существо вещей» **.
* О граде Божием, кн. 14, гл. 2 и 4, с. 403 и 407; русск. перев. Киев,
1882, с. 3—5, 9—10.
** Бес. 32 на I Кор., Mg. 61,273. Ср. бл. Августин: "Caritasconjugalis
Tacit nuptias", Sermo, 51,13, De Genes, ad. Iitt. 9,7.
384
«Любовь такова, что любящие составляют уже не два,
а одного человека, чего не может сделать ничто, кроме
любви» *.
И идея, что любовь есть causa efficiens брака, усвоена
и христианским законодательством. «Брак заключается
и действителен одною любовью,—пишет величайший
законодатель Юстиниан в одной из своих новелл,—чистою
любовью». «Брак создается согласием и любовью»,—
поясняет древняя схолия к синопсису Армепопула
известную классическую максиму «поп concubitus, sed
consensus facit nuptias».
Эта любовь имеет вышеразумный таинственный
характер. Мы уже видели, что объективно стороны
соединяются в браке Богом. И субъективно любовь соединяет
их в Боге и через Бога.
«Одна любовь соединяет создания и с Богом, и друг
с другом»,—пишет Авва Фалассий**. «В браке души
соединяются с Богом неизреченным неким союзом»,—
пишет Златоуст***.
А вот глубокие стихи русского поэта:
Слиясь в одну любовь,
Мы цели бесконечной единое звено.
И выше восходить в сиянье правды вечной
Нам врозь не суждено****.
Но если так, то брачная любовь является таинством.
Она является таинством уже потому, что, как мы видели,
она объективно объединяет нас с Богом, который и сам
есть любовь (Ио. 4, 8, 16) и имеет благодатный характер.
Она является таинством и потому, что превышает силы
нашего разума. Гносеология учит, что высшие категории
нашего разума суть проекции нашего личного сознания,
его единства, неизменности и т. д. Но мы уже видели, что
объективно брак—это вышеличное единство, подобное
единству Св. Троицы.
Поэтому-то категории нашего разума неприложимы
как там, так и здесь, и брак возвышается над основным за-
* Бес., 33, на 1 Кор., Mg. 61, 280; русский перевод
греческих слов"6ио SiT)pr||i£vou£" («не два лица») не отвечает ни
букве, ни смыслу оригинала. Лица брачующихся не сливаются в
браке, а объединяются в высшем единстве, как не сливаются и
лица Св. Троицы.
*♦ Творения в русск. пер.: М., 1894, слово I, гл. I.
*♦♦ Бес. на Ефес. 5, 22—24; Mg. 62, 141.
♦*** А. К. Толстой.
IS—1520
385
коном нашего разума, законом тождества, ибо здесь два
являются в то же время и одним.
Св. Климент Римский, передавая одно из наиболее
глубоких «аурскра», т. е. не записанных в Новом Завете
изречений Иисуса Христа, говорит: «Сам Господь,
спрошенный, когда прийдет Его царство, ответил: когда будет
два одним и наружное как внутреннее и мужское вместе
с женским, не мужское, не мужское и не женское»,—и
поясняет, что два бывает одно, когда «в двух телах бывает
одна душа» *.
«Брак есть таинство любви»,—говорит св. Иоанн
Златоуст и поясняет, что брак является таинством уже
потому, что он превышает границы нашего разума, ибо в нем
два становятся одним»**.
Называет любовь таинством (sacramentum) и бл.
Августин***.
С этим неразрывно связан и благодатный характер
брачной любви, ибо Господь присутствует там, где люди
объединены взаимною любовью (Мат. 18, 20).
О браке как союзе любви говорят и литургические
книги православной церкви. «О еже ниспослатися им любви
совершенней, мирней», «соединение и союз любви поло-
живый»,—читаем в последовании обручения. «Друг
к другу любовь»,—читаем в последовании венчания.
«Неразрешимый союз любви и дружества»,—называется
брак в молитве на разрешение венцов.
Таинственная сама по себе брачная любовь в
отношении супругов друг к другу имеет оттенок обожания.
В браке супруги смотрят друг на друга sub specie aeter-
nitatis и потому идеализируют или обожают друг
друга. Идея обожания во взаимных отношениях полов вовсе
не есть порождение средневековья, как это иногда
представляют. Ее мы находим уже у древнейших христианских
писателей. «Не всегда ли тебя как богиню почитал»,—
говорит Ерма Роде в своем Пастыре, который в
древности читался в церквах как Св. Писание****.
Это взаимное обожание есть не что иное, как
созерцание друг в друге богоподобных совершенств. Жена
создана по апостолу для того, чтобы быть «славой мужа»
(1 Кор. 11,7), чтобы быть живым отображением богоподо-
бия мужа, как бы живым зеркалом мужа, ибо, как заме-
* 2 поел, в Кор., гл. 12; Mg. 1, 348 А.
*♦ Бес. на 1 Кор. 7, 39—40; Mg. 51, 230.
*** Евангельские вопросы, 2,14; Ml. 35, 1339.
**** Видение 1, гл. 1,7; Mg. 2, 894.
386
чает Платон, «в любящем, как в зеркале, видит самого
себя» *.
«Жених и невеста... при одном взгляде прилепляются
друг к другу»,—говорит Златоуст**. «Увлекаемые
плотскою любовью в зрении любимого находят пищу для
своей приверженности»,—говорит блаж. Феодорит***.
Идея взаимоотражения любящих постоянно мелькает
и в другом виде интуиции—в поэзии.
Порой среди забот и жизненного шума
Внезапно набежит мучительная дума
И гонит образ твой из горестной души,
Но только лишь один останусь я в тиши,
Спокойной мыслею ничем не возмутимый,
Твой отражаю лик, желанный и любимый****.
Как лилия глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песнью моей *****.
Или вот стихи современного поэта (Андрея Белого):
Твой ясный взгляд: в нем я себя ловлю,
В нем необъемлемое вновь объемлю.
Себя, отображенного, люблю,
Себя, отображенного, приемлю.
Твой ясный взгляд: в нем отражаюсь я,
Исполненный покоя и блаженства,
В огромные просторы бытия,
В огромные просторы совершенства.
Нас соплетает солнечная мощь,
Исполненная солнечными снами;
Вот наши души, как весенний дождь,
Оборвались слезами между нами.
И «Ты» и «Я»—перекипевший сон,
Растаявший в невыразимом свете;
Мы встретились за гранями времен,
Счастливые, обласканные дети.
* Федр, 255, ср. Притчей 27, 19; «как в воде лице ■ лицу, так
сердце человека к человеку».
** Беседа на 1 Кор, 7,39—40. Mg. 51,30; ср. на I Солун.
«Имеющий друга имеет другого себя» (Mg. 62, 406).
**♦ О божественной и святой любви. Творения, часть V,
Сергиев Посад, 1906, с.ЗП.
**** Толстой А. К. Полы. собр. соч., т.1. СПб., 1907, с. 382.
***** фет А. А. Поли. собр. спиотв., т.1. СПб., 1912, с. 108.
и»
387
Но это зеркало, в котором любящие супруги видят
один другого, имеет одну особенность. Оно отражает
только хорошие стороны, скрывая плохие и представляя их
друг другу как бы в каком сиянии. И вот, по Златоусту
и Блаженному Августину, это-то сияние, эта «благодать»,
или «неизреченная слава», лучше всякой одежды, всякого
украшения облекала наших прародителей в Раю и отчасти
облекает любящих супругов и теперь*. Много можно
найти на эту тему и в изящной литературе.
«После семи лет супружества Пьер чувствовал
радостное, твердое сознание того, что он недурной человек,
и чувствовал он это потому, что он видел себя
отраженным в своей жене. В себе он чувствовал обычно все
хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но
на жене его отражалось только то, что было истинно
хорошо; все же не совсем хорошее было откинуто. И
отражение это произошло не путем логической мысли, а
другим, таинственным, непосредственным отражением»**.
И не духовные лишь, но и физические совершенства,
физическая красота являются предметами этого
созерцания. Вопреки довольно распространенному мнению
отношение христианства к физической красоте самой по себе,
безусловно, положительно. Источник красоты оно видит
в самом Боге. «Красота на земле,—пишет Афинагор,—
возникает не сама собою, а посылается рукою и мыслию
Божией» ***, а Ерма, св. Климент Римский и Тертуллиан
дают метафизическое обоснование для признания
высокого достоинства человеческой красоты, уча, что муж и жена
созданы по образу Христа и Церкви. «Соразмерность всех
частей тела так велика,—пишет бл. Августин,—так эти
части соответствуют одна другой прекрасною
пропорциональностью, что не знаешь, больше ли при сотворении
тела имела место идея пользы, чем идея красоты» ****. Не
раз повторяет он, что, в частности, и женская красота
ниспосылается Богом*****.
* Златоуст, толков, на Быт. 15,4; Mg. 54, 126; русск. перев. IV,
123; толков, на Быт. 16,1 и 5; Mg. 54,130; русск. перев. IV, 134; Августин.
О граде Божием, 14, 17; Ml. 41, 426; р.43.
** Толстой Л.Н. Война и мир, т.IV. Эпилог, X, изд.
Берлин, 1920, с. 367.
*** Legatio pro christianis, cap. 5, Mg.6,900; ср. сар.Э4.
**** De civ Dei, 15, 22, русск. перев., с. 128.
***** De civ Dei, 22, 24; русск. перев., с. 381.
388
«Святая святых» Библии—«Песнь Песней» есть
восторженный гимн женской красоте. Если аскетические
творения указывают на великую опасность для человека
от нее возникающую, то это столь же мало может
говорить против положительной оценки красоты самой по
себе, как опасность солнечного света для больных глаз. Но
у человека духовно здорового отношение к женской
красоте не должно быть отношением стоической атараксии,
безразличия, а должно быть отношением высшей
отзывчивости. «Некто, воззрев на красоту,—читаем мы в Ле-
ствице св. Иоанна Лествичника*,—весьма прославил за
нее Творца и от одного взгляда погрузился в любовь Бо-
жию и источники слез».
Мы уже видели, что в браке стороны соединяются
в теснейшем вышеличном единстве. Поэтому-то
духовные и физические совершенства другого ощущаются
в браке не как что-то чужое, внешнее, постороннее нам,
а как что-то близкое нам **, что-то такое, участником
чего являемся и мы сами через это вышеличное единение.
«Ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе» (1 Кор.
11,11),—учит апостол Павел.
И это именно сознание принадлежности нам
совершенства, созерцаемого нами в другом, вызывает чувство
достигнутой полноты бытия, чувство радости и
блаженства. «Любовь, обладающая и пользующаяся своим
предметом, есть радость»***,—пишет бл. Августин. Таким
именно чувством и были продиктованы уже первые,
сообщенные нам Библией слова человека—это первое
объяснение в любви, первая поэзия во всемирной истории: «Вот
это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она
назовется жена, так как взята от мужа» (Быт. 2,23). И «эти
слова Адама,—пишет св. Астерий Амасийский,— были
общим признанием, высказанным от лица всех мужчин
всем женщинам, всему женскому роду. Его слова
обязывают всех прочих. Ибо то, что вначале произошло в этих
первозданных, перешло в природу потомков»****.
* Mg. 88, 893. Под этим «некто» разумеется св. Иоанн,
епископ Едессы, а красота, которая так его тронула, была красота
блудницы Пелагеи, причисленной потом к лику Святых (457). См.: Житие его
Mg. 116, 907.
** Ср.: Толстой Л.Н. Война и мир. «Он радовался тому,
что она со своею душою не только принадлежала ему, но составляла
часть его самого» (Эпилог, с. 389).
*** De civil. Dei, 14.
*♦** Слово на Мф.19, 3; Mg. 40, 228.
389
По библейскому воззрению, разделяемому в основе
всем человечеством, брак—это остаток Рая на земле, это
тот оазис, который не был уничтожен великими
мировыми катастрофами, не был осквернен ни грехом первых
людей, не был затоплен волнами всемирного потопа, как
свидетельствуют канонические и богослужебные книги
православной Церкви *.
Поэтому-то всегда брак, как в Ветхом, так и в Новом
Завете, является синонимом радости. «Возрадуемся и
возвеселимся, ибо наступил брак Агнца... Блаженны званые
на брачную вечерю Агнца» (Апок. 19,9; Мф. 25, 1—13).
Наоборот, как показатель величайшей скорби является
пророчество: «И голоса жениха и невесты не будет уже
слышно в тебе» (Апок. 18, 23). И к такому сознанию
библейские предписания приспособлялись даже в опасное
время войны. «Если кто взял жену недавно,—читаем во
Второзаконии,—то пусть не идет на войну и ничего не
должно возлагать на него. Пусть он остается свободным
в доме своем в продолжении одного года и пусть
увеселяет жену свою» (24, 5).
Св. Амвросий Медиоланский подчеркивает, что
только жена была создана в Раю, тогда как сам Адам создан
вне Рая, в Едеме **. Бл. Августин так описывает
внутреннюю жизнь первых людей: «Существовала любовь,
безмятежная к Богу, и любовь взаимная супругов, живших
в верном и искреннем сообществе, а вследствие этой
любви великая радость, так как предмет любви не переставал
быть предметом наслаждения»***.
«Сколько бы ни были нам полезны бессловесные,—
пишет Златоуст,—но помощь, оказываемая женою,
гораздо превосходнее... Жена—целое, совершенное и
полное существо—может и беседовать, и в силу единства
природы доставлять великое утешение. Ведь для его
(мужа) утешения и создано это существо» * * * *. Даже ригорист
Тертуллиан не находит слов для описания счастья
брака*****.
И православный чин венчания постоянно говорит
о браке как великой радости: «О еже возвеселитися им...»,
* См., напр.. Кормчая, гл. 49, II, лист 123; Требник. Чин
благословения супруг чад неимущих.
** De parad, 4, 24.
*** О граде Божием, 14, 10, Ml. 41, 417, р.н. ч. 5, с. 27.
***• Беседа на Бытие 15, I; Mg. 53, 121; MI. 53, 123.
***** Ad uxor, 2, 9.
390
«Да прийдет на ня радость оная...», «Возвеселиши я радо-
стию...», «Возвеселися, якоже Ревекка, веселящися о своем
муже...», «Соединялся в радость сию...».
Если мы от древнехристианской обратимся к более
новой литературе народов с давнею и глубокою
христианскою культурою, то увидим, что и здесь брачная любовь
переживается как высокое религиозно-нравственное
чувство. «Брак есть истинное небесное, духовное и
божественное состояние... Супружеская любовь есть
великая литургия» («Ein grosses hohes Gottes
Dienst»)*,—пишет Лютер.
Великий христианский писатель Англии с ее высоким
семейным укладом Диккенс как-то невольно прерывает
свое повествование восторженным гимном брачной
жизни:
«Очаг, который она (жена) освятила своим
присутствием, который без нее был лишь простой грудой
кирпичей и ржавого железа, а с нею стал алтарем твоего дома,
алтарем, где, забывая будничные заботы, откинув
себялюбие и все мелкие страсти, ты ежечасно приносил
чистую жертву уравновешенной чистой души,
безграничной веры и переполненного любовию сердца, так что дым
твоего бедного очага возносился к небу благоуханнее всех
драгоценных фимиамов, что несутся пред алтарями
самых пышных храмов на земле»**.
Мы уже видели, что благодати Божией брак не был
лишен ни в иудействе, ни в язычестве. И здесь часто брачная
любовь достигает религиозной высоты. Недаром
молитвы христианского венчания вспоминают лишь примеры
ветхозаветной брачной жизни. Уже давно историки
европейской литературы и богословы спорят о значении книги
«Песнь Песней». Для одних это просто любовная
поэма***, для других—это «святое святых Библии»
и таинственное изображение Церкви Христовой. И те
и другие правы, ибо в силу выясненного метафизического
сходства семьи и церкви на высотах идеальной любви
границы между браком и церковью снимаются, и непорочная
* Werke, 21, 72.
** Сверчок на печи. Берлин, 1921, с. 81—85.
*** Нам представляется очень правдоподобной гипотеза, что
«Песнь Песней»—это сборник тех песен, которые пелись при
древнееврейском брачном обряде (см. Herzog-Hauck, R. Е. 3 Aulf. 5,743, статья Бенцин-
гера: «Семейная жизнь и брак у древних евреев»). Таким образом, «Песнь
Песней», в сущности, есть ветхозаветный чин венчания.
391
чистая невеста Соломона Суламита является образом
невесты Христовой.
До каких религиозных высот доходила любовь в мире
языческом, показывает хотя бы «Алцеста» Еврипида, этот
гимн в честь чистой, абсолютной, неразрушаемой даже
смертью моногамии*, заканчивающийся пророчеством
об Искупителе в образе выводящего из ада Алцесту
Геркулеса.
Итак, чувство радости и блаженства, чувство
достигнутой полноты бытия свойственно вообще всякому
идеальному браку. Но если так, то и психологически единение
супругов в любви есть последняя цель, которая исключает
вопрос о каких-либо дальнейших целях, раз эта любовь
дает чувство полноты бытия, достижения цели всех
стремлений. Поэтому-то идеальная любовь непременно
сопровождается сознанием ненужности каких-либо перемен,
сознанием своей вечности. Любовь ощущается всегда как
вечная, хотя бы жизненный опыт говорил другое. «О, я
хотел бы вечно жить»,—говорит сам Дон Жуан, охваченный
любовью к донне Анне.
Лермонтов отказывается от любви, если «вечно
любить невозможно».
И это чувство мы находим как в иудействе, так и в
язычестве. «Крепка, как смерть, любовь»,—читаем мы в
ветхозаветном гимне любви («Песнь Песней», 6,8). «Любовь
никогда не перестает», хотя «самое знание упразднится»
(1 Кор. 13,8),—вторит Ветхому Завету гимн любви
новозаветный.
«Брачная любовь есть сильнейший тип любви,—
пишет Златоуст.—Сильны и другие влечения, но это
влечение имеет такую силу, которая никогда не ослабевает.
И в будущем веке верные супруги безбоязненно
встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом
в великой радости» **. "Perenne amimus, non corpus coniu-
gium facit"—«Брак вечно творит дух, а не тело»,—от
лица языческого мира возвещает Публий Сир.
Мы видели, что брачная любовь, поскольку она
соединена с сознанием единения с предметом любви, есть радость.
* См., напр., действие 1, явл.4, «Адамет», «Смерть твоя (Алцесты)
не погасит брачного факела нашей любви. Ты будешь мне женой и по
смерти, так как в эту светлую землю, где ты найдешь покой, следует
моя любовь и счастье. После твоей смерти другая не будет в моих
объятиях».
*• Бес. 20 на Ефес. S, 22—24; Mg. 62,135,138.146; русск. перев. 8,180.
392
Но есть в любви и другая, трагическая сторона, и притом
свойственная ей не по каким-либо внешним
обстоятельствам, а по самому ее существу. Христианская брачная
любовь есть не только радость, но и подвиг и не имеет
ничего общего с той «свободной любовью», которая, по
распространенному легкомысленному взгляду, должна
заменить будто бы устарелый институт брака. В любви мы не
только получаем другого, но и всецело отдаем себя, и без
полной смерти личного эгоизма не может быть и
воскресенья для новой, вышеличной жизни. Признавая
бесконечную ценность за объектом любви, любящий в силу этого
признания не должен останавливаться ни перед какою
жертвою, если она нужна для блага этого объекта и для
сохранения единства с ним. Вообще христианство
признает только любовь, готовую на неограниченные
жертвы, только любовь, готовую положить душу за брата, за
друга (Ио. 15,13; 1 Ио. 3,16 и др.), ибо только через такую
любовь отдельный человек возвышается до таинственной
вышеличной жизни Св. Троицы и Церкви. Такова же
должна быть и брачная любовь. Христианство не знает иной
брачной любви, кроме любви, подобной любви к своей
Церкви Христа, «Который предал себя за нее» (Ефес. 5,
25). И Златоуст в своих вдохновенных толкованиях на эти
слова Св. Писания * учит, что муж не должен
останавливаться ни перед каким мучением и даже смертью, если это
нужно для блага жены. «Я считаю тебя драгоценнее души
своей»,—говорит муж жене у Златоуста. «Совершенная»
брачная любовь, испрашиваемая в чине обручения **, есть
любовь мученическая, и глубокий смысл заключается
в том, что в православных храмах в чин венчания входит
церковная песнь «Святии мученици».
Но жертвенность брачной любви должна идти еще
далее, идти до пожертвования не только материальными
благами, но и благами нравственными, духовными, и
даже несомненная нравственная опасность брачного союза
для одного из супругов не дает права расторгать его.
В том же месте, где слово Божие требует от супругов,
чтобы любовь их была такою же, как и любовь Христа
к своей Церкви, говорится, что Христос предал себя за
Церковь именно для того, чтобы освятить ее и
представить ее Себе, не имеющей ни пятна, ни порока, а следова-
* Беседа на Ефес. 20, 8; Mg. 62, 137; ср. Похвала Максиму.
•* Великий Требник. М., 1732, л. 33.
393
тельно, Христос признал своей невестой Церковь,
которая имела пятна и пороки. Таким образом, христианская
брачная любовь включает в себя не только готовность
отдать свою жизнь для другого, но и готовность взять на
себя его нравственные недостатки. Характерно, что
апостол Павел, дозволяя в смешанном браке развод
нехристианской стороне, чуждой христианского понимания
любви, не дозволяет его стороне христианской (1 Кор. 7,
13, 14), любовь которой должна освятить и
нехристианскую сторону, и, конечно, учение католических
канонистов о "Privilegium Paulinum", т.е. о праве супруга-
христианина расторгнуть брак с нехристианской
стороной, является прямою противоположностью подлинного
учения ап. Павла. Та же мысль о взятии на себя
недостатков другого в браке лежит и в основе советов ап. Павла
о родовой жизни супругов (1 Кор. 7, 1—7).
«Я беру тебя,—говорится в одном древнем западном
чине венчания,—беден ли ты или богат, здоров или болен,
добр или зол». Хорошо выражает эту мысль английский
поэт:
I ask, I care not,
If guilt's in thy heart,
I know that I love thee,
Whatever thou art *.
Таким образом, метафизическое единство супругов
представляется важнее даже нравственных ценностей,
и для оценки достоинства брачной жизни существует
критерий, отличный от обычной морали, критерий не
аморальный, а сверхморальный.
И я знаю, взглянувши на звезды порой,
Что взирали на них мы, как боги, с тобой,
У любви есть слова, те слова не умрут,
Нас с тобой ожидает особенный суд:
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем,—нас нельзя разлучить **.
Метафизическое значение брачной любви как соедине-
* Я не спрашиваю, не беспокоюсь,
есть ли вина в твоем сердце,
я знаю, что люблю тебя,
какова бы ты ни была.
** Фет A. A. Alter ego. Поли. собр. стихотв., т. 1. СПб., 1912,
с. 108.
394
ния в одно вышеличное бытие и ее бесконечная
жертвенность связаны с ее другой чертой—ее абсолютной
исключительностью. В целом может быть только две половины,
и потому абсолютная моногамия является не только
христианским идеалом, но даже и нормой брака. Все виды
многобрачия не только одновременного (bigamia simulta-
nea) *, но даже и последовательного (bigamia successiva),
безусловно, исключаются Церковью. В древней
христианской письменности эта идея выражена очень определенно
и даже резко, доходя до того, что некоторые древние
писатели не хотят даже признавать повторные браки
браком, а называют их «благовидным или тайным
прелюбодеянием»**, «видом прелюбодеяния»***, «наказанным
блудом», «нечистотой в Церкви» ****, как потому что они
«идут вопреки определению Божию, так как Бог вначале
сотворил одного мужа и одну жену» (Афинагор), так
и потому, что они не отвечают строению Церкви, «не
имеющей скверны и порока», и «изгоняют нас из Церкви
и Царства Божия» *****, соединены с потерей «нормы
таинства» ******, также, наконец, и моральными
мотивами, ибо новый брак доказывает, что в первом браке
супруг не имел безграничной любви, которая требуется
христианским учением, так как, вступая в новый брак, супруг
отделяется от своего первого супруга, и новый брак
всегда является некоторой изменой в отношении к
первому*******.
«Брак по природе один, как одно рождение и одна
смерть,—отвечала сестра св. Григория Нисского св. Ма-
крина, когда по смерти жениха ей предложили выйти
замуж за другого,—жених мой жив в надежде воскресения,
и было бы нехорошо не сохранить ему верности» ********.
* Об этом грехе Ламеха см., напр.: Тертуллиан.
De exhort, cast. S. De monog. 4.
** Афинагор (ок. 174 г.). Прошение о христианах. Ср.:
Иустин Муч., Апология I, гл. SO, Mg. 6, 349.
*** Тертуллиан. De pudicilia 9; Ad uxorem 1,4,8.
**** Василий Вел. Правила4 и SO;ср.: Климент Алекс.
Стром. III, 11, Mg. 8, 1189.
•**•* Ориген, 18, Гом. на ев. Луки Ml. 17, 1846; ср.: Гом. 19 на
Иеремию, Mg. 13, 309.
****** Августин. (De bono conjug., 21, MI. 40, 387—388) и
Климент Алекс, только первый брак признают таинством. Стром.
II 23 Mg. 8, 108S, III, 91, Mg. 8, 1173.
*•*•••* Амвросий. Поел, к Верч. Церкви, 64; ML, 26, 1205;
Златоуст Гом. на поел, к Титу, Mg. 62, 671.
••*••*•• Св. Григорий Нисский. De vita S. Macrinae, Mg. 46,
с. 964.
395
Более поздние памятники говорят о повторных браках уже
в смягченных тонах, но основное церковное учение
осталось неизменным: норма брака—это абсолютное
единство, а повторение брака допустимо лишь как средство
для избежания худшего—разврата, как своего рода
лекарство*. (...)
* Василий Вел. Правило 87.
бенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи,
защиты и водительства, наслаждается его любовью и
любит его ответно; он гордится им, подражает ему и чует
в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом
всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем
родством. А когда он позднее загорается взрослою
любовью к «ней» (или соответственно она к «нему»), то задача
состоит в том, чтобы превратить это «пробуждение
природы» в подлинное «посещение Божие» и принять его как
свою судьбу. И не естественно ли ему любить своих детей
той любовью, которой он в своих детских мечтаниях ждал
от своих родителей? (...) Как же обойтись без любви?
Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту,
образующуюся при ее отсутствии?
Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она
есть главная выбиранпцая сила в жизни. Жизнь подобна
огромному, во все стороны бесконечному потоку,
который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя
жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому
крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать,
тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет,
ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать:
отказываться от очень многого ради сравнительно немногого;
это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить,
растить и совершенствовать. И этим строить свою
личность. Выбирающая же сила есть любовь: это она
«предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, бережет,
домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие
любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста,
черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична
к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную
дисциплину под командой порочных людей. На свете есть
уже целый ряд организаций, построенных на таких
началах. Храни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам
нельзя без любви: она есть великий дар—увидеть лучшее,
избрать его и жить им. Это есть необходимая и
драгоценная способность сказать «да», принять и начать
самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека,
лишенного этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость
превращается его жизнь!
Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она
есть главная творческая сила человека.
Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте
и протекает не в произвольном комбинировании элемен-
398
тов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить
можно, только приняв богозданный мир, войдя в него,
вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными
путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила
любви, весь дар художественного перевоплощения,
отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты; он
творит из уже сотворенного, из сущего, создавая новое в
пределах данного ему
естества—внешне-материального и внутренне-душевного. Творящий человек должен
внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен
научиться созерцать сердцем, видеть любовью;
уходить из своей малой личной оболочки в светлые
пространства Божий, находить в них
Великое—сродное—сопринадлежащее, вчувствоваться в него и
создавать новое из древнего и невиданное из предвечного. Так
обстоит во всех главных сферах человеческого творчества:
во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой
жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без
любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело.
И все великое и гениальное, что было создано
человеком,—было создано из созерцающего и поющего сердца.
Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое
главное и драгоценное в его жизни открывается именно
сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам
чужую душу для верного, проникновенного общения, для
взаимного понимания, для дружбы, для брака, для
воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям.
Только созерцающая любовь открывает человеку его
родину, т. е. его духовную связь с родным народом, его
национальную принадлежность, его душевное и духовное
лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее
можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти,
современные революционеры, оказываются
интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины.
Только созерцающая любовь открывает человеку доступ
к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый,
безверию и маловерию западных народов: они приняли от
римской церкви неверный религиозный акт, начинающий
с воли и завершающийся рассудочною мыслью, и, приняв
его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание.
Этим был предопределен тот религиозный кризис,
который они ныне переживают.
Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и
необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает
399
из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели.
Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель,
если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если
не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность,
если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все
должны ее искать. Но она требует от нас художественной
индивидуализации в восприятии людей; а к этому
способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает
необходима, и неспособность к ней может сделать
человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен
быть рожден любовью, он должен быть сам ее
воплощением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру.
Вот почему я сказал, что ты «и прав и не прав».
И еще: я понимаю твое предложение «лучше о любви
не говорить». Это верно: надо жить ею, а не говорить
о ней. Но вот посмотри: в мире раздалась открытая и
безумная пропаганда ненависти; в мире поднялось упорное
и жестокое гонение на любовь—поход на семью,
отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая
бессердечность одних увенчалась прямой проповедью
ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов.
Злоба стала доктриною. А это означает, что пришел час
заговорить о любви и встать на ее защиту.
Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего
культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из
этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого
современное человечество вступило в духовный кризис,
невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя
это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же
пробудит любовь в черствых сердцах, если она не
пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как
браться за это нам, с нашими малыми человеческими
силами?
Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушаемся
в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас,
что Христос и в нас, и с нами. (...)
Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы
обречены со всею нашею культурою. В ней наша надежда
и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь
твоего письма с подтверждением этого.
любви многое может нам не нравиться, сознаваться как
недостаток — от этого мы не перестаем его любить, и
забота о благе любимого связана со многими страданиями
и волнениями. Любовь есть непосредственное восприятие
абсолютной ценности любимого; в качестве такового она
есть благоговейное отношение к нему, радостное приятие
его существа вопреки всем его недостаткам, перемещение
на любимое существо центра тяжести личного бытия
любящего, сознание потребности и обязанности служить
любимому, чего бы это ни стоило нам самим. Любовь есть
счастие служения другому, осмысляющее для нас и все
страдания и волнения, которые нам причиняет это
служение. Так любит мать своего ребенка, даже сознавая все
дурное в нем; даже если этот ребенок стал существом
преступным и порочным и вызывает во всех других людях
справедливое порицание и возмущение, мать не перестает
ощущать, что его душа в последней глубине и истинном
существе есть нечто абсолютно драгоценное, прекрасное,
священное. Все его пороки она сознает как болезнь его
души, искажающую его подлинное существо, как источник
страданий и опасность для него самого. Она знает, что
человек, который кажется другим существам
несовершенным, быть может, ничтожным или порочным и
отвратительным, в его последней глубине остается тем же самым
незабвенным, прекрасным существом, которое в своей
первой младенческой улыбке раз навсегда явил ей свою
неземную, драгоценную сущность.
Любовь есть, таким образом, благоговейное,
религиозное восприятие конкретного живого существа, видение
в нем некоего божественного начала. Всякая истинная
любовь—все равно, отдает ли себе отчет в этом сам
любящий или нет,—есть по самому ее существу религиозное
чувство. И вот именно это чувство христианское
сознание признает основой религии вообще. В этом отношении,
как и в других, христианская правда, будучи
парадоксальной, т. е. противореча обычным, господствующим
человеческим понятиям, вместе с тем дает высшее
выражение самой глубокой и интимной потребности
человеческого сердца, и есть, как я уже говорил,
«естественная религия». Что любовь есть вообще драгоценное
благо, счастье и утешение человеческой жизни—более того,
единственная подлинная ее основа,—это есть истина
общераспространенная, как. бы прирожденная человеческой
душе. Лирическая поэзия всех времен и народов прослав-
402
ляет блаженство эротической любви. Но эротическая
любовь, при всей ее силе и значительности в человеческой
жизни, есть в лучшем случае лишь зачаточная форма
истинной любви в намеченном выше смысле, или же
благоухающий, но хрупкий цветок, распускающийся на
стебле любви, а не ее подлинный корень. По основной,
исходной своей сущности она корыстна,—определена
радостью, которую любимое существо дает любящему: в
более высокой, очищенной форме она есть эстетическое
восхищение, т. е. совпадает с восприятием красоты, телесной
и душевной, любимого существа. Это восприятие
красоты уже содержит, как мы знаем, элемент религиозного
чувства; поэтому через него в любимом существе
усматривается отблеск чего-то божественного, и оно само
«обоготворяется». Но именно в этом заключается
роковая и трагическая иллюзорность эротической любви,
обнаруживается, что она основана на некоем обмане зрения.
Истинное религиозное чувство, имеющее своим
подлинным объектом святыню, само Божество, ошибочно
фиксируется на несовершенном человеческом существе;
в этом смысле эротическая любовь есть ложная религия,
некоторого рода идолопоклонство. То же можно
выразить иначе, сказав, что заблуждение состоит здесь в том,
что религиозная ценность человеческой души как таковой,
т. е. ее субстанциального ядра, ошибочно переносится на
ее эмпирические качества и обнаружения, фактически
несовершенные. Когда заблуждение разбивается трезвым
восприятием эмпирической реальности, эротическая
любовь, поскольку она остается фиксированной на
эмпирическом, внешнем облике любимого, т. е. поскольку она не
переходит в иную, высшую форму любви, неизбежно
кончается горькими разочарованиями, а иногда по реакции
переходит даже в ненависть. Платон в диалоге «Симпо-
эион» описывает подлинное назначение эротической
любви, именно как первой ступени к религиозному чувству:
любовь к прекрасным телам должна переходить в любовь
к «прекрасным душам», а последняя—в любовь к самой
Красоте, совпадающей с Добром и Истиной. Здесь
любовь к человеку имеет свой единственный смысл, как путь
к любви к Богу, и, исполнив свое назначение,
преодолевается и исчезает. Как бы много правды ни содержалось
в этом возвышенном учении, оно все же не содержит всей
правды любви; мы не можем подавить впечатления, что
этот путь очищения и возвышения любви содержит все
403
же и некое ее умаление и обеднение; ибо «любовь» к Богу
как к «самой Красоте» или «самому Добру» есть менее
конкретно-живое, менее насыщенное, менее полное
чувство, чем подлинная любовь, которая есть всегда любовь
к конкретному существу; можно сказать, что любовь к
Богу, купленная ценою ослабления или потери любви к
живому человеку, совсем не есть настоящая любовь. Есть,
однако, и другой, более совершенный путь развития и
углубления эротической любви—именно, когда она
постепенно научает любящего воспринимать абсолютную
ценность самой личности любимого, т. е. когда через любовь
к внешнему облику любимого—телесному и
душевному—мы проникаем к тому глубинному его существу,
которое этот облик «выражает», хотя всегда и
несовершенно,—к его личности, а это значит: к его существу как к
индивидуально-конкретному тварному воплощению
божественного начала личного Духа в человеке. Здесь
иллюзорное обоготворение чисто эмпирически-человеческого
как такового преобразуется в благоговейно-любовное
отношение к индивидуальному образу Божию, к богочело-
веческому началу, подлинно наличествующему во всяком,
даже самом несовершенном, ничтожном и порочном
человеке. Истинный брак есть путь такого религиозного
преображения эротической любви, и можно сказать, что
в этом таинственном «богочеловеческом» процессе
преображения и состоит то, что называется «таинством
брака».
Другой естественный зачаток истинной любви есть
присущее человеку чувство товарищеской или соседской
солидарности, братской близости членов семьи или
племенного и национального сродства. Первоначальный
смысл слова «ближний» означает именно человека «близ-
каго» в одном из этих, сходных между собою отношений.
Человек по своей природе есть существо социальное, член
группы; ему естественно иметь близких, соучастников
общей коллективной жизни, как естественно, с другой
стороны, за пределами этой группы иметь чуждых или врагов.
Чувство сопринадлежности к некоему коллективному
целому, сознание, выражаемое в слове «мы», есть
естественная основа всякого индивидуального самосознания,
всякого «я»: «я» предполагает отношение к некоему или
неким «ты», т. е. сопринадлежность к «мы»—к форме
бытия, в которой я сознаю себя или свое сущим и за
пределами «меня самого». Отношение между «близкими», члена-
404
ми общей группы, суть—несмотря на возможность или
даже необходимость в них начала иерархии—отношения
принципиального равенства, при котором каждый
признает и «блюдет» «права» других, равноценные и
соотносительные его собственным правам. Первоначальный,
элементарный смысл заповеди «люби ближнего, как
самого себя» в Ветхом Завете состоит именно в этом
принципе справедливости, взаимного уважения прав и
интересов соплеменников, членов общей группы. Это отношение
есть нечто иное, чем любовь в специфическом смысле
этого понятия, хотя и содержит ее зачаток. В нем другой,
«ближний», уже сознается в принципе существом,
подобным «мне»; на него переносится то чувство
значительности, существенности, исконности, которое присуще
сознанию самого себя как носителя жизни и жизненных
интересов: в «ты» я прозреваю как бы другое «я». Но это
отношение само определено сознанием сродства, общности,
близости; оно не распространяется на всякого человека
как такового, а скорее предполагает необходимость
выделения «ближних», «своих», от «других», «чужих»,
«далеких». Это отношение определяет—употребляя меткий
термин Бергсона—установку «замкнутой группы».
В противоположность этому христианское отношение
к любви есть отношение «открытое», преодолевающее все
человеческие ограничения. В притче о милосердном сама-
рянине отчетливо показано это преображение понятия
ближнего; «ближним» оказывается не соплеменник, не
единоверец, а, напротив, иноплеменник, инаковерующий,
но проявивший сострадание, милосердие, любовь.
Любовь обнаруживается здесь как сила, превозмогающая
естественное человеку как природному существу
различение между «своим» и «чужим», «другом» и «врагом».
В практике, даже и христианской церкви, это древнее,
прирожденное человеку сознание различения между «своим»
и «чужим» продолжает жить в вероисповедной
замкнутости и отчужденности; тем более оно живет в практике
мирской жизни человечества, именующего себя
христианским, во всех формах групповой ограниченности—в
замкнутости дома и семьи, в сословной и национальной
исключительности,—коротко говоря, во всяком esprit de
corps. В противоположность этому, любовь в
христианском смысле этого понятия означает преодоление всякой
групповой замкнутости; в ней все люди как таковые
признаются «братьями», членами единой всеобъемлющей
405
вселенской семьи, детьми единого Отца. В этой формуле
с гениальной религиозной простотой выражен ради-
кальный переворот в отношении между людьми: самая
тесная, интимная, замкнутая связь—связь между членами
одной семьи—расширяется так, что охватывает всех
людей без различия, даже (как у св. Франциска)—все
творения без различия, чем преодолена всякая групповая
замкнутость.
Христианство в качестве религии любви, т. е. религии,
определенной восприятием общего божественного
происхождения и божественной ценности всех людей, и потому
их сопринадлежности к всеобъемлющему целому,
объединенному любовью,—универсалистично, «кафолично» по
самому своему существу. Все различия классов,
национальностей, рас и культур—сколь бы естественны они ни
были в порядке природного или чисто человеческого
бытия—становятся несущественными, только
относительными, превозмогаются универсально-объединяющей
силой любви, утверждающей единство в Боге всего
человеческого рода. Где человек «облекся в нового человека,
который обновляется в познании по образу создавшего
его»—то есть где силою любви человек проникает до
самого существа личности как образа Божия,—там «нет ни
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного; но все и во всем—Христос»
(Кол. 3,10—11). С этой принципиальной точки зрения
такое, например, понятие, как «римско-католическая (то
есть «римско-универсальная») церковь»—если оставить
в стороне неизбежность умаления абсолютной истины
в ее человечески-исгорическом выражении,—есть, строго
говоря, такая же нелепость, какой была бы какая-нибудь
«московская таблица умножения» или «китайская
причинная связь». Ибо в первичном основоположном смысле
«Церковь Христова» есть не что иное, как превосходящее
и преодолевающее все земные различия единство людей
в Боге,—единство, открывающееся любви как
благоговейному религиозному восприятию божественного
существа человеческого образа как такового. Сколько бы
люди в своей конкретно-эмпирической, исторической жизни
ни грешили против этой религии любви, то, что раз
открылось в этой религии—объединяющая сила
любовного восприятия человека как начала абсолютно-
ценного,—уже не может исчезнуть из человеческого
сознания, а продолжает действовать в нем, напоминать ему
406
об абсолютной правде и о ничтожестве перед ее лицом
всех земных, обособляющих и разъединяющих оценок
и мерил.
Но этим чисто количественным и экстенсивным
универсализмом не исчерпывается и потому не выражается
адекватно существо христианской любви.
Количественный универсализм сам по себе склонен быть—и
фактически в истории человеческого морального сознания
постоянно бывает—универсализмом абстрактным: широта
духовного взора искупается здесь бедностью
воспринимаемого содержания, идет за счет конкретной полноты.
Таков основной признак всякого интеллектуального
универсализма, в котором общность есть общность
абстрактного понятия: как известно, чем шире объем понятия, тем
беднее его содержание. В моральном сознании такой
характер присущ абстрактному, гуманитарному признанию
единственно существенным в человеке начала
«общечеловеческого», культ «человечества». Все люди вообще, как
все народы, оказываются здесь однородными
представителями человека вообще, входят в состав однородного,
универсального целого—«человечества». Всякое
многообразие, все различное и индивидуальное в составе этого
всеобъемлющего целого отвергается как нечто
ничтожное, не имеющее подлинной реальности и ценности или
даже имеющее ценность отрицательную, потому что
предполагается, что оно ведет к разделению и
обособлению. Эта установка утверждается повсюду, где
моральное сознание находится под властью рационализма;
основной моральный пафос есть здесь идея равенства всех
людей, и это воззрение было провозглашено в античном
мире, сперва некоторыми из софистов V века, в эпоху
афинского просвещения, и позднее, вполне
последовательно, в стоической философии. Оно постоянно
возрождается во всех умственных течениях, утверждающих
«естественное право» или «естественное состояние» в
противоположность всему положительному, конкретному,
историческому в человеческой жизни; такова основная
тенденция французского «просвещения» XVIII века и в наши
дни—коммунистического «интернационализма»,
который есть в сущности «антинационалиэм». Но и великий
общий моральный принцип Сократа, провозгласившего
до Христа требование любить врагов не менее, чем
друзей, носил этот характер абстрактного рационализма.
«Любить» здесь означало просто творить благо, и смысл
407
требования состоял в том, что благотворение есть некая
общая, постоянная ценность человеческой жизни, перед
лицом которой не имеют никакого значения все различия
между людьми как объектами морального поведения.
Совершенно очевидно, что этот абстрактный
количественный универсализм, как бы велика ни была в
некоторых отношениях его положительная ценность, только по
недоразумению именуется «любовью». Он не имеет
ничего общего с любовью именно потому, что любовь всегда
и необходимо направлена на конкретно-сущее, есть
восприятие ценности конкретного существа, именно в его
конкретности, то есть индивидуальности. Нельзя любить
«человечество», как нельзя любить «человека вообще»;
можно любить только данного, отдельного,
индивидуального человека во всей конкретности его образа.
Любящая мать любит каждого своего ребенка в отдельности,
никогда не смешает одного с другим, не потеряет из виду
отличительные особенности каждого; она знает, ценит,
любит то, что есть особого, единственного, несравнимого
в каждом из ее детей. Поэтому универсальная,
всеобъемлющая любовь не есть ни любовь к «человечеству» как
к некоему сплошному целому, ни любовь к «человеку»
вообще; она есть любовь ко всем людям во всей
конкретности и единичности каждого из них. Совершенно так же
есть глубочайшая противоположность между так
называемой «любовью к человечеству», отрицающею и
отвергающею все различия между национальностями, и той
любовной широтой духа, в силу которой человек
признает, почитает, любит все народы в своеобразии каждого
из них, умеет любовью воспринимать гений, дух каждого
народа и сознает человечество как всеобъемлющую
семью, состоящую из разных и своеобразных членов; и так
же велико различие, например, между вероисповедным
индифферентизмом, который, исходя из мысли, что «Бог
один для всех», усматривает в различии между
исповеданиями только ничтожные, суетные человеческие
измышления, и тем истинно любовным восприятием
конкретно-индивидуальных типов религиозной мысли и жизни,
который, следуя великому завету Христа: «В доме Отца
Моего обителей много», в своеобразии каждого из них
видит нечто ценное, недостающее другим и их
восполняющее.
Первое провозглашение такого конкретного,
любовного универсализма в отношении национальностей, т.е.
408
преодоление племенной религиозной исключительности,
встречается еще в Ветхом Завете у пророка Исайи: «В те
дни будет путь из Египта в Ассирию, так что ассиряне
будут приходить в Египет и египтяне в Ассирию, и египтяне
вместе с ассирянами будут служить Богу. В те времена
Израиль будет втроем с египтянами и ассирянами,
благословение среди земли. Тогда Бог Саваоф благословит их
и скажет: благословен ты, Египет, народ мой, и ты, Ассур,
дело рук моих, и ты, Израиль, мое достояние» (Ис. 19,
23—25). Но лишь в христианском сознании впервые
принципиально и до конца было раскрыто существо любви
как конкретного универсализма, объемлющего все
многообразие индивидуального бытия; в отношении различия
между национальностями—иудеями и язычниками—это
было утверждено в проповеди ап. Павла и в видении
ап. Петра и символически открыто в даре разных
языков, обретенном при сошествии Святого Духа.
Библейское «смешение языков» при вавилонском
столпотворении, когда люди перестали понимать друг друга, говоря
на разных языках, сменено здесь любовным, дружным
сотрудничеством между апостолами, ставшими как бы
солидарной семьей, представляющей разные народы в
своеобразии их языков и понятий. В качестве общего
принципа единства и солидарности индивидуального
многообразия это утверждается, например, в словах: «Служите друг
другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией» (1
Послание Петра, 4, 10). Или в словах: «Дары различны, но
Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один
и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех. Все же сие производит один и тот
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо как
тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело; так и
Христос» (1 Кор. 12, 4—6, 11—12).
Так всеобъемлющая любовь, в качестве восприятия
и признания высшей ценности всего конкретно-живого,
универсальна в двойном смысле—количественном и
качественном: она объемлет не только всех, но и все во всех.
Признавая ценность всего конкретно-сущего, она
объемлет всю полноту многообразия людей, народов,
культур, исповеданий, и в каждом из них—всю полноту их
конкретного содержания. Любовь есть радостное приятие
и благословение всего живого и сущего, та открытость ду-
409
ши, которая широко открывает свои объятия всякому
проявлению бытия как такового, ощущает его
божественный смысл. Как говорит апостол в своем гимне любви:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13,4—
7). Для любви все злое, дурное в живом существе есть
только умаление, искажение его истинной природы, только
момент небытия, примешивающийся к бытию и
препятствующий его осуществлению: она отвергает зло и
борется против него, как любящий борется с болезнью и
упадком сил любимого существа. Напротив, всякая
положительная реальность, вся многообразная полнота сущего
радостно приемлется любовью, ибо все истинно-сущее как
таковое она воспринимает как проявление божественного
первоисточника жизни. Всякое отрицание здесь подчинено
утверждению, моральная оценка есть здесь не суд, а
диагноз болезни и ведет не к фанатизму ненависти, а к
стремлению излечить, выправить истинное, положительное
существо того, что искажено злом, помочь
заблудившемуся найти правый путь, соответствующий его
собственному назначению и подлинному желанию. Любовь есть
нечто иное, чем терпимость, чем признание прав другого,
готовность согласиться на его свободу осуществлять его
собственные интересы, идти избранным им путем. Такой
«либерализм» в смысле признания субъективных прав
другого и подчинения своего собственного поведения
правовому порядку, обеспечивающему эти права, есть некий
минимум любовного отношения к людям—либо
мертвый осадок истинной любви, либо лишь потенциальный
ее зачаток, в котором она пассивно дремлет; уважение
к правам других людей может сопровождаться
равнодушием и безучастием к ним. Оно лишь моральное
ограничение и самообуздание эгоистической воли, а не
непроизвольное, радостное, активное движение воли навстречу
жизни и живым существам. Напротив, любовь есть
положительная, творческая сила, расцвет души, радостное
приятие другого, удовлетворение своего собственного
бытия через служение другому, перенесение центра тяжести
своего бытия на другого. Если эта чудесная, возрождающая
и просветляющая человеческое существование сила
любви обычно, в порядке естественного бытия, направлена на
410
кого-нибудь одного или на немногие личности близких,
родных, друзей, «любимых»—существ, которые мы
ощущаем нам духовно-сродными или общение с которыми
нам дает радость,—то христианское сознание открывает
нам, что таково же должно быть наше отношение ко всем
людям, независимо от их субъективной близости или
чуждости нам, от их достоинств и недостатков.
Это не есть просто моральное предписание: в качестве
такового оно обречено было бы оставаться бесплодным и
неосуществимым. В заповеди универсальной любви,
понимаемой как моральное предписание, как приказ: «Ты
должен любить», содержится логическое противоречие.
Предписать можно только поведение или какое-нибудь
обуздание воли, но невозможно предписать внутренний
порыв души или чувство; свобода образует здесь само
существо душевного акта. Но завет любви к людям не есть
моральное предписание; он есть попытка помочь душе
открыться, расшириться, внутренне расцвести, просветлеть.
Это есть попытка открыть глаза души, помочь ей увидать
что-то, что ее притягивает к отдельному, избранному
человеческому существу и делает его «любимым»,—
фактически присутствует, наличествует в какой-либо
форме и менее явно для естественного взора души во всяком
человеке и потому может и должно оказывать такое же
действие на нашу душу. Это есть попытка воспитать
внимание и зоркость души к истинной реальности всего
конкретно-сущего, научить ее воспринимать в нем его
ценность и притягательную силу, благодаря чему любовь как
субъективное чувство, любовь-предпочтение,
прикованная к одному или немногим избранным существам,
превращается в универсальную любовь,—в любовь как
общую жизненную установку.
Любовь в этом смысле, как общая установка
человеческой души, есть нечто впервые открытое христианским
сознанием и совершенно неведомое до-христианскому
и вне-христианскому миру. Даже буддийское «tat twam
asi» («это—тоже ты»)—усмотрение наличности
собственного «я» во всем сущем—при всей духовной
значительности и возвышенности этой установки не есть
любовь; ибо где я не имею перед собой вообще никакого
«ты»—никакого иного существа, на которое я мог бы
быть любовно направлен,—там не может быть любви,
и вместе с моим собственным «я» и все остальное,
признаваемое тождественным ему, должно быть погашено,
411
уничтожено, растворено в блаженстве безразличной
общности. В христианстве, напротив, любовь утверждается
как живое, положительное приятие «ты», как усмотрение
близкого мне «ты» во всех. И любовь в этом смысле
становится общей жизненной установкой в отношении всего
живого сущего в силу усмотрения, что это отношение
совпадает с существом самого Бога и с исконно-вечным
отношением человеческой души к Богу. Сам Бог—
верховное творчество, начало и первоисточник самого
нашего бытия—«есть любовь», т. е. есть сила,
преодолевающая ограниченность, замкнутость, отъединенность нашей
души и все субъективные ее пристрастия,—сила,
открывающая душу и дающая ей сознавать себя не как «монаду
без окон», а как исконный и неотрывный член
всеобъемлющего единства, помогающая ей усматривать в
любовной солидарности со всем сущим основу ее
собственной жизни. И наше отношение к ближнему, ко всякому
человеческому существу и в пределе ко всякому живому
существу вообще совпадает с нашим отношением к Богу; то
и другое есть единый, великий, просветленный акт
преклонения перед Святыней, благоговейного видения
исконной красоты, исконного Величия и Блага как первоосновы
и сущности всяческой жизни. Любовь и вера здесь
совпадают между собой. И поэтому «если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,—
то я ничто» (1 Кор. 13, 1—2). Любовь—радостное и
благоговейное видение божественности всего сущего,
непроизвольный душевный порыв служения, удовлетворения
тоски души по истинному бытию через отдачу себя
другим—эта любовь есть сама сердцевина веры. Созерцать
Бога—значит созерцать любовь, а созерцать любовь—
значит иметь ее, гореть ею. В этом существенное отличие
христианского Богопознания от всякого философски-
умозрительного,— отличие, которое есть не
противоположность, а лишь завершение, восполнение, подлинное
осуществление того, к чему стремится умозрительная
мистика. Поэтому живая любовь к человеку—ко всякому
человеку—есть мерило реального осуществления
стремления души к Богу. «Кто говорит, что он в свете, а
ненавидит брата своего: тот еще во тьме. Кто говорит: я
люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не лю-
412
бящий брата своего, которого видит, как может любить
Бога, которого не видит?» (1 Ио. 2—9 и 4, 20). Этот смысл
христианской веры как религии любви в конечном счете
означает просто, что христианство до конца и всерьез
принимает Бога как первоисточник и первооснову всего
сущего, подлинно ощущает Его вездесущее, присутствие
Творца в творении, реальность Творца как силы,
объединяющей и пронизывающей все творение. И прежде всего
и в особенности христианство видит Бога в человеке,
ощущает, что корень и существо личности находится в Боге
и есть проявление несказанно-драгоценного Божиего
существа. Христианство, будучи теизмом, есть
одновременно пантеизм; будучи поклонением Богу, есть
одновременно религия Богочеловека и Богочеловечности; именно
поэтому оно есть религия Любви; именно поэтому оно
открывает в столь простом, естественном, прирожденном
и необходимом человеку чувстве, как любовь, в радости
и блаженстве любви—великое универсальное начало,
первый, самый существенный и определяющий признак
Бога. И притом, если в порядке отвлеченно-логическом
религия любви вытекает из усмотрения вездесущия Бога
и укорененности бытия в Боге, единства
Богочеловечности, то в порядке психологическо-познавательном—что
здесь значит: в порядке сущностного действия Бога на
человеческую душу и человеческое сознание—имеет силу
обратное соотношение: любовь как благодатная
божественная сила открывает глаза души и дает увидать
истинное существо Бога и жизни в ее укорененности в
Боге. Вот почему эта истина может открываться
«младенцам» и оставаться скрытой от «мудрых и разумных».
С того момента, как любовь в описанном ее смысле
была открыта как норма и идеал человеческой жизни, как
подлинная ее цель, в которой она находит свое последнее
удовлетворение,—мечта о реальном осуществлении
всеобщего царства братской любви не может уже
исчезнуть из человеческого сердца. Сколь бы тяжка, мрачна
и трагична ни была фактическая судьба человечества,
человек отныне знает, что истинная цель его жизни есть
любовь, мечта об этой цели не перестает тайно волновать его
сердце; она иногда заслоняется, вытесняется в глубь
подсознательного слоя души другими, ложными,
призрачными и гибельными идеалами, но никогда уже не может
быть искоренена из человеческого сердца. И человек часто
также попадает на ложные пути в своем стремлении уста-
413
новить царство любви; основное заблуждение состоит
здесь в попытке осуществить господство любви через
принудительный порядок, через посредство закона; но закон
может достигнуть только справедливости, а не любви;
любовь—выражение и действие Бога в человеческой
душе,—будучи благодатной силой, по самой своей природе
свободна; и так как человеческая душа несовершенна,
то—вплоть до чаемого преображения и просветления
мирового бытия—любовь обречена бороться в душе
человека с противоположными ей злыми, плотскими,
обособляющими страстями и может лишь несовершенно и
частично осуществляться в мире. Царство любви остается
в человеческой жизни лишь недостижимой путеводной
звездой; но, даже оставаясь недостижимой, она не
перестает руководить человеческой жизнью, указывать
человеку истинный путь; поскольку человек остается верен
этому пути, любовь, хотя и частично, реально изливается
в мир, озаряя и согревая его. Как бы велика ни была
фактически в человеческой жизни сила зла—сила ненависти
и кощунственного попрания святыни личности,—
остается принципиальное различие между состоянием,
когда это зло сознается именно как зло и грех, как отход
от единственно правого пути любви, и тем злосчастным
помрачением человеческого духа, когда он в своей
слепоте отвергает самый идеал любви. Христианство открыло
глаза души для упоительно-прекрасного видения царства
любви; отныне душа в своей последней глубине знает, что
Бог есть любовь, что любовь есть сила Божия,
оздоровляющая, совершенствующая, благодатствующая
человеческую жизнь. Раз душа это узнала—никакое глумление
слепцов, безумцев и преступников, никакая холодная
жизненная мудрость, никакие приманки ложных идеалов—
идолов—не могут поколебать ее, истребить в ней это
знание спасительной истины.
Справки об авторах
Соловьев Владимир Сергеевич (1853, Москва—1900,
с. Узкое Московской губ.)—религиозный философ,
поэт, публицист. Отец—знаменитый русский историк
СМ. Соловьев, автор «Истории России с древнейших
времен». Воспитанный в глубоко религиозной обстановке
сугубо православной семьи, С. с 14 до 18 лет пережил
период религиозного отрицания и атеизма. В 1873 г. окончил
историко-филологический факультет Московского
университета, где усиленно занимался философией и был
учеником П. Д. Юркевича. В 1874 г. защитил магистерскую
диссертацию «Кризис западной философии». В этот
период С. находился под влиянием Шеллинга, Шопенгауэра,
Гартмана и чувствовал известную близость к
славянофилам—А. С. Хомякову, И. В. Киреевскому.
В 1875 г. отправился за границу, работал в
Британском музее, изучал мистическую литературу о Софии
Премудрости Божией, затем через Францию и Италию
добрался до Египта. Свои духовные и мистические
переживания за время путешествия С. описал в поэме «Три
свидания».
После возвращения из-за границы преподавал
философию в Московском университете, в 1877 г. переселился
в Петербург. В 1880 г. в Петербургском университете С.
защитил докторскую диссертацию «Критика отвлеченных
начал», где сформулировал понятие Истины как сущего
всеединства.
28 марта 1881 г. С. прочел публичную лекцию против
смертной казни, призывая императора Александра III
помиловать убийц его отца, императора Александра II.
Призыв, исходивший из глубины души христиански
настроенного философа, не был услышан и в консерватив-
415
ных кругах создал ему репутацию опасного сумасброда
и радикала.
В начале 80-х гг. углубляется раскол между С. и
славянофилами, вызванный критическими замечаниями в
статьях С. против духовных властей в России; по мнению С,
мирские интересы иерархов в России искажали
божественное содержание учения Церкви. Безотрадное положение
русской православной Церкви побуждает С. обратить
внимание на римско-католическую Церковь, которая ему
представляется стройной духовной организацией,
независимой от светской власти. С. мечтает о соединении
Церквей, о Вселенской Церкви, о союзе русского императора
и римского первосвященника. Свои большие труды—
«История и будущность теократии» и «Россия и
Вселенская Церковь»—философ был вынужден печатать за
границей. В них он пытается представить историю духовного
развития человечества как богочеловеческий процесс,
который завершится торжеством Вселенской Церкви.
Однако уже в 1891 г. своим рефератом «Об упадке
средневекового миросозерцания» С. поставил под вопрос прочность
воздвигнутого им циклопического строения—Вселенской
Церкви; теперь не только на Востоке, но и на Западе он
видит в истории Церкви роковое смешение, торжество хри-
стианско-языческих начал.
Учение С. о любви нашло воплощение в статьях
«Смысл любви» (1892), «Жизненная драма Платона»
(1898) и в мыслях о нравственности, высказанных в
другом большом труде—«Оправдание добра» (1899).
Всю жизнь боровшийся с эсхатологическими
настроениями, ожиданиями конца мира, которые ему казались
формой философии пассивизма, С. был захвачен
катастрофическим развитием мировых событий, ощущением
надвигающегося хаоса. Под этими впечатлениями он
пишет в конце жизни последнюю книгу—«Три разговора
о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900).
Фет Афанасий Афанасьевич (1820, с. Новоселки
Орловской губ.—1892, Москва)—поэт.
Сын помещика А. Н. Шеншина и Каролины
Шарлотты Фет, увезенной Шеншиным из Германии. До 14 лет Ф-
носил фамилию своего отца, но затем из-за неверной
записи в метрической книге—фамилию матери. В 1873 г. Ф-
удалось добиться причисления к роду Шеншиных, но ли*
416
тературные произведения он продолжал подписывать
фамилией Фет.
На 15-м году жизни Ф. начал обучение в немецком
пансионе Крюмера в городе Верро в Лифляндии. В 1838—
1848 гг. учился на словесном отделении философского
факультета Московского университета. После
окончания университета поступил на военную службу и
прослужил до 18S8 г.
В 1840 г. Ф. напечатал первый сборник стихотворений
«Лирический пантеон». В 50-е годы сближается с
Тургеневым и с литераторами, близкими к журналу
«Современник», в котором напечатаны многие стихотворения поэта.
В 1850 и 1856 гг. Ф. выпускает сборники стихотворений;
в 1863 г.—собрание стихотворений. После
двадцатилетнего молчания—в 1883, 1885, 1888 и 1891 гг.—Ф.
печатает четыре выпуска стихотворений «Вечерние огни».
В 1891 г. выходит его книга «Мои воспоминания» и
посмертно—«Ранние годы моей жизни» (1893).
Размышляя о природе любовной лирики Ф., поэт и
литературный критик Б. Садовской проницательно
отмечает, что «любовь эта в поэзии его носит своеобразный,
совсем особый характер. Это не беспредметный, с
мистическим оттенком платонизм и не узконаправленное
искание грубых наслаждений. Страсть в поэзии Фета окутана
дымкой легкого самообмана, некоторого умышленного
закрывания глаз не на жизнь, а на низкое, низшие,
низменные ее стороны, и в то же время в ней ясно чувствуется
необъятное могущество любви, двигающей горами»
(Б. А. Садовской. Любовь в жизни и поэзии Фета. Сб.
статей «Ледоход», Петроград, 1916, с. 65).
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867, деревня
Гумнищи Владимирской губ.—1942, Нуази-ле-Гран,
Франция)—поэт, эссеист, переводчик.
Под влиянием матери рано увлекся поэзией и, по его
собственному признанию, с десяти лет начал писать
стихи. В 1876—1884 гг. учился в гимназии в г. Шуе. В 1886 г.
поступил на юридический факультет Московского
университета. За участие в студенческих беспорядках в 1887 г.
был исключен из университета и выслан под надзор
полиции в г. Шую. В 1888 г. возобновил занятия в
Московском университете, но закончить курс обучения ему не
удалось.
С 1885 г. начинают появляться в периодических
изданиях стихотворения, переводы и статьи Б. Выход сборни-
16—1520
417
ка стихотворений «Под северным небом» (1894)
знаменует сближение молодого поэта с символистским
движением. В 1895 г. публикуется второй сборник
стихотворений Б.—«В безбрежности». Широкую известность и
литературную славу приносят Б. вышедшие в начале XX в.
сборники стихотворений «Горящие здания» (1900),
«Будем как солнце» (1903), «Только любовь» (1903).
В 1902—1904 гг. Б. путешествует по странам Западной
Европы, пишет статьи о европейских поэтах, вошедшие
в книгу «Горные вершины» (1904). В конце 1905 г., после
публикации ряда революционных стихотворений, Б.
уезжает из России; он живет в Париже, где читает лекции
в свободном Русском университете; путешествует по
Европе, посещает Египет и совершает в 1912 г.
кругосветное путешествие. После объявленной амнистии в 1913 г.
Б. возвращается в Россию.
Между 1905 и 1913 гг. Б. выпустил в свет несколько
сборников стихотворений: «Жар-птица» (1907), «Зеленый
вертоград» (1909), «Птицы в воздухе» (1908), «Хоровод
времен» (1909) и книгу очерков о Египте «Край Озириса»
(1914), перевод поэмы Асвагоши «Жизнь Будды» (1913).
В 1916 г. выходит сборник стихотворений Б. «Ясень»,
в 1917 г.—«Сонеты солнца, меда и луны».
В 1920 г. Б. навсегда покидает Россию и находит
последнее пристанище во Франции.
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) (1880,
Москва—1934, Москва)—поэт, автор романов, литературный
критик. В 1891—1898 гг. учился в гимназии Поливанова.
В 1903 г. закончил естественное отделение физико-
математического факультета Московского университета.
Первые литературные опыты Б. отмечены влиянием
Вл. Соловьева, Ф. Достоевского, Ф. Ницше, Г. Ибсена,
позднее Д. С. Мережковского. В 1902—1904 гг. в
издательстве «Скорпион» в Москве выходят его прозаические
произведения—«Северная симфония» (1-я, героическая)
и «Симфония» (2-я, драматическая); 3-я и 4-я симфонии—
«Возврат» и «Кубок метелей»—появляются в 1905 и
1908 гг. В 1904 г. выходит первый сборник
стихотворений Б. «Золото в лазури».
В 1904—1909 гг. активно сотрудничает в «Весах»—
первом символистском журнале, издаваемом В. Брюсо-
вым. На страницах «Весов» Б. печатает роман
«Серебряный голубь», стихи, статьи, рецензии. В 1909 г. издаются
418
сборники стихотворений Б. «Пепел» и «Урна»—важные
свидетельства духовного кризиса, пережитого поэтом.
В1910 г. в издательстве «Мусагет» (Москва) выходит
большой теоретический труд поэта «Символизм»—
обоснование доктрины литературного течения. В 1910 г.
появляется сборник статей «Луг зеленый», в 1911 г.—
«Арабески».
В 1910 г. Б. вместе с женой А. А. Тургеневой
путешествует по Европе, посещает Тунис, Египет, Палестину.
В 1912 г. становится учеником доктора Р. Штейнера,
основателя антропософии, духовной науки, сочетающей
идеи восточной мистики (карма, перевоплощение) с
элементами гностицизма, несторианства и данными
современных естественнонаучных знаний.
В 1916 г. выходит в свет самое значительное
произведение Б.—роман «Петербург», дважды переиздававшийся
еще при жизни автора.
В годы первой мировой войны Б. принимает участие
в строительстве антропософского храма «Гетеанума»
близ Дорнаха (Швейцария). В 1916 г. возвращается в
Россию. В 1917 г. в издательстве «Духовное знание» выходит
его исследование «Рудольф Штейнер и Гёте в
мировоззрении современности».
Октябрьскую революцию Б. в плане своих
мистических и антропософских воззрений воспринял как начало
космического преображения человечества, что нашло
отражение в поэме «Христос воскресе» (1918). В 1918—1919 гг.
принимает участие в работах Пролеткульта, читает
доклады и лекции. В 1919—1920 гг. в Петрограде участвует
в создании Вольной философской ассоциации (Вольфила),
где читает рефераты, лекции. В 1921 г. Б. уезжает в
Германию. В Берлине ему удается издать сборники
стихотворений «После разлуки» (1922), поэму «Первое свидание»
(1922), «Стихи о России» (1922), переиздать романы
«Серебряный голубь» и «Петербург» и др. В 1923 г. Б.
возвращается в Россию. В 1926—1932 гг. выпускает романы
«Московский чудак» (1926), «Москва под ударом» (1926)
и «Маски» (1932), исследования—«Ритм как диалектика»
(1932), «Мастерство Гоголя» (1934), книгу путевых
очерков «Ветер с Кавказа» (1928). Последние годы жизни
готовил к изданию литературные мемуары—«На рубеже двух
столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух
революций» (1934).
419
16»
В сборнике помещена рецензия Б. на книгу Отто Вей-
нингера «Пол и характер».
Розанов Василий Васильевич (1856, Ветлуга
Костромской губ.—1919, Сергиев Посад)—религиозный
мыслитель, литературный критик. Детские годы прошли в
Костроме, где семья жила в большой нужде; восьми лет
остался сиротой на попечении старшего брата. Учился
в гимназии в Костроме и Нижнем Новгороде. Окончил
историко-филологический факультет Московского
университета. В 1880 г. 24-летний Р. женился на 40-летней
А. П. Сусловой. Брак был несчастливым, через несколько
лет Суслова оставила Р., но развода не давала. В 1891 г.
в Ельце Р. женился на вдове Варваре Дмитриевне Бутяги-
ной и в этом браке нашел успокоение и счастье; однако
брак не был законным, и дети—дочери Татьяна, Вера,
Варвара, Надежда и сын Василий—считались
незаконнорожденными. Р. боготворил жену, называл Другом и
вместе с детьми видел в семье «малый храм бытия своего».
До 1893 г. учительствует в гимназиях, преподает
историю, географию в Брянске, Ельце, Белом, а затем по
совету Н. Н. Страхова, с которым был в переписке, и
стараниями Т. И. Филиппова перебирается в Петербург и
получает небольшую должность в государственном контроле.
В 90-е годы Р. печатается в журналах консервативного
направления—«Русском вестнике», «Русском
обозрении». Его статьи—«Место христианства в истории»
и «Легенда о Великом Инквизиторе»—приносят ему
литературную известность (первая книга Р. «О понимании»,
1886 г., написанная под влиянием гегелевской философии,
осталась незамеченной). В эти же годы возникает интерес
Р. к религиям Древнего Востока—к религиозно-половым
мистериям Египта, Вавилона, Финикии, к ветхозаветной
семье. При сравнении горячих, жизнетворческих религий
Востока с христианской семьей и браком Р. делает первые
осторожные замечания о мертвенном, формальном,
холодном отношении к браку у христианских народов,
связывая его с уклонами к аскетизму в историческом
христианстве. В статьях, вошедших в книгу «Религия и культура»
(«Семья и жизнь», «Смысл аскетизма», «Нечто из седой
древности»), Р. только намечает тему, которая станет для
него самой важной до последних дней его жизни,—тему
противопоставления Христа и мира, язычества и
христианства, против которого мыслитель страстно и часто
420
пристрастно выдвигал обвинения в чистом
спиритуализме, угашающем дух жизни. Эти мысли философ с
большой силой позднее выразил в книгах «Темный лик» (1911),
«Люди лунного света» (1911). В 1899 г. и в последующие
годы Р. в ряде статей в «Новом времени» выступает в
пользу облегчения развода и улучшения положения
незаконнорожденных детей. Статьи эти собраны в двух томах
книги «Семейный вопрос в России» (1903). Вопросам
пола, брака и семьи посвящена также его книга «В мире
неясного и нерешенного» (1904).
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865, Петербург—
1941, Париж)—поэт, писатель, эссеист, религиозный
мыслитель. В 1888 г. закончил историко-филологический
факультет Петербургского университета. Первое
стихотворение было напечатано в 1881г. в сборнике «Отклик»,
а первый сборник стихотворений вышел в 1888 г.
Длительное время М. был во власти народнических
идеалов; затем под влиянием Бодлера, Эдгара По,
Достоевского у М. начинается увлечение символизмом, а
после смерти матери происходит религиозный переворот;
религиозная проблематика занимает центральное место
в его творчестве. В 1892 г. выходит книга «Символы» и
в 1893 г.—книга статей «О причинах упадка и о новых
течениях русской литературы»—первый манифест
символизма, религиозное и эстетическое его обоснование.
Вместе с женой 3. Н. Гиппиус много путешествует по Италии,
Греции, собирает материалы для ставшей знаменитой
трилогии «Христос и Антихрист», над которой он
работал двенадцать лет (1893—1905). Почти все журналы
отказывались печатать первую часть трилогии «Юлиан
Отступник». С большим трудом удалось издать ее в 1896 г.
под названием «Отверженный». В 1900 г. в журнале «Мир
Божий» печатается вторая часть трилогии «Леонардо да
Винчи» (отдельное издание—1902 г.), а в 1905 г.—
заключительная часть «Петр и Алексей».
В критическом исследовании «Л. Толстой и
Достоевский» М. впервые удалось выявить духовные основы
творчества великих русских писателей. Тайновидец
духа—Достоевский и тайновидец плоти—Толстой были,
по мысли М., предтечами русского Возрождения, равного
европейскому Ренессансу.
Под влиянием революционных событий 1905 г. М.
из области чистого созерцания, живой мысли ищет до-
421
рогу к героям действия. В 1906 г. уезжает во Францию,
где сближается с деятелями партии социалистов-
революционеров Б. Савинковым, И. Бунаковым-Фон-
даминским. В период между двумя русскими
революциями у М. оживает прежний интерес к народничеству
и новый—к героям 14 декабря 1825 г. Неприятие М. идеи
самодержавия, антихристианской по существу, находит
отражение в многочисленных статьях в периодической
печати и в сборниках статей—«Грядущий Хам» (1906), «Не
мир, но меч» (1908), «В тихом омуте» (1908), «Больная
Россия» (1910), «Было и будет» (1915), «Невоенный
дневник» (1917); а в художественной форме те же идеи ему
удалось воплотить во второй трилогии—в драме «Павел I»
(1908), романе «Александр I» (1913) и романе «14 декабря»
(1918). В 1911 — 1913 и 1914—1915гг. выходят в свет два
полных собрания сочинений М. в семнадцати и
четырнадцати томах.
Октябрьскую революцию М. воспринял резко
враждебно и в 1920 г. покинул Россию. В 1922 г. совместно
с 3. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым и В. А. Злобиным М.
выпускает книгу «Царство Антихриста», проникнутую
религиозным неприятием происходящего в России. В
Париже М. начинает углубленно заниматься историей
древнейших культурных миров, результатом чего стали романы
«Тутанхамон на Крите» (1925), «Мессия» (1928). В 1925 г.
выходит первая часть религиозно-философской
трилогии—«Тайна Трех. Египет и Вавилон» (1925), «Тайна
Запада. Атлантида и Европа» (1930), «Иисус Неизвестный»
(1922). Отдельные главы этой книги М. печатал в газетах
и журналах, выступал с лекциями. В1936—1938 гг. выходят
книги М., объединенные общим заглавием «Лики святых
от Иисуса к нам» («Павел-Августин», «Франциск
Ассизский», «Жанна д'Арк»), и в 1939 г. — «Жизнь Данте».
После смерти М. выходят на немецком языке его книги
о Лютере и Кальвине, в русских журналах печатаются
отрывки из его книг о Паскале и испанских святых XVI в.
Веру в наступление нового зона, тысячелетнее царство
святых, М. сохранил до последних дней. Три постоянные
величины, имеющие равновеликую ценность на пути
в грядущее Царство Духа, для него всегда были—
личность, пол, общество.
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869, г. Белев, Тульской
обл. —1945, Париж)—поэт, автор романов, рассказов,
422
пьес, литературный критик. Училась сначала в Нежине,
потом в Москве в гимназии Фишера. Рано увлекается
музыкой, занимается верховой ездой, пишет стихи,
письма, дневники. В 1888 г. в Боржоми Г. познакомилась
с Д. С. Мережковским и в 1889 г. вышла за него замуж;
они прожили 52 года, не разлучаясь ни на один день.
Первые стихи Г. были напечатаны в 1888 г. в журнале
«Северный вестник» за подписью 3. Г. После переезда
в 1889 г. в Петербург активно участвует в литературной
жизни столицы. С 1902 по 1912 гг. выходят шесть книг
рассказов Г.: «Новые люди» (1896), «Зеркала» (1898),
«Третья книга рассказов» (1902), «Алый меч» (1906),
«Черное по белому» (1908), «Лунные муравьи» (1911); романы
«Победители» (1898), «Чертова кукла» (1911), «Роман-
царевич» (1913), а также два сборника стихотворений.
Г.—поэт ярко выраженного волевого типа.
Характерно, что абсолютное большинство ее стихотворений
написано от имени мужского «Я», критические статьи и
рецензии она писала под псевдонимами Антон Крайний, Лев
Пущин. В стихотворениях, которые были равнозначны
для Г. молитвам, она борется с тленом жизни, страхом
небытия и последней разлуки; сильны в них мотивы
тоски по иному миру и вера в божественную природу
любви, понимание, «что сущность любви есть ведение и
видение Бога».
В 1899 г. Г. сближается с редакцией журнала «Мир
искусства», где печатаются ее стихотворения и статьи,
в последующие годы совместно с Д. С. Мережковским,
В. В. Розановым, В. А. Тернавцевым принимает активное
участие в СПБ религиозно-философских собраниях, где
впервые встречаются и ведут собеседования писатели,
поэты, философы, иерархи и священники русской
православной церкви. В книге «Дмитрий Мережковский»
(Париж, 1951) Г. вспоминает, что в 1905 г. ее захватила мысль
о «тройственном устройстве мира». Она замечает, что
много позже прочла статью В. С. Соловьева «Смысл
любви» и была «поражена, как близок Соловьев этой
идее».
Мысли и идеи способны были захватить Г. с большой
силой и на долгое время определяли ее душевную и
духовную настроенность. Так, мысль об антирелигиозном
принципе единовластия, «власти одного над многими»
определила ее отталкивание от монархии в России. Вместе
с новым единомышленником Д. В. Филосрфовым Г.
423
и Д. С. Мережковский уезжают в Париж, чтобы ближе
узнать новые религиозные и революционные течения. Там
они выпускают в 1907 г. книгу на французском языке
«Царь и революция», а в 1908 г.—пьесу «Маков цвет».
В 1908 г. под псевдонимом Антон Крайний выходит
сборник статей и рецензий Г.—«Литературный дневник».
Незадолго до начала первой мировой войны Г.
возвращается в Россию. Патриотический подъем русского общества
в начале войны не захватил Г.—напротив, сознание
гибели России и европейской культуры в «кровавых бездорожь-
ях» войны было для нее очевидным. Октябрьский
переворот Г. встретила крайне враждебно и вскоре порвала со
всеми, кто сотрудничал с большевиками, в том числе
с А. Блоком и А. Белым, которых она называла
«потерянными детьми». В конце 1919 г. вместе с Д. С.
Мережковским, Д. В. Философовым и молодым другом-поэтом
В. А. Злобиным Г. уезжает из Петрограда и тайно
переходит русско-польскую границу недалеко от Гомеля. В
конце 1920 г. Г. и Д. С. Мережковский обосновываются в
Париже. Г. быстро входит в литературную жизнь русского
Парижа, печатается в газетах «Общее дело», «Последние
новости», в журналах «Современные записки», «Числа»,
«Встречи», в сборниках «Окно». По воскресеньям у
Мережковских собираются поэты и писатели русского
зарубежья, а в 1925 г. начинаются вечера «Зеленой лампы»,
где с докладами на религиозно-философские,
литературные, общественно-политические темы выступают
поэты, писатели, философы и общественные деятели.
Собрания «Зеленой лампы» длились до начала второй
мировой войны и были целой эпохой в жизни русского
Парижа.
В эмиграции выходят два сборника стихотворений
Г. —«Стихи. Дневник. 1911 — 1921» (Берлин, 1922)
и «Сияние» (Париж, 1939)—и книга воспоминаний
«Живые лица» (Прага, 1925), т. 1 —2. После смерти Д. С.
Мережковского Г. начинает работать над книгой «Он и Мы.
Дмитрий Мережковский», однако смерть помешала ее
завершить.
Успенский Петр Демьянович (1878, Москва—1947,
Лондон)— теософ и оккультист. Первую книгу «Четвертое
измерение»—опыт исследования области неизмеримого—
У. выпустил в Петербурге в 1910 г. В те же годы У.
участвовал в работе СПБ Теософического общества, где зимой
424
1912 г. выступил с докладом «Теософические идеи в
русской литературе».
В своих книгах—«Символы Таро» (СПб., 1912),
«Внутренний круг» (СПб., 1913), «Tertium organum» (Петроград,
1916) и в оккультном романе «Кинемодрама» (Петроград,
1917) У. пытается соединить ценности индийской
религиозной философии и искания новейших адептов древней
мудрости Елены Блаватской и Анни Безант с идеями
Ф. Ницше о «вечном возвращении». Цель познания У.
видит в стремлении достигнуть высшей реальности в
религиозном экстазе и раскрытии космического сознания у
современного человечества.
Духовные поиски У. в Европе, Египте, Индии, на
Цейлоне учения, разрешающего проблемы человека и
Вселенной, привели его к жизненно важной встрече с учителем
мудрости—Георгием Гурджиевым (Петроград, 1915).
Стадии восьмилетней работы У. как ученика Гурджиева
запечатлены в книге «In search of the miraculous» (Лондон,
195S); здесь же приведены беседы с Гурджиевым.
С 1920 г.—У. в эмиграции.
Одной из самых трудных и противоречивых проблем
в жизни человечества У. считал проблему отношения
полов, проблему любви. «... Любовь—это глубоко
мистический момент. Человек высшего развития должен очень
много понимать через любовь. Ощущения любви должны
давать ему новые и необыкновенные постижения.
Любовь для него всегда будет чудом, в ней никогда для него
не будет ничего простого. Он будет ощущать в любви
тайну, и эта тайна будет для него главной,
притягательной силой любви. Он никогда не будет умалять значения
любви, никогда не будет говорить о ней простыми
словами»...
Бердяев Николай Александрович (1874, Киев—1948,
Кламар)—религиозный философ, публицист. Учился
в Киевском кадетском корпусе; в 1894 г. поступил на
естественный факультет Киевского университета, через год
перешел на юридический факультет.
В 1894 г. Б. знакомится с марксистской литературой
и вскоре примыкает к социал-демократии, входит в
киевский социал-демократический комитет, читает лекции по
марксизму. В 1898 г. за участие в студенческих
беспорядках был арестован, исключен из университета и в 1900 г.
425
в административном порядке выслан в Вологду на три
года.
В 1899 г. в журнале «Neue Zeit» на немецком языке
была опубликована первая статья Б. «Ф. А. Ланге и
критическая философия», на русском языке она появилась
в 1900 г. в журнале «Мир Божий». В 1901г. выходит его
первая книга «Субъективизм и индивидуализм в
общественной философии» с предисловием П. Б. Струве,
посвященная полемике с Н. К. Михайловским и
обозначившая интерес Б. к проблемам метафизики. Критический
марксизм у Б. всегда сочетался с философским
идеализмом, с признанием верховных прав человеческой
личности. Такая философская ориентация обусловила отход Б.
от марксизма.
После окончания ссылки возвращается в Киев, где
сближается с Л. Шестовым и С. Н. Булгаковым,
проделавшим сходную эволюцию—от марксизма к идеализму.
В 1904 г. Б. женится на Л. Ю. Рапп и в конце года
переезжает в Петербург. Здесь происходит его сближение
с Д. С. Мережковским и 3. Н. Гиппиус и встреча с
В. В. Розановым. Встреча с представителями «нового
религиозного сознания» ознаменовала начало нового духовного
периода в жизни Б.—процесс перехода от чистой
духовности к проблематике христианства, и прежде всего к
проблеме соотношения духа и плоти в историческом
христианстве. В 1905г. вместе с С.Н.Булгаковым издает
журнал «Вопросы жизни».
В Петербурге Б. сближается также с В. И. Ивановым
и его женой Зиновьевой-Аннибал и вскоре становится
бессменным председателем ивановских «сред»—собраний
поэтов, писателей, философов, артистов.
Сближение с неохристианскими кругами не было
продолжительным, в 1907 г. он расходится с ними и 12
декабря 1907 г. в основанном по его инициативе СПБ
религиозно-философском обществе читает доклад «Христос
и мир», направленный против В.В.Розанова—против
его статьи «Об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах
мира».
После переезда в Москву в 1908 г. Б. сближается
с М. А. Новоселовым и кружком близких к нему
философов и писателей—В. Кожевниковым, Ф. Самариным,
Б. Мансуровым, но попытка подойти ближе к
православной Церкви оказалась неудачной: консервативный и мона-
шеско-аскетический уклон Новоселова оттолкнул Б., ска-
426
зался свойственный ему антиклерикализм, протест
против кружковой атмосферы и дух свободолюбия.
Наибольшее значение для творческого развития Б.
в дореволюционный период имели две его книги:
«Философия свободы» (1911), где он утверждает примат
свободы над бытием и определяет философию свободы как
философию богочеловечества, и «Смысл творчества» (1916),
в которой ученому впервые удается выразить свои
заветные мысли о человеческом творчестве как ответе
на призыв Творца, как залоге наступления Царства
Божьего.
В1918 —1919 гг. Б. создаетвМоскве Вольную академию
духовной культуры, читает доклады и лекции; частные
собеседования на философские и общественные темы
происходят на его квартире во Власьевском переулке.
В 1918 г. выходит сборник статей Б. «Судьба России»;
статью «Духи русской революции» он помещает в
коллективном сборнике философов «Из глубины» (1918), вскоре
после выхода изъятом из продажи и запрещенном.
В 1922 г. Б. был выслан из России. В 1923 г. выходят
сразу его несколько книг, написанных еще на родине:
«Смысл истории», «Миросозерцание Достоевского»,
«Философия неравенства». В 1924 г. появляется первая
созданная за границей книга—«Новое средневековье»,
переведенная на четырнадцать языков еще при жизни философа
и принесшая ему европейскую и мировую известность, —
книга, в которой он возвещает конец гуманистической
эпохи, рожденной Ренессансом.
В 1924 г. из Германии Б. переезжает в Париж, где
с 1925 по 1940 г. издает религиозно-философский журнал
«Путь» и возглавляет работу Религиозно-философской
академии, созданной первоначально в Берлине. В 1926 г.
выходит книга Б. «Константин Леонтьев», а в 1927 —
1928 гг. — «Философия свободного духа» (ч. 1 — 2). В доме
Б. в Клемаре проходят собеседования с участием
французских философов и писателей: Э. Жильсона, Э. Мунье,
Г. Марселя, А. Жида, А. Мальро. В 1931 г. выходит книга
Б. «О назначении человека», в 1934 г. — «Я и мир
объектов», в 1939 г.—«О рабстве и свободе человека»,
в 1946 г. — «Русская идея». В 1947 г. Б. получает почетную
степень доктора теологии Кембриджского университета.
Б. умирает за письменным столом, работая над новой
книгой «Царство Духа и Царство Кесаря».
427
Флоренский Павел Александрович (1882, Евлах Елиса-
ветпольской губ.—1943?)—религиозный философ, поэт,
ученый. Еще в тифлисской гимназии проявились его
математические способности и увлечение естествознанием.
В 1904 г. окончил математическое отделение Московского
университета, а в 1908 г.—Московскую духовную
академию. В 1903—-1904 гг. в журналах «Новый путь» и «Весы»
появляются его первые научные работы—«О суеверии
и чуде», «Спиритизм как антихристианство», «О символах
бесконечности», «Об одной предпосылке мировоззрения».
В 1906—1908 гг. в сборниках «Вопросы религии» Ф.
печатает работы «К почетности высшего звания (черты
характера архимандрита Серапиона Машкина)» и первую
часть своего фундаментального труда «Столп и
Утверждение Истины», полный текст которого был
опубликован издательством «Путь» в 1914г. В 1907г. выходит
сборник его стихотворений «В вечной лазури» и статьи
«Антоний романа и Антоний предания» и «Радость
навеки».
В 1911 г. Ф. принял священство. 19 мая 1914г. защитил
магистерскую диссертацию «О духовной истине». Вплоть
до закрытия Московской духовной академии в 1919 г.
читал лекции и одновременно редактировал журнал
«Богословский вестник».
В 1919г. Ф. работал на заводе «Карболит»,
преподавал теорию перспективы во ВХУТЕМАСе, сотрудничал
в ГОЭЛРО. Ряд статей Ф. помещен в Технической
энциклопедии. У Ф. было много патентов на научные
изобретения в самых различных областях. В 1922 г. вышла его
книга «Мнимости геометрии».
В 1933 г. Ф. был арестован и этапирован в лагерь в
Сибирь, затем переведен в Соловки. Точная дата смерти Ф.
неизвестна, возможно, он погиб в 1937 г.
Вслед за В. С. Соловьевым Ф. развивает концепцию
философии всеединства. Истина определяется Ф. как «сущее
всеединство»; в земной жизни Столп Истины—Церковь.
Ф. утверждает довременное бытие Церкви; в небесном
аспекте Церковь—София Премудрость Божия, другой
аспект Церкви—во времени неразделим с вечным,
представляет «одно и то же существо». Постижение Столпа —
Церкви—возможно только через благодатную любовь
к Богу, но прежде она «неминуемо открывается и
выявляет себя деятельной любовью к твари».
«Столп и Утверждение Истины» включает предисло-
428
вие-обращение к читателю, двенадцать глав (писем к
другу), послесловие, разъяснения и доказательства и
обширные примечания к тексту книги. Вниманию читателя
предлагаются фрагменты трех писем—четвертого,
одиннадцатого и двенадцатого.
Булгаков Сергей Николаевич (1871, г. Ливны
Орловской губ.—1944, Париж)—религиозный философ,
богослов, экономист. Родился в семье священника. После
окончания в 1884 г. Ливенского духовного училища
поступил в Орловскую духовную семинарию, которую оставил
в 1889 г. Окончив в 1896 г. юридический факультет
Московского университета, Б. уезжает в Германию, где
занимается политэкономией, сближается с
социал-демократами и примыкает к марксизму. Вернувшись в
Москву, Б. в 1901 г. защищает магистерскую
диссертацию «Капитализм и земледелие». До 1906 г. занимает
кафедру политической экономии в Киевском
политехническом институте. В 1903 г. выпускает книгу «От марксизма
к идеализму», знаменовавшую отход философа от
экономического материализма и намечавшую сближение с
православной Церковью. Сходную эволюцию проделали в те
годы П. Б. Струве, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев. Совместно
с Н. А. Бердяевым издавал в 1905 г. журнал религиозно-
философского направления «Вопросы жизни». С 1906 по
1918 г. Б.—профессор политэкономии Московского
университета. В 1906 г. был избран депутатом во 2-ю
Государственную думу. В 1909 г. в сборнике «Вехи» Б.
поместил статью «Героизм и подвижничество». В эти же годы
решительно возвращается в лоно православной Церкви,
принимает активное участие в издательстве «Путь»;
в 1911 г. появляется его книга «Два
града»—исследование о природе общественных идеалов; в 1912 г.—
«Философия хозяйства»; в 1917 г.—«Свет
Невечерний»; в 1918 г.—сборник статей «Тихие думы». В 1918 г. Б.
принимает священнический сан, а в 1919 г. переезжает
в Крым, где преподает политэкономию и богословие.
В 1923 г. Б. был выслан за пределы СССР. Преподавал
сначала в Праге, в 1924 г. переезжает в Париж, где
становится деканом и преподает в Парижском богословском
институте. Принимает активное участие в Русском
христианском студенческом движении, регулярно печатается
в журнале «Путь», издаваемом Н. А. Бердяевым. В 1927 г.
выходит первая часть трилогии «Купина Неопалимая»,
429
в том же году появляется вторая часть—«Друг Жениха»,
в 1929 г.—третья—«Лестница Иаковля». В 1933 —
1945 гг. выходит в свет вторая трилогия Б.: «Агнец
Божий» (1933), «Утешитель» (1936), «Невеста Агнца» (1945).
Посмертно вышли книги «Апокалипсис Иоанна» (1948),
«Философия имени» (1953).
Восприняв от В. В. Соловьева идею философии
всеединства, Б. развивает учение о Софии Премудрости Бо-
жией как особой ипостаси, мировой душе, женственной по
своему существу, вместившей Божественную любовь и
излучающей ее в мир. По представлению Б., София имеет
двойственный характер—одновременно небесный,
божественный и тварно-человеческий. Человек, сотворенный
по образу и подобию Божьему, как муж и жена в любви,
восстанавливает единство мира и полноту образа
Божьего.
Жураковский Анатолий Евгеньевич (1897, Москва—
1939, Петрозаводск)—религиозный философ, священник.
Несмотря на отсутствие религиозного воспитания в
семье (отец—педагог, мать—«шестидесятница»), Ж. рано
пережил религиозный переворот, пришел к вере. В пятом
классе гимназии создает кружок по изучению Евангелия
и духовной литературы. В 1911 г. вся семья переехала
в Киев. Решающей для судьбы была встреча с
выдающимся религиозным философом и богословом В. В. Зень-
ковским (1881—1962), который вскоре стал его духовным
руководителем и в дальнейшем ввел Ж. в Киевское
религиозно-философское общество. В 1915 г. поступает
в Киевский университет на историко-филологическое
отделение; его студенческая работа «Жозеф де Местр и
Константин Леонтьев» была отмечена золотой медалью.
17 мая 1916 г. на заседании Киевского религиозно-
философского общества Ж. прочел доклад «К вопросу
о вечных муках». Мировая война прервала занятия Ж.
в Киевском университете; он уходит на фронт в
действующую армию, но и здесь ему удается временами
продолжать занятие философией; оттуда он присылает в журнал
«Христианская мысль» большую работу «Тайна любви
и таинство брака»—первая ее часть публикуется в
настоящем издании.
18 августа 1920 г. Ж. принял священство в Успенском
соборе Киево-Печерской Лавры. Ж. был совершенно
новым явлением в Русской Церкви. Священник-интеллигент,
430
прошедший искус знания и оттого хорошо понимавший
искания, сомнения и борения веры и неверия в
перепутанных, мятущихся душах современных людей.
В 1922 г. Ж. выступает с докладами в христианском
студенческом обществе, участвует в публичных диспутах
(«Христос и мы»—март 1922 г., «Наука и религия»—май
1922 г.).
В 1923 г. Ж. был арестован и сослан в Краснококшайск
(ныне Йошкар-Ола). В 1924 г. возвратился из ссылки
в Киев, а затем уехал в Ленинград. В 1930 г. в ходе новой
антирелигиозной кампании был вторично арестован,
содержался на Лубянке, в Бутырской тюрьме; приговорен
к высшей мере наказания с заменой десятью годами
лагерей принудительного труда.
Вместе с тысячами и тысячами безвинных мучеников
Ж. прошел по всем кругам ада концлагерей
(Беломорканал, Свирские лагеря, Соловки), перенося испытания и
болезни, но и на дне преисподней его высокий дух был
устремлен в Горний мир и на помощь страдавшим вместе с ним
узникам.
В 1937 г. за «новое преступление» в лагере получает
новый срок—10 лет без права переписки, что на языке того
времени означало расстрел.
Предлагаемая работа Ж. впервые опубликована
в журнале «Христианская мысль» (Киев, 1917, № 1).
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886, Москва—
1939, Париж)—поэт и прозаик. Учился в третьей
московской гимназии вместе с А. Я. Брюсовым, братом поэта,
а также с поэтом Виктором Гофманом, оказавшим
заметное влияние на увлечение X. поэзией В. Брюсова, К.
Бальмонта, А. Блока. Первые поэтические опыты X. увидели
свет в альманахе «Гриф» и журнале «Перевал». Первый
сборник его стихотворений «Молодость» выходит в 1908 г.,
через шесть лет в московском издательстве
«Альциона»— вторая книга стихотворений «Счастливый домик».
В переводах X. печатаются произведения С. Красинского,
Ст. Пшибышевского.
В 1916 г. X. заболел туберкулезом позвоночника и
длительно лечился в Москве и Крыму. В 1918 г. работал в
театрально-музыкальной секции Московского Совета и Нар-
компроса, читал в Пролеткульте лекции о Пушкине.
В конце 1918 г. X. руководил работой московского
отделения издательства «Всемирная литература». В 1919
431
1920 гг. заведовал созданной Московским Советом
Книжной палатой.
В 1920 г. в издательстве «Творчество» выходит третья
книга стихотворений X. «Путем зерна». В 1921 г. X.
переехал в Петроград и поселился в Доме Искусств, где
подготовил к изданию четвертую книгу стихотворений
«Тяжелая лира», вышедшую в 1922 г., после отъезда X. за
границу в июне 1922 г. В 1923 г. X. и его жена Нина Берберова
жили в Берлине, затем в Италии, на вилле М. Горького.
В 1925 г. X. переезжает в Париж, где возглавляет
литературно-критический отдел газеты «Возрождение»,
печатается в журнале «Современные записки». В 1927 г.
выпускает в свет «Собрание стихотворений», куда входит и
созданный на Западе цикл стихов «Европейская ночь».
В11931 г. X. издает художественную биографию
Державина и в 1939 г. книгу воспоминаний «Некрополь»—о
встречах с поэтами и писателями А. Белым, В. Брюсовым,
М. Горьким, Н. Петровской («Конец Ренаты»).
Карсавин Лев Платонович (1882, Петербург—1952,
Абезь, Коми АССР)—религиозный философ, историк-
медиевист. Родился в семье артиста Мариинского театра;
сестра, Т. П. Карсавина, была знаменитой балериной.
В 1906 г. закончил Петербургский университет. В 1910—
1912 гг. работал в различных библиотеках и архивах
Франции и Италии. В мае 1913 г. К. защитил диссертацию
«Очерки религиозной жизни Италии XII—XIII вв.», и с
этого года он—профессор Петербургского университета.
В марте 1916 г. защитил докторскую диссертацию
«Основы средневековой религиозности XII—XIII вв.» К. имел
также степень доктора богословия Петроградской
духовной академии. С апреля 1918 г.—экстраординарный
профессор Петроградского университета.
В 1918 г. в издательстве «Огни» выходят очерки К.
«Культура средних веков» и «Католичество», в 1919 г.—в
издании «Наука и школа»—богословский этюд "Saligia".
В 1920 г. К. преподавал в Петроградском богословском
институте, был профессором
общественно-педагогического и правового отделений Петроградского
университета, участвовал в работах Петербургского
философского общества, возобновившего свою
деятельность в феврале 1921 г. В журнале этого общества «Мысль»
были напечатаны статьи К.: «О свободе» (1922, № 1), «О
добре и зле» (1922, № 3). В 1922 г. выходит его трактат
432
о метафизике любви—"Noctes Petropolitanae". В том же
1922 г. К. был уволен из университета, арестован и затем
выслан из России. В Берлине К. преподавал в русской
Религиозно-философской академии, участвовал в
организации издательства «Обелиск», в котором в 1923 г. выходят
его книги: «Философия истории», «Диалоги», «Джордано
Бруно». В 1925 г. К. выпускает в свет новое философское
исследование—«О началах». В середине 20-х годов К.
примыкает к евразийскому движению, печатает статьи
в сборниках «Версты», в газете «Евразия». В 1927 г. в
Париже, в издательстве "Ymca-Press", выходит книга К.
«Святые отцы и учители церкви и раскрытие православия
в их творениях».
В 1928 г. К. переезжает в Литву, где преподает на
кафедре всеобщей истории Каунасского университета.
В Каунасе выходят книги К. «О личности» (1929)
и «Поэма о смерти» (1932). В 1949 г. К. был арестован.
Умер от туберкулеза в лагере инвалидов у Полярного
круга. Сохранились отрывки его философских работ и
сонеты, написанные в заключении.
В своей всеобъемлющей философии любви,
философии всеединства К. утверждает любовь как всевластную
и неумолимо влекущую стихию и одновременно как
единственную возможность познания. Любить всеединство,
согласно К., возможно, только «любя единство и все,
каждое по-особому». Цель любви не
слияние-отождествление любящих, а восстановление первозданного дву-
единства человеческой личности.
Вышеславцев Борис Петрович (1877, Москва—1954,
Женева)—религиозный философ. Родился в семье
присяжного поверенного. В 1895 г. поступил на юридический
факультет Московского университета, где обратил на
себя внимание П. И. Новгородцева и стал его учеником.
В 1899 г. закончил университет и до 1902 г. работал в
адвокатуре. Затем для В. начинается период углубленного
изучения истории философии. Защитив магистерскую
диссертацию «Этика Фихте», В. становится приват-
доцентом, а с января 1917 г.— профессором Московского
университета. Позднее участвует в работе созданной
Н. А. Бердяевым Вольной академии духовной культуры.
Осенью 1922 г. В. был выслан из России. В Берлине
принимает деятельное участие в основанной 1 декабря
1922 г. Религиозно-философской академии, в 1924 г. пере-
433
ехал в Париж, где работал редактором в издательстве
"Ymca-Press". Вместе с Н. А. Бердяевым В. основал
религиозно-философский журнал «Путь» (1925—1940), где
поместил много статей. В Парижском богословском
институте читал лекции на кафедре нравственного богословия.
После окончания второй мировой войны жил в
Швейцарии.
Кроме «Этики Фихте», все книги В. напечатаны за
границей: «Русская стихия Достоевского» (Берлин, 1923),
«Сердце в индийской и христианской мистике» (Париж,
1928), «Этика преображенного Эроса» (Париж, 1931),
«Кризис индустриальной культуры» (Нью-Йорк, 1953),
«Вечное в русской философии» (1955).
Ключевая идея большого труда В. «Этика
преображенного Эроса»—соотношение закона и благодати, за-
коннической этики и божественной любви. В. решает эту
проблему, опираясь на «блестящую диалектику ап.
Павла»: законы остаются, но они даны «до времени»—выше
законов заповеди блаженства Нагорная проповедь
Иисуса Христа, открывшая человечеству «новую систему
ценностей». В. также привлекает данные новейшей
психологии, учение 3. Фрейда, чтобы показать недостаточность,
дефектность закона и утвердить этику сублимации, этику
преображенного Эроса.
Троицкий Сергей Викторович (1878, Томск—1972,
Белград)—богослов, профессор канонического права.
Родился в семье преподавателя Томской духовной
семинарии. В 1897 г. окончил Тверскую духовную семинарию,
в 1900 г.—Петербургский археологический институт, а
в 1901 г.— Петербургскую духовную академию. В 1906 г.
Т. был причислен к канцелярии обер-прокурора Св.
Синода; стал членом редакции «Церковные ведомости». В
1913 г. после зашиты диссертации «Второбрачие
клириков. Историко-каноническое исследование» в Киевской
духовной академии Т. получил ученую степень магистра.
В 1917—1918 гг. принимает активное участие в работе
Поместного Собора Русской Православной Церкви. В 1919—
1920 гг.— приват-доцент Новороссийского университета
по кафедре церковной истории.
В январе 1920 г. Т. эмигрирует в Югославию, где
занимает кафедру на юридическом факультете Белградского
университета, а затем до начала второй мировой войны—
кафедру церковного права. В 1928—1930 гг. преподавал
434
церковное право в Русском богословском институте в
Париже, в 1947—1948 гг.— в Московской духовной
академии. В 1949 г. возвращается в Югославию. В 1948 г. Т.
участвовал в трудах комиссии по изданию источников
сербского права XIX в. при Сербской Академии наук.
В 1956, 1958, 1961 гг. по поручению Сербской
Академии наук и Московской патриархии Т. работает в
научных библиотеках Москвы и Ленинграда—изучает и
классифицирует старинные рукописи.
Первую работу «Что же такое брак?» опубликовал
в журнале «Странник» (1904, № 2). Многочисленные
статьи и заметки Т. по вопросам церковной истории и
духовной жизни напечатаны в «Православной
богословской энциклопедии» и в различных журналах.
Библиография трудов Т. включает более 750 названий на сербском,
русском, французском, греческом языках. Среди трудов
ученого следует отметить книги: «Что такое Живая
Церковь?» (Варшава, 1927), «Почему и как закрываются
храмы в Советской России?» (Белград, 1931), «Размежевание
или раскол?» (Париж, 1932), «О неправде Карловацкого
раскола» (Париж, 1960).
Много статей Т. посвятил проблемам христианского
брака, в том числе «О браке как таинстве» («Странник»,
январь 1924 г.), «Брак и грех. Брак до греха» («Путь»,
февраль 1929 г.), «Брак после греха» («Путь», июль 1929 г.).
В 1933 г. в издательстве "Ymca-Press" выходит
исследование Т. «Христианская философия брака», главы из
которой приводятся в настоящем издании.
Ильин Иван Александрович (1882, Москва—1954,
Цюрих)—религиозный философ. В 1906 г. закончил
юридический факультет Московского университета. В 1918 г.
защищает магистерскую диссертацию «Философия Гегеля
как учение о конкретности Бога и человека».
В 1922 г. был выслан из СССР. С 1923 по 1934 г. И.
читал лекции в Русском научном институте в Берлине, вел
курсы по истории этических учений, системе этики,
логике, философии религии. Обладая незаурядным
ораторским талантом, И. выступает с лекциями в Латвии,
Швейцарии, Бельгии, Австрии, Чехословакии. В 1927—1930 гг.
издавал в Берлине журнал «Русский колокол», который
выходил с подзаголовком «Журнал волевой идеи».
Вскоре после прихода в Германии к власти нацистов
И. был вынужден оставить Русский научный институт;
435
в 1938 г. он переезжает в Швейцарию. Здесь читает лекции
на русском и немецком языках. Наиболее значительные
книги И.: «Проблема современного правосознания»
(Берлин, 1923), «Религиозный смысл философии» (Париж,
1925), «О сопротивлении злу силой» (Берлин, 1925), «Путь
духовного обновления» (Белград, 1935; второе издание—
Мюнхен, 1962), «Аксиомы религиозного опыта» (Париж,
1953), «Путь к очевидности» (Мюнхен, 1957), «Поющее
сердце» (Мюнхен, 1958), «О тьме и просветлении»
(Мюнхен, 1959).
Обращаясь к новым поколениям русских людей за
рубежом и в России, утратившим веру, мятущимся,
лишенным всех духовных ориентиров, И. утверждал, что только
на пути духовного обновления русские люди найдут
Предмет своей веры, научатся веровать в силу духовной
очевидности. Такая вера откроется только для любви,
духовной любви к совершенному, любви, неразрывно
связанной с верой в человеческой душе.
Франк Семен Людвигович (1877, Москва—1950,
Лондон)—религиозный философ. В гимназические годы
увлекался марксизмом и вступил в марксистский кружок.
После окончания гимназии продолжил обучение на
юридическом факультете Московского университета. В 1899 г.
был арестован и лишен права проживать в
университетских городах; вскоре он уехал в Германию, где продолжал
изучать политическую экономию и философию. В 1900 г.
опубликовал работу «Теория ценности Маркса», в
которой критически разобрал составные элементы
экономического учения основателя марксизма. В 1902 г. в сборнике
«Проблемы идеализма» Ф. поместил большую работу
«Фридрих Ницше и этика любви к дальнему». Разбирая
расхожие, поверхностные толкования учения германского
мыслителя, Ф. выделяет как наиболее ценное у Ницше—
этику активного героизма и ярко выраженный
нравственный императив самопожертвования.
В 1905 —1906 гг. Ф. совместно с П. Б. Струве
редактировал журнал «Полярная Звезда». В 1909 г. в сборнике
«Вехи» напечатал статью «Этика нигилизма»—резкое
отвержение ригористического морализма и бездуховного
восприятия мира революционной интеллигенцией. В
1910 г. выходит в свет первая книга статей Ф. «Философия
и жизнь», а в 1912 г. он становится приват-доцентом
Петербургского университета. В 1915 г. Ф. защищает маги-
436
егерскую диссертацию и выпускает книгу «Предмет
знания». В 1918 г. выходит его книга «Душа человека».
В статье "De profundis" (сборник статей «Из глубины»,
М.— П., 1918 г., уничтоженный после выхода в свет
и переизданный издательством "Ymca-Press" в 1967 г.) Ф.
предвидит возможность выхода России из перманентного
революционного кризиса на путях осуществления «идеала
духовного единства и органического духовного
творчества народа, идеала религиозной осмысленности и
национально-исторической обоснованности общественной и
политической культуры».
С 1917 по 1921 г. занимал кафедру философии в
Саратовском университете, а в 1921 г.— в Московском
университете. В 1922 г. Ф. был выслан из России вместе с группой
философов, писателей и общественных деятелей.
Обосновавшись в Берлине, ученый издает книги «Крушение
кумиров» (1924), «Духовные основы общества» (1930),
входит в состав Религиозно-философской академии,
организованной Н. А. Бердяевым, участвует в издании журнала
«Путь».
С 1930 по 1937 г. читает лекции в Берлинском
университете. После отъезда из Германии Ф. до 1945 г. живет во
Франции. В 1939 г. выпускает книгу «Непостижимое», а
в годы второй мировой войны работает над книгой «С
нами Бог» (Париж, 1964).
«В страшное время разгула адских сил на земле, среди
невообразимых ужасов мировой войны» философ
утверждал как высшую ценность «всеобъемлющую любовь
в качестве восприятия и признания ценности всего
конкретно-живого... Признавая ценность всего конкретно-
сущего, она объемлет всю полноту многообразия людей,
народов, культур, исповеданий, и в каждом из них—всю
полноту их конкретного содержания. Любовь есть
радостное приятие и благословение всего живого и сущего,
та открытость души, которая широко открывает свои
объятия всякому проявлению бытия как такового,
ощущает его божественный смысл».
Примечания
В настоящем сборнике все тексты печатаются по прижизненным
авторским изданиям, с учетом современной орфографии. Лексические
и стилистические особенности письма всех авторов полностью
сохранены, сноски и примечания также принадлежат авторам текстов.
Владимир Соловьев.
Смысл любви.
Печатается по изд.: Соловьев B.C. Смысл любви. Собр. соч.
в 8 т., т.6. СПб., 1903, с. 493—547.
Жизненная драма Платона.
Печатается по изд.: Соловьев В.С. Соч. в 2 т., т.2. М., 1988,
с. 582—625.
Афанасий Фет.
О поцелуе.
Печатается по изд.: сб. «Поцелуи». Исследования и наблюдения.
Мнение А. А. Фета. СПб., 1892, с 183—189.
Константин Бальмонт.
Лирика пола.
Печатается по изд.: журнал «Золотое руно», 1908, №5, с. 38.
О Любви.
Печатается по изд.: Уайльд О. Саломея. СПб., изд. «Пантеон»,
1908, с. 31—32.
Андрей Белый.
Вейнингер о поле и характере.
Печатается по изд.: Белый А. Арабески. М., изд. «Мусагет», 1911,
с. 284—290.
Василий Розанов.
Концы и начала. «Божественное» и «демоническое». Боги и демоны.
Печатается по изд.: Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного.
СПб., 1901, с. 52—68.
Семья как религия.
Печатается по изд.: Розанов В.В. Религия и культура.
Изд. 2-е, СПб., 1901.
438
Уединенное.
Печатается по изд.: Розанов В. В. Уединенное. СПб., 1912, с. 169,
195, 205. Дается в сокращении.
Опавшие листья.
Печатается по изд.: РозановВ. В. Опавшие листья. СПб., 1913,
короб 1-й, с.2, 25, 50, 52, 74—75, 90, 172, 177. 181, 211—214, 322, 334, 351;
М., 1915, короб 2-й, с. 18,43—44, 155—157, 202—204,249, 310,313—314,
330—331, 367—368, 372—375, 383. Дается в сокращении.
Мимолетное.
Печатается но изд.: Розанов В. Избранное. Изд. «А. Нейманис»
(ФРГ). 1970, с. 431. Дается в сокращении.
Дмитрий Мережковский.
Любовь у Л. Толстого и Достоевского.
Печатается но изд.: Мережковский Д.С. Религия Л. Толстого
и Достоевского. СПб., 1903, с. 453—474. Дается в сокращении.
Жизнь Данте.
Печатается по изд.: Мережковский Д.С. Жизнь Данте. Editions
Petropolis /Bruxelles, 1939, с. 53—61. Дается в сокращении.
Зинаида Гиппиус.
Влюбленность.
Печатается по изд.: КрайннйАнтон (3. Гиппиус).
Литературный дневник. СПб., 1908, с 189—212.
О любви.
Печатается но изд.: газета «Последние новости». Париж, июнь-
июль 1925, №1579, 1585, 1591.
Арифметика любви.
Печатается но изд.: журнал «Числа». Париж, 1931, №5, с 153—161.
О женах.
Печатается по изд.: газета «Последние новости». Париж, 30 июля
1925, №1614.
Петр Успенский.
Искусство и любовь.
Печатается но изд.: Успенский П. Д. Tertium organum. Ключ к
загадкам мира. СПб., 1911. с. 122—130. Дается в сокращении.
Николай Бердяев.
Метафизика пола и любви.
Печатается по изд.: журнал «Перевал», 1907, №5, с. 7—16; №6,
с 24—36.
Размышления об Эросе.
Часть второй главы философской автобиографии «Самопознание».
439
Печатается по изд.: Бердяев Н. Самопознание. Париж, 1949, с. 80—
88. Дается в сокращении.
Любовь у Достоевского.
Печатается по изд.: Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского.
Прага, 1923, с. 112—133. Дается в сокращении.
Павел Флоренский.
Столп и Утверждение Истины.
Печатается по изд.: Флоренский П. Столп и Утверждение
Истины. М., 1914, с. 70—78.83. 88—93,395—398,400,410,464—472,478—482.
Дается в сокращении.
Сергей Булгаков.
Свет Невечерний.
Печатается по изд.: Булгаков С Свет Невечерний. Созерцания
и умозрения. М., 1917, с. 295—305. Дается в сокращении.
Владимир Соловьев и Анна Шмидт.
Печатается по изд.: Тихие думы. Из статей 1911—1915 гг. М., 1918,
с. 94—98. Дается в сокращении.
Анатолий Жураковский.
Тайна любви и таинство брака.
Печатается по изд.: журнал «Христианская мысль». Киев, январь
1917, с. 61—75.
Владислав Ходасевич.
Конец Ренаты.
Печатается по изд.: газета «Возрождение», апрель 1928 г., № 1045—
1047.
Лев Карсавин.
Федор Павлович Карамазов как идеолог любви.
Печатается по изд.: журнал «Начало», 1921,
Петроград, № 1, с. 34—50. Дается в сокращении.
Борис Вышеславцев.
Достоевский о любви и бессмертии (новый фрагмент).
Печатается по изд.: «Современные записки». L, Париж, 1932, с. 208—
304. Дается в сокращении.
Сергей Троицкий.
Христианская философия брака.
Печатается по изд.: Париж, «Ymca-Press», с. 35—44, 68—84.
Дается в сокращении.
Иван Ильин.
Без любви. (Из письма к сыну.)
440
Глава из книги «Поющее сердце».
Печатается по изд.: Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих
созерцаний. Мюнхен, 1958, с. 8—11.
Семен Франк.
Религия любви.
Печатается по изд.: Ф р а н к С. Л. С нами Бог. Три размышления.
Париж, «Ymca-Press», 1964, с. 207—223. Дается в сокращении.
Содержание
Вступительная статья. Шестаков В. П. 5
Владимир Соловьев
Смысл любви 19
Жизненная драма Платона 77
Афанасий Фет
О поцелуе 92
Константин Бальмонт
Лирика пола 96
О Любви 97
Андрей Белый
Вейнингер о поле и характере 100
Василий Розанов
Концы и начала. «Божественное» и «демоническое». Боги и
демоны 106
Семья как религия 120
Уединенное 139
Опавшие листья 140
Мимолетное 150
Дмитрий Мережковский
Любовь у Л. Толстого и Достоевского 151
Жизнь Данте 167
Зинаида Гиппиус
Влюбленность 174
О любви . . 185
Арифметика любви 208
О женах 215
Петр Успенский
Искусство и любовь 221
Николай Бердяев
Метафизика пола и любви 232
Размышления об Эросе 266
Любовь у Достоевского 273
Павел Флоренский
Столп и Утверждение Истины 284
443
Сергей Булгаков
Свет Невечерний 307
Владимир Соловьев и Анна Шмидт 315
Анатолий Жураковский
Тайна любви и таинство брака 320
Владислав Ходасевич
Конец Ренаты 337
Лев Карсавин
Федор Павлович Карамазов как идеолог любви 350
Борис Вышеславцев
Достоевский о любви и бессмертии 364
Сергей Троицкий
Христианская философия брака 377
Иван Ильин
Без любви . 397
Семен Франк
Религия любви 401
Справки об авторах. Богословский А.Н. 415
Примечания. Богословский А.Н. 438
РУССКИЙ ЭРОС,
ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В РОССИИ
Составитель Вячеслав Павлович ШЕСТАКОВ
В книге использоааны архивные фотодокументы
Редактор Г. И. Дзюбенко
Художник А.Е. Смирнов
Художественный редактор В. А. Пузанков
Технические редакторы Г. В. Лазарева, В. А. Юрченко
Корректор И. В. Леонтьева
ИБМ> 18438
Сдаяо в ггабор 15.11.90. Подписано в печать 7.05.90. Формат 84 х Юв'/ю- Бумага
офсетная. Гарнитура тайме. Печать офоетвав. Условв. печ. л. 23,52 + 1,68 усл. печ. л. велся.
Усл. жр-отт. 54,39. Уч.-язд.л. 25,86. Тирах 100000 3D. Зажаз J* 1520. Цена бр. 60ж. Изд.
№46634.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного жо-
митета СССР по печати. 119847, Моема, Зубовский бульвар, 17.
Монайсжнй 11слиграфкомбинат В/О «Совэкспортжкнга» Государственного жомитета
СССР по печати. 143200, г. Можайсх, ул. Мира, 93.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
ВЫХОДИТ В СВЕТ:
КАФКА Ф. Дневники и письма: Сборник:
Пер. с нем.
Дневниковые записи и письма Франца
Кафки (1883—1924) знакомят с эпистолярно-
исповедальным наследием знаменитого
австрийского прозаика, одного из «трех китов»
(наряду с Прустом и Джойсом) европейского
модернизма XX в.
Притчево-эскизное, как определяет критика,
по своим жанровым особенностям творчество
Кафки представляет собой редкое тождество
литературы и реальности. Сборник не просто
знакомит с «лабораторией писателя», но
и дает достаточно цельное представление
о всех гранях его творческого сознания.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
ВЫШЛА В СВЕТ:
ВУЛФ В., СПАРК М., УЭЛДОН Ф. Эти
загадочные англичанки: Сборник: Пер. с англ.
Женщины-романистки—это особая, очень
интересная, увлекательная страница в истории
английской национальной культуры. Почему
их так много во все времена, почему у них
такой особый взгяд на мир? На эти и другие
вопросы: женщина и свобода, женщина и
творчество—постарается ответить книга, куда
войдут эссе, мемуары, беллетризированные
биографии женщин-писательниц об их коллегах по
перу: Вирджиния Вулф, Мориел Спарк, Фей
Уэлдон пишут о сестрах Бронте, Элизабет Га-
скелл, Мэри Шелли, Джейн Остин.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
ВЫШЛА В СВЕТ:
Вечер в 2217 году: Сборник.
Жанр литературной утопии и антиутопии,
давший наиболее богатые всходы в
английской литературе (Батлер, Форстер, Уэллс,
Хаксли, Оруэлл, Берджес), вызвал сильнейший
творческий импульс в России. В настоящий
сборник вошли произведения выдающихся
писателей; наряду с известными романами
(«Мы» Е. Замятина, «Москва 2042» В. Войно-
вича) читатели найдут здесь вещи,
основательно забытые, но ничуть не утратившие значения
(«Вечер в 2217 году» Н. Федорова, «Красная
звезда» А. Богданова, роман известного
ученого Чаянова и др.).
Рекомендуется широкому кругу читателей.