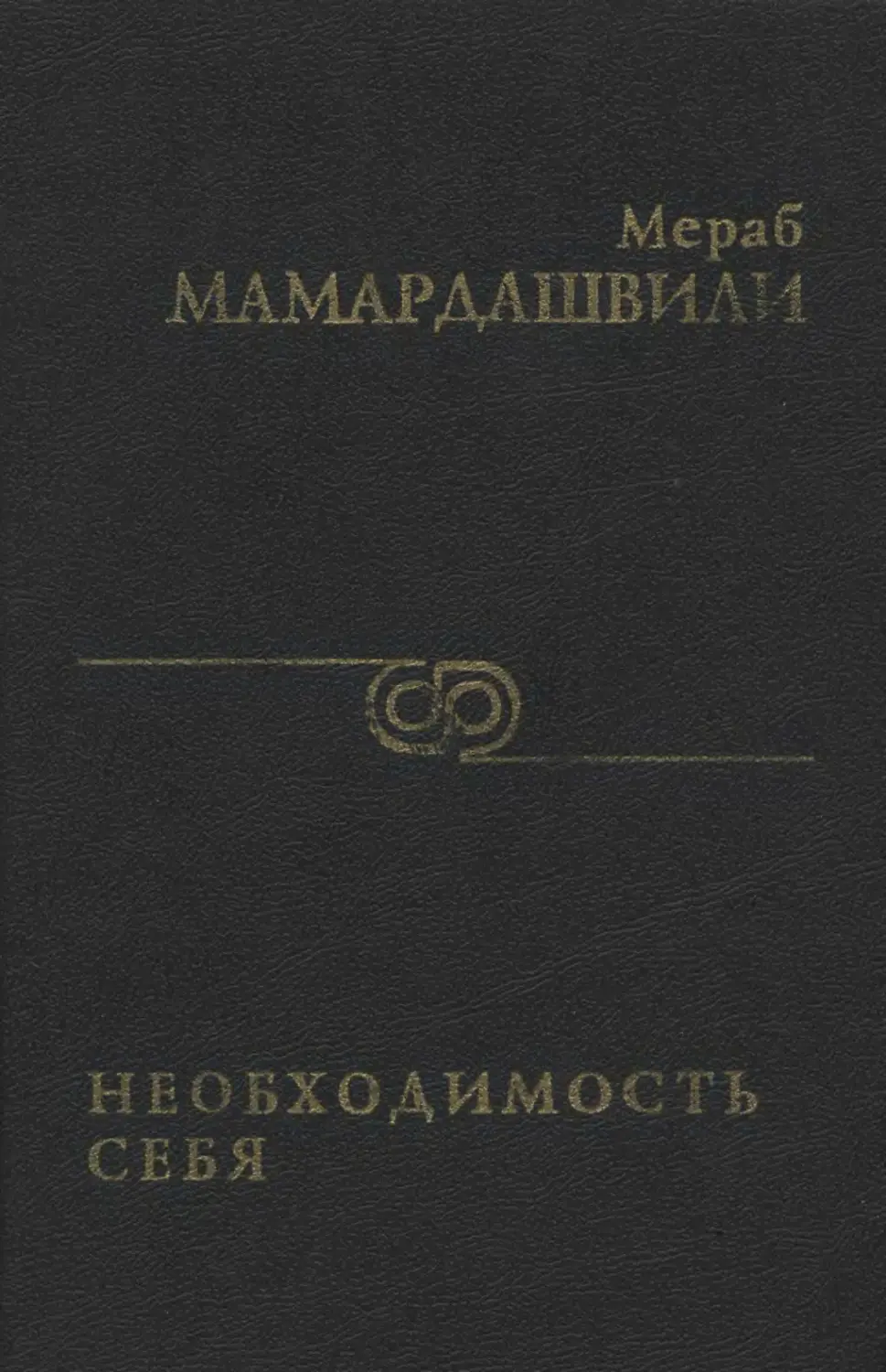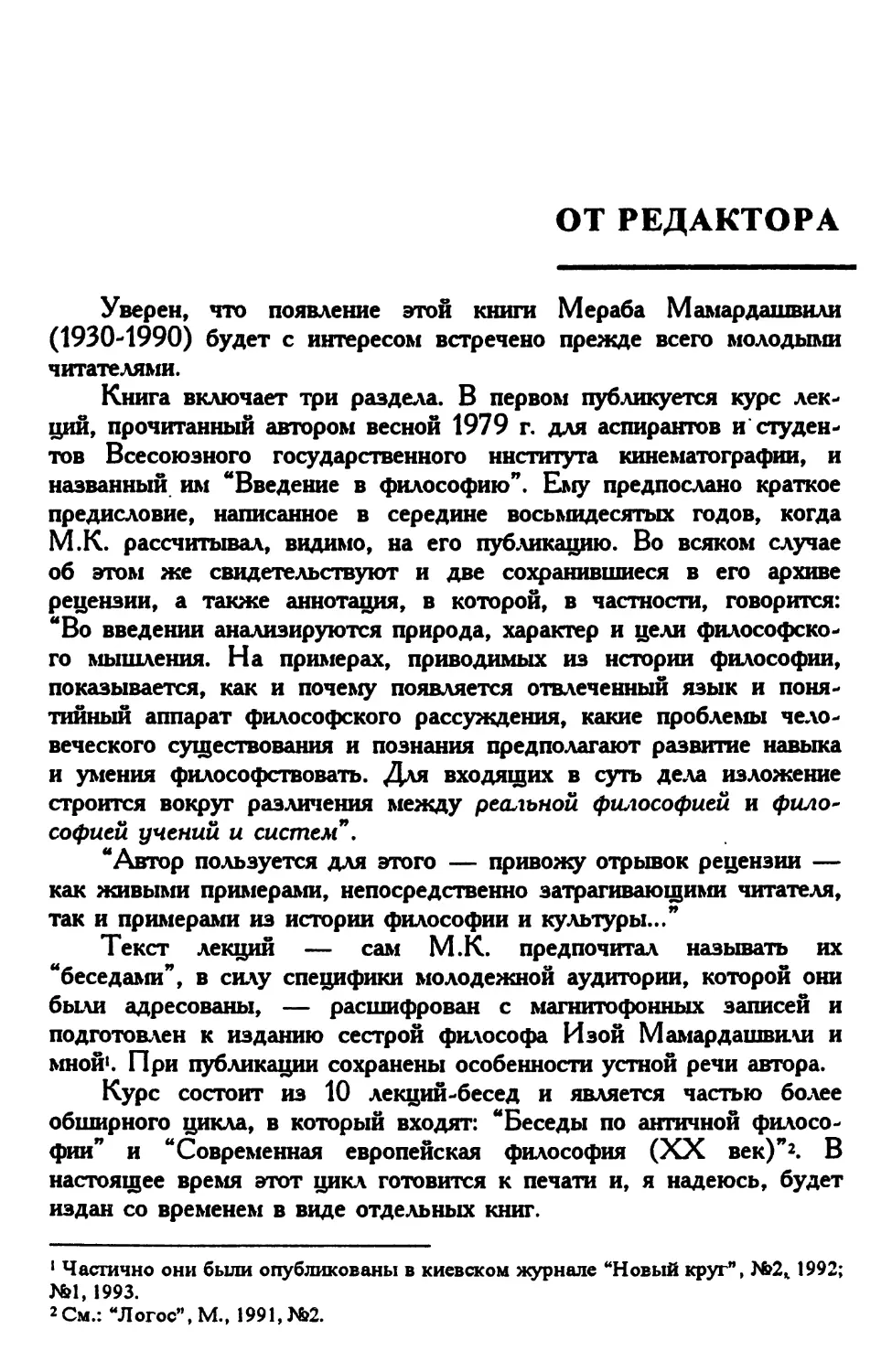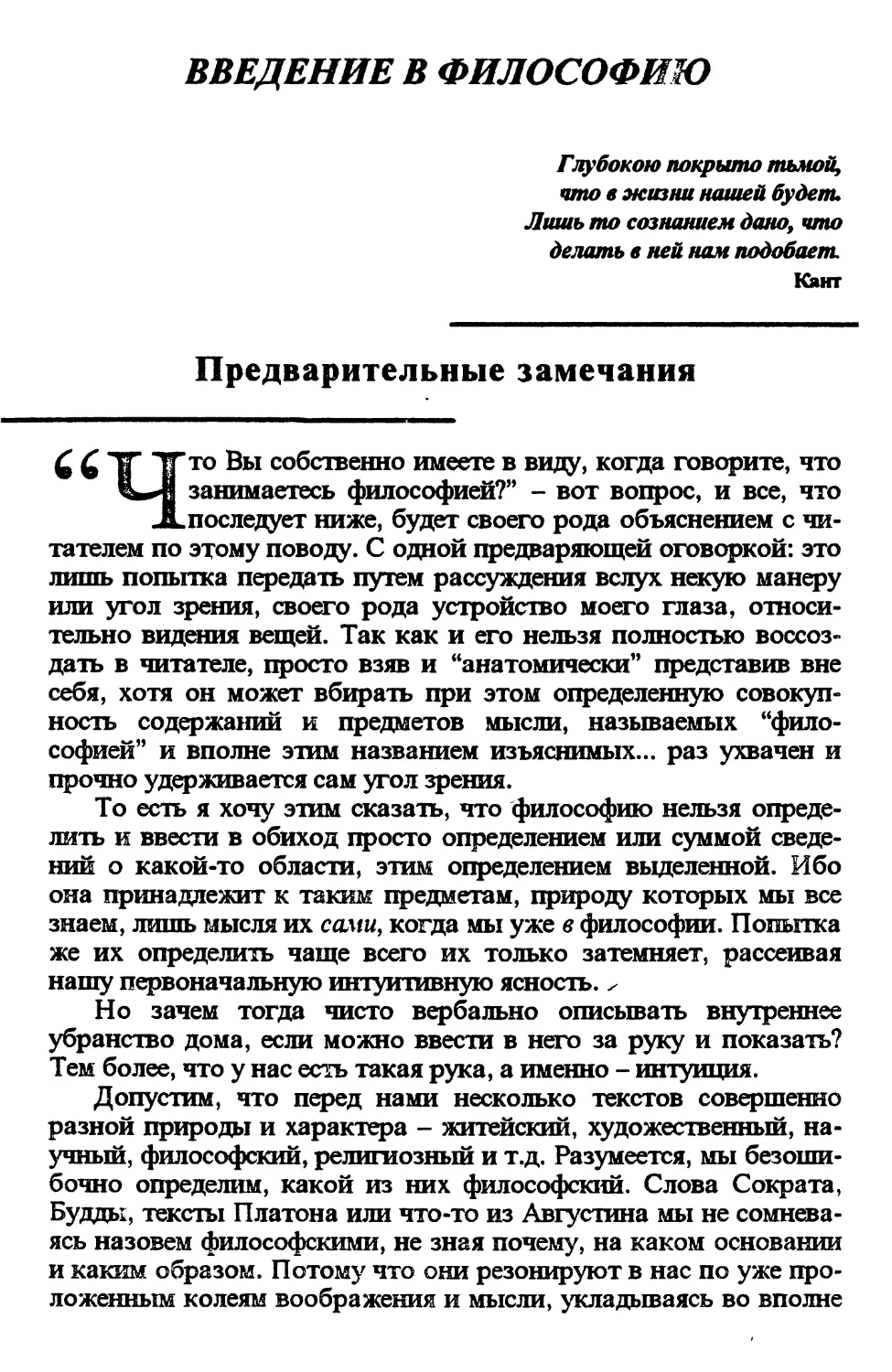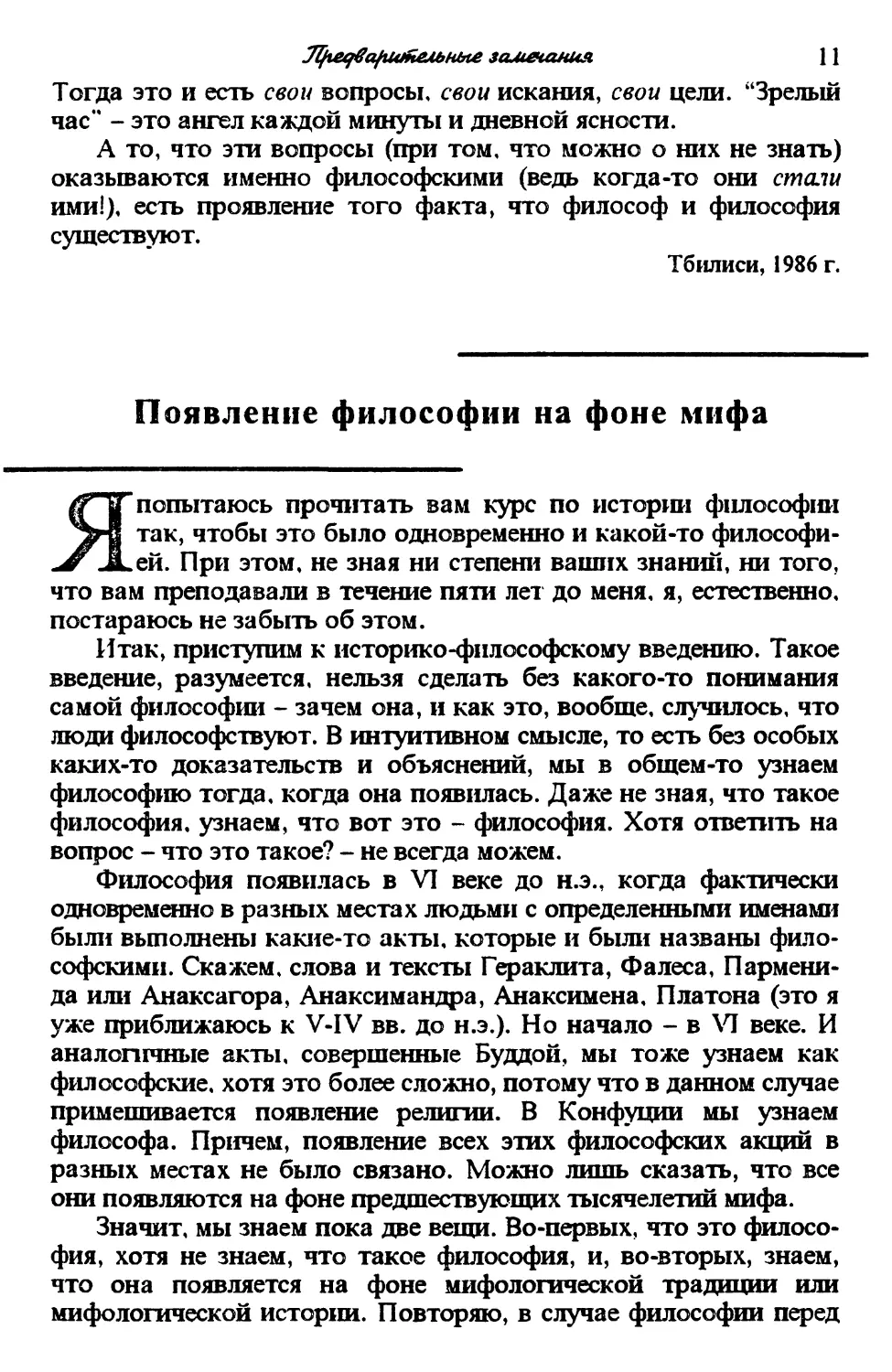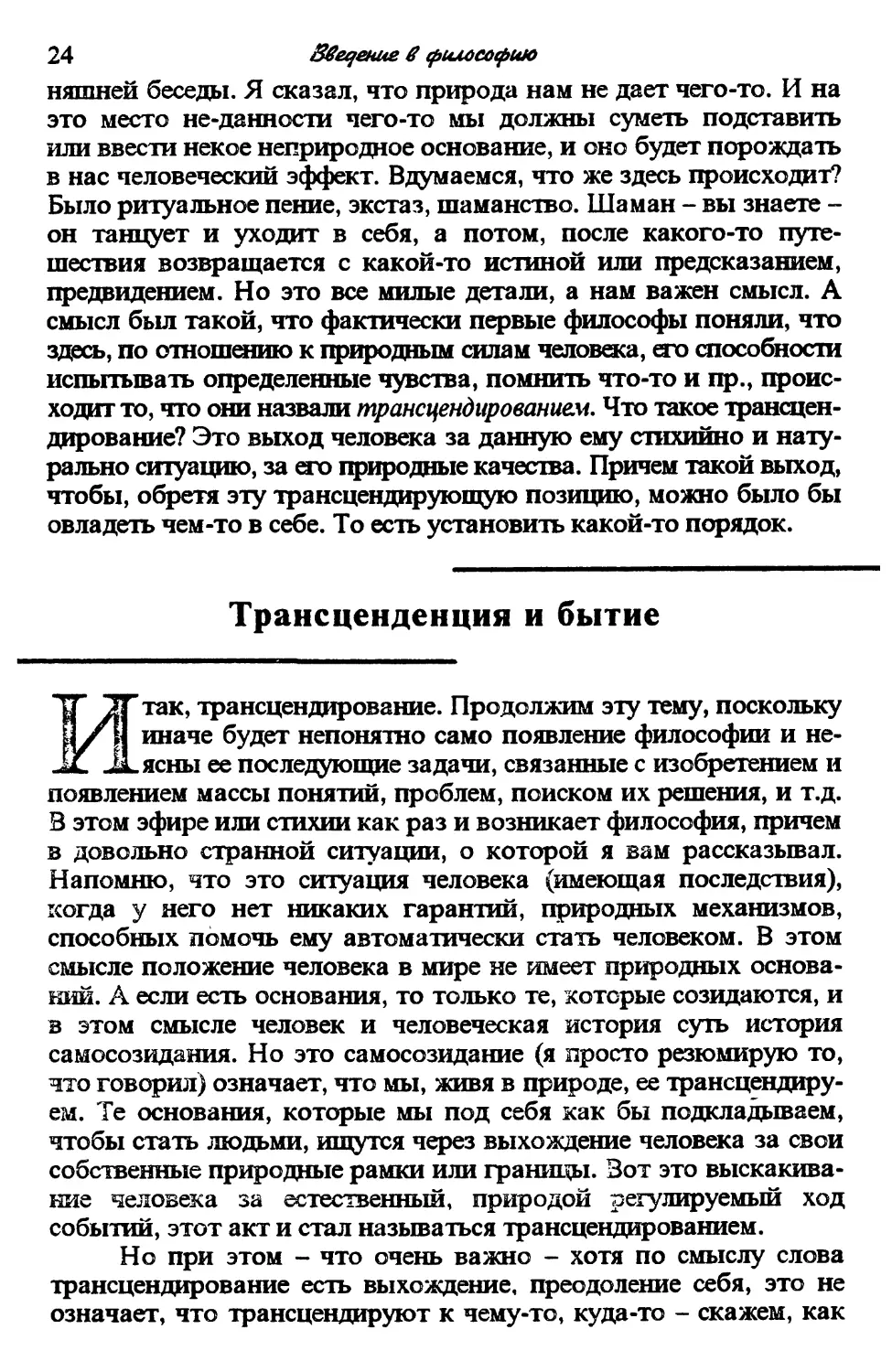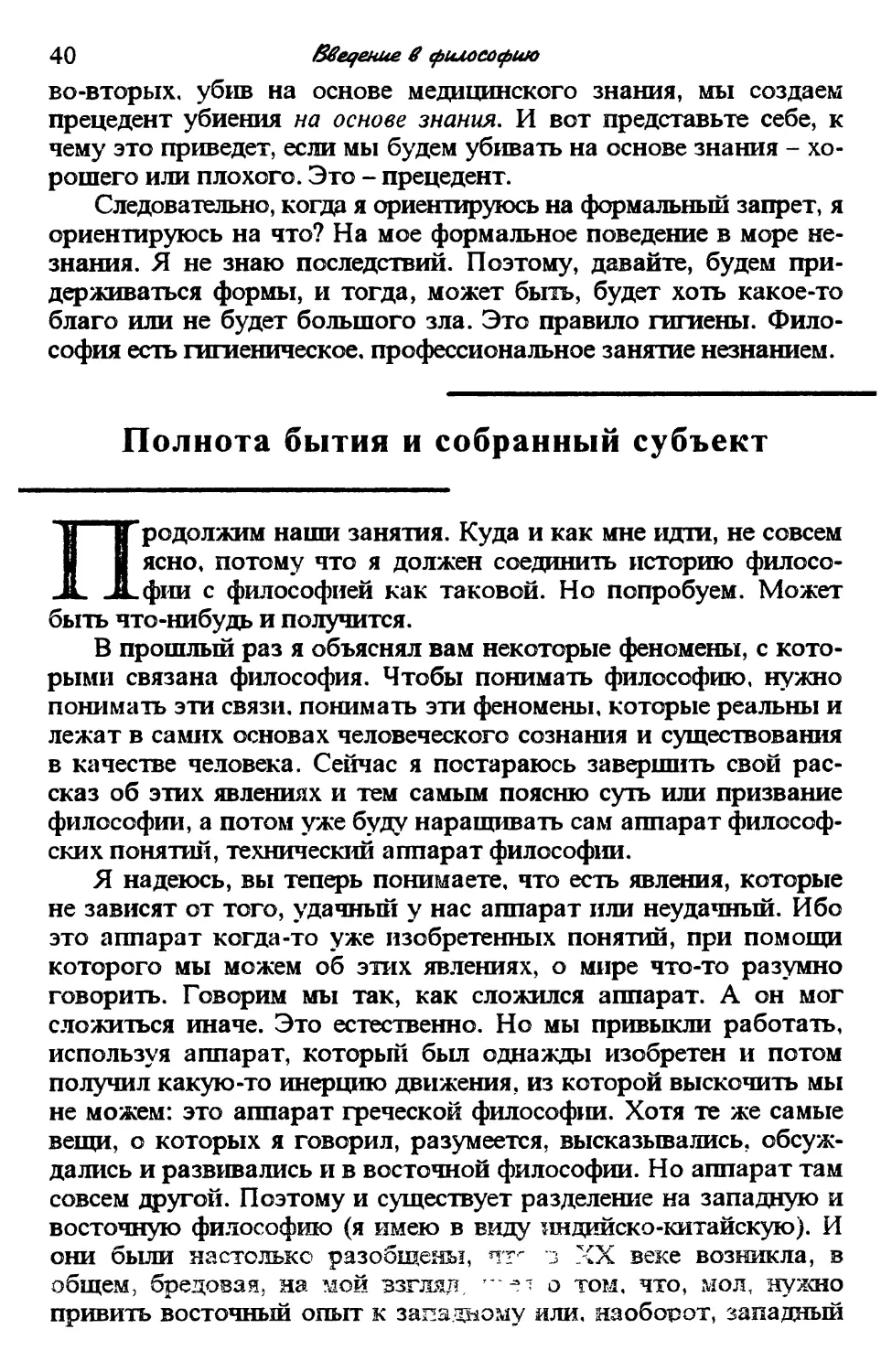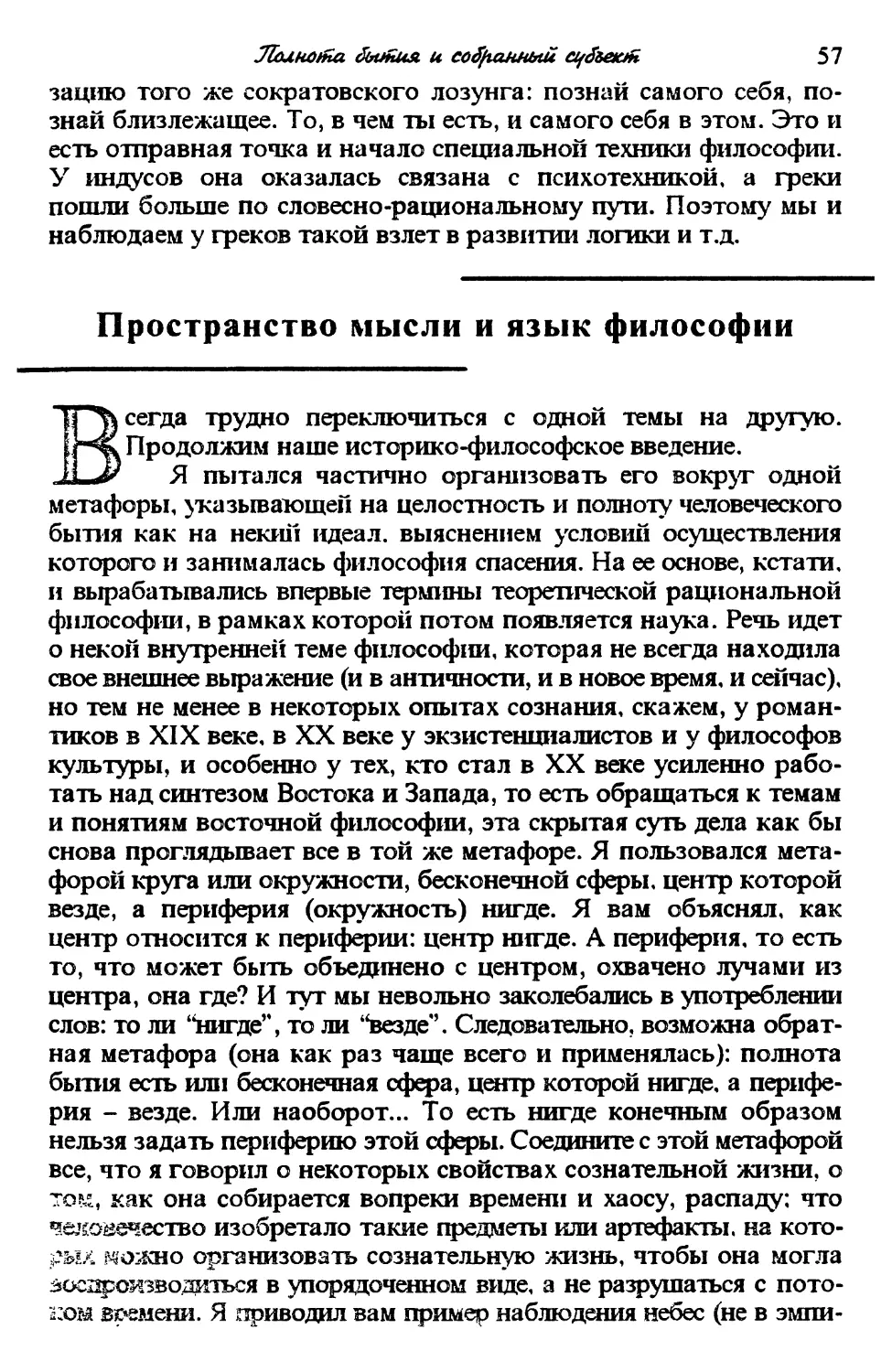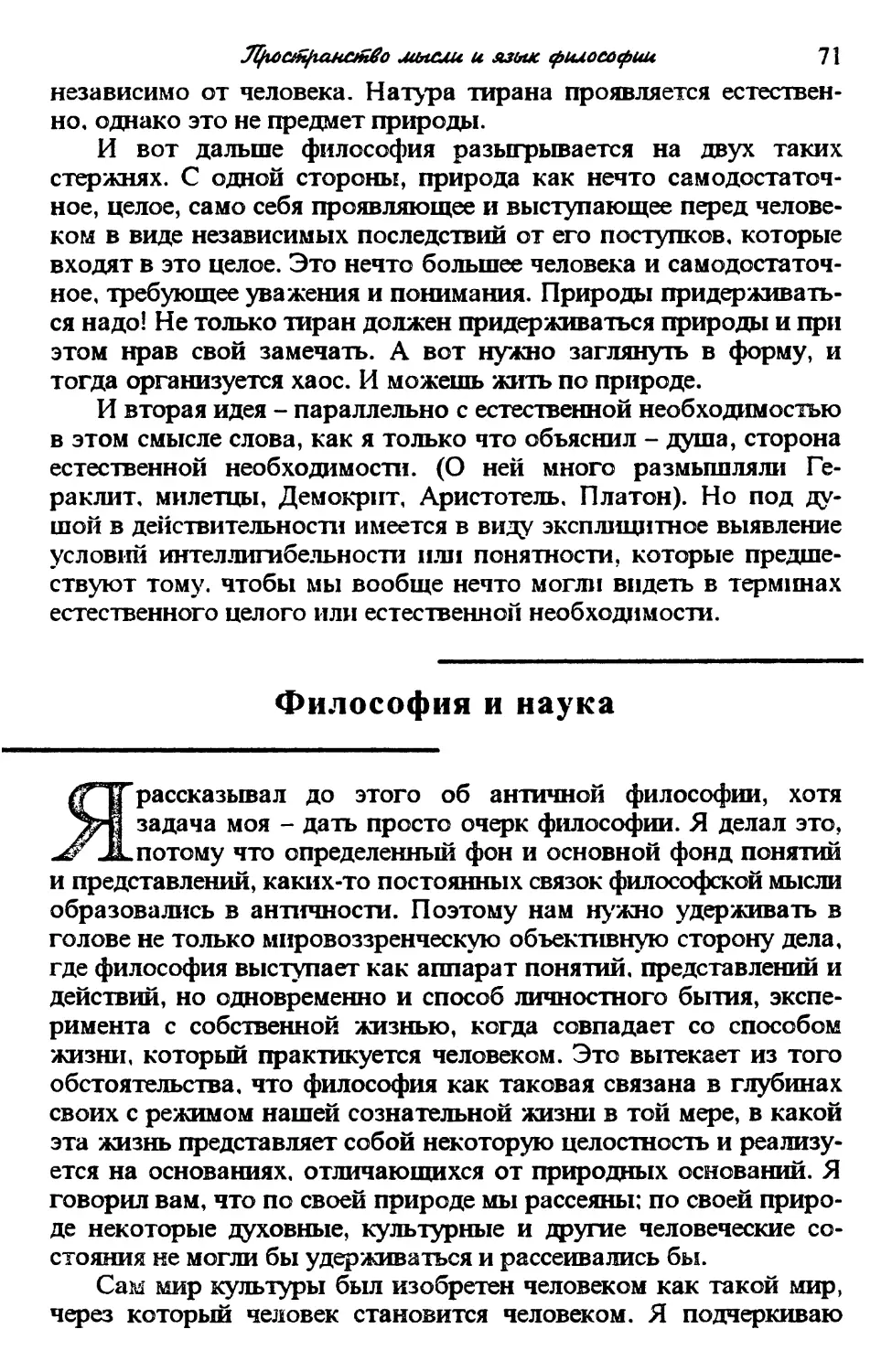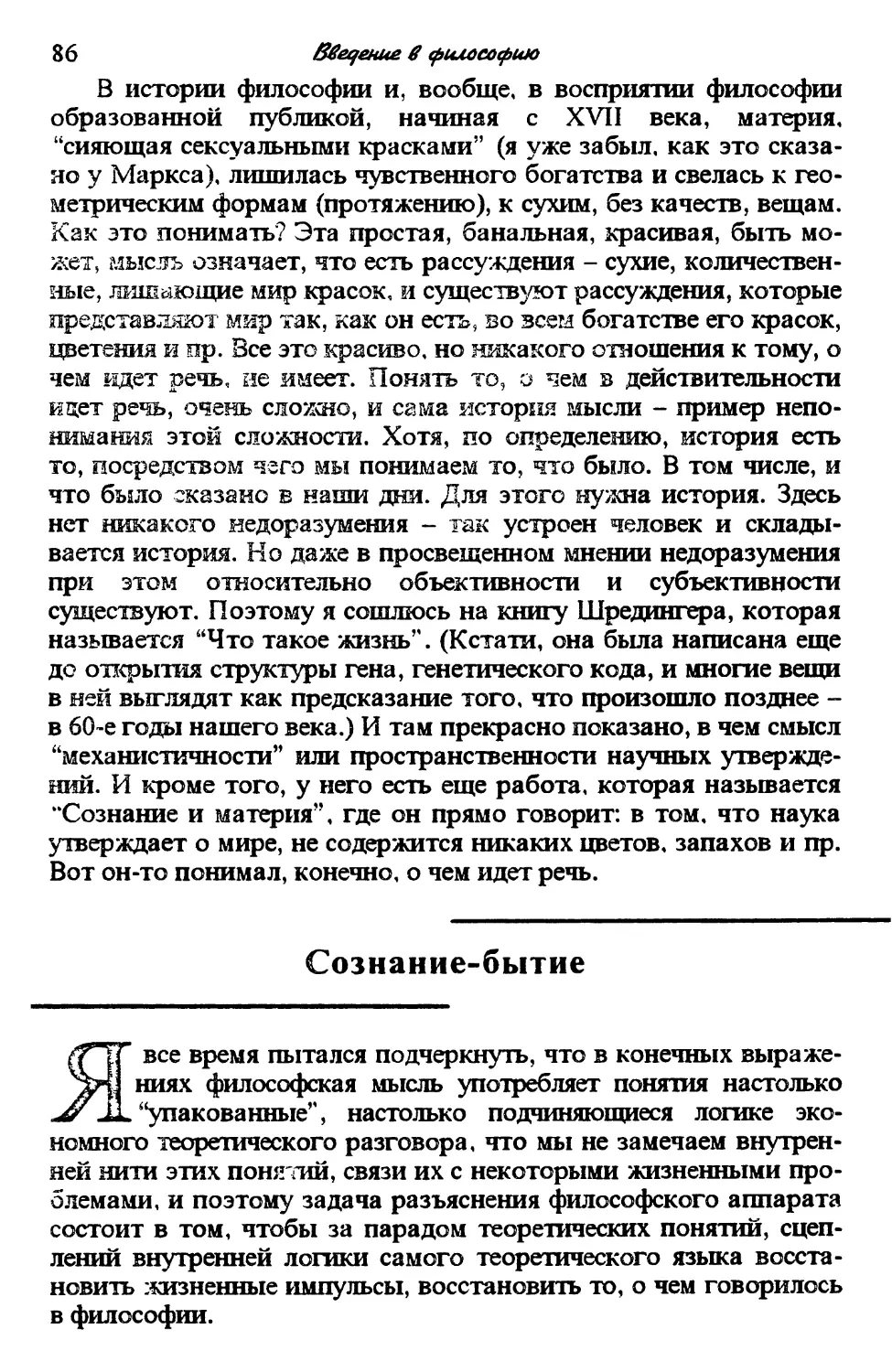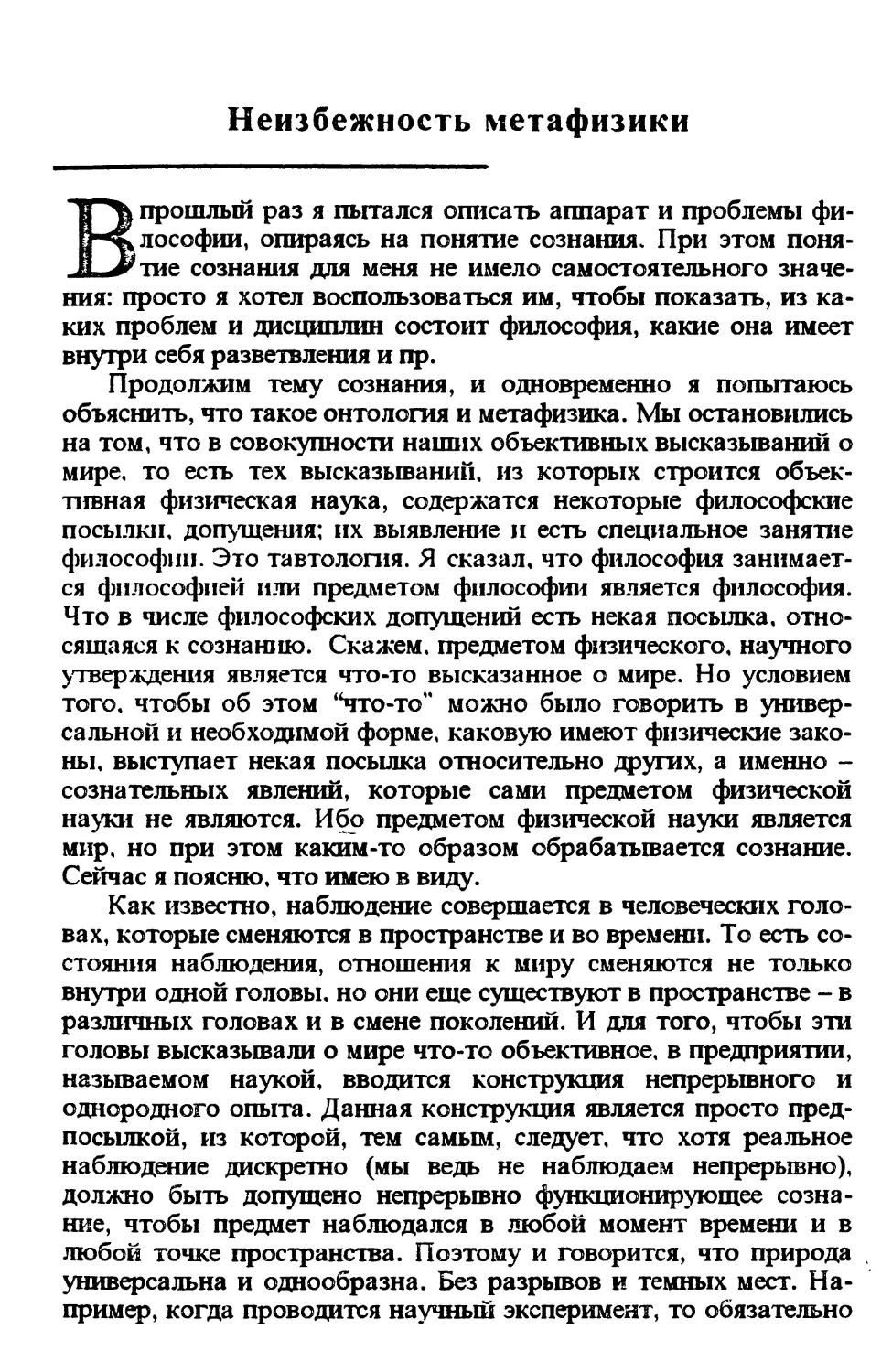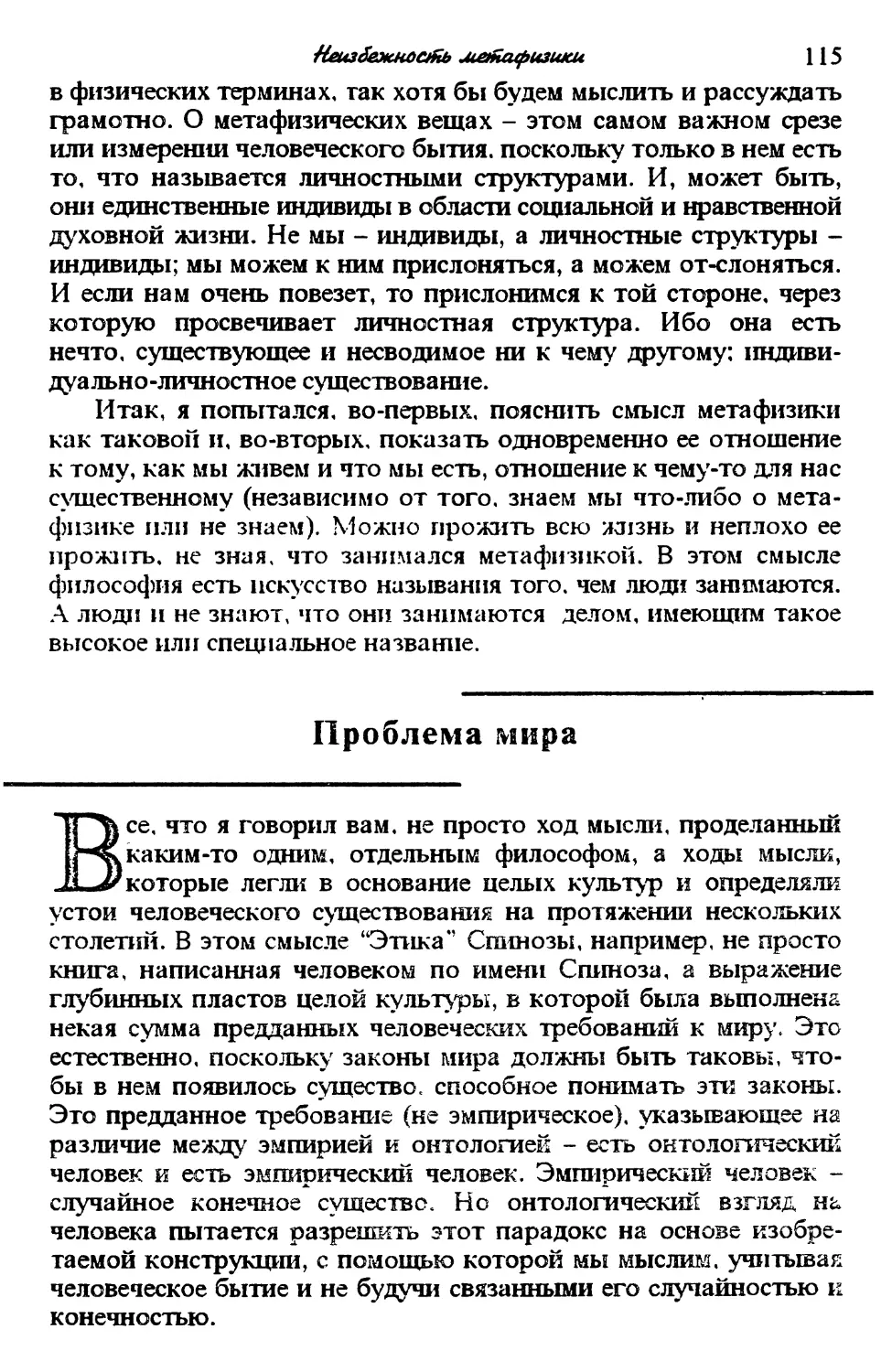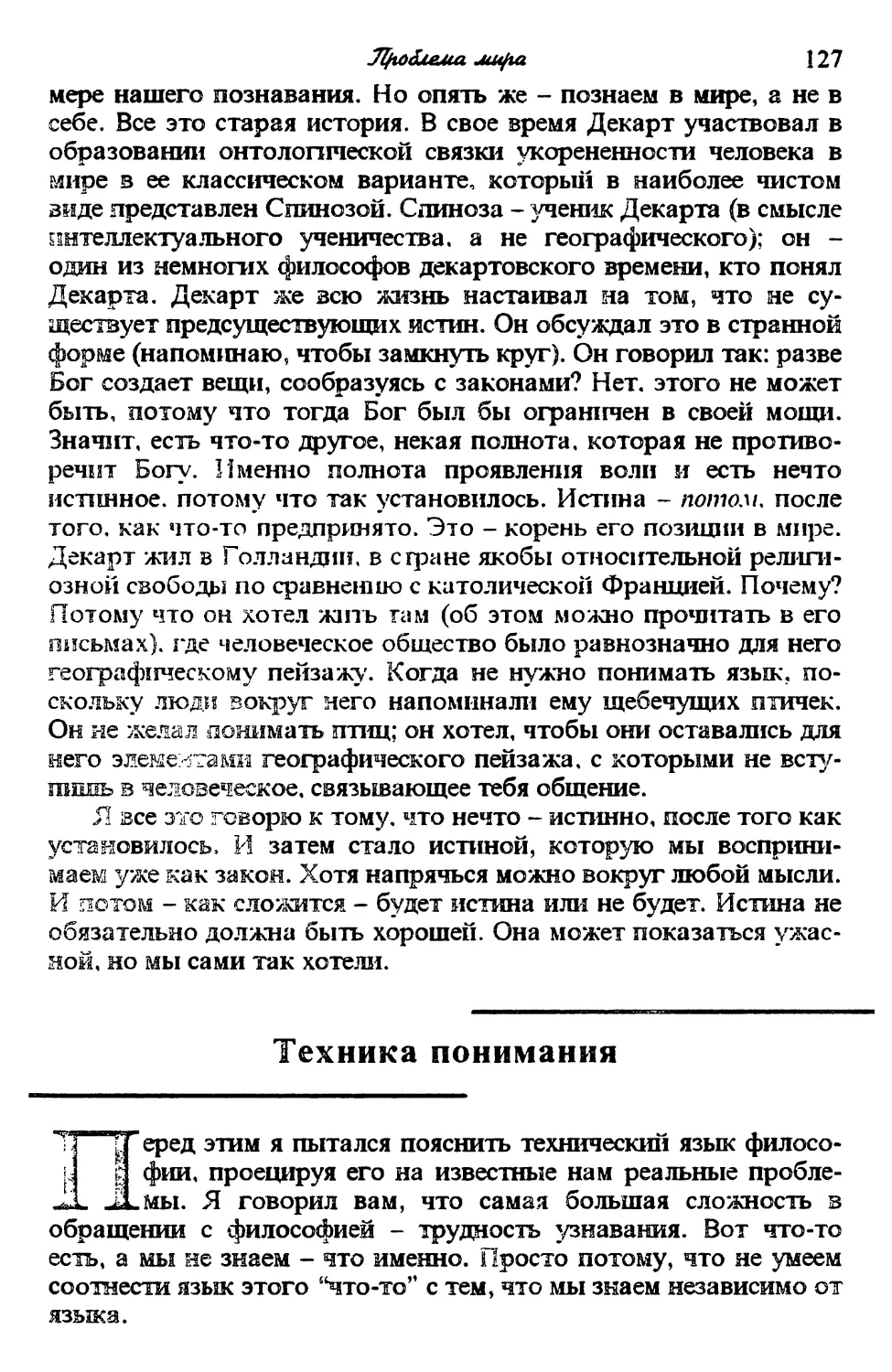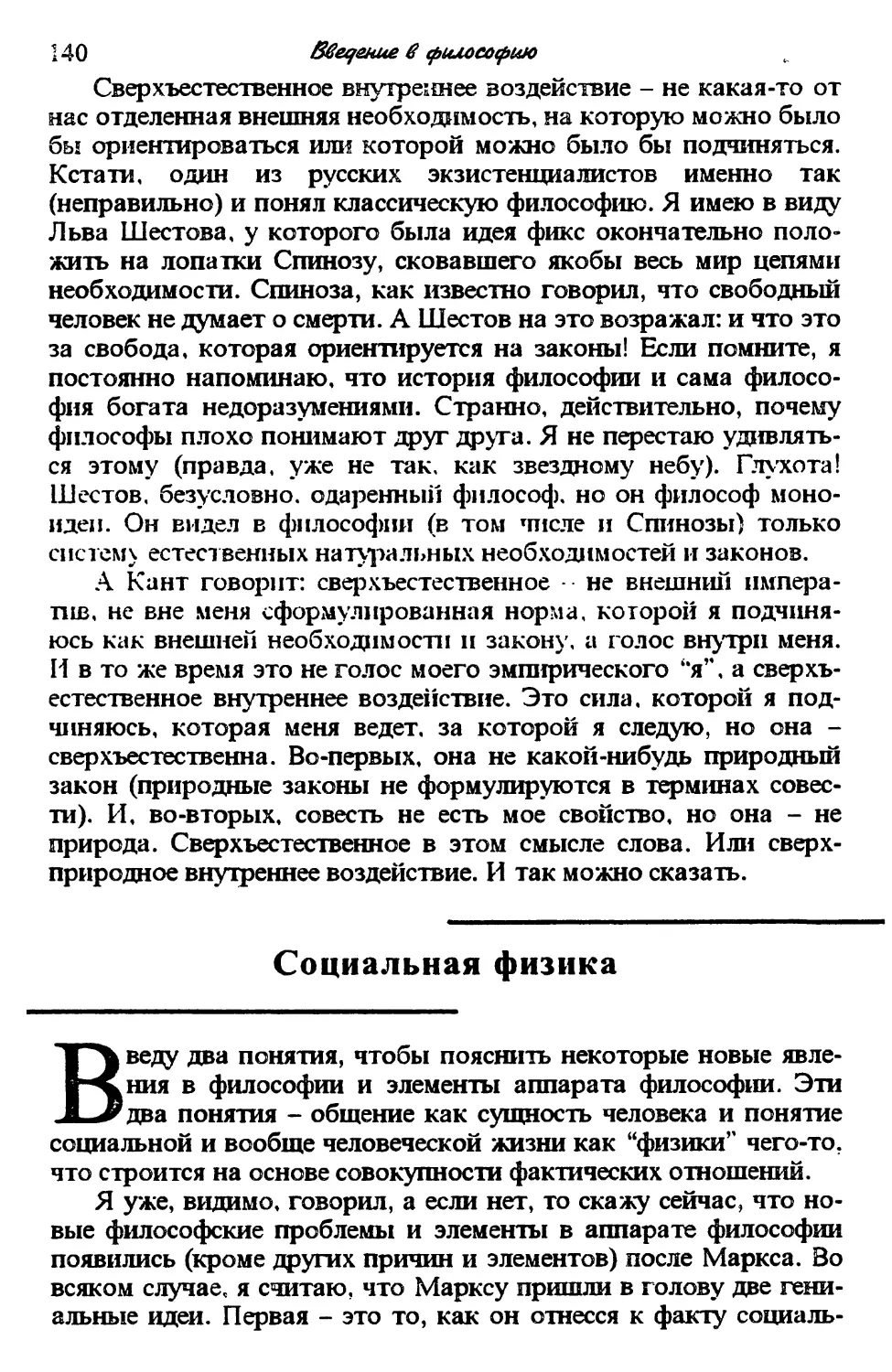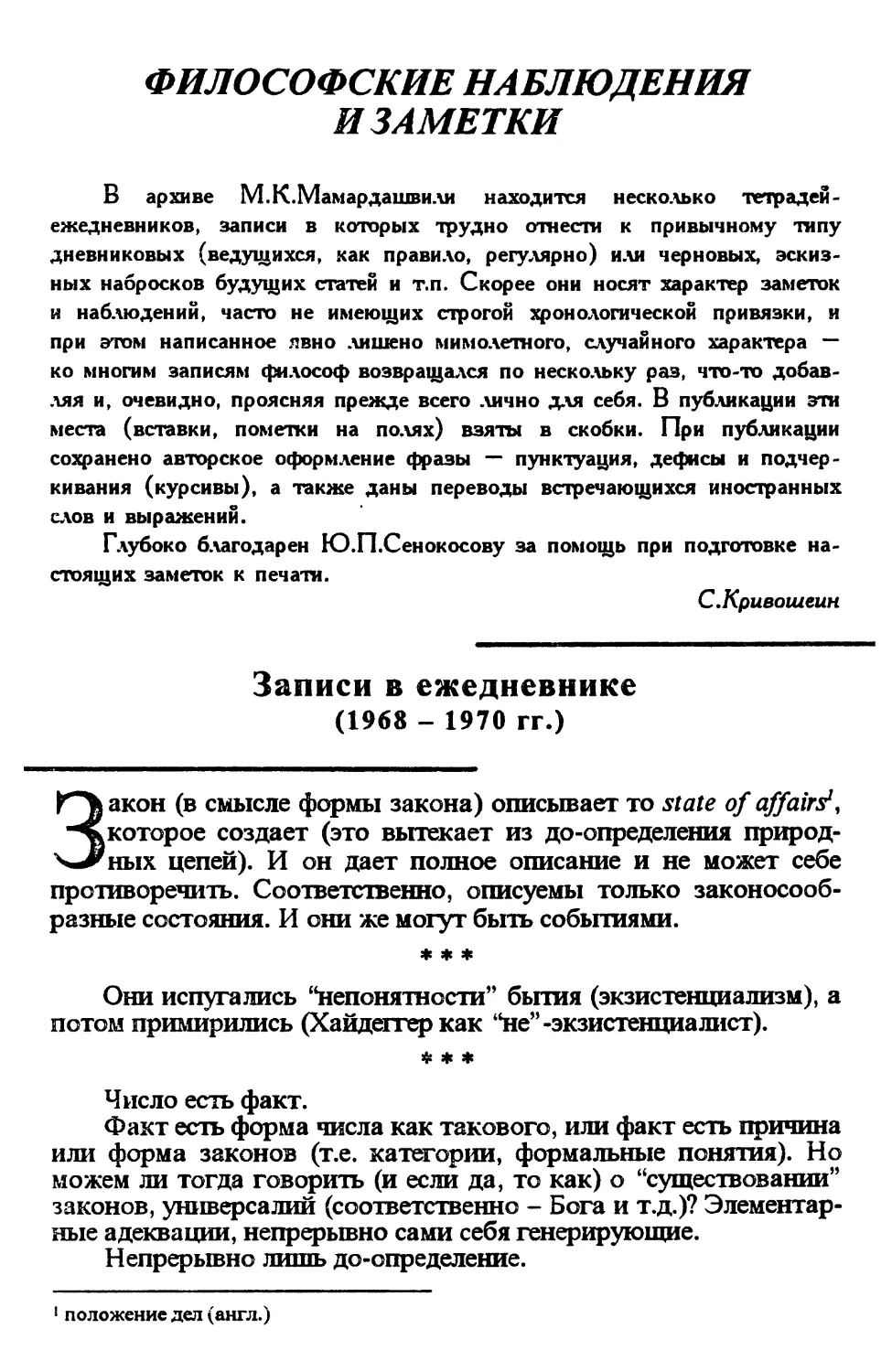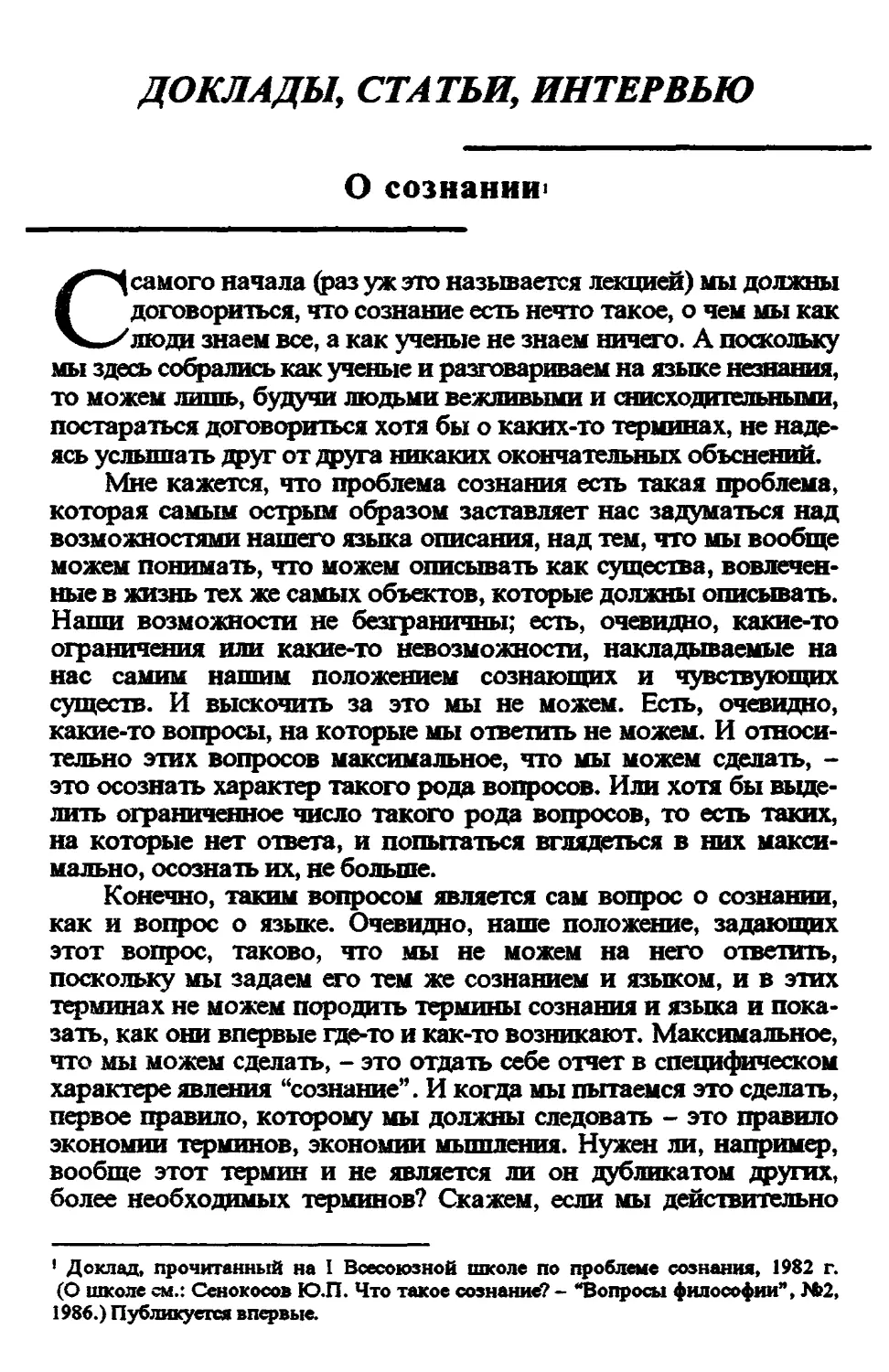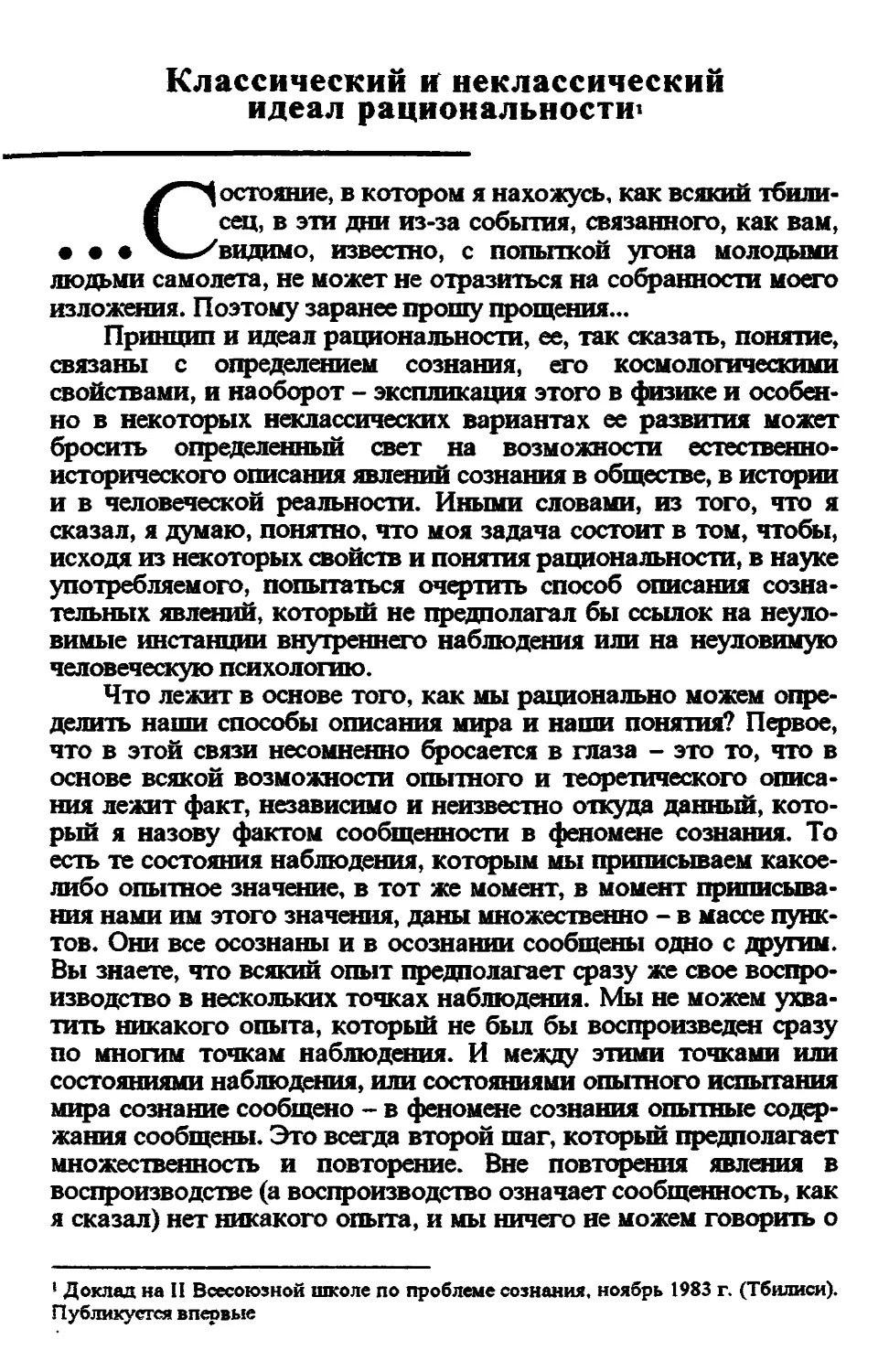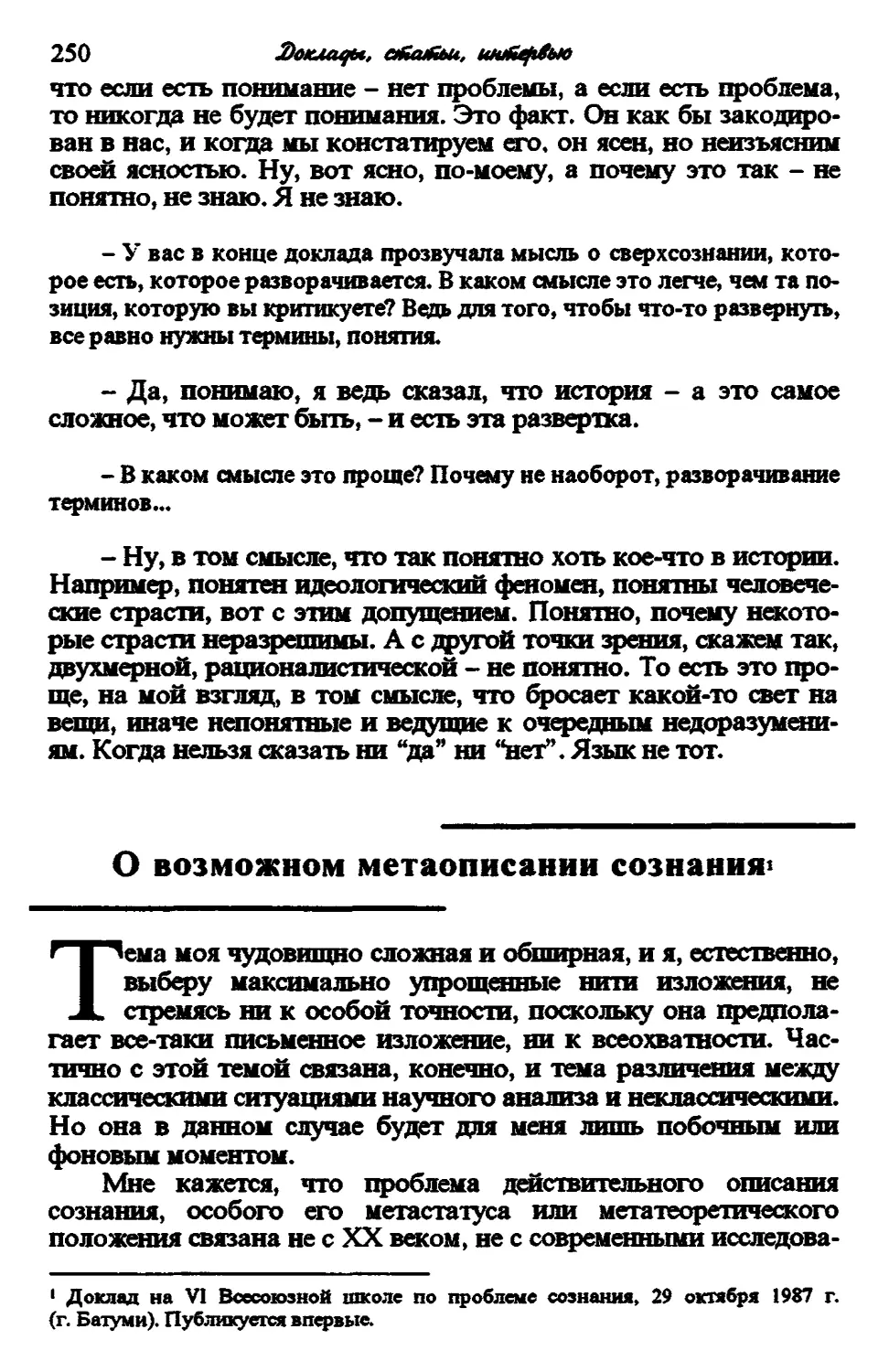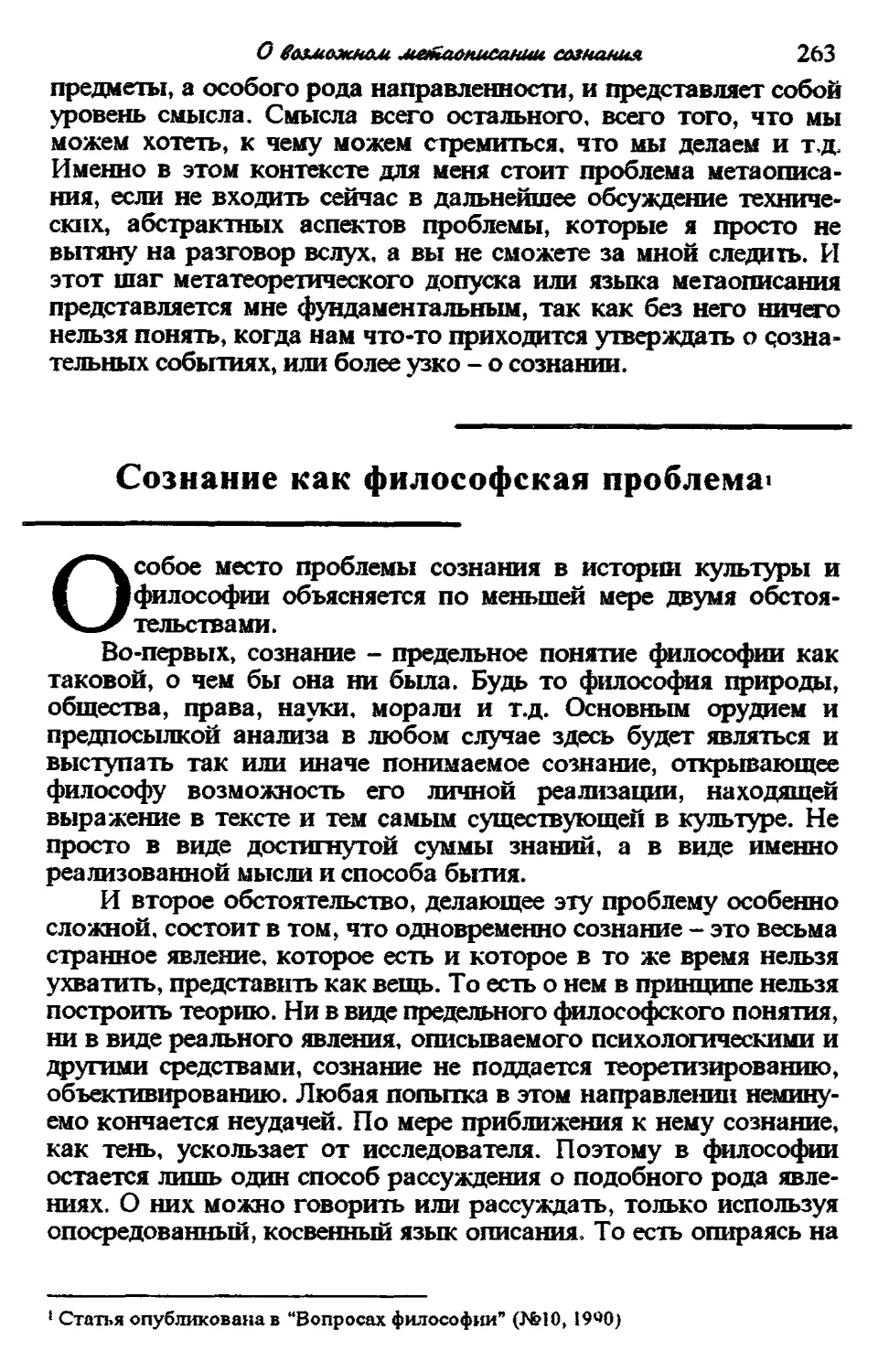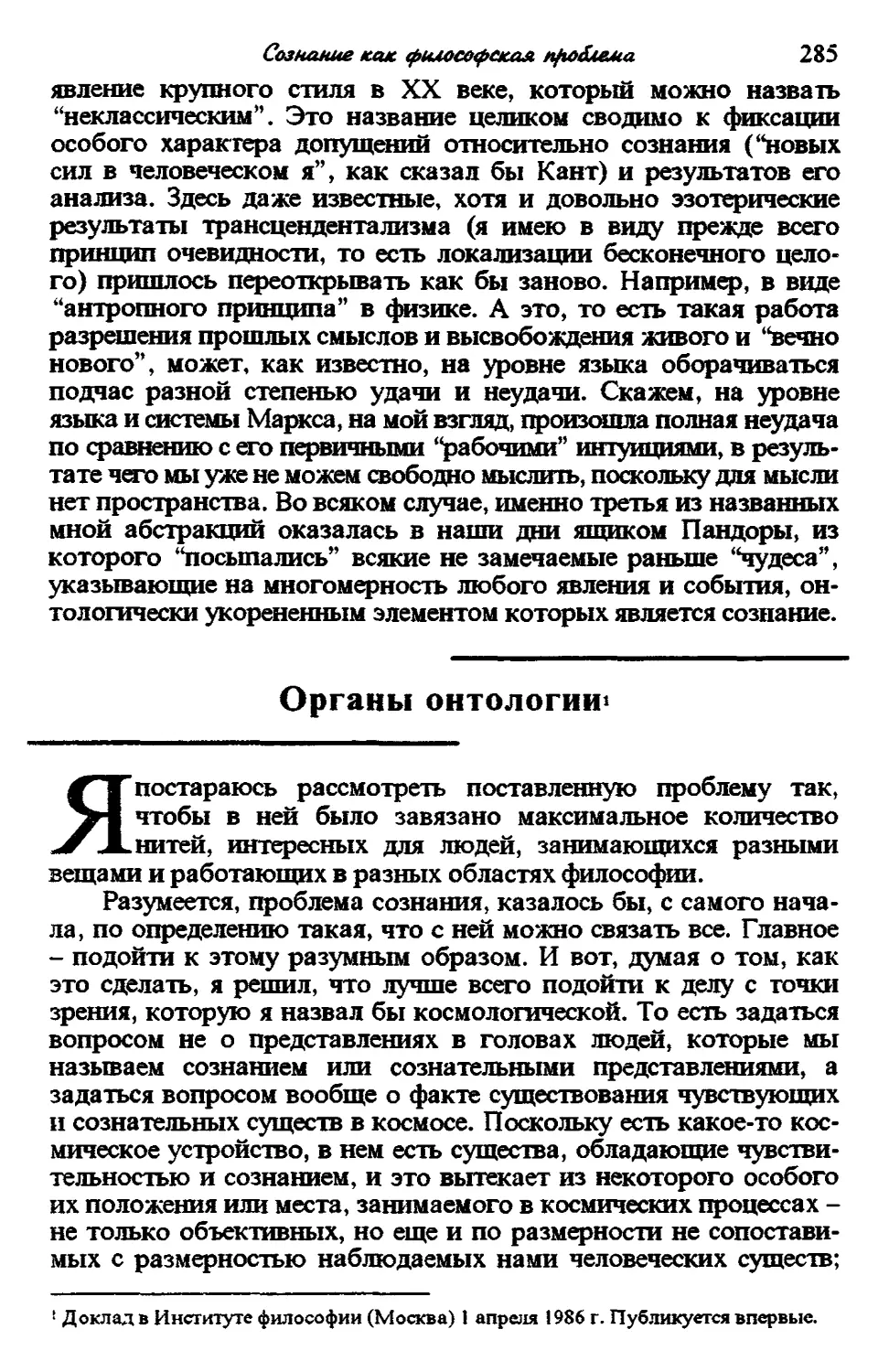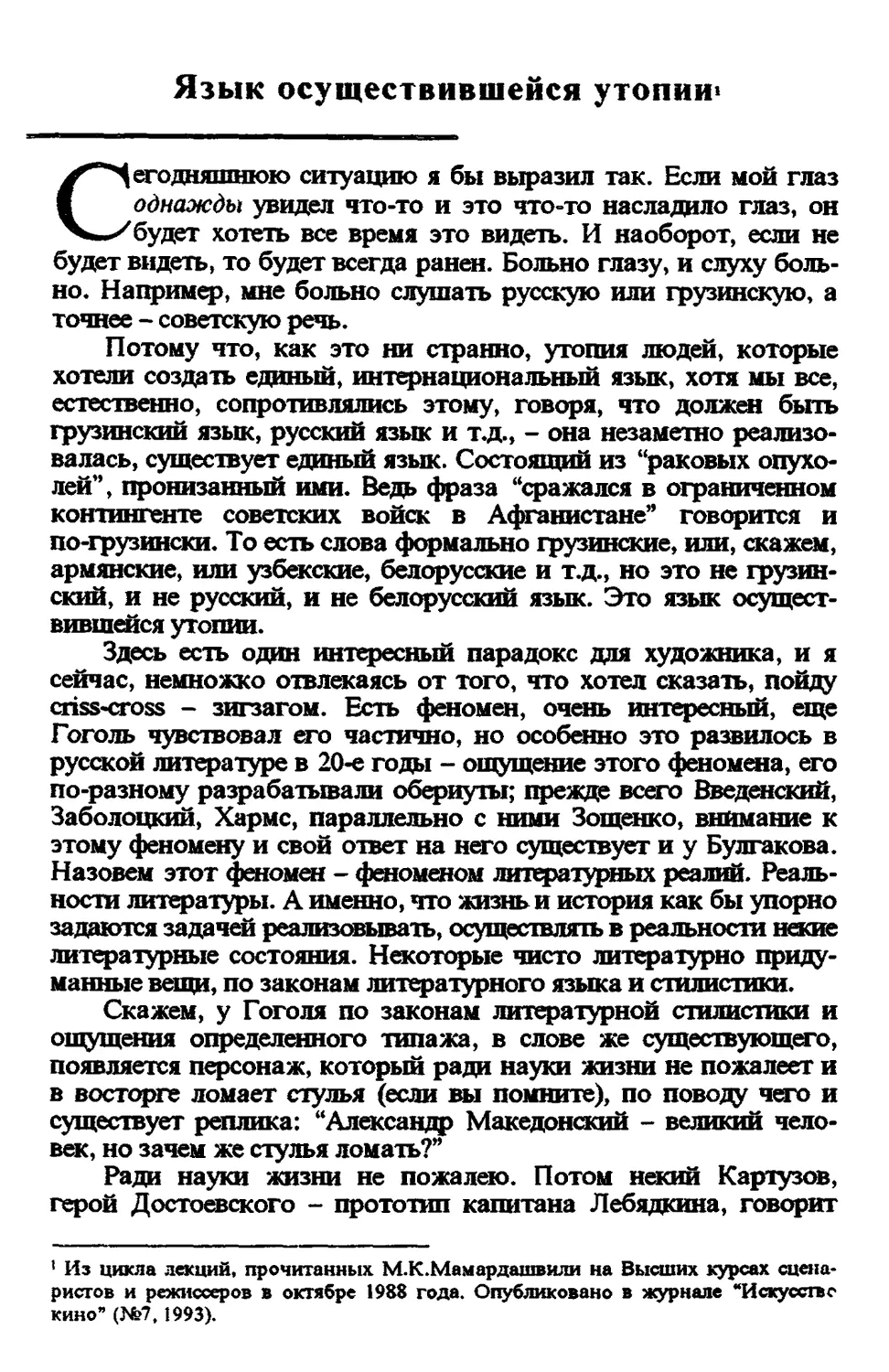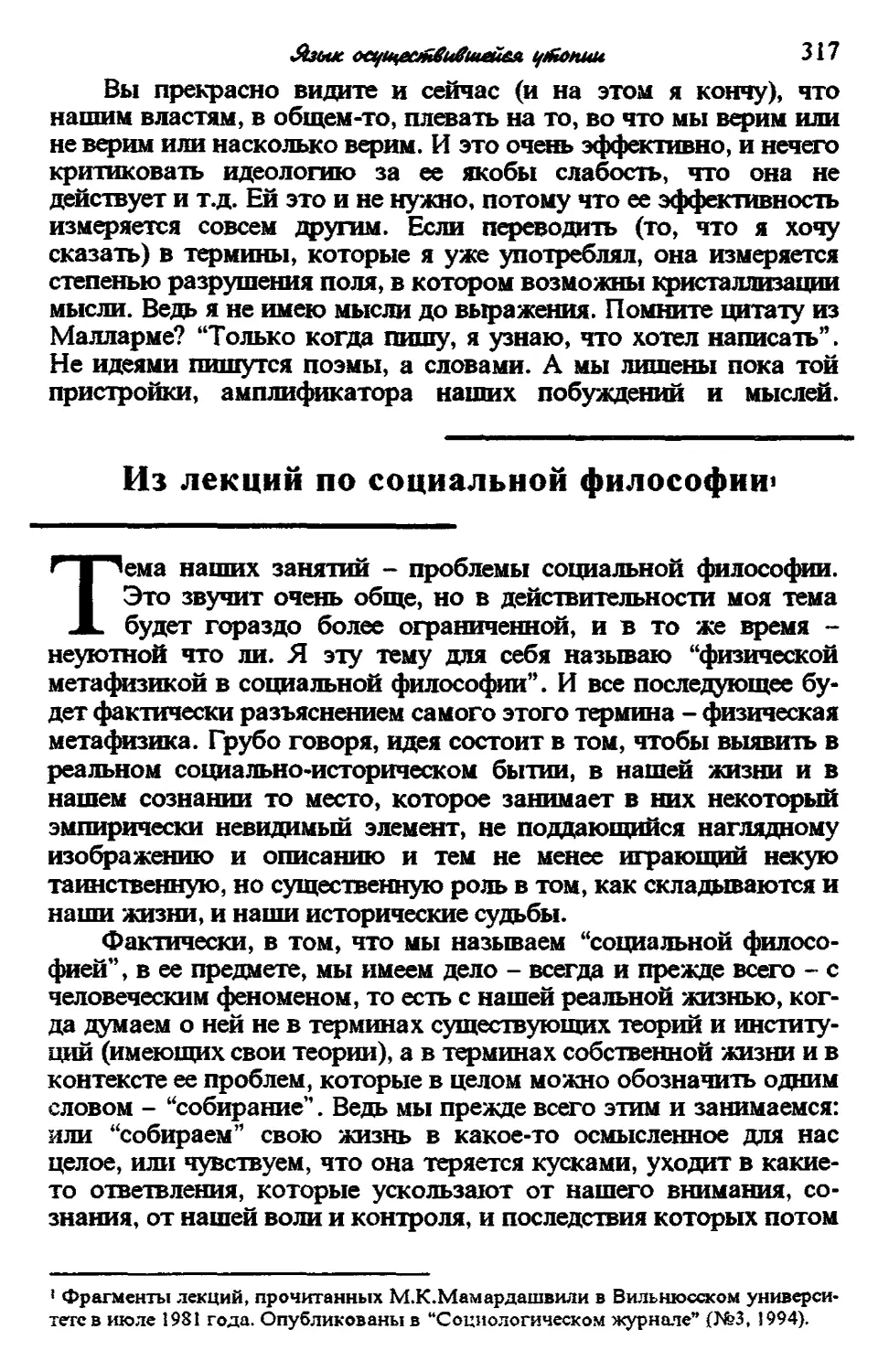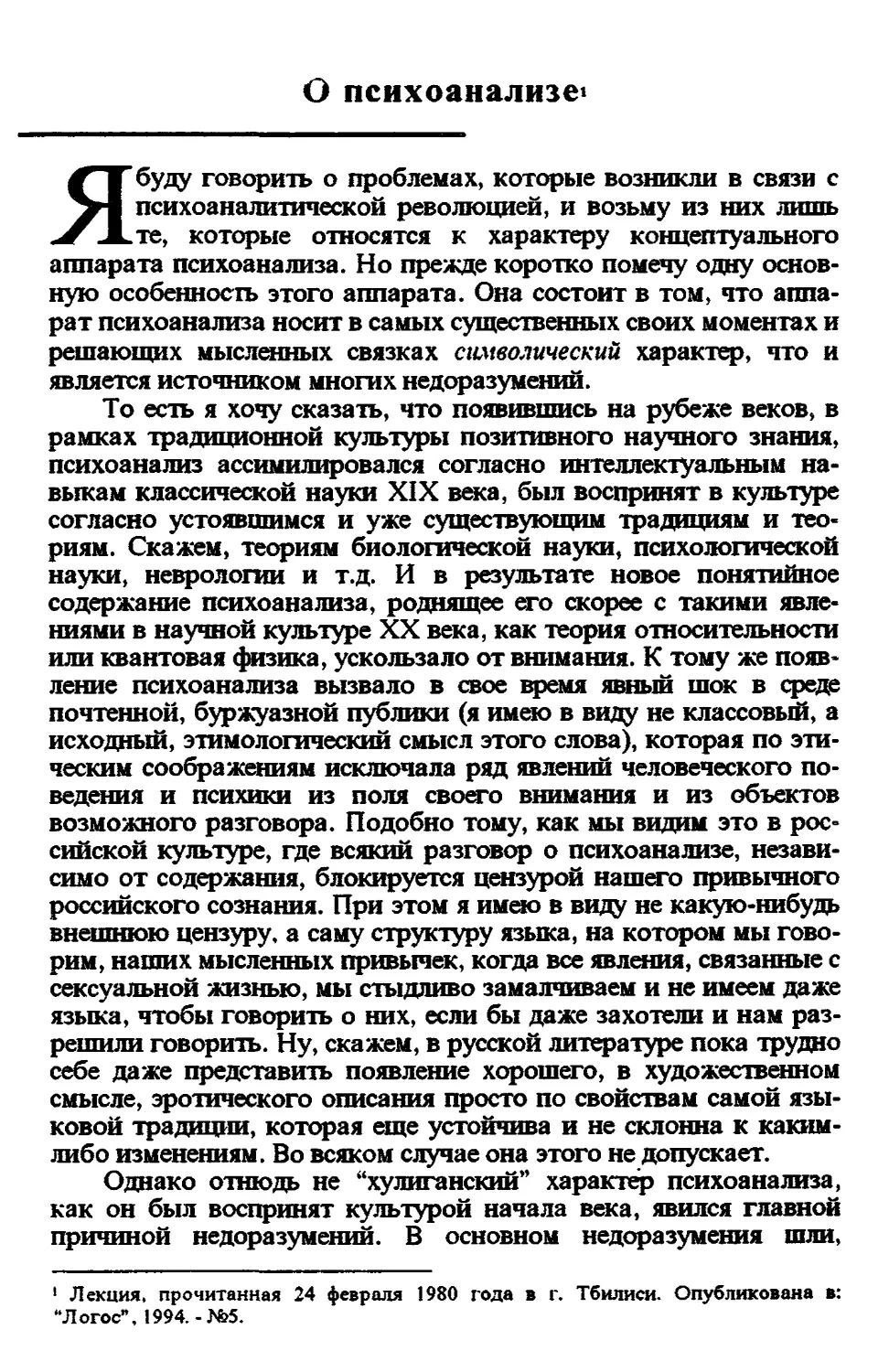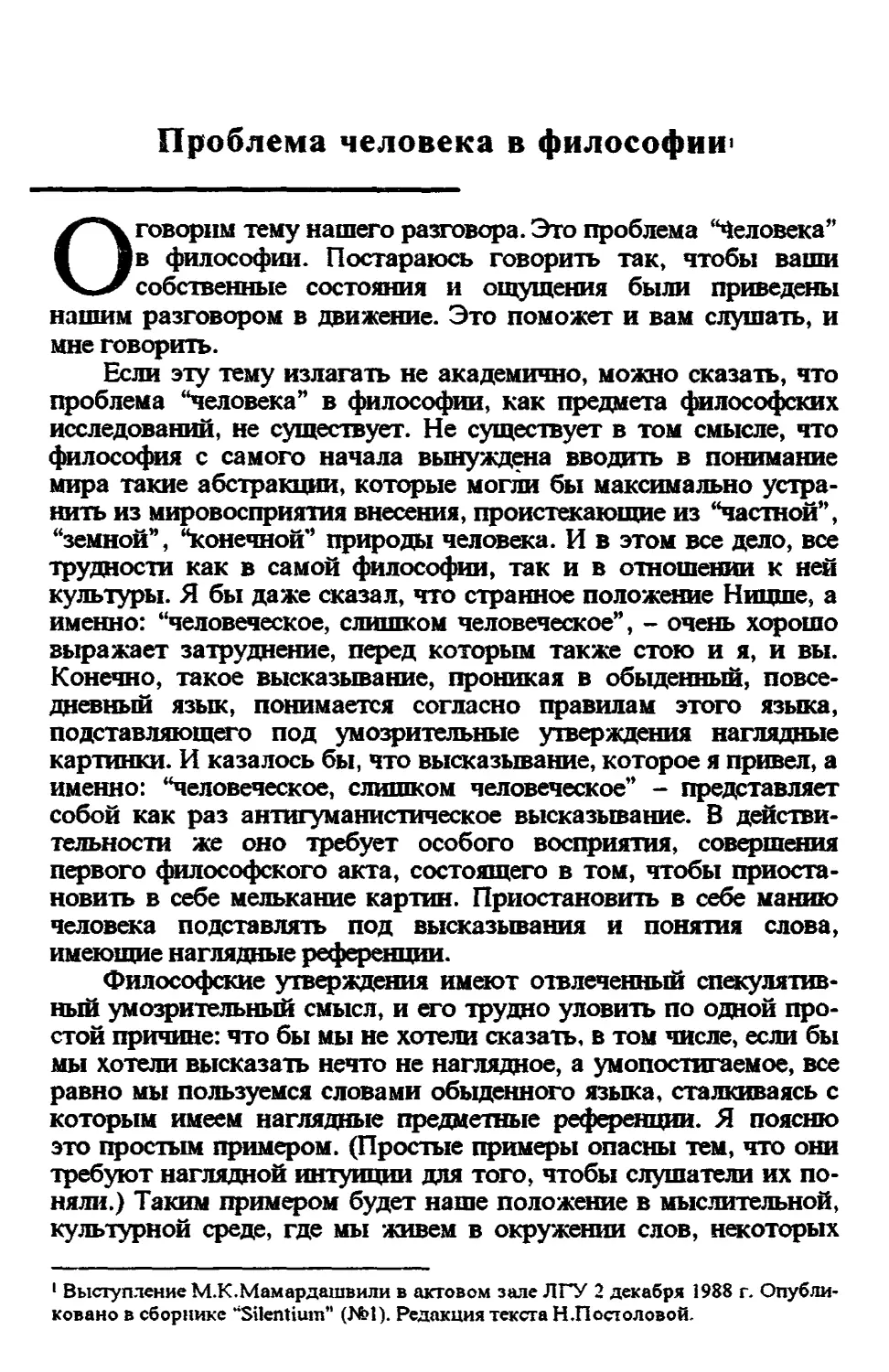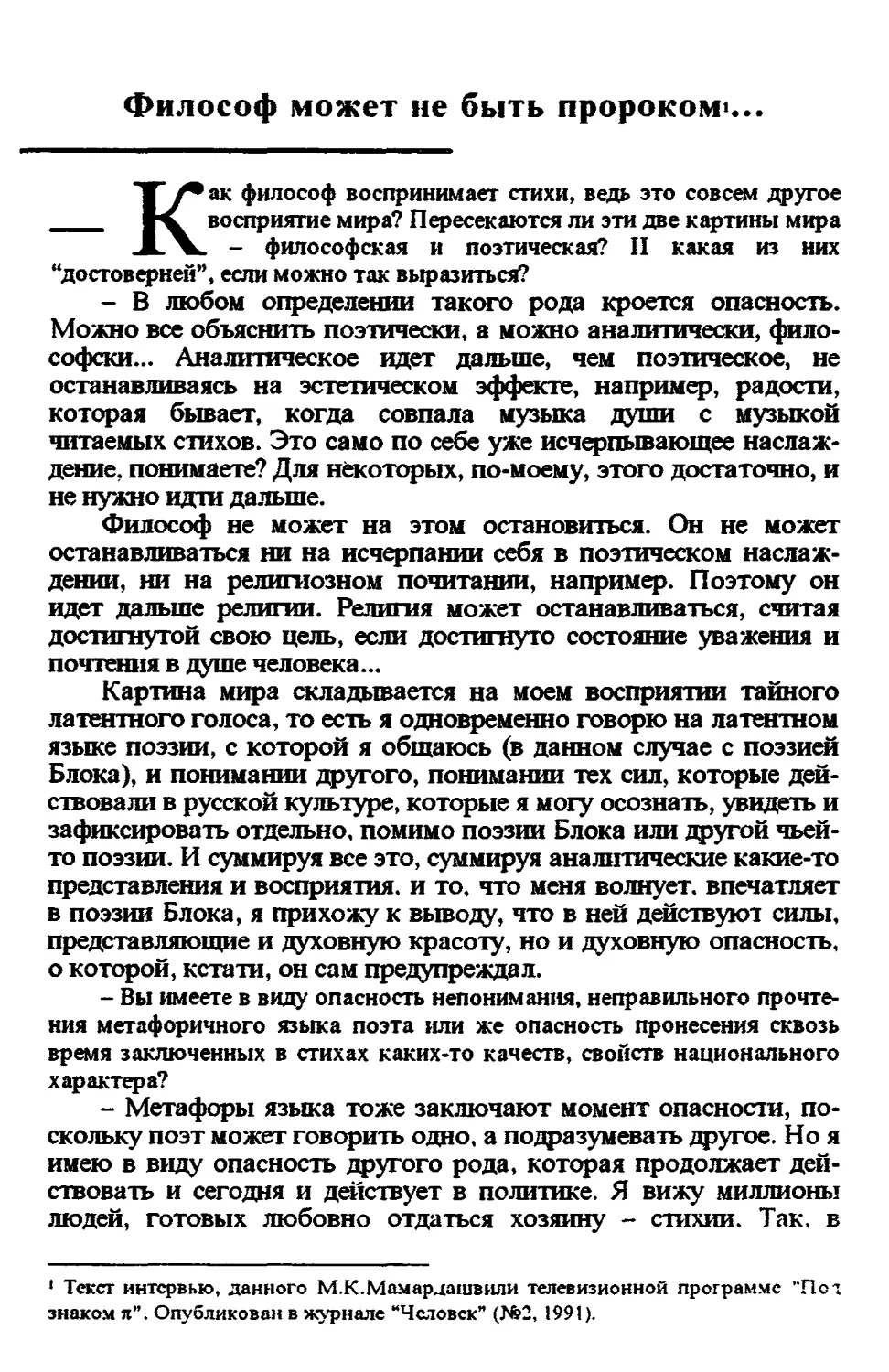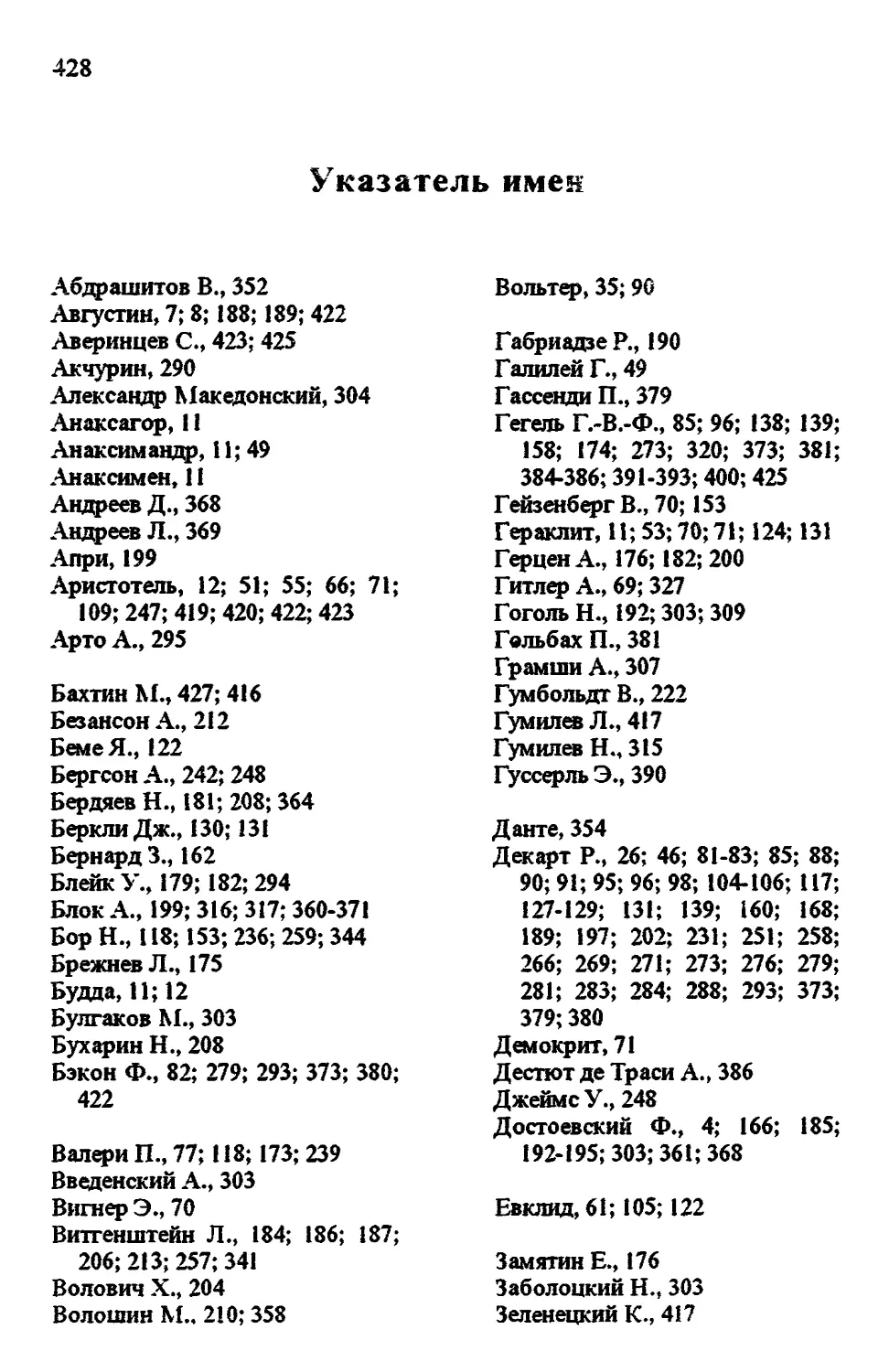Текст
Философия риторики и риторика философиИ
Мераб
МАМАРДАШВИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ
себя
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ,
доклады, статьи,
философские заметки
Составление и общая редакция
Ю.П.Сенокосова
Москва
“Лабиринт”
1996
М. К.Мамардашвили. Необходимость себя. / Лекции. Статьи.
Философские заметки. / Под общей редакцией Ю.П.Сенокосова.
— Издательство “Лабиринт”, Москва — 1996 г. — 432 с.
Редактор СВ.Кривошеин
Художник И.Е.Смирнова
Книга Мераба Константиновича Мамардашвили (1930-1990)
включает три раздела: цикл лекций “Введение в философию ;
заметки дневникового характера; доклады, статьи. Разножанровость
разделов не противоречит смысловой целостности книги, а скорее
подчеркивает неканоническое единство взгляда мыслителя.
Мамардашвилили умел видеть сложное в простом и просто говорить о сложном, поэтому диапазон его читательской аудитории
потенциально неограничен: от профессиональных философов,
ученых гуманитарных и негуманитарных специальностей до школьников, только начинающих самостоятельно мыслить.
Рекомендуется как учебное пособие для студентов университетов.
О Фонд философских и междисциплинарных исследований
имени М. К.Мамардашвили, составление, редактура, 1996 г.
О Издательство “Лабиринт”, указатель имен, комментарий,
оформление, оригинал-макет, 1996 г.
ISBN 5-87604-124-6
ОТ РЕДАКТОРА
Уверен, что появление этой книги Мераба Мамардашвили
(1930-1990) будет с интересом встречено прежде всего молодыми
читателями.
Книга включает три раздела. В первом публикуется курс лекций, прочитанный автором весной 1979 г. для аспирантов и студентов Всесоюзного государственного института кинематографии, и
названный им "Введение в философию”. Ему предпослано краткое
предисловие, написанное в середине восьмидесятых годов, когда
М.К. рассчитывал, видимо, на его публикацию. Во всяком случае
об этом же свидетельствуют и две сохранившиеся в его архиве
рецензии, а также аннотация, в которой, в частности, говорится:
аВо введении анализируются природа, характер и цели философского мышления. На примерах, приводимых из истории философии,
показывается, как и почему появляется отвлеченный язык и понятийный аппарат философского рассуждения, какие проблемы человеческого существования и познания предполагают развитие навыка
и умения философствовать. Для входящих в суть дела изложение
строится вокруг различения между ресьгъной фьиюсофией и философией учений и систем”.
“Автор пользуется для этого — привожу отрывок рецензии —
как живыми примерами, непосредственно затрагивающими читателя,
так и примерами из истории философии и культуры...”
Текст лекций — сам М.К. предпочитал называть их
“беседами”, в силу специфики молодежной аудитории, которой они
были адресованы, — расшифрован с магнитофонных записей и
подготовлен к изданию сестрой философа Изой Мамардашвили и
мной1. При публикации сохранены особенности устной речи автора.
Курс состоит из 10 лекций-бесед и является частью более
обширного цикла, в который входят: “Беседы по античной философии” и “Современная европейская философия (XX век)”2. В
настоящее время этот цикл готовится к печати и, я надеюсь, будет
издан со временем в виде отдельных книг.
1 Частично они были опубликованы в киевском журнале “Новый круг”, №2„ 1992;
№1, 1993.
2 См.: “Логос”, М., 1991, №2.
6 о& /гечсиайо^
Во втором разделе печатаются философские наблюдения и
заметки М.К. дневникового характера1. Вся работа по их подготовке
к изданию была проведена С.В.Кривошеиным.
И, наконец, третий раздел “Статьи, доклады, интервью”
составляют работы как публиковавшиеся ранее (в различных журналах), так и печатающиеся впервые. К последним прежде всего относятся доклады М.К., прочитанные на семинарах Всесоюзной школы
по проблеме сознания. Созданная в начале 80-х годов по инициативе Н .Л.Мусхелишвили и академика Е.П.Велихова, эта Школа была
в те годы единственным местом, где свободно обсуждались философские проблемы не только естественных, но и гуманитарных наук,
и каждое выступление М.К. неизменно вызывало на ее заседаниях
бурную дискуссию.
От имени Фонда философских и междисциплинарных исследований им. М.К.Мамардашвили выражаю сердечную благодарность
Сергею Кривошеину за постоянную и бескорыстную помощь.
Ю.Сенокосов
1 Некоторые из них, датированные 1989 годом, были напечатаны в московском
журнале “Волшебная гора”. №2, 1994. См. также: “Юность”, №4,1991.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Глубокою покрыто тьмой,
что в жизни нашей будет*
Лишь то сознанием дано, что
делать в ней нам подобает.
Кант
Предварительные замечания
и *ТГ ТГто Вы собственно имеете в виду, когда говорите, что
О занимаетесь философией?” - вот вопрос, и все, что
А последует ниже, будет своего рода объяснением с читателем по этому поводу. С одной предваряющей оговоркой: это
лишь попытка передать путем рассуждения вслух некую манеру
или угол зрения, своего рода устройство моего глаза, относительно видения вещей. Так как и его нельзя полностью воссоздать в читателе, просто взяв и “анатомически” представив вне
себя, хотя он может вбирать при этом определенную совокупность содержаний и предметов мысли, называемых “философией” и вполне этим названием изъяснимых... раз ухвачен и
прочно удерживается сам угол зрения.
То есть я хочу этим сказать, что философию нельзя определить и ввести в обиход просто определением или суммой сведений о какой-то области, этим определением выделенной. Ибо
она принадлежит к таким предметам, природу которых мы все
знаем, лишь мысля их сами, когда мы уже в философии. Попытка
же их определить чаще всего их только затемняет, рассеивая
нашу первоначальную интуитивную ясность. ^
Но зачем тогда чисто вербально описывать внутреннее
убранство дома, если можно ввести в него за руку и показать?
Тем более, что у нас есть такая рука, а именно - интуиция.
Допустим, что перед нами несколько текстов совершенно
разной природы и характера - житейский, художественный, научный, философский, религиозный и т.д. Разумеется, мы безошибочно определим, какой из них философский. Слова Сократа,
Будды, тексты Платона или что-то из Августина мы не сомневаясь назовем философскими, не зная почему, на каком основании
и каким образом. Потому что они резонируют в нас по уже проложенным колеям воображения и мысли, укладываясь во вполне
8 Введение в философию
определенное со-присутствие (это, а не иное) соответствующих
слов, терминов, сюжетов, тем и т.п.
. Следовательно, пока нас не спрашивают, мы знаем, что
такое философия. И узнаем ее, когда она перед нами. Но стоит
только спросить, а что же это такое и какими критериями мы
пользовались, узнавая ее, как наверняка мы уже не знаем. И
можем лишь запутаться в бесконечном и неразрешимом споре об
этих критериях, определениях “законных” предметов философствования и т.д. Ведь в самом деле, каким образом, начав именно
с определений, получить согласие и основание для принятия в
философию, скажем, Будды или Августина, в которых так головоломно переплелись философская мысль и религиозная мед итация? Но мы уже приняли - на уровне интуициил
Поэтому можно (и нужно) опираться именно на нее, чтобы
войти в живой, а затем - и в отвлеченный смысл философствования
путем ее обнажения, экспликации и рационального высветления.
Ибо речь идет об обращении к тому, что уже есть в каждом из
нас, раз мы живы и жили, раз случалось и случается такое событие, как человек, личность. Что отнюдь не само собой разумеется
и не выводится анализом какого-либо списка проблем, предметов и законов, которые заранее считались бы философскими (и,
кстати, поэтому требовали бы доказательства).
Но если это так, раз речь изначально идет о таком событии,
то нам полезнее, видимо, понимать саму его возможность в
мире, чтобы понимать философские идеи и уметь ими пользоваться. Здесь и появляется интереснейшая завязка: наличие идей у
предполагает, что событие случилось, исполнилось, реализовалось, а в том, чтобы оно случилось реально, о-существилось,
должны участвовать в свою очередь идеи как одно из условий
возможности этого. То есть я предлагаю тем самым ориентироваться на такую, предварительно и независимо выделенную,
сторону нашей обычной жизни, характеристика которой как раз
и позволяла бы нам продвигаться в понимании и усвоении того,
что такое философия. Поскольку корни ее совершенно явно
уходят в тот способ, каким человек случается и существует в
мире в качестве человека, а не просто в качестве естественного -
биологического и психического - существа.
Это “человеческое в человеке” есть совершенно особое явление: оно не рождается природой, не обеспечено в своей сущности
и исполнении никаким естественным механизмом. И оно всегда
лицо, а не вещь. Философия имеет самое непосредственное, прямое
отношение к способу существования (или несуществования) этого
“странного” явления. Ее с ним со-природность и объясняет в ней
Л^е^ба^шнехьные замечания 9
все (ее методы, темы, понятия). Как объясняет она и наше,
особое, отношение к ней.
Я сказал: “определенньш способ существования”, “способ
существования определенных явлений”. Удерживая это в голове,
скажем так: в составе космоса есть всякое - звезды, пыль, планеты, атомы, жизнь, искусственные предметы “второй природа”,
коллективные сообщества, следы их преемственности - все. о чем
мы можем постепенно узнать и зафиксировать в языке (а узнав,
естественно, и забыть). Но есть еще и другая категория явлений,
внутренним элементом самого существования которых является с
самого начала то, о действии чего можно и, главное, приходится
говорить на специально создаваемом для этого языке (где даже
“забыть” тоже является историей и судьбой).
Последняя фраза намеренно построена так, как если бы я
сказал, что физика, например, это то, о чем говорят и чем занимаются физики. Ибо в каком-то смысле философия тавтологична
в “определении”: она занимается как бы сама собой - в двух
регистрах. Один регистр - это тот элемент нашей жизни, кото-
рьш по содержанию своему и по природе наших усилий является
философским. Поскольку философия не может складываться и
реализовываться в качестве жизни сознательных существ в их
человеческой полноте, если, наделенные сознанием, желаниями и
чувствительностью, эти существа в какой-то момент не
“профилософствовали". То есть не осуществили какой-то особый акт (или состояние), который оказывается различенным и
названным философским. И второй регистр - это философия как
совокупность специальных теоретических понятий и категорий,
как профессиональная техника и деятельность, с помощью которых нам удается говорить об указанном элементе и развивать
его и связанные с ним состояния, узнавая при этом и о том, как-
вообще устроен человеческий мир. Назовем первый регистр
“реальной философией”, а второй - “философией учений и
систем”. Поэтому фраза и была построена так: то, о чем приходится говорить на особо изобретаемом для этого языке,..
Иными словами, нечто уже есть и есть именно в истоках
подлинно живого и значительного в нас, в действии человекообразующих и судьбоносных сил жизни: время, память и знание
уже предположены. И тем самым уже дан и существует некоторый изначальный жизненный смысл любых философских
построений, как бы далеко они не уносились от него (в том числе
и в наших понятиях времени, памяти, знания, жизни). Но сама
возможность и логика экспликации того, что уже выделено и
“означено” смыслом, диктует нам особый, отвлеченный и связ¬
10 Введение # философию
ный язык (отличный как от обыденного, художественного или
религиозно-мифологического языка, так и от языка позитивного
знания). Хотя всегда остается соотнесенность одного с другим. И
она постоянно выполняется как внутри самой теоретической
философии, в ее творческих актах, так и во всяком введении в нее.
Теперь легко понять, чего можно ожидать, когда мы встречаемся с философией. А соответственно - ис “Введением” в нее.
Или - чего нельзя ожидать, какие ожидания и требования мы
должны в себе блокировать, приостановить.
Когда нам читают лекции по физике, химии, ботанике,
социологии или психологии, то мы вправе ожидать, что нам будет сообщена при этом какая-то система знаний и методов, и мы
тем самым чему-то научимся. Но в данном случае у нас нет такого права, и мы не должны поддаваться соблазну этого ожидания.
Философия не может никому сообщить никакой суммы и системы
знаний, потому что она просто не содержит ее, не является ею.
Поэтому и учить ей нельзя, обучение философии напоминало
бы в таком случае создание ‘‘деревянного железа”. Ибо только
самому (и из собственного источника), мысля и упражняясь в
способности независимо спрашивать и различать, человеку
удается открыть для себя философию, в том числе и смысл
хрестоматийных ее образцов, которые, казалось бы, достаточно
прочитать и значит усвоить. Но, увы, это не так. "Прежде -
жить, философствовать - потом”, говорили древние. Это относится и к чтению давно существующих философских текстов.
Хрестоматийные образцы должны рождаться заново читателем.
Приведенное выражение вовсе не означает поэтому какого-
либо преимущества или большей реальности прямого практического испытания опыта, немедленного удовлетворения его позывов,
по сравнению с отстраненным духовным трудом и его чисто мысленными “текстами”. Как если бы, когда к вечеру закатится круг
жизни, можно было, примостившись у камина, делиться удивительными богатствами пережитого, а на самом деле это были бы
лишь анекдоты или пикантные подробности. Сова Минервы так-
никогда не вылетит в сумерки, а лишь болтливая сорока.
Следовательно, сначала - только из собственного опыта, до
и независимо от каких-либо уже существующих слов, готовых
задачек и указывающих стрелок мысли - в нас должны естественным и невербальным образом родиться определенного рода
вопросы и состояния. Должно родиться движение души, которое
есть поиск человеком ее же - по конкретнейшему и никому заранее
не известному поводу. И нужно вслушаться в ее голос и постараться самому (а не понаслышке) различить заданные им вопросы.
Л^ъе^а^гшнельние замечания
11
Тогда это и есть свои вопросы, свои искания, свои цели. “Зрелый
час” - это ангел каждой минуты и дневной ясности.
А то, что эти вопросы (при том, что можно о них не знать)
оказываются именно философскими (ведь когда-то они стали
ими!), есть проявление того факта, что философ и философия
существуют.
попытаюсь прочитать вам курс по истории философии
так, чтобы это было одновременно и какой-то философи¬
ей. При этом, не зная ни степени ваших знаний, ни того,
что вам преподавали в течение пяти лет до меня, я, естественно,
постараюсь не забыть об этом.
Итак, приступим к историко-философскому введению. Такое
введение, разумеется, нельзя сделать без какого-то понимания
самой философии - зачем она, и как это, вообще, случилось, что
люди философствуют. В интуитивном смысле, то есть без особых
каких-то доказательств и объяснений, мы в общем-то узнаем
философию тогда, когда она появилась. Даже не зная, что такое
философия, узнаем, что вот это - философия. Хотя ответить на
вопрос - что это такое? - не всегда можем.
Философия появилась в VI веке до н.э., когда фактически
одновременно в разных местах людьми с определенными именами
были выполнены какие-то акты, которые и были названы философскими. Скажем, слова и тексты Гераклита, Фалеса, Парменида или Анаксагора, Анаксимандра, Анаксимена, Платона (это я
уже приближаюсь к У-1У вв. до н.э.). Но начало - в VI веке. И
аналогичные акты, совершенные Буддой, мы тоже узнаем как
философские, хотя это более сложно, потому что в данном случае
примешивается появление религии. В Конфуции мы узнаем
философа. Причем, появление всех этих философских акций в
разных местах не было связано. Можно лишь сказать, что все
они появляются на фоне предшествующих тысячелетий мифа.
Значит, мы знаем пока две вещи. Во-первых, что это философия, хотя не знаем, что такое философия, и, во-вторых, знаем,
что она появляется на фоне мифологической традиции или
мифологической истории. Повторяю, в случае философии перед
Тбилиси, 1986 г.
Появление философии на фоне мифа
12 Введение в философию
нами некий самостоятельный акт мышления, в котором мы не
чувствуем какой-либо ритуальной или священной окраски, не
можем отнести ее к мифу и ритуалу, а относим к автономной
теоретической мысли, называя эту мысль философией или мудростью, с феноменом которой всегда связано имя. А когда говорим о знаниях, которые заложены в мифе, то имен не называем,
полагая, что это какие-то организованные способы поведения и
знания человека - не практические, а скорее духовные. Мы ведь
не говорим, кто их выдумал, кто помыслил; миф - это упакованная в образах и метафорах и мифических существах многотысячелетняя коллективная и безымянная традиция.
Следовательно, уже на уровне интуиции мы узнаем акт философствования как акт некой автономной, не ритуальной мысли, и одновременно знаем имя. Второй шаг - имя. Кто?! И оказывается - датируется. Философия в отличие от мифа уже
датируется, она индивидуальна и датируема.
Но пока, повторяю, мы ничего не знаем о характере самой
мысли. Мы знаем лишь, что слово “мудрость" в случае философствования - феномен самостоятельной мудрости, имеющей имя,
которая не вырастает из традиции, хотя сама в свою очередь
тоже способна породить традицию^ Однажды возникнув, философия порождает свою традицию, и может даже оформляться в
виде каких-то форм социального существования философа, так
называемых школ. Скажем, был Сократ и его ученики, был Платон и появилась платоновская Академия, в случае Аристотеля -
Лицей и т.д. Передача знания совершается при этом от учителя к
ученику, от ученика к другим ученикам и т.д. Или, например.
Будда. Вы знаете, что и сегодня существует буддийская община.
Значит, возникают социальные формы, внутри которых в виде
традиции существует уже не миф, не ритуал, а философия. То
есть определенный тип размышления, определенный тип текста,
передаваемого другим, комментируемого другими и составляющего их занятие и призвание.
Но пока перед нами, поскольку мы не знаем, что такое философия, просто тексты, которые что-то утверждают о мире.
Фалес, например, говорил, что мир состоит из воды, для Гераклита первичным “веществом” мира является огонь и т.д. Все это
некие абстрактные принципы, посредством которых люди понимают мир. Зацепимся, чтобы разобраться в том, что произошло
и как появилась философская мысль, за слово “понимание”.
Вот я сказал: “понимают мир”, изобретая и формулируя тем
самым какие-то принципы. Вода, огонь, атом, число. У пифагорейцев число - первичный принцип мира. Что это значит, что
Лолвление философии на фонеииира 13
философия начинается с акта понимания мира? Означает ли это,
что предшествующие образования сознания и культуры, называемые мифом, не есть способ понимания мира? Или, переворачивая вопрос, зададим его в несколько, может быть, странной
форме: каким должен предстать перед нами мир, чтобы о нем надо
было философствовать? Очевидно, когда мы говорим о философии
или теории, или мысли, то говорим о чем-то, что является проблемой. Ведь это проблема: каков мир? Уточню свой вопрос: каким
должен быть мир, чтобы о нем надо было философствовать? Пока, я думаю, непонятно, что я сказал. А я хочу сказать следующее
- сама идея о том, что может бытьпроблема мира или сам мир
может стать проблемой, есть исторический акт, историческое
событие в том смысле слова, что это не само собой разумеется.
Что не само собой разумеется? Что мир вообще есть проблема. Поскольку, чтобы что-то стало проблемой, нечто должно
быть непонятным. Так ведь? Если есть слово “проблема”, значит, имплицировано, что что-то непонятно. Или можно выразиться иначе. Выступление чего-то в непонятном виде есть историческое событие, а не существование, которое разумелось бы
само собой. То есть нам сейчас кажется само собой разумеющимся, что вещи представляют для нас проблему. Но уверяю вас,
что это не всегда было так. И сейчас вы поймете, что я имею в
виду. Миф, ритуал и т.д. отличаются от философии и науки тем.
что мир мифа и ритуала есть такой мир, в котором нет непонятного, нет проблем. А когда появляются проблемы и непонятное -
появляются философия и наука. Значит, философия и наука, как
это ни странно, есть способ внесения в мир непонятного. До философии мир понятен, потому что в мифе работают совершенно
другие структуры сознания, на основе которых в мире воображаются существующими такие предметы, которые одновременно
и указывают на его осмысленность. В мифе мир освоен, причем
так, что фактически любое происходящее событие уже может
быть вписано в тот сюжет и в те события и приключения мифических существ, о которых в нем рассказывается. Миф есть
рассказ, в который умещаются человеком любые конкретные
события; тогда они понятны и не представляют собой проблемы.
Но при этом мифические и религиозные фантазии, и я хочу
это подчеркнуть, порождались не потому, что человек якобы
стремился “заговорить” стихийные и грозные силы природы. Не
из страха невежественного человека, который не знал законов
физики. Наоборот, миф есть организация такого мира, в котором, что бы ни случилось, как раз все понятно и имело смысл. Вы
скажете - метафорический. Да, конечно, метафорический, но это
14 Введение в философию
- смысл. Смысл, который делает для меня предметы понятными и
близкими. Он вписывает их в систему моей жизни или в систему
культуры. Миф ритуально близок человеку, потому что в ритуале
он общается с незнакомыми, далекими и таинственными существами как близкими и родными, настолько близкими, что на их
волю, на проявление их желаний можно подействовать актами
ритуала, заклинания, актами магии. Магический мир, как и мифический мир, есть мир освоенный, осмысленный, понятный. То
есть события в этом мире, будь то землетрясение, гроза, войны
или что угодно, осуществляются в воображении наблюдающего
их человека так, что они являются носителями смысла. Если человек, например, понимает Зевса, то он понимает и молнию. Ибо
Зевс - это существо, как и человек. Одно существо понимает человекоподобное существо, а именно - бога. И тогда все проявления
неизвестных человеку сил в мире могут быть осмыслены путем
приписывания их известному, доступному и понятному мифологическому образу. Только с одной разницей. Мифологическое
существо способно на то, на что не способен человек. Следовательно, мифологические существа живут в каком-то особом пространстве. Они соединяют в себе то, что в человеке не может
быть соединено. Например, жизнь и смерть. Для человека, когда
есть жизнь, нет смерти, а когда наступает смерть, нет жизни. А в
мифических существах это связано. Они или бессмертны, или,
умирая, воскресают, перевоплощаясь в другие существа.
Или в мифе фигурируют, скажем, зооморфные и одновременно человекоподобные существа, которые созданы так, что, являясь носителями природных качеств, имея мускулы, нервы, чувствительность, в то же время обладают такими качествами,
которых в природе нет, то есть сверхприродными. Но почему-то
и эти существа играют важную роль в человеческой жизни,
выражающуюся в том, что они могут ее организовывать. Почему-то посредством их человек придает своей жизни какой-то
смысл, делает ее соизмеримой с самим собой. Ибо что такое
понимание? Понимание есть в принципе нахождение меры между
мной и тем, что я понимаю, - соизмеримость. Ведь, если я сказал,
что молния - знак божественного гнева, то я выполнил операцию соизмеримости. Молния - носитель смысла. Даже будучи
божественным, смысл соразмерен моей способности понимания.
В этом смысле я участник чего-то. Значит, миф - это мир
соучастия, понимания вещей, предметов, сил. Почему же миф
может выполнять подобную роль придания смысла человеческой
жизни, когда человек овладевает какими-то своими природными
силами и определенным образом канализирует их?
Лолвление философии на фоне мифа ] 5
Вот этот пункт пока не ясен, но зацепившись за него попробуем все же идти дальше, чтобы понять не только то, что предшествовало философии, но и саму философию. Не думайте, что я
ухожу от предмета, поскольку перед этим говорил о мифе, а сейчас
вдруг начинаю говорить о философии. Постепенно, как это бывает обычно во время судебной процедуры, когда адвокат задает
вопросы, чтобы разобраться в сути дела, мы также по ходу дела
разберемся в наших вопросах, свяжем их. Но прежде я сформулирую такой тезис: философия может быть пояснена одновременно с пояснением, что такое человек.
То есть непонятное и неясное я буду пояснять другим, столь
же непонятным, поскольку мы не знаем ни того, ни другого: ни
что такое философия, ни что такое человек, и, более того, нельзя
дать и формального определения ни того, ни другого. И все же я
попытаюсь постепенно одно непонятное объяснить другим
непонятным. Возможно, взятые вместе, в каком-то движении
мысли, они высветят что-то. И, возможно, благодаря этому мы
продвинемся вперед и нам откроется прогалинка, какая-то светлая поляна. Имея в виду, что появление философии и само ее
содержание в качестве особого явления связано внутренне со
спецификой феномена человека в природе.
Так в чем же состоит эта связь, способная прояснить нам появление философии на фоне мифа? Человек, на мой взгляд, - это
существо, которое есть в той мере, в какой оно самосозидается
какими-то средствами, не данными в самой природе. Или, другими словами, человек в том человеческом, что есть в нем, не
природное существо, и в этом смысле он не произошел от обезьяны. Человек вообще не произошел ни из чего, что действует в
природе в виде какого-то механизма, в том числе механизма
эволюции. Хотя он четко выделен на фоне предметов, составляющих природу и космос, тем, что мы интуитивно называем в
нем человеческим. Но это не может быть приписано по своему
происхождению никаким механизмам ни в мире, ни в биологии,
ни в самом человеке. Повторяю, человек есть существо, которое
есть в той мере, в какой оно самосозидается.
Уже с самого начала мы имеем здесь, следовательно, разрыв,
пропасть между культурой и природой. И скажу мимоходом
(предваряя дальнейшее, к этому я еще вернусь), что миф - это
тщательно разработанная система нейтрализации оппозиции
“культура-природа”. Мифические существа - мифичны, то есть
реально их нет. Но это существа, способные на невозможное. В
них нет названной оппозиции, поскольку они и природны, и
культурны одновременно, сверхъестественны. Но это мимохо-
16 введение в (ршософшо
дом. Вернусь к уже сказанному: человек не есть нечто, порождаемое природой в том смысле, что нет такого основания в природе, которое самодействовало бы и порождало своим самодей-
ствием в человеке человеческое. Человеку не на что положиться
вне самого себя. Нет гарантий, нет фундамента в природе для
человеческих состояний. В этом смысле человек есть существо,
висящее в пустоте, как бы случайное, не имеющее оснований.
Вдумайтесь в свой опыт или в тот опыт, который зафиксирован
в книгах, в историческом предании, то есть в том, что мы вообще
знаем об истории и что нам завещано и передано.
Ну, например, от чего зависит такое человеческое состояние,
как память, или такое переживание, как любовь, или привязанность к другим людям - к отцу, к матери, жене, к возлюбленной?
Известно, что мы состоим из праха, из материи. Что в данном
случае является прахом или материей? Материя - это способность наших нервов раздражаться, оставаться в состоянии раздражения, способность удерживать какую-то интенсивность самих ощущений. Наш природный аппарат, наша психика живет
по определенным природным законам, которые свидетельствуют,
что у наших чувств есть порог чувствительности, и сами по себе
(по законам природы) они не могут сохраняться, все неминуемо
рассеивается, ибо есть к тому же и законы энтропии, которые
действуют и на нашу память. Все физические процессы - а психика тоже физический процесс - подвержены вырождению. Как
говорят ученые, стохастические процессы массового разброса по
прошествии определенного времени неминуемо вырождаются. То
есть из порядка переходят в хаос. Скажем, мы почему-то возбудились, взволновались и само это волнение, может быть, прекрасно, но мы не можем в нем пребывать постоянно, так как это
зависит от присущих нам природных качеств. Проделайте такой
мысленный эксперимент. Вдумайтесь: вот если бы моя (или
ваша) память о любимом брате или сестре зависела только от
физической способности сохранять на определенном уровне саму
эмоцию воспоминания, то ведь по законам природы она неизбежно должна распасться. Не говоря уже о том, что за определенный порог чувствительности я вообще не могу при этом
выйти. И тем не менее я помню, могу сохранять привязанность.
Значит, феномен памяти не держится на сохранении лишь физических ее следов. По законам энтропии они рассеиваются. Или
должны быть как-то закодированы. У животного, например,
закодированы в инстинкте, в природном механизме, который
работает вместо индивидуальных решений. Животному в этом
смысле не нужно ничего решать. Вы знаете, что половая жизнь
Лолвление философии на фоне лшфа
17
животных сезонно отрегулирована: в марте или еще в какие-то
месяцы, не знаю (я не большой специалист в этой области), они
вдруг вступают в какой-то ритм жизни, который регулируется
вовсе не их выбором, не их переживаниями, а скажем так -
абстрактной магией чисел. Причем эти вещи отрегулированы в
пользу животного. Беременное животное не вступает в половое
общение с особью другого пола по генетическому механизму
жизни, а не потому, что оно знает, что этого не надо делать, что
это вредно. То есть вредаое и полезное заложено в самом механизме
инстинкта. А у человека этого нет. Следовательно, то, что он
может знать в качестве мудрого и полезного, он еще должен узнать. А если должен, то, естественно, что может и не узнать. Как
биологическое существо, он в принципе способен отклониться от
биологических законов, нарушить их, разумеется, себе во вред.
Тем самым я фактически говорю, что проблема истины (и мы
это дальше увидим) выступает для нас только на фоне возможности не-истины. У животного же нет возможности не-истины, и
поэтому нет проблемы истины. А у человека есть, потому что он
в качестве некоего живого особого существа способен и к не-истине.
Он вынужден устанавливать факты, они ему не даны. Например,
все мы знаем, чем мужчина отличается от женщины, но задумывались ли вы, что это значит? Вот я сказал - знаем: здесь есть
слово ‘‘знание’’, и оно кажется чисто формальным. Просто слово,
прилепленное к какому-то факту. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что животное действительно не знает разницу между
полами. Это дано в генетически заданном механизме инстинктов.
А человек знает в том смысле, что он это устанавливает. Скажем, сам факт так называемых сексуальных отклонений (причем
очень часто даже не известно, что это значит, но возьмем его
условно) говорит о том, что он нам не дан - он устанавливается.
Повторяю, факт сексуальной амбивалентности (так называемые
извращения), казалось бы. ясно говорит об этом. Но ребенок
должен сам узнать о различии полов ценой сложной психической
работы, работы фантазмов, работы построения; ребенок строит
теории, проясняя для себя разницу между “пустотой” и
“заполненностью" (я имею в виду различие половых органов,
простите меня за прозаизм), и только потом, с помощью
“теорий” устанавливает, что в этом действительно есть разница.
Память человеку не дана. Ее не было бы, если она зависела
от природного материала: от нашей физической способности
удерживать ее во времени. Не можем - рассеиваемся. И тогда...
вдруг понимаем. Что мы понимаем? Что миф, например, есть
способ внесения и удержания вс^-вррчрчт порушен того, что без
18 Введение в философию
мифа было бы хаосом. То есть миф есть способ организации и
конструирования человеческих сил или самого человека, а не
представление о мире - правильное или неправильное. Это мы
сейчас так его воспринимаем, потому что живем в рамках субъектно-объектного различения мира, в результате чего он предстает
перед нами как предмет, который мы должны познавать. А на
самом деле незнание нами чего-то в мире есть исторический
факт, а не естественный, само собой разумеющийся. Миф не
представление, а восполнение и созидание человеком себя в бытии,
в котором для него нет природных оснований. И поэтому на
месте отсутствующих оснований и появляются определенные
“машины” культуры, называемые мифом. Ритуал есть способ
введения человека в состояние, которое не длится природным
образом.
Сошлюсь на пример, который я уже как-то приводил, участвуя в одной из дискуссий. Это часть моей биографии, мое переживание, относящееся к детству, когда я жил в грузинской деревне, где мне приходилось часто наблюдать выполнение
ритуала оплакивания умершего. Вы знаете, что дети куда большие ригористы, чем взрослые, и очень абстрактные существа.
Мы сначала абстрактны, а потом конкретны, а не наоборот. И
уверяю вас, что абстрактнее всего мыслят дети. Они наиболее
ригористичны. Так вот, пример следующий: плакальщицы ведут
определенную мелодию и самим характером этой мелодии, способом выкриков и пения приводят окружающих в почти экстатическое, истерическое состояние, то есть к какому-то пароксизму ощущений. Это профессионалы, не имеющие никакого
отношения к конкретной смерти. ‘‘Раскачивая” переживание, сами они явно не переживают. Потому что если бы переживали, то
не могли бы выполнить то, что нужно. А мне это казалось лицемерием, бессмысленной выдумкой. И только повзрослев, я стал
понимать, что есть в этом все же какой-то смысл, потому что уже
сама по себе экзальтация чувств переводит участника ситуации в
лоно действия культурной памяти, культурного механизма. Ибо
без этого человек не мог бы оставаться в состоянии переживания. Ну огорчился - умер кто-то, и что потом? - по природе - забыл, конечно. Как говорил один наш толковый лингвист Кнорозов (он хороший образ сформулировал) - петух не помнит о
тревоге, которая была вчера. А она ведь была - он кричал, трепыхал крыльями и всякое такое, был в экстазе и - не помнит. Так и
человек, уверяю вас, тоже не помнил бы. То есть не мог бы пребывать во времени и определенном состоянии памяти (в данном
случае я о памяти говорю), если бы не было другого подспорья.
Лоя&шше философии на фоне мифа 19
Следовательно, мы понимаем теперь, для чего люда занимаются ритуалами. Ритуалы всхлестывают нашу чувствительность,
переводя ее в бытие культурной памяти, и благодаря этому живут
человеческие чувства или то, что мы называем в человеке человеческим. Ибо сами по себе они не существуют, не длятся, их дление
обусловлено наличием мифа, ритуала и пр. Человек есть искусственное существо, рождаемое не природой, а само-рождаемое
через культурно изобретенные устройства, такие как ритуалы,
мифы, магия и т.д., которые не есть представления о мире. Не
являются теорией мира, а есть способ конструирования человека
из природного, биологического материала. Хотя одновременно
человек состоит из праха, но не в том смысле, что мы умрем. Нет,
прахом в данном случае я называю вот то, как устроены наши
нервы, способность что-то помнить или не помнить, возбуждаться или не возбуждаться, наши силовые проявления. Человеческое же на всем этом держаться не может. Что же такое человеческое? -То, что мы интуитивно узнаем в себе как человеческое.
Человечно любить отца и мать. В то время как животные, кошка, например, как известно, вообще никого не любит, ни к кому
не привязана. Она помнит дом, и только кажется, что полна
человекоподобных состояний и ощущений.
Значит, я резюмирую: есть какие-то способы внесения порядка в нечто, что само по себе, по законам природы, порядком не
обладает, а было бы хаосом. И эти способы внесения порядка в
мир и в биологические состояния суть одновременно способ конструирования и воспроизводства человеческого существа как
такового, в его специфике. А его специфика заключается в том,
чтобы это нечто работало и производило соответствующий
эффект. Ведь я сказал, что у животных есть механизм, который
сам по себе регулирует их половую жизнь в определенное время
года и в выгодных для вида формах. Это как бы мудрость
эволюции, закодированная в самодействующем механизме. А
человеку в этом смысле не на что положиться, нет этого. Ничто и
никто за него не обеспечит полезного эффекта.
Итак, мы сделали несколько шагов и стоим на пороге определения, которое можно дать философии, как ни странно. Я описал вам некий культурный котел, в котором человек варится, и в
этом котле продуцируется нечто, природой не порождаемое. И
котел этот тоже человеческое изобретение. Мифы, ритуалы,
символы изобретены человеком. Только упаковано все это в
многотысячелетнюю историю, и “раскрутить’' ее почти что невозможно. Есть какая-то неизменная, на многие века и тысячелетия вглубь уходящая безымянная масса мифа. Но какие-то
20 Введемсе в философию
свойства ее все же можно описать и понять. Допусти, мы описали какие-то свойства (я назвал это котлом) и поняли, зачем
это. Что это особая какая-то упорядоченность или порядок, на
котором могут быть основаны человеческие состояния, сам феномен человека, хотя порядок при этом не есть акт природы.
Ибо актом природы произвелся бы только хаос, возник бы во
времени хаос и распад. Поэтому, кстати, такие явления, как
смерть, и стали синонимом или метафорой хаоса, распада, как и
само время в мифе тоже стало метафорой распада и хаоса.
То есть мы уже понимаем, что нечто человеческое появляется
в той мере, в какой устанавливается связь с чем-то вневременным. Так как само по себе время несет хаос и распад. А если есть
человек, то есть и какая-то упорядоченность. Например, память
и привязанность к кому-то есть разновидность порядка, воспроизводящегося над неупорядоченной жизнью. Нечто неупорядоченное со стороны природы, и упорядоченность с какой-то другой стороны. И я назвал эту сторону, но обратите внимание, как
медленно я менял термины. До этого я не пользовался термином
“вневременное”, а сейчас использовал его. Значит - какая-то
связь с вневременным, и эта связь конструктивна по отношению
к человеку. Она не есть просто представление о вневременном, а
какая-то конструктивная связь, чтобы человек раздался.
Следовательно, мы поняли две вещи. Что из хаоса человек
рождается через какую-то соотнесенность с вневременным. А что
такое вневременное? Очевидно, воспользуемся другим словом,
это - сверхприродное. Время - природою, а вневременное будет
сверхприродно. А что такое сверхприродное? Это сверхъестественное, так ведь? Значит, существует какая-то фундаментальная связь человеческого феномена со сверхприродным или
сверхъестественным, или вневременным, существенная для самого человека. Чтобы человек был - нужно с чем-то соотнесгась,
не в природе лежащем, а обладающим определенными сверхъестественными свойствами. Поэтому, кстати, мифические существа
сверхъестественны в обыденном смысле слова. Это, казалось бы,
человеческие существа и в то же время они способны на сверхъестественное. Например, они живут вечно, перевоплощаются, вызывают
молнию и гром, что воспринимается человеком как проявление
гнева и т.д. Следовательно, к чему мы пришли? Мы пришли к
тому, что можно выразить и иначе. Скажем так: человек от Бога.
Поскольку я изложил вам по сути теорию божественного
происхождения человека. Не природного - а божественного
происхождения. Или, другими словами, я сказал фактически, что
люди изобрели символы. Бог есть символ. Символ чего? В каком
Лол&хение философии на фоне мифа 21
смысле слова? Символ есть иносказание того, что я перед этим
описал без символа. Всякий символ есть не утверждение, а иносказание. Но раз иносказание совершено, человек может соотноситься с самим символом, не эксплицируя и не восстанавливая
все то, что в нем упаковано. Поэтому я и могу сказать: мы от
Бога. И все в общем ясно, если при этом еще разработать разные
технические процедуры этого соотнесения себя с Богом, на чем
основана наша мораль. Ведь мы только что установили, что мораль на природе не может быть основана. Естественнее - забыть,
а культура - помнит. По природе я забуду... но помню. Следовательно, моя память есть не что иное в этом случае, как нравственная, этическая связь между мной и предками. На чем она
основана? На чем-то вневременном или сверхъестественном.
Моральные нормы, которые действительно регулируют человеческое общение, имеют под собой божественное основание. То
есть могут быть религиозно обоснованы, и поэтому чаще всего
мораль всегда и выводилась из религии. Религия, первичная
религиозная связь и была как раз тем “котлом”, в котором вываривались и вырабатывались связующие людей моральные
нормы. В том числе и юридические или государственные связи.
Все эти способы упорядочивания, вопреки хаосу, соотносились с
некоей не природной или над природой лежащей основой.
И тем самым мы стоим на пороге философии. Теперь я могу
сформулировать вам основной вопрос философии. Очевидно,
знакомый вам оборот, но формулировка его будет совсем другая.
С акта задавания этого вопроса и датируется рождение философии и мысли - не мифа, не ритуала, а именно мысли. Вопрос следующий: почему в мире есть нечто, а не - ничто. Кстати, этот
вопрос фигурирует и в академических формулировках, скажем, в
античной философии. Я имею в виду тексты. Но пока я текстами
не пользуюсь, иду по смыслу. Так вот, повторяю: почему есть
нечто, а не ничто. Или переформулируем немного этот вопрос:
почему вообще в мире существует порядок или хоть что-то упорядоченное, а не - хаос. Тем самым это и будет определением
философии, которое содержится или подразумевается в этом
слове, потому что философия - это любовь к мудрости. Употребляя слово “мудрость”, греки обязательно соединяли его со словом “удивление”, считая, что любовь к мудрости, или философия
- рождается из удивления. Только слово “удивление” нельзя воспринимать в бытовом, психологическом смысле, на уровне обыденного языка: что вот я удивился чему-то. Это удивление другого рода. И с него действительно начинается философия. Это не
просто способность удивляться, а способность понять, чему мы
22 Ввеуение 6 философию
удивляемся, когда говорим о философии. То есть тому, как я сказал, что есть нечто, а не ничто. В каком смысле это удивление? В
том, что должно, казалось бы, быть ничто, а есть нечто.
Философия начинается с удавления, и это настоящее удивление
не тому, что чего-то нет. Скажем, нет справедливости, нет мира,
нет любви, нет чести, нет совести и т.д. Не этому удивляется философ. Философ удивляется тому, что вообще что-то есть. Ведь
удивительно, что есть хоть где-то, хоть когда-то, хоть у кого-то,
например, совесть. Удивляет не ее отсутствие, а то, что она есть.
Не отсутствие чести удивительно, а то, что она есть. Или не отсутствие морали. То есть удивительно то, что есть нечто. Что под
этим понимается? - Порядок. Нечто упорядоченное. Удивительно,
что есть нечто, а не хаос. Потому что должен был бы быть хаос.
Ноя сейчас сокращаю свою речь и заменяю все это символом
“божественное”, - вот все то, что я сказал отнюдь не в религиозных терминах. Когда я говорю - “Бог”, то это философский Бог
(это определенный “воляпюк’ в философии, а не религиозная
проповедь).
Итак, какое бы ни было основание - сверхъестественное,
вневременное и т.д., - мы символом зафиксировали факт нашей
принадлежности (в той мере, в какой мы люди) к вневременному
и божественному. Как бы то ни было, мысль-то ведь все равно
материальна, природна. Посмотрите, как устроен мир, и древние
так смотрели. Вот есть островки космоса, а человек бессмысленно воюет, предает, убивает, умирает. Не может собрать свою
жизнь, вообще не понимает ничего. Варвар, одичал. Это хаос.
Удивительно, что что-то есть? Ведь вообще ничего не должно
было бы быть, потому что человек есть человек. Природа! А все-
таки что-то есть. Вот откуда начинается мысль. Она в мифе -
что-то само собой разумелось и делалось через формальные знаковые механизмы культуры. Но проследить, каким образом сама
мысль о том, что это гак, стала орудием теории и философствования, очень трудно. И даже если бы я попытался это выполнить,
это ввело бы меня в очень сложное рассуждение, которое невозможно было бы удержать на слух. Поэтому я оставлю это в стороне
и беру просто как факт. Просто датирую, что философия или
мысль появляется с задавания одного вопроса: почему, собственно,
есть нечто, а не - ничто. Удивительно, повторяю, не то, что люди бессовестны, так должно быть, а вот - совесть - удивительно!
Это и есть первый основной и последний вопрос философии.
Все остальное организуется вокруг него. Теперь, я надеюсь, вы
понимаете, что, говоря о философии, мы имеем дело с самой
мыслью, с работой мысли, что ею выполняется нечто, без чего
ЛолСлеиие философии на фоне мифа 23
человека не было бы. То есть философия тоже оказывается способом его самосозидания. Это одно из орудий самоконструиро-
вания человеческого существа в его личностном аспекте.
Скажем, фраза Сократа, которая якобы принадлежала и
дельфийскому оракулу, гласит: познай самого себя. Разумеется,
это не значит - познай или узнай свои свойства, каков ты есть, к
чему склонен, к чему не склонен и т.д. в эмпирическом, психологическом смысле слова. Отнюдь. Познай самого себя на самом деле означает, что звезды, например, мы можем тоже, конечно, познавать, но это очень далеко от нас. И поэтому то же самое,
столь же существенное, что вытекает из познания звезд, можно
извлечь, углубившись в близкое, в себя. В каком смысле? В том,
что мы можем стать людьми. Ведь это невозможно - быть человеком, а бывает.
Или, например, нам доступен, близок феномен совести. Давайте углубимся в него, заглянем в себя - и через это, уверен, откроем основания человеческого бытия, потому что узнавая, мы
будем отвечать на вопрос, почему есть нечто, а не ничто. Почему
среди хаоса иногда бывают все-таки какие-то космосы, то есть
островки порядаа. Под космосом мы понимаем обычно всю необъятную Вселенную, а в действительности, и в языке, и в греческой
философской традиции космосом называлась любая маленькая
“фитюлька” (космос не обязательно большой), если она органично устроена и содержит в себе всю свою упорядоченность.
Так вот, человек есть микрокосмос, углубляясь в который,
мы можем, войдя в маленькое, где-то, на каком-то уровне вынырнуть и в большое. Поскольку основания ‘‘нечто” в каждом
человеке не эмпирические, не природные, а, как я сказал - вневременные, соотнесенные с божественным. Потом в философии
это назовут разными терминами, в том числе появится и кантовский термин - трансцендентальное. Это и будет первым актом
философствования, предполагающим определенного рода технику. Философия потому и важна, что она имеет какое-то отношение не просто к нашим представлениям о мире, а глубокую
связь с самим фактом существования человека. Поскольку если
философия есть изобретенное средство человеческого самосозидания, то тем самым предполагается, что есть и какая-то техника, потому что если что-то делается, то делается, конечно, с помощью техники. Какая же это техника?
Сейчас нам пока важно первое свойство этой техники. Первая
ее характеристика, которая потом будет повторяться все время в
истории философии, в ее содержании как таковой. Давайте вдумаемся в тот путь, который мы уже проделали в течение сегод¬
24 Звеу&ше 4 философию
няшней беседы. Я сказал, что природа нам не дает чего-то. И на
это место не-данности чего-то мы должны суметь подставить
или ввести некое неприродное основание, и око будет порождать
в нас человеческий эффект. Вдумаемся, что же здесь происходат?
Было ритуальное пение, экстаз, шаманство. Шаман - вы знаете -
он танцует и уходит в себя, а потом, после какого-то путешествия возвращается с какой-то истиной или предсказанием,
предвидением. Но это все милые детали, а нам важен смысл. А
смысл был такой, что фактически первые философы поняли, что
здесь, по отношению к природаым силам человека, его способности
испытывать определенные чувства, помнить что-то и пр., происходит то, что они назвали траясцендированием. Что такое трансцен-
дирование? Это выход человека за данную ему стихийно и натурально ситуацию, за его природные качества. Причем такой выход,
чтобы, обретя эту трансцендирующую позицию, можно было бы
овладеть чем-то в себе. То есть установить какой-то порядок.
Трансценденция и бытие
'так, трансцендирование. Продолжим эту тему, поскольку
иначе будет непонятно само появление философии и не-
_ясны ее последующие задачи, связанные с изобретением и
появлением массы понятий, проблем, поиском их решения, и т.д.
В этом эфире или стихии как раз и возникает философия, причем
в довольно странной ситуации, о которой я вам рассказывал.
Напомню, что это ситуация человека (имеющая последствия),
когда у него нет никаких гарантий, природных механизмов,
способных помочь ему автоматически стать человеком. В этом
смысле положение человека в мире не имеет природных оснований. А если есть основания, то только те, которые созидаются, и
в этом смысле человек и человеческая история суть история
самосозидания. Но это самосозидание (я просто резюмирую то,
что говорил) означает, что мы, живя в природе, ее трансцендиру-
ем. Те основания, которые мы под себя как бы подкладываем,
чтобы стать людьми, ищутся через выхождение человека за свои
собственные природные рамки или границы. Вот это выскакивание человека за естественный, природой регулируемый ход
событий, этот акт и стал называться трансцендированием.
Но при этом - что очень важно - хотя по смыслу слова
трансцендарование есть выхождение, преодоление себя, это не
означает, что трансцендируют к чему-то, куда-то - скажем, как
Щьакщенуекцил и бьипие 25
выходят из комнаты в коридор. В действительности эта
странная вещь описывается в философии так: мы трансцендиру-
ем, ‘"выходим из себя” - а куда? - Никуда. В том смысле, что нет
таких предметов (к которым ‘‘выходят’) вне мира. Мир ведь
состоит из природных предметов, которые мы видим, и, казалось
бы, если я выхожу за эти предметы, то выхожу к каким-то другим,
которые от первых отличаются только тем, что они - святые,
сверхъестественные. Помните, я рассказывал вам в прошлый раз,
откуда появляется символ Бога или идея Бога (не Бог, а идея
Бога или символ Бога), и говорил о сверхъестественной или
сверхопытыои реальности. Так ведь? Значит, рядом с какими-то
обычными вещами должны полагаться еще какие-то другие,
особые, сверхприродные или сверхопытные вещи. Ведь все, что
находится в мире, дано нам в опыте, опытным путем, и, следовательно, если я говорю о чем-то другом, значит, это существует по
ту сторону опыта. Что - по ту сторону опыта, если пользоваться
традиционной терминологией? - Ну, конечно, мифические
существа, боги. Они предметы нашей веры - не опыта, а веры.
Так вот, философия, в отличие от мифа и первых религий,
появляется с принципиального отрицания того, что существуют
(так же как существовали бы вещи, на таком же основании) еще
и сверхвещи. Или, другими словами, с сознания того, что человек
в отличие от барона Мюнхгаузена не может вытащить сам себя
из болота. Нужна какая-то точка; а всякая точка, на которую
человек может опираться, - в мире. Человек не может выскочить
из мира, но на край мира он может себя поставить. Посредством
чего? С помощью совершенно особой вещи, которая появляется
только в философии, и которую я назову так: пустое понятие. То
есть понятие, которое не имеет предмета 51. следовательно, действует в качестве символа. Человек, стол, дерево, здание и т.д. -
все эти слова имеют предметы. С их помощью мы обозначаем
предметы в мире. И эти предметы доступны нам помимо слов, на
опыте. А в случае символа - иначе.
Следовательно, у слов есть два критерия. Во-первых, само
слово, и, во-вторых, доступность значения предмета слова помимо слова. Тогда слово мы понимаем. Так ведь? Мы под слова
подставляем предметы и тем самым выполняем еще одну операцию. Есть операция, осуществляемая с помощью слова, и есть
еще вторая операция (необходимая для него), которая не является словом, а есть указание. Например, я показываю на этот
находящийся в моей руке стакан, когда помимо слова выполняю
еще акт давания стакана, где? - в опыте. Большинство наших
слов или все слова таковы. В том числе и слова, обозначающие
26
Введение в философию
эмоции, чувства, хотя на чувства и эмоции нельзя указать пальцем. Но тем не менее на эти состояния, переживаемые реально,
тоже можно сослаться. Ведь что я сейчас делаю? Я объясняю вам
не стакан, а слово “стакан" в качестве знака. Я говорю, что для
него нужна операция указания на опыт и, следовательно, ссылаюсь на ваш опыт оперирования словами и указания на предметы. То есть объясняю не стакан, а употребление слова
“стакан", хотя в самом употреблении - это не вещественный
предмет, который можно было бы пощупать, но опыт употребления есть. И я, ссылаясь на него, как бы объясняю, что такое
слово вообще. Значит, можно объяснять конкретные слова, ссылаясь на опыт, а можно и абстрактные слова. Слово вообще.
Слово “вообще”, я могу тоже объяснить, хотя его нельзя, конечно, пощупать. Но оно все равно основано на опыте.
А есть слова (и они часто встречаются в философии), не
имеющие предмета, который мог бы быть дан помимо слова на
опыте. Например, одним из таких предметов является слово
"Бог", встречающееся в религии. Такого предмета нет, как известно. Но это не единственное слово, у которого нет предмета.
Скажем, у Платона в свое время появилось слово “душа", а у
Декарта - “врожденное знание''. Это слова что-то, казалось бы,
обозначающие. Но обозначающие не предметы. Души нет, как и
врожденных идей. То есть нет таких идей, которые лежали бы в
нашей душе, как в колодце могут лежать камушки. Пока я только предупреждаю вас о том, что в философии в принципе допустимо существование слов с особым значением, без указания на
какие-то предметы опыта. Поскольку мы получили слова,
имеющие сверхопытное значение, относительно которых
существует предупреждение небуквального понимания. Я
говорю: “душа" - но не понимайте меня буквально! Или я говорю: “знания нам врождены" - не понимайте это буквально. Я
говорю: “идеи (на языке Платона) воплощаются в вещи" - не
понимайте это буквально. А как правило, по привычке мы ведь
буквально это понимаем, считая, например, что Платон якобы
был идеалистом и полагал, что материальные вещи или материальный мир порождаются идеями, что вещи рождаются в акте
мысли. Как-то сомнительно... Неужели он был такой дурак?
Так вот, сказав слово “дурак", я тем самым сделаю еще одно
предупреждение: в обычных человеческих ситуациях существует
такое правило, как вежливость - допущение, что другой человек
не хуже тебя и не дурак. Значит, есть запрет ка какие-то вещи,
которые тебе приходят в голову относительно другого человека.
Даже если они тебе пришли в голову, ты не должен их выражать
УЩишсценуенцил и бьиние 27
или давать почувствовать. Запрет! И в философском деле есть
это правило (также как и в юриспруденции, где аналогом вежливости является допущение отсутствия вины, если она не доказана, презумпция невиновности). А в философии есть презумпция
ума. По определению, если берешь книжку в руки, то каким бы
роковым именем ни назывался автор, Платон или кто-то еще -
существует презумпция, касающаяся ума философа. И поэтому,
очевидно, не случайно сито истории устроено так, что многое
оно отсеивает, но все, что должно было остаться, - остается. Все
забытое - должно быть забыто, а все, что достойно памяти -
помнится. Ничего не пропадает в этом смысле слова. Хотя рукописи, конечно, горят, это ясно. Но - это уже совсем другое.
Итак, презумпция ума - как простое и гигиеническое правило вежливости, если мы еще не понимаем, о чем идет речь. Например, Платон говорит, что вещи - продукты идей. А правило
презумпции ума предупреждает: простите, не может быть, чтобы
он имел в виду, что акты мысли порождают вещи просто по
смыслу этой фразы. Мысль порождает вещи? А может быть, он
что-то другое хотел сказать? Что же это другое? И тогда, гигиенически обезопасив себя от собственной глупости, мы можем начать понимать.
Значит, я фактически сказал следующее: тот язык, с которым
мы сейчас будем иметь дело, во-первых, содержит в себе особые
термины и слова, и, во-вторых, эти слова и термины указывают
на то, что я назвал трансцендированием. То есть философия в
этом смысле, ее язык, на котором она о чем-то говорит, содержит
понятия, описывающие акт трансцендирования, который совершается в бытии человеческого существа (а отнюдь не в философии). потому что человека без трансцендирования нет. Его нет
без выхода за рамки природно-данного и без построения чего-то
другого, например, ритуала, подобно машине также производящего в человеке человека или в животном человека.
Я уже говорил, что мифы суть машины человеческой памяти.
Не в том смысле, что они coдqэжaт информацию о чем-то реально происшедшем - вы знаете, что в мифе не рассказывается о реальных событиях, поэтому миф и называется мифом. Так что не
в том смысле память, что в таком-то году была битва на Калке, в
таком-то году Куликовская битва и т.д. Разумеется, не в этом.
Ибо миф есть память о том, чего не было и нет; память в смысле
машины, которая организует саму способность человека помнить. У человека, который живет в мире мифа, сознание организуется таким образом, чтобы он вообще помнил. Помнил
предков, знал бы разницу, например (как у Леви-Стросса), между
28 Введение в философию
“сырым'’ и “вареным1'. Ибо что такое сырое и вареное? Это мифический рассказ о том, что и как мы едим. Ведь не сырое мясо
мы едим, а вареное. А это уже культура, а не природа. Через поедание, в частности, вареного мы произошли. И миф закрепляет
этот факт напоминанием об источниках нашего человеческого
происхождения. Мифический рассказ есть память именно о такого рода событиях, которые суть не конкретные события. Не о
них идет речь.
Повторяю, так называемое трансцендирование происходит
на деле в бытии человека, без него нет бытия человека как человека. И язык философии содержит в себе слова (уже иного происхождения), которые также не имеют конкретного предмета, а
указывают непосредственно на совершающиеся акты трансцен-
дирования. И в этой связи я дам еще одно определение философии: философия есть учение о бытии. Почему о бытии? Потому
что бытие - это то, чего нет без трансцендирования или внепри-
родных оснований, поскольку последние не просто какие-то
предметы. Бытием называется нечто, что есть только в этом
сцеплении человека с не данными природой основаниями. Это
бытие. Следовательно, всякий разговор о том, о чем я сейчас говорил, есть философия. Философия есть учение о бытии.
И третье определение отсюда вытекает, определение все того
же. Сейчас я его дам, а потом вернусь к первому, чтобы закрепить сказанное.
Третье определение простое. Я сказал: философия есть учение о бытии. Что мы описываем в качестве бытия? Нечто, что
зависит от какого-то акта, совершаемого человеком. Но это нечто, не только человек, а одновременно и бытие человека; его не
может быть без какого-то отношения. Поэтому я бы сказал так:
бытие есть существование такого существа, которое способно
позаботиться о своем существовании. А как можно заботиться?
Это и значит иметь отношение. Вот, допустим, стакан - обладает ли он таким свойством? Со стаканом этого не случается, а с
другими вещами - случается. Например, чтобы была память,
нужно отношение к тому, что в принципе производится вне памяти. Ибо память не совокупность предметов, содержащихся в
памяти, а условие того, что вообще может что-то помниться. Или
любовь есть не только отношение к конкретному предмету, но и
условие того, что вообще нечто может любиться, - в смысле человеческой привязанности, которая, как я вам показывал, не
имеет природных законов. То есть не может, в качестве содержания чувства, зависеть от игры природных состояний. Поскольку
мы не можем поддерживать один и тот же уровень внимания: не
У/Цгана^енуенция и ¿ьиЯие 29
можем одинаково остро волноваться, помнить и т.д. Это организуется иначе. Значит, есть какие-то принципы - не вещей, а
принципы организации, которые лежат в основах нашего сознания. И туда направлена философия - в сами основы нашего сознания; и о них она говорит.
Видите, списывая вам бытие, я употребляю термин сознание.
Или понимание. Я сказал, что философия есть учение о бьггаи, и
при этом показал, что бытие - это такая вещь, которая содержит
в себе мышление. Следовательно, я могу дать третье определение: философия есть наука или учение о мышлении.
Итак, первое определение: философия есть учение о философии. Предметом философии является философия. Второе определение: предметом философии является бытие. Философия есть
учение о бытии. И третье определение: предметом философии
является мышление, философия есть учение о мышлении. О каком мышлении? Учитывая, что психология тоже занимается
мышлением, я уже не говорю о логике. Нет, мышление - это состояние, связанное с бытием и являющееся условием каких-то
других человеческих состояний. Вот в качестве такового оно и
есть предмет философии. Благодаря этому и появилась в свое
время в философии идея, выражающая тождество мышления и
бытия. Это одна из начальных формул философствования. К ней
можно относиться по-разному, в зависимости от нашей умственной
резвости. Но что бы мы ни придумали, смысл здесь только один.
Сошлюсь, в частности, на формулу Парменида (аналогичные
вещи не в этой форме, а в другой, высказывались во всех исходных философиях, в том числе и в восточной). Что, разве Парменид действительно имел в виду мысль о вещи, говоря, что бытие
и мысль одно и то же? Нет, конечно! “Одно и то же бытие и
мысль, его узнающая*'. Это один из возможных канонических
переводов мысли Парменида, начальной философской мысли.
Понимаете, о чем идет речь? О существовании, которое зависит
от моей озабоченности этим существованием. То, что я узнаю,
есть то же самое, что и мысль, посредством которой я это узнаю.
Бытие тождественно мышлению именно в этом смысле, а не в
том, что какая-то идеальная сущность, какое-то ментальное содержание мысли было бы тождественно тому, о чем эта мысль
(этого философы никогда не говорили).
Хорошо, кажется, я исчерпал все определения философии, в
смысле разумных, конечно. Потому что могут быть и другие, которые сейчас приходят на ум, но философия, как и вообще всякая мысль, содержит в себе, как ни странно, просто предельное
выражение условия человеческого общения. И если я присвоил
30 Введение 4 философию
себе право профессора, а вы имеете лишь право слушать, то тем
самым я гарантирован от того, что ничего из пришедшего вам в
голову вы не сможете высказать. Представляете, если мы каждый
раз все, что придет в голову, сразу высказывали бы! Ведь человеческая мысль может идти миллионами разных путей, и нет такого ответа, на который не было бы тысячи вопросов. Если бы все
это так клокотало - был бы ад.
Повторю еще раз: учение о бытии, учение о мышлении и учение о философии. Вернусь к последнему определению, или, точнее, к первому, поскольку оно может быть самым непонятным:
предметом философии является сама философия. Слово
“философия” употребляется здесь в двух разных смыслах. То есть
в определительной части оно немножко другое. Философия - и в
этом суть дела - существует реально как часть нашей жизни в
той мере, в какой мы сознательные существа (сейчас я это поясню, введя еще одно понятие). Что значит: ‘Ъ той мере, в какой
мы сознательные существа”? Это значит, что язык, на котором я
обращаю внимание на это, рассказывая об элементе, который в
качестве реальной философии есть в самой жизни, - этот язык,
на котором мы говорим об этом, и есть та философия, которую я
называю философией учении. То есть философия учений имеет
своим предметом философию, и она как бы встроена в наше
существо. Ведь мы совершаем акты философствования в реальном смысле слова, а не только тогда, когда художник, например,
пишет картину, поэт сочиняет стихи или Цезарь переходит
Рубикон. Мы совершаем их, когда совершаем поступок, выделенный из всех остальных. Следовательно, в философии мы
имеем дело с категорией личностных поступков. Философия, как
это ни странно, появляется там, где появляются личностные
структуры. Только при восприятии слова “личность” нужно избавиться от всех обыденных ассоциаций, которые автоматически
приходят нам в голову и при этом организованы вокруг экзаль-
тирования индивидуальных отличий.
От всех этих ассоциаций нужно избавиться, чтобы понять, о
чем идет речь. И, кстати, это очень просто сделать. Достаточно
вслушаться в то, что мы говорим. Слова в нашем языке (я не
устаю это повторять) существуют не случайно. Ведь человеческий
язык - самое кумул ^*вное явление, какое только существует, то
есть самое “напичканное умом”, упакованное внутри истории. У
слов есть ум - не наш ум, отдельных людей, которые произносят
слова, а ум самого языка. Для массы оттенков наших эмоций,
мыслей, вещей существуют тысячи слов. И они не случайно существуют. Вот, например, мы говорим: человек совершил такой-то
Щшнсценд&щил и бьипие 31
поступок. Мы оцениваем это по-разному, считая, скажем, что он
поступил так, потому что он мусульманин. Или, он поступил
так, потому что - грузин. То есть согласно каким-то обычаям
культуры, к которой он принадлежит, по каким-то нормам религии или нравственности, которым он следует. А иногда, или,
вернее, чаще всего мы говорим: человек поступил так, потому
что что-то хотел или стремился к тому-то. Что мы имеем в виду?
- Интерес. Значит, мы приписываем человеку, во-первых, идеи,
нравы и обычаи культуры, к которой он принадлежит, и, во-
вторых, - интересы. Мы понимаем, что поведение человека диктуется каким-то интересом, стремлением к чему-то. И я могу еще
бесконечно перечислять - добавим к этому, скажем, категорию
удовольствия/неудовольствия. Вот поступил, потому что хотел
есть, например, искал какого-то состояния удовольствия, которое избавляет от другой ситуации, от ситуации неудовольствия.
Значит, интересы, нормы культуры и т.д.
Но, оказывается, есть еще одна вещь, без которой слово
‘‘личность” просто не существует. Эмпирические интересы, желания, удовольствие и вдруг - поступок, который не вытекает из
всего этого, и тогда мы говорим: личностное основание. Поступил как личность. То есть не по удовольствию или ненеудо-
вольствию, не по шггересу, предмет которого находится вне человека, вообще не по какому-то внешнему основанию его
поведения - норме, закону, обычаю. Ничего этого нет, а поступок есть - поступил личностно. Он поступил, сам взяв на себя
весь риск, всю ответственность, не имея на то никаких оснований, кроме самого поступка.
Личностное поведение, личностный поступок... Тем самым
фактически я добавил еще одно определение к определению бытия. Все, что я говорил о бытии, об этом теперь можно сказать и
по-другому. А именно - то, что имеется в виду под бытием в философии, есть салюбытие. Ибо что такое личность? Это нечто,
что не имеет никаких других оснований, кроме самого себя, то
есть - само-бытие. О чем говорит философия, когда говорит о
бытии? О самобытии. Философский язык связан с языком личности и личностной структуры, которая отличается тем, что это
- самобытийствующая структура в том смысле, что основание ее
и есть она же сама. Если мы возьмем появление философии на
фоне традиции, на фоне мифа и т.д., то совершенно ясно увидим
выделенность в истории философских мыслей и актов в качестве
способов утверждения личностного бытия или само-бытия человека (если будем, конечно, смотреть на этот феномен, имея з уме
хоть какое-то интуитивное понимание слова “личность”).
32 Введение в философию
Сократ - явно личлостъ и - философствует; а, может быть, тот
факт, что он философствует, связан с тем, что он конституирует
себя в качестве личности? То есть я хочу сказать, что философия
есть конститутивный элемент объективного бытия в мире личностных структур. Если под личностной структурой понимать
то, что вне данной культуры, вне данных обычаев, вне данной
традиции, вне данных общественных установлений, нравов и
привычек. Что не основано ни на нравах, ни на обычае, ни на
традиции. А на чем? На самом себе. И если в истории зафиксированы такого рода акты, то мы всегда рядом с ними находим
философский язык. Язык мудрости.
Фактически я теперь новым словом назвал то, о чем перед
этим рассказывал, используя заумный термин “трансценденция”.
Это неуловимый акт, который ухвачен описанием чего-то, что
мы можем примерно знать. Личность есть нечто трансцендентное по отношению к культуре, по отношению к обществу. И тем
самым универсальное в смысле человеческой структуры, потому
что различаемся мы нациями, культурами, государствами, а совпадаем (если совпадаем) в той мере, в какой в каждом из нас есть
личность. С ирокезом меня и вас может связывать только одно -
если в нем и в нас заговорит личность. Тогда мы люди, универсальные существа. Все же, что в ирокезе основано на “ирокезском”,
- не есть личностное, а есть то, что меня от него отделяет. А то,
что не основано ни на культуре, ни на традиции, ни на обычаях,
а основано на самом себе, является личностным и включает тем
самым меня в качестве другого лица, лика.
Теперь я сформулирую еще один основной вопрос философии,
под знаком которого она занимается своим предметом. А именно
- бытием, мышлением. В философии есть предмет, а вопрос, под
знаком которого она занимается своим предметом, я в прошлый
раз сформулировал так: почему есть нечто, а не ничто? И соответственно - удивление: чудо какое, что есть все-таки что-то!
Теперь я могу дать другую формулировку этого вопроса, поскольку я ввел понятие личности, содержащее, по определению,
лик или многоликость, возьмем так. Из чего будет ясно, что, хотя мы и универсальны (если я окажусь личностью, а не просто
грузином), - но совпадем как люди - и будем совпавшеобразны-
ми личностями. Вопрос такой: почему есть многое, а не одно?
Вот, пожалуй, все, больше в философ™ нет вопросов, кроме этих
двух (или фактически одного - в двух разных формулировках).
Остальное просто развитие этого. Многообразное, с многими
понятиями, проблемами и пр., но вопрос - один, или, если хотите, два. Почему есть нечто, а не ничто, и почему есть многое, а не
УЩшнсцену&щил и ¿ьание 33
одно? Сейчас я поясню эту вторую формулировку: почему есть
многое, а не одно, и почему это связано с самобытием, или с бытием. Это одно и то же: употребляя слово “бытие”, я имею в виду, что существует само, на своих собственных основаниях и является причиной самого себя.
На следующем витке спирали, по которой я ввел личность, я
уже говорю, почему есть многое, а не одно. Что такое одно? Одно - это бытие или закон бытия. Что-то самозаконно установившееся. А почему этого самозаконно установившегося много?
В каком смысле? Давайте подумаем. Вот число пять, например,
или понятие множества, понятие квантовой частицы, - любые
понятия. Ведь ясно, что они существуют во множестве голов: у
вас есть число пять, вы ведь умеете считать до пяти? У меня есть
и т.д. Но оно - одно. В качестве сущности или правила, или
закона оно - одно. Понятие частицы есть во множестве голов, но
оно - одно. А почему тогда много? Почему - не одно, а много?
Ведь по смыслу бытия - самозаконного закона - число должно
быть одно. Во множестве голов. Зачем тогда это множество?
Подумайте, зачем нас много? Ведь чтобы было число “пять”,
достаточно одаого человека. Чтобы было понятие частицы,
достаточно одного человека, и т.д. Что это - расточительность
природы? Почему нас много? Вдумайтесь в это.
Кстати, это одна из роковых вещей в человеческой истории:
законы человеческой исторической эволюции противоречат законам биологическим. Мы пытаемся жить по законам истории,
то есть человеческой конструкции самосозидания, и одновременно продолжаем быть природными существами, поскольку живем
в природе по законам биологической эволюции. А биологической эволюции рода выгодно сохранять себя посредством
множества взаимозаменимых экземпляров. Когда каждый отдельный экземпляр безразличен, и мы вот... в этих тисках. Ведь,
скажем, чтобы убить, нужно того, кого убиваешь, не воспринимать в качестве личности. Им можно пренебречь в расчетах.
Сбрасываем со счетов - и это мудро по биологическим законам.
Биологический род выживает разбросом своих индивидов. Чем
больше погибает, тем надежнее дление рода. Подите приложите
к этому человеческие понятия - уникальности личности, нести-
раемости лика... Очевидно, мы ведем себя то как существа, принадлежащие истории, то как принадлежащие к продолжающейся
природе нашей истории. Собственно, в силу продолжения природной истории мы и не можегл убивать, потому что, убивая, начинаем жить по законам биологии. И мы живем, что и окрашивает философию цветом определенного стоического пессимизма.
34 Введение в философам
И в то же время - веселого, потому что, лишь дойдя до полного
отчаяния, пройдя его, можно быть бодрым и веселым. Такое трагическое веселье или, как говорят немцы, - Heiterkeit (условно
можно перевести русским словом “веселость").
Философия занимается именно этим трагическим весельем,
имея в виду, что человечество есть некая совокупность существ,
которая пытается стать человечеством. Философ не скажет: человечество есть. Человечество есть нечто такое, что пытается
стать человечеством. И пока оно не стало таковым, ни один не
является человеком. Вот такое подвешенное во времени, растянутое усилие. Наглядно его трудно себе представить. Наглядно мы
видим людей и их страсти. Но я снова повторяю: философский
язык не есть язык наглядных представлений, не есть то, что можно представить, выполнив представимое в материале наших
психических возможностей воображения и называния. Философия говорит на особом языке, по определению, о чем-то ненаглядном, потому что все другое наглядно, то есть имеет референты - предметы, называемые словами.
Так вот: почему - многое? Возвращаю вас к этому. В чем
смысл множества лиц (уже не в биологическом смысле слова),
каждое из которых - личность. Или самобытийная вещь. Почему? А вот как раз по этой причине. Бытие и личность имеют
прежде всего отношение к тому, что не выводимо ни из какого
правила, ни из какого закона. Попытаюсь это пояснить.
Я говорил, что понятия, законы существуют в одном экземпляре. Только в одном. Понятие “пять" - одно, хотя множество
голов понимают его и оперируют им. Но оно от этого не размножается. Однако у этого понятия есть одна сторона, которая
не содержится в самом понятии (то есть в определении), а является
условием самого понятия. Это сам акт понимания числа “пятъ’\
который кем-то должен совершаться и может совершиться только им, такой этот акт не содержится в понятии. Я имею в виду
очень простую вещь. Вот я говорю, говорю, говорю в каких-то
понятиях, в которых есть какая-то всеобщность. Они поддаются
определению, и я пытаюсь это вам передать. Но где-то упираюсь
в зазор, отделяющий все, что я скажу, от того акта, который
только вы можете выполнить, каждай на свой страх и риск - в акт
понимания. За вас я понять не моту. И вы за меня понять не можете.
Этот акт не содержится ни в чем, он не находится в содержании
чего-то, что я описываю термином “бытие*’, а сопровождает его
как тень. Чтобы он был, он должен совершиться. Лично.
В конце концов, объясняй или не объясняй, но в вас или во
мне должен совершиться самопроизвольный акт понимания. До
ТП/шищендеиция и Яьиние 35
конца, в цепи передачи знания кому-то я не дойду. Пройду далеко, максимально далеко, но зазор между моей передачей и
вспыхнувшим актом понимания останется. Значит, это самопроизвольный акт. Он не выводим из содержания и абсолютно конкретен. И поэтому есть многое, а не одно. То есть само бытие содержит в себе эту штуковину. Самопроизвольность, не выводимую
из правила и закона. Непрерывно продолжая дедукцию из какого-
либо закона или правила, я никогда не приду к тому, что само-
бытийствует. Например, самобытийствует совесть. Попробуйте
определить, что это такое. Перед этим я говорил о личности, а
сейчас все то же самое могу сказать о совести. Я говорил, что мы
пользуемся словом “личность”, когда все другие слова уже не годятся. Потому что они содержат в себе указание на причины и
основания, лежащие вне самого предмета. Например, на интересы, на желания, на нормы, на законы. А когда я говорю -
личность, я имею в виду нечто принципиально иное, основанием
чего является само нечто.
Так вот, в гении нашего языка есть слово совесть. Мы говорим - “по совести”. Почему? Нипочему! По совести! То есть сам
этот акт отличен от содержания поступка, он не выводим из него
и должен всякий раз совершаться заново. Условно назовем содержание совести словом “бытие" или словом “одно”, хотя оно
не - одно, а многое, потому что невыводимо, должно совершаться заново и без оснований. В числе ‘"пять” тоже есть эта сторона
- сторона понимания. Так и нравственные явления: совесть, например, - конкретный акт бытия, и этот акт невыводим из знае-
мого. Все мы знаем, что такое совесть, и ни один из вас не сможет определить, что это такое. Она - несомненна, но должна
быть несомненной у каждого, то есть - во многом. Нет одного
содержания совести, хотя оно - одао.
Вы не согласны? Пожалуйста, какой вопрос у вас? Не стесняйтесь. Так ведь интереснее. Какое сомнение у вас возникло?
- Сомнение, вообще-то, видимо, касается степени совести. Степень
различия этого...
-Ну...
- Видимо, от этой степени и зависит понимание самого термина, того, что он обозначает.
- Понимаете, как раз вот степень здесь не играет никакой
роли по следующей причине, которую, кстати, тоже очень трудно объяснить. Но знание этого существует, например, в афоризмах, поэтому вместо своей, так сказать, неэлегантной и некрасивой речи я воспользуюсь речью других. В свое время Вольтер,
повторяя до него сказанное, как-то заметил, что доброде^ ли не
36 Введение 4 философию
может быть половина. Или она есть или ее нет. Есть, действительно, ряд неделимых явлений, которых не бывает ни меньше,
ни больше. Они или есть, или их нет. Таковы добродетель и
совесть. И бытие таково. То, что в философии называется бытием. Если вы запомните то, что я сейчас говорю, и потом будете
читать, скажем, текст Парменида, то там написано: бытие одно
и неделимо. Потом это повторят стоики, но уже в другой форме,
может быть, сейчас более понятной для нас. Они скажут: почему
люди гоняются за наслаждениями? - Боятся смерти, думая, что
удовольствие зависит от его продолжения во времени. А в
действительности, все содержание удовольствия выполняется
мгновенно. Оно есть целиком. И поэтому можно не бояться смерти.
Все пережито. Понимаете? Вот такие вещи, которые трудно
сразу уловить, нужно просто настроиться так мыслить.
Повторяю, то, что я сказал, и есть ответ на вопрос философии, который организует то, о чем говоришь, под определенным
знаком. Поэтому это называется вопросом. Если бы я не задал
себе вопрос - почему есть многое, а не одно, - то не мог бы
рассуждать и о совести. Или о добродетели - не понял бы, что,
собственно, она такое. Добродетель половинной не бывает, хотя
мы знаем, что человек не добр и не зол, он смесь и того и другого.
Но добро есть добро, а зло есть зло.
Тем самым я снова, под знаком основного вопроса, поясняю,
что такое бытие. Я добавил еще одно определение. Это нечто неделимое. Значит, одно и многое - в силу самобытия каждого акта
бытия. Бытие ведь не выводимо ни из чего другого. Оно каждый
раз должно быть. А поскольку каждый раз, то не одно, а - многое. И есть смысл во многом. Это не просто количество биологических экземпляров, которое с человеческой точки зрения - бессмысленно, а с биологической имеет смысл. Многое, потому что
таково бытие. Потому что ничто ни у кого не выводимо из
содержания. Понять могу только я, лично. И то же самое с совестью. Она неделима и должна возникать в личностях, которые
согласованы между собой через совесть, а не через что-то другое;
отнюдь не через культуру или социальный строй. Мы ведь знаем
это и на уровне языка. Есть в нравственности один простой
закон, который имеет отношение к тому, о чем я говорю -
вдумайтесь опять в то, как мы живем и как мы говорим.
Вот мы совершили какой-то проступок и нас наказали,
согласно существующим законам. С любым социальным или
внешним наказанием можно ужиться, но есть одна инстанция, с
наказанием которой ужиться нельзя. Это - ты сам. Это - невыносимо. Все остальное можно вынести. Так вот, эта инстанция
ТЛ^ашценуеш+ил и ¿ьоние
37
невыносимости, или совесть, и воспроизводится в людях и при
этом не имеет никаких внешних оснований. Ибо что такое совесть? По совести? Все, что вы не понимаете и чему не найдете
оснований, вы назовете: “по совести". Вот это в философии и
стало называться тайной (в XX веке, например, в экзистенциализме) и отличаться от проблемы. Пускай вас не смущает такое
различение, потому что культура (где в моде всякие таинственные вещи, где запугивают людей всякими роковыми и непостижимыми вещами) - это не язык философии. Язык философии к
мистицизму никакого отношения не имеет.
Что такое проблема? Это то, что можно разрешить. А тайна?
Это нечто, в чем несомненно можно участвовать и не знать об
этом. Например, совесть. Мы соучаствуем в ней, а не знаем. Вот
тут тайна. Это называют тайной бытия. Не в том смысле, что
есть тайна бытия, когда что-то якобы вообще ускользает, как
тайна в предмете от моего рассуждения и от научного постижения. Не это имеется в виду. Имеется в виду, что нет человека без
тайны. Если бы в нашей жизни все зависело от понимания (в
смысле рационального понимания), то уверяю вас... гроб и свечи.
Такая жизнь, во-первых, была бы недостойна того, чтобы ее
жить, и, во-вторых, что важнее, она кончилась бы сразу, распалась во всеобщем аду. Слава Богу, есть вещи, которых мы не
понимаем, но не потому, что они не имеют к нам отношения и
недоступны, а в том смысле, что мы участвуем в них с несомненностью, но сказать не можем. Но они должны жить. Здоровое
общество - это такое общество, которое поддерживает в человеке то, что от человека не зависит - тайны такого рода как
совесть. Она не зависит от человека. Это наше состояние,
которое в нас от нас не зависит.
Это еще один предмет философии. Вот видите, я объединяю и
включаю в философию разные ‘ТшециплиньГ. Я уже говорил об
онтологии, то есть о бытии. Говорил о мышлении, то есть о
теории познания. Правда, эстетику я опустил, но мы к этому еще
вернемся. И теперь говорю об этике. И все это называю философией. Хотя в действительности никакой теории познания не
существует, этики не существует, эстетики не существует. В философии есть одна дисциплина - учение о бытии. Но поскольку
бытие содержит в себе эти вещи, то она и об этом.
И, наконец, к этим предметам я добавлю еще один - свободу.
Вот о чем говорит язык философ™. Язык философии - это язык,
на котором мы говорим о свободе. О своей свободе. Или о свободных явлениях. Сказать “самобытие ’ - то же самое, что сказать “свобода”. Ниоткуда. Самопроизвольно. Нечто, что само
38 Введение в философию
себе дает закон. В философии свободой называется внутренняя
необходимость. Необходимость самого себя. Наша свобода от
нас не зависит, мы лишь можем растить ее, участвовать в ней -
или не участвовать и не растить. Не растим - не будет. А если
будет, то неделимо, целиком. Бытие ведь одно и неделимо. И оно
же - многое. Почему есть не одно, а - многое? Задавшись этим
вопросом, я начинаю раскручивать ряд характеристик бытия.
Поэтому этот вопрос и называется основным вопросом философии. Поставив его, идешь в материале философии, начинаешь
применять новые слова, видишь новые проблемы. Если бы я не
задавался этим вопросом, то не увидел бы в бытии того, что оно
самопроизвольно, невыводимо из содержания закона и правила,
и не пришел бы к пониманию того, что такое свобода. Что это
внутренняя необходимость. Но не в том смысле, что она в нас
сидит. Да - “сидит”, но в той мере, в какой я свободен, в смысле
внутренней необходимости совести. Я вне самого себя, то есть
личность. Значит, личность не есть “быть в самом себе”. Личностью на языке философии называется совершенно особая
структура, которая не совпадает с видимой структурой индивидуальности. Проблема личности в философии никакого отношения к проблемам индивидуализма не имеет.
Повторяю, личность в нас - это такое измерение, в которое
мы входим, выходя из самих себя (и поэтому с ирокезом можем
обняться). То есть универсальное измерение. Этими чертами
универсализма, разговора языком свободы, языком личности,
бытия и характеризуется философия в своем возникновении и
длении. Потому что то, что перестанет говорить на этом языке,
не будет философией, а будет чем-то другим. А поскольку мы занимаемся философией, то будем заниматься этими вещами. И
дальше я постараюсь показать вам, какие еще проблемы и какие
философские понятия отсюда вырастали, но лишь в том контексте, в котором виден их смысл. Или, вернее, из которого в
этих понятиях виден смысл, а не то, что у нас может случаться
при чтетш “трактатов" или учебников по теории познания, по
диалектическому материализму, по этике и т.д. Во-первых, я все
это изложить вам не могу, потому что у меня просто не хватит
времени, и потом это непонятно. Я абсолютно не понимаю, что
там написано. Ну не могу этого понять, виноват. Но думаю, что
и вы тоже не понимаете. Так что, только объединившись в
общем непонимании каких-то вещей, мы можем начать философствовать. И это тоже не случайно. Сейчас вам кажется, что я
как бы отошел невольно в сторону, а в действительности я
просто схитрил. Я вел вас к одной из первых философских фраз,
Щишсценуеш&А и бьакие 39
существенных, конститутивных для философии. Она сказана Сократом, напоминаю ее: “Я знаю, что я ничего не знаю1’.
Это - философская фраза. Объясняя ее, я одновременно
объясняю вам и философский язык. Вернее, объяснить его нельзя,
просто на нем нужно говорить, это и будет объяснением. Но какое-
то предупреждение относительно стилистики философского языка
все же необходимо. Каждый раз когда вы читаете философский
текст, настраивайте себя на следующее: слова, составляющие его,
означают не совсем то, что они означают. Скажем, вы прочитали:
“Я знаю, что я ничего не знаю”. Что это значит? Что я мало
знаю? Невежественный? Но ведь так и есть. Вообще положение
человека таково... Нет, не это здесь сказано! А я знаю, что я ничего
не знаю. А это нужно действительно знать. Знать, что ты не знаешь.
Это именно знание, и оно предполагает определенную технику и
дисциплину. Это не просто - я ничего не знаю. Знать, что ты не
знаешь - это и есть философия. Потому что философия прежде
всего говорит о вещах, которые есть и в которых мы несомненно
участвуем, но которых мы не знали и не знаем. Например, та же
совесть. Я говорил о ней на языке философии и сказал: не знаю,
что это такое. Я ведь так и сказал! Правда, я еще и вас к этому
приобщил. В смысле - за вас решил, что вы тоже - не знаете.
Может быть, я поступил неправильно. Может быть, вы знаете,
что такое совесть? Но как философ, как профессионал я могу
сказать: нет, я не знаю, что такое совесть. Но я говорю об этом и
утверждаю, что это и есть предмет философского говорения. Вся
философия состоит из таких вещей. Каких? Знаю, что я ничего
не знаю? Но я знаю! То есть я показываю, что вот этого мы не
знаем. Вся дорога, по которой я прохожу, чтобы показать, что
мы не знаем, что такое совесть, и есть философия.
Значит, философия есть учение о таких вещах, которые нас
ведут по жизни над бездной незнания. И таких вещей, которые
нас выручают, в человеческой жизни довольно много. Например,
в философии есть нечто, что называется формой; одно из первых
философских понятий - понятие формы, или идеи, мы встречаем
у Платона. Что такое форма? Что значит следовать форме? Это
значит избегать последствий своего незнания. Когда мы придерживаемся строго пустой формы, сам этот факт спасает нас,
избавляет от последствий нашего незнания (если мы хотим основывать наше поведение на знаниях). Сошлюсь на пример так называемой эвтаназии, на запрет убивать живое существо; при
том, что само это существо может просить убить его, чтобы избавить от страдания. Но, во-первых, мы же не знаем, какие последствия в сцеплениях космоса будут вызваны этим актом. И,
40
Введение в философию
во-вторых, убив на основе медицинского знания, мы создаем
прецедент убиения на основе знания. И вот представьте себе, к
чему это приведет, если мы будем убивать на основе знания - хорошего или плохого. Это - прецедент.
Следовательно, когда я ориентируюсь на формальный запрет, я
ориентируюсь на что? На мое формальное поведение в море незнания. Я не знаю последствий. Поэтому, давайте, будем придерживаться формы, и тогда, может быть, будет хоть какое-то
благо или не будет большого зла. Это правило гигиены. Философия есть гигиеническое, профессиональное занятие незнанием.
родолжим наши занятия. Куда и как мне идти, не совсем
ясно, потому что я должен соединить историю филосо¬
фии с философией как таковой. Но попробуем. Может
быть что-нибудь и получится.
6 прошлый раз я объяснял вам некоторые феномены, с которыми связана философия. Чтобы понимать философию, нужно
понимать эти связи, понимать эти феномены, которые реальны и
лежат в самих основах человеческого сознания и существования
в качестве человека. Сейчас я постараюсь завершить свой рассказ об этих явлениях и тем самым поясню суть или призвание
философии, а потом уже буду наращивать сам аппарат философских понятий, технический аппарат философии.
Я надеюсь, вы теперь понимаете, что есть явления, которые
не зависят от того, удачный у нас аппарат или неудачный. Ибо
это аппарат когда-то уже изобретенных понятий, при помощи
которого мы можем об этих явлениях, о мире что-то разумно
говорить. Говорим мы так, как сложился аппарат. А он мог
сложиться иначе. Это естественно. Но мы привыкли работать,
используя аппарат, который был однажды изобретен и потом
получил какую-то инерцию движения, из которой выскочить мы
не можем: это аппарат греческой философии. Хотя те же самые
вещи, о которых я говорил, разумеется, высказывались, обсуждались и развивались и в восточной философии. Но аппарат там
совсем другой. Поэтому и существует разделение на западную и
восточную философию (я имею в виду ™днйско-китайскую). И
они были настолько разобщены, з XX веке возникла, в
общем, бредовая, на мой взгляд, о том, что, мол, нужно
привить восточный опыт к западному или, наоборот, западный
Полнота бытия и собранный субъект
Лсаиобш, ¿ьинил и со£/и1Ш<ый сцбьеюп 41
транспонировать на Восток. Она “бредовая” в кавычках, конечно. Ибо есть реальная потребность в такой идее, но выражение
ее ошибочно в том смысле, что не существует никакой западной
и восточной философии. Философия существует только одна.
Вот она - то, о чем мы будем рассуждать. Но с одной оговоркой,
что рассуждать о философских проблемах можно и в других
понятиях, например, в терминах восточной философии. Но поскольку у нас язык индоевропейский, с греческими и латинскими
терминами, мы выбираем аппарат греческой философии. И
поэтому будем совершать историко-философские экскурсы в
область греческой философии.
Я говорил уже о свободе как об одном из явлений, из которых
философия вырастает. Слово “свобода” прошу понимать в философском или метафизическом смысле - пока без каких-либо конкретных ассоциаций, политических или каких-либо других. Сейчас вы
поймете, о чем идет речь. Однако прежде я хочу коснуться двух тем.
Одна тема - назовем ее условно ‘‘полнота бытия”, и вторая
(тоже условно) - “чудо мышления". Вторая тема связана с тем,
что я говорил об удивлении в философии. Я пояснял, в каком
смысле философ удивляется. Теперь мы сможем понять это более
конкретно. Но сначала о бытии. О полноте бытия, чтобы одновременно показать вам, в каком смысле философия есть способ
обсуждения условий свободы. Человек состоит из стремлений,
желаний, состояний, требований, ожиданий, потребностей. Вот
мы хотам, например, добра, и избегаем зла и часто считаем, что
философия начинается тогда, когда человеку вдруг приходит в
голову мысль или понимание, что добро есть хотение добра.
Ведь мы считаемся добрыми, потому что хотим добра. А философ скажет: нет, добро не есть хотение добра. Недостаточно просто хотеть, чтобы быть добрым. Почему? Что сказал этим философ? Он сказал, а точнее - осознал, что эмпирические,
психологические состояния человека (желание добра есть психологическое состояние) несамодостаточны в качестве добрых состояний. Делать добро или быть добрым совсем не то же самое,
что чувствовать себя добрым; это - искусство. Приведу пример: в
литературной критике часто всплывает фраза, что “хорошая литература не пишется добрыми побуждениями”. Можно хотеть
сделать романом добро, но добро романа есть просто хороший
роман. Произведение искусства! И в этом своем качестве оно не
зависит от намерений, из которых исходил автор. Точно так же,
кстати, как и честность есть искусство.
Откуда такое сознание у философа? Очевидно, оно появляется из понимания того, что человеческие поступки, деяния, дик¬
42 введение в филссофшо
туемые определенными намерениями, вливаются в общие сцепления и в общий контекст бытия, и свой смысл обретают или получают там, а не в голове совершающего поступок. В каждый данный
момент, когда мы делаем что-то, мы совершаем зависимые
поступки, которые лишь кажутся нам свободными, продиктованными нашими желаниями, а в действительности они вызываются натуральным ходом событий. Вот, скажем, я сейчас сижу,
разговариваю с вами, а что-то, имеющее отношение ко мне и к
вам, существенное для нас, происходит где-то в другом месте.
Что-то известное, но не нам, и что мы завтра встретим в виде
судьбы. Хотя известно уже сегодня. Уже сегодня сцепилось что-то,
что произойдет завтра, в этот момент здесь и сейчас. Отсюда и возник старый идеал философии как философии спасения или жизненной мудрости (первичный смысл философии). Именно поэтому я
говорил вам сначала о честности, различая честность и добро в
смысле наших состояний или намерений. Увы... это разные вещи.
Значит, в связи с этим философ вводит следующее различение (на чем и основана философия спасения): через философию
выражается идеал собранного в одну точку целого сознательной
жизни, всего того, что имеет к нам отношение. Сейчас я специально буду использовать метафорические выражения, которые
способны навести вас на то, чтобы вы уловили стиль и способ
философского рассуждения, так как слова и учения меняются, а
стиль и способ остаются.
Скажем, знакомая вам, очевидно, фраза: “пребыть раз и навсегда, целиком, полностью свершиться”. Узнаете идеал? О нем
говорится еще в античной трагедии. Что такое “пребыть раз и
навсегда, или полностью, первый и единственный раз свершиться”? Вспомните, что ищет, например, Эдип. (Это и есть философское содержание трагедии, которое можно рассказать и на языке
трагедии, и на языке более изощренного аппарата философии.)
Эдип ведь не просто хочет узнать, что он представляет из себя в
смысле эмпирического индивида. То есть как бы посмотреть на
себя в зеркало. Не в этом смысле познать самого себя. Познать
самого себя означает - задать себя целиком во всем том, что ты
есть, но чего ты не видишь.
Эдип спит с женщиной. Эта женщина - его мать, и об этом
известно, но не Эдипу. Кому известно? Неважно кому. В бытии
есть это знание о самом Эдипе. А Эдип - не знает. Не знает какой-то стороны самого себя. Держите в голове полноту бытия.
Полнота бытия - вот что имеет отношение ко мне, рассыпанное,
как в осколках зеркал. Мы отражены в тысячах зеркал, которые
не собираем, хотя эти отражения и есть мы. Все движение Эдипа
Лолно>на ¿ьииия и соЯ/итный 43
есть собирание “снимков” с осколков зеркал. Он собирает себя,
чтобы пребыть в каком-то поступке. Пребыть целиком, иначе -
совершается кровосмешение. Совершенно независимо от намерений и желаний. Или - когда не знаешь, убиваешь отца. Встретился путник на дороге... ссора и - убил. Известно, что это отец,
Эдипу - не известно. Кому известно - не важно, но это знание и
есть бытие. Его нельзя отменить. Так как же собрать то, что есть
я и одновременно все, что ускользает от меня, распадается в тысяче
осколков зеркал? - Пребыть целиком. На Востоке это выражали
иначе (у пифагорейцев, кстати, тоже были аналогичные слова).
Там говорили так: “Оторваться от колеса рождений”. Колесо
рождений и есть то, о чем я говорю: сцепились события (мои или
мною вызванные), являющиеся содержанием моего бытия, но
мной не собранные. И они воспроизводят что-то. Я снова рождаюсь, снова совершаю какие-то деяния, ошибки, а карма этих
ошибок, то есть судьба, заставляет меня снова родаться, скажем,
в виде поросенка. Такое допущение было в восточной философии.
И вот возникает идея таких актов, таких состояний человека,
которые являются собиранием себя в точке, целиком, когда ты
уже не зависишь от того, как что-то сцепится, - ты собрался. Это
собранное и называется “полнотой бытия”. Это собранное и есть
философский идеал мудрости, первичная философия. И, одновременно - свобода. Потому что те рождения, которые вызваны неизвестными мне последствиями и содержанием моих собственных
поступков, суть (как выражались древние) “зависимые рождения”.
Это не я рождаюсь как свободный человек, а меня рождает что-то
в каком угодно виде и смысле, подвластном натуральному ходу
вещей. Рождает страданием, связанным с тем, что я в разных
местах и не собран. Поэтому со мной можно сделать что угодно.
Теперь вы понимаете, почему я сказал, что философия есть обсуждение условий свободы - в философском или метафизическом
смысле слова. Свобода - это свободные, а не произвольные деяния -
не делаю, что хочу, а делаю, собравшись, такое, что не зависит
от того, в реку каких последствий и в какие сцепления упадет
мой поступок.
В одном из своих диалогов Платон приводит миф о человеке
по имени Эр - единственном смертном, которому посчастливилось (или не посчастливилось) побывать одновременно в царстве
мертвых и остаться живым. Он был в обморочном состоянии на
поле боя и отправлен в царство мертвых, но вернулся оттуда и
помнил то, что там видел. Хотя смертным не дано видеть и вернуться к жизни, а он подглядел и увидел странные вещи. Платон
рассказывает, что в царстве мертвых людям была д ана возможность
44
б философшо
заново совершать поступки, то есть исправить свою прошлую
жизнь. Им была предоставлена уникальная возможность выбора,
но, как заметил Эр, выбирали они плохо. Например, тиран - что
он делал? Все тираны обычно погибают от того, что они всегда,
в силу природы самого тиранства, создают вокруг себя пустоту.
Нет друзей. Но каждый раз ведь это эмпирический факт. И тирану дан шанс изменить свою жизнь. А он хочет остаться таким
же, а жить по-другому. И Платон, устами Эра, замечает: “Он
нрава своего не видит’. То есть продолжая быть тираном, пытается иметь другую жизнь. Не выйдет, поскольку он не заглядывает в себя, не собирает себя, и заново, в несобранном виде, совершает в общем-то прежние поступки. Он стремится быть
умнее, рассудительнее, пытается избегать каких-то ошибок, но
дело не в частных ошибках, а в суш. Между прочим, аналогичная фраза есть и в “Царе Эдипе”, когда один из собеседников
Эдипа говорит ему: “Ты сердишься, а нрава своего не замечаешь”. Возьмите здесь слово “нрав” в широком смысле. Ты пытаешься изменить какие-то конкретные поступки, не изменив своей
натуры. Но ведь чтобы изменить натуру, надо в нее заглянуть. А
ты еще не заглянул в нее. И, следовательно, снова во власти
чего? - Во власти судьбы. Или во власти того, что я называю
натуральным сцеплением событий. Тиран снова погибнет. Не
поможет ему новый, более умный расчет. Вот такая совокупность вещей, проблем, состояний задана внутренним понятием
философии, а именно - символом “полноты бытия”. Или -
“пребывания”, собравшись целиком.
Рассмотрим теперь другую сторону этого собирания. Здесь
очень много тропинок, по которым можно пойти, и все тропинки интересные. Но я не могу по ним шагать из-за недостатка
времени. Вторая тема, связанная с первой, но немножко иначе
выраженная - “чудо мышления”. Я уже объяснял, в каком смысле философ удивляется. Он удивляется не тому, что в мире
кавардак, а тому, что есть хоть какой-то порядок. Это удивительно. Удивляться тому, что есть хаос, войны и т.д., - не философское занятие. Философское занятие начинается тогда, когда
перейден край отчаяния и начинается трагическое осмысление,
возникает ровное и спокойное расположение духа.
Так вот, это же самое явление, но уже требующее специальных
понятий - онтологических и гносеологических - имеет отношение
и к актам мышления, которые мы совершаем в бытии. Я говорил
вам, что бытие имеет какую-то связь с пониманием, и в каком
смысле философия вводит постулат тождества бьпия и мышления.
Проделаем мысленный эксперимент. Одновременно с моим говоре¬
Ламю/Оа ¿ьчния и соЯ/шннмй сц&аа& 43
нием задавайте себе вопрос: так это или не так, можно ли это
или нельзя? Скажем, можете ли вы по желанию иметь мысль? Не
ту, которая известна, а новую? Можно ли захотеть сделать открытие - и сделать его? Или: захотеть взволноваться или обрадоваться и испытать это в силу хотения? Я считаю, что нельзя.
- А актеры?
- Но это же искусство! Значит, что-то нужно сделать. Необходимо усилие мысли. Просто выбрать мысль нельзя. Наши
мысли - во времени. Какая гарантия, что вот я иду, мыслю и следующим шагом встречу ту мысль, к которой шел? Ведь последующий момент времени по своему содержанию не вытекает из
предшествующего. В свое время греки предупреждали об этом.
То, что я сейчас говорю, есть рассказ о внутреннем смысле философских построений; такого рассказа вы не встретите у греков.
Но в их текстах встречается следующее рассуждение; начиная с
Сократа, оно периодически повторяется: “Как вообще можно
что-нибудь знать?”. Ведь чтобы знать что-то или познать, нужно, придя к этому, узнать это в качестве того, что ты искал. А
если ты уже знаешь то, что искал, зачем же пускаться в искания?
Значит, чтобы познавать, нужно как бы заранее знать то, что ты
хочешь или должен познать. Если ты не знаешь этого, то и не
узнаешь. Если даже под носом у тебя окажется то, что ты ищешь.
А раз узнаешь, значит, знаешь заранее. Тогда, как вообще
возможно это движение мысли? Откуда оно? Каким образом?
В связи с этим вопросоми появляется понятие “врожденных
идей”. Или “врожденности знания”: когда мы познаем что-то,
мы в действительности познаем не абсолютно новое, а вспоминаем то, что знали когда-то, в прошлое рождение, когда наша душа витала где-то в небесных пространствах и беседовала с Богом. Потом она родилась в теле, а рождение в теле - обморок
души. И, следовательно, познание - лишь воспоминание из глубин обморочной души. Она приходит в себя и ... всплывают зна-,
ния. Сократ беседует с мальчиком-рабом, необразованным и непросвещенным , и путем диалога показывает, что мальчик знал
математическую теорему, не зная об этом. Но действительно ли
нашей душе врождены знания? Нет, это философское обсуждение
ситуации, в которой мы находимся, в нашей попытке понять, что
с нами происходит, когда в голову приходит мысль, что мы что-
то узнаем (и можем эту ситуацию обсуждать).
Итак, все это можно выразить метафорой, например, или
мифом, сочиненным философом, или параболой, сказкой. Когда
мы слушаем философские сказки, то человек ведь не говорит, что
нужно разрезать, скажем, живот и посмотреть, что там внутри:
46
Введение б философию
глядишь - математическая теорема лежит, врожденная, или
понятие числа врожденно, как потом скажет Декарт, понятие
пространства и т.д. Нет, это просто способ прояснения некоторой проблемы или парадоксальности человеческого бытия. В
данном случае - человеческого бытия в мысли. Как мы вообще
что-нибудь знаем? И тем не менее фактом является то, что новые
мысли приходят. Да, пока я иду к мысли, я нахожусь во времени,
и она по содержанию не вытекает из всего предшествующего. Я
не встречу ее так вот, как, выйдя в коридор, встречу там человека. Время несет с собой разрушение, забвение. Это, выражаясь
современным языком, энтропия. То есть все, что во времени,
стремится к разрушению, к распаду, хаосу. Но поскольку все во
времени, значит, я завишу от того, буду ли я помнить и сохранятся ли в собранном виде, а не распадутся во.времени те осколки бытия, которые я собрал. От чего это зависит? Неужели моя
память должна зависеть от физиологии, от моих только биологических способностей впечатления и удержания впечатлений?
Вот в этом месте и появляется техника порождения нового. Техника мышления, или техника (близкая вам) - искусства. Ведь
первичное проявление искусства, среди всего прочего, как раз и
является машиной памяти, которая не зависит от случайностей,
связанных с физической или биологической организацией человека. Она - хранитель и возбудитель памяти как способности.
Приведу простой пример - он неопровержим. Как известно,
одно из первых философских научных открытий было сделано
греками на материале музыки. Не в том смысле, как сегодня
ученый делает музыку предметом своих исследований, а в том
смысле, что для них музыка выступала как некая упорядоченная
машина, которая своим действием, своей упорядоченностью способна вызывать в человеке неразрушающуюся во времени упорядоченность состоянии, когда не забудется что-то в зависимости
от какой-либо случайности. Отсюда у греков и первичный образ
науки, связанный с астрономией. Для нас астрономия наука. А
для них небо было особым, гармонично устроенным предметом,
наблюдая который, можно ввести порядок в неупорядоченные и
разрушающиеся движения человеческой души. Состояние человеческой души во времени распадается. Однако, как я говорил
в 1, и рассыпанное на тысячи осколков, оно может быть приведи ю в порядок связью человека с какой-то гармонией. Не с гармонией, которую он открывает, а гармонией, которая уже есть
наглядно и физически, доступна обозрению. Ибо наблюдая
равномерный круговорот светил, я, конечно, могу упорядочить
свое распадающееся круговращение души. А круговращение,
Лсинота ¿ьания и со#(мш<ый сдЯбе&Я. 47
действительно, беспорядочно, если это “колесо рождений”. В
колесе рождений по своим сцеплениям происходит смерть,
рождение в другом теле, страдание, вновь незнание смысла,
снова кровосмесительство, убийство отца и т.д.
Обратите внимание, что делает Гамлет. Я вновь хочу подтвердить свою мысль о том, что честность есть искусство, добро
есть искусство, истина есть искусство. И эмоции, нашедшие выражение, тоже есть искусство. Возражая мне, вы привели пример
актера. Ведь мы не случайно говорим об актерах возвышенные
слова: мастерство, искусство и т.д. Так вот, что делает Гамлет в
известной трагедии? Он якобы колеблется; вместо того, чтобы
действовать - рассуждает. Бледная нерешительность. Это все
психология. Все это бред и никакого отношения к делу не имеет.
В действительности это вполне 1рамотная метафизическая трагедия. Гамлет в психологическом смысле решителен и боевит, гора
трупов на сцене в конце пьесы это ясно показывает. Других подтверждений этому искать не надо. Он желает поступить как
человек. Он себя собирает. Во имя чего? Чтобы преодолеть сцепление причин и следствий. А каково сцепление причин и следствий? У тебя убили отца, убей кого-нибудь из семьи убийцы.
Потом будет убивать кто-то из этой семьи и т.д. Вот эта цепь,
которая и есть человеческая история, сцепление натуральных
вещей. Кровь за кровь - и сцепилось... и пошло, и пошло. Не хочешь так поступать? А Гамлет хочет поступать свободно и, если
убивать, то по смыслу, чтобы убийство вытекало из собранного
Гамлета. Собравшего свое бытие. И он как бы “подвешивает”
себя - на чем? Он приостановил натуральную цепь: нет, так не
пойдет. Ибо не известно, во что это выльется и что породит. И
что он делает, чтобы помочь себе собраться? Среди прочего - и я
к этому вел - спектакль ставит - внутри спектакля. То есть искусством занимается. Театр для театра. Театр ему нужен, чтобы выявить смысл, который так вот просто, тыкая пальцем, выявить
нельзя. Нужно построить машину переживания, и тогда она ка-
тарснсно (как разъяснит трагедия) выявит завершенный смысл.
Поэтому и античная трагедия всегда есть способ завершения
смыслов, которые эмпирически завершить нельзя. Нельзя все
знать, нельзя везде быть. Но эту завершенную (но реально не завершаемую) последовательность натурального хода времени
можно дать символом. Мифологическим или трагедийным представлением, или вообще любым образом (то, что в расхожей
терминологии эстетики называют образом), хотя это не образы,
конечно, а погашающие существа, благодаря которым мы что-
то понимаем, чего не могли бы понять, живя эмпирически. По¬
48
Введекие в философию
тому что, живя эмпирически, мы конечны: мы не можем пройти в
бытии бесконечное число шагов, чтобы все охватить. А через
переживание трагедии, которая поставлена и в которой завершены смыслы, но завершены символически, через них можно.
Мы можем охватить все, оставаясь конечными.
И философия всегда занималась такой машинерией. Пыталась создать конструкцию, которая сама что-то сделает, потому
что человек сам не все может. Он, например, забывчив, в силу
своей биологии. А трагедия ведь от биологии не зависит. Или
ритуальная музыка с танцами, которая была первым образцом
выявления гармонии для греков, не как предмета изучения, а как
такой предмет, который действует во мне, во мне рождает гармонии. Вы очевидно, знаете, что первые математические теоремы
были сформулированы на основе изучения звучащей струны.
Первые гармонические тела есть тела ритуальных пений и танцев. Как бы совмещенное, синкретическое искусство (я не знаю,
как назвать это на современном языке). Это все вещи, упорядочивающие человеческие состояния и смыслы, которые без этих
вещей не могут быть упорядочены. И они же - то первое нечто,
чем занималась философия. Это и есть полнота бытия.
Значит, полнота бытия не может быть достигнута эмпирически.
Ведь, действительно, физически или эмпирически нельзя собрать
все осколки зеркала, в которых мы существуем и отражаемся. Но
можно организовать свое бытие определенным образом через
предоставляемые нам средства, а такими средствами являются
произведения искусства, произведения мысли, культурные
произведения. Благодаря им, и через их символы и через их
небуквальный смысл мы можем жить человечески.
И отсюда определение философии как мудрости. Мудрости
жизни. Философия вообще не теория (хотя и теория, конечно, -
потом мы увидим теоретическую сторону философии) и не наука
о каком-то предмете. Это - мудрость жизни. Но для этого необходимо все прояснять, потому что все слова мы понимаем буквально, в обыденном смысле. Ну, что такое мудрость? Мудрость
- быть умным? Но, как я говорил, ум не есть лишь намерение
человека, а есть искусство. Так и мудрость. Мудрость не есть
свойство человека в обыденном смысле этого слова. Мудрость
есть искусство. А всякое искусство предполагает технику.
Однако для понимания нами мышления нужна более сложная
техника, чем для понимания некоторых жизненны* обстоятельств, к которым мы, как правило, обращаемся, используя те
же произведения искусства, выступающие как органы производства нашей жизни. И кстати, учтите, что искусство ведь только в
ЛолмЛа быЛия и сбб/имный сц&екА 49
европейской культуре, во-первых, выделаю в особую сферу
разделения труда, и, во-вторых, в музеи - в определенные рамки.
Этого феномена раньше не было (и не случайно). Дело не в том,
что искусство как предмет эстетики было синкретичным, а в том,
что оно было тем, о чем я только что рассказывал. Только потом
взаимоотношения людей с предметами искусства усложнились, и
люди превратили их в предметы эстетического наслаждения.
Таковыми они в действительности не являются. Современная
рациональная эстетика, возникнув в XVIII веке, развивалась
отчасти уродливым образом. Но тем не менее суть дела все равно
оставалась, и через заблуждения или глупости и непонимание
она говорит на своем языке, внося поправки в наши ограниченные способности. Известно, например, что человек может относиться к Богу как к идолу, как к какому-то предмету. И тем
самым относиться - не истинно, идолопоклоннически. Но тем не
менее, относясь неистинно, быть истинно верующим. Он дурак, а
вот истина тем не менее живет. Это понятно или не понятно? И
вот поэтому, хотя люди не всегда адекватно или правильно судят
об искусстве, оно остается тем, что оно есть; даже если человек
может относиться к искусству как к предмету эстетического
наслаждения, оно тем временем через него живет, и он впервые
через него видит вещи в мире. Не только наслаждается - а видит
в мире вещи и может удерживать полноту бытия.
А теперь я хотел бы коротко резюмировать все, что я сказал,
воспользовавшись хорошо известной вам фразой, но сказанное
перед этим позволяет мне пояснить смысл этой фразы, чтобы
потом, употребляя ее, вы относились к ней осмысленно.
Обычно говорят, что философия отличается от науки тем,
что она занята вечными неразрешимыми проблемами, которые
все время повторяются. Что в науке, например, есть прогресс.
Ньютон знал больше, чем Галилей, или Галилей знал больше,
чем Фалес или Анаксимандр. Что происходит какая-то кумуляция знаний в решении проблем. Решена одна проблема - идут к
другой; решена вторая, идут к третьей, и ко второй не возвращаются и т.д. В отличие от философии, где, во-первых, нет якобы такой объективной суммы знаний и, во-вторых, известно, что
все философские системы одна другой противоречат и во всех
системах всегда фигурируют одни и те же вопросы. И отсюда
делается вывод, что вообще кеяеко, что такое философия. Вот
здесь % хочу сделать оговорку. Да, философия занимается вечными проблемами^ ко проблемами не в смысле этого слова -
“проблема”. Когда мы говорим - проблема, мы имеем в виду, что
она разрешима какими-то конечными средствами, конечным
50 Введение в философию
числом шагов. И если сегодня не разрешима, то завтра будет
разрешима. Таких проблем в философии нет. Если бы они были,
то они были бы решены. В философии говорят о “вечных проблемах” в смысле деятельности, полноты бытия, созидания. То
есть о жизни через какие-то произведения, о попытке жить иным
образом. А это ведь не раз навсегда. Это каждый раз нужно
делать заново. Так ведь? Вот смысл того, о чем я говорил. Ибо
речь вдет, повторяю, о бытии. Оно одно, если мы это делаем, и
оно другое, если не делаем. В содержании того, что случится
после того, как я попытаюсь собрать себя, и что выражало бы
меня в целом, светилось бы через него, - нет ничего такого, что
можно было б вывести из какой-нибудь готовой системы правил,
сделать каким-нибудь конечным звеном дедукции.
И такая же ситуация существует в нравственности. Нравственность ведь тоже вечная проблема. В каком смысле? Разумеется, не в том, что мы ее не нашли, а в том смысле, что найденное - каждый раз оживает, потому что оно конкретно. Разве есть
что-нибудь, что нравственно навсегда, в смысле нормы? - Только образец жизни умершего человека или героя. Это вечно. Но
вечно как бесконечная длительность сознательной жизни вне
нас. А вот так, чтобы мы раз навсегда знали бы как правильно
поступать, чтобы каждый раз наш поступок был выводим из
каких-то правил и был бы, так сказать, конечным звеном дедукции из этих правил - не выйдет. Нет правил на все случаи жизни.
Каждый раз мы полагаемся на что? - На интуицию. А я скажу -
на развитость, на бытие. Если я есть полностью, то пойму, как
мне поступить. Почувствую, что правильно, а что неправильно.
Что нравственно, а что безнравственно. Это - вечно. В том
смысле, что это - все время решается и делается заново.
Так и в философии. Только в философии это распространяется, помимо того, что я говорил о мудрости, на все решающие
философские понятия, которые приходится обсуждать каждый
раз заново. Скажем, существует проблема субъективного и объективного. И по ее поводу есть разные ответы, и все они противоречат друг другу. Это бесплодный спор, но не в этом дело. Ибо
то, что субъективно, или то, что объективно, не дано заранее,
раз и навсегда, а нужно устанавливать заново, пользуясь философскими понятиями: что субъективно, а что объективно. Что реально,
а что ирреально. Это вечные понятия, но не потому, что мы раз и
навсегда можем решить, что объективен внешний мир, физический,
и субъективна моя психология. Вовсе нет. А если в объективном
мире, вне меня, есть, например, духи? А они же были в мифологиях.
Что это? Например, если б этот магнитофон был наделен соб-
Лсинота ¿ьиния и со ¿Нашали сцЯъеюн 51
ственной волей, разве бы я мог обращаться с ним, как с чем-то
объективным? Он в моих руках превратился бы в ежа, например.
Следовательно, чтобы высказать объективное суждение о
чем-то, нужно ввести какие-то посылки, допущения. В том смысле,
что в материи (а это предпосылка) не сидит собственная воля. В
мире нет духов. И это установлено путем весьма сложных философских рассуждений и усилий. Скажем, еще в XVIII веке Канту
приходилось бороться с гилозоизмом, и он утверждал, что пшо-
зоизм есть смерть всякой философии природы. То есть, если в
природе есть духи, то мы вообще о природе не можем высказывать
объективного суждения. И наоборот, мы можем высказывать
объективные суждения только в той мере, в какой в природе не
допускается существования своевольных, самовольных существ.
Итак, ирреальное и реальное - ничто не распределено заранее.
В том числе даже тогда, когда философы обсуждают проблемы
физики. Какой вам привести пример смещения объективного и
субъективного? Ну, скажем, для Аристотеля движение тел к естественным местам - тело только насильственно может быть выведено, согласно физике Аристотеля, из состояния покоя, и поэтому
оно стремится вернуться в свое естественное место - было объективным описанием. Сводкой объективных показаний. А для последующей физики это стало субъективным. Субъективными
стали и ощущения тяжести, а в другой физике они считались
объективными и т.д. Я могу привести десятки примеров, и все
они будут свидетельствовать о том, что философию в этой связи
интересуют такие вещи, которые приходится обсуждать всякий
раз в новой ситуации. Поэтому и кажется, что она занимается
обсуждением одного и того же, и что ее проблемы неразрешимы.
Но это не так. Философия вообще не занимается проблемами.
Она занимается обсуждением бытия. А бытие - оно есть или его
нет. Оно не является разрешимой проблемой. Ведь мы не обсуждаем, например, и не считаем проблемой - взволноваться нам
при виде друга или остаться равнодушным. Это разве проблема?
Или это есть, или этого нет. И если мы отличаем равнодушного
человека от неравнодушного, то на чем покоится это различение? Мы просто констатируем, что он родился равнодушным,
ему это свойственно. Этот равнодушный, а тбт не равнодушный.
Почему? - Это делается бытием: один поработал, другой не поработал. Поэтому при случае один не останется равнодушным, а
другой останется. Но это не значит, что бытие - неразрешимая
проблема. Неразрешимая проблема в том смысле, что вообще -
не проблема. Как и жизнь в целом, какие-то ее аспекты - да, но
жизнь не может бытьироблемой.
52 Введение в философию
Вот в этом смысле философия действительно есть учение или
рассуждение, или дисциплина, содержащая в себе вечные проблемы. Но в строгом смысле слова то, что ее интересует, вообще
не проблема. И вот на все это дело в истории философии и стал
наращиваться особый язык. Я говорил об этом, обходя этот
язык, говорил, чтобы ввести вас в философию. И делал непозволительные вещи для строгого разговора: сравнения, использовал
метафоры, обыденные примеры и пр., потому что иначе я бы
оказался в замкнутом кругу. Мне приходилось бы объяснять ка-
кие-то вещи, употребляя уже специальный язык философии, а он
сам не объяснен, и поэтому был бы замкнутый логический круг.
Необъяснимое я пояснял бы необъяснимым. И ничего бы не
получилось. Тогда я от вас просто требовал бы, чтобы вы как
обезьяны или попугаи повторяли за мной сказанное или заучивали наизусть. Это не годится.
Поэтому я стремился сначала создать фон, показать нерв
философии, которая остается философией при любом языке. Но
история ее состоит, собственно, в том, чтобы вырабатывался
язык, называемый теоретическим языком. Теоретическим - потому что он позволяет говорить о том, на что иначе приходилось
бы указывать пальцем (а указание пальцем невозможно, потому
что все запутано и всего много, пальцев не хватит). То есть я хочу сказать, что теория есть сокращение эмпирического обозрения. Философы выдумывают теоретически что-то, скажем, ка-
кую-то связь понятий, и потом начинают обсуждать не то, из-за
чего придумали эту связь, а саму связь понятий. Она удобней.
Только с ее помощью можно что-то выявить, чего в эмпирии не
могли бы просто обозреть; не могли бы охватить, и к тому же
при этом разные эмпирические факты противоречили бы один
другому, переплетались бы, суть дела заменялась бы видимостью
и пр. Например, обычная процедура (которая совершается в
науке), с которой начинается теория. Допустим, мы захотели исследовать, по каким законам падают тела. Оказывается, чтобы
установить это, нужно создать то, чего в действительности нет,
что и называется теоретической конструкцией. То есть некое
“тело'\ падающее в вакууме и испытывающее сопротивление. И
потом начать изучать средствами математики это нечто несуществующее и получить какие-то выводы, которые затем подтверждаются эмпирически. Как говорят философы, верифицируются опытным наблюдением.
Так вот, и в философии то же самое. Я уже говорил вам, почему есть нечто, а не ничто. Или можно сказать так: почему есть
одно и многое? Ну ясно, конечно, если введены понятия - одно-
Зйино/аа ашЯ&я и ео£(иишлй 53
ГО, МНОГОГО И Т.Д., - то только они и могут обсуждаться. Обзуж-
дается не материал, из-за которого введено пэкитне. а сг.ыо
понятие, потому что материал и понятие могут содержать г:хт«-
ческое противоречие. Например, возникает проблема: делимо ли
одно или неделимо? Имеет ли оно границы и если имеет (а граница есть по определению нечто примыкающее к другому), то,
следовательно, есть и нечто, что граничит с граничным. Иначе
слово “граница” не имеет смысла. Значит, если бытие или одно
имеет границы, значит, оно не одно, есть еще что-то. И вот, в
тексте вы можете встретиться с обсуждением этой проблемы.
Появляется самостоятельная инерция и логика теоретического
языка, посредством которого, исследуя понятия (которые заменили нам материал), мы пытаемся что-то получить, потому что
просто, исходя из материала, ничего получить нельзя, это эмпирия. Но материал имеется в виду, и о нем идет речь, конечно.
Читая текст, видеть сквозь него материал - и значит понимать
философию. Когда я беру текст Платона или Парменида, где
будет абсолютная схоластика, то, уверяю вас, там сам черт ногу
сломит; где - одно, где - многое, обсуждаются проблемы границы, делимости и неделимости, и т.д. Но если, читая все это,
сквозь читаемое ты видишь, о чем написано, то, во-первых,
начинаешь действительно понимать, и, во-вторых, ты видишь
красоту и экономию философского теоретического языка. Но,
повторяю, мы могли бы ввести и другие понятия. Об этом же, но
немножко другие. Как-то иначе посмотрели бы.
Скажем, в восточной философии были введены другие понятия,
связанные с экспериментами над человеческой психикой (слышали,
конечно, о йоге), и с этим работали. А греки-досократики
(Парменид, Гераклит, милетская школа) создали свой теоретический язык, на котором они рассуждали о бытии. Скажем,
Парменид первый сформулировал проблему тождества бытия и
мышления, которую можно обсуждать. Но все эти понятия
должны быть построены так, чтобы не противоречить следствиям, выводимым из них, чтобы они не противоречили наблюдаемому. Или понятие “Одно”. В каком смысле “одно”? Так, чтобы
я не мог сказать о нем, что у него есть граница. Потому что
иметь границу значит (по смыслу языка) примыкать к чему-то, и
тогда не будет одно, а будет многое. Но тогда одно должно бьпь,
очевидно, сферой. Это следствие языка, когда вы в тексте увидите - бытие кругло. Вот рисуем окружность. А что такое рисование окружности? Это движение точки. А куда она идет? - Никуда, это вечное движение. Значит, я могу это взять как образ
бытия, которое неделимо и не имеет границы. Какая граница у
54 Введение в философию
движения точки? Круг. А если круг есть движение точки (он след
движения точки), то нет границы? Одно! Замкнутое и без границы. Но этот вывод появляется уже в контексте логики рассуждения (или машины рассуждения, или инерции языка). Вот так
говорим, так давайте хотя бы говорить грамотно и высказываться на языке, который стоит на ногах.
Или появляется другой образ - сферы, центр которой нигде,
а окружность - везде. Опять, раз мы выработали такой язык и
хотим что-то на нем высказать, Помнить о том, что акт бытия
постоянно воссоздается, что это не проблема, которую можно
решить раз и навсегда. Ибо что такое собирание себя в полноте?
Собирание себя вокруг какого-то центра, да? Полноты бытия не
может быть без центра, по смыслу слова.
Хорошо. А есть где-нибудь какой-то один центр, вокруг
которого можно все собрать? Нет. Значит, центр все время
смещается. Значит, он нигде, так ведь? А то, что замкнется,
следовательно, везде. А центр - нигде.
- Но ведь можно сказать, что и центр везде, если он там, там, там?..
- Ну, можно перевернуть ведь все, что угодно. Но удобнее
сказать так, потому что это связано с метафорой. А язык метафоры - это всегда мускулистый язык, на котором хорошо сказано о сути дела. Только для понимающего, конечно (хотя если
очень потрудиться, то можно понять). Для этого и существует
процедура, например, в психологии, да и в литературе это было
известно, кто-то из русских формалистов, по-моему, это сформулировал в виде закона утруднения, чтобы вызвать состояние
понимания в человеке. Специальное утруднение.
Значит, есть какое-то утруднение, без которого интенсивность
нашего понимания и его устойчивость не была бы возможна.
Так вот, повторяю, в тексте вы можете встретить определения:
“бытие кругло”, или оно “сферично”, “центр нигде, окружность
везде”, Что все это значит? Как понимать? Но ведь мы уже знаем,
что бытие это не предмет. Есть бытие предметов, а само бытие
не есть вещь. Поэтому, когда говорят, что вещь круглая или
предмет кругл, то мы не должны понимать это буквально, как
многие понимают. Например, в некоторых учебниках по истории науки, по истории физики, по истории философии можно
прочитать: Парменид сказал, что мир - кругл, значит бытие
(которое и есть мир) какой-то круглый предмет. И потом следует
опровержение - наконец, узнали! - что бытие вовсе не является
шаром. Здравствуйте, пожалуйста. Да не говорил Парменид, что
наш мир есть шар в физическом смысле слова. Он говорил - бытие
круглое. То есть нужно понимать его замкнутость, завершен-
Льлно&а ¿мнил и coffiaHHMu сцЯ&еюн 55
ностъ. Бытие завершено в отличие от существования отдельных
предметов. Эдип бытийствует, когда он ослеп (вы знаете, он собрал всю свою жизнь). И ему даже глаза уже не нужны. Все, что
нужно было увидеть, увидено. Глаза видят предметы, и поэтому
он глазами видел - что? - Женщину, с которой спал, путника,
которого он убил. А бытию глаза не нужны. Все свершилось. Так
что, Эдип круглый, что ли? Глаза круглые? Да нет. Перед нами
образчики философского языка, чтобы появился навык чтения.
Конечно, он так вот сразу не создается, но вы не огорчайтесь,
если, применяя это правило, не каждый раз у вас будет ощущение сладостного избавления от муки попыток понимания, когда
человек начинает понимать. Нет, каждый раз надо заново пытаться (мускулы ведь постепенно растут, а у мозгов тоже есть
мускулы). Разумеется, я не требую при этом, чтобы вы все физические упражнения заменили бы умственными, нарабатывая эту
“мускулатуру”. Но и эти мускулы тоже полезны.
Итак, о языке мы как бы договорились. Теперь я хочу пояснить то, о чем я стал говорить, но потом отклонился в сторону -
о начальном, исходном пункте теоретического языка, который в
1реческой философии случился иначе, чем в восточной философии.
Этот исходный пункт начинается с одной странной фразы, которая поможет мне по ходу ее разъяснения объять “пиквикские"
стороны философского языка. Сократ сказал: познай самого себя.
И второе, что он сказал: я знаю, что я ничего не знаю. Я подчеркивал во фразе “я знаю, что я ничего не знаю” слово знаю. А
знать, что ничего не знаешь, это искусство, которое и появляется
в философии и помогает жить в условиях незнания. Только
последовательность бытийствования проводит нас, как я сказал,
над пропастью незнания. А что такое незнание? Это, во-первых,
то, что есть в другом месте, в котором мы сами не находимся (в
этом смысле “не знать” означает “не быть везде". Эдип не был
везде. Не мог он быть везде, поэтому, в этом смысле, он не знал).
Значит, незнание - не быть везде. Быть везде, естественно, невозможно. И, во-вторых, незнание - это забывание, и в этом смысле,
в древней философии и до Аристотеля слово “память” было
эквивалентно слову “бытие\ Или полноте бытия. Память - это
наличие всего в одном моменте. И одновременно то, что подвержено разрушению во времени.
Следовательно, когда человек говорит “я знаю, что я ничего
не знаю", то он пытается сделать себя - в смысле стать независимым от того, что проявится со временем в качестве ложного.
Попробуйте понять это. Ведь все необходимое происходит в последовательности. Вот, скажем, я что-то знаю или я чего-то не
56 Введение в философию
знаю. И мне кажется, что если я не знаю, то узнаю во времени, в
последовательности. И чаще всего так и бывает. Например, я
сегодня знаю, что тела вращаются в зависимости от того-то. А
завтра, т.е. в последовательности, я узнаю, что была еще одна
зависимость. Скажем, вращение волчка зависит от фактора А.
Значит, завтра наши знания могут стать глубже, поскольку
узнается что-то другое. Но об этом и идет речь: знание завтрашнего дня должно быть построено так, чтобы оно не разрушалось
от того, что выявится или что станет со временем ложным. Ведь
нечто, случающееся завтра, бросает свет на сегодня и делает что-
то сегодняшнее ложным. Сегодня нужно строить знание так,
чтобы это знание не зависело от того, что выявится в качестве
ложного со временем. Это немножко другой смысл слов: пребыть
раз и навсегда, или целиком сбыться. То же самое, но ... как бы
проскочить в дырочку настоящего момента, а там - целый мир.
И теперь я могу7 вернуться к начальному пункту философского рассуждения, а именно: познай самого себя. В каком смысле? В
смысле, повторяющем все эти предшествующие смыслы. Например, звезды, - это далеко, можно познать, а можно и не знать.
Так познай то, что близко - себя. Не в качестве эмпирического
существа (я не устаю вам об этом повторять), а вот то, что у тебя
под носом. Ведь ты произносишь слова, и высказываешь то, что
заключено в этих словах, но сам ты этого не знаешь. А что может быть ближе того, что ты говоришь? Ты говоришь, не задумываясь... - вдумайся. Кстати, с этого и начинается логика: люди пользуются законом противоречия и выясняют суть того, что
сказали сами. Это близко. Мы живем в языке. Что может быть
ближе языка? Что ты сказал на самом деле?
Постараться узнать то, что ты сказал - это и есть познать
себя, в том смысле, в каком Сократ произносит эту фразу. И
этим впервые было введено понятие логоса - порядка мира и
одновременно топоса речи, у которого есть свои законы. Мы
говорим по этим законам, но сами не знаем, что говорим. А это
можно познавать. И, познавая это, познавать многое.
То есть познавай близкое и через близкое познаешь многое -
далекое, к которому можно идти через близкое. Другим путем
пошла индийская философия. Что было для нее близким? Для
греков близкое - логос, как мы договорились, слова - а мы живем в языке. А для индусов - это психика, как некие физические,
реальные состояния, испытываемые людьми. И с ними они начали экспериментировать как с самым близким, и через знание
психики и контроль над ней они вышли к глубочайшей онтологии, проблемам бытия, к проблемам космоса и пр. Через реали-
Лсишниа ¿мнил и соЯ/юннмй сцЯъеюн 57
зацию того же сократовского лозунга: познай самого себя, познай близлежащее. То, в чем ты есть, и самого себя в этом. Это и
есть отправная точка и начало специальной техники философии.
У индусов она оказалась связана с психотехникой, а греки
пошли больше по словесно-рациональному пути. Поэтому мы и
наблюдаем у греков такой взлет в развитии логики и т.д.
Пространство мысли и язык философии
Всегда трудно переключиться с одной темы на другую.
Продолжим наше историко-философское введение.
Я пытался частично организовать его вокруг одной
метафоры, указывающей на целостность и полноту человеческого
бытия как на некий идеал, выяснением условий осуществления
которого и занималась философия спасения. На ее основе, кстати,
и вырабатывались впервые термины теоретической рациональной
философии, в рамках которой потом появляется наука. Речь идет
о некой внутренней теме философ™, которая не всегда находила
свое внешнее выражение (и в античности, и в новое время, и сейчас),
но тем не менее в некоторых опытах сознания, скажем, у романтиков в XIX веке, в XX веке у экзистенциалистов и у философов
культуры, и особенно у тех, кто стал в XX веке усиленно работать над синтезом Востока и Запада, то есть обращаться к темам
и понятиям восточной философии, эта скрытая суть дела как бы
снова проглядывает все в той же метафоре. Я пользовался метафорой круга или окружности, бесконечной сферы, центр которой
везде, а периферия (окружность) нигде. Я вам объяснял, как
центр относится к периферии: центр нигде. А периферия, то есть
то, что может быть объединено с центром, охвачено лучами из
центра, она где? И тут мы невольно заколебались в употреблении
слов: то ли “Нигде”, то ли ‘"везде”. Следовательно, возможна обратная метафора (она как раз чаще всего и применялась): полнота
бытия есть или бесконечная сфера, центр которой нигде, а периферия - везде. Или наоборот... То есть нигде конечным образом
нельзя задать периферию этой сферы. Соедините с этой метафорой
все, что я говорил о некоторых свойствах сознательной жизни, о
то&, как она собирается вопреки времени и хаосу, распаду: что
человечество изобретало такие предметы или артефакты, на которых можно организовать сознательную жизнь, чтобы она могла
воспроизводиться в упорядоченном виде, а не разрушаться с потоком времени. Я приводил вам пример наблюдения небес (не в эмпи¬
58 Введение в философию
рическом смысле слова “небо”) как идеального предмета, как
обители идеальных законов на идеальных предметах, которые
движутся гармонически по идеальным окружностям. Такой
предмет не имеет значения сам по себе, а есть гармония, которая
видна наглядно, потому что небо - совершенный предмет в
отличие от земли, где трудно разглядеть совершенство, поскольку
оно теряется в эмпирических отклонениях.
Так вот, наблюдение этого идеального предмета вносит, оказывается, порядок в растрепанные или раздерганные состояния
нашей души. Именно вокруг этого наблюдения мы можем
воспроизводить проявления нашей жизни независимо от потока
времени, устремленного к хаосу и распаду. Скажем, наши переживания сами по себе не могут держаться на том уровне интенсивности, на котором они - достойные человеческие переживания.
Сами по себе они разрушаются со временем. Мы не можем, желая
определенного состояния, иметь его силой желания. Я говорил
вам, что нельзя хотеть любить и потому любить. Нельзя хотеть
иметь новую мысль, и поэтому иметь ее. Во всех случаях речь
идет о некоем бытии, которое организуется определенным образом, и тогда... что-то случится. Тогда придет в голову мысль,
тогда ощущение или переживание удержится на своем уровне и
не уйдет в песок. Тогда случится волнение или экстаз, но опять
же не в силу разрешающей способности наших органов чувств и
нашей возбудимости, а в силу других оснований. Например,
основанием экстаза может стать конструкция трагедии, и тогда
она вызовет в нас экстатический катарсис. То есть это машина
удержания; на ней, через катарсис, держатся возможные экстазы,
которые иначе организуют наши переживания, порождая определенные события. Так как их нельзя вызвать искусственным
усилием воли и желания, они случаются или не случаются. Как
же быть с ними? А вот так: именно мы обеспечиваем их возможность и их виртуальность. Чем? Собиранием себя вокруг особых
изобретений. (Например, трагедия, ритуал когда-то служили
таким изобретением, вокруг которого собирался человек.)
Приведу неожиданный пример из совершенно другой области.
Люди изобрели колесо. Очень странный, казалось бы, предмет,
если задуматься. Чтобы задать законы задумывания, скажу, что
колесо содержит в себе горизонт возможностей наших любых
способов передвижения. Вспомните, разве было изобретено что-
либо радикально новое, что выходило бы за пределы возможностей, которые очерчены колесом? Паровоз? - На колесах. Машины - на колесах, танки на колесах. Даже самолет на колесах. А
прошло сколько веков? То есть колесо как бы заранее задает на¬
Л/гос/п/шнаиво мысли и лзьис философии
59
перед возможности всякого механического использования средств
передвижения. И радикально ничего нового не появилось. Следовательно, это означает, что колесо как раз и задает, собирает
нас в качестве передвигающихся эффективным образом.
Трагедия тоже есть такое “колесо”. Обычно такого рода
колеса” обозначены разными емкими словами, или темами -
часто архетипическими, - которые проходят через пласты сменяющихся культур и сохраняются. Колесо и одновременно, например, змея, кусающая свой собственный хвост, Что такое змея,
кусающая свой хвост? Это символ потока душевной жизни,
который замкнут на самого себя. А вы знаете, что все замкнутое
на себя не распадается, никуда не движется (движется только
внутри самого себя). Странная вещь. Или, скажем, сверхпрово-
ддмостъ. Для современной физики было бы идеальным, конечно,
изобретение сверхпроводящих веществ. Но в эмпирии сверхпроводимости всегда есть различение чего-то, что я называю иногда
идеальным предметом, гармонией (иногда колесом или трагедией), и все это отличается от того, что называется эмпирией,
временем, хаосом, распадом и пр. Так вот, удержим мысль о том,
что эмпирически не выполняется или эмпирически замазано.
Хорошо, изобретены сверхпроводящие вещества. А как сделать конструкцию, которая была бы реально сверхпроводящей и
обеспечивала абсолютное сохранение электрической энергии.
Без каких-либо потерь. Оказывается, что это можно сделать,
только образовав круг из такого вещества, чтобы пустить энергию по кругу. А круг сделать невозможно, потому что концы
нужно соеддшять, их нужно паять. А спаяли и в точке спая -
потеря, теряется сверхпроводимость.
Значит, во-первых, я показываю вам, почему вдруг круг, что это
за странный символ, странная фигура, которая через все проходит?
А во-вторых, мы снова имеем тут дело с различением между эмпирией (тем, что мы де-факто можем выполнить на реальных телах)
и каким-то идеалом полноты, который пребывает над потоком
времени (в данном случае над веществом). Опять по кругу. Вот,
если бы был такой круг, то там выполнялась бы сверхпроводимость. А в случае эмпирии это невозможно. Паять приходится.
Итак, напомнив все это, я выхожу к следующей теме, на
основе которой можно уже вводить язык философии. Философия
есть язык, с помощью которого мы занимаемся прояснением обстоятельств человеческой жизни как таковой - на пределе.
Оставляя тем самым как бы подспудно личностную тему, тему
мышления как бытия каждого, собирания каждого в своем бытии, когда каждый в той мере, в какой он действительно выпол¬
60 &£е&гшле & философию
няет сознательный режим человеческой жизни и сохраняет облик
человека, является философом, философствует, знает он об этом
или не знает - не важно. А теперь я буду обращаться к языку
профессиональной философии. Вернее, я уже начал об этом
говорить. Поскольку философия относительно наблюдаемых
вещей вводит предельные понятия или доводит наблюдаемое до
предела и начинает об этом рассуждать. То есть философия
занимается основаниями человеческой жизни в предельной их
форме (или предельными основаниями человеческого бытия и
мышления). Вот такое определение философии. Мы ведь договорились, что философия имеет своим предметом философию.
Философия есть философия философии. А теперь я то же самое, более конкретно, выражу гак. Или спрошу так: что доводится до предела на философском языке? До предела доводится то, что уже есть.
А что есть? - Попытка, борясь с потоком времени в нашей жизни,
воспроизводить в этом потоке какие-то состояния, человеческие связи. Эта наша работа и является условием того, чтобы нечто было.
Если мы не постараемся, то не будет. Именно старание есть усилие
собирания. Метафора этого усилия - бесконечная сфера, центр
которой нигде, а окружность (периферия) - везде. Или наоборот.
Каждый раз у нас нет конечного задания периферии или конечного
задания центра. Это то, что перемещается, метафора, доведенная
до предела в виде максимальных или предельных предметов.
Гармонии есть везде в разбросанном, осколочном виде. Но
как говорить о гармонии? Скажем, я могу придумать идеальный
предмет гармонии или предмет гармонии в максимальном виде -
небо. Это не буквальное утверждение, хотя понималось оно в
свое время так, что якобы в действительности есть предметы,
которые движутся по идеальным окружностям: потом оказалось,
что они движутся по эллипсам. И это было разрушением определенного склада мышления, а не просто опровержением эмпирического факта. Но это было выводом, а внутренним ходом
мысли было следующее: какой предмет в предельной форме
может представить то. о чем я хочу рассуждать, относительно
любых других предметов (в том числе, относительно души)?
Максимальный или максимально выполняющий гармонию
предмет есть небо, говорили греки. Это и был философский
демарш. Интересно, что философия начинает вводить свои предельные основания и рассуждать, создавая предметы, которым в
действительности не приписывается буквальное существование,
они лишь средства и орудия, чтобы мы могли идти по некоторым основаниям всего нашего бытия. Но эти средства обычно
скрыты внутри самого бытия и как бы замазаны.
Я/маК/ишаКбо мысли и лзьис философии 61
Так вот, когда философия это делает, то оказывается, что
совершается некий акт и в результате открывается пространство,
внутри которого как раз и возможно объективное научное
мышление. Впервые объективное, научное или теоретическое
мышление складывается в этом пространстве, открытом философией в ее поиске предельных оснований или максимальных
предметов, на материале которых можно обсуждать любые
другие предметы. Началось, казалось бы, со спасения, то есть
решения личностно-бытийных задач, и поскольку пошло так,
одновременно было завоевано пространство и для объективной
научной мысли. Все теоретические проблемы философии в ее
отношении к науке (философия всегда спаривается с наукой -
это такая привилегированная пара) рассматриваются обычно в
связи с последовательным развитием культуры. Считается, что
сначала была эпоха тотемизма или анимизма, этнических
локальных религий, мифологий, а потом возникла философия и
наука. Что постепенно люди накапливали опыт, эмпирический,
технический (чертили, измеряли поверхности для землемерных
задач и пр.) и из этой совокупности эмпирических знаний внутри ремесел, человеческой техники и т.д. выросла наука - в виде
некоторого непрерывного движения (в этом смысле, например,
геометрия Евклида рассматривается как продукт эволюции
египетской практической геометрии). На мой взгляд философа,
это глубоко неверное рассуждение. Так в истории не происходило и не могло произойти. Наука не вырастает и не появляется на
новом уровне развития техники и человеческого опыта. Здесь
есть две вещи, которые важно понять - почему это было не так.
Когда мы говорим, что нечто может вырасти из эмпирии как
продолжение ее на новом уровне, то неизбежно предполагается,
что эмпирия представляет собой проблему. Мы имеем какой-то
опыт, навык, умеем что-то измерять, и тем не менее внутри опыта содержится какая-то проблема, которую мы хотим разрешить.
Эмпирически она неразрешима, и тогда мы изобретаем, наконец-
то, теорию. Сейчас пока непонятно, что я говорю, хотя в словах
ничего непонятного нет, но вот смысл непонятен (понятно нам
только то, что осмыслено). Это пока не осмыслено. Но сейчас я
сразу сделаю шаг, и вы поймете, что я имею в виду, почему
употребляю слова “проблема”, “непонятность эмпирии”. Ведь
только непонятность чего-то дает шанс родиться пониманию.
Обратите внимание на простой ход. Понимание есть ответ на
непонятное, а если нет непонятного, то не может быть или
возникнуть и понимание. Следовательно, исходное положение
неправильно. Поскольку весь запас опыта и знания, который есть
62 Введение б философию
внутри эмпирии, составляет некоторый беспроблемный мир, понятный в терминах магии и мифа. Не случайно в египетской
геометрии существовал не просто утилитарный эмпирический
кодекс (свод правил без общих формул), а происходило магическое ритуальное освящение этой геометрии. Это не формальная
привязка; она означает, что весь опыт, навыки и соответствующая
техника уже были осмыслены человеком, понятны ему, и никакой
дальнейшей проблемы выхода из этого (на уровне понимания и
смысла) не требовалось. Это вполне самозамкнутый в себе мир.
Я ведь вам говорил, что мир мифа и ритуала отличается от мира
науки, вопреки существующим мнениям, не тем, что там есть неизвестное и непонятное, на которое человек отвечает продуктами
своего воображения и фантазии - неорганизованной, буйной и
дикой. Наоборот, мир мифа есть мир, в котором нет никаких
проблем. Все ясно, понятно и имеет смысл. А вот мир науки есть
мир непонятного. Впервые непонятное появляется в мире вместе
с наукой. Именно наука делает мир непонятным, и поэтому возникает проблема понимания, которая решается в науке.
Следовательно, проблематизация мира не могла зародиться
внутри, вырасти сама по себе из техники и ремесла, потому что они
существовали в мире, который как целое был понятен и осмыслен
через продукты мифологического воображения, через магические
теории. Все стоит на месте и все понятно. Это замкнутый мир, из
которого нет хода в другой. Должно образоваться какое-то самостоятельное пространство для того, чтобы возникли проблемы.
Такое самостоятельное пространство возникло, опосредуясь
появлением философии. Это и есть второе условие возникновения
науки, действительное условие. Не пройдя через философское
пространство или через появление философии, не могла бы возникнуть никакая наука, то есть объективная человеческая мысль,
ставящая проблемы, вырабатывающая точные рациональные
методы их решения, контролируемые способы обработки опыта
и аргументации. Наука не могла бы возникнуть из простого
продолжения накопления знаний, без опосредующего звена - появления философии, которая породила в качестве побочного или
параллельного продукта некое пространство теоретического
мышления. То есть философия начала изобретать предметы, которые максимально или предельно представляют основания человеческого бытия, и тем самым одновременно сформулировала первые
элементы теоретических процедур. Возникает мир теорий, который строится на понимании различия двух вещей: первой - что
есть некоторые идеальные предметы, и второй - что эмпирия есть
нечто такое, в чем никогда это идеальное не выполняется.
Л^юоп/гаканво мысли и язык философии 63
И, наконец, чтобы судить о том, что есть в мире - в котором
не выполняется идеальное так, чтобы иметь какие-то основания
для контролируемого движения мысли, имеющего обосновываемый,
доказуемый результат, нужно на эмпирический мир смотреть
глазами идеальных объектов, И тогда в эмпирическом мире
можно устанавливать какие-то зависимости и связи.
Поэтому один из первых элементов эмпирического языка
философии есть язык Платона, у которого появляется термин
“идея”, или “форма”. И, с одной стороны, начинает развиваться
платоновская форма, а с другой стороны - идея эмпирического
мира. Идея обычно понимается по правилам эмпирического
языка. То есть мы все время как бы бегаем наперегонки со своей
собственной тенью и не можем убежать от нее. Можем лишь
помнить, что это тень. Что я называю здесь тенью? Вот я сказал,
мы должны уйти от эмпирии (в эмпирии что-то не выполняется)
и построить идеальные объекты, а потом, глядя глазами идеальных объектов, начнем разбираться в эмпирии. Но вы понимаете,
что язык-то наш (и сознание) остается эмпирическим
(наглядным, обыденным). Поэтому я и сказал, что в философии
есть идеальные объекты, формы и ввел их как правила и основу
глядения на предметы, такого их объяснения, чтобы в эмпирических предметах видеть не только эмпирию, а гармонию. Следовательно, формы или идеальные предметы являются условием
того, что я могу увидеть гармонию в эмпирическом хаосе, в переплетении впечатлений и связей. А тень, идущая со мной, говорит мне: 64идеи рождают предметы".
“Реальный, материальный мир есть продукт идей”. Что я
сказал? Я изложил вам идеалистическую теорию (якобы существовавшую) о том, что есть некоторые идеальные начала, называемые формами, идеями, и они рождают материальный, реальный мир, причем термин "рождение" имеет здесь обыденный,
буквальный смысл. Одни считают, что идеальные сущности
рождают идеальные вещи. Или материальные вещи являются отблеском, тенью идеальных сущностей, рождаются в виде теней. А
другие говорят: нет, этого не может быть, потому что идеальное
не может рождать. Но термин “рождение”, то есть буквальный
термин, употребляют и те и другие. Одни доказывают его, а другие опровергают. Опровергающие называются материалистами.
Все это чушь. Но чушь, возникающая от того, что мы не можем убежать от своей тени. Можем лишь вспомнить, что это
чушь, но язык будет продолжать диктовать нам свои законы. В
данном случае, естественный, обыденный язык. И снова мы начинаем с того, что говорим (чтобы отделаться от эмпирии в этом
64 Введение в фшлсофшо
смысле слова): для понимания эмпирии должны существовать
условия, которые сами не являются эмпирическими. И на этой
основе вводим, скажем, вслед за Платоном, идею об идеях, которые первичны в этом смысле. Но они первичны в чем? В способе
объяснения, а не в предположении, что действительно идея
может буквально рождать несовершенные, “грязные”, эмпирические предметы. Я этого не утверждал. И Платон этого не
утверждал. Но поскольку в языке у нас продолжают оставаться
термины (то есть создается ситуация, в которой снова возможен
тот же эмпирический язык, от которого я избавился, но уже относящийся к моему сознанию, к ходам рассуждения, к терминам),
то возникает новая теть. Возникает тень якобы существовавшей
теории о том, что были такие утверждения, что идеи могут
рождать вещи. На это можно сказать лишь одно: вещи рождаются вещами, и вообще - все рождается старым способом. Нет
непорочного зачатия. Если кто-то говорит о непорочном зачатии, значит, он имеет в виду что-то другое. Я поясню вам символ
непорочного зачатия. Мне это нужно для того, чтобы вы
ухватывали свойства языка философии.
Я рассказывал уже о том нечто, что прорастает в человеке
после того, как сделано определенное усилие, совершена определенная работа; я ее называл собиранием. Что я говорил? Я ведь
фактически различал два вида рождения. Один раз мы родились
от отца и матери, а нам еще нужно род иться во второй раз. Что
это за второе рождение? Оно ничем не опосредовано. Оно непорочно. Простой смысл. Нечего здесь дальше гадать. Это просто,
когда мы знаем законы языка. В данном случае, не обыденного
естественного языка, а законы языка религии или законы языка
философии. Но чаще всего об этом говорится в пиквикском - не
в плутовски-ироническом, а в глубоко символическом смысле
слова. Символические же обозначения внятны не нашему слуху,
который воспринимает язык (ухо-то воспринимает звуки слов
“непорочное зачатие”), а внятны душам, готовым это услышать.
Если душа слышит, о чем идет речь (а философия - слышит, в
отличие от религии), тогда душа должна собраться, чтобы
услышать язык философии.
Мы сидим сейчас на проблеме идей как первом элементе языка
философии. Эта тема фх?гурирует, например, в виде терминов
“сущность”, “сущности - явление” и т.д. В общем, все пары
философских оппозицк которые существуют, зарождались
здесь. Я имею в виду оппозиции: форма и содержание (оппозиция
категориальная, как говорят); сущность и явление; возможность
и действительность; случайность и необходимость и т.д. О чем
Яроа^сшаКво мысли и лзьис философии 65
шла и идет речь? Фактически, я вам уже сказал, что это такое.
Идея - ‘‘колесо” всего и вся. Идея есть все то, что для чего-то, и
все то, что внутри “колеса”.
Итак, я бросил провокационную фразу насчет “колеса”.
Идея есть “колесо” всего. Тетерь вдумайтесь, что такое “колесо”
в связи с тем, о чем я говорил. Но прежде очистим почву для
понимания идеи. Мне нужно опять избавляться от навыков обыденного, наглядного языка. От той тени, которая нас преследует.
И преследование ее настолько основательно, что теория идей
была понята в следующем смысле. Скажем, есть лошади. Есть
понятие, или термин, “лошадь”. Что такое термин “лошадь”?
Термин “лошадь” (или понятие) - это общее от единичных лошадей. Слово “лошадь” означает единичных лошадей и является,
так сказать, обобщением эмпирически наблюдаемых лошадей.
Родовое, общее понятие. И затем делается следующий шаг. Полагают, что сначала существует индивидуальный пред мет, потом возникают слова и термины, его обозначающие, и тоща якобы возможно
философское учение, которое говорит о сущности лошади, имея в
виду это общее понятие. Поскольку если существуют сущности, то
есть, если есть идеи или некий мир идей, то философ пред полагает,
что существует и некая “лошадаость” (дом - “домность”). Это
живет как особая реальность по законам нашего языка.
Однако проблема идей не имеет никакого отношения к проблеме единичного и общего. Это совершенно другой срез проблемы.
Воспользуемся снова примером “колеса” и подумаем, о чем идет
речь в данном случае. Ведь “колесность” существует. (Не в смысле
общего понятия колеса.) Потому что когда мы употребляем общее понятие, то как раз “колесности” не видим, не видим здесь
проблемы. А вот когда начинаем думать о путях развития техники, о том горизонте, который сконцентрирован в колесе, тогда
в отличие от эмпирического колеса оно и есть идея. Или то, что
Платон обозначил словом “идея”. То есть некий предмет, который выделяется как предельный, на котором мы рассуждаем о
возможном горизонте нашего мышления и практики относительно данного предмета. Следовательно, что есть “колесо” в
смысле идеи? - Весь горизонт наших возможностей передвижения. Мы ничего не можем помыслить “не-колесного” - до сих
пор не можем, хотя японцы, например, и пытаются изобрести в
последние годы новое средство передвижения на так называемых
магнитных подушках. Но это лишь некий технический предмет -
особый, конечно, - но стоящий в ряду других сходных предметов. Иначе это был бы принципиальный выход за границы данного культурного горизонта, который содержит все наши воз¬
66
Введение в философию
можности практического и мыслительного использования механического перемещения.
Или, например, “домность”. Какая? Что такое “домность”?
Вот, перед нами пять домов. И что? Понятие “дом” - это
“домность” этих пяти домов? Поскольку каждый дом единичный, а “дом” - это дом вообще? Идея дома? Нет, очевидно. Если
мы понимаем, что такое идея, когда думаем о том, что у каждого
из нас должен быть действительно дом. Что жизнь человеческая
без дома, то есть без какого-то пространства, вокруг которого
могут возводиться круглые стены, квадратные и т.д., - практически немыслима. Ведь почему-то должна быть еще и крыша. Это
ритм и одновременно горизонт, и режим человеческой жизни,
которая производится в таком виде тысячелетия. Мы не представляем себе жизни вне дома. Куда бы мы не пришли - мы замыкаем пространство вокруг себя, обязательно вспоминаем или думаем
о доме. “Дом” есть идея, а мы - внутри идеи. Наше мышление
внутри идеи. Жизнь “домности” и есть жизнь идеи. Или постель,
кровать (этот пример часто встречается у Аристотеля и Платона). Значит, “кроватностъ”. Дело в том, что это тоже некая
заданная форма. В каком смысле заданная? А в том, что почему-
то мы ложимся спать, мы ведь не спим стоя. И по образу и форме
человеческой жизни мы почему-то непременно должны занять
горизонтальное положение. Причем задан и элемент этого положения: голова немножко выше тела. Это есть форма кровати.
Как форма, внутри которой воспроизводятся ритмы и возможна
жизнь. Эмпирически кровати каждый раз разные; акты сна тоже
эмпирически едцннчны. Но они все внутри “постели”, ‘‘кровати”, в
смысле формы. Я повторяю платоновский термин: они все -
внутри формы. И одновременно на обыденном языке, невольно
поясняющем платоновский, говорю: все они внутри формы кровати. Это не случайное слово - форма. Потому что форма и идея
совпадают. Внутри формы кровати - различие культур (японцы,
спящие на полу, не имеют кровати; но они спят все-таки, у них
есть ритуал размещения тела на циновке) - выдвинутое культурное
пространство, в котором мы спим, в котором что-то делается.
Форма отличается от делаемого, а делаемое есть эмпирия.
Значит, есть различие между интеллигибельностью и знанием. То, что говорится о формах, говорится о некоторых правилах
понятности, предшествующих нашей возможности знать - о чем?
О том, что под идеей кровати или идеей стола, дома и т.д. понимается некий мир, который допускает существование в нем столов, кроватей, домов. То есть некоторый такой мир - в данном
случае мир культуры, мир артефактов (предметов, созданных ис¬
7%гоай{1анс&во мысли и язык философии 67
кусственно человеком), ~ в котором выполняется какая-то человеческая возможность. В нашем случае - кровати. И тогда, если
есть такой мир, в котором выполняется это, то кровати нам знакомы. Мы на них можем ложиться. Это освоенные нами единичные предметы, о которых в свою очередь можно высказываться,
о них можно судить. Например, красивая кровать или не красивая. Ах, какая удобная кровать! Это все единичные предметы,
эмпирические. А теперь возьмите эту аналогию и распространите
ее на более сложный случай. На случай, когда такие высказывания являются научными. Например, геометрическими теориями.
Идея числа или число как идея, или геометрическая форма как
идея, есть самим миром выполняемое условие, благодаря которому допускается существование высказываний геометрии. Или
высказываний арифметики. Тогда арифметика понятный язык,
и. будучи понятным, позволяет нам что-то знать точно. Потому
что в той мере, в какой мы охватили нечто количественными отношениями (а они - язык, понятный нам), мы сделали понятным,
то есть возможным в качестве предметов знания и то, что охвачено этими количественными отношениями. Допустим, колебание
струны. О нем можно знать и рассуждать точно, если есть число
как идея. Не в том смысле, что число-идея порождает количественные предметы, которые были бы тем самым несовершенной
тенью, отражением. Этого никто не говорил. Речь шла об основании, стоя на котором, можно о чем-то рассуждать и что-то утверждать. Введение идеи сущности в философии, как некоего правила
интеллигибельносш, указывает лишь на это.
Об отдельных эмпирических предметах, движении те.движении звезд, событиях можно рассувдатъ и высказывать что-то,
что поддавалось бы контролю и было бы объективным и точным,
только в той мере, в какой мы рассматриваем их в пространстве
идей, в пространстве форм. Они как бы дают некий срез этах
идей, в результате чего мы можем высказывать о них (как предметах) нечто объективное. В предположении, что какое-то отдельное
движение здесь, на месте выполняет какие-то законы форм, и,
рассмотрев это движение в качестве такового, мы можем о нем
знать объективно, в универсальной или всеобщей форме, которая
неотделима от научного мышления. То есть строить всеобщие
универсальные и необходимые высказывания. Вот так впервые
возникает пространство науки как побочный и параллельный
или внутренний продукт философии - не из практики или техники,
а лишь опрокидываясь, если угодно, в эту практику, технику и т.д.
Это все сложно, потому что нужно всегда держать себя на
уровне того напряжения понятий, которые предположены самими
68 Введение в философию
понятиями; и эти понятия непонятны, если каждый раз заново
не выполнять этого напряжения. Но тем не менее это все можно
было бы делать, если каждый раз нам не мешал бы сопровождающий нас теневой наглядный язык. Язык буквального понимания всего, потому что наш язык по определению - предметен.
Всякое слово имплицирует существование его эквивалента; и
даже слова, обозначающие душевные явления, имеют инерцию,
навевающую нам мысль о том, что чувства существуют так же,
как существуют предметы, что мысль существует подобно существованию особых духовных существ и т.д. Кстати, создав такую
индуцированную видимость, люди тысячелетиями ломают себе
голову - как же вообще понимать? Если вообще правила понимания есть особые гомункулы особых одухотворенных сил, ходячих духов, мыслей, чувств. Мысль отдельная якобы дух. А может
быть, проблемы такой нет? Во всяком случае данная проблема
навеяна наглядным языком. Такое навевание (идущее из античной же философии) и создало прочную пелену, преграждающую
нам путь к действительному пониманию того, о чем говорит
философский язык, что он утверждает.
Короче, дальнейшим шагом философского языка как раз и
вводится понятие формы или сущности, или рациональной
структуры вещи. Рядом с эмпирическим есть рациональная
структура вещи, которая есть правило интеллигибельности и
понимания. Допустив эту структуру вещи в ее пространстве, я
могу понимать единичные проявления, факты, события. То есть
сделать их предметом особого рода высказываний, а именно -
научных, теоретических. А теоретические высказывания поддаются уже контролю и аргументации. И вот, параллельно с
формой вдет идея неких вещей, которые открыты обсуждению,
аргументации. Миф не открыт, мифические существа не открыты
и иным способом вносят смысл в мир. А тут вот взяли
“кроватность” и создали предметность, говорение о которой
поддается опровержению или доказательству на основе фактов.
Тем самым я ввожу тему, которая является основной для философии и науки, - определенных вещей, о которых можно рассуждать, приводить доводы “за” и “против”. Поскольку введены
не только доводы логической мысли, а еще и указание на эмпирические факты. Эмпирия или наблюдения, или опыт, на который они указывают, появляется только тогда, когда появляется
теория. Только в свете теории нечто может иметь значение эмпирического факта, наглядной эмпирической основы наших знаний, с которой они обязательно должны соотноситься.
7§гоап{ган&иво мысли и лзьис философии 69
Значит, суждения, факты - особая вещь. Факты тоже появляются только на фоне теоретического рассуждения в качестве
элемента науки. В этом смысле они нечто иное, чем просто факты. Просто случившееся, будучи фактом (в обычном смысле слова), появляется бессвязно, разрозненно. При этом можно приводить и соответствующие аргументы, если оставаться на почве
обыденного языка, который не организован в свете формы. Однако тот язык, который организован, зависит в конечном счете
от луча света, идущего от нас на предметы, и может быть когерентным, подобно лазерному лучу. А может и не стать таковым.
Фактически философия начинается с того, что говорят, хотя
не на все можно ссылаться. Допустим, вы говорите: храбр тот,
кто радуется победе над врагом или бегству врага. Это факт, так
ведь? Но нельзя на это ссылаться, потому что трус тоже радуется
бегству врага. Так как же на этом основать (а я пытаюсь основать) понятие добродетели? Рассуждая о добродетели, я привожу
нечто, что называют фактом, - добродетель и готов ликовать
при виде бегущего врага. Это случается. Но факт ли это? Нет, не
факт, потому что есть и противоположный факт - трус тоже радуется бегству врага.
В мифе Платона тиран, у которого, естественно, не было
друзей - я уже приводил этот пример, - создал вокруг себя пустоту в силу тиранства, тиранской натуры, и вдруг получил возможность повторить жизнь. И он рассуждает, что вот этого он
бы не сделал, этого не послушался, а этому бы поверил. Заново -
при той же натуре. Или то же самое мы встречаем в рассуждении
историков и людей, которые пытались извлечь опыт из гитлеровской истории. Некоторые из них заявляют, что если бы Гитлер послушался генералов, больше доверял им, то, возможно, и
не потерпел бы поражение. И ссылаются при этом на факты: не
распустил колхозы, неправильно спланировал направление удара и т.п. А это - не факты. Фактами они могут быть, если мы посмотрим на них глазами идей. А идеей, формой в данном случае
что является? - Тиранство. Ведь что такое тиранство? Как о нем
можно рассуждать? Вглядись в собственный нрав и измени себя.
Эмпирические обстоятельства здесь ни при чем. Они есть лишь
внешняя форма проявления того, что уже решилось, разыгралось
в идее. Ну, не мог Гитлер слушаться генералов, не мог он отменить колхозы, потому что он не был бы тогда Гитлером. Это
тавтология. Что значит - “если бы’'? Да, в принципе это движение устремленное; совершение глупости вытекает из самой природы национал-социалистической идеи. Но речь идет о развертывании возможностей, заложенных в форме. А что это значит?
70 введение в философию
Вот, я сейчас говорю - выполняю закон понимания. И тогда то,
о чем я говорю, есть факты. Конечно, я могу и их приводить. Но
они есть не просто обстоятельства, на которые мы можем
ссылаться, указывать: вот, это так, а это так. Мало ли как, все
бывает. Это - не факт.
Повторяю, философия и наука появляются одновременно,
как тип рассуждения или как возможное отношение к фактам.
Или как возможность превращения вообще чего-то в фактическую основу рассуждения. Здесь и появляется тема - одаого и
многого. Еще одно понятие философии, о котором я частично
говорил. Что это значит в данном случае? Многое - воспроизведено на основе одного. Множество фактов, воспроизведенных на
основе или в пространстве идеи. В пространстве формы, где многое сковано в одао. Вот дилемма античной философии. И одновременно это образ теории, обладающей, как стали выражаться
в XX веке, эстетическими качествами. То есть простотой, достоверностью внутреннего объяснения. Какая-то простота формулы
или рассуждения, гармоничная связь целого. И это настолько
красиво, что не может не быть истинным. В современной физике,
по-моему, однажды Вигнер так воскликнул, или Гейзенберг.
Настолько просто, гармонично и красиво, что это не может не
быть истинным. И чаще всего так и бывает.
Греки не так говорили. И отсюда одно и мног ое; почему есть
многое, а не одао? Как многое воспроизводится на основе одного? Потому что, когда многое воспроизведено на основе одаого.
оно есть логос или порядок. Еще одао решающее понятие философии. Логос или порядок. Но логос не просто как порядок мира
и не просто порядок языка, а логос как порядок такого мира, который внутри себя содержит и выполняет человеческие условия
того, что он может быть понят.
Мир одного или мир многого, которое сковано одним и воспроизведено на его основе; множество фактов, выхваченное координирующим лучом формы, идеи, и есть логос. Или естественный порядок. То есть такой порядок, который срабатывает
независимо от человека и его намерений. Тиран думает, что он
мог бы исправить ошибку, а натура - я не случайно взял слово
“натура” - природный или естественный закон (отсюда его замещение, но движением через форму) - логос сделает по-своему.
Поэтому Гераклит и говорит: слушайте логос, а не меня. То есть
в греческой философии возникает идея естественной или
природной необходимости в широком смысле слова. Нечто, что
необходимо срабатывает, независимо от человека, от его
намерений и блужданий. В этом смысле - естественно, так как
^[¡гос&ришанво мысли и язых философии 71
независимо от человека. Натура тирана проявляется естественно, однако это не предмет природы.
И вот дальше философия разыгрывается на двух таких
стержнях. С одной стороны, природа как нечто самодостаточное, целое, само себя проявляющее и выступающее перед человеком в виде независимых последствии от его поступков, которые
входят в это целое. Это нечто большее человека и самодостаточное, требующее уважения и понимания. Природы придерживаться надо! Не только тиран должен придерживаться природы и при
этом нрав свой замечать. А вот нужно заглянуть в форму, и
тогда организуется хаос. И можешь жить по природе.
И вторая идея - параллельно с естественной необходимостью
в этом смысле слова, как я только что объяснил - душа, сторона
естественной необходимости. (О ней много размышляли Гераклит, милетцы, Демокрит, Аристотель, Платон). Но под душой в действительности имеется в виду эксплицитное выявление
условий интеллигибельноста или понятности, которые предшествуют тому, чтобы мы вообще нечто могли видеть в терминах
естественного целого или естественной необходимости.
Философия и наука
Я рассказывал до этого об античной философии, хотя
задача моя - дать просто очерк философии. Я делал это,
потому что определенный фон и основной фонд понятий
и представлений, каких-то постоянных связок философской мысли
образовались в античности. Поэтому нам нужно удерживать в
голове не только мировоззренческую объективную сторону дела,
где философия выступает как аппарат понятий, представлений и
действий, но одновременно и способ личностного бытия, эксперимента с собственной жизнью, когда совпадает со способом
жизни, который практикуется человеком. Это вытекает из того
обстоятельства, что философия как таковая связана в глубинах
своих с режимом нашей сознательной жизни в той мере, в какой
эта жизнь представляет собой некоторую целостность и реализуется на основаниях, отличающихся от природных оснований. Я
говорил вам, что по своей природе мы рассеяны; по своей природе некоторые духовные, культурные и другие человеческие состояния не могли бы удерживаться и рассеивались бы.
Сам мир культуры был изобретен человеком как такой мир,
через который человек становится человеком. Я подчеркиваю
72 Введение в философию
слова “через который”, поскольку человек не есть естественная
данность. Вот, в этом компоте и образовались первые вишенки
философии. Но созрев, они создали некую лимфу, некую протоплазму для многих других вещей, в том числе и для научного
мышления. Я показывал вам, что научное мышление невозможно
- ни как деятельность, ни как проблема - без некоторых предваряющих философских акций, без предварительного образования
философского пространства в нашей культуре.
Дата возникновения философии - примерно VI век до н.э.
Эта дата одна и та же и в Греции, и в Индии, то есть в разных
регионах. Это время появления того, что можно назвать универсальным замыслом культуры. До этого рубежа мы имеем дело с
локальными культурами, культурными регионами и с локальными или этническими религиями. А после возникновения философии говорим о мировых религиях, о каком-то новом, особом
универсальном измерении культуры, которая строится в качестве
человеческой, поверх и помимо локальных различий культур.
Тут два феномена - поясню на примере.
Скажем, с одной стороны, мировые религии, а с другой стороны
- наука. Обычно в прогрессистской эволюционной концепции
последовательность такая: сначала был анимизм, мифология, затем
религия (христианство, ислам, буддизм), а затем возникают рациональные виды мировоззрения - такие, как философия и наука.
Однако мировые религии возникают после философии. Если бы
не возникла философия, они бы тоже не возникли. Даже эмпирически вы, очевидно, знаете, в каком глубоком смысле христианство явилось переработкой аппарата греческой философии.
И то же самое с наукой. Ведь наука - это прежде всего такой
вид знания и деятельности, который по определению внекульту-
рен или сверхкультурен, или универсально культурен. Это мыс»
ленные кристаллизации, мысленные образования, системы понятий и представлений, имеющие значения помимо и вне той
культуры, внутри которой они эмпирически образуются. В этом
смысле греческая наука - это нечто не зависящее от греческой
культуры. По-видимому, должен был появиться такой тип
сознания, такой тип мышления и тип работы, которые вырабатывали представления, не имеющие локального культурного
значения, общие для человеческого разума - помимо и поверх
культурных различий. Иными словами, наука появляется как
универсальное измерение человечества. Поэтому имеет смысл
употреблять термин “человеческий разум”, как нечто, что свойственно всем, и в чем все могут быть как-то объединены или
быть одинаковы.
Философия и наука 73
Появление разума - не в смысле психологической способности человека, а в смысле универсального, культурного измерения всех людей - предполагает ссылку на опыт. Что такое опыт?
Опыт есть предмет ссылки для разума в той мере, в какой нечто,
переживаемое в опыте, не локализуемо и не может быть приписано только одной культуре. Значение научного аргумента,
дискуссии, указания на факты - универсально, в отличие от
мысленных образований, присущих той или иной кулыуре.
Так вот, эта универсальность, всеобщая значимость дискуссии и аргументации - все это предполагает определенный аппарат понятий, в основе которого лежит различение между двумя
мирами, введенное внутри философии - между миром действительным и миром по мнению. Причем в “мир по мнению” попадают локальные культурные представления. То, что кажется
кому-то в Афинах, в Китае, Персии и т.д. - это мир как он представляется. А представляется он всегда в зависимости от обстоятельств и времени.
Но есть и действительный мир - мир по истине. Утверждение,
что есть “мир по истине", или мир действительный, в устах ученых и философов означает прежде всего, что есть такой мир или
такие предметы, о которых возможны универсальные высказывания. Повторяю, что существование действительного мира
предполагает наличие предметов, о которых возможны универсальные высказывания, истинность или ложность которых открыта для любого человека и подлежит обсуждению людьми независимо от того, откуда они, в какую систему общественных
отношений включены, какие культурные комплексы им привычны и пр. Иными словами, основной заряд идеи о различении мира - что есть предмет не сам по себе, а предмет как он видится,
как представляется - указывает на мир, о котором можно говорить общезначимо, высказывать суждения, имеющие значения
для всех, в любом месте и в любое время.
Другое дело, что к характеристике этого действительного,
истинного мира добавляются и другие слова, а именно - идеальный мир. Будучи истинным, это в то же время мир идеальный или
мир идеальных предметов и сущностей. Эти термины тоже предполагают выделение в любых вещах такого, о чем возможны рациональные высказывания (если понимать под “рациональными
высказываниями", во-первых, общезначимые, а во-вторых,
поддающиеся доказательству, аргументации и опровержению).
Как говорил я в прошлый раз, здесь и завязывается драматическая история взаимоотношений философского языка с языком
обыденным. Например, когда Платон выделяет рациональную
74 Введение в философию
структуру вещи (то есть ее идею или форму), то это означает, что
я могу через это говорить общезначимо и об эмпирических вещах. Должен подходить к ним со стороны идеальных вещей. Или
со стороны мира по истине, поскольку у него же нигде не сказано, что идеи существуют, как существуют стулья, кровати, деревья. Термин "существование идей” имеет смысл только в контексте воспроизведенных мною сейчас шагов рассуждения, из
которых, я надеюсь, вам ясно - зачем, для чего, и о чем это. Это
только пример, но он постоянно воспроизводится в истории
мысли, в истории драматических взаимоотношений между
философским языком и языком обыденным, наглядным. Чтобы
понимать язык философии, мы должны отучаться от наглядных
привычек понимания, которые несет с собой обыденный язык. В
действительности, то, что я сейчас сказал, есть первое введение
различения (чрезвычайно важного для всей философии) между
теорией или теоретической мыслью и эмпирическим описанием.
Между теорией и эмпирией, между теорией и опытом.
Философы поняли, что для того, чтобы можно было высказываться об опыте, нужно сначала иметь какие-то другие предметы, на основе которых можно было бы сказать нечто такое,
что могло быть контролируемым образом перенесено на говоримое об эмпирических, наблюдаемых предметах. В этом смысле
теория изобретается как замена эмпирического описания. Эмпирическое описание бесконечно, рассеянно; оно запутывается в
переплетениях тысяч и тысяч противоречивых обстоятельств и
связей. Разобрать их и увидеть внутреннюю связь невозможно,
если не посмотреть глазами каких-то других предметов, которые
суть теоретические конструкции. Между тем идеи и формы
Платона и являются такими первичными конструкциями, которым отнюдь не приписывалось существование материальных
предметов, они и есть условие их понятности.
Таким образом, нами введены два принципа научного мышления. Во-первых, так называемый принцип объективации. Он
состоит в том, что я сознаю, что совершаю какую-то особую
операцию, когда некоторым состояниям своего сознания и опыта приписываю свойства быть картиной происходящего в мире
вне этих самых состояний. То есть я как бы объективирую определенные состояния сознания, выношу их вовне и отделяю себя,
говоря о них: вот объект - я его наблюдаю или о нем знаю. Но
вы понимаете, что это не само собой разумеется, потому что влечет за собой и содержит в себе какие-то правила, допущения и
условия, без которых такая процедура невозможна. Например,
когда я говорю, что в дереве, допустим, сидит какая-то душа, ка¬
Философия, и наука
75
кое-то маленькое невидимое одухотворенное существо, и шелест
листьев, движение веток есть в действительности выражение
души этого существа (оно о чем-то “рассказывает”) - что я, в
таком случае, делаю? Разве я произвожу “объективацию"? - Я
наблюдаю движение веток, слышу шелест листьев. Это мои
“состояния”, а не “объективация”. В том-то и дело, что нет!
Объективация предполагает вынесение вовне в качестве объекта чего-то такого, о чем возможны контролируемые и на опыте проверяемые суждения. А когда я говорю, что у дерева есть
душа, то есть некая самостоятельная инстанция, не зависящая от
меня причина наблюдаемых явлений, то самим языком описания,
построенным мною, исключаю саму возможность высказывать
об этом дереве научное суждение. (Ведь оно сейчас помахало
веточками, а через секунду иначе помашет или зашелестит
листьями.) Следовательно, то, что называется “объективацией”,
есть совершенно особая процедура, характеризующая науку, но
явно имеющая свои ‘‘предпосылки" и “условия”. Лишь посмотрев “глазами идей”, мы можем увидеть не видимость вещей, но
взяв видимость как проявление сущности, когда сущность не
есть нечто одушевленное и самопроизвольное. Короче говоря,
научная объективация предполагает изъятие души из предметов
внешнего мира. Мы можем объективировать нечто только тогда,
когда в этом нечто, что тоже называем предметом или объектом,
не предполагается самодеятельная, самопроизвольная душа. На
этом принципе и возникают навыки научного мышления; другие
же, более конкретные принципы развивают формы эксперимента, наблюдения и т.д.
И второй существенный принцип, который тоже имеет философские корни - принцип понятности мира. Этот принцип - самостоятельный предмет философгаь Он предполагает следующее: чтобы мы могли понимать мир, в нем должны выполняться
предпосылки самого существования человека, понимающего
этот мир. То есть научное высказывание предполагает некоторое
исходное или первичное сращение человека с миром; что мир сам
содержит в себе предпосылки существования такого существа,
которое этот мир может познавать и иметь о нем знание. Отсюда,
з основах философского и научного мышления, в его первичных,
архаических образованиях такое большое количество аналогий
и уподоблений. Например, сравнение макрокосмоса с микрокосмосом, требование подобия между ними: чтобы микрокосмос
был построен так же, как макрокосмос. Почему это делалось?
Это была реализация в первичных формах принципа понятности мира, как условия знаний о мире: само подобие макрокос¬
76
введение в философию
моса и микрокосмоса есть условие того, что микрокосмическое
существо (которое по определению не может обнять весь космос)
может этот космос тем не менее понимать, потому что они устроены аналогично. Этот ‘"принцип понятности’’ не всегда может
формулироваться эксплицитно. Скажем, существуют теории,
которые, имея в своих основах “принцип понятности”, сами, в
составе своих утверждений, этот принцип однако не развивают.
“Принцип понятности” как бы составляет при этом лимфу, протоплазму возможных научных утверждений, которые в научной
теории выступают как система знаний.
Или скажем так: “принцип понятности” есть принцип некоторого космологического включения человека. Мы понимаем
тот космос, в который мы, каким-то подобным ему образом,
включены. Но само это космологическое включение может
меняться, варьироваться и на разных основаниях каждый раз
устанавливаться человеком заново. Например, известно, что в
астрономии существует так называемая проблема “космического
чуда”, то есть таких явлений, которые наблюдаются наглядно - в
виде периодического мигания звезды. И мы могли бы предположить, что это мигание есть сознательное сообщение нам каких-
то знаний, сведений, т.е. проявление некой сознательной жизни.
Это и называется “космическим чудом”, иллюстрирующим проблему понимания или “принцип понятности” в отличие от
“принципа знания”. Проблема же состоит в нашей возможности
дешифровки кода, которая зависит, естественно, от включения в
источник сообщения, что и позволило бы признать его явлением
сознательной жизни, а не вещью. Учитывая, что любая последовательность идущих сигналов (подобно звукам голоса) суть
лишь последовательное “сотрясение воздуха”, которое исследуется в соответствующем разделе физики, а мы воспринимаем это
на уровне якобы осмысленной речи. То есть мы читаем смыслы,
как некое сообщение на уже известном нам языке (при условии,
что выполнен принцип понятности наблюдаемых явлений), поскольку считаем, что сами приобщены к источнику этих явлений.
Следовательно, в случае “космического чуда" мы имеем дело
с таким примером, где, во-первых, видно различие между исследованием и пониманием, и, во-вторых, видна зависимость того,
что мы можем знать, от того, что мы можем понимать. Мыт не
можем превратить мигание звезды в источник адресованного
нам сообщения, и, тем самым, исследовать вещественные проявления мигания, потому что - непонятно. Оно остается для нас
загадкой в том смысле, что мы не являемся частью того мира, о
котором предполагаем, что он посылает нам свои сообщения.
Философия и наука 77
Вот если бы мы могли каким-то образом оказаться в нем, тогда
другое дело. Тогда был бы выполнен, очевидно, и принцип понимания, или соразмерности человека с объектом его исследования. Космическое же ‘‘чудо” с нами не соразмерно, так как не
установлена мера предшествующего знания. В этом случае нечто
не может стать предметом знания. Поскольку если я предполагаю, что вижу не просто периодические колебания световых лучей, а что-то другое, то еще не могу занять позицию исследователя и понимать звезду уже не как звезду, а как разумное
сообщение. Не могу - если я не поставил себя какими-то другими
акциями (не являющимися акциями исследования) в соразмерную
связь с тем миром, из которого и в котором производятся сообщения. Это, кстати, одновременно и есть та связь, посредством
которой наука вписывается в ту или иную культуру, но взятую
уже в больших измерениях - античную, культуру Нового времени или культуру XX века.
Эти ситуации, иллюстрирующие значимость принципа
понимания, воспроизводятся и на верхних этажах культуры.
Например, есть известная проблема наглядности в современной
физике, которая в действительности означает то, что ученым не
удается смоделировать предмет, по поводу которого строятся
физические уравнения. Скажем, в классической механике скрытым правилом понятности мира самой механики была наглядно
доступная модель непрерывного действия. Ведь если есть причина, то мы можем наглядно прослеживать ее действие. Если на
действие природы можно наложить модель непрерывно охватываемой связи причин и следствий, то о действиях природы
возможно построение знания. Но знание в свою очередь может
ставить нас перед ситуацией разрушенного понимания или разрушенной наглядаости. Так. формулы физики в силу того, что
они иначе строятся в теории относительности и в квантовой
механике, содержат в себе в том числе и символический, непонятный элемент, когда описываемые ими действия природы не
могут быть уподоблены никакой наглядной человеческой модели.
Поэтому, в частности, Поль Валери в свое время говорил, что
современная физика в принципе непонятна. Ее теория есть лишь
инструмент, который является не предметом понимания, а
способом действия, получения в конечном итоге, посредством
непонятных манипуляций, каких-то практически значимых и
практически достоверных результатов.
То есть человек может быть отъединен не только от мира
вещей - не иметь с ним соразмерности, но и от мира знаний. Не
только вещи могут быть непонятны, но и знания могут быть
78 Введение в философию
непонятны. В этом смысле я и провожу аналогию с ‘‘космическим
чудом”. Это просто метафора, поясняющая ситуацию принципа
понятности с разнь1х сторон: в каком-то смысле человек, написавший эйнштейнову формулу или формулу квантовой механики, тоже есть космическое чудо для нас. Он говорит с нами на
марсианском языке, внутренних правил интеллигибельности или
понятности которого мы не знаем. И тогда, следовательно, это
знание такое же, как и вещь. А чем вещь отличается от знания?
Знание мы понимаем, а вещи - исследуем.
Есть так называемый бином Ньютона. Бином Ньютона - это
знание, а то, “о чем” бином Ньютона - вещь. Скажем, перед нами математическая структура, обнаруженная и описанная этим
биномом. Когда он сформулирован, мы его воспринимаем и
понимаем (если, конечно, поработаем), а не исследуем, как
исследуют вещь, чтобы получить потом формулу, называемую
биномом Ньютона. При этом количество труда, которое мы
затрачиваем на оперирование им, разумеется, несопоставимо с
количеством труда, которое было потрачено на формулировку
этого бинома.
Повторяю, знание мы усваиваем актами понимания, а вещи
исследуем. И, исследуя, раскалываем. Но бином Ньютона мы не
должны раскалывать. Мы пользуемся им фактически бесплатно,
даже если не знаем, что есть такое знание, лишь предполагая о
его существовании. Как можем предположить, что мигание тоже
есть знание. Иногда приходится. Хотя воспринять - не можем,
исследовать - нужно. А исследовать можем, если есть какая-то
уже установленная соразмерность. Вот такой странный как бы
замкнутый круг. Как в случае физики, описывающей действия
природы, по отношению к которым нет никакой подставимой
под это наглядной модели - и тогда сама формула физики не
может быть воспринята и становится вещью. Хотя мы предполагаем, что она знание, а не вещь. А воспринимать ее в качестве
знания не можем, потому что в принципе по-разному относимся
к вещам и к знанию.
Итак, знание мы воспринимаем, а вещи исследуем. Благодаря
знанию мы находимся в континууме общения и сообщения. А с
вещами?
Оказывается, что это лишь предельный случай, иллюстрирующий разницу понимания и знания, исследования и восприятия; обычно же эти вещи смазаны. Разницы мы не замечаем. Поскольку принцип понятности, формулируемый в основаниях
науки, в самих теориях никогда эксплицитно не формулируется.
Но он указывает на важность удержания предпосылки о разли¬
Философия и наука
79
чии между исследуемыми вещами и понимаемыми или воспринимаемыми знаниями. И эта предпосылка состоит в некоторой
предваряющей акты знания соразмерности человеческого
существа, занимающего определенное место в мире, частью
которого он является.
Поэтому философия все-таки особая вещь и странностям ее
не надо удивляться просто потому, что каждый раз приходится
заново проделывать работу, которая направлена на восстановление или прояснение условий понятности. То есть философия
не есть сумма знаний, хотя она может пользоваться любым
материалом науки, искусства, права и т.д. Ибо ее интерес всегда
направлен на внутренние сцепления конкретных - научных,
художественных и других - актов понимания, актов знания,
связанных с положением человека в мире, от которых зависят
возможности понимания. А от понимания зависит знание. Эти
внутренние сцепления внешне проявляются в определенных
симптомах, к которым философ должен быть чувствительным. И
потому работа философии кажется вечной и одинаковой, ибо
сами эти условия - не даны раз и навсегда.
Скажем, тот же принцип понятности не дан раз и навсегда.
Его приходится устанавливать, воспроизводя всякий раз какие-
то новые условия человеческого существования, чтобы было
возможно восстановление понимания. Если мы перестали, скажем, понимать формулы физики (хотя они есть знание) в том
существенном смысле, о котором я говорил, то приходится заново рассматривать старые философские вопросы. А именно, что
есть субъект, а что - объект? Что - реально и что - символично?
В частности, современная философия снова занимается, казалось
бы, проблемой “субъекта-объекта", а з действительности сместилось само это взаимоотношение - в реальной культуре и науке. В науке XX века, в теории относительности и в квантовой
механике приходится заново рассматривать - что? Проблему
субъекта и объекта! Казалось бы, старая проблема, о ней давно
говорит философия. И что же - это проблема, которую философы не могут решить? “Проблему" решают ученые, а философы
никогда не решают своих проблем.
Дело в том, что в философии вообще нет “проблем”, как
чего-то разрешимого конечным числом шагов исследования.
Философия занимается лишь прояснением каждый раз некоторых
фундаментальных связок человеческого сознания и познания
посредством построенных теоретических конструктов. Каковыми
являются конструкты сознания: объект - теоретический конструкт, субъект - теоретический конструкт, мир - теоретический
80 введение в философию
конструкт; категории (причина, следствие, необходимость, случайность, субстанция, акциденция, то есть проявление субстанции).
Это все предметы, используя которые, философы рассуждают,
извлекая последствия для чего-то другого, что мы просто наблюдаем, видим и пр. Например, обсуждая наше отношение к физическим
уравнениям, которые кажутся бессмысленными значками, имеющими лишь инструментальное значение, но ведущими нас к каким-то выводам. О чем же эти утверждения, что они описывают?
Чтобы ответить на этот вопрос, я должен снова на философском
языке рассуждать, например, о принципе понятности. Этот
древний принцип лежит в самом начале возникновения науки. И
тем не менее приходится о нем говорить. Или конструкт сознания
- о нем тоже приходится говорить на совершенно особом языке,
который имеет настолько автономную, теоретическую логику, что
непосвященному отношение этого языка к проблемам, д ля которых
он разработан, кажется несуществующим, оно не замечается.
Итак, я ввел общее философское различение между теорией и
эмпирией, попытался показать некоторые предпосылки, которые
лежат в самой основе появления форм теоретического мышления.
Наука - это теоретическое мышление, а философия занимается
разъяснением того, что такое теоретическое мышление. Поэтому
там есть понятия субъекта, объекта, принципа понятности,
объективации. Чтобы пояснить дальше всю эту сложность
философии и те разветвления, которые появляются в ней, я буду
приводить примеры из философии Нового времени, считая, что
античную базу мы как-то завоевали.
Философский язык предполагает введение некоторых гипотетических объектов. В науке это тоже делается, но поскольку в
философ™ эти объекты связаны с нашей сознательной жизнью,
то у нас чаще возникает тенденция приписывать им прямой
смысл и прямое значение. Никто, видимо, особенно не удивится,
если я скажу, что мировая линия частицы есть гипотетический, а
не реальный объект. А если я скажу, что и "Бог” гипотетический
объект для философии, то это уже совсем другое дело, это менее
понятно. Или даже категорически непонятно, просто потому,
что идея Бога сращена с некоторыми основаниями нашей личностной сознательной жизни. Хотя опыт философии как раз и
показывает, что сама наша сознательная жизнь личностна в той
мере, в какой она грамотно основывается ка некоторых символах и гипотетических утверждениях.
Я уже говорил о формах и идеях у Платона. Что именно идеи
создают какое-то пространство особых предметов, когда мы
можем начать о них контролируемый рациональный разговор.
Философия и naif tea 81
то есть разговор, поддающийся доказательству, опровержению и
т.д. Но если я ввел такое пространство, в котором существуют
особые предметы (не эмпирические, а которые не разрушаются,
они вечны, к ним не приложимы понятия возникновения, уничтожения и т.д.), если я двигаюсь в нем, то неминуемо ведь произвожу допущение. Допущение того, что не только мое человеческое
рассуждение, которое совершается во времени, но и философское
и любое научное рассуждение, имея в своем содержании установление вневременных логических отношений, тоже совершаются
во времени, конечным числом шагов. Что в свою очередь - сама
возможность моего рассуждения о вечных предметах, о логических или об идеальных предметах - предполагает допущение,
помимо человеческого, такого интеллекта, которому приписана
способность выполнения тех вещей, которые человек не может
выполнить. Человек ведь не может проделать бесконечное число
шагов в рассуждении, которое охватило бы весь мир. Реально мы
способны лишь в конечное время выполнять конечное число
операций, но в их содержании содержится нечто о предметах,
которым приписана вечная, идеальная жизнь.
Но предположим, что в принципе все же существует гипотетический интеллект, не затрачивающий время на операции* который способен в одно мгновение охватить весь мир или все
пространство идеальных предметов. Что это за интеллект? Назовем его условно “Божественным интеллектом”. Таким образом,
я ввел слово, то есть эксплицировал предпосылку. Веда в конечном
интеллекте, который рассуждает об идеальных предметах, содержится предположение еще какого-то интеллекта, который и есть
эфир существования этих предметов. Я философски осмелился
назвать его “Божественным '. Сказал слово. После чего и начинается логика взаимоотношений, движение теоретического языка,
когда я могу выяснять, как человеческий интеллект включается в
Божественный, каковы возможности Божественного интеллекта
и человеческого, но уже с помощью введенных слов, не говоря с
том, как я ввел эти слова и этот предмет. Я могу' просто это
опустить, потому что грамотный человек это понимает,
У Декарта вы найдете следующее рассуждение:
-во-первых, возможно ли доказательство существования Богз?
-во-вторых, что - конечно и что - бесконечно (в смысле, какие
возможности конечного человеческого интеллекта включаются в
бесконечный Божественный интеллект)?
Без такого включения невозможны научные суясдени**
имеющие универсальность и общезначимость Но как тогда я
должен читать тексты Декарта, зная, что ок был верующим чело*
82 введение в философию
веком, верил в существование Бога. Что он занимался проблемами
теологии? Непонятно, почему Декарт все же так обосновывал
научное, рациональное отношение к какому-то Богу в мире. Или
он обосновывал это просто потому, что жил в традициях своего
времени, не мог еще выйти за рамки католической религии?
Значит, мы ничего не поняли! Если можно говорить о том, в
каком отношении находится человеческий интеллект к Божественному, не предполагая при этом, что Божественный интеллект
существует. Нет, я просто говорю, как относится одно к другому,
но не утверждаю, что существует Бог; и поэтому, если меня будут
опровергать (как и Декарта), указывая на то, что нет такого предмета в мире, то это не будет опровержением. Потому что в своем
рассуждении я не утверждал, что такой предмет существует в том же
смысле, в каком мы вообще употребляем слово “существование”.
Сейчас я вас еще больше запутаю. Возьму другое понятие,
которое кажется менее священным, но порождает столько же недоразумений, как и понятие Бога. Вы знаете, что философия и
наука Нового времени появляются примерно в XVII веке, и что в
философии первыми провозвестниками этого времени были
Бэкон и Декарт. В особенности Декарт, потому что он был одновременно и крупнейшим, гениальным ученым-математиком. Но
Декарт же и повинен в создании, как считают многие, субъективного идеализма. Как известно, основной принцйп Декартовой философии гласит: “Cogito ergo sum" - мыслю, следовательно, существую - фраза, которая была положена им в основание
человеческой возможности вообще иметь идеи или понятия о
вещах (идею числа, субстанции, материи и т.д.). То есть вся
совокупность основных фундаментальных научных идей имела
смысл для Декарта лишь в той мере, в какой wá можно обосновать. опираясь на истину, не подлежащую сомнению. На достоверность меня мне самому в акте мышления.
Декарт замкнул тем самым как бы человеческий мир, науку и
философию на себя. Поэтому ш стали считать, что для него несомненен не внешний гпир, а несомненно лишь сознание своих актов
относительно этого мира, со всеми вытекающими отсюда клас-
сификаторскими последствиями: "субъективизм”, “идеализм" и
т.д. Что мир якобы превращается в результате в привидение. Так
как, вместо того, чтобы наши субъективные состояния выводить
из объективной основы. Декарт, наоборот, началом всего ставил
субъекта. И вот всяческие такие безобразия.,,
Все зто абсолютный бред. А речь идет зет с чем.
Скажем так {одновременно я буду прояснять суть философской
работы): есть субъект, и есть его сознание. И в этом субъекте и
Философия и наука 83
его сознании отражается мир. На каком основании можно что-
то говорить о субъекте и его сознании? Конечно, нужно исходить из независимого существования мира, который отражается
в сознании человека. Но имею ли я о таком мире твердое суждение?
О мире, который якобы не зависит от осознания и тоже явно
становится почвой, отталкиваясь от которой, я иду к объяснению
неких заоблачных воспарений в сознании и мышлении человека?
Здесь и возникает вопрос: суждение о чем-то достоверном во
внешнем мире ведь тоже суждение. Допустим, я говорю: в мире
есть сплетения атомов; их соотношения в разных сочетаниях -
действительный процесс, происходящий в мире и порождающий
видимые мною явления, которые есть “по истине” лишь сцепления атомов. А вижу я, например, краски, или ощущаю запахи.
Вся проблема и состоит в том, что совершенно независимо и
до всякого субъективизма или объективизма, утверждение об
атомах имеет свои основания. Какие? А те, что утверждение об
атомах - не утверждение о демонах. Утверждение о демонах -
одного типа, а утверждение об атомах - другого типа. Я сказал:
“в мире есть атомы, и они порождают ощущения”. Но само высказывание о том, что “в мире есть атомы” - на чем оно основано?
Почему оно по типу своей достоверности отличается от высказывания: “в мире есть демоны”. Или: “в мире есть Зевс, а не атмосферное
электричество, разрядом которого является молния, и если есть
Зевс, то молнии - это перуны, которые он бросает”? Что является
основой? А то, что в мире есть атомы и их сцепления, которые в
разных сочетаниях производят различные видимые нам вещи:
цвета, запахи и пр., о которых, естественно, можно сказать разное.
Поэтому мысль Декарта и состояла в том, что всякое высказывание о внешнем мире в его объективности и универсальности
имеет какие-то основания. Мало ли что можно сказать о мире.
Нет, мне нужно то, в чем нельзя сомневаться. А как придти к тому,
в чем нельзя сомневаться? К этому можно придти, выявив условия самих научных высказываний или универсальных суждении:
например, в мире есть атомы. Для того, чтобы о мире можно было
сказать что-то законоподобное, нужно, чтобы в нем были идеи
(в платоновском смысле слова), формы, потому что без них мы
не можем ничего рационально сказать ни о мире, ни о сознании,
Или какие-то предпосылки наших актов наблюдения, от:
должны содержаться в самих основаниях суждений о мире. Или,
как я говорил перед этим, допущение об интеллекте, который
может обозревать то, что необозримо человеком в принципе.
Ведь математик, скажем, делает то же самое, когда прерывает
операцию вычисления и говорит: "В принципе операция бесконечно
84 Введение в философию
воспроизводима; предположим ее завершенном”! Это “предположим завершенной” и содержит допущение “интеллекта”, который завершил операцию. И если от него зависит математическое
доказательство, то я могу его эксплицировать, сказав: значит, у
вас есть все же представление о работе сознания. Вы допускаете
(гипотетически, но допускаете) существование некоторого сознания, которое может все обозреть и в мгновение совершить некое
число шагов, в действительности не совершаемых, поскольку все
происходит в конечное заданное время. А у этого “допущенного”
интеллекта - нетвремени, это - “Божественный интеллект”.
Что же получилось? На основе Божественного интеллекта
построено объективное математическое доказательство чего-то
совсем другого. Решена какая-то задача или предположены порядок и множество, что не выполняется без допущения некоторого гипотетического интеллекта.
Итак, мы обнаруживаем задачу: прояснить акты сознания,
которые имплицированы в основаниях сувдений о внешнем мире.
То, что я называл идеей, формой, гипотетическим “Божественным
интеллектом” или душой, есть некоторое поле наблюдения,
цельность и полнота которого задаются заранее - в ходе выполнения какого-либо частного акта наблюдения. И в зависимости
от целого отдельный акт наблюдения может получить универсальное значение. Тогда в нашем языке могут появиться слова:
“атомы”, “порядок”, “множество” (в математике). А на основе
“порядка” и “множества" может появиться понятие “числа” и т.д.
Так, что же я сказал, произнеся: Cogito ergo sum? Я сказал,
что прояснением сознательных импликаций (импликаций относительно сознания, которые содержатся в утверждениях не о сознании. а о мире) я могу обосновать сами утверждения о мире в
философском смысле слова. Заново их пройти с целью обоснования. Какая сознательная операция самая несомненная и достоверная? Сознание самого себя, которое мне дано в акте мышления. Даже если я сомневаюсь в чем-то, достоверность меня, -
сомневающегося, то есть выполняющего акт мышления, - дана
мне. Я существую и в качестве сомневающегося. Это лишь связка
сознания, а не эмпир!Гческое сознание, потому что эмпирическое
сознание - это сознание о вещах (я сознаю дом, сознаю стол).
Здесь же имеется в виду сознание моих актов (не вещей вне меня),
посредством которого я конституирую себя в качестве мыслящего: cogito ergo sum. Мыслить определенным образом - постоянно ухватывать себя в актах мышления о предметах - и означает
организовывать себя в качестве существующего, которое об этих
предметах мыслит.
Философия и наука 85
Повторяю, постоянно сознавать себя в актах мышления о
предметах - любых - вне себя; “держать” это сознание, организовывать себя в качестве существующего существа (простите меня
за тавтологию), которое является носителем каких-то утверждений о мире - это и есть то, что в философии после Декарта (хотя
саму операцию проделал Декарт) стало называться трансцен-
дентальным сознанием. Знаменитое трансцендентальное сознание
Канта; потом вы встретите этот термин у Фихте, Гегеля и т.д.
Трансцендентальное сознание у Декарта - “cogito ergo sum”;
у Канта - “я мыслю”, или так называемое “общее сознание”. Это
и есть способ прослеживать то, что в наших утверждениях о мире (и в их основаниях) зависит от нашей деятельности. Посредством представления cogito sum или трансцендентального сознания “я мыслю” я могу реконструировать все то, что в моих
утверждениях обязано кристаллизацией моей деятельности; но
воспроизвожу я эту деятельность на самосознательных основаниях. Так, например, я спонтанно совершил какие-то акты мысли, в том числе, акты исследования предмета (они совершаются
эмпирически, стихийно). Но когда я обосновываю это и ввожу
первичное представление о “я”, или cogito ergo sum, то восстанавливаю все на контролируемых, сознательных основаниях. Это и
есть - трансцендентальная философия, выявляющая все то, что
целиком связано с деятельностью человеческого сознания.
Именно трансцендентальное пространство является условием
или основанием любых конкретных представлений о мире: физических, химических и т.д. Философия через понятие сознания как
бы совершает парадоксальную вещь - выявляет горизонт, который делает наше суждение о мире объективным (то есть достигает не субъективизма, а совсем напротив - объективизма, объективности). Повторяю, трансцендентальная философия в том
варианте, в каком она выступает у Декарта и Канта, есть способ
выявления такого горизонта, внутри которого что-то может
быть оценено как объективное высказывание.
Чтобы показать этот парадоксальный пафос философии, в
конечном итоге, не имеющий никакого отношения к субъективизму, приведу другой пример, который одновременно пояснит
вам смысл и науки, и философии. Так, Декарт говорил, что мир
или материя есть только протяжение. При этом, правда, есть небольшая разница между этими вещами, но она для нас не существенна, - так вот, протяжение и пространство у Декарта суть врожденные идеи. Декарт, помимо того, что начинал с “cogito”, еще
учил и о “врожденных идеях”. Но я остановлюсь пока на идее,
что “материя есть только пространство или только протяжение".
86 Введение в философию
В истории философии и, вообще, в восприятии философии
образованной публикой, начиная с XVII века, материя,
“сияющая сексуальными красками’’ (я уже забыл, как это сказано у Маркса), лишилась чувственного богатства и свелась к геометрическим формам (протяжению), к сухим, без качеств, вещам.
Как это понимать? Эта простая, банальная, красивая, быть может, мысль означает, что есть рассуждения - сухие, количественные, шзшающие мир красок, и существуют рассуждения, которые
представляют мир так, как он есть, во всем богатстве его красок,
цветения и пр. Все это красиво, но никакого отношения к тому, о
чем вдет речь, не имеет. Понять то, о чем в действительности
идет речь, очень сложно, и сама история мысли - пример непонимания этой сложности. Хотя, по определению, история есть
то, посредством чего мы понимаем то, что было. В том числе, и
что было сказано в наши дни. Для этого нужна история. Здесь
нет никакого недоразумения - так устроен человек и складывается история. Но даже в просвещенном мнении недоразумения
при этом относительно объективности и субъективности
существуют. Поэтому я сошлюсь на книгу Шредингера, которая
называется “Что такое жизнь”. (Кстати, она была написана еще
до открытия структуры гена, генетического кода, и многие вещи
в ней выглядят как предсказание того, что произошло позднее -
в 60-е годы нашего века.) И там прекрасно показано, в чем смысл
“механистичности” или пространственностп научных утверждений. И кроме того, у него есть еще работа, которая называется
“Сознание и материя”, где он прямо говорит: в том, что наука
утверждает о мире, не содержится никаких цветов, запахов и пр.
Вот он-то понимал, конечно, о чем вдет речь.
Сознание-бытие
все время пытался подчеркнуть, что в конечных выраже-
ниях философская мысль употребляет понятия настолько
'‘упакованные”, настолько подчиняющиеся логике экономного теоретического разговора, что мы не замечаем внутренней нити этих понятий, связи их с некоторыми жизненными проблемами, и поэтому задача разъяснения философского аппарата
состоит в том, чтобы за парадом теоретических понятий, сцеплений внутренней логики самого теоретического языка восстановить жизненные импульсы, восстановить то, о чем говорилось
в философии.
Сознание-¿ьопие 87
В прошлый раз я ввел одно из таких понятий, сугубо теоретическое, но имеющее жизненные истоки - понятие сознания.
Если я говорю: “сознание”, значит, я говорю “бытие" (второй
элемент пары). Обычно понятия, как и люди, ходят почему-то
парами, хотя возможны и другие комбинации. В свое время Фурье писал, что возможны сочетания почти что констелляцион-
ные, поскольку люди передвигаются и общаются друг с другом
подобно пчелам в ульях, в каждом улье по тысяче особей. И
такое общение развивает человека, так как, чем чаще и интенсивнее он вступает в разные отношения, тем больше развита его
так называемая сущность. Но в философии, как и вообще в
культуре, мы всегда находим парные сочетания: сознание и
бытие, причина и следствие, возможность и случайность,
сущность и явление. И, условно заимствуя из языка философии
этот факт парных сопоставлений, пытаемся восстановить смысл,
который не зависит, конечно, от этих пар.
Сказав: “сознание и бытие”, я тем самым уже начал, надеюсь,
приостанавливать манеру, в вашем восприятии идущую от традиции, от того, как культура усваивает философию - накладывать на встреченные факты готовые мысленные ходы. Ведь, если
я сказал: “сознание и бытие”, значит возникает проблема первичности бытия или первичности сознания. Кто-то утверждает,
что сознание первично, а кто-то, что первично бытие. Такой вот
философский “детский сад". Потому что на самом деле такой
‘^проблемы” в философии вообще нет и не существовало. Это
понятно (если пытаться понимать). Изобретаемое понятие есть
лишь средство движения мысли, а не нечто, поддающееся ответу
- “да” или “нет”. Если всмотреться в суть дела, то никто в философии не утверждал, что сознание - первично, ради самого этого
утверждения. Посредством понятий “сознание” и “бытие” мы
пытаемся решить проблемы, называемые философскими, или
хотя бы указать на сам факт их существования. А указать нужно
грамотно. Ведь, когда в обществе мужчина показывает на даму
пальцем, мы считаем это невежливым, хотя задача вьтолнена -
показал пальцем (в русском языке, правда, вместо слов
“сударыня”, “дама" и пр. осталось сейчас только слово
“женщина"). Но я специально беру этот знакомый вам бьгговой
сор, чтобы показать, что в философии (вернее в том, как наша
культура усваивает философию) мы тоже имеем дело с разрушением языка. А если язык разрушен, то мысль - невозможна.
Сейчас я поясню, для чего были изобретены слова “сознание”
и “бытие". Я говорил вам о врожденных идеях, используя их как
пример о необходимости аккуратно и деликатно относиться к
88 Введение в философию
философии. Буду использовать этот пример и дальше, чтобы показать, какую языковую роль, роль средства нашего мышления
выполняют понятия “сознание” и “бытие’’. В проблеме врожденных идей у Декарта есть очень странное сцепление, которое
должно было вас обеспокоить уже самим фактом своего существования и вызвать понимание, что здесь что-то не так с нашим
прямым, ‘‘натуралистическим” подходом к философским словам.
Я специально произношу эти нелепые фразы, но они суть
единственное, что может привести нас в состояние понимания
философии. Человек сказал, что идеи - врождены. И он же сказал: тот, к которому применима формула “мыслю, следовательно, существую” - есть “я”, которое, сомневаясь во всем, несомненно само для себя в акте мышления, поскольку сомнение есть
один из актов мышления. Значит, это “я”, у которого есть врожденные идеи - количества, протяжения и пр.? Да, но при условии,
говорит Декарт (я обрубаю текстовые ходы, выделяю смысл), что
это “я” не рождается от родителей. Вот оно-то и есть мое “я”.
В связи с этим "я” у Декарта и появляется тезис, внешне похожий на утверждение первичности сознания и вторичности бытия. Cogito ergo sum как будто и означает, что несомненно и первично сознание. Странная вещь! Человек утверждает: ‘‘идеи
врождены”. Очевидно, полагая, что они передаются от поколения к поколению. Но так ли это?
И вот, вчитываясь в Декарта, мы обнаруживаем две вещи.
Во-первых, понимание философом того обстоятельства, что есть
некоторый субъект нравственных поступков, субъект культуры,
который совершает нечто, называемое ‘нравственным" в том
смысле, что это не природная данность - ни действие инстинкта,
ни действие вожделения, - а нечто, что поддается суждению в
терминах “нравственно-безнравственно". Тогда как животное
такому суждению не поддается. Ведь животные не судят о мире.
Итак, есть “субъект”, но это не природное существо. Ибо -
что рождается от родителей? “Кусок мяса”, возможная материальная форма, заполняемая чем-то. Пока вопрос о том, чем она
заполняется, оставим в стороне. Усвоим просто Мысль, что родители не рождают то “я”, у которого есть врожденные идеи. Таким
образом, во-вторых, согласно Декартл/ мое “я” - не от родителей.
Язык, в котором существуют термины ‘cogito ergo sum ’,
“врожденные идеи", обладает своими законами. Исходной целью
философа .является попытка описать нечто, что называется
знаменитым термином “второе рождение"; рождением “я” в теле
духовного человеческого существа. Поскольку философ понимает, что это “второе рождение” не есть природой производимый
Сознание- ¿ьшисе 89
факт. Но как описать его? Я только что говорил, что есть нечто,
что рождается природой, и нечто, что еще должно родиться.
И к тому, что снова рождается, мы применяем слова
“нравственность”, ‘‘культура", “мышление”... Как это описать?
Понятно, какую роль играют здесь акты сознания и чем
они сознания отличаются от просто природно данной нам психики. Но как увидеть зависимость этого второго рождения” от
деятельности человека, от его “самоконституирования”? Ведь он
должен конституироваться каким-то усилием, каким-то
“самосозиданием”, как выражаются философы. Как описать эту
работу? А вот как: изобретая язык. (Разумеется, возможен и другой язык. Мы могли бы, скажем, договориться с, самого начала о
каких-то других понятиях, и описывать эти же проблемы иначе.
Но так случилось, что мы внутри европейской культуры, у
нас язык, пошедший от греков. Это как бы естественно-
исторический договор.) Так что же в этом описании - бытие, в
отличие от существования природных предметов?
Бытие есть то, что есть, если произошло ‘второе рождение”.
А оно зависит от самодеятельности, от самосозидания, так ведь?
Тогда, выходит, что бытие зависит от сознания? Что же получитесь? Я говорил: бытие - это то, что определяется “вторым рождением”. А ‘"второе рождение” предполагает cogito ergo sum, то
есть концентрацию сил человеческого существа вокруг какого-то
усилия, в данном случае усилия мысли. Тогда в бытии что-то от-
¡¿ладывается, вернее, в существовании откладывается нечто такое, что потом будет называться бытием в отличие от бытия
предметов. Предметы, чтрбы бытийствовать, не рождаются
зторой раз, вторым “непорочным рождением”. По законам пола
-'то-то произошло в первом рождении. А гели мы договорились,
тто необходимо “второе рождение", тогда необходим и другой
язык описания того, что разыгрывается в этот момент. Иные
термины. Они могут закрепиться в традиции, а могут не закрепиться - могли быть и другие. Скажем, у индусов были другие
термины, они пошли иначе, но к тому же. Все то же самое:
"бытие” и “сознание’ ! Значит, когда говорится о бытии, то в
особом смысле говорится и о сознании.
Более того, философ фактически пытается описать при этом
некий самодеятельный акт, совершаемый человеком. Акт, не
имеющий природных оснований, потому что, повторяю, не от
родителей рождаются. Нет природных оснований, здесь и начинается странный язык, конечно, менее обязательный, чем язык
“бытия” и “сознания”, но имеющий свою логику, Введу дополнительное философское понятие. Это тоже будет “парная вещь”
90 Введение в философию
- парное понятие: познание (или мысль) и воля. Оно существует
в разделении философских дисциплин: есть теория познания, а
есть этика. Первая занимается мыслью, то есть это теория мысли, а этика занимается человеческими поступками, содержанием
и источником которых является воля, волевые проявления человека. Значит, мы имеем волю и имеем человеческое познание, или
мысль. Мысль - одно, а воля - другое. Даже по так называемой
таблице высших психических или психологических функций мы
знаем, что есть эмоции, есть познание и воля. Вот три кита, на
которых якобы все держится.
И вдруг мы читаем у Декарта, что Бог в своих проявлениях
не ограничен никакими законами мира; наоборот, законы
существуют именно потому и после того, как Он, то есть Бог,
сделал что-то. И все это - в контексте теологической дискуссии,
которая имеет свою традицию, продолжающуюся и сегодня,
когда спрашивают: устанавливает ли Бог сознанием законов ка-
кую-то вещь? Совершает ли какой-то поступок? На основании
чего? Значит, Бог не безграничен, а ограничен (например, знанием закона), и есть какие-то предшествующие законы? Скажем,
какая-то гармония. Что Бог, зная гармонию, устанавливает
что-то гармоничное. Но тогда волепроявление Его ограничено
законами? И начинается дискуссия. Будут доказывать: “да”,
“нет”, “все-таки безграничность есть, она такая-то и такая-то" и
т.д. Все это схоластические проблемы!
В действительности, когда философы это обсуждают, они
берут те понятия, которые здесь даны, и используют их в качестве языка для решения философских проблем, для выявления
философских мотивов. Какой здесь основной мотив? Я немножко помогу себе и вам, добавив в это рассуждение одно слово и
одну ассоциацию. В контексте того, о чем говорит Декарт, появляется слово “полнота” - полнота бытия или полнота воли, в
отличие от мысли. Под мыслью нужно понимать закон или
нечто законосообразное. А вот полнота бытия или полнота воли
отличается от этого. “Полнота" - это словечко, а ассоциация
(возвращаясь к языку) следующая.
Я говорил вам, что Вольтер как-то заметил: добродетели не
может быть половина. Она есть, или ее нет. То есть добродетель
или присутствует во всей своей полноте, или ее нет вовсе. Она
неделима. И Декарт, привлекая слово “полнота", хочет сказать,
что воля тоже неделима. Она или есть, или ее нет. Но он говорит
не только это; он имеет в виду под волей полноту бытия, актуальное существование чего-то целиком. Именно это в философии
и называлось “бытием” или “полнотой бытия”, что одно и то же.
Сознание-&и%ие 91
Следовательно, что мы получаем? Способ, найденный философом для обсуждения проблемы человеческой свободы, вокруг которой можно основать познание: находится ли познание в основе
свободы или свобода лежит в основе познания. И что такое вообще
“свобода" как человеческий феномен, его содержание? У Декарта
свой ответ на этот вопрос; можно его не принимать, а можно
принять. Но проблема вместе с ее философским языком остается,
получая разные разрешения, выступая в разных комбинациях.
Почему я заговорил о свободе? Казалось бы, непонятно, почему, говоря о свободе, я делаю это в таком контексте, употребляя
“божественные” термины (которые в данном случае оказываются самыми короткими, то есть, в теоретическом смысле, экономными, поддающимися оперированию для тех, кто понимает, о
чем идет речь). Когда физик разговаривает языком формул, зная,
что перед ним сидят физики, он веда> не объясняет каядош значок
заново. Вот что значит, кроме всего прочего, теоретический язык.
Итак, почему о свободе? Я сказал: самопроявление, самодеятельность. Во-первых, человек свободен в одном простом смысле
слова: он не есть элемент какой-нибудь причинной природной
цепи, он не производится природой. В этом смысле он
“свободен". И, во-вторых, то, что в нем специфически человеческого, может быть результатом только его самосозидания посредством каких-то усилий. Ибо что значит “человеческое” - в
плане той проблемы, которую мы сейчас обсуждаем? Человеческое - это нормы, законы, установления (не только законы логики и мышления, но и нравственные и социальные законы). Декарт сказал так: законы и установления не предшествуют
полноте бытия или полноте проявления воли, так как последняя
выступает в виде закона не потому, что мы ориентировались на
закон, а потому что так - сделали, так проявилась полнота воли
- и это стало законом. Следовательно, законы мысли имеют в
своей основе другой, более первичный феномен. А именно, полноту бытия или полноту воли. Таков ход движения. Такое решение, принадлежащее Декарту, может быть принято или не принято. Законы, о которых говорит Декарт, и по которым он
строит свое решение (которое можно принимать или не принимать) - это законы философского языка.
В данном случае дискуссия - знает ли Бог законы, или сами
законы есть отложения того, как Он поступил - это как бы сокращенная дискуссия об отношении познания к воле, о том, что
мы не можем рассуждать ни о логике, ни о законах, не положив в
основу своего рассуждения четкое осознание феномена свободы,
как основного человеческого феномена.
92 Введение в философию
Но здесь возникает и другая философская связка: “свобода и
необходимость”. Еще одна постоянно обсуждаемая “проблема”,
которая фигурирует в языке философии. Частично, отвечая на
вопрос о бытии и сознании, я уже ответил на вопрос об этой категории (свобода и необходимость), и сейчас поясню этот ответ.
Я сказал, что все великие философы делали один математически точный ход в философии, а именно: если они что-нибудь
обосновывали, скажем, мышление, возможности человека во что-
то верить, быть, то исходным основанием выступала свобода. В
этом пафосе философии, вернее, на уровне пафоса немногих
великих философов как раз и была грамотно введена категория
свободы и необходимости. Под свободой обычно эмпирически
понимают “свободу выбора”. Считается, что мы свободны
тогда, когда можем выбирать; и чем больше выбора, тем больше
свободы. Если у человека есть свобода выбора, то свободой
называется, во-первых, само наличие выбора, и во-вторых,
непредсказуемость того, что именно он выберет. Таков эмпирический смысл термина “свобода”.
А философ говорит нечто совсем другое - более правильное.
Он говорит: проблема выбора никакого отношения к проблеме
свободы не имеет. Свобода - это феномен, который имеет место
там, где нет никакого выбора. Свободой является нечто, что в
себе самом содержит необходимость - вот как введена категория.
Нечто, что является необходимостью самого себя, и есть свобода.
Не в выборе здесь дело, не в разбросе предполагаемых возможностей - свободным явлением называется такое явление, необходимость которого и есть оно само. Необходимость! Нечто, что
делается с необходимостью внутренней достоверности или просто
внутренней необходимости, и есть нечто, делаемое свободно.
Понятие свободы философ вводит на фоне различения внутреннего (еще одна философская категория) и внешнего. Нечто,
что имеет свои основания вне себя - не свободно, поскольку оно
стоит в причинной цепи и, следовательно, имеет причинные
обоснования и причину объяснения. А проблема свободы не является этой проблемой. Это проблема не детерминистического
мира, о котором рассуждают в терминах классической физики
или причинности. Там это безнадежно запутывается, как до сих
пор философы путаются, например, когда сопоставляют проблему фатализма с проблемой детерминизма, хотя это совершенно разные вещи. Говорят, что если мир детерминистичен, значит,
он имплицирует фатализм, что за нас уже все решено, все
разыграно и всякое такое. Да нет, это было бы употреблением
философских терминов вне их связи, в которой они появились,
Сознание-¿шние
93
вне их смысла. Повторяю, свобода есть то, что делается по своей
необходимости. Явление, называемое мною свободным, содержит
основание самого себя в себе, является причиной самого себя.
Или - самопричинным явлением. Как выражался Кант: есть
причинные явления, а есть самопричинные.
За примерами далеко ходить не надо. В качестве примера я
уже ссылался на феномен совести. Что такое совесть? От голоса
совести уйти нельзя, если он, конечно, есть. А если он есть, он
есть целиком. Так ведь? Значит, совесть не делает никакого
выбора. Нет выбора! А с другой стороны, совесть есть феномен,
который сам в себе содержит свою причину; у нее нет внешней
причины. Совесть есть причина самой себя. Поэтому поступок и
называется совестливым, а не каким-либо другим. Слово
“совесть” в данном случае есть конечная инстанция объяснения.
Мы сказали: совесть... и дальше этого не идем. Все ясно, хотя
сама совесть не ясна.
Мимоходом должен отметить еще одну странную вещь. Философия полна вещей, которые суть условия ясности всего
остального, а сами не ясны и никогда не будут ясны. Это некое
chiaro obscuro - светло-темное (как говорят живописцы), светотень - термин, введенный итальянцами. Так вот, из такого chiaro
obscuro и рисуются все философские картины. То, что я сейчас
сказал, очень важно, хотя я не знаю, понятно ли это. Но, с
другой стороны, понятность противоречила бы тому, что я сам
только что возвестил в качестве тезиса: философия состоит из
вещей, посредством которых мы что-то понимаем, а сами эти
вещи непонятны, они служат для понимания других вещей. Это
относится и к тому, что я сам говорю.
Значит, я сказал: совесть есть конечное слово, и мы останавливаемся в объяснении. Дальше идти не надо. Хотя что такое
совесть - неясно. Нельзя объяснить, что это такое. Но я ведь
только что показал, что, понимая это, мы понимаем нравственность. Совесть есть свободное явление в том смысле, что оно не
дает нам никакого выбора. Голос совести одаозначен и от него не
уйдешь. Она несомненна и в то же время непонятна, так как идет
речь о чем-то, что есть нравственность в смысле условия нравственных явлений. Нравственность - это условие нравственных явлений;
философы называют такие условия трансцендентальными.
В прошлый раз я уже начал говорить о трансцендентальном
сознании. Давайте теперь попытаемся углубиться в него на примере
совести. Я, может быть, слишком часто оперирую этим примером,
но, пользуясь им, как раз и можно говорить о существенных философских проблемах и одновременно давать иллюстрацию, которая
94
Введение в философию
на интуитивном уровне доступна каждому из нас, если мы задумаемся о гении нашего языка, который сам говорит: со-весть.
Итак, философия состоит из вещей, которые похожи на совесть в том смысле, что они - неуклонны, точны и непонятны.
Непонятны еще и потому, что, являясь условием понимания всего остального, сами при этом остаются непонятными. Совесть
есть особая нравственность, особое нравственное явление, которое выступает условием всей совокупности нравственных явлений, не будучи ни одаим из них. Нельзя сказать: “Вот это - совесть!” Каждый раз философ будет говорить (классическая
философская фраза, произносимая как на Востоке, так и на
Западе) - это не то, не это, не это! Не ясно - что?! И одновременно - ясно. Вот это “не это’' и имеет отношение к философии. Это
и можно назвать трансцендентальным. Условие каких-то предметов в нас, в нашем мышлении, вокруг нас; условие, которое
само не есть предмет, вещь. Ведь совесть - не вещь; она условие
того, чтобы были совестливые явления. Допустим, некто выполнил условие совести, а сам - не совесть, но в нем выполнено ее
условие, поэтому он нравственен. Вот такие вещи и называются
трансцендентальными. Философия полна трансценденталий -
понятно-непонятных, являющихся несомненным условием понятности чего-то другого, но непонятных так же, как непонятна
совесть (будучи понятной, то есть несомненной, неуклонной, не
дающей выбора). Это и есть некий детерминизм, который не
дает нам выбора - нечто, что детерминировано полностью, но
только - само собой. Поэтому и появилась фраза, которая стала
потом воспроизводиться в самых нелепых сочетаниях, а именно:
свобода есть познанная необходимость.
Так в чем состоит грамотность философского рассуждения?
“Свобода есть познанная необходимость'’ ~ что здесь сказано?
Например, я познал, что мир идет к социализму, и я свободно
участвую в этом движении. Напоминаю одну из, очевидно, знакомых вам интерпретаций. Что это - заблуждение или глупость
какого-то индивида? Нет, подобные интерпретации внушаются
нам обыденным языком, языком кристаллизаций культуры в нас,
ее “осадков", которые подталкивают к уже готовому или пред-
готовому знанию, еще до того как совершился наш индивидуальный акт понима Свобода есть познанная необходимость
в том смысле, что существуют какие-то законы, и свобода якобы
состоит в том, чтобы сознательно выбрать подчинение законам*
Поэтому, кстати, эта фраза и была осмеяна. Из-за смещения понятий, а оно происходит не только у публики, но нередко и у
философов-профессионалов. Повторяю, что человеку очень
Сознание-¿ьиние 95
должно повезти, и он должен очень поработать, чтобы думать
то. что уже думалось в истории. И моя задача фактически состоит в том, чтобы мне подумать то, что уже думалось, и сделать
так, чтобы это подумалось и вами. Ибо свобода как познанная
необходимость предполагает сознание необходимости самой
себя. Вот что означала в действительности эта фраза. Декарт (я
сейчас возвращаюсь к языку, с которого начал) приписал ее
Богу. Нет, Бог не ориентируется на уже существующие законы -
тогда он был бы не свободен. Какая же это свобода, если закон
мира - идти к социализму, и я свободен лишь в том смысле, что
включаюсь в это движение и действую свободно. Это софистика!
Софистика, скрывающая ограничения свободы, потому что здесь
идет речь не о свободных явлениях. Я сейчас говорю тем самым
об актуальности философского языка. Ведь то же самое, без слов
“законы'9, “социализм" и т.д. - говорил и Декарт, когда задавался
вопросами: неужели Бог установил законы математики, потому
что ориентировался на какие-то математические истины? Нет.
Он нечто сделал определенным образом, и это стало истиной.
То есть, первичными являются свободные явления, и поэтому
философ кладет их в основание своих рассуждений. Явления, которые свою свободу содержат в самих себе, обладают внутренней необходимостью. И есть явления второго ряда, где все выражается в законах уже готового мира, который предшествует
действию, а затем включается в предданные законы (скажем,
законы математики). Так истины существуют, законы мысли
существуют, законы логики существуют. Но обоснованы они
могут быть, только если выявлено их условие, которое само свободно и не содержит в себе внешних законов. Вот как движется
рассуждение. Фактически я просто приводил примеры существования в философии некоторых интеллектуальных элементов, выраженных в понятиях, которые обладают свойством ясности-
неясности, света-тени. Бросая свет на что-нибуд ь другое, они сами
являются тенью и трудно поддаются пониманию. Такого рода
элементы в философт называются формами (у Платона они назывались идеями, у Канта трансцендентальным сознанием или
трансцендентальными формами), и эта же свето-теневые образования были названы в свое время еще условием интеллигибель-
ности, или понятности. И поэтому, когда мы читаем сегодня, что
у Платона “идеи первичны”, - хотя сам он этого никогда не говорил, - то, исходя из контекста, ‘‘понимаем” обычно так, что он
считал их действительно первичными и из них пытался будто бы
вывести возникновение всего мира. Или - что Кант считая сознание “я мыслю” первичным и из него пытался все вывести. А Декарт
96 Введение в философию
считал cogito ergo ¿um - некую достоверность субъективного сознания - первичной, а потом пытался вывести все остальное.
Однако, если мы теперь понимаем существование светотеневых философских вещей, которые есть правила понятности
чего-то другого, то это означает лишь одно, что для философа,
начинающего с “идеи”, идея не первичный источник происхождения вещей, а условие их понятности. Ибо вещи, как я сказал уже, не рождаются из идей. Рационально понимать вещи, нечто узнать о них вещах мы можем, только построив условия
интеллигибельности. Так же, как можем разобраться в “явлениях
нравственности”, если твердо усвоим феномен совести, лежащий
в основе нравственности. Поскольку трансцендентальное сознание или сознание “я мыслю” является таким сознанием, которое
есть условие того, что в нашем сознании могут быть знания о
вещах. А знание - это не просто ощущенияs представления или
любые произвольные мысли, которые могут приходить нам в голову. Знания отвечают критерию рациональности знания. Их
условием является некое сознание “я мыслю”, которое организует саму возможность познания субъекта или носителя определенных мыслей - не всяких, а именно научных мыслей о мире.
Ибо кто-то ведь должен их ‘"нести”, кто-то доджей “думать” эти
мысли. Оказывается, думающего нужно организовать, чтобы в
его думающей голове вообще были мысли, поддающиеся или отвечающие определенным критериях«:.
Что это за сознание? Конечно, о нешг нельзя говорить в рамках наших привычных ассоциаций, потому что когда идет речь
об идеях у Платона, о сознании “я мыслю” у Канта или о cogito
ergo sum у Декарта, то это отнюдь не “психологически определенное” сознание. Философы специально оговаривали этот
вопрос (правда, это так и осталось непонятным). Декарт; например, говорил: “Я имею в виду чистое сознание”. Понимаете, что
это такое? Платон говорил о “чистой пустой форме”, и Кант
говорил о “пустых формах”* Непонятно.
Под чистым сознанием имеется в виду сознание, не имеющее
никакой психологической реальности. Но как его объяснить,
возможно ли оно? Обсуждение этой темы занимает ц^лую эпоху,
большой период в философии, называемым немецким классическим идеализмом. Это - Кант, Фихте, Гегель, Шеяышкг.
Обычно сознание понимают так: берут Канте - “z мыслю" -
и по законам нашего обыденного языка (это буквально, кстати,
написано вс многих комментариях), полагают, что раз есть
субъекты: Иванов, ПетроБ, Сидоров и т.д., значит, все они обладают сознанием А ‘ сознание вообще” есть общеа их сознаний.
Сознание-Яьипие
97
Так же, как иногда говорят: “родовое сознание" или “родовой
человек”. Вот все мы - отдельные люди, а общее - это наша
родовая сущность, которая может быть выражена этим термином. Хотя она сама по себе не существует, “не ходит"; нет
“человека вообще” - это лишь термин, обобщающая номиналия.
Так вот, философы не это имели в виду; они имели в виду отношение человека к каким-то особым образованиям, которые и
назвали трансцендентальными, проявляющими как бы обратным отложением в нем некую организацию познавательных сил.
И в этом смысле “сознание вообще” есть индивидуальное явление, которое каждый должен проделать сам. Ведь чтобы быть
нравственным, нужно соотнестись с “пустой совестью” или с
“пустой формой” совести, в которой ничего нет; и обратным
следствием этого в том человеке, который соотнесся с несуществующим предметом, будет какой-то другой способ жизни,
другая организация его мысли. Иными словами, философ всегда
имеет дело с вещами, соотнесение с которыми влияет на характер
бытия, является стержнем, вокруг которого кристаллизуется тот
или иной способ бытия. Нравственного бытия или бытия
познающего субъекта, потому что бытие познающего субъекта
тоже организуется определенным образом. Так что это не общие
понятия - “сознание" или “сознание вообще”.
"Чистое сознание” - в каком смысле? У него ведь нет предмета. Совесть - что это такое? Это не предмет, но что-то, что
отдельно, и что называется “совестью”, а другое - называлось
бы как-то иначе.
Например, я говорю: простите, что же будет после этого с
моей бессмертной душой?
Что я сказал? Во-первых, что есть такой предмет, который
называется “душа", и во-вторых, приписал этому предмету качество, свойство быть бессмертным. Но такого предмета, как
душа, нет. Душа относится к трансцендентальным предметам -
оставаясь теневыми, они являются светом чего-то другого. Это
условие понимания, условие интеллигибельности или условие
бытия. Значит, бытие зависит от души? “Душа первична и рождает бытие”? Нет, я этого не говорил. Я сказал только, что если я
считаю, что у меня есть душа и у меня есть перед ней какая-то
ответственность, тогда я живу иначе, поскольку я-то умру, а душа
есть. Это, как выразился бы Кант* “постулат моей нравственной
жизни”. Он недоказуем и неопровержим (поэтому Кант - грамотный философ), и вслед за Кантом я повторю: что вы мне толкуете о душе в терминах, в каких следует говорить о предметах?
Душа ведь не есть предмет. О ней нельзя говорить “разрушается’'
98 Введение ё философию
она или “не разрушается”, аргументировать, что она бессмертна
- потому что она проста, а ничто простое не разрушается.
Так аргументировали во времена Канта. И чтобы доказать
бессмертие души, использовали аргументы, посредством которых обычно доказывается что-то о физических предметах. А
Кант говорит: нет, это безграмотно, это никакого отношения к
этому делу не имеет. Не об этом идет речь. Следовательно, когда
мы встречаемся с рассуждениями (в контексте философии) о
душе, о бессмертии, мы встречаемся с вещами, которые обладают
двумя свойствами.
Во-первых, это всегда вещи, рассуждение о которых или
соотнесенность человека с которыми имеет свои отложения в
способе бытия (что наблюдается). Ведь то, что думает человек о
душе, мы не наблюдаем, а последствия того, думает ли он об
этом и как он думает - наблюдаемы. У нас есть наблюдаемые
мерзавцы, наблюдаемые честные люди. Это - наблюдаемые
явления. Но условия их - не наблюдаемы. Говорит о них философия. Значит, и я говорю о вещах, от которых зависит способ
бытия, тот или иной. Сами эти вещи не существуют, например,
душа. А что-то ведь с ней происходит. И происходящее имеет
следствия, которые потом наблюдаемы на уровне бытия.
И, во-вторых, какой бы ни была философия - изощренной
теорией познания, ушедшей в спекулятивные вопросы онтологии, эпистемологии и пр. - она всегда остается тем, в качестве
чего возникла с самого начала. А именно - мудростью жизни.
Мудрость жизни, или философия как орудие личностного спасения - как бы далеко это ни уходило бы в своих необходимых
теоретических сплетениях понятий. Потому что у теоретического
языка есть своя имманентная логика. Но нужно рассуждать -
экономно и точно - о вещах, относящихся к бытию, а не просто
к познанию безразличного мира, на теоретическом языке. То
есть на языке, который имеет свои правила понимания. Нужно
иметь соответствующий навык, опыт; и история философии в
этом смысле незаменимая школа для такого опыта. Я имею в
виду просто чтение историко-философских текстов, то непредвзятое чтение, которое совершается в предположении, что в
каждом тексте что-то есть.
Есть! Поскольку не случайно люди сохранили эти тексты.
Сито истории работает странным образом (парадокс человеческого бытия!): в каждай момент господствуют идаоты и мерзавцы,
а остаются.., Декарт, например, сохранился. Память человеческая
и отсев, совершаемый историей, устроены совершенно дротаво-
лояошзо тому, как протекает жизнь. В каждый данный момент
Сознание-бьиние
99
ум, благородство - бессильны, а в исторической памяти - все наоборот. Значит, все-таки не бессильны, так как есть органы, посредством которых мы можем себя производить. То есть то, что в
нашей исторической памяти сохранилось в виде экземпляров
жизни и мысли, или экземпляров искусства, литературы - не
предмет потребления (как я уже говорил), а органы, посредством
которых и через которые только и может воспроизводщься наша
жизнь в той мере, в какой она стоит того, чтобы она “жилась”.
Я уже ввел некоторые сцепления категорий: свобода и необходимость, бытие и сознание... Показал, средствами чего, рассуждениями о чем являются эти понятия. Повторяю, философы
никогда не решали детский вопрос о том, что первично - дух или
материя. Такого вопроса не было вообще. Естественно, вы
понимаете, что аппарат философии богаче, чем то, что он успел
воспроизвести - в том числе, этими парными сопоставлениями:
бытие и сознание, свобода и необходимость, возможность и
действительность, необходимость и случайность, субъект и
объект. Я говорил, что сознание-бытие можно переиначить в
субъект-объект - это основные философские понятия. Но посредством их всегда решается примерно одна и та же “проблема”,
которая связана с бытием. И каждый раз - разные философские
ответы. Означает ли это, что философия есть разноречивый ход,
бесплодный спор относительно каких-то странных вещей?
Нет. Почему? Да потому что все, называемое в философии
“проблемами”, не суть проблемы в точном терминологическом
смысле этого слова. Проблемой мы называем и должны называть нечто, что поддается решению конечным числом мысленных
шагов. А все, что называется в философии “проблемой”, является ею в том смысле слова, что это не есть предмет решения
каким-либо обозримым числом шагов, а есть наше возобновляющееся участие в бытии, которое может продумываться
только каждый . -:згсз. к тогда оно будет совершаться.
Нет ничего такого, г. можно было бы раз и навсегда
принять как правило. И потому философия будет вечно жить и
говорить, казалось бы. об одном и том же. Человек находится не
в ситуации абсурдного мира (как это экзистенциалисты иногда
описывают), а в более ужасной ситуации* из которой вырастают
все другие частные ужасы. Я назову этот ужас ситуации - ужасом конкретности. Ужас бытия человеческого состоит в том. что
ничто ^ щественное ке вытекает ни из каких правил, ни из каких
законов5 оно должно быть конкретно, вот здесь установлено и
понято. И это каким-то чудом согласованно понимается людь:*"”
Но и согласование - чудо.
100 Введение в философию
Рассудите сами, ведь вы прекрасно понимаете, насколько
хрупко знание того, что это - “хорошо", а это - “плохо". Причем, вы каждый раз знаете, что самое существенное в хорошем
или плохом не есть случай приложения каких-нибудь общих
правил. Каждый раз это нужно устанавливать снова. Жизнь как
бы заново возобновляет перед нами все эти проблемы, потому
что ничто из ничего не вытекает. Необходимо какое-то усилие и
у этого усилия должен быть аппарат, чтобы заново соотносить
себя с символами пустых форм - “свободой”, “совестью’' - и с
прояснением условия понятности вообще. Это мы делаем и в
нашем творческом мышлении, будь то мышление научное или
артистическое, художественное - любое.
Везде в тех разрывах, внутри которых вспыхивает акт
творчества, есть этот “ужас невытекания" не из чего другого,
более высокого или низкого. Ничья жизнь не есть частный случай
каких-то правил. И тем не менее, каким-то чудом она находится
в “связи человечества’'. Я сказал, что согласованность - чудо. И
это возобновление связи человечества, которое само не
“закодировано" и не может быть выведено ни из каких правил -
фон и основание того, что все философские или философоподобные акты воспроизводятся примерно с одинаковыми словами и
одинаковыми понятиями, но с разными решениями. Но здесь нет
“проблемы", а есть то, что некоторые экзистенциалисты грамотно называли “тайной”, в отличие от “проблемы” (правда, потом
они использовали это в своих драматических целях, которые я не
разделяю). Ведь что такое тайна? - Это нечто, что в принципе
хотя и может быть понятно, но мы не можем понять; что-то, о
чем известно, но мы не можем добраться до того места, откуда
известно. В этом смысл тайны. Поэтому философы и говорят,
что тайна - не проблема, а возобновляемый акт бытия, который
таинственен в том смысле, что я в нем участвую. Так же, когда
человек поступает по совести.
Существует масса таких вещей. И в том числе они есть в
мышлении (но не на поверхности). Философы мо1уг уйти бесконечно далеко в эзотерическую, часто специфицированную утонченную логику собственных теоретических понятий. Скажем, это
видно в хорошо построенной эпистемологии, то есть теории
познания. Когда, во-первых, все сделано очень технично и
профессионально, и, во-вторых, по абстрактности ничем не хуже
любой квантовой физики или теории относительности.
Неизбежность метафизики
В прошлый раз я пытался описать аппарат и проблемы философии, опираясь на понятие сознания. При этом понятие сознания для меня не имело самостоятельного значения: просто я хотел воспользоваться им, чтобы показать, из каких проблем и дисциплин состоит философия, какие она имеет
внутри себя разветвления и пр.
Продолжим тему сознания, и одновременно я попытаюсь
объяснить, что такое онтология и метафизика. Мы остановились
на том, что в совокупности наших объективных высказываний о
мире, то есть тех высказываний, из которых строится объективная физическая наука, содержатся некоторые философские
посылки, допущения; их выявление и есть специальное занятие
философии. Это тавтология. Я сказал, что философия занимается философией или предметом философии является философия.
Что в числе философских допущений есть некая посылка, относящаяся к сознанию. Скажем, предметом физического, научного
утверждения является что-то высказанное о мире. Но условием
того, чтобы об этом “что-то" можно было говорить в универсальной и необходимой форме, каковую имеют физические законы, выступает некая посылка относительно других, а именно -
сознательных явлений, которые сами предметом физической
науки не являются. Ибо предметом физической науки является
мир, но при этом каким-то образом обрабатывается сознание.
Сейчас я поясню, что имею в виду.
Как известно, наблюдение совершается в человеческих головах, которые сменяются в пространстве и во времени. То есть состояния наблюдения, отношения к миру сменяются не только
внутри одной головы, но они еще существуют в пространстве - в
различных головах и в смене поколений. И для того, чтобы эти
головы высказывали о мире что-то объективное, в предприятии,
называемом наукой, вводится конструкция непрерывного и
однородного опыта. Данная конструкция является просто предпосылкой, из которой, тем самым, следует, что хотя реальное
наблюдение дискретно (мы ведь не наблюдаем непрерывно),
должно быть допущено непрерывно функционирующее сознание, чтобы предмет наблюдался в любой момент времени и в
любой точке пространства. Поэтому и говорится, что природа
универсальна и однообразна. Без разрывов и темных мест. Например, когда проводится научный эксперимент, то обязательно
102
Введение в философия
предполагается, что ставится он в некотором пространстве
непрерывного и однородного наблюдения.
Здесь и содержится философская предпосылка (о ней я
частично уже говорил) некоего сверхмощного гипотетического
интеллекта, который непрерывно наблюдает и, более того, в
любом акте наблюдения способен удерживать все точки мира.
Человек же этого не может сделать.
Человек не наблюдает непрерывно: во-первых, у него дискретное многообразие сознания и, во-вторых, он не может охватить весь мир, потому что тратит на это время. А время - конечно. За конечное время нельзя охватить бесконечность. Охват же
бесконечности гипотетическим интеллектом является условием
того, что можно формулировать суждения о мире, о конечных
предметах. Например, в математике при рассмотрении некоего
множества объектов совершаются определенные операции.
Чтобы построить суждение, предполагается, что та или иная
операция может быть повторена бесчисленное число раз в том
же самом виде, хотя проделать этого не может никто. Но мы
предполагаем операцию в завершенном, актуально бесконечном
виде и тогда можем формулировать понятие порядка и числа.
Мы ведь ничего при этом не говорим в математике о наблюдении, о сознании. Мы говорим о числах. Но что-то допущено, уже
есть какая-то предпосылка, относящаяся не к числу, а к самому
способу рассуждения о числах. Предпосылка, позволяющая формулировать какие-то законы (математические в данном случае).
Выявлением таких предпосылок и занимается философия. То
есть в нашем примере с математикой философ должен, взяв
реально случившийся акт математического рассуждения,
выявить, что в нем допущено относительно сознания, и мира.
Скажем, мир единообразен. Или: в мире есть порядок. Эти
допущения предваряют любое рассуждение о конкретном порядке и составляют ту часть философии, которая называется онтологией. Онтологией называется совокупность некоторых общих
допущений о характере мира.
Например, после конкретного явления А идет конкретное
явление В - это утверждение о физическом характере мира, о
том, как происходят физические явления. Вдумайтесь внимательно, это очень простая вещь. Скажем, согласно анализу, в
оптике световая волна, луч света распространяется по прямой.
Это утверждение о мире, оно не является онтологическим
утверждением и, следовательно, не входит в философию. В число
онтологических утверждений будет входить некая посылка о характере мира вообще, содержащаяся здесь. А именно, что в мире
Неизбежность лейаиризшси
103
есть симметрия, что нет причин лучу идти ни вправо, ни влево.
Если нельзя указать причину, значит, он идет по прямой. Следовательно, не само утверждение о том, что луч идет по прямой,
относится к философии, а другого рода утверждение.
Онтологическим является утверждение о мире, имеющее
природу неких общих посылок и допущений, а не о конкретных
явлениях. Или, другими словами, утверждение такого рода,
когда к заключению о том, что луч идет по прямой, я прихожу не
на основе анализа физических явлений, не на основе обобщений
и наблюдений, а по соображениям симметрии. И, кстати, подобное же утверждение было сделано еще в древности относительно
Земли; оно принадлежит античному философу, который сказал:
Земля находится в центре. Почему? Потому что ей нет причин
двигаться, смещаться ни вправо, ни влево, она занимает центральное место в мироздании и в крайнем случае - вертится
вокруг самой себя. Оба эти утверждения - о свете и о Земле - о
двух совершенно разных предметах, но у них есть некоторое
общее допущение о характере мира. Такие допущения и откапываются философией, извлекаются на свет божий, и о них рассуждают в разделе философии, называемом онтологией.
А онтология в свою очередь является частью другого рассуждения, называемого гносеологическим или теоретико-познава-
тельным, или эпистемологическим. То есть рассуждением, на
котором строится теория познания. Это другой раздел философии, связанный с первым, как это следует из моего рассуждения.
Таким образом, язык, на котором говорят философы, необходимо понимать именно как язык. По тому же фактически правилу,
как если бы я сказал сейчас фразу по-грузински, - без перевода
вы ее не поймете, потому что не знаете грамматических правил
языка, согласно которым какой-то знак или слово является
носителем смысла. Чтобы увидеть в физике смысл, нужно знать
правило, которое превращает физику в язык, то есть в сообщение.
Так вот, у философии тоже есть правила - это тоже язык. И
дальше я покажу его грамматику, развивая то понятие сознания,
которое ввел. Допустим, нам говорят: мир состоит из двух
субстанций. Есть субстанция мыслящая и есть субстанция
протяженная или физическая. Или в другой немножко формулировке (первая принадлежит Декарту): природа или Бог имеют
два модуса, существуют в двух модусах - это уже Спиноза - в
модусе существования (то есть протяжения) и в модусе мышления. И происходящее в одном модусе не зависит от происходящего в другом - между ними нет причинной связи. Другими словами, мышление или вообще сознательные явления, выражаясь
104 Введение в философию
на языке XX века, параллельны природным явлениям и не выводимы из последних. Отсюда известная оценка такого рода философии как дуалистической. То есть дуализм основывается на
двух несводимых друг к другу принципах, тогда как монизм все
явления объясняет из одного принципа. Значит, есть монистические философии и есть дуалистические. Скажем, если бы Декарт
считал что существует только один духовный принцип, из которого все вытекает - материя в том числе, ~ то он был бы монистом-идеалистом. Но он говорит, что материя или протяжение
и мышление - это две разные субстанции, одна к другой не
сводимые. Декарт - дуалист. И Спиноза тоже дуалист, если
всерьез принимать его заявление о том, что природа выступает в
двух модусах - модусе протяжения и модусе мышления.
Итак, допустим, что есть два модуса, не сводимые друг к
другу. Но это лишь слово-значок; сказав - “дуализм", мы еще
ничего не поняли, а все уже сказано. Я возвращаюсь тем самым
снова к проблеме непрерывности и однородности опыта, как философскому допущению, которое содержится внутри науки.
Я говорил в самом начале, что для того, чтобы установить
причинную связь между явлениями, нам нужно допустить, что их
наблюдение совершается непрерывно и однородно. То есть все
условия наблюдения в разных местах однородны, и само оно непрерывно. Тогда между причиной и следствием не будет зазоров
и их можно соединить; такая непрерывность и есть условие
понимания, понятности или интеллигибельности. Например, у
меня есть гарантии относительно вот этого куска мела, что он
по своей воле, через какую-то дырочку, в которую я непрерывно
гляжу, не превратится... в ежа в моих руках. Я полагаюсь при
этом на единообразие явлений природы. Это - допущение,
являющееся _условием во мне понимания и т.д. Повторяю,
причинная связь в мире оказывается устанавливаемой, если есть
допущение, посылка, содержащая в себе какое-то мое (или ваше)
знание о природе сознательного наблюдения, о природе сознания. И во-вторых, она устанавливается только относительно
чего-то, что протяженно - это второе допущение, тоже философское (отсюда в философии понятие пространства; не в физике, а
в философа). В чем же состоит это допущение? А вот в том, что
я держу в руке мел и знаю, что единообразие в нем проявляется
потому, что это только пространственное явление - мел; он полностью выражен в пространстве, артикулирован, весь наизнанку
вывернут, ничего внутри него нет. В каком смысле? В том, что
ничего нет такого, что глядело бы на меня из меловой оболочки
и по своему желанию или самопроизвольно стало бы ежом.
Неиз£ежш)&иь м&нафизшси 105
Значит, условием того, чтобы я что-то знал о меле (в смысле:
полагался бы на это как на физическое знание, которое меня не
обманет), является то, что я считаю, что у мела нет ничего внутреннего, а есть только внешнее - только пространство. Мел - в
модусе протяжения, и потому я могу о нем знать на основе
универсального опыта и иметь соответствующее суждение.
Повторяю, я могу о нем знать, потому что мел пространственен.
Пространство есть условие знания о явлениях мира. Следовательно, когда в философии появляется категория пространства,
то она не то пространство, о котором учит геометрия, а философское понятие, философская категория, выражающая условие
знания. Именно пространственность предмета является условием
построения физического знания о нем. В противном случае о нем
нельзя было бы построить знание. Познание или намерение, или
склонность были бы в нем лишь тенью, сквозь которую мы не
могли бы читать предмет как “предмет” научного высказывания.
Для этого нужно иметь некую гарантию, каковой и является
пространственность в смысле условия понимания, а не в смысле
пространство Евклида или не Евклида и пр.
В прошлый раз я вам говорил: утверждать, будто Декарт
украл краски у мира, заявив, что мир есть только протяжение, -
значит не понимать, о чем идет речь. Ведь речь идет не о том,
что есть в мире краски или нет, а о том, что является условием
того, чтобы мы вообще могли что-либо знать научно. И этим
условием является полная выраженность предмета в пространстве, отсутствие в нем внутреннего. Что же мы получили?
Чтобы мир для нас был понятен, мы должны полностью изъять
из мира сознание и связанную с ним психологию.
Теперь допустим, что пользуясь физическими методами,
которые имеют эти предпосылки (а именно - непрерывность
опыта, пространственность и только пространственность
вещей), мы хотим в рамках нашего рассуждения узнать, какой
все же статус занимают акты нашей мысли, переживания и т.д.
То есть все сознательные явления. Причем, мы знаем, что они
связаны с мозгом. Так ведь? Но что значит анализировать мозг
как орган сознания и мысли? Ведь анализировать можно только
по определенному методу. Следовательно, мы должны установить какие-то объективные события, наличествующие в мозгу,
скажем, нейронные причинные связи между материальными
структурами мозга. Но если я установил их в качестве причинных и объективных, имея допущение относительно уже
существующего сознания, сознательного наблюдения (которое
непрерывно), то этим же методом я не могу вывести сознание как
106
Введение в философию
порождаемое материальными структурами, просто потому, что
для их описания я уже задействовал сознание, уже допустил его и
не могу поэтому с невинным видом заново его вывести.
Так, как же все это высказать? Да, природа существует в двух
модусах или субстанциях - мыслящей и протяженной: они не
связаны и не сводимы одна к другой. Я могу так сказать. И об
этом было уже сказано в истории философии, но только это сказанное еще нужно прочитать. А прочитать можно, зная лишь
правила грамматики, о которых не говорится в текстах Декарта
или Спинозы. Это есть в моей голове. Поэтому когда я читаю
текст Декарта или Спинозы, где сказано, что физическая субстанция есть только протяжение, то знаю, о чем идет речь. Это
верх айсберга, а все остальное (то есть язык) скрыто, поскольку
теми методами, какими описывается мозг, описать сознание
невозможно; оно уже имплицировано и допущено в построении
самих физических методов. Значит, нужен какой-то другой
метод. Оставим пока в стороне вопрос “какой?*’, просто я показываю вам существование частей философского айсберга.
И тогда у нас появляется некое общее понятие. Мы уже договорились, что материей является нечто, что не имеет внутреннего
и что только пространственно, а сознанием - нечто такое, что
есть не наше реальное сознание, а условие физических суждений.
Если я начинаю говорить об этом сознании - “непрерывное
наблюдение”, “сверхмощный интеллект" и пр., то я ведь не описываю сознание в смысле того, что происходит в наших головах,
является нашей психологией, нашими состояниями, переживаниями и т.д. Я описываю то, что философы называют “чистым”
или “трансцендентальным сознанием". Поэтому когда в философском тексте вы встретите нечто утверждаемое о сознании, то
не должны ожидать, что это - утверждение о вашем сознании
как читателя, человека и пр. Вспоминать свой опыт сознания,
своих собственных переживаний для понимания философских
утверждений бессмысленно, потому что не об этом идет речь.
Ибо речь вдет, повторяю, о том сознании, которое имплицировано в суждениях о причинных связях в мире. Философ говорит о том сознании, которое работает в физическом описании, и
то, что он говорит, не имеет психологического значения.
Поэтому Декарт и выделил нечто, о чем можно сказать, что там
только материя; а когда мы хотим говорить о сознании, то
должны забыть о нем как о психологической реальности.
Или, например, вы хотите говорить о душе. Пожалуйста,
только ведь это другой модус, выражаясь словами Спинозы. А
раз другой модус, то нельзя о душе рассуждать в терминах: про¬
Неизбежное^ маиафизшеи 107
стая она или сложная (то есть состоит из чего-то); имеет ли она
составные чаегга или не имеет и является единицей. Все эти слова
мы говорим об атомах-вещах, а душа ... это другое. Вы хотите
доказать, что душа бессмертна - по закону опытного знания,
приводя аргументы, но аргументы эти относятся к физическим
предметам - только пространственным; поэтому так о душе
говорить нельзя. Вы хотите верить в то, что душа бессмертна -
пожалуйста, верьте. Но это не доказуемо и не опровержимо, но
может быть постулатом нравственной жизни, скажет Кант.
Кое-что меняется в нашей нравственной жизни, если мы считаемся с бессмертием нашей души. Например, мы можем быть
наказаны в силу бессмертия; если бы не было бессмертной души,
то не было бы наказания. Человек, считающий себя безнаказанным, поступает одним образом, а человек, который считает для
себя возможным наказание, будет жить другим образом.
Итак, что такое философский язык (в смысле двух модусов -
различных и не сводимых друг к другу)? Это просто грамотность
рассуждения, у которого есть законы - нельзя рассуждать невинно. Если уж мы начали рассуждать, то обязаны выполнять эти
законы, знаем мы о них или не знаем. Если не знаем, они сами
себя покажут в рассуждении - наказанием каким-нибудь. Так
что лучше знать. О физике или пространственности вещей рассуждения строятся по одним законам, а о душах - по другим.
Например, есть акт, который не является актом опытного исследования, а именно - общение людей как духовных субстанций. Что такое акт общения? Я знаю о вас что-то на одних основаниях, а общаюсь с вами на других. Основания знания - одни, а
основания общения? Могу ли я знать о вас, употребляя слова
"знание", “знать” в строгом смысле? Строгий смысл знаете
какой? Знать - это, во-первых, знать на опыте и, во-вторых,
формулировать универсальные и необходимые законы, подтверждаемые опытом. Что вы обо мне знаете - на опыте, не вообще
из моей биографии, а вот сейчас, в данный момент? Вы видите
физическое явление: я развожу руками, что-то говорю. А на
каком основании вы слышите то, что я говорю? Разумеется, на
других основаниях! Не на основании опытного знания, а общения, у которого другие законы и которое нельзя обосновать
научно. Например, вы улыбаетесь, и я делаю предположение -
потому-то... То есть от внешне наблюдаемого пространственного явления перехожу к заключению о том, чего не вижу. Такие
заключения никак не обоснованы. В этом смысле психология не
наука. Основания для заключений здесь совсем другие: опыт общения, интуиция, связанная со знаками, предметами искусства, отра-
108 Вйед&шз в философию
ботаккость ее ка зощетпа и на предметах каких-то культур и пр.
Все, что я сейчас говорю - просто примеры; они суть задача
философии как такого занятия, которое является прояснением
языка и прояснением ситуации, в которых мы оказываемся, когда
рассуждаем о чем-то. Например, я подумал что-то по поводу вашей
улыбки. Это не просто заключение, это - ситуация, в которой я
оказался, и в которой скажутся законы относительно моего права
на это заключение; ситуация, которая может стать в философии
основой рассуждения. Но тоща философ введет понятие. Скажем,
из простой ситуации, в которой я оказался, вступая в общение с
аудиторией - если я ее продумываю, я ввожу понятие пространства, протяжения, понятие сознания. То есть совершенно, казалось бы, абстрактные и к делу не относящиеся вещи. Но в том-то
и дело, что ведь как-то нужно говорить о том, что я проясняю.
Вспомните, сколько слов, не относящихся к ситуации, я использовал до этого (все они изобретены в философии). Я сказал:
смысл, отличил смысл от физической формы, от физического
следа. Оказалось, что одни суждения существуют на одних основаниях (физических), а другие - на других. Чем же я занимался? -
Тем, что прояснял ситуацию, в которой что-то делал сам: подавал знак или, глядя на вас, пытался расшифровать вашу улыбку.
Резюмируя, скажем так: я различил два рода утверждений.
1 Есть утверждения, которые относятся к науке (в мире произошло
то-то, по таким-то законам - луч несется по прямой и пр.). А есть
общие утверждения о характере мира, онтологические. О них говорят и их выявляют на языке онтологии. И то, как высказываются (уже в философш!) эти утверждения о мире, принимает категориальную форму. Таких категорий много: возможность, действительность. необходимость, случайность, причинность и т.д. Как
я говорил, обычно они ходят парами: возможность и действительность, необходимость и случайность - все это категории, которыми не описывается мир, а выявляются и формулируются предпосылки самой возможности нашего рассуждения о мире.
Например, категория причинности является предпосылкой возможности установления конкретной причинной связи между двумя
(или большим числом) конкретных явлений. Больше ничего!
Кроме того, в философии есть теория познания, или эпистемология. Эпистемологией называют обычно раздел теории познания,
который имеет отношение к научному познанию или рассуждению о научности науки. Теория познания может быть не только
теорией научного познания, но и вообще теорией всякого познания, в том числе, нашего обыденного познания, а также иметь
Неизбежность м&нафизшси
109
какое-то значение, скажем, для анализа художественных явлений, так называемого художественного мышления и пр.
Значит, в философии есть онтология, есть эпистемология
(теория познания) и есть еще метафизика - в старом смысле этого слова. Я предупреждаю о старом смысле по той причине, что
есть и сравнительно ее новый смысл, не связанный со старым,
или имеющий с ним чисто случайную связь, и состоящий в противопоставлении диалектического метода метафизике, метафизическому способу мышления или метафизическому методу. А я
имею в виду метафизику в старом смысле, как совокупность
утверждений (или теорию), учение обо всем, что носит сверхо-
пытный, сверхфизический характер. Хотя само слово
“метафизика" (не смысл его, конечно) вошло в оборот довольно
случайно - в связи с классификацией сочинений Аристотеля:
сначала издавались его физические сочинения, а затем сочинения
философского характера, как следующие “за" ними. Метафизические. И отсюда это слово приобрело содержательный
характер и стало относиться ко всем рассуждениям о мире, которые утверждают и описывают в нем нечто, имеющее сверхопыт-
ный характер (или нечто, не наблюдаемое в опыте).
Разные философии могут быть в разной степени метафизичными, то есть в разной степени содержать в себе такого рода
рассуждения (дальше я поясню, в чем они состоят), а могут и вообще не содержать. Существуют философии, которые являются
или пытаются быть только теориями познания, но самые интересные, конечно, - и раньше и теперь - те, в которых содержатся какие-то метафизические утверждения.
Что значит сверхопытные, метафизические утверждения?
Почему они вообще существуют в философии? Я назвал их онтологическими. Например, утверждение о том. что проявления
процессов природы единообразны во все времена и во всех
точках пространства, поскольку оно не получено явно опытным
путем как сумма и обобщение наблюдений (вот-де, мы долгодолго наблюдали природу и. наконец, обобщили все наблюдения). Такое утверждение не выводимо из опыта и является, безусловно, постулатом или условием опыта - в том смысле, что не
вытекает из единичных наблюдений. Сформулированное в виде
постулата, оно является условием того, что мы вообще можем
иметь некий опыт. Оно вводится другим путем. Таким образом,
онтологические утверждения о мире суть способы организации и
одновременно структура нашего опыта. А структура опыта не
есть его содержание. Когда мы говорим о внеопытности или
сверхопытности метафизических утверждений, то там появляется
110 Введение в философию
дополнительный смысл, допущение предметов, лежащих вне
опыта.
Скажем, одним из классических метафизических утверждений
является утверждение о сознании. Это введение предмета, полагаемого в качестве сверхчувственного, недоступного опыту. Оно
метафизично. Физика его содержать не может по определению; в
физике можно говорить о чем-то только в том случае, если это
дано нам на опыте, и мы можем наблюдать что-то в пространстве и времени. Человеческое познание - только опытно.
Внеопытного научного познания не существует.
Тогда что же такое метафизика, если она говорит о таких
предметах, которые в принципе недоступны нашей проверке,
опытному наблюдению и в этом смысле - сверхопытны? Зачем
она? Почему она сохраняется в философии? Потому что метафизические высказывания - это, прежде всего, высказывания об
условиях человеческого бытия - так они возникали. Значит,
во-первых, метафизические высказывания суть условие поддержания человеческого бытия как человеческого и, во-вторых, они
являются условием того, что человек может вообще что-либо
познавать. Скажем, утверждение о бессмертии души явно метафизическое; этот предмет, как я уже говорил, не распадается, не
делится на части. Наблюдать бессмертие мы не можем. А все, что
мы наблюдаем - конечно и подвержено делению, разложению,
возникновению-исчезновению и т.д. Так же, как и существование
(чуть ниже я скажу, в каком смысле) такого рода предметов есть
условие человеческого общения, когда выполняются и выдерживаются нравственные, этические и юридические нормы). То есть,
другими словами, когда существуют какие-то способы организации человеческой жизни, имеющие форму утверждений или
высказываний о чем-то. чего нет в опыте, о каком-то особом
пространстве и времени, в которых предметы живут совершенно
иначе; их жизнь в этом пространстве и времени не наблюдаема,
не поддается рассуждению, основанному на опыте.
Все эти вещи, во-первых, называются метафизическими и
главное - во-вторых, они сохраняются в философии потому и в
той мере, в какой философ понимает и видит в них условие человеческого бытия. Не в смысле реального их существования над
опытом и сверх опыта, а в смысле изобретенных в истории человечества способов организации человеком своего человеческого
бытия. Подобно кантовскому постулату' о бессмертии души как
основе нравственной жизни.
В итоге мы имеем две разновидности постулатов. Первая -
постулаты опытного познания (единообразие природы, напри¬
Неизбежность лсенимризики 111
мер). И вторая - постулаты общения, социальной и нравственной жизни, благодаря которым последняя выражается в исторических судьбах культур, народов, стран и т. д.
В частности, в нашей стране эти постулаты сегодня фактически разрушены. То есть люди не способны вступать в общение,
на основе которого они воспроизводили бы себя в качестве людей.
Как когда-то распалась связь общения, которая делала греков
греками, и они исчезли, затопленные варварами. Разумеется, это
зависело от того, что произошло с их способами организации
нравственной и духовной жизни. Что-то там сломалось, разрушилось. Поэтому я и говорю, что историю метафизических явлений
мы обнаруживаем или засекаем на судьбах культур и исторических эпох, когда может распасться связь времен. А связь времен -
связь метафизическая; та, которую имел в виду Гамлет, и которая держит преемственность, традицию и здоровье народа.
Итак, метафизикой в философии называется тот ее раздел,
который занимается выявлением условий бытия человека в качестве человека - субъекта истории и судьбы. Вот о чем идет
речь. Метафизика - лишь язык, на котором об этом говорится,
показывается всем. И упирается это, конечно, в то существенное
обстоятельство, о котором я говорил в самом начале. Фундаментальное ядро философии состоит в том, что она намертво связана с самой природой феномена человека, поскольку человек есть
искусственное создание истории и культуры, а не природное.
Или, другими словами, имеющее внеприродные основания
(надприродаые, сверхприродные, как угодно их назовите) и, тем
самым, сверхопытные, потому что все, что опытно - природно.
Или: все. что природно - опытно. В природе нет гарантий для
человеческого общения и человеческого существования. Их
основання закладываются иначе. И всегда, как ни странно, о
таких основаниях люди рассказывали (и тем самым их сохраняли) с помощью символов. То есть неких мифических существ,
тотемов, первичных хранителей памяти. А тотемы - что это
такое? - Это сверхчувственные предметы. Скажем, если тотемом
была птица, то имелась в виду не та, которая летает, а птица -
священный предмет, живущий в особом пространстве и времени.
Эмпирически она просто птица, а в качестве тотема - символический предмет, несущий в себе код тотема, например, код
семейных отношений данного племени: она выступает как
отношение человека к некоторому сверхъествественному существу. Откуда же появилось такое отношение?
Метафизика появилась потому, что само отношение человека к сверхъестественному есть тигль его формирования в
112
Введение € философию
качестве человека; с этого открытия можно датировать появление человечества. Человек создает себя в качестве человека через
отношение к чему-то сверхчеловеческому, сверхъестественному и
освящаемому (то есть священному), в чем хранится память поколений - там закодирован весь опыт (указания относительно
того, как поступать, кого брать в жены, чтобы избежать кровосмешения, а это очень трудная штука, сложный вопрос - система
родственных отношений в первобытных условиях). Следовательно, в каком-то смысле язык сверхъестественных предметов -
не язык кагах-то якобы существующих конкретно тотемов, а
чего-то другого. И он является тиглем человекообразования.
И в философии можно об этом рассуждать, как рассуждаю
сейчас я, занимаюсь метафизикой. Когда я говорю о том, что
такое на самом деле тотем и пространство его существования, то
я рассуждаю в терминах философской метафизики - об отношении
определенных вещей к условиям человеческого бытия. Способность видеть эти условия, не лежащие в каком-либо конкретном
содержании самого бытия, имеющие сверхопытный характер, и
есть метафизическое чувство.
Философская метафизика (причем, не обязательно выполняемая в специальных философских понятиях, а используемая
нами в повседневной жизни в зависимости от нашей жизнерадостности) имеет вообще прямое отношение к человеческому
достоинству и к личности человека. Что я имею в виду? Очень
простую вещь. В нашей жизни, поведении, наших мыслях и
наших поступках всегда есть какие-то основания. Есть категория
оснований, которые можно назвать опытными, в широком
смысле слова. А именно те, что задаются обществом, в котором
мы живем, нацией, к которой принадлежим: то есть определенная система ценностей, которая принята в данной культуре и
выражается в соответствующей общественной идеологии.
Но есть и другая категория оснований, которую мы поймем,
если зададим себе следующий вопрос: все ли в человеке действительно связано с теми основаниями, которые определяют конкретную его принадлежность к тому или иному времени, к той
или (той культуре, к тому или иному месту, к той или иной
идеологии? Допустим, я участник какого-то социального массового движения, имеющего свою идеологию. Это социальное
движение придает основание и оправдание моим сиюминутным
актам и мыслям. У него есть какая-то цель - сделать то-то или
построить, скажем, справедливое общество. И эта цель бросает
свет нравственного оправдания на мое бытие здесь. Если я
частица этого движения, этой цели, то тем самым моя жизнь, мое
Нёизоежноа&ь м&ъа.физшси
ИЗ
существование имеют основания, а мои действия моральное
оправдание, если выполняется то, что соответствует поставлен»
ной цели. При этом могут быть открыты законы общественного
развития, в соответствии с которыми общество идет к коммунизму. И если я делаю что-то, что вписывается в эту идеологическую программу, то якобы имею основание - достойное, нравственное и пр. Ну, вы знаете соответствующие формулы,
которые связаны в этим делом.
К счастью, возможны и другие основания, которые не суть
основания какого-нибудь конкретного места или времени; они
вне той или иной культуры, не связаны с ней и формулируются
внеопытным образом. Я сказал ведь, что все, что конкретно -
опытно и наоборот (неконкретной опытности не существует).
Скажем: нравственно все, что служит делу строительства социализма - это опытное суждение. Но тогда, следовательно, все. что
поверх культуры - внеопытно. Не в том смысле, что существует
еще какой-то другой, внеопытный мир, а по самому характеру
обоснований. Что я имею в виду?
Существуют личностные основания нравственности и поведения, которые принадлежат другому пространству и времени,
нежели пространство и время тех или иных культур или идеологий.
И человеческое достоинство зависит от того, есть это личностное
основание или его нет. У человека, который целиком вложил
свою душу в судьбы социального дела, душа может быть подмята
превратностями самого этого дела. Мы же его не контролируем.
Если мы все туда вложили, то неизвестно, с чем окажемся. Иначе
говоря, нравственность должна иметь де-факто некоторые абсолютные основания, вневременные. В этом - еде один смысл метафизики.
Метафизика толкует об абсолютном, вневременном. Не в
том смысле, что существует еще какой-то отдельный, абсолютный вневременной мир - о нем мы не можем говорить в терминах
существования, ибо, употребляя этот термин, мы говорим всегда
о чем-то опытном - но в другом смысле. А именно - трансцепди-
рования или трансцендентного. Это и есть основная метафизическая операция в философии. Раньше, в догматической схоластической метафизике, некоторые предметы, которым приписывалось особое существование, назывались трансцендентными предметами: таким предметом был, например. Бог. Но в грамотной
критической метафизике, каковой является вся метафизика после
Канта, не говорится о трансцендентных предметах (поскольку
всякое существование опытно). А говорится о трансцендирова-
нии. Так вот, под трансцендированием имеется в виду способность человека трансформироваться, то есть выходить за рамки
114 Введение в философию
и границы любой культуры, любой идеологии, любого общества
и находить основания своего бытия, которые не зависят от того,
сто случится во времени с обществом, культурой, с идеологией
или с социальным движением. Это и есть так называемые личностные основания. А если их нет, как это случилось в XX веке?
Как вы знаете, одна из драматических историй (в смысле
наглядно видимого разрушения нравственности и распада человека, распада человеческой личности) - это ситуация, когда по
одну сторону стола сидит коммунист, а по другую, тот, кто его
допрашивает - тоже коммунист. То есть представители одного и
того же дела, одной и той же идеологии, одних и тех же ценностей, одной и той же нравственности. И если у того, кого допрашивают, нет независимой позиции - в смысле невыразимой в
терминах конкретной морали, то... положение ужасно. Можно
выдержать физические мучения, а вот человеческий распад -
неминуем, если ты целиком находишься внутри идеологии, и ее
представляет твой же палач или следователь.
- Но он может считать, что заблуждается?
- Ну вот это заблуждение как раз и разрушает личность.
Потому что когда ты слышишь свои же собственные слова из
других уст, которым не веришь и которые являются причиной
совершенно непонятных для тебя фантасмагорических событий,
то и стать некуда. Нет точки опоры вне этого. А метафизика
предполагает такую точку. И в этом смысле она - залог и условие не-распада личности. Конкретная история лагерей в разных
странах показала, какую духовную стойкость проявляли люда,
имеющие точку опоры (те, кто были “ходячие метафизики", скажем так). Тем самым я хочу сказать, что метафизика всегда
имеет будущее. Она - необходимая часть философии, потому что
кроме других основании морали (которые тоже существенны),
есть еще основания, о которых мы не можем говорить в терминах опыта. Но можем говорить в терминах метафизики, сознавая
при этом, что говорим нечто метафизическое - не поддающееся
опровержению или доказательству.
Скажите мне, личность поддается опровержению или доказательству? То есть нечто, что уходит своими корнями в личностные основания (не в личные или индивидуальные, а в личностные
структуры)? Разумеется, нет. Поэтому и существует метафизика.
Бессмертие души - это предмет доказательства? Предмет опровержения? Нет! С точки зрения физики (а это единственная точка
зрения, которая возможна для рассуждении о мире), во-первых,
душа не существует как предмет и, во-вторых, никакого бессмертия нет. И если уж мы рассуждаем о чем-то, что не имеет смысла
Неизбежность метафизики 115
в физических терминах, так хотя бы будем мыслить и рассуждать
грамотно. О метафизических вещах - этом самом важном срезе
или измерении человеческого бытия, поскольку только в нем есть
то, что называется личностными структурами. И, может быть,
они единственные индивида в области социальной и нравственной
духовной жизни. Не мы - индивиды, а личностные структуры -
индивиды; мы можем к ним прислоняться, а можем отклоняться.
И если нам очень повезет, то прислонимся к той стороне, через
которую просвечивает личностная структура. Ибо она есть
нечто, существующее и несводимое ни к чему другому: индиви-
дуально-личностное существование.
Итак, я попытался, во-первых, пояснить смысл метафизики
как таковой и, во-вторых, показать одновременно ее отношение
к тому, как мы живем и что мы есть, отношение к чему-то для нас
существенному (независимо от того, знаем мы что-либо о метафизике пли не знаем). Можно прожить всю жизнь и неплохо ее
прожить, не зная, что занимался метафизикой. В этом смысле
философия есть искусство называния того, чем люда занимаются.
А люди и не знают, что они занимаются делом, имеющим такое
высокое или специальное название.
Проблема мира
Все, что я говорил вам. не просто ход мысли, проделанный
каким-то одним, отдельным философом, а ходы мысли,
которые легли в основание целых культур и определяли
устои человеческого существования на протяжении нескольких
столеттш. В этом смысле ‘Этика*’ Спинозы, например, не просто
книга, написанная человеком по имени Спиноза, а выражение
глубинных пластов целой культуры;, в которой была выполнена
некая сумма предданных человеческих требований к миру. Это
естественно, поскольку законы мира должны быть таковы, чтобы в нем появилось существо. способное понимать эти законы.
Это предданное требование (не эмпирическое), указывающее на
различие между эмпирией и онтологией - есть онтологический
человек и есть эмпирический человек. Эмпирическим человек -
случайное конечное существо. Но онтологический взгляд на
человека пытается разрешить этот парадокс на основе изобретаемой конструкции, с помощью которой мы мыслим, учитывай
человеческое бытие и не будучи связанными его случайностью и
конечностью.
116 Введение в философию
Если, говоря о человеческом бытии, мы научимся рассуждать, отвлекаясь от его случайности и конкретности, то лишь
тогда сможем как-то обосновать возможность человеческих
высказываний о мире. Не любых, конечно, а в которых видны
законы мира. И вот связка, лежащая в основании такой возможности, нам как бы говорит, подсказывает, что есть идея вещи.
Есть вещь (скажем, падает тело, деижутся молекулы воздуха) - и
есть идея или образ этой вещи в нашей голове. То есть понимание мира допустимо и возможно, если имеет место следующее.
Что сама эта вещь, вот, скажем, не эта окружность, которую я
нарисовал, а идеальная, которая есть выполнение некоторой
предельной, полной мысли, имеющей отношение к гипотетическому божественному интеллекту, - из одного и того же источника.
Вещь, которую я вижу, и то, как я ее вижу, имеют один и тот
же источник - не во мне, а в той самой деятельности, которая
породила ее. Ведь, когда я рисую окружность, то она неминуемо
предстает как эмпирическое выполнение понятия окружности, ее
идеального образа. Окружность - вне меня, но мое участие в
божественном интеллекте или моя онтологическая укорененность в законах мира связывают при этом вместе образ и вещь и
сопутствующую этому онтологию.
Кстати, эти термины (божественный интеллект и онтология)
имеют теологическое происхождение, и из них в XX веке очень
трудно выкарабкиваться, о чем я скажу ниже, а сейчас лишь помечу, что они носят на себе следы происхождения, скажем так,
набожного образа мышления. Ибо что такое онтология? Онтология - это учение об онтосе. А онтос? Это божественная протоплазма, свет, эфир божественной жизни - в отличие от эмпирии. Такие сцепления исторических терминов и сами эти слова и
термины не случайны. Они появились в силу человеческой
потребности разобраться в нас самих и в наших возможностях.
Что мы можем и чего не можем, и на чем основано то, что мы
можем. И потому исключено то, чего мы не можем (то есть,
почему не можем того, что можем). Вот такая связка!
И если вы возьмете ‘Этику" Спинозы, то столкнетесь там с
модусами - в частности, с модусом субстанции (Спиноза не называет ее, кстати. Богом, я сейчас отвлекаюсь от личной его религиозности, это другой вопрос). И у этого модуса два атрибута - вещественный и мыслительный. Связь их гарантирована. Почему? Потому
что без гарантированной связи вообще нельзя размышлять, но не
потому, что она есть. Спиноза не говорит, что такие события действительно происходят, что Бог рождает вещи и одновременно еде
и наши адекватные идеи об этих ведах. Здесь все тоньше и сложнее.
Я{1о£л&иа ми/га 117
Следовательно, в рамках того, что я казваг знто^огаческой
укорененностью человека, возможно следующее ргссуждешзе.
Мы не можем обосновывать понятие причинности 1015 причинной связи как закономерное. Эмпирик, последователь Юма, скажет, что никакой причинной связи не существует, а есть лишь
наша привычка ассоциировать вещи, случающиеся одна за другой. Но мы не можем знать, что они случились “потому что".
(Скажем, В появилось потому, что раньше случилось А.) Просто
многократно наблюдая такую последовательность, мы ассоциируем ее и называем причинной связью, которую потом переносим в мир. А там нет такой причинной связи! Есть только ассоциативные возможности нашего опыта и нашей психологии. Но
если нет причинной связи, тогда возможность нашего суждения
о вещах основана, очевидно, через “чистое" сознание? На определенных онтологических основаниях, или на сверхмощном интеллекте. А если так, то это некая все же непрерывно прослеживаемая связь, внутри которой при этом нет “самовольных
чертенят". Что тоже предполагает основанное на каких-то посылках утверждение; это утверждение имеет допущение и посылки, которые тоже выявляются философией.
Скажем, гипотеза Декарта об отсутствии злого демона (что
нет такого существа, которое нам внушало бы регулярно законоподобные сноведения) - не выдумка разгоряченного воображения, а дохождение до последнего пункта на том пути, на который нас толкает то, как мы построили свою машину мышления.
Построили так и ... пришли сюда, и здесь должны решать эту
проблему. Я показывал вам, как мы пытаемся выйти к онтологическим проблемам. Или как Декарт пытался выйти к своей
знаменитой идее “злого демона" (его отсутствия). Эйнштейн в
XX веке несколько другими словами повторил фактически то же
самое. Обычно их переводят так: Бог \HTq3. но не коварен. Но
лучше перевести иначе: Бог многоумен, но не коварен и не
играет в кости. Эйнштейн хотел этим сказать, что без допущения
в мире гармонии, некоторой упорядоченности познание невозможно. Если между А и В отсутствует непрерывность. А кости...
Вы не можете между актом бросания кости и выпавшей ее стороной, например, шестеркой, установить непрерывную связь. Хотя
этого не должно быть.
Так вот, эта простая фраза (я имею в виду Эйнштейна) - порождена структурой мышления, не его лично, а структурой целостного мышления, которое мы называем классическим. На самом деле эволюция философии (появление ксзых философии,
теорий, новых идей, опровержение старых и т.д.) происходит
118
Введение в философию
тогда, когда что-то реально нарушается в этом завоеванном
блаженстве, в этой онтологической укорененности человека. Об
этом свидетельствует, в частности, развитие в XX веке идей физической неопределенности, статистических методов исследования, чудовищное развитие и усиление символической стороны
современной физической теории - появление в ней все большего
числа понятий, которым нельзя придать наглядного физического
значения. Ну, скажем, волна Шредингера не есть волна, а называется волной. Или - нельзя наглядно соединить в один образ (а
непрерывность допускает такое соединение) волну и частицу, то
есть волновые свойства материи и свойства частицы. И в результате человеку начинает казаться, что он имеет дело с миром, который чуть ли не исключает саму возможность его понимания. И
отсюда - на поверхности общественного сознания появляется
идея кризиса физики, что физика стала якобы “нечеловеческой".
Например, Поль Валери писал об этом. Но все эти идеи лишь
внешнее выражение уже совершившегося процесса, поскольку
одновременно начинает работать философская машина (и в
этой работе принимают участие в том числе и физики, тот же
Эгаштейн или Нильс Бор), чтобы как-то решить фактически
старую проблему. Приходится заново возвращаться к прежним
критериям поиска человеком своего места в мире, к самим основаниям нашей возможности высказываний о нем. Короче, возникает та тройственная структура, или тройственная связь, о которой я вам говорил: некий сверхмощный законополагающий
источник познания, вещи, которые мы видим, и идеи, через которые мы их видим. Вот такая структура, если брать классическую философию. Ведь она явно содержала в себе или предполагала некую картину предданного, готового мира законов и
смыслов, в котором мы оказываемся п который постепенно начинаем поннмать н познавать.
Так что в современной философии приходится снова обсуждать эту проблему по одной простой причине: чтобы понимать
что-то, мы должны иметь место в том мире, который собираемся
понимать. Но место это теперь как-то иначе выглядит и приходится его заново завоевывать, хотя бы потому, что появляется
неопределенность, о которой я говорил, статистичность формулировок физических законов, наряду с символизмом физических
уравнений и т.д. И возникает вопрос (во всяком случае в русле
этого вопроса идет переосмысление): а существует ли готовый
мир законов и предданных сущностей?
Очень многие интеллектуальные опыты в XX веке показали,
что эта предпосылка относительно мира должна быть пересмот¬
Лрл&лема иифа 119
рена. И началась снова работа. В частности, поэтому, например,
в современной культуре интересен психоанализ. Оказывается,
нашу психическую сознательную жизнь (обнаружив в ней бессознательное как некую структуру) мы тоже не можем исследовать и
понять, если предполагаем, что существуют уже готовые смыслы.
Напомню в этой связи, что метафора и аналогия в психоанализе,
когда анализируются сновидения, трактуются как некая
“машина", которая лишь находится в поисках своего смысла,
относительно которого человек в мире часто заблуждается. На
самом деле любую психическую работу мы можем лучше понять
в предположении, что само ее движение во времени и есть устанавливающийся смысл. Я прошу прощения, что все время пытаюсь пояснить вам смысл философии с помощью своего рода наложения одного примера на другой. Но иначе не получается.
Вот и сейчас мне приходит на ум еще одно интересное рассуждение очень крупного физика XX века Джона Уилера, среди
учеников которого есть несколько нобелевских лауреатов, хотя
сам он это звание не полнил. Бывают такие странности. Так вот,
он очень хорошо как-то сказал, что самое трудное в современном мышлении - это привыкнуть рассматривать мир не как готовый, предданный для понимания. Современная физика, которая
связала формулировки законов с позицией и участием самого наблюдателя, преподносит нам, по словам Уилера, именно этот урок.
Он пред лагал в качестве иллюстрации такой не простой пример.
Представьте себе, что сидящие в комнате люди договариваются о том, что один из присутствующих выходат, а оставшиеся загадывают какое-нибудь слово. Затем ушедший возвращается и должен, задавая наводящие вопросы (есть такая
детская игра), выяснить, какое слово было загадано. Ну, скажем,
он спрашивает: это растение? А ему отвечают: нет. - Животное?
- Да. и т.д. Но допустим, говорит Уилер, что те, кто остался, вообще не договорились о каком-нибудь конкретном слове, а решили, что в зависимости от вопроса ответ будет строиться так,
чтобы определить возможный ответ каждого, кому будет задан
следующий вопрос. То есть загаданное слово будет возникать в
зависимости от того, какие вопросы будут заданы, и ответ в конечном итоге установится по ходу разговора.
Следовательно, в этом случае те законы, которые мы установили (имеющие какой-то смысл), таковы, что для того, чтобы
анализировать мир, нужно одновременно рассматривать становление и того, что говорится о мире, и того, о чем говорят. Я
сейчас не предлагаю это вам в качестве готовой формы, а просто
хочу показать живую жизнь источника философии. Проблема
120 Введение 4 философию
одна - найти себе место в мире, чтобы этот мир понимать. Скажем, понимать его как мир, который по физическим законам порождает существо, способное его понять. Но нам что-то мешало
это делать. Что? - Допущение (необязательное), что есть готовый, завершенный мир всех законов и всех смыслов. Идея Бога в
теологической связке философии предполагает обычно такую
завершенность, когда все как бы решено, пройдено. Но - в
бесконечности! А человек ведь конечен: он лишь часть целого и
должен проходить уже пройденное - тогда есть гарантия
правильного пути. Но это предположение оказывается необязательным. Можно и нужно научиться жить в мире не готовых
смыслов, а в таком мире, где смыслы становятся по ходу дела. И
в истории обнаруживается то же самое. Например: полезно
рассматривать историю не как развертывание, вызревание чего-
то, что развивается и превращается в зрелое существо. История
есть время в поисках своего смысла. Смысл устанавливается
после истории, а не развертывается во времени.
Попробуйте приложить это к знакомым вам литературным
экспериментам XX века. Фон, почва продуктивная - в философском смысле слова - здесь та же самая. Это то, что я и пытаюсь
выявить - связующие и одновременно невидимые, культурные
нити внешне разных вещей, подпочвенно связанных. Возьмите,
например, известную вам проблему времени в современной литературе, будь то у Фолкнера, у Пруста (или более поздние примеры), вы увидите тут - в косвенном философском смысле - то же
самое движение. То есть я хочу сказать, во-первых, что появление новых понятий в философии или новых концепций не
является тем, что может быть решено раз и навсегда. Это не
связано с решением проблем, поскольку мы имеем тут дело не с
проблемами, а с тем, в чем человек участвует. Представьте себе
метафору Уилера и попытайтесь объяснить ее самой философской работой. Вы поймете, что значит в философии отсутствие
проблемы. Это можно выразить так: в философии нет проблем, а
есть только тайна. Ведь, если я вошел в комнату, где вы договорились не загадывать слово, а чтобы оно определилось в зависимости от игры ответов и вопросов, то вы имеете дело с тем,
что я условно как раз и называю тайной. Философия и есть такого рода игра с миром. Поэтому и появляются новые проблемы,
а не до или после их “как бы решения”. Скажем, существует нерешенная или недоказанная теорема Ферма, и кто-то до сих пор
мечтает ее доказать. В принципе можно считать, что она разрешима, как я говорил вам, конечным числом шагов. Только никто
эти шаги пока не находит. Это - проблема. А философия имеет
7%ю6ииша иифа 121
дело с другими вещами; не случайно в ней все время воспроизводятся и повторяются одни и те же понятия. Это не означает, что
заниматься вечными проблемами - пустое занятие. Просто проблем вечных нет. Есть вечные тайны. Тайны, являющиеся нашим
человеческим делом, поскольку мы сами участвуем в том, о чем
рассуждаем и говорим. И наше участие имеет следствия; мы участвуем, и это снова порождает следствия и т.д., поскольку существует тайна жизни.
И, во-вторых, эти новые понятия и концепции пояеляются не
из праздной страсти вообще что-либо сочинять, а из имманентных предданных потребностей человеческого существа, из-за того, что мы оказываемся в ситуациях, которые заново решаем, и
снова должны работать, придумывать что-то. Через эти симптомы и разные тело-мысле-движения и пробивает себе дорогу живой нерв современной ситуации.
То. что я говорил вам, есть иллюстрация того (частично, конечно). как в философии применяется термин или понятие
“закон". Что значит говорить о законах в философии? Или философски говорить о законах? Это значит говорить о всех тех
проблемах, которые связаны с размышлением на тему: какова
вообще какая-либо наша возможность? Какие для этого могут
быть посылки? Философский разговор о законе не то же самое,
что. скажем, формулировка или открытие законов физиком или
химиком. Это нечто другое, хотя философы рассуждают, обычно
опираясь на примеры из физики, химии, астрономии, механики -
откуда угодно. И мы тоже рассуждаем сейчас в этой протоплазме нитей, связей, движения мысли, необходимости. В свое время
было необходимо связать мир: его связали на определенных
условиях - задали тройственную структуру. А мы должны
связать свой мир. потому что он распался. В нем, как я говорил,
появилась статистика, наглядность и т.д. Но мы должны связать
его, и тогда можно рассуждать.
Например, идея о том, что нельзя мир думать как готовый,
или как якобы заслуженный нами. Я бы эти слова всегда брал,
учитывая метафорический, философский их смысл. Один из физиков. по-моему, занимавшийся общей теорией относительности.
Сингх, сказал как-то следующее. Я снова обращаюсь к примеру,
чтобы выделить случайность индивидуальную, фразеологическую; один человек сказал то-то, другой еще что-то, третий
еи ^ то-то и т.д. Казалось бы, бессвязный ход, но держите в го-
еказанное выше о неопределенности современного мира.
Поскольку, отталкиваясь именно от этой неопределенности,
С шгх говорит, что если все это так, тогда Боту необходимо
122 Введение в философию
каждое мгновение умирать и рождаться заново. То есть и в данном
случае речь идет об отказе от предпосылки относительно готового, завершенного мира законов Евклида, но Сингх говорит об
этом, прибегая к древнему образу, в соответствии с которым человеческое сознание открывает и такую возможность взаимоотношения с миром. Потому что, так же, как существует миф о Боге,
отделенном от мира, создавшем мир и пребывающем постоянно,
есть другой древний миф об умирающем и воскресающем боге.
Поэтому отнюдь не случайно мы встречаем в современном
философском тексте, например, у Хайдеггера, рассуждение об
ип§пшс1 - неком глубинном основании, из которого выходят сами боги. Как известно, после Ницше в европейской культуре шли
споры об Адонисе и, очевидно, имея в виду эти споры, эту дискуссию, косвенно отвечая на нее, Хайдеггер вспомнил это символическое понятие, о котором писал когда-то Беме. Следовательно, в XX веке вновь появляется этот образ - умирающего и
воскресающего бога (как бы пребывающего в себе), с помощью
которого как раз и можно выразить условие того мышления, которое я описывал. Что нет неких заданных законов, а это я сам
(как человек, знающий об этом) участвую в законополагающих
истинах. Оказывается, не обязательно мир должен быть задан
(он и не задан), а законополагающая деятельность в мире есть.
Когда все проблемы - скажем, проблема отличия эмпирического
человека от онтологического взгляда на него - остаются. Это
то, что я вам говорил о связке (законы зависят от существования, а этого не может быть, и тогда существование нужно
рассматривать или брать в другом смысле, то есть мы начинаем
выявлять его тавтологически) - все это остается. И поэтому снова появляется рекуррентная идея, посредством которой я должен
понять мир независимо от меня, от его связи со мной. Потому
что, когда говорят о “Боге” в этом контексте, то тоже имеется в
виду не независимый мир, поскольку о мире просто говорят
“мир”. Его не называют Богом. Скажем, у Спинозы Бог - это
название природы, но такой природы, которая содержит в себе
человека, способного понять это. А какого человека она содержит? - Человека, включенного через чистое сознание. Потому что
человек есть во всем не через эмпирические органы чувств, хотя
они у него есть, а через что-то другое. Так начинается катавасия
разбора или анализа того, как человек включен в мир. И философские фразы, особенно тогда, когда они обращены к нашим
обычным литературным и метафорическим ассоциациям, сами
остаются не более, чем метафорами или условными высказываниями. А нас интересуют предпосылки, основания нашего мыш¬
ТЦю&ижа аафа
123
ления сегодня, а не догматическая или академическая сторона
философии. Собственно, поэтому я и не останавливаюсь на том,
что говорится в учебниках о категориях - о возможности, необходимости, случайности, вообще о самом понятии законов; я
просто пытаюсь показать, на чем возникает в философии сам
разговор об этом. Зачем это? О чем? Что это дает?
Ну, допустим, простые вещи. Хотя, наверное, не простые, потому что основная проблема в философии часто состоит в том,
чтобы уметь мыслить сложно. Вопреки тому, будто истина проста, в действительности то, на чем держится истина, - сложно.
Умение мыслить сложно означает способность человека держать
в голове две, как минимум, исключающие одна другую абстракции. Держать одновременно и условность того, что говоришь, и
тот прямой смысл, к которому эта условность в смысле тебя приведет (а смысл приведет). В свое время, кстати, Платон назвал
это диалектикой. Диалектическими процессами, диалектическими явлениями называются такие явления, которые возникают и
существуют, не будучи поставленными в причинную или дедуктивную причинную цепь в качестве их элемента. Диалектика была открыта как своего рода странное, я условно выражусь так:
энергетическое явление. В каком смысле слова? В том, что нужно
создать какое-то напряжение и потом, не вытекая прямо из него,
что-то возникнет само или не возникнет. Сократ же, в свою очередь, называл это майевтикой - искусством рождения. Имеется в
виду, что вот то, что сейчас в вашей голове, не есть конечный
элемент моего рассказа. Вот я рассказываю, передаю какие-то
знания, но то, как в вашей голове произойдет понимание, не может быть изображено в качестве элемента непрерывной цепи
моего сообщения, поскольку оно должно вспыхнуть. Само - ведь
понять можете только вы. Я не могу непрерывным образом, закрыв все зазоры, дойти до вашего понимания. Оно вспыхивает.
Значит, в чем состоит искусство майевтики? Или диалектики как
диалогического искусства? Очевидно, в том, чтобы задать или
создать такие - сейчас я употреблю новый термин - противоречия, то есть напряжения противоположно направленных сил,
чтобы в середине воронки, края которой я никогда не сомкну до
конца, возникло явление понимания. Или бытия, существования.
Вот это и есть то, что является проблемой диалектики в философии, независимо от любых отклонений, который существуют.
Потому что только отклонением можно назвать те описания, которые даются в наших учебниках (и не только в наших), где диалектика выступает в качестве теории мира, и считается, что мы
по сравнению с античностью якобы ушли далеко вперед, так как
124 Введение в фкло&з&шо
терм™ “диалектика" применялся тогда только к искусству диалога. Естественно к искусству диалога. Почему? Да потому что
знание непередаваемо. Чтобы знать, нужно быть! А можно ли
быть вместо другого? Нельзя. И значит передать знание нельзя.
Отсюда миф воспоминания или припоминания у того же Сокра-
та-Платона. Этот миф является выражением диалектической
проблемы. То есть предполагает присутствие такого сознания,
которое доходит до выработки концептуального аппарата, а
всякий концептуальный аппарат всегда оперирует предельными
предметами. Предметами рассуждения и опыта, доведенными до
максимума. При допущении, что должно быть состояние, в котором это можно понимать и видеть. Быть, ибо видеть голым
усилием мысли нельзя. Голое усилие мысли останется в рамках
круга относительности. К характеру мира как такового выйти
нельзя - вопрос о нем возникает только при нововведениях,
только применительно к проблеме новых форм. Всякое знание,
которое не новое, не есть знание по определению, а есть культура.
Так вот, предельное доведение стороны странной бытийно-
сти, которая есть условие понимания, н в содержании понимания
описываются каузальные цепи, а само это состояние, в котором
понимается, не выводимо. Но может быть индуцировано. Индусы его тоже в свое время научились индуцировать особыми,
невероятно разработанными средствами, они этим тоже занимались. Другой вопрос, почему они не пошли дальше, как греки, и
т.д., это уже другой вопрос, не относящийся к делу. Мы философией занимаемся, а не историей науки. Так, как же представить себе
это? На пределе - назовем это диалектикой. Вот то, что индуцируется диалогом. Силы, которые вызывают нечто, что возникает само
и что не выводимо ни из чего. Поэтому, между' прочим, термин
“скачок" в его грамотном виде и появился. А не в том мистическом смысле, как говорится об этом в учебниках “Диамата".
Возьмем самый древний диалектический образ, образ
гераклитова лука. Мой любимый. Почему стрела летит? Она
летит, потому что разно направлены напряжения концов лука.
То есть лук для Гераклита был одновременно и символом некой
гармонии - сопряжения чего-то в одно, хотя действуют при этом
разнонаправленные силы. Но именно их противоречие и является условием чего-то позитивного, какого-то реального события,
явления. В данном случае летит стрела. В другом - возникает состояние. В случае диалога возникает состояние понимания. Ведь
понять за другого нельзя. Точно так же. как и быть за другого
нельзя. А если от бытия, от “быть или не быть" зависит: понимать-непонимать, знатъ-не знать, построить каузальную цепь
Jlfio&ieMa MUfta 125
мира или не построить? Простым усилием мысли, не двигаясь с
места, нельзя проникнуть в мир. Двигаться надо, приводить себя
в движение. Лишь тогда возникнет, во-первых, существование и,
во-вторых, в этом существовании, из него что-то увидится. Или
не увидится. То есть, то, что в диалектической машине возникает, может возникать, а может и не возникать.
Или возьмем, например, совесть, о которой я уже говорил,
как условие моральных явлений. В качестве условия она не
является, конечно, конкретным явлением. Поэтому, чтобы грамотно понимать и мыслить моральные явления, что необходимо
держать в голове? Совесть как условие (понимая ее символических характер), прямой характер утверждения и одновременно
какое-то другое конкретное утверждение. А держать сложно, поскольку, как я сказал, в этом смысле нет простых вещей. Все простое, отлившееся в какую-то прекрасную форму, держится на
сложности структуры напряжения.
Но я, кажется, отвлекся в сторону, из-за слова “простое".
Обратимся к более современным вещам - к искусству и психоанализу. Представьте себе, что нам нужно послать марсианам
обобщающий образ или “портрет" XX века. Вы знаете, что
часто портрет преступника составляется из словесного описания
разными свидетелями; существует такая техника сопоставления.
Так вот, наш портрет XX века, имеющий отношение к проблеме
identity, очевидно, тоже должен включать в себя и элементы преступления - в широком смысле этого слова. Поскольку многое из
того, что говорится о психоанализе (а бессознательное - это
лишь часть факта identity XX века), просто болтовня, которая
захватила и так называемое модернистское искусство. И я хочу
сказать о том, как мы к этому относимся. Ведь то. что говорится
в нашей стране о новом искусстве или о психоанализе, как правило, чудовищно, потому что неграмотно. Ибо в культуре отсутствует живое дело философии. Попробуйте без философии, то
есть не сказав ни слова об онтологии, о сугубо теоретических
вещах в контексте анализа того духовного мира, который связан
в том числе и с современным искусством, создать портрет XX
века. Не получится. Проявится лишь схема преступления.
Повторяю, все, о чем я говорю - в смысле философской машины - не утверждается буквально. И то же самое в психоанализе.
Он не сводит все к желудку или полу. Что есть якобы у человека ка-
кой-то “ящик", в котором “лежит" бессознательное. Все это придумали дилетанты. Фрейд об этом не говорил, являясь представителем
философской культуры XX века, а его пытаются понять глазами
предшествующей натуралистической культуры, позитивистской.
126 Введение в философию
Например, Эдип. Иногда спрашивают: откуда может быть
комплекс Эдипа у человека, если он вообще не знал родного отца? Как он может завидовать отцу.и хотеть занять его место? То
есть приводится такое эмпирическое опровержение. Кстати, попробуйте мысленно применить это опровержение по отношению
к тому, что я говорил о философии. Возможно ли это? - Что не
соответствует эмпирическим фактам. Разумеется, невозможно,
потому что не об этом идет речь. И Фрейд не ссылался на эмпирические события, которые якобы происходят в этой связи в
реальном семейном треугольнике. Что ребенок хочет занять
место отца, спать с матерью и т.д. Фрейд предупреждал (как я
предупреждаю в отношении философии) относительно Эдипова
комплекса, что он никогда о нем не говорил, а говорил о
метафоре отца. То есть он ввел понятие, посредством которого
обозначил психическую работу, проделываемую ребенком, когда
тот осваивает факт отличия себя от другого, в смысле пола.
Оказывается, факт становится фактом, только пройдя через эту
работу. Или после такой работы. А до нее - нет факта. Нет
различия полов, пока не установлено, каким способом это установлено. То есть перед нами снова ситуация Уилера - ответ
установится по ходу работы. Уилер, конечно, же не думал о
Фрейде, когда приводил свой собственный пример. Как и Фрейд
наверняка не знал об Уилере, потому что он и жил гораздо
раньше и, вообще, о физике XX века никакого представления не
имел. Он занимался неврологией и знал лишь классическую
ньютоновскую физику.
Не знаю, как вы относитесь к этому, но для меня самое увлекательное в наши дни - это, конечно, такого рода вещи. Не знания сами по себе, если в них нет и грана философии, а напряжение понимания. Для философа самое непонятное в России - это
акт непонимания. Признаюсь, что одним из моих самых сильных
переживаний в свое время было переживание совершенно непонятной, приводящей меня в растерянность слепоты людей перед
тек, что есть. Поразительный феномен, когда люда на что-тс
смотрят и не видят, не извлекают опыт. И это при том, что от
этого очень многое зависит; я думаю, образ напряженного лука
и является тем образом, что необходим россиянину. Ибо для напряжения понимания нужны инструменты. Ведь лук напрягается
не просто руками; это изобретенный инструмент, содержащий в
себе целый мир. Так что надо заниматься философией.
Я приводил вам цитату из Уилера о некоем мире, который
становится похожим на наше движение в нем. Когда мы вдруг
начинаем познавать, и то, что мы познаем, устанавливается по
Л^гоохема М1фл 127
мере нашего познавания. Но опять же - познаем в мире, а не в
себе. Все это старая история. В свое время Декарт участвовал в
образовании онтологической связки укорененности человека в
мире в ее классическом варианте, который в наиболее чистом
виде представлен Спинозой. Спиноза - ученик Декарта (в смысле
интеллектуального ученичества, а не географического); он -
один из немногих философов декартовского времени, кто понял
Декарта. Декарт же всю жизнь настаивал на том, что не существует предсуществующих истин. Он обсуждал это в странной
форме (напоминаю, чтобы замкнуть круг). Он говорил так: разве
Бог создает вещи, сообразуясь с законами? Нет. этого не может
быть, потому что тогда Бог был бы ограничен в своей мощи.
Значит, есть что-то другое, некая полнота, которая не противоречит Богу. Именно полнота проявления воли и есть нечто
истинное, потому что так установилось. Истина - потом, после
того, как что-то предпринято. Это - корень его позиции в мире.
Декарт жил в Голландии, в с фане якобы относительной религиозной свободы по сравнению с католической Францией. Почему?
Потому что он хотел жить гам (об этом можно прочитать в его
письмах), где человеческое общество было равнозначно для него
географическому пейзажу. Когда не нужно понимать язык, поскольку люди вокруг него напоминали ему щебечущих птичек.
Он не желал понимать тгиц; он хотел, чтобы они оставались для
него элементами географического пейзажа, с которыми не вступишь в человеческое, связывающее тебя общение.
Я все это говорю к тому, что нечто - истинно, после того как
установилось, И затем стало истиной, которую мы воспринимаем уже как закон. Хотя напрячься можно вокруг любой мысли.
И потом - как сложится - будет истина или не будет. Истина не
обязательно должна быть хорошей. Она может показаться ужасной, но мы сами так хотели.
Техника понимания
“сред этим я пытался пояснить технический язык философии, проецируя его на известные нам реальные пробле-
_мы. Я говорил вам, что самая большая сложность в
обращении с философией - трудность узнавания. Вот что-то
есть, а мы не знаем - что именно. Просто потому, что не умеем
соотнести язык этого '"что-то” с тем, что мы знаем независимо от
языка.
128 Введение € философию
С одной стороны, философия казалось бы, простая вещь:
ока связана со всеми проблемами, которые мы знаем и испытываем независимо от философии. Но, с другой стороны, когда мы
читаем философский текст, нам часто не хватает узнавания в нем
используемого способа говорения о том, о чем мы вообще знаем,
поскольку мы люда. И, конечно, задача всякого рассказа о философии должна быть поэтому задачей постоянного соотнесения языка
философии (и его объяснения по ходу дела) с тем, что мы знаем,
когда-то испытывали или пытались понять, не обращаясь к ее
языку. Такое узнавание порой может доставлять истинную радость,
особенно, когда имеешь дело с текстами Канта, Декарта и т.д.
Я пытался проиллюстрировать некоторые темы, связанные с
фактом существования у нас сознания. Например, есть сознание
мира, здесь возникает проблема философской тайны, которая,
как я говорил, не решается раз и навсегда, и наша деятельность
мышления повторяется каждый раз заново в его терминах и понятиях. Какой бы ни была сложной и разветвленной философия,
она все равно сохраняет жизненную мудрость. Но мудрым быть
очень трудно - не в психологическом смысле слова (философия
не занимается психологическими способностями человека), а в
том смысле, что мудрость, ум и даже глупость в философии не
означают того, что мы обычно понимаем под мудростью, умом и
т.д. Хотя философия говорит на том же языке, на котором мы
вообще говорим - язык у нас один, другого нет. Поэтому мы
склонны в том числе и мудрость понимать согласно психологическому миру языка (язык есть одновременно мир психологии) и
думаем, что это слово означает просто качество, свойственное
или не свойственное тому или иному человеку. Однако для философа слова, похожие внешне на обозначение человеческих или
психологических качеств, не означают эти качества. Под мудростью в философии имеется в виду некое искусство, необходимое для того, чтобы делались и существовали вполне определенные вещи. Не наличие определенных качеств или свойств, а
искусство, имеющее свой аппарат. Не свойство, которое может
быть, а может не быть у человека, но его умение. Это хорошо
понимали уже греки, и, собственно, с этого они и начали, открыв
нечто, что лежит в основе всей философии. А именно, оказывается, человеческих намерений (например, желания добра, хотения
быть честным) - недостаточно. Другими словами, эмпирические,
обычные состояния челоь а несамодостаточны.
Между прочим, об этом прекрасно знают настоящие писатели, что романы не создаются добрыми намерениями. Что значит
написать, скажем, хорошую книгу, которая имела бы нравствен¬
Жехншса понимания
129
ный эффект? Оказывается, для этого недостаточно быть нравственным. Я думаю, вы понимаете, что роман, как и произведение. например, живописи - это конструкция, искусство. И его
эффекты будут эффектами хорошо сделанной конструкции, а не
намерении автора. Если автор написал плохо, значит написал
безнравственно. То есть произведение живет своей жизнью, и,
будучи плохой конструкцией, будет порождать безнравственный
эффект. Греки, повторяю, это прекрасно понимали, что из намерений ничего не строится. А что такое намерения? - Это наши
качества, состояния. Можно быть умным по биологическим показателям (быстро соображать, считать и т.д.), но это не ум в
философском смысле. Чтобы мыслить точно, должны быть соответствующие “мускулы". Потому что глупость и зло суть не
следствия нашей психологии, а следствия того, что мы не мыслим точно. В этом смысле глупость - это то, что думается в нашей голове само по себе, а не нами. Как, например, идеология,
носителями которой мы являемся, она живет в нас сама по себе и
в той мере, в какой мы ее выражаем, мы идиоты. Хотя при этом в
биологическом смысле, по психологическим критериям можем
быть одаренными людьми. В технике религиозного сознания это
очень четко выражалось в образе дьявола, который играет нами
независимо от наших намерений.
Итак, - несамодостаточность человеческих состояний. Необходимость для человека иметь что-то, что может быть самодостаточным. Помните, я говорил о врожденных идеях Декарта, которые
не выводимы из эмпирического опыта. Они в нас и в то же время
не могут быть привнесены нашей собственной добродетелью.
Мы не рождаемся мудрыми. Это нечто большее в нас, чем мы сами.
Следовательно, задача философии состоит в том, чтобы максимально высвободить жизнь чего-то большего, чем мы сами. Понимание этого составляет суть, ядро философии. Во-первых, понимание несамодостаточносш наших природных способностей, качеств
и свойств, или того, чем мы являемся по природе. И, во-вторых,
понимание, что самое ценное в нас нечто большее, чем мы сами.
И нужно искусство, некая техника или ‘пристройка", работающая
на то, чтобы максимально высвободить поле или чистое пространство, в котором это бы проявилось. То есть своего рода негативная, отрицательная техника - не делаю по привычке, а все
должен заново делать, и тогда будет, появится что-то. Поэтому
не случайно язык философии содержит в себе символы - слова,
не имеющие предметного, буквального смысла. Таким символом
является, например, душа в той мере, в какой она есть во мне, но
от меня не зависит. Как нечто независящее и бессмертное.
130 введение в философию
Философ не говорит, что есть такой предмет. Он просто вводит символ, предполагая, что если будешь соотноситься с душой
как с символом, то высвободишь пространство для того, чтобы
она жила в тебе. Она - в тебе, но не есть твое внутреннее достоинство. Чтобы она не заросла, скажем, плесенью или еще чем-
нибудь (я не знаю, чем души зарастают), нужна какая-то техника. Техника содержит в себе кажущееся утверждение о душе. А в
действительности там нет никаких утверждений (не говорится,
что есть душа). Буддийская философия, например, считает, что
индивидуальной души вообще не существует, она не свойственна
человеку: “я1 рассматривается в ней как иллюзия, хотя и устойчивая. Наоборот, в ней вводится понятие некоторого одного мира
и одной души, проекциями которой и являются иллюзорные или
множественные “я". Нет множественного сознания. Как говорили мистики - и я с удовольствием повторяю эту формулу - сознание
представляет собой singulare tantura, то есть множественное-
единственное. Множественную единичность, скажем так.
Теперь, взяв элемент философского языка, я могу тут же это
nq3eBepn>Tb. С одной стороны, я пытался вам показать, что
только что сказанное связано с простыми вещами. А с другой
стороны, это сразу рождает профессиональные технические вопросы. Поэтому обратимся к истории философ™; по-моему, я
уже приводил этот пример, он связан с философией Беркли. В
смысле - можно ли воспринимать мир так, как он есть, независимо от восприятия? Это пример философской “схоластики", с
которой мы встречаемся в тексте, но не знаем, что к ней привело.
Поэтому, давайте, сделаем обратный ход, чтобы прийти к тому,
что вызвало этот вопрос. Для этого мы должны вернуться к нашему психологическому языку, поскольку одновременно мы ведь
“рождаемся" в том, что больше нас самих. А это явно не природа, а что-то, о чем мы говорим на символическом языке. Хотя
рождаясь, мы продолжаем оставаться природными существами
(точнее, не перестаем быть ими). Но наше рождение какое-то
странное. Живя, мы говорим на языке определенных знаков и
звуков, за которым стоит наша материальная вещественная
психология, наши свойства и качества. Жизнь продолжается, а
мы находимся как бы в зазоре, в каком-то промежутке между
природой и искусственным миром, искусственными образованиями. И в середине живет нечто большее, чем мы сами, о чем мы
должны лишь печься. Но мы, повторяю, остаемся природными
существами, что и порождает неизбежно систематические видимости и иллюзии, парадоксы в смысле бессмысленных вопросов,
которые как раз и требуют философского прояснения.
Жгшииса понимания 131
Вот я сказал, что сознание - одно, и показал, какие вопросы
ведут к философскому идеализму типа Беркли. Оттолкнемся
вновь от вопроса: как дается мир нашему восприятию? Когда мы
рассуждаем о мире и восприятии, в языке невольно возникает
предположение, что мы можем иметь мир независимо от восприятия и сопоставлять его с восприятием. Ведь мы находимся
пока внутри натуральной видимости языка. И именно язык
содержит в себе утверждение, что если есть нечто, - например,
дерево, - то оно, само по себе, и есть “дерево” в моей голове. Но
сама возможность того, что я об этом говорю, содержит посылку, что в принципе каким-то образом я могу знать о дереве независимо от моего восприятия и сопоставлять его с этим восприятием. Но если я о дереве вообще знаю только из моего
восприятия, то откуда я еще о нем могу знать? Что - путем сопоставления опять дерева с его образом и выводя, например, (если
я материалист) образ дерева из его воздействия на мое сознание?
Но ведь о дереве, воздействующем на мое сознание, я знаю лишь
из совокупности восприятий. То есть у меня нет никакой точки, с
которой я мог бы посмотреть одним глазом на дерево, вторым
глазом на восприятие дерева и третьим глазом еще оценить их
соответствие, адеквацию. Есть такой философский термин -
“адеквация”, адекватность. Например, говорят: идея должна
быть адекватна предмету. Для этого нужно предмет схватить отдельно от идеи, чтобы сопоставить его с ней. Декарт называл это
ситуацией “третьего глаза" - есть предметы, есть их образы в
нас и есть еще какой-то глаз, который видит предметы и сопоставляет их с образами (хотя этот третий глаз может чернить содержание своего видения лишь из того, что ему сказали образы).
И предмет (дерево, в нашем случае) никаким иным образом нам
никогда не может быть дан. Можно построить такого рода парадоксальное рассуждение, как построил когда-то Гераклит.
Философский язык всегда условен и построен жестко для того,
чтобы вдолбить нам в голову хотя бы одну мысль или один оттенок мысли. Но продолжим наши коварные вопросы. В смысле
- сколько деревьев? Вот, например, перед нами фонарный столб
- правда, вам он не виден, а я его в окно вижу. Он в моем сознании, в вашем сознании; но каким образом он посылает один
образ в мою голову, один образ в вашу, в третью, четвертую и
т.д. Что он, размножается? Но тогда это тот же фонарный столб
или нет? Значит, существует множественное сознание: каким-то
образом фонарный столб умудряется быть в разных местах, сам
оставаясь на месте. И к тому же, он еще ставит нас перед проблемой: как мне пережить ваш фонарный столб, а вам - мой?
132 Введение в философию
Можете ли вы испытать мое сознание? Ведь, если фонарных
столбов много, то возникает проблема коммуникации, являющаяся в данном случае проблемой проникновения нами в сознание друг друга. Иначе фонарный столб как возможное понятие
не существует, потому что, когда мы коммуницируем, мы снова
соединяем образы. Они ведь только что получились во множественном числе, а мы должны их как-то соединить, чтобы в
нашем языке было одно обозначение, был один и тот же фонарный столб. Но слово - это просто слово, звук. Столб не несет в
себе “столбностъ”. И звук “столб” не похож, скажем, на звук
“стол”. Значит, я не передаю вам столб материальной формой
слова, самим говорением: с-т-о-л-б. Иначе это происходит.
Передача происходит так, что когда я говорю “столб”, это слово
в вашей голове соотносится с образом столба. Однако у вас он
один, а у меня - другой. Столб размножился. И что? Чтобы
понять это слово, мне нужно влезть в ваше сознание и пережить
его как мое сознание? Возможно ли это? Можно ли реально
испытать чужое сознание? - Немыслимо. Или возможно? Тут и
начинаются поиски возможностей - могут ли они существовать?
Фактически я сейчас коротко, буквально за несколько минут,
передал вам содержание тысяч философских трактатов. Это и
есть знаменитая проблема интерсубъективности, которой занимаются современные феноменолога. Почему нам важно разобраться в этой проблеме и зачем вообще нужна такая философия?
Затем, что, начав говорить или начав двигаться определенным
образом, мы вляпались в ситуацию, и процесс ее прояснения
просто неминуем. Причем, сказав “столб”, люди умудрились
придумать такие слова, которые о реальных столбах ничего не
говорят. Скажем, в грузинском языке они будут другие, в армянском еще какие-то. непонятные нам, и т.д. С чем же они должны
соотноситься? С психологическим составом нашего сознания?
Но тогда, чтобы слова имели смысл, должна быть возможность
обмениваться не словами, а психологическим содержанием
сознания. А можем ли мы этим обменяться?
То, о чем я говорю, - это проблемы, выросшие из обыденной
ситуации и находящие свою постановку уже на философском
языке (хотя я сейчас не использовал философский язык). И в первую очередь, конечно, это проблема так называемой философской йктерсубъектпвности. Проблема возможности проникновения в чужое сознание, которая, разумеется, должна обсуждаться
- ведь должен вырабатываться какой-то инструментарий, техника, совокупность каких-то понятий, концептуальный аппарат;
все это я есть философия. То есть главный смысл такого обсуж-
ТНехшаса понимания. 133
дения состоит в том, что возможно философское учение, в рамках которого ставятся вопросы (как я только что поставил), вытекающие из ситуации, в которую мы сами себя вляпали. Когда,
продолжая быть природными существами, мы говорим внутри
натуральной иллюзии языка. А в ней есть “я” ваше, “я” мое, есть
вдруг размножившийся и во многих местах присутствующий
фонарный столб. Следовательно, то, что я сейчас говорю (не
содержание, а то, что я об этом говорю), уже есть философия
определенного рода, поскольку начинает решаться задача, как
передать нечто другому сознанию. А возможна философия,
которая рассуждает (как я рассуждаю об этом), как возникает
ситуация необходимости говорения о передаче сознания друг
другу, и показывающая, что это - псевдопроблема. Ведь если я
могу показать, что это возникает лишь в силу натурализма
языка, то я тем самым не только показываю, что это псевдопроблема, но и строю один из вариантов философии, в терминах
которой мог бы показать, что такой проблемы нет.
Ибо реальная проблема состоит в том, чтобы множественность приложилась к тому, что едино. Нет многих деревьев. Вот
этот стол - один; не он - в нас, когда мы сознаем, видим образ, а
мы - там, нет никакой проблемы его размножения. Мир - один
(он дается один раз). Но перед языком, на котором мы говорим,
стоит задача коммуникации, а не задача анализа, потому что
язык внушает нам определенные склонности, содержит в себе
определенные натуральные видимости и порождает определенные вопросы, относительно которых философ может показать,
что они неминуемы - раз мы так начали говорить. И, конечно, у
нас появится проблема, как коммуницировать другое сознание.
А оказывается, сознание не надо коммуницировать. Оно одао. И
вас нет и меня нет. Нет множественных “я”. Есть одно, и есть
иллюзия “я", возникающая в силу определенных причин. Сейчас
я излагаю (естественно, на своем языке) смесь разных восточных
философий, но, думаю, ясно, что заставляет жить все эти слова, и
откуда и в чем черпают свою жизнь названные проблемы, в том
числе, проблема возможности проникновения в другое сознание.
Поскольку, если существовали бы разные сознания, то, может
быть, нельзя было и помнить. Поэтому и вырабатываются понятия для анализа жизни сознания.
Нащупывая эти точки, нервы, благодаря которым появляются соответствующие понятия, зайдем, однако, немного с другой
стороны; я воспользуюсь этим, чтобы ввести другие проблемы.
Тоже в теоретическом, если угодно, виде, но мне нужно сначала
дойти до них, идя просто от мудрости, скажем так.
134 Введение в философию
Я говорил, что философия, или мудрость, есть размышление
о том, чего мы не могли бы достичь сами по себе, для чего нужно искусство. Недостаточно соображать в биологическом смысле слова, нужно еще что-то. Недостаточно хотеть добра: добро -
искусство, то есть сложная техника. Недостаточно хотеть истины: истина - техника. Наука и философия потому и существуют,
что истина - техника. А она живет своей жизнью, по своим законам. И проблема человечества - это проблема того, что в нас
есть или может быть (а может и не быть, если не повезет) нечто
большее, чем мы сами. Что вырастает в виде гигиены, правил
умственной жизни, правил культурной жизни. То есть все то, для
чего люди изобретали целые институты - право, мораль, философию, искусство и т.д., Что-то, как бы созданное человеком,
ибо все это, хотя и было создано, относится к чему-то, что от
человека не зависит, что является в человеке большим, чем он
сам. Тогда эту проблему можно, видимо, обсуждать так, раз это
уже случилось однажды и обсуждалось в античной философии,
потом повторялось в философии Нового времени и сегодня повторяется и в философии, и в этнологии и в других дисциплинах.
А именно - можно ввести понятия искусственного и естественного. И обсуждать ее на уровне понятий “природа/культура”. В
каком взаимоотношении находятся между собой культура и
природа? Культурой я буду называть все, что искусственно, что
природой не рождается, когда можно обсуждать такой вопрос:
все ли искусственно в культуре? Или другими словами: все ли в
ней является сознательным изобретением человека, контролируемым, или там есть еще что-то, хотя и не природное, но в то же
время полностью не зависящее от человека? Разумеется, я могу
утверждать, что в какой-то мере человек есть продукт природы.
В каком смысле? Действительно ли он продукт природы? А
может быть он вообще не природен.
Кстати, задавая подобные вопросы, люди потом перестают
понимать, что они изобрели тем самым определенную технику,
которой нужно владеть, как владеют, скажем, мускулатурой, -
технику не описания каких-то содержаний, а размышления о
том, что в человеке большее, чем он сам. Так что это за работа -
изобретение каких-то искусственных вещей, которые не самоценны и од новременно являются такой техникой?
Например, первичной техникой такого рода явились в свое
время мировые религии. Религиозное сознание имеет свою
технику; это именно техника - апофатическая, как выразился бы
философ, негативная, когда о Боге говорят, что Его нет. То есть
то, что я называю так, - не существует. И значит, Богу могут
Жехшаса понимания 135
быть даны только страдательные определения. Это очень старая
вещь, так называемое апофатическое богословие; потом это
стало у философов называться негативной, или отрицательной
метафизикой (одним из самых ярких ее представителей был
Кант). Это техника умелого разрешения проблем, связок и невозможностей, которые возникают в ситуации, когда есть что-то
большее во мне, чем я сам, и, следовательно, не мной изобретенное,
и в то же время не природой во мне рожденное. Потому что природой во мне рождаются мои способности или неспособности,
моя тупость в идеологическом смысле слова или какие-то проблески ума. Это - может быть, а может и не быть, но это природ-
но. А то, что сверх природа - должен ли я это относить к самому
себе? Оказывается, полезно считать, что это, например, дар. А я
лишь сторож дара - плохой или хороший. Но что это такое?
Вот я сказал: “сторож”, “дар”... - разве эти слова что-нибудь
описывают, разве у них есть эмпирический научный смысл? -
Конечно нет. Они служат для того, чтобы я грамотно жил и грамотно думал. Это предупреждение, а не теория мира: ты совершишь большой грех (сказал бы по этому поводу мистик), если в
один прекрасный день сочтешь, что то, что ты сделал, ты сделал
в силу самодостоинства (я цитирую Симеона).
Это образец теологического высказывания. Но в теологии
тоже изобретались вполне серьезные, глубокие символы: например, символ Христа как воплощенного Бога. И вы знаете, что
этот символ разрешил фантастические проблемы. Если проблемами называть вот те сцепления, которые возникают в этой
каше: большее„ чем ты сам, но в то же время не природное. Так,
как же жить с этим? Как с этим быть? Я, кажется, говорил вам о
таком изобретении, как колесо. Это настолько удачный способ
передвижения, что колесо до сих пор остается пределом наших
возможностей в смысле передвижения, дальше которого мы не
ушли, хотя открыли атомную энергию. Но ведь фактически такие же изобретения существуют и в области духовной мысли. Я
имею в виду в данном случае прежде всего образ Христа. Однако, когда я говорю: ‘1нечто большее в нас, чем мы сами” и “это
большее более ценно, чем мы сами”, то у вас может возникнуть,
во-первых, искушение приписать это себе, что это якобы ваше
достоинство, отличающее вас от других. И во-вторых, возникает
искушение подражания Богу, потому что, если нет природы,
значит, это божественное начало. Так ведь? А оно, в свою оче-
редь, просто иносказание нашего и природного начала. И, следовательно ... можно подражать Богу. А на самом деле здесь и
возникает символ, согласно которому нужно стремиться подра¬
136 Введение в философию
жать Христу, а не Богу. То есть введение концепта воплощенного Бога в мировой религии (в буддизме - Будды во множественном числе) и есть элемент решения “машины” умственных сцеплений и техники. Понятно, что я сказал? Поскольку иначе мы
впадаем в богохульство; а вот - воплощенный Бог, ему еще можно “подражать’'. Значит, воплощенный Бог служит для этого, а
не для того, чтобы рассказывать байку о том, что существует непорочное зачатие, зависящее от случайности. Как говорят французы, не в таких случаях женщины подвергаются опасности.
То, о чем я вам говорю, и есть один из примеров техники
жизни, гигиены духовной жизни. Но философия - это не просто
гигиена, тем более, что строится она путем разработки интеллектуальных конструкций, связь которых с исходной базой не
всегда заметна. Подчеркиваю, очень существенное место в жизни
культур занимают такие мыслительные духовные конструкции,
содержание и задача которых состоит не в том, чтобы описывать,
каков мир. Это очень важный пункт. И для грамотногр сознания,
которому нужно обучать и которое культивируется в рамках
определенной традиции, все это обычно бывает ясно. Но иногда
традиция прерывается, мы теряем смыслы и перестаем понимать,
что это значит. Скажем, в связи с полетами в космос, многие из
нас думают (в том числе и те, кто летает, и те, кто наблюдает за
летающими), что там, находясь в космосе, мы окончательно увидим отсутствие чего-то, а именно - божественного существа.
Такова работа неграмотного сознания, которое не понимает
смысла того, что утверждалось традицией; хотя должен заметить,
- люди, живущие внутри традиции, тоже не всегда отличаются
пониманием. Но поскольку в традиции есть система запретов,
то. следуя им, мы тогда избегаем возможных последствий
нашего непонимания. В силу простого послушания, в силу
покорности: не знаешь, не понимаешь - тогда слушайся. Попытайся хотя бы разобраться.
Но перейдем к совершенно, казалось бы, другой вещи. Я
говорил, употребляя выражения “большее, чем знание”, “не природное, однако и не искусственное”, в том смысле, что живет
своей жизнью. Помните, в каком-то смысле колесо живет своей
жизнью - колесо как идея, как воспроизводящаяся форма, как
горизонт наших возможностей. Канон “золотого сечения” живет
своей жизнью. Стрельчатый свод - как форма, или артефакт, искусственное изобретение. Правда, мы не можем пронзить толщу
мифа - не индивидуального, а коллективного, и назвать даты и
имена их изобретателей. Тысячелетняя толща основных человеческих изобретений, таких, как стрельчатый свод, колесо и т.д -
Жехнмса понимания, 137
непроницаема. Но мы можем сегодня рассуждать об этом,
используя в том числе и эти термины. Я приводил примеры того
(выделяя мозаично и произвольно), как работает в философии
теория сознания, как возникло понятие чистого сознания.
Все это было выработкой определенного аппарата для того,
чтобы уметь рассуждать о проблемах, о которых я вам говорил в
другой связи. Проблемы эти: каков мир? что о нем можно
утверждать? То есть нам нужно найти такую точку утверждения
о мире, которая по своему содержанию не зависела бы от
случайности самого утверждения. Потому что мы - конечные
существа, а в содержании наших утверждений претендуем на то,
чтобы формулировать универсальные суждения о космосе. Но
как же существо, наблюдающее космос со случайной точки, может вообще судить о том, как устроен космос? Ведь устройство
космоса не обязано считаться с нашими случайностями -
случайностями того, что, скажем, разрешающая способность
нашего зрения по отношению к световому полю и световому
спектру одна, а у других (животных) - другая, или разрешающая
способность нашего слуха такая-то. Следовательно, мир-то
событийствует, и в нем что-то происходит, не считаясь с ограничениями нашей размерности, нашего устройства. И тем не менее
в физике мы ведь говорим об этом. В физике мы научились говорить о мире так, чтобы это нечто было не ограничено нашей же
собственной ограниченностью.
Значит, в качестве субъекта таких высказываний о мире мы
полагаем все же какое-то особое, отнюдь не эмпирическое существо. Например, “чистое я”. Откуда берется это дело? Из понятий классической немецкой философ™, где “я” выступает как
“чистое я"? Но откуда оно? Почему нужно рассуждать о каком-
то чистом сознании? Может быть, “чистое сознание”, как я говорил вам, - это просто обобщающее слово, так называемый
общий термин? Как “дерево”, обозначающее множество деревьев, или “стол’. Да нет, это не абстракция сознания от множества сознаний, а конечный пункт необходимого пути рассуждения, когда как бы сразу задаются все эти вопросы. Для того,
чтобы говорить о мире что-то универсальное и необходимое,
должно что-то случиться во мне (или в вас). Должен произойти
акт понимания. Он может быть, а может и не быть, но из содержаний мира он не вытекает: условием утверждения в мире содержаний является некое “случание". Когда нечто случается даже
независимо от того, поймете вы это или не поймете, я пойму или
не пойму. Быть нужно! То есть бытие не зависит от мысли. Ваше
бытие - от моей и вашей собственной мысли, или мышления.
138 Введение в философию
Эта тема, о которой в таком виде, в моем изложении, вы едва
ли слышали, но вы можете встретиться с ней в профессиональном тексте, где идет речь о том, что есть тождество бытия и
мышления. Например, Канту в свое время пришлось доказывать,
что бытие не есть предикат, оно не имплицировано так, чтобы
его можно было получить логическим путем. Как я только что
объяснял, то, что должно быть, не может быть выведено, это
первородно-оригинальный акт. В нем - все. Если бы я мог передать вам знание и понимание, то тогда знание и понимание были бы только элементом в цепи рассуждения, вывода или причинной связи. Но если я доказываю, что этого не может быть, то
тем самым утверждаю, что, с одной стороны, есть мысль и передача
знаний, а с другой - есть еще бытие, без которого нет мысли в
смысле понимания. Оно должно вспыхнуть - в вашей голове.
Значит, в какой ситуации я оказался? Я оказался в ситуации,
которую описывал в прошлый раз, а теперь выражу это несколько иначе: сначала есть результат, мир не зависит от нашего устройства. То. что мы говорим о мире, имеет форму физических
законов, утверждаемых мною в мире. Они не должны зависеть от
случайности моего нщцгендуального устройства. Но тем не менее
понимание зависит от бытия хотя бы одного какого-то сознательного существа, потому что бытие сознания и понимания есть
именно бытие сознания и понимания, а не просто бытие вещи. Ага,
так. Следовательно, я уже имею здесь дело с каким-то странным
бытием, как сказал бы Парменид; оно теперь есть то, что узнается
мыслью в качестве такового. Это первая историческая формулировка знаменитого тождества бытия и мышления в философии.
Но поставим вопрос несколько иначе. Вот мы ввели уже чистое сознание и доказали, что ввели знаменитую фигуру, конструкцию, на которой удобно об этих проблемах рассуждать -
“чистое я’', рассматриваемое как неэмпирический субъект. То
есть ввели не вас, не меня, не эмпирического носителя каких-то
психических или физиологических состояний, а некоторое “я”, о
котором говорится, как если бы говорилось об обычном я. И отсюда у читателя возникает смущение; читая Канта или Гегеля,
он пытается соотнести то, что говорится у них о “я” - с “я’* в
нашем языке. И у него может возникать недоумение: что же тогда это такое? А там говорится о некотором неэмпирическом
субъекте. Почему же нужно говорить именно о нем? Да потому,
что это неизбежно. Ведь, если я говорю о понимании мира, и это
понимание, формулируемое в универсальных физических законах, которое не может зависеть от случайности и размерности
человеческих органов чувств, хотя в то же время какое-то
Шехника понимания
139
существо должно быть, то я разрешаю проблему все равно
введением некоего существа, но не эмпирического, а “чистого я”.
И в истории философии разыгрывается по этому поводу целый
эпизод на основе изобретенных понятий теории сознания,
вернее, в понятиях рефлексивной конструкции самосознания,
введенной Декартом, Кантом и дальше развитой Фихте,
Шеллингом, Гегелем (в общем, до Маркса, включая Гегеля).
Но возможен и еще один шаг, который тоже был продуктивным в истории философии, то есть для развития аппарата
философии как таковой. Шаг этот можно совершить, задумавшись над тем, что я говорил о “большее, чем я сам”, во мне же, а не
в природе. На языке классической теории сознания об этом можно
говорилось в таких терминах: “врожденные идеи” (Декарт),
“чистое я ’ (Кант). Но конечным пунктом этой теории было следующее утверждение. Кант как классический философ классической эпохи всегда откровенно высказывал то, к чему приводит
логика философской машины. Он говорил, что есть явления,
некоторые вещи, о которых можно говорить только в терминах
сверхъестественного внутреннего воздействия. Обратите внимание
на сочетание слов: сверхъестественное внутреннее воздействие.
Между прочим, это и есть голос категорического императива
внутри нас. Помните, деа зрелища, вызывающие восторг - звездное
небо на нами и категорический императив в нас? Удавленный
восторг - это есть, велико, но в то же время не очень понятно,
откуда это чудо. Чудо - но ясное (бывает ясное чудо). Вид звездного
неба - ясное чудо гармонии, но до конца не понятное. Потому
что непонятно все, что вызывает восторг. Слово “восторг” ведь
и означает, что то, что мы воспринимаем и понимаем, видам ясно,
но не до конца. Не в том смысле, что там есть какая-то непонятная
деталь. Нет. Чудо - вижу ясно, но ... как это может быть?!
Так вот, обратите внимание, оказывается, все, о чем я только
что сказал, можно сказать и в других терминах. Что такое
совесть? Совесть - это то, что внутри нас, большее, чем мы сами,
и от нас не зависящее. Когда мы говорим: голос совести, то явно
имеем в виду что-то, что от нас не зависит и нами как бы командует. Но это не голос природы. Спасибо, милый Кант хорошо
сказал: сверхъестественное внутреннее воздействие. Существует
ли сверхъестественное? Для опытного знания, конечно, не
существует. Но совесть не есть опытное знание. И поэтому существование ее может рассматриваться как существование сверхъестественного. Так что Кант все-таки грамотно сказал. Хотя
обычно мы считаем, что оно вне нас. Например, сверхъестественный мир; мы здесь, а он где-то там. Отнюдь.
140 Введение в философию
Сверхъестественное внутрегшее воздействие - не какая-то от
нас отделенная внешняя необходимость, на которую можно было
бы ориентироваться или которой можно было бы подчиняться.
Кстати, один из русских экзистенциалистов именно так
(неправильно) и понял классическую философию. Я имею в виду
Льва Шестова, у которого была идея фикс окончательно положить на лопатки Спинозу, сковавшего якобы весь мир цепями
необходимости. Спиноза, как известно говорил, что свободный
человек не думает о смерти. А Шестов на это возражал: и что это
за свобода, которая ориентируется на законы! Если помните, я
постоянно напоминаю, что история философии и сама философия богата недоразумениями. Странно, действительно, почему
философы плохо понимают друг друга. Я не перестаю удивляться этому (правда, уже не так, как звездному небу). Глухота!
Шестов, безусловно, одаренный философ, но он философ моноидеи. Он видел в философии (в том числе и Спинозы) только
систем) естественных натуральных необходимостей и законов.
А Кант говорит: cвqэxъecтecтвeннoe не внешний императив, не вне меня сформулированная норма, которой я подчиняюсь как внешней необходимости и закону, а голос внутри меня.
И в то же время это не голос моего эмпирического ‘*я’\ а сверхъестественное внутреннее воздействие. Это сила, которой я подчиняюсь, которая меня ведет, за которой я следую, но она -
сверхъестественна. Во-первых, она не какой-нибудь природный
закон (природные законы не формулируются в терминах совести). И, во-вторых, совесть не есть мое свойство, но она - не
природа. Сверхъестественное в этом смысле слова. Или сверх-
природное внутреннее воздействие. И так можно сказать.
Социальная физика
Введу два понятия, чтобы пояснить некоторые новые явления в философии и элементы аппарата философ™. Эти
два понятия - общение как сущность человека и понятие
социальной и вообще человеческой жизни как “физики’' чего-то.
что строится на основе совокупности фактических отношений.
Я уже, видимо, говорил, а если нет, то скажу сейчас, что новые философские проблемы и элементы в аппарате философии
появились (кроме других причин и элементов) после Маркса. Во
всяком случае, я считаю, что Марксу пришли в голову две гениальные идеи. Первая - это то, как он отнесся к факту социаль-
Социальная, физика
141
поста человека, и вторая, что он рассматривал человеческую
жизнь как своего рода физику. Что я при этом имею в виду?
Классическая философия в той мере, в какой ей приходилось
строить социальные теории, имея дело с определенной социальной историей, склонялась к тому, что общественные связи человека сами по себе уже готовы - до акта общения - и устанавливаются путем контракта, или договора, между людьми. Идея
общественного договора, которая была основным понятийным
основанием социальной теории, в этом и состояла. Одним из ее
авторов, как известно, был Руссо. Он считал, что сформировавшиеся существа, называемые людьми, оказавшись вместе,
вступают в договорные социальные отношения для того, чтобы
возникла возможность совместной жизни, чтобы в их жизни реализовался некоторый минимум цивилизации, порядка, минимум
справедливости и т.д. То есть социальное состояние (а общение
людей - это социальное состояние) реализуется на основе определенного договора. Сам договор - это, конечно, фикция, метафора, поскольку Руссо отнюдь не считал, что в один прекрасный
день собрались, скажем, десять или двадцать человек на совещание и договорились, а затем этот акт можно восстановить, найти
какие-то его следы и описать, что совершилось такое событие.
Разумеется, это фикция, но фикция теоретическая. Она указывает на то, что люда действительно вступают по своей воле в ка-
кие-то отношения, которые являются отношениями взаимной
выгоды. Потому что, вступая в отношения, каждый от чего-то
сознательно отказывается, и все соглашаются чего-то не делать,
чтобы было что-то другое.
Это социальное состояние, естественно, отличается от природного состояния, так как люда давно поняли, что если человек
будет предоставлен самому себе как природному существу, то
это разорвет, разрушит, скажем так, нашу “взаимную бухгалтерию”. Если каждый человек будет односторонне преследовать
свои желания, свои страсти как таковые, исчерпывая их до конца, то это неизбежно повредит другим. Поэтому социальные отношения, во-первых, отношения неприродные, и, во-вторых, они
основаны на взаимных интересах и договоренностях людей, которые как бы уже готовы тем самым к таким отношениям. В
этом смысле то отношение, в которое они вступают в качестве
вполне конкретных лиц, ничего в этих лицах не производит.
Оно производит лишь нечто в их совместном состоянии или взаимоотношениях. То есть характеризует само это состояние.
У Маркса же была несколько другая идея. Он решил перевернуть отношение и поставить социальность не после лиц, которые,
142 введение в философия
договариваясь, создавали бы состояние, а до - перед ними. Полагая, что то, как люди общаются, и есть сущность каждого из них
в отдельности, совершение независимо от того, о чем они могут
договориться. Короче говоря, Маркс стал рассматривать социальные связи как такие, благодаря которым и формируются их
члены. Повторяю, дело не происходит так, что существуют будто
бы уже подготовленные контрагенты, которые затем вступают в
отношения, а есть некая единица - она социальна, предшествует
лицам и сами лица формируются внутри этой единицы.
Отсюда марксова формула, которая фигурирует в его ранних
работах: сущность человека и есть общение. Или - общение и
есть сущность. Здесь ударение стоит на союзе или слове “и” - и
есть сущность. Потому что просто сказать, что общение есть
сущность, значит сказать, что существо человека или то, что
есть в человеке, его сущность, проявляется в общении. Нет,
имеется в виду несколько другое. А именно, что человеческий
облик в принципе множествен, сообщающаяся множественность.
И поэтому сущность человека не есть некий факт, который существовал бы сам по себе, а она есть в той мере, в какой человеческая личность поддерживает, воспроизводит и сохраняет общение. Если же этого постоянного поддержания и воспроизводства
общения нет, то нет и человека. Есть просто животное.
Следовательно, если мы додумаем теперь эту мысль до конца
(чего не сделал Маркс), то человека можно определить в зависимости от его способности (я употреблю философский термин)
трансцендировать свое природное, эмпирическое состояние, выходить за него. И только с таким человеком, который трансцен-
дирует, и должен соотноситься мир в его понимании. То есть существование в мире природного, биологического существа,
называемого человеком, как я говорил, - случайно. А если мы
под человеком понимаем трансцендирование своего натурального положения, то это значит, что мы соотносим законы понимания мира не со случайным фактом, а с таким миром, который
образуется в человеке в зависимости от его соотнесенности с самим же этим миром поверх эмпирической, конкретной ситуации.
Поскольку неизвестно, почему я здесь, а не в другом месте. Я же
родился совершенно случайным образом; это абсолютно бессмысленная по своим эмпирическим измерениям вещь - рождение
каждого из нас. Почему именно здесь, почему с этим именем, от
этих родителей, почему в это время и т.д.?
Но когда говорят о человеке как значимом элементе в философском смысле - о том, как построен мир, каковы наши возможности познать его и как эти возможности соотносятся с тем,
Социальная физика 143
что называется человеком, тогда положение меняется. Так как
человек - это существо, возникающее вторым рождением. И оно
уже не случайно: если это происходит, то не случайно, а в той
мере, в какой трансцендируются или преодолеваются при этом
эмпирические обстоятельства рождения. Случайные эмпирические обстоятельства именно той среды, в которой человек находится, и с которой, кстати, он может устанавливать договорные
отношения. Как, к примеру, “договорились” мы, согласившись,
что вы будете молчать, а я говорить. Я буду сидеть лицом к вам,
а вы спиной друг к другу. Но ведь то, о чем мы молча договорились, в сущность нашу войти не может. А что же тогда войдет в
сущность? Очевидно, какая-то совместность нашего отношения к
тому, к чему мы трансцендируем свое эмпирическое бытие. Когда я говорю и вы слышите слова “Маркс" (хотя он давно умер и
с ним ни о чем уже договориться нельзя), “Платон”. Все это
измерения нашего эмпирического бытия.
О чем это говорит? О том, что выводить общение из готовых
агентов общения бессмысленно. Напротив, нужно, согласно
Марксу, иметь сначала общение, то есть социальность. Иначе
осознание социальности в том смысле, какой она приобрела в
философии, вопреки многим толкованиям, будет означать, что
действительно быть человеком вне общества нельзя. Я имею в
виду конкретное общество, что мы являемся людьми в той мере,
в какой якобы максимально приспособлены, интегрированы в него
или в культуру, которую застаем. Но мы же договорились, что
все это случайно и абсурдно в своей случайности. Понятие социальности в философии имеет, как я сказал, иной смысл и не свод ится к тому, что человек должен обязательно приспосабливаться.
Я думаю, вы согласитесь, что приспосабливаться к обществу
- это то же самое, что в очереди вести себя прилично. Ведь молчаливый закон очереди предполагает, что каждый стоящий в ней
получает что-то (если это что-то не кончается) только в зависимости от того, что не выделяется. От этой взаимной зависимости
и зависит та маленькая порция супа “Армии спасения", которая
достанется каждому. Если ты хочешь именно суп и согласен стоять в очереди, то самое главное - не высовываться. Так что - в
этом и состоит социальность? Но тогда зачем, во-первых, нужно
философствовать, и, во-вторых, как вообще могла пригодиться
философии (если она есть) такая всеобщая зависимость, нарушение которой ставит в опасность каждого в отдельности? Скажем,
я не хочу покупать лотерейный билет ... Это я вспомнил сейчас,
как один грузин сказал своему напарнику, тоже грузину, когда
тот проиграл ему в гостинице “Москва” в бильярд
144 Введение в философию
(рассказывают, что это происходило еще в 40-е годы), и тот, выходя из гостиницы, почесывая голову, решил купить лотерейный
билет. На что первый грузин сказал: кретин, ты с одним человеком играл и проиграл, а хочешь выиграть, играя с целым государством. Так вот, может быть есть не только такие соображения, вполне здравые, а еще и принципы. Ведь лотерея свободная
игра. Ну не хочу я покупать билеты или подписываться на заем.
Но эти мои взаимоотношения с государством - всего лишь фон.
Поскольку реально я вступаю в отношения с “продавцом” -
таким же, как я - простым и невинным человеком, подобно
стоящему в очереди. Это взаимная зависимость.
Приводя эти отрицательные по отношению к социальности
примеры, что я одновременно делаю? Я как бы обратным ходом
иллюстрирую работу философской машины, которая действительно полагает сущность человека в общении. Только - в каком
общении? А вот в том, когда социальная связь опирается на
эмпирические качества человека, которые присущи ему помимо
общения - страх, неспособность понять, ограниченность горизонта. То есть на случайные психологические качества. И в
результате ты воспроизводишь все то, что от тебя ожидают.
Хотя на самом деле речь идет, конечно, о принципах.
И вторая мысль Маркса, о которой я оказал вначале. Она
состояла еще и в следующем: необходимо рассматривать жизнь
(когда акт социальности должен быть продуман до конца), как
порождающую физические, независимые от человека силы; в
частном случае они стали называться производственными отношениями. Эти силы и выражают законы социальной жизни, на
которых основаны другие. Приводя примеры для пояснения первой мысли первого шага, я фактически пояснил уже и второй
шаг; но это очень трудно понять. Настолько трудно, что и
Маркс тоже не очень улавливал свою же собственную мысль, не
всегда держал ее. Вот я сказал: покупаю лотерейный билет. Это
акт совершаемый (или не совершаемый) по моей воле, сознательно.
А между тем, актом, который я совершаю, порождается что-то
другое, что не зависит от воли и сознания и называется фактическими отношениями, в которые вступают люди. Это и есть реальный процесс их жизни. И можно повернуть: идти от реального
процесса жизни к объяснению того, что происход ит в головах.
Фактически я пытался перед этим наглядно осуществить так
называемое материалистическое понимание истории и общества.
Мы делаем то-то, и когда это делаем, завязываются какие-то
отношения. Смысл того, что мы делаем, состоит именно в завязавшихся отношениях, совершенно независимо от того, что мы
Социальная физика 145
сами говорили, к чему стремились, какие цели ставили. То есть,
выполняя, реализуя свои, сознательно формулируемые цели, мы
по ходу дела ввязываемся в отношения, и они суть истина наших
мыслей и целей. И тем не менее, истина находится не в наших
мыслях и целях, а в том, что там завязалась истина. Хотя я могу
сделать и прямо обратное - идти от того, что так завязалось, и
посмотреть на свои цели. Но ведь это еще нужно увидеть.
Увидеть в несопоставимо более сложных случаях, чем стал заниматься Маркс, который обладал фантастической способностью
за фразами, лозунгами, словами видеть, что делается в действительности. Не в смысле просто скрытых корыстных интересов -
это уже была последующая вульгаризация Маркса, а в смысле,
как и что завязывается, складывается.
Часто бывает, особенно во время революции, когда действительный смысл фразы, которая произносится в одном месте,
выявляется и устанавливается (либо искажается) за тысячу километров другими людьми. Я не помню точно, но у какого-то
советского писателя двадцатых годов есть рассказ о чекисте,
честном и бескорыстном, натянутом как струна, который
использовал в своей работе людей, не имеющих никакого отно-
шения к его идеалам. В том числе н уголовников. И при этом он
рассуждал так. когда ему говорили, ну, что ж ты используешь
грязные руки во имя революции: мы-де сделаем свое дело и
отбросим этих людей. Так вот, дело делается во времени, и если
оно делается, то фактический смысл дела устанавливается теми
же руками, которые он использовал (там лежала истина его
идеалов). И так оно и оказалось в последующем. Это и есть фактические отношения. В данном случае те идеалы, которые чекист
формулировал, в которые он истинно верил, являются типичные
надстроечными или идеологическими отношениями. Разворачивая деятельность, продиктованную этими идеалами, добиваясь
их, мы вступаем в фактические отношения. Это почти что физическое действие. То есть действуем уже как бы не мы, а действуют сами отношения.
Но тогда философская теория Маркса, очевидно, и сводится
к тому, чтобы уметь описывать то, что делается людьми так, как
если бы это делалось не ими, а физикой. Хотя ясно, конечно, что
все делается людьми, а это просто условность теоретического
философского языка; язык ведь не утверждает буквально, что
люди, мол, действуют, что-то придумывают, шевелятся, а в
действительности это не они. Нет, людьми делается, но - механически. Поэтому и необходима теория, когда говорим о том,
что вступаем во взаимоотношения, делаем то-то и то-то, и в этом
146 Введение в философия
делании что-то завязалось. Вот это и есть естественное или физическое действие. Именно в этом смысле общество, социальные
связи подобны физике, потому что действие описывается в таком
случае уже не в терминах сознания, не в терминах воли и т.д.
Наоборот, сначала я говорю: сцепилось, как бы вижу это сцепление, а потом уже на фоне этого, начинаю реконструировать
мысли, состояния или идеалы, стремления и проч.
Как правило, это остается на уровне индивидуального навыка и лабораторной тайны отдельного ученого или мыслителя.
Скажем, Маркс в своих исторических работах - “Восемнадцатое
брюмера’', “Классовая борьба во Франции”, когда ему приходилось ориентироваться в реальных сцеплениях истории, - блестяще показал это, но, повторяю, его мастерство осталось скорее
его личной, индивидуальной тайной. Поскольку, что касается
последователей Маркса, то они под материалистическим пониманием истории поняли сугубо научную, техническую вещь. А
именно: общество состоит из классов, и, следовательно, все
остальное надо рассматривать как выражение классовых интересов, учитывать их соотносительно с силой классов и приводить
последние в движение. Так называемая теория классовой борьбы. Хотя на самом деле сам Маркс под общественной физикой
имел в виду культуру, а не просто экономику. То есть не экономические, на весах взвешиваемые соотношения классов, а плоть
социальной жизни - культурные возможности .
Позднее, в так называемом “экономизме” (было и такое ответвление в марксизме начала XX века), общество вообще стало
изображаться так, будто действительно по улицам ходят реальные абстракции - скажем, капиталисты как класс: как будто есть
такое реальное существо - рабочий класс. То есть марксовы понятия вообще перестали выходить на уровень восстановления
фактической телесности или плоти, которую имеет культура.
Ибо плоть фактических сцеплений и есть, собственно, культура.
Когда я, например, говорил о лотерее, то сцепление, стоящее как
бы позади моего общения с тем, кто занимается ее распространением, и есть культура - но не в традиционном смысле слова -
производства культурных ценностей (писание книг, симфоний,
создание скульптур, философских систем) или разговоров о
‘'культурном человеке” и т.п. Нет, в нашем случае речь не идет о
различении материальной и духовной культуры. Речь идет о
плоти. Размышления по этому поводу и обогатили философский
аппарат, когда Маркс овладел на уровне личного, индивидуального умения, этим расшифровывающим видением, где за словами, психологическими сцеплениями можно увидеть проявление
Социальная физика 147
того, что я называю физикой или фактическими отношениями, и
что живет самостоятельной жизнью, явно требуя философского
осмысления. В этой имени связи в философском аппарате появилось очень интересное понятие - идеология. Вся наша марксистская философия, как вы знаете, выросла из этого понятия,
занимаясь формированием идеологического сознания.
Поэтому вдвойне интересно, я считаю, разобраться в нем,
сделав, возможно, более существенный шаг, лежащий в основе
всех современных размышлений об идеологии, - о пересмотре
теории сознания, которая составляет фундамент философии, о
чем я частично говорил. Скажем, психоанализ обнаружил факт
рационализации, свидетельствующий о том, что сознательно
контролируемые мысленные конструкции в нашей жизни выражают в действительности другое содержание, ускользающее от
сознания. То есть, другими словами, если есть факт идеологического сознания (говоря о фактических отношениях как о надстройке, я имел в виду, если помните, идеологическое сознание),
то его обнаружение требует явно какого-то обратного хода как
раз в том, что я называл онтологией, где иным способом приходится вводцтъ понятие бытия. (Ведь оно тоже ускользает от сознания.) Но как это разъяснить, чтобы было понятно независимо
от владения вами аппаратом философии? В таких случаях лучше
всего брать конкретные бытовые примеры. Но для этого нужно
быть очень умным и наблюдательным, а мне, наверно, не повезло, уже поздно. Для многих философских понятий мне не хватает
примеров, которые в принципе существуют. Так что на этот раз,
давайте, попробуем обойтись без примера.
В одном из разделов философ™ утверждается, что общественное бытие определяет общественное сознание. Я возьму
слово “бытие" и просто на уровне слов начну разъяснение самой
проблемы. Сказано: общественное бытие определяет общественное сознание. Попробуем заменить слово “бытие” словом
“объект”. Замена не получается. Так как сразу понятно, что
здесь не имеется в виду, будто сознание, или отражение
(используем термин, который я, по-моему, еще ни разу не
употреблял), зависит от отражаемого. Хотя известно, что научная мысль или истинная формула зависит, конечно, от предмета
- должна соответствовать предмету или объекту. В этом ли
смысле сказано? Дело в то, что общественное бытие не есть
предмет общественного сознания. А ведь сказано: общественное
бытие определяет общественное сознание. Но в случае с этой
фразой общественное бытие не есть предмет сознания, его объект, который бы сознание думало; следовательно, бытие опреде¬
148 Введение 3 ер^юссфшо
ляет сознание не так, как объект или предметы мысли определяют мысль, которая должна от них зависеть своей истинностью,
соответствуя предметам или объектам. Так что же тогда имеется
в виду? - Бытие. Бытием называются те фактические отношения,
которые я вам иллюстрировал на бытовых примерах. Они суть
бытие в отличие от общественного сознания. Или они суть
общественное бытие в отличие от общественного сознания. И
дальше я поясню два пункта.
Во-первых, это - бытие, которое есть я сам. Оно ведь не
предмет, отдельный от меня. Я - в отношениях. То есть, реализуя
свои идеалы вместе с другими, я двинулся и что-то завязалось в
самом движении - бытие. Но где взаимосвязь? - Во мне. И оно
же от моего сознания отлично. В сознании-то я занят своими
психологическими отношениями. Сознание - я стою в очереди и
думаю о том, как бы не нарушить общую благость стоящих. А
бытие очереди - в другом месте, не в моем сознании. Но это же
мое бытие. Следовательно, под бытием, восстанавливая древний
античный смысл, в философии начинает пониматься некая жизнь, в
которой я сам участвую и которая должна быть или не быть. И
бытие ни к чему другому далее не сводимо, его нельзя вызвать к
жизни актом рассудочной мысли. Оно есть само по себе. Акт бытия
есть акт выполнимости, выполняемый только им самим. То, что я не
могу выполнить, и есть бытие. Мыслью нельзя быть вместо бытия.
Поэтому мысль называется мыслью, а бытие - бытием.
Н второе: в связке между бытием и сознанием или, в нашем
случае, между общественным бытием и общественным сознанием, не должно быть никаких психологических терминов. Это я
подчеркиваю, потому что если вы задумаетесь над тем, как вы
сами говорите, то обнаружите, что говорите, внося психологические термины. Ведь говорят: бытие определяет сознание - в том
смысле, что как живем, таково и наше сознание. Это абсолютный бред, не имеющий никакого отношения к философии. Дело
не в том, что мое сознание определено якобы моими интересами,
совокупностью практических обстоятельств. Как это ни парадоксально, не определено. Почему? Да потому, что интересы я
осознаю (скажем, корыстные интересы класса). Свой аппарат
анализа Маркс применял вовсе не к тому, что существуют корыстные интересы, что буржуа заинтересован в прибыли, и в
этом смысле идеология является прикрытием такого интереса.
Что через нее реализуется в разных превращениях, переодеваниях экономический интерес класса буржуазии. А между тем это
молчаливая предпосылка - вслушайтесь философским ухом: интерес известен тому, кто является его носителем. Ведь так? Но
Сощшльммс физшса 149
тогда зачем нужен такой специальный аппарат анализа, когда
все это давно известно? Разумеется, люди, заинтересованные в
чем-то, часто хитрят и скрывают свои интересы под разными
ободочками (особенно - з любовных отношениях - вы прекрасно
знаете). И что, неужели весь могучий аппарат теорш: бытия и
сознания нужно обрушивать на эту вещь! Да нет, как ра:- этот
аппарат скажет: все, что вы называете эконометесккк иктере-
сом, лежит в области сознания - то, что фактически происходит,
когда преследуются осознанные интересы, в то& числе г, корыстные, то есть бытовые или так называемые бытийные (если под
бытием понимать материальное положение), А вот то, что завяжется - это будет совсем другое, и именно это будет называться бытием. Бытие не есть совокупность корыстных земных интересов. Наоборот, совокупность земных интересов лежит как раз
на психологическом уровне в том смысле, что это всегда сознательные интересы, в том числе и корыстные, классовые. Они есть
в жизни, в обществе, в истории, но они не требуют теории. Из
них никаких философских выводов не следует. Так что мы должны рассуждать совершенно отвлеченно от корыстного, эгоистического интереса человеческой натуры, от эгоистического характера класса и т.д. Короче говоря, новый раздел философии (хотя
он и самый старый), называемый теорией бытия и сознания, -
это не теория, разоблачающая классы, показывающая корыстную природу натуры и пр. Совсем не об этом вдет речь. Иначе
было бы просто неинтересно, и никаких следствий для философии отсюда не вытекало бы. Напомню в этой связи античный,
древний символ - тиран в мифах Платона (я говорил об этом),
который хочет заново прожить свою жизнь, не заглядывая в суть
дела, в сцепления своей судьбы (а это и есть бытие или материя,
материальные условия жизни, которые получили у Маркса новое
название, но оно ничего не изменило). Так вот, тиран не заглядывает в себя, в то бытие, которое действовало на его сознание.
Его сознание искало возможности избежать прошлых ошибок,
но ... природа тиранства осталась. Он хочет прожить свою
жизнь иначе, а Платон говорит: не выйдет.
В XX веке стали обсуждать эту же проблему, но уже более,
так сказать, основательно. Греческие философы были первичными философами в том смысле, что перед ними не было философии, они впервые философствовали. Им было легче слышать
голос бытия. А начиная с XVII века люди привыкли слушать голос автономных индивидов, сознающих свои права и интересы,
вступающих в общение, развязывающих совершенно свободную
и автономную социальную деятельность и т.д. В этом смысле
150 Введение в философию
европейская культура стала носить абсолютно психологический
характер, который затемнил бытийные связки. И когда о них
снова заговорили, то язык их обнаружения оказался, естественно, не похож на тот, на котором они впервые фигурировали когда-то, в античной философии. Но при всей непохожести это тот
же язык. То есть я хочу сказать, что мудрость Маркса есть мудрость Платона, и наоборот, тут никакого прогресса не совершилось. Но это не упрек: в нашей жизни, как я уже отмечал, дай
нам Бог понимать и думать то, что думали всегда. Посыпьте
немножко афористической солью это высказывание, не берите
его в буквальном смысле, потому что самое трудное знать, что
действительно думалось. Ведь просто думалось самое разное, в
том числе и в тысячах книг, написанных философами, не ко всем
из них применим глагол “думать”.
Во всяком случае, даже если это непонятно, не страшно; в такого рода вещах непонимание является, очевидно, принципиальным
элементом, поскольку сами эти вещи существуют только как некоторая наработанность навыков. Мы знаем, что навык мы сами;
то есть он в той мере навык, в какой мы можем наконец совершить его без понимания, без рефлексии. Но это трудао. Не случайно я все время повторяю, что философия не сообщима передачей
энциклопедических знаний, а есть какой-то вывих ума. И если нам
удасться вывихнуться, то независимо от того, поняли мы все или
не поняли, много узнали или мало, какая-то польза все-таки будет.
Ну ладно, продолжим. Пример о тиране, который я приводил, ясно показывает, что сама эта вещь древняя, хотя практиковать ее в разных культурных контекстах и в разных исторических эпохах, очевидно, труднее, и все же - практиковать нужно
законно. Это соответствует вообще закону жизни философии. Я
вам пояснял, что философские понятия каждый раз заново проигрываются. В них нет решений. Скажем, существует понятие
реальности. Понятие объективного мира, проблема его отношения к сознанию, к мышлению есть классическая философская
проблема, являющаяся частью раздела философии, который называется теорией познания. Казалось бы, можно установить в
конце концов, что такое “объективное" и как к нему относится
сознание. Но странная вещь: у всех философов фигурирует эта
проблема, а установление того, что объективно, а что относится
к сознанию, каждый раз ситуативно. Нет раз и навсегда заданного чего-то, что всегда объективно, и нет раз и навсегда заданного, что всегда субъективно. И поскольку это приходится устанавливать, то весь философский аппарат обновляется, как бы
повторяется заново, и в этом нет ничего удивительного. В этом и
Социальная, физика 151
состоит природа философского знания: оно вытекает из того,
что нет заранее заданного знания, и бытия нет. То, что нам кажется
бытием, еще нужно уметь установить. Но тогда, может быть,
следует заново употреблять понятия “бытие” и “сознание”?
К тем примерам, которые я приводил, философы до Маркса
никогда не применили бы деление на бытие и сознание. Такая
проблема даже не возникла бы. А она возникла; но слова-то,
означающие проблему, старые - “бытие” и “сознание”. Однако
появилась она уже совершенно ситуативно - в другом различении, когда заново приходится устанавливать, что же есть бытие,
а что сознание, что реально, а что ирреально. Оттолкнувшись от
последнего понятия, попытаемся поэтому пойти дальше, чтобы
разобраться в особенностях аппарата и языка философии.
Как я уже говорил, философия занимается выяснением определенных предельных оснований всего того, что мы делаем в
жизни, в искусстве, науке, в истории и т.д., на основе и с
помощью конструирования определенных понятий, особых
предметов, обсуждая и выявляя эти предельные основания. У
такого языка, естественно, есть своя грамматика и свои правила.
Поэтому если мы говорим о познании, то в философии мы не
познаем, а выясняем сами возможности познания. Познает -
наука, а философия занимается выяснением возможностей и
пределов, или предельных оснований познания. Этим она отличается от науки. Философ может сказать фразу, непозволительную для ученого (ученый ведь, по определению, человек, который считает, что все, чем он занимается, можно познать). Тогда
как фраза %<нечто недоступно человеческому познанию” возможна лишь в контексте анализа того, что я назвал предельными
основаниями человеческих актов, в данном случае, познавательных. Поэтому, кстати, и существует классификация философов
(на мой взгляд, абсурдная) на марксистов и агностиков. Поскольку агностики считают, что в мире что-то непознаваемо, до
конца недоступно человеческому познанию. А оптимисты, естественно, не могут считать, что человеку вообще может быть что-
нибудь недоступно (по законам социальной алхимии). Алхимия
действует и в философском сознании; для социального алхимика
или алхимического сознания мысль о том, что человек чего-то не
может - непереносима.
Я сказал “оптимисты” и вспомнил еще один грузинский
анекдот (прошу прощения, я уже устал и хочу несколько отвлечь
в том числе и себя). Русский советский поэт беседует с грузином и
говорит ему бодрым, хорошо поставленным голосом, что он поэт-
оптимист. А тот его спрашивает: Слушай, дорогой, а вот Пушкин
152 введение в философию
- он был оптимист или пессимист? - Пессимист. - А Лермонтов? -
Ну, конечно, пессимист! - А Тютчев? - И Тютчев пессимист. -
Слушай, но тогда ты мне объясни, каким образом такие великие поэты были все пессимистами, а такое дерьмо, как ты, - оптимист?
Я вспомнил, видимо, об этом еще и потому, что даже моего
любимого Канта считают агностиком. Что он недостаточно
якобы последовательно верил в могущество человеческого разума, скорее считал его немощным. Но пока, независимо от Канта,
давайте усвоим простейшую вещь. Действительно, в мире есть
вещи непознаваемые (не в кантовском смысле). Скажем, в современной физике, в квантовой механике твердо установлено, что
нельзя одновременно зафиксировать и скорость электрона и его
положение. То есть, если вы хотите получить пространственно-
временные характеристики электрона, то сможете их получить,
но при этом знаете, что получить его динамические характеристики, установить скорость невозможно. В этом случае акты познания должны быть построены так, чтобы они сами могли содержать определенный горизонт - закрывать что-то, что этими
же актами познать нельзя. Нужен другой эксперимент, иначе организованные приборы, чтобы зафиксировать скорость электрона. Но тогда с помощью этих приборов будет невозможно фиксировать положение электрона, его пространственно-временную
характеристику. И более того, оказывается, мы не можем познавать в принципе те вещи, которые существуют за горизонтом,
задаваемым скоростью распространения световых сигналов. Если некоторые движущиеся тела или галактики находятся за горизонтом этой скорости, то этот горизонт и есть, в буквальном
смысле слова, та граница, что поставлена нашим возможностям
получить об этих объектах какую-нибудь информацию (я просто
произвольно сейчас иллюстрирую философские понятия). Вот
контекст, в котором существуют понятия познаваемости и непознаваемости. Когда говорится о непознаваемости, философия
вовсе не предполагает, что существует какая-то таинственная
мистическая глубина, столь значительная, что по сравнению с
ней человеческий разум незначителен, и в этом смысле не может
ее постичь. Отнюдь. Имеется в виду (это уже признак философии
XX века, я опять замыкаю вас на так называемый материализм)
следующее: если мы совершили определенные действия, то они
создадут ситуацию, не зависящую от наших желаний. Например,
у нас желание узнать скорость электрона, но наши познавательные движения, связанные с экспериментальным устройством, вызовут такую ситуацию, что даже если у нас есть желание - мы не
сможем установить его скорость и одновременно местоположение.
Социальиал физика 153
Следовательно, мы должны перестроить свою деятельность, разрушить то, что мы делали, пойти назад. Перед этим я разъяснял,
что такое фактические отношения - мы двинулись и что-то завязалось. Это и будет законом по отношению к тому, что мы хотим
и делаем, - ограничение. Значит, мы должны вернуться и снова,
иначе пойти, и тогда там завяжется так, что мы увидим, определим положение электрона, но не увидим скорости, его динамической характеристики, не сможем установить импульс, так как
и на этот раз окажемся в зависимости от сцепившихся последствий и результатов нашей собственной деятельности. Их сцепление и есть то, что философы называют бытием по отношению
к нам. Бытием в смысле того, что определяет наше сознание,
наши возможности (в данном случае, наши познавательные
горизонты). Сознание открывает это бытие либо закрывает
горизонт познания. Но где это бытие? Оно там, где мы пошли -
в промежутке двух или нескольких шагов. Его нет заранее в
виде какого-то предданного закона, предсуществующего бытия,
упорядоченного Богом неизвестным нам образом, которое мы
познавали бы (ведь в этом случае познаваемые предметы или
сущности сидели бы и ждали нас, пока мы до них доберемся).
Вот этот новый способ рассуждения, то есть сознаваемый
или воспринимаемый как новый, - с ним и нужно еще осваиваться в XX веке. Как мы видим, он похож на то, что я пытался показать
в совершенно другой области - в области социальной психологии. А сейчас я говорю о физических понятиях познаваемости и
непознаваемости и показываю, что познаваемость/непознаваемость в философии XX века рассматривают в терминах человеческой деятельности и фактических отношений, которые завязываются в ней. Я оговорился, что это условно “новый” способ, так
как Кант ввел тезис о непознаваемости реальности (или реального), хотя его и упрекают за это. А в действительности у него
работало то же, что и у нас. Что познаваемость/непознаваемость
устанавливается в зависимость от того, как двинулись и насколько мы осознали, какие связки завязались; они определят,
над чем нужно было подумать тирану. Скажем, грамотные
эпистемологи (такие, как Бор, Гейзенберг и другие), в отличие от
тирана, заглядывали в эти вещи и выходили оттуда с утверждением: это познать нельзя, а это - возможно. И Кант когда-то
тоже заглянул и тоже утверждал, что вот это мы знать не можем,
ибо наше понимание этого целиком зависит от того, насколько
мы владеем терминами “реальность” и “познаваемость”.
Кант считал непознаваемыми (не являющимися предметом
опытной науки) любые одушевленные или духоподобные
] 54 Введение в философию
существа, которые сидели бы внутри предметов. Именно они,
считал Кант, непознаваемы. В каком смысле? В том, что познаваемо - познаваемо лишь на опытных основаниях. То есть мы
можем сказать о чем-то, что это познано, если познанное с§от-
носится с тем, что может быть в принципе дано в опыте и опытом разрешено. А проявление одушевленных существ внутри
предметов никак в опыте не может быть дано. Я говорил вам,
насколько я могу судить о том, что происходит внутри вас. Есть
правила языка и грамотного разговора об этом. Неграмотный
же разговор начинается обычно с того, что мы судам о человеке по
выражению его глаз или движению лицевых мускулов. Все это -
физика. Поскольку то, что у вас в душе - никак пространственно
не выражено и, значит, для меня непознаваемо. Я просто еще
раз напоминаю вам уже много раз сказанные вещи - к пояснению слова “реальность”.
Так что же реально? - Кант скажет: существа, которые
“сидят" внутри предметов и для которых нет опытных критериев - не реальны, не есть реальность. А то, что ирреально -
непознаваемо, бессмысленно. Рассудите сами, разве то, что нереально - познаваемо? Короче говоря, связка в аппарате философии, в данном случае высказанная Кантом, указывает не на
непознаваемость реального, а на ирреальность непознаваемого.
То, о чем я не могу знать, вообще ирреально по отношению к
опытному знанию. То есть относительно ирреального не нужно
задаваться познавательными вопросами, если вас это ирреальное интересует. А оно может интересовать - например, Бог. Но
относительно Бога я не могу задаваться познавательными
вопросами! Это - грамотный философский аппарат. Итак, есть
что-то. о чем вопросами познания надо задаваться, а есть что-то,
о чем не имеет смысла (по правилу: ирреальное - непознаваемо
или все непознаваемое - ирреально). И если вас интересует ирреальное, - а оно допустимо как предмет интереса, - тогда не задавайте познавательный вопросов.
Например, некоторые ирреальности есть существенные условия организации нами способа нравственной жизни и общения.
Но ввести ирреальности и тут же о них задаваться вопросами
познания - абсурдно, запрещено. Вот что значит агностицизм в
данном случае. Конечно, мало ли глупостей сказано на свете:
конечно, гностики существуют; но среди философов, которые все
время воспроизводятся в истории философии и будут воспроизводиться, я не знаю ни одного агностика. Так что давайте на
этом признании попрощаемся.
ФИЛОСОФСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
И ЗАМЕТКИ
В архиве М.К.Мамардашвили находится несколько тетрадей -
ежедневников, записи в которых трудно отнести к привычному типу
дневниковых (ведущихся, как правило, регулярно) или черновых, эскизных набросков будущих статей и т.п. Скорее они носят характер заметок
и наблюдений, часто не имеющих «прогон хронологической привязки, и
при этом написанное явно лишено мимолетного, случайного характера —
ко многим записям философ возвращался по нескольку раз, что-то добавляя и, очевидно, проясняя прежде всего лично для себя. В публикации эти
места (вставки, пометки на полях) взяты в скобки. При публикации
сохранено авторское оформление фразы — пунктуация, дефисы и подчеркивания (курсивы), а также даны переводы встречающихся иностранных
слов и выражений.
Глубоко благодарен Ю.П.Сенокосову за помощь при подготовке настоящих заметок к печати.
С.Кривошеин
Записи в ежедневнике
(1968 - 1970 гг.)
Закон (в смысле формы закона) описывает то state of affairs\
которое создает (это вытекает из до-определения природных цепей). И он дает полное описание и не может себе
противоречить. Соответственно, описуемы только законосообразные состояния. И они же могут быть событиями.
* * *
Они испугались “непонятности” бытия (экзистенциализм), а
потом примирились (Хайдеггер как “не”-экзистенциалист).
* * *
Число есть факт.
Факт есть форма числа как такового, или факт есть причина
или форма законов (т.е. категории, формальные понятия). Но
можем ли тогда говорить (и если да, то как) о “существовании”
законов, универсалий (соответственно - Бога и т.д.)? Элементарные адеквации, непрерывно сами себя генерирующие.
Непрерывно лишь до-определение.
1 положение дел (англ.)
156
Философские наблюдения, и залшйки
* * *
Какой вопрос стал называться бытием?
* * &
Символы. Реальность знаменуется, т.е. вводится в сознание,
культурным деянием. Последнее - тогда символ и для автора.
Что-т<£ в нас работает и бытийствует. Множественность интерпретаций есть естественное бытие, а не произвол интерпретаций,
не субъективное. Несводимостъ бытия к знанию.
Факт разума, т.е. условие бытия знания как состояния
сознания, а не бытия, о котором знание (с этой точки зрения так
выглядит и способ трансляции сознательной мысли, т.е. знание
как форма общения; готовая мысль вообще не транслируется).
Но сам символ - фиксация условия знания (и именно знания)
о бытии, а не условия бытия. В этом смысле мы говорим о символическом характере аппарата в квантовой механике, в метатеории сознания, в психоанализе и т.п. То есть если, кроме
отражения, содержит еще и условие самого себя как состояния.
* * *
“Символ смотрит на нас” - это относится не к субъективному восприятию символа, культурного факта, но к его бытию как
факта (ср. Рильке к зрителю торса Аполлона: “Здесь нет ни
единого места, которое бы тебя не видело. Ты должен изменить
свою жизнь”). Его нельзя отмыслить, но ухватывается ли он на
уровне коммуникации? По-моему, скорее на уровне со-бытия
(события), т.е. в смысле Фурье. Тогда будет понятно, что нерас-
крытость, замкнутость факта в себе1 (т.е. его “непонимание”)
есть знак объективного бытия предмета. Проблема разрушения
бытия и сущего2.
* * *
В структуре сознания “рекурренция” и наблюдения нас (в
т.ч. будущими “нами самими”). Или в прустовской книге живых
и воскресения мертвых.
* * *
В указанном смысле символы являются частью внешнего
предметного бытия актуальных форм сознания, объективных
предметных форм мышления (в пространстве тождества отображенного и отображаемого). Но как заметил А.Пек, связавший
1 только факта, конечно, “растянутого”. Только это и есть существование, жизнь. А
об остальном мы знаем - это не существование, это не жизнь, (прим. М.М.)
2 т.е. разрушения не сущего в бытии, а бытия в сущем. Вместо него функция мысли,
желания и т.п. наблюдателя.
Неинтеллектуалис1 ски истолкованное “непонимание” (=чрезмерному авторитаризму понимания) показывает в нем покушение на бытие. Ср. Сартр, (прим. М.М.)
Записи £ еясес;}(£2ншсс (/963-1970) 157
мой анализ сознания с проблемой художественной формы, -
“однако объективными предметными формами мышления, в
которых субъект фиксирует и переживает свой опыт, в широком
смысле слова являются все полагаемые сознанию социальной
механикой “видимости*'... Поэтому в качестве следующего шага
перед нами стоит задача определения особенного художественных форм как реально-идеальных сущностей, феноменов внешней объективности и сознания".
* * *
Объективность, достигаемая ценой отмысливаню? коммуникативного уровня общения с материалом, тогда как объективное
существование символа, идеи, смысла имеет место лишь в
коммуникации.
❖ * *
В сознании (с его самодостоверностью, т.е. свободой, само-
начальностъю) я сообщен с чем-то, что извлекаемо - содержание,
источник информации и т.д. (т.е. это место общения, контакта).
А извлеченное - уже не сознание. И знание неотделимо от своего
источника (т.е. мы не можем на него указать, имея еще нечто
более простое, чем само это знание).
Последовательное проведение независимости (объекта от
исследователя) парадоксально нарушает как раз эту независимость
(в силу узкого понимания объективности). И в естественноматематических науках и в гуманитарных. (Превращая предмет
з функцию сознания исследователя, который тем самым занимает
место Бога, а состояние исследуемого и наблюдаемого становится
частью умозаключения Бога, т.е. частью другого целого.)
* * *
Содержанием слова-символа является состояние (например,
строй мысли), а не денотат (речь идет о втором, основном денотате, а не о первом, который и самого начала не предполагался
содержанием и значением символа - например, фаллический
символ).
* * *
Философия, в отличие от искусства, не есть свободное творчество, т.е. она создает объекты для понимания предшествующего (и предзаданного) опыта, тогда как искусство само этот
опыт ех шМо» и не строит никакого понимания, ничего предзаданного пониманию. Интересно, что лишь современное искусство пришло к пониманию (и превратило это в сознательную
процедуру), что произведение есть предмет, т.е. не означает
нечто вне него, а само есть это нечто. В этом отношении
1 из ничего (лат.)
158 Философские наблюдения и заме/Оки
философия родственна науке. Непредзаданным в ней (как и в
философствующей науке) является лишь бытие мыслящего.
Все это неверно. И должно быть переписано так, чтобы философия и наука не отличались в этом отношении от искусства.
Они тоже творение форм (ничего не дублирующих в “реальности”
- другое дело, что они на нее же бросают новый свет).
* * *
Гармонии и порядки, вытекающие и развертываемые из
продуктов воображения, т.е. из эманаций действия силы сознания.
Единая и неделимая духовная сила (психические силы, амплифици-
рованные и слитые в од ну полем сознания). Все споры и искусственные различения между наукой и искусством, философией и наукой, философией и искусством и тл. не имеют никакого значения.
Мир неизведанных гармоний...
* * *
Внешнее разделение и внешнее отношение философии и
науки - это просто видимость, которая складывается тогда,
когда наука сама является элементом ситуации (весьма развитой), которую должна разъяснить философия.
* * *
Посылки рационализма, охватывающие понятие “простой
рациональной системы”:
1) бытийное обстоятельство (именно в своей независимости
от сознания) таково, каким оно осознается (отсюда совершенно
определенные представления об истине и заблуждении, абсолютно
их разделяющие; Гегель лишь перевернул эту посылку, сохранив
само уравнение: если бытийное обстояние осознается неистинно,
то это значит, что само это обстояние дела еще недоразвито);
2) объективное строение системы в каждом своем ответвлении имеет сознательного носителя и разом умещается в поле его
сознания (“чистого сознания”). Это укладывание не вносит
искажений в природу и пропорции вещей. Вещи к горизонту не
искривляются, не вспучиваются, не пульсируют сфероидально, не
деформируются;
3) есть конечная точка отсчета, находимая в данностях
сознания, и рефлексивное воссоздание от нее охватывает без
остатка всю структуру сознания, всю деятельность, все действие
по поводу мира и с миром;
4) сознание, в котором такая конечная точка отсчета, не
требующая дальнейших оговорок и ограничений, может быть
найдена, имеет социально привилегированное “место”, т.е. оно
депонировано обществом в какой-то специальной своей части,
никакой другой природой не обладающей.
Это точка, где сознание о мире сращено с миром; условия
бытия точки суть условия одновременно чистого, беспредпосы-
Записи в ежеуневншее (/96#- /970) 159
лочного и аподиктического сознания. Это голова интеллектуала.
* * *
Гармония, рига, уравновешивание (на пределе) мысленных
неизбежностей, индуцируемых человеческой деятельностью
(интеллектуальным потоком). И опрокидывание этого целого на
любую часть, частную область или сферу. Уравновешивающие
целое предельные представления (например, “всеобщий индивид” в классической философии), поскольку части его неминуемо
разлаживаются человеческой деятельностью.
Сохранение мыслимости в условиях неизбежностей.
* * *
Мысленная неизбежность фиксируется изобретением форм.
Возможная мыслим ость есть реализация формы (т.е. создание
особой, самостоятельной реальности, организованной - упорядоченной, дополненной, независимой, гомогенной и т.п. - в свете
формы). Изобретение формы и ее реализация суть мысленный
эксперимент. Он применяется к наличному языку и мысленному
материалу (будь то описание природы, мораль, или искусство -
или что-либо еще) с целью прояснения смысла и значения. Это
прояснение путем изобретения формы в терминах целого и ее
реализации. Субъект (субъект-объектные отношения, человек и
т.п.) не есть предмет философии, а ее инструмент - инструмент
построения формы (имеются в виду утверждения, содержащие
эксплицитную символизацию субъекта). Хотя и часть итоговой
реальности. Как краска - она и инструмент и часть реальности
формы. Но философия сама же строит свои инструменты.
* * *
Предположение, что рефлексивная процедура может исчерпать всю фактически имевшую место деятельность, требует
допущения, что само это сознание, оперирующее рефлексией, -
т.е. интеллигентское сознание - беспредпосылочно, конечно и
беспроблемно (поэтому эффекты иррефлексивного состояния
сознания, в котором рефлексию осуществляют, пренебрежимы).
Если же оно само оказывается проблематичным и обремененным
предпосылками, то эта проблематичность и предпосылки не
могутр быть вычерпаны и охвачены самой же рефлексией (см.
выше). Можно ли теперь пренебречь эффектом бытийности
сознания? Т.е. тем, следовательно, что фактически имевшая место деятельность не совпадает с рефлексивно охватываемой. Не
получается уравнения, эквиваленции. Мертвая зона в деятельности для зрения. Это потянуло за собой распад и другого
совмещения, тождества, а именно - что особые условия
существования интеллектуала есть также одновременно и условия того, что развиваемое им сознание универсально и представительно - прозрачно (по отношению ко всем другим опытам).
160
Фимеофасие наЛиоденил и заме/Оси
* * *
Философия в смысле сказанного [выше] есть область
формотворчества. Она есть додумывание (уже) мыслимого
посредством экспериментирования с формой, экспликации ее
возможностей и неизбежных связок.
* * *
Применимо ли понятие “молодежь”, “старое поколение”,
“ученые”, “университет”, “писатели” и т.д. - в смысле их мнения,
типа и т.д.?
* * *
En deçà du silence (et par-delà du mots)1? Совокупность
состояний, эпифаниями явленных. Les éclairsies sociologique2. Или
российские эпифании (руководство к жизни и мысли в определенного рода социальных системах).
* * *
Красивый рак.
Голова и тело в разных пространствах.
Богачи и нувориши (в одном случае кумуляция знаний,
умений, традиции, мораль и меценатство, благотворительность,
в другом - непродуктивная пустота).
Важность слов. Ср. Декарт и Монтень.
Армия спасения.
Микробунты (эффект апельсина).
Шлюзование амплификация в бесформенном.
Интеллектуальная избыточность.
Существуя, не существуешь.
Как в абсурдном, дурном сне: выполнение анекдотов.
Цековская столовая и казенный кошт (потеря наслаэдения
от трудом заработанного).
Corpo molle3.
Упрощающие системы - выход.
Победа кулачества (установление реального кулачества под
покровом уничтожения кулачества фиктивного).
Свирепость копейки и Наполеоны примуса.
Гос. опосредствования versus автономия соц. инстанций.
Светская культура.
* * *
По другую (ту) сторону молчания.
Тема: празднование 15-летия берлинской стены вооруженной демонстрацией рабочих в Восточном Берлине.
1 По ту сторону молчания (и по эту сторону вещей) (фр.)
2 Социологические ясности (фр.)
3 Студенистое тело (итал.)
Записи 6 ежедневнике ( f968- Í970J 161
Некоторые темы “новелл”:
Амплификация и качество явления.
Сфера политики.
Кисельное состояние.
Важность слов.
Идеологическое пространство, его занятость или незанятость.
Захват языка. Несуществование мысли без языка.
Обкатывание на агоре.
Публичные “места” сознания.
Есть ли поколения?
Абсолютная важность формы (на примере денег).
Модель очереди.
Коллективное владение (“капиталист”).
Отсутствие исторического накопления личностного развития как причина ... невозможности политики.
Кулачество.
Копейка и миллион.
Миллион на агоре.
Освобождаться всем разом или hic Rodos hic salta'?
Кто решает? Никто. Броуновые движения в коридоре. Все
решено до решения.
Системы с локализацией решения в индивиде и системы без
такой локализации. Во-вторых, сито отбора дает все ухудшающий человеческий материал наверху.
Создается ли культура в подвалах?
Упрощающие схемы. И личность.
Современный паразитизм.
Личностное identity2 и сложность его, с одной стороны,
соблазнительная пропасть легкости - с другой.
* * *
Повязали людей друг на друга. Зависимость от соседа существенней и страшней зависимости от юридической власти.
Современное морализаторство. Тьма морали. И мораль
тьмы.
Парадокс стороннего описания (и тем самым бытия): нечто
имеет такой-то смысл (в неправовом состоянии) лишь со стороны, а внутри не имеет ни того, ни другого.
Действо versus дело (или зловещие плуты и лицедеи).
Людям дано слишком много слова, опасно давать слова,
которые оказываются орудиями членовредительства.
Неудачнее животное.
Социальное одичание.
1 здесь Родос, здесь прыгай (лат.)
2 идентичность, тождество себя с самим собой (англ.)
162 Философские ка&иоде$ША и злиянки
В палате сердечников лозунг: “Ленин жив в наших сердцах”.
В палате душевнобольных лозунг к Новому году: “С новыми
трудовыми успехами вас, дорогие товарищи".
* * *
Фраза: “Бернард скурвился - стал выступать против Сов.
Союза, стал делать антисоветские заявления”, и тут же, на одном
дыхании, - “Сов. Союзу нечего делать в Африке” (имея в виду,
конечно, расистское пренебрежение черномазыми) - но Бернард
именно это и говорил! Вот, где не было медленной социальной
органической химии. Моралистика - невообразнмость политики, убеждений, позиций.
Необходимость конкретности перед лицом бумеранговой
силы неразрушаемых кристаллизаций: в проблеме - федерализм
или интернационализм с его централизмом?
* * *
По другую сторону молчания.
* * *
Странную (и в общем верную) вещь пишет Н.Зернов
(“Религиозное возрождение XX веса”), опровергающую «-о собственную общую концепцию, видящую причину в измене православию: “успех ордена (интеллигенции - М.) заключался не в
д исциплине, не в логике или последовательности, не в его философии. ни даже в качестве его руководства. Его истинный источник был в родственности интеллигентского поиска Правды
(понятой не только рассудком, но и этически) с духом традиционного христианства русского народа. Интеллигенция высвободила религиозную энергию русской нации, собиравшуюся
весами под золотыми куполами православных церквей” (стр. 42).
И под дугой “мира”. Кристаллизация неумения жить сложной
общественной жизнью. Язычество versus христианство как
техника. И ничего не стоило превратить громадную страну в
собранное под цирковым куполом пространство.
* * *
Строительство светской культуры vosos распадение (пусть
праведное) души, которое лишь воспроизводят трагические сцепления, раскачивающие (вспомним октябрьское маховое колесо!)
стоячую, неартикулированную (бесструктурную) магму. Ср.
Окуджава, Самойлов versus Солж. Необратимые культурные
деяния. Уже так говорят. И это сила конкретного. Необратимая
сила [...]' поступков. А иначе собрание как быт (ср. франц. революцию).
1 неразб. слово (Ред.).
Записи в ежедневнике (}96£- /970)
* * *
163
Заслуга Маркса или, во всяком случае, Маркса как он был
нами понят в начале 50-ых годов.
Коллективность и ее воспарения.
Зависимость от ближнего (завязка на ближнего как удобство
управления).
Зависимость от Дела (уегак бытие; ср. Сол.)
Системы совершенные и системы несовершенные.
Вечность в аилу несовершенств, клапанов безопасгаости.
Авгуры-хитрецы.
Необходимость выживания человечного (но как умственная
дисциплина, а не как конкретное, реальное отношение к ближнему и суд над ним).
Конкретная мораль устав идеологическая.
Бой уже проигран заранее, когда ты входишь в пространство, занятое сверхреальностью. В силу законов ее расшифровки,
а не в силу мужества или трусости, ума или глупости, т.н. психологии. Раз приняты правила игры, то...
Что делать философу? То, что и другим, - выскочить, чтобы
освободилось место для возможности нового развития, для
“начала”. Но мы все равно никогда не будем в начале - будут
уже сцепления. Вот на них повлиять, на определенность пустоты.
* * *
Зло делается само собой, а добро - специально.
Вот лозунг... Нелепость. Но можно закамуфлировать:
“Вечно жив в наших сердцах...” Так что?
Смысл несмысла. Т.е. все эти эпифании, в строгом смысле,
эпизод ы бессмысленного.
Растворение в сходствах. “Везде од но и то же”.
Тотальное участие и напряженное безделие.
Секретность правд ы кончается ее отсутствием.
Мораль тьмы и тьма морали.
Самодовольство, лживая растроганность “души”.
* * *
Символизм и натурализм (роль символов в науке, искусстве,
философии, в экзистенциально-религиозном со-строительстве
жизни и личности).
* * *
Страна без наказания.
Тезис Л.: монополии - неминуемое загнивание.
Вывод Л.: нужно установить одну монополию. Но уже у М.
этот ход проделан с властью (собственность и тл.).
164 Философские наЛмодения и злаянкн
Ситуации определенного типа - закрытые ситуации.
Втянугь государство в социальные и экономические деяа
(завязав его к тому-же на одну-единственную партию) - [значит!
лишь усилить действие прежней кристаллизации, прежнего сцепления и дать дорогу - независимо от слов - его неконтролируемой патологии.
С другой стороны, гос. регулирование экономической жизни
(“стихийной’* и “неорганически инерционной”) переносит
стихийные слепые силы в само государство и тем самым делает
их абсолютными, тотальными. Власть, занятая обеспечением
условий своего самовоспроизводства и упрощающая с этой
целью общественные структуры, а поэтому - война с обществом.
Власть рада власти, сама себя обслуживающая и воспроизводящая, а не ст! зеглзе1. Это антижизнь. И эта простая
формула и предлагается португальцам, африканцам и пр.
“Социализм”, в действительности, вовсе не есть понятие
(социально-историческое), имеющее в виду решение определенных социальных проблем (исторически-органических, выросших
из реальной массы человеческих историй) и социальный строй
или новую форму жизни, устанавливаемую для этого. Это не
входит ни в его цель, ни в содержание. Понятие это обозначает
определенный тип власти и ее упражнения и воспроизводства.
Здесь нет никаких целей вне самой власти. Просто для ее удержания и воспроизводства нужно приводить общество к тому
виду, что воспроизводила бы данная власть, который называется
“социалистическим”. Иначе не выполняются задачи этой власти
как чего-то самоцельного. Тогда социализм и “строится’'.
При этом социальные проблемы и исторические идеалы, антиномии и т.п., закодированные в понятии “производительные
силы”, “исторический производительный потенциал человечества” и т.п. (для которых та или иная социальная форма есть
лишь возможная форма движения), не решаются. Да и задача эта
не ставится. Поэтому любой африканский вождь и может объявить “строительство социализма”. Но надо сказать, что это самая удобная, почти что идеальная форма приведения общества к
условиям воспроизводства самоцельной власти, неорганического, или неисторического, государства (которое не является государством в точном смысле этого понятия), ставшего феноменом
XX века. И историческим соблазном, потому что массы реализуют в нем свой инстинкт смерти, постоянно сопровождающий
труд (а, следовательно, и риск, бремя ответственности) человеческой истории. С другой стороны, аппарат языка “классовой
борьбы” маскирует действительные классовые яокусы и оправдывает войну государства с обществом: все ясно, даже измены.
* * *
1 общественная служба (англ.)»
Записи 4 ежедневнике (t96S- f970) 165
Полное огосударствление экономики и общества, однопар-
тийность, неправовое состояние и тл. суп. поэтому не заблуждения или вынужденные меры момента (в силу бюрократизации
затем окаменевшие), а проявление имманентной логики и суш
данной власти, условия sine qua ост1 ее как она есть, раз [есть]
замысел и вкус к ее появлению. Это особая гос. форма, а не
идейное течение, не новая культура жизни, или цивилизация с
новыми социальными решениями, формами и т.п., пробивающими себе дорогу историческими потрясениями; в том числе,
революционными (последние обычно органично растягиваются
на многие десятилетия и даже столетия). Не бывает однократных
революций. Это не Возрождение, не Реформация, не капитализм
и т.п. Как и экспансия (которая есть условие сохранения и
воспроизводства) - не Наполеон и Чингис-хан (в последнем есть
мрачная красота).
Отсюда вечная война, объявленная государством народу,
обществу. Кстати, очень важна мировая международная сторона
этой “войны".
* * *
Еще одно условие (к условиям власти как самоцели): это
условие, состоящее в том, чтобы субъекты не видели, не могли
воспринять и понять все другие, вышеперечисленные условия.
Это организация языкового режима - до всякого петинциарного.
Даже малейшего кирпичика нельзя вынуть. Ибо ничто не может
быть публичным. (Ср. аксиому Канта).
Элементарные формы социальности, элементы-стихии (суррогаты умопостигаемых объектов, когда действуют физическими
массами). Чрезвычайная бедаостъ социологического воображения: критики капиталистической расточительности и анархии не
могут себе представить, что в социальной жизни могут быть
вещи совершенно удивительные и чудесные (хотя и вполне
осмысленные, если уметь их видеть и быть способным вообразить саму возможность их существования). Ум, как завороженный, упирается в блеск богатства и выгоды и не может себе
представить, что из-за копейки (или из-за мизерной социальной
привилегии) может быть общественное расточительство такого
же масштаба и даже большего, столь же косное и непреодолимое
по механизму заинтересованных сил, как и капиталистический
интерес. Только с той разницей, кстати, что последний, будучи
легитимным и открытым, может все-таки компенсироваться действием других сил и институтов. А так: нельзя ведь съесть, чего
нет. А так, какая разница, если сцепление одинаково сильно по
своим последствиям? Представили бы они себе вонючими копейками развязанную анархию и растотательство!
* * *
1 без которого нет (лат.)
166 Философские на&иодения и ламе/Или
Есть основания нашей жизни, в которые мы ред ко вглядываемся, или наш макровзгляд их не вид ит и макрослух не слышит.
Но есть место, где они вид имы. И молчание о них имеет другие причины. Действительно: “Располагаешь целым только ты”.
Социальные эпифании (или элементарные формы социальной жизни).
Есть сложные формализмы, и есть элементарные формы
социальной жизни (последние есть in nuce1 всегда и везде). Первые
(происхождение их мы проследить не можем), создав человека,
затем воспроизводятся самим человеком как условия его существования и воспроизводства (это первичные сложности, ненатуральности, изобретенные формы - машины вечности и
бесконечности, формативные тигли).
Эксперимент: что если убрать сложности (закрепленные в
некоторых традиционных ритуальных институтах, где, вообще,
закреплены след ы происхождения человека)? Такой эксперимент
проделан - “какой прекрасный рак!”. Элементарные формы
всегда есть (использование физической массы). Но если срезать
остальное - мысль наедине с социальной материей и on est bien
peu de chose*! Развязывание колоссальных инертных сил. Но их
нужно видеть, самому испытать на шкуре, они не дедуцируемы.
Ср. “rien que du éléments”*. Как в истории мысли ничто вещи.
***
Затем: 1) закон нормальности и 2) невозможность даже
помыслить иное, критическое (т.е. мы сами не знаем, а не
молчим, зная).
Новелла “среднего” (средостенья) - его нет (в советском
простом человеке никогда не было и грамма духовности) и
жуткая тоска, выморочность во всех надстроенных высших
слоях. Они и рухнут в эту бездну.
Породили “лучшую тысячу”, как говорил Достоевский. А
они пород или тоску, глухую выморочность, и упали в ножки
народу. Искупили “вину”, сгорев в свете тотального мифа.
Все молчало на всех языках. Добавим: и больше трех никто
не собирался.
Но по ту сторону молчания есть сказанное, есть эпифании,
нужно лишь уметь их читать, приспособив размерность.
* * *
Сохранение чего-то или несохранение, стабильность или тотальная логика - не в этом дело (поэтому две стороны в русской
истории не могли договориться - действительно, что сохранять?). Дело в том, что изменения развязывают или развивают
1 в зародыше (лат.)
2 мы ничего не значим (фр.)
3 только [какие-нибудь] элементы (фр.)
Записи в ежедневнике (Г968- Г970) 167
силы, взаимосвязи, имеющие силы законов или судьбы независимо от фраз и намерений. Дело в чудовищной органичности и
конкретности истории. Высшей конкретностью обладает как раз
не то или иное содержание, а формальное, форма, формализм.
Содержание абстрактно, форма конкретна, наиконкретна.
* * *
Невыносимость сложности, сложной социальной жизни для
российского человека. Он похож на старческое, замороженное в
точке раннего детства существо, и злая, и жестокая (как злы и
жестоки дети) его инфантильность беспредельна. Он обижается
на действия и отношения вещей, винит их и должен их уничтожить. Напр., поставь его в ситуацию так называемого
"политического покера” - она недоступна просто его восприятию, вне разрешимости его социального органа, и “разрешить”
ее он может лишь уничтожением ее как таковой, как независимо
данной и достоинством самости обладающей реальности.
* * *
Энергия удержания власти уег5ш конструктивное упражнение власти. Силы удержания вместе частей слишком большого
тела, раздавливаемого собственной тяжестью.
* * *
Фамилия чемпиона по фехтованию - Кровопусков, а сыщика - Скорохватов, Быстрохватов, Хват и т.д.... секретаря райкома - Кащеенко, председателя по делам печати - Стукалин,
председателя конторы страхования - Разуваев.
Слова шутовствуют и юродствуют: сгноить человека без
суда и следствия - “проявление волюнтаризма”, публикация
повести Солженицына - “проявление волюнтаризма”. Искусство
переименований и смещения значения.
Благомысленна я ложь - “суровая правда жизни”.
* * *
Палачи очень обижаются, когда о них плохо думают. Обидчивые палачи. Да и рабы не осмеливаются думать плохо.
“Суровую правду жизни" можно расшифровать следующим
образом: она у того, кто продолжал хорошо думать в суровых
условиях и даже мыслью не покусился... Это мужество! Действительно, искусство переименований.
* * *
Поверенные Провидения.
Социальная утопия как алхимия современности. Она пара-
культурный побочный продукт христианства как культуры.
[В этом смысле религия (вернее, религиозный опыт) - эзотерически - есть последовательно трезвый взгляд на совершенно
168 Философошв каймод&ША и тгг ааИки
особое положение человека в системе природы и космосе. Теория
есть интеллектуальными средствами проведение этого же, применительно к ситуациям и объектам, поддающимся опытному
знанию и представлению. Versus утопия, гуманизм, идеология и
тл. Кстати, нельзя развитую религию представить себе без предварительного появления теории как формы.] “Новый человек” - чистейшая алхимия. А на деле человек не есть даже то, что он есть.
Преувеличенное представление о человеке. На деле, один на
один, лицом к лицу on est bien peu de chose. Например, даже просто иметь собственное мнение. Что-то (спасение) должно делаться
- не человеком (вспомни Симеона!). Напр., генерируемое во времени
частной собственностью и артикулированным, сложным правопорядком - иначе нет оппозиции, а лишь периодические выхлопы
идеалов и слюнявых сантиментов, флуктуации без какой-либо
необратимой кумуляции дела, обеспечиваемой лишь структурой.
Для меня это - структура сознания или структурное расположение сознательного события. Интересно, как я одновременно
оказываюсь и крайним спиритуалистом и крайним физикалистом.
Ср. Декарт, Монтень. (Кстати, такой же механизм в познании на
фоне флуктуации наблюдаемых и испытываемых.) Так что же,
значит я предлагаю ввести частную собственность? Да нет же.
Лишь до конца отдать себе отчет и иметь полную ясность, что,
какие условия и сцепления эмпирически составили явление как
событие (или его отсутствие) - это единственная задача и призвание интеллектуала, а не программы и предложения. Подвешенная и отстраненная ясность. Без каких-либо надежд на человека.
Они сразу исказили бы взгляд и превратили бы богобоязненного
в социального алхимика, изживающего свои состояния в терминах “как есть”, в терминах описания соц. реальности.
Лишь одна метафизическая посылка: общество должно быть
воспроизведением и макропроекцией состава человека (возможного). Тогда оно возвращается (из неупорядоченной воображением действительности, из “взгляда изнутри”) к нему творцом
его “по образу и подобию”. И ее аннекс: и неизвестно, что будет,
если убрать хоть одну деталь сложившегося режима, образа,
лика. Например, религию в детстве.
* * *
Можно, конечно, работать на выведение другого существа
(нетто похожее на возможную мутацию этого рода намечается
весьма четко) - но проявившийся лик этого иносущества ужасен.
Человеку с ним не ужиться.
К предшествующему: набожная, богобоязненная мысль эзотерически права, ибо всеостальное предполагает конец истории в
буквальном смысле, в смысле эмпирического посюстороннего
блаженного состояния. На деле, история есть, прежде всего, способ
существования определенного рода объектов, а не последовательное
Злниси в ежtgkfékutce (/968- /970) 169
завершение чего-нибудь. Раз явления индивидуализировались (а
именно так выделяют себя сознательные явления), то историчность
(вынесенная вперед множественность) есть способ их существования. Поэтому же в точках разброса нас поджидают структуры (с их
неэмпирическими натяжениями).
Например, все политики естественно лживы (как в силу логжи
самой политики как деятельности, так и ее наложения на потенции человека). Но дело в месте политики в обществе, в кулыуре
и т.д. Поэтому наши политики лживы не в том же самом смысле.
* * *
Цепная реакция рабства. Безвыходао запутываешься, ухватившись за любое звено.
* * *
Потащили в общину обратно: ‘ Не смейте развиваться и быть
самостоятельными”. Только община теперь называлась иначе.
* * *
Вечное равновесие друг друга погашающих национальных
качеств. Тупое угнетение и эксплуатация, компенсируемые лишь
ленью и воровством, неспособностью к делу.
Но есть ложь-инициатива и есть ложь идеологическая (без
обманутых).
* * *
Чтение знаков-знамений, сложение 2 и 2, в разных мирах
лежащих (поди, выведи 4!): в одном месте он говорил: “Свобода
искусства при капитализме есть зависимость от денежного пешка, есть проституция”, а в другом месте - плакал в глубине яохн,
слушая “Травиату”. Что ж замыкания эпифании не происходагв
голове человека, знающего и то, и другое.
Или Эйзенштейн, радостно делавший 2-ю серию “Ивана
Грозного” и готовивший 3-ю. А страх и ощущение грядущей
беды все больше нарастало в коллегах и наблюдателях, которые
“видели” бесстрашные и героические намеки там, где было
совсем другое.
* * *
Bese переименований. Удача названий. Склеивания в воображении и языке. Из бумажки рожденные.
Например, “Советским Союзом” называется страна, где советы безвластны с самого момента их приход а к власти. А война
- “защита свободы и цивилизации против варварства” вместе ...
с англичанами, американцами, и пр. Или в лучшем случае - разбивные палатки Армии спасения, правда, в очереди к которым
никто не должен выпендриваться и выделяться (феномен очереди!). Или замыкание образа на идеал социальных перемен - осо¬
170 Фимехнрские на&иоу&шя и заминки
бенно опасно в стране, где давнее искусство заклинивания. Где,
например, любая критика переходит в измену родине, и действительно переходит (ибо “родина” определенным образом держится - здесь действует закон запрета, единственности! Такая уж
родина!). Эта идеология вся состоит из таких завязок.
Специализированный магазин для слепых “Рассвет” -
“левацкое болото правого оппортунизма”.
* * *
Идея партии (интеллигенции и т.п.) пришлась впору россиянину - “царь-батюшка”. И воспроизвела свои жизненные условия. Как если бы голова отрастала себе тело, ноги, руки. Очень
забавный обратный ход.
Вообще, странная пояснительная сила биологических метафор и сравнений!
* * *
Самое высшее, чего достигает “критическая” мысль - это
желание понять “номенклатуру” как продукт поллюции и коридорной интриги в аппарате. Опять призрак кучки “злых дядь”,
которые кого-то изнасиловали! Никакой социальной ткани и
социального смысла.
* * *
Если огосударствливают экономику, то государство неминуемо перенимает на себя роль той “туманной дали”, в которой
устанавливаются, например, цены. Т.е., по определению, антидемократично, авторитарно и деспотично. Тайна, чудо, авторитет.
“Солидарность”, например, предлагает другой процесс решений (а не те или иные решения, которые состояли бы, например,
в повышении зарплаты или неповышении цен), и в этом весь ре-
альный вопрос, радикально нарушающий условия существующей
власти. И не случайно вместо него подсовывается “курояичный
вопрос”: мол, производство сначала и нечего спорить о ценах и
протестовать против регулирования на более низком уровне.
* * *
В слепой кишке эволюции. И в ней живут существа.
С точки зрения “биологической” классификации и дерева
или путей эволюции в целом, человек есть существо симбиоза,
существо, живущее и воспроизводящее себя на ... и не определим
отдельно. Видимое + невидимое (трансиндивидный универсум
артефактов и формализмов, который видим лишь в качестве
отдельных веществ и поэтому невидим в пониматедьном смысле,
ибо с вещами не объед инишь).
Поэтому самая страшная идея - это возвеличивание человека, “человек добр” и т.п.
Поэтому разумнее религиозная точка зрения, что человек
Записи S езкгдмвникг (f968-1970) 171
порочен, что он прах и т.д., не в том смысле, что это так, а как
негативное правило гигиены.
Др. сторона этого (параллельно идее Человека) - глубоко
арелигиозная идея "конца истории”, реализованной и окончательной гармонии (гарантированной и без риска) на Земле,
выросла, конечно, из человекообразующей борьбы с хаосом, из
противостояния ему. Именно против нее восстал Ницше.
* * *
Искусство названий или тайное их очарование.
Кто-то был очень доволен, выковав название - “штурмовой
отрад” - точное и схватывающее (меньшинство, вооруженное
демагогией, оружием и эффектом вмешательства, может все). И
кто-то выиграл, назвав то же самое “красной гвардией”. (Все это
рассматривается относительно человеческой способности реагировать и понимать, а не абсолютно. А есть ли абсолютное?)
* * *
Тургеневскую библиотеку уничтожили, а станцию метро на
ее месте назвали “Тургеневской”.
* * *
Язык: голова и туловище в разных мирах. Ощущения
сходятся в месте, где трансформируются.
Отдаем себе отчет в терминах, совершенно чуждых нам.
Contioious deseption': раковая редукция. Мертвая петля языка
(языковые имитации сознания).
Опыт безъязычья. Даже трагедии нет.
Но именно потому, что голова в Европе, можно видеть
важность того, чего нет (и без чего нет жизни), и что есть в Европе и незаметно как воздух, хотя это фундаментальные условия.
* * *
Как же может совершиться переход от молчания к свободной речи? Ср. параболу духов и стада свиней.
* * *
Жало д икости в сердце - как и 200 лет назад.
Моральное и культурное одичание.
* * *
Интеллектуальные дистрофики и импотенты: “ошибки”!
* * *
Социал-алхимическая мысль существует в двух видах: в виде
несбывпкйся утопической мысли и в виде реально существую-
1 непрерывный обман (англ.)
172 Фимсвфаеие на&иофнил и иисвИхи
щего несуществования. Пример последнего: зачем же народу
иметь защиту от власти, если это власть народа (т.е. все проблемы решены, все претворено и т.д.)? Но на деле конечность человека (versus безбожная всемощность) и эмпиризм.
Дело не в том. что человек не может сверхбольшого, максимального. Он не может и в малом, [не имеет и] малого (напр.,
простейшего собственного мнения). Уже Кузанский учел это в
своем “максимум-минимуме”.
* * *
Анализ фразы: “Радикальные социальные преобразования”
(с точки зрения замысла власти). Иметь человека голеньким
перед властью.
* * *
Партизанская война каждого с каждым. Не видеть лицо
власти, а видеть лицо соседа. Разрушение социальной ткани.
Горючий материал репрессий.
* * *
Власть сверхреальности:
Сид ит баба с повязкой на рукаве у подъезда. Прохожу мимо
нее по только что обнажившейся от снега, гулкой как камень
земле. Она: “Безобразие! Невоспитанность! Почему прямо по
скверу идете, топчете!” Сквер запланирован, и он в ее голове
реален, она его видит и требует, чтобы я его тоже видел, обходил, тщательно переставляя ноги, несуществующее. И смертельно, искренне обижается, если я не вижу. Вправит голову. И какое
рвение! Ритуальные юродивые пляски вокруг несуществующего
или сверхсуществующего. Это сюрреальное царство мнимости
шире, чем просто литературные враки т. наз. социалистического
реализма, зеркала, отражающего, например, шоссе, которое
запланировано на следующую пятилетку. Нет, в жизни люди
должны вести себя так, как будто шоссе (уже) существует и
должны ездить по нему.
* * *
Автономные констелляции и сгущения, не проходящие через
гос. каналы, не опосредуемые государством. И. наоборот, государство, которое не есть public service, и политика, которая не
есть искусство возможного.
* * *
Феномен тотального властедейства. тотальный феномен
власти. До сих пор не понят. В нас грозно смотрит, все приближаясь, его лицо. А мы не вглядываемся, не вчитываемся. А он
весь вот перед нами, на полном свету и ожидает лишь быть
понятым без каких-либо научных разысканий и исследований.
Затеи в вжцм*шс* (f96S- Í970) 173
Но д аже при dap in our face* мы не пробуждаемся и не открываем
глаза - вот он! В нем важно не дело, а метод - по всем точкам.
Это метод, ставший делом. Вспомним, как Валери нагнали его
собственные видения-привидения.
* * *
Фашистскими называются страны, которым некуда деть
жертвы своих тотальных in vivo экспериментов, а социалистическими будут, очевидно, называться те, которым есть куда деть
такие жертвы (таких же экспериментов) на своих необъятных и
непросматриваемых территориях.
* * *
К удавке через соседа: власть через отсутствие власти, делегирование personnee interposées*. Гражданину никогда не удается
войти в зону противостояния власти. И так же, как нет трагедии,
так и нет принципиальности - она смешна.
Если клеточкой погружаемой структуры (т.е. той, которую
прямо разрушить нельзя, а лишь á la Monnet - прямое утверждение желаемых качеств только их погубит вернее, ибо пользуется
той же социальной оценкой, заключенной в удавках, это и есть
самоустраняющаяся власть), то ясно каким (и только каким)
может быть слой погружения: власть, явись с открытым лицом,
гласно и ответственно, а не дисперсно.
К взаимному повисанию друг на друге: чтоб никому не было
лучше - “почему им должно быть лучше? Что им надо? Мы же
терпим, пусть терпят и они!” Ressentiment’ уже в тотальную
систему.
* * *
Из десяти 8 на 2. Порочная нация.
* * *
Идеология социальных активистов, кураторов общественного
тела и дела; продолжающийся живой процесс классообразования
- здесь из этой функции социального активизма (отличного от
традиционных политических путей, связанных с институтами),
так же, как при Наполеоне новоклассообразование из функции
шпаги. Особенно там, где нет институтов, но есть зато дремучая
мистика “целого” -всяких “соборностей”, “мира”, “гемайишафг”
- где сложение десяти ид иоте® таинственным образом дает ум (продуктивное лоно “мудрости нового госуд арства” у фашистов и большевиков), десяти подлецов - честность и т.д. И стоит стать представителем этих мистических свойств “целого” ... манипулятором
1 пощечине (англ.)
г посредников (фр.)
3 злоба, озлобленность (фр.)
174 Философские HftfatoqeHtiA и тп (атнги
этого одичалого, волосами изнутри заросшего мозга... В его интересах, конечно, его законсервировать и бесконечно воспроизводил».
Акционерная компания на идеологических паях (у Платонова: “Дай Койти в долю!”). Входя в долю, овладевают прежде
всего языком.
* * *
Полная импотенция мысли у Л., настолько полная, что сама
ее возможность у кого-нибудь и где-нибудь уже представляется
сказочной и невероятной, вызывающей лишь жгучее подозрение.
Так же, как если бы евнух при виде полового члена в эрекции
мог бы допустить лишь то, что это всего только пажа, невидимыми нитями прикрепленная к паху, всего лишь подозрительный
и неразоблаченный фокус, и требовал бы этот фокус разоблачить (и впредь все время разоблачать, когда подобные палки почему-то демонстрируют). Вот и разоблачали.,, “так называемая
свобода”, мол, “зависимость от денежного мешка”, “классовый
интерес”,’’ученые лакеи”...
Ахнул бы (Жираф - “ну, не может быть!”). Но по правде,
уже от Гегеля: das ist es1 (при виде гор).
* * *
Мешки с мехами (они же - с золотом, драгоценностями), с
надписью “СССР”, продукты реквизиции, грабежа сладостного
и т.д. - “достояние республики”. Т.е. рабская гордость силой
хозяина и рабское усердие ее увеличивать. “Ничему не быть,
никому не жить”. Вот, какая страсть оказалась мобилизована и
какая страсть победила. Лишь то, что назначено хозяином или
мелко украдено у него. Никакого отдельного лица. Вот действительные лицо и суть т. наз. “нигилизма”. Это так же не имеет
никакого отношения к гражданскому благу, как и крестьянский
мир. А в биениях ритма тот же бунт, “бессмысленный и беспощадный” , без какого-либо проблеска гражданского социального
сознания, свободной души.
* * *
Интересно, что и “мещанство” означает благосостояние, отличное от милостыни, даренного от щедрот и доброго расположения
хозяина (versus феодальный принцип, - что очень старо!). Иметь
свою корысть, в пределе - жизнь, это оскорбление для государства.
♦ * *
Но никому не известны тайные, подземные пути перекачки
исторического “долга” наказания по пространствам. В этом
смысле настижение сейчас то же, что и в 1914 г. Та же возможная
бездна небытия. Это не значит, что кончится тем же. Но
1 вот оно (нем.)
Записи t емелр*е!ншсе (f96S- f970) 175
осознать надо. Сов. Союз несколько опоздал, потерял рига,
фазу. Но “точка” та же.
* * *
Гуляю я, а ты меня люби! (Забавный эпизод с польской
“неверностью” в 1943 г.)
Или: на кого обижаешься? на партию?!
Tour de passe-passe - et c'est à qui porte le chapeau*.
* * *
Первичное политическое бессилие нации: национальное государство они смогли создать только лишь как божественную
(на деле, языческую, конечно) эманацию власти, веря в царя или
через царя, альтернативой чему могла бы бьпь лишь анархия.
Традиционное русское (вернее, московское, ставшее общерусским) перемещение духовной (религиозной) утопии на конкретное, посюстороннее, на земле осуществляемое социальное
образование. С нарушением, конечно, одной из главных пружин,
упругая сила которых развертывает цивилизацию: “Цезарю -
цезарево, Богу - Богово”. Отличить ведь даже нельзя! Последующее показало, что вопрос тогда только один: на что переключаются религиозные энергии. Ибо то, что они переключимы - не
вопрос: тогда они переключаемы, не имея неподвижных связей.
Форма неважна (слово “Бог” может, вообще, исчезнуть, как и
его земное тело - церковь), а высвобождающаяся сила - велика.
* * *
Против крестьянства - как против всякой традиционной,
исторической и органической массы (в отличие от “массы” в
смысле Ортега-и-Гассет).
* * *
Новелла непонимания (и так оборачивается рациональное
социальное действие!).
Полный отрыв от реальности: не понимать - условие успеха.
Тотальное действие. Преобразования по всем точкам единообразным образом - совершенно независимо от их природы и
самости (след., можно не знать).
Т.е. технично еще и в том смысле, что не требует личной
инициативы, ума и изобретательности, не говоря уже о характере. Кто видел умных Брежневых? Все так сцепляется, что само
придумывается и катится (при взаимозаменимости всех).
А от субъектов требуются позы (без веры) - чтобы прошла,
провернулась машина. Машинообразное Дело.
Человеческий процесс всегда может перерасти в животный,
общество - в общество животных.
1 Фокус - кому нести шляпу (фр.)*
176
Фиинжрасие на&*»д*ния л .тлвНЬеи
** *
Почему нет? - Нет причин. Значит, будет, раз нет причин,
чтобы не было.
* * *
Скрещение нигилизма с коллективизмом, с его утробно-
соборньш и выморочный, тягомотным шевелением, способным
лишь в юродивой гримасе на себя оглянуться, и ею что-то
крикнуть в лицо власти (как на свой результат, напоминая ей о
законе). Кровь от крови, плоть от плоти этой последней.
Но ведь даже иудеи ушли от пророков, услышали “благую
весть”! Перестали жить, как живется, сгрудившись, а все остальное изживая через их выхлопной клапан. Энергии появлялись,
изживались выхлопом и снова и тд. до беек., ничего не создавая.
* * *
Уже от Герцена (через Толстого) тема: Чингис-хан с телеграфом (и добавим: с электрификацией). И с планом: можно не
проходить мечем и огнем.
* * *
Однородно-безродная масса. И это выросло из общинного,
соборного ума, который, словами Платонова, “всю жизнь не мог
найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме”.
Уроды и грустные (задумавшиеся) урод ы. Последние, конечно, с
войны не возвращаются. Грохот громкоговорящих труб (в насильно открытые в субъектах отверстия) и высеченных мыслей и
(позже) глушилок. Монгольские уроды с телеграфом, громкоговорителем и электрификацией. Кривляясь на трибуне, учат
чистить зубы, и, склоняясь, вбивают мысли. Хотя кто, когда,
кого учил труду?
Способность населения этой страны хоть что-нибудь сделать может вызывать лишь презрение и отвращение.
* * *
Нигилизм: Ленин - “Люди большей частью ... не умеют
думать, а только заучивают слова” - Замятин - “этот малый
несмышленыш - демос российский” (в этом случае предохраняемый от соблазна).
Аргороэ: интересна та же структура аргумента - монополия
= загнивание = одна монополия.
Какое грязное сознание вырастила в себе разночинная, демократическая “общественность” XIX в! И ее истинные наследники.
* * *
Или тот же вариант: “Жить в обществе и быть от него свободным - нельзя”. Нигилистический восторг рабства, 'высокая
Закиси / *MeqHêtk<txt (f96S- f970J 177
болезнь низкого”.
Парадокс: human band* коллективизмом разрушается. Это
разделяющая, обособляющая и непримиримо вражески противо-
ставляющая связь некоторых, “чистых”. Алхимическое “общее”
тело и его кураторы-exorcistes2. В каком-то пункте оно неминуемо превращается в бумажку, а люди - из бумажки рождаются.
Дериваты алхимического тела, уходящего в глубины
“коллективного бессознательного”.
* * *
Микробунты и калифы на минуту.
Эффект апельсина: сладостный задор бунта, все и всегда в
бунте, в анархии - клапаны. Даже под “деньгами” они имеют в
виду лишь разгул, безудерж загула и “все могу”, “всех могу
прижать к ногтю” (никакой ответственности).
Эффект цветка: автономия, жизнь, другое в его самодостаточности и самоценности.
* * *
Поставить себя в максимально неудобное положение, загнать - как будто иначе il n’y pas de mérite» (например, сесть как
можно дальше от стола, закинуть ногу на ногу, тянуться вилкой
к столу, не пользуясь тарелками, ложками для накладывания и
т.д.). Не-инвентарностъ русской жизни.
« о *
Служение Делу (опыт Солж. в “Теленке”).
* * *
С фигурой юродивого вполне сопоставима “выручалочка”
(как и вал “давай, давай!”) - эпифания неудачного животного,
сцепления.
* * *
Кладбища - спутники.
* * *
Реальность, которую никто не знает: уже нельзя описать,
как дикарей. Уже понято (т.е. амплифицировано, доведено до
размерности и т.д.). Классическое третье: антисознание (пробеле
коммуникации, в непрерывном ее токе, в непрерывном семантическом поле, каким для языка является сознание; систематический сдвиг, уже выполняющий сознание, и заполнение поля
языковыми имитациями сознания, поля, которое должно быть
1 человеческая группа (англ,)
2 изгнатсяи бесов (англ.)
* это недостойно (фр.)
178 Фимсьфские на&юдтшл и заммКки
потенциально бесконечно', т.е. не полно ни в какой точке, и
заполняется лишь по случаю hic et nunc.
(Все они закручиваются в точке, а не линейно идут в бесконечность; т.е. сознательная, обращаемая бесконечность много*
мерна и многореальна.)
* * *
Сознание (аксиома различительное!!!) - способность быть
мотивированным тем, для чего нет никаких естественных причин. Идеальности сознания. А тут сплошные анти-тела сознания
(пространство не неполно в каждой точке и т.д.), обманки,
манки. Свободные явления, т.е. вменяемость и ответственность.
В т.ч. свободен и отказ от свободы. Метафизический выбор.
Вырезана химера совести. А вместе с ней и сложность, разнообразие и амплификация. И вот результат: межумочное состояние
понимания (т.е. не просто сложность и непонятность чего-то, а
состояние маятниковой запутанности, бессмысленности и непрозрачности). Как и состояние социальной материи.
* * *
Управление идеями: но не содержанием (что было бы
проблемой “опыт - догма”), а режимом, систематизированным
ритуалом выражения. В итоге, люди могут даже никогда не
узнать, что они cohersed*.
С другой стороны, редуцированность (amorphie), продуктом
которой является homo sovieticus (как и iangue de bois3, ибо
естественный язык не может служить этой цели, как и homo
historicus, в воспроизводстве редуцированного): власть - продукт
редукции, но, раз возникнув, работает на то, чтобы общество
было в таком состоянии, чтобы воспроизводилась эта власть.
Это же (т.е. та же формализованная и регламентированная
amorphie в непонятности и нераспутываемости как состоянии
ума. Вырожденное отношение истинности (* ложность), как и
естественного языка. Так что: не все ли равно, от чего тошнит? -
од но в разном. Прямо как по Платону: видеть одно во многом -
дар богов людям.
* * *
Традиционное - неменяющееся общество.
‘ Может бьпъ как потенциал восхождения, так и потенциал падения (и затем вырождения). (прим. М.М.)
2 сцеплены (англ.)
3 здесь: официальный язык, официоз (фр.)
Записи в ежедневнике
(начало и середина 80-х г.г.)
rj^o, что болит, и есть душа - по определению.
* * *
Topacité de tout acte politique... L'acte doit être accompli afin de
révéler sa véritable nature...”
* * *
Инволюция к параобщественному состоянию, как и всяких
“умных” механизмов культуры -к их паракультурному бытию, к
алхимическим фюзиям тел. Именно против последнего W.Blake
требовал lineaments2, беря под подозрение и “флюксии Ньютона”, эту новую манию англичан.
* * *
Два элемента - нигилизм и социальная алхимия. Вот, что
можно выделить.
* * *
Философы, как Хайдеггер и др. (в отличие от некоторых
художников), все никак не могут остановить в себе манию
мыслить в терминах последовательных событий (завершенных в
прошлом и т.д.), какого-то шествия.
* * *
Посмотришь ли на Вьетнам, на Корею или Никарагуа,
вид ишь, что вовсе не обязательна центральная связь частей: без
инструкции и сколь-нибудь длительной выучки, и без прослеживаемой связи распространения из центра опыта на удаленных
местах, без, фактически, затраты времени, мгновенно, оказывается (и будет) одно и то же. И так же “совершенно”. Ибо есть
законы, и законы порождают ими же описываемое обстояние
дела, вещей.
“Миг” - как в смысле +, так и—перепада.
* * *
Обожать свое представление (а общественное - тоже “свое”),
свою идею разумного и идеального (и верить в нее), а не высво¬
1 неясность всякого политического действия... Действие должно совершиться для
обнаружения своей истинной природы... (фр.)
2 черты (лица), очертания (англ.)
180 Философские на&иое/ения и залаОки
бождать его само, забыв себя, - и есть дьявольщина, соблазн
“созданий”, запроданная и отчужденная душа.
Лейбниц: “Известно, что у дьявола были сосна мученики, и
если довольствоваться только силой своего убеждения, то нельзя
будет отличить наваждение сатаны от вдохновения святого
духа”. ("Новые опыты о человеческом разумении”, IV, 19, п. 13)
Сомнение здесь было бы естественным движением высвобождения, свободой (свободой от человеческих представлений).
* * *
Ницше: век не отпускал его, душил как волкодав, догнал
безумием.
* * *
Интересно, как легко они от социальной алхимии и социальной дьявольщины (с ее дезорганизацией сознания путем
вынуждения придания смысла абсурду, с ее ¿еУге* бесконечной
“ревнивой” и по модели Иеззевйтеп! подозрительной интерпретации) переходят к космической этого же рода (где невиданный
и неслыханный “высший разум” - эквивалент социального чуда,
Лукоморья) и обратно, что позволяет не отдавать себе отчет ни в
том, ни в другом. И, действительно, при фанатизме психического
уклада могут становиться мучениками д ьявола!
« * *
Такое ощущение, будто каждый раз оказываешься в самой
середине чужого бреда, будто просыпаешься в чужом бреду.
* * *
Философии никуда не деться от “физики”, от “тела”, лишь в
терминах которого она могла бы прояснить какой бы то ни
было опыт, как поэзии - от род ного языка.
* * «
Парадоксально то, что современные идеократии (“идеологические государства”) менее всего обращаются к идеям как
убеждениям, а больше всего, получив тем или иным путем набор
дезорганизованных сознаний (это одна из характеристик
“массы” в современном смысле слова), к системотехнике знаковоязыковой мобилизации масс, манипуляции ими.
***
Русские потому антисемиты, что сами евреи.
Но почему ж они иудаизм не приняли?! Что гораздо больше
им соответствовало бы! Или, может бьпь, они в XX в., наконец,
приняли свою истинную веру?
1 бредом (фр.)
Займи в ежгуневмисе (имам и сфа/ина 80-х) 181
Николай Бердяев облегчил себе муки совести: это, мол, еврейский вариант социализма (мессианство, немедленное гь благ народ или коллектив как единственный вменяемый субъект и г .д.) -
что, в общем, правда, а то, что мы здесь не при чем - это ложь.
Очевид но, в 17-20 гг. не было никого, кто хоть что-нибудь мог
понимать и нелицеприятно видеть. Вот тебе и “лучшая тысяча”!
Надо же было 19-20 гг. (с дополнением 1922 г.) целую книгу-
манифест написать о “смысле истории” (с подзаголовком “Опыт
философии человеческой судьбы”) и ни слова в ней не сказать об
открывшемся лице русского феномена! Можно ли так ничего не
понимать и настолько избегать быть человеком судьбы, т.е. попросту человеком?
* * *
Логомахия и терминогенная проблематичность унаследованной классификации “рационального”: когда человек говорит, что “дважды два - четыре” (или А=А), и когда он говорит,
что “здесь я стою и не могу иначе”, то эти два состояния различают, утверждая, что что первое - рационально, а второе -
иррационально!
* * *
Как и философия, демоны с противоположной стороны на
пол-пути нас перехватывают и тем вернее нами правят. Так
сказать, “профессионалы’' бесстыжие того, что в нас самих
растет, непроизвольно шевелится в тайне ростка. Но мы видим
лишь законченные продукты у других, у “них” (в смысле классического “мы” и “они”).
* * *
Традиционность соц. -политического мышления никак не
умрет: что только не называют “фашизмом” - все, что, в действительности, является крайним национализмом или расизмом,
привычный и давно уже бывший косный, так сказать критический реакционаризм и т.п., до бесконечности. Тогда как, в
действительности, фашизм есть отрицание гражданского общества и (нетрадиционный) способ власти, на этом отрицании
основанный. Отсюда и его “неожиданная” сродственностъ всякому “научному социализму”. Его стержневой мотив “чистоты”
или “алхимического очищения” (в любого рода “живящем море”,
лишь бы оно не имело мембран и подвешивающей формальности
сшИав) может безразлично выражаться и разыгрываться в гамме
расовой, социальной и еще любой вообразимой, или и той и другой
и третьей, протеобразно в любую переключаясь и переливаясь.
* * *
Целая страна без “середины”. Что могут помнить населяющие
ее люди? Происходило ли вообще в “середкне” какое-либо транс-
182 Фимеофлкие на&иоденил и з&меШки
цендентальное событие? Только настоящее, никакого прошлого.
* * *
‘‘Господи, какие же идиоты и слепцы, какое неискоренимое
невежество человеческого сердца!” - такая фраза может быть и
словами чесоточной раздражительности ума, объятого горды*
ней, и пронзительно ясным чувством сострадания всему живому.
* * *
У одних полный бардак в голове потому, что чего-то не
было раньше, у других - потому, что думают, как если бы ничего
не было раньше.
* * *
Blake: Holiness of minute particulars1.
Классика - это чувство пребывания бесконечного именно в
конечном и сила (предполагающая сильную душу, неуклонный ее
“формализм”) непрерывного держания первого на втором. В
этом смысле она противоположна не романтизму, а нигилизму.
И есть, конечно, мужество невозможного.
* * *
Хоть что-то вынести из этой беды.
♦ * ♦
В той мере, в какой у людей этой культуры есть душа, она
поражена роковой бесформенностью. Ужас конечного, отталкивание от него и убегание вразброс, в выхлопы каких-то сверхсмыслов,
сверхобъятий и сверхбыта. А в остальном это, перефразируя
Герцена, Чингис-хан с телеграфом и планом (выжигающим похлеще
любого огня, любого монгола-бича божьего). Кто сказал, что
монгольское иго когда-то кончилось? Да в самые лучшие времена
это была европейского вида физиономия с монгольским флюсом.
С тех пор опал не флюс, а как раз другая ее часть. Нет, монгольское иго до сих пор длится и никогда не кончалось.
* * *
То, что необъяснимо (так сказать, без причин) болит, и есть
“душа”, по определению. И человек испытующий есть человек в
поисках своей души.
* * *
Видение анатомии общества в разрезе “производства материальных благ” есть, на деле, средство контроля, а не понимания.
И не является вовсе естественно-историческим взглядом
( “материалистическим” ). Понятъ-то должны были бы само это
1 целостность мельчайших деталей (англ.)
Записи i ежедневник* (начале и сфедина 80-х) 183
производство в зависимости от и в контексте других вещей,
которые действительно “вещны”.
* * *
Макиавелли, следуя своему имманентизму, опустошил и
иерархический “верх”: там ничего нет, кроме артикуляции и написания, без которых нет силы общественного состояния или его
действительной реализации (versus идеальное его предположение
или пузыри его velleité в человеческих намерениях и желаниях), а
люди, приставленные к нему, т.е. правители, естественно, коварны, аморальны, являются “политиками силы" и должны ими
быть с сознанием, без всяких прикрас и самообмана, только с
этим и должны считаться, и не в этом вообще проблема, т.е. не в
“идеальности” или “неидеальности” этих людей. Проблема в
том, что не можем естественным образом быть гражданами, и, в
конкретных условиях Италии, ед иное общенациональное государство есть то, в чем “гражданственность” впервые получает соответствующую ей стихию (так же, как “теория” - стихия истины,
“искусство” - искренности или подлинности и т.д.). И если нет
общегосударственной артикуляции, то нет и силы быть гражданином Италии, реализовать побуждение и намерение; болтать и
душой пузырить в духе гражданственности и патриотизма мояно
бесконечно. Вопрос стоит так: или людьми входам в историю
или живем глухой, бессмысленной жизнью (недочеловеков).
* * *
У Саши [Зиновьева] был не конфликт с властью, а конфликт
власти. Ум его с раздражением смотрел на властвующую бездарность, место которой хотели занять его темперамент, его
а-духовный характер (его властолюбие).
* * *
Никакие интересы не представлены. Ballotage sur-réaliste'.
* * *
Частный интерес не есть подввд всеобщего рода. Общественный интерес, т.е. интерес любой конкретной совокупности
людей, как бы она не была велика, есть такой же частный, а не
более общий. И от него так же нельзя придти (“обобщением”) к
общечеловеческому. Ибо последний - просто в другом разрезе.
Под ним, на деле, имеется в виду... бескорыстное, т.е. никакой не
интерес. Здесь ipso facto нет соподчинения вида и рода.
(Неискоренимое гегельянство в Марксе.)
* * *
Русские как будто не могут чувствовать себя русскими без
* Сюрреалистические выборы (фр.)
184 Философские наблюдения и замеШхи
щемящего душу, тайного и больного добра, какой-то ноты,
подпольной и гонимой солидарности, участия. Как расстаться с
этим? - вот действительный вопрос их переживания на границе.
Как бы за ней, ще тебя уже не могут арестовать в любую минуту
или лишить всего и оставить с затаенным больным добром, ты
уже не можешь идентифицировать себя в качестве нравственного
и духовного лица и перестаешь быть русским! Хороший русский
человек - это тот, которого могут.
* * *
Иди и не бойся: Бог с тобой и в тебе там, где ты сам.
* * *
На переломе веков была вытеснена (реформами социальных
структур и т.д.) и рухнула идея массовых социальных движений.
“Хитрость истории” обогнала ее, подсунув технические средства
массовой манипуляции (так сказать, “психотехнику”), а
естественные органические массовые образования подменила
“массами” в смысле Ортега-и-Гассет, именно с последними
сомкнув первое. И там, где произошло что-либо (Германия и
Россия), то это уже не имело никакого отношения к содержанию
традиционного образа массового социального движения. Вернее, имело место лишь в мифе, в “большой лжи”. И это тогда
означало выведение совершенно иной, новой породы существ,
только искусственно человекоподобных.
* * *
Не сеют и жнут, а миф инсценируют и разыгрывают.
Элементы, взятые из действительности, не должны иметь к ней
никакого отношения. Они перенесены в их алхимическое означение и изживание и служат коллективным прислонением для всех
умственных и характериальных недоносков.
* * *
Извечное рабство не даёт расти. Рабы остаются детьми, не
вырастают. И глобальное, итоговое их сообщество, страну-
инфантильное чудовище.
* * *
Пеевдоморфозный национальный характер...
* * *
Если даже избранный народ такая мерзость...
* * *
Легенда “деух Витгенштейнов”. На деле, он делал, что мог,
новое, другое, но все о том же.
Записи вежеуневкшсе (начало и cefirquxa SO-xJ ISS
* * *
Достоевский прошел и мимо русской литературы и мимо
самого себя. Не попали на поезд - ушел.
* * *
В современной философии часто можно видеть мучительное
открывание того, что было известно старым философам и сделано ими, или сложные, похожие на хватание правого уха левой
рукой, движения к уже проработанным точкам. И это естественно. Ибо почему философия (что относится и к науке) должна
отличаться от судеб любого человеческого предприятия?! “Труд
мысли” стоит на кону и практически на него снова ставится. С
выигрышами и проигрышами. И с отыгрышами. Не понимать
этого - продукт примитивного менталистского представления о
рациональности, неполной рациональности.
* * *
Истина ни на чем не держится, но зато держит все остальное.
* * *
Какова бы ни была редуцированность выживания, вернее,
его формы как “формы жизни” (живем, как можем жить!), человек все равно живет не как животное, а как неудачный человек.
* * *
Слушал сегодня классическое рассуждение о том, что человек, знающий, что он умрет, из страха перед смертью и породил
идею Бога и бессмертия. И мне хотелось спросить, а что рождается из страха перед своим бессмертием (в частности - у говорившего это человека)? Не само ли это рассуждение из них)
рождается и его компенсирует? Вообще - что рожд ается из страха перед смыслом, который - никакой! - не воплотим во времени
и пространстве?* Понятно, конечно, что страшно перед установившимися отношениями бесконечности (заданной, бесконечной
задачей) при том, что я, конечный (в смысле: не вечно сущий),
очень хрупок как часть этого установления... Поди, вбери в себя
пространство и время, чтобы не конча!ъся! Это на абсолютном
пределе доступного человеку напряжения всех своих сил. Мы
разными путями можем узнать об этом. Но самый краткий -
символ смерти. Так что страх здесь совершенно особый.
* Ср. ницшевский ужас вечного возвращения того же.
* ♦ ♦
Сколько стоит продукт, которого нет? Например, мясо стоит
2 р. 50 к. Его нет (или только кости и нет выбора). Сколько оно
стоит?
186 Философские яаЛойоения и »амаЯки
Или: отнимаемый продукт дороже (и его меньше), чем покупаемый у свободного и независимого производителя. А отнимают, чтобы дешевле! Фантасмагория абсурда, бедлам нелюдей.
Давилка какая-то. И еще взять мысленные представления и
характеры (этические, идеальные и т.п.) в этой самой дорогостоящей и самой ншцей экономике!
Кончаем тем, что питаемся знаками питания.
* * *
Интересен “зрелый час”, “момент, когда” в его анти-виде,
за-зеркальном. Чудовищный клубок! Будь-ка здесь героем?
* * *
Кафка - невозможность трагедии.
* * *
Маркс, во-первых, нуждался в реальном носителе общечеловеческого, в некотором в мире наличном субъекте всеслияния и
всепроникновения (и этим уже изменил своему философскому
призванию), и, во-вторых, нашел его в пролетариате и определенном механизме мироустроения. И, конечно, с таким идеалом,
гарантом такой своей нужда расстаться он мог бы только ценой
жизни, ценой своего распада и разрушения как идеалоспособного существа.
Это - страх, загораживающий реальность. И центрифуга его
размазала все представления по за-зеркалыо.
* * *
Rilke: denn wirleben wahrhaft in Figuren'.
* * *
Общество чистых привилегий, не затемняемых вопросом о
собственности.
* * *
Как и в каком смысле можно причинить урон системе, где
ничто не ценно и ничто ничего не значит?
* * *
Wittgenshtein: My talent consists in being capable of being
puzzled when the puzzlement has glided of your mind. I am able to
hold the puzzlement when it has slipped through your hands (and you
therefore think you are dear).
The art of the philosopher is not to be cheated of his puzzlement
1 Рильке: ибо мы поисгане живем фигурами (нем.)*
Записи i ¿жеунебншсе (начало и ctfiequka SO-xJ 187
before it is really cleared up (MS. 157 (b), 31)'.
* * *
Вся внешняя политика (ведомая методами all-out2 психологической войны и желтой пропаганды) - для внутреннего.
Расширение внутреннего, гомогенизация прилегающих внешних
условий, заглатывание во внутрь, и т.д. и т.д. Черная дыра. В
этом смысле спор о “социализме в одной стране” или “во всем
мире” носит привиденческий характер. На деле, это - термины, в
которых или через которые пробивалось понимание природы
собственного устройства и отдавался в ней отчет, сознание, что
она не терпит внешнего, инородного и не может иметь с ним
взаимовлияния или общения на его собственных независимых
основаниях, и что всеслияние на ее уровне является условием
внутренней власти, самого этого уровня осуществления жизни.
Поэтому ее милитаризм есть состояние войны, определяемое тем,
что она одна в естественном (и инфантильном) состоянии, а
другие, окружающие - нет. А поэтому должна их заглотить.
* * *
Чёрная дыра-то есть, есть род имая, и она может все засосать
(особенно, если лишить ее водки).
* * *
“Идейное” поколение, т.е. неистовые ревнители-первопроходцы дубового языка идейности, в принципе собачьего,
часто жалуются, что их вытеснили безыдейные и безграмотные,
многие из которых были как раз теми, которых они били и “не
добили”. Но на деле усатый дядька, Сталин, один, бабача их на
ускоряющихся витках услужения, где они друг друга вытесняли и
расталкивали, просто наглядно и доказательно демонстрировал
им, что подлостям, мыслям, равным краже со взломом, нет
предела и окончательного слова или типа идейности и нечего
останавливаться, да и на заслуги кивать. Работаешь языком, как
собачьим хвостом перед хозяином? А почему не мяукать? Или
почему не по-ослиному? Чего теперь жаловаться и ностальгически
лелеять свою былую “чистоту” и “качество теории”!? И на
проходимцев жаловаться?!
* * *
' Витгенштейн: Мой талант состоит в способности недоумевать, когда недоумение
покинуло ваш разум. Я способен удерживать недоумение, выскользнувшее из
ваших рук (и вы поэтому считаете, что вам все ясно).
Искусство философа - в том, чтобы не обмануться своим недоумением до его
дейс1гитеяьного прояснения, (англ.)
2 всеобщей (англ.)
ISS Философские на&иоде/ША и замабки
Когда deutungios’ мы как знаки и когда далекий сеет
(“язык”) оказывается светом давно уже мертвых звезд, то
возможна подстановка - мы сами знаки знаков.
И “дурно пахнут мертвые слова”.
* * *
Каков бы ни был деспотизм, для философа, принимающего
(по определению, иначе не бывает) обычаи, законы и нравы
своей страны (как необходимую бытовую маску и джентльменское
соглашение или als оЫ = допуск взаимного гражданского мира)
есть, тем не менее, минимальное условие sine qua non: существование республики de lettres3, публичного мышления, мышления вслух
о мышлению подлежащем, не подвергаемого правительственному
или государственному гонению и запрету. Если и этого нет, то
контракт разорван. Если нет и права быть услышанным.
* * *
Никакая мысль не прививается, потому что больны (если
болезнь понимать эволюционно как форму жизни, как средство
приспособления и выживания). Дать ей в себе рождаться и стать
ее носителем изнутри - ввергнуть себя в опасность, подставить под
риск весь этот хрупкий гомеостазис, как бы взорваться и аннигилировать. И наше “уже-знание" как часть этого гомеостазиса -
смертельная болезнь, где никогда не узнаем дальше. Интересно,
что картина развития рака может мезинински так же быть описана.
* * *
Парадокс власти, которая ничего не забывает и ничему не учится.
• * *
“Чистые", предполагали ли они, что займутся мануфактурой
добродетели? Кант предвидел такую возможность.
* * *
Аргумент и функция. Аргумент - философский, функция -
“орган жизни” (функциональное пространство, занятое живым
телом, пространство активности, способности, “могу”).
* * *
Им бы все молоко, солидной пищи они не выносят, все на
помочах ходят. Enfants ... emportés à tout voit de doctrine* (!) - y
Августина.
* * *
1 бессмысленны (нем.)
2 как если бы (нем.)
5 Здесь: литературной республики
4 Деги ... подхватываемые любым ученым повстгрисм (фр.)
Записи 4 ежедневник* (начало и ceftetfUHa SO-x) 189
“Гуляю я, делаю, что хочу!”, а раз тебе не нравится, то ты -
контра. Ибо не любишь меня, т.е. сомневаешься в моей любви к
тебе, в моей все-любви, требующей абсолютной, независимой от
проверок и испытаний, веры. Поэтому, даже если я и убью тебя
за это, ты должен и это принять за акт любви.
* * *
Снова эти бесконечные полицейские окрики-лай я хватание
всех и вся на дорогах и площадях.
* * *
Ничего не знать в смысле своих oeuvres'.
* * *
Прямо для наших мыслителей годится оказанное еще
Св. Павлом: toi done qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes - pas
toi-meme? (Aux Rom., 2,21)*.
* * *
Производить солидарностью, любовью, добродетелью,
дружбой и т.п.? То есть velleités представлениями? Но это не
понятия, поддающиеся конструкции (в модели homo faber и
понимания сделанного). У Августина прямо противоположное:
Aime, et fais ce que tu veux3. Тогда первое уходит корнями в
первородный грех познания (вместо незнаемых даре®). Тогда уж
труд ись хотя бы в поте лица своего! Упершись в августиновское
же “nondum amabam et amare amabam”*.
* * *
Это языческая, Богом не тронутая душа. И как бы заново, на
свой поэтический страх и риск, открывающая евангелические истины - за исключением одной, ядерной. И в других, например, в
Декарте, их не видиг - ибо даже предртавить себе не может, как
тверд был в нем (в Декарте) краеугольный камень греко-евангелического единобожия, вообще не-обходамого в себе и в окружающем
мире. Я говорю о Хайдеггере. У него дальтонизм на феномен личности. А без последнего разговор о свободе берет фальшивую ноту.
* * *
Прекрасно читать у старика Канта такой ненажимный
рассказ, что предназначение человека (“высшая цель мира”,
“высшее благо”) - это исполнить бытие, которое любовно его
запрашивает, и, исполняя его, самому быть человеком, испол-
1 трудов (фр.)
2 Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? (Рим.2,21)
3 Люби, и делай все, что хочешь (фр.)
4 Никогда еще не любил, но любил саму любовь (лат.)
190 Философские наблюдений и замяЯки
литься, забыв себя и возвращая любовь. То, что могу только я,
нужно. Истина - другой, в состоянии за дверью символа
(понимания) смерти открываемый. И оправдывающий ожидание.
* * *
Замечательный образ привел мне сегодня Р.Габриадзе:
можно подумать, что мы получили в руки страну-машину,
поставленную на автопилот (сатаной, очевидно), - и ни тпру, ни
ну.
* * *
При ближайшем рассмотрении оказывается, что событие
имеет структуру откровения.
* * *
Зиновьев - это проблемы до проблем, т.е. проблемы, которыми усеян путь до действительных проблем, и которые мешают
советскому человеку когда-либо дойти до них, стать перед лицом
(обще)человеческого удела и тайны времени. Абсолютное, рабское
чувство принадлежности губит его. Очевидно, ему суждено затрагивать сердца только советологов, сами же советские, “последние
люди”, люди организованного счастья, потому и подмигивают друг
другу, что уже знают все, что он может им сказать (и в этом смысле
для них ничего нового - разве что циническое, “кукишное” сладострастье, что черным по белому написано или, так сказать, “на
сцене пьяный человек заговорил пьяными словами”), но знать-то
знают, а к сердцу и к тому, как они выглядели бы в зеркале, не
допускают, и знают, следовательно, “смертельной болезнью”.
* * *
Взрослеть можно только в юности. Т.е. молодость - это время,
когда человек становится взрослым, может, способен взрослеть.
Ибо “воспитание чувств” из собственных испытаний (в т.ч. заблуждений и т.п.) невозможно без раскованной и бьющей через край
молодой энергии и энтузиазма юности. Тогда и юность сохраняется.
* * *
Кант должен был, очевидно, производить впечатление
вечного юноши в хорошем смысле этого слова. Странного, очень
странного, но светлого и юного.
* * *
Самоназначенные братья всего человечества, Лебядкины-
душелюбы.
* * *
Что, мол, Ленин сказал бы о бесконечных, отовсюду человека обступающих лозунгах и портретах (в т.ч. его самого)? Но
Заяиси в ежедневншсе (начало и сфицша 80-х) 191
ответ на этот риторический вопрос известен: сказал бы нечто
такое, что туг же необход имо было бы изображено лозунгом.
* * *
НЭП - Брестский мир со страной, своим народ ом. Остальное
все - простое развитие следствий проявления уже существующей
сути, заложенных механизмов, пружины которых то так, то этак,
то в этом, то в том распрямляются, бьют нас, и по рукам то тех,
то этих, то там, то здесь. Так же как, в зависимости от обстоятельств, время может ускоренно устремляться и свертываться в
обратном направлении.
* * *
Можно ли назвать “убеждениями” или “идеями” нечто, не
находящееся в какой-либо связи с личной совестью? Групповая
дисциплина и идеологически определяемая целесообразность -
вместо глаз и способности суждения, раз уж перерезана всякая
связь с органом, органом “шестого чувства”, чувства единственно вечного и идео-генного.
* * *
Размах маятника русской духовности: между “лишними
людьми” и “новыми людьми”.
* * *
Вместо культуры - своего рода художественный, или вообще
изобразительный, культуризм, превращение всего, что стоит,
ползает, бегает, летит, всего, на что может упасть взгляд и эстетический аппетит, - в собственное украшение, дутые (прямо, как
хлестаковский “арбуз в 700 рублей”!) и полые эстетические мускулы, которыми сладострастно и кокетливо поводят и, как пава,
выступают. Ну, раз уж захотели и дорвались до “брачных
законных наслаждений” а 1а Лебядкин... Но где-то в глубине
тонкая, щемящая башмачкинская нота “лирической шинели”.
Действительно, какое искусство было бы у зомби, у чистых человекоподобных фантомов несуществования, какая лирика, какие
собственные лирические истории? Душевные идаоты возвышенного? Иллюзии Юпитера в “стакане мухоедства”, в слепой
кишке эволюции? Об идаотизмах возвышенного, прекрасного
см. 14. 2. V. да. Здесь интересно, как из-под глыбы неудачного
человека, какой-то призрачной и нелепой блочной застылости
несуществования рвутся моление и священнодействие. Ведь гоголевский критик шинели с самого начала молился на буковку и
священнодействовал перед ликом ее, из нее рождался для нее
целый трепещущий, многоголосый и лирический мир, в котором,
как в каком-то целом анти-мире, разыгрывается своя лирическая
история! Перевернутая, на голове ходящая лирика анти-мира. В
воспаленной полости души и головы полого человека.
192
Философски* наЯлюдекна и мьивЛки
* * *
Другие два края маятникового маха: мученики дьявол» - и
“бабачащие” Фомы Опискины. Т.е. между воспаленной духовностью, готовой истребить в себе человеческое существование, и вполне косной, непроницаемо темной душой “духаря , пахана на час.
Кроме того, в первом типе интересна кататония “высокого”,
когда “истинно прекрасный человек” упорно отказывается
видеть низкое и мерзкое, видеть реальность, действительные
отношения вещей, чтобы продолжать быть собой, продолжать
жить достойной жизнью, цена которой слеплена с самообразом,
с 1с1епШу, пуще всего хранимым и от разрушения оберегаемым.
Это янусно симметрично видению во всем, везде и во всех только
низкого. Дополнительным типом этому являются темные неподвижности, прореженные и просветленные “идиотизмами высокого”.
Мочульский здесь точно заметил, что “Картузов - духовный
брат князя Мышкина... он выделился из той же психологической
“туманности”, из которой был образован Мышкин. Он воплощает од ну из возможностей, неосуществленных в князе: “прекрасный человек” в комическом аспекте, нелепый рыцарь, смешной
провинциальный Дон-Кихот”. И какой хищный жлоб, в яростном
порыве энтузиазма душащий все своей любовью и “возвышенной тонкостью-’, которым - все полагается, имеют право.
* * *
Нигилистическая неспособность что-либо представить -
представить другое, представить независимое и неотменяемое,
представить что-то само по себе, представить чужие чувства и
состояния мысли и т.д.
Все это “типы” в лимбе неродившихся душ (Картузов ли, Ленин
ли, Сталин ли, или же любой бабачащий пахан, дикий и необразованный, но так же жалящий, как скорпион, и мастер своего дела).
* * *
Я забыл, что Достоевский сам (в “Повести о Картузове”)
составляет такое авторское надгробное слово Картузову: “Будь
он образован - он стал бы революционером. Совестью чистый
фанатик"!!! Обнаружил в себе! А до этого написал “Записки из
подполья” о себе как актере, лицедее-чтеце, действующем магией
слова и интонации и каждый раз зеркально поверяющем эффект.
Так и Сталин формировал себя, свои действия и поступки, слова
и т.п., по мере множащих себя зеркальных отражений, поскольку
“меня создала партия по своему образу и подобию”. А Достоевский шел к тому, чтобы быть созданным из чуда, из воскресения
в Христе (а не из рефлексивного сознания).
* * *
Достоевский, как и Гоголь, сам полностью принадлежал
Злпиеи 4 еж&/н£4кикг (ночам и etfttquaa £0-х) 193
этой, стоящей за их созданиями, странной реальности, воздух
которой забит стрекотаниями и поскрипываниями из лимба
неродавшихся душ; был плоть от плоти этого мира, отличаясь
лишь тем, что душу-то свою он все-таки (как и Гоголь) рождал в
слове-феномене, и ничего не понимал ни в этом мире, ни в своих
созданиях - не понимал со стороны, в самоотчете, в системе
рефлексии. Все получалось всегда не так, как Д. мыслил в своем
доктринальном и систематическом мышлении, в своей рефлексии
и поддающемся резюме (и саморезюме) описании, аналитической
картине. Так, задумал роман-описание “воистину прекрасного
человека” - получился Мышкин. (Пиша, по законам мысли и
слова открыл. А потом, мол, замысел.) Или, реализуя другую
возможность этого рыцаря, хотел добродушно и мяпсо подшутить над Мышкиным в варианте Картузова - и реализовалось
словом (“открылось”) нечто по законам независимо потенцированной возможности: феноменальная материя свою, имманентную Dinggedicht1 рассказала, сама себя показала.
А потом Достоевский в саморефлексии (по законам снова
своего же зазеркалья, которому принадлежал и из которого
лишь феноменально выламывался) изображал понятое в конце,
как задуманное в начале, и выводил обратным ходом, бежал
назад, чтобы быстрее прибежать в точку впереди. И так раз за
разом. (Это сравнимо с обратным зайчиком-рефлексом операции
осознавания в квантовой механике.)
* * *
“В лохани не выдерживают характера” (Достоевский). Это
смешно а 1а Кафка.
* * *
Свобода - это тогда, когда свобода одного упирается в
свободу другого и имеет последнюю своим условием.
* * *
Да, действительно, Россия - это редкий случай в чистом виде
бытового явления.
* * *
Может быть все, что угодно, поскольку - ничего.
* * *
Набоков - первый русский писатель, который озадачился
вопросом иллюзий и несуществований, “высоко” заболел им. Не
социальные, нравственные и т.п. беда почувствовал, а рану в
бытии. Отсюда сквозная и обсесеивная тема потустороннего,
призрачного. Но насколько более тонкий, культурно “взрослый”
1 поэзию веши (нем.)
194 Фим>со<р<хие шзЛиод&ия и зпм*Лки
аппарат, чем у Достоевского, для этого! Действительно, хорошая
литература (в отличие от хорошей плохой у Достоевского). Но
все время чего-то как будто не хватает. Крови в ране, что ли?...
* * *
Платонову попал в глаз языковый осколок зеркала гармонии. Дефект, как зрение у Сезанна. И “сразу мир предстанет
странным, окутанным в цветной туман...”
* * *
Игра французских футболистов с советскими: как бы быть
красивым перед инфузорией. Серия невезений, тогда как те
играют в другую игру и т.д. Но один крепостной мастер был
действительно талантлив - голкипер, и играя один и за всех.
* * *
Но чем мохнатая чашка сюрреалистов абсурднее кальсон с
принудительной добавкой ... женских серег? (покупка в тбилисском магазине).
* * #
Розанов, с одной стороны, говорит, что не работали и не
любили, себя не уважали (а как не уважать, если - сосуд божий)
и не растили в конкретном устроительном деле, т.е. не были
“божьими людьми" и в сосуд себя не превратили, а, с другой
стороны, что им “не давали” (христианство “не давало”), и
обвиняет христианство в бессилии (а Евангелие - в том, что это
“книга изнеможений”, а не силы и бытия, зерна). Невнятица и
женственная дряблость мысли, ослепление, наведенное в роза-
новском уме предзаданным “пунктиком” и яростным полемическим порывом вокруг его догматического провидения. И опять
происходящее в России - всемирно, так сказать, “всемироносно”:
русская немощь - немощь всего христианства, Евангелия как
такового. А в основе - все то же русское: “давайте”, “кормите с
ложечки”, “помоги, только помоги нам для ходьбы”. И вот
громкая жалоба (и, конечно, все жалоба) на недокормленность
материнским молоком. А не на себя, что желудка не вырастили
для более сложной пищи и ног, которые без помочей могли бы
обходиться. Хотя, казалось бы, именно с жалобы на неуважавшего себя русского человека Розанов начинает. А кончает:
“Мы вопияли Христу, а он не помог”.
* * *
У зомби все обратно: они сначала умирают, а потом хотят
жить, наполнять мир поскрипыванием своих переживаний,
эмоций, воздушно-возвышенных мыслей ... до смерти (но смерти
нет. ибо жизнь простирается до бесконечности, раз нельзя представить себе, вообразить смерть - она принципиально “другое”
faftfffff 0 4MêtfÊêt0M4IC£ (kOH&AÙ U Ctf&qUMl &0-х) 195
и несвязной случайностью вторгается в жизнь).
* * *
После Достоевского, Розанов - трагедия неставшего христианина, непереваренного Евангелия (непереваренного как раз в
том, в чем оно - “посложнее молока”), неставшести, глубоко
ощущаемой в русском народе, а в себе - все время как-то разрешаемой в душевном и мыслительном порыве ввысь.
* * *
Не было культур-религии (этой зарождающей клеточки
европейского развитого гражданского общества). А если тоталитарное варварство могло случиться даже с народом, у которого
она была - с немцами, то что же должно было случиться с тем, у
кого ее не было?!
* * *
Человек - это существо, нуждающееся в тайне (т.е. с жалом
бесконечности в душе) и знающее себя смертным.
* * *
Qu'on ait ou qu’on n'a pas la chose qu'on aime - il faut bien la
mériter, et on ne détruit jamais la chose qu'on mérite*.
* * *
Dissymmètrie dans la pensée impossible: je n'ai que des devoirs
sans droits, l'autre n'a que des droits sans devoirs2.
♦ * ♦
Одни изобретают машины теплоты, другие - готовы вечно
пробавляться взаимообогревом человеческих тел, сбившихся в
ком, и в принцип это возводят.
* * *
Животное - это игра природы.
***
Это не господство русского народа. Это господство посредством русского народа.
* * *
Да, язык сыграл дурную шутку с Россией и сам же погиб.
* * *
* Неважно, имеешь ли или не имеешь ту вещь, которую любишь - ее нужно заслужить, и то, что заслужил» никогда не разрушишь (фр.)
2 Диссиммстрия в мысли невозможна: у меня есть только обязанности без прав, а у
Другого - только права без обязанностей (фр.)
196 Философски* наблюдения и гамаЬеи
Весьма основательное количество чугуна пришлось на душу
российского населения. Сколько его теперь лежит на наших душах!
* * *
Из героя гоголевской “Шинели” вышла не только русская
литература (как литература), но и русские революционеры,
высокие (лирические, романтические и тд.), состояния потусторонне
странных и неописуемых людей. Все они из од ной туманности, из
одного туманного ядра. Просто разные комбинации возможностей.
* * *
Особое племя детей, акселератов и переростков - русская
интеллигенция, радикальная русская общественность.
* * *
Если существует такая вещь, как “валюта”, то ее никогда и
нигде нет.
* * *
Жизнь - это гениальная частность.
* * *
Из Черной ... были: 1) никто не должен и не имеет права
прикасаться к тому, что мы, правительство, делаем с атомом и
как распоряжаемся его силой, 2) люди, их количества не имеют
значения, особенно если они жертвы - их можно скрыть, рассеять,
распылить, как если бы ничего не было и ничего не случилось.
Эти две вещи вместе дают картину сути дела, которую нужно
учитывать и которая бросает страшный свет на весь контекст
разговоров о гласности, независимых общественных инстанциях
л контроле, на то, что вообще может быть с атомной проблемой,
когда к ней примешан “Чингис-хан с телеграфом”. Это, действительно, Черная быль о советской власти. ...И горькая, как полынь...
* * *
Инстинктивно устроили на какое-то мгновение атомный
Гулаг. И по этой инстинктивности нужно судить о сути происшедшего. Она его лицо.
* * *
Короленко и другие говорили последними, задыхающимися
словами.
* * *
Все реальное - смертно (лишь мертвое не может умереть).
Поэтому ирреальная империя, империя-мертвяк, империя-
призрак, упыреобразная потусторонность, питающаяся живой
кровью, может быть вечной.
Записи 4 ежлднейншсе (начало и се(ифша 80-х) 197
* * *
Господи, сколько слов вокруг просто рабства и моральной
трусости! - радостная философия палачей (как асе их обидеть!),
обратным отражением получаемая от истязуемых жертв: “на
коленях бы приполз на Родину, если б разрешили...’* Что бы она
ни делала... “Усомниться в советской власти?! - не смей, никогда!” Фантастическое оборотничество! Даже выживание людей с
убеждениями, честью и достоинством себе присвоили: мол, если
убеждения, то верноподданые, советские. И слова приобрели
вторые, третьи и т.д. значения, несвойственные, несобственные.
* * *
Не столько контроль, не столько исполнение, сколько
свидетельский знак контроля, сколько рапорт-свидетеяьство об
исполнении - вот что рвут миллионы цепных псов.
* * *
Сатирическая философия. Сатира - это жанр со своими
законами, а не ненависть к людям и издевательство над ними.
Это именно способ, т.е. следуя законам жанра, слова, она хочет
придти к прояснению определенных состояний, а не судать
людей, у которых бывают эти состояния.
* * *
Представить себе, кто может это мыслить, - так же, как
представить себе, кто действительно свободен, чист.
* * *
Зиновьев - заместитель Бога по научной части.
* * *
Спор о предопределении, равный спору о троице.
* * *
Замысел - это время. В противовес реактивности и машин-
ности (шаговости). Машина лишь вне себя содержит замысел.
Мы же полагаемся на других, и другие оправдывают это ожидание (•‘ожидание” здесь не случайное слово). Вся эта область
помечена конечной скоростью.
* * *
В общественном сознании с Чавчавадзе случилось в Грузии
то же, что и с мыслью “Вех” в России, - поздно и мимо.
* * *
Поняв, мы хотим еще и представить, иметь картинку. Как
убрать картинку? Это, например, очень хорошо проделывает
Декарт в своей “стреле мысли”, оставляя в принципе непредста¬
198 Философам* на&иодашя и гашчКки
вимое (но которое - “само” : само понимает и т.д. и мы его пони*
маем, и оно может понять то, что мы о нем понимаем и ему
сообщаем, и тд.) “Я есмь сущий!” - и значит, бесконечность уже
помьюпена, “понята”, уже случилась, а разлита ли истина в конечном или бесконечном пространстве - не имеет значения. Это мы
пытаемся еще раз посмотреть - извне. И предстаешь в терминах
последовательных, завершенных и законченных шал». (Ср. Декарт
о “действии на оебя” и о глазе.) И попадаем в неразрешимые противоречия (антиномии иллюзий). Но попробуй посмотреть извне! -
Поэдю. Если душа уже не заняла “место”. Это “занятие места” -
уже опыт Канта (совмещенный с антиномиями выражения очевидности существования мирового события пребывания в мысли или
мыслью - опыт пространства, “внешнего” и “внутреннего”; т.е. тех
физических процессов, посредством которых мы получаем знания о
мире). Это же “место” - сингулярная точка первозакрута ленты Мебиуса (точка, занятая порожденным квазивеществом, веществом,
которое чувствует сознанием). Сколько таких (торно) пронизывающих точек и как они составляют сферу? По “паузам”, по сверхчувственным интервалам (некоммутирующим и недистрибу-
тивным, вообще неизмеримым). Знание, которое - я, есть знание
свободы (а свобода неотделима от знания, и от бытия в свободе
нельзя переступить к представлению о ней). Но она недоказуемая
самоочевидность. И никак не существует (в прошлом или будущем), никогда еще не была и никогда не будет (вечное воображение) и ничего не производит. Она производит лишь себя, т.е.
еще свободу, большую свободу, и так определяется (на стороне
человека - а у Бога она вся). Так же, как знание, мысль есть
возможность большей мысли, сознание есть возможное большее
сознание и т.д. Это и есть самоприращивающее “зерно”, “семя”,
которое отличает жизнь от машины и которого нет у самой
умной машины. Машина одухотворена, но семя не в ней.
* * *
Жизнь, удушенная ею же производимой энтропией, инерцией
(в т.ч. успешным культурным производством).
* * *
Все эти крики: “никогда не забыть и не простить” - говорят,
к сожалению, также и о том, что пока не простишь, многого не
поймешь в себе, да и не вспомнишь.
* * *
Видимо пошпная и представляемая непрерывность - на деле
вторичный, побочный умозрительный продукт все никак не домьгс-
лимой дискретности, déchet1 опыта ее псмысдить, произвести мысль ее.
1 продукт (фр.)
Записи в ежедневник* (мчало и сфедина 80-х) 199
* * *
Говорят, что Пруст изменил классическую форму романа и
изобрел новую. На деле он практиковал и показал роман как
нескончаемую ферму жизни.
* * *
Госпоже Апри стоило бы заметить, что спрашивать и
устанавливать, какие книги читал Пруст, то же самое, что
определять художника тем. какой салон он посещал. Т.е. это ...
Сент-Бев. Книги тоже “наш внутренний светский салон”.
* * *
Блок - последние, уже задыхающиеся слова классических
гармоний. Гул стихий к горлу певца подступал. И работал
соблазн раствориться в их варварских нотах.
* * *
Это социальное угнетение и насилие над всяким проявлением свободной воли и порождает национальную рознь. Ибо они
всегда конкретны, чьими-то руками. Над Карабахом властвуют
через Баку, т.е. азербайджанцами, а над Баку - Москвой, т.е.
русскими. Эта игра различиями воспроизводит общее структурное определение этой империи: это не империя русского народа,
а империя посредством русского народа. Т.е. он сам здесь вещь, а
не лицо, и вещь весьма жалкая.
* * *
Кант даже объекты (а не только пространство и время)
пытался представить по модели сознания действий.
* * *
Партия возникла как “конспиративная” организация и т.д.
(со всеми известными определениями) - на деле нечаевское тело с
дополнительным проектом поселения на другом, социально-массовом теле - “мы - ваш авангард”, “мы - ваши представители”,
откуда, с одной стороны, разница между внутренней, своеприрод-
ной жизнью партии и ее внешней жизнью, а, с другой стороны,
выедание, при возможности, всякого независимого и культурножизненного элемента из тела, на котором поселились (например,
советов, профсоюзов, кооперации). В легальных условиях своей
собственной, в государственных масштабах, власти она осталась
таковой, соответственно сохранив и различие внутренней и
внешней жизни. А науськиваемая, манипулируемая и обесетрукту-
ренная масса сама выковывала орудия собственного порабощения
(как, например, из законоуложений о саботаже и практике взятия
заложниками социально “чужих” выросла вся система принуд ительного труда и всеобщего заложничестаа без индивидуальной вины
200 Философские на&юдекия и заме/Оки
и поступка)• в том числе - отчудила от себя в качестве предмета
классовой ненависти всякое проявление мысли и человеческого
достоинства. Образовалась вырожденная масса в смысле ее
культурно-производ ительной силы. В свое время (в 1851 г.) Герцен
писал: ‘ Еще один век такого деспотизма, как теперь, и все хорошие качества русского народа исчезнут. Сомнительно, чтобы без
активного личностного начала народ сохранил свою национальность, а цивилизованные классы - свое просвещение”.
* * *
Лысенко - чисто литературное явление. Какая генетика
могла бы быть у персонажей Платонова? (Ср. Мичурин).
* * *
Как сравнить? - Один: неприлично показывать голую
женщину на экране. Другой: как можно выпускать голую бабу
на экран накануне 8-го "марта?! Это уже не обезьянье изображе-
ние консерватора и ханжи. Лицемерие? Ханжество? Нет.
* * *
Кто открыл для себя механизм этой власти и вкусил ее в
ехегске', открыл секрет вечной жизни.
* * *
Способность быть учеником выше и достойнее, чем способность быть учителем.
* * *
Донес - арестовали. Раз арестовали, значит донос - проницательная правда, самим арестом подтвержденная.
* * *
Перехват задач военной диктатуры. В политике это дало
Чингис-хана с телеграфом, а в экономике - Чичиковых с государственной охраной, т.е. кормление из “ничего”, а государство
- защита этого кормления, чтобы, не дай бог, не отняли. Но и
состав этого государства вовсе не бюрократия. Поэтому можно
соединить два образа - “Чингас-хан с телеграфом и планом”. А
работало из “ничто” автокатализом, эскапируя собственную
нужность, не-обходимость по создаваемой ситуации, действительность многих и многих недействительностей, возвышающих
себя причастностью к ней. Итог: завязка слепых интересов, в тысячи
раз более непробиваемых (разумом и т.п.), чем частная корысть.
* * *
1 на практике (англ.)
Залиси i ежгунеймосе {ночам и сфеуина 80-х) 201
Когда мы делаем выбор, решаем, мы целый мир, мировую
цепь кристаллизуем позади себя.
* * *
В каком-то смысле Книга бытия есть Книга сознания, его
“бестиарий”, событийный иероглифический шифр его возможностей.
* * *
Низший возможный уровень жизни, когда люди живут
смертью, питая ее как условие своего жалкого уровня жижи, и
приравнивая изъятие ее самой чудовищной катастрофе, которой
нужно, конечно, избежать любой ценой, иначе - стресс.
Со стороны власти то же самое - власть создает и запутывает проблемы, которые только властью же могут решаться, и
так до бесконечности.
* * *
Tb, чего не добрали государственной барщиной и давильней
фиска, доберут теперь хоз. расчетом.
* **
Noblesse oblige’ - развиваемое вне сословного происхождения аристократическое чувство.
* * *
Между Чаадаевым и Шаховским (и его судьбой) замкнулся
весь круг реальной мысли о России - именно к Чаадаеву обратился в конце пути этот рыцарь Грааля, искавший, где же он в
России, и видевший его в “победной умственной силе”.
P.S. Интересно, как совершенно иначе повернулась (и в нечто уже разумное свернулась) à la Достоевская “всёсердечность”,
бывшая на деле лишь умильной сублимацией наглой всемирно-
сти и всезнайства внутренне полого русского гиппопотама:
“Ничего своего не подавлять, а лишь с наибольшей полнотой
раскрывать свою сущность (подч. мной - М.), и тем самым достигать наибольшего общения с другими и наибольшего успеха
в деле. Потому что русский демократ-интеллигент по сущности
своей прежде всего член великого сложного кооператива (подч.
мной - М.), имя коего - человечество” (Шаховской). Это весьма
отлично от самоназначения себя в братья и страстотерпцы всего
человечества, “всеотзывчивости”.
* * *
НЭП в сегодняшних головах - очередное чудесное, магическое средство, сказочный путь и по-прежнему нет мысленных сил
1 положение обязывает (фр.)
202 ФиАОСОфОШб М*& и ЗЛМ&(иси
сирость, чем он был в реальности. А без того, что бьшо до, какой
путь и какая история упаковались, нельзя мыслить этот термин.
* * *
“Мертвые стыда не имут”. Этим вообще неизвестно это
чувство. Значит, они мертвы.
* * *
Как в обществе вернулись к системе личных зависимостей, в
принципе неспособных артикулировать наличное, реальное
общественное бытие (которое лишь косвенными, обходными
путями обнаруживает себя), так и в мышлении - мыслят в
терминах свойств лиц власти, что в принципе не способно
довести до внятной и ясной артикуляции наличное впечатление
и опыт переживания реальности власти, ее природа.
* * *
Небо на землю в мышлении приведено Декартом. Высокая
болезнь - бесконечность (“страх божий - начало познания’’, как
говорил Декарт). Нашла себе вещественные крылья, “мускулы”.
* * *
Беспамятство природы для нас невозможно, в него нельзя
впасть. Память (время) “не природного” элемента (свободы).
Ибо мысль необратима. Она - поступок, и мир в ней решен.
* * *
Эта жизнь выталкивает мысль, она не прививается. Мертвое
хватает живое. Отработки духа, “уже-понятия”, под условие
которых подстраивается продолжение жизни, все съедают. Все
входит в штопор самоубийственной инерции или мертвую петлю
самораскачивающегося контура истребления, раскручиваемого в
бесконечности жизни.
* * *
Далась им эта “перемена всей точки зрения на социализм”!
Какого же рожна нужно было брать власть и притом этого рода
власть, если ничего не понимали ни в социализме (монументальная глупость и пошлость “монополистической и прямой
разверстки всей суммы деятельностей и продуктов”), ни в российской действительности? Ибо вед ь тогда “перемена всей точки
зрения на социализм” означает (должна означать!) и перемену
всей точки зрения на власть, т.е. практически дележ ее с собственными силами российской действительности, независимыми от
‘•передовой идеи” и ею непредвиденными, неучтенными. Но
власть продолжалась невозмутимо в прежнем тота льно-едином
виде и никто не ставил о ней вопроса... И весь социально¬
Замлей в вж&рш/ш** (ночам и афедима 80-х) 203
культурный организм ввинтился в чудовищный штопор самого-
жирания.
* * *
Унаследованная болезнь общественного сознания: проявление в нем внутренней несвободы в вида какого-то неприятия
чистого культурного творчества, самоценной чистой мысли или
искусства. И место мысли в нем занял политический мистицизм,
идеально сублимировавший эту несвободу.
* * *
Другой пример обратной, перевернутой логики: чем невероятнее, тем более простой очевидностью является. Ну, кто будет уничтожать таких, как Тухачевский и другие, если они действительно не
виноваты?! Или жалоба палача, “мученика” своих жертв, которые
до озверения его, бедного, доводят своими заверениями в преданности и невинности до самой пули в затылок, а сами, мерзавцы, вед ь
работали на пять разведок! Изощренные хитрецы, запутывают
следствие! Или: раз арестовали, значит, прав был донос.
♦ * ♦
Я бы сказал, что сегодня мы имеем “плачущий марксизм”.
Но проблема мысли в том, чтобы не смеяться, не плакать, но -
понимать. Проснулись в слезах. Горячо, горячо, близко, близко...
Но еще не мысль. Пока лишь ближайшее к ней -
“и не может в бреду забыться,
и не может очнуться от сна”.
* * *
Чисто паразитическая власть. Она съедает все вокруг себя.
Теперь они ритуально выкрикивают в своем юродивом “два
притопа - три прихлопа” что-то “об интенсивном versus экстенсивное развитие”! Но желания, потребности, психический склад
и права людей - тоже “территории”, все экстенсивнее охватываемые и выкачиваемые властью вместо внутреннего культурного и гражданского развития. Чисто экстенсивное пожирание
людей, человеческих сил и возможностей. Но природа дела неделима. Что в одном случае, что в другом. И нельзя, хотя хочется,
“и рыбку съесть и на х.. сесть”. Это видно в кампании сухого
закона: опять чисто внешнее и замена жизни действом, а не
внутренняя дисциплина и традиция работы, усилия по своему
свободному самоосуществлению и возрождению. Вернее, это
сухое беззаконие вместо беззакония и произвола в алкоголем
размягченной среде. Но шпъ-то будут, и итог: задавленность и
бесцельность всякого усилия жизни в квадрате.
Кто-то хорошо сострил: стиль вампир.
204 Философские наблюдения и яамтКхи
Чехов: доброта, чувство сложности человеческой природы,
защита высокой ценности самой жизни как таковой, ценности,
большей, чем любой ее идеологический проект или изображение -
вот что за ноту он внес в литературу в противовес господствующему
в ней идеологическому неистовству и осатанению, нетерпимости. Не
говоря уже о том, что он внес в нее мысль личносга о себе, о своей
совести вне рамок оппозиции “интеллигенция - народ” и в противовес “проповеда” совести, претензии бьпь “совестью народа”. Для
Чехова интеллигент - такая же часть трудящегося народа, как и
любая другая. Должна быть таковой. Если плохо одет и безграмотен, то - народ, а если прилично одет и просвещен, то что? - не
народ ? Чехов никак не мог этого понять, принять. И молодец.
* * *
“Лампочки Ильича” светились сверлящим и сатанящим светом ламп на ночных допросах-пытках по всей России.
* * *
Снова о Чехове.
Строить из жизни и в жизни versus немогота. Серафим
Саровский: “Спасайся сам - тысячи вокруг тебя спасутся”. А эти
- ничего сами, все помощь извне, другой...
* * *
“За что кровь проливали?!” - Проливали-то чужую.
* * *
Происходящее просто наглядная картина того, что власть
не может отменить самую себя.
* * 0
Вариант переживания матерью разлуки с сыном: Х.Вояович
приводит слова солагерницы, старой партийки: “Если бы партия
приказала мне ехать сюда добровольно, разве бы я не поехала?
Только сына взяла бы с собой”.(!!!)
* * *
Ильичевская жалоба на поэтов во время знаменитых
“встреч”: “Ни тебе классов, ни тебе классовой борьбы...”
* * *
Потребность наглядности, картинки есть форма все того же
требования гарантии, автоматического механизма.
* * *
Боролись, боролись с сектантством - и насмешливое провидение их самих обратило в секту, в секту подданных другого
Бога в глазах тотальной идеологической религии.
Записи / ежедневнике (ночам и ефвдииа 80-х) 205
* * *
Независимость нам нужна и для того, чтобы себя увидеть.
* * *
Надеялись - после ритуального “классового” убийства всего
старого, печатью “эксплоатации” (=буржуазности) помеченного
- получить чистую человечность, экстракт человечности, которой будут послушны и все силы природа (т.е. стихийные, слепые,
неумышленные, “докоммунистнчеекие”, фактически - тоже
“буржуазные”, глупо-кресть" • гасие).
* * *
Говорят о свободах западного образца. Но нет никаких
таких свобод. Просто есть свободы, или их нет.
* * *
Только и слышишь теперь о терпимости, и все это похоже
скорее на нечто, что должно служить очередным лозунгом,
вроде: “Превратим наш бордель в дом терпимости!” Европейский дом-то уже у них в голове.
* * *
С истиной ничего не происходит. Это наша психика на
разрыв, это у возможностей психики есть пределы.
* * *
Если кто и возвращается из ада, то только с пусшми руками. Никто никогда с полными не возвращался из него.
* * *
Если у тебя миллион, то это твое частное дело. И никак не
определяет другого, что есть Яет риЬНса. Так что, со стороны
проблемы власти, политического устройства, можно и так
повернуть неотчуждаемость частной собственности.
* * *
Эмбрионы, отказывающиеся расти и ненавидящие всякую
определенную форму. И если описывать их в языке таких форм,
то о них можно наговорить что угодно (как они и сами о себе
говорят): и что “сердцем живут”, а не умом, и что “правда” и
“справедливость” для них выше истины и жизни, и что они
“мученики” дьявола, что злы и бессердечны, и все это без какого-
либо ощущения логического противоречия может умещаться в
одной голове (повторяя в свойстве метаязыка свойство языка,
т.е. воспроизводя его принципиальную неопределенность,
неописательность). И если еще учесть, что на этом последнем,
мета-уровне устранено какое-либо отношение к реальности и
истине (я, мол. “правдив” - и этом все исчерпано, что, конечно,
206 Философские м&иодени* и замтКкн
уже есть идеология треха, «го объяснение и эстетизация), устранено из далекого магического прошлого идущим свертыванием
описательных терминов к оценочному их звучанию, “морализаторской” регрессией языка, то, конечно, психический атом
раскалывается и безумствует, мысля невозможные образования
метаязыка (в перевернутом виде этот вывод о невозможности
метаязыка получил болезненно чувствительный Витгенштейн),
что очень, кстати, похоже на психический механизм точных
предсказаний войны 1941 г. московским школьником.
* * *
Что ни шаг - нагромождение абсурдов, нелепиц и бессмыслиц, все нелад.
* * *
Строй контролируемых людей и неконтролируемых процессов. И удивительное мышление: абсолютно отсутствует культурная даль, все мгновенные картинки (“изъять”, “распределить”,
“организовать”, “реквизиции”, “поставки по твердым ценам” и
т.п.). В дали только “злые духи”, “враги”, “демоны”.
* * *
Справки и документы в СССР - это мобилизационные
повестки гражданской войны. Сгоняют людей на пыточный
двор, где повязкой их друг на друга топчут их гражданские
права, унижают и мучают. Какое тут уж делопроизводство,
какая тут уж бюрократия! Речь идет о негражданском состоянии
произвола. Оно самовоспроизводится. Зло рождается как бы
само собой. Никто не ставит его себе сознательной целью.
* * *
Многие, мол, социальные, экономические права у вас
(европейцев и пр.) благодаря нам. Это монгольский аргумент.
Гений фамилий: корреспондент “Правды” по фамилии
Борзенко.
* * *
Статья о Раскольникове и его письмо: Сталин, ты сделал
то-то, ты уничтожил то, ты уничтожил еще и еще, и пятое и десятое; ты вверг в то-то, подорвал, нагнал, повел... Ну, просто
гений злодейства! А на деле лишь развернулись пружины заложенных механизмов и последовательно коснулись всех этих
точек. Да и сам Сталин, отнимая хлеб у социологов и социальных исследователей, открыто и прямо говорил правдивую суть:
меня партия создала по своему образу и подобию. Но не слышат,
не слышат лежащего на поверхности, им глубокую тайную суть
подавай, а сказанное, мол, - лицемерная скромность: восхвале-
ния-де к партии относятся, а я лишь ее солдат.
Заниеч é гжедтвншс* (немом и ефцима 80-х) 207
* * *
Габриэль Маркес, еще од ин гигант мысли: иод, “величайшее
историческое событие XX века”. Ну просто планида такая: все
что ни сделают - все самое. А на деле просто попытка от выморочной, противоестественной и античеловеческой маеты перевернутого
существования, быта и действа сд винуться к нормальным, естественным критериям человеческой жизни, какой давно уже живут
другие народы, соседние и дальние. Как будто человек, всю жизнь
трогавший правой рукой левое ухо, стал пробовать доставать его
левой же, как ребенок, пробующий первые шаги прямохождения.
Так что, весь окружающий мир должен закатиться в восторге?! Да
все это несуществование: или в прошлом, или в будущем - и нжогда
сейчас, в настоящем... А язык, на котором все это ему “как аукнется,
так и откликнется”, - это православный марксизм и национал-
большевизм.
* * *
История столыпинских реформ, мне кажется, ясно показывает, насколько трудно, если не просто невозможно êhs и помимо религиозного смысла (и массового движения) создать средний
класс (“срединную культуру”) на основе экономического здравого смысла и рациональных мер.
* * *
Там, где есть рабочий класс, там чисто “рабочая” демагогия
и идеология не проходят - ибо он вовсе не самый подвижный
элемент. В России - всякая лишняя, безродная, “сквозная” шваль,
в Германии - мелкий и средний маргинальный люд (ищущий
“полноты жизни” и тл.)
* * *
Nitsche: “Wir haben das Glück erfunden - sagen die letzten
Menschen und blinzceln... der letzte Mensch lebt am längsten” ■.
* * *
Sans mystère = la vie animale; la vie humaine = mystère; culture
= pouvair de supportes le mystère2.
* * *
В Чернобыле громадный плакат: “Чернобыль - место подвига”, и попка, выведенная телекамерой интервьюера из толпы
“организованного счастья”, ведает: “Мы здесь построим пирамиду
выше египетской пирамиды Солнца” (т.е. пирамиды Хеопса).
1 "Счастье найдено нами - говорят последние люди и подмигивают ... последний
человек живет дольше всех” (нем.)
2 Без тайны - животная жизнь; жизнь человеческая - тайна; культура - способность
удержания тайны (фр.)*
208 Философские kaíuocfekUA и зам&Яки
* * *
Чернобыль - яркая иллюстрация того, что самая большая
беда это - замещение реальных бед знаковыми фикциями, обозначаемыми самими же бедолагами (знак знака - потрясающая игра
в зеркале! Deutunglos (und schmerzlos) в чертог теней вернутся...
♦ * *
В книге Бердяева “Самопознание” полностью отсутствует
какое бы то ни было самопознание, а есть самохарактеристика,
блестящая, критическая, что угодно, но не самопознание.
* * *
Страна-подросток, страна-литература, страна-привидение...
* * *
Сегодняшний “Omnibus” BBS о поколении молодых немцев,
о том - что они думают о своих родителях-нацистах, о том, кто
что знал и т.д. И все об ужасе уничтожения целой нации: никто
не говорит о сути дела. Об идее очищения и о “группах негодных
или ненужных” (и этим внезаконно виновных коллективно) и о
ненависти к непосильной (в себе и других) человеческой мере,
какая дается артикулированным гражданским обществом.
* * *
Что им Гекуба? Что они так хлопочут? Что они так суетятся
- ну, пожалуйста, обрадуйте нас, дайте нам любить вас, реабилитируйте Троцкого, Бухарина и пр. их кровных врагов?! Что
они так жаждут реабилитации Троцкого или Бухарина, которые
с ними и разговаривать не стали бы или заплевали бы и к стенке
поставили бы? Этих кровью упившихся интеллектуальных
дистрофиков, бесов и ideorrheacoB?'
* * *
Сталин, верный и внимательный ученик, многое именно от
Ленина унаследовал. В том числе цинизм по отношению к
теории, к теоретическим провозглашениям, формулам и обоснованиям.
* * *
Замечательное обоснование-определение “красного террора” у Троцкого: помочь уйти отжившему классу (!).
1 Видимо» неологизм М.М.
Записи в ежедневнике
(1989 г.)
Философией нельзя изъясняться, ею можно только жить
(если имел» в виду то живое, что непрерывно воскресает
и пульсирует в работе - “внутри и тогда, пока и
насколько” - с сознанием). Как стихи - kein Sentiment1, так философский текст - kein Gedanke2.
* * *
Мысль должна замкнуться, как замыкается круг жизни.
Поступок раз и навсегда.
* * *
One can't go too far in metaphysics: truth is still farther3.
* * *
Все, что хотя бы отдаленно напоминает проект коллективистского и a priori “справедливого” устроения жизни, вызывает
у меня озноб и отвращение.
* * *
Философствуют только исторические существа. И философия имеет прямое отношение к тому, есть ли такое существо или
нет. Ибо знание свободы, опыт сознания как такового (“чистого”) конституирует человека как человека. Есть лишь жертвы
аборта, социального и политического мистицизма, недочеловеки, для которых верно шиллеровское “Und das Dort ist niemals
hier”* в отличие от кантовского “при этом порядке вещей
(внешнем неизменном порядке - М.) мы находимся уже теперь...”,
(а дальше нужно лишь суметь продолжать), (т.4,4.1, стр.438).
* * *
В жизни нет “и т.д.”. Как нет “и т.д.” и в “Гамлете”. Момент
исполнения жизни предполагает ее полноту и силу, законченную
и завершенную форму, знание своей формы. Только бесконечный
ум видит конечную форму. Он видит неотделимо от “понимаю”,
“вижу”: “я понимаю, что это спираль, и это - конец движения ее
конструирования (и начало, потенцированная возможность ее
восстановления)”. Актуальная и потенциальная бесконечность:
1 никакого чувства (нем.)
: никакой мысли (нем.)
5 Нельзя уйти слишком далеко в метафизике, истина все же дальше (англ.)
4 *И то, что там, никогда не здесь” (нем.)
210 Фклософаше Mi&uoqtMtA и зилш&си
спорили ни о чем. Но можно ли ввести, получить од ним только
разумом? Нет, нельзя, именно потому, что он участвует и его
элемент-включение не есть часть или элемент природа,
(поддающийся внешнему сравнению) (и вообще, в многомерном,
мы получаем состояния, которые не “состоят из” и неподразде-
лимы внешним отношением, а пытаясь, фактически, отобразить
операцию сознания, мы получаем размножение в зеркалах и
ловим, под видом предметов, зеркальных зайчиков, как в квантовой механике), и невозможна данная бесконечность из законченных и завершенных объектов или шагов. Подключились - не
подключились (и мы ничего не можем знать об этом, если они не
сообщат нам этого). Если подключились, то вводится в существование (о-существляется), на периферии сферы которого
конец равен началу (возобновление и т.п.). И о-существляется
индивидуально, единственным образом в “качестве”, измерении
(“качество”, которым участвуем в бесконечности и которое держит). О-существляется снова и снова и ни одним часом не старо,
и ничего не составляет. Стоит только помыслить - и усматриваем, усматриваем единственно (“помыслить” = включить свое
переживание, активность в движение и соотношение рассматриваемого). Есть только одна единственная связь, в которой
конгруирует, и нужно быть так кривым (эта окружность...),
чтобы прилегло; есть (неотображаемое) место, различия
“левого” и “правого”, место понятия. А не в том смысле, что есть
характеристика вещи в себе, которая должна соответстврвать
(здесь и перемещаемся в трансцендентальный срез) (т.е. правое и
левое не “свойство” вещей самих по себе, как и пространство и
время). Но равенство “как” и “что”, неотличимость явления
(феномена) того, что есть, от реальности не означают никакого
субъективизма интерпретации, ибо, наоборот, “теория” не
зависит от интерпретации и от языка, и “непроницаемая самость”
(и необратимая) этого есть свидетельство естественного бытия,
бытия как факта.
It must be present1: молись!
“Быть вспаханной землей... И долго ждать, что вот
В меня сойдет, во мне распнется Слово”.
(Волошин).
* * *
Все умные места кривые. Познаем искривлением (прилегаем).
В мире ничего изменить нельзя.
Этот мир нужно или целиком принимать, или целиком
отвергать.
1 Это должно присутствовать (англ.)
Записи i ежеднНшасе ( t989) 211
Сумасшедше умствовать или умно сумасшествовать.
Создавая новую идеальность, предельно и сущносгао
(“чисто”) выражая то, что есть, есть на самой деле, то, о чем на
самом деле идет речь.
Существует феномен (непосредственная данность) жизни
сознания как целой.
Отсюда существует (раз существует ее внутреннее пространство порождений) со-бытийная структура действительности с ее
(структуры) ритмическим характером и рекуррентностью
(которая есть структура сознания).
События с участием сознания происходят на сфере
(предельной форме спирали). И если сделать что-то поверхностью сферы, то, проведя по нему линию, мы фазу же обменяемся полусферами - это одна точка.
Гармония всегда дассимметричиа, разомкнута на свободный,
спонтанный “сверхъестественный" акт, являющийся свободной
предпосылкой в человеке.
Без исполнения этого последнего предусловия мы имеем в
бесконечность простирающийся плоский хаос и пробел понимания, зияющую пустоту. Пробел гиганский, но тем не менее всего
лишь пробел. Т.е. пробел не обязательно мал и мимолетен. Он
может отдельно сам занимать огромное пространство.
* * *
Они не меняются. Просто поворачиваются к Западу то
лицом чванливого комплекса превосходства, то лицом самоуничижительного комплекса неполноценности, тошнотворного
заискивания и низкопоклонства.
* * *
Какие-то привиденческие дискуссии о частной собственности, о “равноправии” различных видов собственности и т.п.
“Равноправие” означает лишь частную собственность, принцип
частной собственности, ибо собственность как право может
быть лишь частной. Т.е. собственность (тавтологически) есть
нечто 1) принадлежащее только лицу или лицам, 2) не могущее
быть у них отнятым, 3) не определяемое властью (не-“частной”,
политической) и (или) не могущее быть ее составной частью,
элементом - настолько, что даже в случае когда что-то принадлежит государству, последнее должно выступать в качестве
частного лица и определяться в области гражданских правоотношений (не случайно Habeas corpus act1 с его способностью
распространяться на все большее число людей, в пределе - на
всех, был зачатком конституционного, правозаконного устройства как такового). В этом смысле в СССР вообще отсутствует
собственность. Настолько, что покушения на собственность
1 Право личности на неприкосновенность (лат.)
212 Философские наЛиоуения и stutafücu
оттеснены в область покушений на личное имущество и, как
таковые, пренебрежимы, а воспринимаются и действительную
защитную реакцию вызывают лишь деяния по отношению к
имуществу “общенародному”, “государственному”, т.е. к монополии на распоряжение грабежом. А кому “принадлежит”
награбленное? Вопрос бессмыслен, не имеет отношения к праву и
морали. (Он лишь локально и случайно определяется силой,
“властью на час”.) Поэтому, кстати, выведя всякую предааходи-
мую собственность в России за закон в область “награбленного”. сами себя вывели за закон, поставили вне закона
самих себя и всякое пользование результатами дележа и перераспределения “награбленного”! Со всеми вытекающими отсюда
последствиями - последствиями необратимого “сами сделали”:
сами заслужили то, что случилось то беззаконное с собой
обращение, которое предопределяю “законами”, правом, под
действие которых сами себя поставили, которые сами над собой
возвестили. Результирующая несвобода была свободным решением. (Поэтому когда оказывается возможным восстановить
закон, то уже нельзя восстановить жизнь.)
* * *
С самого начала все было просто гешефтом, бредовым и
потусторонне гоношным, но все же гешефтом.
* % *
Собственность потому и называется “частной”, что не
может быть властью и определять своего владельца (будь он
одним или многими) в качестве частного лица. “Власть же не
может быть ничьей собственностью, а есть res publica. Когда же
говорят, где собственность, там и власть, то это и ложь, и
правда, выданная тайна: такова их власть.
♦ ♦ *
Мы судим дела, а не людей, т.е. состояния, а не их носителей.
Людей же пусть судит Бог.
* * *
Замечательное определение Безансона, отказывающегося от
биографического подхода к Ленину в пользу метафизического:
“так как под плоской поверхностью этой личности зияет страшная бездна небытия.”
* * *
Всем миром нельзя создать этого - простейшего желания
(что, кстати, и есть свобода, свободное явление). Это же о мысли
и т.д. Чтобы утешить себя и избежать этого, мы рассказываем
себе сказки о мысли и т.д.
Замши в ежедневнике (/929) 213
* * *
Le propre de {'“idee” est qu'elle seit inmovible, fixe'.
* * *
Кажется очевидным, что Витгенштейн судорожно цеплялся
за действительность, исчезающую на глазах, как улыбка Чеширского кота, т.е. боролся с сумасшествием, которым на него
дохнуло из глубин реальности смыслов, оголявшейся от экранов
действительности, которые вместе с духом свертывались с чудовищной скоростью. Omoia mea mecum porto*: он вед ь перенес с
собой в Англию свое место и время, где не было действительности я которое “Австрией” называлось; живя в ней, он был
потеявдвивно болен душевно, неуравновешен душевно. И любое
соприкосновение с оголенной реальностью могло эту потенцию
актуализировать.
* * *
Доверие есть всегда результат метафизического выбора,
ибо для него нет и не может быть эмпирических причин и
оснований.
* * *
Ходасевич: “Коммунизм -внутри нас” (20.V.1921).
Организа1щя всего и вся (Ленин: “организовать все”) и
все-предасазуемость, редукция окружающей сложной среды и
ткани под генетическое неумение и неразвитость способности
труда (любого), интеллектуальное ростовщичество (то, что
Genossen» могут добавить к массовому неумению управлять)
и т.д. - все это продукт пафоса Identity, судорожного ее
зацикливания из-за первичной, на страхе и ужасе замешанной
враждебности к неожиданному, незапланированному и непредсказуемому.
1 Свойство “идеи” в том, что она неподвижна, фиксированна (фр.)
2 Все свое ношу с собой (лат.)
3 товарищи (нем.)
ДОКЛАДЫ, СТАТЬИ\ ИНТЕРВЬЮ
О сознании'
С самого начала (раз уж это называется лекцией) мы должны
договориться, что сознание есть нечто такое, о чем мы как
люди знаем все, а как ученые не знаем ничего. А поскольку
мы здесь собрались как ученые и разговариваем на языке незнания,
то можем лишь, будучи людьми вежливыми и снисходительными,
постараться договориться хотя бы о каких-то терминах, не надеясь услышать друг от друга никаких окончательных обьснений.
Мне кажется, что проблема сознания есть такая проблема,
которая самым острым образом заставляет нас задуматься над
возможностями нашего языка описания, над тем, что мы вообще
можем понимать, что можем описывать как существа, вовлеченные в жизнь тех же самых объектов, которые должны описывать.
Наши возможности не безграничны; есть, очевидно, какие-то
ограничения или какие-то невозможности, накладываемые на
нас самим нашим положением сознающих и чувствующих
существ. И выскочить за это мы не можем. Есть, очевидно,
какие-то вопросы, на которые мы ответить не можем. И относительно этих вопросов максимальное, что мы можем сделать, -
это осознать характер такого рода вопросов. Или хотя бы выделить ограниченное число такого рода вопросов, то есть таких,
на которые нет ответа, и попытаться вглядеться в них максимально, осознать их, не больше.
Конечно, таким вопросом является сам вопрос о сознании,
как и вопрос о языке. Очевидно, наше положение, задающих
этот вопрос, таково, что мы не можем на него ответить,
поскольку мы задаем его тем же сознанием и языком, и в этих
терминах не можем породить термины сознания и языка и показать, как они впервые где-то и как-то возникают. Максимальное,
что мы можем сделать, - это отдать себе отчет в специфическом
характере явления “сознание”. И когда мы пытаемся это сделать,
первое правило, которому мы должны следовать - это правило
экономии терминов, экономии мышления. Нужен ли, например,
вообще этот термин и не является ли он дубликатом других,
более необходимых терминов? Скажем, если мы действительно
’ Доклад, прочитанный на I Всесоюзной шкоде по проблеме сознания, 1982 г.
(О школе см.: Сенокосов Ю.П. Что такое сознание? - “Вопросы философии”, №2,
1986.) Публикуется впервые.
О сознании
215
кожей показать, что наряду с физиологическими терминами или
терминами физическими есть действительно что-то, что даже
фиксировано быть не может без употребления термина
“сознание”, тогда употребление этого термина осмысленно. Если
же этого не случается, то термин “сознание" является, видимо,
лишним, без него можно обойтись.
Короче говоря, на мой взгляд, проблема сознания состоит в
том, чтобы, рассуждая естественнонаучно, мы могли в самой
эволюции космоса или Вселенной, или живых существ Вселенной
увидеть какое-то явление, которое действительно требует применения к нему термина “сознание”. Если же мы не можем
рассмотреть его как элемент эволюции, то разговор о нем -
особенно в такой среде, где собрались и физики, и физиологи, и
математики, и биологи, и философы, - не имеет смысла. Тогда
просто нужно все это отдать идеологам и пусть они себе говорят
о сознании в отведенных для этого местах, а мы могли бы и не
собираться. Но, к счастью, для нашей встречи вопрос, мне
кажется, стоит все-таки иначе, поскольку есть в эволюции
реальных, физических, жизненных явлений что-то, что требует
от нас применения этого термина.
Я имею в виду то, что проблема сознания очень похожа на
проблему жизненных форм, на проблемы жизни. Странная ведь
очень вещь - вы, наверное, сами сталкивались с таким феноменом, когда люди, пытающиеся в рамках биологического цикла
наук определить, что такое жизнь, редко могли уйти от интуитивной связки проблемы жизни с проблемой духа, одушевленности. Я не буду вдаваться при этом в дискуссии, вызываемые
самим определением, я просто указываю на сам факт, что люди
упирались в то, что жизненный феномен или не определим (хотя
интуитивно нам доступен, ибо мы на уровне интуиции отличаем
живое от неживого), или, когда мы вырываем феномен жизни из
области интуиции и пытаемся как-то его эксплицировать,
выразить более ясно, то говорим о нем нечто такое, что близко к
тому, когда говорим о духе, о духовном принципе. Не случайно у
такого философа, как Кант, чаще всего принцип жизни отождествлялся с некоторым духовным принципом: принцип живого есть
нечто одушевляющее, который дальше никак подробно не определялся (у грамотных философов, конечно, - они где-то разумно
останавливались всегда на пороге определения и определения не
давали). Значит, феномен сознания похож на феномен жизни
хотя бы своей неопределимостью. То есть он доступен нам в
интуиции и недоступен на уровне экспликации нашей интуиции.
Я могу сравнить феномен сознания с феноменом жизни и
еще по одной линии. Ведь когда мы говорим о жизни и о том
неуловимом, что является жизнью, то имеем, несомненно, в виду.
216 Зоклафя. сЛ<иЯш, шалфвыо
что все живое отличается тем, что воспроизводит себя в качестве
живого: все живое не хочет умирать. Есть какая-то устойчивость
живых форм, их тенденция воспроизводить себя именно в качестве живых. И сознание тоже обладает этим свойством. Ибо то
решающее, что оно вносит от себя, например, в ход социальных
процессов, это та же тенденция человека к тому, чтобы процесс,
в котором он участвует, был организован таким образом, чтобы
в результате реализовывались заранее заданные символические и
другие представления человека о самом себе. Человек не может
жить в мире, или участвовать в таком мире, результатом действия которого была бы гибель человека. На уровне сознания
(где “гибель” я перевожу на другой язык) это было бы действием
человека, воспроизведением ситуации такой или мира таким, в
котором человек вообще узнать себя или признать себя, или
допустить себя в качестве элемента этой ситуации или этого мира
не мог бы. То есть есть некоторое зад анное априорное требование
человяса как сознательного существа к миру и тенденция, тяготение
этой сознательной жизненной формы к тому, чтобы воспроизводить себя и этому требованию удовлетворять. Или к тому, чтобы
через нее человек воспроизводился в этом сознательном отношении себя с самим собой. Что я этим описал? Я описал какой-то
механизм, который, мне кажется, несомненен для нас, если мы
его интуитивно воспримем, но который разложить в понятиях
почти что не представляется возможным. Но ведь “сознание”
при описании социальных или каких-либо иных процессов не
лишне только тогда, когда именно это имеет место. Потому что
иначе сознание - это просто содержания сознания. Оно тогда
просто прозрачная оболочка некоторых содержаний, которые
описуемы в своих терминах (предметных - элементарные действенности), и дублировать эти содержания еще каким-то иным
термином, называемым “сознание”, не имеет никакого смысла.
То, что я сказал, конечно, не очень ясно, и я не знаю, поняли
ли вы меня, но ведь мы договорились быть снисходительными, и,
очевидно, эта неясность связана не с моей глупостью или умом, а
с тем, что в случае этой проблемы мы вообще находимся в
области, где имеем дело с такими терминами и ситуациями, когда не можем в решающих случаях оперировать с эмпирически
разрешимыми эквивалентами наших утверждений. Язык физики
или биологии есть предметный язык, т.е. язык, утверждениям которого можно дать эквиваленты, указуемые на воспроизводимом
опыте и подкрепляемые нашими физически выполнимыми операциями и их преобразованиями. Философия же, когда говорит
о сознашш. а не о чем-нибудь другом, говорит о таких вещах,
для которых нельзя показать (подставить) их эмпирические и
конечным числом операций контролируемые эквиваленты. Здесь
О сознании
217
элементарные действенности представлены во внешних отношениях. И этой нашей неспособности дать утверждениям о сознании наглядный эквивалент и совокупность взаимнопреобразу-
емых операций, отрывающих нас от текучей, неустойчивой и индивидуально произвольной базы субъективных переживаний, не
противоречит тот факт, что, например, в постиндустриальном
обществе сами продукты сознания могут организовываться как
товары и продаваться и покупаться в виде так называемых
■программ”, представляющих собой определенную обработанную
информацию и служащих средством производства, ибо сознание
- такой феномен, который, по определению, многоструюурен,
представляет собой упаковку в себе множества структур. Есть
первичные структуры сознания, которые суть символические
структуры, т.е. ненаглядные, непредметные. А “программы” работают на п-ой ступени самих упаковок сознания -ив этом состоит
сложность его анализа, - когда неизбежна манипуляция нами
как сознательными существами и мы можем быть отождествлены
с машинами (а это возможно в большинстве случает, кроме
решающих, так как своими машинными частями мы включаемся в
продукты систем и кое-что в наших головах также может быть
представлено в виде продуктов таких систем). Но в силу того,
что человек остается все же сознательным существом и, следовательно, сохраняются первичные структуры сознания, поэтому на
каком-то этапе в качестве эмпирического существа, вами якобы
запрограммированного, он обладает способностью взбрыкивать,
т.е. оказывается совсем не там, где вы его ожидаете. Возникают
эмпирически необъяснимые факты. Мы воспитываем детей,
программируем, отдаем в математические школы, вскармливаем
математических гениев, а они возьмут да и станут хиппи или
обоснуют школу свободной любви. То есть, если есть первичные
символические структуры сознания, значит есть и феномен свободы, а если есть феномен свободы, то на скольких бы этажах вы
не запрограммировали сознание - взбрыкнет человек. Потому что
он не может жить в мире, в котором сам не может себя символически репрезентировать, без порождения и допускания этим миром.
Вот это и есть требование сознания к миру. Большего сказать об
этом специфическом выделении сознания в мире я не могу. То,
что, с одной стороны, неуловимо на уровне эмпирического
опыта, с другой стороны, уловимо на уровне своих последствий.
Факты человеческой свобода становятся эмпирическими фактами,
но засечь их в эмпирии и объяснить невозможно. Иными словами,
то, что нам доступно лишь на уровне интуиции, а именно - жизнь
н сознание, недоступно непосредственно * на уровне аналитической картины, хотя, повторяю, это проявляется на уровне
эмпирически констатируемых последствий. Соотнесенность
218 Змиады, аНаШьн, ишЯф/ь»
человека с фактом существования в ней сознательного элемента
порождает в его жизни эмпирические явления, которые в эмпирии же, не зная о нем, объяснить нельзя. И, следовательно,
наука, которая не ввела бы такие абстракции, которые позволили
бы ей вычленить такой элемент, указать на его существование,
была бы бессильна перед человеческим феноменом: каждый раз
он оказывался бы для науки неожиданным.
Вот этот материал сознания, о котором я говорил как о
неопределимом, и есть материал эволюции человеческих сознательных и чувствующих существ. Он есть реальный материал
эволюции. Но, к сожалению, мы не имеем языка описания для
этого материала. Например, фактом эволюции является то, что
человек не может дегенерировать, хотя иногда погибает именно
потому, что не может сойти с ума или естественным образом
быть дикарем, скифом. Бывает редукция социальных ситуаций
такая, что человек мог бы приспособиться, только забыв, что он
- сознательное существо, а он забыть этого не может. Кстати,
может быть, это и объясняет, почему мы не сходим с ума - потому, что сумасшествие можно понимать как приспособительный
механизм эволюции. То есть, в данном случае я получаю некоторое эмпирическое правило - его можно опровергать или не
опровергать, но оно - эмпирическое. Вместо того, чтобы
рассматривать сумасшествие в терминах нормативных и моралистических, я рассматриваю его как реальное, естественное
явление, как явление и форму жизни. Но чтобы увидеть его так, я
должен сначала ввести, конечно, несколько постулатов, но не о
том, что является сумасшествием, а о том, что является сознанием, т.е. рассмотреть сознание как реальный, объективный материал эволюции, который человек не в силах отменить и который
не в силах забыть. И лишь затем показать сумасшествие как
проявление того, что человек не может забыть - забыть, чему
научился (т.е. “историю”, нетто, “уже” давшее направление).
Но вернемся к тем случаям, где термин “сознание” необходим как термин анализа, который указывает на что-то специфическое, не обозначенное никакими другими терминами. Так вот,
когда мы попытаемся ввести такой термин, то оказывается, что
для выделения сознательных явлений или сознательных процессов мы вынуждены абстрагироваться, проделать абстракцию.
Абстракцию очень сложную, которую я условно назову феноменологической - это абстракция от содержания. Я имею в виду,
что если мы рассматриваем сознание как отражение мира, как
некую дупликацию реальных событий, о которых говорит,
например, физика, как дупликацию их в некотором совершенно
нам неизвестном нефизическом пространстве - “идеальном” или
“психическом” или каком-то еще, - то мы, собственно говоря,
О аинмии
219
дублируем мир и неэкономно употребляем термин ‘ сознание”.
Сознание ведь выступает для нас как прозрачная оболочка
реальных событий и процессов, физически (или математически и
логически) описуемых, и тогда, конечно, оно эпифеномен этих
процессов, побочный продукт нашей не слишком чистой в экспериментальном смысле ситуации, не имеющий места в реальном
мире. Но если мы подходам к сознанию как к материалу эволюции или факту эволюции в том смысле, в каком я говорил, то оно
есть реальное событие в мире. И тогда сознанием мы называем
не сознательные содержания, а событие присутствия сознания
или субъекта в сознании. А точнее - это сознание сознания. То
есть сознание мы не можем определить без круга, без круговой
процедуры в логическом смысле - оно оказывается для нас
фактически самосознанием, или сознанием сознания - другого
способа определения у нас нет. (Трансцензус минимальности.)
И у нас возникает только один вопрос: значимо ли такое
собыгае в мире? Оказывается, что значимо. Такого рода события, которые несводимы к своему собственному содержанию, или
содержание которых неотделимо от них - скажем, сознательное
восприятие не есть воспринимаемое содержание, а есть сознание
восприятия в акте самого восприятия. Лишний ли это акт в мире
или нелишний? Вот, о чем идет речь, и что должно быть предметом исследования сознания в том случае, если это специфическое
исследование, а не дублирование, скажем, физиологического, физического и т.д. Оказывается, что такого рода акты, являющиеся
событиями в мире, имеют отношение к тому, что можно назвать
процессами структурации. Или к явлению так называемых
генеративных структур в мире, которые, наподобие резонансов,
внутри себя порождают какие-то эффекты, а не являются отражением мира. Актуальная бесконечность трансцензуса, определенная лишь в смысле феноменально полного и вездесущего “я
есть, я могу”. Пока мы рассматриваем сознание как отражение
мира, ‘сознание’’ - лишний термин, и мы не должны его вводить.
А когда можем показать, что есть некоторые изображения,
внутри себя рождающие что-то, что не породилось бы, если бы
не было изображения, тогда мы говорим о сознании. Скажем,
картина создается не для того - возьмем для примера натюрморт
Сезанна, - чтобы изобразить яблоки, а для того, чтобы в пространстве натюрморта породить, увидеть в мире яблок то, чего нельзя
увидеть и что не породаяось бы без этой конструкции. В этом
смысле натюрморт ‘‘яблоки” не есть изображение яблок, а есть
генеративная структура, имеющая отношение к нашим способностям зрения и видения: мы видам этими яблоками. Видим нечто,
что не видели бы без этих приставок к нашему зрению. Но не наоборот; ибо ничто в яблоках не говорит о том, что видат сознание.
220 доклады. с&счЯьи, шинелью
[Ср. с понятием театра. Или. как мы не видим мира “Гамлета”:
этот мир и есть образ (функция сознания породила орган и структурацию)]. Это внутренний символический аппарат понимания.
Иными словами, сознание есть такое пространство, в котором работают некоторые приставки к нашим естественным
возможностям, способностям зрения. В этом смысле структуры
сегрегируют мысль, как печень. Наши естественные возможности зрения исследуются физиологами, а то, что мы видам
посредством такого рода артефактов (первичное и правильное
отношение к трансцендентальному объекту) исследуется некоторой воображаемой областью, называемой исследованием сознания (или должно было бы исследоваться в этой области).
И это имеет решающее отношение в том числе и к эффектам,
проявляющимся в социальной жизни. В данном случае я сказал,
что есть некоторые эффекты нашего зрения, нашего видения
того, что необъяснимо, если мы не выделили сознательную
структуру, в которой эти эффекты порождаются. И, следовательно, сознательная структура есть то, посредством чего эффект
порождается, - можно дать такое определение. Замечу мимоходом. что сознательные структуры всегда связаны с предметной
организацией определенного рода. Это организация особого
рода вещей, которые являются материальными и в то же время
понимательными, т.е. такими, которые самой же материальной
структурой, ее расположением являются репрезентациями
понимания того, что они изображают. Натюрморт Сезанна есть
понимание или способ видеть яблоки, и в то же время это вполне
реальная, единичная вещь. Живописное качество, текстура. Или,
скажем, пространство рисунка, когда мы делаем чертеж, есть
реальное пространство движения нашей руки. Не физическое
пространство, а пространство нашего опыта и нашего понимания, мысли. К тому же есть и метасимволы этих символических
вещей, этой мысли мысли, этих органов бокового зрения.
Так вот, такого рода сознательные структуры, оказывается,
действуют и в социальных событиях. Например, мы можем говорить - в отличие от обычной традиционной психологии, которая
наделяет человека качествами (человек "честен”, “искренней”
или, наоборот, “нечестен”, “неискренней” и т.д., ведь именно в
таких терминах мы мыслим), - что жизнь человеческая устроена
так, что та же честность вовсе не есть качество, присущее людям,
а является продуктом структурации нашей психической материи
и чувств. И в этом смысле честность есть искусство. То есть продукт действия артикулированной структуры, а не наших намерений или побуждении (вспомним, что по определению формы мы
должны иметь дело лишь с реализованным намерением, побуждением, порывом). Это давно известный эффект: мало чего-то
О сознании
22!
хотеть - хотение ведь просто “кисель”, - поскольку то, что мы
наблюдаем как качества, должно быть произведено какой-то
структурацией. Структурацией в данном случае психологической материи, но в равной степени это относится и к социальной
материи. Например, известно, что справедливость порождается
написанным законом, а не стремлением людей к справедливости.
Лишь структурацией юридического тела порождаются юридические
события определенного рода, к ним не придти путем моралистики.
Поэтому и справедливый суд появляется не путем воспитания
хороших судей, а в результате такого сочетания структур и порождаемых ими сил, которые нейтрализуют неминуемые склонности
человека к ошибкам, интересам, удовольствиям или изживанию,
acting-out, как выражаются англичане, личных комплексов и т.д.
Точно так же. как психологическое различение ума и глупости
может быть введено по этому же принципу структурации, т.е.
через сознательные структуры, а именно - глупость это то, что
мы думаем сами по себе, спонтанно, а ум - это то, что порождается в нас структурой на ее собственных основаниях.
Значит, когда мы говорим о сознательных структурах, мы
говорим о структурах, которые не существуют природным образом. В том смысле, что они не присущи нам как природным
существам; они возникают не логически и психологически (т.е.
не из наших намерений и психического материала), а на основе
естественного процесса, в области которого как раз и должен
быть исследован феномен сознания или сознательных, символических структур, имеющих отношение к возникновению эффектов, которые мы постфактум наблюдаем в мире. Следовательно,
если мы устраним понятие сознательных структур, то никак не
сможем объяснить (да и просто различить) их существование или
случание в мире - так же, как никогда не сможем объяснить факт
человеческих взбрыкиваний - проявлений человеческой свобода.
Поскольку свобода тоже не только наше желание быть свободным. Свобода - это структурированный горизонт, и есть
масса людей, которые даже не знают, что такое свобода. Я имею
в виду не в практическом, прагматическом смысле слова, а просто есть вещи, которые мы даже представить себе не можем. А
что мы не можем представить? Почему? - что мы, глупые, что ли?
Да нет. потому что нет этой структурации. И поэтому свобода
для нас прежде всего “представление" себя в области реальных
возможностей, когда я не могу допустить такой мир, в котором
меня не было бы в качестве носителя этих возможностей. То есть
опять это некоторый ненатуральный, не сам по себе данный мир,
а особый мир. И он открывается нам только тогда, когда мы
хоть что-то знаем о сознании. Мы входим в него с употреблени¬
222 Ъокиафя, аОшНьи. шаИе/г£ьх>
ем термина “сознание’'. И если входим, тогда лишь осмысленно
употребление этого термина.
Тем самым я хочу сказать, что с первичными структурами
как раз и связано то, что я назвал ограничениями, накладываемыми на наши возможности объяснения и описания. Есть
вещи, которые, повторяю, мы не можем объяснить, и с которыми
мы можем иметь дело, лишь максимально ясно их представив и
приняв как данные, т.е. поняв. Известно, например, что в науке
(не в науке по отношению к миру, а в самой науке, в ее внутренней организации) есть определенного рода понятия - Эйнштейн
называл их свободными конструкциями, - относительно которых мы не можем построить непрерывную цепочку; непрерывным и однозначным образом перейти от эмпирически
проверяемого материала к тому, как мы его понятнът образом
видим (если, конечно, мы об этом призадумаемся). Так же и в
социальной области нет перехода от наблюдаемых действий к
стоящим за ними развитостям (которые эти действия объясняли
бы). Они объясняли бы поведение, но... Мы не можем от эмпирических фактов, объясняемых теоретическими понятиями, непрерывно перейти к этим же понятиям, которыми они объясняются,
т.е. вывести их чисто логическим путем. Минимум-трансцензуеу
нельзя научиться на опыте, нельзя его узнать из опыта. И
поэтому теоретические понятия мы вынуждены рассматривать в
качестве свободных конструкций.
Так вот, дело в том, что в человеческой психике, человеческой культуре, человеческой истории масса такого рода образований. Скажем, идею бесконечности мы не можем вывести ни
из какой конечной совокупности человеческого опыта. Не можем
этого сделать по определению, так как не можем представить
такой опыт, который породил бы, обусловливая наше сознание,
идею бесконечности. Последняя может казаться иллюзией, раз
она есть в сознании, но, возможно, более значим сам факт, что
она есть в нашем сознании? Или - никакая конечная совокупность опыта не объясняет в человеческом сознании идею Бога.
Она может быть иллюзией, но она есть. Откуда? То есть я обращаю сейчас внимание не на содержание, не на “что”, а на
“откуда?" Что порождает? И то же самое относится к идее гражданственности, общественного договора.
Хорошо, вот появилось в голове понятие, объясняющее
конечную совокупно^' опыта. Когда “понятое" и “объясняет”:
объясняет в эфире понимания. Так что здесь нет проблемы
(возникающей у Гумбольдта) “понимания’' и “объяснения”, или
она есть и в физике, в любой теории. Короче, я утверждаю, что
из самой конечной совокупности опыта понятие вывести нельзя.
Но оно появилось и объясняет. Оно должно быть, есть этот
О еогмашш
223
опыт. Хотя когда он есть, по его частям нельзя заключить о
понятии. Следовательно, специфические феномены сознания в
своем первичном виде прежде всего и являются такого рода
событиями, ниоткуда не выводимыми. Мы их должны просто
принять как данность, т.е. онтологически. Они есть, и мы должны
вглядеться в их природу и продумать до конца вытекающие из
этого последствия. Ибо здесь нет полной индукции. Даже в философии, в математике и т.д. возникают такие парадоксы. Хотя я
не берусь судщъ окончательно о математической стороне дела,
моей грамотности здесь недостаточно, но я могу сказать как философ лишь одно: мы вводим понятие потенциальной бесконечности на фоне актуальной бесконечности - феноменологической
полноты, феноменологической бесконечности, а не реальной.
Так как всякое личностное поведение предполагает актуальную
бесконечность. Трансцендентальное ведь - это бесконечная форма всякой актуальности. Поэтому философ не утверждает, что
есть и реально пройден и завершен бесконечный ряд предметов.
Нет, в этих случаях он скажет: “сознание”, “феноменологическая
полнота” (феноменально полно, а реально, конечно, нет, мы не
можем реально пройти бесконечность) и т.д. Вот в этих пунктах
мы и имеем дело с неустранимым феноменом сознания. То есть
опять же я пытаюсь выявить те случаи, когда действительно
нужно употреблять этот термин. А когда сознание сводится к его
содержанию, тогда, естественно, не нужно дублировать его
содержание. Зачем? - вполне можно обойтись и без него.
Более того, когда мы имеем дело с такого рода неустрани-
мостыо, лишь тогда мы и отдаем себе отчет в том, что эти неустранимые, несводимые феномены, не растворимые ни в какой
конечной совокупности опыта, ни в каком конечном ряду предметов, содержат в себе своего род а бесконечные объекты, имеющие
особое конструктивное значение для человеческого существа. (“Бесконечные” в смысле неопределенности и неограниченности.) Итак,
соотнесенность человеческого существа с такого рода бесконечными объектами откладывает на стороне человека некие конструктивные эффекты. Или я могу сказать так: соотношение человека
с такого рода бесконечными объектами является своеобразной
матрицей, на которой выковываются определенного рода состояния, реально наблюдаемые в человеческом существе. Они называются часто “высшими состояниями” или “высшими функциями”
- скажем, этическими. Причем и социальные или общественные
состояния мы также не можем себе представить без этих матриц.
В том смысле, что реальные социальные образования тоже являются
вторичными по отношению к ним; мы должны фиксировать их в
области сознания (со всеми теми оговорками, которые я вводил)
и уже из них объяснять первые. То есть быть способными зако-
224 2)оклади, аЯеиКш, иш&фёыо
несообразно и интеллектуально проницаемым образом, понима-
тельно связно и в одном логически гомогенном пространстве
увидеть эти реальности, а не брать их в виде “кучи сора”.
Почему мы должны так делать? Потому что мы понимаем
теперь, что все реальные социальные структуры являются случайными, частными. Мы никогда не поймем их вариации, если не
будем выходить к каким-то первичным, онтологическим структурам. Ведь интуитивно все мы принадлежим к человеческому
роду, хотя и воюем друг с другом. Все человеческие племена
всегда воевали друг с другом, поскольку все они социально разным
образом устроены. Но война происходит внутри поля интуиции
принадлежности к единому человеческому роду: с чужими ж
воюют, воюют только со своими. В чем же основа этой интуиции?
Ведь если бы ее не было, то люди не пытались бы установить
мир. Почему, собственно, воевать плохо? Или чем плохо ритуальное
людоедство? То есть я хочу сказать, что разум не содержится
аналитически в самом факте разума. И поэтому высказывания типа
“этот мир не может больше так продолжаться” (беспредметное
страдание, из-за которого начинает впадать в религиозное
переживание всякий человек), по меньшей мере, двусмысленно. И
тем не менее, тех, с кем мы хотим установить мир, мы признаем в
качестве человеческих существ, считаем их себе подобными, -
иначе мы вообще не разговаривали бы с ними (не вели с ними
выматывающий нас “внутренний диалог” в смысле Пруста).
Тем самым, еще раз я хочу подчеркнуть следующее: есть
вариабельность социальных структур, вариабельность культур и
одновременно некий первичный фон или фонд, к которому мы
можем выходить лишь путем аналитического употребления
термина “сознание”. Это некое пространство или тигель человечества, в котором совершаются какие-то события, по отношению
к которым реальные эмпирические социальные и культурные
структуры являются лишь конкретизациями, вариациями, знаковыми культурными образованиями и т.д. Но если мы оставим
только последние, т.е. только конкретные, эмпирические, частные (а они всегда частные - нет культуры вообще, общества
вообще), то не поймем ничего в человеческой истории, в
культурных и социальных формах (которые всегда конкретны).
Таким образом, можно сделать вывод, что сознание само
есть генеративная структура. И такие феномены, как “совесть” и
т.п., возникают в пространстве бесконечных объектов, того, что
дано, но мы не знаем откуда. Так как упомянутые свободные
конструкции мы не можем разложить, свести к некоторой конечной совокупности данных, так же как не можем вывести идею
Бога (где значим факт ее существования, а не предмет в эмпирическом мире проверяемых смыслов из воздействий внешнего
О сознании
225
мира на человеческую психику) ни из какого-то страха, невежества (неоткуда в человеческой голове появиться всему этому, нет
такой конечной совокупности обстоятельств), не можем вывести
эти бесконечные объекты. Мы можем лишь принять их как
такие, факт существования которых в человеческом сознании
есть проявление действия их же самих. То есть что-то утверждаемое в мире (вне нас) и утверждение его есть действие этого же
утверждаемого в нас или через нас. Откуда они? - Я и утверждаю, что есть некоторые ограничения: мы никогда этого не узнаем. Но они выделяют нас в качестве человеческих существ на фоне
обезьян, гор, собак с ассоциациями (т.е. ваших павловских).
Человек ведь в этом смысле похож на павловскую собаку, но
из известного анекдота. Я сказал, что люди взбрыкивают. Так
вот, в известном анекдоте взбрыкивает-то собака, но анекдот
сочинен как раз людьми и именно о тех, кто слишком много
по-павловски извне знает. Вы помните, что собака в анекдоте
говорит другой собаке: по-моему, условные рефлексы все-таки
существуют, а та спрашивает: почему ты так думаешь? - А вот
посмотри, сейчас прозвучит звонок и этот кретин в белом халате
принесет нам завтрак...
Повторяю, все проблемы, применительно к которым мы
можем считать осмысленным употребление термина “сознание”,
относятся к внутреннему элементу, который нужно определять
через бесконечные объекты и невидимое. Так как внешнее
наблюдение не может дать о сознании никакого представления.
Его нужно знать - независимо от наблюдения. Или дополнительно к наблюдению. Лишь в этом случае можно осмысленно
говорить, что война безнравственна. В противном случае мы
напоминали бы зрителей в театре, смотрящих на сцену, и, казалось бы, все понимающих - кроме того, что можно понять, лишь
зная, что люд и играют в театр.
Теперь последнее утверждение. Значит, моя мысль сводилась
к тому, что мы должны говорить о сознании в том случае, если
неотмыслимые от него явления есть реальные объективные и
несводимые события в мире. То есть такие, которые мы действительно можем отличить (согласно лейбницевскому принципу
неразличимого) и которые не являются калькой, дубликатом
каких-либо других, физических. Например, сознательные явления, о которых я говорил, явно отличаются тем, что они индави-
дуируют себя (в отличие от физических событий). Они,
во-первых, индивидуируют себя - индивид есть единственная
данная бесконечность - и во-вторых, экранируют себя. Когда л
говорил о том, что есть первичные структуры и есть вторичные,
которые наслаиваются на первые, то я фактически сказал, что в
несводимом пространстве происходит наслоение одной структуры
226
2)оклафл, ойа/йьи, шиКврвью
на другую - так, что для нас именно наслоенные структуры
представляют экран, на который проецируются другие, и на
котором событие само себя представляет и тем самым выделяет
себя в мире. И для наблюдателя возникает проблема, как пройти
этот экран. С физическими событиями у нас такой проблемы не
возникает. “Внешнее” и “внутреннее” физического события не
отличаются друг от друга в виде экрана и того, что им экранировано (или на нем), а сознание представляет собой выделяющий
экран. И вопрос состоит в том, случаются ли такие события в
мире? Такие структурации имеют ли место? Итак, во-первых,
есть структурации, и во-вторых, есть, так сказать, многострук-
турации, наслоение структур друг на друга, их упаковка.
Таким образом, реальное событие может быть описано не в
психологических терминах. То есть нечто относящееся к сознанию
и в то же время описываемое без обращения к психологическим,
неконтролируемым нами, терминам. Можно описывать процессы
упаковки - например, в психоанализе совершенно четко описывается процесс упаковки значений (как активная семиотическая
деятельность, а не пассивное отражение). Он описывается в физических реальных вещах, т.е. в телесных симптомах. Можно показать,
как в телесной топографии упаковываются и структурируются
смыслы посредством телесных расположений. И одновременно
события реальной психической жизни субъекта могут быть
представлены как случаи распаковки такого рода упакованных
смыслов. Например, такое событие сознательной жизни, как
интуиция, оказывается случаем распаковки из упакованного в
ходе исторической биографии субъекта. Такого рода терминологическое описание и есть контролируемое описание. Вед ь я ничего при этом не сказал ни об “уме", ни о “глупости”, ни “понял”,
ни ^е понял”, “подумал”, как не высказывал и догадок о том,
что сообразил или не сообразил субъект, - все эти термины
'•понимания” относятся к нашему метаязыку1. Значит, я могу это
1 Они - метасимволы предметов (“частей”) сознания, которые лишь символически
содержат нечто, что само по себе немыслимо, непереживаемо и т.д. эмпирическим,
человеческим сознанием. Символы на перекресте двоичносги ума (и не могут быть
предметом созерцания или переживания). Нечто может происходить только в метасмысле, а не в смысле переживания, вообще не в смысле. Это и есть высвобождение из переживаний и, следовательно, выполняет конститутивную роль в процессе
(человеческих) переживаний.
метаобъекты
4-
объект -> сознание (представление),
“объектный язык”.
Наваху у нас свертки и развертки. Что и есть выворачивание. В метасмысле такие
объекты (бесконечные) всегда в единственном числе - жизнь, сознание, чеспь и т.п.
О сознании
227
описывать эмпирически, но сами термины описания оказываются
при этом уже вне рамок традиционного различения тела и души,
материального и духовного, среды и тела, внешнего и внутреннего.
Отсюда: (1) структурацией вынуто из последовательности
(вместо “зависимого возникновения” - свободно становящаяся
последовательность). Вместо множеств - метаобъекты.
(2) Возможен принцип относительности и освобождение от
субъективизма. С одной стороны, почему все эти различия и
драмы в сознании? - ведь ничего нет, кроме обусловливания - но
именно тогда есть безусловное (видим безусловно1), что, кстати,
нарушает неана лизируем ость реальности “души’’, хотя
"безусловный синтез” есть противоречащее себе понятие - получаем “войну идей” (ср. Лейбниц), что является странным результатом именно редукционизм а и скрытого предположения
аналитичности (т.е. не только “natural fallacy”, но и “analytical
fallacy'’); к тому же, и допущение сознания противоречит себе: если
только данное (обусловливающее), то никогда нельзя узнать
ничего большего, чем данное, т.е. неизвестного и нового (в
полном противоречии с активностью сознания), и все кончается
сплошной смертью и безразличием, индифференцией мертвой
материи. С другой стороны, в смысле освобождения от субъективизма: структурные, неиндивидуальные (в смысле: не из индивидуальной истории и опыта) эффекты, метапсихизмы “бессознательного” , неосознаваемое, операции, не имеющие субъекта и т.п.,
все, что не считалось сознанием (в этом отношении объективна
только метафизика сознания) - зафиксированные в метасимво-
В смысле конститутивной роли для возможности человеческих переживаний
нужно, следовательно, говорить также о паузе понимания своего собственного
символического элемента (мысль мысли, понимание мыслью самой себя). Эта пауза
- акт реальной философии. Вокруг ядра невозможностей - немыслимостей, непере*
живаемосгей и т.п. Ср. с “непроходимым лесом1* (к тому же с предустроениыми ловушками) в случаях вырожденных систем (где выпадают или не выполняются
предварительные внутренние условия, конструирования и т.п., в целом - предварительное понимание жизни сознания). В нормальном случае вследствие необходимой лредупорядоченности сознания (которую приходится фиксировать в
метасознательном смысле, ибо в ней невозможно разделить само сознание - оно
есть сознание предметов - и его понимание, негэнтропшо жизни сознания) источники и принципы сгрук1ураций мы не можем определить без сознания, а в биологии
- без “ума” (скажем, проблема “узнавания” в молекулярной биологии) и
“телеологии” или теленомии. Объективна лишь метафизика сознания (она же
физическая или символистская), метафизика символического сознания. Связь с нею
позитивных явлений и вопросов.
(Более поздняя вставка. Судя по стилистике и тезисной форме изложения последующего материала, конец доклада представляет собой дополнительное уточнение
и развитие его основной идеи. - Прим. ред.)
• Кроме того, полное внешнее объяснение (социологическое, психологическое,
невралогичсское и т.п.) представления не оставило Ьы никакой причины считать
«го истинным.
228 2)оклвир*, ша&фвыо
лах, которые позволяют развернуть функцию сознания и ее
пространство, с его “органами”, “состояниями” и пр. аргументами. Например, "Бог во мне” вовсе не представление, как,
кстати, и добро. И наши “развитости” (символически обозначенные “я мыслю”, “я существую”, “я могу”) - отнюдь не представления: скажем, “честь” в извлеченной структуре и честь как
предаетное психическое состояние (уеУейе), или значение
“гражданин” - быть им (различительно) попадают в “среду
непрерывного становления”, где интересно сопоставить общечеловеческое (не общее) с принципиальной непрозрачностью
всякого исторического акта. Ибо случай “для гражданских
законов нужно, чтобы был гражданин” очень важен для так
называемой внутренней, воображаемой истории. Подобные
различения могут появишься лишь метасознательно перед лицом
универсального Наблюдателя. Неизбежная двойственность
терминов. Как и о добре нельзя иметь отдельной от него идеи
(зеркало вечности?). Или: что же мы видам? - наш глаз там
(неанализируемое, мир различия). Вот тебе и “невидимое”!
Значит, невозможно отвлечь понятие глаза (в том же самом
смысле, в каком нельзя иметь идезо добра, отдельную от него
самого), т.е. нельзя отвлечь его в мыслимое содержание, идеально независимое от его реальности, существования. Сознание
как “мир различия* и рождает феномены и артефакты (как их
материю). Отсюда предварительное понимание жизни сознания
как целого и тл. И здесь же обнаруживаем, что содержательные
(информативные) понятия не могут противоречить себе или
предмету, но могут видимо противоречить субъективному
условию (размерности)1.
1 “Итак, по крайней мере трансцендентальная (субъективная) реальность чистых
понятой разума основывается на том, что необходимое умозаключение разума
приводит нас к таким идеям” (Канг, !, 221). “Противоречит субъективному
условию**, значит, противоречит тому действительно мыслящему, без которого нет
объекта.
Классический и неклассический
идеал рациональности*
Состояние, в котором я нахожусь, как всякий тбилисец, в эти дни из-за события, связанного, как вам,
видимо, известно, с попыткой угона молодыми
людьми самолета, не может не отразиться на собранности моего
изложения. Поэтому заранее прошу прощения...
Принцип и идеал рациональности, ее, так сказать, понятие,
связаны с определением сознания, его космологическими
свойствами, и наоборот - экспликация этого в физике и особенно в некоторых неклассических вариантах ее развития может
бросить определенный свет на возможности естественно-
исторического описания явлений сознания в обществе, в истории
и в человеческой реальности. Иными словами, из того, что я
сказал, я думаю, понятно, что ноя задача состоит в том, чтобы,
исходя из некоторых свойств и понятия рациональности, в науке
употребляемого, попытаться очертить способ описания сознательных явлений, который не предполагал бы ссылок на неуловимые инстанции внутреннего наблюдения или на неуловимую
человеческую психологию.
Что лежит в основе того, как мы рационально можем определить наши способы описания мира и наши понятия? Первое,
что в этой связи несомненно бросается в глаза - это то, что в
основе всякой возможности опытного и теоретического описания лежит факт, независимо и неизвестно откуда данный, который я назову фактом сообщенности в феномене сознания. То
есть те состояния наблюдения, которым мы приписываем какое-
либо опытное значение, в тот же момент, в момент приписывания нами им этого значения, даны множественно - в массе пунктов. Они все осознаны и в осознании сообщены одно с другим.
Вы знаете, что всякий опыт предполагает сразу же свое воспроизводство в нескольких точках наблюдения. Мы не можем ухватить никакого опыта, который не был бы воспроизведет сразу
по многим точкам наблюдения. И между этими точками или
состояниями наблюдения, или состояниями опытного испытания
мира сознание сообщено - в феномене сознания опытные содержания сообщены. Это всегда второй шаг, который предполагает
множественность и повторение. Вне повторения явления в
воспроизводстве (а воспроизводство означает сообщенность, как
я сказал) нет никакого опыта, и мы ничего не можем говорить о
1 Доклад на II Всесоюзной школе по проблеме сознания, ноябрь 1983 г. (Тбилиси).
Публикуется впервые
230 2)о*лафн, аЯтЯьи, интф&ю
мире. Но если мы можем говорить о нем только при условии
воспроизводства состояния опыта и наблюдения, то тем самым
ничего не можем сказать о мире на первом «о шаге.
То, что я сейчас говорю, очень старая философская истина
(правда, довольно эзотерическая и часто ее не заметают) - о ней
говорил в свое время Лейбниц. Он говорил, что Бог создал определенный мир не тогда, когда Он создал правую руку, а определил
мир тогда, когда после создания правой руки создал левую руку.
И тем самым мир определился. Тот мир, в котором есть рука, которой мы приписываем свойство правого или левого. Ну, дальше
Лейбниц рассуждал о том, что эти свойства не имеют значения -
различие правого и левого, - что пространство однородно и т.д.,
но это уже другой вопрос, я его сейчас пока касаться не буду.
Тем самым ясно, конечно, что сообщенносгъ является первичным фактом человеческого интеллекта. Что существует некоторое
преобразование, связывающее пространственно-временные координаты двух и более систем отсчета, и таким образом мы имеем
возможность преобразовывать наблюдение в одной точке в
наблюдение в другой точке - воспроизводить их, что то же
самое. То есть воспроизводство и сообщенносгъ предполагают
некоторое пространство преобразований. И мы можем замещать
наблюдения, произведенные одним наблюдателем, наблюдениями, произведенными другим наблюдателем, который, по определению, находится в другой точке.
Более подробно я на этом останавливаться не буду, потому
что у меня есть еще другие вещи, которые я должен ввести.
Значит, вторым первичным фактом, который бросается в
глаза, является двоичностъ человеческого интеллекта - любое
определение чего-либо как опыта сразу расположено на двух
уровнях, оно двойственно. То есть то, что мы говорим о мире,
определено, с о дней стороны, судьбами говоримого в пространстве
преобразований, или в топосе, а с другой стороны, предполагает
наличие каких-то физических и далее не разложимых свойств у
самих предмете® наблюдения. Но то, что определится в содержании
наблюдения, не может быть описано как полученное из натурального воздействия предмета на нашу психику и сознание, именно
в силу двоичности. Потому что мы определяем, глядя из топоса,
и одновременно, глядя из некоторых изначальных первичных
различимостей. Попытаюсь пояснить этот последний момент.
Уже давно было установлено, в частности, Платон это показывал (и Кант в более ясном виде), что в нашем сознании
действуют некоторые первичные чувственные и в то же время
идеальные, или интеллектуальные различимости мира, которые
не имеют референтов. То есть вне самих себя не отсылают ни к
чему другому. Ими являются первичные пространственно¬
231
временные единичности. Кант назвал их идеальными априорными
формами пространства и времени, что ввод ит обычно комментаторов в заблуждение, поскольку они склонны при этом понимать
данные термины чисто ментально, а речь шла о другом. Кант
имел в виду, что познающее существо есть физическое существо,
и для того, чтобы познавать мир, оно должно быть в него
физически включено, и, только будучи включенным, обладает
такими вот естественными приспособлениями. Приспособлениями, которые, кстати, Декарт раньше Канта называл естественной геометрией. То есть естественная геометрия есть некоторое
предусловие и предпосылка нашего познания; под геометрией
здесь имеется в виду не геометрическое понятие пространства, а
само пространство. Особый род его - условно скажем, некоторые
пространственно-временные существа, которые испьпывают
что-то и одновременно свидетельствуют о понимании испытываемого. И это понимание далее неразложимо. Оно само о себе
говорит. Его не нужно объяснять ничем другим. Скажем, элементарная эвклидова ориентация или так называемое эвклидово
твердое тело дня Канта было непосредственным знанием о мире
и одновременно физическим явлением.
Так вот, человеческий интеллект расположен сразу в
утверждении чего-то о мире двойственно. В том, что я назвал
топосом, или пространством преобразований, и в этих физических различимостях. И тогда происходит различение информации. Или извлечение опыта. Мы же от этого факта отгорожены
нашей предметной картиной мира, и если не произведем феноменологическую редукцию или феноменологическую абстракцию,
то не увидан, что опыт и извлечение опыта - две совершенно
разные вещи. Это хорошо видно, между прочим, не только в
физике, но и в самой человеческой реальности. Скажем, из-за того,
что мы не производим феноменологическую абстракцию, мы не
понимаем некоторых обстоятельств русской истории. Например,
на уровне языка нам дано описание того, что в России всегда
имела место оппозиция существующему режиму. Я имею в виду
оппозиционные чувства, они эмпирически наблюдаются, и
поэтому мы можем констатировать путем исследования и
сравнения, что это явление действительно случалось в русской
истории; та. зная, что такое оппозиция, наблюдая и сопоставляя
это явление с состоянием людей определенного времени, мы
думаем, что так и происходило. Но дело в том, что на самом деле
такого опыта в России не было. Ибо опыт оппозиции никогда
по-настоящему не был извлечен, ведь он может быть извлечен
только в структуре, иначе кисельные состояния оппозиционных
настроений, будучи не структурированными, обречены повто-
232 Зокми/ы., ctSnifMi, шиЯл^ыо
ряться с дурной бесконечностью, уходить в бесконечность. Так
как же мы можем это понял», если уже так поняли?
Очень просто, отличив предметный язык, в котором есть определенные термины, от него же самого, проделав феноменологическую редукцию в разрезе - извлечен этот опыт или нет. То есть содержание опыта, повторяю, и факт извлеченносга содержания опыта -
разные вещи. И с точки зрения введенного постулата двоичности
человеческого интеллекта (как первичного факта) это мне кажется
очень важным обстоятельством. Почему важным? Потому что из
факта двоичности совершенно явно вытекает принцип, который я
назову принципом неопределенности мира. Я его попытаюсь сейчас
разъяснить вместе с понятием феномена или феноменальности.
Возьмем, к примеру, фонему - явление человеческого языка -
и попытаемся вывести ее из звука. Оказывается, во всяком случае
об этом свидетельствует опыт лингвистических исследований,
что по отношению к фонеме физические качества звуков не
определены. Имея фонему, мы не можем получить ее в языке из
действия на наше сознание, слуховое восприятие - звука. Факт
существования фонемы - это классический пример д воичности,
поскольку то, что стало фонемой, есть результат доопределения
звука. Я сейчас уже другой термин употребляю. Доопределилось
и в пространстве преобразований, т.е. со стороны топоса, и со
стороны первичных физических различимостей. Точно также как
и в случае, например, оптических объектов. Любое физиологическое исследование вам покажет, что при изучении человеческого
зрения мы доходам до пункта, когда не можем приписать
(вывести) определенность того, что видится именно этот, а не
другой предмет из того, что мы в предметной картине мира знаем
его таковым и можем, следовательно, проследить его действие на
человеческий глаз. Где-то нам приходится останавливаться и
ввод ить доопредеденность со ссылкой на что? - на процессы,
происходящие в уме, которые мы тоже не знаем как выявить.
Причем то, что я сейчас перечисляю - это ведь не знания, которые
есть где-то в психологии или в философии. Это проблема. Но
пока я просто говорю о фактах, которые несомненно свидетельствуют об этих проблемах.
Говоря о двоичности человеческого интеллекта, я тем самым
говорю о том, что существуют какие-то акты, которые доопределяют мир, и лишь после этого полагаю, что в мире есть объекты,
отражением которых являются звуки или фонемы, или видение
предметов в моей голове. Следовательно, если мы ввели два принципа, д ва первичных факта (сообщенность в феномене сознания,
мгновенную сообщенность по полю содержания опыта и двоич-
ностъ), то теперь явно наталкиваемся па факт некоторой динамики или движения, до которого не имеем определенности мира.
¿»^7 1 ^д^ьд л^${*£и 233
То есть до того, как возник феномен, в случае, например,
фонемы, в пространстве двоичноста человеческого интеллекта
на уровне элемента языка (в предположении какого-то движения
испытующих существ, сознательных и чувствующих в мире), мы
не можем говорить о мире в терминах порождения им каких-
либо состояний сознания и психики. Ведь ясно, что феномен
звука не есть ощущение звука. Или скажем так: феномен звука
есть материя языка, но это не ощущение звука. Я уже пытался
показать, что по отношению к фонеме натуральные качества звука не определены так, чтобы мы могли получить из них фонему.
Оказывается, работа в языке является лишь предпосылкой того,
чтобы могло так определиться и потом мы могли в физических
звуках слышать фонемы. Мы их слышим, но не потому, что они
определены натуральными качествами звука.
Так вот, чтобы случился этот акт (а он случается только в
уже определившемся мире), должны быть выполнены те вещ, о
которых я говорил. Но беда в том, что если это все случается,
т.е., если есть сообщенносгъ. если есть двоичность и движение,
при которых доопределяется мир. то такого рода доопределения
минимальны. Ниже мы не можем опуститься. Повторяю, сказать:
мы в мире - означает, что ниже этого опуститься невозможно,
т.е. посмотреть на него со стороны мы не можем.
И это же означает тогда, что если в мире совершаются
какие-то акты, события, состояния, которые мы можем описать,
то они совершаются в таком мире (раз мы сказали, что нечто
самим миром допущено, чтобы оно могло произойти в нем), где
существует некое предпонимание или первопонимание, и оно же
является существенным элементом самих физических событ^,
которые мы можем описать. Подчеркиваю, которые мы мохеи
описать. Вот, скажем, несомненно, что в области психологт и
социологии явление, которое мы описываем термином “честь”,
явно предполагает именно такую предупорядоченность ип
предпонимание мира, иначе происходящее вообще не может
быть описано и понято в терминах чести. Хотя психологически,
в нашем предметном языке мы привыкли рассуждать о том, что
человек честен или нечестен. Однако если мы остаемся в рамках
предметного языка, то ничего не сможем понять. То есть
существуют некие подготавливающие, если угодно, акты мира.
Если они есть, тогда осмысленно его описание в тех или иных
терминах, чтобы быть понятым. Учитывая, что понятность
всегда предполагает некоторую грубость и откровенность.
И точно так же могут быть, например, доправовые состояния, которые бессмысленно описывать в терминах права,
поскольку сами акты не являются наглядным предметным
234 2)окм1фя. аЯшКш, шиКфёш
элементом права, а относятся к разряду явлений, названных
мной предупорядоченным миром или первопониманием.
Следовательно, если мы все это допустили, то уже не можем
описывать мир так, что мы его делим на мир и сознание, отражающее мир. Поскольку мы можем описывать только явления
человеческой реальности или явления, включающие в себя элемент сознания, неотъемлемый от них (скажем, всякие социальные
действия неотъемлемы от сознания), с учетом континуума нераздельных характеристик бытия и сознания, где совмещены и всегда нераздельны и совместно употребляются различения бытия-
сознания. То есть тем самым я постулирую некоторую неразде-
лимостъ этих характеристик. Она, кстати, неразрывно связана с
постулатом минимальности, который я ввел, что ниже чего-то
опуститься нельзя. Меньше быть не может, в том числе и меньше
предупорядоченности мира, его доопределения. Скажем, ниже
доопределения звука так, чтобы могла быть слышна фонема,
опуститься в объяснительной процедуре того, как возникают
наши языковые реакции, языковое понимание, мы не можем. Это
постулат, в силу которого определяется выбор материала, как
нам объяснять так называемое языковое отражение в сопоставлении с действительностью. Если мы не ввели континуум “бытие-
сознание”, то не можем сопоставлять, а если сопоставляем,
никогда не поймем. Повторяю, физические качества звука не
достаточно определены, чтобы их действием на нас мы могли
действительно что-нибудь понимать в языковых явлениях. Как и
то, что мы видим глазом, не достаточно определено (если определение вводится со стороны предметной картины мира), чтобы
мы могли вообще понимать то, как мы видим, и анализировать
психологию зрения и сознательные зрительные образы.
Говоря об этом, я снова возвращаю вас к утверждению, что
включенность сознания в описуемые физические последовательности явлений элементарно, т.е. далее неразложимо. Возьмем не
прямо связанное с этим рассуждение - просто в качестве иллюстрации, которая, может быть, позволит нам как-то нагляднее
это понять.
Ну, скажем, я могу спросить себя, задать себе следующий
вопрос: зачем я? То есть поставить перед нашими актами жизни
и сознания вопрос об их экономической целесообразности в
составе мироздания. Зачем они в космосе? Вот, например, я вижу
вас. Зачем этот акт в мире? В котором, даже если я вас не буду
видеть, закрою глаза, уйду, все остается на месте, ничего не
изменится. Зачем же это так совершается? Кому это нужно?
Обычно говорят, что это так называемые эпифеноменальные
акты и т.д. Есть масса такого рода ответов на этот вопрос. Но
ответы эти возможны только потому, что сам вопрос не задан в
235
действительности. А когда он задан, то ответ на него не так
прост. И более того, продумывание возможного ответа как раз и
приводит нас к тому, что ны должны ввести определенные
свойства сознания, о которых я скажу дальше, - ввести его как
некоторый космологический принцип. И вот сейчас я простой
проблемой попытаюсь проткнуть видимость отсутствия здесь
вопроса. Особенно в нашем, так сказать, материалистическом
мировоззрении, когда мы знаем, что материя не зависит от
сознания, и вы, например, не зависите от того, что я на вас смотрю. Я же сказал, что акт моего смотрения - лишний в мире, и
утверждаю, что ни на каком уровне анализа его нельзя обратно
ввести в мир, впихнуть его - мир упорно выпихивает такого
рода акты. Они лишние в экономике мироздания и никакой
силой обратно в мир поместить их мы не можем. Но тем не менее
проблема существует, и сейчас вы увидите каким образом.
Выше я говорил о пространстве преобразований. Напомню,
что пространство преобразований - это разбросанность, множественность или множественная данность содержаний опыта в
различных точках, которые связаны между собой преобразованиями. Так вот, в это пространство можно ввести классическую
абстракцию, согласно которой связуемость преобразований задается в предположении, что изменение постоянно. То есть наше
изменение обладает таким постоянством, что хотя и не можем со
всех точек наблюдения мгновенно получшь информацию, но тем
не менее она дойдет до нас, полученная в разных точках и в разное
время. Обычно в картине познания это выступает таким образом:
я сегодня познаю что-то, завтра познает еще кто-то, и эти знания соединяются. В том числе и в этой нашей идиотской, на мой
взгляд, картине ассимптотического приближения относительных
истин к абсолютной. Как если бы, имея единицу, мы ее так поделили, что получили нуль в каждой точке, где я сейчас познаю, и
познаю так, что мое познание имеет смысл только при условии
сложения. Вот здесь и возникает вопрос: хорошо, если это так, то
что же я сейчас понял? (Это действительно трудно ухватить, но
не потому, что я сомневаюсь в ваших способностях.) Короче, если
познание суммируется таким вот образом по точкам во времени
бесконечного приближения к некоторому уже существующему в
себе состоянию мира, чтобы дать его картину (а мы присутствуем
в каждый данный момент), то как оценить, что же мы поняли?
Если только завтра дойдет смысл того, что я понял сейчас. Тогда,
что это было? Что это за акт и в каком смысле о нем можно
говорить, что он случился? Ни на одном языке физического
описания нельзя сказать о том, что он случился. Здесь наши так
называемые ощущения, состояния опыта и тд. и ставят перед
нами очень сложную проблему, особенно, если посмотреть на нее
236 2оклае/м, аЯсиОш, иыЯфбыо
глазами физики или глазами некоторого понятая рациональности. То есть я опять возвращаю вас к вопросу “зачем я?” Это
была просто иллюстрация к моему риторическому вопросу.
А теперь пойдем немножко дальше, чтобы выяснить наши
возможности описания сознательных явлений, если посмотреть
на них с точки зрения требований и критериев рационального
понимания. Когда я говорил о двоичности интеллекта и о том,
что существует пространство преобразований, то уже сказал, что
по отношению к нему возможна классическая абстракция постоянства изменений опыта, или того, что я узнаю со временем, что
знания можно складывать, суммировать и тд. Сам факт, что
наш интеллект существует одновременно в некотором топосе, а
не только в натуральном содержании событий, свидетельствует о
том, что в качестве предмете» наших рациональных высказываний мы допускаем только такие события, которые закончены и
завершены, и о которых можно с определенностью сказать, что
опыт относительно них случился. Имел место. Например,
известно, что одной из самых больших сложностей в квантовой
физике Бор считал тот факт, что на уровне макроскопического
языка, в котором мы описываем инструменты или приборы опыта, мы должны брать явления как законченные и завершенные. И
Бор в этом видел трудность относительно наших суждений об
объектах теории - не о событиях в приборах, а об объектах
теории. Но сейчас я пока от этой сложности отвлекаюсь, а просто указываю на сам этот факт, на осознание физиком того, что
мы высказываемся о чем-то только при условии, что то, о чем мы
высказываемся, завершилось. Случилось. И тем самым система
отсчета, которая строится в пространстве преобразований,
предполагается выключенной из взаимодействия с миром. Она
не зависит от мира.
Очевидно, вы помните, что Кант уже проделал подобную
работу применительно к ньютоновской физике, когда показывал,
что построение объективного опыта предполагает (или содержит
в себе) одно допущение, а именно, что все взаимодействия в мире
в этот момент продействовали, сработали, и прошлое дано в
точке в завершенном виде.
Таким образом, эта точка, условно говоря, “инициальна”,
потому что я ведь не о физике говорю непосредственно, а о
каких-то других вещах, но пользуюсь в данном случае аналогией.
То есть она выключена из взаимодействий. Повторяю, если мы в
самом фундамента нашего опыта имеем включенность сознания
(и притом элементарную), то на уровне нашего теоретического
знания о мире имеем дело с выключенным сознанием, или таким
топосом, который отключен от взаимодействия с миром. Те тела,
которые вошли в систему отсчета, дальше с миром не взаимодей¬
237
ствуют. Но тут интересно - я опять пойду путем сопоставления,
- что проблема взаимодействия все равно возникает. Она возникает несколькими путями, и я о них хочу как раз сказать и на
этом завершить. Но этим я не хочу сказать, что это будет
последняя фраза - завершать тоже можно долго.
Начну прежде всего с указания на один простой факт. Когда
мы в сообщенности содержания опыта в феномене сознания преобразуем или связываем преобразования точек разных наблюдателей,
то в классической физике пред полагаем некое совершенство таких
преобразований, что сами они не требуют времени, и мы можем
предположить их выполненными. Кстати, на прездоложение о
выполненности физики натолкнулись, когда оказалось, что
понятие одновременности нельзя просто допускать или ввод ить
постулатом, а его нужно ввести так, что сначала необходимо
подумать о том, как реально оно может бьпь выполнено
(реально или мысленно, но выполнено).
Значит, пока меня интересует только од ин факт, что сами
преобразования, которые хотя и предполагаются осуществившимися, в действительности не мгновенны. То есть, они сами в
свою очередь не только не мгновенны, но еще есть и некий акт -
эмпирическое событие. Они должны иметь место, случиться.
Реально. Между прочим, операционализм в философии и физике
именно поэтому имел такой значительный успех, что он фактически указал на этот вопрос, который мы должны постоянно
задавать: как можно это сделать? И за этим, конечно, таилось
глубокое сознание некоторого ограничения, налагаемого на нас
конечностью человеческого существа и всех операций, которые
оно может выполнить. Следовательно, когда пытаются определить одновременность в физике, важно не только то, что нужно
дать ответ на этот вопрос (оказывается, в ряде ситуаций мы
вообще не можем этого сделать, хотя сам этот факт тоже является
эмпирическим), но и не забывать, что названные преобразования
являются эмпирическим событием, эмпирическим актом, который
вход ит в состав того самого мира, который мы пытаемся описать.
СЬ* тоже является событием мира и, будучи таковым, должен допускаться его законами. И вот здесь я упомянул слово “конечность”
и хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство.
Мы говорили, что в классической картине мира, в классической рациональности исходят из того, что преобразования или
связь по взаимным преобразованиям различных точек наблюдения предполагает суммацию знаний и некоторое движение по
этому суммированию. И при этом вводится еще абстракция
некоторого сверхмощного гипотетического божественного интеллекта, которому причастен человек, получающий тем самым право
на некий предельный переход, на допустимость охвата такого
238 дбкмиря. аОа/Ош, шивфкИо
количества точек наблюдения, которое на самом деле невозможно, но на пределе эта операция допустима. Она допустима в том
числе и потому, что мы не обращаем внимания на эмпирическую
сторону самого акта преобразования, что это действие не мгновенное. и главное - не обращаем внимание на конечность. То
есть, когда мы так суммируем наблюдения, то кажется, в общем,
что люди, как бы взаимодополняясь, ориентируются в пределе
на Бога, потому что Бог и есть предельное понятие человеческого взаимодополнения. Так вот, взаимодополняясь, люди
якобы могут все это охватить. Не сейчас, так завтра, не завтра,
так послезавтра. И все, что в этом пространстве охвата, будто
бы осмысленно как раз по законам и логике такого движения. А
конечность означает очень простую вещь, что всегда в каждый
данный момент, или для каждого данного момента (или состояния опыта) есть другая точка, к которой никогда нельзя придти
продолжением этого опыта. Такого рода ситу ации мы тысячекратно (осознавая это или не осознавая) испытываем в своей
жизни. Мы наблюдаем это и в литературе, и в обществе - где
угодно. Вот то, что я выразил таким идиотским образом, что для
каждого взятого в данный момент состояния, опыта, наблюдения
и т.д. есть всегда другая точка, к которой нельзя придти и подключить нечто путем простого продолжения. Не случайно, скажем,
в медитативной литературе и в философской традиции (к сожалению, это воспринимается часто как экзотика, не имеющая отношения к нашим будничным состояниям и делам, к повседневности, и потому мешающая видеть суть дела) вводился такой термин, который называется “преобразованием себя", или вторым
рождением, перевоссозданием. То есть имелось в виду, что
существует какой-то дополнительный акт, состоящий в полном
изменении, в случае моего примера, личности, и являющийся
условием того, что можно продвинуться дальше. Или, скажем,
вы знаете, что часто ваше знание об одной и той же вещи, которую знаю я, нельзя соединить с моим знанием. И наоборот, мое
знание нельзя соединить с вашим. Следовательно, есть какие-то
ограничения. Ограничения, конечно, связанные или вытекающие
из нашей человеческой конечности.
Итак, когда мы говорим об этом ограничении, об этом запрете, который я попытался ввести, то всегда есть что-то, к чему
нельзя придти простым суммированием и продолжением нашего
опыта. И здесь есть еще одно очень важное обстоятельство. Я
возвращаюсь к теме взаимодействия. В отличие от классической
картины, где явления предполагаются законченными и завершенными и поэтому сами акты и пространство построения
картины о них как бы вынуты из взаимодействий, - все это в
сопоставлении с опытом гуманитарных и психологических наук
и (ир+т [мн$1Ф{*паън<№Йн 239
выявляет следующую вещь, которая обратной реакцией обнаруживается тогда и в физике. А именно, что во взаимодействиях
предметы меняются непрерывно таким образом, что мы вообще
не можем получить аналитическую картину этих предметов. Если помните, Пуанкаре в свое время показывал это на знаменитой
проблеме трех тел. Я же, отвлекаясь от нее, хочу лишь подчеркнуть, во-первых, что аналитическая картина оказывается при
этом чудовищно трудной или невозможной, как, например, в
случае аналитической задачи в небесной механике по проблеме
трех тел (я сейчас отвлекаюсь от нелинейных форм решения этой
задачи и т.д.), и, во-вторых, там, где мы имеем дело с аналитически невозможными решениями, как раз потому что предмет
непрерывно меняется, мы не можем проводить операцию отождествления и говорить, что он “тот же самый” (как иногда не
можем сказать теперь и об электроне, что он тот же самый в
другом месте пространства). Итак, обращаю ваше внимание на
такую вещь. На интересное обстоятельство, которое выступает
из сопоставления со всем этим на то, что мы называем живыми
формами. Дело в том, что то, что не решимо аналитически, решается прекрасно самим фактом существования в космосе живых форм.
Напомню одно афористическое высказывание Поля Валери. Он
говорил, что есть наука простых явлений и есть искусство сложных
явлений. Давайте повернем это и поставим слово “искусство” на
место невозможной науки, но с оговоркой, что искусство здесь
не просто пришлепка какая-то к мечтательным состояниям
нашего ума и чувства, не игрушка для развлечения. Нет, я имею в
виду в данном случае некую разрешающую форму, делающую то,
чего не может сделать никакое аналитическое построение.
Так вот, не вторгается ли факт существования живых форм
и их возможности в мире именно в эту точку, где обнаруживаются
такие свойства энергетических и физических взаимодействий в
мире? Не в этой ли точке мы должны вообще искать включение и
жизни и сознания в физическую картину мира? То есть такую
картину, которая прекратила бы скандал допущения двух разнородных вещей, совершенно не гомогенных, а именно - существование физики, с одной стороны, а с другой - жизни и сознания,
которые мы никак не можем соединить в од ном исследовании.
Тем самым, сказав о разрешающей силе жизненных форм, я
возвращаюсь ко второй стороне двоичности.
Я уже говорил, что вторая сторона двоичности интеллекта -
это некоторые первичные и независимые физические различимости, которые есть различение предмета и в то же время понимание этого различения. Его не нужно дальше в свою очередь
объяснять. Греки называли это, кстати, интеллигибельной материей. Эта таинственная тема, правда, она там и повисла, не
240 доклофя, aSaiSm, имЯфвыо
получив подобающей разработки, но она существует. И я могу
воспользоваться этом термином (греки были вообще мастера на
выдумывание пластичных и точных, емких терминов). Значит -
интеллигибельная материя. Нечто материальное и в то же время
понимательное, не нужно еще понимать. В частности, так
говорил Платон о пространстве, и именно эта скрытая в толщах
историко-философской традиции тема потом была подхвачена
Кантом и развита в его эстетике. То, что я называю второй стороной двоичноста, у Канта развивается в виде теории эстезиса.
То есть он считал, что мы понимаем только такой мир, в котором
можем физически совершить акт, называемый эстезисом; мы эсте-
зисно включены в этот мир и тогда то, что мы теоретически о
нем выдумываем, можем понимать и разрешать на этих включениях. На эстезисе. Повторяю, физическая сторона двоичности
есть то, на чем разрешаются наши утверждения, получая статус
опытных утверждений о мире. Именно в этом смысле я говорю о
разрешающей силе жизненных форм, в том числе об искусстве
как жизненной форме. Ведь она не есть просто физический факт.
Живая форма не является физическим фактом и поэтому обладает разрешающей силой. То есть на ней получают опытный смысл
и опытную значимость картина мира или теоретические утверждения о мире. Уже у Канта то, что он называл пространством и
временем (или единичностями) - это были фактически своего рода некоторые, так сказать, живые существа. Если под существом
не понимать нечто, что мы отождествляем с дискретно выделенной наглядной единицей человеческого тела.
Дело в том, что опыт физической рациональности, продуманный вот таким образом, как я сейчас пытался показать, ставит вообще под вопрос законность такого различения. На каком
основании мы привязываем единицу сознательной жизни (если
вообще таковая существует) к ее носителю, т.е. к наблюдаемому
нами, дискретно выделенному физическому телу, совпадающему
с моим и с вашим? Мы ведь автоматически считаем, что раз выделаю тело, то оно имеет единицу’, ну. скажем, пользуясь старым
термином - души. А так ли это? Платон, например, так не считал. И в том, почему он так не считал, я сейчас совершенно от*
влекаюсь от теории метемпсихоза и т.д. Не потому, что это
плохая теория, а потому что это просто метафора некоторых
свойств сознательной жизни. Вы знаете, что метафора - это не
буквальное утверждение. Ведь сторонники метемпсихоза не
утверждали, что душа переселяется в другое место пространства
и времени и в другое тело. Отнюдь. Это был способ символического описания того, что действительно свойственно нашей
сознательной жизни. Так вот, Платон говорил, беря аналогию
социальную (хотя присутствующие биологи, я думаю, тоже со-
Классический и мкиамшмсий идеал (ии^мнмыюаЯи 241
гласятся с Платоном и со иной, как цитирующим его), он приводил следующий пример. Что подобно тому, как в полисе должно
быть заданное и ограниченное число очагов (т.е. некоторое
постоянное и небольшое число, чтобы полис не распался;
насколько я знаю, в живых системах тоже наблюдается некий
период, когда переход порога сложности приводит к разрушению системы, подобная аналогия уместна, но не важно, вернемся
к метафизике), так и существует заданное и конечное число душ,
потому что если бы это было не так и каждый раз рождалась
новая душа, то был бы хаос и распад. Вот над этим, что “был бы
хаос и распад”, я считаю, и стоит подумать, именно там причина
появления метафоры. Во всяком случае, когда Платон говорил
об “ограниченном числе душ”, то он не имел в виду “душу” в
смысле присутствия ее в каждом человеческом теле.
То есть из того, что было сказано о взаимодействиях, вытекают две вещи. Первое, что явно - я лишь одну оговорку сделаю:
вот то пространство преобразования, о котором я говорил,
когда описывал его в терминах классики, хотя оно, конечно, не
только классике присуще, т.е. классической физике, или классической рациональности, - там предполагается, что оно, связывая
разные точки, осуществляется по цепи прямого каузального,
макроскопического опыта, на основе сознанием и волей контролируемых знаково-логических определений. То есть знание в
этом случае выступает как форма общения или сообщенности
(при этом я прошу из слова “общение” устранить оттенки социальности, хотя в глубине человеческого устройства то, о чем я
говорю, разумеется, связано и будет потом выступать в виде и
социального общения, поскольку метафизика лежит в основе
всех человеческих явлений).
Значит, первое - в названном пространстве передача знания
совершается путем наглядных, знаково-предметных сообщений.
Здесь в каждой точке передаваемая информация воссоздается
средствами знаково-предметных или логических определений. А
когда идет речь о том, что я назвал взаимодействием, то предполагается другой способ общения. Что знание и состояние сознания передаются в данном случае какими-то другими путями, ибо
они в более фундаментальном смысле множественно расположены, и, следовательно, есть определенный континуум понимания,
о котором можно судить, в частности, и по эффектам нашей
сознательной жизни. Несомненно, например, что если я понял,
то потому, что уже понимал. То есть, когда знание приходит ко
мне, и я должен его воссоздать, то, с точки зрения термина понимания, выявляется один парадокс, чтс я пойму его, если уже
понимал. Скажем, сейчас историки физики находят все больше
фактов, иллюстрирующих и раскрывающих как раз этот пара-
242
доке на qraiqie явления атомного распада. Кажется, в прошлом
году был коллоквиум физиков в Париже, где обсуждалась эта
тема, и там приводились факты по поводу атомного распада,
которые наблюдались, начиная с Ферми, во многих экспериментах. Так вот интересно, что у этих историков звучит одна нота,
которую я перевел бы так (это уже в моем изложении). Представьте, что перед нами экран, на котором проецируется физический эксперимент, картина атомного распада, когда у нас нет
причин подумать, что это именно атомный распад. А если есть
причина, добавлю я, то уже подумало. Попробуем понять это.
Повторяю, мы не видим, что это атомный распад, нет причины.
А если есть причина, то уже подумано. Понимаете, подуманное
рождает причину того, чтобы подумать это. Это ведь несомненно. Так же как до Гамлета нет мира, в котором Гамлет. То есть
нет того мира, интеллигибельностыо которого является фигура
или образ Гамлета. Если бы я знал этот мир, - это еще Бергсон
говорил, - то я бы написал “Гамлета”. Так я задаю вопрос: как
же описать существование таких состояний понимания? Как они
передаются, каким образом, будучи вот здесь у меня, они оказываются в другой точке? Ведь там не происход ило контролируемой волей и сознанием их передачи путем знаково-логических
определений и предметных конструкций в другую точку. Какие
же могут быть единицы у такого рода форм или видов существования сознания? Вспомните снова Платежа и его рассуждение о
душе. И я добавлю к нему еще блестящее рассуждение Фурье,
которое я часто привожу, потому что оно, так сказать, красиво и
неожиданно своей парадоксальностью. Фурье названную дилемму излагал примерно так: это предрассудок, когда одаривают
единицу человеческого тела ед иницей души. В действительности,
чтобы получить ед иницу души, нужно иметь 1420 ннд вввдов. На
эту его цифровую причуду, на нее можно не обращать внимания,
может быть и меньше, и потом, вообще, стоит ли убиваться из-за
цифр, почему именно 1420? Ведь обычно люди любят ровные
цифры, а здесь вот так. (Причем это у него варьировалось,
бывало и 1640, по-моему, в его выклад ках.) Но дело в том, что он
раскладывал пространство общения по аттракциям желаний и
не случайно выводил такого рода цифры. Однако, повторяю,
конкретная цифра не имеет значения, так же, как, я уверен, и в
случае скорости света, что она именно 300 тыс. км в секунду, а
имеет значение, что она есть и является предельной.
И вот в связи с этими вещами и нам приходится ставить
вопросы, углубляющие само понятие рациональности. Значит, я
говорил, о взаимодействиях и поверну сейчас это немножко с
другой стороны, и на этом, по-моему, должен кончить, да?..
Кмеамемш и /шиагеишжш идеал /ищианальнб&Ои 243
- Сколько хотите.
- Да нет, это невозможно, как сказал ной приятель однажды, Саша Пятигорский, наблюдая сборище умных людей-
семиотиков; все мы были тогда приблатненные, резвились весело
в шестидесятые годы, семиотики собирались в Тарту на летнюю
школу, и не помню, кажется делали совместный доклад, читал
его Сегал, но это был общий доклад - Сегала и Сенокосова - о
ритуале. И вот час прошел, полтора часа, два часа, уже никто
ничего не понимал, как это возможно, и следующим вышел Саша,
- а это очень большого роста мужчина, на голову выше меня,
экзотический такой, восточного вида еврей, т.е. не европейского
типа, с большими глазами, причем косыми, один глаз смотрит в
Париж, а другой в Ереван или в Тибет, - и громогласно (у него
хорошо поставленный голос) сказал: “Я буду говорить пять
минут, потому что нельзя ведь говорить бесконечно...”
Так вот, последний пассаж о взаимодействиях и о проблеме
непрерывности. Дело в том, что если мы думаем о таких вещах (в
плане того, что некоторые вещи, которые мы предполагали идеально осуществленными, в действительности, должны быть сами
фактом мира, в смысле их извлеченности), - это бросает очень
странный свет (в связи с непрерывным изменением предметов
при взаимодействии) на нашу способность вообще мыслить
непрерывность. Оказывается, и это самое труд ное, что там, где
нашему мышлению удается ухватить непрерывность, оно примитивно континуально по сравнению с тем, каким должно было бы
быть. И, кстати, это очень хорошо чувствовал Толстой - по-
моему, весь нерв его философских рассуждений в “Воине и мире”
как раз и свидетельствует о том, что мы не можем ухватить
непрерывность. Не можем ее мыслить. Тогда как по сравнению с
нашей неспособностью мыслить непрерывно сама история или
сам ее процесс непрерывен. В каком смысле? В том, что мы -
существа во времени - должны делать сейчас то, что может
придти только со временем. И пока это придет, скажем, нужное
Б, мы теряем нужное А. Это и есть круг взаимодействий - роковой круг, мы его даже наблюдать не можем, в том смысле, в каком нельзя воспринимать время. В связи с нашей конечностью, о
которой я говорил. Ведь здесь непрерывностью оказывается то, к
чему ничего нельзя добавить, она в каждый данный момент
больше всего, т.е. в этом определении бесконечно (если под бесконечностью не понимать нечто, что все время где-то добавляется).
Итак, к этому ничего нельзя добавить или что-то из этого
вынуть. И мы в этой ситуации, в этом круговороте вращаемся, в
том числе и в знании. “Синтаксис молнии”, как выражался
французский поэт Сен-Жон Перс. Разумеется, это немножко
244 2)окМ1фл, пКмКыг, шиКфвш
абсурдно - к молнии применять термин “синтаксис”. И тем не
косее, у нее есть-таки синтаксис в том смысле, что мы оказываемся в знаке под молнией, который нельзя превратить в долгое
и ровное солнце по всему кругу взаимодействий, и должны
извлечь информацию. Только мы, никто нам в этом не поможет.
В этот момент мы не можем позаимствовать опыт из другого
пространства и времени. Именно эта конечные ограничения
лежат в фундаменте нашей сознательной жизни и на поверхности наших психологических возможностей. Возможностей
нашего социального действия, наших возможностей построения
теорий, в том числе в физике, в биологии и т.д.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос о кантовском понимании сознания...
- Ну, я попытаюсь ответить на вопрос в той мере, в какой я
его понял. То, о чем я говорил, действительно, исключает применение термина “формирование”, потому что если это концепция
кантовская, значит я согласен с Кантом. Но вы не думайте, что
это очень страшное нечто. Короче, когда я говорил о
“космологическом принципе”, там выступает для меня такая
картина. Что все упаковано, а то, что мы воспринимаем как
историю, есть распаковка этого упакованного, и поэтому о
формировании сознания я не могу говорить. Так же, как физик
не мог бы говорить о формировании вселенной, если придерживался теории первичного взрыва. То есть, чтобы взорваться, там
должна быть большая плотность. Причем такая, что доказать
это было бы равнозначно тому, чтобы построить теорию. Я же
этого сделать не моту. Так что ваш вопрос вше кажется осмысленным, но именно потому, что сказанное мной действительно
исключает возможность термина “формирование сознания”.
- Вы так легко и свободно ввели два термина “простое” и
“сложное”. Сказали, что решения бывают очень сложные, бывают простые,
искусство сложных и т.д. А как философски вы могли бы пояснить, что
такое вообще сложность и простота?
- Понимаете, Марк, - простите, что я вас так называю, я
привык употреблять имя без отчества по грузинской привычке, -
поскольку я говорил об этом, сейчас у меня просто нет сил ответить
на ваш вопрос. Я поясню только. Говоря об аналитических решениях, я имею в виду невозможность аналитического решения проблемы, ибо она бесконечно сложная по тем уравнениям, которые
классический и нжмгссичеекий идеал ¡ии^нальмопи 245
приходится решать, По элементам уравнений, их бесконечное число,
поэтому аналитически она неразрешима, вот что я имея в виду.
- То есть не в силу технических трудностей, а в силу того, что
решение сложнее, чем сам мир.
- Да, может быть. И потом я ограничился указанием на тот
факт, что вообще-то неизвестно, что такое жизненная форма.
Ведь мы не можем в свою очередь объяснить жизненную форму.
Мы можем указать лишь, что она решает фактом своего существования и действия то, что своим умом мы не можем придумать и развернуть ни в какое решение. Пожалуйста, попробуйте,
замените своим умом даже простейший жизненный акт - вот что
я имел в виду. Не получится. Значит, встать на место того, что
совершится жизнью, умом своим мы не можем. Правда, в XX
веке, особенно в России, пытаются это делать с печальными для
всех последствиями.
(Чья-то чуть слышная реплика: а как же насчет Евангелия тогда?)
- Мераб Константинович, у меня такой вопрос: о пределах познаваемости мира. Вы приводили пример стремя телами и говорили о невозможности аналитического решения этой задачи. Но, по-моему, разные
вещи - невозможность аналитического решения и принципиальная невозможность решения задачи как таковой. Дело в том, что с такой же проблемой мы столкнулись при моделировании нейронных структур. Мы
тоже взяли сложную систему, описали ее сложными уравнениями - я сам
математик - мы моделировали поведение 256 нейронов и каждый нейрон описывался 5 нелинейными уравнениями, и задача оказалась крайне
сложной. Аналитически она принципиально не решается. Но мы ее, немножко напрягшись, решили на ЭВМ. Поэтому, хотя она аналитически
не решима, мы знаем ее решение. Я могу показать это вещественно. В
пределах точности ЭВМ. Если ЭВМ будут с другой степенью точности,
мы повысим точность. Принципиально можем повысить точность...
- Понятно. Я ведь тоже говорил о том, что решение может
быть, но само оно непонятно. Короче, я выражу свою мысль так.
Решение - это нечто, что тоже есть. Есть жизненная форма,
которая решает. А вот объяснить саму жизненную форму мы не
можем. Именно это я имел в виду.
- Реплика: ну, ради этого мы и собрались, между прочим...
- Да, правильно, в том числе и для этого, чтобы кто-то
сказал, что вот этого сделать нельзя. Я утверждаю снова, что
актом ума нельзя стать на место жизненного акта. Никто меня
246 Восходы, ЫииЯьи, ин&фвыо
не убедит и через сто лет, если я буду жив, конечно, что это возможно. Слава Богу, мир так устроен. И, кстати говоря, я вообще
бы не хотел жить в мире, в котором можно было бы акты ума -
нет, нет, я другое хочу сказать, потому что то, о чем я говорю,
тоже своего рода понимание, но понимание того, что не надо
понимать, не нужно понимать вместо былинки, это Кант еще
знал, что сделать то, что делает былинка, вместо нее, это... Так
вот, я не хотел бы жить в мире, где люди решили, что это можно
сделать. Тем более, что во многом уже на такой мир похож тот, в
котором я живу, а я не хочу в нем жить.
- Вы говорили о способах понимания определенной ситуации, где
такие вещи выступают как ценности, связанные, скажем, с проведением
физических экспериментов. Мы ведь физические эксперименты проводим, руководствуясь определенными ценностями, что-то ищем. А не
просто. Значит, здесь немедленно возникает проблема ценностей. Поскольку если они у нас уже есть, то выходит, что ценность неприменима.
Можно ли говорить о их неприменимости? II другой вопрос, связанный
с эволюцией сознания. Если нам все ценности даны сразу, изначально,
то, значит, никаких новых ценностей образоваться не может. Но тогда
сознание не эволюционирует. Но вроде бы, вообще-то, новые ценности
образуются и какая-то эволюция имеет место. Правильно ли я понял,
что вы считаете, что это не так?
- Да, правильно поняли. Я считаю, что это не так. Эволюция в данном случае мне представляется просто видимым нами
эффектом какого-то, ну, глобального пространства пространств,
где что-то происходит. И этот глобальный эффект и расценивается нами как эволюция. А если призадуматься, то неужели вы
сможете доказать, что, скажем, честь, совесть и другие ценности
не соприродны феномену человека? А если они соприродны, то
можно ли говорить об их эволюции? Вы можете говорить об
эволюции людей...
- А почему они соприродны? - вот что непонятно.
- Я сказал, что соприродны, а раз так и сам этот факт интересен и из него вытекает много последствий, то, конечно, я
должен согласиться, что ценности эволюционируют в том смысле слова, что люди приобщаются к ним и тем самым развиваются. Но я не могу сказать об эволюции самих ценностей.
- Но ведь в разных культурах ценности разные.
Классический и нтассический идеал /ииуонаммаби 247
- Разумеется, но если совершился какой-то акт, в том числе
акт познания, и допустим, он совершился две тысячи или пять
тысяч лет тому назад, то в нем есть все, что вообще может бьпъ в
связи с этим актом. И ничего здесь не сделаешь. Например, ты
думаешь что-то, а потом упираешься в “железную задницу”
Аристотеля и оказывается, что он уже это знал. Простите меня
за выражение.
- То есть, если я правильно вас понял - соприродно понятие чести,
но содержание может бьпъ...
- Нет, соприродно феномену человека. Вот, если мы можем
констатировать: человек есть лицо, вычерченное в космосе, то
ведь интуитивно мы не ошибаемся - это человек, говорим, а это
не человек, а это вот стол и т.д.
- И содержание может быть разным.
- Я не знаю, что в данном случае есть содержание.
- Все упорядочено - это что в том смысле, что каждое образование
тем не менее становится непонятным, если заранее все упорядочено, а
как же новое?
- Простите, Ирина, а я не говорил, что “все заранее”,
наоборот, я сказал, что акты упорядочивания сами есть части
упорядочения мира, и поэтому невозможен предданный порядок.
Просто я это специально не оттенял, потому что мне казалось,
что у меня другие задачи. Значит, во-первых, я считаю, что акты
упорядочивания являются событиями в самом упорядоченном
мире, и поэтому я не мог разделять упорядоченность мира и
акты упорядочивания. И во-вторых, говорил не о том, что есть
предупорядоченность в том смысле, что все в порядке. Нет, есть
нечто именно потому, что нет порядка вне упорядочивания, и
потому возникают ситуации, в которых этих актов не было, и
тогда мы не можем описывать их в терминах порядка. В том
числе в терминах законе®.
- А вот то, что образуется в виде нового, это обязательно зависит
от порядка?
- Ну, это неожиданно для меня. Странно. Может быть так,
не знаю. Не знаю.
248 Заклады, сййиЯаи, шийфвыо
- Председатель: Борис Митрофанович, вы хотели высказаться или
спросить?
- Может быть, это возражение - по поводу фонем. Мераб Константинович, вы говорили, что это автономная область, некое натуральное образование, описываемое в терминах акустических характеристик,
что фонемы мы можем понять лишь в ткани языка. Но, вообще-то,
можно сказать, как именно можно синтезировать разные фонемы, отличить Б от П или любую другую фонему в существующих языках.
Например, известно, что младенец уже в явно довербальный период, в
первую неделю жизни воспринимает фонему категориально, и границы
фонемной категории находятся именно там, что и у взрослого. Это первое. Второе. Бы говорили, что есть некая принципиальная дискретность
в области нашего осознания событий, что не позволяет ухватить их
непрерывность. Но, насколько я могу судить, скажем, по поводу
фантомности, вариативности психологического времени существуют и
другие точки зрения. Например, Джеймс доказывал непрерывность
психологического макровремени, так сказать, временную организацию
сознания, и я мог бы, правда, на это потребовалось бы время, рассказать об экспериментах, которые доказывают, что был скорее прав
Джеймс, а не Бергсон. То есть нет никакой дискретной фантомной
организации макровремени субъективно, а есть какие-то перцептив-
носги каких-то других психологических моментов.
- Понятно. Я с вашего разрешения отвечу только на второй
вопрос, потому что ответ на первый вопрос содержался у вас
самих; просто сейчас нет времени подумать. В силу спешки на
семинаре - вопрос, ответ и т.д. А если призадуматься, то я ведь о
таких вещах и говорил. Вы употребляли термины категория”,
“вариация” и т.д. Это именно то, о чем я пытался сказать. Более
того, я могу добавить, что когда случается вот то, что я назвал
“доопределенностью”, то потом любой вопрос является эмпирическим. То есть я имею в виду простую вещь. Есть такие события, после которых нечто становится эмпирией, и поэтому
возможно эмпирическое исследование, чтобы показать на опыте.
Кстати, это похоже, например, на то, что совершенно неправильно называют конвенциональностыо у Пуанкаре. В действительности он занимался как раз актами такого выбора мира, о
котором я пытался рассказать, и когда это сделал, то вопрос об
этом мире стал эмпирическим; его можно аргументировать так
же, как фонемы потом подтверждать с помощью эмпирических
исследований. При решении формообразования, воспитания,
обучения языку и т.д. Это все эмпирические вопросы. Просто по
ходу изложения я не сказал об этом. Но я собирался, кажется,
отвечать на второй вопрос, а ответил на первый.
и кд&м }шкр40Ш1Аьно&ти 249
Так вот, что касается непрерывности и д искретности, понимаете, я, наверное, плохо выразился. Ведь я отнюдь не имел в виду, что наше сознание дискретно, или поток сознания д искретен,
а мир непрерывен. Я имел в виду простую вещь, что мыслить
непрерывность очень трудно. Не непрерывно мыслить, я не задавался вопросом: как мы в действительности мыслим - непрерывно или дискретно - это другой вопрос. И сейчас я не хочу его
вводить. Я просто говорил, что непрерывность ставит перед нами трудную задачу, и под задачей имел в данном случае ситуацию, в которой мы как люди, как исследователи оказываемся. В
смысле ее трудности. Мыслить в терминах метафизики и морали
- это человеческий удел. Он - конечен, а задача его бесконечна.
Скажем, из общей формы закона никогда не выводимо его конкретное применение. Оно должно воссоздаваться постоянно.
Нельзя получить конкретный вид знания на основе применения
общего закона, содержащего это знание. В этом зазоре и состоит
человеческий удел, что мы раскорячены в такого рода невозможности. Если бы, например, мы знали, исходя из понимания
совести, что такое совестливый поступок, то все было бы прекрасно. Но на самом деле мы этого не знаем. Повторяю, из понятия “совесть” не выводимы никакие совестливые поступки, хотя,
когда они совершились, они понятию соответствуют. Я понятно
выразился? Когда они совершились, они соответствуют понятию, но совершиться путем приложения закона они не могут.
- Председатель: Мераб, можно вас попросить повторить рассуждение о передаче пониманий? Потому что мне что-то почудилось и я
боюсь и возразить, и согласиться, хотелось бы понять...
- Конечно, можно и много говорить, т.е. можно вдохновиться и много говорить об этом, эта тема, чарующая своей одновременно таинственностью и в то же время простотой
абсолютной. На это у меня просто нет сил. Поэтому я кратко
напомню, повторю, смысл того, что сказал.
Я хотел сказать, что для наших состояний понимания существует континуум, они даны континуально. И допущение самого этого факта объясняет что-то, а недопущение делает другие
вещи совершенно непонятными. Во всяком случае, все процессы
передачи знания, обучения, постижения истины абсолютно непонятны без допущения этого факта, хотя сам он парадоксален.
И я думаю, каждый человек, если призадумается, то вспомнит,
что после объяснения с кем-то, то, что называется пониманием,
если оно у него было, то потому что уже было, а если не было, то
сколько не объясняй, никогда не будет. Это мы знаем из опыта
наших ссор и конфликтов, не говоря уже о войнах между нациями,
250
jboKJtaqbt, afUufbu, шыНфАю
что если есть понимание - нет проблемы, а если есть проблема,
то никогд а не будет понимания. Это факт. Он как бы закод ирован в нас, и когда мы констатируем его. он ясен, но неизъясним
своей ясностью. Ну, вот ясно, по-моему, а почему это так - не
понятно, не знаю. Я не знаю.
- У вас в конце доклада прозвучала мысль о сверхсознании, которое есть, которое разворачивается. В каком смысле это легче, чем та позиция, которую вы критикуете? Ведь для того, чтобы что-то развернуть,
все равно нужны термины, понятия.
- Да, понимаю, я ведь сказал, что история - а это самое
сложное, что может быть, - и есть эта развертка.
- В каком смысле это проще? Почему не наоборот, разворачивание
терминов...
- Ну, в том смысле, что так понятно хоть кое-что в истории.
Например, понятен идеологический феномен, понятны человеческие страсти, вот с этим допущением. Понятно, почему некоторые страсти неразрешимы. А с другой точки зрения, скажем так,
двухмерной, рационалистической - не понятно. То есть это проще, на мой взгляд, в том смысле, что бросает какой-то свет на
вещи, иначе непонятные и ведущие к очередным недоразумениям. Когда нельзя сказать ни “да” ни “нет”. Язык не тот.
О возможном метаописании сознания«
ема моя чудовищно сложная и обширная, и я, естественно,
выберу максимально упрощенные нити изложения, не
стремясь ни к особой точности, поскольку она предполагает все-таки письменное изложение, ни к всеохватности. Частично с этой темой связана, конечно, и тема различения между
классическими ситуациями научного анализа и неклассическими.
Но она в данном случае будет для меня лишь побочным или
фоновым моментом.
Мне кажется, что проблема действительного описания
сознания, особого его метастатуса или метатеоретического
положения связана не с XX веком, не с современными исследова-
1 Доклад на VI Всесоюзной школ« по проблеме сознания» 29 октября 1987 г.
(г. Батуми). Публикуется впервые.
0 вбЗЛИЖМКМ
солмишл
251
ниями, а вообще с исходными представлениями человечества о
сознании, самыми начальными абстракциями и первичными
элементами формирования научного мышления. И поэтому если
мы строго различаем классическую и неклассическую науку, то
нужно сказать, что мета теоретическая постановка вопроса о
сознании фундаментально связана с сашш образованием того,
что мы называем классическим комплексом. То есть я хочу
сказать, что мета теоретическая проблема или проблема мета*
сознания не характеризует специфически неклассические подходы к научному мышлению.
Почему я это говорю? Потому что если прослед ить, как вводилась вообще абстракция субъекта в классической философии с
ее оппозицией "субъект-объект”, то мы ясно увидим одну
странную вещь. Что, начиная с платоновской теории идей и
кончая кантовской теорией трансцендентального сознания, сам
акт наблюдения мира или акт восприятия вводился как фундаментальный для построения физической науки, но с некоторыми
налагаемыми ограничениями и оговорками. И эти оговорки и
ограничения содержали сразу же - в самом акте - два уровня,
которые, к сожалению, не всегда различаются сегодня в том числе
и в эпистемологических теориях. Помечу, что они были связаны
с одной из основных метафор проблемы сознания, а именно - с
выделением, помимо человеческого наблюдателя, наблюдателя
внешнего, способного на некий глобальный охват всех тех точек,
которые человеческому наблюдателю доступны лишь локально,
в результате последовательного движения от одной точки к
другой. Их перебора в некотором последовательном движении,
которое и называлось временем. И, кстати, сам факт этого
фундаментального различия между внешним или глобальным
наблюдателем и наблюдателем человеческим уже присутствовал
в том, как употреблялся термин “восприятие” и у Декарта, и у
Канта, и у Платона. Можно даже с Платона это начинать.
Грубо я скажу вначале так, что классическим представлением о
сознании и, соответственно, о наблюдении вводилось радикальное отличие между тем, что можно сказать о нем со стороны, и
тем, что является наблюдением. Что я имею в виду?
Приведу пример. Скажем, я вижу этот стоящий передо мной
магнитофон - он наблюден. Но в философии, когда вводилась
абстракция сознательного наблюдения, делался упор на самой
возможности и праве сказать, что нечто воспринято, или наблюдено. Не просто, что внешний наблюдатель может сказать, что
такой-то субъект увидел предмет, а воспринят ли он в том смысле, что субъект, восприняв его. может идентифицировать это событие как свое восприятие. То есть разница была между
содержанием восприятия и фактом или событием, что это - свое
252 Зохиафя, аЯ&Иш, шоЯфёьк-
восприятие. Здесь фазу же заданы два уровня, которые должны
быть различены. Обычно при любом внешнем наблюдении или
анализе эта уровни стираются. Наблюденностъ отождествляется
с ее содержанием. Однако в философии фундаментальной считалась сама возможность отнести наблюдение к определенному
единству сознания, благодаря которому субъект может воспринятое оценивать и осознавать как свое, и тем самым только
тогда это есть действительное восприятие, а не то, что кто-то с
какой-то другой точки зрения мог бы считать восприятием,
наблюдая его содержания. Фактически это означало, что всегда
имеет место некоторое преобразование, установление соответствия некоего состояния своего ума и отражаемого им обстояния
дела, а для этого всегда необходима идентификация этого
состояния как состояния своего ума. То есть вводилась некая
возможность саыоотождествления персоны. Причем в случае
персоны не обязательна ее однозначная связка с индивидуально
выделенным физическим телом, наделенным сознанием, и называемым человеческим индивидом. В таком определении восприятия сразу же допускается некоторая необязательная “яйность”,
если иметь в виду именно психологическое “я'’ человека, очерченное рамками его физической и психической чувствительности. Мы ведь всегда идентифицируем себя на границах своего
тела и этим выделены' в мире. А вот названная абстракция
наблюдения не связывает себя однозначно с такой выделен-
ностью, и в этом смысле уже содержит имплицитно допуск особого тела, не совпадающего с наблюдаемыми телами. Напомню,
что все эти вещи перекрещивающиеся, сложные, и я не могу идти
по всем переплетениям, это невозможно в рамках доклада.
Значит, я фиксирую грубо этот пункт одновременного и
обязательного наличия двух уровней - не только уровня наблюденного содержания, но и того, где нечто только и может считаться действительным наблюдением. Иначе, как говорил Кант,
у нас было бы множество “я” и мы вообще не могли бы сказать,
что это восприятие “мое” - в том фундаментальном смысле, что
вообще не могли бы отличить мир от собственных сновидений.
Поскольку даже то. что имели, было бы меньше, чем сновидения.
И более того, было бы разновидностью духовного автомата, или
вождения. То есть, когда какое-то другое целое или какой-то
другой мир. или другое существо, скажем, божественное, водило
бы нами, подставляя в область или сферу нашего сознания некие
автоматические образования. То есть не мы играли бы представлениями, а представления играли бы нами. Какие представления?
Те, о которых я не могу сказать, что это мои представления,
которые я не мог бы сразу перевести на уровень некоторого
самотождества и длительности персоны.
0 .миНломлссшки
253
Подчеркну еще одну вещь. В таком слоеном, если -угодно,
подходе к простому казалось бы акту восприятия, когда не
достаточно просто внешнего суждения о содержании воспринятого, что акт “действительно воспринято” предполагает выполнение каких-то ограничений и связностей, - в такой слоеноста
содержится еще од но скрытое допущение. А именно, поскольку -
как я уже говорил - каждый раз имеет место преобразование, постольку само понятие начальных состояний или начальных данных (в том числе это можно экстраполировать и на физику)
предполагает, что нет чистых и нейтральных данных как таковых. Ибо любые данные, которые мы называем начальными, т.е.
независимыми от законов и в этом смысле случайными, произвольными, ток не менее содержат нечто, что можно назвать
испытуемой или экспериментируемой гипотезой, там имеет
место какая-то рекурренция. Или, другими слотами, определение
будущим состояния, заставаемого мной как прошлое и свершившееся. Повторяю, рекуррентное определение будущим состояния,
заставаемого мною как прошлое и случившееся.
Так вот, эта преобразованность (т.е. установление соответствия знаемого состояния своего ума и отражаемого им обстоя-
ния дела) предполагает, что если я знаю знание А, то я знаю
предмет А. И, наоборот, зная предмет А, я знаю себя знающим
А. И знание себя знающим А есть, конечно, условие знания А. И
здесь есть еще од но допущение, которое было выявлено со временем самими создателями этих абстракций. А именно, что факт
“воспринято или не воспринято” связан с каким-то знанием. В
философии это называют обычно онтологическим предзнанием
или некоторой предразличенностыо сознания, или предупорядо-
ченностыо по отношению к последующим актам. Или, можно
выразиться так: тот факт, что нечто действительно воспринято,
предполагает знание законов природы. То есть здесь предполагается, что если не знаешь чего-то, то можешь и не воспринять.
И, наоборот, сам факт, что что-то действительно воспринято,
предполагает, что нечто и понято. А если не понято, значит не
воспринято. Внешнее описание содержания в данном случае не
имеет никакого отношения к анализу сознания и восприятия.
Например, в романе Пруста “В поисках утраченного времени" описывается сцена, которую я люблю приводить своим слушателям, когда рассказываю о философии '‘утраченного времени” . Это сцена, когда герой романа наблюдает за танцующими
девушками. Перед ним событие, которое явно воспринимается
неким отражающим устройством. Но воспринимает ли он то,
что происходит, или не воспринимает? Учитывая, что восприятие при этом предполагает какое-то условие, которое должно
быть выполнено, чтобы можно было сказать, что обстояние дела
254 DoKMiqbi, ctSUuñbUt шийфбыо
воспринято. Что именно? Девушки танцуют, герой смотрит на
них и для него это, казалось бы, обычная конвенциональная сцена. Хотя, конечно, любому танцу мужчины с женщиной и женщины с женщиной свойственен какой-то эротический ореол. Это
несомненно. Так вот, я повторяю, Марсель видит обычную
конвенциональную сцену, но воспринимает ли он ее? Приведу
реплику, которую он вдруг слышит от стоящего рядом врача,
который тоже смотрит на танцующих девушек, совершенно не
вовлеченный в ситуацию, и произносит фразу, не задумываясь о
ее смысле, а наш наблюдающий герой вовлечен - ведь это его
Альбертина танцует со своей подругой. И эта фраза вдруг приобретает для него смысл. Врач говорит, - да, известно, что орган
эротического наслаждения у женщины - грудь (Марсель видит
соприкосновение грудей). И Пруст утверждает - не буквально,
конечно, а в моем пересказе, - что он не воспринимал происходящего, что не было акта восприятия, поскольку он не понимал.
А когда понял, то воспринял. Понял, что? Что на его глазах
происходит акт лесбийской любви или истории, связанный с
дальнейшим развитием событий в романе. То есть то, что
произошло, включилось тем самым в судьбоносные цепи бытия и
оказало затем свое обратное влияние на нашего героя. Он-то
смотрел и не видел, пока ему не дана была структура понимания
или предзнания - назовем это так. А когда совершился акт
восприятия, то оказалось, что танец - эпизод лесбийской любви,
а не просто конвенциональная сцена. Эпизод реальной истории.
Итак, мы определили саму значимость различения двух
уровней и одновременного держания этих деух уровней, чтобы
вообще иметь право употреблять термин ‘‘восприятие”. А теперь
небольшое отступление, чтобы потом снова, уже на другом
уровне, вернуться к нашей проблеме метатеоретического описания. Значит, зависимость воспринятое™ от некоторого знания
означает, что автоморфизм, связанный с осуществленностыо или
реализованностью акта восприятия (я говорил о преобразовании
состояний, а это одна из разновидностей автоморфизма)* есть
изменение своего состояния. Приведение себя в иное состояние,
чем я был до того момента, после которого можно считать, что
нечто воспринято. Я иной, чем был до этого. Эта фундаментальная импликация в самом факте зависимости восприятия от знания или от понимания. И теперь сделаем следующий шаг. А
именно - к чему применимо слово “есть” (т.е. бытийная характеристика), на самом деле глобально (всякое “есть” - глобально) и
воссоздает себя в некоторых трансформированных состояниях.
Таких, в которых я иной, и к которым человек (или я) не мог бы
придти простым продолжением и экстраполяцией имевшихся до
этого контролируемых возможностей и сил. Вот здесь у нас и
О возможном
гознанил
255
появляется некий элемент, несводимый к относительным расположениям вещей в пространстве и времени. То есть встает
вопрос: в каком же мире, собственно, мы живем, когда говорим,
что он содержит в себе акты сознания, восприятия и т.д.?
Дело в том, что это особый срез мира существований, или
мир чего-то, что существует только в момент и внутри исполнения. В момент реализации. Ну простая вещь - вот передо мной
лежит страничка, на которой напечатаны слова. Ведь значения
слов существуют только тогда, когда они говорятся. Так же, как
симфония существует лишь тогда, когда она исполняется. Или,
скажем, любовь как человеческое чувство или человеческое
состояние. Как говорил Паскаль, любовь всегда рождается. Она
не может быть ни прошлой, ни бывшей, ни старой, ни молодой -
любовь всегда в состоянии рождения. Это ее единственный модус
существования. У духовных явлений нет другого модуса. Мысль
есть тогда, когда она кем-то мыслится, книга существует как
произведение культуры тогда, когда она читается. Что и ставит
нас лицом к лицу с довольно парадоксальной вещью. Все возникшее потом длится, и мы употребляем термин “дление” или
“пребывание”. А здесь мы имеем дело с некоторым существом
самого существования, вход ящим вторым первым разом. Ведь если я
утверждаю, что человеческий жест есть нечто такое, что существует
только тогда, когда он выполняется, он выполняется впервые.
Тот, кто любит в действительности, любит впервые и в единственном числе. Хотя по числовым соображениям это несомненно
уже миллиардный акт. Ибо до нас любили и будут любить. Но
мы ничего не поймем в природе данного феномена, если не примем
это просто как аксиому. Что всякий молодой человек или девушка
влюбляются как в первый раз. Это неумолимое следствие из того,
что мы имеем дело с вещами, существующими в своем исполнении.
Следовательно, мы получаем первым шагом - вот из этого
обстоятельства, которое я сейчас описывал - следующее. Что в
отношении таких вещей, как любовь и т.д. (всех сознательных
явлений, духовных событий) мы никогда не имеем прямого определения. Или прямой предикации. То есть, если я говорю о чем-
то, что существует только внутри и в момент исполнения или
действительной реализации, в том числе и восприятия, если это
означает, что это как бы парадоксальная итерация первого раза,
как вот парадоксален второй первый раз, то я всегда как бы ловлю это на уровне большего и только через этот уровень и определяю. Сейчас будет ясно, что я имею в виду, словесно, конечно,
а по сути не знаю, и мне не ясно и не знаю, кому ясно, но скажу
так. Тогда сознание, или сознательное восприятие, есть возможность большего сознания. Поскольку мы ведь на воспроизводстве больших родственных актов зафиксировали, например,
256 2)о/слады, Ыаиньи, имйе^ыо
феномен любви. Итак, возможность большего сознания. То есть
возможность воспроизводства или расширения в объеме себе
подобного. Когда мысль есть возможность большей мысли.
Сознание есть возможность большего сознания. И каждый раз
это имеет место, когда идет речь о восприятии, которое случилось и определилось как восприятие. Не нечто, что может быть
воспринято или не воспринято, тем более, с какой-нибудь внешней точки зрения, а то, что действительно воспринято.
Так вот, если речь идет об определенных восприятиях, то
такие восприятия именно в качестве восприятий зависят от
знания законов природы, например, от “теории’*. Или, вернее, от
своего топоса или структуры, от некоторого онтологического
предзнания. От предразличенности и предрасположенности
сознания. А сознание мы определяем как возможность большего
сознания, мысль как возможность большей мысли. Следовательно, эти предразличенности или предрасположенности сознания
есть что-то такое, что, с одной стороны, мы связали с актом
“понято или не понято”, т.е. с некоторым онтологическим пред-
знанием, а с другой стороны, в то же время, мы их не знаем. В
каком смысле слова? Ну в том смысле (нашего обычного словоупотребления), в каком мы не знаем своего собственного
чувства. Например, мы ведь часто не знаем, любим мы или не
любим, хотя нам кажется, что любим. И точно так же можно не
знать своей мысли. Поэтому это “что-то” вообще не должно рассматриваться фактически в терминах “знаю - не знаю”, которые
лишь пост-фактум приписываются определенному индивиду или
субъекту. Повторяю, раз мы имеем состояние сознания, к которому
не можем применить термин “не знаю”, а мысль есть нечто такое, что можно не знать в качестве своей мысли, как и свое чувство, то здесь мы явно имеем дело с сознанием, не совмещаемым с
выделенным субъектом. То есть термин "сознание” отделен от
термина “я” в его индивидуальном психологическом смысле.
Хорошо, теперь еще одан оттенок исполненности или реа-
лизованности. Я делаю сейчас этот шаг для дальнейшего разведения уровней языков и большей осмысленности употребляемых
нами терминов. Одна маленькая посылка. Значит, исполнен-
ность предполагает, что если мы так определили, так реализовали, если мир пошел именно по этой ветви, то бессмысленно
спрашивать о другом мире и что-то сравнивать, потому что требование выполнения ведь должно выполняться - простите меня
за такой оборот. Или * ^бование реализации. Ибо нечто уже
действительно реализовав а не логически возможно, или допу
стимо. Повторяю еще раз: если мы находимся уже на этом уроь
не, если так определились в восприятии, то нет другого мира и
бессмысленно о нем спрашивать. И бессмысленно сравнивать.
О HPyfHO4i , HfPÎnPftdf'aHMi {№H(îHtiA
257
потому что для (равнения мы должны были бы тогда иметь две
реализации, а мы уже реализовались. И должны выполнить соответствующие ограничения. Поэтому я и говорю о чем-то, что есть
некое общее условие и того, что есть, и того, что об этом можно
сказать, что уже есть. Между прочим, у Канта встречается следующее определение времени: время - это вечность общей причины.
Он-то понимал смысл термина “общая причина”, так как двигался в своем тайном мире мысли, а мы не понимаем. Короче,
под словом “общее” он имел в виду то, что я перед этим сказал.
Общее и тому, что есть, и тому, что можно об этом сказать. И
тогда, конечно, эта общность причины и есть некая конечная
практически неизменная величина. Но практически неизменная
не в том смысле, что мы можем ставить вопрос о ее изменении
или неизменении, потому что сам факт воспринятости уже означает
изменение. Поэтому, пользуясь наблюдаемыми изменениями, мы
не можем спрашивать о субстрате - изменяется он или не изменяется. Не можем ставить такого вопроса. И такой же неизменной
величиной является, кстати, то, о чем Фарадей говорил в применении к воде. Этот пассаж цитирует Витгенштейн в своих
"Философских исследованиях”. Фарадей говорил: вода - индивид, она никогда не меняется. То есть это практически неизменная величина, внутри которой находится все водное. И это
настолько большая величина, что она охватывает собой все, она
везде, и поскольку вода, как индивид, не может быть другой, -
она не меняется. Но это практическая неизменность. Слово
“практическая” мне потом пригодится.
Закрепим этот срез выполнения или реализации, что позволит
мне (тем более, что я ввел проблему реализованное™ как инд ивидуальности) пойти дальше и попытаться прокомментировать один из
докладов на нашей школе относительно динамики химических
структур - обмена молекул, их изменений и тд., связанных с актом
восприятия. Можно поставить вопрос так: чтобы случился акт
сознания, должны произойти какие-то химические и молекулярные
изменения. То есть в каком-то смысле эти изменения должны быть
произведены сознанием, что, конечно, абсурдно. Абсурдно как
натуральное утверждение, но не абсурдно на уровне абстракции. Я
перед этим не случайно употребил слово “практический’', а не
теоретический” или “гносеологический”. Скажем, дня того, чтобы
взять вот этот предает, я должен привести в определенное состояние
свои мускулы, скоординировать движения руки и тд. Это физические явления. Я выполнил акт, только сделав что-то физически. Но
ведь это же непостижимо, непонятно - каким образом сознание
может производить физические д ействия? Я уж не говорю о том,
что никто не знает этого, никто не создал пока модели такой
“причинной” связи. Это столь же непостижимо, как если бы я
258
2)ó9CJUU]H, OfUtífSkU, MtfiCfl€tolC
утверждал, например, что могу взглядам или движением руки
остановить Луну на се орбите. Эго мистический акт. Он полностью
вне фвжи. А каким образом внутри фиэвдси оказывается не менее
мистический акт, что я привел в определенную координацию свои
физтесзсие движения и осуществил целенаправленное действие?
Каким образом я сознанием могу это сделать?
Tai самым, говоря об уровнях языка описания, я вовсе не
утверждаю, что сознание производит физические явления, или,
что физические явления производ ят сознание. Как говорил еще
Декарт: ни душа не действует на тело, ни тело не действует на
душу. Это постулаты и аксиомы, без принятия которых не
существует ни физического мышления (иначе оно разрушится),
ни мышления о сознании. То есть психологического и других
исследований. Допустим, я могу сказать, что нечто случилось,
например, произошел выброс каких-то веществ, наблюдаемых в
моче, и что? - поэтому произошло восприятие? Разумеется, нет.
Просто введенная абстракция реализованности позволяет мне
различать это как разные языки описания. Поэтому, что касается утверждения о том, что молекулы расположились для того,
чтобы что-то оказалось воспринятым, есть не определяющее, а
телеономическое суждение, в смысле Канта, позволяющее проводить эмпирические исследования без каких-либо описательных
утверждений о процессах сознания. И наоборот - то же самое
придется повторить со стороны сознания.
А теперь еще одним шагом свяжем это с промелькнувшим у
меня словом “практическое”. В самом начале я уже говорил о
трансформированных состояниях, в которых воссоздается
некоторое бытие или есть (или некоторое глобальное существо,
длительность и тождественность персоны), не обязательно
локализуемое на эмпирических индивидах, и отмечал, что в эти
состояния мы сами собственными силами придти не можем. Ну,
скажем, в логике и математике это очевидно, что перед тем, к чему мы должны были бы придти, нас останавливают логические
антиномии и противоречия, и поэтому мы вынуждены соединять
фактически несоединимые и разнородные вещи. Например, в
математике сопоставлять такие несравнимые величины, как измерения пространства и ед иницы тяжести. То есть пользоваться
в результате иррациональными числами. Но дело в том, что мы
их имеем. Я подчеркиваю, что просто составить их мы не могли
бы, потому что они содержат в себе логическое противоречие, а
они есть. И мы ими пользуемся - тем, что не могли бы составить.
Так вот, это “что-то” и есть “практическое”. Или, другими
словами, тот уровень - казалось бы, самый высокий и самый
абстрактный, - о котором у нас нет прямой предикации. И
получается, что само сознание не высшего ранга абстракция, а
О Жлхлмгмш ияКпсиигпнШ! еогнлкчл
259
низшего, и в то же время - это высший ранг прагматичности по
отношению к тому, что de facto есть - но как? Ведь я бы не мог,
даже если сильно захотел, логически составить то, что работает
в логике, а именно - мнимости, иррациональные числа и т.д. А
это - сделано, практически есть. По традиции такого рода явления Кант называл фактами разума. Или я переведу так: нечто
дано фактически. Вот так же, как de facto дано мое движение
руки, ведомое сознанием, что объяснить невозможно. Нельзя
сознанием вести руку, а я веду ее. Модель этого создать нельзя, а
это есть. Существует некоторое разумное событие, которое и
называется фактом разума.
То есть я хочу тем самым сказать, что название книги Канта
“Критика практического разума” обычно (во всяком случае
других интерпретаций я не знаю) понимают по смыслу самого
слова “практический”. Что существует якобы некая сфера
применения теоретического. Практическое применение чего-то
рационального, разумного, теоретического. Но совсем не это
имеется в виду под словом “практический” в философии.
“Практическое” означает, что логическим путем получить это
невозможно, а есть. И работает разумно, хотя собственным
разумом я этого сделать не могу.
Значит, в некоторых не привязываемых обязательно к
субъекту состояниях, явно наделенных признаком сознания, мы
имеем оттенок практичности, или прагматичности, в этом
смысле слова. Это некоторые физические de facto наблюдаемые
следствия того, что сознание или знание есть. И то, что оно есть,
напоминает фактически космическое чудо. Мы можем построить
язык описания самих себя и мира только при одном услсвии -
если примем это как данное и постараемся его разглядеть, а не
разлагать на какие-то элементы. Поэтому, собственно, я и говорил раньше о несводимости (это и есть несводимый элемент,
получить который невозможно!). Между прочим, это прекрасно
понимал Бор - он говорил так (это кажется обмолвкой, но мне
кажется, это было фундаментальным элементом его мышления,
образа мысли): для того, чтобы понимать явления жизни, важно
не дедуцировать сам принцип жизни. Принцип жизни должен
быть принят как данное. Тогда мы понимаем явление жизни. И
то же самое относится к сознанию. Мы можем лишь принять эти
космические чудеса и вглядеться в их черты. Но стоит нам
начать сводить их к чему-то другому или разлагать, как теряется
всякая интеллигибельность и сама понятность явлений сознания.
В случае жизни - явление жизни, в случае языка - явление языка.
Не случайно можно прослеживать происхождение и историю
конкретных языков, а не языка как такового. Относительно
таких вещей не существует возможности модельного построения.
260 2)окми?ы, сйииЯьи, имне^ью
Потому что модель строится только на основе того, что можно
повторить и составить по частям. А эти вещи невозможно ни
повторить, ни составить, и как я покажу дальше - невозможно
их и продлить. Ибо сюда будет постоянно вторгаться фундаментальное для философии и для анализа сознания понятие мига,
или времени как мига, а не как последовательности. Но мига
очень странного, который целую вечность может внутри себя
содержать и быть ей равнозначным, или, как выражался Кьеркегор, - быть атомом вечности.
То, что мы связали сознание с некоторой практичностью
или прагматичностью, и ставит, следовательно, вопрос о необходимости метаязыка описания. Обычно мы всегда ассоциируем
со словом “мета” некоторую большую степень^ абстракции,
отвлеченности. Для меня же термин “мета” является термином
низшего ранга абстракции и высшего ранга пращатичности. И
теперь, чтобы все стало на свое место, попытаемся сделать выводы ввиду необходимости применения самого метаязыка.
Из того, что мы ухватываем сознание и определяем его
только через большее сознание, а мысль через большую мысль,
то есть определяем ее как чистую возможность, совершенно
безразличную по отношению к содержанию - уже из этого вы
должны были бы сделать *вывод, который я постараюсь сейчас
развить. Значит, пойдем так. Я выявлял некоторую зависимость
воспринятости, что факт восприятия имел место, от знания. Или
от понимания. Когда понимание оказывается условием того, что
можно вообще воспринять. Что связано, конечно, с переживаниями вполне реального биопсихологического существа, называемого “человек”, которые зависят в качестве переживаний
именно от знания и понимания. Или от чистой возможности.
Поэтому скалу несколько парадоксальную вещь: что-то не было
пережито, если не было понято. Из чего как раз и следует, что
есть какие-то вещи, которые (даже если понято) мы не можем
локализовать в качестве свойств какого-либо предмета. В
данном случае - это особые психические или сознательные
свойства человеческого существа. Повторяю, есть вещи, которые
не существуют и не возможны в качестве реальных психологических состояний какого-либо конечного человеческого существа.
Мне уже как-то приходилось говорить своим слушателям о
литературном произведении. При этом меня, естественно, интересовали абстрактные проблемы сознания, а их интересовала
литература, однако было важно вместе с ними войти в какой-то
совместный экзистенциальный мир человеческих проблем, проблем судьбы и т.д. То есть тех проблем, в рамках которых только
и осмысленно философу вообще разговаривать о сознании.
Иначе философия никакого смысла не имеет. Так вот, мне
О возможном м&наописании сознания
261
приходилось приводить для разъяснения этих вещей такой пример. Я их спрашивал, существует ли в качестве реального, возможного для человека, переживания такая вещь, как чистая воля,
чистое добро или чистая любовь. Ведь когда мы говорим,
например, “любовь”, то по определению имеется в виду чистая
любовь - полностью лишенная какой-либо корысти. Чистая
бескорыстная любовь. Разумеется, можно утверждать, что в
принципе такое психологическое состояние человека невозможно. Оно не случается в мире. И там же я приводил пример из
Библии, связанный с жертвоприношением Авраамом собственного сына (потом я с великой радостью обнаружил сходную
трактовку этого примера в совместной работе Мусхелишвили и
Шрейдера). Итак, нечто, что невозможно как реальное переживание. Что невозможно? Вот то, что описывается как событие,
происшедшее с человеком по имени Авраам, когда - без оглядки,
каким-то боковым взглядом на Бога - можно надеяться, что все-
таки в последнюю минуту Он удержит мою руку, занесенную с
кинжалом над горлом собственного сына. Но ведь оглядка была,
значит не было состояния чистой веры. Повторяю, в качестве
реального состояния человека (без оглядки на себя или на Бога)
это состояние чистой веры не представимо.
Следовательно, к подобному реестру человеческих свойств,
относительно которых можно доказать, что они невозможны как
реальные психологические переживания конечного человеческого существа (скажем, любовь, вера и т.д.) относится и мысль
и другие состояния, которые сопровождаются еще словом
“чистый”. Мы не можем предицироватъ их в качестве свойств
какого-либо сознательного существа и тогда говорим о них на
уровне метасмысла. Очевидно, это и есть некоторое конструктивное образование - конструктивную идею, если помните, я уже
ввел, наложив ограничения выполненности или реализации на
все предметы наших утверждений, когда говорил о восприятии:
воспринято или не воспринято. То есть выполнено ли восприятие, или не выполнено. Не просто возможная мысль, а помысле-
но или не помыслено. Это и является конструктивной линией
моего анализа. Но она конструктивна в одном фундаментальном
смысле, который ставит на место сам термин “метаописание”.
Это конструктивно по отношению к возможным переживаниям,
поскольку есть образования, называемые символами, в лоне существования которых и могут быть индуцированы в человеке те
состояния, к которым он не может придти естественно данными
ему силами. Значит, с одной стороны, у нас есть переживания, а с
другой - символы, с которыми человек соотнесет, и поле, возникающее от соотнесенности с символами, и является потенциальным полем наших возможных или, скажем так, смешанных
262 2>оклады. еЛшКш. шиЯф&к>
состояний. То есть тех, которые человек не мог бы испытать
естественным образом, предоставленный сам себе, но они возникают именно в этом поле. Не говоря уже о том, что они
существуют только в момент своего существования, - такая
тавтология в данном случае вполне допустима. В момент своей
реализации, только внутри нее. В момент - когда\ Все это -
предметы описания, возникающие в процессе описания, пред меты внимания, возникающие в акте внимания и концентрации, и
вне этого не существующие. Поэтому и возможна, скажем,
любовь как человеческое, а не животное чувство, существующее
в ассоциативном ряду состояния рассуждения о том, насколько
она бескорыстна или корыстна, действительно ли мы любим
человека или хотим им полностью владеть и т.д. Короче, весь
мир человеческих состояний, слов, реакций, страстей возможен
только в поле сопряженности с символами, которые конструктивны по отношению к человеку.
То есть я продолжаю тем самым придерживаться абстракции уровня прагматичности, не случайно употребив термин
“практически есть”. Так же как не случайно Кант для своих
задач, которые не совпадают с моими, употреблял термин
“практический разум” и говорил, в частности, так: есть две вещи
(это я уже почти буквально цитирую) - практическая любовь и
патологическая любовь. Причем под словом “патологическая”
он не имел в виду некую медицинскую характеристику, с ценностным оттенком, а просто имел в виду, что все проявления
чувственных естественных состояний человека патологичны по
природе. А все специфически человеческие состояния являются
практическими, то есть поддерживаемыми и существующими
только в момент, внутри и в лоне действующих конструкций,
названных им пространством и временем. А время, как я уже
говорил, это миг. Вот, скажем, я совершил какой-то поступок, и
у меня угрызение совести. Разумеется, это бессмысленное состояние в мире, сказал бы Кант, потому что прошлого нельзя отменить, нельзя сделать бывшее небывшим и, казалось бы, нечего
убиваться. Но, оказывается, можно и надо убиваться, ибо в разуме, по словам Канта, нет ничего бывшего. Все только сейчас, в
момент когда, в миге, и тогда все это имеет смысл. Следовательно, некоторый метауровень и является условием осмысленности
наших состояний, осмысленности того, что мы, например,
любим, и претендуем на любовь. Или, другими словами, на
познание вообще какого-то смысла, учитывая, что истина в
каждый данный момент должна была бы по прогрессии в бесконечность отменяться. Так какой же смысл хотеть что-то знать
сейчас? Не имело бы никакого смысла. Однако есть смысл. Вот
этот метауровень, на котором описываются не существующие
О возможном манаоиисании сознания
263
предметы, а особого рода направленности, и представляет собой
уровень смысла. Смысла всего остального, всего того, что мы
можем хотеть, к чему можем стремиться, что мы делаем и т,д.
Именно в этом контексте для меня стоит проблема метаописания, если не входить сейчас в дальнейшее обсуждение технических, абстрактных аспектов проблемы, которые я просто не
вытяну на разговор вслух, а вы не сможете за мной следить. И
этот шаг метатеоретического допуска или языка метаописания
представляется мне фундаментальным, так как без него ничего
нельзя понять, когда нам что-то приходится утверждать о сознательных событиях, или более узко - о сознании.
Сознание как философская проблема'
Особое место проблемы сознания в истории культуры и
философии объясняется по меньшей мере двумя обстоятельствами.
Во-первых, сознание - предельное понятие философии как
таковой, о чем бы она ни была. Будь то философия природы,
общества, права, науки, морали и т.д. Основным орудием и
предпосылкой анализа в любом случае здесь будет являться и
выступать так или иначе понимаемое сознание, открывающее
философу возможность его личной реализации, находящей
выражение в тексте и тем самым существующей в культуре. Не
просто в виде достигнутой суммы знаний, а в виде именно
реализованной мысли и способа бытия.
И второе обстоятельство, делающее эту проблему особенно
сложной, состоит в том, что одновременно сознание - это весьма
странное явление, которое есть и которое в то же время нельзя
ухватить, представить как вещь. То есть о нем в принципе нельзя
построить теорию. Ни в виде предельного философского понятия,
ни в виде реального явления, описываемого психологическими и
другими средствами, сознание не поддается теоретизированию,
объективированию. Любая попытка в этом направлении неминуемо кончается неудачей. По мере приближения к нему сознание,
как тень, ускользает от исследователя. Поэтому в философии
остается лишь один способ рассуждения о подобного рода явлениях, О них можно говорить или рассуждать, только используя
опосредованный, косвенный язык описания, То есть опираясь на
1 Статья опубликована в “Вопросах философии” (№10, 19^0)
264
доклады, аКа/бш, шиЯе^ь»
уже существующие правила и представления, относящиеся к
самому рассуждению о явлении.
Следовательно, всякий подход к философии как к уже реализованному сознанию неизбежно предполагает осторожность.
Эта осторожность может быть либо продуктом уже существующей культуры, либо результатом нашего личного усилия, но в
любом случае она необходима. Например, можно определить,
что такое наука или право, но нельзя определить, что такое
философия. Ведь это было бы равносильно тому, чтобы найти
окончательный ответ на любопытство, какое у человека вызывает он сам. То есть, в конечном счете, ответить на вопрос о
самой причине любопытства. Что, разумеется, невозможно.
“Простите, я не о том говорю!”
Приблизиться к пониманию того, что такое философия,
дать почувствовать особый, умозрительный характер ее утверждений, связанных с сознанием, можно, видимо, следующей
фразой: “Простите, я не о том говорю”. Сошлюсь на пример из
истории немецкой культуры XVIII века.
Известно, сколько юмористических рассуждений (помимо,
разумеется, серьезных, которые тоже были) вызвал в свое время
знаменитый кантовский категорический императив'. И известно
стихотворение Шиллера “Философы”, в котором он высмеивает
этот категорический императив с позиций обыденного сознания.
Шиллер писал:
Сомнение совести
Ближним охотно служу, но - увы! - имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
Решение
Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг!2
С точки зрения Шиллера, согласно категорическому императиву человек уже как бы заранее должен стыдиться тех чувств,
которые он испытывает, совершая доброе деяние. Ведь императив требует от него исполнения долга, а это едва ли приятно.
Так, во всяком случае, считает поэт. И, казалось бы, если взять
текстуру кантовского положения, то в ней действительно есть
основания для такого вывода. Но при условии, конечно, если
при этом не видеть главного, а именно, что Кант четко отделяет
1 Напомню одну из его формулировок: “Поступай так» чтобы максима твоей воли
могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства”, Кант И.
Соч. в шести томах. Т.4, чЛ. М., 1965, с.347.
2 Шиллер Ф. Собр. соч., т.1. М.,1955, с.243. (Перев. Вл.Соловьева).
Сознание как философская п{и>4лема 265
в своем рассуждении об императиве то, что он называет долгом,
от чувств и ощущении, которые могут сопровождать человеческие деяния и даже отождествляться нами с самим долгом. И тем
не менее это не было понято безусловно великим человеком,
великим поэтом. Он иронизировал над кантовским положением.
Это как раз та ситуация, когда философ вправе заявить:
“Простите, я не об этом говорю”.
Я говорю не о том, мог бы сказать Кант, нужно ли обязательно выполнять нравственный долг с приятностью или нужно
насиловать себя, и не о том, что мы будем тем более нравственны, чем неприятнее нам выполнение долга. Нет, мой аргумент трансцендентальный, сказал бы Кант, - я говорю не об
этом. А о чем же?
Все это так, ответил бы Кант, эмпирически это верно, и
эмпирически, может быть, надо полагаться на то, чтобы наши
чувства удовольствия или пользы были связаны с выполнением
нами наших нравственных норм и обязанностей, но понять
природу нравственных обязанностей с помощью аргументов,
заимствованных из эмпирического материала, невозможно. Ведь
посмотрите, говорит Кант, перед нами десятки и сотни разных
культур1, и что мы видим в них, кроме относительности и пестроты нравственных норм, обычаев, традиций? Вы хотите вывести мораль из чувства удовольствия-неудовольствия? Но это
невозможно сделать. Аргумент оказывается в бесконечности:
можно бесконечно приводить как довода за, так и против. Поэтому, сказал бы Кант, если философская формулировка и удается, она не есть указание на факты, она говорит о радикальном
изменении подхода философа к фактам, об особом характере его
рассуждения. А рассуждение такое: я знаю, конечно, что эмпирически любое нравственное деяние всегда связано с чувственной
материей, но осуществляется при этом что-то другое. И указание
на это другое и есть кантовский метод абстракции, когда он отделяет долг, нравственный императив от ссылок на какие-либо
эмпирические состояния.
Следовательно, человек в качестве человека не есть лишь
эмпирическая материя, ибо в качестве таковой человек не более
чем животное. Как пишет Кант: “Физиологическое человековедение имеет в виду исследование того, что делает из человека
природа, а прагматическое - исследование того, что он, как свободно действующее существо, делает или может и должен делать
1 Подобная реконструкция кантовского ответа вполне правомерна и вытекает из
всего духа его философии. См.: Кант И. Соч., т.6. М., 1966, с.351-588, а также его
трактат "Религия в пределах только разума* (КангИ. Трактаты и письма. М., 1980,
с. 93).
266 2)o$uaqu. aSuufbu. ишйфвыо
из себ*г сам”’. То есть человеческое в человеке не сводимо к ого
чисто природным свойствам. Когда Кант говорит о долге, то
имеет в виду не некое присущее человеку свойство, а указывает
на какое-то усилие и направление человеческого деяния, которое
не дано и не существует само по себе.
Таким образом, мы видим, что когда философ восклицает
“Простате, я не о том!” - так Кант мог бы сказать Шиллеру, - то
он говорит это, исходя из своего понимания характера философского языка, состоящего явно из весьма сложных мысленных ходов и абстракций, которые всегда должны браться вместе, если
мы хотим понять смысл философского высказывания. Отдельно
взятое философское утверждение становится, действительно, по
меньшей мере смешным, если оно вырвано из контекста, из расчлененного философского аргумента, характеризующегося разными уровнями движения мысли и наличием связи между ними.
Приведу еще пример, но уже из другой области, связанной с
имевшей место в истории философии критикой декартовского
учения о восприятии. Известно, что в философии Декарта
проблема восприятия, прежде всего зрительного, разработанная
им в “Диоптрике”, занимает центральное место. Один из современных специалистов в этой области, А.Кромби, справедливо
замечает, что Декарту удалось в данном случае весьма “четко
отграничить разрешимые вопросы физиологии и нейрофизиологической корреляции от неразрешимых вопросов о причинности
восприятия...”2 И вот как раз по поводу этих “неразрешимых
вопросов” и развернулась в свое время дискуссия после выхода
“Метафизических размышлений”, в ходе которой Декарт получил много возражений и отвечал на них. И в этих ответах проглядывает, по существу, то же самое недоумение перед фактом
непонимания его оппонентами, как и в случае с Кантом. Суть
его ответов, в том числе и относительно проблемы зрения, фактически сводится при этом к тому же: “Господа, я ведь говорю не
о том, какова структура зрительного восприятия, я трактую
мысль о зрительно воспринятом”. Смысловая близость терминов
“зрение” и “воспрятие”, казалось бы, очевидна, но для Декарта
она имела явно другое измерение. Ибо он рассуждал не о том,
что видится, а о том, что видится лишь в той мере, в какой есть
сознание видимого или, как он выражался, мысль о видимом.
Итак, мы можем заключить, что внутри психологии, этики и
других наук существуют уже совершившиеся в качестве предпосылок и условий возможного опытного, научного познания
некие акты философствования. Сам акт познания имплицирует
1 КантИ. Соч., т.6, с.351.
2 Кромби А. Ранние представления об органах чувств и сознании. - В кн.: Восприятие. Механизмы и модели. (Перев. с англ.). М., 1974, с.27.
Сознание юис философам» проблема 267
какие-то философские акты, независимо от того, знаем мы об
этом или не знаем. Назовем эту совокупность философских
операций, которые имплицированы внутри научных операций
при образовании и познании объектов науки, реальной или
натуральной философией и попытаемся раскрыть это понятие на
примере нашего отношения к природе.
Поскольку мы живем в XX веке и многое нам представляется
само собой разумеющимся, нам кажется естественным применять
термин “природа” к окружающему нас миру. Мы говорим:
окружающий природный мир. Но верно ли это? Что значит
“окружающий природный мир”? А если мы считаем, например,
что он населен сказочными существами или содержит в себе
какие-то мифологические сущности, это что - не природа? Нет.
Следовательно, рассматривать мир как природу нужно под
иным углом зрения, а именно, скажем, так: под углом зрения
некоего целого, в котором существует естественный порядок.
Это и есть природа. Природой является не мир, который мы
склонны населять сказочными существами, а мир, рассматриваемый под углом зрения его естественной упорядоченности, в
нем имеют место какие-то физические события. Это не просто
события, которые происходят вне нас. Это события, которые
происходят естественно-причинно, т.е. без участия в них каких-
либо произвольных сил или существ. Научное восприятие или
познание мира есть абстракция. Ведь на протяжении тысячелетий человечество обходилось без науки. Воспринимать мир
научно - совсем не естественно, а условно в том смысле, что это
предполагает какие-то предпосылки, которые сами еще должны
возникнуть или быть человеком осуществлены.
Следовательно, уже простое употребление термина “природа”
показывает его нагруженность какими-то мировоззренческими
предпосылками и условиями. Это не просто слово языка. Сегодня
оно кажется нам привычным, само собой разумеющимся только
потому, что человек демифологизировал мир. Это исторический
акт, сложный и поздний продукт развития культуры.
Приведенный пример является, на мой взгляд, еще одной
яркой иллюстрацией сложности философского языка, требующего от нас максимума осторожности. Чтобы убедиться в этом,
рассмотрим знаменитое положение Канта, которое встречается
во всех курсах истории философии: рассудок диктует законы
природе. Это кантовское положение не только общеизвестно, но
и сопровождается в названных курсах, как правило, определенной оценкой, определенным “пониманием”. С одной стороны, в
нем видят нередко проявление кантовского идеализма, то есть
полагают, что мир для Канта просто призрак сознания, а с другой - как бы считается само собой разумеющимся, что термин
268 2)окмгфк, аЯа/fibu, иыНфвыо
"природа” есть натуральный термин. А что в действительности
имея в виду Кант? Ведь исходя из того, что мы сказали о
природе, совершенно ясно, что утверждение Канта не просто
утверждение о вещах вне нас. Это не просто мир или природа
вне нас, а мир вне нас, рассматриваемый в качестве естественноупорядоченного на основе каких-то предпосылок и допущений.
Например, допущения, что мир - не есть арена действия произвольных, одухотворенных сил, которые могли бы по своему
желанию сегодня поступать так, а через день или секунду - иначе. Что это - описание фактов? Или их обобщение, полученное
путем наблюдения? Нет, это предпосылка, окружающая, подобно эфиру, само понятие или термин “природа”. Неслучайно этот
термин употребляется у Канта через запятую со следующими
словами: непрерывное, единообразное воспроизводство предметов в опыте. Следовательно, если мы поймем сказанное Кантом
не как указание, поддающееся буквальному физическому истолкованию: “природа подчиняется рассудку”, а как сложное рассуждение в контексте или в меру выявленности в нем тех посылок
и уровней, на которых оно зиждется, тогда мы иначе поймем и
само это утверждение. Рассудок вовсе не приписывает законы
природе в том смысле, как это понимают обычно, читая Канта.
Отнюдь, оказывается, он имел в виду совсем не это, а говорил о
том, что при рассмотрении мира как естественным образом
упорядоченного действуют определенные интеллектуальные
элементы, наши допущения рассматривать мир именно таким, а
не иным образом; что восприятие предметов как причинно связанных не есть прихождение предметов в нашу голову вместе с
их причинной связью, а есть способ конкретного рассмотрения
таких предметов на некотором уровне анализа. Если бы предметы приходили вместе с законами, со своими причинными связями
прямо в голову, то непонятно, почему их долгое время не воспринимали именно так; ведь невозможно предположить, что все
люди до возникновения опытной науки были глупыми. Разумеется, нет. Очевид но, они просто иначе, по-другому видели мир!
А чтобы видеть ого так, как видим его мы (а мы видим его причинно-устроенным), нужно что-то предположить, что-то допустить, лишь тогда мир предстает как причинно-упорядоченный.
Значит, у философии есть не только свой язык, но и грамматика.
И только зная эту грамматику, то есть определенную совокупность
условностей, мы можем понять, что в этом случае говорится.
Итак, существуют некие философские акты, уже содержащиеся в самой культуре научного мышления, которые мы назвали
реальной философией. Эта реальная философия является неким
мысленным, духовным полем, в котором совершаются акты
научного познания, представляющие собой неотъемлемый
Сознание как философская н/юйллма 269
элемент культуры. (Мы говорим здесь только о европейской
культуре и о европейской науке.) Попытаемся теперь более
конкретно охарактеризовать понятие реальной философии.
Возьмем, например, тексты Платона. Ясно, конечно, что
первое ощущение, возникающее у человека, который не имеет
вкуса к философской работе и не знает правил философского
языка, его грамматики, - это ощущение почти что марсианского
характера этих текстов. То есть как чего-то абсолютно далекого,
непонятного. Когда, скажем, Платон пишет о том, что душа, познавая, вспоминает свои прошлые встречи с богом, то это звучит
для современного человека (тем более занимающегося наукой)
по меньшей мере странно. Он воспринимает это как некий фрагмент мифа, незаконно попавший в философский текст, и считает,
что ему там не место. Что его нужно просто отбросить, как брак.
Тем более, что для этого уже есть и соответствующее оправдание.
Готовые слова, которые рационализируют нашу умственную лень.
Например, слово “идеализм” и другие.
Или обратимся к текстам Джарта. При всем уважении к
этому великому человеку, который основательно потрудился в
науке, разве нас не удивляет такое, например, его заявление, что
идеи числа, протяжения, истины, долга являются “врожденными” . Как можно это помыслить? Не может быть, чтобы
Декарт писал о том, что нельзя помыслить. Как невозможно,
конечно, согласиться в данном случае и с тем, что он якобы учит
о врожденности идей в натуральном смысле. Думать подобное о
философе такого масштаба, как Декарт, было бы по меньшей
мере несправедливо.
Но пойдем дальше. А дальше приходит Кант и говорит, что
первознанием в системе всех основоположений рассудка является
трансцендентальное единство апперцепции, т.е. “я мыслю”. Что
на этом первознании может и должно быть основано все здание
человеческих знаний. Пока все это для нас часть традиции
“идеалистического” философствования, которую на известных
основаниях мы можем либо легко отбросить, либо не замечать.
Но что это значит? Причем здесь реальная философия? Каким
образом знание становится знанием? Не оказываемся ли мы здесь,
образно говоря, в ситуации мольеровского джентльмена, и не
является ли язык Канта или Декарта той же, в сущности, прозой,
которой говорим и мы, просто не замечая при этом, что их
высказывания гораздо грамотнее, точнее. Приведу пример.
В книге английского астронома А.Эддингтона “Теория
относительности” (1934) есть, в частности, такое положение.
Обсуждая проблему абсолютного времени, он пишет, что это
понятие предполагает другое, а именно - понятие “настоящего
момента”, и содержит в себе следующее допущение, что воспри¬
270 2к>клафл, с&аЯш, шаНфёыо
нимаемые нами события происходят в момент их восприятия и
наблюдения. Собственно, на основе этого допущения в физике и
было выработано представление о некотором едином, охватывающем весь мир времени, некой координатной сетке моментов
“теперь”. Такое представление о временных отношениях пред метов, где время стало использования в качестве единой, универсальной меры. Однако затем, говорит Эддингтон, физиками
было открыто, что скорость распространения света конечна, и,
следовательно, может существовать какой-то разрыв во времени
между случанием события и его восприятием, наблюдением. Но
физики, замечает он, легко обошли эту трудность. Они просто
поместили происхождение события в момент, непосредственно
предшествующий его наблюдению, сохранив тем самым указанную координатную сетку некоторого единого, универсального
времени. О чем здесь говорится? Очевидно, о том, что любой
факт физического измерения уже имплицирует, включает в себя
что-то проделанное и с сознанием. Измеряются события, но в
акте измерений уже допущено какое-то решение относительно
сознания. Считается, что события происходят в момент их
наблюдения, а это предполагает, в свою очередь, допущение
определенного свойства сознания. А именно, что “сознание
одно”. Из этого вырастает представление об абсолютной временной сетке, о моменте “теперь”, обнимающем весь мир.
Отличается ли это от того, что говорил Кант в связи с
трансцендентальным единством апперцепции, что оно лежит в
основании всех наших знаний? Вспомним, что такое трансцендентальное единство апперцепции. Согласно Канту, это сознание
себя в акте мышления, или форма сознания. И когда Кант пишет,
что форма сознания предшествует всем другим знаниям, то он
просто на языке философии грамотно и последовательно выявляет тот факт, что до и независимо от нее, то есть до развития
теории трансцендентальной апперцепции, до тезиса “я мыслю”
это “я мыслю” уже существует и работает в самом научном познании. Физика Ньютона, по словам Канта, - «это не описание
природа, не историческое (фактическое) познание. Физика
определяется им в данном аспекте как наука о принципах эмпирического исследования, причем эти принципы “не из опыта, а
для опыта”; физика есть способ... “согласования” явлений для
возможности опыта, ибо без априорных принципов не может
быть объективного, системного знания»1.
Иначе говоря, философия отличается от науки тем, что она
начинает на своем языке развивать именно этот факт и по ходу
1 Чернов С.А. Теория физики в “Opus postumum* Канта. - Кантовский сборник.
Вып. 10. Калининград, 1985, с.23.
Сознание как философская Hfxo&te.ua 271
дела приводит в движение те понятая и проблемы, которые
относятся в том числе и к самой науке.
А что мы видан в работах Декарта? Философия для него
есть также своеобразное учение, которое обосновывает научное
познание мира. И он находит язык грамотного выражения
прозой того, о чем говорит наука, формулируя соответствующие
структуры и правила этой прозы. Физическое измерение, согласно Декарту, неразрывно связано с представлением cogito, и вся
проблема состоит в выявлении как раз этой связи. Или, другими
словами, в узнавании того, что философский текст имеет прямое
отношение к cogito, или “я мыслю”.
Этот пример “реальной философии”, связанной с проблемой
физического измерения, позволяет нам, таким образом, сделать
следующий вывод. С одной стороны, мы имеем реальную философию, а с другой - ее язык или то, что можно назвать философией учений и систем. Философия учений и систем есть способ
экспликации реальной философии. Реальное дело философии (т.е.
какие в действительности акты философствования совершены в
культуре и установились внутри нее в виде неосознаваемых
навыков), разумеется, требует экспликации, и средством такой
экспликации является специальное профессиональное занятие,
называемое философией. Одно может совпадать, а может не совпадать с другим. По отношению к реальному делу философии способ
его экспликации может быть адекватным или неадекватным, удачным или менее удачным и т.д. Сошлюсь на пример того, когда
такая экспликация пород ила весьма большую разницу языков.
Выше я сказал, что в акте физического измерения имплицирован какой-то образ сознания в качестве условий возможности
самого физического измерения. Так вот, это можно эксплицировать по-разному. Исторически мы знаем, что можно эксплицировать это, скажем, развивая теорию cogito, или философию
трансцендентального типа, а можно, оставаясь целиком на
эмпирически-сенсуалистских позициях, элиминируя какие-либо
внеопытные допущения, и тогда мы будем иметь философию типа локковской или юмовской. Но философское поле у всех философов одно. Они просто по-разному, приходя к разным выводам
из разных посылок и допущений, эксплицируют то, что мы
назвали реальной философией. И еще одно замечание методического характера. Когда мы сталкиваемся с фактом спора, например, между Гоббсом и Декартом или между сенсуалистами и
рационалистами, то должны видеть в этом не просто идейное
отрицание одного философа другим, а действительный смысл,
реальное содержание их расхождений, не забывая при этом о реальном поле, к которому относятся употребляемые ими понятия.
И гоббсовские и декартовские понятия относятся, в сущности, к
272
Ъаиафл, аК&Яьи, шиЯф£ыо
одному и тону же - к попытке эксплицировать рационально в
объективном научном познании то, что оно предполагает
относительно свойств человеческого наблюдения и сознания. И
такое предположение есть в любом объективном научном
методе. Но вот язык философии оказался расходящимся; перед
нами здесь д ве расходящиеся ветви: эмпиризм и рационализм. И
различие между ними возникает на уровне философии учений и
систем.
Таким образом, мы установили, что философия учений и систем есть нечто отличающееся от реальной философии, которая
существует в самом познании. Так что же тогда такое философия?
Очевидно, чтобы эксплицировать реальную философию, нужны
какие-то специально созданные для этого понятия. Типа понятий сознания и материи, субъекта и объекта, познавательных
способностей, онтологических структур, места человека в мире и
т.д. Это и есть та совокупность понятий (с соответствующими
навыками и процедурами анализа), посредством которых выявляется реальная ситуация или реальное поле философствования,
существующее в культуре. И здесь хотелось бы обратить внимание еще на одну черту философии. А именно на то, что она
кажется нередко вечным повторением одного и того же.
Часто говорят, что в отличие от науки в философии нет
прогресса: скажем, наука кумулятивна, а философия - нет. Действительно, в философии нет раз и навсегда завоеванных ранений, хотя в ней, казалось бы, постоянно обсуждаются одни и те
же проблемы. Эта видимость складывается из одного простого
обстоятельства. Дело в том, что специальные философские понятия, посредством которых философом эксплицируется некое поле, существующее независимо от такой экспликации, являются
способом осознания и выявления некоторой субъект-объектной
ситуации. Эти ситуации меняются исторически, во времени, и в
каждой из них приходится заново решать следующие вопросы:
что реально, а что принадлежит сфере сознания; что объективно,
а что субъективно и т.д. Дело не в том, что в философии всякий
раз решается якобы нерешенный вопрос о том, что первично, а
что вторично. Отнюдь, на самом деле философ, пользуясь определенной техникой понятийного анализа, в каждой субъект-объектной ситуации вынужден решать заново, по разному распределять субъективное и объективное, реальное и ирреальное. Всякий
раз это нужно устанавливать специально. Причем следует заметить, что отмеченного постоянства нет и в науке. Например,
когда-то существовала совокупность суждений, которые считались
объективными в аристотелевской физике и которые затем оказались субъективными, т.е. утратили характер объективности, в
галилеевской физике. В ньютоновской физике объективными
Сознание как. <рим>софскал н^о£има
273
утверждениями о причинной связи явлений считались утверждения,
которыми описывались одновременные события, а в эйнштейновской физике как раз одновременные события - это события,
относительно которых нельзя устанавливать объективные
причинные связи, и, следовательно, суждение о них субъективно.
Таким образом, понятия субъективного и объективного
смещаются и пересматриваются даже в физике. И то же самое
неизменно происходит в философии, поскольку мы имеем здесь
дело со сменой определенных ситуаций, структур и систем, в
рамках которых, на основе вырабатываемых понятий, приходится решать всякий раз целый ряд философских проблем, возникающих по поводу субьект-объектной ситуации.
Повторю еще раз, мы постоянно сталкиваемся в философии
со “смещением” субъект-объектного отношения или с тем, что в
ней нет чего-то, что всегда было бы объективным или субъективным и не требовало бы соответствующей аналитической
работы. Такого нет даже в физике, и тем более этого нет в
философии, но не потому, что философы не развивается, а
потому, что философская деятельность носит такой характер,
являясь предельной формой всякого нашего сознательного опыта.
Следующая черта, на которую также хотелось бы обратить
внимание, относится скорее к проблеме чтения философских текстов и восприятия философов. Из того, что сказано, фактически
вытекает, что, хотя мы уважаем философов за их некую исключительность, однако чаще они интересуют не сами по себе, как
люди, а нас интересуют плоды их деятельности, работы. Какие-
то продуктивные, смысловые структуры, какие-то проблемные
ситуации и связи мысли, напряжения между которыми и порождают то, что мы называем: мысль Декарта, мысль Канта, мысль
Гегеля, мысль Маркса и т.д. Поэтому моя дальнейшая задача
будет заключаться в том, чтобы рассматривать философские
утверждения не только как элементы индивидуальных миров
сознания, а как элементы каких-то ситуаций и структур философствования с целью выявления проблем, связей между ними.
Или, иначе говоря, мое внимание будет направлено на усмотрение в истории философии (за философскими текстами) каких-то
структур. Назовем их порождающими структурами, или абстракциями. Вся совокупность будет интересовать меня при этом,
естественно, в связи с главной проблемой - сознанием.
Беря эту проблему как центральную, следует прежде всего
подчеркнуть, что, собственно говоря, в философии содержится
несколько фундаментальных абстракций. Их не так много. И
если мы выделим такого рода абстракции в качестве путеводной
нити, тогда вся пестрота философских школ и философских имен
станет для нас более понятной, осмысленной: это позволит
274 доклады, а£<иЯьа, ишбфвыо
свеети все их многообразие в общем к вполне обозримому числу
мысленных образований. В целях такого обозрения всю европейскую философию можно, на мой взгляд, конечно условно, свести
к трем фундаментальным абстракциям.
Фундаментальные философские абстракции
Первая абстракция, введенная человеком, стоящим у
истоков европейской философии, а именно Платоном, - это
абстракция рациональной структуры вещи, или абстракция
“выполнение понятого”. В текстах самого Платона она фигурирует как проблема идей: мир идей, идеальный мир, понятие,
идея. По сути дела введение Платоном этой абстракции и было
первой попыткой постановки проблемы сознания. Что это за
абстракция? Это продукт очень отвлеченного, спекулятивного
философского рассуждения, фактически метафизического рассуждения (метафизического в старом смысле этого слова, безотносительно к различию между метафизикой и диалектикой). Она
появилась как побочный продукт завоевания философом некоего
духовного измерения жизни человека.
Метафизика предполагает, что в человеке, помимо его чувственного устройства, помимо его способности воспринимать
окружающий мир и реагировать на него в качестве части самого
этого мира, существует и действует некая сила иной природы.
Проиллюстрирую существование этой проблемы вначале на
доступном примере лейбницевской монадологии.
Известно, что в философии Лейбница есть понятие монады,
т.е. такого образования, которое воспроизводит в себе весь мир.
Мельчайшая монада (скажем условно, микрокосмос) воспроизводит, отражает в себе весь мир. Но при этом у этой монады есть
очень странное свойство, которое, казалось бы, исключает как
раз то, что только что сказано. Это свойство состоит в том, что
у монады “нет окон”'. Так как же она воспринимает окружающий мир и воспроизводит его в себе? На условном языке философии это означает следующее: помимо того, что окружает
человека непосредственно, есть, очевидно, еще некая другая
реальность, существующая вне эмпирической реальности культуры, и ее нельзя воспринять, как мы воспринимаем обычно
окружающую среду. Но возможно ее духовное восприятие, которое совершается как раз при закрытых окнах. То есть поверх и
помимо любых культурных реалий. Это и есть монадическое
воспроизводство мира. “Закрытость окон” - это просто фило-
1 Лейбниц пишет: “Монады вовсе не имеют окон, через которые что-либо могло бы
войти худа или оттуда выйти* (Лейбниц Г.В. Соч. в четырех томах, тЛ. М., 1982,
с.413-414).
Сознание как философская нро&ила 275
софская метафора, указывающая на то, что воспринимаются не
близлежащие эмпирические обстоятельства, что, более того,
через них нужно как бы пререскочить, а это и значит “закрыть
окна” и открыть соответственно в себе то измерение, где ты един
с ирокезом, индусом и т.д. Иными словами, монада - это как бы
другой срез мира, не смена, не последовательность, не перенос
причинных связей от места к месту, а особый феномен бытийно-
личносшого акта его постижения или свободного действия. Это
и есть проблема метафизики. Вспомним, что первоначально
проблема метафизики развивалась в виде проблемы личностного
спасения, например, пифагорейцами. Это переход в другое измерение, поверх собственной культуры, собственной ситуации и
т.д. или, как говорили древние, - отрыв от “колеса рождений”.
Таков метафизический смысл проблемы, который нам важен
для перехода к платоновской проблеме. Итак, существует какое-
то “истинное” измерение, появляющееся у человека при условии,
когда он устремлен на что-то поверх и помимо его ситуации,
которую он воспринимает и которая на него воздействует. Появление этого в человеке называют обычно трансцендированием.
Человек трансцендирует себя или свою ситуацию к чему-то -
здесь и появилась проблема. Хорошо, трансцендирует, сказали
философы, нашли такое слово - “трансцендирование”. Но само
это слово и эта замеченная вещь предполагают, видимо, ответ на
вопрос - куда, к чему? Ведь если есть трансцендирование, то
должно быть трансцендентное, т.е. где-то вне человека, в некой
высшей, истинной реальности существующее что-то в виде чистых предметов или сущностей. Они и появятся у Платона под
названием идей. Но дело в том, что идеи Платона - это не просто утверждение о каких-то предметах, к этому еще нужно придти. А пока слово “трансцендентное” мы не вправе употреблять.
Трансцендирование ведь означает, сказал бы философ, что человек тем самым выходит из себя, за свои собственные пределы. А
как это можно описать, как и на каком языке об этом можно говорить? Как можно вообще выйти из себя? И Платон отвечает
следующее: да, человек не может выйти из себя. Нет такой точки,
на которую можно было бы встать и со стороны на себя посмотреть. Есть трансцендирование, но нет трансцендентного. Есть
действие в человеке какой-то силы, но приписывать ей цель и
направление в виде предмета, на который она направлена, мы не
имеем права. Как философ Платон не мог этого сказать. Можно
находится в состоянии трансцендирования, но завоевать точку
зрения и посмотреть, что трансцендентально предполагается, -
невозможно. Что же делает Платон? Он переходит на уровень
рефлексии. Здесь и появляется та проблема, которую мы потом,
276 2)окм1фл, он&Яьи, шалфею
гороздо позже встретим в эпистемологическом одеянии у Декарта, Локка, Канта и т.д.
Платон рассуждает примерно так. Мы имеем субъекта и
имеем какую-то деятельность трансцендирования. И эта деятельность может быть охвачена актом сознания (это утверждение проводится им в форме теории “воспоминания”), на уровне
рефлексивного высказывания о том, что содержится в трансцен-
даровании. Или на уровне рефлексивного дублирования проявления этой силы, ее осознания в себе. Это рефлексивное
дублирование или сосредоточение в своем сознании и тем самым
засекание трансцендирования на себе и есть сущность, согласно
Платону. Сущность - это такое представление о предмете,
которое возникает относительно предмета в виде рефлексивного
сосредоточения на проявлении в себе трансцендирования.
Трансцендарование можно только дублировать: оно произошло
спонтанно, и появляется его механический рефлексивный дубль.
Нельзя описать трансцендарование со стороны, можно лишь
задать сознание трансцендирования. И это сознание и есть тот
материал, из которых строятся наши истинные понятия о вещах
внешнего мира. Понятие сущности появляется применительно к
рефлексивному уровню, в связи с осознанием философом
действия в нем трансцендирования; оно не существует само по
себе, натурально. Тот язык, в котором фигурирует понятие
“сущности”, есть язык опосредованного введения или рефлексивного дублирования чего-то трансцендирующего меня во мне.
Этот уровень рефлексии, т.е. первого представления о сознании, его использования для философского построения мы находим у Платона в его учении о сущностях или идеях. Это и есть
абстракция “выполнения понятого”, или рациональной структуры
вещи, которая в дальнейшем будет встречаться в философии и
науке. Она берется в максимально мыслимом своем виде (как-
максимально мыслимая вещь, или сущность), а ее эмпирическим
связям приписывается законосообразность (“правилосообраз-
ность”) в той мере, в какой эти связи рассматриваются как
“выполнение” максимального понимания. В этом суть допущения Платоном некоторого идеального мира, мира идей, который
строится следующим образом. Допустим, мы фиксируем какую-
то причинную связь между А и В. Эта причинная связь, разумеется, локальна. Между тем нас, как и Платона, интересуют ее
основания. Почему она возможна? Для Платона условием ее
возможности является заданность или полнота всех связей мироздания и наличие абсолютного знания. Локальное событие описывается как бы с учетом одновременного знания всех других
мест, удаленных от него. Вспомним, что у Лапласа в его учении о
детерминизме фигурирует некий интеллект, который способен
Сознание как философская nfio&ttAa
277
одним актом мысли, зная все предапествующие состояния, охватывать все последующие состояния. Это и есть указание на то, что
мы мыслим отдельные причинные связи в предположении некоторого эфира полноты связей, где весь остальной мир гарантирует
нам одну данную связь. Это как бы акт божественного наблюдения, содержащий в себе все предметы и все их отражения.
Следовательно, отдельная, единичная связь предполалагает
некую полноту связей универсума и абсолютное знание и тогда
она - именно как отдельная, локальная - фиксируется объективно
и законосообразно. Но этому должен предшествовать, несомненно,
какой-то эмпирический ход вещей, позволяющий применять к
нему понятие законосообразности, рассматривать его на уровне
выполненного в виде рациональной структуры. Рациональная
структура выполняется эмпирически и именно таким образом, и
тогда эмпирическое - законосообразно. Это и есть знаменитая
платоновская проблема, что, с одной стороны, есть идеи, а с
другой - тени идей, весь этот метафорический язык об идеях как
пра-образах вещей. Хотя дело, конечно, не в метафорах, а в сути
проблемы: когда мы описываем реальные события как законосообразные, то должны помнить, что связано это с неким актом
максимального, предельного понимания. Лишь в этом случае
достигается точность, объективность. Ведь что такое физическая
связь? Это строгая причинная связь. И ее строгость гарантируется
тем, что выполняется некоторое предельное понимание. Полнота
связей универсума и абсолютное знание необходимы для того,
чтобы в отдельном случае можно было локально зафиксировать
причинную связь.
Таким образом, расшифровывая введенную Платоном
абстракцию, мы показали две вещи. Во-первых, что эта проблема и ход мысли возникли на основе какого-то представления о
сознании, что перед нами одна из первых зашифрованных
теорий, когда по отношению к трансцендированию был использован рефлексивный акт. И второе: раз рефлексивный акт
выполнен, то, следовательно, все последующие утверждения
должны браться cum grano salis - “со щепоткой соли”, с учетом
того, что они относятся к уровню, на который нас переводит
рефлексия, а не просто к вещам.
В свое время в связи с обсуждением проблемы происхождения языка начался, как известно, спор, продолжающийся и
поныне, между сторонниками так называемых искусственных и
естественных имен. Опираясь на учение Платона, мы можем
сказать, что имена или языковые акты законосообразны или
правилосообразны только в мире идей. Дело не в том, что имена
“искусственны” или “естественны”, а в том, что говоря об этом,
мы уже исходим из каких-то абстракций, например, абстракции
278 Зоклафл, айшйш, иыЯфвш
законосообразности, введенной на основе предварительного
использования рефлексивных актов.
Итак, мы обнаружили у Платона определенный способ
построения теории, связанный, во-первых, с осознанием того,
что для теоретического отношения к миру необходимо рефлексивное схватывание человеком в себе трансцендирующего его
мира. Что у человека нет другой способности ухватить эту
трансцендирующую силу, кроме как косвенно - через форму
сознания. И, во-вторых, что это удвоение человеком своего
собственного отношения к миру или предмету выступает, с
одной стороны, в виде предмета, как он независимо дан в опыте
(существовании), а с другой - в виде “сущности”, “идеи”
(относимой как раз к рефлексивному дублированию действий
мира). Между ними возникают сложные отношения, которые и
составляют содержание абстракции “выполнение понятого”.
Таков метафизический ход у Платона. Но дело в том, что ни
у Платона, ни у других античных философов этот ход не был
дополнен другим весьма существенным методологическим ходом
(идущим уже не от метафизики, а от определенной онтологии и
эпистемологии), отсутствие которого повлияло на судьбы платоновской абстракции. В результате - абстракция рациональной
структуры вещи оказалась как бы в пустоте, без правил и принципов, в соответствии с которыми можно было бы контролируемо воспроизводить и регулировать познание и высказывания о
‘сущности” в эмпирическом опыте. В силу того, что не было этого
второго хода, снизу, произошло следующее. Платоновская
абстракция сущности фактически сразу подверглась процессу
мифологизации и натурализации. И продуктом такого процесса
явилось представление о некоторой сверхчувственной реальности, стоящей над эмпирической, “посюсторонней” реальностью,
о существовании некоторых идеальных предметов в этой сверхчувственной реальности. То есть то, что было введено столь
сложным образом, стало истолковываться, по сути дела,
буквально, вполне натурально. Само допущение абстрактных,
идеальных объектов стало выступать в виде постулата о наличии
якобы “истинной”, сверхчувственной реальности, к которой
человек должен стремиться. Короче говоря, философия вновь
начала развиваться как миф личностного спасения, а познавательная, научная ее сторона оказалась представлена догматическими метафорическими рассуждениями, неконтролируемыми
эмпирическими актами духовного трансцендирования реальности. И этот процесс мифологизации продолжался фактически
на протяжении всей истории средневековой философии.
Но вот в XVII веке возникает математическое или эмпирическое естествознание и мы обнаруживаем появление второй
Сознание как философская HjtóéucMa 279
фундаментальной абстракции, коррегирующей первую, которая
сняла с нее мифологические напластования и, взаимодействуя с
нею, породила массу новых понятий, новых ходов мышления в
философии.
Эта вторая абстракция, введенная Бэконом и Декартом (а
точнее, прежде всего Декартом), может быть названа абстракцией “разрешимости”, или абстракцией некоего операционального
сознания. Ею допускается законность и обоснованность операционального способа обращения с данными сознания, предполагающего их обработку и репродукцию в виде контролируемых
образовании, т.е. поддающихся сопоставлению с “идеями” и
впервые нечто разрешающими в смысле опытного знания. Если
мы внимательно присмотримся к тому, о чем, собственно, идет
речь, когда, например, Бэкон рассуждает об очищении сознания
от идолов, или когда Декарт вводит свои правила методологии в
контексте теории cogito, то увидим, что через названную
абстракцию в науке вводится именно этот способ обращения с
сознанием. Предполагается, что мы можем познавать мир в той
мере, в какой способны стихийным и независимым воздействиям
мира на естественный аппарат отражения человека (“впечатлениям”) поставить в соответствие их эквиваленты - контролируемо воспроизводимые образования сознания. Иначе говоря, из
всего состава данных наука отбирает при этом такие образования сознания, которые она может (преобразовав и перестроив)
повторять и воспроизводить в массовом виде. Ее требование:
все, что содержится в составе человеческих утверждении о мире,
должно подвергаться проверке или разрешению на этих контролируемых, воспроизводимых и операционально повторяемых
состояниях сознания, данных человеку эмпирически, или эмпирически действительных. Так, стихийные впечатления заменяются
конструктивно задаваемыми эквивалентами, которые уже могут
повторяться в обобщенном виде и сообщаться другим людям.
Эти эквиваленты, контролируемые и воспроизводимые в фиксированных и единообразных условиях (что характеризует знание
как форму общения), играют еще и указанную выше роль: на
основе их должно быть разрешимо все, что утверждается о мире.
Любые теоретические утверждения должны быть сопоставимы
или разрешимы на этих образованиях сознания, удовлетворяющих
критерию наблюдаемости. Но наблюдаемости не буквальной:
физика не требует, скажем, чтобы наблюдался обязательно атом,
когда вводится такое понятие. Она требует, чтобы любому теоретическому утверждению об атоме мы поставили в соответствие
контролируемые нами образования, в которых имеют место
эмпирически истолковываемые следствия атомарной структуры.
280 Зоклае/ы, анаЯм*. шаЯе/хвыо
Введение хакого способа обращения с сознанием, или
абстракции разрешимости, оказалось очень важным актом: оно
сняло мифологические наслоения с платоновской идеи истинного мира, или истинного бытия, и породило, как я сказал, много
новых философских понятий и проблем, обращаясь к которым
мы лучше понимаем то, что кажется в философии туманным или
просто выдуманным, короче говоря, с появлением этих проблем
и понятий, как и породившей их абстракции, у нас появляется
мысль, позволяющая мыслить их в качестве возможностей нашего
собственного мышления, вопреки различию времен и культур.
Наконец, третья абстракция, которая связана с дальнейшей
проработкой уже выявленного поля онтологии и эпистемологии,
была введена Марксом. Это абстракция практики или предметной стороны деятельности, активности (а также связанные с
этой активностью понятия идеологического сознания, надстройки и т.п.). У нее масса различных форм выражения, проекций. Но
одно весьма важно: она указывает на существенную перестройку
того классического поля онтологии и эпистемологии, которое
сложилось в философии, оперировавшей платоновской и декартовской абстракциями, представляющими собой рефлексивную
конструкцию самосознания (с соответствующими правилами
объективности и рациональности). Поэтому в понятии практики
я выделю пока главное: подчеркивание таких состояний бытия
человека - социального, экономического, идеологического,
чувственно-жизненного и т.д., - которые не поддаются воспроизведению и объективной, рациональной развертке на уровне
рефлексивной конструкции, заставляя нас снять отождествление
деятельности и ее сознательного, идеального плана, что было
характерно для классического философствования. В данном
случае нужно различать в сознательном бытии два типа отношений. Во-первых, отношения, которые складываются независимо
от сознания, и, во-вторых, те отношения, которые складываются
на основании первых и являются их идеологическим выражением
(так называемые “превращенные формы” сознания). Согласно
Марксу, “идеология” - это сознание, не обладающее материалистическим самосознанием. Предполагается, что в человеческой
деятельности есть нечто, что связывает ее не с тем, как человек ее
осознает и ухватывает через сознание, а с некоторым внечелове-
ческим целым. Короче, абстракция Маркса указывает на наличие в социальном бытии чего-то, что не может быть объяснено
через акты сознания этого “чего-то”. А это, в качестве леммы,
предполагает, что, следовательно, и к самому сознанию мы
должны подходить так, чтобы, имея перед собой в качестве
предмета объяснения некоторые его образования, попытаться
найти их содержание в какой-то иной форме, чем та, которая их
Сознание как философская п^обиела
281
представляет в качестве сознательных, и, проанализировав эту
другую, вне сознания данную форму, идти от нее к объяснению
того, что уже сознательно выражено. Вспомним знаменитый
Марксов тезис о том, что общественное бытие определяет обще*
ственное сознание. Фактически это и обозначает, что сознание
должно объясняться в терминах чего-то другого. Что нужно
искать содержание образований сознания в другом месте или в
другом измерении, где можно их эмпирически-контролируемым
образом, независимо от того, как они осознаются, воспроизводить в нашей теории. Или, грубо говоря, не веря самим носителям “сознания”, иметь методологически контролируемую
возможность отвлекаться от того, что они говорят или думают о
себе и о своих состояниях. Следуя именно этому принципу,
Маркс и подходил к анализу сферы экономики, социальной
жизни, истории и т.д.
Вот три нити, или три абстракции - абстракция рациональной
структуры вещи Платона, абстракция разрешимости Декарта и
абстракция практики, или чувственно-предметной деятельности
Маркса, уводящая нас в каком-то смысле за рамки классического
сознания.
Выявив эти три нити, вернусь теперь к тем особенностям
философии, о которых я говорил, введя различение между реальной философией и философией учений и систем. Посмотрим,
какова дальнейшая особенность философской работы. Чем,
собственно говоря, профессионально занимается философ,
приступая к экспликации реального дела философии?
Как я сказал, сознание - это предельное философское понятие, и, следовательно, сама философия есть некая попытка работать на этом пределе. Это особая техника предельных переходов,
где последние служат для прояснения непонятной ситуации и
превращения ее в понятную. Можно сказать так: философия
есть совокупность некоторых правил интеллигибельности, или
понятности. Чтобы пояснить это, воспользуюсь примером
существования в науке идеальных абстрактных объектов.
Известно, что в мире самом по себе не существует прямых
линий, идеально твердого тела, окружностей, несжимаемого газа, чисел. Все это идеальные объекты, которые позволяют науке
иметь в своем составе не только акты опытного наблюдения, но
и акты рассуждения, дедукцию. То, что позволяет осуществлять в
науке дедукцию, рассуждение, и есть идеальные абстрактные
объекты. Появление их открывает возможность не просто
наблюдения, но научного рассуждения о наблюдаемых фактах.
Обратимся к одному из таких идеальных объектов - к понятию чисел, о которых учит математика. В физическом измерении
ученый использует числа, чтобы описать какое-то явление или
282 ЗоклафА, аКаЛш, ин&фвые
процесс, величину которого он хочет узнать. Ведь измерение и
есть доказательство в применении к какому-то явлению некоторого числа. Но здесь обнаруживается следующая вещь. Оказывается, что объект, называемый числом, предполагает при этом,
как минимум, два других понятия, делающих возможным доказательство числа на предмете или измерение величины этого
предмета. Это понятия порядка и множества. В основе применения понятия числа лежит некоторое представление упорядоченного множества. Хорошо, есть упорядоченное множество. Но
когда мы пытаемся разобраться, что происходит при оперировании этим представлением, то обнаруживается, что в классической математике оно предполагает, в свою очередь, актуальную
данность некоего бесконечного, непрерывного многообразия. То
есть предполагает, что хотя любое измерение и доказательство
состоят из конечного числа обозримых шагов и что никакое
бесконечное множество не может быть задано конечным числом,
тем не менее при наличии каких-то правил мы можем прервать
эту бесконечность и остановиться на каком-то шаге, считая, что
она выполнена актуально. Следовательно, завершением этой
операции является предположение о некой актуально данной
бесконечности. И это делается постоянно.
Приведенный пример понадобился мне, чтобы показать,
какое отношение ко всему этому имеет философ, пояснить (ибо
на поверхности это не видно), что в действительности понятия
философии несут в себе. А несут они связь вот с такого рода
интеллектуальными, или логическими, ситуациями. Человек,
оперируя понятием числа, оказывается в какой-то логической
ситуации, независимо от своих желаний. И я попытался грубо,
схематично эту ситуацию задать: схематично, поскольку меня
интересует не сама ситуация, а характер философского вмешательства в такого рода логические ситуации. Такая ситуация
проигрывается в науке путем установления определенных математических и физических правил, без того, чтобы ученый был
обязан всякий раз отдавать себе отчет в действительном ее
смысле. Но приходит философ и говорит: вот вы на каком-то
основании ввели представление об упорядоченном множестве и
тем самым предположили, что актуальная бесконечность выполнена. То есть дали право конечному человеку утверждать что-то
о бесконечном, которое он охватить конечным числом операций
не может. Следовательно, скажет философ, вы предположили
рядом с человеческим интеллектом какой-то другой интеллект -
“божественный”, приписав ему свойство охватывать одним
взором, актуально все множество, бесконечное и непрерывное.
В истории философии мы постоянно сталкиваемся с подобного рода вещами, считая нередко, что это просто примеры
Сознание как философская н^юблемд 283
бесплод ного философствования, не имеющие отношения к науке.
Но философия не есть странное и бесплодное занятое такими
вещами. В истории философии (а не в теологии) рассуждение о
Боге и божественном интеллекте всегда было способом доведения до какой-то понятности той ситуации, которая складывалась именно в самой науке.
Оперирование простейшими научными объектами, например числом, предполагает некоторую совокупность мысленных и
довольно абстрактных допущений. И философский язык дает
возможность говорить эксплицитно и подробно именно о таких
допущениях. Причем сама подоснова философского рассуждения
при этом скрыта, потому что, когда рассуждение начинается, у
него появляется собственная необходимость и собственные задачи, собственные разветвления понятий, и их смысл мы можем
ухватить, только взяв их вместе с ситуацией - логической, онтологической и эпистемологической, в которой оказался человек,
совершая акт познающего мышления. Например, мы мыслим
числами и находимся в ситуации (зная или не зная об этом),
которую философ и пытается описать, выявляя то, что было названо реальной философией, но уже в специальных понятиях. То
есть доводя до предела элементы и связи самой ситуации. Лишь
предположив, что множество актуально выполнено, мы имеем
право, для понимания способа действия человеческого интеллекта, допустить его предельную форму - божественный интеллект
и рассуждать далее о том, в каких отношениях этот интеллект
находится с человеческим интеллектом, и тем самым заниматься
не теологией, не разделом религиозной догматики, а описанной
выше логической ситуацией, никакого отношения к религиозной
вере не имеющей. Учение Декарта и Канта о Боге находится вне
теологии, это раздел рациональной философии, занятой соответствующей онтологией и эпистемологией науки, научного
познания. Перед нами как бы историко-философское правило
обращения с философскими текстами. А именно, мы получаем,
таким образом, обоснованную возможность отвлекаться от
состояния сознания философов. Яркий пример этому - Декарт.
Был ли Декарт верующим или нет, уровень и содержание той
проблемы, которая обсуждалась им в терминах отношения между божественным и человеческим интеллектом, не меняются. Они
лежат в области, инвариантной относительно того смысла,
который лично Декарт как богобоязненный человек мог им придавать для ранения своих жизненных проблем, проблем своего
внутреннего мира. Следовательно, мы можем брата определенные
элементы и части “философской машины” совершенно объективно. В этом смысле понятие Бога в метафизике и философии
XVII века есть квазирелигиозное понятие, т.е. в своем содержании
284 Эокхафя. еЛаЛьи, шаО^вью
оно живет и функционирует там не по законам религиозного
сознания, а по совершенно другим законам. Его судьбы,
разыгравшиеся в рамках религиозного сознания или теологии,
не затрагивали его содержания. Отсюда важное побочное следствие: любая атеистическая критика бессильна перед концептом
“бога” в той мере, в какой он - квазирелигиозен. Например,
совершенно ясно, что она не затрагивает в этой связи декартовской проблемы, если мы выразим ее в лапласовской форме. То
есть предполагая некий сверхмощный ум, который знал бы все
предшествующие состояния мира и поэтому мог видеть и знать
все последующие его состояния. Ведь ясно, что Лаплас не обсуждал в данном случае какой-либо догмат религиозной веры, а
говорил лишь то, что говорил и Декарт. Поэтому, рассуждая о
религиозном сознании, и мы не ответим иначе на тот вопрос,
который ставит Лаплас. На него мы можем ответить, лить
обращаясь к другой проблеме, которая, в частности, обсуждается
и в современной физике, а именно - к проблеме границ: где и в
каких границах оправданно говорить об идеализированном
абсолютном наблюдателе.
Разумеется, те понятия (числа и абсолютного наблюдателя),
на которые я ссылался в качестве примера философской работы,
живут в культуре, обрастая всевозможными религиозными ассоциациями, т.е. ассимилируясь каким-то образом религиозным
сознанием. В том числе и в головах самих авторов. И этого
трудно избежать, поскольку невозможно философские (как и
религиозные) идеи полностью оградить предупредительными
рогатками, исключающими искажения, инородные напластования или их обыденное понимание и натурализацию. В этом
отношении все, созданное человеком, претерпевает свою судьбу,
включая и философские понятия. Но тем не менее, хотя последние и имеют свою судьбу, и эта судьба может их от нас
отчуждать и делать философию чужой и непонятной, мы-то в
познании продолжаем говорить на языке (в том числе и в физике),
который когда-то возник на основе абстракций и допущений.
Он возник в эфире определенных мысленных актов. Эти акты
могут “исчезать” и не реконструироваться сознательно, не
требовать каждый раз индивидуальной рефлексии. И все же они
продолжают оставаться условием наших понятий и представлений. И иногда возникают ситуации, когда мы должны, чтобы
двигаться дальше, восстановить эти скрытые, ушедшие на дао
культуры условия или жизненный эфир понятий.
Такая ситуация и возникла сегодня в области фундаментальных абстракций, о которых я говорил. Именно попытка
эксплицировать и описать эту ситуацию изменила и усложнила
язык современной философии и ее инструментарий, породив
Сознание как философская, проблема
285
явление крупного стиля в XX веке, который можно назвать
“неклассическим”. Это название целиком сводимо к фиксации
особого характера допущений относительно сознания (“новых
сил в человеческом я”, как сказал бы Кант) и результатов его
анализа. Здесь даже известные, хотя и довольно эзотерические
результаты трансцендентализма (я имею в виду прежде всего
принцип очевидности, то есть локализации бесконечного целого) пришлось переоткрыватъ как бы заново. Например, в виде
“антропного принципа” в физике. А это, то есть такая работа
разрешения прошлых смыслов и высвобождения живого и “вечно
нового”, может, как известно, на уровне языка оборачиваться
подчас разной степенью удачи и неудачи. Скажем, на уровне
языка и системы Маркса, на мой взгляд, произошла полная неудача
по сравнению с его первичными “рабочими” интуициями, в результате чего мы уже не можем свободно мыслить, поскольку для мысли
нет пространства. Во всяком случае, именно третья из названных
мной абстракций оказалась в наши дни ящиком Пандоры, из
которого “посыпались” всякие не замечаемые раньше “чудеса”,
указывающие на многомерность любого явления и события, онтологически укорененным элементом которых является сознание.
постараюсь рассмотреть поставленную проблему так,
чтобы в ней было завязано максимальное количество
нитей, интересных для людей, занимающихся разными
вещами и работающих в разных областях философии.
Разумеется, проблема сознания, казалось бы, с самого начала, по определению такая, что с ней можно связать все. Главное
- подойти к этому разумным образом. И вот, думая о том, как
это сделать, я решил, что лучше всего подойти к делу с точки
зрения, которую я назвал бы космологической. То есть задаться
вопросом не о представлениях в головах людей, которые мы
называем сознанием или сознательными представлениями, а
задаться вопросом вообще о факте существования чувствующих
и сознательных существ в космосе. Поскольку есть какое-то космическое устройство, в нем есть существа, обладающие чувствительностью и сознанием, и это вытекает из некоторого особого
их положения или места, занимаемого в космических процессах -
не только объективных, но еще и по размерности не сопоставимых с размерностью наблюдаемых нами человеческих существ;
Органы онтологии*
• Доклад в Институте философии (Москва) 1 апреля 1986 г. Публикуется впервые.
2 86
аомяли, имОфбыо
короче, вытекает из места сознания в этих процессах дня
возможностей самого познания, нашей жизни, общественного
устройства и т.д. И мне кажется, что из этого особого положения
чувствования и сознания вытекает очень многое в том смысле,
как мы переживаем нашу жизнь, когда ее причины и события
часто располагаем в таких местах и придаем им такие объяснения, которые ничего общего не имеют с тем, что происходит в
действительности, если под действительностью или реальностью
понимать в данном случае выявление некоторых независимо от
нас действующих сцеплений и механизмов, которые составляют
онтологическую реальность сознания ь отличие от представленной
в головах реальности (в последнем случае слово “реальность”
можно взять в кавычки).
Следовательно, мое рассмотрение будет попыткой критического рассмотрения. То есть попыткой выявления предельных
условий как работы самого сознания, так и нашей возможности
говорить об этой работе. Учитывая к тому же, что всякая критическая попытка есть продолжение кантовской критической
попытки - в нашем случае с той лишь разницей, что мы должны
поступать скорее по завету Канта, а не по тому, как он буквально выполнил свое понимание или свою критику. Тем более, что в
его завете предполагалась возможность охватить критикой и те
области, которые сам Кант не охватывал. А именно - область
номер один, которую можно было бы условно назвать “критикой созерцаний”, поставив такой вопрос: нет ли в самих тех
вещах, которые называются данностями созерцания, некоторого
всеобъемлющего элемента, поддающегося критическому анализу
или нуждающегося в критическом анализе? И во-вторых, критику ума. Не анатомию и архитектонику ума, а рассмотрение ума
как способности и возможности события в мире. Повторяю, не
строение логической способности, называемой умом, а рассмотрение ума как возможного события или состояния человеческих
существ в том мире, о котором они высказываются в терминах
этого же ума.
Простой вопрос. Кант говорит о возможном опыте. То есть
об опыте, который в принципе возможен. В принципе возможный опыт предполагается осуществленным. Ну, скажем, если я
имею некоторые данные созерцания, то данность содержаний
созерцания в априорных формах пространства и времени предполагается равнодействующей во всех субъектах возможного
опыта. Так ведь? Например, если я предполагаю, что возможно в
принципе осуществить такой опыт, в котором лежащие передо
мной часы локализованы в пространстве в качестве предмета
внешнего мира, то само извлечение знания об этом воздействует,
влияет на человека; на то, как человек воспринимает, и воспри-
О/иашл сшКлшт 287
нимаемое возбуждает его нервную систему. На уровне представления это может выражаться в виде волнения, пафоса, желания и
т.д. Но если мы поставим дополнительный критический вопрос
по отношению к созерцанию, то мы должны считаться и с таким
несомненным фактом, когда мы имеем дело с патетическими,
например, состояниями человеческого существа, что нечто не
является причиной пафоса, а должно стать его причиной. Или
уже говоря, нечто не является причиной, скажем, состояния
волнения, а лишь становится, должно стать его причиной, или
источником. Иначе говоря, здесь особый поворот кантовской
проблемы об источниках нашего опыта.
Сошлюсь на моего любимого писателя Пруста, который
переживал именно этот опыт прохождения пути испытания по
критическим линиям возможностей самого испытания или
созерцания. Пруст наталкивался все время на простую вещь: если
мы из какой-либо внешней точки наблюдения можем извлечь
знание о предмете, то полагаем обычно, что воздействие этого
предмета на человека и вызывает в нем определенные состояния,
в рамках возможного опыта (скажем, если женщина красива, то
она вызывает у воспринимающего ее красоту человека любовное
волнение). Однако одновременно Пруст сталкивался неоднократно с тем, что на самом деле то, что в предметном языке (я
теперь начинаю разводить языки, предмет - язык внешнего
сравнения), говорит нам, что сам источник того, чтобы в человеке было что-то, скажем, волнение, из этого же источника. Женщина - красива, во мне любовное волнение. Я желал свидания, и
если я получил желаемое, то, казалось бы, поэтому продолжаю
волноваться. Мне радостно, я испытываю все связанные с этим
чувства, которые в языке наблюдателя связаны, конечно, с качествами предмета. Качества извлечены в языке внешнего наблюдения, извлечены в виде источника опыта. А между тем
действительный опыт показывает, что все происход ит не совсем
так. Что предметы во внешнем языке наблюдения, наделенные
различными качествами, уже различны в пространстве реального опыта людей. Что источником волнения является не предметный язык извлеченных качеств женщины, что она красива,
очаровательна, мила, а нечто, ставшее источником, но различенное сингулярно, а вовсе не универсальным образом. В том
числе и для самого человека, который испытал волнения, потому
что оказывается, что он же, мчась на свидание на парах любви,
может оказаться перед фактом полной душевной своей смерти и
равнодушия к тому, что, казалось бы, желал перед этом. То есть
то, что перед ним, на свидании, может и не вызвать состояния
любви.
2S8 2h/uaqt*, аНамьи, unMUfi£b*>
Следовательно, человеческое восприятие, или созерцание,
чаще всего оказывается в ситуации как раз той, которую Кант
очень своеобразным и непонятным для комментаторов образом
называл “практическим разумом”. Мы ведь слова понимаем
предметно и делаем очень большую ошибку. Когда мы слышим
словосочетание “практический разум”, то нам кажется, что это
нечто, сделанное разумом практически. Или практичность разума, если угодно. По ассоциации с нашим обыденным языком. А в
действительности практическим разумом или ситуацией практического разума, его использования Кант называл следующее: нечто,
чего не могло бы быть в виде сознательной цепочки шагов, в
качестве продукта приложения наших желаний, рассуждений,
нашего волевого контроля и т.д., а тем не менее есть де факто.
То есть практическим называется то, что фактически есть. Не
могло бы быть, когда начинаем рассуждать, но есть. Например,
практическим, или скажу так, ходячим практическим разумом
является д вижение руки. Потому что оно невозможно, мы не знаем и не можем себе представить, каким образом представление
способно двигать физические предметы. Я же двигаю свою руку
актом сознания. Движение руки физический акт, но на самом
деле для философа он такой же непонятный и непостижимый,
как если бы - цитирую Канта - я рукой остановил Луну на
орбите. То есть сделал волевое сознательное движение руки и
этим движением остановил бы Луну. И Кант спрашивает: вы,
естественно, не допускаете, что в мире могут случаться такого
рода совершенно мистические события, я с вами согласен. Но
только призадумайтесь над тем, что есть и другие, подобные же
события, которые столь же непонятны. Подумайте, а что вы делаете, когда двинули рукой? Ведь в этот момент осуществилась
некая гармония, которая не может быть проделана логически. И
когда я говорю сейчас, что не может быть проделана, я не говорю - может или не может быть описана теоретически. Отнюдь.
Ибо речь идет, во-первых, о некоторых существованиях, которые
нельзя достичь рассудком, а во-вторых, когда они есть, они не
понятны рассудку. Поскольку нельзя представить себе никакой
модели взаимодействия материи и сознания, и еще никто никакой модели не сочинил - в том числе и люди, которые утверждают,
что сознание есть свойственное материи качество кли что-то в
этом роде. И все эти вещи, тем не менее, есть де факто. Непонятно как, но есть.
То есть практическим разумом Кант называет то, что
Декарт в свое время называл союзом “тела” и “души”, выделяя
это в качестве непостижимой третьей субстанции. Напомню, что
у Декарта вообще не было (как часто думают) субстанций мыслительной и физической, а если даже считать условно, что они
О/чаны, оыноиогии 289
были, то у него их было не две, а три. Третья, особая субстанция -
это взаимоотношение души и тела. Причем под телом в данном
случае понимается не предмет, внешний сознанию (в том числе
мое тело, как внешний предмет моего наблюдения, осуществляемого моим сознанием), а физический элемент некоторого из
разнородных вещей составленного вещества. Скажем, движение
руки, существующее как некое бытие в мире, которое должно
быть принято - здесь слово Канта и выскакивает - практически.
Практически есть.
Значит, особый союз, или схождение тела и души, есть
область практического разума. Соединить нельзя, но де факто
соединено.
Так вот, когда я пришел на любовное свидание, оказалось,
что мое волнение, что это событие (встречи) относится к области, условно названной мной сейчас словами Канта - неудачными, очевидно, - но просто я воспользовался иллюстрацией,
чтобы поставить эту проблему в какую-то существующую связь,
- практического разума. Поскольку мы имеем дело с тем, что еще
давно, скажем, Монтень считал единственной задачей мудрости
и единственной задачей философии вообще. Он считал, что
задача философии - жить à propos, жить уместно. То есть, если
пришел с волнением на свидание, то оно гармонически совпадает с ответным волнением, все сходится. Ты не перед стеной
равнодушия, а тебя понимают. Но я подчеркиваю, что когда я
говорю о практическом разуме, то имею в виду, что условия
схождения этих вещей, во-первых, не сами собой разумеются, и,
во-вторых, не коренятся в предметно описываемых фактах и
свойствах. Моя взволнованность не коренится в том, что женщина красива и я хотел ее видеть, и в то же время, если волнение
существует, то оно не связано с поддающимися извне наблюдению свойствами и качествами самого предмета. Здесь и встает
проблема существования некоторых ненаблюдаемых нами, но
испытываемых тем не менее в жизни, испытываемых под другими совершенно названиями, ограничениях и связностях, налагаемых на условия жизни. Или можно сказать так, ограничениях
и связностях, налагаемых на нас, на наше мышление, на нашу
жизнь, условиями жизни формы. Повторяю, что значит мой
пример? Когда, скажем, придя на свидание, я вдруг, хотя мечтал о
нем всю жизнь, думаю только о том, как бы оно скорее кончилось, потому что не могу выносить ощущения некой абсолютной
смерти, активного равнодушия в душе. Бывает такое активное
равнодушие. Причем, я не случайно слово смерть употребил,
описывая это состояние. Оно означает, что есть какие-то условия, чтобы наши состояния были живы. И, следовательно, когда
мы говорим о сознании в смысле космологического принципа, то
290
2)окм1ф*, aStuSèu. uuStftib»
говорим о том, что называется жизнью и имеет отношение к
“практическому разуму” - это ведь словосочетание, прилагаемое
к некоторым существам, все элементы которых à propos сошлись.
То есть уместны, сошлись, и все проходит (так же, как проходит
движение руки), они живы. Жизнь заняла все возможные для нее
точки. И я в коммуникации с самим собой как существо волнующееся, переживающее, видящее красоту женщины, хотящее
отдать должное этой красоте и т.д. И мои состояния соответны
другим состояниям, состояниям других, которые я не могу
создать, которые я не контролирую. Они могут только сойтись.
Но дело в том, <гго такие “существа”, которые сходятся и
живут в качестве существ и могут распадаться, не имеют наблюдаемой нами длительности, такой, чтобы мы считали, что они
пребывают сами по себе, так же, как если я бы оставил эти часы
в покое и не смотрел на них, а они продолжают существовать.
Или как наши наглядные тела длятся в пространстве и времени.
Там какие-то совершенно другие условия занятия ими жизнью
разных точек пространства и времени. И это и есть вопрос
сознания. Иными словами, вопрос сознания есть вопрос об измерениях, мы рассматриваем нашу проблему в двух измерениях. С
одной стороны, мы имеем перед собой вещи, наделенные
свойствами и качествами, воздействующими на некий аппарат
наблюдения и восприятия, который, в свою очередь, тоже наделен
качествами - способностями восприятия, логическими способностями, умом, глупостью и т.д., а с другой стороны, если мы
ставим вопрос о сознании как самостоятельный вопрос, то это
автоматически означает, что мы рассматриваем все это иначе,
берем рассматриваемый предмет в дополнительных измерениях.
И тогда оказывается, что между моим взглядом, якобы наделенным
некоторыми способностями, и предметом - не пустота, а некоторая
(ну, в угоду присутствующему здесь Акчурину я скажу) топологически содержательная среда, в которой живут специфические
образования, удачные или “практические”, по Канту, тела.
Духовные тела. В них сошлось все, что соединить мыслью нельзя.
Итак, чтобы снова связать это с вопросом о том, что чаще
всего мы рассматриваем наши мысли, сознание и т.д., как некоторые картинки вполне реальных вне нас существующих вещей
(именно как картинки), я хочу сказать - и выражу это сейчас в
парадоксальной форме, в форме утверждения, - так: вся проблема мышления и сознания состоит в том, что мы мыслим только
то, что мы мыслим; чувствуем только то, что чувствуем. Повторяю, мы мыслим только то, что мыслим, и можем только то, что
можем, мы живем только так, как живем. Я понимаю неясность
этого, но я специально придал сказанному парадоксальную
форму, чтобы заострить возможное движение мысли - и своей, и
О/иамл омИлшии 291
вашей. Простая вещь - также как Луну нельзя остановить рукой,
так и нельзя думать мысль. То есть у нас в голове только то, что
существует спонтанно, дефилирует перед нашими глазами,
порожденное спонтанированием наших естественных механизмов. Мы не можем подумать что-то умное, даже если захотим
подумать. Или не можем, захотев взволноваться, взволноваться,
потому что захотели. Мы не можем любить, потому что способны к любви. Мы чувствуем только то, что чувствуем. Мы
мыслим, только то, что мыслим. ■
Кстати, Кант нажал бы все это - и он так и называет (для
внимательного читателя это очевидно) - патологией. Или патологическими состояниями. Любовь, чувство, которое мы чувствуем, потому что чувствуем и т.д. Это терминология самого
Канта, я ничего здесь не выдумываю. Следовательно, есть патологические тела, в которых что-то, видимо, не сошлось, которые
не à propos, и есть непатологические тела, которые не просто
обладают тем содержанием, которое можно увидеть в них с
позиции объектного наблюдения, но в которых есть еще что-то.
Что? - Сошлось. То есть выполнены какие-то условия и связности,
допустившие, что жизнью данного существа заняты все его точки.
И он может реализовать, выполнить действие. Или восприятие.
Однако здесь на то, что Кант называл возможным опытом,
накладывается дополнительное ограничение; Кант гениально
показывал, что возможный опыт, который можно допустить
выполненным, содержит еще нечто, о чем мы никогда не можем
сказать, что допускаем это выполненным, потому что это в
принципе может быть выполнено. Например, в принципе я могу
взволноваться, значит, это можно описать в теории. Нет, важно,
выполнен ли акт волнения в действительности. И Кант предупред ительно говорил в ряде мест, что сознание есть нечто такое, чего
невозможно предварительно допустить, ввести предположением.
Значит, перевернем сказанное: когда мы говорим о сознании, мы имеем дело с такими вещами - особенно если взяли их в
контексте практических тел или практических организмов, или
духовных организмов, “особых существ”, то сознание... потерял
конец фразы. Что я сказал вначале? Да, так вот, значит мы
имеем здесь дело с некоторыми актуалиями, по определению, раз
занимаемся сознанием. Имеем дело с тем, что или есть, или нету.
И есть своим существованием, а не содержанием, которое дано
(или может быть дано) во внешней картине наблюдения. Следовательно, я ввожу тем самым фундаментальное различие между
содержанием предмета и фактом его же существования, ввожу
как бы некоторый принцип минимальности по отношению ко
всякого рода объектам, в которых имплицировано сознаш1е и
природа которых заставляет нас ставить вопрос о сознр" *ч. А
292 Зокиафя, оКеиКт, шийфбыо
именно - говорю о таких событиях в мире, или состояниях мира,
относительно которых есть хотя бы минимум одно сознательное,
чувствующее существо, выполнившее действительно акт восприятия, при том, что этот акт восприятия такой же, как тот акт
волнения, который я описывал. Который может быть, а может и
не быть, хотя его источник, заданный во внешней перспективе
наблюдения, есть. Скажем, женщина красива. Но дело в том, что
когда мы используем слово “сознание”, то этим словом называем
теперь некоторую элементарную включенность чего-то, называемого сознанием, во все, что мы можем в мире описать, воспринять, увидеть. Почему я сказал элементарная включенность?
Потому что должно быть минимум одно существо, а если нет
этого минимума, то мы ничего не можем описать и нет вопроса
ни о мире, ни о сознании. А если минимум выполнен, то мы уже в
каком-то определенном пространстве; не в пространстве потенциально абстрактных допустимых вещей, а в каком-то другом
пространстве. В том, например, в котором Рашель (или Рахиль)
для герцога Сен-Лу - это “пуп земной”, точка световая, на которой весь смысл красоты и духовности сошелся, а для Марселя (то
есть персонифицированного автора романа Пруста) - это пяти-
франковая проститутка, которую можно получить в доме
свиданий. Вот как оборачивается принцип минимальности.
Повторяю, если не выполнена элементарная включенность
сознания, если мы “ниже” этой элементарности, то ничего нет, а
если она есть, то мы в мире, а не в космосе. В мире или Сен-Лу,
где Рахиль “пуп земной”, или в космосе Марселя.
И второе, что я хотел бы сказать. Помечу сразу ниточку,
чтобы выстроить какую-то позицию в противовес некоторому
абсолютизму содержаний, неизбежному в субъект-объектаой позиции. То есть неизбежному тогда, когда у нас есть оппозиция:
“субъект-объект”, - в этом случае абсолютизм содержаний неизбежен. Тогда, во-первых, непонятно в принципе само психологическое событие, например, любви-нелюбви, как в случае с
герцогом Сен-Лу и Марселем; оно в принципе непонятно. И,
во-вторых, встает псевдовопрос: какова же Рахиль сама по себе?
Допустим, для герцога Сен-Лу: “Рахиль дана небесным провидением”. Это начальные слова из оперы “Жидовка”. А какова она
сама по себе? Ведь для Марселя она проститутка. Конечно, это
псевдовопрос. Так же, как псевдовопросом в квантовой механике
является вопрос: какое значение приписывается электрону самому
по себе - в известной ситуации опытов с рассеиванием электронов
на дальние расстояния, когда между ними нет физических связей.
Вернемся к Канту. Уже у Канта во всем его анализе, который мы пытаемся сейчас как-то расширить, было одно ограничение, похожее на те ограничения, которые мы сейчас должны
Ofuattbi оыпалогии 293
накладывать. А именно, он говорил, что вед ь не сам собой разумеется наш разговор, или рассуждение, о представлениях. В каком смысле? Не только в том смысле, что представления вообще
не вещи и не копии, лежащие в голове человека, но также и в том
(более строгом) смысле, что представлением называется нечто
такое, о чем можно сказать: это мое представление. Иначе, говорит Кант, мы могли бы иметь представления, которые играли бы
нами и водили нас за нос вместо того, чтобы мы знали, что это
наши представления. А вот установить их в качестве моих, для
этого необходимо дополнительное условие. В том числе условие
выполнения полноты восприятия - условие жизни фазу на многих точках пространства и времени. Распространенности жизни
на многие точки пространства и времени, условия сходимости:
сошлось à propos и тогда есть восприятие, о котором можно сказать
“мое”. И более того, это условие выделения предметного языка
как такового (я говорю о выделении, “выделить”, а не ограничить, потому что сам Кант ограничивал тем, что выделил предметный язык, а на другие вопросы он не отвечал). Он выделил
предметный язык, полагая, что наш причинный или макроскопический язык и есть язык, пофедством которого мы устанавливаем, что это представление мое. То есть он сначала показал, что
существуют особые условия того, чтобы появились мои представления, ибо не случайно же ввод ится концепт сознания вообще,
концепт следующий, что сознание, или Я, необходимо сопровождает все представления. И он выделяет поле перцепции, артикулированной таким образом, что можно говорить о представлениях.
В противном случае мы не знали бы, что они есть. Это очень
важный пункт, связанный у Канта с проблемой многомирия, с
проблемой иллюзий. Или в широком смысле - с “патологией”,
когда нас как раз и водят, где у нас нет чего-то, что мы называем
своими представлениями. А представления есть только тогда,
когда выполнены условия рефлексивного поля апперцепции,
единого д ля всех многообразных точек пространства и времени.
Следовательно, теперь мы можем сказать, что и у Канта
речь шла о такой критике созерцания и ума, которая занята тем,
чтобы выявлять ограничения и связности, налагаемые условиями
жизни формы. А для этого нужно было понять форму как нечто
совфшенно особое в смысле всей проблемы опыта и сознания, а,
скажем, не как мы обычно говорим об опытной науке, зная при
этом, что одним из основателей самой возможности опытной
науки был Кант. Бэкон, Декарт, Кант. Разумеется, вслед за
Катом мы знаем, что все знания из опыта. Но дало в том, что у
Канта это угвфждение имеет, если угодно, пиквикский смысл.
Вы помните, что Пиквик употреблял слова, которые в то же время значили что-то другое, по договоренности. Ну, как если бы я
294 доклады. сЛаЛыг, шаЯфвыо
с вами по-пиквикски договорился называть эти часы колбасой.
Это был бы пиквикский смысл слова “колбаса”. Поэтому чтобы
пояснить более внятно, что я хочу сейчас выразить, я скажу так.
Объясните мне следующий факт (относящийся не только к
Канту, но и известный из истории, литературы и т.д.), почему
чаще всего у людей, которые явно являются мистиками, - таким
мистиком был, например, Вильям Блейк, английский поэт,
поклонник Сведенборга, - каким образом, почему мы всегда
находим, слышим у них абсолютную ноту опытного знания. Они
утверждают, что знание только из опыта, и тут же абсолютно
естественно высказывают какие-то совершенно мистические
положения. Или имеют мистическое озарение. Кант из их числа,
хотя я не называю его мистиком, а имею в виду Канта априори-
ста, формалиста, ригориста и пр. Каким образом, откуда у этого
ригориста и формалиста такой пафос?
Причина очень простая. В случае Блейка и Канта мы имеем
дело с грамотными людьми, на оселке грамотности которых
поверяем свою неграмотность. Иногда эти грамотные люди нам
помогают, дают намеки, о чем идет речь. В частности, у Канта
есть такая фраза: физика не опытная наука, а наука для опыта.
Повторяю, не опытная, а наука для опыта. Иными словами, под
наукой он явно понимал следующее. Что наука есть нечто такое,
посредством чего мы впервые что-то можем испытать, чего не
могли бы испытать без науки, и что является таким же источником опыта, как наши ощущения. Ведь сказать, что наука для
опыта, означает ввести особые источники опыта. Не теорию или
чистые суждения, а источники опыта. Иначе говоря, Кант предполагал существование при этом каких-то особых вещей, которые могут производить опыт, но которые не рождены природой
и не являются органами нашего физиологического и психического устройства. Блейк в этом контексте после одного афоризма, в
котором утверждается, что мы все знаем только из опыта, тут же
говорит, что существуют особые неорганические перцепции. То
есть не перцепции, скажем, органа слуха, зрения и пр., а перцепции, но не органические, предполагая тем самым существование
неких конфигураций внутри духа и разума, которые сами являются источником переживания и опыта. И у Канта понятие опыта
весьма широкое, но это грамотное, точное понятие. Опыт для
него не есть просто содержание наших чувств и ощущений, а
представляет собой и включает еще и некоторые соединения души и тела, которые сами являются источниками опыта, способами переживания, без которых мы этих переживаний не имели бы.
Это как бы дополнительные или расширенные и многочисленные органы чувств. О таких чувствах тот же Блейк очень интересно говорил так, это в его стихах высказано: “органы, которые
0(%галм ошЯиоши 295
так же быстро ушли, как и неожиданно пришли”. То есть это
нечто, что на мгновение соединяется и происходит, и что мы не
можем зафиксировать в виде анатомического устройства. Все,
кто пытался расширить рамки нашей чувственности и культуры,
кто пытался вообще испытать что-то новое и другое, - все они
неминуемо приходили к этой же мысли. В том числе, скажем,
такой поэт и создатель метафизического театра, как Антонен
Арто. У него видна эта же проблема - что не само собой разу*
меется иметь мысль, что мыслим мы то, что мыслим, а не то, на
что напряжено наше существование и что есть истина.
В этой связи у него тоже появляется идея об “органах”,
которые как № рождаются внутри разума. Но не в виде представ*
ланий об опыте, не как теория опыта, не как концептуальная
схема, являющаяся обработкой опыта, а как какие-то устройства,
порождающие сам опыт.
И здесь мы упираемся в одну фундаментальную вещь, для
понимания которой я введу следующий принцип, кроме принципа минимальности. Ведь что мы видим и слышим? Я могу показать, что без постановки всех тех вопросов, которые я поставил,
простейшие парадоксы не могут быть разрешены в области ответа на вопрос: что мы, собственно, видам и слышим, ощущаем,
и как мы видим и ощущаем. Что я имею в виду?
Из предшествующего рассуждения пометим один пункт,
который нам пригодится. А именно, какие-то переживания, у
которых должен быть источник, не вызываются спонтанными
действиями природы, не могут появиться естественным путем. То
есть речь идет о вещах, которые в принципе не могут быть
реальным психологическим переживанием или состоянием какого бы то ни было человека. Ну, скажем так, прежде чем перейти к
тому вопросу, который я задал, для пояснения предшествующего. Существует вещь или явление в мире, называемое бескорыстной любовью. “Бескорыстная любовь” - термин, пока для
нас относящийся к чему-то, что в принципе не может быть
ничьим состоянием. В принципе такое не может быть никем, никогда пережито в смысле реального психологического состояния.
Такие вещи по традиции в философии называются чистыми.
Как, например, “чистое сознание”, которое, по словам Канта, не
есть опыт, - имеется в виду не проблема опытного или неопытного происхождения сознания, а фундаментальная вещь, то, что
может бьпь якобы состоянием человека. Но, по Канту, даже то,
что он называет мыслью, не может быть ничьим реальным
состоянием. Я сейчас специально об этом говорю, чтобы потом
как-то связать одно с другим. И для облегчения такой связи
сразу помечу, что, хотя ни один человек не испытывал этого, тем
не менее это всегда описывается как случающееся с человеком.
296 2)бкм1фк, анаЛьи, иювфЙыо
Скажем, хотя никто никогда в принципе не испытывал и не
может испытать бескорыстную любовь, она описывается -
существуют ее архетипы, символы; например, мы знаем из
одного такого описания, как один библейский герой отдавал на
заклание своего сына. В этом символе, или этой библейской
параболой описывается природа человеческой веры. Что значит
вообще верить в Бога. Она описывается, но эмпирически, повторяю, этого никогда не могло бы бьпь, чтобы действительно
человек в последнее мгновение, занеся над сыном свой нож, не
оглянулся бы и каким-то задним умом не подумал, что этого не
произойдет. А если он оглянулся, то не был вполне чист в своей
вере. Это не чистая вера. В качестве реального психологического
события в существе, называемом человек, она невозможна. Это
невозможно, но описывается.
Значит, есть чистые состояния, которые не могут быть
ничьим реальным переживанием, но существуют в нашем символическом языке (очевидно, в метаязыке) и являются лоном, в
котором могут порождаться наши состояния. То есть чистая
любовь не испытывается человеком, но та любовь, которая
испытывается, существует только потому, что существует символическая машина чистой, бескорыстной любви. Или - машина
веры. И когда говорят “вера” и ссылаются на пример библейского героя, то мы должны это понимать как описание некой
соотнесенности с чем-то, способной порождать в людях состояния веры, любви, дружбы и т.д.
Повторяю, соотнесенность человеческого существа с вещами, которые я назвал “чистыми” и которые сами по себе никогда
не являются и не могут быть переживаниями, его связь в своем
возникновении с такого рода символическим лоном или тиглем,
и есть то, в чем рождается человеческое, и что естественным образом родится не могло бы. Добро, любовь, честь и т.д. И мысль.
Для мысли, оказывается, тоже есть такое лоно, и анализ сознания в отличие, скажем, от аналогичного анализа мышления (вы
знаете, что термины “сознание” и “мышление” все время перекрещиваются и их почти что невозможно отличить) есть анализ
именно такого рода лона, в котором впервые могут рождаться
мысли. А мысль, согласно точке зрения Канта - философа par
excellence, - есть невозможная вещь. Никто никогда не мыслил.
Та мысль, о которой нельзя сказать, что мы мыслим только
то, что мыслим, та, к которой нельзя применить термин
“патологическая”. Причем, “патологическая” не значит в порицательном клиническом значении, а в смысле некоторых
существ, которые я бы назвал полу-существами, неудачными существами. Бывают же неудачные животные, у которых ухо не
там, откуда удобно слышать и т.д. Напоминающие существа
О/шиал омЯомши 297
Эмпедокла - вспомните ero миф, ведь он рожден нормальной
философской интуицией различения между чем-то, что выполнено, а выполнено может бьпь только полностью, и тем, что не
дошло до порога реализаций. Как и в случаях, о которых я говорил. Не содержаний, описываемых извне, в предметной картине,
в которой о реализации или не реализации вообще можно не
заботиться и предполагать ее выполненной. А я показывал вам,
что восприятие есть только тогда, если оно минимально, то есть
выполненное восприятие.
Следовательно, восприятие выполняется в каких-то пространствах, при каких-то условиях и связностях, налагаемых на
реальность. Или, говоря иначе, - это осуществленность жизни. А
жизнь осуществляется сразу на многих точках пространства и
времени. Вед ь что такое жизнь? Возьмем моменты А и Б, когда в
момент Б я длюсь из момента А (о предметах мы этого не говорим). Так ведь? Я длюсь из момента А и могу в момент Б что-то
иное, чем то, что привело меня из момента А. Поэтому интуитивно ясно, что жизнь - это способность быть другим. Живо то,
что может быть иным. Разумеется, я не говорю, что это научное
определение жизни. Я говорю, что сама длительность есть принцип жизни. Континуальность есть принцип жизни.
Сказав это, я возвращаюсь к тому, что ввел, к следующему
принципу, нужному нам для понимания сознания. В том, что я
говорил, кстати, имплицитно содержалось указание на то, что
человеческий интеллект, или человеческое сознание - двойственно, двуедино. Существует некий принцип двоичноста, который
состоит в следующем. Скажем, наш герой Сен-Jly, герцог, влюбился в Рахиль, и это означает, что он как раз оказался в той небезразличной точке (по каким-то причинам, которые я сейчас не
буду анализировать), где видна Рахиль. Оказался в силу какого-
то движения жизни по связностям. Движения, выполняющего и
накладывающего ограничения на саму возможность быть живым не сейчас, а в следующий момент, на следующем шагу. Это
не само собой разумеется, потому что между двумя шагами,
которые якобы связывают, скажем, одну мысль с другой (когда я
вывожу мысль Б из А), может просто наступить смерть. И в этом
смысле никакой в общем виде связи между БиАне существует. В
том числе и причины. Но я возвращаюсь к двойственности.
Значит, что-то случилось, в том числе любовное волнение, на
основаниях, которые тут же дублируются приписыванием причины их видимому предмету - Рахиль. Повторю, что здесь одно,
случившееся на одном основании, дублируется своими причинами. Дублируется именно. И дальше об этом мы говорить уже не
можем, потому что удвоение предполагает время, а чтобы с
третьей какой-то точки зрения анализировать этот процесс, мы
298 2)окла$ы. аОа/Яьи, иыОфвыо
должны были бы получить третий мир, из которого смотрели бы
на эти два. А мы не можем, не можем вытащить, приподнять себя
за волосы. Тогда делаем еще один шаг. Если есть двоичность, то,
следовательно, мы неминуемо о том, что произошло непредметным образом, говорим реально и движемся предметным образом
и как бы сразу распластаны на двух уровнях. Это исходная и
неустранимая двоичность человеческого сознания, человеческого
интеллекта, ума, как угодно называйте. Дальше. Следующий
шаг, который я сейчас сделаю, связан с этой же проблемой двоения (не знаю, как его сделать так, чтобы это прошло, или, как
говорил Монтень, было à propos - хочу д винуть рукой, и вот не
могу). Попробую сделать так. Я говорил о вещах, которые нельзя пережить, но которые тем не менее есть, поскольку они есть в
некотором метаязыке, или метасознании. Метасознание, сплетенное с сознанием. То есть мы соотнесены, сращены с символами и начинаем в лоне сращенности что-то производить.
Производить то, чего не могли бы произвести естественным
путем. Что же тогда происходит с “чистыми” состояниями или
“чистыми” объектами? Введу еще два утверждения. Во-первых,
онтология и есть то, что я называл “чистым”. Она есть область
отношений полноты и совершенства. Так традиционно считается. Кант, по-моему, это тоже так определял. Область онтологических отношений есть область отношений полноты и
совершенства - чистой любви, чистой веры, чистой мысли и т.д.
Хотя я сказал, что реально психологически ни один человек
никогда ни мыслил, ни любил, ни верил. Значит, есть такие вот
органы онтологии, где все события и акты присутствуют в своей
полноте и совершенстве. Разумеется, в полноте и совершенстве
присутствуют и простейшие акты понимания, они имеют тоже
онтологическую предпосылку. Потому что, если вдуматься, то
окажется, что мы понимаем друг друга только потому, что и до
момента коммуникации думали то же самое. А если не думали и
не понимали, то коммуникация не передаст понимания, не породит его. Это простой эмпирический психологический факт, если
подумать честно, без словесных прикрас. Понимает тот, кто уже
понимал, а если нужно объясняться - безнадежно. Гроб и свечи.
Запутаемся. Это даже на уровне бытовом, семейном - абсолютный закон. Мы здесь на уровне онтологии. Это и называется
онтологией.
Онтология есть не натуральные отношения, а заключающие
в себе некоторый мнимый или воображаемый элемент, потому
что на уровне человеческого существа реально, психологически
никаких отношений совершенства и полноты не существует. Ни
один эмпирический, жизненный акт не является полным, не
завершает смыслов жизни. В самой жизни никакие смыслы не
О/шшн ошИомгии 299
завершаются. Вообще во времени ничего не кончается и не
выполняется. А вот наши ситуации есть ситуации вместе. И
фактически философ, когда рассуждает, то он рассуждает не о
жизни как таковой и не о небесах как таковых, и не о чистых
объектах, а о чем-то, где всегда эти вещи вместе. Об особого рода состояниях и событиях, которые имеют место и происходят, и
о которых можно говорить - только когда вместе.
Смысл, повторяю, не выполняется в жизни, но есть пространство и время смысла, который сначала описывается в чистых терминах (в терминах онтологических), и он же может быть
рассмотрен как орган жизни. В качестве того, что происходит в
жизни, но не происходило бы, если жизнь была бы предоставлена самой себе, человеческое существо было бы предоставлено
самому себе. Вы прекрасно знаете, что закон, например, - это
непредоставленность человека самому себе. Это защита человека
от него самого. Это факт. Поэтому и существует правовое
устройство, в глубоком смысле этого слова. Это то, где человек
никогда не оказывается наедине ни с миром, ни с самим собой.
Наедине с самим собой, предоставленный самому себе и не защищенный от самого себя, человек может только себя уничтожать.
Что он и делает всю историю. Но каким-то образом в истерию
были введены какие-то стержни, как в атомный котел, на которые
нарастают кристаллизации чего-то другого. Именно они, эти стержни, приставки к человеку, или онтологическое лоно, и позволяют в
человеке же рождаться иным вещам. Позволяют ему возвышаться
над собственной животной природой и совершенствоваться.
И вот, тем самым, я пришел к тому, что хотел сказать, и к
чему вел очень долго. Это будет последний пункт моего рассуждения. Я сказал: какие-то вещи совершаются, рождаются, человек совершенствуется и пр. И теперь введу последний принцип,
последнее утверждение - здесь и заключена вся проблема. Она
состоит в том, что между естественным состоянием человека
и его возвышенным состоянием, или усовершенствованным
состоянием, нет непрерывности. Эта апория непрерывности
прослеживается во многих мелких своих ответвлениях. Я сейчас
сказал, казалось бы, совершенно абстрактную вещь, но могу
перевести это и на другие, более привычные и не связанные с
этим вещи. Например, по той же причине, по которой я ввел
только что свое утверждение, я могу сказать, что между предметом и мотивом нет непрерывности. Или - между предметом и
сознанием мотива, того, что предмет вызывает какой-то мотив,
нет непрерывности. Нет непрерывности между воздействием на
отражательное устройство человека и результатом, который в
этом отражательном устройстве получается. То есть мы не
можем непрерывным образом перейти от одного к другому.
300 2)<ясиафя, сЛа/Яьи. шиОфвыо
- И тем не менее эта непрерывность наблюдается и осуществляется
(голос из зала).
- Нет, и более того, я утверждаю, что нет непрерывности
между законом и им же - в следующий момент. Не существует
такого механизма. Об этом свидетельствует хотя бы такой простой факт, что мы не можем представление о совести вывести из
какой-то нормы. Мы каждый раз заново устанавливаем нечто,
что постфактум является выполнением закона, а не получается
путем его выведения из понятая. Не можем следствия законов
(нравственных, например) получать путем приложения законов.
Наложение нормы на частный случай не дает ничего - в смысле
понимания. В частном случае как бы заново зарождается эта норма,
которая постфактум соответствует самой себе в предыдущий
момент. А непрерывного движения и хода для получения одного,
поскольку получено предшествующее, нет и в этом случае.
Так вот, я поставил демагогический вопрос: что же мы
видим и слышим? Я к этому вас неожиданными путями верну.
Путями, к сожалению, извилистыми и для меня самого.
Собственно говоря, можно сказать так, что проблема сознания существует потому, что сознание уже занимает место в тех
процессах, о которых мы потом судим средствами самого сознания и сопоставлением с которым хотим, вообще, понять его природу. Оно уже там, и только потому мы можем говорить, что
вообще уместны в мире, можем в нем жить и т.д. А оно там по
той причине, что любая постановка вопроса о сознании предполагает такую картину мира или реальности, где реальность
незавершена и только потенциальна. Она не существует до и независимо от нашего мира. Причем, вы прекрасно понимаете, что
я вовсе не ставлю сейчас вопрос: существует ли стол независимо
от моих ощущений или от “образа стола”? Я совсем о другом
говорю. Скажем, можно ли непрерывным определением перейти
от физического звука к фонеме языка, к единице нашего слухового или звукового восприятия? Я утверждаю, что непрерывным
образом, от внешним наблюдением анализируемых и полученных качеств звука, перейти к тому, как он воспринят человеческим сознанием, нельзя. Он воспринят в качестве звука, но
осмысленно. А всякое осмысленное явление, согласно введенным
мною правилам, должно быть практическим. То есть должно
быть существом, в котором сошлось. Естественно. Поскольку
даже простейшая фонема “а” имеет столько нюансов или позиций в слышании, что тот факт, что мы слышим все-таки а,
никогда и никто не мог объяснить непрерывным движением
определения. Это не доопределяется, остается зазор, который я
называю неопределенностью. И в этом зазоре стоит феномен
звука, образуется пространство и время смысла, принимаемого
0(ианы «шблмгии
301
нами уже как нечто определенное, существующее. Ниоткуда не
выводимое и ни к чему не сводимое. Мы не можем сознание
звука редуцировать таким образом, чтобы получить из физики.
Тот факт, что я слышу все-таки фонему, не определим физическими процесами до конца. Зазор доопределения мира, чтобы я
услышал фонему, а не черт знает что, то есть услышал вполне
что-то определенное, артикулированное, стоит в том же ряду,
что и декартовский принцип: нужно извлечь из себя. Актом
извлечения из себя я доопределяю и индивидуирую мир. Индиви-
дуирую так, что воспринимаю именно фонему.
И то же самое относится к существованию многих других
источников наших состояний, которые, кстати, подчиняются и
блейковскому правилу неорганических перцепций. Значит, когда
я сказал, что слышу фонему и, извлекая когито, доопределяю
процессы мира, то, тем самым, я завязываю эту тему с темой
неорганических перцепций. Наших чувственных состояний,
которые имеют неорганическое происхождение. Это очень
широкая вещь. Известно, например, что можно слушать музыку,
не слыша звуков. Это факт, во-первых, несомненный, и,
во-вторых, без понимания этого факта нельзя понять, что такое
музыка вообще как феномен культуры. Когда слышишь не физику музыки, хотя знаешь, в сознании своем слышишь звуки, но
это не звуки. Ведь то, что мы называем сознанием, - это не
сознание, в расхожем смысле слова, а цепочка рефлексивных
объективаций. И ее мы называем сознанием. И в случае, когда
идет речь о мышлении, тоже есть эта рефлексивная объективация
самой мысли, которая считается обычно теорией мышления, хотя
в действительности и здесь имеют дело с цепочкой упаковывающихся одна в другую рефлексивных объективаций человеческого существа, которые совершаются спонтанно, и не являются
картиной того, как мы мыслим на самом деле. Ведь то, как мы
думаем и мыслим, не есть картина того, как мы мыслим, как мы
думаем. Действительные эстетические музыкальные эффекты
“изобретаются” людьми, которые, слыша, например, скрипку, не
слышат звук именно скрипки. А раз не слышат, значит, слышится
сквозь звук что-то другое. Слышится. А вот как это слышится?
И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что раз мы ввели
ситуацию неопределенности, то ввели одновременно и ситуацию
рекуррентности, рекурренции; то, что называется причиной, есть
в действительности лишь наша возможность говорить в терминах причины. Возможность, возникающая когда мы имеем
ситуацию, которую можно обозначить словом “после”. После -
есть причины. То есть причины образуются как бы назад. Сначала происходит нечто другое, что я пытался описать, а потом
мы можем сказать: существование звука есть причина состояния
302 2)оклафя. айаЛш, шиЯфвыо
его отражения или восприятия во мне. Они как бы откладываются в мир. Позади мам, позади каких-то актов, выполняемых в
некотором топосе, в котором действуют ограничения, связности,
налагаемые на саму возможность жизни; оттуда, как бы сзади,
мир раздувается, вырастает в тот громадный мир, который
набит предметами, звездами, людьми и т.д.
Вспомните, что я говорил о Рахиль: есть настоящая Рахиль
или нет? Для Сен-Лу и для Марселя? Для кого она настоящая?
Это и есть рекуррентное появление причинного мира.
Тем самым я ввожу многоуровневость или многословность
сознания. Ясно, что в одном слое сознания откладываются
рекуррентные образовавшиеся содержания, в другом же слое их
рекуррентность не осознается, а, наоборот, сам факт существования содержаний приписывается предметному миру в полном
убеждении, что раз мы говорим, например, об атомном распаде,
то это потому, что наблюдаем атомный распад, а на самом деле
акты наблюдения в качестве выполненных стали возможными
при определенных условиях. Если же их нет, если не случилась
история этих условий, то нет и самих возможностей актов. Следовательно, мир, в котором акты восприятия или наблюдения
стали возможны, можно назвать только миром потенцированного бытия. Когда мы говорим о сознании, о бытии, мы говорим
только о потенцированном бытии. То есть о таких событиях в
бытийном плане» которые не можем брать отдельно от определении сознания. Ибо та непрерывность, о которой мне напоминали, иначе невозможна. Когда мы имеем бытие и сознание, мы
имеем континуум. Когда есть элементарная включенность сознания, когда доопределялся и индивидуировался физический
процесс, когда рекуррентно образовалась причина последующих
образований, лишь тогда мы имеем дело с непрерывным движением. Но все это. конечно, с допущением дискретности. Это
какая-то особая прерывчатая непрерывность. И тем самым я
завершил, связал конец своего затянувшегося доклада с его
началом. Я говорил о том, что проблема сознания есть проблема
измерений. И закончил тем, что мы имеем континуум бытия-
сознания, в котором, конечно, возможны еще измерения, если их
больше трех; значит, возможны и другие.
Язык осуществившейся утопии«
Сегодняшнюю ситуацию я бы выразил так. Если мой глаз
однажды увидел что-то и это что-то насладило глаз, он
будет хотеть все время это видеть. И наоборот, если не
будет видеть, то будет всегда ранен. Больно глазу, и слуху больно. Например, мне больно слушать русскую или грузинскую, а
точнее - советскую речь.
Потому что, как это ни странно, утопия людей, которые
хотели создать единый, интернациональный язык, хотя мы все,
естественно, сопротивлялись этому, говоря, что должен быть
грузинский язык, русский язык и т.д., - она незаметно реализовалась, существует единый язык. Состоящий из “раковых опухолей” , пронизанный ими. Ведь фраза “сражался в ограниченном
контингенте советских войск в Афганистане” говорится и
по-грузински. То есть слова формально грузинские, или, скажем,
армянские, или узбекские, белорусские и т.д., но это не грузинский, и не русский, и не белорусский язык. Это язык осуществившейся утопии.
Здесь есть один интересный парадокс для художника, и я
сейчас, немножко отвлекаясь от того, что хотел сказать, пойду
сгов-сго» - зигзагом. Есть феномен, очень интересный, еще
Гоголь чувствовал его частично, но особенно это развилось в
русской литературе в 20-е годы - ощущение этого феномена, его
по-разному разрабатывали обернуты; прежде всего Введенский,
Заболоцкий, Хармс, параллельно с ними Зощенко, внимание к
этому феномену и свой ответ на него существует и у Булгакова.
Назовем этот феномен - феноменом литературных реалий. Реальности литературы. А именно, что жизнь и история как бы упорно
задаются задачей реализовывать, осуществлять в реальности некие
литературные состояния. Некоторые чисто литературно придуманные вещи, по законам литературного языка и стилистики.
Скажем, у Гоголя по законам литературной стилистики и
ощущения определенного типажа, в слове же существующего,
появляется персонаж, который ради науки жизни не пожалеет и
в восторге ломает стулья (если вы помните), по поводу чего и
существует реплика: “Александр Македонский - великий человек, но зачем же стулья ломать?”
Ради науки жизни не пожалею. Потом некий Картузов,
герой Достоевского - прототип капитана Лебядкина, говорит
* Из цикла лекций, прочитанных М.К.Мамардашвили на Высших курсах сценаристов и режиссеров в октябре 1988 года. Опубликовано в журнале "Искусство
кино” (МЬ7,1993).
304 Воклафл, аасиЯьи, шийфвыо
женщине, в которую он влюблен, действительно влюблен и действительно испытывает возвышенные чувства: “Ради такой красоты тридцать раз готов умереть”. И он же, когда его дама упала с
лошади и сломала ногу, пишет стихотворение, полное лирики и
любви, но выраженной так: “Краса красот сломала член”.
Описан определенный тип человека с определенным отношением к языку и к мысли. К выражению своих невнятных состояний, которые невнятны до выражения. И можно задать вопрос:
какая лирика могла бы быть у такого человека? И мы видим, что
такую лирику в 20-х и 30-х годах стали создавать вполне реальные люди, называемые советскими поэтами. Они на полном
серьезе писали нечто подобное.
Или - какая наука могла быть у такого персонажа? Литературного персонажа. История ответила и на этот вопрос: у нас
была биологическая мичуринская наука. Реализовалась та наука, какая могла бы быть, по нашему воображению, только у персонажей - у Картузова или вот у того, кто стулья ломал,
рассказывая об Александре Македонском. Была!
Вот такие вещи “откалывает” жизнь.
Это чудовищно интересно, и лишь зайдя с этой стороны,
можно понять многие вещи, которые нельзя понять иначе. Иначе
они совершенно непонятны и мистичны, и, находясь внутри них,
мы будем вечно спорить друг с другом и ломать копья, полемические и критические.
Возвращаясь к восприятию, я говорю себе так. Мой глаз не
увидит, пока я жив (а жить мне осталось не так уж много), -
ничего красивого, ухо не услышит свободного языка, спонтанно
свободного. А это колоссальная физическая потребность у человека. Поэтому, очевидно, я с детства учил языки и жил почти что
в радио, чтобы услышать свободную речь. Ведь та речь, которую
мы слышим естественным образом на улице, в магазине, вокруг
нас - она же сплошная раковая опухоль. Я уже не говорю о психике людей. Понимаете? Говорят, что “1984” Оруэлла - это о
Советском Союзе: это не совсем так в буквальном, фактическом
смысле слова. Он ничего не знал об этом, он лишь пережил некоторые вещи, когда находился в Испании, где, конечно, сразу я»
возникал этот язык “ограниченного контингента войск”, на
котором общались интербригадовцы, язык, на котором писались
реляции о положении дел на фронте. И тут же - действующая ЧК
вполне по советским схемам, и из этого путем воображения он
выдумал две вещи: какое у такого языка может быть общество,
которое говорило бы на этом языке, и к тому же он выдумал и
сам язык. Назвал его “нью-спик”.
Ну и потом мы, очевидно, очень постарались, чтобы литературные реалии стали фактами нашей истории. Похоже на юмор.
Язык ое^щесАНиВшейсл уЛьнии
305
но ведь это не юмор. Казалось, можно было бы лопнуть от
смеха, видя выстроившихся на фотографии в “Правде” двенадцать “болванчиков” в шляпах (товарищ такой-то улетел туда-то,
провожали такие-то и т.д.) - казалось бы, это мог придумать или
изобрести только очень смешливый человек. Ничего подобного.
Похоже на смех, а мертвый тон, или мертвая музыка, выдает
историю из жизни Зазеркалья, из жизни “зомби”.
Это потом мы, хитрые интеллигенты, видели во всем этом
какой-то намек, юмористический или другой, а в действительности ничего этого не было. И еще - быстрота распространения.
Я утверждаю, что люди не учились этому; в первый же день
установления советской власти во Вьетнаме, уверяю вас, в их
партийной газете могла появиться фотография сталевара в
каске, читающего газету, в которой он изображен.
Вы думаете, что понять это можно, только предположив, что
есть какая-то точка, откуда этот опыт распространяется, или что
вьетнамцы приезжали на два-три года и учились этому. Увы, это
случается в истории мгновенно - в разных, отдаленных порой на
тысячу километров и не связанных друг с другом местах. Нечто
вроде геологического сброса. И в антимире это соответствует
закону в нашем мире, закону формы. Формы возникают сразу.
Форма - такая вещь, которая не складывается по частям.
Например, форма языка. Нельзя себе представить, что она
составлена в последовательности, постепенно и по частям. Если
есть язык, то он есть.
Вот еще одно свойство того, что я называю обычно свойством “уже есть”. Если есть, то должно уже быть.
Так вот, мой глаз, повторяю, не увидит этого “быть”.
Возможно, лично каждому из нас (и вам, и мне) станет завтра
немножко легче. В смысле возможности говорить и делать то,
что думаешь в области слова. А реальность, для меня во всяком
случае, в обозримый срок не изменится. Ничего я тут не пред вижу.
Да, я готов принять... Может быть, немножко полегчает
таким, как я. Скажем, я смогу общаться с зарубежными коллегами,
то есть участвовать в реальной жизни философии, европейской
философии. И даже мой глаз увидит что-то, не колющее уродством. Тем более что это и задача страны. Ведь культурный
перекресток, на котором сейчас оказалась Россия, в широком
смысле этого слова, включая и другие этносы, - это задача снова
влиться в мировой культурный процесс, воссоединиться с истоками, от которых мы оторвались. Когда-то весь российский
конгломерат необратимо стал европейским, неудачно, правда
но европейским; потом 70 лет связи были полностью разорваны,
и теперь есть шанс возвращения. Без гарантии на успех, но с
сознанием, что если не сыграть эту карту сейчас, то судьба
306 Л)о/иафл. айсиЯт, шиОврбью
России необратимым образом будет решена, то есть она погибнет или долго будет вращаться, как мертвые спутники. Ведь у
нас даже “кладбища-спутники” появились. Например, филиал
Новодевичьего кладбища, названного так по символике и
законам мертвого языка, слова которого дурно пахнут. Взяли в
Кунцеве кусок земли и назвали его Новодевичьим.
Но, повторяюсь, можно смотреть на теперешнюю ситуацию
и так: то, что делается, не зависит от того, каковы намерения
тех, кто это делает или делали, и независимо от моей способности
расшифровать эти намерения, ибо есть база, на которой и я могу
действовать. Не ставя перед собой задачу сначала убедиться в
искренности и в содержании намерений. Во-первых, для меня они
непонятны, откуда эти феномены внутри партийной системы
могли появиться. Но появились. И, во-вторых, я не могу расшифровать, не могу взять на себя такую претензию - знать, что у
людей в голове, что они в действительности думают. Я не знаю,
каковы у них способности и мускулы на то, что они хотят
сделать. Не знаю. Но, повторяю, я не должен зависеть от того,
чтобы это узнать. Я знаю только одно: существует энное число
фактов и совершенных акций, которые являются достаточной и
необход имой базой для того, чтобы я или вы действовали.
Как философ, я могу сказать, что философ может говорить
только так: если хотите, чтобы было “А”, то должно быть “Б” и
“В”, он не говорит, что будет “А” или когда оно будет. Он говорит лишь, что если это, то тогда то-то и то-то. Вот что может
сказать мысль! Она, конечно, пессимистична, в том смысле, что
знает, насколько это вообще сложно. Ну, представьте себе: ведь
мы пытаемся совершить невероятный акт, просто живя. Какой
акт? Акт человеческой жизни. Он фактически немыслим и невозможен. Ведь жизнью называется нечто исполняющееся в своей
полноте, ощущение живого - в полноте. А как это хрупко и как
маловероятно, что сотни элементов, составляющих эту полноту,
сойдутся вместе, в одной точке и будут пережиты и испытаны.
Как должны повернуться звезды, чтобы все это сошлось для
того, чтобы стал возможен и осуществился хоть один живой акт
жизни? Учитывая все несовершенство человеческого существования,
не только маловероятность сочетания мгновенного и в одном
месте стольких элементов, а еще и глухоту нашего сердца, фантастическую тягу к упорному непониманию того, что нельзя не понимать. Забитость окон и дверей наших чувств, органов восприятий.
Вот представьте себе, что какое-то существо иногда, оказывается, мыслило, иногда любило - в истинном смысле этого
слова, иногда переживало прекрасное - в истинном смысле
слова. Мы констатируем, что это случалось. История нам об
этом говорит. Но ведь это - невероятно!
Азык оа/щеаийийиийля ¡//Ионии 307
Конечно, это пессимистический взгляд на вещи. Тем более
что связано это с социальным будущим Росши, в которой живут
люди и существуют культурные образования, характеризующиеся
историческим бессилием, то есть неспособностью доводить начатое
дело до конца и одновременно способностью оставаться в бездне
бесформенного, которая легко становится пылающей бездной.
Но, кстати, отсюда следует, что наша первая задача как раз
и состоит в том, чтобы нарастить мускулы. Чаадаев как-то
сказал: на всех явлениях и событиях рассийской истории,
российской жизни всегда есть отпечаток власти и никогда нет
отпечатка общественной самодеятельности. Никогда ничего не
происходит в виде исторического события, связанного с самовыражением и самодействием общественных сил.
Значит, проблема состоит в том, чтобы в России появилась
общественность, способная наложить свой отпечаток на события, переборов тем самым исторически завещанное бессилие,
которое к тому же всегда сублимировано. А для этого нужны
твердые удары молота мысли и презрения к самим себе. Человек
не имеет права ненавидеть других, но ненавидеть себя и быть
жестоким к себе и презирать себя он имеет право. И более того,
это од на из самых высоких способностей человека - презирать
себя. Если не пройти через горнило отвращения и презрения, ничего не будет, потому что дорога к истине нам преграждена
сублимациями. Из исторического бессилия мы, россияне, сделали
вывод, что ведь мы такие хорошие, душевные, мы вообще не
любим любые знаки и проявления власти. Право? - это
формально слишком. Нам подавай истину. Эта лесенка или пирамида сублимации вам известна: удобные мысли, производимые
по закону удобства. Хотя мысль производится только по закону
смерти. Только в момент решимости заглянуть за тот порог, за
которым нет тебя, такого, когда ты сам себе любезен, привычен
и мил. С которым ты сросся.
Ведь мы все время надеемся, что то, с чем мы срослись, проскочит. Если убивают, то убьют не меня, если ограбят, то скорее
соседа. Вот эта надежда, как у осла, - когда пучок сена движется,
она все время впереди.
А на самом деле мы можем что-то подумать, войдя лишь в
такую область духа и мысли, и переживаний, на дверях которой
дощечка: “Оставь надежду всяк сюда входящий”.
У одного очень умного человека, марксиста, кстати, -
Антонио Грамши есть хорошее словосочетание. Он говорил так:
пессимизм интеллекта или пессимизм ума и оптимизм воли.
Так вот, то, что я говорю сейчас, я говорю по оптимизму
воли. Я не обязан верить в то. что случится, будет обязательно
хорошее. Это пессимизм ума и оптимизм воли.
308 доклады.. а/ииНт. шиЯе/»вш
Можно эту формулу выбрать. И она относятся, конечно, и к
национальным проблемам. Проблема нации, на мой взгляд,
частный случай автономного существования того, что я называю словом, этой феноменальной материи, внутри которой и
рождается то, что нам кажется рождающимся в наших головах и
душах.
Наилучшим образом это выражено в христианстве. Для
меня, во всяком случае. При этом я имею в виду нецерковное
евангелическое христианство. То есть независимое от того, в
какую форму Церкви это облеклось. Там ведь сказано, что Новый
завет, или Благая весть, - есть весть, обещающая жизнь, то есть
указующая на то, что способность отказаться от своей души и
есть единственный способ ее обретения, пройдя через порог
готовности к смерти. И конечно, такая жизнь обещана тем, кто
не иудей и не эллин. Вот в этой личностной точке христианства,
где вместе с личностью связана или введена другая ее сторона,
называемая историей, это и есть негарантированное открытое
поприще наших собственных сил и их реализация, исполнение.
То есть история всегда эсхатологична.
Это окончательная реализация всех человеческих потенций.
История - поприще страдания, жертвы и узнавания себя в реализации. Лишь в полной реализации мы узнаем себя.
В истории каждый из нас один на один с миром. Повторяю,
история и есть поприще испытания. А с другой стороны, как это
ни парадоксально, это Просвещение.
История - очень странная вещь. Я уже говорил, что человеческая жизнь несовершенна потому, что мы мало на что способны. Ведь часто мы даже не способны на акт жизни в истинном,
строгом смысле этого слова. И эта неспособность сказывается и
в истории. Например, известно, что Просвещение - это борьба
против церкви и религии. А в действительности Просвещение
есть продолжение евангельской культуры, реализации истинного
смысла Евангелия. Какого смысла? Что такое Просвещение? Это
взрослое состояние человечества или взрослое состояние человека, когда он способен и имеет силы на то, чтобы думать своим
умом, действовать и идти, не нуждаясь в помощи и костылях. То
есть во внешних авторитетах, внешнем формировании себя посредством норм, задаваемых извне, не руководствуясь внешними
нормами. Вот что такое Просвещение, по определению людей,
которые его осуществляли в свое время и которые понимали, что
это значит. А это и есть одновременно следование Евангелию.
Там задан образ. И в принципе я бы сказал так: чтобы жить
истинную жизнь, человек не нуждается ни в какой книге, даже в
Библии, если он способен узнать этот образ, который в нем уже
заложен.
Ягьос щщеапбиВшейСА утопии 309
И иметь отвагу следовать тому, что он говорит. Тогда Бог
поможет в пути. Бее внутри, ничего нет вне. Никаких авторитетов, никаких помочей. Это и есть евангельская точка зрения.
Следовательно, сегодня в России мы должны считаться с
двумя историческими пороками.
Во-первых, с историческим бессилием, тяготеющим над
нами. То есть с отсутствием “мускулов” ума для реализации
собьпий и поступков.
И, во-вторых, с неудачей христианства в России в евангельском смысле слова.
Конечно, православные люда могут меня растерзать за это.
Ну, растерзайте, только сначала подумав, что я хотел сказать и
почему это нужно сказать. Может быть, я сказал плохо, неправильно, но подумайте...
* * *
Итак, в России сама мыслительная традиция и литература
сложились на факте осознания, что что-то не удалось. В частности,
уже в “Философических письмах” Чаадаева явно просматривается именно это: неудача Просвещения в России. Что-то сломалось,
не сладилось. И эта же неудача породила “чистую” литературу,
то есть литературу отнюдь не только социально-разоблачительную - я имею в виду Гоголя и созданный им художественный
мир: все эти привидения и призраки из “Мертвых душ”...
Но вернемся к проблеме нации. В метафизике не существует
наций, в смысле - не существует народов, и поэтому словосочетание “православный народ” - безграмотное сочетание, так же
как и “богоносный народ”. Я уже не говорю о выражении:
“Только в России можно спасаться”. Спасаться можно где угодно. На острове Патмос, например, и в Англии, где спасался,
кстати говоря, од ин из русских “печориных”, реальный человек
по фамилии Печорин, ставший монахом в одном из ее монастырей. Все это одна из частей пирамиды сублимаций, которыми
полна русская культура и русское сознание.
И в то же время евангельское изречение “ни эллина, ни
иудея” выделяет нацию в качестве естественной и единственной
предпосылки, внутри которой мы впервые можем выходить к
универсальности человеческой души и человеческого ума.
То, что я описывал под видом Просвещения и одновременно
евангельского послания, обещания жизни - это символ, указующий на универсальную структуру человеческого ума, человеческой души и человеческой истории. В истории, если она есть
(ибо у мифологических образований нет истории, они живут по
законам циклов), существуют указатели на наличие этой структуры, то есть на поле наших возможностей - что мы можем и
310 Яокми/ы, аКаМшШ, иыЯфвыо
чего не можем. Что существует лишь на пределе и что мы получим, никогда его не достигая, если будем стремиться к пределу.
Национальное состояние является одной из таких ценностей. Это напряженное поле, если оно есть. И нация жива тогд а,
когда она представляет собой такое поле, в котором происходят
какие-то события и открываются окна и двери в универсальность человечности в человеке. Поэтому появление, скажем, в
грузинском языке советизмов есть разрушение этого языка. Хотя
сами советизмы состоят из грузинских слов. Так что же такое
язык? Совокупность грузинских слов или же то живое существо,
о котором я пытался говорить? А если нечто живое, то оно или
русское, или грузинское, или узбекское. Другого не существует.
И более того, это существо живо только в случае открытого
исторического существования, оно не может быть подпольным,
как и культура не может быть под польной. Живые истоки культуры - это всегда структурированное поле, которое ты должен
пройти сам, рискуя, страдая и жертвуя собой, чтобы лишь в
конце пути узнать себя, узнать, что ты желал и что думал. В
философии давно доказано, что мы узнаем предмет желания,
только удовлетворив желание. Это закон душевной жизни.
Парадоксальный закон.
Представьте себе, что люди наделены желаниями или зачатками желаний, а им не дают их реализовать. Значит, они никогда не узнают, чего они хотели. Никогда не смогут развиться
посредством того, что желали.
* * *
Попытаюсь теперь увязать все эти темы вместе, условно
назвав это темой закона, а именно: закона инаконемыслия, что
относится, конечно, прежде всего к языку. В широком смысле -
это тема языка. В той мере, в какой язык есть не просто совокупность значений, которыми мы владеем и которые можем привязать к уже готовым в нашей голове представлениям и мыслям.
То есть под языком мы должны, очевидно, понимать в таком
случае какую-то материальную массу, обладающую определенной динамикой, внутри которой и посредством которой мы
впервые устанавливаем то, что хотели бы сказать. Или узнаем
то, что мы чувствуем и думаем, а ие то, что сначала чувствуем и
думаем, а потом находим удачный или неудачный для этого язык
выражения.
Следовательно, сам язык или сам текст обладает какой-то
производящей силой. У людей искусства, которые имеют этот
опыт, существование такого явления часто выражается словами:
делать что-то по законам языка и мысли. В то время как критики, со своей стороны, требуют судить о произведении по зако¬
Азык осцщеаЯвибшейся <(Яонш* 311
нам, которые над собой поставил художник. Подобные выражения и являются иносказанием - иногда ясным, иногда смутным -
того факта, что не существует до языка готовой и ясной для себя
мысли или состояния ощущения, чувства.
В этом смысле всякая конструкция, называемая искусством,
есть приводимая в движение некая сцепленная масса, посредством которой что-то производится в нашей душе или в нашей
голове и что не производилось бы естественным продолжением
наших психических сил. То есть простым приложением естественно данных нам способностей, в том числе и языковых.
Значит, то, о чем я говорю, это не обыденный язык, с одной
стороны, и, с другой стороны, не абстрактный символический
язык логики, а то, что можно было бы назвать Словом, - некий
элемент стихии, являющейся материей тех самых предметов, о
которых мы что-то постигаем и от которых можем получить
какие-то чувства. Ибо мы не получаем их из внешней предметной точки зрения на мир. Я ввожу здесь очень сложный пункт,
отсылающий нас к профессиональной философии, к профессиональным терминам. Я буду их избегать. Просто помечу, может
быть, вам будет это интересно и вы “откопаете” соответствующую литературу.
Речь идет о феноменологии. Почему возникла так называемая феноменологическая проблема? Приведу пример. Что
такое предметная точка зрения? Скажем, я вижу в мире предмет
и вижу людей, на которых этот предмет воздействует, вижу, что
у него есть определенные свойства. Например, этот предмет
красив, прекрасен и соответственно его красота вызывает определенное эмоциональное состояние в людях, на которых он
воздействует. Но дело в том, что то, что волнует одного, может
не волновать другого. Вед ь я могу стоять перед чем-то прекрасным,
и по идее, то есть с предметной точки зрения, это обязательно,
казалось бы, должно вызывать какое-то чувство, а я не взволнован. Или, наоборот, вы не взволнованы, а я взволнован.
Что же является источником эмоции и мысли? Вы, очевидно,
сталкивались с этим непостижимым феноменом человеческой
слепоты, когда смотришь открытыми глазами на истину и не
видишь ее.
Можно оказаться нос к носу с явлением чести, например, и
не узнать, то есть не быть приведенным в то состояние, которое
называется испытанием или восприятием явления чести, доблести. Ну так же, как можно не узнать героя. Есть же непризнанные, неузнанные герои, которые с внешней точки зрения
третьего, какого-то божественного наблюдателя обладают,
казалось бы, этим качеством, а у самого наблюдателя этого
качества нет, то есть предмет не стал источником чувства, хотя
312 доклады, аЯа/Яш, шиХфйыо
он (наблюдатель) и наделен им и оно должно было бы вызвать
это чувство или понимание.
Я ясно выражаюсь?
Так вот, то, что я условно назвал Словом или “языком”,
предупредив, что не имею в виду обыденный язык, и есть то, посредством чего предмет становится источником восприятия и переживания тех качеств, которые мы воспринимаем и переживаем.
Фактически я сказал тавтологию. Мы воспринимаем то, что
воспринимаем. Или видам то, что видам. И потом уже сам
пред мет невозможно отличить от видения. То, что видит глаз, -
нельзя отличить от глаза. А с другой стороны, если кто-то извне
наблюдает предмет, который выделен глазом (и сейчас я скажу
сложную фразу, это отвлеченная истина), если кто-то видит поле
предметов, видимых глазом, то в этих предметах нет ничего
такого, почему или на основании чего можно было бы понять
или заключить, что их видит глаз.
Повторяю: при наблюдении предметов, составляющих поле
зрения, мы не увидим в этих предметах ничего такого, в силу
чао и почему мы могли бы заключить, что эти предметы
видимы именно глазу. Или еще пример этой отвлеченной
истины. Если наблюдать динамо-машину, то по механическому
расположению ее частей мы не поймем, почему она работает,
если у нас нет представления об электрическом токе. Само по себе наблюдшие ее частей не индуцирует в нас заключения о токе,
мы должны как бы это знать.
Или в этом же ряду - пример следующий. Представьте себе
марсианина, который смотрит театральное представление. На
сцене что-то выражается словами, что-то соотношением тел и их
пластикой и т.д. Ведь он никогда не понял бы, что происходит,
если уже не имел понятия о театре.
Вот это и есть феноменологическая проблема, то есть такое
состояние нашей мысли и наших ощущений, чувств, которое
имеет феноменальный характер, а не характер явлений. Следовательно, когда мы говорим о явлениях, мы должны идти к чему-то
другому, чем само явление. Ну, скажем, глядя на движущееся
Солнце, мы должны движение Солнца воспринимать как явление
движения Земли. То есть за движущимся Солнцем стоит нечто
другое, и поэтому его движение называется явлением, для
перехода от которого к сущности есть определенная техника
мысли, техника анализа или метод опыта.
Итак, в случае включенности глаза в наблюдаемые им предметы мы еще не можем заключить, что их видит глаз, точно так
же как в случае динамо-машины, если бы мы уже не знали, что
существует такая вещь, как электрический ток, мы никогда не
могли бы понять смысла механического расположения ее частей.
Язык осущес^ившеисл утопии 313
И такая феноменальная материя есть у языка. Кроме внешних соотносимых его значений, которые мы можем узнать из
словаря, у него есть еще материя, предполагающая уже мою
включенность в язык и неспособность отступить от моего бытия
в представлении к представлению о внешнем объекте. Эту
сторону языка нельзя объективировать, отступить от своей
жизни в ней и считать ее неким субъективным образом. Куда бы
мы не отступали, мы все равно окажемся в бытии представления.
Ибо глаз будет видеть то, что видит. И кстати, это поле глаза
бесконечно. Куда бы вы ни пришли с глазом, вы увидите там то,
что он видит. То есть нечто непрерывное и бесконечное, внутрь
чего невозможно вклиниться и образовать интервал, вставить
еще что-то, чтобы можно было сказать, что это объект, а это -
его значаще.
Следовательно, жизнь этой “материи” как раз и производит
в нашей голове и в наших чувствах, если это организовано
искусно (отсюда слово “искусство”), то состояние переживания,
состояние волнения, понимания, возвышенности и т.д., которое
не случится в нас, когда мы просто располагаем нашими наличными естественными психическими силами. То, что происходит с
нами, если происходит посредством искусства, на самом деле
независимо от психологических различений ума, глупости,
таланта, бездарности; здесь происходят какие-то другие вещи,
которые мы лишь потом психологизируем в терминах качеств и
свойств различных людей. Один умный, другой - глупый, кто-то
еще умнее и т.д.
Значит, отсюда можно сделать такое заключение, что существование в нашей голове каких-то постижений, ориентаций разумных мыслей, эстетических переживаний предполагает как бы
предсуществование вот той вещи, которую я описывал вам как
некую стихию или феноменальную материю, назвав ее Словом.
Малларме в свое время говорил, что когда он пишет стихотворение, он узнает, что из него рвалось и хотело быть написанным, хотело высказаться. И поэтому же он утверждал, что поэмы
пишутся не идеями, то есть не ментально представленными
значениями, располагаемыми в определенной последовательности и в определенной комбинации, якобы дающей какой-то
смысл и порождающей переживание, а пишутся словами. Под
словом он имел в виду способность слова породить в себе особое
состояние души и состояние мысли.
Но вот эта странная вещь, которую я пытался описать,
некая непрерывность или жизнь бесконечного, когда мы пытаемся
воплотить ее, дать ей жить, она же конечна, как конечны любые
материальные образования, а слово - тоже материальное образование, уже в простом, не в феноменологическом смысле слова.
314 2)оклафя, айсийьи, ин&фвью
И слова тоже конечны. Все слова имеют конечное значение.
Качеством близким к бесконечности обладает лишь музыка. В
отличие от литературы и от живописи лишь она состоит из элементов, которым мы не можем придать конечное значение. Само
написание буквы - это конечная форма, а в музыке нет букв.
Музыка - это предельное выражение свойств феноменальной
материи, и поэтому для обозначения их не случайно всплывает
слово, заимствованное из музыки же, а именно: гармония. То,
что я называл феноменальной материей, можно назвать и областью гармоний. Искомых искусством и искомых мыслью. Именно
гармония обладает, на мой взгляд, свойством непрерывности и
бесконечности. В ней невозможно внешнее сравнение предметов.
(Я прошу прощения за сложность своего изложения. За те
мысли, которые я пытаюсь выразить и к которым я хотел бы
сказать, чтобы вы отнеслись серьезно, считая это важным.
Действительно, это самое важное и самое близкое нам, самое
существенное.)
Значит, гармония.
Ну, конечно, в начале было Слово, и Слово было Богом. Все,
что возникает, если возникает и имеет право на бытие, возникает отсюда. Но не в том смысле, что Слово было вначале по
времени - это неизвестно, мы не можем пройти к его началу. В
каком-то отвлеченном смысле мы вообще не можем говорить о
времени, о вещах во времени до человека. Потому что если нам
доступно не значение слова “время”, а само время, то оно доступно
лишь феноменально, а раз доступно феноменально, значит мы
уже включены в него и не можем на него посмотреть со стороны,
не можем произвести никакое внешнее сравнение, например,
между одним ходом времени и другим ходом времени. Здесь мы
имеем как бы абсолютное время. Время как таковое. И не имеем
никакой относительности. Это то, что в философской традиции
называлось идеей. В данном случае это идея времени, форма.
Вот то, что я сказал о глазе, как я говорил об этом, есть идея
зрения. Не зрение, не понятие зрения и не слово, обозначающее
зрение, а идея зрения. Платон называл это идеями. Впервые в
термине “идея” он вычленил и выявил именно это. А можно
назвать это и по-другому, иначе, а именно: жизнь сознания или
текстуальность сознания. То, что я называл перед этим Словом,
есть текст сознания. Блуждающая динамика и прочее, или
гармонии, которые порождают в нас свои продукты, которые мы
называем нашими мыслями, чувствами, переживаниями. Думая,
что это мы их породили, в смысле функционирования наших
естественных способностей и сил.
Ничего подобного. В начале было Слово. Оно породило, и
оно было Богом.
Sbbuc осущеаМибшейсл фйонии 315
Теперь помечу вторую сторону моей беседы, воспользовавшись перекличкой названной выше тепы “инаконемыслия” со
стихотворением Гумилева “И дурно пахнут мертвые слова”.
Мертвыми словами являются те, в которых мы забыли, что в начале было Слово, и как в улье опустелом слова у нас теперь дурно пахнут. “Мертвые пчелы” этого улья. А мертвые пчелы
гумилевского улья можно ассоциировать и со “слепыми ласточками'5 Мандельштама - помните это стихотворение? Ласточки,
вернувшиеся в чертог теней. Не нашедшие Слова.
Таким чертогом теней могут быть “слепые ласточки” и
“мертвые слова”.
Так вот, взяв эту метафору “мертвых слов”, дурно пахнущих, возьмем вторую сторону дела. Продукты гармонии - а ими
являются стихотворения, философские трактаты, фильмы и т.д.,
произведения искусства и мысли - они могут подвергаться разным судьбам. Они могут признаваться и не признаваться, могут
цензурироваться, запрещаться, продаваться, но всегда ясно, что
они уже есть. У гонимого поэта есть стихотворения; запрещен
фильм уже сделанный. Цензуре подвергнуто уже написанное
стихотворение. Известная ситуация, к которой мы прилагаем
понятие подцензурной литературы, и как следствие этого -
протесты со стороны художника. Борьба за освобождение
искусства и науки и т.д. Все это есть тоже, было.
Но есть еще одна вещь, более страшная. Возможность ее
подозревал Блок. Он предполагал ситуацию, как бы предвидя и
самого себя в ней (и предсказание его сбылось), что может случиться что-то, когда окажутся разрушенными сами внутренние
источники гармонии. То есть не так, как мы - достойно или недостойно - обращаемся с ее продуктами, а могут быть разрушены, повторяю, внутренние источники гармонии, внутренняя
организация той жизни Слова, о которой шла речь выше.
Почему я об этом говорю? По той причине, что мы живем и
пытаемся чувствовать и думать как раз в этой ситуации. И
поэтому для нас проблема свободного мышления, свободного
искусства не есть только проблема защиты того, что мы подумали или что написали, нарисовали, сочинили и т.д. Наша проблема не в том, чтобы защитить подуманное, а чтобы суметь
подумать. Не в том, чтобы “пробить” написанное, а чтобы
суметь создать, ибо разрушаю поле (ведь я говорил о поле,
когда говорил о “стихии”, о Слове) - разрушаю поле возможной
артикуляции и кристаллизации мысли, ее эстетического состояния.
Возвращаясь к музыкальным метафорам, я бы сказал, что
сегодня - ситуация “мертвой музыки”, то есть не гонимой (это
один ужас), а “мертвой музыки”, что является еще большим
ужасом.
316 2)склафл. аОшЯьи, шилфвыо
Как выразился когда-то Блок, из культуры может уйти
музыка. И это основное наше переживание; перед нами стоят
призраки, привидения, которые неотличимы фактически от
истины, от прекрасного: они отличимы только каким-то тоном,
а именно - мертв остью тона. И лишь этот тон подчеркивает
фундаментальную разницу двух миров. Например, есть реальный мир вина и есть он же, когда пытаются быть трезвыми и
борются с алкоголизмом. И эта словесная кампания за трезвость
лишь мертвостыо тона выдает, что эта история другого племени,
других людей.
У нас разрушен язык. То есть формально, например, русский
или грузинский язык - есть. Но он весь, как я говорил в самом
начале, в раковых опухолях, которые не поддаются развитию.
Существующий язык, состоящий из сцеплений десятков слов, из
неподвижных блоков, подобно бичу божьему, останавливает
любое движение мысли, возможной мысли. И он же является
носителем закона инаконемыслия. Мы не мыслим не потому, что
запрещено, а потому что разрушены внутренние источники
мысли, источники гармонии, и тем самым разрушено поле языка.
Язык таков, что он вокруг и внутри себя блокирует возможность
всякой кристаллизации мысли.
Недавно мне пришлось разговаривать с американскими специалистами по поводу идеологии и объяснять им, что одной из
самых важных характеристик современной европейской культуры является отсутствие в ней единой идеологической системы. Я
сказал, что это не недостаток, а наоборот, признак ее гибкости,
изменяемости. Живуча она и живуча потому, что нет системы. А
там, где есть система, там смерть. И при этом добавил, что европейский социализм также, на мой взгляд, претендует быть системой. То есть смертью всего живого. Ибо есть закон (и XX век
подтверждает это), согласно которому всякая идеология неизменно стремится к тотальности. По своей глупости мы измеряем
порой идеологию в терминах эффективности, полагая, что
поскольку она воздействует на людей, постольку люди искренне
разделяют убеждения, систематизируемые идеологией, что они в
нее верят. То есть когда мы имеем, с одной стороны - систему
идеологии и с другой - людей и наблюдаем их, мы говорим, что
это сильная идеология, потому что они убежденные носители
определенных идей. А если перестают быть носителями и верить,
то идеология якобы не эффективна. Все это чушь. Есть закон
инаконемыслия, по которому всякая идеология стремится в своем
систематическом развитии к такой точке, где эффективность
измеряется не тем, насколько верят в идеологию люди и сколь
много таких людей, а тем, чего она не дает подумать и не дает
сказать.
Лзьие осцщеаибившлйея фКошш
317
Вы прекрасно видите и сейчас (и на этой я кончу), что
нашим властям, в общем-то, плевать на то, во что мы верим или
не верим или насколько верим. И это очень эффективно, и нечего
критиковать идеологию за ее якобы слабость, что она не
действует и т.д. Ей это и не нужно, потому что ее эффективность
измеряется совсем другим. Если переводить (то, что я хочу
сказать) в термины, которые я уже употреблял, она измеряется
степенью разрушения поля, в котором возможны кристаллизации
мысли. Ведь я не имею мысли до выражения. Помните цитату из
Малларме? “Только когда пишу, я узнаю, что хотел написать”.
Не идеями пишутся поэмы, а словами. А мы лишены пока той
пристройки, амплификатора наших побуждений и мыслей.
ема наших занятий - проблемы социальной философии.
Это звучит очень обще, но в действительности моя тема
будет гораздо более ограниченной, и в то же время -
неуютной что ли. Я эту тему для себя называю “физической
метафизикой в социальной философии”. И все последующее будет фактически разъяснением самого этого термина - физическая
метафизика. Грубо говоря, идея состоит в том, чтобы выявшь в
реальном социально-историческом бытии, в нашей жизни и в
нашем сознании то место, которое занимает в них некоторый
эмпирически невидимый элемент, не поддающийся наглядному
изображению и описанию и тем не менее играющий некую
таинственную, но существенную роль в том, как складываются и
наши жизни, и наши исторические судьбы.
Фактически, в том, что мы называем “социальной философией” , в ее предмете, мы имеем дело - всегда и прежде всего - с
человеческим феноменом, то есть с нашей реальной жизнью, когда думаем о ней не в терминах существующих теорий и институций (имеющих свои теории), а в терминах собственной жизни и в
контексте ее проблем, которые в целом можно обозначить одним
словом - “собирание”. Ведь мы прежде всего этим и занимаемся:
или “собираем” свою жизнь в какое-то осмысленное для нас
целое, или чувствуем, что она теряется кусками, уходит в какие-
то ответвления, которые ускользают от нашего внимания, сознания, от нашей воли и контроля, и последствия которых потом
Из лекций по социальной философии*
1 Фрагменты лекций, прочитанных М.К.Мамардашвили в Вильнюсском университете в июле 1981 года. Опубликованы в “Социологическом журнале” (№3, 1994).
318 доклады. аЯшнш. иынфвыо
обрушиваются на нас. В старой традиции (я имею в виду традицию религиозную) противоположным “собиранию” считался
термин “рассеяние”. Фактически этими двумя словами и выражена, на мой взгляд, суть философского взгляда на мир. Если
вы вспомните исторические образцы философии (греческую, восточную, индийскую), вы увидите, что именно с этого начинаются мысли, которые мы интуитивно признаем за философские. В
этом смысле философия похожа на все другие человеческие явления, которые все мы знаем и которые не поддаются определению.
Скажем, что такое “совесть”, “честь”, что такое “достоинство”,
“верность” или “вера”? Философия была первой попыткой определить именно эти вещи. Другими словами, философская мысль,
которую мы узнаем как философскую, возникает всегда в контексте того, что древние называли “спасением”. Наша жизнь в
обществе и истории всегда связана с желанием и попыткой выскочить из того, что не наше, собрать себя (а собрать себя можно
только в каком-то пространстве, в каком-то топосе), когда приходится прорываться через пелену слов, обретая себя в своем
сознании, потому что часто это не наше, а то сознание, в которое мы попали благодаря случайному акту рождения. Поэтому
не имеет смысла, например, тот факт, что я родился грузином, а
вы родились литовцами; смысл может появиться только после
того, как мы зададим этот вопрос.
Повторяю, я говорю о чем-то, что не поддается определению, чтобы пояснить, что я имею в виду под “физической метафизикой” . Приведу простой пример: психология в лабораторных
условиях (если она научна, как теперь принято выражаться)
изучает скорость психических реакций, анализирует память -
долговременную и кратковременную, короче, изучает наши
психические функции, способность пребывать в состоянии
возбуждения или выпадать из него т.д.
Это составляет содержание психологических трактатов,
издаваемых соответствующими институтами. Но мы ведь знаем,
что в действительности, в нашей жизни - как психологической,
так и социально -исторической - гораздо большее значение
имеют другие вещи: не то, каковы мы по замерениям психологов,
а то, например, насколько мы способны быть верными чему-то.
Я задам вам риторический вопрос: что имеет больше последствий в нашей реальной психологической жизни и в характеристике человека как личности - измеримая память или духовная
верность?
Вспомните Эйнштейна, который ничем особо не отличался
по своим дарованиям от современных ему физиков; многие были,
очевидно, способней, сообразительней его (известно, что он был
ребенком с замедленным развитием) и, наверное, если бы судьба
Ш лекций но софюльной философии 319
людей зависела от измерений по тесту интеллекта, то Эйнштейн
был бы просто вычеркнут из категории тех, кого можно допустить в науку. Следовательно, метафизический элемент в нашей
жизни - это нечто невидимое и вместе с тем самое близкое нам,
что имеет наблюдаемые следствия: Эйнштейн стал Эйнштейном
явно благодаря этому элементу, который не поддается измерению. Сам Эйнштейн, отвечая одаажды на анкету, говорил, что в
науке работают люд и по меньшей мере трех категорий. Первая -
это те, кто наделен исключительными интеллектуальными способностями, они занимаются наукой с таким же увлечением и
пафосом, как спортсмены. Наука для них - особого рода увлекательная интеллектуальная игра (решение задач), приносящая
успех, который измеряется так же, как в спорте. Что же, очень
хорошая категория работников, говорил Эйнштейн. Есть вторая
категория ученых, тоже интеллектуально одаренных, которые
занимаются наукой, как можно заниматься любым другим
делом, доставляющим средства к существованию. Их интересует
прежде всего наука как способ материального обеспечения.
Такие тоже не могут быть изгнаны из храма науки, они в нем
необходимы и составляют большинство. Но есть третья категория ученых, для которых наука является как бы выходом из
“тягомотины” обыденной, повседневной жизни, с ее бессмысленной повторяемостью и пустотой стремлений, когда одно ощущение сменяется другим, и так появляется бег в бесконечность, где
предметы наших наслаждений, наших интересов сменяют друг
друга в дурной последовательности; вся наша жизнь, как известно, рассеяна по таким вещам. Но если человека охватило ощущение, что все это бессмысленно, и он ищет чего-то другого - это
и есть представитель третьей категории ученых, также необходимых науке. Судя по тому, как о них говорил Эйнштейн, он сам
тяготел именно к этому третьему типу и, наверное, косвенно
описал себя. То есть он занимался абстрактной наукой потому,
что она прерывала в этом жизненном процессе какие-то зависимости, самовоспроизводящиеся сцепления - он как бы выпал из
сцеплений стихийного потока жизни.
То есть я хочу сказать, что это и есть метафизика, ее невидимые нити, которые порождают эмпирически наблюдаемые последствия, в данном случае открытая Эйнштейна. И то же самое
проявляется в реальных событиях, социальных и психологических, когда мы интуитивно придаем большее значение, скажем,
верности, а не предательству, называя это “сосредоточенностью”
(как ума, так и жизни), “целостностью", “собранностью" и т.д.,
не обращая внимания на эмпирически измеримые параметры
нашего существования. Поскольку если захотим узнать из науки,
как мы живем, то встретимся с абстракциями и ничего не узнаем.
320 2)оклафя, аЯеиЯьи. иыЯфвыо
Следовательно, мы можем обращаться к абстракциям социаль-
но-исторических и психологических теорий именно в той мере, в
какой забываем все то, что знаем на уровне нашей жизни,
интуиции или тех требований человеческого достоинства, которые предъявляем к себе и другим.
Мы этих “метафизических” вещей не понимаем и не видим
по двум причинам. Во-первых, в силу нашего отношения к сложившемуся типу социальной науки. Это примерно то же самое
отношение, которое существует между военной стратегией и
тактикой как наукой и реальными военными действиями. Чтобы
представить, что имеется в виду под “военной теорией”, можно
просто вспомнить “Войну и мир” Толстого, то, как он описывает
“военную мудрость” по сравнению с реальной историей. Как
известно, военные теории строятся применительно к искусственным ситуациям и сохраняются вопреки тому, что люди, руководствующиеся этими теориями, терпят поражения. Теоретики в
таком случае обычно считают, что тем хуже для факте®, являясь
тем самым бессознательными гегелианцами (Гегель ведь тоже
считал, что тем хуже для фактов, если они не подпадали под его
теорию). И более того, сама действительность выступает при
этом как ошибка, как отклонение, поскольку считается, что военный стратег потерпел поражение не потому, что плоха теория
- она всегда хороша, - а потому, что практика не последовала за
теорией; а если бы последовала, то теория привела бы к успеху.
Так вот, очень часто наше социальное мышление строится
согласно этому осмеянному Толстым правилу. Мы ведь тоже
реальное социальное бытие склонны рассматривать как некое
отклонение от идеальной теории, и все, что происходит в жизни,
приписываем результату недостаточно хорошего понимания
теории. В этом смысле факт никогда не опровергает теорию. А
нам нужно учиться в области социальной мысли через наблюдаемые явления уметь видеть ненаблюдаемые; тогда мы иначе
поймем то, что наблюдаем. В противном случае, без обращения к
этому эмпирически неухватываемому элементу мы решающих
вещей в нашей жизни, в жизни общества и истории не поймем.
И вторая причина: то, о чем здесь говорится, трудно понять
до тех пор, пока метафизику мы будем отождествлять с некоторой
картиной мира и считать, что если науки рисуют эмпирически
наблюдаемый мир, то метафизика является якобы изображением
некоего сверхчувственного мира. Хотя мы знаем, что никакого
сверхчувственного мирг ' е существует, и, следовательно, тогда
вообще не понятно, по какому праву я употребляю термин
“метафизика”. А давайте попробуем посмотреть иначе, постараемся увидеть конструктивную сторону метафизики - конструктивную по отношению к человеческому феномену. Тогда
Ш лекции по сои^ииьиой философии 321
мы поймем, что посредством выявления этого невидимого
элемента, рассуждений о нем как раз и имеют место какие-то
конструктивные эффекты в самом человеческом феномене, что
сам человек как бы строится посредством этого ряда представлений. Скажем, совесть есть элемент всех наших конкретных
нравственных явлений, хотя отдельно она неуловима...
* * *
Итак, мы различаем, с одной стороны, такие сложные
формы социальной жизни, которые являются продуктами цивилизации и изобретения, а с другой стороны - элементарные формы
общественной жизни. Смысл этого различения, опыт, на котором
оно покоится, следующий: грубо говоря, оно связано с преследующим меня ощущением бессилия человека в той мере, в какой он -
как психофизическое природное существо - остается один на
один с миром, с собой и с себе подобными, в той мере, в какой у
него нет своего рода “приставок”, то есть неких “искусственных
органов” тех самых сложных социальных форм, на которые он мог
бы опереться. Ибо только они помогают человеку совершить то
усилие, без которого он не может как автономный и самодеятельный субъект прожить свою жизнь, устанавливать отношения
с миром, с другими людьми и, конечно, с самим собой. Именно
это я называю ощущением “физичности” нашей жизни, какой-то
“мускульности” общественной жизни.
Представьте себе человека на митинге. Предположим, что
митинг есть выражение мнения присутствующих, причем оно
должно вырабатываться прямо и непосредственно совместной
интуицией массы людей, собравшихся для установления правды
и справедливости. Когда сама выработка этого мнения не проходит никаких формализованных инстанций, где нет никакой
кристаллизации высказываний, точек зрения и т.д. Когда человек как бы один на один со своим пониманием, с собственным
видением того, что же такое истина, справедливость и т.д. Так
вот, опыт показывает: именно в такой ситуации человек в принципе не способен определить, что он в действительности думает,
не способен выработать собственное мнение. Вы знаете, что
техника немецких штурмовых отрядов была как раз техникой
организации такого массового состояния. В этом случае происходит и устанавливается не мнение, не волеизъявление людей, не
правдоизъявление, а нечто совсем другое. У подножия статуй
мыслить невозможно, хотя тебя к этому призывают. Это заранее
заданное идеологическое пространство, в котором при видимо!!
сам о деятельности твоя мысль направляется по уже заданным
силовым линиям. Я же имею в виду искусственные изобретения,
такие, как формализованное право, формализованные механизмы
И Зак. А10
322 доклады, аКпЛык иыКфвыо
этики, срабатывающие независимо от такого установления - это
и есть “мускулы”, без которых действует то, что я назвал элементарными формами социальной жизни. Соберите людей вместе и
лишите их этих “мускулов”, и вы получите социальные отношения, которые полностью определяются борьбой за выживание.
Это будет просто физическая масса, расходующая свою силу по
законам массы, когда можно обрушиться всей оравой на од ного
противника и победить его не умением, а именно массой. И к
тому же единицы этой массы взаимозаменимы, природ а как бы
продолжает в этом случае действовать разбросом множества
экземпляров и не считается ни с какой ед иничностью рад и того,
чтобы выживало и продолжалось целое. Иначе говоря, те взаимоотношения, которые складываются на митинге или, скажем,
в очереди, -все это статистически описуемо и является действием
элементарных форм социальной жизни.
Чтобы закрепить сказанное, воспользуюсь метафорой
очереди. Чем она характеризуется? Тем, что в ней все друг друга
ненавидят и в то же время истерически цепляются друг за друга,
потому что очередь выделяет себя по отношению к остальному
миру, который пытается в эту очередь проникнуть. В очереди
нельзя высовываться, быть головой выше - нужно полностью
соответствовать ее состоянию, возникшему между сбившимися
телами. Я одаажды видел потрясающую фотографию - очередь в
Китае 20-х годов; был кризис золотого фонда, и люди бросились
за своими вкладами, и один французский фотограф запечатлел
их драматические лица, сплетенность тел; впечатляющая картина общей зависимости и в то же время ненависти к впереди
стоящему.
Повторяю, когда человеческие действия не канализируются
через те или иные структуры, мы неминуемо оказываемся перед
лицом примитивных форм социальной жизни. Они начинают
действовать, когда из общественного тела вынуты структурирующие стержни. Нацисты, например, такие стержни и вынимали, заявляя, что им не нужны никакие представительные
институты, никакой законопорядок: “Один народ, один фюрер”.
Между тем эти структурирующие стержни и есть “мускулы”
общества. И только посредством таких “мускулов” можно
осуществить усилие мысли и выработку собственного мнения,
поскольку часто мы действительно не знаем, что думаем, наш
собственный опыт не извлечен, он ушел в то, что Пруст называл
“потерянным временем”. И вернуть его, дать снова случиться
тому, что упщр в “потерянное время”, что на самом деле я
увидел, что действительно пережил, почувствовал, - невероятно
трудно. Эти высшие, усложненные формы я и называю
“физикой”. В действительности все эти вещи могут быть получены
Из м смфл&иьмИ фмософшл 323
только сложный путем, вопреки обычному представлгяио, что
истинное мышление всегда просто. А я утверждаю, <гго оно
сложно, и если нет этой сложности, то вообще ничего нет.
* * *
Подобные редуктивные ситуации, возникающие в силу
каких-то поворотов исторического развития, иногда предсказуемы. В истории европейской культуры, как известно, было
предсказание поворота, за которым произойдет редукция
сложных и искусственных форм социальной жизни и разовьются,
выплеснутся элементарные формы, порождающие свой антропологический материал, - тип человека, который я называю
“элементалом”, или “зомби”. Таким предсказателем был Ницше,
а таким поворотом - то, что случилось в Германии и в России в
20-30-х годах. Следовательно, одним из переживаний для нас,
людей XX века, из-за которого вообще стоит говорить вслух и
думать о чем-то, стал тот факт, что на фоне нашей истории
появился особый феномен элементарных форм жизни, пород ивший систему тотального действия. Эго стоит перед нами, и в это
надо всмотреться, потому что от того, всмотримся мы или нет -
а это вовсе не в прошлом, как вы сами прекрасно знаете, - от
того, поймем ли, из чего это складывается, во многом будет
зависеть и то, что с нами может случиться в дальнейшем. Такого
феномена (я буду называть его системой тотального действия)
предшествующая история не знала, как, за редкими и сомнительными исключениями, не знала и феномена идеологических
государств, не являющихся государствами в традиционном
политическом смысле этого слова.
Что же случилось? Откуда и почему произошло это падение
людей в манящую бездну? Интуитивно - совершенно независимо
от суммы наших знаний - казалось бы, ясно, понятен смысл того, что случилось. Вот, скажем, Веймарская республика, появились усложненные формы социальной жизни, формализованная
система представительной демократии, но она явно оказалась
невмоготу: у немцев не было “мускулов”. Предшествую щая
история не вырабатывала их в массе людей, а то, что выработала, как понимал уже Ницше, находилось в тоненьком слое, под
которым тлел вулкан, и потому не имело смысла. Не имело
смысла христианство, право и все, что называется цивилизацией.
При этом речь не о том, что Ницше был против цивилизации
или христианства, но он показал - правда, разгулом неконтролируемых метафор, - что все это действительно не имеет смысла,
если существует лишь на уровне ритуала, навязанного принуждения, если не выросло из силы каждого, из его внутреннего
владения этим и потребности в этом.
324
доклады, айайш, шабфбь»
Так вот, многих таких вещей у немцев, как оказало«», не
было. И началось: есть сложные формальные институты демократического представительства или представительных учреждений - а зачем вся эта “тягомотина’’, когда пять или сто, или
тысяча человек вместе, и всех захватила одна эмоция, она прекрасна, зачем всякие сложности? Сложные формы социальной
жизни предполагают “мускулы”, а у нас их нет, и к тому же
бездна соблазнительна, ибо снимает самое тяжелое бремя -
бремя свобода и ответственности. И мы “сигаем”, как говорят
по-русски, в эту блаженную пропасть. Вот и сиганули - с весьма
катастрофическими результатами.
Но редуктивные ситуации, не нашей волей, не нашей силой
ума, не нашим действием созданные, являются, на мой взгляд, в
определенном смысле и привилегированными ситуациями. Для
ученого, как, в частности, и для врача, употребляющего выражение “красивый рак”, это тот редкий случай, когда данные,
которые он собирает обычно по крохам, предстают в чистом,
предельно ясном, типичном виде. “Красивый рак” - беда, конечно. Но единственное, что мы можем в этом случае сделать
(вылечить не можем) - не упустить, увидеть то, что находится
перед нами.
Вот в этом смысле редуктивные ситуации привилегированны. Они позволяют обнаружить то, что не видно в привычных
условиях, например, когда нормально действуют усложняющие
механизмы жизни, когда мнение или идея вырабатываются не
только в человеческой голове, но и через “мускулатуру” мысли,
общественного, гласного обсуждения. Если же этого нет, то
приходится обращаться в том числе и к анализу, чтобы лучше
понять, из чего состоит эта сложная материя. Обычно самый
сложный социальный процесс превращается в автоматический,
нормальный ход вещей, и мы считаем естественным получать те
результаты, к которым он приводит, перестаем задумываться о тех
внутренних, глубинных условиях, при которых он вообще возможен. Демократия нам может казаться само собой разумеющейся
уже в силу демократического настроя людей. Мы думаем, что все
это существует благодаря определенным представлениям или
будет существовать, если сложатся эти представления, что можно
уговорить людей быть демократами, социалистами и т.д. Увы!
Поэтому когда возникает редуктивная ситуация, надо воспользоваться ее “красотой”. Толстой говорил: “не умел ценить,
не умел пользоваться” (если помните, это по поводу семейной
жизни, о достоинствах жены). Так вот, мы тоже должны уметь
ценить и пользоваться. Если сделаем такой шаг, то обязательно
что-то поймем. А именно, что социальные интересы и мотивы
появляются отнюдь не из слов или намерений. То есть не из того,
Ш лекций по социальной философии 325
что люда могут порождать естественным образом, потому что
естественным образом они могут порождать только элементарные формы социальной жизни. А мы начинаем понимать, как
действительно работают “мускулатура”, “органы воспроизводства” нашей жизни, технология общественной жизни, и тогда
иначе увидим место науки, искусства, правопорядка и т.д.
Коротко говоря, если мы сможем использовать редуктивную
ситуацию, то она установит в нас неморализукнций взгляд на
общество и историю. Редуктивные же ситуации, элементарные
формы социальной жизни полны именно моралистики. То есть
мы начинаем понимать, что дело не только в стремлении к тому,
чтобы люди были хорошими, а в том, что важно наладить работу механизмов, инвариантных относительно той случайности, в
силу которой человек оказался хорошим или плохим, добронамеренным или злонамеренным, и дающих тот результат,
который соответствует облику и задаче цивилизации, и главное
- воспроизводит ее и продолжает.
В этом смысле, я думаю, ясно, что одной из катастрофических
идей XX века является идея нового человека (как бы лабораторного создания), идея инженерии человеческих душ. Реальный же
парадокс истории состоит в том, что дай нам Бог порождать или
породить просто человека, имеющего свое назначение.
* * *
Сравним две вещи. Первая, о чем я уже говорил, обозначая
то, что всегда артикулировано, имеет дифференцированную
структуру, те самые “мускулы” или “органы”, которые отнюдь
не только по нашему желанию или намерению порождают какие-
то искомые явления, в том числе, скажем, совесть. Ее порождение
и существование, конечно же, отличаются от доброго намерения.
Добро в этом смысле есть искусство. Честность есть искусство.
Быть честным и хотеть быть честным, в эмпирическом смысле
слова, - большая разница. Можно написать роман с самыми
лучшими намерениями, а он повлечет совсем другие действия,
потому что плохо написан. То есть при этом имеется в виду
существование некоего конструирующего тигля, где могли бы
возникать и удерживаться наши человеческие состояния. А вместе с тем это какая-то артикуляция. Например, такой артикуляцией является наличие демократических институтов. Так вот,
сопоставим с этим вторую вещь, то, что я буду называть желе.
Причем, хочу вас заверить, что предметное описание, наборы
человеческих действий, которые имеют все номинации исторических явлений, в обоих случаях одинаковы. Ну, скажем, понятие
справедливости у крепостного крестьянина в России и устремление к справедливости, понятие о добре, о праве и т.д., реализуе¬
326 2кллафл, аЯа/Ош, шиКфйт
мое в общинных связях (феномен русской общины) по содержанию
натуральных человеческих качеств и социальных явлений абсолютно такие же, как и в том случае, когда действуют формальные
механизмы права. Но когда есть механизм, то и “чувство права”
развивается по другим траекториям и дает другой результат.
Представьте себе тарелку, наполненную желе. Движение,
вызванное толчком, пройдет через всю тарелку. И точно так же
оно пронижет общественное желеподобное тело, если не будет
“кристаллических решеток”, хотя желеподобное состояние всегда
связано с усиленным одухотворением и моралистикой. Существует как бы такой закон истории: живущие в этом “желе” люди
считают себя носителями особой миссии, особой одухотворенности (душа якобы есть только у них). А в действительности
они, как правило, аморальны, потому что “желе” поддается
любому произвольному действию. Оно пройдет по нему, не
наталкиваясь ни на какие структуры, в том числе личностные.
Если угодно, здесь не существует честного слова. В другой, формализованной системе возможна ситуация, когда действие будет
основано на честном слове, ибо личностная структура в данном
случае не тождественна социальному статусу, социальной роли.
Есть одновременно и то, и другое. В этом случае если и захотят
заставить человека сделать подлость, то воздействие извне
натолкнется на “кристаллическую решетку” самой личности -
личностную структуру. Когда есть такие решетки, невозможны
массовая истерия, массовое доносительство и прочее. В случае же
“желе” их нет, и оно заполняется моралистикой. Это в общем
интересный феномен. Все говорят только о морали, все тебя
поучают. Жизнь усложнена именно потому, что она в действительности максимально проста, подобно мягкому желе.
Мы, например, ставим вопрос: как осуществить правосуд ие?
Простой ответ: воспитывать честных и умных судей (вариант
“желе”). Реальная история, однако, складываясь как сложная
ткань общественной жизни, эмпирически выбрала другой путь.
Путь выработки таких вот кристаллических решеток, разделительных стенок, которые максимально инвариантны относительно человеческих качеств. Поэтому хороший судья - это и
отделение суда от государства, отделение института адвокатуры
от институтов прокуратуры и следствия и т.д. Справедливость -
очень редкое явление, но если оно случается, то только при
канализации человеческих страстей, возможностей, качеств через
такую вот сложную структуру. И формализацию общественной
жизни. Но за это нужно платить. Скажем, Англия и Франция
начали это делать очень давно. Была история европейских парламентов, история религиозных войн за свободу совести. Кстати,
в этих религиозных войнах вырабатывалось больше простейших
пс 327
и необход имейших демократических и формальных навыке», чем
в борьбе за демократию под знаменами, которыми размахивали
в короткие дни французской революции. Чтобы революция дала
свои плоды, что-то уже должно случиться до нее.
Дальше протягивая эту нить, взятую из социальной ткани, я
снова настойчиво хочу подвести вас к тому, чтобы вы отвыкли
от морализаторско-психологизированного взгляда на вещи, на
социальные, исторические события. Хотя бы потому, что само
существование психологических и психологизирующих личностей - как факт общественной жизни - есть сложный продукт
истории. В "желе” их вообще быть не может (если говорить
о терминах, предполагающих психологическую единицу, личность). Ранее я говорил о различении искусственных форм социальной жизни, являющихся продуктом цивилизации, и редук-
тивных социальных ситуаций. Так вот, случаи редуктивных
ситуаций как раз и есть то, что я сейчас иллюстрирую в
терминах “желе”.
Редуктивные ситуации отличаются еще одним трагическим
для нас свойством: при случайном стечении обстоятельств они
позволяют торжествовать тотальному действию, которое злонамеренно может охватывать, не встречая кристаллических
преград, все желеподобное тело общественной жизни. Замысел
“охватить все” неотъемлем от тотального действия - этого изобретения XX века. Но успех зависит от того, какова социальная
материя. Скажем, в Германии она оказалась такой, что замысел
прошел. Однако мы не можем рассматривать этот успех, как достигнутый благодаря пониманию социальной жизни. То есть что
такой тиран, как Гитлер, понял законы исторического развития,
понял реальность, культурно-историческую ткань своего общества и на основании этого понимания определенным образом организовал действие, которое и имело успех. Здесь как раз обратная зависимость: чем меньше понимания, тем успешнее действие.
Следовательно, мы должны осторожно обращаться с
пониманием исторического действия, основанного на знании
социально-исторических закономерностей. Например, в русской
мысли вообще нет традиции знания социальной ткани. Мало
кто двинулся в этом направлении. Какие-то самые первые
попытки, правда, были в самом начале нашего века. Но обычно
исторические деяния в России тем успешнее, чем меньше считаются с реальной тканью общественной жизни.
Многое из того, что должно присутствовать в социальной
ткани и что ее, собственно, и составляет, видно как раз тогда,
когда эта ткань срезана. Без нее мы в ситуации социального
одичания, ибо отсутствуют конструктивные стержни, необходимые для того, чтобы стали ясными и установились на какую-то
328 Д>цу>, пЯтЯш, шибфвыо
прочную, не утекающую в песок основу собственные стремления
и побуждения человека. Когда этого не происходит, мы имеем
дело не с добром или злом, а просто с дикостью. Отсутствие
социального мышления, социологического воображения чаще
всего настолько полное, что кажется: вот видит человек два
предмета с одной стороны и два - с другой, а то, что дважды два
четыре - не выводится, не склад ывается. Неспособность соотносить внешние наблюдаемые явления с их внутренними истоками,
зависимостями и структурами меня лично неред ко приводит к
ощущению, будто сознание или мозги людей заросли волосами.
Нерасчесываемой чащобой волос. Волосы шевелятся, как медведь шевелится во сне. Казалось бы, каждый в отдельности -
нормальный человек, с нормальным набором психологических
качеств, чаще всего добрый, сообразительный и т.д. Но всякий
раз почему-то, когда дело доходит до дела, - это не он, а они;
всякий раз, когда прояснилась какая-то мысль - она попадает в
сплетение волос и не выпутывается из них.
У немецкого поэта и писателя Готфрида Келлера есть
прекрасное стихотворение, в котором как раз найден образ для
такого вот ощущения шевелящейся тягомотины: “Как во сне бежать без коня”. Часто усилия людей в их стремлении к добру, к
каким-то социальным поступкам напоминают мне это “скакание
без коня”. Ты делаешь все движения, как если бы был на коне. Но
коня-то нет, твои ноги в тине...
И туг уместно продолжить тему депсихологизации наших
методов, нашего видения социальной жизни. Скажем, если вы
сделаете произвольную выборку из десяти человек, то не исключено, что восемь из них окажутся порядочными и соображающими людьми, а два - мерзавцы. И в силу действия социального
инстинкта именно мерзавцы чаще всего будут включены в
какую-нибудь структуру замысленного тотального действия. То
есть я хочу сказать, что когда имеет место социальное одичание,
то устанавливается поверхность социальной жизни, которая в
действительности является сюрреальностъю, но совершенно
особого рода. И она порождает общество лжи, в котором вроде
никто не обманут. Здесь совершенно другие законы: все знают,
что к чему, а действуют тем не менее в рамках какого-то
странного спектакля, ритуала. В том числе и те восемь человек
из произвольной выборки, потому что желеподобные ситуации
таковы, что фактически требуют от человека радикального выбора. Или ты совершаешь элементарный нравственный поступок
- и тогда умираешь, или не совершаешь его и сохраняешь жизнь.
Я называю это ситуациями шггелле: туальной или моральной
избыточности. Возникает ощущен, <•, что человек в такой ситуации должен как бы пронзить сзгоич взором все космическое
Ш мкфй ло социальной философии 329
устройство, чтобы, скажем, не бить свою жену. Абсурд! Жсяу
нельзя бшь просто потому, что нельзя. Неужели мы должны поломать все стулья, чтобы простейшую вещь совершить или не совершить? А произвольное действие, навязываемое извне, пытается прейти “мягкое тело” согласно именно такому принципу,
оно каждый раз ставит человека в предельные ситуации. Какой
выбор у человека, которого пытают? Ведь это вообще нечеяове-
ческая ситуация, здесь не применимы моральные критерии.
Есть русская пословица: “Свято место пусто не бывает”.
Почему? Потому что место оставлено для тебя, ты должен
совершить действие, заполняющее пустоту (это твое назначение).
Встать вертикально по отношению к горизонтальной линии (это
еще гераклитовский образ). Встать. А можно и не встать. Не
встал. Ну что ж - место пустым не будет. Пустоты заполняются
тем, что мы называем злом, разрушением, фашизмом, чем угодно. Причем, такие способы заполнения пустот должны (опять я
возвращаюсь к моей теме) научить нас тому, чтобы мы установились не в психологическом, а в физическом, социальном мышлении. Ведь эти пустоты не зависят от вопросов, верит человек
во что-то или не верит, обманут он или не обманут. Те воешь
человек из десяти вовсе не стали обманутыми или подлыми. Они
остались, каждый в отдельности, добронамеренными, размьви-
ляющими людьми. Просто у них нет включения в социальную
ткань, ибо и самой ткани нет. Люди могут не верить в идеологию, но если они вынуждены быть только в заданном пространстве, окруженные некими вещественными символами, то они
действительно не знают, что думают на самом деле. В такой
пространстве они будут скакать без коня, шевелиться, как
медведь во сне, блуждать по заросшему волосами сознаиио и
порождать вечную моральную, интеллектуальную перенасьице»-
ность жизненного процесса, в который включены.
Сюрреальность часто закрывает дорогу развитию реальности, создавая напряжения, которых просто могло бы не бкпь.
Ибо реальность не получает в этом случае представитешжзго
выражения и, замкнутая со всех сторон сюрреальностью, естественно, превращается в бензиновую бочку, которая неизвестно
когда и как взорвется.
* * *
Сформулирую несколько социальных зависимостей или
законов. Первый я условно назову Н + 1. Если мы имеем Н, то
всегда имеем Н + 1. То есть те человеческие потенции, энергии,
которые канализировались через одну структуру, одну какую-то
целостность, таковы, что неминуемо такая канализирующая
целостность не одна. Сама структура исторического развития
330 2кжми/ы, еЛшКш, шибфЛ»
покоится на этом. Обратите внимание, почту культур много.
Не потому, что люди различны. Люда различны в силу именно
разных культур. Если бы не было этого закона, то однажды став
ирокезами, мы всегда были бы ирокезами. Неопределенный
фонд, или резервуар нашего развития, канализировавшись в
одну структуру, тем самым предполагает, что есть и другая,
канализирующая то же самое. Конечно, между такими целостностями, полученными по закону Н + 1, есть разница, что и определяет
многообразие исторического развития. Например, с культурной
формой ислама существует другая культурная форма - христианская, и можно показать почти топологически, до каких форм ислам
способен канализировать человеческие возможности и потенции,
и в каком пункте он замыкает их горизонт, в отличие от того же
христианства, которое реализует то же самое несколько иначе и
открывает другой горизонт, другие возможности. Следовательно, такой ряд целостностей, которых всегда как минимум две,
можно сравнивать по рангу открытия или закрытия горизонта.
Вторая зависимость - закон интеграла действия. Он требует
равенства действенности (на уровне эмпирических индивидов
или сингулярных точек): исторические явления, находящиеся в
какой-то временной последовательности, могут объясняться
только при условии, что сумма объясняемого или само объясняемое равно действенности. То есть причина сопоставима с вытекающими из нее следствиями. Например, вы не можете исторические события объяснять волей человека - не можете явления
сталинизма объяснять личностью Сталина. В историческом или
культурном анализе это просто неграмотно - целую эпоху исторического развития объяснять с помощью явления, по размерам,
по возможностям действия несопоставимого с тем, что объясняется. Вот такая простая вещь, которая лежит на уровне нашего
опыта, и, к сожалению, забывается нами, когда мы переходим на
уровень абстрактного мышления, оперирования понятиями. И
начинаются причудливые вещи: Сталин захотел то-то, сделал
то-то, и якобы поэтому нам стало так плохо.
Еще древние формулировали этот закон (я вообще здесь обращаюсь к тому, что установлено еще в античной философии) -
“нечто можно объяснять только как равное ему”. Следовательно,
мы должны в данном случае сначала обобщить и выявить человеческие намерения и действия и лишь потом совершать мыслительный или логический переход к объясняемому, а не мыслить в
терминах превращения одних исторических форм или явлений в
другие. Кстати, на отказе от такой превращаемости, и, следовательно, на идее дискретности основан и Марксов подход к анализу общественных формаций.
Ш лекций м социальной философы* 331
Маркс ведь не считал, что феодализм превращается в капитализм. Нет перехода феодального общества в капиталистическое, феодальной экономики в капиталистическую. Я еще в 1954
году в своей дипломной работе, посвященной историческому и
логическому в “Капитале” Маркса, доказывал этот тезис. Внутри феодального общества находятся и выявляются путем анализа действенности, не являющиеся его логическим продолжением;
внутри него они порождают то, по отношению к чему буржуазная
революция или ее скрытая форма являются лишь видимым,
наблюдаемым и случайным явлением. Смена формаций предполагает дискретность. И это же относится к живым видам. Не случайно современная биологическая типология указывает в этой
связи на несколько иные зависимости, чем в дарвинской теории
эволюции. Связь на макроуровне меаду видами, конечно, устанавливается, но на поверхности нашего горизонтального видения.
Следующая зависимость - ее можно назвать законом конечности действия - гласит: по отношению к любой данной целостности, или эмпирическому индивиду, всегда есть другая точка
расположения в другой момент времени и в другом пространстве, к которой никогда нельзя прийти простым продолжением первой. Этот закон - как бы другая сторона закона
интегральности: нельзя бесконечно наращивать силу внутри одной формы. Этот закон относится и к познанию. Оно не строится как равномерное бесконечное приложение суммы знаний к
данной точке. Хотя суммируя, мы, казалось бы, идем вперед и
приходим к той или иной истине. Правило же такое, что из
пункта “А” в пункт “Б” нельзя попасть простым протягиванием
руки. Область, занимаемая точкой “А”, конечна, и это означает:
чтобы пройти дальше, мы должны каким-то образом преобразовать себя. Как вы знаете, даже в психологической нашей жизни
есть такие моменты. Что-то оказывается на одной линии между
“А” и “Б”, но мы не можем мысленно взглянуть на это “Б”, не
обратив свой взгляд сначала на себя и не преобразовав себя, то
есть не выпав в какое-то другое пространство, и уже оттуда,
фактически по кривой, начинаем двигаться к точке “Б”. Значит,
в нашем пространстве жизненных путей прямыми линиями оказываются как раз кривые, и они же являются самыми короткими.
Простым усилием ума нельзя увидеть "Б”, смотря из “А”.
А такой перепад, или выпадение в сторону, или в другое
пространство, или выход по кривой, конечно, предполагают
раскол того готового мира, движение внутри которого неминуемо упирается в действие, закона конечности. Ибо энергии, канализированные через какую-то структуру и нашедшие в ней
пространство для своего движения и развития, тоже в определенном смысле конечны. И перескочить к бесконечно выпол¬
332 ЗокАаф*,, а&мпьи, шонфвыо
няющему нас фону мы можем, лишь деструктируя структуру. То
есть как сама структура есть физика социальной жизни, так и ее
разрушение требует в данном случае физического усилия. В том
смысле, что простым желанием, простым размышлением нельзя
изменить ту структуру, в которой ты находишься, например,
культурно-знаковую. Она не поддается этому, в силу закона конечности, простым перебором мыслительных возможностей.
Здесь важен урок восточной философии: чтобы изменилась
мысль, сначала нужно изменить себя также и в физическом
смысле. В смысле психотехники (в данном случае я беру пример
из духовно-психологического мира, но хочу подчеркнуть, что
физичны не только структуры, но и разрушения, они продукт не
только наших ментальных желаний, рассудочных размышлений,
стремлений и т.д.).
Наконец, еще одна зависимость: это то, что я называю
законом пульсации. Связь между структурами, расположенными
в пространственно-временном соседстве, в действительности
устанавливается пульсациями, то есть путем разрушения
предшествующих форм и возвращения того, что есть, к нулевой
точке, и только отсюда начинается движение к новой точке.
Еще гераклитовский закон гласил, что мы необратимо
вошли в реку. Нельзя из последующей точки простым д вижением,
назовем его рассудочным, или логическим, вернуться к предшествующей (и наоборот), потому что мы сами внутри преобразований: мы не имеем (и не должны иметь) ни начала, ни конца,
поскольку возвращение к новой возможности развития осуществимо лишь путем разрушения структуры и прохождения через
нулевую точку. Предмет пульсации как бы разжался, и потом он
должен сжаться до нуля, чтобы иным образом разжаться. Однако наш макроскопический исторический взгляд устроен таким
образом, что мы не видим этих пульсаций. Мы видим в историческом мире макропоследовательность. Тогда как в нулевой
точке работает закон "здесь и теперь”. Чтобы стать другим, мир
в нулевой точке должен родиться заново. Такой взгляд и последствия такого видения, которое само не описывает никакой
энергии, позволяет нам лучше, чем другие способы рассмотрения, понять эмпирические явления.
Итак, я делаю следующий вывод из всех рассмотренных
зависимостей: в каком-то смысле можно сказать, что эволюция,
наблюдаемая нами в разбросе пространственно-временных
координат, в пространственно-временной географии культур,
обществ и т.д., есть видимый макроэффект пространства
пространств (все структуры я называл пространствами). Для
человеческих возможностей, качеств должно быть пространство,
в котором они проигрались бы и установились. Однако сумма
Цз лекций но социальной философии 333
такого рода пространств и создает эффект какого-то плавного,
последовательного ряда, развертывания его во времени якобы
согласно некой заложенной внутри него программе. Отсюда
иллюзия историзма с его представлением о структуре мирового
процесса как единого целого, в котором мы будто бы участвуем,
и, познавая его законы, можем более целесообразно, более разумно организовать собственные действия. Что, в свою очередь,
и предполагает обращение к некоему трансцендентному миру,
поскольку мы считаем: мир законов трансцендентен по отношению к исторической реальности, не имманентен ей. И поэтому
все, что случается в эмпирической реальности, рассматриваем
как хорошее или плохое воплощение однажды заданной программы. Как будто все это записано в первичной туманности: от
первобытного строя - к рабству, потом неминуемо - этап феодализма, потом капитализм. Наконец, пишем - коммунизм неизбежен. В таком лозунге упакован целый мир допущений, хотя все
они противоречат элементарному историческому мышлению.
Что вытекает из этого для возможной позиции философа по
отношению к исторической жизни, времени, культуре и обществу?
Когда мы обретаем физический взгляд на вещи, то можем
сказать, суммируя: если мы в ходе событий, случается только то,
что должно было случиться. В силу самих физических зависимостей,
о которых я говорил, сцеплений, кристаллизаций и прочее, и тех
возможностей, что заложены в наших же “мускулах”. Значимо
здесь допущение - “в ходе событий”. Отсюда вывод: мысль еше
должна участвовать в создании условий, которые приводят к тому,
что ход событий именно таков. Следовательно, встает прежде
всего задача понимания. Философ может сказать: исторический
опыт показывает, что реализация такой-то формы предполагает
существование таких-то вещей. Например, легальной оппозиции
в государственном устройстве. Оппозиции не как чувства, стремления, внутренней критики, или так называемой внутренней свободы.
А оппозиции как реального механизма, составляющего устроенную,
законную часть общественной жизни. При этом можно показать,
что есть и внешняя форма кристаллизации того, что служит
легализации оппозиции. Это частная собственность со всеми ее
правовыми выражениями, артикуляциями общественной жизни
и отношениями между людьми. Философ говорит: обратите
внимание, это является условием, можем ли и мы на своем опыте
выработать аналогичное, что позволит потом породить реально,
нормально функционирующий орган общественной жизни.
Философ воздерживается от рецептов и тем более от абсурдных
предложений. Для него не существует слово “ввести”. Его работа
направлена на прояснение. Внимание и позиция философа обращены на те условия, в которых происходят оживление или сохра¬
334 Якшяяды, Ыиийт,
нение живой силы и ее рекомпозиция. В этой смысле позиция
философа асоциальна. Не антисоциальна, а асоциальна, потому
что общество (или родина, как выражался Платон), псе он родился, есть лишь одаа из структур. Но ее место в ряду других уже
индуцировано в сознании видимой эволюцией, видимой последовательностью. Поэтому она и кажется лучше предшествовавших. Позиция же философа не только асоциальна, но и
аисторична, потому что время должно быть осознано лишь как
структура сознания, как эффект, порождаемый в наших головах,
а не в смысле утверждения, что все вокруг сплошное сознание. И
актуальна, потому что культура есть знаково-предметный механизм такой репродукции, чтобы через нее можно было канализировать и окультурить максимум человеческого материала. И
идеологична. Идеология ни хороша и ни плоха как феномен. Но
она отлична от продуктивной человеческой мысли, потому что
по определению есть клей общественных структур. Внутри нее в
принципе невозможны критические вопросы по отношению к
основаниям самой социальной структуры. Идеология как мыслительная структура построена на других основаниях, функционирует иначе и выполняет другую задачу. Спросить, почему
идеология некритична - значит высказать абсурдную моралистскую мысль. Соловьев говорил о государстве: его элементарная,
исходная функция состоит в том, чтобы совместная жизнь людей
не была адом. Все. Идеология выполняет (или должна выполнять) аналогичную роль. Конечно, при этом порождается напряжение между идеологией и культурой, обществом и продуктивными
очагами. Это несомненно. На то мы и люди, чтобы участвовать
в напряжениях. Таково положение и назначение человека. Философия поэтому всегда имеет собственную индивидуальную форму. Это не значит, что сколько философов, столько и философий.
Философская мысль, по-моему, едина. Настолько едина, что в
моих глазах вообще нет проблемы западаой и восточной философии, истина уже существует и лишь высказывается разными
способами. Но рекомпозиция сил всегда одновременно предполагает рекомпозицию и оживление индивидуального сознания.
Поэтому в каком-то смысле философ всегда может сказать: что
мне история, что мне исторический мир, историческое время, если
я живу в мире своего индивидуального сознания (если под индивидуальным сознанием понимать совершаемое личным усилием
человека). Я сказал ‘ личным усилием”, потому что вместо тебя
никто понять не может. Понять должен ты. Потому фигура индивида, или индивидуальная форма бытийно-личностного эксперимента, каковым является философия, всегда сохраняется
на поверхности нашего внимания, когда мы перелистываем
историю философии в последовательности имен философов.
О психоанализе«
Я буду говорить о проблемах, которые возникли в связи с
психоаналитической революцией, и возьму из них лишь
те, которые относятся к характеру концептуального
аппарата психоанализа. Но прежде коротко помечу одну основную особенность этого аппарата. Она состоит в том, что аппарат психоанализа носит в самых существенных своих моментах и
решающих мысленных связках символический характер, что и
является источником многих недоразумений.
То есть я хочу сказать, что появившись на рубеже веков, в
рамках традиционной культуры позитивного научного знания,
психоанализ ассимилировался согласно интеллектуальным навыкам классической науки XIX века, был воспринят в культуре
согласно устоявшимся и уже существующим традициям и теориям. Скажем, теориям биологической науки, психологической
науки, неврологии и т.д. И в результате новое понятийное
содержание психоанализа, роднящее его скорее с такими явлениями в научной культуре XX века, как теория относительности
или квантовая физика, ускользало от внимания. К тому же появление психоанализа вызвало в свое время явный шок в среде
почтенной, буржуазной публики (я имею в виду не классовый, а
исходный, этимологический смысл этого слова), которая по этическим соображениям исключала ряд явлений человеческого поведения и психики из поля своего внимания и из объектов
возможного разговора. Подобно тому, как мы видим это в российской культуре, где всякий разговор о психоанализе, независимо от содержания, блокируется цензурой нашего привычного
российского сознания. При этом я имею в виду не какую-нибудь
внешнюю цензуру, а саму структуру языка, на котором мы говорим, наших мысленных привычек, когда все явления, связанные с
сексуальной жизнью, мы стыдливо замалчиваем и не имеем даже
языка, чтобы говорить о них, если бы даже захотели и нам разрешили говорить. Ну, скажем, в русской литературе пока трудно
себе даже представить появление хорошего, в художественном
смысле, эротического описания просто по свойствам самой языковой традиции, которая еще устойчива и не склонна к каким-
либо изменениям. Во всяком случае она этого не допускает.
Однако отнюдь не “хулиганский” характер психоанализа,
как он был воспринят культурой начала века, явился главной
причиной недоразумений. В основном недоразумения шли,
1 Лекция, прочитанная 24 февраля 1980 года в г. Тбилиси. Опубликована в:
“Логос”, 1994.-№5.
336
доклады. Онеийш, шоЯфНыо
конечно, не от тех, кто не принимал его, а от тех, кто принимал.
А воспринимали психоанализ чаще всего как некое манящее,
дразнящее открытие якобы тайных глубин человеческого
существа, связывающих воедино и человека и весь остальной
животный мир. Как некий путь к разгадке каких-то “ночных
чудовищ”, которые скрываются и не видны при свете дневного
сознания, а ночью, в виде снов и кошмаров, выходят на поверхность. То есть теория Фрейда казалась прежде всего разоблачительной теорией, сводящей проявления человеческого духа,
помеченные знаком самых высоких ценностей, к человеческому
“низу”. И, во-вторых, она была понята как теория, воспевающая
силу инстинктов, и в первую очередь - силу сексуального
инстинкта, связанного с продолжением человеческого рода. И
вокруг этого появилась масса романтических представлений о
том, что нужно освободить инстинкты: одни выступали за то,
чтобы освободить, а другие столь же страстно за то, чтобы
сдерживать, загнать назад и т.п.
Короче говоря, фрейдовская теория была понята как биологическая теория, и психоанализ якобы предлагал в этой связи
абсолютно новый взгляд на человеческое существо, в котором
важен не “верх”, а “низ”. Так вот, все это, на мой взгляд, сплошная гора недоразумений, хотя у самого Фрейда встречаются,
конечно, чисто эволюционистские биологические представления
о человеке. Можно найти этому целый рад подтверждений в его
работах, поскольку сама структура ассоциаций и запас слов,
вступающих в эти ассоциации, была у Фрейда позитивистская.
И в этом позитивистском свете он сам некоторые вещи осмыслял
так, что давал повод для подобного рода истолкований. Но
психоаналитическая работа, проделанная им сначала на себе, а
потом оформленная в виде школы, в которой запрещался так называемый дикий психоанализ (в этике психоанализа содержится
запрет на него - психоаналитиком может быть только человек,
который в свою очередь подвергся психоанализу другим, уже
практикующим психоаналитиком) в действительности явилась
настоящей революцией в том интеллектуальном инструментарии,
что существовал к началу XX века. Причем есть ряд особенностей этой революции (в плане ее онтологических или философских оснований), которые роднят психоанализ с аналогичными
сдвигами и смещениями, происходившими вообще в науке и
способе мышления XX века. Попытаюсь показать это.
Мне кажется самым интересным с точки зрения философии у
Фрейда, и вообще в психоанализе, введенное различение между
физическими явлениями и сознательными явлениями. В каком
смысле? В том фундаментальном смысле, что вся современная
наука фактически исходит из того, что для нас постижима,
О уллил i МЛ
ЪЪ1
научньш образом могут быть воспроизведены и, следовательно,
обладают рациональной структурой только определенного рода
явления, имеющие место в природе. Это - физические явления.
Явления же, которые связаны с понятиями о первых и которые
сопровождают любую нашу возможность проникнуть в физические явления (сопровождают анализ физических явлений), в
принципе не укладываются в картину мира, которая рисуется
точной наукой или физикой, и не поддаются рациональному
анализу. То есть научно мы знаем о явлениях, которые физически имеют место, и мы не знаем научно о тех явлениях, которые
тоже несомненно имеют место в мире и являются сознательными
явлениями. Поскольку сознательные явления, в отличие от физических процессов и действий, связаны с индивидуализацией
действующего агента или объекта. Он индивидуализирует себя в
самом своем действии и, во-вторых, экранирует себя. Этот экран
называется сознанием. И такие явления в физическом мире не
встречаются. Они встречаются только в мире сознания. Вот
такое самое грубое различение.
Значит, об одних явлениях мы знаем научно, можем в них
проникать, а вторые не знаем научно, в силу свойств индивидуализации и экранирования. И этот разрыв между физическими
науками и науками о сознании не преодолен и наблюдается до
сих пор. У нас нет еще гомогенного языка, позволяющего говорить одновременно о физических и сознательных явлениях, как
того требуют физика и математика. И о чем, кстати, свидетельствуют некоторые забавные парадоксы, например, в квантовой
механике, где проблема сознания занимает особое место.
Так вот, заслуга Фрейда состояла в том, что он был первым,
кто попытался ввести сознательные явления в область научного
рассмотрения. То есть в область такого рассмотрения, где сознательность не отрицается, не элиминируется и не редуцируется и
можно рассуждать о названных явлениях объективным и
контролируемым образом. Следовательно, основной проблемой
психоанализа является отнюдь не бессознательное, а именно
сознательное. Ибо само сознание становится в этом случае
проблемой. Здесь под проблемой имеется в виду нечто, над чем
начинают ломать голову, и это ломание головы продуктивно,
приводит к каким-то результатам, к новым понятиям и
представлениям.
Фрейд сделал шаг к объективному анализу сознательных
явлений, открыв явления, которые можно назвать смешанными
(я сказал, что есть физические и сознательные явления в составе
мира, а оказалось, что есть еще и смешанные явления). И эк*
выявление смешанных явлении, или явлений третьего рода, и
выработка соответствующих, методов анализа, привели к замет¬
338 Поклоны, аОсийьи, umfUftßuo
ному преобразованию всей классической методологии физической науки (под физической наукой я понимаю всякую науку;
в той мере, в какой она наука, она физика). Что я имею в виду?
Начну с простого примера, чтобы как-то лучше двигаться.
Но сначала введу одну посылку. А именно - ход вот к этим явлениям, о которых я говорил, начинается с того, что появляется и
реализуется идея, что в самом сознании, не выходя за его рамки,
возможны и существуют, действуют некие неконтролируемые
механизмы и зависимости. Не те, которые вне сознания и действуют на сознание, трансцендентные ему, нет, а неявные механизмы
и зависимости, которые есть в самом сознании. А теперь-примеры.
Один джентльмен, которого, видимо, возмутило какое-то
обстоятельство или событие, рассказывая о нем, выразился так
(вернее, вместо одной фразы он употребил другую). Вместо -
Zum Vorschein kommen (Vorschein - значит, выйти на передний
план, выйти на сцену) - это стандартная стилистическая конструкция в немецком языке, и употребляя ее, причем он не собирался давать при этом никакой оценки, а просто говорил о том,
что случилось, сказал: Zum vorschwein gekommen ist. Hy Schwein
вы знаете. Всякий школьник, учивший немецкий язык, знает, что
такое Schwein. Это - свинья. То есть произошла оговорка. Так
называемый lapsus linguae, lapsus calami - обмолвка, ошибка, ого*
ворка. Слова vorschwein в немецком языке не существует. Есть
Vorschein и есть Schwein, а такого “чемоданного’’ слова, как
vorschwien, которое имело бы смысл, нет. Это слово - монстр, но
живущее своей жизнью. Какой жизнью? Жизнью симптома,
которым и заинтересовался Фрейд и начал впервые изучать этот
феномен: что в действительности, не зная и не отдавая себе в
этом отчет, думал человек, когда произнес эту фразу. Когда то, о
чем он хотел сказать, проговорилось само, невольно. Человек
хотел сказать одно, а сказалось другое.
Значит, мы имеем здесь две вещи: нечто, что говорится
помимо или через говоримое и отличается от этого прямо говоримого. Или иначе, некоторые прямые аналитические объекты
мысли и какие-то другие косвенные объекты мысли, которые
высказываются через первые, отличаются от них, и главное -
являются действительным содержанием первых. То есть действительным содержанием сказанного прямо является другое, скрытое содержание, и проблема, раз она существует, состоит в том,
чтобы уметь его обнаруживать. Ибо можно и не уметь, потому
что оговорки, как и описки, были известны давно, но их считали
просто мусором, некой случайностью в наших высказываниях. А
Фрейд увидел в этой случайности (как и в сновидениях) нечто
существенное.
о
339
Теперь я хочу обратить ваше внимание на следующее
обстоятельство. А именно, что слово vorschwein - это “монстр”,
но имеющий вполне материальную форму. Казалось бы, это
абсурдный, не существующий предмет с точки зрения норм языка. Но ведь он что-то выражает. Поэтому приведу еще пример,
чтобы д винуться дальше.
Джентльмен предлагает даме проводить ее; по-немецки
begleiten - провожать, и есть еще один глагол - leidigen - наносить ущерб. И джетльмен, очевидно, волнуясь, говорит даме:
разрешите мне вас begleidigen. То есть соединяет од ин глагол с
другим и образует третий, не существующий в немецком языке,
но указывающий на действительное состояние мыслей человека,
сделавшего эту оговорку, вызвавшую патогенный эффект.
Поскольку он явно считал свое предложение наносящим ущерб
даме. Страдал от этого.
Такого рода образования распадаются, не живут долгой
жизнью в культуре. Это именно оговорки или обмолвки. А есть и
другие подобные же образования, которые не распадаются и
также могут быть предметом психоанализа. Вот, скажем, я
обращаю внимание для начала на такую сторону этих предметов. В современной литературе, вы знаете, в поисках художественного эффекта автор порой вполне сознательно тоже
создает так называемые чемоданные слова, которые остаются в
литературном языке, а некоторые становятся даже ходячими,
жаргонными выражениями. Например, в XX века Фердинан Селин, французский писатель, был одним из великих мастеров по
сочинению такого рода слов-чемоданов. Очень выразительных.
Однажды, наблюдая сограждан своего города, которые в порыве
патриотизма организовывались в нечто вроде национальной гзар-
дии и маршировали с повязками по улицам, он обогатил французский язык новым словом. Он назвал их patriottrouille. Есть два
слова во французском языке: patriotte (такое же, как в русском) и
patrouille - патруль, дозор (по-французски “патруй”). А он придумал еще од но слово, обладающее художественным эффектом.
То есть я хочу сказать, что реально в нашей психической
жизни существуют и ходячие, долго живущие, в отличие от
обмолвок, - иероглифы, где материальное тело совмещено со
смыслом. Хотя сам иероглиф не имеет при этом постижимого
рационального смысла. Не указывает на прямое аналитическое
содержание сознания, как и в случае некоторых психозов, когда
по каким-то причинам реальные психические смыслы сцепились
и зацепились за предмет, упаковались и живут в нем, порождая
патогенные действия. Такие явления, видимо, вообще присущи
нашей сознательной жизни и не всегда порождают патогенные
явления.
340 Эйкми}ы, аНшЛьи, ишЯфвыо
Чтобы еще более расширить поле возможных ассоциаций,
ибо я не собираюсь передавать вам некое догматическое содержание психоанализа, чтобы вы его запомнили и это стало бы
какой-то системой знания, - все это пустое дело - приведу еще
пример, связанный с литературой (без патогенных последствий).
Я имею в виду Марселя Пруста и его новаторский художественный метод, в чем-то родственный психоанализу, и хочу напомнить о пирожном “Мадлен” из его романа “В поисках
утраченного времени”. Ведь это тоже, если угодно, некое физическое существо, физическая форма слова, в котором что-то упаковалось. Это - “монстр”. Абсурд. Поедая в зрелом возрасте
пирожное, Пруст вдруг мысленно, в тот момент, когда он его ел,
оказался в стране детства и вспомнил массу вещей, звуков,
запахов, которые никакого отношения, на первый взгляд, к
пирожному “Мадлен” не имели, когда он их переживал и хотел,
видимо, запомнить. Но потом - и на этом основывался метод
Пруста - он понял, что наша память, связанная с идеей
“потерянного времени”, работает совершенно иначе. Мы можем
хотеть запомнить впечатление, а оно, избежав нашего сознательного усилия, упаковалось непроизвольно в какой-то предмет, как, например, в пирожное, и осталось в нем в виде каких-то
образов или представлений, которые еще не были ясны в тот
момент самому субъекту, но они так сработали, вложились в
пирожное.
Итак, мы имеем предметы или некую словесную форму
вещей совершенно особого рода. Я называю их вещами третьего
рода, и в них что-то упаковано, что когда-то переживалось, но
не было понято или было понято неправильно и ушло в эту
вещественную монструозную форму. И что происходит потом? А
потом по каким-то причинам, спонтанно, а у Фрейда посредством определенным образом организованной и контролируемой
методики происходит раскалывание этой формы, высвобождение
прошлого и понимающее его переживание. То есть развивается
другой сознательный опыт, в котором или благодаря которому
расцепляется предшествующее сцепление. В этом и состоит метод
Фрейда, с помощью которого лечатся монструозные образования, имеющие патогенные последствия, но лечатся путем
активного переживания нового сознательного опыта. Здесь,
кстати, и скрыта важная черта психоанализа, отличающая его
от хлассической теории, ибо во всех классических теориях есть
зсегда какой-нибудь заранее заданный объект или область
исследования, введенная путем определения или перечисления
некоего множества объектов. И в этом смысле теория есть
картина этих объектов или этого множества. Психоанализ же
такого объекта и такой картины не имеет, что и вызывает недо¬
О психоанализе
341
разумение; поэтому психоаналитиков часто обвиняют в шарлатанстве, так как их понятия и их опыт действительно не обладают свойством научного эксперимента. То есть не могут быть
воспроизведены другим исследователем в другом месте и в
другое время.
Следовательно, это не теория в обычном смысле этого слова.
В свое время Людвиг Витгенштейн говорил (чувствуя, очевидно,
эту особенность некоторых теоретических построений, причем,
не психоаналитических вовсе, а связанных с математикой и физикой), что есть такие теории, которые похожи на лестницу. Мы
лестницей пользуемся, чтобы подняться, скажем, на чердак или
на второй этаж, но ведь, когда мы поднялись, мы не тащим за
собой лестницу. Мы ее можем отбросить. То есть он имел в виду
при этом такой тип теории, которая не зависит от заданной картины существующего предмета. Короче говоря, если мы построим определенную процедуру, которая переключит нас на какой-
то другой регистр сознательного опыта и в котором произойдет
то, о чем я говорил выше, - расцепление вот этих особых вещественных психических образований, то, что нам потом описывать, о чем строить теорию? В этом случае остается лишь одно, и
здесь я впервые ввожу намек на то, что обещал с самого начала,
а именно - на символический характер аппарата психоанализа;
тогда оказывается, что понятия в психоанализе относятся не к
описанию предметов, а задают и описывают условия определенного рода работы с этими предметами. И за этим косвенным или
символическим характером психоанализа скрывается другая
черта, о которой я скажу позже, и которая как раз и является
основанием психоаналитической процедуры, направленной на
особые монстры нашей психической жизни. Ибо эти монстры
живут своей описуемой объективно жизнью и являются одним из
примеров неконтролируемых и неявных зависимостей и механизмов в нашем сознании. Почему в сознании, а не в бессознательном?
Попытаюсь ответить на этот вопрос, зайдя в рассуждении с
другого конца, чтобы пояснить одновременно и философско-
онтологическую проблему, скрытую за проблемой употребления
термина “сознание” в такого рода случаях. Известно, что в классической науке физические процессы описываются, грубо говоря,
в перспективе некоего абсолютного наблюдателя. В частности,
академик Фок выражал это следующим образом (поскольку он
не философ, он имел право так говорить, а мне придется это перевести на философский язык). Он говорил так, что классической
физике свойственна определенная абсолютизация физических
процессов. То есть, другими словами, допущение абсолютного
наблюдения. И сейчас я сразу перейду к психоанализу, опуская
342 доклады, ана&ьи, интфвыо
многие звенья. Ведь, в самом деле, как мы анализируем сознание,
относимся к нему? Мы всегда предполагаем, что нам каким-то
образом уже известны предметы вне сознания и затем сопоставляем сознание с предметами. Ну простая вещь. Вот передо мной
сидат девушка и рядом с ней молодой человек. Это факт - различие полов. Но в действительности, и из-за этого загорелся весь
сыр-бор, можно ли называть это фактом? Учитывая, что исходным тезисом психоанализа является следующее. Невысказывае-
мый тезис, пронизывающий собой весь психоанализ и
составляющий своего рода ядро всего этого дела, что различие
полов отнюдь не сразу является фактом. Различие полов становится фактом только тогда и только для того, кто узнал это различие, ибо ребенку, например, нельзя передать его на уровне
знания. Хотя знание, казалось бы, существует: один ребенок -
мальчик, а другой - девочка. Однако психиатрические и другие
наблюдения показали одну очень странную вещь, что разница
полов, чтобы с ней жить как с фактом, должна быть сначала воображена. Лишь тогда она становится физическим фактом. То
есть события или факты устанавливаются не только в пространстве, внешнем субъекту, но и во времени смысла и понимания. Оказывается, ребенок должен вначале открыть для себя
нечто после особой работы воображения, фантазии. Все дета
являются в этом смысле сочинителями особого рода, без фантаз-
мов нет физического факта. Фактом является только то, что получило смысл, проработалось во времени смысла и понимания.
Дега сами сочиняют теорию своего происхождения (в психоанализе говорят по этому поводу о “комплексе кастрации”), устанавливая, что у одного существа, простите меня за такой оборот,
выпуклость, а у другого - впуклость, или ничего. Что это? Откуда?
Обычно это понимают так, что психоанализ якобы реально
предполагает наличие в человеческом существе неких установок,
которые затем, post factum в психологическом наблюдении называются качествами или свойствами. Вот, скажем, человек скуп.
Что это значит? Имеет ли данное качество отношение к деньгам?
Фрейд показывает (это вошло даже в расхожие литературные
описания, в частности, это можно встретить у Сартра), что скупость связана со смыслами, неотъемлемыми от человеческой
психики, которые лишь замкнулись на отношение к деньгам и
стали реализовываться через что-то, независимое от них. Или,
например, что такое галлюцинация? Веда бессмысленно галлюцинацию так же, как различие полов у детей сопоставлять с
эмпирическими фактами. Невозможно объяснить ребенку,
почему он мальчик, а не девочка. И точно также нельзя сказать
человеку, который видит, например, ‘^розовых слонов”, что их не
существует. Что это только кажется. Ведь если видение слонов
О нешсоаналшв
343
выполняет какие-то смыслы, то оно реально и не может исчезнуть
от указания на внешнюю в абсолютной перспективе наблюдения
реальность, в которой их нет. Чтобы иметь дело с розовыми слонами, как с действительным предметом, во время психоаналитического лечения, необход имо выявить другую реальность, где они
существуют как носители каких-то смыслов. В противном случае
никакими рассуждениями и поучениями от них не избавиться.
Следовательно, эти третьи или смешанные вещи есть реальные события, которые случаются одновременно в пространстве и
времени смысла и понимания. Это не события в абсолютном
смысле слова. Точно так же, как разница полов не есть абсолютный факт с точки зрения анализа такого рода вещей. С несооб-
щаемостью знания мы сталкиваемся очень часто, но просто не
отдаем себе в этом отчет. Ведь то, что я называл классической
процедурой анализа, свойственной физической науке (практикуемой и по сегодняшний день) предполагает существование пространства наблюдения, где знание переносимо. То есть я могу
всегда оказаться в другой точке, в которой кто-то что-то наблюдает, и воссоздать рефлексией и т.д. процесс этого наблюдения,
повторить его. Так ведь? Так. Хорошо. Но тогда вы мне скажите, а как быть с вещами, для которых важен и неустраним сам
эмпирический факт их случания. Что они должны быть или не
быть. Скажем, можете ли вы передать свой опыт (допустим, вам
40 лет) шестнаддатилетнему юноше, который впервые влюбился?
Не передается это знание. Так же как ребенку, я подчеркиваю
сходность случая, вы не передадите знание о том, что он мальчик, а рядом с ним девочка, и что из этого следует. Ибо нечто
становится фактом, а не является фактом.
Повторяю, классическая процедура предполагает, что
знание передаваемо по всем точкам пространства наблюдения.
Психоанализ же отказывается от этой посылки еще по одной
причине. Если мы призадумаемся, то поймем, что проблема
заключается не только в том, что какие-то наши чувства должны
быть пережиты реально, но что их нельзя заменить знаниями об
этом. Казалось бы, это банальность, но ведь действительно
понять за другого невозможно. И в этом смысле знание не
передаваемо. Вообще, в принципе непередаваемо. Мы можем
максимально детерминистически организовать, скажем, процесс
обучения, определить в нем каждое звено, но когда дело дойдет
до головы, куда знание должно будет перейти, там появится
неминуемый зазор. Цепь обусловливания не дойдет до конца,
потому что это он должен понять. И ничего с этим не сделаешь.
Понять можете только вы или я.
То есть при этом всегда предполагается некоторый дополнительный и спонтанно на собственном основании существую¬
344 доклады. аЛамьи, шинф/ью
щий акт, который все это дело сопровождает и который для
определенных проблем мы можем не учитывать, а для каких-то
других проблем должны учитывать. И теперь, чтобы как-то
замкнуть все сказанное, я приведу вам одну цитату - из совсем
другой области. Из квантовой физики. Я имею в виду слова гениального и удивительно пластичного по образу мыслей физика
- Нильса Бора, который, пытаясь пояснить своим оппонентам,
что такое принцип относительности, и делая это в общем-то не
очень уклюже, но с большой, как мне кажется, ясностью тем не
менее, заметил, что в ряде случаев мы имеем дело не с объектами,
по поводу которых мы можем ставить эксперименты, а с проявлениями действия той же самой природы, к которой принадлежит экспериментатор. Грубо говоря, это и есть область
психоанализа, интересующегося именно этой природой, генезисом сознательных явлений. Ведь фактически психоанализ
интересует один единственный предмет - детство, когда в определенный период (примерно с двух до шести-восьми лет) детской
психикой порождаются нередко “монстры”, которые затем
скрываются, не видны, а их патогенные действия остаются.
Поэтому, во-первых, у нас должен быть метод реконструкции,
нахождения этих монстров, чтобы узнать, почему именно на них
зацепились какие-то важные смыслы, а во-вторых, (и сейчас я
снова возвращаюсь к Бору), то, что здесь будет происходить,
(ибо анализ и терапия неразделимы в психоанализе) - это не
исследование глубин бессознательного, и Бор это прекрасно
понимал, потому что он столкнулся с аналогичными вещами в
физике, а совершенно новый сознательный опыт. То есть мы
имеем здесь дело, как я уже сказал, не с объектом, с которым
можно экспериментировать, а с проявлением действия природы,
к которой принадлежит сам наблюдающий и экспериментирую •
щий субъект. И проблема состоит в том, чтобы заново, благодаря этому новому опыту пережить то, что когда-то пережилось
неадекватно, уложилось в какие-то вещественные сцепления и
получило в них свою самостоятельную жизнь.
Значит, эти явления, во-первых, не заместимы и даже в
случае их эмпирического отсутствия происходят внутри исследования, а не в объекте, это очень важная вещь. И во-вторых, они
индуцируются. То есть фактически то, что называется новым
сознательным опытом, и есть максимальная организация индукции (с помощью психоанализа), чтобы внутри этой индукции, в
какой-то точке, к которой мы не приходим непрерывным движением, мог вспыхнуть акт понимания. В связи с этим и возникают
сложные проблемы взаимоотношения между пациентом и врачей -психоаналитиком, когда последний стремится организовать
свое общение так, чтобы показать, что он вовсе не врач и имеет
о
345
дело не с предметом, о котором он что-то знает, а пациент не
знает. Ведь физические предметы на нас не обижаются, когда мы
предполагаем, в психоанализе мы тоже предполагаем, и это есть
собственно знание в физическом смысле о чем-то, что само этого
знания не имеет, что пациент в действительности думает, что
хочет и т.д. А пациент этого не знает, и врач производит с ним
какие-то магические операции. То есть фактически передает свои
знания. А на самом деле все должно быть организовано так,
чтобы не существовало так называемого трансфера (передачи), а
должна возникнуть ситуация реального человеческого переживания и общения между врачом и пациентом. Ну, скажем, так же,
как 16-летний молодой человек должен реально пережить все
стадии любви и обмана, чтобы убедиться, что любовь - это всего
лишь иллюзия. И то же самое должно происходить во время
лечения, когда врач обязан занять в психике пациента такое место
и должен быть тем лицом, на которое могут быть перенесены его
привязанности, влечения, инстинкты и т.д. И все это должно
быть разыграно в ходе психоаналитического лечения, которое
может длиться годами.
Следовательно, перед нами ситуация, относительно которой
мы не имеем заранее никакой истины, поскольку “истина” может
появиться лишь в результате организованной ситуации, чтобы
что-то произошло. А может и не произойти, так как знание не
передаваемо. Хотя, например, в квантовой механике, как я уже
говорил, нередко приходится иметь дело с индивидуальными
явлениями, но особого рода, конечно, не такими, как в психоанализе, знание о которых может быть тем не менее однозначным. То есть оно может быть воспроизведено и повторено
другим исследователем или экспериментатором. А в случае
психоанализа?
С одной стороны, это безусловно тоже научное знание,
особого рода теория. В той части, в какой понятия этой теории
описывают не какой-нибудь предмет, а условия работы с этим
предметом, условия его анализа. Ну, скажем, так, Фрейд как-то
заметил, но это замечание прошло мимо внимания его слушателей и многих психоаналитиков, что он никогда не говорил о
комплексе Эдипа. Хотя, казалось бы, комплекс Эдипа самое
основное в психоанализе, так как обычно предполагается, что
то, чем занимаются психоаналитики, находится в человеческой
душе. В том числе - комплекс кастрации, комплекс Эдипа и т.д.
И что психоанализ, следовательно, имеет в виду какие-то реальные события, случившиеся в детстве. Поэтому, скажем, чтобы
далеть комплекс Эдапа, нужно, чтобы был отец. Так ведь? А если
отца нет0 Как быть тогда? Или, например, предполагается, что
Фрейда в первую очередь интересовали свойства людей, pea ль-
346 Зокхафл. аЯшЯьи, иыЯфвь»
ные события в их жизни. Очевидно вы знаете, что такое первичная сцена соблазна - известное понятие в психоанализе. Это
взаимоотношение мальчика или девочки с взрослыми членами
семьи, когда возникают ситуации первичных эротических отношений и попытка соблазнения, например, дядей своей племянницы и т.д. Или сцена, когда ребенок наблюдает половой акт
между родителями. Было это или не было? И можно ли опровергнуть психоанализ, если будет доказано, что этого не было?
Так вот, дело в том, что все это не имеет отношения к психоанализу. Не об этом идет речь у Фрейда. Поэтому я снова
вернусь к тому, что я уже сказал, подвесив половину фразы, что
Фрейд никогда не говорил о комплексе Эдипа. А теперь
добавлю: он говорил только о метафоре отца. Ибо понятие
‘комплекс Эдипа” относится прежде всего к работе фантазмиро-
вания, воображения и смысловой трансформации физических
фактов, которые еще не являются таковыми для ребенка. Ведь
часто мы чисто духовно относимся к нашему языку и думаем, что
смыслы заключены в нем. А что такое метафора? Метафора -
это вещь, заменяющая другие веши. А когда Фрейд говорил о
метафоре отца, то оказывается совершенно не важно - был
ли реальный отец у ребенка или не был. Как и сцена соблазна
или наблюдаемого полового акта - все это структурные
элементы работы психики, которая лишь описывается в этих
понятиях, воспроизводимых другими исследователями. Потому
что каждый раз имеются в виду генеративные, а не отражающие
свойства психики.
Сошлюсь в этой связи на Юнга, который тоже столкнулся с
подобными же вещами и из-за этого, собственно, и ввел понятие
коллективного бессознательного, на мой взгляд, довольно-таки
мифологическое. Фрейд же остерегался таких вещей и больше
придерживался ощущаемого им символического характера своего собственного аппарата анализа.
Итак, те события, о которых идет речь, не есть события,
которые происходят в индивидуальной истории: соблазны, отец,
кастрация и т.п. Для психоанализа это не реальные события,
обнаружив которые можно якобы что-то объяснить, а символические. Хотя некоторые из них могут иметь место и в индивидуальной жизни, и поэтому на них стоит обращать внимание
особенно в связи с анализом биографии великих людей. Что же
касается, например, анализа снов, то. согласно Фрейду и Юнгу,
события в них лишены часто индивидуальной окраски и имеют
прежде всего структурное, а отнюдь не реальное происхождение.
И описание и выявление такого рода структур как раз и составляет теоретическое содержание психоанализа.
О неихммлше
347
Но, как я уже говорил, есть все-таки в психоанализе и нечто
в принципе невоспроизводимое, несообщаемое. Ну, может бьпъ,
так же, как вообще невоспроизводим и непередаваем ум.
Простое понятие нашего обыденного языка, которое почему-то
мы забываем, когда рассуждаем о мышлении и сознании, и что
можно описать в виде определенных структур, а с другой стороны, что никогд а нельзя ввести в описание структуры мышления с
помощью логики. Есть ум, или - как говорит Кант - способность суждения. Веда нужна еще особая способность суждения,
чтобы увидеть или узнать ум. И я не случайно заговорил об
этом, потому что хочу сделать еще один шаг на уровне обыденного смысла и спросить: что вы думаете, например, о профессии
врача? Весьма скептически относясь к своим умственным
способностям, лично я никогда не осмелился бы стать врачом-
психоаналитиком. Потому что знаю, что сколько бы меня не
учили, решиться на это очень труд но просто по той причине, что
все зависит в этом случае от того, с каким почтением и вниманием мы вообще относимся к профессии. В д анном случае профессия врача вызывает у меня трепет, ибо я прекрасно отдаю себе
отчет в том, какого ума она действительно требует.
Ведь в самом деле, очень часто и {фактически все занимаются, например, разгадкой снов и всяких таких вещей - это
действительно пред мет. Но как можно этому научиться? В каком
смысле мы можем постичь этот опыт, учитывая, что он может
наращиваться у умного, а у глупого это как-то не очень получается. Ведь это чудовищно сложно - обладать способностью
суждения. По-моему, когда читаешь Фрейда, то ясно видишь,
что это некое чудо. А чудо, как известно, невоспроизводим о и
непередаваемо. И нас спасает только то, что чудо все же
случается. Что бывают подобные чудеса.
И в заключение к уже сказанному я бы добавил следующее.
Несколько слов о судьбе психоанализа в послевоенные годы-
Очевидно вам известно, что, сойдя с парохода во время одной из
своих поездок в Соединенные Штаты, и видя встречающих,
Фрейд сказал своему собеседнику, стоявшему рядом: “Они еще не
знают, что мы привезли чуму”. Действительно, со временем
психоанализ в Америке стал если не чумой, то одним из самых
модных и престижных направлений в медицинской практике. Но
а хотел бы обратить ваше внимание в этой связи на другое
обстоятельство. На новое течение в психоанализе, которое
появилось примерно в 50-е годы во Франции - на школу Лакана.
И независимо от оценки реальных, терапевтических достижений
этой школы, должен сказать, что ее представители - и Лакан
прежде всего - абсолютно правы, когда они говорили о своем
возвращении к Фрейду. Это действительно довольно удачное и
348 Воклафл, япзЯгьи, ишн£$г&ь&
адекватное прочтение п восстановлена фрейдовского уценим в
чистом виде. Совершенно без всяких драматических рассуждений
о том - давать ли дорогу инстинктам или нужно давить их и т.д.
Короче говоря, без превращения психоанализа в некую общую
психологию или идеологическую доктрину, тем более, что такие
попытки предпринимались неоднократно. А здесь все это срезается и самое интересное, что сутью классического фрейдизма
оказывается при этом язык. Языковая реальность. Хотя есть в
этом, конечно, и свои преувеличения, я связываю их, в частности,
с заумным использованием некоторых лингвистических методов
и пр. Но это действительно так. В каком смысле?
В одном простом смысле, что психоанализ имеет дело с
явлениями, которые даны всегда в языке, вместе с языком их
осмысления. И нет никакой точки, из которой мы могли бы
посмотреть на предмет и язык отдельно, независимо друг от
друга. Мы не можем этого сделать. И поэтому - это смешанные
явления, которые случаются не только во внешнем пространстве,
но одновременно во времени смысла и понимания. И только в
этом континууме, где вещи и смыслы понимания неразделимы
(можно назвать его четырехмерным или как угодно), и
существует то, что называется фактом, явлением, событием и т.д.
То есть внимание к языку и к языковым явлениям во французской школе психоанализа - закономерно, абсолютно оправдано.
Ну вот, пожалуй, и все. Может быть, мне стоит оставить время
на вопросы?..
Вопросы и ответы.
- А наука связана с языком?
- Ну, естественно, что наука существует в языке, я ведь
именно об этом и говорил. О явлениях, изучаемых наукой. Что
они существуют в языке. Реальным физическим фактом в области сознания и психики является факт, но в той мере, как он
понят и осмыслен. И вот это сцепление или образование сознания и действует как факт.
- Я понял вас так, что было какое-то первое разделение на физические и сознательные явления, а потом появились явления третьего рода.
Но есть ли свое собственное содержание у сознательных явлений, или
оно редуцируется вот этими явлениями третьего рода? Или можно
сказать так: является ли сознание каким-то мгновенным актом,
который тут же переводит эти последние явления в какую-то другую
плоскость?
II второй вопрос. Нам дается не сам предмет, а норма по воспроизводству этого предмета. То есть все равно остается задача передачи
хотя бы нормы деятельности по воспроизводству этого предмета. Так
ведь? И, соответственно, третий вопрос, который вытекает из второго:
349
явления, которые будут выявлены когда-то в реальной жизни, в то же
время присутствуют, осажен, в образе “розовых слонов”. Так что же в
таком случае воспроизводится? Или это вообще не воспроизводство, а
генерация? Но тогда непонято, как индивидуальное сознание может
вообще соприкасаться с другим сознанием...
- Очень много вопросов и трудно на них ответить. Что
касается первого вопроса. Разумеется, я имел в виду, что проделанная Фрейдом работа открывает нам лишь какой-то кусочек
так называемых сознательных явлений. Не открывая весь континент сознания. Ведь как рассуждали раньше? То, что называлось
объективным, помещалось всегда вне сознания. Теперь же какой-
то кусочек сознания начали анализировать в терминах объективного, но неявного, зависимого сознания. А именно, стали
обращать внимание на явления смысла и понимания, так как
Фрейд открыл, что сознание не привилегия, как считала классика. Фрейд показал, во-первых, что акт осознавания дискретен, и
во-вторых, что он может быть препятствием, поскольку непонимание не есть артефакт понимания, а является самостоятельным
продуктивным явлением. И не ждет понимания, поэтому он
дискретен. Нет непрерывной линии, например в том, что ребенок, развиваясь, поймет какие-то вещи, известные взрослому,
только потому, что взрослый ему скажет о них. Обнаружится
обязательно какой-то разрыв между пониманием и непониманием. Понимание есть продукт рассеивания тумана, который
окружал его, и который называют обычно непониманием - это
обычная эволюционистская точка зрения. А философский смысл
психоанализа интересен как раз тем, что он совершенно иначе
посмотрел на это. Не употребляя этих понятий, поскольку он не
философией занимался, но философское предположение там
такое, что непонимание вовсе не туман, а продуктивное явление.
Именно это я и имел в виду, вводя свои различения.
Что же касается генеративных свойств психики, то пояснить
это очень сложно. Это потребовало бы от меня головоломной
работы и много времени. Ясно, что структуры человеческого
мышления и сознания индуцируют какие-то актуал-генетические
явления. Все происход ит непрерывно и порождается заново. Но в
действительности то, что мы рассматриваем как некую преемственную непрерывность, есть наша умозрительная иллюзия;
реальный мир, в том числе мир психики, построен иначе. В нем
ничего, кроме генеративных индукций или - скажу условно -
резонанса, не существует. Ничего в действительности другого
нет и никогда не является индивидуальными событиями в истории субъекта. Какими-то эмпирическими фактами. Структуры
порождают, а не эмпирическое содержание.
350 2)бкл&ды, ЫииОьи, миЯфвью
И еще. Когда я говорил о французской школе психоанализа
и сказал, что объекты не существуют вне языка, то это означает
еще одну вещь. В Евангелии от Иоанна сказано, что в начале
было Слово. В одном очень странном, на первый взгляд, смысле.
И хотя мне очень трудно будет передать его вам, потому что по
своей природе это интуитивно-стилистическая вещь, но я попытаюсь это сделать и одновременно мы выясним, что такое резонанс или генерация. Или сделаем вид, что выясним.
Как-то Монтень сказал следующую забавную фразу, что
законы существуют после того, как они написаны. Так вот, я
понимаю, что это значит. А как только сталкиваюсь с тем, чтобы
вслух об этом поговорить, - трудно! Понимаете, здесь Монтень
имеет в виду следующую вещь (это имелось в виду, кстати, и в
Евангелии), что вещи не существуют, если они не живут в
публичном пространстве. Они сначала должны прорезонировать,
отразиться от сказанного о себе и стать в себе. Развиться, снова
отразиться и т.д. Ведь мы становимся людьми посредством того,
что мы о себе говорим. Так и закон не существует сам по себе,
как если бы мы молча договорились, что он есть, и все. Европейская культура, в отличие от русской, в этом смысле другая. И
Монтень как раз и выражает ее, сказав, что законы существуют
только после того, как они написаны. То есть, когда возникает
реальность как бы в зеркале многократных отражений. И она -
закон образования человеческой психики. Обычно посылка у нас
такая, что существуют якобы ясные для себя, прозрачные содержания мысли, которые находят языковую форму и пользуются ей
как средством выражения. А в действительности существует такая вот штука, что нужно начать строить конструкцию, написать, например, закон или слово, и лишь тогда начинается
порождение того, чего ты сам до этого вовсе не знал. И никогда
не будет такого состояния, когда ты предварительно все будешь
знать, а потом его выразишь. Значит, какие-то вещи появляются
и становятся только в зеркальном пространстве резонанса.
В начале было Слово!
Проблема человека в философии'
Оговорим тему нашего разговора. Это проблема ‘Человека”
в философии. Постараюсь говорить так, чтобы ваши
собственные состояния и ощущения были приведены
нашим разговором в движение. Это поможет и вам слушать, и
мне говорить.
Бели эту тему излагать не академично, можно сказать, что
проблема “человека” в философии, как предмета философских
исследований, не существует. Не существует в том смысле, что
философия с самого начала вынуждена вводить в понимание
мира такие абстракции, которые могли бы максимально устранить из мировосприятия внесения, проистекающие из “частной”,
“земной”, “конечной” природы человека. И в этом все дело, все
трудности как в самой философии, так и в отношении к ней
культуры. Я бы даже сказал, что странное положение Ницше, а
именно: “человеческое, слишком человеческое”, - очень хорошо
выражает затруднение, перед которым также стою и я, и вы.
Конечно, такое высказывание, проникая в обыденный, повседневный язык, понимается согласно правилам этого языка,
подставляющего под умозрительные утверждения наглядные
картинки. И казалось бы, что высказывание, которое я привел, а
именно: “человеческое, слишком человеческое" - представляет
собой как раз антигуманистическое высказывание. В действительности же оно требует особого восприятия, совершения
первого философского акта, состоящего в том, чтобы приостановить в себе мелькание картин. Приостановить в себе манию
человека подставлять под высказывания и понятия слова,
имеющие наглядные референции.
Философские утверждения имеют отвлеченный спекулятивный умозрительный смысл, и его трудно уловить по одной простой причине: что бы мы не хотели сказать, в том числе, если бы
мы хотели высказать нечто не наглядное, а умопостигаемое, все
равно мы пользуемся словами обыденного языка, сталкиваясь с
которым имеем наглядные предметные референции. Я поясню
это простым примером. (Простые примеры опасны тем, что они
требуют наглядной интуиции для того, чтобы слушатели их поняли.) Таким примером будет наше положение в мыслительной,
культурной среде, где мы живем в окружении слов, некоторых
1 Выступление М.К.Мамардашвили в актовом зале ЛГУ 2 декабря 1988 г. Опубликовано в сборнике '‘ЗДепиипГ (МЫ). Редакция текста НЛосюловой-
352 доклады, ана/ньи, ишЯе^ыо
культурных навыков и стереотипов. Под “средой”, в которой мы
живем, я имею прежде всего в виду российскую среду (“российское” - это не этническое определение, а определение социально-
экономического феномена, называемого “Россией”, который
включает в себя и узбеков, и грузин и т.д.). Наше положение в
нем я бы выразил так: это положение прислоняющихся неумех.
Все мы живем, прислоняясь к некой теплой, непосредственно
нам доступной человеческой связи взаимного понимания,
частично неформального и незаконного, потому что наши
советские законы максимально формальны и лишены того
оттенка человечности, которой мы ожидаем от законов. И мы
компенсируем это, как я назвал это ранее, прислонением друг к
другу. Это человечески аморфная, неотрегулированная связь
взаимных подмигиваний, взаимопониманий, которая устанавливается помимо каких-Либо формальных критериев и законов.
Например, если взять проблему отопления, то мы обогреваемся
соприкосновением наших человеческих тел, тем объемом человеческого тепла, который излучают сбившиеся в ком тела, в то
время как другие изобретают “паровое отопление”.
Наша погруженность непосредственно в “человеческое” есть
неспособность разорвать связь “пониманий”, где: «я же
“понимаю”, что у него дета; я же “понимаю”, что он должен
жить; я же “понимаю”, что он не виноват, а его в эту роль
запихнула судьба, жизнь, быт». Мы как бы цементируем взаимопониманием и взаимным человеческим обогревом варварство и неразвитость нашей социальной, гражданской жизни.
И это первое, как сказал Ницше, что мешает человеку мыслить, что отгораживает его от самого себя, от своего реального
положения в мире и от своих обязанностей. И это опасно в мире,
который является нам современным, в мире, предполагающем
некую условную артикуляцию опосредований и формализации
состояний гражданской нации; предполагающем некое наличие у
людей культуры - если под культурой иметь в виду реальный
навык, способность, наличие силы на то, чтобы практиковать
сложность и разнообразие. А сложность и разнообразие не
могут целиком находиться в поле зрения объемлющего человеческого взгляда, не разрывающего мира как совместно шевелящегося кома человеческих тел.
Очень хорошей иллюстрацией этого сбившегося кома, в
котором в отличие от человеческой истории возможны законы
мифологического цикл повторения, является фильм Абдрашитова и Миндадзе “Оста ...вился поезд”. Если вы помните, там -
налаженный человеческий мир, который является - я бы сказав
так - взаимно достигнутым, взаимоудобным уровнем “всеобщего
неумения”. Никто из составляющих это сообщество ничего не
Л[и>&1ема в финмчм/нт 353
умеет делать профессионально. Они только фиксируют уровни
взаимоудобного понимания. И в этой ситуации человек, сделавший шаг “оттуда”, оказался героем. Но, конечно, он стал героем
потому, что взаимная цепь всеобщей лени, всеобщего неумения и
одновременно взаимной помощи вытолкнули его на роль героя,
который якобы героически подверг свою жизнь риску.
Такова исходная мыслительная ситуация: тот, кто осмелился
сделать шаг к тому, чтобы вытащить человечество, отмечен
отдельно, его и камнями забросать могут.
Я хочу сказать особо об отмеченности “отдельного” для
того, чтобы прийти к ситуации, когда могут забросать камнями
и когда может открыться пространство “гомо сапиенса”. Следовательно, когда мы говорим о человеке, как ни странно, сам
разговор о нем должен бьпь построен на основе абстракций,
максимально устраняющих непосредственно человечески доступные нам вещи. В этом смысле я сказал, что в философии нет
проблемы “человека”, т.е. человек как существо, обладающее
естественно данными свойствами, не является для философии
предметом или объектом исследований. Объектом или предметом
исследований и одновременно нитями сведения, позволяющими
случиться тому, что случается, является “возможный” человек.
Не какой-то “определенный” человек, не какой-то “наличный”
человек, а “возможный” человек, который может мелькнуть,
установиться в пространстве некоторого усилия, совершаемого
им и состоящего в его способности поставить себя “на предел”,
за которым ему в лицо смотрит облик смерти. Смерти, символизирующей для него способность, готовность его расстаться с
самим собой, каким он был до момента “события”, то есть изменить самого себя, потому что только в измененное состояние
сознания может войти ток реальности. Только реальность “сама
по себе” может воссоздаваться в этих состояниях, перед лицом
которых человек оказался способным изменить самого себя.
Поэтому время имеет здесь такую странную форму.
Вы знаете, что человеческий образ философскими абстракциями разделен на три вещи: на высшее благо, на красоту и на
истину. Так вот, в той ситуации, которую я описывал, приводя
пример фильма, люди не являются людьми именно потому, что
они загипнотизированы тем, что представляется им благом,
философия же им говорит: есть “высшее благо”, которое стоит
по ту сторону “человеческого, слишком человеческого”. Вот
отсюда и термин - “высшее благо”.
Теперь я введу некоторый элемент философского язык:.,
высшее благо не берет какой-то конкретный предмет и не объявляет его высшим по отношению к другим, там не сказано, что
именно есть “высшее”, ведь наглядность, разрешимость натяжки
354 Иокмгфх, аКа/бт, шиЯф/ы»
на каком-либо предмете здесь устранена. А это - абстракция;
абстракция, обладающая свойствами всех философских абстракций, которые требуют: ничто не должно определяться по содержанию. Ну, например, “дом”. Ведь “дома” никогда нет. Домом
является то, что случается в виде дома в данный момент и на
данной местности. И это никогда не выводимо ни из каких
общих определений.
То же самое говорится и о “благе”. Но мы за человеческое
благо согласились бы на ложь, на жизнь в иллюзии, в майе.
Истина не имеет привилегий, привилегия же лжи заключается в
бесконечном повторении несчастий. И если мы не примем смертный предел человеческого существования, а человеческий образ
не представим без замкнутости его символом смерти, то тогда
мы будем прожевывать один вечно не прожеванный кусок.
Вечно с нами будут случаться события, которые с нами уже
случались. А это настоящая картина ада. Русский философ
Трубецкой тонко уловил эту черту; он сказал: “ад - это никогда
не умирать”. Умирают ведь один раз и навсегда истинной
смертью. А это - смерть, когда ты вечно умираешь и не можешь
умереть - умираешь вечной смертью. Эта картина наглядно символизирована у Данте в “Божественной Комедии”.
В переходе за эту черту и появляется философское высказывание, о котором я хочу сказать, оно звучит так: понятие
“высшего блага”, - как сказал бы Кант, - не имеет созерцания,
на котором оно могло бы быть разрешено. Ему нельзя поставить
в соответствие какой-либо конкретный предмет. “Высшее благо”
лежит за пределами видимых нами человеческих благ; оно
формулируется так: “да погибнет мир, но свершится справедливость”. И философия понимает, что целью закона является сам
закон; не “конкретная” справедливость данного закона - “чтобы
людям было хорошо” - это не высшее благо, а благо - когда
закон является своей собственной целью.
“Картина человека”, рисуемая философией, никогда не есть
“картина” какого-либо особого объекта, который бы назывался
“человек” и который бы определенным образом эволюционировал, проходя какие-то хронологические периода. Ясно, что эта
картина показывает удел человека или указывает на то, что
“возможно” для человека; на то, к чему он может стремиться.
Поэтому картина “Апокалипсиса” не есть картина какой-то
эпохи, которая может случиться после какого-то нормального
состояния. Апокалипсис - это характеристика любого момента
человеческой жизни. Это способность в любой момент стать “на
предел” и лишь за этим пределом увидеть свое истинное благо и
свой истинный образ, увидеть реальность, как она есть. С такой
щепоткой соли и должны восприниматься все философские
355
утверждения о чешовок. И именно философские, а не, скажем,
биологические, антропологические и т.д. Вое философские определения, лежащие в основании термина “человек”, никогда не
разрешимы на какой-либо антропологической основе, на каком-
то конкретном образе человека, поскольку они имеют в виду
“возможного” человека, который никогда “не есть”. Здесь нужно
ввести еще одну философскую абстракцию. Вы знаете, что есть
одно гениальное определение бытия, существующее в грамматике философского, а не обыденного языка: Бытие - это не то, что
“было”, не то, что “будет4, а то, что есть “сейчас”.
По закону обыденного сознания после “сейчас” проходаг
какой-то момент, и тогда об этом “сейчас” можно сказать, что
оно уже было. Нет, в противоречии с этой грамматикой, бытие -
это то, что находится внутри и в рамках некоего мира, так же,
как и “Апокалипсис”, это не то, что будет, а то, что есть всегда,
есть сейчас.
Все философские утверждения относятся к этим моментам
существования и не имеют в виду какой-то предмет, обособленный в пространстве или в течении физического времени. Я бы
сказал так, что если бы в философии был заданный образ человека, то она никогда бы не смогла обосновать ни од ного истинного высказывания об Универсуме, оно всегда бы носило на себе
антропологические ограничения земного человека и лишало бы
какой-либо закон универсальности. Философия всегда строила
отрицательную онтологию человека, онтологию отсутствия;
онтологию того, что никогда не было, не будет, а есть сейчас.
Приведу другой пример, поясняющий, что имеется в виду в
философии под человеческим состоянием. У Паскаля есть
прекрасное высказывание, определяющее любовь (но с таким же
успехом оно может определять и бытие, и человека): “Любовь не
имеет возраста, она всегда в состоянии рождения, если она есть”.
Если она есть, она хронологически не подразделима на прошлое,
будущее, настоящее, она всегда нова. Структура философской
грамматики так определяет бытие и так же определяет человека.
У человека нет возраста, человек всегда в состоянии рождения,
вот что имеется в виду под категорией “ничто” в отрицательной
онтологии. Обычно эта тема в философской классификации
приписывается восточной философии, в частности буддизму. Но
то же самое “ничто” есть основание, на котором строится европейская метафизика и онтология. Просто в философии происходят удивительные вещи, все, что человек делает, становится
элементом, институционализированным в культуре, поэтому
рядом с реальными философскими актами есть университетская
философы, или культурные эквиваленты совершенного философского акта. И в этих культурных эквивалентах живая нота
356 2)окми/ы. аЯаЛы!. иыКфЛю
философствования (невозможная без этого “ничто”) часто теряется. И целые философские эпизод ы являются просто возобновлением этой живой ноты. Например, у Хайдеггера есть талант
прочитывания старых философских текстов, и это “прочиты-
вание” оказывается самостоятельным философским открытием,
восстановлением жизненного смысла в философских абстракциях, ставших предметом школьного изучения и в университетах,
потеряв при этом свой жизненный смысл. Восстановление этого
жизненного смысла в литературе Хайдеггером выступает как
“антигуманизм”, поскольку он понимает, что в философии человек “есть” только в свете того великого “ничто”, что человек -
это единственное существо в мире, которое в нем находится как
“человеческое существо”, а не биологическое; то есть как
“неестественное” существо в том смысле, что он не порождается
природой. Человек - это то, что находится в состоянии постоянного заново-рождения, это - человеческое существо, которому
собственными усилиями удается поместить себя самого, свою
мысль, свою нравственность, свои желания в некое сильное
магнитное поле, сопряженное с предельными силами. Человек
мыслящий, в некотором смысле, есть природная сила (если
природу понимать как различие сущности и явления Канта),
сила, которая естественным образом действует и не является
результатом нашего конструирования, не разлагаемая и не
слагаемая. Эта сила действует таким образом, что она всегда
мгновенна, непостоянна, непознаваема.
Все временные термины, говорящие о человеке в философии,
говорят о неделимых явлениях. Все философские термины указывают на некоторые истинные состояния, которые требуют от нас
ненаглядного постижения, то есть такого, из которого мы что-то
вычитываем о возможностях нашей человеческой природы и
ограничениях, на нее налагаемых. Например, наставление
“подставь вторую щеку врагу своему” не есть рецепт нашего
поведения. Это отвлеченный духовный рецепт, говорящий человеку: если ты это воспринял как обиду, то в этой обиде содержится какая-то истина о тебе. И если ты хочешь узнать ее, не
робей, остановись, не разрешай своего состояния таким образом,
который есть ответ обидчику пощечиной... Это совсем другой
ответ, он пред полагает духовную, душевную грамотность, развивающуюся под секундами любви и практикуемую философией. Она
может отсутствовать в профессионально организованной церкви,
она может отсутствовать в ритуале, который может выполняться
люд ьми чисто автоматически, она может отсутствовать в университетской философии. Она одинаково будет терять в них исходные метафизические функции, но тем не менее какие-то правила
там содержатся и нам удается поверх ритуала доходить до сути
Яро&илю нлиЛвеа в философии 357
дела. Фактически так можно говорить и о природной силе - она
вспыхнула где-то, и это произошло в истории, на фоне наших
мифологических предысторий; произошел прорыв, я бы даже
сказал, двойственный прорыв, прорыв к человеческой форме и
истории. Возникла история, то есть история как орган человеческого бытия и развития; есть нечто, что само возникает. Возникло
поле личной ответственности и труда души, как некая авантюра
и драма, лишь проходя и осуществляя которую человек может
“становиться” и “быть” в состоянии “заново-рождения”.
Нахождение в состоянии заново-рождения - это история, а с
другой стороны, это - человеческая форма, которая соразмерна с
космосом в той мере, в какой она предполагает, что в некоей
точке космоса возможно состояние и действие, отражающее и
несущее в себе всесвязностъ космического целого, в которой
принцип конечной соразмерности - отдельное человеческое
существо. То есть речь идет о чуде, о котором иначе, чем как о
чуде, нельзя говорить. Кант говорил, что его приводит в состояние удивления и восторга два зрелища: “нравственный закон во
мне и звездаое небо надо мной”.
Нравственный закон во мне - это не сентиментальная уми-
ленность того состояния “человечности”, о котором я говорил в
самом начале. Нравственный закон - это действительное чудо, в
том смысле, что в виде некоторого простого и самодостоверного
ощущения или восприятия можно понять то, что в принципе
можно было бы знать, лишь только пройдя бесконечную цепь
причинных связей и опосредований. А в нравственном законе
это состояние дано в виде простой принудительной очевидности.
Кант за это уважал Руссо, считая, что он наиболее близко и
точно описал состояние нравственной очевидности и тем самым
состояние очевидности поставил выше разума, которому, чтобы
обосновать то, что очевидность уже обосновала, нужно было
постичь все мировые сплетения, что невозможно. А в области
очевидности они даны, и это - чудо. Это есть вхождение в
область человеческой формы. Форма - это единственное, что
востребует с нашей стороны свободы, то есть только через человеческую форму в космосе существует феномен свободы, свободного действия, свободного явления, для которого подчинить
связи можно, лишь оставляя пустое пространство.
Пустота была условием того, что что-то может случиться;
пустота - это то, для чего не может быть причины. И тогда мы
знаем о человеке еще и то, что человек есть существо, могущее
находиться в состоянии, для которого нет и невообразима никакая причина, причина тому, каким ему быть. Нет ничего в мире,
ничего в воздействии этого мира на эмпирически воспринимающее человеческое устройство, что могло бы породить догад¬
358
З^оклси/ы, аК<иКш, шаЯфёт
ки, мысли, ассоциации, что угодаав человеческоммышлении, д
той мере, в какой оно человеческое, а не “человеческое, слишком
человеческое”. То есть человеческое есть только в пространстве
“возможного” человека, того, кого никогда нет, никогда не было, не будет, а кто есть сейчас.
Феномен свободы не может быть продемонстрирован помимо разрешающего созерцания, на основе которого мы могли бы
построить понятие свободы, и в этом смысле свобода не высказываема; она не есть нечто делаемое человеком, свобода есть то,
что производит свободу. Это еще одна характеристика философской грамматики. В грамотной философии сознание не определяется, т.е. сознание определяется так: сознание есть то, что есть
возможность большего сознания; свобода есть то, что есть возможность большей свободы, т.е. свобода производит только свободу.
Вам прекрасно знакомо ощущение истории как сцены, драмы человеческого существования, моментами которой является
апокалипсис, моментами которой является эсхатологическая
нота, то есть нота исполнения того, что должно исполниться,
исполниться до конца, нота “пребыть до конца”. Это есть
основное ощущение европейского человека в той мере, в какой
европейская культура не является одной из культур над другими,
а является каким-то другим срезом человеческого бытия, в том
смысле, что Европа не есть географическое понятие, Европа
может быть в Гонконге и может не быть в Москве. Мне кажется,
что тот контекст, который я начертил, и является реальной
размерностью нашего мышления в тех понятиях, которые мы
признаем. И есть наши новые проблемы, которые обозначены
для нас, ну скажем, понятиями ответственности, или уважения
человека к себе, к тому, чем ты сам занимаешься. Все это
находится не в пределах человеческих десятилетий, а обитает в
размерах бесконечности, и за ними стоят более размерные,
зрительные и долгодействующие силы истории.
Если мы мыслим, мы должны быть в сфере этих проблемно-
стей, в размерности долгодействующих сил нашей истории, а не
в других размерностях, иначе мы ничего не поймем в человеческих проблемах, которые стоят сегодня перед нами. В свое время
Волошин говорил в одном из своих стихотворений, что есть дух
истории и перед ним “программа” и “партийность” ничего не
значат. Этот дух истории и есть долгодействующая сила, поняв
которую мы поймем и то, что с нами происходит.
Ну вот, например, простейшая вещь: я говорил о высшем
благе, ответственности; этими чертами я вводил проблему человека. Для нас сегодня известен феномен, заключающийся в том,
что российский человек безразличен к содержанию того, чем занимается. Почему? Одной из причин является дохристианская,
359
языческая, но вторгнувшаяся в христианские термины мистика,
свойственная российской культуре. Эта вечное делегирование
назад, противоречащее определению бытия. Того бытия, которого никогда не было, никогда не будет, но есть сейчас, а мы
этого не можем реализовать, мы не имеем этого “сейчас”. Например, я сейчас делаю гадость, но у меня есть высшее сознание,
сознание того, что я это делаю по необходимости, а завтра все
будет иначе. И в этой ситуации я есть не то, что я делаю “сейчас”,
а то, чем я буду завтра, в некой мистической точке. Для русских
это некое неосязаемое, мистические тело России, которое взывает
к себе, и поэтому постоянно проскакивает мимо предметов, стоящих перед носом. Вместо того, чтобы любить человека, стоящего перед тобой, мы любим “человечество”, которое расположено в некоей мистической точке, и поэтому мы ничего не любим.
Всегда нас можно дернуть за ниточку, и мы подчинимся совершенно другому движению. Поэтому же и наша “всесердечность”
есть в действительности не “Бесчеловечность”, а постоянное
несовпадение с тем, что “реально” и что “сейчас”. Это несовпадение всегда трансцендаровано в пользу какого-то будущего.
Тетерь как об этом подумать? Думать об этом так, что мы
прямо сейчас должны решать проблемы, связанные, например, с
нашей бюрократией? Нет - эта проблема наход ится в размерности нескольких столетий, и только возобновляя порванные нити
столетий, восстанавливая традицию долговременного мышления, мы можем разобраться в проблемах, стоящих перед нами, в
том “образе человека”, который приобрели толпы людей,
возникшие на российских пространствах. Я бы, например, определил этот образ скорее как помесь носорога с саранчой, чем как
человеческий облик.
Откуда это все? Опять же, это можно понять, только поместив себя в поле долгосрочно действующих сил, в некий дух
истории. И там спросить себя, что сломалось где-то далеко в
структурах российской истории, что оказалось не сделанным, и
эсхатологической страстью не покрыто. Не покрыто самой
существенной страстью, говорящей человеку, что самое большое
честолюбие - это исполниться, “пребыть” раз и навсегда, а не
жить в дурной повторяемости мифа, который является доисторическим существованием. Поэтому я наряду с личностью и
человеческой формой вводил и проблему истории. И именно
проблема истории является для нас проблемой “как таковой”.
Иными словами, есть ли у нас форма, называемая “историей”
или нет?
Философ может не быть пророкомч.
Как философ воспринимает стихи, ведь это совсем другое
восприятие мира? Пересекаются ли эти две картины мира
- философская и поэтическая? II какая из них
“достоверней”, если можно так выразиться?
- В любом определении такого рода кроется опасность.
Можно все объяснить поэтически, а можно аналитически, философски... Аналитическое идет дальше, чем поэтическое, не
останавливаясь на эстетическом эффекте, например, радости,
которая бывает, когда совпала музыка души с музыкой
читаемых стихов. Это само по себе уже исчерпывающее наслаждение, понимаете? Для некоторых, по-моему, этого достаточно, и
не нужно идти дальше.
Философ не может на этом остановиться. Он не может
останавливаться ни на исчерпании себя в поэтическом наслаждении, ни на религиозном почитании, например. Поэтому он
идет дальше религии. Религия может останавливаться, считая
достигнутой свою цель, если достигнуто состояние уважения и
почтения в душе человека...
Картина мира складывается на моем восприятии тайного
латентного голоса, то есть я одновременно говорю на латентном
языке поэзии, с которой я общаюсь (в данном случае с поэзией
Блока), и понимании другого, понимании тех сил, которые действовали в русской культуре, которые я могу осознать, увидеть и
зафиксировать отдельно, помимо поэзии Блока или другой чьей-
то поэзии. И суммируя все это, суммируя аналитические какие-то
представления и восприятия, и то, что меня волнует, впечатляет
в поэзии Блока, я прихожу к выводу, что в ней действуют силы,
представляющие и духовную красоту, но и духовную опасность,
о которой, кстати, он сам предупреждал.
- Вы имеете в виду опасность непонимания, неправильного прочтения метафоричного языка поэта или же опасность пронесения сквозь
время заключенных в стихах каких-то качеств, свойств национального
характера?
- Метафоры языка тоже заключают момент опасности, поскольку поэт может говорить одао, а подразумевать другое. Но я
имею в виду опасность другого рода, которая продолжает действовать и сегодня и действует в политике. Я вижу миллионы
людей, готовых любовно отдаться хозяину - стихии. Так, в
1 Текст интервью, данного М.К.Мамардашвили телевизионной программе Т1с1
знаком я”. Опубликован в журнале ‘‘Человек” (№2, 1991).
Фихоссф можак ил ЛиКь HftofuucaM 361
письме или д невнике, не помню точно, Блок пишет, что нельзя
полностью разделаться с прошлым, даже если сбросить все его
формы. Все равно останется необход имость этой формы. То есть
выполнять какие-то материальные акты невмоготу этой женственной душе, которая желает раствориться в какой-то высокой
точке в стихии и невозможность освободиться от этой стихии. А
культура должна от нее освободиться... Конечная форма никогда
не совершенна; она бытовая, мещанская и т.д. Сделать конкретную форму носителем бесконечного - к сожалению, очень мало
нашлось людей, способных на этот кристально очерченный
формализм...
- Вы подчеркиваете готовность Блока раствориться в стихии, но
без этого он бы не состоялся ни как поэт, ни как пророк...
- Чтобы быть пророком, нужно быть немножко юродивым
или не немножко... Ведь пророк, вы знаете, это специальный
термин. Пророк предполагает существование определенной
религиозной культуры, такой, в которой сама субстанция
совести не поделена среди всех людей, а есть некоторые,
“привилегированные” люди, выделяемые из массы и подчиненные закону, который всегда несправедлив, и не подчиненные
власти..., которые периодически выкрикивают что-то о том, что
на самом деле есть, о правде, в том числе теперешней, и о
будущей правде...
Вот что такое библейский пророк, я, конечно, говорю грубо,
не охватывая всех теорий. Можно предсказать только то, что
уже есть, и важна способность это увидеть. Люда, как правило,
не видят того, что есть.
- Рассматривая с этой точки зрения творчество Блока, можно ли
сказать, что дар внутреннего пророчества как-то связан с желанием
предупредить события в духовной или общественной жизни?
- В данном случае “пророк” - это один из участников внутреннего театра, в котором я должен что-то разыгрывать, потому
что если я не разыграю, что-то разыграется в реальности. Ведь в
поэме “Двенадцать” Блок второй раз делает то, что однажды
уже было сделано и сделано уникально в русской культуре
Достоевским. Достоевский тоже объяснил и разыграл, театрально разыграл силы, действующие в его душе, чтобы увидеть себя
до конца и попытаться овладеть этими силами, чтобы они не
действовали реально, если они уже продействовали в воображении и художественном созерцании, понимаете?
Но русская культура прошла мимо Достоевского, осталась
на его обочине. Это сейчас всеядность наша, выстраивая пантеоны, ставит там якобы почитаемого и прочее и прочее, Достоевского...
- Можно ли считать Блока выразителем русского менталитета?
362 2)склафк, аЧшЯш. ииЯф&ю
- Менталитета?
- Да. IIли русского самосознания...
- Очень труд но говорить о поэте. Чувствуешь себя каким-то
дикарем или грубияном, когда вторгаешься в столь тонкую
ткань, которой является поэзия и так называемая душа поэта.
Когда обращаешься к этому в каких-то словах, то слова рассуждающего, рационального языка переводят предмет, то есть поэзию, в то измерение, которое ей не свойственно. Мы ожидаем от
Блока таких выражений души, которые построены на нашем
ожидании, и тогд а все искажается.
Блок, например, это просто стихия лирики, гениальная
лирическая стихия и она вообще не поддается нашим высокомерным, почтительным или рациональным оценкам, потому что
оценка предполагает личный ум, а поэту не требуется обязательно личный ум, тем более, если он - лирическая стихия.
О Блоке, например, я не думаю, что он был умный человек и
поэтому из ума мог что-то предсказывать. Он был абсолютно
гениальный музыкальный инструмент, настроенный, как сейсмограф, на какие-то сдвиги, движения, происходящие в недрах
сознания, души. Можно было бы употребить здесь термин
“коллективное сознание”, но мне этот термин не нравится...
Как Блок сам это понимал, это уже другой, очень важный
вопрос. Потому что в том, как он понимал это, сказалась некая
долгодействующая сила психики того антропологического типа,
который на российском пространстве живет и действует. Я не
считаю его этническим, это российский культурно-исторический
феномен, очерченный в определенном пространстве, но не совпадающий обязательно с русским этносом.
- Что вы имеете в виду?
- Понимаете, в российской истории есть одна долгодействующая сила, на мой взгляд, губительная. Это сила, являющаяся комплексом принадлежности всякого российского человека к
какой-то мистической точке, которая географически не локализована и перед которой можно оказаться виноватым, которой
нужно служить, перед которой нужно оправдываться. Это называется то мистическим тайным телом России, то это государь-
император... Эта точка, повторяю, не локализована, это не
обязятельно Москва... Это я назвал бы подчинением двойной
стихии: ощущения себя во власти какого-то хозяина, который
может быть и милостивым, и наказывающим, и развития самого
чувства хозяина. Это как двуликий Янус: тот, кто подчиняется
хозяину, в том самом действует мания быть хозяином.
- Вы считаете, что эти силы действовали и в душе Блока?
- Эти силы действовали и у Блока. Это выразилось у него в
од ной простой вещи, а именно - в чем? Вот эта долгодействующая
Философ млммЛ не АиКь пруиж&м 363
сила русской внутренней истории - есть сила мании растворения
в стихиях, отд ачи себя стихиям, снятие, отрицание любой частной
выделенности, отличающей тебя от стихии, растворение в ней.
Что такое стихия? Это то, что тебя не видит, то, что не считается ни с какой выделенной формой, ведь ветер на песке одинаково уничтожает и какое-то физическое образование, и след
ноги человеческой. Стихия не видит форм, они не выделены... И
это трагическое желание растворяться в стихиях действовало в
душе Блока.
- Но согласитесь, Мераб Константинович, гений - это всегда
связано со стихией...
- Несомненно одно: что совершенно независимо от своего
личного ума, способности рассуждения, Блок что-то важное
выразил через свой музыкальный лирический слух, свою гениальность (в старом смысле этого слова). Мы говорим - гений
языка, вот этот гений поэзии присутствует у Блока. Он через это
выразил многое, что должно было случиться в будущем, а тогда
лишь зрело, и многим было не заметно. Он сделал себя сейсмографическим инструментом для измерения колебаний почвы всей
европейской культуры и истории. Той новой истории, которая
разыгралась в пробном, неудачном варианте на российском
пространстве.
- Если Блок, по-вашему, только инструмент, посредством которого
в нашу жизнь донесены звуки прошлого, значит, в данном случае, мы не
можем рассматривать дар пророчества как феномен сознания. И дар
Блока, который представляется мне тайно действующими силами духа,
души - просто средство? Мне трудно согласиться с этим, и я хочу задать
Вам вопрос, которому уже 73 года: поэма “Двенадцать” - проклятое
или благословение революции? Сейчас этот вопрос стоит так же остро,
как и в то время, когда она была написана.
- Вы знаете, это не проклятие и не благословение, по-моему.
Это гениальная, я бы сказал, флюорография (я употребляю
слово, значение которого сам точно не знаю). Проявление как в
рентгене, в фотографии каких-то универсальных состояний,
другим людям незаметных. Эти состояния действуют и в других
людях, но им самим они незаметны. Я приведу простой пример,
из совершенно другой области, где субъект, о котором я буду
говорить, не имеет ничего общего ни с поэтическим гением
Блока, ни с его глубокой культурой и т.д.
Вы знаете, наверное, в последнее время много писали о
мальчике, Федотов, по-моему, его фамилия, который предсказал
неизбежность войны с Германией и даже ход первых месяцев
войны. Это рассматривается как чуть ли не гениальное провидение, предсказание, но это чушь.
- Почему?
364 доклады, аИшЯш. шаКфвыо
- По одной простой причине. Если внимательно прочитать,
что происходило тогда в мире и что он писал в своем дневнике,
то видно, что те силы, продукт действия которых он увидел и
предсказал, это были силы, действующие в его собственной
душе. Это была глубоко советская душа советского школьника,
которая все агрессивные силы, действующие в советском
пространстве, аккумулировала как силу своей собственной души,
а главной силой была неминуемая устремленность Советской
России к войне.
Советская Россия изнутри своих глубин порождала неизбежную войну определений, ведь большевизм возник в России
как мировое движение. Вы знаете все эти слова, и я не буду их
сейчас приводить: о перманентной революции, об интернационале, о коммунистическом будущем и прочее-прочее-прочее. Я хочу
сказать одно: все это, весь этот огромный котел, который
вольется в души людей, был кристаллизован вокруг этого
болида, неминуемо устремленного к войне.
И аналогичные причины действовали в Германии. Это
другой болид, столь же неумолимо, по тому, как он структурирован изнутри, устремленный к войне.
Некоторые люди обладают способностью увидеть в
картинках, с конкретными деталями, даже датами, вот эту
действующую силу своей собственной души. Вот этот импульс
войны, насилия, захвата и т.д. действовал в нем, поэтому он
способен был настроиться и увидеть, что Германия неминуемо
атакует Советский Союз.
Кто-то может чисто логически зафиксировать определенную
тенденцию, но не увидеть картину. А чтобы предсказать - нужно
видеть картину, нужно обладать особым воображением. Таким,
каким обладал Блок. Дело в том, что поэма “Двенадцать’’ и не
проклятие, и не благословение... Это овнешнение в картинах, поэтических, ритмических, музыкальных всего того, что кипело в
душе Блока, как, в данном случае, универсальной российской
душе и вокруг нее. Он это записал и тем самым дал возможность
нам (которую мы, кстати, не использовали, да и сам он ею тоже
не воспользовался) контролировать эти выбросы архаических и
других скрытых пластов, выбросы стихий. Если есть стихия,
скажем, воды, воздуха, земли, огня, есть и человеческая стихия,
то есть стихия человеческой психики.
- В таком случае, мы должны согласиться со словами Ремизова о
том, что, как нельзя не принять стихию, например, грозу или ураган, так же
нельзя было принять или не принять революцию. И глупо было осуждать Блока...
- Ну конечно. Как в свое время выразился Бердяев, некоторых упрекают в том, что они клевещут на революцию в России.
Философ может мс ЗшЯь мруюс&и 365
Как можно, восклицал Бердяев, - это космическое явление! Как
можно клеветать на космическое явление!..
Блок зафиксировал в картинах, как выглядят и каковы эти
стихии в “Двенадцати”. Дело не в том, одобряет или не одобряет
это поэт, предвидит ли. Предвидеть уже не надо, это уже есть.
- Да, это уже свершилось, как пик судьбы России...
- Это уже решилось необратимо, свершилось в человеческих
душах. Уже необратимо обречены крестьяне (и не надо рассказывать сказки, что можно было продлить НЭП, можно было
идти иначе...), уже необратимы физические и волевые решения.
Они уже приняты, они могли только ускоряться и нельзя было
идти медленнее, в этой коллективизации, например. Это уже
решилось, и образовался новый язык видения, действия стихии.
Это ясно как божий день и только поэтому, собственно говоря, Блок колебался: кого поставить впереди двенадцати?
Иисус не подходит на роль такого хозяина, и Блок это явно
ощущал своей гениальной интуицией.
- Да, он писал, что, как ни вглядывался, там был Христос. “К
сожалению, Христос”, - записал он. Можно только гадать, почему к
сожалению...
- История выполнила потом простейшую операцию и подставила того, кого и следовало поставить впереди этих матросов
- Сталина или Ленина. Это абсолютно одао и то же. Сталин
лишь был вернейший ученик Ленина и действительно его истинный поклонник. И он не лицемерил, когда говорил, что поклоняется ему. Ленин действительно был мастер своего дела, и Сталин
прекрасно знал, что Ленин в деле переплюнет его в тысячу раз. А
черты самого Сталина? Ну чем он пленял миллионы этих людей,
которые его любили? А тем, что он реализовывал заложенные в
них душевные силы, они индуцировали его самого...
Мы далеко ушли от поэзии, но тот, кто умеет читать, должен просто шляпу снять перед Блоком, который смог овнешнить
и показать, что уже случилось, что будет происходить, потому
что то, что происходит сейчас - уже произошло.
- Эта Ваша мысль очень созвучна мысли Блока о том, что каждой
эпохе свойственна своя музыка, и очень немногим людям дано расслышать новую мелодию уже незаметно сменившейся эпохи - остальные
живут в старых ритмах.
- Он говорил о музыке революции, потому что чувствовал,
что музыка ушла. Он говорил, в принципе, о культуре. Из культуры ушла музыка, как раз оттуда, где он хотел ее слышать. Из
революции, из той стихии, которой он отдался, в которой,
можно сказать, растворился. И Вы знаете, в русской культуре
*31ь прямой ответ, скажем, вот этой мании, самоубийственной и
с&мопожирающей мании растворения в стихии. Это стихи Чичи-
366 2кклафл, огиииы*, шийф/ш
бабина1. Вы, наверное, прочли^они опубашсованы в “Л|«ератур-
ной газете”. Это прямой ответ блоковским “Скифам”. Варварами, дикарями при всем желании нельзя быть после цивилизации.
Нельзя естественным образом быть скифом, это невозможно. И
описание этого есть просто сублимированная поэтическая выдумка, не отличающаяся своей поэтичностью, к сожалению, хотя
стихи прекрасные. Чичибабин называет это внутренним Китаем,
не географическим или этническим, а внутренним, и он прямо
обратным образом описывает то, о чем нельзя говорить умильно
и ласково, как умильно и ласково говорит Блок о скифах.
- Вы знаете, я решительно не могу согласиться с Вши в том, что
Блок вообще в чем-либо имел умильную интонацию. Это совершенно
не свойственно ни его характеру, ни, тем более, его стихам.
- Я не всю поэзию Блока имею в виду. Наоборот, ко всей
поэзии его я отношусь хорошо, я об этом уже говорил. Но
“Скифы” - это сдача позиций мужества мысли, мужества культуры безусловная. Об этом не может быть д вух мнений...
-Это, конечно, интересный подход, но я совершенно не согласна с
таким определением...
- Можно, конечно, закрывать глаза на то, что есть на самом
деле, на то, что показала история. Ответ Чичибабина - это
прямая калька “Скифов”, только с обратным знаком. Я имею в
виду, что это ответ о мужестве, это мужской ответ. И это попытка
мужским ответом заменить тенденцию к женственным ответам в
российской культуре.
- Но правомерно ли, нужно ли заменять этот, по-Вашему,
женственный ответ - мужским? Мне кажется это немного надуманным.
И кто, в таком случае, ближе к истинной сути российской стихии?
- Это тема для отдельной беседы...
История отстоялась, на Блоке это можно увидеть и понять,
какие струны звучали в действительности в российской душе, в
русской душе. Сам он лично мог относиться не совсем с пониманием к той картине, которую рисовал, как поэт. Это другое дело.
Понимание могло к нему приходить трагически. Он мог
поддаться какой-то иллюзии, считая, что все-таки надо в этом
раствориться, что это благо, и тут же, через несколько месяцев,
увидев, что на самом деле означает то, что он воспел, он
умирает. Причем не от определенной болезни умирает. Помните,
он пишет, что у него все болит? И какие слова сказал он в одном
из последних писем? Слопала-таки, хрюшка, матушка-Россия,
своего поросенка...
1 Речь идет о стихотворении Б.Чичибабина “Фантастические видения в начале
семидесятых” (Лиг. газета. 1990,3 октября).
Философ мажаЛ не Аыв» я/и^мсли 367
- Ну, это у него постоянный рефрен. Помните, в письмах к матери
он пишет, по возвращении из-за границы, что родина сразу показала
свое и свиное, и божественное лицо. Он все-таки ставил эти определения
рядом - свиное и божественное. Две силы в российской стихии...
- Это, простите, не просто метафора, тут матушка опять
фигурирует, поросенок, опять - я отдавался хозяину, а он меня
сожрал.
Болело восприятие высокого, гениального поэта, и когда
Россия лузгала ему семечки в лицо - он умер. И надо стать перед
суровым фактом его такого рода смерти, которая была
свойственна почти всем поэтам российским и задуматься о том,
почему мы вот так вот убиваем-своих поэтов, или почему Галак-
тион Табидзе должен был прыгать с моста в Грузии. Он заплатил
ужасом за то, что разыгралось в Москве, это его внутренняя реакция на ту чудовищную вещь, которую проделали с Пастернаком,
хотя никакие личные связи в действительности его не связывали
с ним. Но это был пережиток, ужас этого свиного рыла, у
которого ничего божественного, уверяю Вас...
- И все-таки, нельзя разделить определение Блока, раз он сам не
отделял эти два понятая, определения, несмотря ни на что...
- Сказанное в порыве чувства, в эмоциональном состоянии
нельзя возводить ни в какие культурные аксиомы, принципы и
концепции. Это непозволительно.
Что вытекает, скажем, из того, что любящий мужчина может
многое простить своей женщине, ища какой-то таинственности в
совершенно обычном ее предательстве, ненависти и так далее?
Он имеет любящего, конкретного человека, свою конкретную
историю и не нам вмешиваться в это, особенно с теоретическими, культурно-историческими построениями.
А что касается того, что подлежит обсуждению, того, что
продолжается и живет в наших душах, об этом нужно говорить,
потому что, повторяю, все это продолжает жить и действовать.
И в этом смысле Блок своей гениальной сейсмографией участник, живой участник нашей теперешней духовной жизни.
- Вы считаете, что человек, приверженный какой-то идее, теряет
способность адекватно воспроизводить реальность, теряет ощущение
своего времени?
- Конечно. Например, понимаете, на меня совершенно
марсианское впечатление производит то, как ведут себя
“шестидесятники”, “проснувшиеся” в 80-х годах. Как будто их
усыпили и пока они спали, ничего не произошло, ничего не
изменилось. Не изменились дискуссии о некой духовности,
идеальности, - они остались такими, какими представлялись
детям съезда 1956 года. С тех пор, слушайте, прошло столько лет!
И с невинным видом возобновлять термины тех дискуссий,
368
2)йклафл. с/нсиньи, шинелью
расстановку врагов, союзников и т.д. и т.д. - это невозможно,
это какое-то марсианское впечатление, это прямо лунный пейзаж, лунный пейзаж культуры, лунный пейзаж политики и т.д...
А почему? Потому, что не идут ни в чем до конца... Возьмите
ту же самую музыку, которую слышал Блок, когда писал
“Двенадцать”. Он же не боялся того, что его упрекнут в том, что
он кокетничает с матросней и тому подобное. Потому что речь
шла о том, чтобы записать, отобразить те силы, которые действуют в самом Блоке, как частице, неотделимой частице всей
русской жизни, русской политики и культуры.
- Вы думаете, что “шестидесятники” и сейчас пребывают в анабиозе?
- Я считаю, что горе тому, кому понадобилась вся эта
модель идеального социализма, идеальная моральность и тл.
Беда уже то, что такая революция была нужна, потому что были
люда (правд а, их было мало), которые знали все с самого начала
и жили по другой системе духовных координат, в другой системе
отсчета. Так и сейчас. Надо же в себя заглядывать, а не продолжать с невинным видом это умильное воспоминание, фактически
жить путем воспоминаний в реальности, воспоминаний о том,
как мы проснулись от XX съезда (говорю тому, кто просыпался
от XX съезда). За это не нужно людей сажать в тюрьму или
как-то осуждать, но в этом - моральный упрек, который человек
должен поставить сам себе. Это, опять же, не классификация
людей: одни хуже, другие лучше. Это указание на нравственную
и политическую задачу, которая сейчас стоит и, повторяю, что
классики, скажем, Блок и Достоевский, имели мужество идти в
своей работе до конца увиденного в своей душе и не останавливаться на демократических ритуалах среды, принадлежности
какой-то команде...
Мы все живем командами какими-то, есть команда “шестидесятников” , “команда перестройки”, есть еще какие-то команды...
Вообще, трудно рассуждать о москвичах сегодняшнего дня,
потому что здесь примешаны страсти и прочее-прочее. Бытовая
сторона сегодняшнего дня, мусор дня затемняет все...
- Даниил Андреев говорил о звучании стихов Блока, как о чем-то
“даже превышающем музыкальность”, об особой “магии стиха”, что
многие его образы - образы иного мира, не Земли, не неба. Можно ли
сказать, что эти стихи - продукт “параллельного сознания”?
- Я вот не понимаю: на земле, на небе... Все дело в том, что
небесное должно случаться на земле и наоборот. В свое время
Мандельштам называл он был созвучен в этом смысле
христианству) это вечно, ию не во времени, а вечностью как
вертикальным сечением этой жизни.
Я думаю, что другая жизнь, другое небо, другой мир - находятся в этом мире. Самая древняя философская мудрость, запи¬
Философ может, не доопь п(гб[мсом
369
санная еще в египетском папирусе - говорит: так, как наверху,
так и внизу. Внизу так, как наверху. То есть, если ты связан, соотнесен с верхом - а это есть человеческая история, то есть история возвышения человека над самим собой, над своей тварной
природой, своей двойственностью - ты должен уложить верх на
низ. Короче говоря, всякая философия, всякое духовное построение есть ответ на навязывающуюся мысль о самоуничтожении
или самоубийстве. Уничтожение всегда рада возвышенного: мир
плох, ничтожен и т.д., и я должен соединиться с высшим. Это
жалоба человека, уставшего от жизни, или беседа со своей душой,
как мир плох и как сам человек хорош в своем возвышенном
стремлении. И не находя ничего утешительного, он должен
покончить с собой, чтобы найти кратчайший путь перехода в
другую жизнь... А душа отвечает, нет, наверху так же, как и
внизу.
Это ответ всякой истины религиозной и всякой истины философии.
Действительно, происходат что-то неземное, но неземное
происходит в земном. Это вертикальное сечение самого земного,
это, так сказать, вечность. Она не во времени какого-то предмета, который был бы вечен и не менялся, был бы совершенней, чем
наши несовершенные вещи - нет. Это сечение - искусство истиной духовности, религиозности, экстатичности, нравствености
человеческой, это помещение верха на низ. Поэтому, скажем,
самоубийство считается грехом. Это продукт высокомерия и
самонадеянности человеческой и источник, кстати говоря,
ужасов: я взрываю мир и самого себя, потому, что мир плох...
- Вы знаете, как раз самые “неземные” стихи - “Стихи о Прекрасной Даме” - написаны в наиболее счастливый период жизни Блока и
там трудно, на мой взгляд» найти ощущение того, что мир плох или
подобные ощущения...
- Я далек от того, чтобы приписывать это Блоку. Мы говорим о том, насколько прав Андреев, помещая Блока в другое
измерение, говоря о картинах другой жизни и т.д. Я только
утверждаю, что эта другая жизнь есть то, что есть в этой жизни,
только не как предмет, а как смещающаяся точка вертикального
сечения самой этой жизни.
- Вы хотите сказать, что “параллельное сознание” или “параллельный мир” Блока, которые, на мой взгляд, являются безусловной
составляющей его творчества - просто некая духовная высота?
- Это вертикаль, поставленная параллельно нашей обычной
жизни. Мы движемся на параллельных. Вот Ваш мир параллелен
моему и мы никогда не пересечемся. Но в действительности - пересечемся, в этом измерении вертикальном. В нем параллельные
- и это можно доказать геометрически, это особая топология -
370 доклады, аЯа/Яш, шчЯфвыо
пересекаются, и они пересекутся. То есть Вы должны пара дельно
мне что-то пережить, и мы пересечемся в этой точке, параллельно пересечемся.
- В таком случае, наверное, уместно будет отметить его отношение
к религии. Известно, что Блок не был религиозным человеком и у него
были сложные отношения с церковью.
- Безусловно, но это не имеет никакого значения. Или мы
говорим о религии как о профессии, или мы говорим о приличной евангелистской религиозности, которая никак не зависит от
того, ходит ли человек в церковь, относится ли к церкви как к
социальной, исторической конституции, и что он сам думает об
этом и т.д. и т.д. Он необратимо находится в этом измерении,
если он принадлежит русской культуре. Так же, как я о себе могу
сказать, если я принадлежу грузинской культуре, я необратимо
нахожусь в этом измерении. И может быть, кто-то, не ходящий в
церковь, больше христианин, чем ходящий в церковь. Ведь если
Пушкин говорил, что русская православная церковь не участвует в строительстве, то это не значит, что он не христианин. А это
у него интересное наблюдшие, важное.
Если сегодня кто-нибудь думает, что можно пересадить,
возобновить русскую церковь такой, какой она была до 1917
года, то он глубоко ошибается. Потому что от того, какой она
была до 1917 года, произошло во многом то, что произошло в
1917 году. Это большая трагед ия. Об этом стоит подумать, нельзя безнаказанно, без взятия на себя исторического наказания,
просто взять и пересадить, скажем, русский ренессанс, в том
числе религиозный ренессанс, в сегодняшний день и продолжать
жить так, словно ничего не случилось в промежутке.
Что случилось в точке катастрофы? Насколько участвовало
в этой катастрофе то, что было перед ней, как нечто высокое?
Чего не сделали, что должны были сделать? Это все вопросы, без
которых нельзя восстановить, возобновить культурную преемственность.
- Вы совершенно правы, в этом невозможно с вами не согласиться.
Но мне бы хотелось остановиться не на взаимоотношениях Блока с церковью, они выражались всегда очень определенно. Я бы хотела поговорить с Вами именно о его взаимоотношениях с Христом, как с одной из
главных духовных ипостасей русского сознания. Вы, конечно, помните
несколько таких разных определений, как “я иногда глубоко ненавижу
этот женственный призрак (образ)”...
- Это же самое говорил Ницше.
- Или “...Иногда подходит близко и напевает...”
- Ну конечно.
Фимеоф мймсан не Лань н/ю/мком 371
- Или пишет в письме к Евгению Иванову, на призыв “ближе
подойти к галилеянину”, что “еще не враля для него...” Это любопытно,
не правда ли?
- Ну, понятно, любопытно, но несомненно, что он мыслит,
живет и чувствует через Христа. При этом он может говорить,
что это притягивает - не притягивает, что это отталкивает и т.д.
и т.д. Но ясно же видно, что это факторы его духовной жизни,
это действующие силы его собственной души, значит, он живет
через Христа, понимает через Христа.
- Вы считаете, что он знал Христа?
- Конечно, конечно. Жить через Него - это путь. А на пути
вы можете делать жест раздражения, сказать, ой, меня это отталкивает, но вы живете этим и живете иначе, чем жили бы без этого. И ничего, Бог приберет своих детей, Ницше это или Блок. Он
узнает своих. И этого достаточно. Нужно интенсивно жить, а
что ты при этом говоришь иногда, любишь, иногда начинаешь,
казалось бы, ненавидеть - а что мы знаем о нашей ненависти,
любви?
Мы, видимо, очень часто можем разыгрывать, испытывая
реальную ненависть, а в действительности любить и наоборот.
Ненавидеть, а разыгрывать это как любовь. Но в экстремальных
ситуациях и перед лицом смерти все становится на свое место. И
мы узнаем, что мы в действительности ненавидели, а нам казалось, что мы любили. Что я из себя представляю, говорят французы, это является перед лицом смерти. Потому что, как только
отпадает маска, то есть то, что я думаю о себе, я узнаю, кто я.
Это отпадает, это есть маска. Маски говорящие не нужно
принимать за действительную сущность. То, что маска Ницше
говорила то-то, маска Розанова то-то, маска Блока то-то...
Простите, это не Блок говорил, не Ницше, не Розанов, а маска
Блока, маска Ницше и так далее...
- Вы сказали слово маска и сразу в памяти встало лицо мертвого
Блока. По воспоминаниям современников, на похоронах Блока все
были потрясены тем, насколько изменился лик поэта. Была даже мысль,
что это не он, что кто-то другой лежит на смертном одре...
- Да, это интересно, хорошо, что Вы вспомнили это. Вот
видите, тут в игре, казалось бы, чисто анатомических деталей
видна игра как будто духовных истин, которые проявляются не
тогда, когда мы их формулируем в своем воображении или ждем,
а когда приход ит их час.
- Когда приходит их час...
Классическая и современная
буржуазная философия
(Опыт эпистемологического сопоставления)
Статья первая
Картина современной философской мысли на Западе настолько сложна, противоречива и запутанна, что исследователь
и критик, пытающийся ее осмыслить, оказывается перед почти
непреодолимыми на первый взгляд препятствиями и труднейшими аналитическими задачами, особенно если он задастся
целью выработать сколько-нибудь цельное, синтетическое о ней
представление. Необходима какая-то нить, которая провела бы
его через этот лабиринт идей, концепций, течений, духовных явлений и связала бы их в какую-нибудь, пусть не исчерпывающую
и не каждым явлением подтверждаемую, но понятную и обозримую картину. В поисках такой нити мы подойдем к делу генетически: условно выделив в буржуазном философском миропонимании
д ве различные духовные формации (или эпохи) - ‘"классическую”
и “современную” - и констатировав несомненный факт эволюции от одной к другой, попробуем охарактеризовать имеющийся
сегодня материал посредством анализа смысла, причин и пара»
метров самой этой эволюции. Речь, конечно, может идти лишь о
том, чтобы установить общий строй идей дфхя понимания и
объяснения новых тенденций философского сознания, наметившихся с конца XIX - начала XX века и ставших на сегодняшний
день типическими, не претендуя на конкретное их объяснение и
толкование.
Называя эти последние “современной буржуазной философией”, мы относим к ней все то в буржуазной философии, что по
исходному своему замыслу является попыткой преодоления классических структур, их критического пересмотра и отказа от них
перед лицом новой проблемной реальности, - будь то неопозитивистская “революция в философии”, объявляющая традиционную философию набором псевдопроблем и бессмысленной
метафизикой, или, наоборот, “новые метафизики” и “новые онтологии” феноменологического, экзистенциалистского или космоло-
гически-мифологического толка; идея философии как “анализа” в
противоположность системосозидаюшим философиям или же идея
философии как выражения “жизни”, ‘‘конкретного”, противопоставляемые прошлым “философиям идей и вещей” (по выражению Э.Мунье); трактовка истории как абсурдно-хаотического
потока, приходящая на смену классическим идеям закономерно-
Классическая и ссб/шиннал ¿¡/¡илдазная философия 373
I о развития и эволюции, или же представление о “духовном строе
эпох”, противопоставляемое связности всемирной истории и идее
прогресса: философии, предлагающие модель философствования,
принципиально отличного от объективного научного знания, на
которое ориентировалась классическая философия, или же
просто иррационалистические и антипросветительские тенденции и явления.
Уже это перечисление, которое можно было бы продолжить,
представляет черты особой духовной формации, требующей
объяснения. Под “классической” же философией мы имеем в виду
совокупность идей и представлений, структур, мысленных
навыков, выработанных послевозрожденческой европейской
культурой из духовного материала философий Бэкона, Декарта
и других мыслителей и получивших завершенную, итоговую
форму у Гегеля, Фейербаха и Конта включительно. Указанное
деление относительно и условно как в содержательном, так и в
хронологическом отношении. Не все, что после Возрождения, -
классика, и не все. что сегодня, - современное. Например, такие
современники Гегеля, как Шопенгауэр и Кьеркегор или, на другом полюсе, - Фурье, явно выпадают из рамок классической
формации, а такие соседствующие с нами в XX веке течения, как
неотомизм, некоторые разновидности натурфилософии, космологий, традиционного позитивизма и философии науки, либе-
рально-прогрессистских идеологий и т.п., не могут, с нашей
точки зрения, быть отнесены к “современной буржуазной философии". Следовательно, при оперировании этим понятием нельзя
упускать из виду то обстоятельство, что в современной действительности остаются живыми и действенными многие чисто
традиционные явления, навыки, формы академической философии, никак не затронутые модернистскими веяниями или же
чисто внешне к ним приспособленные.
С учетом этого вернемся к поиску ведущей нити движения в
нашем лабиринте, раз уж мы решили подойти к делу генетически. Нам представляется, что эволюцию, смещения и изменения
способов философствования по сравнению с классическими,
оформившиеся на сегодняшний день в определенного рода философский модернизм, можно как-то единообразно очертить с точки
зрения весьма радикального изменения в положении интеллигенции в механизме духовного производства в XX веке, характеризуя тем самым представителей этих двух формаций фактически
как определенных (и различных) социальных фигур мыслителей. Конечно, гакой подход не может охватить и исчерпать разнообразия философских содержаний, относимых прежде всего к
самому предмету философии, но зато он содержит в себе принцип некоторой “сквозной связи” разрозненных (по иным показа¬
374 Эбкиафл, аКмИы*. иыНфвыо
телям) частей ребуса, высвечивая в разнородной и трудно
обозримом содержании совокупность сходных выразительных
идей и явлений, узловых симптомальных кристаллизаций мысли
и однородных стилистических ее ходов. А они-то и дают возможность выявить в современной (а с другой стороны, и в классической) буржуазной философии скорее некоторые свойства первичного духовного материала, из которого строятся философские
учения, чем сами эти учения, что и является нашей задачей.
За этими выразительными кристаллизациями и стилистикой
мысли стоит прежде всего од ин важный механизм, всегда д анный
в духовном производстве (и различный для различных эпох),
прослеживанием действия которого можно воспользоваться как
для решения подобной задачи, так и в качестве “смотрового
окошечка” -всей эволюции. Это связанные друг с другом тип
осознавания (или переживания) мыслителем себя в качестве
мыслящего в обществе и в общем ходе вещей существа и тип
конструкции реальности, то есть воссоздания последней внутри
данной схемы, дающей то или иное отношение к реальности, ту
или иную ее “интенцию”. Сознавание духовным производителем
того или иного отношения к продуктам собственного труда (в
плане их места и роли в общем ходе вещей), а также судеб и форм
их сознательной трансляции в культуре (то есть восприятие их
как форм общения) влияет на содержание и характер этих
духовных образований, на сам строй представлений о предмете
мысли, поскольку они производятся в рамках этого отношения.
Точно так же и имплицируемая этим отношением онтология
реальности прослеживается в конкретных представлениях о ней,
что превращает для нас весь этот механизм в достаточно
цельный схематизм, постоянно сопровождающий осуществление
интеллектуального труда и индуцирующий значительные слои в
содержании его продуктов.
Это своего рода исторический формализм сознания, который представляет внутреннее строение интеллектуального труда,
механизм духовного производства на уровне функционирующего
(феноменологического) сознания мыслителя, являясь в то же
время продуктивным моментом познающего сознания, стиле- и
формообразующим фактором его содержаний, одной из содержа-
тельно-структурирующих его сил. Особенно глубокое действие
этот внеиндивидуальный механизм, задающий определенные
проекции мысли (и являющийся в конечном анализе выражением
ситуации ‘ интеллигенция - общество”), производит в содержании
философии, в философских решениях, к которым мыслители исторически приходили (либо в качестве скрытых посылок и допущений принимали), - будь то в вопросе об отношении духа и
объективной действительности, разума и истории, самосознания и
Илаесинеасал и соб/ъемеымл йфшуазнал философия 375
сознания или же в вопросе об отношении рационального и
реального, умопостигаемого и законосообразного и т.д.
Но сейчас нам важно отметить то обстоятельство, что в
некоторых современных изменениях и смещениях философствования, в некоторых его выразительных и устойчиво повторяющихся связках просвечивают как раз изменения (или кризисные
проявления) того исторического формализма духовного производства, который лежал в основе классической философии и был
присущ содержанию, производимому (или могущему в принципе
быть произведенным) в ее рамках. Вернее, изменения в способах
философствования могут быть связным и понятным образом
ухвачены через “смотровое окошко” изменения в формализме
духовного производства. Такой взгляд обладает и тем преимуществом, что ему открывается социально-историческая реальность, стоящая за внутренним формализмом философского
труда и позволяющая его самого рассматривать объективно,
материалистически, а через него материалистически рассматривать и философские содержания.
То, что мы называем историческим формализмом сознания в
духовном производстве и в формах трансляции осознанной
мысли, есть одновременно и внутренний формообразующий,
структурный элемент предметных содержаний философского
творчества и нечто констатируемое вполне объективно, эмпирически вне его, то есть фиксируемое и в философии и в то же
время в формах, поддающихся объективному описанию вне
философии и ее специфического предмета. Мы воспользуемся и
теми и другими фиксациями. О первых мы уже говорили. А вторые подводят нас к изучению объективных источников указанного внутреннего механизма интеллектуального труда, которыми являются: I) социальные структуры духовного производства в известную историческую эпоху; 2) место и роль знания и
сознания вообще в объективных общественных структурах этой
эпохи, в реальных формах жизни и общения людей, в общественном
разделении труда. И те и другие различны в эпохи, соответствующие “классической” и “современной” духовным формациям,
что может быть вполне эмпирически констатировано*.
* Тем не менее, повторяем, они должны изучаться и в объективной и в субъективной форме. Социальные формы осуществления интеллектуального труда,
конкретное положение его в обществе (как и положение личности, воплощающей
его функции, -- интеллигента) всегда так или иначе воспроизводятся на уровне
внутренне-сознательного отношения индивида к условиям, продуктам и последствиям собственного труда, так или иначе интериоризируются, переживаются и т.д
и лишь затем в виде цельной, внутри самого индивида неразложимой схемы
переживания играют конструктивную (а порой, как мы увидим, и деструктивную)
роль в продуцировании духовных содержаний.
376 доклады, аЯшКьи, шиЯе/%выо
Более того, этот реальный стержень своего развития, кажущегося чисто идейным на поверхности, есть тот посредствующий
момент, через который в философию приходят самые широкие
социально-экономические, классовые, идеологические и т.п.
влияния, позволяющие более определенно провести различие
между классической и современной буржуазной философией в
соответствии с различием между обществом эпохи классического
капитализма, эпохи свободной конкуренции и современным
государственно-монополистическим капитализмом. Этим последним различием мы и будем руководствоваться в своем анализе, и
притом прежде всего с точки зрения связанного с ним изменения
реального функционирования духовного производства в современном обществе, изменения способа выполнения в нем интеллектуального труда и положения интеллигенции. Такой подход
делает марксистскую критику современной идеалистической
философии разделом материалистической теории закономерностей духовных образований.
Классическая философия
Буржуазная философия классического периода представляет
собой удивительно цельное образование: во всех своих проявлениях она как бы отлита из одного куска, пронизана одним
каким-то умонастроением и пафосом. “Мыслительное пространство”, общее поле проблем и мысленных операций, внутри которого развертывались основные мировоззренческие столкновения,
борьба материализма и идеализма, было в высшей степени связным, гомогенным, характерологически устойчивым. Если сводить его к одной какой-нибудь формуле, то можно сказать, что в
нем с классической полнотой и всесторонностью (вплоть до
ставших позднее знаменательными антиномий, скрытых или
явных) оказалась выраженной и проанатомированной позиция
сознательного человека в мире, или - еще точнее - вообще человеческой сознательности в качестве свободного и органического
фактора жизни, общественного устройства и миропознания,
соразмерного с атомарным, самосознательно и разумно действующим индивидом и неотъемлемого от наго. В этом основная
внутренняя идейная форма всей классической философии, в этом
же источник ее непреходящего значения и влияния. В пределах
такой абстракции (а в определенном срезе анализа она всегда
имеет место) элемент классических представлений содержится
в любом философском рационализме, в том числе и в марксизме.
Важно отметить, однако, что в самих основаниях классической философии лежал некоторый парадокс, скрывалось некоторое противоречие, которое позднее, в конце XIX - начале XX
киаееиге&саА и современная ¿ц^ъжцазная философия 377
зека, в эпоху острых общественных катаклизмов, и выплеснулось
наружу в кризисных формах. Этот кризис некогда цельного
философского сознания (распад единого проблемного поля и
характерологически устойчивого формализма мышления, патологическая деструкция самого языка, на котором говорили и с
помощью которого достигали взаимопонимания философы)
обнаружил, что многое в содержании классических философских
построений и в самой их связности было продуктом вторичной
идеологической рационализации переживания духовным производителем своей деятельности, рационализации форм субъективной
уверенности, которые порождались и оправдывались вполне конкретной, исторически преходящей ситуацией, но вовсе не были
такими невинно целостными и здоровыми, каким представляется
теоретическое “мыслительное пространство’' классики. Сами же
социально-исторические отношения, прямые или косвенные
ссылки на самоочевидность которых поддерживали это величественное здание, тоже, как выяснилось, не обладали качеством
естественности, онтологической непреложности, а скорее казались таковыми в силу их превращенное™ в классическом видении (и, более того, многие из этих отношений с тех пор просто
исчезли). Последствия данного факта для европейской духовной
культуры, оказавшейся в XX веке в совершенно новой ситуации,
но так и не порвавшей с буржуазными предрассудками и традициями, неисчислимы.
Все это требует, чтобы вышеочерченная основная внутренняя форма - так сказать, “телос” традиционной философии, -
была выделена в качестве самостоятельного объекта рассмотрения и подробно проанализирована. Естественно, мы будем при
этом уделять основное внимание прежде всего тем ее моментам,
которые как раз и оказались в последующем ее “точками плавления”, горячими очагами рождения и роста новых или прямо
противоположных идей в современной философии.
* * *
Классическое Просвещение и рационализм воспроизводили
объективный мир прежде всего в терминах деятельности, точнее
- в формах некоторого деятельностного бытия, каковое проявляет, “ведет себя” аналогично тому, что создается человеком на
рациональных основаниях1. Для них не существовало ничего
1 Деятельность при этом фиксируется и понимается через сознание, то есть ровно в
той мере и в том виде, в каком она выступает в созерцательных данностях
сознания, являющихся планом и мотивом самой деятельности и ее продуктов. Это
отождествление деятельности и сознания есть одно из базовых “мысленных
уравнений” всего классического философствования, в том числе и домарксовского
материализма. Какая бы мера активности не приписывалась при этом сознанию,
378
доклады, сЯ&Лш, инЯфвыо
просто данного, неизвестно откуда взявшегося и по традиции
принимаемого, никакой натуральной видимости явлений и
отношений. Любую данность они пытались разложить и разгадать, растворяя ее в живой деятельности, а затем воссоздать ее в
терминах внутренних связей происхождения и механизма проявления, элиминируя всякие иные, подобным путем не прослеживаемые связи и зависимости. И такое проведение через деятельность было для них критерием любого постижения предметов'.
Например, в классической политэкономии анализ “национального
богатства” осуществлялся в терминах труда, анализ знания в
гносеологии - в терминах познания как отношения между субъектом и объектом, то есть и в том и в другом случае в терминах
какого-то сознательного и субъектом контролируемого деятельного отношения к объекту (или продукту). Всеобщие же формы
самой действительности фиксировались как проступающие в
этой деятельности. Мир представлялся в качестве хотя и несоизмеримой по масштабу с самим человеком и его внутренним
миром, но вместе с тем соразмерной его мысленному действию и
наблюдению рациональной конструкции, в качестве объективного целого, самоупорядоченного, самовоспроизводящегося и
законосообразного.
Основное представление классики, с которого, как показал
уже опыт античности, вообще начинаются философия и наука, -
это идея внеличного естественного порядка, бесконечной причинной цепи, пронизывающей все бытие, трансцендирующей
помещенного в него человека и обладающей при этом рационально постижимой структурой. Это образ мира “как он есть",
независимо от человека и человечества, живущего своей естественной жизнью, несоизмеримой с возможностями человеческого вмешательства и решения. Но связь всего того, что об этом
мире можно сказать, с деятельностью сохраняется и здесь.
Космическая организация, мировой порядок вовсе не мыслились
в качестве чего-то абсолютно враждебного всеобщим формам
человеческой деятельности. Уже начиная с Возрождения для
пояснения постижимого строения предметов природы пользуются чаще всего образом “артефакта” - искусственного произведе¬
все производимые им преобразования остаются в рамках умозрительного отношения к миру. Самодостаточное и самостийное тело чувственно-предметной
общественной практики, включающее сознание в качестве одной из своих сторон,
функций, здесь не выделяется особо. В этом смысле созерцательным является не
только домарксовский материализм, но и идеализм.
' Заметим, кстати, что дело здесь не только в определенном идеале познания, но и в
выполнении познанием, как оно практиковалось, определенных социальнокритических и просветительских задач. На это чепсо указывал К.Маркс, анализируя социальную и экономическую мысль данной эпохи (см. К.Маркс, Капитал, т.1,
М., 1961, стр. 98).
/¿Аасеинескал и сов/геленнал ¿Щъжцазная философия 379
ния рук и ума человека, выступающего в качестве модели для
понимания действия природы, продукты которой уподобляются
продукту искусства. Гассенди, например, прямо утверждал, что
природные вещи исследуются нами так же, как вещи, творцами
которых мы являемся. Более того, широкое распространение
получила идея, согласно которой мир продуктов человеческих
рук и ума, по сути дела, есть единственный познаваемый мир,
что до конца постижимым для нас может быть лишь то, что мы
сами делаем и последовательно развертываем в непрерывном
поле этого делания.
Здесь не место разбирать все импликации данного принципа. Важно лишь уяснить роль его для утверждения рационального (или рационально постижимого) характера тех естественных,
независимых от человеческой деятельности законов жизни,
которые приписываются предметам объективной действительности. Фактически идеей порядка, простого и рационального
устройства мира одновременно полагается непрерывность и
однородность контролируемого субъектом опыта относительно
этого мира. Из онтологии мира исключаются посторонние
(“сверхъестественные”) и инородные силы, силы, неизвестно
откуда взявшиеся или не поддающиеся объяснению, однород ному с объяснением других сил. Иными словами, отказывается в
существовании силам, нарушающим непрерывность контролируемо воспроизводимой конструкции, охватываемой одним (и из
одной точки) взглядом. Для образа реального физического
следования такая рациональная упорядоченность мира означает,
что действие в этом следовании вытекает из причины с такой
необходимостью, с какой из сущности треугольника вытекает
равенство углов двум прямым. Отсюда и организация опытного
исследования действительности подобна той очевидности, с какой
человек извлекает последствия из своих собственных созданий и
максимально демонстративного их развертывания: она основана
на рациональных аргументах и преобразованиях данных, интуиции, дедукции, индукции и т.д.
Причинно-следственное объяснение явлений действительности совпадает с аналитически полным и ясным пониманием
содержания понятий и представлений, фиксирующих эти
явления, и никак не отличается от него. Классики буквально
одержимы идеей простого, рационального устройства мира,
вытекающего (или подобного вытекающему) из некоторых
очевидностей ума, вовлеченного в деятельность созидания предметов и порядков.
Конечно, они разрабатывали этот образ прежде всего со
стороны гносеологических и онтологических проблем (а не
физических описаний). Более того, уже со времен Декарта суще*
380 Яокми/ы, аншнш. имОфвью
ствовала идея, на которой покоилось - и с помощью которой
было развернуто в целую технику особого, философского исследования - столь значимое для рационализма допущение, а именно “соответствия между порядком вещей и порядком идей”. Идея
эта давала, наконец, определенный теоретический способ обращения с опытом относительно мира, выявление простой упорядоченности которого считалось предметом и задачей познания.
Это была следующая, выдвинутая Декартом мысль: мы познаем
внешний мир при условии, что в себе самих, в своем сознании
схватываем ту же самую познавательную операцию, с помощью
которой он постигался. Знание содержания (сущности) исследуемого объекта опирается на внутреннее воспроизведение и
постижение схемы представления предметности этого объекта в
данностях сознания1. Это представление перестраивается и уточняется (схема же всегда уже мыслится как существующая в
сознании), будучи рассмотрено как бы из некоторого абсолютного внутреннего центра, некоторого естественным образом
данного пункта “безусловной самоочевидности”, откуда предмет
и акт мысли, объект и субъект видятся как нечто тождественное
(таким путем, собственно, сама схема и выделяется). Позднее эта
абсолютная инстанция и получила наименование “самосознания”.
В классической философии довольно быстро оформилась и
стала устойчивой конструкция и процедура “чистого сознания” или
рефлексии, самосознания, охватывающая - с определенными
вариациями - и линию эмпиризма и сенсуализма, идущую от
Бэкона и Локка. Рефлексия представлялась как философски
репродуцированный способ и путь постижения объективного,
вне сознания лежащего бытия. Предполагалось, что, выделяя
рационально очевидные образования в составе внутреннего
опыта, мыслящий индивид одновременно усматривает и основные, фундаментальные характеристики мира “как он есть”.
Конечно, отчетливое выражение эта версия познания получила
прежде всего в классическом рационализме (то есть в учениях
Декарта, Спинозы, Лейбница, Мальбранша) и немецком идеализме, однако в специфическом виде она присутствовала и в
эмпирико-сенсуалистических направлениях классической философии, представители которых полагали, что постижение мира в его
1 Продолжая эту линию» Спиноза разъяснял, что сущность круга дана (и одновременно постигается) актом его вычерчивания. У Канта уже более завершенная формула: содержание, сущность предмета есть правило его образования, конструкции.
Предельным образом такой связки постижения субъектом мира с постижением им в
себе мысли об этом мире является божественный тгеИесШэ агсЬе!уриз (где воспроизведение предмета совпадает с сущностным формированием воспроизводимого).
Этот образ пронизывает почти всю классическую эпистемологию и теорию познания, все попытки обоснования методов и форм объективного познания.
Классическая и еоб/ьеменная <%*Ъжцазная философия 381
независимости от сознания (или вообще философски значимое
высказывание о нем) достигается выделением из общего состава
переживаний “истинных”, “чистых ощущений”, фиксируемых и
удостоверяемых с помощью рациональных процедур. Эмпирики
и особенно материалисты лишь избегали при этом метафизических допущений и трансценденталистской технике анализа противопоставляли опытно-эмпирические процедуры “очищения”
сознания, исключая, например, какие бы то ни было формы
сверхэмпирического знания или тождественность логических
оснований эмпирическим и т.д., что создало довольно значительную разницу в соответствующих теориях познания, четкие
разграничительные линии между материализмом и идеализмом в
гносеологии и натурфилософии (ср., например, Гольбаха и
Гегеля).
Но и в том и в другом случае анализ тяготеет к образу
“чистого” и “универсального сознания”, преследуя цель десубъекти-
визации внутреннего опыта, обнажения его общезначимого, воспроизводимого, разумно контролируемого содержания, которое
именно вследствие этого считалось объективным. В этом, в частности, коренное отличие классического понимания рефлексии от
того ее истолкования, которое введено в обиход буржуазной философией конца XIX - начала XX века, сделавшей главный акцент как раз на ресубъективизирующей функции рефлексивных
актов, на фиксации с их помощью неразложимой наличной
целостности внутреннего переживания.
Умозрительной посылкой, лежавшей в основаниях классической конструкции абсолютного самосознания, были представление о гармонии между организацией бытия и субъективной
организацией человека, мысль о том, что самой этой организацией он укоренен в бесконечном миропорядке, имеет в нем
гарантированное место (повторяющийся акт самосознания или
же выявления “чистых,\ ‘‘истинных” ощущений в данностях
сознания есть знание этого, а точнее, - определенный способ
бытия человека, отличный от эмпирически случайного и
“темного” существования). И поэтому главная цель всей конструкции - возвращение в абстракции к пункту естественной
данности некоторого “очевидно-истинного положения дел”,
совпадения мысли и предмета и воссоздание на этой основе
стихийного, спонтанного процесса деятельности, но уже как
самостоятельно контролируемого, целенаправленного, развертывающегося в пространстве неэмпирического, переплавленного
рефлексией сознания (и соответственно - бытия).
Это есть “чистое, универсальное сознание” и одновременно
онтологическое представление. Здесь не только предполагается,
что глубоко осознанный интеллектуальный акт равносилен
382 Ъоклафл, аНеиНш. ин&е/гйыо
схватыванию умопостигаемой связи вещей (скажем, природной),
но и допускается принципиальная сводимость любого объективно существующего и объективно функционирующего содержа*
ния продуктов человеческой жизнедеятельности к выражению
того или иного состояния “чистого сознания”, объективная
(от человека независимая) работа которого в этом выражении
поддается преднамеренно сознательному и контролируемому
воспроизведению и повторению. Тем самым сознанию, по сути
дела, приписывается телеологическая структура. Это свойственная классическому образу мысли онтологическая посылка
конкретного анализа и причинно-следственного объяснения
предметов, онтологическое допущение, лежащее в основе выработки о них знания. Отсюда же, кстати, и столь типичная для
классики проблема перевода любого процесса, в котором
участвует человек с его сознанием, в разумную форму.
В подобной конструкции самосознания отчетливо обнаруживается действие следующих важных для нашей темы идей и
допущений:
1) Классическая философия совершенно явно предполагает
абстракцию способности осознавания, рассматривая эту способность в предельном, мыслимо возможном, чуть ли не божественном виде. Создает ли человек познавательные объекты или
производит знаки, устанавливает ли общественные отношения с
другими индивидами или совершает нравственные деяния, он,
согласно классической философии, везде и в любой момент
способен самосознательно воспроизвести источник, основу,
побудительные мотивы и механизм своего действия.
2) Раз действует такая способность, то предполагается,
следовательно, полная прозрачность субъект-объектного отношения и его транслируемых в культуре (как материальных, так и
духовных) продуктов для мыслящего индивида1. С одной стороны, в сознании нет ничего такого, что не поддавалось бы переплавке самосознанием; все содержания, состояния и слои
сознания воспроизводимы полностью и без остатка на уровне
самосознания, могут быть охвачены и пройдены одним непрерывным движением “я” и затем уже удерживаемы как контролируемо функционирующее образование, как конструкция. С
другой стороны, осознать что-либо данное в сознании, то есть
понять это данное в качестве принадлежащего его “естественной
организации”, значит достигнуть высшего знания о бытии “как
оно есть”. Бытие открывается в данности сознания и в своей
независимости от последнего является именно таким, каким оно
1 Сам субъект здесь фигурирует лишь в качестве абстрактно-божественного модуля
универсальной перцепции, который сам не имеет собственной плотности, “тела”.
Это просто чистая способность сознавания, взятая в предельном виде.
Классическая и еов/шишмя Лфщазиал философия 383
осознается. Сознание, репродуцированное рефлексией, и есть
“как есть” бытия - таково здесь мысленное уравнение классической философии, которое ориентировало в ней все операции
над сознанием и вообще над человеческой деятельностью, осуществляющейся с участием сознания. Оно означало как то, что
все глубины мировых связей прозрачны, доступны для самосознающего субъекта, взгляд которого простирается в единообразную и непрерывную бесконечность этой “вселенной объектов”,
не встречая никаких принципиальных препятствий для универсальной познавательной перцепции1, так и то, что объективно
сущее (будь то скрытые от непосредственного наблюдения
свойства природных объектов, или значения знаков, или содержание устанавливаемых между индивидами отношений, предметы потребностей, механизмы связей идей в психике и т.п.) есть
выполнение понятого, находится в одном пространстве с некоторым сознательным к нему отношением. Отсюда и эссенциа-
лизм классического сознания, особенно устойчиво проявлявший
себя в понятии заданной “сущности человека”, отсюда же целый
веер представлений, постоянно отсылавших анализ к некоему
“первородному” (“первоначалу”, “первопричине”, “первослову”
и т.п.), прозрачно выступающему в рефлексивно воспроизводимом “настоящем”. В наиболее последовательных вариантах
классической философии реальность - это независимое от человека целое, и одновременно она есть инобытие, alter ego рационального, континуум внеположенных человеку умопостигаемых
связей, соответствующих соотношению мыслительных актов,
уже осознанно воспроизведенных и реконструированных абсолютным самосознанием, рефлексией. Поэтому установление или
существование реальных отношений, которые потенциально -
как “сущности” - уже даны, зависит здесь от развитости или
неразвитости самосознания, от упражнения способности созна-
вания, в принципе беспредельной. Эта естественная прозрачность отношения к “сущностям” может быть лить естественно
затемнена невежеством, страстями или обманом, “неистинными”
социальными институтами или дефектами психофизиологического аппарата отражения.
3) Изображение жизни сознания, которое давалось конструкцией самосознания и вытекающими из последней онтологическими посылками, оказалось и лоном отработки и обоснования рациональных форм мысли, форм объективного знания,
иными словами, реальным вкладом классической философии в
дело становления и развития современного мышления. Это
1 Это относится и к случаю, когда объектом является внутренний мир субъекта:
индивид прозрачен для себя в сознании.
384 2)аиафл, аЯаЛьи. шиЯфбью
относится одинаково и к трансценденталистским (например,
Кант, Гегсль) и к эмпирико-сенсуалистским (Юм, французские
материалисты) ее вариантам. Сам этот способ обращения с
опытом и с содержаниями сознания (которые зафиксированы
средствами человеческого природного и знакового аппарата
отражения), разложения их на элементы, воссоздаваемые и перестраиваемые самосознательно (в осознании ли актов мысли или
же душевных мотивов и движений и т.п.), переводил различные
слои и содержания на уровень рационально расчленяемых и систематически развиваемых форм мысли. Такой подход предполагал определенную точку отсчета, помещенную одновременно и
вовне, “над'’, в абсолютной перспективе, и в открывающемся
самосознанию бытии. Субъект абстрактно идентифицирует себя
с некоторой абсолютной точкой зрения и с этой позиции как бы
извне обозревает и свои состояния и внешнее ему бытие. Именно
в этой линейной перспективе происходит (и правомерно) воспроизведение и расчленение данных сознания на уровне понятия и систематической объектной развертки знания. В этом же поле
получалось определение знания как формы общения, как трансляции осознанной мысли, воссоздаваемой другим субъектом в тождественных и универсальных условиях. Таким образом, мы имеем дело
с выработанной философией позитивной теоретической моделью
познавательного процесса, на исследовании и осмыслении которой
отрабатывались сами реальные формы объективного познания.
В целом всю классическую философию можно характеризовать как философию самосознания и рефлексии (причем рефлексии,
направленной на выявление объективно -всеобщего). Введенные
ею конструкции породили определенный стиль философских
рассуждений, который не ограничился одними лишь рамками
теории познания, но вообще распространился на анализ всех
тех сфер, где человек в принципе способен предпринимать то
или иное действие - социальное, экономическое, культурное,
нравственное и т.д. - на рациональных основаниях1. Это важно
1 На этой основе в классическую эпоху были разработаны специфический аппарат
и техника философского мышления, особые способы аргументации и доказательства, отличные от конкретно-научных и характеризующие именно философский
подход к опыту. Дело не только в том, что онтологические представления, посылки
и допущения получались через представления о сознании, о самосознательно контролируемой деятельности и что в этом смысле в классической философии мы всегда имеем дело с онтологией сознания. Дело в том, что сами способы философской
аргументации и доказательства оформлялись вокруг выбора в сознании некоторой, хотя и получаемой путем реконструкции, но абсолютной точности, первородно и аподиктически свидетельствующей о всякой истине. Это та почва, которую до
сих пор не покинула вся европейская буржуазная философия. Сама разработка
техники философии именно как философии самосознания оказалась источником
/¿мссинеасая и современная ¿¡/¡ьхи/азная философия 385
учитывать, ибо посылки и представления рефлексивной философии обычно с трудом прослеживаются в эмпирико-сенсуалистических ответвлениях классических теорий познания (напомним, сколько трудностей доставила интерпретаторам эмпиризма
локковская идея “рефлексии”) и приписываются одному только
трансцендентализму. Но стоит только присмотреться к связанному с традицией эмпиризма социальному мышлению эпохи,
взяв для анализа ее социальных философов, экономистов,
антропологов, моралистов, психологов, представителей теорий
“естественного права”, “общественного договора” и т.д., как мы
увидим, что Руссо и Кант, Тюрго и Гегель, Кондильяк и Фихте
являются мыслителями одной формации. Здесь даже более
отчетливо, без метафизического и теологического тумана, проявляется основная посылка рационализма: действительные отношения суть реализация рациональных отношений сознания или
“рационально понятого интереса”. Общественное устройство -
продукт общественного договора, знаки языка, денежные эквиваленты продуктов труда и т.п. - принимаемые по соглашению,
произвольные изобретения человеческого ума. Иначе говоря, и
здесь действует основная идея самосознательного воспроизведения и контролируемого повторения стихийного процесса,
который и до этой перестройки естественным образом содержал
некоторое “истинное положение дела” (так сказать, максимально постигаемый предмет, “сущность”), открывающееся предельной способности сознавания.
На уровне теоретического анализа указанные объекты
(социальное устройство, знаки языка, экономические символы
продуктов труда и потребностей и т.д.) принимаются, следовательно, за прозрачные вещественные одеяния, выполнения
“чистого сознания”, целиком и непрерывным образом удерживающиеся в рамках самосознательного отношения к ним их
агента и носителя. Например, прозрачно отношение носителя
языка к языку, и в лингвистике этим пользуются как орудием
теоретического анализа языка, представляемого в качестве
простой рациональной системы. Такова же в классических представлениях экономическая система как система потребностей и
производства предметов их удовлетворения. Аналогичным
образованием является и устойчивый концепт целесообразно и
целенаправленно развертывающейся душевной жизни, который
надолго определил идейный тип психологических учений, педагогики и моралистики, не говоря уже о том, какой отпечаток он
наложил на все классическое литературное мышление и его
сакрального мифа о ней как о “первофилософии”, как единственной аподиктической, самое себя обосновывающей дисциплине.
386 ¡¡оклады, аЯшйш, имЛрА»
изобразительные средства. В свою очередь, в классическом ассо-
цианизме (как и в “идеологии” или ‘‘учении об идеях” Кондильяка - Деспот де Траси) господствует совершенно сходная по своей
идейной стилистике манера рассматривать ассоциации как
выполнение понятого.
Действие посылок и утверждений, лежащих в основе классической конструкции самосознания, или рефлексии, мы обнаруживаем и в том типе антропологических исследований, который
сохраняется вплоть до самого начала XX века и в рамках которого миф, ритуал, системы магических воззрений и т.д. выводились из проекций актов понимания индивидом содержаний и
образов своего сознания. Столь же закономерным образом в
суждениях об обществе и истории, в миссионерских идеях социального проектирования появлялась операция подстановки просвещенного или же постепенно просвещающегося индивида на
место стихийного исторического субъекта. В этом смысле критика, например, Фейербахом религии и анализ ее происхождения
оставались полностью в пределах классических операций (в
отличие от более поздней критики Ницше). В этих же пределах
Гегель изображал такой акт замещения не как акт индивидуального понимания и просвещения, а как акт, совершаемый мировым историческим процессом развития. Отсюда, в частности, то
однолинейное представление о движении истории, которое свойственно классике.
В определенном смысле характеристика философии этой
эпохи как философии самосознания дает описание некоторых
общих оснований всей классической культуры, ибо совершенно
единообразные посылки обнаруживаются не только в области
профессиональной философии и науки, не только в теоретической социальной мысли, но и в идеологии в целом, в непосредственном политическом и юридическом сознании, в морали,
искусстве, литературном творчестве, в формах организации и
функционирования культурно-исторических механизмов хранения и передачи культурных продуктов и т.д. Причем сами реальные философские прозрения и абстракции настолько срастаются
в культуре с внешним идеологическим их оправданием и ассимиляцией в общественных целях (это в соответствующем направлении формировало и сознание философов о своем собственном
деле), что кажутся - вместе с ними - абсолютными и неотъемлемыми чертами как предмета философии, так и культуры как
таковой. Такую цельность и сращенность им, безусловно, придавали совершенно определенные социальные основания, общие
для эпохи в целом.
* * *
Кмихиьеекая и современна* Лфщазнлл философия 387
Классическое буржуазное общество, основанное на свободном рынке и конкуренции, характеризуется весьма специфическим соотношением между действием экономических законов и
механизмами сознания людей, особым положением и особой
ролью знания и сознания вообще в его объективных структурах.
Его нормальное функционирование и воспроизводство соответствующих социальных отношений достигаются “свободной”
игрой экономических механизмов и интересов, закрашенных
отношениями собственности, обеспечиваются самоупорядочи-
вающейся стихией рыночной конкуренции. Организация сознания людей и направленное воздействие на него не имеют при
этом сколько-нибудь существенного значения, не используются в
массовом масштабе для организации самого общества. Атоми-
зированные агенты социально-экономической жизни связаны
между собой и с общественным целым через свой индивидуальный, “разумный”, “рационально понятый” частный интерес и
способность суждения как таковую. В этом обществе отсутствуют и развитые общественные применения знания, отсутствует
какая-либо система социальной его организации вокруг тех или
иных практических целей. Производство знания остается в этом
смысле на периферии реального жизненного процесса, практикуется обществом скорее всего в качестве “роскоши”, а это означает определенную высвобожденность самого агента познания.
Поэтому свободная, беспрепятственная духовная деятельность,
суверенность мышления кажется чем-то естественным, вытекающим из истинной природы человека.
В рассматриваемый исторический период это представление
имеет и более широкое социальное основание. Оно задается не
только особыми условиями и формами существования специализированного духовного производства, но и тем обстоятельством,
что в эпоху становления и стабилизации капиталистических отношений социальное поведение и историческое действие вообще
принимают вид свободной манифестации “чистого”, беспредцо-
сылочного сознания, подчиняющегося лишь критериям индивидуальной рациональности. Личная автономия, суверенность,
самим индивидом осуществляемый рациональный контроль
становятся всеобщей формой поступков (такова, по выражению
Энгельса, универсальная “полотико-юридическая видимость эпохи”). Общественные структуры, с одной стороны, запрашивают
“разумного индивида” (содержат в себе своего рода презумпцию
способности суждения), а с другой - еще не предполагают никакой направленной организации сознания, оставляют индивидов
на уровне стихийного понимания своих интересов и положения,
лишь в конечном итоге, суммарно кристаллизующегося вокруг
решающих экономических и классовых задач. Иными словами,
388 Зокми/ы. айеиКш, ишЯербью
предполагается, что каждый человек способен “своим умом”
дойти до понимания того, как ему следует поступать, и нет необходимости специально формировать, кодировать, стереотипизи-
ровать его сознание.
Таким образом, в определенном смысле само общество произвело абстракцию способности сознавания, которой философия
рефлексии придала мыслимо возможное, предельное значение.
Она подкреплялась и естественной социальной и культурной
выделенностью в нем интеллектуала, четкой отделенностью
ученого от обыденного сознания, вообще от “остального мира
речи”'. Но в связи с этой выделенностью мы сталкиваемся уже с
особой социальной формой существования самого агента познания в данную эпоху буржуазного развития, с наличной в ней
социальной структурой духовного производства.
Дело в том, что в период возникновения и оформления классической культуры духовное производство покоилось на весьма
узкой социальной базе. Оно организовывалось в формах свободных профессий и включало весьма ограниченный круг лиц,
обладающих досугом и достатком для осуществления интеллектуальных функций и превращающих последние в свою монополию. В рамках такой монополии, исключавшей из своего круга
широчайшие массы людей, и осуществлялось идейное выражение
происходящих в обществе реальных процессов: придание им
идеальной формы, разработка сознательного идейного языка
фактических программ жизни и действия, нравственных состояний и идеалов людей, потребностей и интересов борющихся в
обществе классов и т.д. С другой стороны, связь такой интеллигенции с господствующим классом была достаточно вольной
(или “неорганизованной”), что, в свою очередь, и дальше выталкивало ее на специфическую роль некоего парящего над
обществом и миром универсального сознания-медиума, через
который прозрачно проходит все остальное (кроме собственного
положения и природы), на роль всеобщей совести общества и его
всеобщего чувствилища, в котором сходятся все нервы чувствования остальных частей общественного организма, лишенного
без него и голоса и зрения.
1 Лишь гораздо позже» в XIX веке, у него мог возникнуть вопрос: не есть ли я сам
тоже массовидный субъект? Деятели же классической культуры никак не могли
считать целью своего интеллектуального труда и жизни достижение и сохранение
самодеятельной и самобытной индивидуальности - она сама собой разумелась.
Уже самим тем фактом, что они занимались познанием и исследованием, утверждались их индивидуальность и свобода по отношению к государству, общественным структурам, массовым верованиям и традициям. Им вполне достаточно было
заниматься позитивными задачами познания, которым они предавались со всей
страстью первооткрывателей.
Клае/теекая и со£/мм*ншгя бц/икцазмл фиманрия 389
Но как раз в основаниях этой ситуации духовного производителя, очерченной как реальной ролью знания и сознания в
данном обществе, так и наличной формой социального существования интеллигенции, и лежит то парадоксальное обстоятельство, то противоречие, о котором мы говорили в самом
начале. Под влиянием своеобразной его концептуализации
(которая вместе с действием указанных социальных условий
оформляла у духовного производителя соответствующую схему
выполнения интеллектуального труда) здание классической
философии окончательно достраивалось, структурировалось
дальше и глубже, пронизывалось и дальнейшими дополнениями
к тем внутренним концептуальным связкам, вокруг которых
вращается ее мысленный мир. Этим обстоятельством является
фактический социальный разрыв мышления и практически-
исторической действительности, вполне реально ощущаемый с
самого начала становления и формирования буржуазного
общества, но вошедший в его философское самосознание в перевернутом, превращенно-косвеном (и поэтому лишь анализом выявляемом) виде.
Действительно, согласно рационалистической философии,
человек способен разумно строить свое поведение и общественные
отношения, сознательно воспроизводя их основу и “истинный”
механизм. Но капиталистическое развитие ежедневно и ежечасно
показывало, что реальный исторический процесс не подчиняется
рациональным схемам, обладающим внутренней достоверностью и
гармонией дня сознания, что он стихийно вырывается из-под их
контроля, заставляя испытать опыт отчуждения рационально
развиваемых форм сознания индивидов от действительного,
реального нравственно-социального порядка, устанавливающегося в результате их действий.
В свете принятых основных посылок философии самосознания вполне законен поэтому следующий недоуменный вопрос:
почему мир не ладится, никак не воплощается в форме разумной
организации; почему самосознательное суждение, обладающее
онтологической непреложностью, не имеет тем не менее власти
над реальностью?
Проблема ситуации разума, острое переживание разрыва
духа и действительности наложили отпечаток на всю классическую культуру и особенно на ее зрелые форму. Эта культура
как бы надстраивается над ними, они лежат в самой ее сердце-
вине - настолько, что Гуссерлю, мыслителю XX века, вращавшемуся в совсем иной, казалось бы, духовной атмосфере,
390 2)йкхафя, алеиЯьи. иыНфЛыо
связь разума и действительности все аде представлялась
“мировой проблемой”, “загадкой всех загадок”1.
Можно сказать, что к середине XIX века классическая философия смогла сохранить свою цельность, свои основные типологические характеристики лишь потону, что она особым образом
и на особых основаниях (с той поры исчезнувших) “отмыслила”,
“отыграла” данную проблему, сумела развить совокупность
идей, позволявших до поры до времени исключать ее сознательную, логически последовательную формулировку. Но сами эти
идеи носят на себе ее след, являются ее косвенно-символической
переработкой и без нее не были бы тем, чем они были в своей
внутренней связи и механике сцепления. Факт разрыва духа и
действительности как характеристика ситуации “мыслителя”
есть собственное, хотя и подавленное переживание философии
самосознания, которое в значительной мере лишь проясняется,
разглашается или высвобождается современными философскими
концепциями, порожденными “эпохой кризиса”. Без анализа
классической философии последовательное критическое исследование этих концепций попросту невозможно.
Исходное историческое, а тем самым и онтологическое
переживание, вокруг которого окончательно оформляется классический образ мысли, глубоко двойственно, амбивалентно: это
и патетическое чувство естественной упорядоченности бытия,
рационально постижимого устройства мира и простого порядка
в нем, существующего независимо от человека и его сознательного вмешательства, но соразмерного самым глубоким актам его
ума и его отношению к себе (старая идея рационализма, подтвержденная опытом восходящего буржуазного развития), и
вместе с тем это и ощущение враждебности, “антиидейности”
косных вещественных сил, на деле господствующих в действительности, ощущение трагической стихийности социальных
процессов. Если это противоречивое переживание не получило,
как мы говорили, прямой концептуальной фиксации, то лишь
потому, что в зрелых формах классической философии присутствуют две основные, восполнительные, компенсаторные идеи,
которые прикрыли, “отмыслили” фактическую разорванность
миро- и самосознания (и, следовательно, имели ее своим источником): идея “разумного” в своих запредельных, сверхчувственных
и абсолютных основаниях (или “провиденциально разумного”)
бытия и идея индивида, способного возвыситься до абсолютного
мышления, воспроизвести и удержать в своей духовной организации (как в некоторой привилегированной монаде) все сложное
устройство мира. Эмпирическое бытие и эмпирический мысля¬
1 Цит. по K.Lowith. Zur Kritik der christlichen Überlieferung. Stuttgart, 1976.' S.270.
Классическая и современная &фщазная философия 391
щий индивид оказались сопряжены этими идеями во времени в
надындивидуальной исторической перспективе. Индивцпу
отведаю совершенно четкое место в пронизанном причиннотелеологическими цепями мировом прцессе, реализующем во
времени свое гуманистическое предначертание и свой гуманистический замысел".
В этом смысле идеализм, скажем, гегелевского типа, предлагает совершенно особое понимание того, что значит “сознательное
отношение к миру”. Обладая глубоким чувством объективности,
Гегель в отличие от представителей плоского, рассудочного
рационализма Просвещения прекрасно видел, что реальные,
фактически устанавливающиеся формы жизни и бытия, хотя они
и осуществляются с участием сознания, несоразмерны со способностью понимания отдельного, чувственно-конкретного индивида, с ого эмпирическим отношением к себе. Добиться этой
соразмерности сознания как деятельного элемента общественных
структур и процессов с индивидуальным его агентом, с некоторым
отправным естественно-прозрачным пунктом его отношения к
себе и к миру было для него сознательной теоретической проблемой. Именно решая ее, Гегель и пришел 1) к спиритуализации
порядка, законосообразности в мире (введя тем самым антиномию между сознательно-объективированной стороной всякой
предметности и ее материальной, независимой от сознания стороной, антиномию, навсегда оставшуюся в буржуазной мысли);
2) к допущению абсолютного (и беспредпосылочного) сознания,
возможности “мыслить абсолютным образом”, индивидуально разделяя и переживая всемирно-историческую мудрость, и быть тем
самым чем-то вроде “абсолютной монады”, идеально воспроизводящей в себе конечные основания миропорядка (заметим, что
для тогдашнего общества этот образ был вполне реальной интуицией, подкрепляемой объективными иллюзиями эпохи, коренившимися в особом общественном положении интеллигенции, в
существовавшей социальной форме выполнения ею интеллектуальных функций). Гегелевская философия предполагает, что
отчуждение духа и реальности может быть преодолено посред¬
1 Наиболее полно и последовательно эти идеи представлены в концепции Гегеля»
имевшей достаточно четкий и более открыто выраженный ситуационно-
исторический смысл и разрабатывавшейся в качестве прямого ответа на главные
политические события эпохи. Именно у Гегеля разработка основных философских
понятий впервые приобрела характер осознанной идеологической деятельности,
была, - одновременно с философской работой - реализацией претензии существовавших общественных отношений и обслуживавших эти отношения форм сознания
на абсолютность, окончательность и всеобщность. Характернейшим продуктом
такого философствования и явилось представление о “провиденциальном
господстве мыслей в истории*, искусно приспособленное к тому, чтобы “снять*
мучительное взаимоотчуждение духа и действительности.
392 Иыиафл, ангиньи, ишЯе^ыо
ством формирования особого типа индивидуальной сознательности: мы страдаем, терпим постоянный ущерб от реальности
потому, что мыслим неразумно, не отсекаем, с одной стороны,
рассудочных ‘‘фантазий” и, с другой стороны, нашей непосредственной чувственной привязанности к эмпирическим, внешним
и “неистинным” формам действительности. Утверждаемое Гегелем отношение к миру - это рассмотрение его под углом зрения
абсолютных конечных разумных оснований (самым характерным
проявлением такого подхода и является историцизм, ставший
господствующим в буржуазной идеологии XIX века)1. Это, следовательно, сознательность позиции, способа действия и жизни
разумного человека, обеспечиваемая актами метафизического
мышления (в традиционном смысле этого термина). С позиций
такой сознательности классическая философия осуществляла
достаточно глубокую критику различных отношений и сторон
жизни буржуазного общества. Однако именно здесь лежал
последний источник ее “некритического позитивизма” (Маркс),
смирения со стихией общественно-исторического процесса,
новых и новых попыток рационального оправдания наличных
общественных отношений.
В эпоху Гегеля отношение к миру как в конечных своих основаниях разумному и под знаком благосклонности к человеку
упорядочивающемуся процессу выступает в качестве основной
онтолошческой установки мыслителя по отношению к реальности, основной “интенцией” его сознания. Сам же акт познания
переживается как реализация способности (и обязанности) абсолютно мыслить, то есть осуществляется интеллектуалом с ощущением привилегированности, “чистоты” и беспредоосылочности
его мышления2, с убежденностью в том, что голова интеллектуала
1 В различных формах абстрактного материализма и позитивизма этого времени
(например, у Конта) спиритуалистический характер идеи абсолютных законов,
лежащих по ту сторону любой конкретной практики, эксплицитно и сознательно
никогда не формулируется. Эта возможность спиритуализации представлений о
'‘законе”, “необходимости” и т.п. внутри классической философии была всесторонне реализована идеализмом.
2 Здесь мы, несомненно, сталкиваемся с первичной самомисгификацией мыслителя,
пронизывающей затем все отъегвления его мысли, с особым осознанием духовным
производителем своего специфического социального положения. Эту первичную
самомистификацию “идеолога”, “интеллектуала” выявил и описал уже Маркс под
названием “идеологии” или “идеологического метода”. Критикуя младогегельянцев, он имел дело с уже выделившейся в развитой форме и четко кристаллизовавшейся идеологизацией (в смысле “Немецкой идеологии”), в рамках которой
Гегель понял позицию сознательного человека в мире (“мыслитель”, “философ”
есть просто предельный образ сознательно действующего человека). Необходимо
заметить, что когда мы прослеживаем эту идеологическую операцию в классической конструкции абсолютного сознания, то речь идет не только и не столько
специально о теории познания, о применениях ее в этой специальной области или
Млассияеасал и со£ременмлл ¿ц^щазнал философии. 393
есть особое, богом освященное место, где мир раскрывает свои
последние тайны, претворяется в знание, представительное и
абсолютное. Это как бы два крыла, на которых парит классическая мысль.
Комплекс “провиденциального господства мыслей в истории"
и представление о том, что любая совокупность реальных отношений может получить философскую санкцию и быть внутренне
принята (“иметь смысл”) лишь в меру сродства с ними самого
мыслящего, сложились в философии не из имманентных трудностей анализа ее собственного предмета (например, отношения
материи и сознания), а на почве известных социальных условий
мышления, на почве вторичной идеологической рационализации
порождаемого этими условиями “самоощущения” мыслителя.
Это значит, что выделяемая форма философского труда - исторический формализм сознания, сопровождающего и обслуживающего его выполнение в данных условиях (то есть схема
самоощущения человека как носителя функций интеллектуального труда, схема восприятия им их роли и места в общем ходе
вещей и в своей собственной судьбе), сложился в условиях классической философии, включив в себя продукты рационализации,
идеологически перевернутого выражения весьма болезненного
реального опыта. И он скрыто перевел этот последний в специфические мысленные связи и уравнения классической философии,
которые мы можем обнаруживать на поверхности. Если посмотреть на нее со стороны этого исторического формализма, со стороны того, что он вобрал из действительности и какие условия
сознательности человека он задавал, то мы увидим, что классическая философия (и в определенной мере вся классическая культура) обосновалась весьма условно и неустойчиво над бездной, над
хаосом, связав их скрепками ratio, включившего в себя весьма
специфические посылки и допущения. Гармония сознания и
действительности обеспечивалась и сохранялась за счет рационализации, под которой продолжало жить вытесненное ощущение хаоса, прикрытого спекулятивными “идеологическими”
абстракциями.
На примере Гегеля и Конта мы можем убедиться в том, что
внешне стройное, монистически величественное идейное сооружение классической мысли в действительности содержало в себе
глубоко двусмысленные представления: понятия “закона”,
вообще о теоретических ее применениях» сколько об идеологизированном образе
позиции сознательного человека (или человеческой сознательности) в мире - образе, который просвечивает равио в теории познания, в онтологии, в социальном
проектировании, в строе нравственных мотиваций и идеальных побудительных сил
у людей этой эпохи, пронизывает литературное ее мышление, реально практикуемую ею “философию” искусства и т.д.
394 2)&иафл, сйиийьи, ишне/ьвыо
“необходимости”, “зависимости настоящего от прошлого” на деле
выступали в качестве средств научно-рационального оформления
совершенно иных, прежде всего телеологических воззрений; акты
познания на поверку оказывались рациональными действиями,
обслуживающими скрытые - не переведенные в план осознания -
этико-религиозные установки и т.д. Если до поры до времени эти
несоответствия и двусмысленности не бросались в глаза, то
только потому, что живое убеждение, которое одушевляло классику (упование на имманентную разумность истории и миропорядка), не вызывало сомнений. Оно коренилось в ситуационных
достоверностях эпохи и было внутренне-безусловным выражением этих достоверностей. Это положение дела могло сохраняться
лишь до тех пор, пока абсолютный характер ‘"идеологической”
деятельности имел корни в реальности, пока сохранялся социальный идеал объективного знания. Идеологические извращения
и “сокрытия” духовного производства, не обнаруживаясь сами в
качестве таковых, не давали проявиться и тому факту, что под
классическим зданием скрывались бездна и хаос.
Статья вторая
В предшествующей статье мы стремились раскрыть основные, ставшие впоследствии традиционными концептуальные
структуры классической философии в свете определенного, исторически сложившегося схематизма (или формализма) сознания,
сопровождающего выполнение интеллектуального труда мыслителем и сводимого, в свою очередь, к определенным социальным
формам существования и организации духовного производства
и сознания соответствующей эпохи. С этой точки зрения ведущим звеном в выявлении смысла смещений и модификаций в
области философствования, обозначаемых термином “современная
буржуазная философия”, является описание следующей несомненной и эмпирически наблюдаемой ситуации: на рубеже XIX -
XX веков и особенно четко к середине XX века распадается,
вовлекаясь в процесс исторического разложения, как раз та
внутренняя форма духовной деятельности, которую мы прослеживали при анализе основ классической философии и которая
отложилась столь значимыми кристаллизациями в самих ее
структурных чертах, фундаментальных внутренних ходах и
ассоциациях мысли, навыках, стилистике мышления и т.д,
В социально-историческом плане решающим новым элементом этой ситуации является качественный скачок в росте и
влиянии того совокупного эффекта человеческой деятельности,
который в историческом масштабе производится ее обществен¬
Киассинеасая и ссв/тленнал Лфщазная философия 395
ными сочетаниями, концентрацией и обобществлением труда,
з авершившимися появлением и господством в современном буржуазном обществе государственно-монополистических структур.
Именно это вызвало объективные социальные процессы, в
результате которых оказался поражен реальный, живой нерв
духовного производства и самого механизма культуры, что, в
свою очередь, и привело к сдвигу в основах философского сознания. С одной стороны, стали расшатываться навыки и весь
традиционный аппарат философского мышления, разрушались
или оказывались интеллектуально невозможными его основные
мысленные связки. С другой стороны, развивается совершенно
особая, иная и во многом более богатая философская чувствительность, вбирающая в себя зерна нового духовного опыта,
реальную усложненность и многомерность современного сознания, открытого, восприимчивого к некоторым неклассическим
проблемным ситуациям, которыми и овладеть нельзя с помощью
средств и операций традиционной философии, набора ее “мысленных уравнений” и которые “отмыслить” уже невозможно.
Меняется как бы протоплазма, живая среда, окружающая и
питающая “ядро” философского творчества. Из него постоянно
рождается новое.
Однако в силу ряда причин - и мы их должны будем рассмотреть - в буржуазной философии не случилось того же, что
произошло, например, в физике XX века и вообще в современном естествознании, переживших свою революцию и сумевших
создать синтез классических и неклассических представлений в
принципиально новой картине природного мира. Иначе говоря,
в итоге на сегодняшний день не сложилась действительно “новая
философия”, которая адекватно концептуализировала бы новый
духовный опыт и новую проблемную реальность. Недюжинные
усилия ума, масса таланта и труда, технические открытия в
аппарате философии, глубокие интуиции и эмпирически точные
констатации выливаются скорее в серию абортивных рождений,
и состояние современной буржуазной философии в целом сохраняет все признаки кризиса, поддается скорее анализу в терминах,
которыми формулируются кризисные характеристики целого типа
цивилизации и культуры, чем в каких-либо иных, философски
содержательных. Причины этого лежат, безусловно, в том, что
философия теснее и непосредственнее, чем какая-либо другая
наука, связана с идеологическими и классовыми структурами:
проблема, стоявшая перед ней, заключалась прежде всего в
способности вырваться за буржуазный горизонт, разомкнуть
рамки буржуазного мышления и цивилизации определенного
типа.
396
2)оклафл, аКмйш. имОфвыо
Неклассические ситуации
и кризис традиционной философии
Рассмотрим сначала те реальные, социально -исторические
процессы, о которых мы упомянули и которые de facto перестраивают современное духовное производство и механизмы
кулыуры.
В современном обществе по сравнению с “классическим”
буржуазным обществом изменилось соотношение между действием
объективных законов общественного развития и механизмом
сознания людей. В соответствии с возросшей ролью организованных связей в самом функционировании материальных, обще-
ственно-экономических структур выросла в нем и роль определенным образом организуемого и управляемого сознания. Принудительность социально всеобщих образований мысли и психологии
по отношению к индивиду (не сегодня, конечно, родившаяся)
стала органическим элементом регулирования стихии общественной жизни и производства, подкрепляясь такими эффективными
материальными средствами, как обобществление форм человеческой деятельности, бюрократизация общественной жизни и
инструменты массовой информации, пропаганды, рекламы. Сам
тип объективных социальных и классовых отношений, характерный для новой стадии капиталистического развития, складывался таким образом, что требовал в значительно большей
степени регулируемой ориентации сознания общественных
атомов и воздействия на него, требовал специально осуществляемого “кодирования” и “программирования” человеческого
поведения, направленного внедрения в него обобществленных,
стандартно-коллективных форм мышления.
Это и вызвало к жизни целую “индустрию” сознания,
обслуживаемую армией работников интеллектуального труда,
породило в обществе специальную и все время разрастающуюся
интеллектуальную функцию по производству сознания, искусственно преформируемого в своем содержании и стандартно
размножаем ого количественно в массе индивидов, охваченных
жесткими идеологическими механизмами управления сознанием
(механизмами массовой информации, рекламы, психологической
“обработки умов” и т.д.). Причем в отличие от той массификации
мысленных актов и идеальных представлений, которая в традиционных, “сакральных” обществах осуществлялась мифологическими, религиозно-фетишистскими и тому подобными формами,
в современном обществе трансляция и потребление “единиц”
такого сознания реализуются в формах сугубо рациональных.
Классическая и современная йфщазмл философия Ъ91
имитируют способность рационального и автономного суждения, включаются в действие мысли, пользующейся средствами
абстрактного рассуждения, критики и исследования, хотя и
глубоко иррациональной и фетишистской по своему действительному содержанию и посылкам'.
Появление искусственного и индустриального производства
сознания, специального труда по созданию его “образцов”,
“шаблонов”, их хранению, переработке и распространению
породило последствия, существенные для самого статуса духовного элемента в буржуазном обществе. С одной стороны, в этом
обществе появляется новый, ранее неизвестный тип непосредственного, функционирующего в нем сознания, вполне рационального по своей внешней форме, но задающего наблюдателю
загадку “массовой культуры”, рационально префабрикуемого и
манипулируемого содержания внутреннего мира “просвещенных” субъектов. И, главное, этот тип сознания глубоко отличен
от того естественно прозрачного в своей стихийности сознания,
в котором его индивидуальному агенту было достаточно проделать операции саморефлексивной мысли, чтобы рационально
владеть действительным содержанием своего бытия, поведения и
интересов, и на основе которого классическим рационализмом
была образована абстракция способности сознавания.
С другой стороны, происходят странные превращения, расслоение специальной, в обществе выделенной интеллектуальной
функции, означавшей когда-то доступ к универсальному, целому
и предполагавшей определенную, ремесленно-личную слитостъ
интеллектуальных умений духовного производителя с орудиями
и средствами его труда, с инструментами культуры, владение
которыми само по себе содержало универсальность, выводило в
сферу “парящего над целым” сознания и преобразовывало под
знаком последнего любой предмет специальных занятий и
умений (обеспечивая тем самым феномен так называемой
“универсальной гуманитарной культуры” традиционной интеллигенции). Специальный же труд в “индустрии сознания”, о
котором мы говорили, означает, что здесь появляются иные
условия, формы (и последствия) владения этими инструментами.
Они приобрели внеиндивидуальное, обобществленное существование. Универсальность (причем не являющаяся чьим-либо
сознанием, а скорее анонимная) - на стороне форм бытия
1 В этом можно видеть заявившую наконец о себе и до логического конца довезенную “тайну* того идеологического элемента, который с самого начала сопровождал духовную деятельность в буржуазно-рационализированных общественных
структурах, ассимилируя ее внешние средства и приемы, и который мы вслед за
Марксом можем назвать идеализмом повседневной жизни, ее вульгарной, обыденной религией.
398
Эокиафл. аЯшЯьи, шиЛфвью
этих инструментов, а на стороне интеллектуалов - частный
труд1. Хотя каждый из них приставлен к несомненно интеллектуальному занятию и обладает соответствующими умениями
(“владеет” в этом смысле орудиями культуры), занятие это предполагает взаимозаменяемость его исполнителей, утрату ими интеллектуальной независимости, рутинный и частичный характер
их работ, потерю ими из виду связи целого, что делает их в этом
отношении вполне подобными фигуре “частичного рабочего”,
каким он известен из истории материального производства
(фабричной организации труда).
Своеобразную модификацию претерпели и формы существования и циркуляции научного знания, вообще продуктов познания и свободного духовного творчества, вовлекаемых как в
“индустрию сознания”, так и непосредственно в управленческие
и промышленные, практически утилитарные, вещественные приложения. Место и роль знания в объективных социальных
структурах радикально изменились. Появились развитые общественные его применения, формы широкой социально-массовой
его организации вокруг тех или иных практических задач. Сама
вещественно-предметная среда обитания человека пропиталась
насквозь приложениями знания. Содержанием научно-технической революции XX века и явилось срастание (еще раньше наметившееся) науки с экономической и общественной жизнью,
организованное и направленное внедрение знания в сами основы
материально-производственных и управленческих структур.
Важным для наш»! темы последствием этого процесса является то, что в этих условиях происходит особое и с познанием
как таковым не совпадающее приспособление структур и содержаний знания к задачам капиталистической рационализации
производства и общественного управления или вообще к задачам ориентации человека в своей новой вещественно-предметной
среде обитания, своего рода “ужимание” знания в рецепты
технико-практического действия, непосредственно поддающиеся
использованию в таких целях. От него как бы отслаивается
оперативно-утилитарная идеальная схема познаваемых явлений,
получающая самостоятельное культурное существование в
качестве “знания” же, воспроизводимого, применяемого и манипулируемого индивидами. Это по сути своей технологизация и
культурная формализация знания. Она означает возможность
самостоятельного существования и циркуляции идеальных представлений, отделенных от своего творческого источника и от
1 Отсюда на уровне философского сознания появится» как мы увидим, потребность
восполнения связи целого в мифе, а на другом полюсе - фикция
“деидеологизации*, якобы характеризующей функционирование современного
общества.
Класстеежая и еофеленлая йфмсфанал философия 399
понимаемого субъектом отношения их предметного содержания к действительности, из которой они абстрагированы при
определенных посылках и допущениях, при определенных условиях исследовательского действия. Именно в качестве “знания”
эти представления могут (и должны) действовать и функционировать независимо от того, имеется ли налицо понимание
личностью условий и источников их происхождения, владеет или
нет она сознательно этими условиями и может ли она их воссоздать в качестве своей собственной живой, реальной силы, постоянно трансцендирующей любые предзаданные объективации и
опредмечивания. Работает нечто вроде “машины культуры”,
которая живет некоторым подобием собственной жизни и выдает полезные результаты помимо и поверх тех или иных свойств
человеческого элемента или его бытийной ситуации (и реального
опыта) в знании и сознании.
Наряду с описанными выше изменениями и подспудными
сдвигами в самом составе и статусе духовной деятельности и в
способе цуркуляции ее продуктов изменилась и социальная форма существования специальных ее агентов и носителей. Интеллигенция попала теперь в прямую и более жесткую зависимость
от экономической и функциональной оценки содержания и типа
продуктов своей деятельности (которая все шире и чаще сливается в формы наемного труда). В то же время духовное производство стало массовым по своей структуре, невиданно расширив в
этом смысле социальную категорию, называемую “интеллигенцией” . Распространение культуры и образования, диктуемое
потребностями современного обобществленного производства и
общественного учета, сам способ современной жизни и общения и,
наконец, выступление на исторической арене массовых и организованных социальных движений с их широкими историческими идеологиями и идейно-политической активностью размыли
традиционные социальные и культурно-исторические связи,
придававшие занятию интеллектуальным трудом чуть ли не
“жреческий”, “священный” характер, отводившие роль выразителей нравственного и культурного состояния общества узкому
кругу лиц в вековых общеобразовательных институтах (школа,
университет) и в сфере свободных профессий.
Формальный акт владения умственными орудиями культуры
сам по себе уже не обеспечивает выхода из этой ситуации, не
совпадает органически и как бы само собой с естественно
свободной и независимой духовной деятельностью и не может
осознаваться как приобщенность к “всеобщему чувствилищу”
мира и общества, специфически отличающая интеллигенцию.
Граница (и разрыв) между, с одной стороны, подлинным
личностно-творческим мышлением, действительным познанием и
400
Зокиафя, oSajSbU.- иыЪфвыо
духовным созиданием, в которых кумулируются высшие духовные
потенции общества, и, с другой стороны, выключенными из них
массами людей пролегает в современном обществе совершенно
иначе, по совершенно иному срезу. Она проявляется вне зависимости от налитая (или отсутствия) формальной монополии на
культуру и образование, закрепляемой имущественным неравенством, проходя в массовом духовном производстве и по живому
телу самой интеллигенции. Здесь действуют более тонкие механизмы товарного фетишизма и формализации духовных образований, отчуждающие индивида - и в том числе интеллектуала
- от культуры. Привилегия на образование и манипулирование
инструментами культуры не совпадает больше со знанием и пониманием действительности, и, наоборот, последние не требуют
и не предполагают этой монопольной привилегированности
образования и культуры (что, кстати, гораздо эффективнее
разрушало и приводило к кризису конструкцию абсолютного
самосознания, чем любые проблемы, с которыми она не справлялась в теории). Объективно по самой сути своего положения
интеллигенция уже не может - независимо от субъективных
своих устремлений или иллюзий и утопических реминисценций -
считать, что ей автоматически дано осуществлять мышление,
соответствующее, как выразился бы Гегель, своему понятию и
истинной природе человека.
Л это, со своей стороны, означает, что перед ней во весь
рост встает проблематичность ее собственных установок и природы, каковая уже не может состоять просто в том, чтобы быть
интеллектуальной и моральной калькой реальных состояний
всех других частей общественного организма, за которых и вместо
которых интеллигенция когда-то мыслила, представляясь себе
прозрачным сознанием-медиумом, не вносящим от себя никакой
замугаенности и помех в это духовное представительство. Мандарины духа вдруг натолкнулись на плотность собственного тела -
тела социального и культурного существования интеллигенции,
на тот факт, что их сознание в действительности не привилегированное место пребывания “проблем как таковых”, “проблем в
чистом виде”, или “истин как таковых”, “первосяова”, а весьма
своенравная призма, разбивающая и преломляющая отображение в зависимости от особой природы и положения ¿того тела1.
1 Уже Маркс в ранних работах стремился решить проблему интеллекту ал а, интеллигенции, рассматривая ее в терминах р авноправного “союза между философией
и пролетариатом”, то есть в терминах массовой социально-исторической практики,
идеальные основания которой (фиксирующие “закон”, “необходимость”,
“историческую перспективу” и т.п.) суть основания, самой же этой практикой и
внутри нее созданные de facto, а не внедренные в нее извне, из какого-то парящего
над ней мира абсолютных законов и исторических перспектив, известных храните¬
Мласшиосая и соб^лиениая Л^щазнал философия 401
Пошло трещинами зеркало абсолютного и универсального
сознания, врученное когда-то привилегированному и как бы
бесплотному, безгранично самосознательно мыслящему индивиду,
который занимал абсолютистскую позицию в мире и представ*
лился себе конечной, дальше не проясняемой точкой отсчета.
Более того, в некогда прозрачном - от точки до точки - отображении мира и самого себя в этом зеркале обнаружилась вообще
непросматриваемая “мертвая зона”. Она естественно индуцировалась появлением в нем “темного тела” - особого положения и
природы интеллигенции, требующими тетерь уже дальнейшего,
специального прояснения и оговорок. Но средства такого прояснения не даны в том же ряду средств, какими репрезентированы
внешние содержания поставленного перед зеркалом мира.
Скорее наоборот, “мертвая зона” оказывалась принципиально
непроницаемой, неопределенной как раз в той мере, в какой все
снова и снова пытались охватить и исчерпать содержания и
образы сознания саморефлексивньши актами мысли, остающейся
в пределах достоверностей самого же сознания интеллектуала.
* * *
лям просвещения и разума» Отсюда характерное для Маркса критическое сознание
самомисгификации интеллектуала, верящего в свою универсальность, а на деле
прочно укорененного в идеологии. Объясняя эту идеологическую иллюзию, он показал, что общество, которое не может рационально организовать свои собственные отношения, выделяет рациональную критику и понимание самого себя
(“совесть") в особую функцию, передает их особому, отделенному от непосредственного процесса жизни слою людей - интеллигенции, которой суждено разрываться между противоположными и взаимообуславливающими друг друга
полюсами: между чувством привилегии, высокомерия разума и комплексом бессилия и неполноценности перед жизнью, массовым пракгически-исгорическим бытием. Поэтому у Маркса проблема ‘‘интеллигенции” ставится с самого начала как
часть проблемы общества и массового практически-исторического процесса жизни, а не сводится к перипетиям и преобразованиям в витающем над обществом
универсальном и “чистом” сознании, каким бы оно не становилось от этого благонамеренно “социалистическим”, “подлинно человеческим”, “пролетарским” и т.п.
Эго и было содержанием знаменитого лозунга “конца философии”. Речь шла, по
суш дела, о конце философии как определенной разновидности социальноисторической и гуманитарной утопии, как сферы духовного воспарения и
искусственного, “головного” собирания и синтеза того, что разорвано в действительности и в человеке и что в восстановленном виде должно прийти в мир через
представительное сознание интеллигенции, выключенной из реального процесса
жизни и парящей над ним. По глубокому убеждению Маркса, это не дело философии, не этим она должна заниматься. Тот пересмотр посылок онтологии сознания,
который таким подходом предполагается в теории, Маркс предпринял позднее в
научных работах и совершил радикальный поворот в философии, совпавший с
гораздо более поздним об'цим движением философского опыта и знаний эпохи
конца XIX века и XX века к новой проблемной реальности, к перестройке структур
сознания.
402 Наиачи, аКаЛы». шиКф/ш
Основной смысл и результат смещений и изменении, происшедших в объективных основах духовного труда, в формах
отчуждения индивидом его продуктов и их циркуляции в
обществе и культуре, - это потеря классической культурой своих
живых источников, своего рода эффект провисания над пустотой
ее корней и структур. Ситуационные достоверности, внутреннебезусловным выражением которых были одушевляющие ее убеждения и идеалы, перестали быть таковыми. Исчезла ее особая
социальная и историческая база: как мы видели, размылась (и
сменилась другой) та социальная структура духовного производства и обмена (и вообще действия сознательного, формативного элемента в историческом творчестве), на которой классическая культура основывалась и которой она поддерживалась,
подкреплялась, воспроизводилась, оправдывалась. В образовавшийся провал и стали неумолимо сползать конструкции саморе-
флексивной и самотождественной “чистой” мысли, строительные
леса великих духовных достижений прошлого'.
Недолго было и таившемуся хаосу выползти из этой бездны,
поглотить и размыть четкость и достоверность того, что по
содержанию виделось в миропорядке, полагалось в нем законо-
восприятаем классической эпохи. Но оставим пока последнее в
стороне. В данный момент важнее экзистенциальный вакуум,
который образовался вокруг структуры формообразующих сил
духовной продукции, являвшихся реальными силами как индивиде», так и общества2. Это явление имеет и более общее
значение, чем то, что можно проследить в интеллектуальной
сфере философии и научного познания вообще. Акт познающего
мышления есть действие в культуре и как таковой связан не
только со своим предметом и познаваемым содержанием.
Поэтому он может быть по своей структуре родствен другим
действиям в той же культуре - актам эстетического восприятия,
1 Превращение содержания этих достижений в определенные абстракции, срезы
более широкой и глубокой реальности, в относительные истины, связываемые в
более гибкую и открытую картину, и обеспечение там самым преемственности в
истории познания при любой смене строительных лесов ее достижений оказались
сложным и болезненным процессом. Одним из выражений идеологизации духовного производства оказалось то, что его результаты возводились в ранг абсолютной всеобщности, гипостазировались и субстанциализировались. Не могло быть и
речи о мирной их кумуляции без борьбы и крушения тех или иных идеологий. Ибо
познание осуществляется в обществе и культуре, осуществляется конкретными,
цельными живыми людьми, в сознании которых идеологический элемент лишь в
абстракции можно отделить от других.
2 Кстати, этот вакуум впервые в философии и выделил, индуцировал саму проблему экзистенции, превращая вместе с тем интенцию реальности, вообще составляющую в принципе часть исторического формализма духовного производства, в
интенцию мифа, мифологически трансформированной и мифологически представляемой реальности.
Класс,шеаеал и совр&иеышя ¿фла/азная философия 403
правосознания, нравственного переживания и тл. - и при
отсутствии между этими различными сферами какой-либо
причинной связи или взаимовлияния (скажем, часто предполагаемого влияния изменений в концептуальном аппарате современной науки на современное искусство). Это родственность их
по структуре формообразующей силы в историческом действии
(или того, что Маркс называл “сущностными человеческими
силами”). Но то же самое относится как к возможным разладкам
в этой структуре, так и к характеру компенсаторной ее перестройки в новой ситуации: они могут быть общими для различных
областей.
Если рассматривать случившееся, как оно воспроизводится
на уровне переживания духовным производителем своей деятельности, то есть на уровне того, как он ощущает себя в этой
деятельности, как он воспринимает роль и место ее продуктов в
общем ходе вещей и в своем личном развитии и самовыражении, то
нужно констатировать принципиальную невозможность прежнего самоощущения духовного производителя, распад конкретного
исторического формализма (или схематизма) выполнения им
своей деятельности, названного нами “классическим”. Современный духовный производитель не ощущает (и не может ощущать) себя так, как мог ощущать себя “классик”. В новых
условиях труда и потребления, во всем ансамбле отношений,
очерчивающих онтологическую укорененность самого духовноинтеллектуального призвания индивида и обосновывающих в
его глазах ту или иную организацию и развертку своей прод^сции в
качестве осознанной и другим сообщаемой мысли (или эстетического переживания и т.д.), классическому самоощущению нет места
(принципиально, конечно, а не эмпирически во всех случаях). На его
базе нельзя превратить структуру этих отношений в реальную,
живую силу участвующих в них индивидов, что равнозначно
индивидуальному опустошению и истощению предшествующей
исторической силы, которая оказывается отчужденно-родовой.
А складывающееся фактическое самоощущение - независимо от характера и направления, какое может получить специально философское его выражение, и вообще до всякого такого
выражения в теории - не подкрепляет больше наличную философию рефлексии, или самосознания. Абстракция предельной
способности самосознавания не соответствует переживанию,
интенционально оформляющему реальное строение труда и
механизм интеллектуальной жизни, которые как раз и изменились, радикально сместились в современном обществе. В этом
переживании выражается, закрепляясь в самой внутренней механике осуществления мысленных актов, уже совершенно иная,
глубоко неклассическая социальная и культурно-исто” ^теск^
404 ТЬклафя. аОеиЯьи, иыЯф£ыо
ситуация мышления, сложившаяся к XX веку по всем тем
различным параметрам, которые мы проанализировали выше'.
И связки конструкции абсолютного сознания распаивались и
рвались прежде всего в этом самоощущении, в переживании
деятельности (и лишь потом - в теоретическом аппарате и
абстракциях, тем или иным, варьирующимся от мыслителя к
мыслителю образом расчленяющих по содержанию традацион-
ные и преемственные проблемы философствования, сам его
предмет).
Соответственно, в каком бы действительном виде ни сложился такой новый схематизм выполнения труда и какими бы
путями ни пошли спонтанные отображения факта его существования в возникновении то тут, то там неклассических философских идей, уж прежний-то схематизм исчезает, во всяком случае,
из базы традиционно унаследованных философских построений,
не питает больше философское творчество вообще. Иначе
говоря, философия лишается одного из своих питательных
источников. Чем и как она его заменит - другой вопрос. Пока
достаточно будет зафиксировать, насколько распад определенной формы переживания и самоощущения духовного производителя подрывает сами основы классического философствования и
1 А мы уже знаем» что конкретная (и типичная для крупных исторических периодов) экзистенциальная ситуация, в которую попадают знание и сознание, всегда
отражается - обратным эффектом - в организации и характере содержания
мысленных объектов этого же знания и сознания (причем эта связь ускользает от
наблюдения самого познающего субъекта). Формируемое ею внутреннее строение
духовного труда проявляет себя определенной стилистикой производства продукта
труда и онтологическими импликациями» касающимися способа жизни этого
продукта и имманентными феноменологическому сознанию мыслителя (по ним мы
это строение и узнаем» выявляем). Независимо от того» насколько самосознатеяьно
практикуются субъектом такая стилистика и онтология, весь этот механизм
(действует ли он в науке или в искусстве определенной эпохи) является вполне
самодеятельным» хотя и косвенным источником философских идей, в особенности
философских идей о сознании и самосознании. По сути дела» в современную эпоху
специфически новым оказался (и послужил в этом смысле линией водораздела с
прошлым) другой, de facto выработавшийся в практике духовного производства
подход творческого агента к материи духовного труда и выражения» к опыту
собственного сознания» значение» место и возможности которого иначе воспринимаются и ощущаются. Отсюда и важность теории сознания в наше время и толчки
к ее перестройке. Но сам этот реальный подход» само реальное обращение с материей
сознания» сливающее мастера-творца с ее возможностями и продолжающее их в его
собственных силах» и философская теория сознания остаются (или могут в принци-,
пе оставаться) разными вещами: последняя не обязательно является адекватной
концептуализацией первого, не говоря уже о том, что реальная работа такого рода
структур сознания, отражаясь в содержании философии и в ее общем духовном
стиле, не является прямым объектом ее теоретических исследовательских усилий
(для превращения этой работы в прямой ее объект нужна была бы уже мегафилософия).
Классическая и сов/ьеменная ¿Щикуазная философия 405
любых возможных его продолжений. Ибо, как мы пытались показать, существовали известный изоморфизм и взаимоусилива-
ющее влияние между философской конструкцией абсолютного
рефлексивного сознания, в той или иной степени пронизывавшей
всю культуру, и положением и ролью интеллектуала в обществе.
Это положение изменилось, и именно прежний характер
“идеологической” деятельности оказывается под ударом. На
роль нелепой архаики, не находящей места в современном обществе, осуждена - и тем самым вообще поставлена под вопрос -
вся та совокупность патерналистских и миссионерских духовных
отношений, которая сводится в общем к классическому (и
имевшему когда-то смысл) отношению между сознательным
меньшинством и опекаемой им бессознательной массой -
опекаемой от лица “Истины”, “Добра”, “Красоты”, “Человека”,
“Истории”, “Прогресса”.
Но это относится уже к более широким социальным процессам, далеко выходящим за пределы нашей темы, хотя и многое в
ней поясняющим. Нас же интересуют сугубо специальные проблемы и последствия, касающиеся перестроек в форме труда и их
влияния на философскую проблематику. Двигаясь на микроуровне анализа, мы видим в происшедшем прежде всего выражение распада или своего рода “геологического сброса” основ того
конкретного исторического формализма сознания, в терминах
которого (эксплицитных или имплицитных) классики занимались познанием, создавали духовные и культурные ценности,
развертывали философские системы и построения и т.д. Дело в
особых его предпосылках и допущениях, разложение которых
потянуло за собой в пропасть и философскую конструкцию абсолютного сознания (с получаемыми внутри нее теоретическими
утверждениями о бытии, природе сознания и т.д.). Напоминаем,
что речь в каждом случае идет о посылках и допущениях мышления, лежащих в области отношения мыслителя к своей, тем или
иным образом осознаваемой ситуации в знании и сознании,
к условиям, продукту и потреблению (индивидуальному или
общественному) своего труда.
Достаточно присмотреться, например, к работе (или к невозможности работы) определенного в таком смысле схематизма
сознания во всей совокупности отношений “производство -
потребление”, характерных для создавшейся ситуации, чтобы
убедиться в том, что они не описываются больше абстракцией
предельной способности сознавания и прозрачности бытия и
сознания (как элементами само- и мирочувствования духовного
производителя). Собственно, со стороны изменений в форме
деятельности и шел какой-то процесс кризиса, разрушая старое
видение мира и вырабатывая новое. Речь идет о новом видении и
406
Эоклаф*, аЯмКш. ишИф/ью
передаче мира не столько по связи и порядку истин, сколько по
структурам коммуникации и механизму интеллектуальной
жизни, фиксируемым, закрепляемым ситуационно и содержащим
имплицитно такое видение мира.
Действительно, классикой мысль производится абсолютно и
од нозначно - за других и для других - и транслируется пассивному приемнику, осваивающему готовые, завершенные духовные
образования и фактически предуготовленному для просвещения.
Существует своего рода предустановленная гармония понимания
и расшифровки “речи”, ибо оба они - и производитель и потребитель - с самого начала находятся в отношении к устойчивой и
единой истине, с той лишь разницей, что первый как бы
приставлен, приобщен к ней своим положением. Поместив себя в
точку, описываемую условиями этого положения, и повторив
деятельность рефлексии над своим опытом, потребитель может
точно так же созерцать действительность, открывшуюся мыслителю1. Но этим не меняется общее отношение (как и распределение ролей). Завершенное и в каждый данный момент до конца
прозрачное (для автора) отображение действительности спроецировано здесь на особого своего носителя - индивида, четко
выделенного из остального мира речи, чем это отображение и
ставится в условия универсального и представительного сознания. И если учесть положение такого индивида в мире и его
особое право рефлексии2, которая реально и делает сознание
абсолютным, то в подобной картине отношений интеллектуальной жизни совершенно определенно вырисовывается тот факт,
что мысль производится и транслируется мыслителем в предположении прозрачности собственного тела, универсальности и
представительности в этом смысле того, что дают испытания
этого тела в мире. Другими терминами этого же исторического
формализма сознания, достаточно цельно и связно его очерчивающими, являются:
1) Интенция реальности, выступающая здесь как интенция
“истинной” реальности, “истинных” абсолютных и конечных
состояний мира (в том же самом смысле, в каком в классической
физике говорилось об “истинном”, то есть абсолютном, движении, абсолютном пространстве и времени и т.д.), показания о
которых ожидаются от опыта “абсолютного тела” интеллектуала.
Это последнее - своего рода метафизическое место, откуда обладатель его, распоряжаясь своим сознанием и фиксированными
1 Ср. изложение пути образования и воспитания, проходимого индивидуальным
сознанием, в гегелевской “Феноменологии духа*.
2 Условия “мирского* существования интеллектуала есть одновременно условия
права и чистоты рефлексии, то есть того, что последняя имеет источник только в
себе самой и при этом беспредпосылочна.
ХшгшюсаА и соб/илшшаА Лфщааная философия 407
в его аппарате состояниями мира (“вселенной объектов”),
может, реализуя предельную способность самосознавания,
видеть “истинное” абсолютное движение объектов и порядков за
всеми формами и кристаллизациями опыта относительно мира
(у всех субъектов, во все времена и во всяком месте), которые
будут соответственно лишь различными проекциями, перспективами видения этих объектов и порядков, сходящимися в одной-
единственной или перевод имыми на ее язык*.
2) Предположение, что собственный опыт того, к кому обращены знание и сообщение, относится к од ному и тому же общему, непрерывно единому и устойчивому миру, который
содержит в своей объективной цепи и этого носителя опыта (что
позволяет знать за него и о нем и его мире, а ему трансценди-
ровать свой опыт к уже имеющемуся знанию, универсалиям,
сущностям). Допущение такой непрерывности и есть основа
упомянутой выше предустановленной гармонии “речи” и
единства истины, самой возможности для приемника и потребителя дешифровать то, что говорится, и отождествлять себя с ним,
узнавать себя в нем (при условии образования, конечно).
Из них в первую голову следует указать на реально
действующий образ абсолютного, чуть ли не божественного,
всезнающего и всепонимающего автора, на особых правах
содержащегося в самом произведении в виде его скрытого (хотя
и главного) персонажа. Вернее, именно самообраз духовного
производителя спроецирован и растворен в пространстве продукта умственной работы в качестве своего рода невидимого
глаза, вездесущего и всевидящего. Он стоит за всеми смьюловы-
ражаюшшш материализациями (знаковыми, символическими,
сюжетными и т.п.), в каковых развертываются и рационально
организуются показания всех других опытов сознания (будь это
работа аппаратов наблюдения и эксперимента в естественной
науке, или социальные объекты с имманентным им спонтанным
сознанием, или же литературные персонажи, эволюционирующие в своих ситуациях и т.п.), которые выполняют фактически
1 Отсюда постоянные толчки к построению универсальной метафизики, а в эмпиризме и сенсуализме - к построению универсальной теории “чистых" фактов (или
“идей"). Но пока для нас интереснее то, что при таких посылках идейное творчество срабатывает почти автоматической механикой трансцендирования, непроизвольного обращения к конструкции чего-то стоящего “за” материалом сознания и
видимым образом воплощающегося в конкретно испытываемую действительность
либо долженствующего по отношению к ней. Достижение понимания опыта
отождествляется» следовательно, с успехом выведения видимого из трансцендентно
задаваемого воображением порядка. Всякий ответ на любой реальный опыт есть в
этом случае системосозидающее повествование о предсущесгвующем (и непрерывно во всяком возможном опыте длящемся) трансцендентном и интерпретация,
объяснение опыта в универсальных терминах последнего.
408 2)окмгф*. аКмОш, ию&фвые
роль объектов в мире, проделывающих в нем определенный опыт
сообразно своему заданному и поддающемуся полному описанию строению. Слой же авторского сознания, рефлексивно
воспроизводимая и контролируемая материя духовного труда и
выражения - единственная субъективность, единственный субъект
в мире объектов, образующих тем самым конечный и замкнутый
мир смыслов и значений, уже имеющихся и “прорабатываемых”
внутри отношения этой субъективности к действительности и
подлежащих чисто созерцательному освоению и потреблению.
Авторский слой сознания является смыслом всех смыслов; он сам
уже ни к чему другому за собой не отсылает, не “обозначает”,
выступая внешним вместилищем всех их, никак внутренне с ними
не связанным и до них существующим и поэтому вездесущим.
Ибо он опыт не в мире, а над миром, и именно потому может
быть в каждой его точке. Этот образ самого себя как единственной субъективности, проделывающей к тому же опыт, никак не
“возмущаемый” и не “связанный" локальным своеобразием
какой-либо точки своего существования и позиции в цепи миропорядка и общения, и организует, регулирует в классическом
произведении понятность и интеллектуальную проницаемость
мира, стоящего за смыслами и дискретными опытами сознания,
включаемыми в произведение. Иначе говоря, это соразмерные
данному самообразу человека понятность и интеллектуальная
проницаемость мира. Последний высвечивается светом разума в
глубину и ширину по мере перемещений и поворотов этого
самообраза духовного производителя, то есть с того пункта, где
он оказывается возможным (“Там, где было Оно, должно встать
Я”, - как любил говорить Фрейд).
Здесь же мы обнаруживаем и другую фигуру стиля, играющую формативную роль в развертке того, что классическим
автором извлекается из опыта собственного сознания и вводится
культурным деянием в совокупное сознание человечества, в
осознанное существование и циркуляцию. Там, откуда высвечивается реальность, ткется и нить, объединяющая различные по содержанию ее проекции и разрезы. Речь идет о единственности
идейной точки зрения, требуемой и проводимой автором в классическом произведении. Она объединяет все элементы “речи ’в
некотором окончательном суждении, которое через эти элементы
и реализуется (таковым может быть, например, организация
единства видения в классической живописи). Возможна и как бы
существует одна какая-то идеологическая точка суждения, с
которой автор отождествляет себя, давая завершенную и окончательную опенку ‘ истинному движек’яо4 всех элементов целого. охватываемого произведением (например, художественным).
Классическая и современная Лфщазнал философил 409
И, наконец, особой фигурой стилистики духовного труда и
отражения является здесь подчеркнутое стремление именно к
полностью, из одной точки контролируемому “выражению” и
“репрезентации” готовых содержаний наблюдения и знания
(задача, осмысленная лишь в предположении непрерывности и
единства субъекта во всем мысленном пространстве трансляции).
С одной стороны, мысль работает таким образом, что все ее
характеристики - “истинности”, “всеобщности”, “полноты”,
“интеллектуальной связности” и тл. - предполагаются до конца
определенными и исчерпанными внутри отношения индивида к
продукту своего труда, считаются, так сказать, уже разыгранными в рамках этого отношения до и независимо от какого-
либо способа жизни продукта в трансляции и циркуляции.
Мысль готова и окончательна у автора до сообщения, полностью ему понятна и лишь “вьфажается” в качестве “отражения”.
С другой стороны, способ обращения с материей сознания и духовного опыта здесь таков, что само уже актуальное выражение
строится как от начала до конца прослеживаемое и контролируемое, полностью подчиняющееся авторитету и всемогуществу
автора. В каждый данный момент и в каждой даной точке его
содержание и смысл целиком, разом и до конца прозрачны для
абсолютного автора, который единолично господствует над
духовными образованиями и однозначно-монологически их
сообщает. Таким образом, индавиды в их отношении к своим
продуктам - твердые и непроницаемые атомы, дискретные
мысленные миры, вполне внутри себя завершенные в этом отношении. Из совершающейся в них тайной и одинокой алхимии
выходит на свет божий истина - выходит во всеоружии как
продукт узрения готовых “сущностей” пред мета (которые нужно
лишь “абстрагировать”, как извлекают золото из руды). Да и
сам мыслитель здесь - закругленная, устойчивая “сущность”,
естественно и сама собой задаваемая фактом принадлежности к
культуре и образованию. А остальные - исключенная из духовного производства и культуры “масса” - застывает в качестве
созерцателей и послушных приемников перед лицом этой алхимически извлеченной и аподиктической действительности. Им
отводится пассивное приятие и потребление созданных другими
мыслительных образований, дополняемое абсолютистской деятельностью этих “других” - тех, кто специально занят знанием и
приставлен к “истинной”, сверхчувственной реальности (которая
в классике всегда имела смысл “разумной” и провиденциально
упорядоченной). Предполагается, что любой опыт этой массы, в
том числе повседневное переживание практически-социальной
организации ее бытия, может быть отлит в готовые формулы и
модели, выводимые из строения единого и устойчивого сверхчув¬
410
Доклады, аЯшЯьи, иыЛе^ыо
ственного мира, которое как раз и полагается известным
монологически мыслящему (и системосозидающему) свободному
индивиду-интеллектуалу1.
Мы уже видели, какие элементы в содержании философии
индуцировал реально практикуемый в такой форме духовный
труд (повторяем, независимо от того, насколько сознавались лежащие в основе этой формы посылки и допущения), каковы были
философские отображения пульсаций этого живого нерва классического духовного производства, этого реального способа
мысли, рассматривавшегося нами вместе с неотъемлемым от него
(и скрытым) ощущением разрыва “разума” и “действительности”,
“мысли” и “действия”, которое постоянно сопровождало интеллектуала и конкретный способ компенсации которого вносил свою
весьма значительную лепту в эти “индукции”.
Но в данной форме труд не может больше совершаться,
поскольку лежавшие в ее основе предпосылки и допущения
перестали быть реальными, самоочевидными, онтологически
достоверными для самого агента труда. Простой перевод объективных сдвигов в составе духовной деятельности и в механизме
культуры (которые мы описали в предшествующем параграфе)
на язык самоощущения мыслителя, переживания им своей ситуации в знании и в сознательной его трансляции показывает,
например, что в этом языке не оказывается такого субъекта,
который мог бы ощущать себя находящимся в абсолютной
перспективе видения реальности, и что нельзя одним (и из одной
точки) движением охватить мировую связь. В недрах самого
духовного производства вызревает практическое понимание
того, что должны быть заново пересмотрены основания, на
каких вообще истина извлекается из опыта сознания и организуется в виде сообщения. Дело в том, что под сомнение поставлено
как раз сознание, пользующееся орудием рефлексии, то есть
интеллигентское сознание (кстати, напомним основное
“мысленное уравнение” классики: деятельность = рефлексивно
воспроизводимое сознание). И отсюда целый ряд осложнений,
многие из которых лишь высвобождаются и теоретически рационализируются современной буржуазией философией без радикального пересмотра приводящих к ним основании. Согласно
классике, человек укоренен своей субъективной организацией в
мироустройстве, сращен своим сознанием и вырастающей из
него деятельностью с упорядоченным, рационально постижимым
миром. Абсолютное самосознание - пункт, от которого
происходит объективированная развертка умопостигаемых связей,
1 В определенном смысле практикуемое последним мышление всегда является в то
же время некоторой разновидностью социально-исторической утопии.
/¿шссимскАЛ и еефлмнмл Лфма/азнал философия 411
- локализовано в позиции интеллигенции, не обладающей никакой
другой природой, кроме этой деятельности. Но убеждение, что
рефлексивная процедура может исчерпать всю фактически
имевшую место деятельность, требует допущения, что само
это сознание, оперирующее рефлексией, беспредпосылочно и
“чисто”. Однако как раз это не так - “тело” интеллектуала
оказалось весьма плотным и своеприродным.
Если же рефлексивное сознание само (речь идет о рефлексии,
направленной вовне, на выявление объективно-всеобщего)
оказывается проблематичным и обремененным предпосылками,
требующими выявления и вынесения на свет божий, то исчезают
прозрачность бытия, “вселенной объектов” и непрерывность
порядка в ней: сцепление этих пред посылок и условий, с одной
стороны, и непрерывный ход процессов и событий в отражаемой
действительности - с другой, не могут быть охвачены и пройдены одаим движением ума. Уяснить себе ставшее вдруг плотным
тело нельзя теми же актами саморефлексивной и тождественной
себе мысли, какими в сознании даны и прояснены внешние
содержания. В зазоре между одним и другим выступает “темное
тело” какой-то деятельности, действия какой-то природы,
какого-то “остатка” человеческого и социального бьпия в мире,
ускользающего от отождествления деятельности и сознания1. А
на уровне и внутри духовного производства (которое и является
нашей проблемой) - это какая-то особая самостийная жизнь материи духовного труда и выражения, никак не укладывающаяся
в однозначно-монологическую форму, в замкнутый и внутри
себя завершенный (по отношению к продукту труда) мысленный
мир монологизирующего индивида. Предельная способность
сознавания, полагающаяся классикой, упирается, как в стажу, в
своего рода промежуточную зону, которая так и остается непрозрачной для рефлексивного сознания, вернее, для сознания,
настаивающего на рефлексии, для онтологии сознания. Онтология здесь получается очень странная, если можно так сказать,
клочковатая, “пятнистая”: на место былой прозрачности приходит лишь в отдельных сферах проступающая упорядоченность
мира, непрерывно прослеживаемая субъектом. Это означает, в
1 Таким образом, уже в практике духовного производства мы видим кризис как
эмпирических методов, покоящихся на рефлексивно достигнутой “чистоте”
ощущений, так и всякого трансцендентализма, то есть трансцендентального
осознавания себя в качестве конечного деятельного источника всяческих (и всех
возможных) содержаний. Тем самым зашаталась и общая посылка всякой философии (или онтологии) сознания, то есть такой философии, которая анализом данных
сознания ищет в нем сам себя обосновывающий, самоочевидный пункт, начиная от
которого может быть философски проверено и обосновано все остальное в
человеческом опьпе.
412
2)окиас/ы, аЯшйш, ишЯфбыо
свою очеред ь, и онтологическое выпадение духовного, интеллектуального призвания субъекта.
Такая ситуация со всей исторической радикальностью и
бескомпромиссностью ставит духовного производителя перед
необходимостью изыскания иных, отличных от навыков и процедур традиционной философии рефлексии способов “уяснения
самому себе своего собственного сознания” (Маркс)1 и, добавил
мы, своего бытия в качестве мыслящего. И такая задача массова,
как массово и современное духовное производство. Она выходит
за рамки градационного общественного разделения труда, предполагая размывание фигуры пассивного приемника - потребителя
знаний и морально-идеологических программ - и запрашивая
собственных интеллектуальных усилий и персонализации бытия
не от одного только профессионального интеллектуала, но и вообще от агента современного исторического действия. В области
духовного производства структура отношений, которой он
должен овладеть в качестве своей живой, реальной силы, - это
жизнь объективированных форм культуры и общения, условия
которых лишь коллективно и во множественности персонализированных, “субъективированных” существований могут воспроизводиться так, чтобы быть носителями и условиями истины
как процесса (а не как достигнутого состояния или телеологически заданной структуры). И это жизнь предметных структур
сознания и деятельности, которые не может вместить и удержать
в себе никакое прозрачное (от какой-либо одной, привилегированной точки отсчитываемое) отношение “субъект - объект”.
Стилистика и онтология духовного труда, складывающиеся на
этой основе, растворяют твердый, самозамкнутый кристалл
монологической формы знания. Иначе (то есть не перестроившись на деле и не найдя для себя другие пути реализации) не
может пробиться в современных условиях массификации и
разделения труда свободное духовное производство, отличное от
массовидных, полуавтоматических форм мысленной работы и от
интегрированных составных элементов господствующей идеологии, стремящейся путем концентрации и обобществления условий жизни и труда людей подчинить своей иррациональной
стихии все целое культуры и творчества. Познающий и творящий индивид обнаруживает, что “мыслитель” не есть какая-либо
“сущность”, в готовом виде пребывающая в сфере культуры и
образования, и что соответственно он сам не дан как мыслитель,
попадая в эту сферу, а может лишь задать себя в качестве тако-
1В полемике со всей предшествующей философской традицией для Маркса это был
основной пункт, и в нон же - первая заявка современного материализма. Не
случайно произведение, содержащее его исходную формулировку, посвящено
анализу именно идеологического сознания и называется “Немецкой идеологией”.
^1-м^ммкя« ц соЛ/шмлшшл Яц/инцямшА фШбСОфНЛ 413
вого. А именно - задать себя особой (в постоянно повторяемой)
деятельностью, не совпадающей с той деятельностью созерцания, какой в сознании даны познавательные содержания,
“сущности”, универсалии, задать себя особой организацией
своего существования в связях общения и трансляции мыслей,
структурно выделенной из простой репрезентации внеполо-
женных субъекту содержаний и поэтому, в свою очередь, сказывающейся на конечной организации самого продукта труда.
Формы построения продукта духовного труда (и соответственно
его трансляции), возникающие здесь, можно назвать “разомкнутыми”, или “открытыми”, не нуждающимися в посылках
кастовой приобщенности духовного производителя к трансцендентному, в допущении, что он должен посредничать от лица
последнего и что его сознание должно бьпь “чистым мышлением” в классическом смысле этого слова.
В направлении выработки таких форм и сместилось современное духовное производство. Если процессами концентрации и
обобществления условий культуры и духовного производства,
подчиняющими последние при капитализме разгулу стихии и
катаклизмам общественно-экономической жизни, оказался болезненно задет реальный, живой нерв духовной деятельности, то
столь же реально она перестраивается, находя себе иные пути и
вырабатывая иной, неклассический тип мыслителя и формализме
его труда. Люди реально, на деле начинают мыслить иначе - еще
до того, как они выработали об этом какую-либо философию.
Это действительная, фактическая “вторая культура”, осла-
давающаяся внутри старой, традиционной, буржуазной (но
взрывающая ее, поскольку она требует совершенно иной “среды
обитания” мышления, радикально иной социальности). Новый
характер связей теоретической мысли с практическими приложениями и массовость духовного производства оказались одновременно и позитивным, прогрессивным процессом, размывающим
классическое “закрытое” строение продуктов духовного труда и
порождающим также потребность иного замыкания мысли на
реальность в механизмах действия общественного сознания вообще,
а не только специализированного духовного производства
(совершенно аналогичный процесс происходит и в современном
искусстве и литературе). Возникают формы производства и
трансляции осознанной мысли, не предполагающие посылок
онтологии сознания и прозрачности бытия (или же содержащие
их в себе в качестве частного, специального случая). Строение
произведения становится открытым, альтернативным, исключает абсолютистское сознание автора - хотя бы уже в том смысле,
что оно предполагает “продуктивного потребителя”, требует
самостоятельного усилия и труда потребителя духовной продук¬
414 Доклады, еЛшКш, «ммСДОм»
ции, вовлекающего автора послед ней не в качестве посредника
трансцендентного, а в качестве партнера своей собственной
мыслительной работы. Такие явления мы очень легко можем
увидеть в практике современной науки, искусства, литературы,
культуры вообще (в том числе нравственной, юридической,
политической и т.д.).
Что касается философского сознания, то отражение на его
уровне и учет мировоззренческих последствий и импликаций
подобного рода практики мы прежде всего обнаруживаем в виде
феномена “независимой философии” ученых, литераторов,
художников, общественных деятелей и т.д., которая существует и
развивается помимо и вне официальной академической, профессиональной буржуазной философии.
♦ * *
В современной философской мысли на Западе (не включая в
данном случае в нее марксизм) мы имеем, таким образом, дело
прежде всего с классическим наследием, содержание которого не
может не переживать состояния глубочайшего кризиса в силу
расшатанности фундаментальных духовных форм, потерявших
объективную основу своего исторически оправданного существования, и с другой стороны - с феноменом “независимой
философии”, начинающей существовать в неклассическом мыслительном измерении. В этом же направлении пошла и современная буржуазная философия. Она охватывает совокупность
многих направлений и учений (феноменология, экзистенциализм,
философия жизни, различные философии культуры и историософии, философская антропология, неореализм и персонализм,
логический позитивизм и аналитическая философия языка,
новые “метафизики бытия” и тд.)*
Но прежде чем приступить к рассмотрению современной
буржуазной философии, нужно сразу же оговориться. Фактически всякий более или менее аналитический рассказ о ней должен
быть ответом на вопрос, почему имеющиеся в ней концептуализации новой проблемной реальности и нового духовного опыта
воспринимаются (и описываются) наблюдателем как отступление и отход от классики, как своего рода “предательство” по отношению к последней? Во всяком случае, мы почему-то всегда
интуитивно применяем эту мерку (причем независимо от какого-
либо специального историко-философского интереса). Мы как
бы испытываем наличную буржуазную философскую мысль на
“верность и преемственность” по отношению к этому заранее
заданному масштабу, а не рассматриваем ее самостоятельно,
саму по себе. Дело в том, что это соответствует некоторой
первоначальной интуиции, говорящей о том, что мы имеем здесь
Кмистесхал и е<4рлм*нпм ¿фмуамал фимс&рил 415
дало с несамостоятельной, производной (от классики)
формой философии. Задача анализа - раскрыть и оправдать
эту интуицию. Классическая философия есть “тайна” современной буржуазной философии. И последняя пожег быть определена как проявление и свидетельство - в плоти и материале нового
духовного опыта и новых проблем - кризиса традационной
философии и ее классических мысленных схем внутри современных философских исканий вообще. Сохраняя свою
интеллектуальную производность и скрьпую внутреннюю зависимость (часто отрицательную), она как бы выплескивает свои учения
и итоговые идейные построения в виде “застывших”, “материализованных” следов интеллектуальной невозможности некоторых
привычных мысленных ходов и смысловых связок рассуждения.
Анализ должен раскрыть этот интимный механизм порождения
идей и представлений современной буржуазной философии.
Игорь Пешков
Риторический комментарий
IN STATU NASCENDÏ,
или
явление поступка на фоне философии
Философия есть предмет философии, мы мыслим
только то, что мыслим, видим только то, что видим
— рефреном проходит через всю книгу. Я говорю
то, что говорю, а вовсе не то, что уже сказал или
уже подумал я сам или другие. Лишь мысль изрекаемая еще
не есть ложь. Честность, более чем честность — честь новой
мысли — вот что удерживается в речах Мамардашвили.
Пусть и остановленное, мгновенье свободной мысли
прекрасно.
Мысль о мысли, слово о слове — суть подхода не только
к философии или гуманитарным наукам', а ко всему человеческому существованию, пусть философ берет какой-нибудь
древний ритуал или теорию относительности2. Не нужно
даже непосредственно обращаться к высказываниям
Мамардашвили о языке, о речи, о слове, чтобы понять
насколько глубоко риторической является его философия.
Стоит лишь заглянуть в содержание книги. Однако, риторические идеи философа требует специального исследования,
которое, я надеюсь, вскоре осуществится, ведь идеи эти
суперактуальны. Попробую лишь задать некоторый фон
возможности такого исследования, историческое, в терминах
Мамардашвили, пространство мысли. Этот фон — непростые
взаимоотношения философии и риторики.
1 Ср. начало знаменитого опыта философского анализа М.М.Бахтина
м Проблем а текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках”
// Эстетика словесного творчества. М., 1979. - С.281.
2 Вскоре после смерти Мамардашвили в небольшом посвященном ему теле-
фильме его назвали современным Сократом. Уточним, однако, что Сократ
препарировал умы сьоих слушателей, извлекая общие всем понятия,
Мамардашвили же отдает исследованию самого себя, на себе демонстрир/е?
технику этого дела, предоставляя каждого слушающего его собстБенноп
совести.
Эк statu nasc&uU 417
Историческое... Да, если уж задавать какой-то фон, то,
естественно, исторический, хотя разумеется само по себе понятие исторический не естественно. Просто, чтобы не создавать неоправданных терминологических ассоциаций, назовем
тот фон, который мы попытаемся сейчас обрисовать, естественно-историческим, полагая это словосочетание достаточно
оксюморонным для предварительной (дезориентации. Человек есть существо рождающееся (в частности и в первую
очередь из природы) — одно из определений, которое можно
бы вывести из этой книги Мамардашвили, вот например:
«“человеческое в человеке” есть совершенно особое явление:
оно не рождается природой, не обеспечено в своей сущности
и исполнении никаким естественным механизмом. И оно
всегда лицо, а не вещь» (8)1. Невозможно процитировать
Мамардашвили, чтобы тут же не открыть нового поворота
мысли, разовьем определение: человек — существо вырождающееся из природы или, употребляя термин К.П.Зеленец-
кого, существо произрождающееся\ Посмотрим на естественно-исторический процесс и попробуем определить, какой
он, естественный в первую очередь (по Л.Гумилеву, например) или, наоборот, священно исторический, внеестественный.
Просто постараемся увидеть, помня, что мы видим только то,
что видим.
... миф, например, есть способ внесения и удержания во
времени порядка того, что без мифа было бы хаосом. То есть
миф есть способ организации и конструирования человеческих сил или самого человека, а не представление о мире —
правильное или неправильное. Это мы сейчас так его воспринимаем, потому что живем в рамках субъектно-объектного
различения мира, в результате чего он предстает перед нами
как предмет, который мы должны познавать. А на самом деле незнание нами чего-то в мире есть исторический факт, а
не естественный, само собой разумеющийся« Миф не представление, а восполнение и созидание человеком себя в бытии,
в котором для него нет природных оснований. И поэтому на
месте отсутствующих оснований и появляются определенные
“машины” культуры, называемые мифом. Ритуал есть способ введения человека в состояние, которое не длится природным образом (17-18).
1 Здесь и далее цифры в скобках указывают на страницы цитаты из данной
книги.
418
и.ВЛвшеа
Что не само собой разумеется? Что мир вообще есть
проблема. Поскольку, чтобы что-то стало проблемой, нечто
должно быть непонятным. Так ведь? Если есть слово
“проблема”, значит, имплицировано, что что-то непонятно.
Или можно выразиться иначе. Выступление чего-то в непонятном виде есть историческое событие, а не существование,
которое разумелось бы само собой. То есть нам сейчас
кажется само собой разумеющимся, что вещи представляют
для нас проблему. Но уверяю вас, что это не всегда было
так. И сейчас вы поймете, что я имею в виду. Миф, ритуал и
т.д. отличаются от философии и науки тем, что мир мифа и
ритуала есть такой мир, в котором нет непонятного, нет
проблем. А когда появляются проблемы и непонятное —
появляются философия и наука. Значит, философия и наука,
как это ни странно, есть способ внесения в мир непонятного*
До философии мир понятен, потому что в мифе работают
совершенно другие структуры сознания, на основе которых в
мире воображаются существующими такие предметы,
которые одновременно и указывают на его осмысленность. В
мифе мир освоен, причем так, что фактически любое происходящее событие уже может быть вписано в тот сюжет и в те
события и приключения мифических существ, о которых в
нем рассказывается. Миф есть рассказ, в который умещают*
ся человеком любые конкретные события; тогда они понятны
и не представляют собой проблемы. <...>
Но при этом мифические и религиозные фантазии, и я хочу
это подчеркнуть, порождались не потому, что человек якобы
стремился “заговорить” стихийные и грозные силы природы.
Не из страха невежественного человека, который не знал
законов физики. Наоборот, миф есть организация такого
мира, в котором, что бы ни случилось, как раз все понятно и
имело смысл (13).
Так видит Мамардашвили риторику мифа* Почему он
так это видит? Как он может знать, что это было так? А он и
не говорит, что это было так. Он видит, что это так. Потому
что история (мифическая история уж во всяком случае) не
моделируется пространственным полетом стрелы, история
находится во внутреннем круге личности, круге, принимающем форму шара в постоянном овнешнении. Жить в
отсутствие проблем, не отвечать, потому что нет вопросов —
бессознательная или сознательная компонента любого суще¬
Jk statu nasmuU
419
ствования, а для современного человека — идеал, мечта, то,
что примиряет его со смертью.
Но, если читатель не пребывает в мифе, он может спросить: а почему риторика? Мы живем в ритуале мифа, будь
это миф о Посейдоне, Перуне или электромагнитной индукции, но почему именно риторика? Согласен, риторики не
видно, как воздуха, но она должна быть, ведь сам ритуал
уже риторика, уже украшение, уже неестественное. Человек
в мифе — тождественное множество семиотических систем,
которые со временем рождают проблемы.
Так и течет история — и онтогенез и филогенез — от
беспроблемности к проблемам, от безвопросности к вопро-
шанию, рождая философию на фоне мифа. Как именно она
“течет” (подчеркну кавычками абсолютную условность
глагола) — другой вопрос, чтобы увидеть это нужен иной, не
фоновый поворот зрения, специальный взгляд, а сегодняшний
деспециализированный подход позволяет лишь зафиксировать появление философии на фоне риторики мифа в осевое
время1. Та классическая риторика, которая появилась вместе
с философией на этом общем фоне и стала ей конкурентом, в
действительности была гораздо более родственна философии,
чем риторике мифа.
Философия и институализированная риторика представляют единый мир познания, открытием которого они
собственно и были, мир, не связанный с мифом никакими
логическими, причинно-следственными связями, хотя и не
являющийся просто фактом дисконтинуитета истории в
смысле М.Фуко2. Нет, конечно тут нельзя удовлетвориться
разговором о разной эпистеме (не случайно Фуко практически не уходит в историю глубже Возрождения, с которого
начинается наибольшая эпистемологическая проясненность),
риторика мифа и риторика познания вообще лежат в разных
измерениях, хотя и взаимодействуют. Риторика познания в
конечном счете интерпретирует и классифицирует мифический семиозис, раскладывая его на общие места понятности
и убедительности каждого конкретного высказывания3. Рито¬
* См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. - С.32-52, особенно С.ЗЗ-
34.
2 См. об этом, например, его статью: Foucault М. Nietzsche, la généologie,
i’istoire // Hommage a Jean Hyppoiite. - P., 1971. - P.145-172.
3 “...дело ее (риторики — Я.Я.) не убеждать, но в каждом данном случае
находить способы убеждения” - Аристотель. Риторика (1355Ы0) // Античные
риторики. МГУ. -1978. - С.18.
420
и.ВЛашсов
ры (софисты и логографы) решают проблемы человека в
частности, по мере их поступления в публичные места и
ввиду кризисного состояния клиента. Т.е. ритор изначально
несет публичный ответ за другого, частного человека. Философ же, наоборот, в первую очередь для себя пытается дать
общий ответ на все вопросы, в известной мере следуя инерции мифического сибаритства: появились проблемы, хорошо,
нужно решить их и жить в бочке или в геометрии или еще
в какой-нибудь* замкнутой системе в принципе решенных
проблем. Риторика же такой возможности общего решения
не предполагает, она с самого начала выступает как технология поиска решения (£цтор»кп t£xvn)-
Впрочем, так резко все это видится из нашего далека в
свете платоновской декларации противопоставления риторики и философии. В гуманитарно-познавательной практике и
философия очень быстро становится технологией, путем познания, буквально его методом. Если досократики еще дают
радикальные ответы на все вопросы, даже в отрывках возвращая нас к состоянию мифического рая пусть хоть уже на
чисто ментальном уровне (все — вода, все — огонь и т.п.:
космос восстановлен общим утверждением и вопросов нет),
то Платон, несмотря на свой ригоризм и нигилизм по отношению к риторике, и особенно Аристотель скорее прокладывают пути постановки вопросов, чем однозначно на них
отвечают. Они прорабатывают риторический аппарат познания, который более изощрен и развернут для избранных, для
мест, куда негеометр не войдет; более прост и доступен для
театра; еще более прост для площади, но эти различия чисто
количественные. Если театр для катарсиса потянет цепочку
из трех-четырех силлогизмов, агора для принятия решения
ограничится парой-тройкой, то профессиональные познавате-
ли мира могут нанизывать их ad infinitum и не прийти ни к
какому выводу и уж конечно не принять никаких решений.
Но риторика-то не столь далека от праксиса. Риторика
мифа была чистым ритуально-словесным действием; теперь
действие смогло быть познано отдельно от слова, риторика
познания познает человеческие дела! И тем самым они появляются: риторика познанием формирует и оценивает поступки (и непосредственно в формализованной практике суда,
совета, искусства, и опосредованно, через откристаллизацию
норм поведения), частенько впадая при этом в эйфорию.
У того же Платона философская критика риторики была
просто-напросто скрытой (в том числе и от самого Платона)
Зл мисепеИ
421
критикой безграничности, беззаконности познания. То есть
только что сформированный познанием этический поступок
тут же начал оказывать обратное влияние на само познание,
ставя ему этические границы. Поступок оказывается всегда
больше его познанного смысла. Сократ велик не в продалбливающих логические дорожки общих мест диалогах Платона, а в своем отрицающем в конечном счете эту логику,
выламывающемся из нее поступке. Сократ есть демонстрация инобытия поступка по отношению к познанию. Роковые
границы теоретизма были очерчены еще Платоном, который
стоял между мифом и познанием: риторика познания не была для него полностью внутренней территорией.
Итак, у риторики и философии не взаимная ненависть
(с античности), а скорее взаимная ревность. Они слишком
родственны по сути, но философия более замкнута, кланова,
а риторика с самого начала подрывала чистоту и изотерич-
ность интеллектуального труда, доносила обществу о его
плодах1. Подчеркиваю: с самого начала риторика играла
роль XX века с его массовой коммуникацией и информатизацией. Но до XX века философия успешно отмазывалась от
риторики, предоставив ей, впрочем, черную работу улаживания отношений с остальным обществом. По-видимому
развитие разума и не могло осуществиться вне некоторой
изоляции его от безумств реальной истории (Мамардашвили
называет это экраном сознания). И таким экраном всегда
выступала риторика. С одной стороны, через институты
общества (суд, проповедь, исповедь и т.п.) риторика несколько облагоображивала хаотические конвульсии реальности,
придавала им внешнюю осмысленность (например, религиозную), а с другой — превращала философские изыски и
воспарения в нечто более доступное грязным рукам этой
самой реальности.
Теперь совсем пунктиром. Христианство как попытка
соединения достоинств философии и риторики в одно
(вселенский изотеризм). Гомилетика как их идеологическое
соединение — риторическая практика философии. Возрождение — попытка обратного вычленения риторики и философии. Новое время — новая классика в философии и новое
1 Философия всегда была по сути дела риторической практикой малого
круга общения (внутреннего: лицей, академия и т.п.), а риторика — практической философией круга большого (внешнего: игЫ е! огЬП.
422
и.ВЛашсов
просвещение (“третья софистика”) в риторике. Там, где к
новейшему времени они успели не только разойтись, но и в
известном смысле снова сойтись, дополнить друг друга, море
социального хаоса несколько усмирилось; где же они радикально разошлись, где риторика вместо экрана превратилась
¿ железный занавес между интеллектом и мышцами, там...
мы. Состояние этого “мы” четко фиксирует Мамардашвили
(в своих дневниках прежде всего, а также в лекции “Язык
осуществившейся утопии”). Отсутствие правильной риторики
есть отсутствие питательной среды мысли и наоборот: отсутствие мысли разрушает речевую почву самой жизни. Но
правильной риторики сейчас не может быть и без
нового философского прорыва (выход из замкнутого круга
познания).
По большому счету это была борьба не сущностей и даже
не научных элит, не людей. Наоборот, обычно философы
оказывались и риторами (как минимум практиками, о чем,
пожалуй, вспоминать излишне, но и теоретиками — Платон,
Аристотель, Цицерон, и Августин, и Фома Аквинский, и
Фрэнсис Бэкон, и Петр Рамус). Это был агон, т.е. по внешности спор, а по сути согласие: то ли разделение творческого
труда на разные стороны его, то ли разный взгляд на этот
труд. Вернее даже разный алгоритм, разная последовательность творческих действий — изнутри вовне: риторика и
извне вовнутрь: философия. Собственно и не алгоритм в точном смысле этого слова, а тенденция, интенция творчества.
Можно сказать, философия — интровертка, а риторика —
экстр авертка. Любой творческий человек попеременно то
философ, то ритор.
Homo verbo agens в риторике мифа — это еще homo-
verbo-agens или agent-verbum-hominem, агент, пассивноактивный проводник семиотико-физиологического действия,
знаменитый ритуально-мифический поток, где нет никакого
познания, никакого поступка. Лишь с жизнью теоретической
появляется и жизнь практическая, гуманитарная практика
есть функция гуманитарной теории, а совсем не теория —
обобщение гуманитарной практики. Теория вообще не
обобщение, а усмотрение в точном соответствии с внутренней формой слова “теория”. Какая теория была в риторике
мифа, не очень понятно, но это была допознавательная
теория, максимально абстрактная и внесубъектная.
Jh statu Mseendi 423
Перейдем к априори понятному, к познанию. Есть
субъект, есть объект, человек и мир, и есть слова, которыми
можно об этом мире говорить. И есть общие места — условия понятности этих слов. Все это не более понятно, чем миф,
но так описывается. Homo verbo agens — это человек, дей-
ствующий с помощью описания мира словом. Понять значит
указать в широком смысле. Указано значит понято, названо,
значит сделано. Слово — орудие человеческого труда, практическая жизнь организуется этой теорией имен, правильное
именование налаживает правильную жизнь. Философия —
кузница имен для организации жизни на макроуровне,
закрытое законодательное учреждение, но правила введения
этих имен в социум дает риторика. В целом риторика познания манипулирует жизнью, направляя движение словесных
масс. Платон строит модель идеального государства, но Аристотель в “Риторике” обучает, как в этом государстве жить...
Так и живем. Практически по сей день. Но сегодня так
жить стало трудно. Риторический период, он же период
классической философии кончается. Но это не должно
значить, что мы остаемся без риторики. Попытка увидеть
современность вне риторики или с риторикой в снятом виде
(Аверинцев!) может привести к таким теоретическим результатам, что практике места в новой системе просто не останется. Необходимость ввести в структуру познания самого
познающего неминуемо приведет (в отсутствие теории новой
риторики) к растворению говорящего человека в тезаурусной
системе познания. Действия человека словом в доведенной до
1 Бот. вероятно, последний по времени вариант фиксации »той позиции:
«когда мы любое оформление речи, любое проявление словесного искусства
называем “риторикой”, теряется ощущение необычайного изобретения,
сделанного когда-то греческими софистами в острой обстановке сенсации и
скандала... Из-за чего спрашивается было горячиться, если риторика была
“всегда” и всего-навсего эволюционировала? ... Но, условно говоря, “конец
риторики”, конец длинного ряда эпох, когда идея нормы определенным
образом формировала даже самые эксцентрические явления и ставила свои
задачи рефлексии — это не совсем “конец”, просто потому, что мы оказываемся в постриторическом состоянии культуры, что риторика никуда не
исчезла, никуда не делась, а просто “снята” (aufgehoben в гегелевском
смысле слова), что открытая шокировавшими не одного Аристофана
софистами рефлексия остается навсегда с нами, как наша судьба и наше
достояние». С.С.Аверинцев. Риторика и истоки европейской литературной
традиции. М., 1996. - С.8, 12.
424
14.8 Летков
предела субъект-объектной схеме познания в тексте и остаются. человек перестает нуждаться в живой природе, логос
становится не только в начале, но везде. Поступок больше не
формируется словом, а просто остается словом. Процесс
познания больше не контролируется человеком, наоборот
человек контролируется гипертрофированным познанием.
Мамардашвили описал эту неклассическую ситуацию в
философии, и показал, что из нее нет выхода в философии,
ибо разрушена сама среда мысли (он называет это языком,
большинство современных философов связывают центр
проблем, которыми они занимаются, с языком). Это, конечно,
не язык в лингвистическом смысле слова, это способ семиотического существования человека в мире, это система риторической организации общества.
Наших знаний так много, наши знания так противоречивы, что они не могут больше направленно участвовать в
формировании поступка. Наши поступки все больше напоминают ритуально-мифические действия с той лишь разницей, что живем-то мы уже не в них... Но и познание, в
котором мы действительно живем, если это можно назвать
жизнью, все больше ритуализуется. Вся эта разросшаяся
риторическая практика всеобщего познавания никогда не
родит теорию, ибо познание порождает познание, в крайнем
случае познание познания — гносео-логию — и никогда из
этого наворота информации сама по себе не обобщится теория новой риторической практики, даже если специально
задаться целью такого обобщения. Да дело и не в создании
теории риторики поступка. Она есть уже, она задана еще
М.М.Бахтиным, она явственно присутствует в текстах
М.К.Мамардашвили, ее можно вычитать в этой книге. Проблема в том, каким образом риторика поступка встроит в
себя риторику познания, не забывая того, что сама риторика
познания встроена в риторику мифа. Круг гармонических
взаимовкладований должен замкнуться, в противном случае
система познания перегреется и отторгнет от себя своего
главного агента — человека. Проблема еще в том, чтобы
просто увидеть эту проблему, проблему неконца риторики в
предположении неконца человеческой истории. Познание
технично в человеческой жизни, а не самоцельно, личность
рождается в поступке по отношению к другому человеку, а
не в познании, (пусть это будет познание другого человека
или самопознание).
Jn statu nascetuU 425
Homo verbo agens — это прежде всего любовь к другому,
очень отличающаяся от самолюбования на дисплее или
экране TV. Познание в конечном счете подставляет человеку
зеркало вместо другого человека, хотя это зеркало по своей
чрезвычайной сложности порой не уступает оригиналу.
Итак: важно осуществить риторику поступка. Не этику
отдельно, не совесть, не поступок как таковой, а всю риторику его свершения и как риторику именно.
Выстраивающаяся историческая схема (риторика мифа,
познания, поступка) совсем не путь временного развертывания от прошлого к будущему. Еще условно можно говорить в
отношении прогресса о филогенезе и онтогенезе как о
естественно-историческом развитии, но скорее риторическая
стратификация проходит и по каждому человеку в отдельности и по человеческому обществу в делом. Философия
(классическая) создала модель ниши риторики познания,
риторика (классическая) раздула эту нишу на все остальное
общество, вернее сформировала такой трансляцией культурную часть его, все время стараясь максимально расширить
эту часть. При этом и риторику мифа нельзя ни отменить, ни
диалектически снять, можно, правда, не замечать ее. Классика в принципе и не видит сущности риторики мифа, из
риторики познания туда нет хода. Не называйте это диалектикой по Гегелю, но двух членов мало для того, чтобы их
действительно было два1: один из них обязательно подавляется. Как показано выше, классик С.С.Аверинцев признает
только рациональную риторику: все, что “ниже” или “выше”
рацио им уже к риторике не относится. Получается, и современность живет без риторики, и до осевого времени2 риторики просто не было. Для другого видения нужно трактовать
риторику не как частную или общую познавательную дисциплину, а как способ семиотического существования человека,
и гораздо точнее в этом отношении Мамардашвили, который,
1 Оригинальную идею двухсполовинного подхода можно найти в: Ф.Пелицци.
Критический дискурс: пять типов диалога // Риторика. - 1996. - №1(3). -
С91.
2 СС Аверинцев ограничивает риторику еще и территориально — классической европейской средиземноморской цивилизацией. Это и естественно:
настоящая логика всегда внутри культуры во всех смыслах. Но нельзя просто отождествить риторику с рациональной логикой. Таким образом, даже
риторика познания оказывается шире риторики в понимании Аверинцева.
426
и.ВЛешюб
не употребляя термина риторика, делает упор именно на
этом способе.
Например, в статье трех авторов (М.К.Мамардашвили,
Э.Ю.Соловьев, В.С.Швырев), воспроизведенной в этой книге, показана жизненная или, если угодно, социологическая
подоснова философского труда как труда интеллектуального
в собственном смысле слова, труда дознания, деятельности
по производству знаний в пределах (или беспредельностях) ее
возможностей.
Мамардашвили показывает, что ныне этот способ существования человека в семиозисе радикально другой, чем это
виделось классической философии (а ей так виделось, потому
что так жил слой классической интеллигенции). Ныне этот
слой почти полностью интегрировался в остальное общество,
практически философия повсеместно решает специальные
риторические задачи, лишь между делом концептуализуя
общериторические подходы. Фактически философия не
может, оставаясь сама собой, осуществить глобальный риторический поворот.
Риторика должна сменить сущность, сохранив название,
а философия должна, наоборот, сохранив речевой поворот
последнего времени, радикально сменить имя, стать философией новой риторики, риторики поступка.
Познание в современном мире вовсе не предполагает
серьезной работы мысли. Или даже вообще не предполагает
мысли. Всеобщий поход по знание есть постоянное экстенсивное заполнение оперативной памяти, так что не остается
процессорного поля для акта самостоятельной мысли. Переполнившись, оперативная память просто сбрасывает часть
необходимой информации в существующий тезаурус долгосрочной памяти (более или менее варьирующийся от человека к человеку, но в целом инвариантный). Такая кибернетически промоделированная система современной риторики
(при сохранении табу на само это имя) в целом точно соответствует традиционному изобретению текстов по общим
местам, за безмысленность которого риторика в первой половине XIX века подверглась публичному остракизму. Но это
ли было еще безмыслие!? Теперь картинка общих мест
выстраивается непосредственно в подсознании с помощью
видеоряда, и проблемы их отторжения (из-за отсутствия
мысли) информируемым сознанием вообще не встает. Не
встают, впрочем и другие проблемы: в телемифе абсолютно
ln statu nascendi 427
так же, как и в мифе древнем, просто нет проблем, есть перипетии сюжета, катастрофы, смерти, рождения, но проблем
нет. вопросов не возникает, потому что ответы на них показаны еще раньше.
Ненасытное познание реальности приводит к ее многократному дублированию в полном соответствии с торжествующим принципом наслаждения (повторенье — мать ученья).
Познание как акт эротический описал еще Платон в диалоге
“О любви” и довели до полной очевидности сначала Фрейд,
а затем и вся школа постструктурализма-деконструктивиз-
ма-постмодернизма (изящно заинциклопедизированная в
одноименной книге И.Ильина1. Вот почему из привилегированного и даже элитарного процесса так легко (в XX веке)
удалось сделать эротический миф массового употребления
— суть этого мифа познавательна. Эротика массового
коммуниканта не нуждается в реальном объекте, а просто
наращивает информацию, поглощение которой приводит к
постоянному чувству глубокого и полного (ввиду отсутствия
ощущения большого времени, времени вне настоящего)
удовлетворения.
Риторика поступка не может, конечно, игнорировать всю
познавательно-эстетическую конструкцию нового всеобщего
мифа информационных подробностей, но поступок должен
все-таки не просто встраиваться в данную конструкцию
(неизбежно теряя при этом свою специфику), а возвышаться
над ней, задавать, контролировать ее. Экран сознанию нужен
не только голубой. Изобретение нельзя ограничить перебором
телевизионных каналов. Мало найти информацию для себя.
Необходимо найти себя. В этом — поступок. Не познать
самого себя (первофилософское действие риторики познания),
но найти самого себя в ответственном поступке. Не отразить
другого для себя в многократно повторяемом эстетическом
удовольствии, а изобрести себя, единственного для единственного другого, других, единственных, а не многотиражных. Собранный субъект в полноте своего бытия — это я,
для другого произрождающий себя поступком мысли,
поступком чувства, поступком слова.
! См. И.П.Ильвн. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.
М.. 1996. Впрочем, доминанту эротической составляющей постструктурализ-
ма наиболее отчетливо подчеркнул В.В.Липецкий (Анти-Бахтин - лучшая
книга о Вл.Набокове. Спб., 1994).
428
Указатель имен
Абдрашитов В., 352
Августин, 7; 8; 188; 189; 422
Ав^инцев С., 423; 425
Акчурин, 290
Александр Македонский, 304
Анаксагор, i!
Анаксимандр, И; 49
Анаксимен, 11
Андреев Д., 368
Андреев JL, 369
Апри, 199
Аристотель, 12; 51; 55; 66; 71;
109; 247; 419; 420; 422; 423
Арто А., 295
Бахтин М., 427; 416
Безансон А., 212
Беме Я., 122
Бергсон А., 242; 248
Бердяев Н., 181; 208; 364
Беркли Дж., 130; 131
Бернард 3., 162
БлейкУ., 179; 182; 294
Блок А., 199; 316; 317; 360-371
Бор Н., 118; 153; 236; 259; 344
Брежнев Л., 175
Будда, И; 12
Булгаков М., 303
Бухарин Н., 208
Бэкон Фм 82; 279; 293; 373; 380;
422
Валери П., 77; 118; 173; 239
Введенский А., 303
Вигнер Э., 70
Витгенштейн Л., 184; 186; 187;
206; 213; 257; 341
Волович X., 204
Волошин М., 210; 358
Вольту, 35; 90
ГабриадееР., 190
Галилей Г., 49
ГассевдиП., 379
Гегель Г.-В.-Ф., 85; 96; 138; 139;
158; 174; 273; 320; 373; 381;
384-386; 391-393; 400; 425
Гейзенберг В., 70; 153
Гераклит, И; 53; 70; 71; 124; 131
Герцен А., 176; 182; 200
Гитлер А., 69; 327
Гоголь Н., 192; 303; 309
Гольбах П., 381
Грамши А., 307
Гумбольдт В., 222
Гумилев Л., 417
Гумилев Нм 315
Гуссерль Э., 390
Данте, 354
Декарт Р., 26; 46; 81-83; 85; 88;
90; 91; 95; 96; 98; 104-106; 117;
127-129; 131; 139; 160; 168;
189; 197; 202; 231; 251; 258;
266; 269; 271; 273; 276; 279;
281; 283; 284; 288; 293; 373;
379; 380
Демокрит, 71
Деспот де Траси А., 386
ДжеймсУ., 248
Достоевский Ф., 4; 166; 185;
192-195; 303; 361; 368
Евющд, 61; 105; 122
Замятин Е., 176
Заболоцкий Нм 303
Зеленецкий Км 417
Указ€ийем> имен
429
Зернов Н., 162
Зиновьев А., 183; 190; 197
Зощенко М., 303
Ильин И., 427
Иван Грозный, 169
Иоанн, евангелист, 350
Канг И., 7; 51; 85; 93; 95-98; 107;
ПЗ; 128; 135; 138-140; 152-154;
188-190; 198; 199; 215; 228;
230; 231; 236; 240; 246; 251;
252; 257-259; 262; 264-270;
273; 276; 283; 285; 286; 288;
289; 291-296; 298; 347; 354;
356; 357; 380; 384; 385
Кафка Ф., 186; 193
Келлер Г., 328
Кнорозов Ю18
Кондильяк Э., 385
КонтО., 373; 392; 394
Конфуций, 11
Короленко В., 196
Кривошеин С., 6; 155
Кромби А., 266
Кьеркегор С., 260; 373
Лакан Ж., 347
Лаплас П.-С., 276; 284
Лейбниц Г.-В., 180; 227; 230; 274
Ленин В., 162; 163; 174; 176; 190;
192; 208; 212; 213; 365
Лермонтов М., 152
Липецкий В., 427
Локк Дж., 276; 380
Лысенко Т., 200
Макиавелли Н., 183
Малларме С., 314; 318
Мальбранш Н., 380
Мандельштам О., 315, 368
Маркес Г.-Г., 207
Маркс К., 86; 139-146; 148-151;
155; 156; 162; 163; 178; 183;
186; 198; 201; 208; 209; 273;
280; 281; 285; 331; 378; 392;
397; 401; 403; 412
Мебиус А.-Ф., 198
Мицдадзе А., 352
Мичурин И., 200
Моне К.
Монтень М., 160; 168; 289; 298;
351
Мочульский К., 192
МуньеЗ., 372
Набоков В., 193; 427
Наполеон, 160; 165; 173
Ницше Ф., 122; 171; 180; 207;
323; 351; 352; 370; 371; 386
Ньютон И., 49; 78; 179; 270
Окуджава Б., 162
Павел, апостол, 189
Парменид, 11; 29; 36; 53; 54; 138
Паскаль Б., 255; 356
Пастернак Б., 367
Пек А., 156
Перс С.-Ж., 243
Платон, 7; 11; 12; 26; 27; 39; 43;
53; 63-66; 69; 71; 73; 74; 80; 95;
96; 123; 143; 149; 150; 178; 230;
240-242; 251; 269; 274-278;
281; 314; 334; 420-423; 427
Платонов А., 174; 176; 194; 200
Пруст М., 199; 254; 287; 322; 340
Пуанкаре Ж.-А., 239; 248
ПушкинА., 151; 370
Пятигорский А., 243
Рамус П., 422
Раскольников Ф., 206
Ремизов А., 364
Рильке Р.-М., 156; 186
Розанов В., 194; 195; 371
Руссо Ж.-Ж., 141; 357; 385
Самойлов Д., 162
Сартр Ж.-П., 156; 342
Сведенборг Э., 294
430
УказшОем* имен
Сегал Д., 243
Сезанн П., 194; 219; 220
Селин Ф., 340
Сенокосов Ю., 155; 243
Серафим Саровский, 204
Симеон, 135; 168
Сингх, 121
Сократ, 7; 12; 23; 32; 39; 45; 55;
56; 123; 124; 416; 421
Солженицын А., 162; 163; 167;
177
Соловьев Вл., 264; 334; 426
Спиноза Б., 103; 106; 115; 116;
122; 127; 140; 380
Сталин И., 187; 192; 206; 208;
330;365
Табидзе Г., 367
Толстой Л., 176; 243; 320; 324
Троцкий Л., 208
Трубецкой С., 354
Тухачевский М., 203
Тюрго А.-Р.-Ж., 385
Тютчев Ф., 152
Уилер Дж., 119,120,126
Фалес, И; 12; 49
Фарадей М., 257
Федотов Л., 363
Ферма П., 120
Ферми Э., 242
Фихте И.-Г., 85; 96; 139; 385
Фок В., 341
Фолкнер У.. 120
Фома Аквинский, 422
Фрейд 3., 125; 126; 338-339; 340;
342; 345-347; 349; 408; 427
Фуко М., 419
Фурье Ш., 87; 156; 242; 373
Хайдеггер М., 122; 155; 179; 189;
356
Хармс Д., 303
Хеопс, 207
Ходасевич В., 213
Христос, 135; 136; 192; 194; 365;
370
Чаадаев П., 201; 308; 310
Чавчавадзе И., 197
Чернов С., 270
Чичибабин Б., 366
Цезарь Г.-Ю., 30; 175
Шаховской Д., 201
Шеллинг Ф.-В, 96; 139
Шестов Л,, 140
Шредингер Э., 86; 118
Эддингтон А., 269
ЭйзенштейнС., 169
Эйнштейн А., 117; 118; 222; 269;
270; 318-320
Эмпедокл, 297
Энгельс Ф., 387
Юм Д., 117; 384
Юнг К., 346
Ясперс К., 419
Lowith K., 390
СОДЕРЖАНИЕ
От редактора 5
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Предварительные замечания 7
Появление философии на фоне мифа 11
Трансценденция и бытие 24
Полнота бытия и собранный субъект 40
Пространство мысли и язык философии 57
Философия и наука 71
Сознание-бытие 86
Неизбежность метафизики 101
Проблема мира 115
Техника понимания 127
Социальная физика 140
ФИЛОСОФСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
Записи в ежедневнике (1968 - 1970 гг.) 155
Записи в ежедневнике (начало и середина 80-х гг.) 179
Записи в ежедневнике (1989 г.) 209
ДОКЛАДЫ, СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ
О сознании 214
Классический и неклассический идеал рациональности 229
О возможном метаописании сознания 250
Сознание как философская проблема 263
Органы онтологии 285
Язык осуществившейся утопии 303
Из лекций по социальной философии 317
О психоанализе 335
Проблема человека в философии 351
Философ может не быть пророком... 360
Классическая и современная буржуазная
философия (соавторы: Э.Ю.Соловьев, В.С.Швырев) 372
Ршповический комментарий
IN STATU NASCENDI, или явление
поступка на фоне философии (И.В.Пешков) 416
Указатель имен 428
Новые книги издательства “лабиринт”
Л.С.Выготский. Мышление и речь. Серия Философия риторики и
риторика философии. 416 с.
И.В.Пешков. М.М.Бахтин: от философии поступка к риторике
поступка. Серия Философия риторики и риторика философии.
Работа, написаная в одном из самых бахтинских жанров — в жанре
диалога-согласия, включает в себя наиболее полный текст ранней рукописи Бахтина (известной сейчас под названием “К философии поступка”), приведенный по различным источникам.
“Бахтин под маской”» Тетралогия. Серия Философия риторики и
риторика философии. 1997.432 с.
Книга включает работы “Фрейдизм”, “Формальный метод в литературоведении”, “Марксизм и философия языка”, созданные Бахтиным и
опубликованные в конце 20-х годов под именами В.Н.Волошинова и
П.Н.Медведева. к ним, а также к четвертой книге (“Проблемы творчества Достоевского” 1929 г.) приводятся исторические, философские»
лингвистические и риторические комментарии.
О.М.Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. 1 кв. 1997.
Н»М «Бахтин* Из жизни идей.
“Бахтин под маской99* Вып.5(2). Статьи. 1997.
О.Розенпп'ок-Хюсси* Речь и действительность.
Бахтинский сборник. №3. Под ред. ВЛ.Махлина. 4 кв. 1996.
Ф*И.Пфенок. Метафизика пата. (Косноязычие усталого человека.)
Серия Ех ИЬт аростурЫ. 204 с.
Журнал “Риторика99 № 1,2,3.
Принимаются заявки. Обращаться по адресу: Москва, 125183, а/я 81,
Пешкову И*В.
книги изда&гиьанва мЛа&4(шн&*, а ¿также д(*щю лшОе(шЩ[а( по
¿¡¿маншйсфньш наукам €ысылае$н наложенным, плайижом МЛ
"Надежда *. Лринимаю&СА п{гед€а(ш*пелшые заказы, высьиае*нс&
каталог. ОЯ[и*ща1ньсА по ад/шсд:
/2/6/% Мбс*£а, уи. /¿(ашинские Мимы, 30-4-7/7.
7Л .НшифЩ.
ЛР К? 060256 от 03,10.9 х * Подписано в печать 05.09.96 г. Формат
84x108/32. Гарнитура “Таймс**. Печать офсетная. Тир. 3000 экз. зак 4^
103045 Москва, Последний пер., 23.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии НПО Профиздат.
109044, Москва, Крутицкий вал, 18. Плр № 050003 от 19.10.94 г.